Анатолий Андреев Гармония – моё второе имя Роман не для всех
Преклоняясь перед истиной, я вынужден сказать то, что, из уважения перед здравым смыслом, говорить не должен
А.Н. Андреев
От автора
Без комментариев.
Книга первая. Выше знамя!
1. Для кого восходит Солнце? Или: Сияй, сияй, моя звезда!
Ничего не случилось.
Просто он был молод, полон сил и потому счастлив, хотя и не понимал этого. Впереди, насколько хватало взгляда, простиралась долгая жизнь, в которой предстояло совершить нечто головокружительное.
Иначе – зачем жить?
Учитель русского языка и литературы Герман Львович Романов шел по проспекту Пушкина «на службу» – в школу № 17 им. Ф.М. Достоевского, где он работал третий месяц после окончания Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. На дворе стоял октябрь 1984 года. Минск накрыла скоротечная, и потому особенно впечатляющая, пора золотой осени.
Этот отрезок пути – по улице, названной именем комиссара Притыцкого, по прямой, упиравшейся в проспект Пушкина, с горы вниз и потом опять слегка в гору – занимал ровно девять минут. Романова неизменно встречало ликующее светило, дружески выкатывающее ему навстречу, и ближайшие девять минут казались ему вечным, нескончаемым праздником. Даже когда оставалось всего две минуты (от проспекта до школы – две минуты с небольшим: он давно разметил свой путь по минутам), которые приятно дробились на сто двадцать семь мерцающих звездным светом секунд, вечность оставалась вечностью: неприятное отодвигалось далеко вперед, за тот горизонт, которого еще и не видно из-за грязных крыш серых панельных девятиэтажек, где уйма уютных квартир лепились бочок к бочку плотными сотами.
Но обшарпанное крыльцо школы (семь ступенек), скрипучие высокие двери, тесный коридорчик, а вместе с ними ощущение гнетущей атмосферы, которая наваливалась невесомой тяжестью тумана, грубо обрывали границы вечности.
– Выше знамя советского спорта! – раздавался из невидимого рупора над ухом бодрый баритон физрука, Юрия Борисыча, явившегося в вестибюль словно ниоткуда (его отличительная легендарная особенность: материализоваться в любое время в любом месте школы, и тут же исчезнуть, будто дух) – откуда-то из своих обширных владений, которые начинались раздевалками, продолжались огромным спортивным залом, а заканчивались его персональным кабинетом, который начинался просторным диваном, а заканчивался шторами, за которыми начинались еще какие-то дебри. Из-под козырька бейсболки плотоядно блистали глаза сердцееда, горбатый нос заканчивался классическим, словно крылья реактивного истребителя, разлетом густых усов, под которыми всегда шевелилась улыбка, приоткрывающая перламутр снежно-белых зубов. Высокая спортивная фигура (легкая сутулость, как у борзой или гончей, срифмованная с линией носа, только подчеркивала суховатость и подтянутость стройного тела, всегда готового к подвигам), длинные мускулистые руки, всегда ровное оптимистическое настроение, слабый водочный перегар, перебиваемый запахом шикарного одеколона, – вот вам облик местного идола и кумира как учителей, так и учеников.
– Что-то нынче ты не весел. Что ты голову повесил? – интересовался Юрий Борисыч, который воспринимал уныние даже не как отсутствие ума (это само собой), а просто как смертный грех (хотя верил он, кажется, только в то, что люди – это неисправимо подлые существа; но это никогда не портило ему настроения; наоборот, всегда добавляло, потому что быть первым среди подлых было для него делом чести).
– Все в порядке, как обычно, – старался парировать саблевидной улыбкой дружеский выпад начинающий учитель Романов.
– Сила воли плюс характер, старина. Сейчас посмотришь на моих кобылок из 11 «Б», и у тебя все поднимется: и настроение, и голова. В смысле головка.
Он никогда не смеялся своим шуткам, только улыбался, предпочитая любоваться смехом других (преимущественно женщин, само собой).
– Виктория! Ко мне! – внезапно рявкнул он, не поворачивая головы.
Перед ним тотчас явилась ученица, судя по всему, 11 «Б».
– Почему одета не по форме? Где спортивное трико, обтягивающее мышцы подтянутых ягодиц? – продолжил он, по-прежнему глядя на Романова.
– Юрий Борисыч…
– Минута на размышление, раскаяние и исправление. Исчезни, милое видение.
– Юрий Борисыч, я не смогла…
– Получишь двойку, нимфа. Придешь отрабатывать. А я дорого возьму… На урок в таком виде, в брюках, не пущу. Вопросы есть?
Девушку будто ветром сдуло.
– Сила воли плюс характер. Самое главное – самому не нарушать простых правил, которые ты же и придумал. Тогда партия коммунистов, как и мафия, будут жить вечно. Сегодня День учителя. Объявляю сбор в подвале у военрука, георгиевского кавалера и доблестного ветерана. Выше знамя!
Романову показалось, что последние слова были произнесены усатым привидением, бесследно растворившемся в вестибюле. Баритон раздавался уже на спортивной площадке возле школы. Рядом никого не было.
Вдруг распахнулась дверь – и вместе с потоком света, озарившего вестибюль из коридорчика (дверь на улицу уже не закрывалась: опаздывающие валили лавиной), внесло Виту из 10 «Б», того самого, куда Романов должен был спешить на урок литературы.
– Здравствуй, Вита, – сказал Герман Львович, здороваясь первым, и отчего-то отвел глаза.
– Здравствуйте, – ответила Вита, не поднимая глаз и одергивая короткое школьное платьице.
Потом подошла директриса, Маргарита Петровна, и с укором поздоровалась первой.
– Вы не очень спешите сеять разумное, доброе, вечное. В каком классе у вас урок, Герман Львович?
– В 10 «Б».
– Какая тема, если не секрет?
– Достоевский. «Преступление и наказание».
– Обожаю Федора Михайловича. Это именно разумное, вечное. А вам по доброму вам завидую: перед вами начинает открываться целый мир под названием душа человека! Дерзайте, юноша!
В этот момент прозвенел звонок на урок – на первый урок из предстоящих сегодня шести. Солнце погасло. Теперь эти шесть уроков казались вечной, нескончаемой, никому не нужной каторгой. В университете Романов толком так и понял, почему же время являлось свойством материи. Только здесь, в средней общеобразовательной школе, до него дошло: время становится материальным понятием, если занимаешься нелюбимым делом. Он стал ненавидеть время – но он научился и любить, и ценить время, то время, которое он находился вне стен школы.
Вне стен школы он робко пробовал писать свой первый рассказ, прорубая окно к своей свободе. Он назывался так: «Сияй, сияй, моя звезда!» Название было честным и правильным; но вот все остальное было какой-то чудовищной ложью, которая тем более терзала душу и задевала достоинство учителя русского языка и литературы Германа Львовича Романова, чем больше старался он не врать себе.
…Таким видится мне сегодня, почти четверть века спустя, начало моей сознательной жизни. За это время я превратился из человека в личность, я познал сладость и горечь жизни, я почти перестал бояться смерти. Я отравлен вкусом счастья, душа моя изнывает от любви к прекрасной женщине. И от этой женщины я, кажется, ухожу. Если уже не ушел.
Жизнь научила меня: неразрешимых вопросов нет, есть люди, которым они кажутся неразрешимыми.
И я уже не уверен, что истина – всего любезнее на свете для меня. Мне начинает казаться, что есть вещи поважнее истины. Хотя…
Неужели это начало старости? Или – мудрости?
Великие сомнения настигли меня после того, как я добился в жизни всего, что считал самым главным, – настолько главным, что практически недостижимым.
Может, поэтому я пишу роман?
2. День Учителя
В подвале у военрука, подполковника Федулки Семена Кузьмича (кличка – Федулка), у которого было свежее, румяненькое лицо скопца и так не гармонировавшие с ним потухшие, близенько посаженные глазки, собирались учителя, в основном, конечно, женщины. Подвал, служивший одновременно классом для занятий по военной подготовке и тиром, напоминал место для пыток. С низкого бетонного потолка свисала на длинном проводе тускло горевшая голая лампочка, сообщавшая квадратному помещению колорит каземата.
Вообще практически у всех учителей были клички, данные учениками, но которыми за глаза не брезговали пользоваться и коллеги. Считается, что дети наблюдательны и остры на язычок; однако по наблюдениям Романова (который на третий день работы превратился в Германна, благо «Пиковую даму» проходили еще в пятом классе), клички в половине случаев были неоригинальны, безвкусны и поверхностны. Первым ввалился физик по кличке Пол Бабы Яги; за ним семенила его жена, физица, просто Баба Яга. За этим почтенным семейством, бывшим в школе непререкаемым авторитетом по части естественнонаучных знаний, шествовала белорусица, учитель белорусского языка и литературы, звали которую не иначе как Шкло Мастацкае (в переводе на русский – Стекло Художественное). Увидев в первый раз ее широкое лицо с блестящими глазами, каждый думал: наверное, что-то случилось, не исключено, что коммунизм победил на планете, и все люди стали братьями; познакомившись с ней поближе (на это требовалось минут семь, не больше), каждый неглупый человек уже знал, что главное в этой загадочной, бесконечно преданной изящной словесности женщине – чувство долга. Она исполняла его неистово и ежесекундно (вот откуда впечатление «что-то случилось»), поэтому всем становилось неловко в ее присутствии, словно она уличала всех в увиливании от исполнения возложенных на каждого обязательств. За Шклом тянулся Талгатик, то бишь Талгат Ахатович Нафигуллин, преподаватель музыки и пения, знаменитый тем, что на его уроках уважающие себя дети занимались чем угодно, но только не музыкой и пением. Класс ходил ходуном, мальчишки вышибали двери, швырялись стульями и ставили девочкам плохие оценки в журнал (при этом отличницы визжали особенно пронзительно), а Талгатик, баяна которого не было слышно за ревом воспитанников, мирно призывал всех спеть хором «То березка, то рябина» или «Я – Земля, я своих провожаю питомцев». Директриса (кстати, уважительно величаемая народом Маргарита или просто Марго) делала ему последнее 325 замечание в году, и тогда неунывающий Талгатик превращался в грустящий Ля Минор. Но только до начала следующего урока…
Между прочим, каждый урок заканчивался неизменно: стоило прозвенеть звонку, как хор мальчиков-головорезов взбирался на уцелевшие стулья и буйно затягивал (выгрызая себе тем самым «отлично» за четверть):
Я – Земля, я своих провожаю питомцев,
Сыновей, дочерей.
Долетайте до самого Солнца
И домой возвращайтесь скорей!
Раз в году, а именно в день рождения Талгатика, счастливо совпавший с днем рождения Сталина (к несчастью, об этом с некоторых пор надо было забыть), трогательно вспоминали об этой традиции: при желании можно было считать, что учитель все же добился от питомцев результата… Пусть скромного, однако же добился. Результата. Ведь школа и результат – понятия близкородственные.
Федулка проворно вскрыл сейфы – и на свет явились тарелки, вилки, ложечки, стаканчики. Посуда, идеально чистая, была разнокалиберной и разномастной, очевидно, подбиравшаяся от случая к случаю. Из темного угла из чьих-то рук, унизанных кольцами, белым саваном взметнулась скатерть (свежая, тронутая корочкой крахмала), и сдвинутые столы, образовавшие банкетный прямоугольник, смотрелись уже вполне неофициально.
Учительницы галдели в подвале, словно стая обезумевших галок, слетевшихся на последний в мире шабаш. (Романов уже знал, что образцовые учителя, собранные в толпу, ведут себя, словно дети уроках Талгатика; масса учителей – куда более недисциплинированная и неуправляемая публика по сравнению даже с самыми хулиганистыми классами; почему, интересно?) Однако при этом посуда расставлялась быстро и аккуратно, практически под линеечку. Казалось, незримый кто-то (из темного угла?) руководит галдящим хаосом.
Вскоре выяснилось, что чудес не бывает даже в школе.
– Герман Львович, сбегайте, дружочек, за Юрием Борисычем, что-то он задерживается, а начинать без него не хотелось бы, – ласково распорядилась над ухом Романова директриса, даже не наклоняя корпуса. При этом ее слова были слышны только тому, кому они предназначались. Герман поднял голову. Маргарита находилась уже в другом конце помещения, ласково поддерживая озабоченного завуча Аленушку под локоток. Губы матроны беззвучно шевелились (очевидно, она о чем-то спрашивала), а глаза ободряюще улыбались Романову.
Ах, да, завуч Аленушка, она же Изабелла Петровна, она же ИП… Иногда просто – Иза. Представьте себе двуногую Тортиллу в огромных очках в черепаховой оправе. Она задавала всем подряд изумительно дурацкие вопросы, ставившие собеседника если не в тупик, то в неловкое положение; знающие люди отвечали любым вопросом на вопрос – и Аленушка буквально «тормозила», идиотски молчала, как последняя двоечница, заворожено вглядываясь в собеседника, словно в зеркало, в котором проступало ее собственное изображение, поразившее ее до бесконечности. Руки при этом она разводила в стороны, и они слабо шевелились – ни дать ни взять черепашьи лапки.
– Сколько это может продолжаться, Герман Львович? – спрашивала она, заставляя молодого учителя оправдываться неизвестно в чем. Так продолжалось первого и второго сентября на всех без исключения школьных переменах. Уже третьего сентября Герман Львович по наущению Юрия Борисыча поставил вопрос ребром:
– А почему детей надо сажать головками вниз?
Аленушка «поплыла», зашевелив лапками.
Почему Аленушка?
А почему бы и нет?
Возможно потому, что ИП напоминала безобидную шокированную сестрицу Аленушку, на глазах которой непослушный братец Иванушка, испивший колдовской водицы, превращался в козленочка.
Романову нравилось разгадывать людей, а клички и прозвища характеризовали как тех, кому давали новое имя, так и тех, кто имя давал.
Герман Львович нашел физрука в спортивном зале, на боевом посту, где же еще.
Очевидно, что-то происходило возле стены, вдоль которой были расставлены широкие и низкие скамейки – места для штрафников и болельщиков. Герман подошел поближе. Юрий Борисыч, разумеется, поприветствовал его; но на сей раз вместо фирменных слоганов «сила воли плюс характер» или «выше знамя!», которыми Борисыч обычно начинал и завершал общение, состоявшее из его темпераментных и оптимистических поучений, прозвучало что-то невразумительное: «Зовите меня просто Учитель, сэр».
Неужели происходило нечто такое, что заставляло волноваться самого Борисыча?
Действительно, творилось нечто из ряда вон выходящее, однако такое из ряда вон, к которому все привыкли. Это было педагогическое шоу Мастера, то бишь Учителя, которым он время от времен баловал учеников. Учителя на подобные мероприятия принципиально не допускались, хотя о нем, конечно, все знали. И тот факт, что Германа как бы не заметили, следовало расценивать как акт высшего доверия: это было своего рода посвящение в приближенные. Герман шутливо раскланялся; Учитель даже не улыбнулся в ответ.
На скамейке животом вниз был распластан или, точнее, распят Костя Лаврик по прозвищу Гудини. Однажды Лаврик, увидев перед собой словно выросшего из-под земли Учителя (вокруг – контролируемое пространство, зайцу спрятаться негде: откуда?), поперхнулся сигаретой, спрятал ее в рот и тут же проглотил, зажженную, от греха подальше. Учитель подождал, чем завершится сей небывалый трюк, заботливо приподнял несвежую рубашку, обнажив щуплое тельце: не прожгла ли сигарета живот? – потом в восхищении пожал живому Лаврику руку, обозвал его Гудини (Лаврик обиделся), разъяснил, чем занимается этот маг и кудесник (Лаврик подобрел), и пообещал в ближайшем будущем выпороть его так, что тот выблюет проглоченную сигарету.
И вот над худосочным Гудини возвышался Учитель с неправдоподобно огромным кедом в правой руке. Где он раздобыл такой эксклюзивный кед с ноги великана – 50 или 60 размера, литая резиновая подошва, напоминающая гусеницу легендарного танка Т-34, – было очередной загадкой, которых немало роилось вокруг Учителя. Вообще загадочность – была главная составляющая его репутации, над которой (загадочностью) он постоянно работал.
Гудини ждало наказание, на которое он сам, отчасти, напросился. Все ученики знали, что курить на территории школы в поле зрения всевидящего Учителя – категорически возбранялось. Это было неписаное правило, нарушить которое – означало бросить вызов главному человеку в школе. Борисыч, не признававший писаных правил, как то: истерических выволочек Марго или, того хуже, узаконенных жестов отчаяния – вызовов полупьяных родителей в школу, – по-своему наказывал строптивых: он, зафиксировав правонарушение, энергично выбрасывал пальцы правой руки вверх, словно Рефери, что означало количество «горячих» (здесь все зависело от дерзости, с которой обставлялось преступление, возраста провинившегося, его репутации в школьном сообществе и проч.), и сам же приводил приговор в исполнение. Количество «горячих», приходящихся строго на «пятую точку», не превышало трех, ибо пять, по словам Учителя, было смертельной дозой. Каждый последующий удар был сильнее предыдущего, по нарастающей: законы драматургии и в наказании никто не отменял.
Через минуту после его шикарного жеста вся школа уже гудела. Все знали, что в тот же день после шестого урока виновного ждет линчевание чудовищным кедищем.
Это была гениальная педагогическая метода еще той, классической деспотической школы воспитания. Во-первых, игра в казнь делала Учителя-палача своим в глазах местной шпаны. Во-вторых, успешно выдержавший наказание начинал пользоваться авторитетом в школе, поэтому всегда находились такие, кто не прочь был испытать себя и проверить при этом бдительность Учителя. В-третьих, у провинившегося навсегда отбивалось желание когда-либо лечь под кед: Учитель бил сильно, с оттяжечкой, с улыбочкой и никогда не оставлял следов. В-четвертых, если находились такие, кто малодушно уклонялся от возмездия, их ждало еще более страшное: безжалостная и унизительная трепка со стороны поротых одноклассников или головорезов, наподобие Гудини. Принцип «битый небитого везет» торжествовал во всей своей первобытной красе. Все как один принимали сторону Учителя.
В результате в школе не курили даже те, кто после уроков уже выпивал. За пределами школьной территории Учитель мог сам услужливо поднести огоньку, безо всяких нотаций щелкнув элегантной зажигалочкой. Это был высший шик – прикурить от импортной зажигалки Учителя. Но этой чести удостаивался только тот, кто выдерживал испытания кедом и тем самым становился тайным сообщником Учителя.
– Курить следует только дома, в присутствии дорогих родителей, выпуская дым прямо им в лицо, – поучал Учитель, подготавливая кед к экзекуции – то есть, любовно оглаживая его со всех сторон, демонстрируя тем самым устрашающую мощь орудия пытки. – Здесь парадом командую я. Вопросы есть? Вопросов нет. Клиент готов?
– Готов, – хрипло ответил Гудини.
Неуловимым движением, без размаха, Борисыч впарил первый «горячий» из двух назначенных. Гудини впился зубами в собственную руку, но молчал. Школа напряженно ждала: выдержит Гудини или нет. Дети многое могли простить герою, но слабости во время экзекуции не простили бы никогда. Те, кто уже подвергался пытке, были особенно строгими судьями. Все внимательно следили: появятся слезы или нет.
Второй «горячий» лег с плотной оттяжкой: Гудини прихлопнули, будто муху. Теперь всех интересовало только одно: жив Гудини или уже нет.
– Учитель, второй раз вы его пожалели, – сказал Пенициллин, соперник и конкурент Гудини, прошедший огонь, воду и пару медных труб, – то есть ложившийся под кед дважды, причем второй раз на спор. Он был влюблен в Вику, поэтому вполне мог быть необъективен к учителю, который был явно необъективен к Вике. Вика стояла в толпе болельщиков и улыбалась своей знаменитой улыбкой, обещающей что-то такое, что заставляло мужчин прищуривать глаза и глотать слюну.
Усмотреть жалость в действиях палача – это серьезное обвинение, поэтому Учитель не мог оставить эту наглую реплику без ответа.
– Пеня, готовь жопу. Если ты выдержишь три таких удара, будешь курить прямо в спортзале, у меня под носом, два месяца. Сигареты покупать тебе буду я. Будешь пользоваться моей зажигалкой, которую я тебе подарю.
Толпа детей затаила дыхание. Пари было нешуточным, ставки были велики. Пенициллин мог стать супергероем, легендой на все времена. Вика могла стать свидетелем рождения легенды. Но он, как и все здесь присутствовавшие, усвоил еще с первого класса: Учитель не проигрывает. Следовательно, удары будут такими, что запросто можно наложить в штаны, и вместо бирки «герой» на тебя навесят – и с не меньшим удовольствием – табличку «Пеня-засранец», и тоже на все времена. Герой или посмешище? Риск, равно как и искушение бессмертием, тоже был велик.
Два раза своих предложений Учитель не повторял. И неизвестно, повторит ли когда-нибудь кому-нибудь что-либо подобное. Учитель был загадочен и непредсказуем.
Пенициллин изобразил лицом, что не услышал ничего особенного. Всем стало ясно: у Пени кишка тонка. Учитель вновь оказался на высоте. Вика улыбнулась.
Все опять сосредоточились на Гудини, которому давно уже пора было вставать, но который делал вид, что отдыхает после скучной прогулки по Парижу.
– Вставай, фокусник. Минздрав предупреждает: курение становится причиной раковых заболеваний, а зажженные сигареты желательно не глотать. Приходится вдалбливать вам это через задницу.
Гудини не шевелился.
– Считаю до трех, – сказал Учитель с тихой злостью. – Если не встанешь, схлопочешь третий «горячий». Раз…
Гудини приподнялся со скамейки. Рот у него был в крови, рука прокушена, мутные глаза никак не могли сфокусироваться.
– Молодца, пацан. Жопа заживет, а характер останется.
Последняя фраза предназначалась, скорее, слушателям, Гудини вряд ли что-либо соображал. Он еще неделю после своего подвига будет показывать всем, собравшимся вечерком покурить, прокушенную собственными зубами руку, а «молодца» из уст Учителя будет носить, как медаль. В течение месяца на территории школы слово «сигареты» старшеклассниками будет произноситься шепотом и с глотанием гласных.
– Девочки, мальчики, разбежались и забыли о том, что видели. Но навсегда сохраните это в своем сердце. Выше знамя!
– До свидания, Учитель!
Дети не скрывали своего обожания, а Учитель, предсказуемо ставший героем дня, отыскал глазами Вику и смотрел на нее до тех пор, пока она не встретилась с ним глазами и улыбнулась.
– Сила воли плюс характер, Германн. Ты думаешь, эту шпану можно укротить чем-нибудь еще? Да только с броневичка! Свинцовым веером! Иосиф Виссарионович, бессмертный Йосик, наследник великого Ульянова-Ленина, в чем-то глубоко прав. Бей своих, чтобы чужие боялись. Мне наплевать, курят ученики или нет. Здесь дело не в табаке, а в принципе. Мои приказания должны выполняться, и тогда я работаю шепотом, засучив рукава белой манишки. Маргарита орет и трескается на части – и толку никакого. Я уйду из этой школы – и все развалится. Все в этой школе держится на моем кеде, вот на этом куске резины. Усек?
– Может, все и так. Только… Гуманизма хотелось бы побольше. А крови поменьше.
– Что-с, как говаривал милостивый государь Достоевский? Ась? Запомни: ты в зверинце, укротить который можно только силой. Или они тебя сожрут. Они меня просят, сами просят, заметь, умоляют, и я их бью – потому что если их не бить, они сожрут сами себя.
– Получается, вы благодетель.
– Получатся, я им нужен. Половина тех, кого ты видел сегодня в спортзале, через пару лет будут зону топтать. Чтобы этого не случилось, их надо бить святым кулаком по окаянной шее. Регулярно. Но силой надо пользоваться с умом. Надо бить так, чтобы они тебе еще и руки целовали. Это уже высшее мастерство, однако. Учись у Йосика. А начинать надо… Короче, бей в живот, делай ситуацию один на один – и бей. И без свидетелей, и без следов. Живот: самое удобное место. Говорю как профессионал. Тогда все будет все шито-крыто. Но если ударишь при свидетелях или по роже, зону топтать будешь ты… Понял? Вот и вся педагогика. А рассуждать, вежливо стучаться в их маленькие горячие сердца и затуманенные головки… Не смеши меня. Я хочу тебя уважать.
– Какая-то пессимистическая педагогика получается.
– Реалистическая! – Юрий Борисыч, обращаясь к Герману, поднял указательный палец правой руки вверх (получилось – один «горячий») и сам рассмеялся своей шутке.
– Спасибо за урок, Учитель.
Тот сделал вид, что не понял шутки.
А может, он ее и в самом деле не понял. Он просто не принимал шутки на эту святую для него тему.
Они спустились в подвал и были встречены ревом восторга и аплодисментами, словно мегазвезды или космонавты, долетевшие до самого Солнца и, неопалимые, вдруг представшие пред землянами.
– Вот вы где!
– А мы вас заждались!
– Мужчины у нас на вес золота!
– Юрочка!
Юрий Борисыч был явно в своей стихии. Атмосфера всеобщего обожания для мессии, спустившегося в каземат, – вот что по-настоящему волновало ему кровь.
– Талгат Ибрагимыч! Изобрази «Камаринскую», – раскатисто прогудел Учитель, вальяжно разваливаясь рядом с Маргаритой во главе стола.
– Я не Ибрагимыч, я Ахатович, – мирно отбивался музрук.
– Что-с? Ах, да, Ибрагимыч у нас Остап. Я тебя перепутал с Бендером. Кстати, Германн, единственная книга, которую стоит читать (и то – на сон грядущий) – «Двенадцать стульев». Рекомендую. Все стальное – хлам. В том числе – «Пиковая дама».
– А Достоевский? – капризно взмолилась Маргарита.
– У Достоевского хорош только «Золотой теленок».
– Это же Ильф, Ильф! – заржало Шкло Мастацкае, впервые, кажется, проявив энтузиазм вовсе не гражданского толка.
– Ильф, а также маэстро Петров! – уточнил Учитель. – Компаньоны – это святое. Кстати, а как они барыши делили? Напополам, что ли? Никто не знает?
Кажется, это действительно никого не волновало.
– Ну, тогда давай польку «Бабочку», Талгатик. С перебором. Эх, хрустнем! Сила воли плюс характер!
– Нет, товарищи. Сначала позвольте мне провозгласить тост, – слово сама себе предоставила Марго.
На минуту воцарилась тишина.
– Товарищи!
Стало так тихо, что было слышно, как нервно потрескивает вольфрамовая нить в лампочке.
– В этот знаменательный, великий для нас день я предлагаю выпить за учителей, за наставника, – за Учителя, так сказать, с большой буквы. Все, здесь сидящие, отдали или готовы отдать здоровье и саму жизнь школе, детям, самому светлому, что есть в жизни. Мы заслужили этот праздник. Думаю, Федор Михайлович Достоевский, именем которого названа наша школа, – и это предмет нашей гордости! – порадовался бы, увидев, как мы каждодневно, не жалея сил и нервов, воплощаем его гуманистические идеи в жизнь. Слезинка ребенка, ставшая для него символом страдания, – это и для нас святое. Мы делаем и впредь будем делать все, чтобы дети не плакали, а смеялись и радовались жизни. За нас! За вас, дорогие мои! За ваш подвижнический труд и великое педагогическое мастерство!
В глазах у Учителя блеснула влажная поволока.
Романов растерянно оглянулся и увидел, что его окружают сплошь растроганные лица. Испытывая мучительное чувство неловкости за Маргариту и, как ему казалось, за обманутых в лучших чувствах наставников, он не верил собственным глазам и не знал, как реагировать на пышную и очевидно фальшивую тронную речь.
Но Маргарита сама уже прикладывала платок к глазам и к носу.
К счастью, сентиментальная пауза, позволившая проявиться коллективной слабости, была прервана осевшим баритоном:
– Ура!
– Ура!! – вздрогнул каземат.
Праздник рванул с места в карьер. Талгатик сидел за баяном, словно прячась от народа, и было видно, как крутыми волнами гуляют меха; но музыки не было слышно: ее заглушал смех, визг и особый, плотный гул, издаваемый роем, проклинающим в душе дисциплину и порядок. Всем хотелось разрядиться и расслабиться. Германа не переставало изумлять, как точно учителя копируют своих учеников. Чему же тогда они их учат?
Кто учителя, кто ученики?
«Разве это разумные люди? Нет, они сделаны из какого-то неразумного теста. Весь мир сошел с ума, весь мир», – крутилось у него в голове, которую он ощущал, как сорвавшийся с оси глобус. Белый оскал Учителя и его блестящие очи с поволокой примелькались настолько, что в глазах начинало рябить какими-то алюминиевыми брызгами.
– Играй, гормон! Выше знамя! – время от времени бросал Борисыч клич, похожий на тост, в массы. Его зонги охотно поддерживали: звон рюмок и стаканов прокатывался над испачканной скатертью добрым цунами.
«В конце концов, чем я лучше их? Ничем. Выше знамя? Выше!»
В этот момент на его руку прохладным спрутом легли длинные пальцы в крупных кольцах (со вкусом подобранных или безвкусно нацепленных? Сразу не скажешь). Он поднял глаза. Перед ним сидела учительница английского язык Элеонора, дай Бог памяти…
– Просто Элеонора.
– Герман. В конце одна буква «н». Ни в коем случае не две.
– Я уже наслышана о вас.
– Вы хорошо загорели. Отдыхали с мужем на юге?
– А вы наблюдательны. И любопытны. Мне это нравится. Я отдыхала одна. У нас с мужем такие отношения, что я могу себе это позволить.
– У вас настолько доверительные отношения, что он рискует отпускать такую роскошную женщину одну?
– Скажем так: он не изволит обременять себя чувством ревности по отношению ко мне. А меня это вполне устраивает. Наш брак держится не на чувствах, а на привычке испытывать отсутствие чувств.
– Неужели это перспектива всех браков?
– Увы, не всех. Только самых удачных. А вы собираетесь жениться?
– Возможно. Подумываю…
– Тогда вам самое время пообщаться с опытной женщиной.
Глубокое декольте, обнажающее пышную, тронутую морщинами загоревшую грудь, свежее лицо – не молодое, а именно свежее, короткая стрижка, опять же, молодящая ее. Женщина была в годах, где-то в возрасте Учителя, мимо внимания которого, кстати, не проскользнул факт интимного диалога. Он в ту же минуту придвинулся и вырезал своим баритоном на фоне всеобщего гула:
– Лера, ты в своем репертуаре: чем старше становишься – тем моложе у тебя поклонники. Хочешь, я тебя представлю Гудини?
– Юра, не нарывайся на грубость. Щупай свою Викторию из 11 «Б» и не лезь в чужие дела. Только смотри, не испугай девочку.
– Германн, один совет: Лера любит, чтобы она всегда была сверху. Поэтому сразу ложись на спину. Но начнет она с минета: великая искусница. С ней переспишь и чувствуешь, что тебя трахнули, как последнюю б…
Герман внутренне сжался, ожидая скандала. Но ничуть не бывало: Элеонора засмеялась, потрепав Учителя по щеке.
– Я еще и сзади люблю, разве ты забыл? Но только не с тобой. Боже упаси! Не думаю, чтобы…
Она понизила голос, и дальше Герман разобрал только одно слово: Маргарита.
– Девки спорили в метро… – огрызнулся Учитель.
– Больше не значит лучше, – очевидно, не осталась в долгу Элеонора.
После обмена любезностями Учитель удалился, а Элеонора предложила выпить за внезапно вспыхивающее чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь, которое, возможно, вскоре пройдет, однако жизнь наша настолько коротка, что и это блеснувшее чувство оставит свой след. Надо жить красиво, ибо красота, как выразился Достоевский, спасет мир… Больше добра и ласки – меньше агрессии, ревности. Разве нет?
Это был даже не тост, а инструкция, сопровождаемая пожатием руки и короткими поглаживаниями. Романов не имел ничего против тоста-инструкции; он возражал, во-первых, против «чувства между мужчиной и женщиной, яркого, похожего на любовь», а во-вторых – против того, что это глупое слащавое изречение о красоте приписывают Достоевскому. Герман испытывал чувство другого рода: его собирались использовать, грубо и откровенно, а он отчего-то был не против. На него нахлынуло сложное переживание: смесь отчаяния с равнодушием.
Они выпили, и Романов потерял ощущение пространства и времени. Элеонора подливала ему водку и шептала:
– Сейчас многие уйдут: Баба Яга со своей неаппетитной, поверь мне, половинкой, рассосутся Шкло, Талгатик… Останутся только избранные. Мы ведь останемся, не правда ли?
Герман решительно кивнул головой.
– Сходим в спортзал, заглянем к Юрику в кабинет; у него есть диван, скрипучий, как Маргарита, но жить, и жить регулярно, можно. Сходим?
Он кивнул головой так, что она у него чуть не отвалилась.
– Хороший мальчик, хороший. Ты ведь поцелуешь свою Леру? Уж полночь близится…
Как они выбрались из подвала, Герман не помнил. Полная грудь Элеоноры и ее аккуратные, но жадные, ласки почему-то не оставили сильного впечатления. Но вот сцена в кабинете Учителя отчего-то врезалась в память навсегда.
Юрий Борисыч, хищно оскалившись, по-волчьи припал пахом к рыхлому белому заду Маргариты, сотрясая ее тело мощными толчками. Она, оперевшись руками о спинку кресла и выгнув спину (поза непременно должна быть красивой, это каждая женщина знает от рождения; чем красивее – тем развратнее), крупно вздрагивала и всхлипывала; грудь у нее болталась жалкими тряпичными комочками, живот отвис большими жирными складками. Марго повернула искаженное болью лицо, блудливо утонувшее в растрепанных волосах, и они встретились глазами.
«В этот знаменательный, великий для нас день», – крутилось в голове у бедного Германа.
…В эту ночь, когда отмечали День учителя, у меня пропала вера во что бы то ни было. Мне казалось, что все вокруг нагло врут, не стесняясь друг друга. Но мотивы этого зажигательного коллективного безумия были мне не ясны. Мне казалось, что все от меня скрывают что-то очень простое, но крайне важное.
Самым же большим лжецом, лгущим себе так, что хотелось уважать себя до слез, представлялся мне Федор Михайлович Достоевский.
Я почувствовал себя безумно одиноким на празднике жизни.
3. Урок для учителя
На следующее утро Герман, вопреки обыкновению, почти опоздал на работу: вошел в вестибюль со звонком. Видеть коллег в учительской не хотелось, но за журналом надо было забежать.
Маргарита Петровна уже была на посту и с укором поздоровалась первой. На спортплощадке бодро рокотал баритон.
Ничего не случилось.
– Где положенное возрасту рвение, Герман Львович? Праздник – это не повод расслабиться до неприличия; это повод настроится на работу.
Очевидно, ему давали понять, что увиденное им вчера не может быть поводом для сближения, для сколько-нибудь чувствительного разрыва дистанции между директором и учителем. Он посмотрел на ее грудь: она казалась большой и упругой. Пышная прическа идеально уложена, прядь к пряди. Разница между вечером и утром была впечатляющей.
– Маргарита Петровна, разрешите обратиться.
Перед ними стоял Юрий Борисыч – сама сосредоточенность, свежевыбритая, благоухающая своим фирменным одеколоном и дышащая несколько в сторону. Герману Львовичу он сухо протянул руку, и даже не посмотрел на него.
– Слушаю вас, – сказала Маргарита Петровна.
– Докладываю: Лаврик Константин отказывается переодеваться в спортивную форму и работать на уроке. Я ставлю ему неявку. С аттестацией за четверть у него будут большие проблемы. Придется ему отрабатывать: будет помогать мне проводить уроки в младших классах. Вместе с Викторией.
– Я все поняла. Лаврика ко мне. Герман Львович, берите пример, – показала она на то место, где еще секунду назад с достоинством стоял Учитель в позе подчинения.
Маргарита Петровна смотрела на него ясным взором, не отводя глаз.
– Я все понял. Разрешите приступить к уроку?
Она позволила себе что-то вроде улыбки.
– И впредь не опаздывайте.
Он уже развернулся, направляясь к лестнице, когда она, смягчив интонацию, по-матерински поинтересовалась:
– Утром было тяжело? То-то же. Учитель – это сила воли. Вам понравился вчера наш праздник?
– К стыду своему, я плохо помню то, что было ближе к полуночи. Вторая половина праздника смазалась. Кажется, я был пьян.
Маргарите ответ явно понравился.
– Но выглядите вы молодцом. Мы сделали вынужденную перестановку. Вы пойдете на замену в 10 «Б». Физик, между нами говоря, после вчерашнего просто не в состоянии. Я отправила его домой. Выручайте, Герман Львович. Скажите ученикам, что я вас задержала.
Урок начался с того, что Пашка Кузнечик по кличке Гусь, злобный доходяга, влюбленный в Машу и потому ревновавший ее к Германну за тот интерес, который девушка с полной грудью проявляла литературе, заблеял нудным козлетоном:
– А мы не хотим слушать басни о проститутке Сонечке, это аморально; мы хотим Пол Баба Яги. Всего только Пол Бабы. Мне в институт поступать, мне нужна физика с математикой. Я правило буравчика готовил. Где Пол Бабы?
– Павел, успокойся, – невозмутимо парировал Герман Львович. – Будет вам физика с математикой. Но не сейчас. Маргарита Петровна попросила меня заменить физику. Приношу извинения за опоздание: она задержала меня в своем кабинете.
– А мы думали, что вы задержались потому, что провожали домой Элеонору Георгиевну, – брякнул Пашка как ни в чем не бывало.
Герман густо залился краской от неожиданности; кроме того, краснеть действительно было за что. Особенно неприятно было то, что Вита смотрела на него во все глаза, будто выискивая на лице его следы лжи. Надо было достойно выбираться из ситуации.
– Павел, не выдумывай ерунды. И не хами.
– А я не хамлю. Вас видели ночью сначала возле школы, а потом возле ее подъезда. Я в том же самом доме живу. Скажете, вас там не было? Да вы не бойтесь, я не собираюсь рассказывать, чем вы там занимались…
Очевидно, Гусь уже успел растрезвонить о пикантной сенсации в деталях и в лицах, не жалея красок, поэтому классный бомонд, группировавшийся вокруг смуглой Майки, с удовольствием реагировал на дуэль в меру неприличным смешком.
– А чем мы, собственно, занимались?
– Герман Львович, ведь я могу и повторить в подробностях, мне не трудно. Мы все живем так скучно, а у вас все было так ярко…
– Ты словно пугаешь меня. Я не собираюсь оправдываться в том, что поздним вечером проводил коллегу домой; скорее, мне было бы стыдно, если бы я этого не сделал. А на твоем месте я бы подумал о том, чем может обернуться ситуация для выпускника, распускающего грязные сплетни про учителей. За это придется отвечать.
Гусь повернулся лицом к классу – длинная шея, плоский нос – и тихо прогнусавил что-то такое, от чего все мальчики, считающие себя мужчинами, сочли нужным громко заржать. Майка улыбалась, с интересом наблюдая за схваткой, Вита опустила глаза.
Настала минута, требующая решительных действий. Сейчас неважно, прав ты был или нет; важно было, как ты себя поведешь.
– Павел Кузнечик, выйди из класса, – тихо, чтобы предать голосу уверенности, сказал Герман Львович.
– Не выйду, – выкрикнул Гусь.
– Выйдешь. Ты срываешь урок. У меня нет выбора, я вынужден отправить тебя на свидание к Маргарите Петровне.
– Пошли, подумаешь. Я под присягой все повторю.
Они вышли в пустой коридор. Во всех классах шли занятия, почти в каждом из них стояла школьная рабочая тишина – за исключением кабинета напротив, где Талгатик уныло, будто муэдзин, уговаривал детей, которым следовало сплотиться в хор, спеть что-нибудь про родину из Кабалевского. Дети веселились от души, стучали крышками парт, распевая про зелененького кузнечика, который сидел в траве; сложной полифонией в тему о кузнечике вплеталась баллада про Мурку.
Неожиданно для самого себя Германн развернулся и всадил плотно сжатым левым кулаком Гусю в область печени. Удар получился резким, коротким, Германн вложился в него всем корпусом. Гусь отлетел к стене, схватился за живот и сполз на пол, растопырив ноги, как подбитый кузнечик.
– Что ты там видел, урод? Что ты мог разглядеть в темном подъезде, мразь липкая?
Ножом блеснули глаза Германна, в которых горели собачьи ярость и ненависть. Теперь эффект неожиданности сработал против Пашки. Он насмерть перепугался: язык улицы, который сидел у него в печенках, заставил его съежиться и привычно искать аргументы слабости против не рассуждающей силы.
– Это не я видел, это мне Пенициллин рассказал.
– Запомни: брешет твой вшивый Пеня. А ты засунь буравчик себе в одно место и сиди смирно. Кто вчера напустил дыму в спортзал через шланг? Юрий Борисыч уже ищет того, кто это сделал. Может, подсказать ему, а, зелененький? Я ведь видел это собственными глазами. Пару «горячих» охладят твой пыл.
Герман, конечно, не видел никакого дыма; Гуся «сдал» Учителю (который и поделился информацией с Германом) все тот же Пенициллин, Пеня, получавший, кажется, особенное удовольствие от зрелища казни. Но эта новость поразительно отрезвила Кузнечика.
– Сейчас извинишься за клевету перед всем классом – или пойдешь на ковер к Маргарите. Элеонора…
– Георгиевна.
– Да, Георгиевна, я думаю, еще к родителям твоим зайдет. Выбирай.
– Я извинюсь.
– Громко, четко, передо мной и перед Элеонорой Георгиевной.
– Я извинюсь.
Герман потушил пламя в глазах, вошел в класс и, как ни в чем не бывало, сказал:
– Сонечка – проститутка только формально, надеюсь это всем понятно? На самом деле она принимает страдании за униженных и оскорбленных. Я хочу, чтобы мы разобрали с вами сегодня такой момент: отчего Раскольников признался в своем преступлении прежде всего ей? Это во-первых. И во-вторых: в чем, собственно состояло преступление Родиона Романовича? Уголовный аспект преступления ясен. Но только ли в нем дело? Не совершил ли Родион Романович еще и философского преступления?
На мгновение зависла тишина. Маша подняла руку, встала из-за парты и детским голосом, заставлявшим отчего-то обращать внимание на ее грудь, спросила:
– А Достоевский может научить нас тому, как стать счастливыми?
В ту же секунду в класс ввалился с действительно зеленоватым лицом Павел Кузнечик и громким голосом покаянно произнес:
– Это я виноват.
– В чем ты виноват, Павел?
Теперь Герман Львович без колебаний брал реванш. Грубо, цинично, сполна.
– В том, что оклеветал. Вас и Элеонору Георгиевну. Приношу свои извинения.
– И все же: расскажи, что ты видел. Народ изнывает от любопытства.
– Я ничего не видел. Это мне Пенициллин лапшу на уши навешал.
Класс, который еще несколько минут назад готов был насладиться унижением Германа Львовича, теперь дружно загудел против раздавленного Гуся.
Герману расхотелось вести урок дальше. И дело было вовсе не в Гусе. Что Гусь? Всего лишь деморализованное забитое существо, которое, кстати, и вины-то за собой никакой не чувствовало. Его застукали на месте преступления – он и лапки кверху; а не застукали – ходил бы гусем. Это тебе не Раскольников…
Перед Германом на задних лапах сидела молодая энергичная стая, которую укрощать надо было не рассуждениями, а волей, проистекавшей из абсолютной уверенности в своей правоте. Они верят только твоему чувству правоты. А вот с этим у Германа, кажется, намечались большие проблемы. Чему их учить? Тому, что вина, по Достоевскому, искупляется страданием? Тому, что счастья, не исключено, вовсе нет, а есть покой и, возможно, воля?
Тут же растеряешь весь свой авторитет, который три месяца зарабатывал по крупицам.
В этот момент Вита встала и выскочила из класса. Глаза ее красиво были унизаны бриллиантами слезинок.
– Что случилось? – растерянно спросил Герман Львович.
– Как будто вы не знаете, – пробубнил Пашка. – Она влюблена в вас, вот и переживает. Я правду говорю, не смотрите на меня так; спросите любого, это всем известно.
– Гусь, ты хоть что-нибудь, хоть раз в жизни слышал о человеческом достоинстве?
– А что Гусь? Я же извинился!
– Ты скотина, Гусь, и сильно подозреваю, что это от рождения и навечно. И о Достоевском я с тобой не буду говорить никогда. Даже если меня завтра уволят.
Было видно, что Пашка Кузнечик просто не понимает причин гнева учителя русского языка и литературы. Он сидел, опустив голову и поглаживая правую сторону живота.
Герману стало тошно.
На перемене он вошел в кабинет к Учителю и сказал:
– Я только что избил Пашку Кузнечика. По всем правилам неформальной педагогики.
– Свидетелей не было?
– Нет.
– Внешних следов не осталось?
– Нет. Я удачно тыкнул ему в живот.
– Мои поздравления, сэр. Кажется, я в тебе не ошибся.
– Но остались внутренние следы.
– Ты о своей так некстати потревоженной совести? Все вздор. Сила воли плюс характер. Муки душевные прекратятся ровно через три дня. Проверено. Это как невинность потерять. А этот дебил примет еще пару «тепленьких» на то место, которым он привык думать, и ему окончательно полегчает. Что ни говори, твое посвящение в педагоги надо бы отметить. Я выпишу Талгатику увольнительную, он слетает за «Рислингом». Гений организации застолья. Нет равных, потому и держим в школе. Одна нога здесь, другая там, где надо. Все принесет, закусочку организует оптимальную, посуду уберет, перемоет. Нет равных. Кстати, Элеонора попросила после «Рислинга» оставить тебя с ней наедине. Чего не сделаешь для любимой некогда женщины! Да, Герман, слышал новость? Говорят, Брежнев то ли умер, то ли при смерти.
Я пожал плечами.
Учитель, сутулясь, нависал над столом, чем-то неуловимо напоминая отца народов Джугашвили-Сталина. Усами?
За его спиной на стене располагались Почетная грамота то ли городского, то ли министерского уровня с формулировкой «за выдающиеся педагогические достижения», спортивная рапира и тот самый кед, невинно замаскированный под спортивную обувь.
– А рапира зачем? – рассеяно спросил я.
– Рапира – это холодное оружие. Укрепляет боевой дух. Длина клинка – девяносто восемь сантиметров. Крепкая сталь. На этом образце нет боевой заточки, но ее легко сделать. Именно на таком оружии тренировались дуэлянты. Хочешь подержать?
– Нет никакого желания.
– Держи, корнет! Ощути, что чувствовал поручик граф Ростов. Мужчина должен уметь фехтовать. Это тебе не членом размахивать.
Я взял рапиру в правую руку. Легко представилось, как увесистая холодная сталь пронзает теплое живое тело. Стало не по себе.
– Почувствовал? Верни оружие в надежные руки. Перед тобой мастер спорта по фехтованию. Вот смотри!
Учитель взял рапиру, встал в позицию (в глазах блеснул стальной огонек) – и, согнув ноги в коленях, сделал змеиный выпад, пронзив чучело, услужливо стоявшее в углу. Низкорослое чучело в шляпе с широкими полями чем-то напоминало Наполеона. Дался им этот коротышка корсиканец!
– Раз! Уноси готовенького! Теперь ты.
– Не хочу.
– К барьеру, корнет!
Он вложил мне в кисть рукоятку, обмотанную синей изолентой. Ребром ладони подогнул мне колени – и я, как краб, вцепился ими в пол. Стоило взять рапиру в руки, и воинственные токи разбежались по телу. Учитель поправил мне рапиру – слегка приподнял тонкий конец вверх – и скомандовал:
– Делай – раз! Целься в корпус. Сталь сама найдет робкое сердце. Ну!
Внутри меня щелкнул курок, пружина сорвалась – и я, чувствуя себя то ли началом, то ли продолжением рапиры, с криком «на!» выстрелил вперед.
Рапира пропорола ткань чучела. Я был несколько озадачен обнаруженным в себе запасом агрессии.
– Молодца! – сказал Учитель. – Вот теперь самое время хлебнуть шампанского, то бишь «Рислинга». За здоровье избиенного Пашки, а также за твое посвящение… в корнеты. Идешь к детям или к женщинам, педагог, – возьми в руки плеть. Так говорил Заратустра. Кликнуть мне денщика Талгатика!
…Странно. Столько лет прошло, а я с тех пор ненавижу вкус «Рислинга»; мне не нравятся также короткие прически у женщин и сладковатый одеколон мужчин. Еще что-то не нравится…
Фехтование. К нему у меня особое отношение.
Да, и еще… Достоевского с тех пор я практически не перечитываю для себя лично.
Только для дела.
4. Слезинка ребенка
Мама время от времени рассказывала мне забавную историю из моего детства, которую я и сам помнил, правда, смутно, но вместе с тем ярко, и всегда дополнял ее какими-то новыми подробностями; наверно, просто выдумывал.
Я ходил тогда в детский садик № 17, располагавшийся, кажется, по улице имени славной дочери то ли болгарского, то ли казахского народа (а может, вообще индийского? Надо посмотреть старую карту Минска). Однажды девочка с длинными светлыми волосами (наличие длинных волос делало любую девочку, девушку или женщину в моих глазах писаной красавицей) по имени Оксана предложила мне стать ее мужем. Поигрывая волосами, она быстренько объяснила мне причины такого экстравагантного предложения. Дело в том, что у ее мамы не было мужа, и Оксана, очевидно, решила, что уж она-то заведет себе мужа обязательно. И чем раньше – тем лучше.
Я сначала заколебался, в мои планы не входило жениться в столь нежном возрасте; но когда выяснилось, что свадьба у нас будет настоящая, что это событие мы всей группой отпразднуем с размахом – организуем застолье со вкусным печеньем и кексом (а кекс в то время был главным удовольствием моей жизни, пожалуй, он вполне мог конкурировать с длинными волосами прекрасной Оксаны; да и сейчас мне трудно устоять перед поджаристой корочкой, отдающей мягким ванильным ароматом, из-под которой проглядывают гроздья набухшего темным янтарем изюма) – я поспешно согласился.
И вот я сидел во главе стола рядом с девочкой с распущенными длинными волосами и уплетал кекс за обе щеки. Это был миг настоящего счастья, который я пронзительно помню до сих пор. Ванилин, изюм и желтоватое рыхлое тесто – это вкус счастья; девочка с длинными волосами, трогательно контролирующая процесс, касающийся самой сути счастья (чтобы кекс у тебя никогда не кончался), – это образ счастья.
– Все, теперь ты будешь любить меня всегда и никогда не бросишь. Правда?
Я энергично кивал головой, строго следя за тем, чтобы рот у меня был набит до отказа.
– Нет, ты скажи, чтобы все слышали, – настаивала Оксана.
– Да, – сказал я, сделав краткую паузу ради своей жены.
– Вот видите, – сказала Оксана, – он сказал «да».
Я еще раз кивнул, подтверждая сказанное. После этого попросил газированный напиток «Буратино».
Вот и все, что я помнил, если не считать улыбчивых солнечных бликов, круглого лица воспитательницы, да еще странного выражения глаз моей мамы, которой сообщили, что сын ее единокровный отныне скоропостижно женат.
Впрочем, все это я мог уже и выдумать.
Мама моя живет только в детских моих воспоминаниях, которых сохранилось совсем немного. Вот одно из них.
Мама тяжело заболела, и я сидел возле нее с не детски серьезным выражением лица. Она решила, что ее женатый сын сильно переживает за маму, и стала меня утешать, тронутая той самой слезинкой ребенка.
– Все будет хорошо, мой сынуля.
Я понимаю Достоевского, который детей-ангелочков сделал символами чистоты и неиспорченности. Я бы только уточнил: они являются символами святой простоты, да-да.
– Мама, а с кем я буду жить, когда ты умрешь? С папой? – заботливо поинтересовался я. Что-то подсказывало мне, что папа, которого держала в семье только болезнь мамы, никак не сможет ее заменить. Так оно, собственно, и произошло.
При этом я точно помню проявление деликатности, которое растрогало меня самого: я ни словом не обмолвился о проблеме изобилия кексов, которая вполне могла ожидать меня в будущем. Я подумал, что нехорошо думать о кексах в тот момент, когда маме плохо. И еще я подумал о том, что наверняка веду себя как хороший мальчик, вполне заслуживающий похвалы мамы.
Любил ли я маму?
Конечно. Несомненно. Однако моя любовь к ней была тесно переплетена с эгоистическими интересами; я любил ее свято и беззаветно, но при этом с большой пользой для себя; с детства, когда я еще толком не научился врать, во мне честно закрепилось ощущение: любить – значит, бороться, в случае удачи – подчинять, в идеале – побеждать. Любовь была неотделима от соперничества, изворотливости, хитрости. У взрослого «дяди» все сложнее – в том случае, правда, если у него появляется чувство собственного достоинства (как результат любви, заметим). В этом случае он храбро и мудро воюет не только со всем миром, не только с любимой, но прежде всего – с самим собой. Любовь – это большая наука.
Мамы не стало, и с тех пор для меня главной проблемой стала проблема любви. Я ревниво наблюдал за тем, как чужие родители любят своих детей, как они делают вид, что любят чужих детей, как дети любят своих родителей и позволяют себе капризничать, уверенные в том, что их не бросят. Если я чему-то и завидовал, то именно этой уверенности. Я чувствовал себя страшно одиноким (мне не с кем было бороться, некого было душить в объятиях!), к тому же беспомощным и беззащитным дитятей, хотя все вокруг твердили о том, как быстро я повзрослел и стал «все понимать». Им просто выгодно было считать меня взрослым, ведь это ребенок требует к себе повышенного внимания, а человек самостоятельный – уже нет, вот они и миндальничали со мной как со взрослым. А я не торопился во взрослую жизнь, хотя и детская жизнь моя оборвалась явно раньше времени. Кексы и длинные волосы, как у мамы, – вот и все мои детские слабости.
«Чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь», нас с Элеонорой, разумеется, так и не связало. Моя философия любви в тот момент базировалась вокруг немудреного постулата: скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, чего стоит твоя любовь. Любить Элеонору?
Пошлость я чувствовал нутром уже тогда.
И я, подчиняясь чувству ностальгии, смешанного с чувством мечты, отправился в тот самый детский садик, где когда-то благополучно женился на Оксане.
Странно, но мне удалось заполучить ее адресок, правдами и неправдами. «Главное – результат», – как любила поучать Марго. И я его добился. Я купил цветы и отправился на свидание с женой своего детства. Зачем?
Спросите у Достоевского. Захотел – и все тут.
Дело было под вечер. Перышко луны нерешительно зависло в синем небе. Я пытался представить себе лицо и фигуру Оксаны – но у меня ничего не получалось. Девочка с длинными волосами никак не превращалась в моем воображении во взрослую барышню. Да и вообще моя затея стала казаться мне все более и более нелепой. Даже где-то пошлой, что в моем тогдашнем понимании было величайшим грехом. Излишняя наивность или наигранный романтизм – это яркие оттенки в спектре пошлости. (Позже, много лет спустя, когда я стал трактовать пошлость как неосознанную ложь, я понял, что был прав в своем бессознательном отношении к пошлости.)
Дверь, обитую потрепанным, каким-то ржавым дерматином, открыла озабоченная девушка с русыми волосами, забранными в хвостик.
– Оксана?
– Да…
– Меня зовут Герман, Герман Романов. Я человек из вашего детства…
На ней был фартук, и от нее пахло густым кухонным духом: жареным луком, вареным мясом. Она смотрела на меня, на букет и долго не понимала, о чем я говорю. Правда, следует отдать ей должное: ей становилось неловко оттого, что я просто корчился от неловкости.
Потом она приняла цветы и растерянно держала меня в прихожей, не зная, как со мной поступить. Что ни говори, а детская история со свадьбой – наше общее забавное прошлое – должна была сближать нас; я уже считался не человеком с улицы, а старинным знакомым.
Но нам было решительно не о чем говорить. Бывает так, что с человеком сразу становится интересно, а чаще случается – наоборот: через минуту делается ясно, что мы напрасно теряем время.
И тут Оксана удивила меня: вопреки одновременно уловленному нами ощущению бесперспективности наших отношений, она решительно сдернула с себя фартук, оставшись в вылинявшем сарафане (она была в том возрасте, когда шмотка любого покроя и фасона только подчеркивает прелести женской фигуры), и коротко указала мне на дверь в гостиную. Ее уверенные жесты смутно напомнили мне девочку из чудного детсада № 17.
Я осторожно переступил порог. На полу, покрытом зеленой ковровой дорожкой, сидела девочка с длинными волосами и складывала теремок из разноцветных кубиков.
– Ты кто? – спросил я.
– Я Рита, мамина и бабушкина дочь, – ответило мне милое существо голоском девочки Оксаны из моего прошлого.
– А в садик ты ходишь?
Она молча кивнула, продолжая серьезно играть.
– А воспитательницы у вас хорошие? – отчего-то поинтересовался я.
– Тетя Маша хорошая, добрая, а тетя Зина плохая, злая.
– Понятно. А хочешь знать, как меня зовут?
Девочка Рита отрицательно качнула головой.
Настоящее Оксаны тоже становилось мне более-менее понятным.
– Меня зовут Герман, и я учу детей в школе. Учил, гм-гм.
– А чему ты их учишь? Чтобы они тебя слушались? – спросила Рита, любуясь теремком.
– Славная малышка, – как воспитанный взрослый сообщил я Оксане, которая вошла в комнату с откупоренной бутылкой «Рислинга» в одной руке и двумя узкими фужерами в другой (подчеркнутую независимость, а может, и страх обрести зависимость, кто знает, я читал в каждом движении). Из уважения к гостю она набросила на себя светлую блузку, больше не изменив в своем облике буквально ничего. Уважение к гостю подозрительно напоминало форму уважения к самой себе. Во всяком случае, я не чувствовал, что именно меня собираются радовать свежим нарядом.
– Мы одни растем, без папы, нам положено быть славными, – сказала она спокойно, без вызова, разливая вино.
– Интересно, а наши воспитательницы были хорошими? Я их совершенно не помню. Помню только чье-то круглое лицо. Круглое почему-то считается добрым, а вот если морда клином…
– Я не помню вообще ничего из раннего детства, даже нашей свадьбы, извини. Хотя и верю, что она была.
– Хороших воспитателей и учителей не помнят. А вот монстров запоминают навсегда.
– Какой смысл пить за прошлое, которого не помним, верно? Давай выпьем за будущее, которого не знаем.
В этот момент Рита попросила включить ей телевизор, чтобы посмотреть «Спокойной ночи, малыши». Но передачу отменили: Брежнев все-таки умер. По всем каналам звучала изысканно скорбная музыка. Весь классический траурный репертуар мира был у ног звездного генсека.
Мы выпили, и я сказал:
– Мне кажется, я знаю свое будущее. Я его чувствую.
И ни с того ни с сего добавил:
– На днях я ухожу из школы.
– Почему?
– Потому что фактически я убил ученика.
– Как это убил? В буквальном смысле, что ли?
– Буквальнее не бывает.
– Так ты злой?
Я пожал плечами и зачем-то рассказал ей, незнакомому человеку, историю Пашки Кузнечика, которому я сначала кулаком отбил внутренности, и он начал на глазах желтеть и вянуть; а потом Учитель из педагогических соображений добил его своим кедом.
– Сейчас Пашка в реанимации. Что с ним – определить не могут. Он просто гаснет. Юрий Борисыч, само собой, поспешил донести на меня Маргарите Петровне, и та, не дожидаясь конца истории, попросила меня написать заявление об уходе «по собственному желанию». Что я и сделал.
– А может, он умирает и не из-за тебя вовсе; может, он чем-нибудь болеет.
– Я до сих пор косточками кулака чувствую противную мягкость его ливера…
– Совесть мучает?
– Интересный вопрос. Если Гусь умирает действительно из-за моего кулака, то мне ужасно не по себе. Но если он загибается по какой-то другой причине… Нет, радости я не испытываю; мне просто все равно.
На самом деле для меня во всей этой истории поразительнее всего было то, что Гусь никому, ни единой душе не обмолвился о том, что я двинул его в живот в коридоре, как бог черепаху. Это вызывало у меня не уважение к Гусю, вовсе нет; это обостряло то, что Оксана назвала «муки совести». Словно я ударил больного или упавшего человека, не зная при этом, что он болен или упал.
Но бежать к Гусю и каяться…
Я чувствовал фальшь и ложь такого поступка в стиле какой-нибудь Марго. Возможно, они и ждут от меня такого поступка. Тем более не пойду. На похороны, возможно, явлюсь, а вот в больницу любоваться страданиями усыхающего, то бишь усопающего, – увольте.
– Как ты думаешь, ты – сволочь, Герман?
– Думаю, что нет. Вряд ли. Вот Учитель – сволочь. И Марго тоже.
– Ты же не жениться на мне пришел, верно?
– Сразу не скажешь, зачем я пришел. Иногда я понимаю причины своих поступков годы спустя. Но действовать надо уже сегодня. Вот так и живем, слегка вслепую… Самые ответственные решения приходится принимать в молодости, когда не понимаешь ни себя, ни других. Молодость – пора принятия зрелых решений… Это похоже на насмешку.
– Кто над нами смеется, Герман?
– Да никто. И от этого насмешка кажется мне особенно гнусной. Над тобой никто не смеется – а насмешка вот она, до ушей. Чепуха какая-то.
– Ты мне понравился. Не зря я выбрала тебя в детском саду.
– Ты уверена, что это ты меня выбрала? Я ведь тебя тоже выбрал.
– Ну, уж нет, Герман Львович. Я же себя знаю. Мужчина выбирает после того, как выбрала женщина.
– Почему же тогда всегда и во всем виноват мужчина?
– Не надо было соглашаться, милый. Женщины часто ошибаются.
– Ты мне тоже понравилась. Но женюсь я на Вите.
– Кто такой Витя?
5. Змея в шоколаде
Ничего не случилось.
У Майки была роскошная вагина – тесное лоно капризной девственницы, и я получал удовольствие и от ее упругих прелестей, и еще больше от того, что она со мной изменяет будущему мужу, Артему, поклоннику Тарзана.
Это сложное чувство трудно описать. Собственно, удовольствие от измены получала она (втайне от одного отдается другому); я же наслаждался тем, что мог видеть ситуацию с разных сторон – и ее, и его и моими глазами. Она, такая чистая и непорочная в глазах Артема, развратничала со мной, прелюбодействовала: она наслаждалась своей двойной природой, чувствовала себя Змеей в шоколаде (что придавало ее движениям и позам порочную откровенность). С другой стороны, змеей в шоколаде чувствовал себя и я: кроме того, что Майка была смуглой (следовательно, я энергично орудовал в смуглом теле), я поверхностно знал Артема – то есть через его будущую жену я змеиным финтом проникал в его дом, гремучими кольцами сворачивался на его ложе. Если бы самолюбивый Артем, идеальное пособие по мышечному атласу мужчины, узнал об этом, он с наслаждением размазал бы по моему просторному дивану нас обоих (восточные единоборства вообще и поза змеи в частности – его настольная Библия). Это, естественно, придавало особую пикантность приключению и сплачивало нас все более и более, и более. Представлять божественно сложенного Артема, будущую кинозвезду, абсолютно уверенную в своей Майке, в тот момент, когда его избранница распластанной коричневой ящеркой извивалась подо мной в сладких судорогах…
Впрочем, в тот момент мне было уже не до него. Майке, я думаю, тоже.
Итак, мы с Майкой поступали, возможно, и не очень хорошо (с точки зрения какого-то условного архаического кодекса, о котором я, как и все молодые люди, уверенно шагавшие в XXI век, имел смутное представление), но несказанно довольны были все трое.
Вечером я шел к своей девушке Вите, будущей невесте (в непорочности которой, кстати, я был тоже абсолютно уверен, потому что порочность прививал ей исключительно я), и мы отлично проводили время. После того, как побываешь в постели с заводной Майкой, очень хотелось спокойную Виту. Здесь, в ее кроватке, я наслаждался скромностью своей подруги, предпочитавшей кошачьи повадки всем остальным. Сколько я ни приглядывался, не находил в ней ничего змеиного.
И меня опять тянуло к Майке…
Жизнь – это жизнь, называйте кошку кошкой, змею змеей, а удовольствие – удовольствием. Зачем врать? Получайте удовольствие от всего, в том числе от правды – от того, в частности, что не врешь самому себе, когда врешь другим. Вот и весь мой новейший кодекс на тот момент. От такой простоты – куча бонусов. Я получал удовольствие еще и оттого, что мой мир был устроен просто, хотя я втайне надеялся, что простота – залог надежности (и уж совсем втайне я предчувствовал, что простота – это форма сложности). Это был мой главный приз – приз за легкомыслие от какого-то Всемирного Папы, главы всех взрослых и ответственных.
Что у нас завтра?
Какая разница, если сегодня ты молод и здоров, тебе на днях стукнуло двадцать семь, а ей, Вите, около девятнадцати, кажется.
Что у нас на улице?
Октябрь. Ночная гроза. Молнии, словно ослепительные алмазные подвески, гроздьями блистали на темном небе; трескучие раскаты грома набегали волнами, замирали, и после этого слышался мягкий шелест дождя, сыпавшегося из прорех, прожженных подвесками. И вновь в той же последовательности: алмазный салют, строгий гром, как будто кто-то Ответственный грозил мне из иных миров, мягкий укор дождя. Весело.
Рядом сладко сопела моя кошечка, прислонившись ко мне спиной. Я закрыл глаза и заснул сном праведника, правота которого заключалась в том, что он был все еще относительно молод.
А как же любовь?
Что-то не хотелось мне тогда думать о любви (хотя, казалось бы, я жил и купался в любви). Я чувствовал, что мне невыгодно погружаться в философию любви.
Вот я и не погружался.
6. СПИД (SPEED)
– Герман! Геррманн!!
Голос Майки вибрировал так, что это отдавалось в трубке телефона.
– Мы пропали! Ты меня убьешь – но, клянусь, я ни в чем не виновата, ни в чем. Я сама не знала! Это все он, он, Артем!
Из всей этой белиберды я понял только одно, точнее, из осколков бреда выстроил сколько-нибудь правдоподобное предположение: будущий муж Майки узнал о том, что я сплю с его будущей женой в течение двух лет. Первый год не в счет, потому что Артема тогда еще не было на горизонте, а вот второй можно было и занести клиенту в стаж при желании. Бицепсы пришли в тонус от струи адреналина и вздулись. Появился нездоровый блеск в глазах. Мое маленькое удовольствие, кажется, заканчивалось, преступление готово было вот-вот продлиться наказанием. Катастрофа, конечно, но, с другой стороны, может и не до конца размажет, самурай накачанный. За все в жизни надо платить, понимаем…
– Герман! Что будем делать?
– Надо встретиться. Я ведь толком ничего и не понял. Артем узнал, что ты ему изменяешь со мной – так, что ли? – я прикрыл рукой трубку и вжал голову в плечи.
– Нет, не-ет…
Майка плакала, издавая звук реактивного самолетика.
– Нет? Странно. Давай встретимся. В «Березке», годится? Ты мне все расскажешь. Не плачь. Что ты ему там наплела, интересно? У меня ведь тоже скоро появится невеста. Всегда полезно знать, о чем думают невесты.
Майка стала плакать еще громче.
Как только я увидел Майку в кафе «Березка», я понял, что стряслось в самом деле что-то необычное. Майка, легкомысленная девушка, никогда бы не стала убиваться по пустякам. Я думаю, начало Третьей мировой она бы просто не заметила. Такие уж мы глупые эгоистки, так уж мы счастливо созданы.
Говорить на людях она была не в состоянии: ее трясло и лихорадило. Ее живые карие глаза помутнели и побледнели. Я вынужден был крепко взять ее под руку и увести в парк.
Бессмысленно передавать ее словами то, что она мне, в конце концов, сообщила. Сначала она кричала «Герман, лапушка!», потом «Артем, как ты мог!», потом просто выла минут десять на одной ноте. Такое впечатление, что в «ля миноре».
Время от времени я голосом доктора Айболита, принявшего дежурство в реанимации, задавал ей короткие, но убийственные вопросы, чтобы привести ее в чувство. «Ты беременна?» «У тебя умерла мама?» «Артем погиб?» «Ты не сошла с ума?» «Как тебя зовут?»
Каждый вопрос только подливал масла в огонь: она истерично кричала «нет же, нет!» и всплескивала руками. Я окончательно растерялся, поэтому в моих действиях появилась не слишком свойственная мне уверенность. Я сильно обнял ее за плечи, прислонил к себе, потом прижал, усадил на скамейку, и она мало-помалу затихла в тисках моих рук.
То, что она мне рассказала, было по-своему забавно. Если бы это случилось не со мной, веселило бы меня дня два, я думаю, не меньше.
Итак, по порядку и без эмоций.
Артем, поклонник Тарзана, заразился СПИДом половым путем («Мерзавец!» – сочно рявкнула в этом месте Майка) от порядочной девушки (имени мы не знаем), случайно принявшей наркотик через шприц наркомана. Девушке просто захотелось острых ощущений – хотя бы разок в жизни. Как будто в дальнейшем она собиралась вести обычную, пресную, унылую жизнь. Естественно, согласно элементарным законам, так некстати всегда противоречащим чуду, этот недоделанный бодибилдер заразил свою подругу, Майку, а та, в свою очередь, своего приятеля, то есть меня. По идее, я должен был заразить свою невесту, Виту. На этом, по идее, цепь должна прерваться.
– Ты меня убьешь? – спросила Майка, обессилено сморкаясь в насквозь мокрый платок.
– Я подумаю, – сказал я. – Но даже если я убью тебя, это вряд ли продлит мою жизнь. И жизнь Виты.
– Прости, – сказала Майка.
Странно: от этого бессмысленного ритуального словечка у меня стало легче на душу. Я даже зауважал Майку, и мне стало ее жаль.
Артем уж заодно признался и в своих мелких грешках: оказывается, он был гомосексуалистом со стажем. Зря я, прах его побери, переживал за его будущее с Майкой.
– Голубенький? – спросил я, подняв бровь.
– Ага, – Майка со стыда опустила голову. – Бисексуал.
– Обидно, – выдохнул я, – принимаешь заразу черт знает от кого.
– Прости, – пролепетала Майка.
– А ты уверена, что больна? Анализы сдавала?
Это было, конечно, проявлением слабости с моей стороны.
– Дважды. Реакция положительная: ВИЧ-инфекция, – сказала Майка. – Боюсь, к тебе тоже скоро нагрянут врачи.
Можно было не сомневаться: в таких делах Майка проявляла завидную практическую хватку. Если бы она хоть на йоту сомневалась, ничего бы мне не сказала. О ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе. Это точно.
– О чем ты думаешь? – спросила Майка. Ее глаза вновь стали приобретать решительный карий оттенок.
– Я думаю о Вите, – сказал я. – Не об Артеме же мне думать.
– Давай поженимся, – предложила она будничным тоном. – Что нам терять?
И я почувствовал, что эта цветущая девушка уже примеряла на себя психологию тех, кто вынужден расставаться с жизнью. Через каких-нибудь пару часов и я стану рассуждать так же. Что ж, она права: в принципе все просто, если не врать себе. Наша психика мгновенно приспосабливается к новой ситуации. Новые чувства тут же заставляют человека принимать новую веру, а новая вера превращается в новое мировоззрение. Так можно менять убеждения каждый день, и делать это совершенно искренне. Но можно ли доверять чувствам?
А если нет, чему же тогда доверять?
Я почувствовал, что сию секунду в голове моей пронеслась в высшей степени глубокая и спасительная мысль, даже целая система мыслей, что мне ни в коем случае не следует забывать логику их сцепления. Но от мыслей осталось только ощущение того, что они в принципе существуют. Сами они обидно истаяли. Очевидно, пока что я не был готов к такой глубине. И только потрясение преждевременно (хотя – как сказать…) шевельнуло во мне ком еще не зрелых мыслей, в направлении которых я, очевидно, топал свою недолгую жизнь. Мысли связаны, конечно, с чувствами, – но как?
– А Вита? – спросил я.
Майка пожала плечами. Это можно было понять так: «Что ж, как знаешь. Вита так Вита. Тоже вариант. Но если передумаешь…»
– Через час тебе станет невыносимо плохо. Но я ничем не могу тебе помочь. Я совершенно пуста внутри. Только не спеши вешаться. А то успеешь.
Мы помолчали.
– Ты умеешь плавать? – зачем-то спросил я.
– У меня получается не тонуть, – серьезно ответила Майка. – Но я не уверена, что это называется плавать.
Я боялся, что последним словом во фразе будет «прости». Но, к счастью, я ошибся. Она сказала: «Прощай».
К счастью, и она ошиблась. Мне не было так плохо, как ей хотелось бы.
У меня, приговоренного, кому в ближайшем будущем светил полный и тотальный капут, кажется, впервые за долгое время проснулся интерес к жизни. Причем, «проснулся» здесь употреблено в значении «проснулся вулкан». Произошел своего рода тектонический сдвиг в моих недрах, состоящих из веществ ума и чувства, и – я был готов голову дать на отсечение, хотя она, судя по всему, стоила уже не очень много, и с каждым часом должна была только обесцениваться, – сдвиг этот был как-то связан с моим «бесследно» исчезнувшим прозрением.
Я бы убил в тот момент того, кто пролепетал бы мне банальщину, доступную и Учителю: дескать, чувство смерти обостряет чувство жизни. Только и всего. Не стоило ради этого заражаться СПИДом. Я чувствовал, что дело было не в чувствах. Впервые за свою сознательную жизнь я отделил чувства – любые чувства: смерти, жизни, любви – от истины и готов был сражаться за правое дело до конца. Мне уже легко было произносить про себя «до конца». В чем-то, конечно, я шел дорожкой Майки. Мы одинаково относились к жизни.
Но мы по-разному смотрели на смерть.
Ну-ка, что может предложить мир человеку свободному, в расцвете сил, без будущего и без иллюзий? Кому нечего терять, тот имеет шанс найти истину.
Что ж, не самая плохая судьба, если разобраться. Я согласен.
Вот только переживу разговор с Витой…
7. АСПИД, или Небывалый мутант
Ничего не могу с собой поделать: моя жизнь кажется мне цитатой из моего еще не написанного романа. Собственно, так было всегда, просто осознал я это относительно недавно.
Вот и сейчас, прокручивая в голове и сердце свою жизнь-роман, я с любопытством жду: а что же будет дальше?
Ведь все уже было, было и прошло, а я с огромным интересом жду от себя, Германа, больших сюрпризов. И считаю это нормальным: вот что должно бы меня насторожить.
Но не настораживает.
Вита повела себя предсказуемо: она отшатнулась от меня, как от чумного, и одним взмахом перепуганных ресниц разорвала нашу необычайно крепкую и перспективную связь без малейшего сожаления и без колебаний. Меня стало на одно отношение меньше: эту калиточку, ведущую в рай под ручку с Витой, передо мной захлопнули наглухо. Мир сократился на одно измерение – и тут же стал увеличиваться на несколько параметров: вместе с разочарованием приходило (правда, не сразу) понимание.
Вначале от этого не было легче. Я знал, что она поведет себя именно так; но я не мог себе объяснить, почему она повела себя таким образом. Срабатывал какой-то закон; но вот какой?
Я тут же позвонил Оксане, чтобы проверить смутное предположение. Кроме того, надо было внести в наши отношения окончательную ясность.
Она вежливо выслушала мою печальную повесть о подхваченной мной неизлечимой болезни, ни разу не перебила и под конец вздохнула:
– Очень жаль. Ты так понравился мне, и особенно Рите. Хорошо, что ты не успел войти в нашу жизнь: нам бы тебя очень не хватало. Удачи.
Короткие гудки.
Так завершилась история, берущая начало в детсадовской эпохе. Так сказать, усох еще один сук на древе жизни. Вся жизнь наша состоит из подобных историй; большой соблазн грамотно их расположить и связно о них рассказать. Кажется, что непременно получится захватывающий роман – вырастет огромное дерево с пышной крепкой кроной, и следы обрубленных сучьев, словно рваные шрамы, будут только украшать кору-кольчугу, напоминая о прошлом, у которого было сомнительное будущее.
Но нет, пожалуй, историй-обрубков будет маловато: утратится объемность и иллюзия жизни; из обрубленных сучьев не создашь живое дерево. Все истории держатся на стволовом смысле, понятен он вам или нет. Роман написать так же сложно, как прожить жизнь: все время движешься вслепую, наощупь… Главное, чтобы в верном направлении.
Вот, скажем, куда теперь?
У меня не было никаких обязательств ни перед кем, не считая, пожалуй, самого себя; я был готов на все, на любую авантюру или эксперимент: напомню, терять мне было нечего.
И жизнь уныло, словно по чьей-то подсказке, подбрасывала мне рецепт дешевой идеологии, ведущей к дешевому счастью: живи одним днем. Зажигай. После меня хоть потоп. Это подозрительно напоминало вариант мести. Только вот кому и за что?
Кроме того, это было скучно, ибо напоминало прежнюю жизнь. Ну, буду я жрать, пить и встречаться с девушками (сплошь красавицами, зараженными ВИЧ-инфекцией, само собой) в три раза больше, чем вчера. Будет в три раза больше счастья? Нет, будет в три раза скучнее. Мне определенно требовалось что-то другое.
Для начала я решил сходить на могилу к Пашке Кузнечику, который, были у меня подозрения, загнулся именно от СПИДа. Я проштудировал соответствующую литературку: вся симптоматика сходилась. Поговорил кое с кем из его окружения – подозрения окрепли. Не то, чтобы я решил суеверно поклониться в ножки своему будущему, с целью подленько его избежать; просто общая судьба нас как-то сблизила. Пашке, наверное, было так же паршиво, как и мне; от него, как и от меня, отвернулась Вита; а тут еще я от души врезал ему под дых.
Прости, Пашка.
Мне не понравилось, что надгробие Пашкиной могилы украшало фото жизнерадостного мордатого подростка. Это как-то снижало градус трагедии и выглядело до жути пошло. Понравилось мне, что на его могиле совершенно не было цветов: две принесенных мною пурпурных розы смотрелись сиротливо и обреченно. Меня забудут так же быстро.
Знающие люди посоветовали мне радикально впасть в буддизм. Дескать, религия для образованных, толерантных, склонных к размышлениям и романтическому диссидентству людей. Медитации удивительно врачуют душу. Просто панацея. Еще будешь благодарить Будду за то, что нарвался на СПИД. Глаза вступивших на этот путь блестели, словно обильно смазанные растительным маслом (хотелось думать, что оливковым).
Нет, лучше уж сразу в могилу. Мне надо было пробуждать сознание, а не усыплять его. Причем, следовало торопиться, если я хотел чего-то достичь.
И первое открытие на моем тернистом пути было обескураживающим: никто не знал, как следует пробуждать сознание, разум. Никто. У человечества не было культуры пробуждать сознание. Была культура развивать интеллект, была культура с помощью интеллекта запутываться в сетях веры, думая при этом, что они наконец-то обретают вожделенную свободу. Все вокруг спорили, ершились, дискутировали – но только до той грани, за которой начиналась угроза разоблачения их позиции как цитадели пустоты. Тут все интеллигентно опрокидывались в прострацию и начинали беззвучно разевать рот, как большие глубинные рыбы, которых губил избыток воздуха. Им нужна была мутная глубина; глубины в сочетании с ясностью они не выносили. Спорить с таким народом скоро превратилось в форму унижения для меня, и я быстро нашел способ не подвергать свое чувство достоинства болезненным испытаниям: я становился все более и более одиноким. И где-то даже байронически заносчивым.
Историй, которые бы подтверждали сказанное, со мной случалось множество, по нескольку раз в сутки. Вот только одна из них на тему «коварство веры».
Однажды в одной из интеллигентных, следовательно, демократически настроенных компаний, которые стали на какое-то время средой моего обитания, женщина, незамужняя, бездетная, считающая себя умной в последней инстанции, изумительно страшненькая (в то время широко было распространено заблуждение, согласно которому говорить о внешних данных умной женщины – значило глупо не замечать ее ума), завела «безумно интересный» разговор со мной, мужчиной, – то есть затеяла очередную дуэль, чтобы в очередной раз доказать себе, что все мужики глупы, как последние дуры.
– Моя близкая подруга, актриса Настенька N., приняла постриг и удалилась в монастырь, – коварно начала умная женщина.
Я молчал.
– Это подвиг. Вы не находите?
– Боюсь, что нет.
– Суметь отказаться от соблазнов – это подвиг. Разве нет?
– Я не понимаю, почему, собственно, подвигом надо считать то, что Настенька отказалась от жизни? Это всего лишь один из вариантов защиты и ухода от жизни, самый почитаемый сегодня, как и тысячу лет тому назад, но не единственный. Есть еще, например, не менее престижные: работа, кухонная борьба с догмами социализма, феминизм, альпинизм, буддизм, футбол… Много. Специально не считал. Даже тотальная забота о своем здоровье – это вариант ухода от жизни. Все это, увы, плохой способ стать хорошим человеком. Не любишь жизнь – плохой.
– Разве она не силу проявила, уйдя в монастырь? Она отказалась от всего того, без чего не могут обойтись слабые люди.
– Разве она не слабость проявила, испугавшись самой себя, своих естественных желаний, желаний зачать, выносить и воспитать детей и любить при этом мужа, что, согласитесь, непросто? Разве не слабость делать вид, что ты сильнее своей природы? Это унизительная слабость – лицемерие. И дважды унизительно – выдавать это за силу.
– По-вашему, и преподобная Евфросинья Полоцкая такая же слабая?
Этот аргумент она выдвинула весьма дипломатично: положила передо мной на стол ядерный чемоданчик. Социальный миф, проверенный временем. Дескать, давайте, отважный мужчина, сверим позиции. После этого аргумента я должен был стать шелковым и сговорчивым.
– По-моему бесподобная Евфросинья Полоцкая обязана своей славе невежеству людей. Что за доблесть сбежать в монастырь девчонкой, не познавшей жизни, и потом всю жизнь учить тому, что познание и любовь к жизни суть величайшие грехи?
– Вы переходите на личности и символы.
– Виноват, этот вы на них перешли. Вы мне лучше вот что скажите: самоубийство, то бишь радикальный уход ото всех и всяческих соблазнов, тоже, по-вашему, проявление силы?
– Отчасти, несомненно, да. Умерщвление плоти в разумных пределах – это хорошо. Крайность, такая, как самоубийство, – плохо.
– Я вам аплодирую. Вы последовательный бессознательный некрофил, каким является всякая сознательная феминистка. Но давайте заглянем дальше, давайте развернем ваш сценарий. Ели приветствовать уход от жизни и, отчасти, самоубийство, если жизнь так плоха, почему бы не приветствовать, отчасти, не только самоубийство, но и убийство, и самих убийц? Это ведь тоже вариант ухода от жизни, самый крайний и радикальный. В таком случае не Евфросинью Полоцкую, а Адольфа Гитлера хочется считать первым феминистом. Лавры, как всегда, мужчинам, извините.
– Вы подонок! Вот таких, как вы, и убить не грех!
– Безусловно, да. Именно, как вы изволили выразиться, убить. Укокошить – и баста. Брависсимо. Потому что я люблю жизнь и позволяю себе все, что любите вы, но не позволяете себе этого позволить. В силу убеждений. Веры. Плевать я хотел на веру. На любую веру!
В этот момент раздались аплодисменты – и в комнату вошла Вера.
Бурно аплодировал, будто молодежь на галерке, некто Сеня Горб, широко известный в узких кругах шут с философской чудинкой. Он был весел и легкомысленно остроумен, словно больной раком, не желающий замечать того, что осложняет «экзистенциальное существование». Возможно, он и был болен раком в последней стадии, которая случайно затянулась. Его едкие, безадресно изрекаемые истины никто не принимал всерьез в силу их какой-то всеобщей оппозиционности; все-таки в порядочном обществе, сплошь состоявшем из свободных художников – музыкантов, работавших сторожами, гениальных поэтов-грузчиков и невероятно одаренных интеллектуалов, вообще нигде не работавших, так, подрабатывавших там-сям, – приветствовалось свободомыслие с либеральным уклоном, остальную ересь терпели из уважения к свободомыслию первого сорта. И все же Сеню снисходительно принимали – пусть как единичное, но, тем не менее, материальное доказательство торжества плюрализма в порядочном обществе. К тому же Сеня считал Владимира Ленина слабым философом. Правда, Марка Шагала при этом считал бездарем, и никак не мог понять, почему сверхпопулярный рычащий Высоцкий, раскатывающий на «Мерседесе» по Европам, считается гонимым и обделенным. Сплошные неувязочки.
Моя история, которую нещадно перевирали, приписывая мне то любовницу-француженку, то любовника-поляка (и то, и другое считалось крайне лестным), наделала много шума, и я был окружен ореолом мученика, пострадавшего от гнета тоталитарного режима. Хорошим тоном было не шарахаться от меня, как это было принято в «совковом» обществе, а, напротив, горячо пожимать мне руку (плотный контакт с обреченной плотью изгоя – вот она, солидарность интеллигентов), внимательно вглядываясь в лицо с целью обнаружить на нем знаки начинающегося разложения. Отношение ко мне служило тестом на гуманность.
На сей раз Сеня, с которым мы вместе работали кочегарами («пыльная, но чистая работа», по его словам), был краток:
– Глобальная демократия породила феминизм – вот им же она и накроется. Мягким, женским.
Окружающие воспитанно сделали вид, что не расслышали бормотания юродивого.
Я же про себя зааплодировал, во-первых, походке Веры, а во-вторых, Сениной сентенции. Кажется, впервые, увидев женщину, я пожалел, что СПИД накладывает на мои отношения с прекрасным полом известные ограничения, продиктованные нравственными соображениями.
– Сеня, Шагал летит над Витебском в сторону черного квадрата или от него? – шепотом спросил я у Горба, благодаря его за смелость мысли и записываясь к нему в сообщники.
– Ты мыслишь в правильном направлении, – ответил Сеня. – В черную дыру, практически – жопу, которую эстетам угодно называть квадратом.
– Ведь он летит под музыку «Beatles», я правильно понимаю? We all live in the yellow submarine, не так ли?
– Истинно так. Эти четыре черных омарихуаненных кота, которым одновременно наступили на яйца (отсюда и вокал несравненный), славно лабают под Шагала.
– А ведь те же самые люди, которые восхищаются сказкой о голом короле, рукоплещут «Черному квадрату», пританцовывая под Битлов.
Второй раз за вечер я удостоился аплодисментов от Сени; такого признания от разборчивого кочегара-философа, как он сам мне поведал, заслужил только Шопенгауэр, которого я, признаться, откровенно недолюбливал.
Я вернулся домой и, вдохновленный глазами Веры, принялся писать, воплощать еще самому себе до конца неясный замысел трактата.
Заглавие мне понравилось сразу.
И разбег я взял нешуточный.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
1
Для разговора о Ф.М. Достоевском, одном из самых ярких и влиятельных русских писателей, необходимо создать теоретический контекст. Необходима культурологическая теория, целостно интерпретирующая личность и культуру. Я нахожусь в процессе создания такой теории; собственно, эта работа и представляет собой попытку сотворения того самого «теоретического контекста».
Художественный материал, подлежащий осмыслению, поражает своей броской оригинальностью. Так называемая «достоевщина» (употребляю это расхожее, надо признать, меткое определение не как ярлык с негативно окрашенной семантикой, а как совокупность качеств и свойств, присущих моделям писателя, как обозначение характерно достоевских идей и переживаний; отношение же к достоевщине – не личное наше пристрастие (личное пристрастие – это личные проблемы), а отношение, вытекающее из предлагаемого методологического подхода – мы будем определять не ярлыками, а всей логикой работы) оказала столь заметное воздействие на всю мировую культуру, что от «проклятой достоевщины» невозможно отмахнуться, как это позволили себе, скажем, корифеи эпитетов и метафор Бунин и Набоков. Царственный жест «нравится – не нравится» – это скорая расправа тех, кто не даёт себе труда подумать, кто не в силах преодолеть смутную и порывистую стихию эмоционального отношения, ту же достоевщину. Познавать художника способом художественным же, возможно, и эффектно, не исключено, что порой любопытно, но всегда глупо. Такое «познание» в лучшем случае сгодится как материал для познания «познающего», как, например, речь Достоевского о Пушкине, гораздо более говорящая о субъекте познания, нежели о несчастном объекте.
Механизм «достоевщины», при всей его антропологической «навороченности», достаточно прост в своих корнях и истоках. По существу, писатель специализировался на рассогласовании «отражений реальности» с реальностью как таковой, происходящем на поле сугубо психическом. Он пожертвовал духовно-физической гармонией, и даже простой нормальностью человека, дисгармонично выпятив психический компонент личности. Человек Достоевского – это человек переживающий, причём переживающий интенсивно, болезненно, замкнувшись параноидально на пунктике, которому он безо всяких на то объективных оснований склонен придавать чрезвычайное значение. Его героев не интересуют интриги социальных связей, они не получают удовольствия ни от еды, ни от нормальных душевных отношений, ни от любви или эротики, ни от ответственного мышления, они равнодушны к природе и людям – их волнуют и поглощают исключительно утончённые, зашкаливающие за грань нормы психические взлёты и падения, переживания ради переживания. Нездоровую крайность, свойственную, отчасти, всем здоровым людям, Достоевский превратил в свою золотую жилу.
Да, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы с иррациональным элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинки и переживания поражают калейдоскопической избыточностью и вместе с тем однообразием «базовых моделей», которые лихорадочно расцвечиваются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности обескураживающе очевидна. Содержание достоевщины – не реальность, а её психически-виртуальное замещение, поданное с особым, нервным градусом. Импульс надуманных переживаний выдуманных героев – не от реальности, а от первичных впечатлений по поводу реальности; переживания по поводу переживаний, фантомы по поводу фантомов – вот извилистый путь духовных исканий «философов» Достоевского.
Реальность достаточно проста, груба и пошла, она не предрасполагает к изощрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, и даже поощряет здоровую идеализацию, которая приспосабливает к реальности (вспомним в этой связи тех же Пушкина и Л. Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – вторичной – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения. Повышенная психичность влечёт за собой концептуальную бессодержательность такого искусства. Оно самим механизмом творчества запрограммировано на легковесность, на абсолютизацию эстетизма, ибо когда нечего выражать, содержанием выражения становится само выражение.
Вот почему реализм (то есть искусство, моделирование реальности, ориентированное, вместе с тем, на познавательное отражение объективной действительности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, опирающегося, отчасти, и на противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле), с точки зрения излагаемой теории художественного творчества, представляет собой чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую из себя же, а не из реальности. Нет ничего удивительного в том, что реализм Достоевского стал предтечей вовсе «не реалистического» модернизма и постмодернизма. Внимание, уделяемое Достоевским болезненным психическим ощущениям и переживаниям, стало основой, на которой отрицается реальность модернизмом. А другой основы в природе не существует.
Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму).
Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться?
Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это оборотная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности.
Заслуга Достоевского в том, что он подчеркнул психичность человека, его бессознательную душевность, а в этой душевности – непредсказуемость. Но он же и противопоставил эту истерическую душевность – нормальности, абсолютизировав первую и поставив под сомнение вторую. Герои Достоевского, если уж быть точным, по складу личности, по типу отношений к действительности – фанатики и психопаты. В таком случае совершенно естественно, что отношение к разуму, к сознанию рефлектирующему предопределено было самой однобокой природой персонажей, их отчуждённостью от мира, их вырванностью из контекста социального и природного.
Однако отдадим должное писателю: его герои не просто избегали разума или настороженно относились к нему; Достоевский отчётливо осознавал, что такого рода персонажи в сознании должны видеть своего смертельного врага. А такое противопоставление – уже неплохая сцепка с реальностью. Не было бы сосредоточенности на магистральном для культуры, особенно новейшей, конфликте между психикой и сознанием (отражением запутанных отношений приспособления и познания) – не явилось бы и великого пятикнижия Достоевского (имеются в виду романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»), представляющего собой вариации на центральную и главную тему культуры: единства и борьбы психики и сознания.
Психика чувствует, чего ей не хватает, она тянется к сознанию, ощущая при этом свою ущербность и неполноценность и не переставая тянуться к началу противоположному, так как это единственный, что ни говори, способ самопознания (пусть и ограниченный рамками живительного процесса психо– и логотерапии). Иначе зачем же писать столько «идеологических» романов во славу «бессознательного» и во посрамление разума, бесконечно воспроизводя одни и те же типажи святых-«идиотов» и преступных умствующих еретиков-раскольников?
В свете сознания персонажи Достоевского начинают смотреться худосочными марионетками, прилежно иллюстрирующими беспомощность мысли и всесилие капризных вулканов бессознательного. Поразительная бедность мысли автора идеологических романов впечатляет даже не столько сама по себе, сколько вследствие того, что это скудомыслие было воспринято мировой интеллектуальной общественностью как философское откровение. Что тут скажешь?
Общественность читает роман, роман высвечивает гуманитарную невежественность общественности.
Крикливая иррациональность панически открещивается от цепких щупалец разума – вот всё «содержание» романов психически ангажированного гения. Весомостью аргументов служит не контрпродукция ума (не забудем: коварные концепции и смыслы – это мишень), а интенсивность, противоречивость и полная неподконтрольность интеллекту переживаний и, шире, психических комплексов. Фактура переживаний – это и есть главный иррациональный аргумент. Вот почему не следует усматривать в данной работе намёков на личное нездоровье творца как на главную причину странного его мировидения.
Однако не будем впадать в противоположную крайность: так ведь можно «отмахнуться» от доброй половины мировой литературной классики, поставив под сомнение её содержательность. Не будем требовать от литературы более того, что она может дать; с другой стороны, литература, претендующая на статус сверхлитературы (иначе сказать, умной, мудрой литературы), должна быть подвергнута анализу критическому. И главное, что выявляет такой анализ, заключается в следующем: вновь злейшим врагом психически-моделирующего восприятия было объявлено ориентированное на объективность сознание.
Подчеркнём, что пока мы ограничились принципиальной оценкой «достоевщины», не распространяя её вместе с тем как окончательный и исчерпывающий философско-эстетический вердикт на творчество писателя в целом и тем более на какое-либо конкретное художественное произведение, которое всегда в чём-то преодолевает бессознательные установки самого автора.
Какой из романов избрать для анализа?
Мы выберем не тот, который максимально полно репрезентирует интересующую нас проблематику (это было бы подгонкой под концепцию, то есть тем самым насилием над реальностью, что так характерно для Достоевского, представляющего мышление моделирующее, художественно– и религиозно-идеологическое, и что совершенно неприемлемо для сознания научного, ибо насилие над реальностью несовместимо с деятельностью «чистого сознания», есть приговор ему, другими словами – превращение его в свой антипод, вариант сознания идеологического), а наиболее совершенный в художественном отношении, по нашему мнению. Иное дело, что этот роман как никакой другой оказывается соответствующим нашей концепции, великолепно «подтверждает» её и одновременно даёт ей содержание. Но это, повторим, уже другое дело.
Мы имеем в виду «Преступление и наказание», конечно, первый из романов, открывающий пятикнижие.
Как же долго, неприлично долго не замечалась главная тема и проблема, которой подчинено в романе (и в творчестве Достоевского в целом) буквально всё. И пресловутая острая социальность романа, и его прямо-таки иезуитская идеологичность, и неслыханный психологизм, и сама хвалёная религиозная философия Достоевского, и оригинальная поэтика – всё, всё это следствия из пункта, скрестившего причины причин: борьба с разумом не на жизнь, а на смерть. Без компромиссов. Или – или. Академическая тема «психика и сознание», поставленная ребром, неизбежно тянет за собой кровь и смерть.
Так было в «Евгении Онегине».
Так было в «Войне и мире», в «Пиковой даме».
Так будет и в «Преступлении и наказании».
* * *
На следующий день, думая о Вере вперемешку с Достоевским, я отправился за результатами анализа.
Относился я к этой судьбоносной процедуре как к пустой формальности, не секунды не сомневаясь в положительном (то есть крайне отрицательном для себя) результате. Я-то знал, что мы вытворяли с Майкой; после этого надеяться на милость судьбы было наивно. Но и жалеть о времени, с таким толком проведенном с Майкой, было глупо. Преступление без наказания теряет смысл; если уж наказания все равно не избежать, то хотелось бы сначала пережить все удовольствия преступления.
Упитанная медсестра встретила меня показательно недружелюбно, не подпустив ближе, чем на три метра.
– Сдадите повторный анализ крови, – брезгливо приказала она.
– Когда?
– Сейчас.
– А первый анализ вас чем-то не устраивает?
– Первый анализ ошибочен: у вас ничего не обнаружили.
– Быть того не может, – пробормотал я, покрываясь алым цветом и не в силах унять дрожь ликования, потрясшую меня до мозга костей.
– Вот-вот, – сказала медсестра. – И я о том же. Закатывайте рукав.
Нацедив полпробирки темно-вишневой крови, она молча отправилась куда-то вглубь лаборатории.
– Когда же я буду знать результаты?
Ответом мне было слабое издевательское звяканье каких-то пинцетиков о какие-то колбочки. Мне давали понять, что пора привыкать к тому, что становишься человеком второго сорта.
– Когда я буду знать эти чертовы результаты! – взревел я.
Из-за ширмы вышел мужчина в белом халате, но в брюках и начищенной обуви, которые выдавали в нем человека, далекого от профессиональной медицины. Вот почему медсестра вела себя так вызывающе: у нее было прикрытие.
– Через неделю, – тихо сказал он.
– Почему так долго?
– Через неделю, – повторил мужчина тоном «баюшки-баю».
Я позволил себе нагло смерить его взглядом.
Через два дня, когда я сидел у себя в квартире и с раздражением вчитывался в «Преступление и наказание», мне позвонил, судя по всему, тот самый мужчина в начищенной обуви и сообщил:
– Вы не являетесь ВИЧ-инфицированным. Мы снимаем вас с учета.
Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Хам. В обществе либералов, ориентированных на запад, я привык к другому обращению.
Но теперь короткие гудки показались мне пунктирной связующей нитью, едва ли не музыкой жизни. Неизвестно почему, мне представилась походка Веры, и я снисходительно потрепал томик Достоевского, украшенный его брадатым анфасом, словно мохнатого барбосика, жарко дышащего тебе в ладонь.
* * *
Не хочу для других делать интриги из того, что перестало составлять интригу для меня. События, произошедшие в течение года, сами по себе не заслуживают того, чтобы их описывать: я ведь пишу не роман событий. Но их, эти самые события, необходимо хотя бы бегло перечислить – для того, чтобы понять, что неожиданно для меня самого стало главной интригой моей жизни.
Прошел какой-нибудь год, и я понял, что заражен гораздо более опасным вирусом, нежели СПИД.
Каким?
Видите ли, у него пока нет названия, и с этой болезнью пока не ставят на учет. А зря.
Но обо всем по порядку.
К кому я пошел с вестью о том, что я полностью здоров? К Вите?
Я пошел не к Вите, и правильно сделал. Дело в том, что, как выяснилось несколько позже, в телефонном разговоре, она уже знала, что ее счастливо миновала чаша сия, но даже не соизволила позвонить мне и дать возможность больному человеку порадоваться хотя бы за другого.
К Майке?
Я запланировал звонок ей, чтобы снять груз с ее души. Следующим должен был быть звонок Вите.
Но пошел я к Вере.
– Вера, – сказал я, – представляете, я привык жить без будущего. Вот всего час назад у меня вновь появилось будущее, но не знаю, надо ли мне оно. Каким вы видите свое будущее?
– Не знаю. У меня каждый день расписан по минутам, поэтому мне просто некогда думать о таких пустяках. Если я стану думать о будущем, у меня его не будет. А ваше будущее… Вас что, высылают из страны, и вы, наконец, воссоединитесь со своим поляком? Счастье – в дом?
– Вера, не обижайте меня.
– Извините. В этой странной компании никогда не знаешь, что у нас сегодня является достоинством, а что – пороком. Слишком часто все меняется местами. Значит, вы отправляетесь к своей француженке. Я правильно вас поняла?
– Нет, неправильно. Я совершенно здоров, у меня нет ВИЧ-инфекции, я не голубой, и я, честно говоря, не представляю своего будущего без вас.
Она впервые посмотрела на меня не как на пустое место.
– Как вас зовут, извините?
– Ах, да, я ведь толком даже не представился. Меня зовут Герман, Герман Львович Романов. Филолог. Не диссидент, не привлекался, не хожу в храмы, терпеть не могу темносплетений Бахтина и не обожаю Достоевского. Ни разу в жизни не любил по-настоящему. До недавнего времени… Гм-гм. Все не как у людей.
– Вы революционер наоборот?
– Да нет же! Я человек, который куда-то спешил, потому что у него не было будущего. А теперь… Теперь я даже не знаю, кто я.
– Очень приятно, Герман. Меня зовут Вера. Я обожглась на любви, и теперь не слишком верю словам. Вы уж, пожалуйста, с ними поосторожнее.
– Конечно, Вера. Я очень ответственно отношусь к словам. Но я сказал правду. Ни убавить, ни прибавить.
– Кофе хотите?
– Дайте подумать… Хочу. Можно, я позвоню от вас Майке и Вите?
– Кто такой Витя?
* * *
На следующий день Сеня сказал мне:
– Очень легко жить, если ты заражен СПИДом: жизнь превращается в героическое умирание. К твоим услугам сочувствие и внимание окружающих, к твоим услугам проверенные варианты «защиты от жизни», как ты сам изволил выразиться. А вот как быть здоровому и нормальному «аспиду»? Думаю, вскоре тебе опять захочется подцепить какую-нибудь смертельно опасную заразу. Ты развращен привычкой жить без будущего. А для будущего необходимо мужество: либо ты познаешь себя – либо тебя колбасит. Твоя яркая жизнь – пустота. Дело не в СПИДе; дело в том, что ты живешь пустую жизнь. Тебе хоть три жизни дай – что ты с ними будешь делать?
Вот тут я физически почувствовал, как заражаюсь иным, более опасным вирусом, известным легкомысленному человечеству под названием «горе от ума», – вирусом прозрения, передающимся от персоны к персоне. Аномальный Синдром Прозрения Истинно Духовного.
Вскоре я понял, что болезнь эта в редких случаях заразна и неизлечима.
Второй круг мой жизни был до обидного кратким. Вита со второй попытки поступила на филфак (любовь ко мне прошла, но любовь к литературе осталась – в полном соответствии с заморочками древних: vita brevis est, ars longa) и благополучно вышла замуж. Я был случайным свидетелем свадебной церемонии. Букет ее руках – пышные хризантемы – напоминал перевернутое платье невесты, поблескивающий снежным напылением колокол. А под платьем – ее ноги, которые я раздвинул первым.
Во рту у меня пересохло, сердце отчего-то сжалось.
Через девять месяцев она, словно назло мне, родила здоровую девочку.
Майка тоже родила. Мальчика. Здорового. От Артема. Возможно, тоже назло мне.
Что я находил во всех этих людях раньше? Мое прозрение все более и более мешало мне жить. Бессознательное копошение народа, страны и человечества я воспринимал как угрозу лично себе. Народ, человечество и Достоевский двигались в одном направлении, а я – в другом. Страна рушилась, но направление моих мыслей при этом менялось независимо от распада империи. Узнал бы Лев Толстой – вот бы удивился.
Я ощущал свое выздоровление как начало неизлечимой болезни.
Цивилизация в своем объективном движении от социоцентризма к персоноцентризму (от психики к сознанию) остановилась на том, что свобода индивидуума (не путать с личностью!) ограничивается верой. Миром правит бессознательная регуляция. Все. Точка. Это не обсуждается.
Дальше цивилизация идти не готова – по объективным причинам. Бесконечно воспроизводится один и тот же тип «гуманных» отношений (классика – Достоевский и Толстой, Лев Николаевич): вера в добро, милосердие и душу человека – с одной стороны; с другой – ненависть к разуму и диалектике – сиречь, ко злу. Козлу.
Вот и от меня все ждут того же: верь, надейся, люби – ибо это лучший (проверено бессчетное количество раз!) способ не думать. Вариант «не верь, не бойся, не проси» – всего лишь оборотная сторона первого.
А я хочу мыслить, чтобы верить, надеяться и любить; плакать, смеяться и ненавидеть – чтобы понимать. Поэтому не люблю Достоевского, великого путаника библейского масштаба.
Одно дело – надежда на то, что ты сможешь укротить имеющий отношение к человеку закон, и совсем другое – надежда на то, что тебе повезет в мире, где нет никакого закона, кроме закона джунглей: кто сильнее – тот и прав. Одно дело вера в свои силы, в свой разум (в себя), и совсем иное – вера в то, что тебе помогут «высшие силы» (во всемогущего и, главное, милосердного Б., чтоб не упоминать его имени всуе). Одно дело любовь как способ проявления своих возможностей – и совсем-совсем другое любовь как способ показать пану Б., что ты хороший, – любовь как способ проявления своей покорности. Как-то ловко сотворили всемирный проект под названием «пусечка, ширмочка Б.»: он и грозно всевидящ – и в то же время счастливо близорук; когда тебе или ему, когда – ну, все равно кому – очень хочется, то его можно держать за придурка, то есть за пана, который, по своей исключительной доброте (нам – пример и наука, однако) любую твою блажь должен принимать на веру, за чистую монету. Я бы на месте Б. был раздосадован, а возможно и – взбешен.
Не надо говорить мне про «веру, надежду любовь» – надо говорить о личности; не надо говорить мне о стране и народе, о социализме и капитализме – надо говорить о личности.
Вот теперь я по-настоящему был отвержен. Я обнаружил: глупые люди все повально заражены вирусом умодефицита.
Мне удалось найти вакцину от глупости – но взамен я приобрел жизнефобию. Ум и жизнелюбие пока не сочетались.
Но у меня уже была Вера.
Это случилось в самом начале всемирного катаклизма, которому дали невыразительное, какое-то исключительно мирное (и потому издевательское) название – Перестройка…
Все равно, что о всемирном потопе выразиться в том духе, то ваша речка, дескать, немного вышла из берегов.
Книга вторая. Зимний круг или Пучок историй
1. Карканье белой вороны
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
2
Начнём с последнего абзаца одного из самых «странных» романов в мировой литературе (трудно удержаться от замечания, что все великие произведения – странны, ибо вызывающе не соответствуют аршину общепринятой логики и общих представлений; а ещё потому странны, что внутренне противоречивы). Под подушкой, под головой исстрадавшегося Родиона Романовича Раскольникова уже лежало Евангелие. «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен». (Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – Г.Р.)
Обратим внимание прежде всего на то, что «рассказ», представленный нам, вовсе не безличен, у него, как и у всех «рассказов» в мировой литературе, есть свой творец, в данном случае делегировавший свои полномочия повествователю («наш» рассказ). Ни о какой нейтральности, ни о какой беспристрастности и неангажированности повествователя, ни о какой равноправной «диалогичности» не может идти и речи, так как повествователь и не скрывает, что его временно «невменяемый» герой находился в «одном мире», закрытый пока что для диалога с миром иным. Если под диалогом понимать самоценность вступивших в контакт суверенных миров, не сводимых один к другому, то такого диалога в романе нет. Мир Раскольникова явно и естественно соотносится с миром того же повествователя, причём первый выступает как «низшее» измерение по отношению ко второму, «высшему». Если и говорить о диалогичности иерархически (так или иначе – моноцентрически) устроенного романа, то правильнее было бы говорить о диалоге как моменте монологической, концептуально определённой структуры.
Многоуровневый, многоклеточный мир Л. Толстого своим единством не отменяет автономности микромиров, диалектически взаимосвязанных и производящих впечатление космической упорядоченности.
Мир Достоевского устроен принципиально иначе. Его мир ограничен душой человека, взятой в определённом, «тёмном» или «светлом», качестве. Полярно разбросанные мировоззренческие полюса присутствуют в романе, иначе и не возникло бы энергии конфликта. Однако «светлая», святая душа, «другой» мир обозначены, по большому счёту, как наличие противоположности, как возможность, перспектива или идеал (главным героем такая душа стала в романе «Идиот», персонифицируясь в образе князя Мышкина). Центром мироздания становится душа, догадывающаяся о существовании иного мира, но обитающая в своём, противоположном идеальному, мире. Что это за мир, чем он так притягателен для писателя, и почему так долог или невозможен путь в мир иной?
Мир, непропорционально сведённый к душе человека, позволил многократно увеличить её «тёмные» и «светлые» стороны. При таком подходе к делу логично было бы ограничиться несколькими персонажами, два из которых обязательно должны быть полярными (и, собственно, главными), остальные призваны усиливать и детализировать линию главных. «Двойники» и «двойничество», будучи продуктом рационального дробления единого комплекса идей (так сказать, идейной достоевщины), дают вместе с тем уникальные возможности для инфернальных, запредельно-трансцендентальных наитий и «прозрений» (достоевщины психологической). Именно так с точки зрения логики персонажеобразования и соотношения характеров выстроен роман «Преступление и наказание». Родион Раскольников – это один полюс, Софья Мармеладова – другой (уже по звукам и по семантике – полюса). «Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями ? Её чувства, её стремления по крайней мере…» – читаем мы в самом конце эпилога, когда герои находились «в начале своего счастия» . Начало «счастия» – начало приобщения к сонечкиным убеждениям. До этого момента были исключительно «несчастия», заблуждения.
Таким образом, природа Раскольникова, без сомнения, главного героя романа, двойственна, что, собственно, является необходимым условием, создающим почву для пронзительных внутренних раздраев. Раскольников – это Соня Мармеладова, в которую вселился (временно, но цепко) бес рациональности и неверия. И эта бестиарность, повторим, есть обязательное условие существования романа, который, по сути, от начала и до конца являет собой картины торжества, бессилия, а затем и изгнания сего беса.
Бесом, понятно, служит всё тот же ум.
* * *
– Прочитала? – спросил я у Веры.
– Прочитала. Но ничегошеньки не поняла. Кар-кар-кар… Курлы-мурлы… Как-то громко, отчетливо, но совершенно непонятно. Хотя красиво.
– Оптимистическое чириканье или пессимистическое карканье… Не в трелях дело. Дело в том, что душа чирикает, а разум – каркает. Все просто. Я тебе сейчас объясню. К Достоевскому нельзя подойти без теории, хотя сам он их «как бы» не любил…
Я говорил долго и вдохновенно. Мне нравилось, с каким умилением она меня слушала: она ловила каждую интонацию и отзывалась на любой жест, благо я темпераментно размахивал руками.
– Понятно?
– Нет…
Я был несколько озадачен.
– Хорошо. Подойдем с другой стороны. Не знаю, в каком мире живешь ты, Вера; что касается меня, то я живу в мире, где правда, такая, как я ее понимаю, никогда не восторжествует, истина всегда будет попрана, а человек, увы, – вряд ли достигнет того, чего он заслуживает. Именно поэтому мой долг – быть счастливым, не предавая при этом истину. Только не называй это подвигом; скорее, это оптимистический жест отчаяния. У меня нет выбора, мне деваться некуда. Приходится быть счастливым.
– Я люблю тебя, – сказала Вера, целуя меня в краешек губ. – Предложи мне стать твоей женой. Я соглашусь…
– Ты мне не дала договорить. Я именно к тому и вел речь, по всем правилам риторики.
– Ты говорил очень долго. А мне надо коротко и понятно. Мы поженимся?
Дежавю. Кажется, подобное уже было в моей жизни. Нет, двойное дежавю. Нет, тройное. На все мои умные речи она реагировала одинаково: все заканчивалось поцелуями.
До меня вдруг дошло: она следит за тембром, интонациями и жестами, но не за смыслом. Как кошка. Или змея. Гм-гм. Мне почему-то тоже захотелось ее поцеловать, и слезы навернулись на глаза мои.
– Дай подумать… А кекс у нас на свадьбе будет?
– Будет, если захочешь. А свадьба у нас будет или нет?
– Будет. Если будет кекс.
– Ну-ка, рассказывай, при чем здесь кекс? У тебя ничего не бывает просто так.
– Сейчас расскажу. Только сначала поцелую…
2. Стрельба по привязанным зайцам
И у нас была свадьба. В апреле. К удивлению немногочисленных друзей, в основном, с ее стороны, я ел только специально принесенный с собой кекс и запивал его коньяком – обжигающим нектаром, отличавшимся золотистым «нарядным цветом» с крепким коричневым оттенком.
Апрель играл с зимой, будто большая, здоровая и сытая кошка с полудохлой мышкой. Позволит ей глоток ледяной свежести с утра – робко сыпанет редкий мокроватый снежок с затянутого сереньким неба – а к полудню уже балует прогретым весенним ветерком, сошедшим с ума от запахов пробудившейся природы. Солнце в обновленном огненном оперении чувствовало себя уверенно, словно нелепый вождь индейцев, и уже никуда не спешило. Такое впечатление, что оно тоже перезимовало в берложке, как пушистый зверек, и теперь карнавально радуется свободе. Ах, это сладкое слово свобода с привкусом цианистого калия…
Это было еще тощее солнце социализма. Вскоре ему, уже более лохматому и тучному, предстояло всходить и заходить в другой, раскрепощенной стране, населенной теми же самыми людьми, которым хотелось думать, что они стали другими – свободными. Солнце то же, а люди другие. Природа не поспевала за культурой. Где натуре с ее допотопными циклами! Прошла зима, настало лето: спасибо партии за это. Все под контролем. Теперь партии не стало. Спасибо гвардии новых мучеников за идею иного всеобщего эквивалента – за бабло. Потом гвардии не стало (увы, оторвались от народа – выродились в олигархов). Спасибо всем. Несвободные люди через брюхо служат идее, свободные – только брюху. Назад, в пещеру: это и есть «даешь цивилизацию». Дальше, почему-то, перспектив не видно. Темень какая-то демократическая. Как в заднице. У доброго негра.
Времена настали веселые и лихие, а семью, ячейку общества и одновременно пещеру личности, никто не отменял. Всем по-прежнему хотелось счастья. Кусочек чего-нибудь личного, независимого от свободы и общества. А ведь счастливая семейная жизнь – это жизнь без сюжета, которая по своей предсказуемости напоминает стрельбу по привязанным зайцам; сюжет появляется только тогда, когда семью начинает лихорадить и она постепенно распадается. Всякая счастливая семья проходит испытание на прочность – переживает несколько периодов распада. Период четвертьраспада, полураспада, распад, спад, ад… Да…
Семья, ячейка и пещера, превращается в ничто. В космическую пыль, скопище отдельных атомов. Может, это нормально? История семьи – история пыли?
С другой стороны, из чего-то возникали и создавались новые семьи – может, из той же пыли, из тех же атомов?
А новое, передовое, потому как капиталистическое, общество – не из той ли пыли вылепилось, в которую превратилось, старое, социалистическое (возникшее, как известно, на обломках пещерного капитализма)? Ведь другой же пыли, иных атомов, альтернативного вещества же просто нет. Из ничего и будет ничего. Ноль. Всеобщий эквивалент пустоты. Типа «ау-у-у», однако…
Перестройка, перекройка, обновление… Почему-то распад и гибель страны, Союза нерушимого, непременно облекается в звучные названия. Перестройка – это ведь гимновое нечто. Гром среди неба. Практически пертурбация. А начиналось все так мирно: пере-стройка…
Историческая задача – обновить общество, безнадежно при этом махнув рукой на дремучую, не поддающуюся обновлению природу человека, – решалась без веры в чудеса: кроваво, скоро, хищно и безжалостно.
Это было время историй, историческое время; можно сказать, сама история гуляла напропалую, направляемая тучным бессознательным маленьких людей, сгрудившихся в огромный конгломерат, под кодовым названием народ. Чего-то делили. История – это всегда дележка пирога, когда не хватает даже тем, кто делит, не говоря уже обо всех остальных, которым столько обещано. Что взять с истории, для которой, по мифу, не существует сослагательного наклонения?
По-моему, она только и живет сослагательными наклонениями. Все, что происходит или произошло, могло бы произойти как-нибудь иначе, могло бы и вовсе не происходить. Могло бы не быть. Что толку?
У ничто нет истории; история пустоты – это даже не смешно, ибо нет предмета: над чем смеяться? История о том, как пирог не поделили… Нет, история о том, как два генерала, вышедших из мужиков, пирог не поделили, а мужик при этом остался виноват де юре и в дураках де факто. Это круто.
Под эту историю создали «новую» идеологию: необходимость служить идее была с восторгом отметена «свободным» служением брюху. Старая, как мир, брюшинная идеология была объявлена новым культурным завоеванием. В новую Конституцию Продвинутого Глубоко в Демократическую Зад…, нет, Ц, в смысле Цивилизацию, Общества пунктом Первым занесли главный параграф (теперь уже славянскими иероглифами, рядом с мантрами на латинице): отныне всякий считающий себя свободным имел право – главное право человека (не путать оного с личностью и быдлом) – не думать. Не хочет, значит, не должен. Главной обязанностью свободного человека (см. пункт Второй Конституции) была объявлена повинность смотреть футбол под чипсы, пиво и прикольную рекламу. В перерывах – попсовый мультик или сериал с любимыми «звездами». Че еще? Плодитесь и размножайтесь. Нормальному человеку больше не надо.
Все. Конец истории. Всем спасибо. Все свободны.
Вот такая история.
И эта история маленьких людей, в гордыне называющих себя «простыми», придумала себе королевскую проблему: роль личности в истории. К сожалению, пока что можно говорить прямо об обратном: роль истории малюсеньких людей в деле уничтожения личности. (Вовсе не обязательно писать это последнее, ласковое слово с большой буквы – все равно до этого феномена не дотянешься: это вам не Марс какой-нибудь. Гм-гм. На всякий случай для суперновой гвардии. Марс – это планета, а не шоколадный батончик скверного качества, употребляемый иногда вместо чипсов теми, кто пьет не пиво, а пепси-колу.)
Сколько истории, сколько блошиных, пардон, брюшинных, историй, вмещавших столько всего доисторического!
Все эти истории как-то впитались в меня, обогащая и корректируя мой духовный состав. При этом я вел напряженный диалог с Достоевским, с большим чувством раскрывшим души всех этих простых или, того жальче, ма-аленьких людей. Отверженных. Униженных и оскорбленных. Обиженных и прибитых. Верящих, вопреки всему, в доброе и светлое начало.
Иначе сказать, людей, живших бессознательной жизнью.
Знал бы Федор Михайлович, кого он прижалел. Мой мир не походил на их мир – и тем хуже было для меня: это я жил в их мире, а не они в моем. Будут ли они когда-нибудь жить в моем мире и вкусят ли прелести сознательного существования – неизвестно. Впрочем, это будет уж совсем другая история.
Месиво историй, из которых и состояло вещество будней, составили третий круг моей жизни. Зимний круг. Эти истории, хляби и топи, были в буквальном смысле почвой под ногами, по которой я бродил наощупь, проваливаясь и тут же вскарабкиваясь на новую неверную кочку, чтобы в очередной раз соскользнуть с нее в холодную жижу…
При этом я писал свою историю – историю личности.
3. История первая. У народа Берия не вызывал доверия
Звали его Лаврентий (кличка, изготовленная историей, подобралась быстро: разумеется, незабвенный Берия; если уважительно – просто Палыч). Он был закадычным другом Юрия Борисыча, большим поклонником Элеоноры, а впоследствии также и Марго. Можно сказать, шел по следам Учителя. След в след.
Время, само собой, выбрало этих ковбоев своими героями.
Они затеяли хитроумный (то есть весьма простой: шмотки, сигареты – купи-продай) бизнес и задумали преуспеть, ибо кому, как не им, было процветать в этом муравейнике, населенном жалкими тварями. Раз кругом одни дураки – грех не нажиться на их слабоумии. Не превращаться же в одного из них. Логично?
О то ж… Простая арифметика.
Берии, который сначала работал инженером в КБ и подрабатывал таксистом, а потом работал таксистом и подрабатывал инженером, повезло: старший брат его, Одиссей (имя, ставшее кличкой; кличка от клички – Одя), отсидел за убийство изверга-отца, и теперь вышел на свободу, имея в активе двенадцать лет срока, изъеденное временем честолюбие, подточенное здоровье и виды на нефтяной бизнес.
Разумеется, набиравший силу Одя не забыл о родном братце. Время позволяло брать кредиты, и Берии организовали сумасшедший кредит с таким количеством нулей и под такие смешные проценты, что герои наши вознеслись, словно влюбленные на полотнах Шагала, распираемые адреналином и разучившиеся ходить, – воспарили и над куполами церквей, и над крестами могил, и над городом, и над миром. Надо всем, что шевелится.
В одночасье жизнь Лаврентия (Палыча) и Юрия Борисыча круто поменялась. Кому война, а кому мать родна; кому катастройка, а кому рай, второй этаж ада (скоростной лифт, снующий туда-сюда, вечно перегруженный, к вашим услугам; впрочем, стали появляться и VIP-лифты: мгновенно, бесшумно, всюду благоухание и демоны, в обличье ангелов, под ваши белы ручки с нашим почтением; прогресс не остановить и не ограничить никаким пространством и временем).
Они сняли квартиру (убогую хрущобу для начала – для пробы), зарегистрировали фирму, назвали ее почему-то «Дом Достоевского» (сокращенно «ДД», – «ди-ди», если ласково, или «дабл ди», если необходима солидность) и развернули бурную деятельность. В секретаршах у них стараниями Юрия Борисыча тут же прописалась уже знакомая нам Вика из совкового прошлого, из 11 «Б», у которой была тьма подруг, желающих немало – и немедленно! – зарабатывать, но не желавших много работать. Сама Вика по квалификации и роду одаренности проявила себя как гений по оказанию массы мелких, но удивительно приятных услуг. Такие услуги оказывала!
Юрий Борисыч, наконец-то, понял, для чего он был рожден на свет божий: чтобы жадно наслаждаться чувством презрения ко всей этой копошащейся вокруг мелюзге с рабской психологией, вкалывающей со страху за жалкие пять-десять долларов в месяц. Он где-то в глубине души даже трогательно любил весь этот снующий, находящийся в броуновском движении животный мир (флору и фауну, если по-научному), ибо благодаря ему упивался оборотной стороной чувства презрения – чувством превосходства, процентов на 90 состоящим из чувства свободы.
Комплекс императора: теперь он не понаслышке знал, что это такое. Хочу казню, хочу милую. Впрочем, милую Вику он хотел всегда.
А бизнес творился до смешного легко (отсюда и презрение ко всем, кто не сумел «просечь» этот механизм): купил – привез – продал – купил – привез – продал – купил – привез – продал. До скучного легко. Однообразно. При малейшем сбое в отлаженной цепи компаньоны, Палыч и Борисыч, набирали мобильный (мобильное время породило мобильные телефоны) Одика. А тот с несговорчивыми оппонентами умел считать только до трех. Был нервным. Проблемы решались как по волшебству. Думать об укреплении и разрастании бизнеса, то есть о презренной работе, которую наемные холуи знакомых братков называли креативом, не хотелось: душа стремилась к полету.
Вещества, которым питалась свобода, а именно: денежных знаков, на которых были изображены важные пацаны, тоже президенты, – было в избытке. Стали строить загородные дома, каждому по коттеджу. Недалеко от Минска. В роще. Возле воды. Рай. Престижнее не бывает.
Мало.
Съездили за границу, побывали в Париже, заглянули на праздник пива в Германию. Эйфелева башня показалась прикольной (хотя могла бы быть и повыше), в Германии без языка – не фонтан, даже на фэсте.
Скучно.
Однажды утром им позвонили с незнакомого мобильника: сообщили, что могучего Одиссея убили злые люди. Вот взяли просто так – и убили. На ровном месте. Ни за что ни про что. Суки, а не люди. Берия обезумел. Следующая партия товара им уже не пришла, кредит вернуть они были не в состоянии, Вика стала посматривать в сторону конкурентов (к сожалению, еще одна грань ее разносторонней гениальности: умение держать нос по ветру; талантливый человек талантлив во всем).
Вчера еще незыблемая почва под ногами заходила ходуном. Вероломный Берия почему-то во всем обвинил Юрия Борисыча. Завязалась вендетта: бесконечные разборки, дележ имущества, взаимные претензии; дело дошло до прямых угроз.
Победителем, к несчастью, оказался Юрий Борисыч. По странному стечению обстоятельств, труп Берии отыскал пенсионер по фамилии Кох, выгуливавший собаку по кличке Баски. Подозрение, разумеется, пало на Юрия Борисыча. Все шло по классическому варианту: мотивчик, как говорится, налицо, перепуганный подозреваемый на месте; значит, вскоре объявится и обвиняемый.
Но гримасы иронически оскалившейся судьбы на этом не прекратились. Следователем по делу фирмы «ДД» был назначен добрый знакомый Учителя, его ученик и, не исключено, тайный поклонник Пенициллин. Пеня, он же Вениамин Петрович, встретил Учителя радушно, дал ему закурить (у Юрия Борисовича расшалились нервишки, и малодушные руки сами потянулись к отвратительным сигаретам, которые он импортировал под элитными марками), поднес зажигалочку и сочувственно произнес:
– Ну-с, говорить будем? Как известно, за преступлением неотвратимо следует наказание. Так, кажется, вы нас учили вслед за Достоевским?
– Пеня…
– Вениамин Петрович, гражданин Щеглов.
– Вениамин Петрович… Я думаю, мы договоримся.
– Возможно, Юрий Борисыч. Мы детально обсудим эту тему. Интересно, удалось ли вам сохранить тот изумительный кед, точнее, расплющенную резиновую дубинку, которой врачевали наши заблудшие души?
Изумлению Юрия Борисыча не было границ. Преступление, наказание, любит, не любит, поцелует, плюнет, добро, там, зло – это понятно. В жизни всякое бывает. Но не до такой же степени!
Тут мы и оставим наших героев (ненадолго), сверлящих друг друга по всем правилам буравчика взглядами, почти не скрывавшими яд немых укоров, а то и угроз.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
3
Итак, Раскольников и не подозревал, что весь его тернисто-тёмный путь ведёт в мир светлый. Но повествователь знал это с самого начала, и ни на градус не уклонялся от избранного выверенного маршрута. «Как бы» импровизационность и непредсказуемость поведения постоянно находившегося на грани душевного срыва Раскольникова (в романе более пятисот раз употреблено роковое «вдруг», что отражает «странную» спонтанную логику действия героев) на самом деле жестко предопределена мировоззренческими императивами повествователя. Роман, состоящий из шести частей с эпилогом (что в сумме составляет неслучайное число семь), начинается весьма и весьма многозначительно: «В начале июля (седьмого месяца года – Г.Р.), в чрезвычайно жаркое время, под вечер (где-то в районе семи, в тот час, когда, спустя сутки-другие, будет совершено преступление – Г.Р.), один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».
С самого начала читателя окунают в раскалённое пекло, своеобразную модель ада, причудливо сдабривая действо мистикой библейских чисел, не вполне ясной, но зато вполне «реально» влияющей на происходящее. Двойное отражение реальности, отражение отражения, о котором мы говорили в связи с достоевщиной, с самого начала пронизывает образную ткань произведения, сообщая нервную напряжённость всему стилю, в том числе ритму и синтаксису повествования. « Как бы в нерешимости», впавший «как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы какое-то забытьё», « чувствуя какое-то болезненное и трусливое ощущение , которого стыдился и от которого морщился», молодой человек, ещё не определивший для себя, решился он на «это» или нет, ступил из своей каморки, похожей на гроб, в адскую жизнь.
Если добавить к сказанному, что молодой человек «и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти совсем ничего не ел» и что в таком состоянии он, обуреваемый «безобразною» мечтой, которую « как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил», шёл «делать пробу » «этому» (идти было «ровно семьсот тридцать» шагов), «и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее» – если попытаться все упомянутые обстоятельства принять во внимание, то можно составить себе представление о типе художественности произведения.
«Мечта» неотличима от «предприятия», всё зыбко, неопределённо, неоднозначно, и когда оно как бы есть, то неясно, есть ли оно или, напротив, ничего такого и в помине не было. То ли мерещится, то ли пророчески бредится, будто бы явь, а может быть, как бы сон – вот лучшая почва и питательная среда для перетекания бессознательного в полусознательное и, далее, в как бы осознанное, от которого всего-то один маленький шажок до исходного великого «немого» – океана бессознательного. Балансировка на грани ирреального, впечатление полуяви, дьявольски скользкой амбивалентности – вот чего добивается и достигает повествователь для того, чтобы его «рассказ» отразил больше, чем реальность, а именно: реальность ирреальной природы человека. Писатель вуалирует контртезис подтекста: грубо отразить реальность такой, какова она есть, это и значит исказить её. А вот размывая её полутонами – получаешь некоторое представление о реальности…
О реальности чего, спросим мы, вспомнив о стоящей перед нами задаче научного познания романа?
О реальности фокусов психики, о реальных законах моделирующего сознания, стремящегося всегда раскрасить реальность в близкой ему гамме ощущений.
Итак, экзальтация мгновенно достигает точки кипения, и накал страстей не спадает уже вплоть до последнего абзаца. Добро пожаловать в преисподнюю человеческой души, читатель.
Роман «Преступление и наказание», если угодно, очень и очень художественное произведение. Мы в данном случае имеем в виду не степень художественности, а качество, противоположное научной рефлексии. В романе всегда говорится одно, подразумевается другое, а на самом деле речь идёт о третьем. Подлинный роман как бы утоплен в подтекст, и его смысловой корпус действительно надо извлечь, проделав с этой целью определённую работу. Таким «романом в романе» является скрытое противостояние психики – сознанию. Сдержанное остервенение переживающей свою априорную правоту «души», бессильной при этом против убогой арифметики разума, нет-нет да и прорывается святым гневом наружу, создавая как бы немотивированные конфликты. Будем бдительны.
Раскольников «с замиранием сердца и нервною дрожью» подошёл к дому, где он собирался «делать пробу ». Разговор с малосимпатичной, похожей на бабу Ягу, однако живой старушонкой, которой отводилась роль невинной, но закономерной жертвы в его «предприятии», вверг взявшего было себя в руки студента в пучину такой психологической мерзости, что шокировал переживающего всё наперёд «предпринимателя» и довёл его до состояния психо-физической прострации. «Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице ( вниз! – Г.Р.), он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно поражённый. И, наконец, уже на улице, он воскликнул:
"О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц… "
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице».
Весь отрывок посвящён описанию «невыразимых» чувств: смущению, отвращению, волнению… Если отвлечься от описания ощущений, роман съёжится до размеров бессмертной «Пиковой дамы». Следовательно, чувства и ощущения «сердца», в гибельном экстазе реагирующего на «ужас», пришедший «в голову», и составляют суть романа .
Причём – и это самое главное – не просто описанием чувств озабочен повествователь, а их логикой и динамикой: в результате создаётся впечатление концептуальной глубины. Вот как развиваются чувства далее.
Не надо быть большим психологом, чтобы предположить, что душевный маятник, дойдя до крайней точки, неизбежно качнётся в противоположную сторону. Так и произошло. Раскольников спустился, опять же, «вниз», «в распивочную» – и «тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. "Всё это вздор, сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!.." Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих» (отметим мотив «Раскольников и другие», другие как индикатор «ужаса»: чем «ужаснее» мысли, тем менее дружелюбности и более одиночества).
Однако надо быть уже незаурядным психологом, чтобы так прокомментировать улучшение состояния: «Но даже и в эту минуту он отдалённо предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная». Ведь это значит, что Раскольников предчувствовал (точнее, предчувствовал, что его предчувствия окажутся верны), что глубоко поражён метастазами… чего?
Какое «ужасное бремя» давило на него?
Бремя разума, как мы вскоре многократно убедимся. «Раздавите гадину!» – могло бы стать эпиграфом и девизом романа, ибо сражение с разумом – вот что происходит в каждом фрагменте текста даже тогда, когда происходит всего лишь смена состояний героя.
Мы воспроизвели образец типичного для Достоевского психологизма, направленного на то, чтобы вскрыть последний, окончательно последний пласт в душе, после которого не было бы уже ничего, что могло бы прощупываться «отдалёнными предчувствиями». Многослойно «устроенная» живая душа как-то ненасильственно и вместе с тем с принципиальностью святых старцев сражается с разрушительным вмешательством в её чуткую и благостную ткань инородного тела «грязного» разума. Раскольников, по Достоевскому, был действительно болен, но не в том обычно-естественном смысле, о котором говорим мы, нехудожественные человеки, а в смысле «высокой болезни», которая не поддаётся ни медикаментозному, ни психотерапевтическому лечению: он был инфицирован «преступным» по составу вирусом, который разъедал душу, толкая её к несвойственным ей извращениям. В моменты прояснения душа его «плевалась»: «грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
Но болезнь не отпускала. Почему?
Вот ради выяснения этого жизненно важного обстоятельства и стоило писать роман.
4. История вторая. Ах, Вика, Вика, или Красная Шапочка для Синей Бороды
Забеременев от Юрия Борисыча (или от Берии: тут возможны были варианты: иногда за вечер она позволяла себе переспать сразу с тремя разными, но весьма состоятельными, мужчинами; рекорд был – четыре (пятый просто отрубился); прикольно), Вика поняла, что жизнь преподнесла и ей не самый желанный сюрприз.
Зачем дети молодой амбициозной женщине, привыкшей уже складывать мужчин штабелями у своих стройных ног и ощутившей пьянящий вкус свободы, которую дают деньги (несметные количества которых водятся только у богатеньких мужчин, тех, что в штабелях)? Дети – досадная помеха на празднике жизни. Дети – источник соплей, для начала. Источник трагедии. Комедии. Фу. В общем, эта радость не для приличных людей.
Или дети – или деньги.
То есть – аборт. На абордаж!
Казалось бы, здесь и обсуждать нечего, однако в этой проклятой жизни не все так просто. Было дело, отец Вики требовал от ее мамы сделать аборт (квартиры не было, зарплата – кот наплакал), но мама настояла на своем и родила Вику (за что отец, в конце концов, и полюбил маму насмерть). Если бы мама дрогнула и согласилась на аборт, Вики бы не было. Получается, что у Вики перед жизнью и мамой образовался своего рода должок. Это во-первых.
А во-вторых, у нее был еще один должок перед мамой, которой уже, к несчастью, нет на этом свете. Это давняя история, но почему-то она не забывается. Ее мама во время войны, когда она была еще совсем маленькой девочкой Клавой, попала в концлагерь. Всех детей увозили в Германию, где делали из них подопытных кроликов. Но Клаве повезло: ее спас немецкий офицер – за то, что она напоминала ему его собственную дочь: была такой же белокурой и голубоглазой. У Клавы несколько раз брали кровь, а потом неожиданно выпустили из концлагеря. Если бы Вика родила дочь, девочку с голубыми глазами, она назвала бы ее Клавой. И уже была бы не так одинока на этом свете. А так у нее из близких людей – один замороченный сын покойного отчима, того самого «папы», который когда-то и изнасиловал Вику. Об этом знал только Юрий Борисыч, который вскоре и заменил «папика».
Так что же – рожать?
Нет. С ребенком ты никому не интересна, а без ребенка интересна всем – всем тем, кто интересен тебе, то есть тем, у кого водится бабло. И молодым, и пожилым.
Кстати, о пожилых. Крутится тут один, увивается. Кажется, неравнодушен к бесспорным прелестям. Кличут Синяя Борода или просто Синенький, хотя он похож, скорее, на безбородого Дуремара. Может, родить ему наследничка?
Как говорится, мне ничего не стоит, а ему, лоху, будет приятно.
Вечером того же дня, когда ей вместе с утренней прохладой пришла мысль о наследничке или маленькой принцессе для Синенького, Вика организовала свидание, которое должно было закончиться не банальной постелью, как обычно, а предложением руки и сердца возбужденного кавалера. Все должно было выглядеть как порыв со стороны Синей Бороды. А вот потом постель и – случайная беременность. Все по-честному.
Синенький сдался подозрительно быстро и легко. Это не понравилось Вике. Более того: насторожило ее. Серьезные люди никогда не расстаются так легко с деньгами, гарантирующими свободу.
– Ты согласен стать моим мужем?
– Конечно. Сколько?
– Что значит – сколько?
– Сколько ты хочешь за то, чтобы я стал твоим мужем?
Тут надо было или держаться версии «перед вами оскорбленная невинность, ах, за кого вы меня принимаете», или торговаться до упора.
Вика сделала ставку на оскорбленную невинность. Решила сыграть по крупному: а вдруг удастся и ребенка сохранить, и стать обеспеченной. Как говорится, и рыбку съесть, и…
Где наша не пропадала!
Синенький пожал плечами: невинность так невинность.
Вечером они оказались в его замке. Вика сразу узнала этот незабываемый многобашенный особняк, чем-то напоминающий кремль в миниатюре: еще недавно это было родовое шале бездетного Лаврентия. Она свободно ориентировалась в лабиринтах, неизменно упирающихся в укромные комфортабельные отсеки. В принципе, знала там едва ли не каждый диван.
В большом холле, в центре которого сдержанно пылал камин, сидела мужская компания. Кое-кто из присутствующих кивнул Вике как старой знакомой, остальные просто пялились на нее, как на товар в какой-нибудь занюханной лавке.
Синенький поднял левую руку, указательным пальцем подозвал к себе плотно сбитого охранника, потом вобрал указательный палец в кулак и торчащим большим указал на Вику. Он явно экономил на жестах.
Охранник подошел к Вике и тихим равнодушным голосом, почти не раскрывая рта, предложил:
– Раздевайся.
Вика, зная нравы публики, сказала, обращаясь к Синенькому, ее хозяину, изо всех сил стараясь не разрыдаться:
– Я беременна. У меня будет девочка с голубыми глазами.
– Цена повышается, – сказал после короткой паузы скромно, неброско одетый во все дорогое джентльмен, зябко протягивавший руку к камину. – Я даю десять кусков, Борода.
– Тринадцать, – произнес некто выбритый так гладко, что, казалось, лысину его, начинавшуюся от бровей и заканчивающуюся крепкой шеей, покрыли паркетным лаком в три слоя. Голова его при этом не двигалась, бегали одни большие, как у хамелеона, глаза. Можно сказать, он общался движением глаз.
Синяя Борода ничего не ответил лакированной рептилии, только слегка поджал нижнюю губу.
– Пятнадцать, – сказал джентльмен.
– Пятнадцать и один доллар, – у рептилии глаза сдвинулись до упора влево, в ту сторону, где сидел джентльмен.
– Пятнадцать и два доллара. Думаю, на этом торги мы прекратим.
Синий вернул губу на прежнее место.
После короткой паузы, джентльмен произнес:
– Я вам дарю ее. На этот вечер и эту ночь она ваша. Бесплатно. До семи утра. Только не надо портить товар. Завтра в семь вечера эта куколка будет принимать моих дорогих гостей у Танюшечки. И стоить она будет очень недешево. К утру окупится. Как тебя зовут, лялька?
Вика очень хорошо знала, что бывает, если не отвечаешь серьезным людям. Они сделают с тобой именно то, чего ты больше всего боишься – сделают не моргнув глазом и повторят сделанное ровно столько раз подряд, чтобы тебе и в голову не пришло следующий раз оказывать сопротивление. Не хочешь в анал – будет только в анал. Не хочешь минет – захлебнешься мужской спермой по самое некуда. Это называлось «сделать хороший товар» (ломать волю на корню). А если ты все же не сломалась, тебя прибьют в особо изощренной форме и выбросят на городскую свалку. Бомжи, обитающие там, даже не удивятся.
– Меня зовут Маша, – сказала Вика, улыбаясь своей самой обворожительной улыбкой. – У меня будет девочка…
– Будешь Викой, – ответил джентльмен, зябко, как истинный аристократ, протягивая пальцы к огню.
– Она похожа на Красную Шапочку: сама полезла в пасть к волку, – заметил некто с трубкой в зубах (вылитый Крокодил Гена, только не добрый). – Это уже двадцатая жена Синей Бороды.
– Значит, будет Красной Шапочкой, – решил джентльмен по кличке Серый. – Выпить хочешь? – обратился он к Вике.
– Она же беременна, – округлил глаза лысый. Оказывается, он умел общаться и бровями.
Мужчины смеялись долго и от души.
5. История третья. Мне отмщение, и аз воздам
– Хорошо, – сказал Вениамин Петрович, – я готов рассмотреть ваше коммерческое и, чего греха таить, несколько незаконное предложение. Мне оно кажется интересным. Ради таких предложений честные следователи работают годами. У каждого свой бизнес. Возможно, с вас снимут все подозрения, если вы сдержите свои обещания. Но…
Юрий Борисыч ловил каждое движение худощавого, но физически отменно развитого Пенициллина, от которого – кто бы мог подумать! – зависела судьба Учителя. Воистину неисповедимы пути Твоя… Твои…
А проще сказать – не плюй в колодец, Идиот.
– Но это все возможно только при одном условии.
– При каком условии, Вениамин Петрович?
– Продайте мне тот кед, Учитель. За тысячу долларов. А лучше подарите. С автографом.
– Зачем он вам?
– А вы не догадываетесь?
– Нет.
– Я думал, вы противник поинтереснее. Подумайте, зачем мне тот кед, которым вы меня пороли в юности, который стал для нас символом школы. Можно сказать, знаменем юности. Не ручка, не пенал, не галстук пионерский – именно кед. «Пеня, готовь жопу»: помнишь, Учитель?
– Разве не благодаря мне ты стал человеком?
Юрий Борисыч инстинктом опытного наставника почувствовал, что настала именно та минута, когда следует расшевелить что-нибудь душевное в этом окаменевшем представителе органов правосудия, так сказать, сыграть на струнах души.
– Благодаря тебе я стал тем, кем стал: тем, кого сам почти презираю.
– Как дела у Гудини?
– Лучше всех. Он уже давно на кладбище. Был жалким наркотом и педофилом. Твой кед ему не помог.
– А Вику помнишь? Ты ведь был влюблен в нее. Я мог бы организовать вам встречу… Она выглядит потрясающе.
– Вика рассказала мне о том, как ты ее изнасиловал.
– Это неправда. Ее хотел изнасиловать отчим. Он с восьмого класса предлагал ей стать его любовницей.
– Вика доверилась тебе, а ты как благородный человек воспользовался ситуацией.
– Если говорить начистоту, то она меня любила.
– Ей было просто плохо в то время, она запуталась и ничего не понимала. А ты трахал ее и заставлял делать аборты.
– Это она тебе рассказала?
– Ты трахал ее, а я стоял под стенами школы и плакал. Я все знал.
– У нас был роман. Я не виноват в том, что она любила меня, а не тебя.
– Она тебя боялась. А ты пользовался этим.
– Хочешь сказать, что ты бы на моем месте поступил иначе? Почему же ты на ней не женился, мистер честь и достоинство?
– После общения с тобой она боялась верить даже себе. Ты просто сломал ее. Она не могла даже мечтать… Ты хоть представляешь себе, что ты с ней сделал?
– Получается, во всем виноват я. Я – монстр, палач, убийца. А вы все – просто ангелы.
– Ты не монстр; ты ублюдок.
– Ладно. Пусть будет ублюдок. Хоть горшком назови – только в печь не ставь. Какой смысл ругаться? Это не я такой; это жизнь такая. Давай вернемся к моему предложению. У тебя же все хорошо в жизни. Скоро ты станешь состоятельным человеком, мы откроем новое дело. У меня сохранились связи… У тебя дети есть?
– Дела здесь начинаю или закрываю я, и только я. И вопросы задаю тоже я. Теперь мы заключим пари на моих условиях. Я тебе пропишу десять «горячих», и если ты выдержишь их, я дам тебе шанс скрыться, умотать из страны. Как в детской игре, помнишь? Кто не спрятался – я не виноват.
– А если я не соглашусь?
– Я посажу тебя в камеру, где тебя «опустят» за десять секунд по полной программе.
– Я согласен. Конечно, я уеду.
– Но сначала я получу свои деньги. Завтра. Много. Много – это что-нибудь с пятью нулями.
Пеня выбросил перед собой руку с растопыренными пальцами.
– Торговаться нет смысла, Учитель.
– Как же я организую вам деньги и кед, если я сижу в кутузке, Вениамин Петрович?
– Это твои трудности. Сила воли плюс характер, старина. Выше знамя советского спорта.
– Но как, Вениамин Петрович, как?!
– Я позволю тебе сделать пару деловых звонков. А там – пеняй на себя, – сказал тот, кто некогда был просто Пеня. – Свободен.
– Кстати, – вонзил он бумеранг в спину Учителю, – у меня есть дети. Двое пацанов. И я луплю их от бессилия так, как порол нас ты. Чему их учить, а? Может, ты знаешь? Они вырастут, и им, по крайней мере, будет кого ненавидеть: меня. Вот за это ты получишь своих десять «горячих». Желаю тебе выжить.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
4
Раскольников, как мы уже говорили и ещё не единожды будем говорить, по своей душевной отзывчивости, «христианскости» был человеком уникально одарённым, что в романе признавали самые чуткие или прозорливые люди. Вспомним реакцию Сонечки, этого ни разу не сфальшивившего христианского камертона: «Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.
– Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на неё:
– Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это . Себя ты не помнишь.
– Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике».
Смысл её бессознательных истерических причитаний прост, как вера с точки зрения психоаналитика: он совершил преступление именно потому, что по натуре своей исключительно чист и непорочен. (Вспомним: Наташа Ростова поступила «дурно» в истории с Анатолем Курагиным именно потому, что она была очень хорошим человеком.) Это всё шпильки в сторону заносчивого разума: умом, дескать, не понять, а на колени встать хочется. И то, что «непонятно», но «хочется» – становится составом «наказания».
Может быть, ещё более впечатляет характеристика праведника с червоточинкой, с душевными окаменелостями (Петр – «камень» (греч.)), умного следователя Порфирия Петровича: « Изверились , да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы ещё и жили-то? Много ль понимаете-то ? Теорию выдумал , да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то всё-таки не безнадёжный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошёл. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. (…) Знаю, что не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте: отдайтесь жизни прямо, не рассуждая ; не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почём знаю? Я только верую, что вам ещё много жить. (…) Ещё бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!»
Между прочим, Порфирий Петрович в одном, далеко не самом продолжительном своём монологе, выболтал всю концепцию романа. Больше-то и добавить нечего. Но – обратим внимание – концепция выболтана тогда, когда художественно она уже воплощена. Откристаллизованные Порфирием смыслы растворены в ткани романа, придавая ей некий интеллектуальный отлив. Достоевский, конечно, прав; не будем и мы путать концепцию как таковую с романной концептуализацией, философию с литературой, психику с сознанием, разум с душой; не будем выяснять, что лучше : именно такая постановка вопроса и оглупляет роман, а вовсе не отсутствие подлинной философии. Требовать от романа ума – это в свою очередь глупость. Но это так, к слову.
Итак, именно то, что Раскольников по своим задаткам и был рыцарем милосердия, подвигнуло его на идейную «подлость». Холостые диалектические обороты мыслей, знакомые уже нам по роману «Война и мир», очертили тот порочный круг, который Раскольников собирался разорвать при помощи всё той же мысли. И если исходить из того, что мир устраивается волею и возможностями людей, то Родион Романович был прав. Он был прав до тех пор, пока не выздоровел, не прозрел и не принял как должное, что мир устроен иначе, не людским хотением и произволом, а тем, что Сонечка называла «что ж бы я без бога-то была». Вот эта надуманная правота и была преступлением Родиона Романовича. Преступление его состояло в том, что он безотчётную веру решил заменить на регуляцию от ума , и тем самым разорвать порочный круг (глупым умом же и заданный). Иначе говоря, само вмешательство в фундаментальные принципы мироздания и есть преступление, неверие же в Бога – преступление преступлений.
Ведь что произошло: Родион Романович Раскольников не вынес страданий других. Он несколько раз был на грани решительного срыва, отказа от логической каторги, но страдания «униженных и оскорблённых» питали его преступную «предприимчивость». Вспомним: увидев живую старуху, которую предстояло убить, Раскольников уже почувствовал, что готовит себе Голгофу. Он готов был отказаться от преступных замыслов, следуя, как Сонечка, непосредственным движениям души («отдаться жизни прямо, не рассуждая»), но на беду (или к великой радости?) он знакомится с несчастным семейством Мармеладовых…
Под пером знающего своё дело повествователя судьба маленького человека и ничтожного чиновника, титулярного советника Семёна Захаровича Мармеладова превращается в притчу обо всех обездоленных, которым просто «идти больше некуда». Сладкая фамилия Мармеладов иронически подчёркивает горечь и беспросветность его положения, его «скотское состояние». Старшая дочь его, Сонечка, уже на панели, две других дочери, шести и девяти лет, очевидно, стоят в очередь туда же. Жена Катерина Ивановна, «из благородных», сгорает в чахотке. Дилемма, замыкавшаяся в железный порочный круг, была проста, как решение Сони стать проституткой: является ли преступлением помощь «мармеладовым», даже если помощь эта может быть оказана только ценой реального преступления? Разве сделать вид, что «мармеладовых» не существует – это не преступление, может, ещё более мерзкое, ибо бесчеловечное бездействие есть форма согласия на массовое истребление беззащитных?
Всё это повествователь позднее определит как «тоску», которая «нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Прав, конечно, был Порфирий Петрович (или монологически сработанный роман: это уж кому как угодно).
Если переводить «общие» рассуждения в конкретную плоскость, то на одной чаше весов оказывается жизнь кряхтящей «сухой старушонки» «с вострыми и злыми глазками» и «белобрысыми», между прочим, «мало поседевшими», «жирно смазанными маслом» волосами, «тонкой длинной шеей, похожей на куриную ногу»; на другой – жизни «скорчившейся» маленькой девочки, спящей на полу, дрожащего и плачущего мальчика, другой девочки «в одной худенькой и разодранной всюду рубашке», «с большими-большими тёмными глазами» на «исхудавшем и испуганном личике»…
Да, ещё, пожалуй, к ним следует присовокупить Катерину Ивановну, «особу образованную и урождённую штаб-офицерскую дочь», «тонкую, довольно высокую и стройную, ещё с прекрасными тёмно-русыми волосами», «запёкшимися губами» и «чахоточным взволнованным лицом».
Да, ещё Соню, «дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала», что вынуждена «наблюдать» «особую» чистоту.
Да, не забудем и отца её «земного, пьяницу непотребного», который «стащил» у дщери последние тридцать копеек себе на похмелье, и пьёт, мучая себя и других.
Если разумно разложить ситуацию, то «преступное» перераспределение средств (тем более нажитых малопочтенным ростовщичеством, тем более завещанных монастырю), конкретная «адресная» поддержка вовсе не кажутся таким уж преступным «предприятием».
И душа, уязвлённая доводами рассудка, опять обрекает себя на мучение в «преступной» (в этом всё дело!) системе координат.
С точки зрения психологии, слишком ранимая душа, защищаясь, оборачивается в определённом отношении холодной расчётливостью и преднамеренной жестокостью. Но Достоевского интересует не психология вообще, а христианская психология, то есть психология, приспособленная под определённую систему ценностей, сросшуюся с ней, где законы нормальной психологии подчинены императивам абсолютов: милосердия, добра и т. п. В такой ситуации остаётся только всех жалеть – и больше ничего.
Раскольников с его нормальной, избирательной жалостью, был, конечно, ненормальным в мире, поставленным с ног на голову. Вот этот фокус – радикальную смену координат, проведённую явочным порядком на том простом основании, что абсолюты не нуждаются ни в каком и ни в чьём обосновании и никогда не меняют своего «хорошего» содержания, – исследователи Достоевского предпочитают не замечать. А в этом-то и есть вся суть вопроса. Переверните всё с головы на ноги – и перед вами окажется «пустой», бессодержательный роман. В романе было то, что могло бы быть, если бы… Если бы у меня была волшебная палочка, то…
Никто не сомневается, что мир поменялся бы в лучшую сторону. Но волшебных палочек не бывает, тогда как в «Преступлении и наказании» несбыточные волшебные пожелания априори приняты за точку отсчёта в неволшебной, земной, «гадкой» реальности.
Фокус-с.
6. История четвертая. Обыкновенная история
На следующий день Пенициллин, он же Вениамин Петрович, получил обещанные пять нулей «наличкой», а также видеописьмо – кассету, на которую был записан монолог Вики, снятый на видеокамеру.
Вика выговорилась всласть. В одной руке у нее была бутылка, в другой сигарета. Она не позировала, и даже не плакала. Она вспомнила свое детство, долго говорила о своем отце Вилене, которого убила местная шпана недалеко от школы им. Ф.М. Достоевского. Его убили за то, что он любил свою жену, маму Вики, Клавдию Семеновну. Надо же было такому случиться, что местный авторитет (кличка – Кабанера) всю жизнь ревновал соседку Клавку к ее собственному мужу. Кабанера, возвращаясь на постылую волю после очередной отсидки, просто не мог видеть Вилена, который запросто спал с Клавой. Он воспринимал само существование Вилена рядом с грудью, животом и бедрами Клавы как личное оскорбление. Уверенная походка прораба Вилена, его манера прикуривать (огромные ладони неторопливо укрывали пламя от спички, которое разгоралось и трепетало), молча смотреть в глаза собеседнику просто доводили Кабанеру до бешенства.
Вилена убили. Кабанера издох где-то в лагерях. Клавдия Семеновна вышла замуж за известного скульптора Филиппа Кудесника, некурящего, носящего аккуратную бородку на удлиненном лице. Мама ненадолго расцвела, а для Вики началась двойная жизнь. Черная полоса наступила тогда, когда она пошла в восьмой класс. Филипп просил ее позировать для скульптуры, которая должна была украшать фасад физкультурного института.
– Я не буду, – сказала Вика.
– Вика, ты должна помочь Филиппу, – уговаривала ее мать – Это крупный заказ, у нас появятся хорошие деньги.
– Посмотри на мальчиков, которые тебя окружают, – говорил Филипп во время сеансов, трогая ее за подбородок своими холодными пальцами. – Прыщавые, нечистоплотные, похотливые. Шваль. Скоро ты отдашься одному из них в грязном подъезде. И у тебя заберут то, в чем они ничего не понимают, девочка моя.
– Вам-то какое дело? Это моя жизнь. Буду распоряжаться собой, как сумею.
– Мне за красоту обидно. Ведь со мной будет все иначе. У тебя появятся деньги, красивая одежда, тебе все будут завидовать.
– Вы мерзкий тип. Почему вы не боитесь, что я обо всем расскажу маме?
– Не смеши меня. Мама тебе не поверит. У тебя сейчас такой сложный возраст. Вы все врете, выдумываете, фантазируете. Нежный возраст. И потом… Здоровье мамы пошатнулось, ее нужно беречь. Разве не так? И потом… Если разобраться, я не предлагаю тебе ничего плохого. Ты узнаешь страсть зрелого, внимательного мужчины. Я подготовлю тебя к жизни во всех смыслах. А жизнь, деточка, – это сплошной курятник: надо забраться как можно выше, чтобы клюнуть ближнего и обосрать нижнего. Не хочешь думать о себе – подумай о маме. Зачем мне увядающая больная женщина? Мне нужна ты.
Во время войны мама, тогда еще маленькая светловолосая девочка, оказалась в гетто недалеко от городка Любча, что на Гродненщине. Она уцелела только потому, что оказалась похожей на дочь немецкого офицера. Он доставал фотокарточку, плакал пьяными слезами, гладил маленькую Клаву по голове и что-то бормотал на страшном языке, тыкая пальцем в глянцевое фото. Однажды утром маленькую Клаву вытолкали из гетто, и она, даже не удивившись, пошла в деревню искать свою маму. Сзади раздались крики, потом выстрелы, опять дикие крики, команды на страшном языке и опять гром выстрелов. Клава побежала, не оглядываясь. Она боялась даже плакать. Она летела по кочкам, и ощущение упругого ветра, который она раздвигала своим худеньким тельцем, осталось с нею на всю жизнь (в ее снах всегда дул тот самый ветер). Потом она спряталась в темный курятник и просидела там трое суток, боясь высунуться наружу. Выжить-то она выжила, мир не без добрых людей, но вот здоровье осталось где-то в гетто, в курятнике, в холодных комнатах детдома.
А потом мама встретила папу.
А потом…
Однажды Вика вернулась со школы в спортивном трико и спокойно сказала Филиппу:
– Маме нужны дорогие лекарства, сами знаете, какие. Ей нужна операция на сердце, а после этого – восстановление и санаторий. Сделаете это – получите то, что хотите.
– Нет, детка, сначала я получу тебя.
– Сначала – удачная операция. А потом вы будете жрать меня до тех пор, пока не подавитесь. Хотите меня – молитесь на здоровье мамы.
– Ты начинаешь торговаться – это нехорошо.
– А соблазнять падчерицу – это хорошо?
В этот вечер она впервые позволила Пене поцеловать ее и погладить ей грудь. А на большее он не отважился. У нее же чувств еще не было.
Здоровье мамы постепенно шло на поправку. Ночью Вика плакала, после того, как Филипп переставал ее ласково терзать (он любил наслаждаться ее позами при свете роскошной чешской люстры; она же – вот дура! – из непонятного чувства приличия старалась предстать в наиболее выгодном ракурсе), а утром свысока (презирая себя за это еще больше) смотрела на одноклассниц и загадочно улыбалась: ей казалось, что она столько знает о жизни, о мужчинах, о тайнах тела и души. Юрий Борисыч сразу же заметил перемену в ее поведении и прилепился к ней, как пес к сучке, нашептывая на ухо такое, от чего ее подруги попадали бы в обморок мокрыми курицами. Ее действительно не смущали похабные реплики Учителя – а его самого реакция юной женщины и ее разгоряченное после уроков физкультуры тело доводили до исступления. Вика почувствовала свою власть над мужчинами. Назло Филиппу она готова была переспать с кем угодно, чувствуя, что именно этим может причинить своему палачу настоящую боль. Ей хотелось отомстить ему, устроить ему адово пекло, пусть даже ценой еще большего презрения к самой себе. Сама мысль о том, что она поневоле верна Филиппу, что она его женщина, что она остается его «чистой девочкой», доводила ее до ярости. Ей хотелось стать грязной шлюхой, чтобы только досадить Филиппу, а еще лучше испортить ему жизнь.
С Филиппом же творилось что-то странное. Наверное, он действительно начинал любить Вику, боготворить ее, и потому начинал страдать. У него тряслись губы, она читала обожание в его светящихся виноватых глазах. Он был счастлив, когда они были вместе, и начинал ревновать ее, когда она долго не возвращалась из школы. В его мастерской на видном месте стояла скульптура обнаженной Вики (которая, сказать правду, ей очень нравилась).
А Вика думала только о том, что лучшего момента для мести и придумать невозможно.
Ей не хотелось втягивать в свою нечистую авантюру Пеню, который казался ей маленьким мальчиком с большими мечтами. Он даже не предполагал, в каком мире жила его Вика, которой при слове «любовь» хотелось хрипло смеяться и грязно ругаться. Но с Пеней она себе этого не позволяла.
А Юрий Борисыч… Многие девчонки были в него влюблены, о нем ходило столько сплетен. Лестно видеть у своих ног этого сильного человека. Он ей не нравился (она вообще не могла себе сейчас представить, как могут нравиться мужчины), но отношения с ним могли быть только грязными, а лучше этого подарка для Филиппа и придумать было невозможно.
Конечно, это должно было случиться рано или поздно.
– Вика, зайди ко мне в кабинет, – властно бросил на ходу Учитель.
– Зачем? – спросила Вика, вытирая пот со лба. Настроение у нее было замечательное: они только что выиграли в баскетбол у соперниц из 10 «А». К тому же на дворе стоял май.
– Ты мне нужна как женщина. Надо забрать мячи из женской раздевалки.
Он блеснул своей знаменитой улыбкой.
– Хорошо, – ответила Вика как послушная ученица. – Когда?
– Сейчас.
– Хорошо. Переоденусь и зайду.
– Не надо переодеваться, – сказал Учитель, не в силах отвести от нее тяжелого взгляда.
– Хорошо.
Учитель закрыл кабинет и быстро повернулся к ней. Ни слова не говоря, сорвал с нее майку и бюстгальтер. Тело было влажным. Плотные девичьи груди слегка подрагивали. («Какая форма!» – стонал всегда Филипп; она сопротивлялась тем, что отдавалась ему покорно, отвернув голову и не закрывая глаз. Ей казалось, именно так поступают бесчувственные проститутки. Хотя в последнее время дыхание ее уже сбивалось и глаза закрывались сами собой. Где-то глубоко внутри зарождалась нежность. Она злилась на себя и заставляла сердце биться ровно. Но это возбуждало еще больше… Вика научилась выдавать свое возбуждение за раздражение. Иногда она верила самой себе.). Она улыбалась и тоже молчала. За стеной галдели школьники: бурлила большая перемена.
– Снимай все. Мне нравится, когда в шаге от нас бегают люди, не подозревая о том, что творится за дверью. Добавляет адреналина.
– Я уже почти голая.
Учитель толкнул ее на диван, схватил ее за волосы, попыхтел немного и вошел в нее с отвратительной силой. Борода Филиппа показалась ей приятнее усов Учителя. Вика стала злиться и пыталась думать только об одном: как она придет домой и во всех подробностях выложит все гнусному Филиппу. Она попыталась сосредоточиться на новых ощущениях, но Учитель сделал ей так больно, что в голове у нее помутилось и слезы сами выступили на глаза. Он кончил яростно и быстро. Ее тело в этот момент напряглось и одеревенело. Внутри все горело.
– Больно? – спросил он совсем не интимным, а тренерским тоном, словно на уроке. Так он общался на спортивной площадке, когда у его воспитанниц не получался бросок в корзину. В его тоне была грубоватая ирония.
– Очень больно, – сказала Вика, которую просто трясло. – У вас очень большой член.
То, что было у Филиппа, показалось ей просто идеальным.
– Я знаю, – сказал Учитель грустно и совсем без улыбки. – Маленький член – маленькие проблемы, большой член – большие проблемы. Со второй женой из-за этого развожусь. Она не спит со мной уже целый год. Не могу найти себе женщину по размерам, понимаешь? Целая катастрофа. Второй раз любая баба мне уже не дает. Проклятье какое-то. Вот и ты тоже мокрощелка оказалась. А жопа большая…
Ей стало жалко Учителя.
– Девчонки только и мечтают, что о больших габаритах…
– Дуры вы все. Что вы знаете о больших достоинствах? Ничего еще в жизни не видели. Самое большое достоинство – это все в меру.
– Хотите, я сделаю вам все до конца по-другому? Только не входите в меня больше. Пожалуйста. Мне больно…
– Ладно, будешь сосать. А тебя кто трахает? Отчим? Так я и думал. Давай, выкладывай. Я никому не скажу. У него, наверное, поменьше моего?
Она заплакала. Ей стало так плохо, как не было еще никогда в жизни. Хотелось пожаловаться Филиппу, найти у него защиту и одновременно сделать ему больно, очень больно.
Дома у нее поднялась температура, и ее забрала скорая.
– Что случилось? – спросил осмотревший ее гладко выбритый врач. – У вас, девочка моя, сплошные разрывы. Вас не изнасиловали? Уже третья школьница за неделю.
– Нет.
– Будете рассказывать, что случилось?
– Нет.
– Я вынужден сообщить об этом происшествии в милицию.
– Не надо. Пожалуйста. Я была с любимым человеком.
– Надо аккуратнее, девочка…
Вечером в больницу приехал Филипп.
– Что случилось?
– У меня открылось кровотечение. Может, потому, что ты меня насилуешь каждый день, может потому, что у моего нового любовника член оказался в два раза больше, чем у тебя. В два раза, представляешь? Но мне было очень сладко. Я наконец-то почувствовала себя женщиной.
Глаза ее лихорадочно горели. Филипп ничего не сказал. Он молча встал и вышел из палаты. Вика проплакала всю ночь.
У Филиппа случилось два инфаркта подряд. Больная Клавдия Семеновна ухаживала за ним до самой его смерти. Но обнаженную скульптуру Вики не простила ему никогда.
После этого Вика стала просто бояться мужчин. Все эти истории о сладкой интимной близости, о небывалых восторгах стали казаться ей выдумками. Кроме того, она забеременела от Учителя и вынуждена была сделать аборт. Слова любовь, муж, женское счастье потеряли для нее всякий смысл. Она сделала аборт любви: вырезала зародыш чувства на корню. Пене как лучшему другу она поведала об этом без утайки. Он хотел стать ее любовником. Она не согласилась.
– Теперь я проститутка, Пеня, – говорила она в камеру, допивая бутылку. – Я опять беременна. Меня имеют по пять козлов за вечер, Пеня. Я дорогая рабыня. Помоги мне вырваться отсюда. Это хуже гетто. Тот немецкий офицер кажется мне образцом гуманизма. Вот тебе адресочки… Вот тебе имена и клички… А может, не надо мне помогать? Сдохну – и все. А, Пеня?
Она долго сидела перед камерой, опустив лицо.
– Помнишь нашего учителя литературы, Германа Романовича, нет, кажется, Львовича? Он был хорошим. Честным. Хотела бы я спросить у него: зачем писать книги, если человек такое говно? А Филипп меня любил. Может, я зря от него ушла? А? Самое страшное, мне кажется, что и я его полюбила.
Вениамин Петрович взял кассету и пошел к начальству.
– Забудь об этом, – произнес полковник тихим голосом и одними гласными звуками. Особый навык: если бы их записывали враги с расстояния одного метра, никто бы ничего не разобрал. – Забудь о том, что видел и слышал. Ничего не было. Понял? Иначе нам с тобой не сносить головы. Понял? Ты хоть что-нибудь понял, капитан?
Пеня вышел из кабинета начальника и направился в камеру к Учителю.
Через пару часов надзиратели, влетевшие в кабинет капитана на звук выстрела, обнаружили два трупа. Заключенный, превращенный огромным резиновым кедом в кровавую отбивную, еще хрипел, но был без уже памяти. Его палач, забрызганный кровью, застрелился. Предсмертной записки не оставил.
Почему заключенный Щеглов Ю.Б. не издал ни звука, пока его избивал следователь Родионов В.П.? Помощь была рядом, за дверью. Заори, как мужчина, как раненный вепрь, и жизнь спасена. Зачем было терпеть и молчать?
Для всех это было неразрешимой загадкой.
7. История пятая. Философ на свалке
– Сеня, как так получилось, что ваш Бог воскрес вместе с развалом СССР? Боги уже давно облюбовали себе обломки империй. Задворки. Они живут на свалках истории. В очагах разложения.
Я был язвителен и беспощаден. Сеня Горб смирно сидел на лавке у покосившегося забора.
– Ты же был умный мужик, Сеня. Что случилось? У меня такое впечатление, что кто-то из нас двоих сошел с ума.
– Если угодно, можешь считать меня действительно сошедшим с ума. Я поумнел настолько, что отошел от ума, перестал делать ставку на разум человека. Остается душа, Герман. Сошедший с ума, обретает душу. В ней великая истина и правда.
– В чем правда, Сеня? В том, что мир свихнулся, и это хорошо?
– Оставь свой ум, Германн, посмотри правде в глаза. Живи малым, маленьким, малюсеньким. Именно этим велик человек.
Он повел рукой, предлагая разглядеть великое в малом. Ржаво-рыжее светило, щеголяя каленым малиновым отливом, лениво сползло за горизонт. Бледно-желтые, ярко-желтые и оранжевые бархатцы в малиновых лучах замерли, словно завороженные; белые хризантемы, кокетничая каждым лепестком, также застыли, гордо вскинув свежие ухоженные кроны.
Солнца не стало. Все сразу же поскучнело и окуталось легким мраком.
Все свершилось так, словно было неотразимым аргументом в пользу новой Сениной философии.
Он продал свою городскую квартиру и жил теперь в большой деревне, где над местностью возвышалась недавно возрожденная церковь. Выращивал только цветы. Удил рыбу. Молился. Читал по-прежнему много.
– Ты уверен, что не испугался самого себя, Сеня? Когда мы с тобой возились в кочегарке, в самом кромешном аду, – черный уголь, кровавое пламя – нам казалось, что стоит нам всплыть на самый верх, и мы будем в дамках. Мы не боялись верха, потому что нас не сломал низ. Но ведь многие всплыли кверху брюшком. Не выдержали испытания свободой, деньгами, славой. Критиковать социальные пороки – еще не значит разбираться в человеке. Люди не поменялись, Сеня. И знаешь, какова их константа? Глупость. Глупый человек всегда живет в аду.
– Варлам Шаламов считал, что ад – это тюрьма; Сергей Довлатов полагал, что ад – это мы сами. Я же считаю, что и рай – это мы сами.
Он вновь повел рукой, напоминая какого-нибудь великого схимника.
Меня этот жест стал раздражать.
– Спутать рай с адом может только бывший умник. Рай – всего лишь форма ада. Я считаю, что ад – это психика, вооруженная интеллектом, которая возомнила себя разумом. Ад есмь вотчина глупости. Интеллектуальный болван все превращает в ад. Рая на земле вообще не существует; зато есть нечто большее: счастье.
– Ты стал злым. Это и есть лучшее доказательство того, что ты не прав. Я тоже когда-то был злым.
– Сейчас ты стал добрым, и это, разумеется, лучшее доказательство того, что ты прав.
– Я не столько добр, сколько гармоничен. До добра мне еще далеко.
– Ты не столько гармоничен, сколько благостен. И это форма классической капитуляции личности. Слабоумие.
– Злость, блеск ума, железно-стальная логика… Багровое пламя… Это все мы уже проходили. Это разрушительно. Надо быть добрее, полагаться на интуицию и постигать сердцем. Слабый ум – не порок.
– Скажи уж прямо: слабый ум – пророк. Поклоняться идиотизму… Дожили… А по-моему, нет ничего более разрушительного, чем благоглупость. По Сеньке и шапка… Извини. Мне так обидно терять единомышленника. Почти друга. Духовного собрата. Я остаюсь совсем один.
Он в третий раз повел рукой, давая понять, что если чувствуешь себя одиноким в мире, где царит несравненное благолепие, – пеняй на себя, на свой ум.
Этим мирным жестом он жестоко вышвырнул меня из своей жизни. Нам оставалось только по-джентльменски завершить партию, в которой каждый из нас считал другого безнадежно проигравшим, даже если каждый из нас получал мат. Два человека сидели на шаткой скамье как положено – на пятой точке. Однако мне казалось, что Сеня сидит вниз головой. Он, не сомневаюсь, также видел лапти вместо моей головы.
– Что ты сейчас читаешь? Что вообще сейчас читает продвинутая русскоязычная интеллигенция? – спросил я как вежливый, воспитанный человек, владеющий навыком искусно поддерживать светскую беседу.
– Это смотря куда продвинутая: на запад или вглубь, в почву. Демократическая интеллигенция или ничего не читает, или читает Вальзера. Преимущественно Роберта Вальзера. Иногда Людмилу Улицкую. Недавно я вот грешным делом заглянул в роман Эльфриды Елинек «Пианистка», да, да. Недемократическая интеллигенция тоже ничего не читает, потому что читать ей нечего. Почва перестала плодоносить. Смотрят фильмы Михалкова.
– А как же Солженицын?
– А что Солженицын? Вещает…
– Александр Исаевич, при всем уважении к его отвращению к успеху, сильно смахивает на удачный христианско-социальный проект. Это не судьба – а именно спланированный и просчитанный проект. Гений долговременной конъюнктуры. Писатель неплохой, но уж, конечно, не гениальный. Отнюдь, что бы он там о себе ни возомнил и как бы ни убеждал в этом других.
– Ты, я вижу, специализируешься на том, чтобы не стесняться в выражениях. Хотя… Во многом я с тобой согласен.
– Забавно слышать от тебя такое, – сказал я. – По-моему, Солженицын феноменально неинтересный человек. Героическое начало его сгубило.
– По поводу твоей лютой неприязни к героике я готов с тобой поспорить.
– С некоторых пор я не спорю. Вообще. Ни с кем. Ни по какому поводу.
– Ты? Да ты только и делаешь, что полемизируешь и воюешь. Со всеми, по каждому поводу.
– Это только кажется. Форма подачи материала такая. На самом деле меня волнует философия позитива, и мало трогает мнение тех, кому кажется, что они способны иметь мнение. В этом смысле я не интересуюсь диалогом. А ты, я вижу, зря время не теряешь. Ты остался демократом, я правильно уловил?
– Я остался верен себе. Читал и твою спорную работу о Никите Михалкове. Зло написано, потому и талантливо. Это все привлекательность зла. От лукавого. Михалков, конечно, не демократ, его надо бы пожурить; но я не пойму, с какой стороны ты дуешь… Ты тоже не демократ. А я сейчас стихи пишу [1] …
– Почитай свои стихи, Сеня Горб.
И он сразу же без рисовки стал колдовать тихим голосом, растворяясь в вечернем сумраке, лучше сказать, вписываясь согбенным силуэтом в обретающий плоть мрак. Создавалось впечатление, что это импровизация, что стихи рождаются сию же секунду моим соседом – милым бубнящим привидением. Нас приветствовала с небес холодная пятиконечная звезда Пентагон (это было мое маленькое астрономическое открытие, которое, само собой, никто в упор не замечал). Рядом с Венерой, наискосок от Марса, крупнее Сириуса, алмазом в семьсот каратов. Не видите? Оставьте микроскоп, наденьте очки, загляните к себе в душу. Видите, мерцает в пустоте?
Но что же это делают со мной?
В какие игры пробуют вовлечь?
И марсианский опыт за спиной,
И русская взыскующая речь.
Но псевдо-людям нужен лже-язык.
У рас и наций редкостный задор.
И будущее – черный грузовик,
Гремящий, заползающий во двор.
Ползет продолговатый небоскреб,
Скрежещет, как Вселенная в тоске,
Похож на непонятной формы гроб
С табличкой на ничейном языке.
Шизоид возомнил, что он – пророк,
Пророк уверен: он с ума сошед.
Из чьих расщелин, из каких берлог
Трепещущая явь вползает в свет?
Мир долго собирался стать иным,
Но стал таким же – все наоборот.
Я притворялся тяжелобольным
За гаснущий в агонии народ,
За гибель рода в море выпивох,
За полное лишение примет.
Но в свете параллельности эпох
Моей болезни оказалось – нет.
И, пустомеля из числа притвор,
Я буду в неизбежности изъят
Из нынешних, учетных, этих пор
Перемещен в «ничто» – и буду рад.
– Еще?
– Еще.
Будет время – себе не простишь
Ни минуты, что прожита зря.
Заалела заря из-за крыш,
Из-за крыш заалела заря.
Изнурительный запах жилья:
Провоняли людские дома.
В закромах суматошного «Я»
Замирают остатки ума.
Бу-бу-бу, бу-бу-бу: я здесь отвлекся на свои мысли, которым было задано поэтическое направление. И вдруг Сеня заставил меня вслушаться:
Не имею ни смысла, ни сил:
Тает сердце, легчайший кристалл,
Словно дождь моросил, моросил
День и ночь – а к утру перестал.
– Еще.
Бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу…
В артели – районной, не минской,
Бродячей, без точного места,
Пошью себе хвост сатанинский,
Зеленое чувство протеста.
Бу-бу…
Маленькие, никчемные людишки! Скромняги, вашу мать! Сколько же понадобилось таланта и усилий, чтобы выразить свою малость! С ума сойти! Это же надо умудриться так бездарно скроить судьбу, чтобы профукать жизнь. Где самое главное в жизни? Где дерзкие мечты, любовь и «познай себя»? Где когито эрго сум? О любви мы не пишем, о любви писать тяжело и страшно. Ответственно. Масштабно. Чтобы испытать это чувство, надо иметь много силы. Это культурный подвиг. Мы вот забились в щель со своей карманной лирой и гениально прозябаем, ловя лунные лучики. Щелевое поколение, утерянное поколение, закатившееся, словно грязный резиновый мячик, в темный пыльный угол. Хотя – что такое поколение?
Демографическая волна. Она смело смывает предыдущие останки и сама растворяется в песке с грустным шипением, оставляя после себя серенькую пену, – которую накрывает следующая волна, бессмысленно энергичная. Поколение рождено, дабы родить личность, культурное оправдание поколения. Нет личности – прощай, волна. Здравствуй, грусть.
Раствориться в волне, в порыве ветра, в шелесте дождя, в запахе ирисок… Это позволено только тому, кто сумел стать личностью. Это надо заслужить. В противном случае – это форма капитуляции. Паскудство. Унизительное проявление слабости человеческой.
Тоже мне, нашел форму протеста: любоваться дождичком в чистый четверг. Четвертого числа, в четыре с четвертью часа…
Маленькие чувства рождают великую ложь – протест против культуры. А это самое большое преступление из всех известных человечеству (которое по досадному недоразумению, рассеянности или близорукости евангелистов не внесено в перечень Библейских смертных грехов). Вы ведь спутали преступление с наказанием, великий Федор Михайлович, да, да, – и так лихо замели концы, что легиону интеллектуальных инквизиторов вовек не распутать. Вы и есть Раскольников от культуры, вы ведь свой портрет написали, чей же еще. Иначе откуда столько страсти и огня? Духовная энергия высвобождается только тогда, когда сознание укрощает психику, а кажется, что наоборот…
Моя злость была бы высочайшей культурной пробы, если бы не одно корявое обстоятельство: я злился тем больше, чем сильнее ощущал, как зацепили меня дьявольски талантливые поэтические откровения Горба.
На обратном пути в Минск я разбушевался внутренним монологом, цель и смысл которого состоял в том, чтобы доказать всем, что я действительно не узколобый демократ. И не щелевой сверчок. И вообще я не подхожу ни под одну масть. Слушателей для подобного монолога мне в жизни не найти, поэтому я под железный рокот и перестук электрички выплеснул свои злые мысли на бумагу. Строчки были косыми, кривыми, рваными. Вот что получилось.* * *
«Крупнейший писатель ХХ века Роберт Вальзер», – шумит интеллектуальная элита человечества.
Мизерабль Вальзер, изумительно обогативший формулу «литература – это художественный текст минус личность», интересен, как и почти все примечательное в ХХ веке, не сам по себе, а как антикультурный феномен, которому навязывают статус высокой, утонченно-изысканной культуры.
Опарыш Вальзер не жил, а копошился (мило, разумеется, и неуклюже копошился, стесняясь жить); он просто не способен был испытывать нормальных человеческих страстей или амбиций, умных чувств или философских прозрений. Он культивировал нулевое человеческое измерение, психологию лакея, которой специально обучался в специальном учебном заведении для слуг.
И вдруг шиза Вальзер, соривший разрозненными заметками, как-то невзначай стал велик. Отчего же? Что произошло?
Вальзер, разумеется, обожал Достоевского, и был, кто бы сомневался, предшественником бесподобного Кафки. Что объединяет всех вышеназванных писателей, а также всех тех, кто связан с ними явной или неявной связью (из легиона которых – Улицкая, Елинек…), всех, кто аплодирует черными квадратиками ладошек крошке Вальзеру, – и тем самым превращает реальных культурных героев в шутов гороховых, ибо точкой отсчета в культуре провозглашается опарыш?
Прежде всего: они не переносят света разума. Они создают не просто «альтернативную культуру», где господствует свое, альтернативное понимание «свободы» и «достоинства»; они, рабы натуры, отстаивают свое право опарыша вырваться из-под «гнета и террора» репрессивной культуры. Они бессознательно обслуживают самые темные и сомнительные уголки коллективного бессознательного, выполняя сегодня роль наркотика, усыпительного порошка, галлюциногенного грибка, этой сладкой плесени, что волшебно искажает реальность. Мыслящий грибок Вальзер.
Свобода, как и производное от него понятие достоинство, как и связанное с ним счастье, – безальтернативны, ибо являются производными от разума, ориентированного на универсальную систему ценностей.
Вальзер с его блошиным смирением в этом контексте превращается если не в инструмент борьбы с разумом, то в мелкое, мелкопакостное существо – разносчика духовного СПИДа. Именно такие, как Вальзер, ни на что не претендующие тихони, безнадежно закомплексованные и живущие в ненормальном, с ног на голову перевернутом мире, и оказываются в авангарде самоуничтожения.
Вопрос: почему же ничтожный Вальзер стал сегодня популярен среди художественно чутких интеллектуалов?
Ответ: единственный «культурный» резерв цивилизации, изо всех сил блокирующей выходы к культуре, заключается сегодня в потенциале художественного (не научно-аналитического) сознания. Делайте что угодно, но явите мощь и элегантность креативного бессознательного. Пусть Вальзер прочирикает гимны глупости в темпе вальса.
Иными словами, такие, как Вальзер, мелкий Вельзевул, способствуют тому, что литература окончательно превращается в инструмент бессознательного. Говорим литература – подразумеваем бессознательное, и тем самым отлучаем литературу от культуры, от сознания.
Тут уже не в литературе и не в бессознательном дело; тут дело в том, что вальзеровский человек никогда не сможет стать субъектом культуры. Если Вальзер гений – то человек ничтожество. Знакомый мотив, не правда ли?
А с ничтожества какой спрос?
Вальзер от литературы позволяет развязать руки вальзерам от экономики, политики, науки; вальзеровщина позволяет «маленькому человеку» стать величиной, с которой приходится считаться всем, кто еще способен мыслить. Поскольку «маленький» (не способный отделить причину от следствия) человек стал субъектом демократии, сервильный от природы Вальзерабль пришелся весьма кстати. Вот уж услужил так услужил! Нуль превратил в точку отсчета.
(Хе-хе-с, милостивый государь Достоевский! Сей сюжетец вполне в вашем духе, не так ли? Кто был ничем, тот станет всем, то есть абсолютным ничем. Вскормили монстров-ничтожеств, и теперь залепетали о милосердии. А ведь так божественно начинали – со слезинки ребенка… Кончили культом опарыша.
И не надо лохматить бабушку. Кому козни дьявола – а по мне так суровая диалектика.
А не блуди!)
Виват мегачисло – нуль!
Обнулим историю, стократ распнем сократов!
Да здравствует бесполый микроб Вальзер!
Тьфу!
8. История шестая. Нарисованный очаг
Я вернулся домой.
Моя квартира, которую принято называть крепостью (на войне как на войне, согласен; но неужели жизнь – это война?), располагалась в большом длинном доме современной планировки, украшенным нелепыми башнями. Ничего лучше башен с карминной черепицей, над которыми развевались железные флаги (выше знамя?), современная архитектура не выдумала. Красный кирпич придавал дому колорит то ли Кремля, то ли Великой Китайской Стены.
Там было мое убежище, в котором я по всем правилам цивилизации прятался от мира.
Только вот с кем я воевал? Где враги, черт бы их побрал? С друзьями я, кажется, благополучно покончил. Оставалось уповать на врагов.
Когда я передал моей верной жене Вере смысл моей беседы с Сеней, она нахмурилась, то есть приняла не мою сторону.
– Что не так, Вера Павловна?
– Все так. Просто у меня плохое настроение.
– Просто плохое настроение – это несформировавшаяся или, того хуже, затаенная обида.
Молчание.
Разгоряченный битвой с Горбом и Вальзером, я был настроен довольно решительно.
– В чем дело, Вера? Я нахожусь дома, у своего очага. Что не так? Чем ты опять недовольна?
В последнее время Вера считала своим супружеским долгом выказывать мне недовольство по любому конкретному поводу, что наводило меня на мысль о том, что недовольна она чем-то общим. Например, нашим образом или укладом жизни.
– Да, я недовольна, – сказала Вера, и я понял, что мне следует приготовиться к еще одной стычке. От мира, находящегося в состоянии войны, невозможно было укрыться даже в собственной крепости.
Наши проблемы начались с того, что брат Веры, Данила, за какой-нибудь год с небольшим стал состоятельным человеком. На него буквально пролился золотой дождь, как на Данаю (только в другом, хорошем смысле этого слова). Не прилагая никаких особенных усилий и не отличаясь никакими особо выдающимися, не говоря уже зверскими, деловыми замашками, он, бывший физик, организовал с приятелем-однокурсником строительную фирму, и попал в такую струю, что их выперло в большой бизнес как на дрожжах. Он просто перестал считать деньги, искренне не знал, куда их девать. Он, по словам Веры, стал другим человеком – хорошим человеком, потому что купил сестре квартиру в шикарном доме. Надо отдать ему должное: он не собирался утирать мне нос, он просто купил сестре квартиру. Нормальный братский жест. Вера засияла от счастья – и это было началом наших проблем.
– Чего ты хочешь добиться в жизни, Герман Романов?
– Я хочу быть счастливым и не делаю из этого секрета.
– Замечательно! Я тоже хочу быть счастливой! Для этого нужны деньги, много денег! И тебе их предлагают! Почему ты не хочешь идти работать к Даниле? К тебе само плывет в руки то, о чем все только мечтают.
– Я сказал, что хочу быть счастлив; я не сказал, что собираюсь угробить жизнь на эти башенки.
Про башни я сказал зря. Мое отношение к подаренной квартире всегда расстраивало жену.
– Мне наплевать на твоего Сеню, на твоего Достоевского, на твою диссертацию, на твоих демократов или антидемократов. Я хочу жить нормальной жизнью: сыто, спокойно и благополучно. Как все. Всё! Больше ничего не хочу.
– Послушай, я расскажу тебе историю. Жил-был Юрий Борисыч, которого все звали Учитель…
Чтобы в чем-нибудь убедить мою жену, ей надо было рассказать историю. Конечно, я кое-что приукрасил, кое-где сгустил краски, но в целом смысл истории, ее «мораль» сохранил: счастье не в деньгах и не в башнях, а в человеческих отношениях. А профилактика человеческих отношений – вечное познание.
– Ты говорил очень долго. Когито, когито… А мне надо коротко и понятно. Ты пойдешь или не пойдешь работать к Даниле? Ты собираешься или не собираешься прозябать в нищете?
– Я собираюсь работать, я ненавижу нищету, в том числе нищету духа; но я не могу пойти работать к Даниле. Как ты не понимаешь: это разрушит меня, а значит – и нашу семью. Ты требуешь от меня невозможного: отказаться от себя. Во имя чего? Во имя декоративных башен? Зачем тебе нарисованный очаг? Зачем тебе эти декорации? Ты же не Мальвина.
– Я тебе скажу зачем: затем, чтобы твоя жена и твой сын были счастливы.
– Вы хотите построить свое счастье на моем несчастье, на лжи и глупости? Ты же своими руками рушишь наш дом!
– Выбирай: или ты начинаешь зарабатывать деньги – или остаешься один.
– Для меня это звучит так: или деньги – или жизнь. Деньги – или любовь. Деньги – или счастье. Деньги – или…
– Ты врешь самому себе, ты боишься быть мужчиной, вот и играешь в игры со своим Достоевским. Хватит играть. Весь мир живет очень просто.
– А мир не живет, мир просто погибает. Чтобы выжить, надо думать головой, а не желудком.
– Выбирай: или – или.
– Ты меня любишь, Вера?
– На вопрос, который задан не вовремя, можно получить неправильный ответ.
– Да или нет?
– Нет!
Разумеется, последнее слово осталось за женой, что для нее означало следующее: правота, которая не приносит денег, не может считаться правотой. Это не правота, а пустота. А вот пустота, приносящая деньги, самым волшебным образом перестает быть пустотой, становясь веской правотой… Уже само виртуальное шуршание виртуальных денежных знаков кажется чем-то полновесным.
Значит, права была она. Ее правота измерялась в денежных знаках, а моя в каких-то странных информационных комбинациях: тело – душа – дух.
В тот момент я «вдруг» окончательно понял, что является моим главным врагом. Не злые люди, не добрые люди, не богатые и не бедные, не верующие и не атеисты, не мужчины и не женщины, не Сеня и не Вальзер; нет, не они; моим главным врагом отныне – ты слышишь, Вера? – является глупость человеческая, враг вездесущий и зело коварный. Ибо взглянем правде в глаза: кто возьмется отличить мудрость от глупости?
Вот я взялся: мудро это или глупо?
В принципе, моя жена была соавтором моего открытия (я о глупости); но от этого комплимента в ее адрес я решил воздержаться.
Чтобы досадить ей, я заперся у себя в кабинете и в сотый раз перечитал недавно написанное.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
5
В принципе нет ничего скучнее, чем разбирать невразумительную систему «идей», обслуживающую пунктик, спорить с логикой сумасшедших или, как осторожно выражается повествователь, «мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся» (характеристика Раскольникова). Главное – механизм, запустивший его систему идей; сами же идеи – не более чем интеллектуальный ребус, за которым стоит мнимая мировоззренческая глубина.
Однако художественная цельность романа вновь и вновь, с прямо-таки назойливым постоянством и энергичной настырностью, возвращает нас к заветному пунктику. Послушно внемлем очередной раз.
Раскольников (вновь раскроем карты повествователя) безбожными средствами пытается решить проблемы божественно устроенного мира. При этом мотивы его поведения изначально очень даже и согласуются с законами мира, однако парадоксы ума, смущающие душу «мономана», запутывают всё дело. Сквозь «умственную» призму Раскольников, даже не подозревающий, как глубоко, хотя и искренно, он заблуждается (об этом ведает контролирующий ложные и истинные параметры картины мира автор), и смотрит на все события, попадающие в поле его зрения (а о том, чтобы попало нужное, – опять забота автора). Вот Родион получает письмо от матери, Пульхерии Александровны, в котором речь идёт, в основном, о Дуне, сестре «Роди», и о предстоящем её браке с Петром Петровичем Лужиным. В самом конце письма простая и сердобольная (на сонечкин манер) мамаша напутственно и пророчески замечает: «Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце твоём, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие ? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!»
(Между прочим, семантика имени, отчества и фамилии героя, к которому обращён трогательный призыв матери, многократно расширяет и углубляет контекст конфликта. Раскольников несёт в себе ту новомодную убийственную заразу, которая реально угрожает родине Романовых, России, православной державе. Вновь – вспомним в этой связи «Войну и мир» – Запад сошёлся с Востоком в схватке за умы и сердца людей. Вовсе не личный конфликт «раскалывает» душу героя, а конфликт вечный, универсальный, всемирный, вселенский. Но русский начинает думать только тогда, когда слишком уж верит, поэтому он достаточно быстро и, разумеется, через кровь возвращается к истокам, к лепетанию молитв. А вот Западу есть над чем задуматься…
Он и думает, внимая Достоевскому, как Родя – Пульхерии Александровне.)
Конечно же, «с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, злая улыбка змеилась по его губам ». Отчего? Не оттого ли, что он не верил «в благость творца и искупителя», но не был и до конца уверен в своём неверии?
Не будем лишать читателя удовольствия подумать.
Кстати, Раскольников после чтения письма тоже «думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли». И было отчего: Дуня, благодаря его, Родиной, неустроенности, собиралась выходить замуж по расчёту, то есть жертвуя собой по образцу Сонечки, «продавая» себя ради брата и матери. Список жертв, немо вопиющих об отмщении, продолжал расти. Слёзы невинных парадоксально отливались в приговор Алёне Ивановне. «Сонечкин жребий» («Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!») вновь актуализировал дилемму: или «вечная Сонечка» – или вечный бунт против мира, в котором уготовано амплуа вечной Сонечки. И то, и другое предполагало соучастие самого Родиона в преступлении.
С точки зрения разума из двух зол выбирают не иллюзорное добро, а наименьшее зло. Раскольников был по-своему прав. А как ещё прикажете решить «дикий и фантастический вопрос», вопрос неразрешимый, как бы теоретический, отвлечённый, но вместе с тем подбросивший его родной сестре (не абстрактной категории «униженных и оскорблённых») Сонечкин жребий?
Определённый «процент» оскорблённых, к сожалению, был гнусной реальностью, что тут же подтвердила уличная (обычная) история с растленной девочкой (повествователь не скупится на аргументы «в пользу» теории Раскольникова; список жертв растёт). «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в этот, так в другой?..»
Прав ли был повествователь, из двух зол выбравший иллюзорное добро, ценой отвлечения от реальности?
В это можно только верить. Однако вопросы – вопросами, а жизнь – жизнью. И вопросы как-то решаются, и жизнь продолжается, и без преступлений можно обойтись. Но такая логика, похоже, вовсе не знакома мономански устроенному сознанию автора. Трагедия нравственного максимализма (средневековый или подростковый тип трагедии, в сущности, мнимая трагедия) обретает художественную плоть.
Достоевский, словно специально противореча аксиоме Л. Толстого, усердно «решает» вопросы, отвлекаясь от призвания искусства: быть нерассуждающей службой жизни. Но если столь откровенно пренебрегать природой искусства и взашеи гнать её в двери, то она, природа, будет лезть в окно. Решение вопросов средствами, для этой цели совершенно не приспособленными, приводит к тому, что решение вопросов будет всегда не в пользу способов, которыми вопросы действительно решаются. Проще говоря, решение вопросов «от психики» будет всегда направлено против ума. Вопрос об истинности подменяется способами решения: каковы способы – такова и истина.
Всё это объективно на руку аксиоме: искусство должно позаботиться о том, чтобы заставить «полюблять жизнь».
Достоевский «не заставляет» любить жизнь непосредственно, всем строем образного ряда; но он культивирует то, что безусловно стоит на страже жизни: психические интенции, доразумное начало. Таким образом, Достоевский опосредованно любит жизнь, оберегая тот потайной механизм, который и обеспечивает жизнелюбие.
Однако не всё так просто. В аксиому Толстого по умолчанию заложена сама собой разумеющаяся посылка: здоровая нормальная психика естественным образом озабочена ценностями жизни. Но то, что является естественным для нормы, не может считаться само собой разумеющимся для находящегося за границей нормы. Психика болезненно раздражительная может предложить идеологию амбивалентную, как бы совместимую с идеологией жизнелюбия, но вместе с тем непосредственно о этом ничего не говорящую. Идеология поиска смысла жизни (решения вопросов) оказалась вовсе не безобидна для жизни как таковой. Логикой идеологии, представленной моделирующим сознанием, Достоевский задвинул жизнь на периферию собственно человеческих интересов.
Странно получилось: он и вопросов не решил, и о жизни позабыл, увлёкшись решением вопросов. Природа искусства, как вещь объективная, мстит за себя, с ней невозможно не считаться, даже если этого очень хочется, даже если ты – Достоевский. Любителей искать истину средствами, которыми она не может быть найдена, всегда оказывается настолько много, что они (от чистого сердца, как водится, но не от большого ума) провозгласили Достоевского мыслителем, философом, вменяя ему в заслугу именно решение вопросов. Более издевательского комплимента талантливому художнику придумать трудно. Достоевский гениально искажал реальность в угоду собственной психической потребности, армия же толмачей объявляет роман способом постижения реальности, искажая значение творчества писателя.
Апологеты достоевщины, воспитанные на способе мышления великого мечтателя, никогда не поймут писателя; в лучшем случае они смогут разделить его иллюзии и утопии. Никто не вредит изучению Достоевского более тех, кто его любит. Отношение, предполагающее уважение, должно ориентироваться на установки непсихологического свойства, на способ умозрительного постижения, то есть на тот способ, который так горячо, до истерики, не жаловал писатель.
Итак, аксиома Толстого лишь отчасти применима к творчеству (и разбираемому роману в частности) Достоевского. В том, что роман обрушивается на главного врага жизни, разум, – сомнений нет, и в этом смысле роман стоит на страже жизни; но ненавидеть разум ещё не значит любить жизнь. Толстой-художник сам сполна реализовал им же сформулированную аксиому. Что же «заставляет полюблять» Достоевский? Что он противопоставляет разуму? Или: что он имеет в виду под «жизнью»?
Чудо, тайну, мистику души – но не жизнь в толстовском, да и в общепринятом смысле. Жизни как таковой нет в романе, а есть провозглашение любви к жизни – умствующее чувство, столь же далёкое от проблем жизнелюбивой Наташи Ростовой, как и масонские изыскания Пьера. «Чувство жизни» Достоевского парадоксальным образом находится по ту сторону жизни.
9. История седьмая. Весна. Запели птицы
Пестренький, коричневой масти голубь важно расселся в луже бледно-горчичного цвета.
Это и был единственный признак весны. Было холодновато, грязновато, серо. Гулко и пусто, словно бродил я не по улицам, а по нежилым коридорам, где хозяйничал наглый сквозняк.
Начало весны совпало с осенью, поселившейся в моей душе еще зимой. Бывает же такое: зеленое размазано по желтому и присыпано белым. Не разбери поймешь. Не картина, а кричащий набор красок. Надо изрядно потрудиться, чтобы сотворить лепоту, создать гармонию… Надо разобраться в себе. Подумать. Поработать богом в две смены. Без выходных. В разных концах вселенной – в аду и в раю. В этом ключ к гармонии.
– Давай разбежимся до лета, – сказала мне жена. – Я видеть тебя не могу. Ты меня раздражаешь.
И сказала это, по странному стечению обстоятельств, в лютые морозы, когда наша семейная карьера была на взлете. Мы шли в гору, стабильно вверх. Особенно обидно почему-то было это слышать в жуткие крещенские морозы. Как-то добавляло пошлости.
И до меня вдруг дошло: я, оказывается, совсем не знал своей жены. Что я о ней знал? Что я знал о ее первой любви? (Этой темы я великодушно не касался; великодушно или все же малодушно? Я засомневался.)
А что я знаю о Сене? О ком, бишь, еще? Об… Учителе? (Никто из близких или интересных мне людей не приходил на ум. Может, у меня просто не было друзей?) О себе, в конце концов?
Почему я так спокойно прореагировал на известие о семейной катастрофе? Это спокойствие делало мне честь или не делало?
Что-то здесь было не чисто. Возможно, даже грязно.
Мир качнулся и зашатался. Мотивы моего поведения были ясны и понятны. Ясны? Да, ясны. А завтра? Где гарантия, что и завтра я буду думать точно так же? В зыбком мире не бывает незыблемых гарантий.
Кажется, я начинал понимать, что по-настоящему зацепило меня. Я был убежден, что жена любит меня больше, чем я ее. Оказалось… наоборот?
Любил ли я свою жену? Если не любил, то почему меня это не особенно волновало?
Жизнь дала крен, обнаруживая свой нестабильный характер во всем.
Завтра стало казаться зыбким и не очень-то нужным.
* * *
Мы с женой, в конце концов, собрались разводиться (летом), однако, к несчастью, в чем-то прав оказался я.
Данила вскоре прогорел из-за нелепости, о которой наслышан всякий начинающий бизнесмен (но которая по-настоящему угрожает всякому матерому человеку): он, до тошноты убаюканный равнодушием, царившим в его благополучном доме, пылко влюбился в свою мятежную секретаршу и доверился ей, движимый чистыми чувствами. Она же (ядовитый бутон!), как только почуяла запах добычи, мгновенно сконцентрировалась, оскалилась, ощетинилась – нащупала слабое место, выпустила жало – и пустила своего жалкого благодетеля по миру, напевая про себя (но никак не адресуя себе) частушку Веселого Роджера: «От тюрьмы и от сумы…»
Это еще больше настроило жену против меня. Получалось, что я словно бы накаркал бедному Даниле его судьбу. Данила, кстати, был на меня не в претензии. Он решительно разобрался со своими хладнокровными женщинами, изображавшими вулканических мегер, женился, опять же, словно назло кому-то, по любви (на женщине, которая сурово представляла его интересы в суде: она восхищенно наблюдала за тем, как Данила небрежно распотрошил свое состояние, побеждая великодушием – подлость) – это почему-то еще больше настроило жену против меня. Уже не только вместо «спокойной ночи», но и вместо «доброго утра» я, словно солдат кремлевской роты, слышал сакраментальное: «Развод!», «Развод!»
Бессмысленно жалеть о том, что когда-то женился – совершил бессмысленный поступок, наполнивший твою жизнь каким-никаким смыслом.
Но не жалеть об этом как-то глупо.
* * *
Самое сложное в жизни, в подлунном мире, я хочу сказать, где регулярно восходит и заходит Солнце, – проще говоря, на этом свете, – испытывать счастье от того, что счастье может приносить, а не от пестования-лелеянья несбыточной мечты о счастье. Ахи, охи, аиньки, баиньки…
Если твоя мечта не хочет воплощаться в жизнь – это подозрительная мечта. Самое сложное для мужчины – выстраивать отношения с женщинами. Женщины, призвание, деньги, алкоголь (порядок очередности меняется в каждом конкретном случае) – вот искушения мужчины. Четыре его демона, составляющие одного упитанного дьявола (а ведь есть еще иные бесы, которые приставлены мутить нашу воду, раздувать наш огонь, до посинения дуть в медные трубы – как бы в нашу честь).
Женщины, повторю, – самое сложное. Контролировать отношения с ними – просто высший пилотаж. Покажите мне асов, туго знающих свое дело. Ась? Нетути. А почему? А потому, что вы имеете дело с живой диалектикой: где кончаются женщины и начинается призвание, которому деньги с алкоголем то мешают, то помогают, – никому неизвестно. Строго говоря, противоположный пол, ужасно прекрасный, есть главный тест на то, как ты выстроил отношения с самим собой. Можно наизусть знать всего Гегеля, можно любить родину, обожать природу, ненавидеть тоталитаризм, почти постичь истину, и даже преуспеть в творчестве, но вот чтобы завоевать и удержать достойную женщину, чтобы сделать ее единственной и не покривить душой, не унизить себя при этом – для этого мужчина должен практически совершить невозможное. Что-то вроде самоубийства, после которого, однако же, открывается второе дыхание – и жизнь клокочет с двойной силой. Вот так вот.
Тут я забежал далеко вперед, конечно. Сознательно не отменил бессознательный порыв – и забежал. Это я сейчас думаю так, как написал; тогда же, в тот момент, когда жизнь моя, к счастью, пошла глубокими трещинами, я мыслил несколько иначе. Путь к гармонии сложен и тернист. И понимание приходит по мере того, как ты проходишь путь. (Дао? Гм, гм. Да нет. Просто путь. Куда-нибудь.) Ум необходимое, но недостаточное условие достижения гармонии; путь сам по себе – тоже; вовремя случившиеся везение и невезение (вехи пути, отмечающие этапы судьбы) – тоже. По отдельности каждый из живущих имеет кое-что из того, что может принести гармонию; но гармонии достигают единицы. И находится моя гармония вовсе не в тех краях, где обитает всемогущий Бог; ее следует искать в противоположной стороне.
Чтобы найти Бога, надо отказаться от себя; чтобы обрести гармонию, надо найти себя.
Вот моя молитва сегодня.
* * *
Итак, на улице была весна, ударяющая в голову и задевающая сердце, я был свободен, однако же дезориентирован, чтобы не сказать деморализован. Мне казалось, что я честно откатал полный цикл отношений с женщиной. Я пережил влюбленность, после этого нас связывали годы ровных, теплых отношений. Потом самым естественным и подлым образом любовь сошла на нет, и я вновь почти обрел постылую свободу.
Кажется, это была унылая классика. Вот тебе весна и пестрый голубь. Гуляй, душа. Кто виноват в том, что гулять не хочется?
Это глупый вопрос, адресованный Деду Морозу с ватной бородой. Он, как известно, исполняет копеечные желания; в его заплечном латанном-латанном-перелатаном мешке (заплатанной! заплатанной!) нет шкатулки с рецептом счастья. Возможно, такой шкатулки вообще нет в природе.
Как жить дальше?
Тут все зависело от того, кто виноват в том, что виноватых не найти.
Хорошо. Пытаемся разорвать порочный круг. Ставим вопрос иначе. Наши действия на ближайшие несколько часов?
Такая постановка вопроса меня вполне устраивала. Оказалось, что перспектива приятного вечера вполне могла заменить счастье. По крайней мере, на один вечер. А дальше? «Будет вечер – будет перспектива», – решил я и, довольный тем, что не чувствую себя несчастным оттого, что лишен счастья, направился куда глаза глядят. Первые же сто метров почти примирили меня с реальностью. Живешь – живи, умей в мелочах видеть главное и наслаждайся относительными здоровьем, бодростью, вменяемостью.
Странно. Ведь точно так же считала и моя жена. И, отчасти, Сеня.
Что же тогда нас развело?
Я решил вернуться к луже, чтобы посмотреть на одинокого голубя. Но мое место уже было занято. Возле лужи стояла молодая привлекательная женщина в осеннем пальто заметного черного цвета (сразу ощущалось, что она получает удовольствие от теплой одежды в эту неустойчивую погоду) и кормила голубя кусочками кекса.
Серенькое небо изнывало мелким, нудным дождичком. Вдруг тучи раздвинулись, словно оттесненные чьей-то сильной любопытной рукой, сверху полыхнуло голубым простором – и радостно сыпанул редкий веселый снег, холодный прах, изумительно нелепый в свете солнца.
– Это зима возвращается или весна так не уверена в себе? – спросил я то ли у лужи, то ли у голубя, то ли у женщины. А возможно, и у самого себя.
Она подняла на меня глаза пронзительно голубого цвета (кусочки далекого неба, словно звезды молодых васильков, сорвались вниз и мило разместились на светлом овале ее лица).
– Весна – трудное время, – почему-то сказала она.
– Пожалуй, – легко согласился я. И неизвестно зачем добавил со вздохом: «Пожалуй».
Возле наших ног уже по-хозяйски копошились и деловито гулили два голубка, нагло уверенные в том, что доставляют женщине исключительное удовольствие, жадно заглатывая желтоватый кекс – ее подношение. У меня нога не поднялась отогнать хамоватых пернатых на приличное расстояние. Но я отомстил им способом еще более изощренным. Человеческим.
– Не кажется ли вам, что голуби сильно мутировали? – начал я издалека, пытаясь уловить пока что неясную для самого себя мысль. – Природа не терпит пустоты, но она не терпит и постоянства, этой формы фарисейства и пустоты. Природа, даже когда отдыхает, она все рано движется. Голуби, вроде бы, не делая ничего особенного, как бы резвяся и играя, превратились в некое подобие летающих крыс, пардон. Клювы у них стали хищными, глаза вороватыми, повадки – несносными, в оперении стали преобладать серые тона. Кстати, они все еще улюлюкают или уже пищат? Столетия жизни вблизи тучных помоек развратили некогда, возможно, приличных, то бишь трудолюбивых, птах. Белых, черных и сизых. Я к тому, что образ жизни накладывает на нас, детей, увы, природы, отпечаток. Боюсь, что и я сейчас сильно смахиваю на серого голубя. Мне не хватает любви.
Она смерила меня глазами – и я, внезапно потеряв точку опоры, провалился в голубой океан, цепляясь за отвесные стены айсбергов. Чертов Архимед и предположить не мог, что иногда точка опоры, меняющая местами лужу и облака, – где-то в глазах женщины. Прочитай он то, что здесь написано, и, боюсь, его бы хватил удар, и великий первооткрыватель утопил бы свою метафизику в своей же ванне. Где плавало упавшее ему на голову яблоко сорта «эврика». Судя по всему, вовсе не из эдемских садов: «эврика» была плодом незрелым и оттого чувствительно тяжеловатым.
Вечером мы гуляли по городу. Полная луна напоминала светящийся неоновый шар, который покинул кривой фонарный столб, украшение грязной улицы, тяжело отлетел ввысь и теперь играл в прятки с легкими, но неуклюжими облаками.
Звали ее Марина. Я удивился. Оказывается, я был почти уверен, что ее зовут Оксана. Сана: мне хотелось солнца?
– Марина… – говорил я, пробуя ее имя на вкус, цвет и запах. – Марина. Марина?
Кажется, мне нравилось. Морские дали, тайны и глубины. Свежесть, опять же. Почему нет? Что предвещало мне это имя? Тут я терялся в догадках.
Ей, кажется, нравилось мое нескрываемое любопытство. А также то, что потом будет определено ею как поэтическая наглость.
– Вот мы и пришли, – сказала она. – Муж, наверное, уже волнуется.
– Вы любите кекс? – спросил я, не реагируя на известие о внезапно объявившемся невесть откуда муже. Муж. Объелся груш. Фу. В такой вечер это звучало пошло.
– Люблю.
Улыбкой она дала понять, что оценила мое отношение к ее мужу, туманному персонажу, незримо вставшему между нами. Тоже мне, облако в штанах. В косую клеточку дождя. Муж как явление природы.
– Тогда я приглашаю вас на чай с кексом.
Я не сбавлял оборотов. Подумаешь – муж. Уж!
– С удовольствием. Когда?
– Всегда.
– Всегда – это вечность. А если поконкретнее? Женщины обожают конкретные предложения. (Знал бы я тогда, какую ключевую и роковую фразу обронила в ту секунду женщина с голубыми глазами в черном пальто! Просто прелесть. Обронила во тьму. Женщины заслуживают памятников за то, что они не понимают, какие глубокие и умные вещи произносят их голоса и губы.)
– Зачем же откладывать освоение вечности? Завтра же и начнем.
Ее улыбку можно было истолковать по-разному, например, так: не знаю, что вы демонстрируете, уверенность или неуверенность, однако я, почему-то, склонна поддержать вас в этом сумасшедшем проекте – чай с кексом.
Ну и чудно. Для нечаянного знакомства весьма неплохой результат. Где-то даже выдающийся.
– Любите ли вы Достоевского? – бросил я удаляющейся спине в пальто теплого черного цвета.
– Достоевского? – вполоборота, с легким наклоном головы и легчайшим недоумением. Она великолепно владела языком поз, жестов, интонаций – всем тем, чем владеет богато одаренная женщина. Сердце мое екнуло: эта – по мою душу.
– Да, был такой писатель.
– А какое отношение имеет Достоевский к чаю с кексом?
– Возможно, что совсем никакого, – неуверенно ответил я. – Совершенно никакого.
– До встречи, – был ответ из темноты.
И дальше – ритмичный стук каблуков.
Догадывалась ли она, что ритм – это проявление силы и весны?
Было похоже на то, что меня поставили на место, с которого я, собственно, и не сходил.
Я поднял голову вверх. Темно-синяя звезда тревожно отливала блеском каленой клинковой стали. Наше чувство родилось под темной звездой. Имя которой было – Пентагон.
Всю дорогу, пока я шел домой, вокруг меня пели и стонали птицы. Просто орали, разрывая скучно жужжащую вечернюю городскую тишину. Может, они пели и раньше, только я этого не замечал.
* * *
Дома я включил телевизор (чтобы создать видимость занятости и не разговаривать с женой) – и первое, что я услышал, была фраза героя какого-то глупейшего, образцового по глупости американского фильма, которую ковбой (cowboy – коровий мальчик; по мне куда благозвучнее и честнее «сукин сын») брякнул с дешевой самоуверенностью, присущей успешным людям цивилизации: «Удача – мое второе имя!» Разумеется, с ним тотчас же случилась дежурная неудача, которая только раззадорила неунывающего дегенерата, большого поклонника биг-маков, кока-колы и демократической партии. Можно было не сомневаться: к концу фильма мачик возьмет свое. На то и happy end для мачо.
«Интересно, а что можно считать моим вторым именем?», – подумал я. Удачу?
Как бы не так. Не она сделала меня.
Мудрость? Суховато и, пардон, мелковато будет для жизни. Кроме того, фальшиво и напыщенно.
Любовь? Однобоко, однако.
Что же?
Книга третья. Любовь
1. Полет над землей – из огня да в полымя
К чувству любви непременно добавляется чувство печали – и не оттого, что любовь рано или поздно пройдет, нет; оттого, пожалуй, что женщина рано или поздно обнаружит свою природу, за которую так непросто уважать человека. Женщина умеет только приспосабливаться, что вызывает восхищение, но не уважение.
А нет уважения рано или поздно уходит и любовь.
Любовь держится иллюзиями, будто женщина сама по себе является носительницей достоинства.
Однако это не так. Женщина, увы, пуста. И так не хочется, расставшись с ней, возвращаться в свое одиночество, в свою мужскую пустоту – уже другого рода.
Но, видимо, таков удел умных людей, который обрекает их на то, чтобы обзавестись достоинством, ведущим в пустоту…
Пустота – вот вещество, которое тебя окружает.
…Но это дойдет до меня гораздо позднее, где-то к концу романа (который я тогда еще не начинал писать), когда я буду готов к началу новой жизни. И я вдруг осознаю (забегу-ка я далеко вперед, в самый конец: что мне мешает?), что мои правильные представления о женщине не совсем верны. Не совсем. Истина еще более глубока и запутана – что не отменяет ее фундаментальной простоты. Но это уже несколько другая история.
А в тот момент я даже не понимал, что досаждает мне серым оттенком – мелким гвоздиком в роскошных сапогах-скороходах – именно чувство печали.
При чем здесь сапоги-скороходы?
А при том, что я полетел, воспарил (мир – подо мной), наплевав при этом на все глубокомысленные чертежи Архимеда, доказывающие, что невозможное – невозможно, и презрев его паскудный закон всемирного тяготения. Или меня понесло. Раньше в подобных случаях было принято говорить – «у меня за спиной выросли крылья». Возможно, я сказал бы то же самое, если бы не мое врожденное недоверие ко всему летающему, порхающему, возносящемуся, особенно – к ангелам (Боже мой, посмотрите на меня: как мутировали люди! Раньше такое об ангелах можно было услышать разве что на самых задворках провинциального пекла, из уст вконец оскотинившихся демонов). Как только я слышу слово «ангел» (произносится, само собой, с придыханием и, в идеале, сопровождается мелькнувшей слезой во взоре – детской, детской!), мне хочется пожать руку несуществующему бесу, который, судя по всему, топает по земле в кержацких сапожищах, месит вековую грязь, честно отрабатывая свой ржаной хлеб с мякиной. По-моему, ангелы гораздо опаснее голубей; в лучшем случае эти белокрылые мутантики выродились в амурчиков (у них отрос сбоку бантик, то самое «черте что»), в худшем – в свою противоположность. Подать дырявые сапоги летающим легионам легенд, строго по размерам. Ать, два. Чтоб, не дай Бог, не натерло ножку. Не потому ли на земле так много зла, что вокруг снуют мириады этих легкокрылых созданий, которые при случае не прочь примерить сапожки в гармошечку а ля рус, тянущие – закон всемирного тяготения из каких-то соображений не отменяет сам Господь Бог – вниз?
«– Мама, кто такие ангелы?
– Это, доченька, такие маленькие, беленькие существа. С крылышками. Летают.
– Не кусаются?»
Устами дитяти… Слышал самолично.
Кстати, о законе всемирного тяготения. В принципе не имею ничего против. Он есть: тянет же. И тяготит, зараза. Однако почему никто не говорит о всемирном тяготении в том смысле, что бедного человека мир тянет в разные стороны, довлеет над ним с разных полюсов, концов и начал, и всемирное тяготение превращается в подлый всемирный, всеобщий раздрай? Призвание, женщины, алкоголь, деньги… Счастье, смысл жизни, истина… Достоинство, творчество, семья…
Чем всемирное тяготение лучше всемирного раздрая? Нас тянет к Земле, Землю вместе с нами – к Солнцу, Солнце вместе с нами и Землей – к Черной-Пречерной Дыре, Мать Ее Так. Вот, если угодно, современная модель всемирного тяготения – всех ко всему: Архимеду и не снилось. Почивал себе на трех китах. Ему хватило романа с яблоком, чтобы заполнить свою жизнь. Лишнее – отлить.
Но это так, к слову.
Итак, я полетел. На крыльях любви. Точка.
Ко мне пришло странное чувство – любовь, всеобъемлющее, дающее жгучее, ни с чем не сравнимое ощущение жизни как непрерывного праздника и содержащее в себе самом ростки острой горечи, пока еще пикантной приправы к основному блюду, которую (горечь-приправу) в полной мере – и полнехонькой ложкой! – придется вкусить тогда, когда самым чудесным образом сбудутся и не сбудутся надежды, оправдаются и не оправдаются веры и мечтания, – тайфун, камнепад на заре, когда сонный мир прекрасен и безмятежен. Любовь. Жизнь, заигрывающая со смертью. Здравствуй, река.
И кто сказал, что пройти через любовь и уцелеть – самое простое дело на земле? Заратустра?
Шарлатан, шарлатан, батенька…
Или – шайтан. Отставной шаман.
Закон всемирного тяготения интересовал меня лишь в том смысле, что меня безбожно тянуло к Марине. Я научился погружаться в ее глаза, задерживая дыхание, и своевременно выныривать из океана по имени Моя Женщина – без ощутимых признаков кессонной болезни. Далось мне это длительными тренировками. Я словно бы заново учился плавать. Любить.
И меня, естественно, все более интересовала «маринская впадина», величайшая в мире расщелина, находившаяся совершенно в другом месте, не там, где глаза.
– Нет, – говорила Марина, играя глазами. – Даже не думай.
Но глаза ее говорили не совсем то, что я слышал из ее уст, по которым плутовато бегала улыбка и пролетал иногда, дразня меня, сочный язычок.
Это было правильно и совершенно естественно. Я очень хотел, но я никуда не торопился: у меня в запасе был немалый опыт разочарований, и я не стремился пополнить его. У меня была другая цель: стать счастливым.
Опять отвлекусь. Это мое проклятье: конкретный эпизод или случай для меня интересен как проявление закономерности. Пардон. Так вот: с некоторых пор я понял: выжить – значит стать счастливым. Счастье – это, помимо всего прочего, еще и способ выживания. «Не до жиру – быть бы живу» – это не про меня. Это народ о себе, подтянутом. Я мог быть живым только становясь счастливым. Такая уж была у меня карма.
Жена моя делала все, чтобы я разочаровался в женщинах. От беспомощности она регулярно закатывала мне мощные истерики, которые делали ее правой, а меня – глубоко, до слез виноватым. К месту и не к месту звучало грозное слово «развод». Я стоял понурым истуканом – и это делало меня уже не просто по жизни виноватым, а – преступником. Разумеется, это развязывало моей жене руки, освобождало ее от всех обязательств и конвенций: она шарила по моим записным книжкам, выворачивала мои карманы, что-то вынюхивала и выдумывала. Лепила образ человека, с которым приличная женщина не может не развестись.
Хочешь узнать жену (женщину) – разведись с ней. Не хочешь?
Делай вид, что тебя все устраивает. Не узнаешь ничего. Всю жизнь будешь блуждать в сладких потемках. Приятного дао. Чао. Какао.
А вот Марина, играя глазами, делала все, чтобы я был очарован женщинами.
И я каждое утро начинал с молитвы: пусть моя Марина не сделает ничего такого, за что я не смог бы ее уважать. Пусть она не окажется обычной женщиной – слабой, беззащитной и оттого по праву беспринципной. Пусть она окажется какой-нибудь королевой. Ведь должны же быть где-то такие женщины! Почему не Марина?
Почему – эй, ты, к кому я там так малодушно обращаюсь?
Знаете ли вы, что мелочей в общении – нет? Именно. Нет. Все мелочи значимы – как проявления чего-то великого, которое надо суметь разглядеть. Одна мелочь, один штрих – и отношения «заболевают», напоровшись на экзистенциальный риф. Или, напротив, расцветают, благодаря мелочам, чуя семь футов под килем. Как говорится, «во глубине». С Мариной было легко и просто, и наши отношения были на подъеме, хотя существовал штришок (ого-гош!), способный испортить любые отношения. Она была женой другого.
Еще раз: она была женой другого .
То, что я был женат, мне как-то внутренне не мешало. Практически – наоборот: помогало. А вот она – «жена другого»…
В переводе на русский это словосочетание означало для меня: добро пожаловать в ад.
Объяснимся. Оказалось, что «жена другого» – это колоссальный удар по моему самолюбию. Но это еще далеко не все. Мое чувство к ней предполагало, кроме, само собой, ответного чувства, еще и готовность принадлежать мне безраздельно. И эта готовность в ней была – но в степени, скорее, убивающей меня, нежели воодушевляющей.
Могу, конечно, сказать и попроще, однако тогда мне не удастся передать саму суть наших отношений, состоящих сплошь из вязких полутонов, трудноопределимых движений души. В общем, мне интересно передать то, что есть, а прочитать можно все, что угодно.
Что такое «понедельник – день тяжелый» я понял только сейчас. Суббота и воскресенье (ласкающее слух горожан понятие, обозначающее 48 часов блаженства, – уикэнд) становились для меня просто каторгой. Для кого-то «уик!» – и уже «энд». А для меня тягучая вечность. Меня мучила – испепеляла – ревность. Она была с ним. Гоша звали его.
В понедельник я был измотан, эмоциональный спад был ниже уровня моря. Мне просто не о чем было говорить с Мариной, потому что о чем бы мы ни говорили, мы говорили о любви. И если не говорить о любви, то говорить не о чем. К среде я приходил в себя, к пятнице уже искрился (прилив) – чтобы в субботу вновь запустить программу самоедства. Понедельник – отлив.
И самолюбие было при мне, и гордость, и чувство собственного достоинства – и, проклятье, именно эти обостренные чувства складывались в любовь к ней, жене другого.
Наша, изволите ли видеть, ситуация перерастала в невозможный, противоестественный образ жизни.
Ее интимная жизнь на два фронта, не носила, конечно, характер предательства; однако самим фактом двоемужества она как бы не исключала возможность предательства.
На нее страшновато было безоглядно опереться. И вместе с тем с ней было так хорошо, что другие женщины просто не лезли в голову. У меня впервые в жизни появился железный критерий: любовь – это когда другие бабы просто перестают существовать. Мир клином сошелся на женщине, может быть, не слишком достойной этого. А более достойных не существовало.
Или, если угодно, вот еще одно определение: любовь – это такое блаженное состояние, когда ненависть и презрение к людям не мешают тебе жить. Мне презрение перестало мешать.
Что за законы у этой жизни?
Так жить было нельзя. А как? Существующее равновесие было сомнительного свойства, а нарушение его грозило чем-то еще более ужасным – катастрофическим.
Целый май я маялся. Помню ту майскую ночь, после которой что-то сместилось в моей душе, отчаянно искавшей путь к выживанию. Тучи, проливной дождь, гром и молнии. Звонко-сухой треск раскатов распарывал тьму небес, которые на глазах зловеще затягивались извилистыми подсиненными шрамами молний. После этого следовало тектоническое ворчание фундаментальных громовых отголосков в басовых регистрах – и снова отчаянный сухой треск на повышенных тонах. Быстрый дождь торопился излить непонятную тревогу, ведя какую-то свою партию.
И я в этом мире – один, неизвестно зачем.
В тот момент, когда на мне серой корочкой стал схватываться панцирь безразличия ко всему, в том числе и к собственной боли (форма защиты, что вы хотите: всемирная, то бишь, всеобщая анастезия), Марина стала моей. Не знаю, выбрала ли она этот момент с точностью до минуты или просто почувствовала: сейчас или никогда.
Это произошло на квартире у ее лучшей подруги (у женщин, как известно, бывают подруги лучшие и просто подруги, как таковые; состав и качество подруг весьма подвижны, и кто сегодня утром еще был никем, завтра в полдень или, например, о трех часах пополуночи, вполне возможно, станет лучшей; так бывает). В полнолуние.
Лучшая подруга Марины Александра, которая со своим меланхоличным бойфрендом Александром же еще вчера пыталась затащить Марину к себе в постель, так сказать, расписать треугольничек из двух блондинок и одного лысого (Марина потом сама расскажет мне об этом), сегодня уже с удовольствием предоставила свежее постельное белье и неухоженную квартиру в полное наше распоряжение. Что ни говори, а ближние наши, стоит отдать им должное, в лепешку расшибутся, но организуют тебе условия, которые комфортно обеспечат тебе рыльце в пушку. Ради рыльца в пушку на физиономии подруги – чистой простыни не жалко, не то что квадратных метров. Чужое рыльце в пушку заставляет, да, да, буквально заставляет смотреть на свои собственные грехи сквозь пальцы. Такой вот удивительно терапевтический зрительный эффект.
Спустя год Александра будет торжественно сочетаться браком со своим без пяти минут законным мужем Петром, флегматиком (меланхолика хладнокровно спишут в отставку – видимо, из-за дефицита врожденных нравственных качеств); спустя неделю они обвенчаются – а еще через неделю Марина получит от своей старой подруги, то есть молодой супруги, строгое и недвусмысленное замечание (согласованное, само собой, с главой семьи Петром): зачем, дескать, жить с Германном в гражданском браке? Это есть блуд, и больше ничего.
Марина отвела глаза – и в этот момент подруга стала бывшей. А что еще Марине оставалось делать?
Если не забегать вперед (от вредных привычек избавиться почти невозможно, поэтому я стараюсь извлекать из них пользу – делать некоторые из них, в частности, суетливые забегания, формой литературного мастерства) и вернуться в квартиру, главным украшением которой были свежие простыня, наволочки (две) и пододеяльник, то я должен сказать следующее. Правду, правду и ничего кроме правды. С тех пор интерьер моего персонального отсека рая представляется мне именно таким: свежее белье, легкий беспорядок и отсутствие кого бы то ни было на пространстве семидесяти квадратных метров (пардон, силы небесные, никого не хотел обидеть; если пожелания потенциального клиента для вас что-нибудь значат, то – таков мой идеал). Я и Марина в интерьере. Марина как разделась, так с тех пор я и не видел ее одетой – пока мы бывали вдвоем, в любом интерьере.
Сказать, что нам было хорошо…
Первый раз нам было неплохо. Ничего феерического – но с отчетливым ощущением, что у нас все будет иначе, чем было в первый раз. С ощущением большой перспективы.
Так оно и случилось (забегая на сутки вперед).
Не описать уже раздевшуюся женщину было бы неприлично. И нелогично. Все равно, что не замечать труп посреди комнаты (в хорошем – литературном – смысле этого слова). Разделась – описывай. Я не питал иллюзий по поводу исключительности ее данных. Скорее блондинка. Стройная. Хорошая фигура. Рост – как у меня, 171. Средняя внешность – можно было бы сказать и так. Но это значило бы ничего не сказать. Меня все устраивало настолько, что внешность ее сразу стала для меня исключительной. Правда, выяснилось это уже через сутки, после того, как мы второй раз оказались в постели.
Она же была голой? Следовательно, перехожу к подробностям. Я не очень понимаю, когда говорят «красивая грудь». Словно грудь существует сама по себе, отдельно от женщины – от ее воспитания, образования и темперамента. Даже если это и так, то «красивая грудь» и «грудь моей женщины, способная творить чудеса, когда уже кажется, что все иные сексуальные подсистемы выключены», – так вот, красивая грудь и грудь моей женщины, говорю я, это разные вещи. У Марины была красивая грудь, жаловаться и ей, и мне было бы грех; но в сочетании со всем остальным…
Разве это поддается описанию? Увы, поддается. Все на свете поддается описанию, вот в чем проблема писателей. «Не поддается» – это прием такой; значит, либо я кокетничаю, либо скромность демонстрирую, либо описывать нечего (а писатель об этом не догадывается), либо это и есть, собственно, описание. В зависимости от ситуации и контекста это может значить все что угодно. На то и читатель, чтобы ничего не понимать. Особенно в моем романе, который не для всех . То есть для себя самого. И мне подобных.
Просто чтобы описать грудь, надо описать все: все наши отношения до конца, и настоящие, и будущие, всю мою жизнь, жизнь моей страны, все тело и душу Марины. Словом – все. От рождества Христова. Это, кстати, касается не только груди, а – всего.
Хороший любовник не тот, кто знает, что полагается делать с женщиной, а тот, кто знает, что надо делать именно с этой женщиной именно в этот момент. Понимаете? Иногда я ласкал ее грудь кончиком языка (теперь я забегаю на год вперед), иногда я терзал ее своей ладонью, иногда касался сосков бедром, иногда…
Постель для тех, кто любит, – это ведь симфония. Все меняется, все течет, все подвижно, все стонет. Здравствуй, река. Попробуй, угадай, как сегодня карта ляжет. Иногда грудь играет первую скрипку (хотя конкуренция у нее – сами понимаете…), иногда ей можно доверить партию флейты-пикколо, а иногда грудь оказывалась в руках самой Марины, которая верещала по русалочьи, пока я общался с ее попой, и что там у них происходило, у Марины с грудью, – мне в точности неизвестно. Хороший любовник предпочитает не вмешиваться в подобных ситуациях. Деликатность прежде всего.
В этот раз описание неописуемого я почему-то начал с груди. Так получилось. В следующий раз доберусь и до «маринской впадины», если, конечно, не задержусь на моих любимых бедрах (могу ведь и уснуть на них) и преодолею упругую мягкость живота (котики мои морские!). А есть еще бока (ах, как она реагирует, когда я впиваюсь в них сильными пальцами – ни дать ни взять вылитый эвенк на собачьей упряжке, колесящий по всем северам!), которые мне нравятся не меньше груди. Славные бока.
А волосы? Длинные, густые.
О волосах хороший любовник…
Кажется, я уже говорил: самое сложное – это вовремя остановиться с женщиной. Так вот: стоп.
На следующий день после того, как я по-настоящему вкусил Марину (мы были вместе семь часов – далеко не рекорд, кстати), моя жена, ничего не зная об этом, подала, однако же, на развод. Что не стало эпилогом наших отношений. Более того, в каком-то смысле это был всего лишь пролог.
Обрушилось лето. Почему-то прямо – с полнолуния. Наверно, не календарное, а душевное, фактическое лето.
Полная Луна в тяжкой невесомости застыла над Землей. Создавался эффект нависания над душой – эффект присутствия кого-то, если не живого, то понимающего. Понукающего. Постороннего, испытывающего тебя сквозь набрякшие приспущенные веки. Невольно подергивало желание ежиться; трудно было удержаться от соблазна то и дело оборачиваться на луну, заглядывая ей в глаза .
Которых, как известно, у луны – нет.
2. Лето
Итак, Марина стала моей.
Мы переживали тот период любви, следующий сразу за нарядной конфетно-букетной стадией, который определяет все дальнейшие отношения влюбленных. Горячие слова, раскаленные чувства, поцелуи с пылу с жару, градус накала – невероятный. Собственно, полчища ромео, донов и жуанов останавливаются где-то на этой страстной стадии. Ибо дальше, кажется всем писателям и читателям, неинтересно.
Я так не думаю. Не думаю я так. Я мыслю, так сказать, cogito, совершенно иначе.
Согласен: потом чувства-страсти как-то бледнеют, и повторить то, что было, не получается. Задираешь голову на покоренную вершину – и не веришь сам себе. Ущипнешь себя раз, другой – не верится. С тобой ли это было? Согласен: кажется, что любовь ушла. Исчерпала свой ресурс. Пора переходить к следующей – не стадии уже, любви. Пылким галопом по многочисленным Европам. (Вот тут бы самое время прикусить язык, который после Европы потянуло на рифму. Можно ведь так неполиткорректно нарифмовать… Стоп.)
А любовь не ушла. То, что было, никуда не исчезло, оно осталось точкой отчета и вечным неразменным капиталом. Просто вспышка эмоций вначале была подобна солнечной буре, нервирующей вселенную своими протуберанцами.
После этого – ровное горение. Нормальное чередование циклов.
И ровное горение, обратим внимание, – это логическое продолжение протуберанцев, а не угасание.
Экзистенциальные всплески могут быть только кратковременными. Иначе не выживешь. Быстро сгоришь дотла. Да и потом… Постоянно жить на вулкане в режиме паранойи – скучно, куда скучнее, чем спокойно наблюдать вулкан со стороны (будучи всегда немножко в нем). Бурная любовь – краткая любовь. И если она продолжается, если от природы чувств дано столько, что с ними не справился кратер, то любовь становится обидно похожей на вялотекущий процесс.
Не верьте своим глазам, не видавшим любви. Средняя температура чувств любящей пары, которая складывается из самой высокой и «обычной», той, что в пределах нормы, всегда выше средней семейной по стране. Любовь не уходит. Она греет всю жизнь.
… И это тоже надо испытать в жизни. Если уж говорить о гармонии.
Казалось бы, сама стадия любви должна была сделать меня счастливым вопреки всем обстоятельствам. Так оно и было. Но!
Не спешите меня поздравлять. Про мужа забыли? Я – нет.
Дело не в том, что он был вообще, где-то там; дело в том, что он был для меня досадным ограничителем. Я почему-то не мог выражать свои чувства, которые стремились к безбрежности, в полном объеме. Мне всегда мешало наличие другого человека рядом с моей Мариной.
Конечно, я говорил об этом Марине. Ее реакция, как мне казалось тогда, была странной. На самом деле, как я понимаю сейчас, более чем естественной. Она смотрела на меня, гладила меня по щеке и говорила: «Подожди. Не торопись. Я все устрою. Ты должен верить мне».
А мне было обидно. И оскорбительно оттого, что Марина обидно не чувствовала моей обиды. Уровень и формат наших отношений (любовь, напомню) предполагал одну вещь: иного мужа, кроме меня, у Марины быть не могло. А он почему-то был, продолжал существовать и, складывалось впечатление, никуда не собирался исчезать.
Моя интуиция просто горевала: я опасался, что любовь устанет и обидится – из-за того, что естественным образом выражать себя ей запрещено. Мои чувства деформировались, корежились, словно несчастные дети компрачикосы, которых выращивали в бочках-маломерках, чтобы у них появлялся горб и прочие уродства. Нормальные дети никому не интересны, уродцы же умиляют всех, возбуждая сострадание.
Произошло парадоксальное: чем сильнее становилась моя любовь к Марине (а после наших бесстыдных свиданий я обожал ее до боли и до смерти) – тем невыносимее становилась каторга выходных. В понедельник – пепел в душе. Во вселенной гас свет.
В один из таких понедельников…
Нет, сначала о пятнице, той, что была накануне.
Пятница была незабываемой. Все. Никого не подпущу к моей Марине.
Все. Забудьте.
В один из гнуснейших в моей жизни понедельников я не выдержал и заявился к ней домой, чтобы выяснить отношения с мужем Гошей (кличка – не поверите – Го. Просто – Го). Произошло то, что неплохо описано в русской народной сказке про царевну-лягушку. Иван (кажется, так звали главного положительного героя, не Иван-дурак, а Иван-царевич) поторопился – перестал слушать ее неубедительное бормотание с неизменным ключевым словом «завтра» и сжег ее бугристую, отвратительно мокрую лягушечью шкурку (я, кстати, отлично его понимаю). Я, добрый молодец, легкомысленно усвоил, что сказка ложь, да в ней намек, из которого не грех бы извлечь урок (так сказать, поучиться на ошибках других); но я и не предполагал, что намек реален до такой страшной степени.
Ох, уж эти сказки… Наши университеты. Каждая есть ложь (молочная река – мэйнстрим) с кисельной правдой по берегам. Мне и сегодня кажется, что приличные роман или сказка отличаются от жизни только одним: сначала события происходят в романе-сказке, а затем в жизни. Но это к слову, опять же.
Марина с Гошей собирались разводиться через неделю. И, что принципиально, не из-за меня – не из-за возлюбленного, по одной версии, и любовника жены, по другой. Как я сейчас понимаю, Марина не подло, а тактично и тонко вела игру с человеком, который ревновал ее ко всем, и в первую очередь – к себе. Вот почему не вести игру в ее ситуации было невозможно. Любовь (будь проклят этот тяжеловесный стиль божественных длиннот, регулярных отступлений!) вообще штука не очень чистая – и потому чрезвычайно сладкая. Нектар на основе яда. Выбор в любви осуществляется по законам рынка. Бескорыстные сердца, изнывающие буквально неземной любовью, играют на слабостях друг друга, выбирают, взвешивают, торгуются – после чего не без мук совести (последствия счастливого детства и нормальной юности) кутаются в белоснежное платье, которое окружающие, по правилам игры, принимают за символ чистоты. Рынок – борьба интересов! – универсальный механизм человеческих отношений, поскольку в их основе лежат брутальные экономические отношения. К концу романа (уже написанного) я усвою это окончательно и бесповоротно. А вот на данном этапе своей жизни я все еще колебался, сомневался, белый цвет легко вышибал из меня слезу (надеюсь, меня не попутали лукаво ассоциации с саваном). Я даже пытался не уважать себя за свои сомнения. Последствия вдумчивой зрелости.
Сейчас я думаю так: все бы хорошо и правильно, если бы не одно «но»: рынок любви – это унизительно для личности. Оставаться с унизительной иллюзией, что рынок можно отменить?
Конец отступления. Стало быть, вопрос повесим в воздухе. На полях романа. Там, где Пушкин гирляндами помещал женские профили.
Нам неслыханно везло: мы выбирались из катастрофы, отделываясь легким испугом. Опять же: ни в сказке сказать, ни пером описать. Наилучший сценарий. Лепота. До счастья с белыми кружевами оставалась неделя. И тут на сцену явился я…
Весь в белом, как положено (в тон побледневшему лицу Марины). С белыми же цветами – букетом больших ромашек. Дескать, прошу руки вашей непорочной жены.
– Опаньки, – сказал Гоша. – Стояночка. Ты кто будешь, ёлопень?
– Герман мы, – отвечал я как ни в чем ни бывало.
– Уходи немедленно, – без выражения, мертво сказала Марина – с самым жутким выражением которое я только знал.
– Стояночка, – оборвал ее муж. – Пошла вон.
Марина, чему я удивился несказанно, покорно вышла вон, плотно затворив за собой дверь.
– Садись, – скомандовал хозяин дома. – Водки?
– Не откажусь.
– Гоша, – он протянул вперед не руку, а стопку водки – стаканчик из толстого стекла, обвитый клешней. – Для друзей и для врагов – просто Го. Был такой китайский мудрец. Основоположник школы боевых искусств. Учитель.
– Герман, – встретил я его выпад полной чаркой.
– За знакомство, – сказал он, тут же наливая по второй и нимало не интересуясь моим самочувствием.
Наши увесистые стопки звонко чокнулись лбами.
– Теперь за любовь?
Я молча протянул пустой стопарь. Дескать, наливай: за любовь – всегда готов.
К полуночи (на небе вновь царила полная луна) мы выпили с ним три бутылки водки «Русский стандарт» – рюмка в рюмку, под символическую закуску (пресное, бледными ленточками порезанное мясо крабов в глубокой пиале – заготовка для салата). Марину на кухню он не пустил – шуганул, как нашкодившую кошку.
На лице Гоши выделялись как-то смутно, вообще знакомые (штрих типажа) набрякшие, приспущенные веки. Из-под которых – тяжелый, просто давящий на мозжечок, грудную клетку или куда там придется, взгляд. Казалось, что взор с укором – сбивает с ног: хотелось пятиться до какого-нибудь упора.
Возможно, именно этот дубина-взгляд и спас меня от позорного опьянения: я захмелел крепко, но не безнадежно, всячески сопротивляясь тотальному прессингу. Интонации, жесты, вопросы, бесконечные истории – все было то ли вызовом, то ли провокацией, то ли угрозой. Он все время меня испытывал, брал на излом. Ни слова в простоте душевной – и ни слова о Марине.
– Ты на Севере был?
Это он – мне.
– Не был. Вреден север для меня.
– Значит, не знаешь, как люди друг друга едят?
– Думаю, так же, как и на юге.
– Стояночка. Значит, не знаешь. Так и говори: не знаю. Не видел. Я тебе сейчас расскажу…
– А как ты на Север попал?
– А ты не знаешь, как на Север нормальные люди попадали при советской власти? Не по своей воле, старичок. Кое с кем кое что не поделил. Он – за нож, я, бля, тож, меня ж так просто не возьмешь… Слушай, как люди поедают людей и не перебивай…
Потом он рассказал, как участвовал в дуэли на мотопилах с бугром, старшим (бригадиром?) в геологоразведочной партии, с которым они не поделили бабу, жену бригадира оленеводов.
– Так чем все кончилось?
Это я интересуюсь.
– Я живой, как видишь.
– А твой соперник? Старшой?
Гоша рассмеялся так, словно видел перед собой не человека, а корявый симулякр, тень придурка.
– Хочешь, расскажу, как я наступил на живого лося?
– Расскажи. Ты его потом съел?
– Дурашка. Лось – это не человек; его убивать грешно. А есть можно: вкусный, зараза.
В процессе общения выяснилось, что Гоша – владелец рекламного агентства, начитанный и напичканный разного рода информацией господин, увлекающийся всеми современными видами спорта. Нырять на немыслимую глубину, прыгать с парашютом, с тарзанкой, падать камнем вниз с дельтопланом, сплавляться по реке, охотиться, горы, джунгли, пустыни, змеи – кобра, гюрза, анаконда… Пауки каракурты, опять же. У меня зарябило в глазах.
– Ты полагаешь, что смысл жизни – адреналин? – спросил я.
– Что? – Гоша демонстративно раскрыл рот с не дожеванными кальмарами. – Нет, я полагаю, что смысл жизни – это выдумка таких, как ты, Достоевский, мешающих нормальным людям жить полноценной жизнью.
– Полноценной – это непременно прыгать с тарзанкой? Искать приключений на собственную задницу – то есть бежать от головы и сердца?
– Почему – бежать?
– А почему ты боишься заводить детей? – спросил я, хотя ничего не знал о его отношении к детям. – По-твоему, мир устроен так паскудно, что в нем нет места детям – чистым существам? Ангелам? Ты не веришь, что человек отличается от скотины?
Вот тут впервые за весь вечер в его не меняющемся взгляде промелькнуло что-то вроде уважения. Я легко и просто разгадал его большую тайну.
– Ты шаман? Да? Нет? Обучен таинствам вуду? Жаль. А знаете ли вы, корнет, кто такой паскуда? В моей библиотеке тысячи словарей и справочников. Брокгауз и Эфрон. Ницше, Вальзер, Улицкая, Эльфрида Елинек – последнюю настоятельно рекомендую. «Пианистка» – это песня. Вся культура мира у моих ног. Так вот, паскуда – это…
– А почему ты назвал меня корнетом?
– Разве я назвал тебя так? Не припомню.
– Неважно. Продолжай.
Паскуда, как выяснилось, – это уже из реалий древней Индии; по поверьям индусов, а может, не индусов, сейчас помню смутно, а словарей под рукой не держу, девочки и молодые девушки не могли уходить в мир иной девственницами. Не познавшими мужчину. И если такое все же случалось, семья трагически усопшей вынуждена была прибегать к услугам специально обученного человека, который мог помочь в этих, казалось бы, безнадежных и вместе тем деликатных обстоятельствах.И имя тому человеку было – паскуда.
– Короче говоря, некрофил и педофил в одном лице? – подытожил я.
– А что ты знаешь о некрофилии? – он улыбнулся медленно и так паскудно, что мне страшновато стало продолжать эту тему.
– Иди ты нах остен. Просто – «на х».
Он рассмеялся легко, не впуская в себя обиду – или очень искусно скрывая, что он смертельно обижен. Я был не только начеку, но и сам пытался раскусить Гошу. Он был настолько ярок и колоритен, что я не сомневался, что ключ к его персоне должен лежать на поверхности. О чем он сам, разумеется, не догадывался. Так оно, в общем-то, и случилось.
Но он меня переиграл.
– Может быть, ты и снежного человека видел, Гоша?
– Я видел ети, – сказал он без улыбки. – Это не смешно.
Его колючие глаза, делая что-то с расстоянием, разглядывали меня в упор, изучая каждый квадратный сантиметр на моем лице. Он занимался какой-то иглотерапией глазами.
– Я тебе расскажу сейчас про ети…
Он рассказал. Ети (а это, несомненно, был он – его не пьющий механик, живой памятник скептикам всех времен и народов, опознал со спины) сожрал половину продуктового запаса геологов. Навестил их стоянку – и давай лопать все подряд. Было не смешно.
Мы выпили.
– Расскажи мне теперь про Китай, – попросил я.
– Нет.
– Отчего же?
– Тибет – это святое. Основа основ.
– Кто бы сомневался… А я никогда не был в Китае – потому что я там не побываю никогда, черт побери. А спишь ты по ночам нормально? – глубины моей интуиции были встревожены и что-то нашептывали мне.
– Шаман, шаман. Ох, Германн… Плохо сплю. Но ты не разберешь меня на запчасти. Я слишком сложен. Не по зубам тебе.
– Привидения изволят посещать? – продолжал я наступать, не отвлекаясь на его неуклюжие контрвыпады.
– Бывает. Кстати, о привидениях… Однажды…
Возможно, под его странным взглядом мы, в конце концов, договорились до таких вещей, которых трезвый или просто вменяемый человек просто не поймет.
– Завтра? – заговорщицки выговорил Гоша, буравя во мне дырочки серенькими глазами.
– Завтра.
– В седьмом часу, перед закатом кровавого цвета?
– В девятнадцать ноль-ноль.
– По рукам, корнет?
– По рукам, генералиссимус Го.
Только теперь мы пожали друг другу руки. На его правой руке не было указательного пальца.
– Укусила гюрза в горах, когда я обучался у монахов искусству боевого кунг-фу, пришлось самому себе оттяпать палец топором, чтобы не началась гангрена, – пожал плечами гостеприимный хозяин в ответ на мой взгляд. – И эта операция научила меня больше, чем все Библии мира вместе взятые. Кстати, стиль змеи (я о боевом искусстве) удавался мне больше всего. Я очень уважаю ту гюрзу…
Поинтересовавшись напоследок, не существует ли стиля гиены, я покинул дом Гоши (полное имя, какое бы оно ни было, действительно, вряд ли бы пошло этому куцему титану; Го, если честно, было даже более уместно, нежели Гоша – последнее отдавало попугайчиком, поэтому я называл Го исключительно Гошей) хоть и на своих ногах, но, не исключено, не в своем уме. Ощущение ирреальности – лунности! – происходящего не покидало меня; и в то же время я чувствовал, что бессилен что-либо изменить.
Полная луна томно укутывалась пелериной дымчато-сизых облачных материй, чтобы спустя минуту вновь освободиться из их плена неуловимым движением (так и хотелось добавить – плеч).
Постепенно луна стала напоминать мне круглый лик девушки Горгоны: под ее взглядом я противно цепенел.
– Медузовая мразь, – выругался я неизвестно в чей адрес. Желтая Луна-китаянка – ноль эмоций.
Я шел и размышлял о некрофилии как форме любви к жизни.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
6
Вернёмся, однако, к нашему схематическому герою, который, по воле автора, вынужден был демонстрировать гибельность избранного им пути.
Трагедия Раскольникова заключалась не в том, что он умом понимал всю неотвратимость «решения неразрешимых вопросов» и в то же время отдавал себе отчёт, что психика, здоровая психика должна хитро ускользнуть от вопросов, преодолеть сам факт неразрешимости вопросов, поберечься во имя жизни (так осознанное устройство человека и мира, как мы помним, даёт качество высокой трагичности), – а в том, что он в равной мере был психически ангажирован двумя взаимоисключающими присутствие друг друга «истинами»: рациональной (по форме, но не по существу) и иррациональной (и по форме, и по существу). Невозможность предпочтения ни одной из них как самодостаточной – вот его проблема; избранная же (в силу необходимости выбирать) им истина влекла за собой «наказание», то есть являлась преступлением. Однако иной вариант – и в этом безысходность трагической ловушки – также не уберегал от наказания. Раскольников, как и Сонечка, и князь Мышкин, был обречён в этом мире чувствовать себя преступником. (Повествователь убеждён, что это качество «великих сердец», предназначенных к «великому предстоящему исполнению»; по иронии судьбы или в силу каких-то иных обстоятельств «великие сердца», алкающие страдания, оказались тенью жизни, марионетками запутавшегося в диалектике повествователя, пытавшегося противопоставить жизнь – диалектике.)
Вот как это воплощено – блестяще воплощено! – на уровне психологии, ставшей структурой персонажа, характеристикой творческого метода (на уровне стиля – не менее блестяще через «путаный» синтаксис и «рваный» ритм): «Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал , что она непременно "пронесётся", и уже ждал её; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера ещё, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам осознал это… Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах».
В этом фрагменте подведён итог всё ещё «колеблющегося» состояния после прочтения письма. На импульс «мысль» у героев Достоевского мгновенно следует реакция, обратная смыслу импульса. Иначе говоря, глубина мысли поглощается глубиной предчувствий, происходит подавление очагов мысли.
Ещё более убедительно сшибка разноприродных мотивов поведения (что, по мысли повествователя, доказывает если не априорное «знание» души, то опережающую, пророческую правоту интуиции) показана далее. Прочитав письмо, Раскольников пошёл к Разумихину. По пути он и стал свидетелем безобразной уличной сцены, когда уже совращённую «барышню» пытался перехватить «жирный франт» «с розовыми губами». Вот вам, кстати, тот самый парадокс: сочность, полнота и цвет жизни невыносимы своей пошлостью для повествователя. То ли дело губы, «запёкшиеся» или «запенившиеся от злобы», – праведной, уточним, злобы, – исступлённо «горящий» взгляд и жёлтый или, на худой конец, бледный цвет; отлично гармонирует со всем этим набором «изнеможение во всех членах». А вот вам и формула писателя: жизнь есть страдание , и разуму противостоит не радость цвета крови с молоком, а изболевшаяся душа. Это не что иное, как иррациональная форма ненависти к жизни, угроза жизни едва ли не большая, чем бесстрастный разум. Раскольников с огромным удовлетворением убил бы Наташу Ростову, другое дело, что Достоевский не сумел бы создать столь отвратительный для уязвлённой души полнокровный женский образ. Даже в проститутки писатель отдаёт святую, тогда как для обладательницы жёлтого билета требуется всего-то дьявольски прельщать телесами. И это не пустячок или недосмотр писателя. Предпосылки, определяющие поведение человека Достоевского, лежат не в сфере биологической или социально-психологической (хотя и этот контекст обозначен); поведение героя почти напрямую определяется идеей , пропущенной через фильтры души, – вот откуда такая ненависть к разуму, идее, теории: ненависть к тому, к чему более всего тянется сам. В романах Достоевского нет характеров (ибо характер вскрывает связь личности с обстоятельствами, со средой), а есть иллюстрации «страдающей души» или «страдающей души, подмятой под себя злым гением разума».
Впрочем, мы сбились с пути, следуя за Раскольниковым, направлявшимся к Разумихину. Но зачем он пошёл к Разумихину, едва ли не единственному своему приятелю?
Техника и технология добывания нужной информации из бессознательных глубин у Достоевского доведена до виртуозного совершенства. «Вопрос, почему он пошёл теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке.
"Что ж, неужели я всё дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашёл в Разумихине?" – спрашивал он себя с удивлением.
Он думал и тёр себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна престранная мысль.
"Гм… к Разумихину, – проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения, – к Разумихину я пойду, это конечно… но – не теперь… Я к нему… на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда всё по-новому пойдёт…"
И вдруг он опомнился.
"После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве то будет? Неужели в самом деле будет?»
Он идёт к Разумихину, не зная, почему именно к нему, почему именно сейчас, но предчувствует в этом, казалось бы , «обыкновенном» поступке «какой-то зловещий для себя смысл».
Тут же всё и прояснилось. Раскольников какими-то таинственными, но полномочными службами контроля за сознанием был поставлен в известность, что он несколько опередил события. Визит к Разумихину, оказывается, запланирован, но только на другой день после «того» . Следовательно, «то» самое (если «предприятие» назвать своими словами, – предстоящее убийство старухи-процентщицы с целью ограбления – то благородная цель идейной акции как-то стушевывается) уже не подлежит обсуждению, оно просто стоит в графике и ждёт своего часа.
Но какая инстанция столь нахально распоряжается волей Раскольникова, информируя его о том, что предстоит совершить, но не собираясь обсуждать с ним порядок действий?
Ответ очевиден: Раскольников «действует на автопилоте», без участия сознания, но именно сознание, трезвый расчёт «включили автопилот». Именно разум сковал сопротивление души, парализовал волю и поставил перед фактом: эксперимент по обновлению («когда всё по-новому пойдёт») жизни неизбежен.
Казалось бы, вопрос решён . Но психика ещё не исчерпала ресурс сопротивления. Во имя сохранения жизни своей и чужой, во имя жизни Раскольников получает ещё один «знак» – вещий сон. Как тонко – здесь вполне уместно затасканное слово гениально – Достоевский показывает перетекание информации с сознательного уровня на подсознательный, «разбрасывая» её по разным уголкам сознания – и не теряя при этом содержательную нить: с точки зрения автора, происходит обыкновенная трагедия человека: незаметное, скрытое даже от самого сознания, разъедание личности героя, превращение всего лишь «мономана» в убийцу, преступника, преступившего все человеческие законы и тем не менее убеждённого, что его действия не противоречат высшему моральному закону.
Таково дьявольское коварство разума! Он убивает сначала личность потенциального убийцы. Человек становится орудием убийства, превращаясь из преступника – в жертву. Неудивительно, что после подобных произведений доверие к разуму утрачивается как минимум на несколько веков и так не слишком умной истории человечества.
Странно, но факт (такова магически-гипнотическая власть художественного гения): Раскольников где-то на задворках нашего подсознания уже вызывает жалость как жертва , хотя мы не сомневаемся в том, что он становится убийцей. Кто же тогда истинный агрессор, кто преступник, которого не жалко, который хитростью и обманом (злодейским умыслом) завлёк чистую, детскую , предназначенную для светлых подвигов душу терзающегося молодого человека?
Да разум, разум, конечно. Вот истинный враг, гадина, которую надо научиться истреблять. Как?
Читайте роман дальше.
Итак, бессмертная душа (которую можно, по вере повествователя, только на время охмурить, соблазнить – да и то для этого надо рядиться в белые одежды, прикидываться справедливым – и которая всегда держит в запасе универсальную возможность покаяния, очищения через страдание , что, собственно, и составляло кодекс «вечной Сонечки») в полной мере обнаружила свою чудодейственную прогностическую силу в «болезненном» и «страшном» сне Раскольникова. Вообще психологическая эпопея Родиона Романовича совершалась по модели сна: человек делает всё, чтобы уберечься от гибели, и странным образом все его усилия только приближают гибельный итог. Где сон, где явь, где истина, где хитроумный обман?
Достоевский первый в мировой литературе, с беспрецедентным совершенством (настолько приближённым к абсолюту, что сегодня представляется, что усовершенствовать его в этом отношении едва ли возможно) уловил и сумел зафиксировать бесконечную текучесть и как бы духовную неопределённость человека. Но, сделав главную духовно-конструктивную возможность Homo sapiens, разум, главным его врагом, а творца иллюзий, психику, – гарантом стремления к «объективному» совершенству, Достоевский беспрецедентно же и «навредил» («польза» от литературы всегда невелика) человеку.
Итак – сон. Разумеется, Роде приснилось детство. Обратим внимание: в контексте предлагаемых гонителями разума духовных ценностей дети и женщины как наименее подверженные чудовищной заразе интеллекта становятся носителями высшей мудрости, то есть интеллектуальной невинности (собственно глупости) или невменяемости (глупости же). Вообще вещий сон полон символов, и если его анализировать в контексте целого романа – это составит тему отдельного исследования. Тут и вечер, и окраина городка, кабак, пьянство, кладбище, насилие, кровь, убийство… Нас же заинтересует прежде всего «маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка», которая, надрываясь, тянет телегу с пьяными мужиками и бабами. «Лядащая кобылёнка», не в силах тянуть пьяную ораву, к тому же погоняющую и засекающую клячу кнутами до смерти, от бессилия начала лягаться. Кругом хохот. Кобылёнку свирепо «принимают в шесть кнутов» («по глазам хлещи, по глазам!»), а потом добивают «длинной и толстой оглоблей».
Бедный мальчик, который во всех подробностях наблюдал эту дикую сцену, «с криком пробивается (…) сквозь толпу к савраске, обхватывает её мёртвую окровавленную морду и целует, целует её в глаза, в губы…» Поведение бедного Роди не слишком напоминает действия того, кто вскоре, проснувшись, топором расправится с беззащитными женщинами, не правда ли?
Какая связь между сегодняшним сном и завтрашним убийством?
«"Слава богу, это только сон! – сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. – Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон! "
Всё тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.
"Боже" – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?" (Именно, именно так всё и произойдёт! Сегодня это назвали бы феноменом самореализующегося прогноза. – Г.Р.)
Он дрожал как лист, говоря это.
"Да что же это я! – продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, – ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь ещё вчера, вчера, когда я пошёл делать эту… пробу , ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю… Чего ж я теперь-то? Чего ж я ещё до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко… ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило…
Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчётах, будь это всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я же всё равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю! Чего же, чего же и до сих пор…" (Весь этот монолог воспринимается существенно иначе, если иметь в виду, что он таки «решится»… – Г.Р.)
Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашёл и сюда, и пошёл на Т-в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. "Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!"
Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения !»
Не правда ли, неожиданный поворот событий?
Такого Раскольникова Роди мы ещё не видели, и наличие такого Раскольникова делает последующее зверское убийство, как ни парадоксально, как бы и «предстоящим исполнением», как бы фазой большого замысла, для которого и «берегли» «великое сердце» Родиона.
А если нет – роман можно заканчивать. Психика, словно загнанная клячонка, сопротивляясь в отчаянии, совершила свой последний подвиг: остановила «заколдованного» Родю у последней черты.
Всё ясно, как божий день: даже если преступление («проклятая мечта») – благо, душа не принимает, просто не в состоянии принять убийство как способ предотвращения другого убийства. Всё: свобода, облегчение, отречение. Чары ума бессильны.
Роде-то, положим, всё как бы ясно – но не другим потенциальным «умникам», ради вразумления которых и писался предостерегающий, евангелический по архетипу «рассказ». Ради них Раскольникова отправили на Голгофу. Впрочем, самому Родиону тоже всё было ясно до поры до времени…
Что же могло произойти за столь короткое время, – считанные часы! – чтобы душа вновь оказалась готовой к преступлению?
А ничего не произошло. Воскрешение души оказалось всего лишь последним содроганием кобылёнки. Метастазы логики настолько глубоко поразили даже «детские» очаги души, что достаточно было «в высшей степени случайной встречи на Сенной», чтобы чары вновь опутали нетвёрдую душу доброго Роди. Стоило ему «вдруг, внезапно и совершенно неожиданно» (мастерство оттеночных градаций в романе – на уровне эксцентрики) узнать, «что завтра, ровно в семь часов вечера» Лизаветы, старухиной сестры не будет дома, «и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, останется дома одна », как сон (жизнь!) был забыт, а явь (чары!) затуманила рассудок. «До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошёл к себе, как приговорённый к смерти. Ни о чём не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно».
Вот это и есть высшее психологическое мастерство как способ лепки персонажа. Подлинное воскресение души возможно только через подлинное страдание, следовательно, через подлинное преступление. Искушение Родиона Раскольникова, испытавшего однажды обаяние смерти, не могло развеяться само по себе, всего лишь контрдвижением души. Если ты не Сонечка, надо жизнью воспитать вкус к страданию, перестать бояться его и через него идти к воскрешению.
Итак, через преступление – к воскрешению. Иной, усечённый путь, – это всего лишь жалкий экстерн вместо подлинных университетов, всего только слова, слова. Необходим же титанический, непередаваемый словами труд души как самый главный аргумент против козней разума.
И Родион Романович Раскольников вступил на Голгофу.
Добро пожаловать вслед за ним, читатель.
3. Поединок
В тот роковой вечер понедельника, неуловимо перешедшим в полночь, мы с Гошей решили драться на дуэли. Вернее, это он так решил, а я не нашел в себе сил отказаться. На рапирах. И вовсе не потому, что это оружие было вывешено на стену в первом акте, то бишь, в первой книге, и, следовательно, по законам искусства в середине третьей книги неотвратимо наступил момент, чтобы его снять и пустить в дело. Вовсе нет. Просто так бывает в жизни.
Есть такой подлый финт – убивать благородством. И Гоша владел этим финтом виртуозно. Бесподобно.
– Убить тебя и костей не найти в молочной реке – банально; съесть – неромантично, да и противно, – размышлял он после того, как поведал мне сагу («шнягу», на жаргоне человека бывалого, к которому (жаргону) он прибегал с исключительным художественным тактом, без перебора – чтобы эффектно подчеркнуть экзотику и уникальность случившегося там или сям) о северных привидениях, с которыми ему пришлось сражаться уже в Минске, в собственном доме. – А делать с тобой что-то надо. Ты ведь любишь Марину?
– Ага, – согласился я.
– Ну, вот, видишь. А я ее сегодня изнасилую. По праву мужа. Ты ведь не сможешь этого мне простить, рыцарь печального образа?
– Давай драться сейчас, economicus.
– Сейчас – не время. Мы банально пьяны, как сукины дети, поэтому это тоже неромантично. Пьяный дебош? Увольте, коллега. Предпочитаю на трезвую голову и с чистой совестью.
– А завтра что изменится?
– Завтра у тебя появится повод, а у меня уже есть причина.
– Какая причина?
– Ты ведь бросил мне вызов, не так ли?
– Возможно. Но я что-то не заметил этого.
– Ты начинаешь извиняться?
– Боже упаси! Я тебя изуродую, как бог черепаху. Несомненно. Как дам тебе по ауре – из тебя дух вон. Но вызов… Ты недостоин вызова.
– Вот это и есть вызов. Ты забыл испугаться меня.
– Разве?
– Поверь мне.
– Ладно, тебе виднее.
– Неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы моя женщина нашла мужчину сильнее меня, даже если такие существуют? Я выжгу вокруг себя пространство в радиусе семи миль. Я не оставлю ни одного свидетеля против себя на этой земле. Вам не быть вместе. Ты понял?
– Не совсем.
– Завтра поймешь. Клянусь своей красотой, – без улыбки изрек нечто бордельное г. Го.
После чего мы скрупулезно обговорили детали поединка – я и не подозревал, что существенных мелочей так много. Место, секунданты, регламент, правила боя, записки «в моей смерти прошу никого не винить» (и далее – «шняга» от руки о мотивах идиотического самоубийства; «шнягу», кстати, я отказался писать наотрез), родственники, близкие и еще куча всякой дребедени. Сколько же условностей в жизни человека! И даже в его смерти. А все потому, что человек – существо социальное. Нет, биосоциальное. И только во вторую очередь и только в редких случаях – духовное.
– Так не сдрейфишь, корнет?
– По-моему, это было бы даже глупее, чем драться на дуэли.
– Ну, вот, молодец, молодец. Только завещание написать не забудь.
– Я завещаю нашим с Мариной детям мою шпагу и от мертвого тебя уши.
На что он мне гадко ответил:
– Спокойной ночи.
И, любезно проводив до двери, интимно вопросил: «Завтра?»
Наутро первой моей головной болью была собственно головная боль, а второй – секундант. Где взять мне близкого, верного человека, который был бы готов бесстрастно взирать на мою погибель (по трезвом размышлении «от мертвого тебя уши» казалось мне пижонским перебором, а «унести ноги» – несбыточной мечтой)?
Секундантом, по традиции, мог бы стать настоящий или не очень настоящий друг; все таки провожать в последний путь исколотого имярека – врагу не пожелаешь; а где мне было взять персону, хотя бы отдаленно напоминающую настоящего друга?
В памяти вновь уныло всплыл Сеня Горб. Но мне что-то быстро расхотелось, чтобы Сеня стал свидетелем моей бесславной погибели. Не дождется.
Тогда кто же? Учитель?
Мир праху его – и чур меня.
Тот факт, что у меня не было друзей, стал казаться мне пустяком по сравнению с тем, что я был не в состоянии найти секунданта. Какое унижение перед Гошей! Мало того, что он искромсает меня в капусту, как мексиканский кок куст агавы (и тут я, потенциальный рубленый шницель, кажется, не слишком могу ему помешать), так еще и поглумится над моим святым одиночеством (а вот тут я помешать ему обязан).
В конце концов, я был так разъярен отсутствием друзей, чему свидетелем должен был стать мой заклятый враг Гоша, что решил хотя бы напоследок завести себе друга.
И я решил позвонить Даниле, да, да, брату моей бывшей жены…
Дело в том, что в жизни моей случилась когда-то удивительная история.
У Данилы возникла необходимость переписать остатки своего состояния на кого-то другого, иначе он бы разорился вконец. И он ничтоже сумняшися обратился ко мне. Дескать, давай, Герман, побудь какое-то время миллионером вместо меня; а потом верни, пожалуйста, мне мое. Выручай. В твоей честности и порядочности не сомневаюсь. Больше обратиться не к кому. По рукам?
И я согласился. Собственно, только недавно я неприлично обнищал: вернул деньги хозяину. В знак благодарности он оделил меня набежавшим с охраняемой мной суммы процентом, поэтому совсем нищим стать я так и не успел.
«Долг платежом красен», – подумал я. И мысленно присовокупил: «Мне тоже не к кому обратиться».
Но закон подлости, как выяснилось, еще никто не отменял. Именно в этот день, именно в этот утренний час счастливый Данила летел на авиалайнере на отдых в Турцию. А может, и на Кипр. Один. Или с супругой. Не суть. Его физически не было в Минске – вот беда. «Мой секундант улетел на Кипр! И захватил с собой мою шпагу!» Боюсь, Го Шу это не совсем бы устроило.
Кроме того, как-то незаметно возникла третья головная боль, на фоне которой меркли предыдущие две, а именно: меня посетила идея, нет, все же точнее будет сказать «из меня возникла мысль», с которой я никак не мог сладить. (С тех пор, между нами, я отлично понимаю Зевса, родившего из собственной головы ослепительную Афину Палладу! Он дал жизнь красивой легенде, это аллегория, а не анатомия. Анатомия мужчины вообще штука мудреная. Вот вам пример. Попа Марины поселилась в моем сердце. Что за анатомия такая? Аномалия? Ау, Чернобыль?)
Я вдруг подумал (вчера мне было некогда домыслить этот смутно зародившийся во мне пассаж аж многолетней выдержки: мешал шум льющейся в мой организм водки): романтика, как то: космос, альпинизм, море, самолеты, армия, тарзанка, дайвинг, дуэли и так далее, чтобы не сказать, тому подобное, – вся эта романтическая лабуда – лишь погоня за адреналином, которая разрушает дух человека. Не укрепляет, а разрушает: в трезвом уме и трезвой памяти говорю вам я. Романтика – это наиболее престижный сегодня, второй после религии (второй по счету, но не по важности) способ деградации личности. Хотя религия, если разобраться, – это специфическая форма романтики. То бишь гнусной слабости.
А?
После этого мне стало жаль помирать так безвременно и бесславно: когда еще человечество дождется такого гения! Только начнешь расцветать – и на тебе, дуэли. А я ведь еще толком ничего не успел сказать, только еще готовлюсь… Жаль, искренне жаль. Себя. Меня. Дождаться бы, чтобы меня распнули по всем правилам, казнили равнодушием, объявили безумцем, травили непризнанием. Гильотинкой там побаловали, камерой для смертника. Насладиться жизнью. Красота. Мне же предстояло подыхать от ржавого, но искусно заточенного металла, в заброшенных складах на окраине Минска, в условиях полной антисанитарии. Не на миру.
Сук-ка судьба, что я еще могу сказать.
Не успел я справиться с третьей бедой, как нагрянула четвертая: Марина. Она пришла ко мне не физически, нет (хотя я бы не отказался от такой милости судьбы: во мне сильно было последнее желание – собственно, делающее человека первым), а в образе смысла моей жизни. Мадонна в косынке. И сделала мне больно. В области сердца.
Чтобы отвлечься, я решил вновь переключиться на головную боль номер два – на секунданта, пережитка эпохи корнетов. Мне не оставалось ничего другого, как связаться с компрачикосом Сеней.
– Это не по-человечески! – воскликнул Сеня, когда услышал мою историю.
– А ты знаешь как по-человечески? – возразил я. – В каждом человеке сидит по нескольку крокодилов. Бессознательно мы ведем себя настолько по животному, что если открыть это нашему сознанию, с приличным человеком должен случиться инфаркт. Обширнейший. Человек находится в конфликте со всеми, в том числе с самим собой. Вечный бой – слышал что-нибудь об этом? В каждом есть зона абсолютного эгоизма, который заставляет рассматривать даже самых близких людей с точки зрения выгоды и пользы. В человека вложена такая установка, которая заставляет считать именно его жизнь главнее всех остальных.
Вот это витально-эгоистическое начало обескураживает приличного человека – то есть человека, привыкшего ставить душу выше тела, интуицию выше инстинктов. И вдруг выясняется, что тело в определенном отношении абсолютно сильнее души. Человек начинает бояться сначала себя, а потом и других. Человек человеку волк – и возразить здесь нечего. Чем больше он боится себя – тем больше уговаривает себя, что душа сильнее инстинктов. Но сомнение так и остается навсегда.
По-человечески – признаться себе, что ты порядочная скотина. Ты любишь родителей – но любишь их как-то больше, если они помогают тебе, и как-то меньше, если они становятся обузой. Ты любишь детей – но с легким оттенком постоянного раздражения, ибо они урезают твое жизненное пространство, мешают тебе жить.
Мы и себя-то любим с ненавистью: от собственного эго никуда не деться, а решить наши обожаемые экзистенциальные проблемы не представляется возможным. Поэтому спецы по всевозможным закоулкам душ все чаще умоляют: не бойтесь себя, любите себя, то есть, надо заставлять любить себя, человека, если разобраться, весьма и весьма заурядного.
Это очень по-человечески. Вот ты, Сеня Горб…
– Хорошо, – невежливо прервал Сеня мою тираду. – Где и когда?
Я удивился.
Чем могут удивить меня люди, которые не рождены для того, чтобы стать личностями?
Ничем. Дайвингом? Нет. Богом? Нет. Мастерством фехтования? Не смешите меня.
Но тут я удивился. Сколько же в человеке намешано всякого, и не только говна! Вот это и смущает, вот это и не позволяет быстро и решительно вынести, казалось бы, очевидный вердикт.
Ровно к девятнадцати ноль-ноль мы с Сеней прибыли на положенное место (блуждали два часа, что на всякий случай захронометрировали). Гоша был дьявольски обходителен и учтив. Практически – обаятелен. И это меня уже не удивляло.
Он церемонно достал рапиры, методично разъяснил, как спортивное незапрещенное оружие превратили в боевое, запрещенное (теоретически я знал это давно: спилить шарики с конца рапир, заточить грани), какие последствия могут быть при нанесении ран различной тяжести и различного характера, как вести себя секундантам, если их подопечные, не приведи Господь, будут еще живыми, но потеряют сознание.
Далее он выказал немалые познания в области анатомии. И завершил:
– Три раунда по пять минут, секунданты следят за временем. Вопросы, господа?
– До первой крови? – уточнил Сеня.
– До первой смерти, – спокойно парировал Гоша. – Один из нас должен быть убит. Таково условие дуэли. Разве вам Германн ничего не сказал об этом?
– А если пять минут не выявят победителя? – дотошно терзал Гошу Сеня.
Мой противник криво усмехнулся и молча кивнул головой – мол, честь имею, господа хорошие – и отошел от странных людей, один из которых приуготовлен был к закланию, а другой делал вид, что не замечает этого.
Короче, он излучал уверенность и благородство. «Плюшевый – а рычишь, как настоящий», – хотелось бросить ему в лицо замшевой перчаткой.
Я медленно приходил в ярость – и ничем не выдавал своего изменившегося состояния. Затаился. У меня, затюканного аутсайдера, появлялся призрачный шанс – хорошо, что призрачный: за него хотелось цепляться изо всех сил, как за соломинку. Дело не в величине шансе; дело в том, что он придавал силы. Я почувствовал какой-то скрытый резерв. Благородные дохнут первыми от рук тех, кто прикидывается благородным? Это и есть проявление закона всемирного тяготения?
Как бы не так. Благородный – не значит полный лох, Гоша. Иди гюрзе своей рассказывай байки на ночь. Про привидения. А я тебе не гюрза. Я если цапну – ты сдохнешь, Го. Сначала немало изумишься – а потом тут же откинешь копыта, паскуда.
Мы разделись до пояса, встали в позицию (сначала он, потом я – и тут мои мышцы сразу вспомнили урок Учителя).
– Готов, корнет?
– Готов.
Он замер – и вдруг сделал стремительный выпад с громким театральным топаньем, призванный, очевидно, уничтожить меня морально. Я отскочил от него, словно барышня, ужаленная пчелой: при желании можно было подумать, что он легко добивается своего. Он так и решил, я в этом не сомневался. Его победа на самом деле обернулась моим маленьким триумфом, о котором он и не подозревал.
Я был готов к тому, что он фехтует в сто раз лучше меня, но он фехтовал только в семьдесят раз лучше. Это был еще один приятный сюрприз. Но мне пришлось тяжело.
Он держал рапиру вперед и вверх – и я держал точно так же. Он делал выпады вперед ногами, перебирая ими, будто резвый краб, и выбрасывая при этом руку с жалом на конце, рапирой (инициативой владел, разумеется, Гоша, кто бы сомневался) – я отбивался. Получалось нечто классическое: атака – защита, укол – блок.
К моему величайшему изумлению первая пятиминутка закончилась ничем. На мне не было ни царапины.
– Он тебя боится, – встретил меня Сеня изумленным выдохом, отдаленно напоминающим гром аплодисментов.
– Он? Меня?
– Неужели ты не видишь: он тебя пугает и ждет твоей грубой ошибки.
– Судя по тому, что я еще жив, он не дождался от меня грубого промаха?
– Ты бесподобен, – Сеня дышал тяжелее, чем я. – Я горжусь тобой.
– Что делать дальше, Сеня?
– Боюсь, ничего нового: око за око, зуб…
– Я в смысле тактики, Сеня. При чем здесь стоматология…
– Надо ужалить его. Чтобы он боялся еще больше.
– Это идея, падре.
Но это был опрометчивый совет, которому я опрометчиво последовал. Я на удивление легко ранил Гошу в левое плечо, упредив первую же его атаку. И только в тот самый момент, как моя рапира пронзила живую ткань, я понял, что упускаю свой шанс: надо было воспользоваться эффектом неожиданности сполна – надо было нанести неприятелю существенный урон, чтобы остановить поединок за явным преимуществом. И волки целы, и овцы торжествуют. Я ведь его убаюкал, усыпил бдительность – тактически переиграл! – а теперь преимущество вместе с яростью переходит к нему.
И тут Гошу, действительно, как подменили. Он сконцентрировался (время шло, он начинал уставать) и приступил к активным и рискованным действиям. Его атаки стали хитрыми, агрессивными и разнообразными. Если бы они были такими в первом раунде, я бы не продержался и минуты. Но перед Гошей стоял уже отчасти им же на свою голову закаленный боец, которому, увы, это мало помогло: к концу второго раунда я уже приволакивал пронзенную левую ногу, у меня был проткнут правый бок, судя по всему, задето легкое (на губах шипела кровавая пена) и сам кратковременный отдых был мне не на пользу. Я терял силы. В голове мутилось.
– Что, Сеня?
– С Божьей помощью…
– У тебя вата есть?
– Только носовой платок.
– Порви мою рубаху, перетяни мне ногу…
– С Божьей помощью… Что ты собираешься делать?
– Чтобы выжить, надо принимать такие правила игры, которые ведут к гибели, – сказал я, сплевывая пену.
– Боже сохрани и помоги нам!
Сеня, наверно, понял меня в том смысле, что во мне несокрушима сила духа. А я понял так, что дело плохо. Каким-то зверским чутьем я просчитал, что Гоша по-китайски бесцеремонно будет настроен на прежнюю победную стратегию. Зачем ему менять стиль поединка? Его все устраивает. А вот я должен его удивить. Не знаю, как, но обязан. Это, как выражались раньше корнеты, был вопрос жизни и смерти.
Чувство, владевшее мною, было явно не из репертуара Достоевского: ничего возвышенного. Или униженного. Просто жажда выжить.
Я, тяжко прихрамывая, выполз на площадку, стараясь не показать, сколько во мне еще сил. Может, мои предки были гладиаторы? Уж лучше бы – аллигаторы.
Плечо Гоши аккуратно, крест-накрест, было залеплено широким пластырем. Вокруг раны – ни кровинки.
Он встал в стойку, давая понять, что мой жалкий вид его абсолютно не трогает. На войне как на войне. Хочешь жить – убивай противника. Рапира – вперед и вверх. Гоша стал медленно, сукой-пауком подбираться ко мне, готовя решающую атаку. Я стоял на месте (моя раненная нога деревенела с каждой секундой). Когда он приблизился ко мне, я, как в детстве, стал размахивать рапирой, словно прутиком, направо – налево: вжик, вжик. А потом, сделав бессмысленную, но из чего-то явно следовавшую, тонкую паузу, стал рубить «по-чапаевски» – сверху вниз. Раз, раз. Это было «совершенно противу правил», согласен; но какие правила, когда жить хочется. Видимо, на какое-то мгновение мне все же удалось озадачить Гошу: он поднял рапиру, защищаясь от детской дури, но выставил ее как-то нетвердо (спасибо гюрзе?).
В следующую же секунду я сделал то, чего не ожидал не только он, но и я сам. Насмерть перепуганный собственной смелостью, я внезапно ломанулся вперед, словно недобитый бык на здоровых и стройных ногах; если судить по моему измочаленному виду, такой прыти со стороны почти трупа никак не предполагалось. Магию и гальванизацию мы в расчет не берем. Итого: мой контрвыпад был полным сюрпризом. Я превратился в многотонный придаток летящей рапиры – и с криком «на!», сопровождавшимся характерным хрустом, всадил заточенную сталь в белый живот бедному Гоше. После чего легко вытащил клинок и брезгливо отбросил его на пол. Реальность была посрамлена. Раздался жалобный звон – то холодное оружие сетовало на свою судьбу.
В моем представлении я совершил последний свободный жест свободного человека.
– Если вы задели позвоночник – ему конец, – услышал я над собой внятный голос.
Секундант Гоши был не другом, а медиком. В его руках был саквояж, грамотно упакованный всеми необходимыми медицинскими препаратами и агрегатами, которыми тот, колдуя над сипевшим Гошей, пользовался, словно аист – клювом.
– Я очень надеюсь, что задел хребет этому млекопитающему, – сказал я, пуская вишневую пену и теряя сознание.
Теперь я, кажется, понимал, что значил припев детской песенки про ежика, который «шел и насвистывал дырочкой в правом боку». Это черный юмор, дети. Есть на свете белый ети. Вот и все, большой привети…
Далее секунданты, строго следуя инструкции, развезли нас по разным больницам.
4. Воскресение из живых
Первым, что я увидел, когда открыл глаза в больничной палате, оказался не казенный потолок, а молодой следователь. Высокого роста, склонный к полноте, он был в белом маскхалате, наброшенном на свитер, и с бородой а ля Хемингуэй: штыковая лопата лица (широкие скулы, узкий подбородок) обросла жестковатым черным мхом, в который на свободное место были бережно высажены блестящие темные бусины маленьких, глубоко утопленных под лоб глазок. Волевое, но где-то доброе лицо – очевидно, от перебора злых красок. А может, так: с виду свирепое, но тебе ничуть не страшно.
– Следователь Степанов, – представился Хемингуэй.
«Ставлю пять против одного, что кличка у нас Дядя Степа», – дерзнул я.
– Ваш секундант, человек мирный и богобоязненный, все рассказал, отрицать что-либо бессмысленно, – с мягким внушением произнес он, как только убедился, что я слышу его и понимаю.
– Гоша жив? – спросил я.
Вдохнуть полной грудью я не мог: болели ребра.
– Жив, на ваше счастье, – ответил следователь.
– Почему вы решили, что – на счастье?
– Потому что иначе вам бы светила статья за убийство.
– А сейчас что светит?
– Видите ли, статьи за дуэль, на ваше счастье, не существует. Дуэлей сегодня, как известно, нет. Есть, извините, идиоты, как мы выражаемся в своем кругу. Но существует, на вашу беду, целый ряд статей, под которые подпадают ваши деяния. Среди них «хулиганство», «злостное хулиганство», «покушение на убийство»…
– Так… Чего же мне ожидать?
– Молитесь за здоровье Гоши. Если он не станет инвалидом, можете отделаться условным сроком.
Мне стало вдвойне, нет, втройне обидно: во-первых, Гошу я так и не убил, во-вторых, за свои безусловные подвиги мне полагался всего лишь условный срок; а в-третьих, ради спасения собственной шкуры мне предстояло молиться за здоровье Гоши. Абсурдиссимо.
Я осторожно вздохнул.
– Ваше поведение мне глубоко симпатично, – тихо сказал следователь. – Лично я не имею против вас ничего. Вы поступили как мужчина. Против кандидата в мастера спорта по фехтованию… Не каждый бы на это отважился. Но закон есть закон. Будьте добры дать подписку о невыезде.
Я расписался.
– Поправляйтесь. И будьте счастливы.
Первое, о чем я подумал, когда грозный следователь «штык-лопата» ушел, – о Марине.
Потом – о себе.
Потом опять о Марине.
Потом – об Эльфриде Елинек.
Потом я уснул и проснулся только через сутки. На столике стояли цветы в дешевой вазе. Ромашки. Ко мне приходила Марина. Персонал обходился со мной подчеркнуто уважительно.
Отчего-то я подумал: «Не спеши делать неумолимо неизбежное дело. Сделай бессмысленную, но аксакальски тонкую паузу. Иногда что-то случается».
И опять уснул. Я даже видел сон, но забыл его.
Через несколько дней я, наконец, стал понимать, в каком направлении двигались мои мысли. Я расчистил себе путь к Марине, мы должны были быть вместе – и вдруг, ни с того ни с сего, я стал сомневаться в очевидном: а в том ли направлении я шел?
До моей мечты – рукой подать, и – лень руку протянуть?
Это было, пожалуй, посерьезнее дуэли с Гошей.
Марина твердила мне только об одном: ребенок. Ребенок! Хочу ребенка от тебя. Больше ничего не хочу. Больше ни о чем не могу думать. И вот этот проект под условным названием «розовый младенец» стал представляться мне счастливым кошмаром. У проекта обнаруживалось все более сомнительных, не вполне устраивающих меня сторон.
Марину я понимал: нет ничего печальнее на свете, когда женщина запускает очаровательный механизм приспособления на полную катушку с человеком, недостойным ее. Влюбленность, любовь, переходящие в преданность, верность, заботливость… И все это переносится на человека, который не способен ценить женскую суть.
Женщина сатанеет, бедняжка. Ей нечем заполнить свою пустоту, и она становится хуже, чем могла бы быть.
У Марины с Гошей так и произошло.
А тут еще проблема с ребенком… Она охладела к Гоше, и ничего не могла с собой поделать. Иногда ребенок делает процесс врастания в мужчину необратимым. Пары разрываются только с мясом. Марина, уповая на это, как на последнюю надежду, как последнюю милость просила согласия завести ребенка. Гоша отвечал категорическим отказом (а уж что-что, но быть категоричным он умел). Почему – неизвестно. Марина подозревала, что объяснение лежало на поверхности: Гоша просто-напросто не способен был стать отцом; с другой стороны, зная Гошу, она не исключала и более сложное объяснение: он патологически боялся иметь детей.
И тут Марина встретила меня. Я на дуэли победил Гошу. Я чемпион, и я люблю ее. Следовательно…
Очаровательный механизм приспособления был запущен теперь со мной – причем, без моего на то согласия, то есть без формальностей. Влюбленность, любовь, переходящие в преданность, верность, заботливость – все это безраздельно принадлежало теперь мне. По праву сильного. И сказать Марине с ее проектом «нет» – значило обидеть ее в лучших чувствах, оскорбить, унизить и убить. Хуже того – растоптать. По кодексу слабого.
Оказывается, я все еще находился в той стадии, когда ищешь счастье вне себя. Да и бывает ли по-другому?
Вот останусь один (то есть без Марины : впервые выговорил такое) – и на меня снизойдут покой и воля, так сказать, замена счастью. Суррогат?
А может – логическое продолжение счастья? Покой и воля как форма счастья. А?
Что если покой и воля – это и есть мое счастье сегодня? Смотри, не ошибись, орелик.
А вдруг не снизойдут?
Страшно было терять любовь. Что-то подсказывало мне, что терял я слишком много. Был уверен в этом. Если любовь к способной на любовь женщине уходит – виноват мужчина. Это точно ошибка. Пустота, возникающая оттого, что от тебя уходит пустая женщина, бывает невосполнимой. Собственно – смертельной раной. Берегись…
Два чувства сражались во мне, одном человеке. Иногда я просыпался, открывал глаза – и просто наполнялся ощущением счастья. Уже предчувствие полноты жизни делало меня счастливым. Я, Марина и наш ребенок: вот формула удачи. Все так незатейливо.
А иногда, в иное утро, мечта моя (розовый младенец, а также все сопутствующее – счастливые глаза Марины, ее благодарная улыбка) разрасталась до таких размеров, что начинала давить на жизненно важные центры. То, что я имел в жизни, мне уже не хотелось; а то, чего мне хотелось (розовый младенец плюс мое родное одиночество), было недостижимо.
Я боялся остаться один. Накатывал страх: собственный эгоизм казался мне безмерным. Я боялся себя. Все казалось зыбким и ненадежным. Я забывал на вкус ощущение счастья.
И когда я окончательно запутался – темень египетская, а не жизнь – вдруг пришло новое понимание, а вместе с ним и ощущение новой силы. Ведь все мои страхи и мечты, если их перемножить и поделить, и есть вариант гармонии. То, что вчера было хаосом, сегодня стало гармонией.
Почему? Потому что я как был порядочным человеком, так и остался; как был думающим – так и законсервировался в этом состоянии. А гармония не берется ниоткуда, она рождается именно из хаоса – с помощью разума и высокого чувства. Из ничего и будет что-нибудь никчемное. Из мыслей и страданий – понимание и удовлетворение.
Этот кошмар и есть счастье. Все прочее – удовольствие. Конечно, хочется, чтобы в жизни было и удовольствие, хочется. Но тот, кто гонится за удовольствием, – несчастный человек.
Как не расплескать вот это понимание, по капельке набежавшее в хрустальную чашу. Вот она, эта чаша, полновесный чемпионский кубок. Он дается не за победу в турнире на рапирах (г. Минск, заброшенный сарай, 200… г.); эта номинация называется «познай себя» (всегда и везде). У Гоши на этот мировой форум даже заявки не приняли бы. Через секунду и чаша, и ее содержимое могут испариться, превратиться в эфир – и ты уже остался без понимания, экс-чемпион. Никто. Через какое-то время из эфира, из влаги тумана конденсируются капли смысла, наполняющие чашу, – и ты должен пользоваться моментом, пока есть силы.
И единственный способ хранить чашу всегда полной, чтобы в любой момент можно было передать ее другим, – сделать чашу романом. Роман не пишется, а сочится. В романе смыслы живут в эфирном состоянии, а также в жидком, и даже в твердом, металлическом. Роман – это вселенский аккумулятор всех существующих в природе и культуре смыслов. Чаша смыслов. Бездонная.
А почему чашей необходимо непременно делиться с другими?
Потому что в ней присутствует истина. Я считаю, что истина всего важнее на свете; но истину нельзя проповедовать, в ней нельзя убеждать, ее нельзя делать инструментом принуждения, ибо тогда она в ту же секунду перестает быть истиной. То, в чем убеждаешь с пеной у рта, неуловимо меняет свой состав – и вот уже перекисший нектар обладает свойствами яда. Истина и пена у рта – совмещаются с изрядной долей комизма. Дубина истины: представляете?
Истиной можно только делиться: это способ существования истины в мире людей.
Я и делюсь. Чем больше отдаешь – тем больше тебе остается. Выгодно делиться.
Это тоже закон жизни, закон всемирного тяготения. Правильная, разумная, трудная жизнь не просто достойна романа, она в обязательном порядке завершается романом – чтобы войти в состав других трудных жизней и немного их облегчить. Или – усложнить: как получится.
Вот это и есть подлинная глобализация, способ соединения подвижников в прочную цепь, состоящую, в сущности, из эфира. В этом, если угодно, общественное измерение личной жизни, жизни личности.
Стоп: Личности.
Невозможно объяснить. Можно только зафиксировать. Кому надо – поймут. Понимание, трогательно соединенное с чуткой и ранимой душой, живут на виду у всех – в роковом, но гордом одиночестве.
Жить, держаться на виду у всех – на это надо много сил, Марина.
Как-то так получалось, что я обязан был писать роман. А Марина и розовый младенец?
Не знаю, не знаю… Ибо удержать любовь без розового младенца – невозможно; однако розовый младенец никак не совмещался с романом, по замыслу, совсем не розового цвета.
Не знаю…
Проклятый сон: о чем он был? Что я видел во сне? Что-то связанное с Мариной.
Когда я выписывался из больницы, в полдень, врач удивленно сказал мне:
– У вас странное имя – Гармония.
– Меня зовут Герман, – скромно потупил я очи.
– Но тут написано – Гармония. Вот, читайте. Почерк, правда, неразборчивый. Кто вас доставил в больницу? С чьих слов записаны ваши данные?
– Гармония – мое второе имя, – ответил я нагло и удалился восвояси.
* * *
Понимаю: с точки зрения литературного мастерства последняя фраза должна быть ударной – и она у меня получилась; это удача, фразу нельзя трогать ни в коем случае. Испортишь концовку главы.
Однако в мой роман несанкционированно вмешалась жизнь, не спросившись меня, автора. Утром того дня, когда я выписывался из больницы, ко мне пришел мой сын Илья и сказал:
– Папа, у нас беда. У мамы обнаружили рак желудка. Это случилось в тот день, когда ты исполнял свой танец с саблями.
– С рапирами, сынок.
– С рапирами, извини. Она все время плачет. И просит, чтобы ты вернулся домой. В семью. Она плачет с того самого дня, как ты ушел.
– Ты не в курсе, нас еще не развели?
– Не развели. Заявление о разводе мама забрала на следующий день после того, как его подала.
– Понятно, – сказал я. – Чего же тут непонятного? Ясно, как божий день. А ты хочешь, чтобы я вернулся, сын?
Он поднял на меня глаза, всегда немного грустные, и ответил:
– А ты сам как думаешь? Легко без отца? С умирающей матерью?
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
7
«И во всём этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».
Изрядно сказано. Как бы ничего утверждать нельзя с полной уверенностью, однако есть основания полагать, будто какие-то силы не дремлют. (Мы же отметим и такую «как бы странность»: «всё это дело» уже рассматривается и с позиций обновлённого, раскаявшегося Раскольникова. Это придаёт повествованию пикантность скрытой поучительности, ауру притчевости.) Как бы то ни было, преступление было совершено не случайно (иначе роман был бы другим). В закономерности преступления (предрасположенность к которому – чрезмерное увлечение мыслями и теориями) заложена закономерность наказания, что, собственно и отражено в названии романа. Концепция «преступления» нам более-менее ясна. В чём же содержится суть наказания? Или: как вечная душа берёт реванш у всего лишь «новомодного» неверия?
Легко сопоставить проблематику и логику разворачивания «вопросов» в «Войне и мире» и «Преступлении и наказании», чтобы убедиться, что они при всём своём духовно-поэтическом несходстве находятся в одной культурной траншее, по одну сторону баррикад: их объединяет то, что у них общий враг. Раскольников начал свой путь, словно Сонечка, с лепета молитв, продолжил как величайший грешник и закончил (в романе) как родственник и, если так можно выразиться, единомышленник Христа. Версия «возрождения» заслуживает внимания не потому, что она истинна (она, как мы сказали, неглубока и бессодержательна), но потому, что она неприлично типична, то есть универсальна. Это типичная версия «верующих» и «презирающих» (вследствие панической боязни и чувства неполноценности) рассудок.
Прежде, чем мы рассмотрим данную версию через детали, позволяющие концентрировать в себе целое, отметим тот немаловажный нюанс, на который мы обратили внимание анализируя «Войну и мир». Уже само прогрессивное понимание человека как сложнейшей информационной системы, в которой информация логическая соотносится с чувственно-эмоциональной, инстинктивной и даже физиологической (вспомним: Раскольников в распивочной, куда он спустился после «пробы» в гадчайшем расположении духа, выпил стакан холодного пива – и буквально преобразился, духовно-психологически преобразился: «Всё это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! »), требует уточнить: что имеет в виду автор «Преступления и наказания» под «рассудком» (разумом, умом, мыслью, интеллектом, сознанием)? Он имеет в виду примерно то же самое, что и автор «Войны и мира», высказывая свои соображения устами весьма неглупого Порфирия Петровича. Во втором раунде интеллектуально-психологического поединка сей «буффон» размышляет: «(…) вы, батюшка Родион Романович, уж извините меня, старика, человек ещё молодой-с, так сказать, первой молодости («старику», напомним, тридцать пять лет; уж не бодростью ли души меряет свой век умный, «кой-что знающий» Порфирий? Не ум ли, настоящий, не игривый ум, состарил его? – Г.Р.), а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодёжи. Игривая острота ума и отвлечённые доводы рассудка вас соблазняют-с. И это точь-в-точь как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, всё остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдаётся со всей своей армией, хе-хе-хе!»
Итак, под разумом имеется в виду тип «игривого ума», падкого на «отвлечённые доводы рассудка» – тип одномерного, схоластического, пустого ума. Если так понятый «ум» делать врагом, то роман во многом оказывается прав. Но другого ума в романе попросту нет, следовательно, «отвлечённый ум» – это весь ум, по Достоевскому, ум как таковой.
И вот здесь-то уже роман обнаруживает свою концептуальную пустоту.
5. Утерянное поколение
В женщине ровно столько достоинства, сколько вкладывает в нее находящийся рядом мужчина.
Это означает: женщину надо воспитывать. Как бог – основательную черепаху: любовно, долго, терпеливо. Надо научиться получать удовольствие от того, что рядом с тобой живет женщина – существо без достоинства, но с желанием приспособиться под тебя, стать бессознательным транслятором сознательно выработанных тобой установок. Да, если угодно, она – из твоего ребра. Нет, ребро – это больно. Ну, скажем, из твоих желаний. Тоже больно, но уже терпимо.
Такой тандем – красивый союз, претендующий на разумное существование.
Все остальное – карикатура на союз мужчины и женщины.
Вот это я понимал точно. Но что мне следовало делать с Мариной?
Здесь мой ум заходил за разум. Просто ощущалось скрежетание извилин – и никого результата.
Я никогда не унижался до несгибаемой принципиальности, этой каменной цитадели пустых людей. Поэтому не выставлял Марине никаких предварительных условий. Моя тактика заключалась в том, чтобы она сама выбрала нужную дистанцию между собой и мной (между натурой и культурой, если отбросить скромность: вот почему важно было, чтобы не я отмерил дистанцию рукой-владыкой, а она определилась естественным образом).
Но с точки зрения Марины, между нами не должно было быть ровным счетом ничего, никаких материй, даже слова «дистанция», не говоря уже о психологическом содержании этого понятия. Я и она должны были стать одним целым, чтобы произвести на свет дитя.
Этим целым мы становились охотно и регулярно. По нескольку раз в день.
Медовый месяц настиг нас в начале осени, хотя весь он был как один день жаркого лета.
– Порядочность мужчины не в том, что женщина по своей воле легла с ним в постель, а в том, чтобы не испортить ей жизнь, – сказал я – и именно этой фразой, кто бы мог подумать, открыл сезон любви.
Ничего более умного за это время я не сказал, и даже не подумал. А вот Марина…
Это был бенефис ее тела и ее воли к жизни.
– Вот и не порти мне жизнь. Целуй сюда.
Она подставила мою любимую свою левую грудь – и не угадала. Я сильно вцепился ей в волосы, глубоко, под самые корни, запустив пятерню.
Ее реакция меня удивила, восхитила, умилила – и окрылила. Я делал ей больно, а она сатанела от страсти, превращая темные стороны моей натуры в светлые, но очень сильные желания. Она покорялась мне так, как может покоряться женщина своему единственному в жизни мужчине – завоевателю и повелителю. Ее достоинство было в абсолютном подчинении. На меня же ее беззащитность накладывала обязательства. В конечном счете – она повелевала мной… Кто бы мог подумать.
Потом она целовала все мое тело и приговаривала:
– Люблю – не могу.
И – добывала из меня потаенную энергию, о которой я сам до этого времени не имел представления. В результате – доставалось и ее волосам, и груди, и ягодицам, и всему, что попадало мне под руку.
Когда я (привычка анализировать – вторая натура) в деталях расписывал ей свои самые рискованные ощущения, она прерывала меня теплыми поцелуями:
– К черту подробности…
– Но черт сокрыт именно в подробностях. Не питай иллюзий…
– Не буду питать. Целуй сюда…
Я, не мелочась, зацеловывал ее всю. Сначала она прятала от меня колени, голени, потом я приучил ее к тому, что мужчина, безбожно таскающий ее за волосы, имеет право целовать ее ноги. Единственное, к чему она не подпускала – к пальцам и ступням ног. Может, мужчина, павший так низко, что забирал ее всю безраздельно, – может, мужчина, способный выделывать такие кульбиты был слишком высокой планкой для нее?… Может, это и на нее накладывало обязательства, которым она внутренне сопротивлялась, – так же, как и я?
Однажды, когда я задумался о чем-то своем, темненьком, она, казалось бы, безо всякой причины сказала, глядя в потолок:
– С того дня, как я стала твоей, я ни разу не была с мужем.
Я думал как раз о том, что все ее прелести были доступны не только мне; муж ведь тоже приложил руку, чтобы она расцвела как женщина. Неужели она и ему раскрывалась так, как мне? И по прежнему раскрывается. Мысль эта время от времени становилась невыносимой – и я темнел. А расспрашивать ее об интимной жизни с мужем – какое унижение! Сама же она молчала, обходя эту тему; уж не потому ли, что тема существовала не только в моем воображении? Раз обходит – значит, есть что обходить? И неужели она не чувствует, что я очень хочу, но не могу позволить себе задать терзающие меня вопросы, которые формулировались в минуты темного просветления следующим образом: надеюсь, ты именно со мной увидела небо в алмазах, радость моя? Значит – я твой мужчина ? Если это так, то отдаешь ли ты себе отчет в том, что в нашей жизни происходит – длится на наших глазах – чудо?
Неужели она не чувствует присутствия чуда? Исчадие ада…
Эй, кто-нибудь, пусть она не окажется обычной женщиной – с двойным дном, с уймой мелких кармашков, в которых она сама путается и где не предусмотрено ни малейшего отделения хотя бы для капельки достоинства…
Это был единственный пунктик, который пугал меня и омрачал наше будущее с ней. Лишал меня необходимой уверенности.
И вот она произнесла фразу «с того дня, как я стала твоей, я ни разу не была с мужем», которую я раз десять прокрутил в своем воображении, прежде чем спросил:
– Почему ты раньше ни разу не сказала об этом?
– А я должна была? Не вижу в этом ничего исключительного. По-другому я не умею.
Потом добавила:
– Ты у меня третий мужчина. Я никому так не раскрывалась, как тебе. Мне никогда не хотелось всех этих… штучек. Я даже стеснялась этого и… не думала в эту сторону. Я сама от себя многого не ожидала из того, что мы с тобой с такой легкостью вытворяем: это ты мне помог узнать себя.
– И при этом раскрылся сам. Оказывается, мне нравятся женщины… Нет, бессмысленно говорить во множественном числе. Мне нравится женщина, которой не нравится, когда мужчина ругается матом, но при этом она способна вытворять такое, отчего краснеет специально обученный боцман.
– Целуй сюда…
– О, бедный боцман…
Это был прорыв в наших отношениях (хочется обратить внимание: у мужчины прорыв – это смерч от головы к сердцу, и далее вплоть до кончиков пальцев на ногах; у женщины – ветерок от кончиков пальцев к сердцу, и далее, резко теряя силу, куда-то вверх, предположительно – в область головы). Мне стало стыдно за свою, казалось бы, небезосновательную ревность, и я, подлизываясь, стал целовать ей ступни, а потом обрабатывать кончиком языка каждый пальчик на ногах (кстати, педикюр у нее был отменный). Я даже не заметил, что она не сопротивляется. Зато заметил другое: в то время, как я рушил барьеры, ее пальчики правой руки (какой маникюр!) ворожили над областью «маринской впадиной», самым глубоким местом на Земле. Стоны ее становились все более короткими и сдавленными – верный признак того, что скоро разыграется буря. И шторм последовал незамедлительно.
Она оказалась необычной женщиной, совершенно необыкновенной. Разве можно было не обожать такую женщину! Я и обожал ее, завидуя самому себе – своему мужскому языку, мужским рукам, и далее по списку.
Боже мой, а как изумительно дико она кричала! Я сладко колдовал над ее отзывчивыми женскими аргументами, барражировал над выпуклостями и впадинами, доводя Маринку до изнеможения. И чем меньше оставалось у нее сил, тем сильнее она кричала. Вопли прелестницы заполняли всю небольшую комнату, состоявшую из разобранного дивана и наших разбросанных вещей! Теоретически мне было несколько неудобно перед ее внимательными соседями, а практически – было наплевать на всех.
Мне зверски нравился ее запах. Чтобы не расставаться с ним, я ложился у нее между бедер и проваливался в дрему на несколько изумительно долгих секунд. Потом она поворачивалась ко мне спиной, подтягивала ноги к животу, нежными манипуляциями заставляла мое тело следовать линиям ее тела, прячась в меня, словно плод во чреве, – и вкладывала свою грудь мне в ладонь.
Вот скажите мне после этого – какая у нее была грудь?
Грудь отдельно, женщина отдельно – все это не имеет отношения к любви. Это совсем другая анатомия.
…И наступало позднее утро. Комната была пропитана запахами любви. Скоро мы пойдем, наконец, мыться. Но сначала я проделывал свой неизменный экзерсис – выдавал сеанс стойкой утренней страсти (ее сонная покорность пробуждала меня окончательно!), после которого отодрать Маринку от подушки было невозможно еще добрый час. Приходилось с удовольствием заниматься тем, что называется «кофе в постель»…
Но это потом, а сейчас, в начале экзерсиса:
– Кто так сладко стучится ко мне? – мурлыкала она, раскрывая все, кроме глаз – Кто так настойчиво рвется к нам в теремок? Кто? А? А-а-а-а… А-а!
Она сводила меня с ума своим шепотом, а потом и бесстыдными криками. И неизвестно чем больше.
Боюсь, мы служили соседям слишком громким и, опасаюсь, не слишком актуальным будильником.
Однажды, открыв глаза и обнаружив себя на Марине в такой неуклюжей позе, что и ребенку стало бы ясно: дяде просто не хватило сил устроиться поудобней, я спросил:
– А кто был твоим первым мужчиной? Вторым был муж, правильно? Третьим – я. А кто был первым?
– Первый и единственный – это ты.
– Не слышу.
– Слышишь.
– Не слышу. Из-за твоих криков я стал инвалидом по слуху. Еще раз, пожалуйста, и помедленнее… Первым…
– Балда. Первый и единственный – это ты. А формально первым был… В общем, звали его Мишель. Он был чертовски обаятелен. Воспитан. Услужлив. Весь состоял из положительных предрассудков. Все мне завидовали. Только одного, на мой вкус, в нем не хватало: он был не умным. А я была глупой – мне было восемнадцать лет. И я собралась за него замуж. Но вовремя одумалась. Он обиделся – страх Божий! И знаешь, что стал делать, как всякий слабый человек? Мстить! Отвергнутый мужчина стоит обиженной женщины, скажу я тебе.
Гоша на его фоне показался мне умным, решительным. Не слабым. В общем – настоящим мужчиной. Потом я запуталась, и долго не могла разобраться: слабый, не слабый? Умный, не умный? А потом появился ты, и, во-первых, белый свет стал белым, а во-вторых, перевернулся с головы на ноги. Вот чем ты плох? Тем, что совершенен до безобразия. Я погружаюсь в тебя, сколько могу, и чувствую в тебе еще такой запас глубины, что мне даже жутко становится. После тебя быть очарованной другим мужчиной… Нереально. Ты какая-то прививка от мужчин – и одновременно болезнь. Правда, время от времени для меня белый свет опять переворачивается с ног на голову. Когда ты целуешь меня сюда… Или кладешь руку вот сюда…
* * *
Медовый месяц оборвался в тот момент, когда состояние здоровья жены обострилось настолько, что я вынужден был принять решение вернуться домой, хотя бы временно: здесь нечего было обсуждать. По-другому у меня не получалось.
Марина приняла мое решение в штыки.
– Ты предаешь меня. Меня и нашу любовь.
– Хорошо, возразил я. – Я не вернусь в семью, к своей пока еще законной жене. Это будет, по-твоему, не предательством?
– Ты предлагаешь мне оставаться твоей любовницей? Ждать смерти твоей жены?
– Я предлагаю тебе подумать над тем, что ты сейчас говоришь. Я делаю то, чего не могу не делать.
– А как же я? Разве я – не твоя семья?
– Я люблю тебя. Но это не повод предавать близких мне людей.
– Когда любят – не уходят. От любви не уходят, от любимой женщины не уходят. Не уходят! Если бывает иначе, то я ничего не понимаю в жизни. Не говори мне больше про любовь! Ничего не желаю об этом слышать. Уходи!
* * *
Я чувствовал себя представителем утерянного, навсегда утраченного поколения, немногочисленного, состоявшего, собственно, из моей персоны, которое в суете даже забыли, а может, не посчитали нужным, занести в Красную книгу, поколения, не умеющего отделять грудь от женщины, сосок от груди, – затерянного где-то в громадных пустынно-белых пятнах на весьма несовершенной философской карте. Все мои мысли и чувства были такого уровня сложности и плотности, что мне не с кем было ими поделиться. Я был один, возможно, триедин – де факто числился флорой, фауной и святым духом в одном лице, и понятие «родственная душа» было иллюзией по отношению ко мне, не более того. Мутанты они и есть мутанты.
«Не питайте иллюзий», – громко говорил я, обращаясь к себе.
Стремление выделиться из толпы – главный мотив поведения человека толпы. Я не выделялся, нет. Я умел жить в двух измерениях сразу: высоко в культуре, и низко в натуре. Говорю же – мутант. Амфибия. Кентавр. Маргинал. Ланиграм.
Мне надо было не выделяться – а прятаться: это был единственный способ выживания. Маскироваться под человека толпы.
Но иногда я, человек племени сапиенс, существующего всего одно поколение, уставал – и тогда становился легкой добычей расплодившихся и захвативших весь мир прожорливых экономикусов.
Я никогда им этого не скажу, но очень надеюсь на то, что они догадываются, о чем я думаю, когда думаю о них.
А, скажу. Ненавижу всех.
Вот видите, устаю все чаще.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
8
А теперь вернёмся к «наказанию». Оно не просто соразмерно, адекватно преступлению; наказание помогает до конца понять смысл преступления и в этой связи – его бесперспективность в качестве способа решения проблем человека. Кроме того, наказание, как мы уже убедились, существовало задолго до преступления, родилось как бессознательная душевно-психологическая реакция на идею преступления. Наказание сопровождало и сам момент преступления, как диалектическая тень, а впоследствии (см. Эпилог), наплевав на диалектику, не оставило никаких шансов самой идее преступления.
Большие кошмары Родиона начинаются как бы с мелочей. «Почти машинально» (машина, логика, механика, нежизнь, смерть: всё это рядополагающие ассоциации) убив маленькую старушку, он, будучи «в полном уме», почувствовал отвращение к тому, что он делает: «Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что он услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нём. Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти». Душа сопротивляется. Но пока ещё слабо, неубедительно. Однако и ум уже в момент преступления стал утрачивать прежнюю уверенность и невозмутимость: Раскольников «всё ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а всё суёт».
И всё же с помощью отвлечённого ума, можно сказать, вследствие целой логической операции, удалось обнаружить ценные вещи.
Но тут происходит второе, «совсем неожиданное убийство» – Лизаветы (незапланированное, непросчитанное). «И если бы в эту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать ; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, всё отчаяние, всё безобразие и всю нелепость его, понять при этом , сколько затруднений, а может быть, и злодейств, ещё остаётся ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы всё и тотчас пошёл бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нём с каждою минутою. Ни за что на свете не пошёл бы он теперь к сундуку и даже в комнаты».
Но это были цветочки. «Правильнее видеть и рассуждать» – значило по-другому рассуждать, по-сонечкиному, от сердца, приняв к сведению «ужас» и «отвращение». Но если бы он умел так «душевно рассуждать», то и роман бы писать не имело смысла. Роман, а вместе с ним и наказание, и стали способом обучать сердечно-мудрому отношению, излечивать от хворобы внутреннего раскола, когда человек мыслит и чувствует раздельно, будучи правым и в мыслях, и в душе. Вот этот западный вирус раскольничества и решил наказать, на корню извести Достоевский, романтик, не справившийся даже с «великим» инквизитором. На самом деле все эти великие и ужасные инквизиторы, грандиозные расколы и катаклизмы, карамазовщина и идиоты, бесы и агнцы в другом, не в сонечкином, в научном измерении называются взаимодействием не вполне здоровой психики с сознанием – взаимодействием, сообщающим последнему карикатурные импульсы, которые приводят к тому, что созданный воображением писателя воображаемый же мир стонет и корчится, испытывая воображаемые боли. Нет в реальности таких проблем. Но если бы они были, виртуальный человек Достоевского (достоевщина) корчился бы именно так, как и «предчувствовал» великий и ужасный в своих пророчествах Фёдор Михайлович. Вот если бы у человека вдруг выросли крылья, то… Если бы да кабы… Достоевский блестяще специализируется на ощущениях человека, у которого внезапно и вдруг прорезались крылья, и он то взмывает, то камнем низвергается долу. Этакие русские горки. Реальность виртуального – вот тема писателя. Забавная, конечно, тема. Но таких проблем – «убить или не убить?» – для человека нормального не существует. Роман не о том человеке, не о той жизни. Но делать нечего: читаем тот роман, что есть.
Противореча себе же, отметим, что реальный человек даёт-таки повод для такой традиционно-виртуальной интерпретации. Достоевский велик не в том, что он понял и открыл миру некую ипостась реального человека, а в том, что он гениально прописал реальные механизмы превращения реальности в виртуальность и наоборот; при этом он потерял, растворил человека на границе мира объективного и несуществующего, реального и психического. Такова реальная цена за «прорыв» в виртуальность. Достоевский всю жизнь старался проточить хоть малюсенькую дырочку в занавесе, отделяющем жизнь от смерти, этот мир от того, как бы горнего, и, кажется, убедил и себя, и многих других в том, что это ему удалось. Если бы тот мир был, то Достоевский был бы не только великим писателем, но и великим мыслителем. Но поскольку это не совсем так, а, похоже, совсем не так, то великий писатель оказался виртуальным мыслителем. Это даже более невероятно, чем похождения Раскольникова, но это так. Это реальность, в которую трудно поверить; в Раскольникова же верить как раз хочется – но это «сказки», как изволил выразиться Германн, здраво относившийся к чудесам.
Миф о том мире и самого Достоевского превращает в миф: такова реальность.
А теперь вернёмся к реальности романа. Мы оставили бедного Раскольникова в квартире убиенных им Алены Ивановны и Лизаветы Ивановны, за дверью, запертой на крючок; в квартиру остервенело звонил Кох. Но этот Кох чудесным образом «сдурил», проворонил Раскольникова, спрятавшегося в пустой квартире второго этажа, которую, «как нарочно», именно в этот момент покинули рабочие. Воровато крадущийся преступник не встретил никого ни на лестнице, ни в подворотне, ни в дворницкой…
Словом, повествователь с самого начала устроил всё так, чтобы Раскольников счастливо избежал свидетелей, улик – а потом и юридической, уголовной ответственности за преступление, оставив только «эфемерную», моральную-психологическую сторону наказания. Для чистоты эксперимента никаких фактических улик против «протестанта» (протестующего бунтом) Раскольникова в руках следствия не оказалось. Одна психология. Родион Романович ставит свой эксперимент, а повествователь – свой.
Очнувшись от забытья (не от сна: забытьё – отдых уму, но не душе) в своей каморке, среди ночи, Раскольников пережил, натурально, волну сумасшествия. «Уверенность, что всё, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!»» Предчувствуя, что казнь неотвратима, Раскольников испытал «такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели», что на всё махнул рукой. Однако через несколько мгновений в конторе квартального надзирателя, куда Раскольникова вызвали по ничтожному поводу, он пережил «минуту полной, непосредственной, чисто животной радости». «Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности – вот что наполняло в эту минуту всё его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов».
Вот амплитуда ощущений: от «цинизма гибели» до «торжества самосохранения» (собственно – «цинизма» самосохранения). Душевный маятник сразу же отмерил полюса и принялся методично раскачивать теорию Раскольникова, не давая ему покоя. Мгновением позже той минуты, когда Родион Раскольников был охвачен «торжеством самосохранения»: «ему вдруг стало самому решительно всё равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. (…) если бы вдруг комната наполнилась (…) первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни единого человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. (…) С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. (…) он никогда ещё до сей поры не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее – это было более ощущение , чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение , мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений ». К «цинизму гибели» тут добавляется «ощущение уединения», мучительное, мучительнейшее – словом, дальше, казалось бы, некуда. Но человеки Достоевского умудряются испытывать ещё более «бесконечные» состояния (а писатель ухитряется их фиксировать). В этих ощущениях , в разительно контрастной инкарнации душевных состояний и состояло , собственно, наказание недооценившего власть души над личностью и увлёкшегося поверхностными выкладками ума Раскольникова.
Возвратившись от квартального и удачно спрятав «конфискованные» у старухи вещи, «схоронив концы» («Всё кончено! Нет улик!»), Раскольников вновь истерически возликовал: «Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. (…) И он засмеялся. Да, он помнил потом (в очередной раз загадочно обронённое «помнил потом»: то, что «сейчас» убедительно, «потом», при смене координат, выглядит нелепо; постоянное совмещение хронологическо-психологических планов делает душу космически безмерной, неподвластной жидкой «арифметике» – Г.Р.), что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и всё смеялся, всё время как проходил через площадь» (на этой же площади ему потом будет не до смеха – Г.Р.).
Однако «смех его вдруг прошёл» (в самом душившем его смехе, реакции на чрезмерную радость, угадывались спазмы казни). «Вдруг» – в данном случае означает «как бы немотивированно». На самом же деле исчезновение смеха, одного из симпатичнейших проявлений человеческой атрибутики, превратило Раскольникова в человека, который не смеётся, следовательно, не общается, ибо смех есть реакция на удовольствие от общения. В нелюдя. Смех сменился «новым непреодолимым ощущением»: «это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы , кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил…»
«Вдруг» (то есть независимо от сознательной воли, исключительно по наводке бессознательного) он оказался у дома Разумихина, поднялся к нему – и «чуть не захлебнулся от злобы на самого себя, только что переступил порог Разумихина», потому как «сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» Раскольников был «всего менее расположен в эту минуту». «Общение» с Разумихиным, конечно же, закончилось разрывом. («– Да у тебя белая горячка, что ль! – заревел взбесившийся наконец Разумихин. – Чего ты комедии-то разыгрываешь! (…) Зачем же ты приходил после этого, чёрт?»)
Это была первая «проба» «чёрта» войти в мир людей, из которого он вышел, прорубая дорогу топором, по трупам. Следующий контакт с людьми вышел более, чем озадачивающим. «Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски (…). ««Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам (неизвестно почему он шёл по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защёлкал зубами . Кругом, разумеется, раздавался смех».
Во-первых, известно, почему он шёл там, где не ходят: он всё делал не по-людски; кроме того, уже скоро Мармеладов будет раздавлен «одной коляской»… Кто знает, чего искал отверженный на «самой середине моста, где ездят, а не ходят». Во-вторых, «укусил бы, кажется» и «злобно защёлкал зубами» говорит о том, что «проклятая мечта» не возвысила Раскольникова над людьми, а низвела его до звериного состояния. Логика наказания – логика не разума, а души, подсознания, psyche – заключалась в том, чтобы отделить изверга, выбросить его из круга людей – до тех пор, пока он сам не затоскует по человеческому облику.
Однако и наказывать следует по-христиански, по-человечески. Вслед за ударом кнута и смехом (что ни говори, а это тоже форма человеческого общения, наказание зеваке или «выжиге», одному из своих, но не преступнику) ему, «ради Христа», сунули двугривенный. Сначала он «зажал» монету – и в этот момент «оборотился» лицом к куполу собора, к небу «без малейшего облачка». Но всё это знаки-знамения повествователя, не несущие для Родиона позитивной информации, а свидетельствующие о его потерях, так как этот «чёрт» находился духовно в иной системе координат. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил её в воду; затем повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту». Логично.
А вот и кульминация, где чётко проступает смысл наказания: «Я один хочу быть, один, один, один!» – «в исступлении вскричал» Раскольников уже после своей четырёхдневной болезни (последовавшей за преступлением), «лихорадочного состояния, с бредом и полусознанием». Описанное состояние не было эпизодическим, это был перманентный, негасимый, ровный огонь адова пламени. «Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить…» Это уже ощущения после встречи с родными.
Излишне говорить, что одиночество есть психологическая проекция смерти: если можно переживать ощущения умершего, то они близки к отчаянию полного одиночества.
6. Пустота
Меня переполняло ощущение, которое лучше всего передается следующим образом.
Вуаля, образ: плотный, упругий воздушный шар рвется высь и уносит меня прочь от земли, аж дух захватывает – ему и синий космос не преграда.
Однако на ногах моих заботливо закреплен тяжкий груз – то ли плита чугунная, то ли пушечное ядро, одолженное у небезызвестного болтуна барона, то ли грехи человеческие, отлитые в металлическую болванку.
Если бы не шар – я бы в мгновение ока шлепнулся о скалы, как юнкер Грушницкий, и мокрого места бы не осталось. Так, шматок раскудлаченной материи.
Если бы не чугун – я бы давно задохнулся в безвоздушном пространстве. Как поручик Печорин.
Жить – значит, разрываться.
Не разрываться – значит, не жить.
Вот я и разрывался.
Жил.
Только один маленький нюанс: ощущение свободного полета незаметно, час за часом, подменилось ощущением пустоты.
Пусть это тяжелое ощущение невесомости и легкости заполнит всю маленькую главу. Полетели. В смысле «поехали».
Летим долго. В неизвестном направлении. Доедем туда, куда следует. Так бывает. И это тоже надо испытать в жизни.
Так и хочется сказать: аминь. Но аминь здесь не при чем.
Понимаете, Марина ревновала меня – ко мне. Получалось так, что у меня есть я, а у нее – нет.
Могу сказать иначе: она изо всех сил, честно и добросовестно, пыталась понять меня, примерить на себя размерчик моей логики – и …
И не могла. Не получалось.
Она в упор не видела моей правоты.
Следовательно, легко перешла к обвинениям.
Летим. Чувствуете ли вы, как иногда пустота переходит в свободный полет?
Я – чувствую.
Где-то высоко, в высшей точке удаления от Земли, я шептал: «Пусть она окажется обычной женщиной – трогательно слабой, в меру хищной. Зачем ей этот стальной характер? Пусть будет девушкой легкого интеллектуального поведения. Как все. Я выдержу это».
Марина просто убивала меня потрясающей смесью сильного характера, нерешительности и готовности к поступкам, носящим необратимый характер, – свидетельством, как я сейчас понимаю, очаровательного недостатка ума. Неглупая женщина, достаточно долго живущая с умным мужчиной, подтягивается к его уровню настолько, что начинает казаться умной.
Но уберите мужчину, этот генератор духовности, и бедной женщине остаются только морально-волевые. Женщина тускнеет, но ведет себя боевито и ярко. Глупо.
Марина вела себя глупо – но с достоинством: она была необычная, уникальная женщина, сумевшая приспособиться ко мне. Она никак не могла смириться с тем, что ей в принципе недоступно какое-то особое, мужское мышление и понимание. Она по себе судила обо мне; я тоже судил по себе и понимал, что она никогда не поймет меня, но ей будет казаться, что понимает она меня в совершенстве. Ощущение правоты плюс сильный характер – вот вам идеальный рецепт катастрофы.
Я летел.
Эй, кто-нибудь, пусть она окажется обычной, заурядной женщиной – с двойным измерением, в котором она сама путается, но где я, имеющий семнадцать двойных измерений, ориентируюсь безошибочно…
Дистанция между нами увеличивалась. Марина принимала мою силу – за слабость, а свою слабость – за силу.
Я звонил ей – она бросала трубку после первых же вопросов. Она ждала от меня только одного: полного и безоговорочного возвращения.
Но в сложившейся ситуации я мог вернуться к ней только горсткой пепла. На своих ногах, не в праховой урне – но горсткой пепла.
Ей же казалось, что я говорю красивые слова.
Так и хочется сказать: аминь.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
9
Параллельно с наказанием развивается и другой сюжет, связанный с первым, однако в принципе автономный. Мы имеем в виду сюжет преступления, конечно, которое не закончилось убийством, как не с него оно и началось. Уже терзаясь наказанием, Раскольников и не думает отказываться от преступных мыслей. В тот момент, когда «наказываемый» Родион направлялся к Разумихину, «смотря кругом рассеянно и злобно», мысли его начинают новый виток, модернизируя теорию в свете новых реалий. «Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, – и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, – и что это даже в первый раз после этих двух месяцев».
Загадочный «главный пункт» мыслителя из каморки был элементарен: если убийство старухи было актом «сознательным», идеологическим (Раскольников, как бы выразился Разумихин, «полез в направление» прежде чем взяться за топор), а не спонтанным, «дурацким», и если целью убийства было завладеть деньгами старухи с «определённой и твёрдой целью», – «то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелёк и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шёл?»
Вот эта неувязочка и беспокоит Родиона Романовича.
Впрочем, как тут же выясняется, «совсем это не новый вопрос для него» и, что важнее всего, вопрос решённый: «чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал…» А решение такое: от «футляров» надлежит решительно, «безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно» – избавиться.
Если это крах теории (и роман кончился, едва начавшись), то грош цена такой теории и теории вообще. Это не могло устроить повествователя, так как над грошовой теорией и победа не дорога. Повествователь же по-наполеоновски замахнулся на полное и окончательное торжество душевной регуляции над умственной, что привело бы к посрамлению вертлявого разума. Повествователь жаждал триумфа. Для этого необходимо было показать силу теории, поэтому сюжет преступления становится «главным пунктом» романа.
Наивная «теория» Раскольникова, наивно выдаваемая повествователем за новое слово, оригинальное «направление», действительно гроша ломаного не стоит, однако не по причине недостаточной её, теории, аргументированности, а по причине того, что в основание теории легли надуманные, бредовые, произвольные допущения. Похоже, сам факт того, что любой бред может стать «направлением», не на шутку беспокоил Ф.М. Достоевского. Все теории романа (все теории мира?) изготавливаются по матрице, «выболтанной» разгорячившимся Разумихиным: «Ну, да хочешь, я тебе сейчас выведу, – заревел он, – что у тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? Берусь! Ну, хочешь пари!»
Ведь это не что иное, как скрытая нападка на диалектический стиль мышления, который злобненько травестируется, пародируется, низводится с высоты Ивана Великого до кочек пигмейщины. Всему этому диалектическому «маразму» (ещё и подлому), по Достоевскому, может поставить заслон не другая столь же высосанная из пальца теория, а токмо «живая душа».
Вот здесь и ловушка. Каждый, кто всерьёз отнесётся к теории Раскольникова, попадёт мало сказать в глупейшее положение – в нелепейшее и заведомо проигрышное положение, ибо он на виду у всего мира собирается сражаться с тем, чего нет, с фантомом, плодом возбуждённого воображения-ума ненормально впечатлительного студента. Теории как таковой – нет, они делаются иначе, изготавливаются по иной познавательной технологии. У «теории» Раскольникова благородная функция скомпрометировать теорию (помните данайцев, дары приносящих?): логически ловко сколоченная и не допускающая противоречий (у же в одном этом – приговор серьёзной теории) система идей так называемого «идеологического романа» призвана обнаружить глупость разума (то есть «глупость» именно того, что и не закладывалось в жиденькую теорию, не присутствует там – того, чего нет), дезавуировать рациональное доктринёрство.
Роман Достоевского производит впечатление самоката, оснащённого компьютерами, или динозавра в качестве овчарки. Допотопная, средневековая, в сущности, технология мышления в причудливом сочетании с самой что ни на есть современной психоаналитической аранжировкой делают роман бесподобным курьёзом.
В терминологии того же Разумихина «главный пункт» романа обозначен как оппозиция «математической головы» и « живого процесса жизни», « живой души ». «Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!» «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!» Все эти достаточно «механические» формулировки взяты из живой полемики о природе преступления, где разбираются две позиции. Одна позиция («математическая», социалистическая): «среда заела», «натура не берётся в расчёт». Поменяйте среду – получите нормальную личность и, следовательно, нормальное общество. Вторая: преступление выводится непосредственно из натуры, из подозрительной живой души.
Самое любопытное в рассуждениях Разумихина – резюме по поводу первой позиции: «Самое лёгкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо! » Если следовать сверхлогике Разумихина (за язык которого дёргает повествователь), получается, что Раскольников был всего только логичен, но он не думал. Думать – это учитывать миллион случаев. «Думать» и «логически рассуждать» (принимать к сведению доводы интеллекта) чётко и недвусмысленно разведены как антиподы.
Вывод напрашивается такой: живая душа сама думает , и не логикой берёт, а как-то иначе, подозрительно для разума.
Сколько ни жонглируй терминологией, суть не меняется: «живая душа» «умнее» «математической головы».
В сущности, роман – это игра в поддавки, которая преподносится как схватка Бога с дьяволом. Весь роман и является по названным причинам грандиозной мистификацией . И спорить надо не с Раскольниковым, повествователем или Сонечкой, а с тем, что роман как форма приспособления человека к своему неумению «поделить» «ум» и «душу», развести функции психики и сознания, выдаётся за способ познания человека. Достоевский может заинтересовать науку о человеке в качестве поэта, который, как водится, стал больше, чем поэт, то есть в качестве творца, в произведении которого сказалось больше, чем он намеревался сказать. «Образы» оказались умнее поэта.
А в этом качестве Достоевский действительно немало напророчествовал. Если принять за ум то, что за него выдаётся шарлатанами от мышления, адское пекло может стать реальностью. Это наше резюме из «Преступления и наказания», то, что сказалось помимо воли Достоевского. Говорит же он, сознательно вкладывает в свои образы, нечто совершенно из другого измерения, а именно: то, что выдаётся за ум (в частности, Раскольниковым или повествователем), то умом и является, то кажется истинным, хотя на самом деле – ложно; а другого ума и не бывает – вот почему противопоставить мышлению можно и нужно не лучшее, совершеннейшее мышление («лучшую», «совершеннейшую» ложь), а другую, истинную природу человека.
Если иметь в виду, что теория Раскольникова и весь его копеечный надрывный бунт (идеологическая заморочка достаточно примитивного пошиба, не более того) на деле есть мистификация, – с такой поправкой анализ теории неминуемо превращается в анализ мистификации.
Книга четвертая. Человек осени
1. Тринадцатое число
На улице валит мокрый снег,
Ветер сносит с тротуаров прохожих.
Я не верю что существо человек
Может быть на демона похожим.
У него ведь есть голова,
Что-то вместо сердца, ноги и мозги.
Почему же он плетется едва-едва
В ту страну, где ни света, ни зги?
Завтра полыхнет скучная заря.
Станет снег сухим, стихнет ветер.
Я не верю, что живу зря.
Я не верю, что мне кто-нибудь ответит.
13.09.07
Если кто-нибудь подумал, что это нелепое, странно появившееся на свет стихотворение – я его просто выдохнул, открыв утром глаза, – следует считать эпиграфом к Четвертой (и последней) книге, то он ошибается: я не собирался делать его эпиграфом. С другой стороны, возможно, ошибаюсь как раз я: это стихотворение может служить вполне уместным эпиграфом, выполнять возложенную на эпиграф функцию.
Тут все дело в том, что сам по себе эпиграф как деталь литературной конструкции и композиции кажется мне вычурным и манерным: это излишнее украшательство, словно ажурные манжеты, аккуратно срезанные с ночной сорочки, на фраке. Или галстук-бабочка на пижаме. Сами по себе манжеты с бабочкой ругать или хвалить глупо; но на фраке (пижаме, соответственно) они неуместны. Слишком много красоты, то есть слишком мало вкуса. Стилистический разнобой. Смешно.
Но есть и момент серьезный: эпиграф выдает неуверенность, нетвердую руку автора.
Я так и не решил: эпиграф перед нами или нет.
Поэтому в данной ситуации я отвлеку внимание читателя вот на что: гораздо интереснее сам факт появления стихотворения. Я и стихи: это вам как? По-моему, примерно то же, что эпиграф к роману. Бабочка и пижама.
С другой стороны, стихи уже появились, нравится это кому-то или нет.
Ладно бы, это была единственная лирическая слабость в тот день. Следом, как говорится, появилось на свет еще одно стихотворение – и я опять посмотрел на себя с некоторым почтением, рожденным, впрочем, из вещества иронии.
Сегодня тринадцатое число.
Осень. Скучновато и сыро.
Я считаю, что мне в жизни повезло:
Я только слышу о войне, я живу среди мира.
Выползу в магазин. Куплю пельменей.
День проведу терпимо и сносно.
Я человек вполне осенний:
Буду думать о тебе и блуждать в трех соснах.
Чтобы мечтать, надо быть сумасшедшим.
Я не таков. Вот тапочки, вот одеяло.
Я живу не будущим, а прошедшим.
Мне и в прошлом тебя,
И себя
Не хватало.
13.09.07
Что-то сошлось в тот осенний день, тринадцатого числа месяца сентября. Что-то сдвинулось в мироздании, тектонический хруст раздался на пересечении космических трасс. Знаю я эти лирические штучки: это не стихи, а симптом какого-то катаклизма.
Но я не насторожился, хотя не могу сказать, что печально сник; я приготовился к неизбежному. Пожалуй, именно так. Едва ли не впервые моим неявным девизом стал не боевой гортанный клич «Посмотрим, кто кого!», а «Будь что будет» (произносится сквозь стиснутые губы, на выдохе, словно стихи). Я еще не сдался, но уже допустил мысль о том, что я могу и не победить. Что это: пораженческие настроения или проявление своеобразного снобизма?
Еще через тринадцать дней произошли события, подтвердившие, с одной стороны, предположение, что стихи появились не на пустом месте, а с другой – повернувшие мою жизнь в такое русло, что стороны света удивились и расступились, а свидетели и судьи потеряли дар речи…
В общем, обойдемся без эпиграфов. Вопреки распространенному мифу о том, что главные, сплошь радостные события (виноват: таинства!) в жизни человека, достоверно описать почти невозможно, – родился, крестился, женился, родил детей, умер и лег под крест, – на самом же деле описывать легко и приятно: события сами по себе выразительны, выигрышны и эффектны, ибо берут за душу, за живое; пройдись по таинствам – и сразу появляется библейская величавость. А вот находиться внутри душевных событий человеку думающему бывает неописуемо тяжело. Иногда ведь антисобытия типа «не крестился» или «не женился» (иными словами, пошел противу правил), то есть события, которые являются строительным материалом личности, – не менее, а даже более содержательны, нежели ожидаемое восхождение по вехам туда, под крест (стиль досточтимой жизни). Жизнь сложилась, если тебя уважают; а удалась – если самому нравится. Удалась, значит, не сложилась…
Впрочем, я предпочитаю более оптимистическую формулу: не сложилась – значит, удалась.
Добро пожаловать в событие, увиденное изнутри моими глазами. Это оказалось возможным потому, что я стал вести дневник. Да, я мог бы описать и приукрасить изложенное в нем безыскусным слогом. Но я растерялся, это во-первых; а во-вторых, я вовсе не собирался кому-либо показывать свой дневник – именно этим он и ценен. Я перестал «писать», создавать текст, но написанное мной просится в роман. Пусть язык документа вплетается в стиль искусства: разве существуют другие способы создания гармонии?
На свете есть вещи, перед которыми искусство должно снимать шляпу и делать глубокий реверанс – именно потому, что факт может стать фактом искусства.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
10
Вкратце философия Раскольникова, напоминающая ребус Великого инквизитора, сводится к следующему.
Сам Родион изложил её ещё в первом своём (из трёх) психологическом поединке с Порфирием Петровичем при обстоятельствах весьма и весьма неординарных. Следователь безо всяких доказательств, сразу, непосредственно, определил преступника – и дальнейшая его, следователя, проблема заключалась в чисто профессиональной доводке дела до соответствующего конца: суда, приговора и проч.
Раскольников в смысле интуиции тоже был не лыком шит и мгновенно учуял, что Порфирий Петрович «знает»: «"Знает!" – промелькнуло в нём как молния».
Разговор (диалог, если угодно) шёл начистоту, задиристо, с взаимными провокациями, шёл не в юридическом, а в философско-психологическом ключе. Русский, душевный разговор, начался вызовом и превратился в поединок. Раскольников не считал нужным скрывать то, что, по сути, являлось мотивами, и даже философией преступления. Почему? Раскольников не признавал себя преступником, он был выше самой ситуации «преступник – следователь – преступление». Ось человеческих координат, ось кристаллизации всех мотивов поведения была принципиально иной, сверхчеловеческой.
О проработанности «вопроса» свидетельствует наличие некой "статейки" Раскольникова (подписанной, впрочем, одной буквой; с дальним прицелом?) с немудрёным названием, по словам Порфирия Петровича, «"О преступлении"… или как там у вас». Статейка свежая, двухмесячной давности. Тогда ещё статья не задумывалась как идеологический фундамент преступления, но в свете последних событий она стала именно программой Раскольникова. Хотя насчёт «не задумывалась» как сказать… Уже мысль, сама по себе мысль, академически-невинные комбинации смыслов потенциально преступны, ибо, как смертельный вирус, оживают в изменившейся среде. Подумал – ещё не сделал; но не подумаешь – не сделаешь.
Дело в том, что – раскроем секрет повествователя, о котором он и сам, возможно, не очень осведомлён, – сознание Раскольникова, равно как и автора с повествователем, отличается подлинной религиозностью, что предполагает постоянное пребывание на границе бытия, здесь и сейчас – с небытием, с вечностью. Такая пограничность делает границы сфер бытия и небытия условными, проницаемыми, а сами сферы – сообщающимися. Маргинальность, развернутость и открытость одновременно в разные миры – вот психология религиозности. И это ощущение невозможно передать, не прибегая к психологии. А психология сама по себе маргинальна: она чревата сознанием, но предпринимает всё, чтобы вытравить из себя сей нежелательный плод, делая вид при этом, что она заботится прежде всего о сознании… «Живая душа» боится только одного: подлинной диалектики, то есть «живого мышления».
Теперь понятно, что психологизм «генетически» связан с религиозностью, первый является способом реализации второго. Вот откуда эти зыбкие семантические планы и ракурсы: вроде бы написал статью – но как бы забыл о ней; вроде бы подписал – но буквой; вроде бы и не замышлял ничего – ан старуха-то убита… Вот пусть разум, с его одиозной логической трёхходовкой, попробует разобраться в этих лабиринтах «живой души», в душных потёмках чужой psyche. «Игривенькая», «психологическая-с» «идейка» Порфирия Петровича в том и состояла: «"Ведь вот-с, когда вы статейку-то сочиняли, – ведь уж быть того не может, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали, – ну хоть на капельку, – тоже человеком "необыкновенным" и говорящим новое слово, – в вашем то есть смысле-с… Ведь так-с?"
– Очень может быть, – презрительно ответил Раскольников».
А сейчас самое время предоставить слово самонадеянному разуму. Уже в статейке «намёком, неясно», по словам вдумчивого и заинтересованного читателя Порфирия Петровича, проводится мысль, что все люди «как-то» разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Последние «имеют право разрешить своей совести перешагнуть… через иные препятствия», – в том случае, если цель оправдывает средства. А цели такие – в принципе возможны. Значит возможны и ситуации не преступления даже, а всего только перешагивания через препятствия.
Главная мысль Раскольникова («я только в главную мысль мою верю» , иными словами мысль без веры – ничто): люди по закону природы (пока что неизвестному) делятся на два разряда: на «низший», на «материал», массу и толпу, и «собственно на людей», которых «необыкновенно мало рождается, даже до странности мало». Низшие, обыкновенные для того только и существуют, чтобы породить «великих гениев, завершителей человечества», оправдание, цель и смысл существования «материала». Люди из разряда «высшего» – по определению, «по природе своей» преступники, ибо призвание их в том и состоит, чтобы переступить то, что мешает прогрессу. Таким образом, речь не идёт о преступлении ради преступления, а о преступлении с прогрессивным и даже с либеральным оттенком. Преступник становится преступником – во имя «материала», в конце концов, а потому, по трезвом размышлении, являет собой нечто вроде качества, образованного в результате диалектического скачка. Родился не преступником – ради «массы» идёт на преступление. Речь идёт о разумном преступлении, о совестливом преступлении – словом, не о преступлении в обычном смысле этого понятия.
Это – собственно теория, согласно которой гений и злодейство – две вещи неразделимые. А дальше начинаются психологические идейки, вытекающие из смелой, гениальной, может быть, генеральной теории. Порфирий Петрович: «Ну как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомет… – будущий, разумеется, – да и давай устранять к тому все препятствия…»
Раскольников и здесь всё продумал: «ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей». И они действительно ошибаются. Но это уже, так сказать, издержки того самого закона. И если «обыкновенный», вдруг возомнивший, что он Наполеон, ошибётся, то пусть страдает, пусть испытывает муки совести. «У кого есть она (совесть – Г.Р.), тот страдай, коль сознаёт ошибку. Это и наказание ему, опричь каторги».
А это уже главная мысль романа, как любило выражаться марксистское, доперестроечное литературоведение.
Раскольников, если посмотреть на него с позиций его же теории, оказался лже-Наполеоном, человеком, перепутавшим разряды: «(…) я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался…» Здесь заслуживает внимания то, что Раскольников целиком и полностью остаётся в кругу, очерченном холостым ходом мыслей, его попутал и водит ехидный бес. «Эх, эстетическая я вошь» и «дрожащая тварь» – изгаляется над собой, «обыкновенным», Родион Романович с высоты трона, который ему уже никогда не занять. «Потому, потому я окончательная вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому что сам-то я, может быть, ещё сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал , что скажу себе это уже после того, как убью!»
Итак, муки совести, «опричь каторги» или даже вне каторги, а также острейшее, до припадков, до помешательства переживание собственной ничтожности – вот внешний, «детективный» сюжет романа. Подспудный, главный сюжет – разрушение теории и высвобождение «живой души». Если ты «предчувствовал», что окажешься «вошью», то зачем же ты, спрашивается, убивал?
А затем и убивал, что «верил в идею» больше, нежели «в Новый Иерусалим», «в Бога», «в воскресение Лазаря».
«Идея» – и «живая душа»: таковы стороны суперконфликта романа. Сюжеты пересекаются, и Раскольников, цепляясь за свою теорию, страданием прокладывает себе путь к возможному воскрешению, терзаясь при этом комплексом Наполеона. Перед нами, опять же, своего рода Евангелие; не случайно окончание срока каторги расчётливым повествователем приурочено к тому возрасту Раскольникова, в каком были совершаемы деяния зрелого Христа.
2. Дневник маргинала
27.09.07
– Я беременна, – сказала Марина в трубку телефона.
Я взял такси и приехал к ней.
– Я беременна, – сказала Марина, поворачивая ко мне заплаканное, однако все еще со следами счастья, лицо (вот она, слезинка ребенка во всей своей жестокой простоте).
Мы лежали в ее теплой постели, в квартире, которую она снимала, уйдя от мужа, наслаждаясь общением тел и душ. Нам было хорошо вместе.
Это было 26.09.07 часов в десять вечера.
Для меня, 49-летнего мужчины, отца замечательного сына, примерного семьянина, будущего автора «романа не для всех», в котором, кстати сказать, я собирался описывать подобные «кошмарные» по своей безвыходности ситуации, – для меня это прозвучало как гром среди ясного неба. Хотя к этому, надо признать, все и шло. Единственное, о чем я думал в тот момент, сохраняя внешнее спокойствие, – как бы не сказать или не сделать чего-нибудь такого, о чем будешь со стыдом вспоминать всю оставшуюся жизнь.
Пока я привыкал к своему новому состоянию – молчал.
Оказывается, я молчал очень долго. Всю ночь. Сказал пару банальных и натужных фраз типа «все будет хорошо», «мы что-нибудь придумаем» (поеживаясь при этом от холодка безысходности: новое, революционное, зимнее ощущение), «я не собираюсь тебя бросать» (холодок усилился), «утро вечера мудренее» (полярная зима) – и тупо молчал, ворочаясь сбоку на бок.
Наутро 27.09 я поднялся с мутной головой, без единой трезвой мысли, с атрофированной волей к жизни и молча сидел и пил лечебный напиток – горячее молоко с медом и маслом – из большой кружки, который приготовила мне Марина: я, ко всему прочему, сильно кашлял. Простудился два дня назад.
После завтрака собрался и поехал домой. Меня встретила жена, которая по мне явно соскучилась и, как всегда, была рада моему приезду. Я улыбался в ответ, о чем-то живо ее расспрашивая и о чем-то рассказывая. Интересно, о чем… Сейчас не вспомню.
После обеда я остался один. Вроде бы, ни о чем не думал, специально не сосредотачивался, но к вечеру набежали кое-какие мысли.
Почему я даже не обсуждал с Мариной возможность аборта?
Потому что, по моему глубокому убеждению, удаляется не только зародыш плода (чем ставится под удар здоровье женщины: для Марины это был бы первый аборт); вместе с «материалом» вырезаются возможность женщины в принципе стать матерью, а также уверенность в том, что мы всегда, в любой ситуации должны поступать по-человечески. Эта травма считается совместимой с жизнью. Не уверен. Это грубейшее вмешательство даже не в психологию – в судьбу. Нормальная, умная женщина, сделав аборт в подобной ситуации, теряет больше, чем приобретает.
Кроме того, я думаю, что есть женщины, которым в силу их морально-психологических установок противопоказано делать аборт. Они себе этого не простят, хотя осознают это далеко не сразу.
Марина из таких женщин.
Значит ли это, что если у Марины будет ребенок от меня, то я разведусь с женой?
Нет. Сейчас говорю это твердо. После того, как меня выписали из больницы, я не обещал Марине, что уйду из семьи. В этом смысле я ее не обманывал; мне кажется, я ни в каком смысле ее не обманывал. Наши отношения были теплыми, замечательными, искренними, но у них, увы, не было будущего. А нам так хотелось, чтобы у нас было будущее! – и вот это невольное желание невозможного можно было при желании считать за обман. Жалею ли я, что такие отношения были в моей жизни?
Нет. Говорю это твердо.
У меня действительно замечательная семья. Я хорошо отношусь к своей жене и люблю сына, и без них не представляю себе жизни. Жена серьезно больна: у нее саркома костей, собственно, рак в начальной стадии. Но не в этом дело; я хочу сказать, не ее болезнь держит нашу семью (хотя, как ни странно, укрепляет: это факт). Уйти от жены – не означает пойти навстречу своему счастью; это означало бы предать ее, если называть вещи своими именами (я не раз говорил об этом Марине). Да и не только ее. У меня есть жена, сын, теща, брат жены (даже мой отец где-то есть, но он не в счет); у нее – муж, сын, мать, брат, (где-то есть свекор, но он не в счет). Большая семья. Наши отношения никогда не были формальными; напротив, они всегда были живыми, человечными. Я предам что-то такое, что не подлежит обсуждению. Какие-то основы жизни. И себя в придачу.
Я не ханжа, но этим не играют. Я никогда не ставил под сомнение семейное начало.
Как нельзя делать аборт, так невозможно предать жену, которая не только не сделала тебе ничего плохого, но и любит тебя бесконечно, посвятила тебе всю свою жизнь. И я любил ее все эти годы. И сейчас по-своему люблю. (Ведь я не уговариваю, не заговариваю себя? Кажется, нет. Уверен, что нет.)
Никогда не забуду, как жена, возвратившись домой после фундаментального обследования, сказала мне, поставив сумку с продуктами на пол:
– У меня две новости: хорошая и плохая. С какой начать?
– С плохой.
Я всегда считал себя оптимистом.
– У меня неизлечимая и смертельная болезнь. Разве ты не хочешь теперь услышать о хорошей новости? Не хочешь? Ладно, я все равно скажу. Эта болезнь – не рак желудка. Разве не смешно?
Таких женщин не предают.
Но вот появилась в моей жизни Марина, и я потерял голову. От таких женщин, как Марина, нормальные мужики не могут не терять голову. И вот Марина беременна.
Что делать?
Мое эго держалось исключительно на двух опорах, каждая из которых подрубала другую: нельзя предать жену и сына – и нельзя предать любовь и ребенка.
С удовольствием поставил бы своих злейших врагов в эту, мягко говоря, пограничную ситуацию и задал бы им этот невиннейший вопрос. Кошмар под кодовым названием «розовый младенец», ведущий в большое и светлое будущее под названием тупик, кажется, начался. В добрый путь?
Позвонил своему другу, Сене Г. Без фактов и деталей поделился убийственным мироощущением – вроде бы, ощущением бетонного тупика, но при этом пробивается и нарастает некая плохо мотивированная бодрость духа. Нечто вроде травы сквозь асфальт.
Как же совместить несовместимое – невозможность уйти из семьи и невозможность отказаться от своего (моего!) ребенка, виноватого только в том, что его папаша такой противоречивый?
Почему я не страус? Чому я не сокил? Не буревестник?
В горячке я как-то забыл о том, что в правильно поставленном вопросе уже потенциально содержится ответ. Я как-то забыл о том, что безвыходных ситуаций не бывает; честно говоря, сейчас бы с удовольствием треснул по башке кому-нибудь благополучному, забывшему смысл слова «безвыходный». «Выход там же, где и вход» – этот игривый совет хорош до зачатия. А «после того» выхода уже нет; вход остался – а выхода нет. Постепенно для меня самого стало проясняться, чего я хочу (а это не так просто, когда душа саднит и сжимается от детского страха за будущее многих взрослых людей) и что я могу сделать.
В природном, и даже духовном плане все произошло если не правильно, то вполне логично. Но существует еще проклятый социальный план, портящий жизнь нормальным людям…
Все будут ожидать от меня определенных действий в направлении «или – или». Или ты остаешься в семье – или ты уходишь в новую семью. И то, и другое для меня смерти подобно.
В соответствии с моим представлением о чести, совести и справедливости, я – где-то в подсознании – стал намечать такое «направление жизни». Почему бы не попробовать именно совместить несовместимое – совершить то, что противу всех и всяческих правил (разве что в соответствии с законами диалектики, на которые всем начхать)?
Ведь самый лучший способ добиться успеха – совершить невозможное. Я очень и очень постараюсь, сделаю все возможное, чтобы добиться невозможного – чтобы удержать мир и гармонию в своей семье, соблюдая при этом интересы Марины и нашего ребенка. Как?
Не знаю пока. Но для меня сейчас даже теоретически – это единственный приемлемый выход.
…С тем я и лег спать 27.09.07. Утром меня разбудил поцелуй жены, которая уходила на работу и, как всегда, поцеловала меня, полуспящего. За все годы нашего великолепного супружества она ни разу не забыла сделать это. Женщина на все времена, что тут скажешь.
Сделал зарядку, стал бриться.
И тут мне в голову пришла мысль (почему-то очень часто продуктивные и «богатые» мысли приходят именно за бритьем, когда их и записать, и обдумать толком невозможно), которая, окрепнув, за час-полтора превратилась в мое новое убеждение (убеждения нужны, как воздух, тем, кто оказывается в безвыходных положениях). Буду добиваться невозможного. Так хочется и рыбку съесть, и не отравиться. Новая жизнь – так новая жизнь. Начну писать дневник. А там, глядишь, роман. Самому интересно, чем все это закончится. Прекращу вести дневник тогда, когда ситуация разрулится и обретет более-менее приемлемые жизнеспособные очертания.
Скажу о своем решении Марине (о дневнике говорить не буду никому). Интересно, как она отреагирует?
28.09.07
Она отреагировала молча. Внимательно посмотрела на меня и ничего не сказала.
Она ведь тоже в шоке. Без денег, без работы. Одна. По-моему, ее интересует только одно: останусь я с ней или нет.07.10.07
Сегодня день рождения Марины. Поздравил ее по телефону (еще увижу ее сегодня), пожелал нам удачи. Нет, Удачи.
Дневник писать категорически расхотелось. Какие тут записи, когда нутро выедают сомнения, приправленные остро-кошмарным самоедством. Живу как на раскаленных угольях. Чувствую себя попеременно то мерзавцем, то несчастным, то отважным жизнестроителем, то слабоумцем. Мотив самолюбования исключался изначально; облекать же в слова унизительные и мрачные эмоции – для этого надо быть мазохистом.
Вязкие переживания, тяжелые тлеющие чувства, никакой определенности. Если с утра чувствую некий оптимизм и легенькую бодрость, значит, к вечеру настигнет депрессия. Если повезет, и день начнется в миноре, то к вечеру, глядишь, на душе отчего-то полегче.
Вчера ездили к теще. Иными словами, я был помещен в ту обстановку, теплую, родную, которую буду вынужден разрушить собственными руками. Как сказать теще (сыну – и далее по списку), что у меня ребенок от другой женщины? Это просто ад. На жену смотрю как на человека, жизнь которого в скором будущем превращу в руины. Нормальный ад.
Зациклился на этом, и нет никакого продвижения вперед. Тяжелая пауза.
А ребенок растет, развивается. Марина ходит по больницам, назревают крупные бытовые и социально-бытовые проблемы, как-то: необходимость где-то жить, чем-то питаться, как-то зарабатывать на жизнь.
Коротко говоря, самые большие мои проблемы – это проблемы моих близких. Я-то спокойно перенесу все. Но вот все остальные (включая родных Марины) по праву ощущают себя (ощутят, когда узнают про это ) присевшими на ядерную бомбочку. С большим удовольствием и чувством долга будут взрываться и разлетаться на мелкие кусочки. А ты их лови и склеивай. И их можно понять…
Кажется, только это обстоятельство и придает сил. Порой вскипает здоровая злость: ваши ожидания – это и есть мой кошмар. Спасибо вам за то, что вы есть, мои хорошие.
И еще. Я не чувствую себя преступником. Хотя в глазах многих буду именно преступником.
Я бы покривил душой, если бы сказал, что жить не хочется.
Хочется. Но хочется быстрее пережить кошмар неопределенности. Кошмар определенности представляется уже счастливой развязкой.12.10.07
Вчера был тяжелый, мрачный разговор с женой, который велся тихим, спокойным, мертвящим тоном.
Что нового происходит в наших отношениях?
Она сказала так: «У меня нет моральных сил сражаться с болезнью. У меня нет стимула выздоравливать. Зачем? Твое отношение ко мне не меняется – мне по-прежнему не хватает любви и тепла. Ты тоже не меняешься».
Почему надо всегда ставить вопрос именно так: чтобы стало хорошо, кто-то (известно, кто) должен поменяться, должен стать другим?
Я сказал ей об этом. И еще я сказал так: я представляю проблему для самого себя, и чтобы успешно ее решать, мне надо много времени и сил. Я вынужден возиться с собой – не из нарциссизма, а из чувства самосохранения. Вот это жену всегда раздражало. Ей кажется, что если бы я время и силы, которые я отвожу на познание и самопознание, посвятил ей, то все у нас тут же стало бы хорошо.
Творчество для одаренного человека – это еще и компонент духовной технологии, позволяющей держать себя в приличной человеческой форме. Творчество для гения, если хотите, – что охота для охотничьей собаки.
Короче говоря, я, в результате, оказался не тем человеком, который ей нужен. Ей нужен тот, кому она с удовольствием посвятила бы свою жизнь; взамен только одно: он тоже должен наслаждаться тем, что посвящает жизнь ей. Она гениальная жена именно для отношений такого типа.
Мне же необходима жена, которая бы позволяла мне быть самим собой и не испытывала бы при этом тайного раздражения от моей самодостаточности.
Раньше я испытывал нечто вроде чувство вины за то, что вольно или невольно обманул ее ожидания. Да и сейчас я чувствую себя без вины виноватым; точнее, моя вина в том, что я хочу жить иначе. Моя вина в том, что я люблю другую. Моя вина в том, что у нас будет ребенок. Моя вина в том, что я есть. Аз есмь.
Я не хочу донашивать брак и переводить жизнь в режим доживания. Я не хочу, чтобы жалость стала главной в наших отношениях. А правде сейчас не место: правда сейчас – яд. Она просто парализует жену, добьет ее.
С другой стороны, правда, возможно, и убивает; но лечит, увы, только правда.
Держу паузу: своеобразная деликатность палача.
Вот ведь как все обернулось: главным стал даже не ребенок от другой, а кризис наших отношений. Я не могу дать ей то, что она ждет. Она это понимает – и не в силах ничего изменить.
Патовая ситуация, которую я называю «49 на 51». Речь идет о соотношении процентов. Причем, где 49, а где 51, не разберет никто на свете.16.10.07
Вчера был у Марины. Она в кошмарном состоянии. В субботу (сегодня понедельник) она едет к родителям. Скорее всего, расскажет им светлую новость. Она совершенно убита этим обстоятельством. Что отвечать на простые вопросы родителей, а именно: кто отец ребенка? Будет ли она с ним жить? Где вообще собирается жить? Как жить? Как растить ребенка?
Ответов нет.
Ее состояние – колоссальный прессинг на меня. Ведь бессознательно она требует: ты обязан принять решение, при этом ясно, какого решения ждет она от меня. Сейчас ей нужно только одно: чтобы я выбрал жизнь с ней. Чтобы ушел от жены. И впадает в отчаяние якобы из-за предстоящего тяжелого разговора с родителями; на самом же деле – из-за того, что я веду себя не так, как ей хотелось бы.
Будущее с Мариной стало меня пугать. Зачем мне все эти поединки, которыми я сыт уже по горло?
Все это навалилось на меня, и я уже не знаю, чего хочу. Боюсь самого страшного: ничего не хотеть. Ни одна перспектива не радует, ни другая.
Даже с моим жизненным опытом так легко потерять голову. Хладнокровно просчитываешь ситуацию – тупик. Нет взвешенного решения.
Хочу покоя. Не хочу этих проблем.17.10.07
Сегодня неожиданно день был тихий и спокойный. Видел Марину. Я ее, наверное, действительно люблю. Она так и тянется ко мне: глаза светятся.
Вдруг появилась уверенность в том, что мы будем вместе, мы должны быть вместе – и это решение всех проблем.
Вот такой нежданный оазис. Или мираж?
Жить иллюзиями – самое большое унижение для человека с достоинством, сознает он это или нет.
Но мне сейчас не до унижения; мне бы просто выжить, с иллюзиями или без.23.10.07
Очередной сюрприз.
Марина рассказала обо всем родителям. Их реакция меня изумила (я до сих пор не могу прийти в себя). Они стали отчитывать ее за то, что она поступила, как дура; стали обвинять ее, оскорблять – этим дело и кончилось.
О том, что она их дочь, которой именно сейчас, как никогда, требуется помощь, они и не вспомнили.
Для них «хорошо» или «плохо» – это вопрос того, «что люди скажут». «Как людям смотреть в глаза». Вопроса счастья дочери не существует.
Прошло три дня. Они не звонят.24.10.07
Был у Марины.
Мало того, что на меня давит ситуация – сильно и методично начинает «давить» Марина. Она инфернально мрачна из-за того, что вынуждена обманывать родительские ожидания. Она плохая дочь. Родители успокоятся тогда, когда мы будем вместе и не надо будет прятаться и скрываться.
А тот фактик, тот пустячок, что ради этого «счастья» мне надо будет развестись с женой, которая ни в чем не виновата, как-то отходит на второй план.
То обстоятельство, что ради счастья с одной я должен обидеть (практически – уничтожить, я понимаю именно так) другую, кажется, никого особо не смущает. Моих, собственно моих, проблем более не существует; им отказано в праве на существование; они воспринимаются только как момент чьих-то других проблем.
Я как-то впервые серьезно испугался того, что жизнь с Мариной может превратиться в пылающий адик. Если из меня и дальше будут выбиваться обязательства и гарантии, которых я дать не в состоянии, то стоит ли огород городить?
Кажется, может кончиться тем, что я к себе никого близко не подпущу. Одиночество уже порой воспринимается как несбыточная мечта.
Вечером Марина прислала эсэмэску. Безумно любит, скучает, хочет быть со мной.
А чего хочу я?
Я не собираюсь никого разочаровывать или очаровывать; я собираюсь оставаться «самим собой» – наедине с чувством собственного достоинства.25.10.07
Никогда еще не было так плохо. Я не то чтобы растерялся или «поплыл» (хотя и элементы «грогги» присутствуют, несомненно), я перестал видеть и ощущать ситуацию в целом. С разных сторон я ее вижу, а вот в краткосрочной и долгосрочной перспективе все покрылось туманом. Страшно представлять будущее. Уже не знаю, кто прав, кто виноват, и что делать.
Ситуация настолько многомерна, что ее невозможно рассматривать только в двух-трех аспектах. А именно так и будут ее рассматривать и оценивать родители Марины.
Я боюсь, и сама Марина будет с ними солидарна.
Полным шайтаном и отморозком буду, разумеется, я.
Навалилась полнейшая эмоциональная усталость, которая быстро превратилась в апатию. Не испытываю никаких чувств.
День пущу на мелкую беготню.
Кажется, впервые пожалел, что не стал уговаривать Марину на аборт. Она упорно осознает ситуацию как катастрофу. Возможно, именно для нее аборт был бы меньшей катастрофой.
Поздно. Сегодня последний день, когда аборт еще позволили бы сделать… Я, разумеется, даже не заикнусь на эту тему.
Удивительно, но беременность молодой, здоровой женщины, которая безумно любит приличного мужчину, от которого она беременна, приносит только разочарования.
Что-то здесь не так.28.10.07
Был в городке N. у тещи (вместе с женой и сыном). Удалось получить великолепную сортовую малину по случаю, и мы сначала вскапывали землю, а потом высаживали кусты.
Чувствовал себя самым паршивым негодяем на свете. Жена (которая чувствует себя гораздо лучше) строит планы на весну, с энтузиазмом ковыряясь в своих цветах. Я поддакиваю – прекрасно отдавая себе отчет, что весной все будет уже по-другому. Весной ей будет плохо, мне будет плохо, всем будет плохо. Врагу не пожелаешь быть в шкуре такого пророка.
Спроси меня в тот момент, чего я хочу – и я честно признаюсь: мне не хочется ничего.
Вдруг приходит сообщение от Марины: у нее внезапно поднялась температура (такого не было за весь период беременности), появилась сильная боль в животе.
Я звоню ей. Она в панике, с трудом держит себя в руках. Я уверенным голосом произношу необходимые в таких случаях слова. Кажется, они отчасти действуют.29.10.07
Вчера получил от Марины трогательное сообщение. Она написала, что безумно, ужасно любит меня, нежно любит «наше маленькое солнышко». Только сильно волнуется.
Мы вернулись домой. Вечером другое сообщение: просила позвонить, как только появится возможность. Срочно.
Звоню. Оказывается, она уже в больнице. Боли в животе усилились, пришлось вызвать скорую. Положили на сохранение; предположительно, на полмесяца.30.10.07
Сегодня поехал в роддом, в отделение, куда положили Марину. По дороге купил магния (рекомендуется пить беременным с целью предупреждения выкидышей). С ее лучшей подругой навезли ей продуктов. Уезжал от нее в хорошем настроении (маршрутка подошла удивительно быстро); она просто светилась, когда отпускала меня. Никогда не видел у нее таких ласковых глаз. На какое-то время я перестал бояться будущего. Кто знает? Возможно, все сложится именно лучшим образом. Задачка с таким количеством неизвестных, что анализ превращается в гадание на кофейной гуще. Она пошла на плановое обследование с помощью аппарата «узи».
В маршрутке поступает звонок от нее. В результате обследования врачи обнаружили, что плод, наше «солнышко», перестал развиваться уже месяц тому назад (приблизительно с того времени, когда она сообщила мне о том, что у нас будет ребенок). Завтра операция.
Я испытал огромное облегчение, настолько отягощенное разочарованием, что чувства мои никак не ложились под перо. Минус на минус дал плюс, в принципе не отличающийся от минуса. Прошло уже два часа: облегчение усиливается, разочарование отходит на второй план, в глубину души. И этот процесс не зависит от меня. Вот она, подлость натуры…
Насколько же реальность жестока. Сплошное выживание. Больше сил ни на что не хватает.
Вот и разрулилась немыслимая по экзистенциальному накалу ситуация. Все завершилось до обыденного просто и неинтересно. Я уже прихожу в себя. Позвоню Марине.
О-о-о…10.11.07
Состоялся большой и трудный разговор с Мариной.
– Я тебя люблю, но ты перестал быть мне родным человеком.
– Я могу стать тебе родным человеком, но с одним условием.
– С каким условием?
– Я перестану быть.
– Как это?
– Меня не станет.
– Не дави мне на психику. У меня в одночасье не осталось никого. Ни ребенка, ни тебя, ни родителей, ни сестры, ни подруг… Мне хуже, чем тебе.
– Не преувеличивай.
– Нисколько. У тебя есть ребенок, жена…
– Да, это близкие и родные мне люди. Жена родная, но не любимая. Сыну безразлично, что происходит со мной. Пожалуй, сейчас он для меня важнее, нежели я для него. Так что я, фактически, уже давно одинок. Точнее, я всегда был одинок. Потому что я с величайшим сожалением вычеркивал из своей жизни людей недостойных. Плохих.
– Ты никогда не говорил мне о своем одиночестве.
– Да я только сейчас это как следует понял.
– И что же теперь делать?..На этом мой дневник обрывается. ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ (роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 11
Логично было бы предположить, что именно тогда, когда Раскольников острее всего переживал своё унижение и, соответственно, в момент, когда торжествовала его теория, – именно на этом этапе романа должна была произойти встреча Родиона с «вечной Сонечкой». Причём несложно вычислить в общем плане и обстоятельства, которые непременно должны были сопутствовать «внезапной» и судьбоносной встрече. В сконструированном романе, конструкция которого направлена против «математической головы» и конструкции вообще, всё происходит до карикатурности «конструктивно». Родион и Соня – это непосредственная точка пересечения или момент скрещения двух сюжетов. Собственно, Сонечка, как мы уже отмечали, есть отделение, объективация «лучшего» (в системе координат повествователя), что есть в мятежном Родионе.
Едва очнувшись после четырёхдневной болезни, Раскольников уже тогда понял, «что не хочет так жить ». А как хочет? «Об этом он не имел понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы всё переменилось, так или этак, "хоть как бы то ни было", повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью». Это первый ультиматум «живой души», бунт иррационального против каких-то там законов. Он был близок к тому, чтобы не разумом, а чувством определиться: по какому разряду жить? Сама идея разрядов ещё не ставилась под сомнение, поэтому требование «перемен» – это требование определённости. Но уже сам факт того, что Раскольникова тошнило от идеи, что судьбоносное решение принимается в недрах души – есть симптом выздоровления, восстановления попранных было «верха – низа» в иерархии духа.
В таком состоянии кандидата в Ликурги потянуло к людям. Он вернул им, обыкновенным, должок: «вынул пятак и положил в руку девушке», которая «уличным» голосом «выпевала романс» под аккомпанемент шарманки. Уж куда обычнее: те самые, униженные и оскорблённые.
Но вот ведь незадача: «Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику "будет!" (…)». То Раскольников «отрезал» себя от людей, а теперь «материал» не признал своего Наполеона и, так сказать, принял вызов: тоже вернул долг, «отрезал». Будет! И господин, к которому обратился Раскольников с невинным вопросом «любите вы уличное пение?», и даже поэтически прокомментировал, обращённый (так получилось) к себе же вопрос, – господин «перешёл на другую сторону улицы». Диалога не состоялось.
Тогда Раскольников «обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз». Потом он подошёл к толпе и «залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него и всё что-то галдели про себя, сбиваясь кучками». Дальше его прибило к увеселительному заведению. «Его почему-то занимало пенье и весь этот стук и гам, там, внизу…» Он с удовольствием пообщался с «прынцессой» Дуклидой (этой проститутке, очевидно, с умыслом даровано имя святой мученицы) и подарил ей вместо выпрашиваемых шести копеек на выпивку три пятака.
В романе, главным действующим субъектом которого является подсознание, от этой сцены – прямая дорога к появлению Сонечки.
Но этому предшествовали два прелюбопытных (искусно сконструированных) обстоятельства. Первое: Раскольников шокировал своим фактическим признанием Заметова («А что, если это я старуху и Лизавету убил? – проговорил он вдруг и – опомнился»). В данном случае Раскольников бессознательно «язык высунул», то есть играл с судьбой в прятки, дразня «низших» и «обыкновенных». Уж не рецидив ли это наполеономании? Никак нет, не рецидив – по той простой причине, что мания эта и не была изжита, она присутствовала и сказывалась в нём постоянно, в каждом миге жизни. Раскольников, фактически, сам лез в тюрьму, презирая и себя, и других, и наказание, хотя наказание почему-то было ему необходимо. Суровая судьба не приняла вариант такой лёгкой каторги.
Второе: «неотразимое и необъяснимое желание повлекло его» на место преступления («необъяснимое» для Раскольникова, но очень даже понятное повествователю и читателю). И здесь Раскольников «высунул язык», да так, что едва не очутился в конторе, куда сам и напрашивался. Спасла психология: дескать обычно виноватый бежит от наказания, а не ищет его, не лезет в петлю. С одной стороны, бывший студент вновь переиграл работников и мещан; с другой же – провидение знало, что делало, когда «упустило» и этот шанс наказать покинувшего лоно Христово. Провидение привело его не в контору, а на перекрёсток, хотя сам Раскольников «наверно решил про контору и твёрдо знал, что сейчас всё кончится».
Раскольников в очередной раз ошибся, самоуверенно просчитался, а провидение сделало ход с далеко идущими последствиями. Мармеладов был раздавлен барской щегольской коляской, именно в ту минуту и едва ли не на глазах у Раскольникова. Как говорится, прямо как в жизни, хотите верьте, хотите нет.
А жизнь Мармеладова оказалась не такой уж пустой и никчемной, напротив, даже содержательной в каком-то высшем, эзотерическом смысле: благодаря трагическому случаю путь Раскольникова пересёкся с путём Сонечки. Впрочем, можно и так сказать, что «материал» работает на избранного «кумира», не щадя живота своего…
С перекрёстка началась не новая, конечно, жизнь, но наметилась некая новая динамика, которая приведёт к тому, что под головой у Раскольникова окажется Библия. Разумеется, Соня явилась в парадоксальном несоответствии её не легкомысленного даже, а профессионального наряда («в цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом», и в «светлых ботинках», и с «омбрелькой», в соломенной шляпке «с ярким огненного цвета пером») с миссией и функцией, отводимыми для неё тем же неутомимым провидением. Видимость не совпадает с сущностью – очевидно, такой философский урок следует извлечь читателю. Во всяком случае повествователь упорно разводит план житейский, создаваемый усилиями и заботами человека, и тот особый вселенский жизненный узор, который ткётся явно не людским радением. По крайней мере два измерения присутствуют в поступках и сюжетах: сиюминутный и вечный, «полагание» человека и «располагание» Бога. Соня вошла последняя, «приниженная» и «расфранченная», но именно у неё на руках умирает отец, и последние слова прощания были обращены именно к ней. Присутствует в этом «узоре» какая-то логика или нет?
Раскольников, у которого на Соню были свои, особые виды и ставки (об этом – несколько позже), отдав несчастным людям уже не пятаки, а приличную сумму (собственно, всё, чем он располагал), вышел от Мармеладовых с «новым, необъятным ощущением вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговорённого к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение». Казалось бы, ощущение жизни, та самая вожделенная перемена произошла, наконец, и в христианском контексте рождается это ощущение жизни (перекрёсток, сочувствие, милосердие, любовь к ближнему, даже просьба к маленькой Поленьке помолиться и о «рабе Родионе», упомянув его в ряду с сестрицей Соней и папашей).
Казалось бы. Но мысли Родиона о другом. «Довольно! – произнёс он решительно и торжественно, – прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил (это отклик на сцену с Поленькой – Г.Р.)? Не умерла ещё моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и – довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и… и воли, и силы… и посмотрим теперь! Померяемся теперь! – прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то тёмной силе и вызывая её».
Раскольников явно неверно воспринял знаки, ниспосланные милосердным провидением, намекающие на то, что ещё не всё потеряно для падшего. Он трактует их как белый флаг, выброшенный судьбой. Это ведь была речь Наполеона. Раскольников был вдохновлён тем, что почувствовал себя нужным людям. Всё строго по теории: «мармеладовы» порождают защитника своего Родиона, который и бьёт «материал», и милует. По праву сильного. В целях высшей справедливости. Однако в душевной симфонии Раскольникова помимо его воли отчётливо, контрапунктом звучат несколько партий или тем. Ведь «живая душа» также ликует – но на свой лад: она заботится о воскрешении заблудшего раба, а не о возрождении маниакальных идей, защищающих право на «кровь по совести». Всё это и называется классический образец психологизма в литературе.Симфония – это не наши домыслы. Как только Родя окажется в кругу любящих его матери и сестры, но с «царством рассудка и света» за пазухой, – душа будет упорно скорбеть и противиться этому «царству». «Успеем наговориться» – сказал Родя матери; и «вдруг» – «одно недавнее ужасное ощущение мёртвым холодом прошло по душе его»; он в очередной раз уразумел, что он «отрезан», «что не только никогда теперь не придётся ему успеть наговориться, но уже ни об чём больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить ».
Ни с кем – за исключением Сони.
Об этом в следующей главе, а сейчас отметим, что в сценах, подобной той, где восстанавливается пошатнувшееся «царство рассудка», проявляется высшее мастерство Достоевского, которому с удивительным правдоподобием удалось совместить в душе героя его правду и правду повествователя. Иначе говоря, правду психики и правду «математического» (одномерного) сознания. Причём это именно писательское мастерство, а не только великий дар психолога. Впечатляет именно умение выразить невыразимое, а не умение понять человека. Человека Достоевский как раз не понимает, а мистифицирует.
3. Эпистолярный жанр
Я получил от Марины письмо. Странно: если разговоры не помогают, люди начинают писать письма. А если не помогают письма, последняя надежда: роман. Только вот письма пишутся друг другу, а роман – едва ли не послание самому себе.
Интересно устроена наша душа. Собственно, желание разобраться с душой, понять ее и делает человека человеком…
Марина – мне
Сначала я вставил письмо Марины (целиком и полностью), датированное 06.11.07.
Потом убрал его. Без комментариев.
Потом без комментариев вставил опять.
Сейчас сижу и не знаю, как мне быть.
Вот это я, пожалуй, прокомментирую.
Когда я читаю письмо Марины, меня всегда охватывает одно и то же чувство: мне, чтобы не разрыдаться, хочется разодрать весь роман в клочки и пустить их по закоулочкам.
Я неизменно бываю потрясен.
Именно из-за этой невероятной силы воздействия я и хотел вставить письмо Марины в роман.
Но именно письмо Марины заставило меня осознать: что-то мешает роману становиться продолжением жизни, и наоборот.
Странно: я ведь стремился именно к их слиянию, ради этого, собственно, и роман писал.
Ах, Марина, Марина, с тобой одни проблемы…
Я – Марине
Письмо – это такой жанр, где сначала подумаешь, а потом скажешь; с другой стороны, можно подумать и в процессе письма, а можно позволить себе даже такую роскошь: не задумываться. Это ведь не роман.
В общем, это жанр, который можно назвать «поиски ответов». Размышления. Разборки с собой, в которые ты посвящаешь только одного человека.
Мой любимый, родной человек, моя славная, нежная девочка!
Все, что ты сказала мне в своем письме, как всегда, тонко, тактично. Какое пронзительное, душевное и умное письмо!
В нем сказаны вещи, которые мы рано или поздно сказали бы друг другу, но о которых я пока избегал говорить. Считал, что не пришло время.
Я по-прежнему считаю, что оно не пришло, но молчать сейчас хуже, чем говорить.
Вот какая сложилась ситуация. Я всегда буду виноват – и перед тобой, и перед женой, и перед детьми, и перед своими родителями, и перед твоими, и перед собой, и перед общественным мнением, и перед кем угодно. Список можно легко продолжить.
Дело не в какой-то моей особой, небывалой чуткости и совестливости, а в том, что я объективно оказываюсь слабым звеном. Когда ты делаешь мне мягкий, но убийственный упрек в том, что я предаю любовь, ты совершенно права. Потому что сейчас – ты слабое звено. Ты вынуждена защищаться, бороться и приводить убийственные аргументы. Если смотреть как-то уж совсем со стороны и оценивать ситуацию по формальным признакам, что ли, то есть оценивать, в основном, ситуацию, а не людей, в нее попавших, то получается что-то вроде предательства. Выбрал семью (прикрываясь чувством долга) – отказался от любви. Банальная история.
Жена, как только она окажется слабым звеном, не задумываясь изо всей силы сделает мне не менее убийственный упрек в предательстве – и будет права не менее твоего. Как только я, положив на тебя жизнь, постарела, заболела, стала не нужна – ушел к молодой. Эгоистически выбрал любовь (прикрываясь высокими словами о высоких чувствах) – бросил семью. Банальная история.
Сын может сделать мне убийственный упрек в предательстве – и далее по списку. Сила слабых звеньев в том, что у них всегда есть наготове пилюлька с ядом для тех своих ближних, которые потенциально могут превратиться в очередное слабое звено. Так устроен человек. Это нормально. Не собираюсь давить на психику и оперировать сентиментальными аргументами (все время старался уберегать тебя от этого), однако реальность следует представлять себе правильно.
Я объективно не могу не чувствовать себя виноватым. Вот почему я не собираюсь оправдываться (это бессмысленно), я пытаюсь объяснить. Если угодно, это мой способ защиты – способ защиты слабого звена.
Когда я говорил тебе, что не испытываю чувства вины, то имел в виду конкретную ситуацию (ту, что сложилась у меня дома, когда тебя забрали из больницы), а не нашу ситуацию в принципе. По поводу нашей ситуации я как раз испытываю просто прибивающее меня чувство вины. Но если я стану извиняться перед тобой за это, то испытываю чувство вины за какой-то ложный жест: это не тот случай, когда «извинения были смиренно предложены провинившейся стороной и были благосклонно приняты стороной пострадавшей». Извинения превращаются в пустую болтовню.
Поэтому к черту расшаркивания (к черту подробности, как любит кто-то говорить), далее только по существу.
Знаешь в чем моя главная слабость (которая при определенных обстоятельствах может превратиться в силу)?
В том, что я не умею предавать. Когда я узнал, что у нас появится ребенок, я понял: я не в силах отказаться ни от тебя, которая становилась моей семьей, ни от моей семьи, которая никуда не исчезала. Дай бог здоровья всем моим близким. Я знал, что выбираю путь, который мужчины практически не выбирают. Разве что единицы. Я знал, что выбрал тупик – так ведь у меня и выбор был только из тупиков. Мне жутко было представить, сколько всего не совместимого с жизнью и здоровьем ожидает меня впереди.
Дальше стали происходить вещи или процессы, которые сложно было спрогнозировать. Что-то в душе моей стало скукоживаться и усыхать. Я странным образом перестал испытывать чувства. Любые. Чувства, эмоции стали как-то отмирать. Я даже бояться устал – за тебя, за себя, за всех. Стало утрачиваться чувство самосохранения. Держался исключительно на чувстве ответственности и долга. На морально-волевых. Так надо – и точка. Здесь нечего рассуждать. Будь что будет.
Когда ситуация поменялась – и не ты, и не я тому виной – я не испытал чувства облегчения. Скорее, испытал опять что-то непредвиденное: я сдулся и опустошился еще больше. Светлых перспектив не появилось; появился некий новый сюжет.
Я не сразу понял, что пустота и есть мироощущение слабого звена (которое продолжает считать себя порядочным). Сегодняшний мой выбор не между любовью и семьей, как тебе кажется; нет, Маринка. Я как любил тебя, Мой Заяц, так и люблю. Я ни разу не произнес слов, не оплаченных чувством. Вот почему я начал письмо с такого обращения к тебе: мне легко говорить эти слова, потому что это правда. Но сейчас главное перестает быть главным; сейчас надо думать о другом.
Мой выбор – между жизнеспособным и гибельным вариантом. Понимаю, большой соблазн сказать мне, что я «разумом придавил чувство и отказался от любви». Выбрал семью – предал любовь. Да ни от чего я не отказывался; наступил тот предел, когда обострилось чувство ответственности, требующее принимать решение с помощью разума. Решение дается мне настолько тяжело, что просто бессмысленно говорить о том, что оно правильно. Боюсь, оно единственно возможно. Ты меня знаешь. Я не из тех, кто выбирает заведомо гибельные варианты. Это проявление той слабости, маскирующейся под святой романтизм, которую я терпеть не могу.
Остается вариант жизнеспособный.
Надеюсь, ты понимаешь разницу между душераздирающей попыткой выяснить, кто и насколько виноват и трудным признанием «так сложилась судьба». У меня не хватит ни физических, ни психологических, ни, в конце концов, материальных ресурсов (что только усугубит дефицит физическо-психологической поддержки) жить на две семьи в режиме слабого звена – вечно и перед всеми виноватого. Я, конечно, маргинал, но не настолько же. А объективно это будет только так и никак иначе. Как любит повторять кто-то, не питайте иллюзий.
А сделать тебя слабым звеном («вечной любовницей») со всеми вытекающими отсюда последствиями… Честнее и гуманнее (пардон за пафос) отказаться от тебя, Мое Солнце. Хотя я вовсе не собираюсь отказываться от тебя; я вынужден отказаться от иллюзии жить с тобой.
Выбрать любовь… А ведь я ее выбрал, Заяц. Я предчувствовал, что выбираю долю слабого звена, и все же пошел этой дорогой – тупиком, ведущим к счастью. И было бы ложью сказать, что я жалею об этом.
Во всяком случае, я так себе это представляю.
Надеюсь, сказанное выше дает мне человеческое право произнести следующее. Точнее, не «сказанное выше», а наши отношения. Мне кажется, наши отношения – гарантия честности, гарантия чистоты наших будущих отношений.
Ты говоришь, что не сможешь жить без меня. Я тебе, конечно, верю. У меня нет причин и оснований хоть капельку сомневаться в твоих словах. В сию минуту ты права. Но думаю, ты ошибаешься. К сожалению (к счастью?), у человека достаточно сил, чтобы пережить то, что, кажется, пережить невозможно. Ты выживешь без меня. Я буду выживать без тебя. Я верю, что ты, моя девочка, гораздо сильнее, чем кажешься себе сегодня. Я просто убежден в этом.
Я не собирался предлагать тебе «не разводиться с мужем или что-то в том роде». Но в ситуации выживания на ситуацию развода можно посмотреть и по-другому. Никто тебя не осудит. Я в том числе. Ты говоришь: «не трать усилий», то есть не уговаривай принимать какие-то банальные решения.
Эти решения банальны для банальных людей. У людей приличных и глубоких содержание банального решения всегда небанально – настолько, что оплачивается банальной кровью. И стервой не обязательно становиться: приличному человеку и выживать легче, и жить комфортнее.
Я не уговариваю тебя; я излагаю свой взгляд на проблему.
Ты просишь прощения. Мне не за что прощать тебя, Моя Радость.
Прости меня.
Сейчас позвоню тебе. Ты, вероятнее всего, на работе. Так приятно осознавать, что ты где-то рядом, моя девочка. Целую тебя. До встречи.
08.11.07
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
12
Расстановка внутренних и внешних сил в эпопее «раскола» в общем-то уже понятна. Какая роль отводится в этой битве кроткой, тихой Соне?
Всё просто: Раскольников хочет втянуть Соню в свою наполеоновскую возню, с математической ясностью доказывая ей, что она такая же преступница, как и он. Она, вольно или невольно, совершила преступление против «живой души». Как же она несёт наказание?
Раскольников и здесь ставит своеобразный эксперимент: как она, не вооружённая теорией, вообще обходясь без поддержки разума, находясь вне царства рассудка, собирается жить, просто жить, не умирать? Быть преступницей (то есть своего рода сверхчеловеком, ибо преступление совершено было осознанно, «по совести») – и отвергать саму идею преступления?
Что-то здесь не так.
Но математика-то в случае с Соней и буксует, даёт сбой. Под сомнение ставится вся теория Раскольникова…
Преподносится этот ребус в ребусе, конечно же, фатально и инфернально, с заламыванием рук, вскрикиваниями, «невыразимым волнением» и « ненасытимым состраданием». Иконописная, знаковая поэтика (этакий муляж натуральной художественности) – утомляет и раздражает претензией на псевдозначимость и мнимую глубину. Знаков чрезвычайно много, ориентироваться в них несложно, но обилие информации, в них заключённой, создаёт ненужный информационный шум, поддерживая и нагнетая состояние истерики. Знаков много, а роман, повторим, пустой. Феномен поэтики Достоевского – совершенное воплощение весьма далёкого от совершенства взгляда на человека; стиль Достоевского – совершенен и виртуозен, но степень художественности его лучшего романа заметно уступает лучшим творениям Пушкина, Л. Толстого, Чехова.
Посещение Раскольниковым Сони обставлено, как вояж в Мекку.
Дом, в котором Софья снимала комнату у портного Капернаумова , был, понятное дело, трёхэтажный и зелёного цвета (весь же роман мономански отделан уныло-назойливым, болезненным жёлтым цветом; вот и в комнате у Сони обои желтоватые ). Вход к Капернаумову обнаружился « вдруг» , « в трёх шагах от него, отворилась какая-то дверь ».
В одиннадцать часов пришёл Раскольников («я поздно…»), что вызвало бурю пророческого восторга с библейской начинкой со стороны крайне религиозной Сони. И т. п.
Вся эта искусственная, мёртвая (потому что знаковая, а не образная) поэтика порой превращает роман в богословский трактат. Прибавьте сюда нескончаемые идеологические диалоги, смысл которых утомительно однообразен, как «жёлтый цвет»: раз за разом, словно капля камень (в романе образ бездушного камня, знаково спрятанного в имя «Пётр», – по гречески Пётр и есть камень – очень значим), подтачивать основы «царства разума», обнаруживать нечто, ускользающее от разума, дразнить разум, показывать ему язык.
Короче говоря, смысл всех «испуганных и безотчётных» слов и жестов слился для Раскольникова (а это и было задумкой и высшим торжеством повествователя) в символ «всего страдания человеческого», которому он, «как совсем сумасшедший», «вдруг» поклонился, да при этом поцеловал её ногу. Что так растрогало Родю?
Формальная логика Раскольникова действительно напоминает логику сумасшедшего, ибо один какой-то (тот, который «болит») фрагмент реальности отражён здраво, а в целом картина безбожно искажена, поэтому с его логикой невозможно спорить: в неё можно только верить или не верить. По правилам этого способа мыслить противоречие легко преодолевается, если ты веришь, и странным образом превращается в ошибку, если ты взялся размышлять. Сумасшедший всегда прав.
Сама Соня как продукт схоластического воображения повествователя схоластически же, даже как-то «алхимически» интерпретируется болезненным сознанием Раскольникова. Нормальных читателей просят всерьёз не беспокоиться. Манипуляции же Родиона Романовича, фантазии и импровизации мысли приводят к диким и уродливым комбинациям, подозрительно смахивающим на правду. К сожалению, он, по замыслу автора, склонен верить в логический бред. Будем отделять зёрна от плевел – работа рутинная и скучная, если ясно понимаешь, чем одно в принципе отличается от другого. Раскольников восторженно недоумевает (а повествователь тем самым намекает на присутствие некой божественной непоследовательности или последовательности высшего порядка): «(…) как этакой позор и такая низость в тебе (речь идёт о жёлтом билете Сони – Г.Р.) рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!» Наполеону с его рационалистически устроенными мозгами не понять… Тут думать надо. «Что же поддерживало её? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся её только механически ; настоящий разврат ещё не проник ни одною каплей в её сердце: он это видел (…)».
Если удержаться от улыбки и отвлечься от чувства неловкости, которое всегда испытываешь, общаясь с умственно неполноценными или душевнобольными, условную, умозрительную проблему можно условно считать «неразрешимой» загадкой. Раскольникову, разумеется, необходима разгадка. «"Ей три дороги, – думал он, – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или… или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце". Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее».
Эта последняя фраза – самое трезвое и здравое из всего, написанного в романе. Веришь в то, во что хочешь верить, а отвлечённый ум, выступая слепым исполнителем души, соорудит тебе любую оправдательную концепцию, жестоко логичную. Если бы из духа и смысла этой фразы родился роман, это был бы иной художественный мир, иная модель. Но мифы жестокого, потому как отвлечённого, скептика повествователю угодно было сделать «реальностью» романа.
Скептик, в конце концов, получил то, зачем пришёл, и был, как водится, предельно обескуражен. Конечно же, он «предчувствовал», и сбывшееся наяву – посрамление скептика. Четвёртая, тайно учтённая, но не озвученная даже во внутреннем монологе, дорога Сони явно смутила нераскаявшегося преступника. «– Ты очень молишься богу-то, Соня?» (…) «Что ж бы я без бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку».
«"Ну, так и есть!" – подумал он". (…) "Так и есть! так и есть!" – повторил он настойчиво про себя." "Вот исход! Вот и объяснение исхода!" – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая её».
Сцена завершается более, чем логично: «юродивая», по впечатлению Раскольникова, Соня читает по просьбе Родиона про воскресение Лазаря. С чего бы это? А «вдруг». Новый Завет, чтоб уж было ещё «страннее и чудеснее», был принесён убитой Родионом Лизаветой, тоже «юродивой». (Между прочим, Елизавета – «почитающая Бога» (евр.): вот куда целил Раскольников, когда он сначала теоретически, а потом и практически убивал «тварей дрожащих».) «Тут и сам станешь юродивым! заразительно!» – безвольно сопротивлялся он чарам божественных знамений. На четвёртый день после преступления, из четвёртого Евангелия, о сути четвёртого пути: «ибо четыре дни, как он во гробе». «Она энергично ударила на слово: четыре ». Лазарь, как известно, воскрес. Какие ещё нужны доказательства в пользу веры? «Убийца и блудница» лихорадочно трепещут над священным текстом: тут без диалектики явно не обойтись. Впрочем, «диалектичен» (то есть «полоумен», на взгляд Сони) оказался лишь Раскольников. (Соня с её единственным аргументом «бог не допустит» была одиозно ортодоксальна и, к её чести, «антидиалектична»; точнее, она «не удостаивала» быть диалектичной.) Он объявил Соне, что им теперь идти «по одной дороге» . Для Раскольникова «Новый Завет» и был исходной точкой и оправданием преступления. Именно ради спасения детей, «образа Христова», надо идти на преступление. «Надо же, наконец, рассудить серьёзно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит!» А рассудить серьёзно – значило: «Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!»
Вот куда заводит диалектика.
С другой стороны, свяжите предчувствия Раскольникова («Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе (об убийстве – Г.Р.) (…), когда ещё Лизавета была жива») и его «полоумные» идеи…
Без диалектики вновь не обойтись.
4. Вселенская сирота
Одиночество вдвоем: вы что-нибудь знаете об этом?
Вот опять же: по-доброму, я желал бы вам ничего не знать об этом; но с другой стороны, если вы ничего не знаете об этом, вы напрасно прожили жизнь. Выбор, как говорится, за вами.
Думаю, что одиночество вдвоем – это тоже формула гармонии.
Отказаться от прошлого – значило получить такую пробоину в бок, после которой смешно было думать о выживании; а отказаться от будущего, которое рано или поздно станет твоим прошлым, тоже не было сил.
Когда человек не может ни уйти, ни остаться, это еще не гармония; это пародия на золотую середину. Я чувствовал себя виноватым перед всеми; иногда именно это делало меня правым в собственных глазах. И на этом, как говорится, спасибо.
Но проблема, как я ее понимал, не сводилась для меня к уходу от одной женщины к другой. Прежде всего это была проблема приближения к себе, проблема реализации человеческой сути. Меня нервировало и злило то обстоятельство, что я в такой степени оказался человеком долга. Не человеком свободы, свободной совести и свободного разума, а человеком долга, черт бы его побрал. Что-то патриархальное и доисторическое въелось в мои поры и сидело во мне приросшей плотью. Я никак не мог вытравить из себя человека коллективного, которого ненавидел всеми фибрами души. Одно бессознательное во мне ненавидело иное бессознательное. Высокое и большое чувство долга делало из меня маленького человека.
Вперед, к любви и новой жизни: чем не стимул и девиз?
И такое светлое будущее омрачало настоящее. Я просто не мог решиться на выбор, ибо необходимость выбора в сию минуту превращала меня в несчастнейшего из людей, у которого есть гораздо больше, чем нужно простому смертному.
Как быть? Как? Кто знает?
Все ответы, которые могли предложить мне люди, могли проистекать исключительно из чувства долга и смирения. За счет приспособления. За счет урезания собственной сути. Никто не мог решить мою проблему; никто даже не видел здесь проблемы. Неправда, что люди боятся сложных, неразрешимых проблем. Они научились сосуществовать с ними, приспосабливаться к ситуации, когда приходится жить с тем, что выше твоего понимания. Это не труднее, чем пуделю научиться семенить на задних лапах.
Я же хотел непременно решить неразрешимую проблему; мне надо было не только чувствовать себя правым, как какой-нибудь нелепый шаолиньский монашек, имеющий на все каменно-туманные предписания, но и понимать, что я действительно и бесповоротно прав. Тысячу раз прав. Без этого я не мог быть счастлив. Без этого о гармонии можно было благополучно забыть. Поставить на себе крест – в самом христианском смысле этого выражения. Кранты.
Моему одиночеству могла помочь только Марина, которая ничего не смыслила в природе этого одиночества. Мое одиночество усугубляла жена, которая цеплялась за жизнь только ради меня.
Добро пожаловать в мою шкуру, где никогда не бывает тесно, где всегда просторно и светло – в этот рай на земле, в котором хочется удавиться от избытка счастья.
Мне предстояло справиться с моей задачей. Иных вариантов моя стратегия не предусматривала. И дело отнюдь не в жалкой молитве «победить – или умереть». Это ратная инструкция. Самурайские мотивы. Такого рода тату встретишь на жопе каждого второго зека. Для меня жить означало побеждать, то есть понимать. Победа была способом моего существования. А поражения я уже давно умел превращать в победы. Но вот я чувствовал, что могу потерпеть такое поражение, которое пережить буду не в силах.
«Ты оказался не моим мужчиной»… – сказала Марина. И, выдержав паузу, резанула: «Ты по-человечески скукожился, поэтому и поступил так со мной».
Это все, что я запомнил из нашего последнего разговора.
Она меня отпускала. Я от нее уходил. Однако фатальная правота обоих вела, почему-то, к мазохистской гармонии: чем больше обострялись страдания – тем больше усиливалась любовь.
На каждого мудреца довольно простоты. Согласен. Однако чего стоит простота без мудреца? На каждую простоту необходимо посмотреть глазами мудреца.
Как быть?
Как?
Кто знает, эй, вы, на палубе?
Да люблю я вас всех, люблю, и лучше доказательство тому – моя любовь к себе, одному из всех. Иначе возился бы я столько со своим романом…
Последнее письмо Марине
Сделаем поправку на то, что слова, выражающие мысли и чувства, приблизительны, грубы и не всегда выражают то, что я чувствую. И понимаю. Я чувствую боль, разбавленную счастьем. Я понимаю, что наивно рассчитывать на понимание.
И все же… Слова – это последнее, на что я могу рассчитывать.
Письмо умного человека, который любит
1. Я тебя люблю.
2. Я прекрасно понимаю твои чувства и эмоции, и вот как я их вижу и воспринимаю.
В тебе говорит здоровая потребность иметь здоровых детей и, следовательно, здоровую семью. Возможно, в тебе это женское естество говорит особенно громко. Виват. Это в порядке вещей, это нормально. Здесь правит здоровый эгоизм. В принципе – это капитал женщины. Ничего не имею против. Более того, если бы это было не так, я б насторожился, и мне это вряд ли бы понравилось. Такая потребность – корень всех твоих очарований. Ты и полюбила меня как человека «из твоего будущего», который очень подходит тебе. В моем лице ты полюбила свое будущее. Как нормальная женщина. По своему ты права.
Словом, здесь нечего обсуждать; тебе не в чем оправдываться, а мне глупо предъявлять претензии.
Я (по разным причинам: сейчас не в них дело; если интересна моя версия причин – см. пункт 5 ) оказался не тем человеком, который стал бы гарантом твоего женского будущего.
Конечно, в тебе вспыхнула обида. И боль. Это более чем нормально. «Злые люди доброй киске не дают украсть сосиски…» (шутка). И, вольно или невольно, ты творишь нечто, по ряду признаков напоминающее банальную месть. (И это естественно – но тут уже к тебе возникают человеческие вопросы…) А как можно отомстить мне, человеку, которого ты не можешь не чувствовать?
3. См. пункт 1 . Поэтому сделать мне больно – нет ничего проще. Для этого надо всего лишь убрать твою любовь ко мне. Абсолютизировать свою обиду. И ты сделала это настолько виртуозно, что я до сих пор не знаю, плакать мне или смеяться. На всякий случай делаю и то, и другое. «Ты оказался не моим мужчиной»… Дьявол отдыхает, солнце мое. Попала в самую точку. Больнее могло быть только то, что ты произнесла сразу же вслед за этим: «Ты по-человечески скукожился, поэтому и поступил так со мной».
Иными словами, я и не мужчина твоей мечты, да к тому же человечишко так себе.
4. Больше всего меня поражает во всем этом одна вещь: где твоя любовь ко мне? Ты меня любишь или ты любила меня как мужчину (не того), потенциально имеющего отношение к тебе? Кончилось это прогнозируемое отношение – и чувства твои ко мне пропали? А где же «я вас люблю, к чему лукавить» (не шучу)? Я – тот или не тот? Или для тебя это не имеет значения?
Скажу по-другому, если так понятнее: кошмар в том, что я не чувствую твоей любви . Она словно взяла и прекратилась. Краник закрыли. Все ушли на фронт. Бе-е-е…
5. Если ты думаешь, что я пытаюсь себя каким-то образом выгородить, то ты глубоко ошибаешься. Боюсь, ты можешь понять меня превратно, но все равно скажу. Проблема в том, что по своему прав и я (отсюда мой вечный комплекс «без вины виноват»; я тебе об этом уже говорил). Я не сомневаюсь в том, что ты меня любила. Только для тебя любовь, по моему, оказалась инструментом реализации твоего природного предназначения (главным образом), а для меня (сейчас скажу то, что могу сказать только тебе или себе: во всех других случаях это звучало бы напыщенно, выдуманно или, того хуже, как хитроумнейшая, следовательно – подлейшая попытка замаскировать слабость) – инструментом реализации духовных потребностей. Такой я мужчина. Как написано у меня в романе, «если я не скажу вам, что я умный, вы же сами не догадаетесь» (возможно, шутка).
Неужели ты можешь допустить, что я не думал о нашем будущем? Да я примеривал (промеривал) его день за днем. И если я все же отказался от него, то у меня должны быть на то веские основания. Тебе не приходило это в голову?
Не спеши объявлять меня трусом и предателем, ибо это характеризует в большей степени не меня, а тебя, точнее, твои сегодняшние настроения. Извини, но в тебе как-то удачненько заговорила твоя лучшая подруга, А. Собственно, женщина как таковая.
Я осознаю и, так сказать, уважаю твои потребности, но я не могу быть их заложником (см. пункт 2 ) – а это непременно случилось бы. И ты бы первая перестала меня уважать – с полным на то основанием. «Ты не мой мужчина» сквозило бы в каждом твоем движении, в каждой интонации. И все вопросы были бы уже не к тебе, а ко мне. Ты получила бы все, а качество моей – моей! – жизни резко бы упало. Я бы жил чью-то, возможно, ужасно благородную и по своему содержательную, но чужую жизнь. Я этого достоин?
Ты как-то обронила: «Я понимаю, тебе хочется пожить для себя…»
Проблема не в том, что я хочу «пожить для себя» – то есть, не особенно напрягаться на бытовом и трудовом фронтах (какая-то пошлая мечта духовного пенсионера); проблема в том, что выжить сейчас, в этот период своей жизни , я могу только своим одиночеством и, извини, творчеством. Вот не работал год – и меня как подменили. Я словно заболел.
Я же не могу не заботиться о тебе – следовательно, у нас будет ребенок; следовательно, буду пахать, как ишак, и постоянно испытывать чувство вины и перед тобой, и перед собой. И перед всеми на свете. Я не хочу благородно придавить себя приятным чувством ответственности за тебя. Я не хочу поз. Я себе уже все доказал, и сейчас проблема моего существования – я сам. У меня много сил, но, как ни странно, все они уходят на поддержание режима выживания. У меня мало стимулов, мало «подзарядки» – поэтому вся накопленная за жизнь энергия уходит «в космос».
Но любовь сама по себе здесь не при чем. Я четко отделяю любовь – и все остальное. (А ты?)
А разве я ничего не теряю, спросишь ты, отказавшись от нашего будущего?
Я теряю очень много. Я теряю в любом случае и очень много. Однако, отказавшись от нашего будущего, я остаюсь с тем, что для меня опорно важно: я не предаю тебя. Я не предаю никого. Ибо: брать ответственность и чувствовать, что у тебя не хватит на это сил, – это и есть «скрытое» предательство.
Другое дело, что я делаю тебе больно. Это – да. Но боль – это боль, а предательство – это предательство. В конце концов, я не обещал тебе, что со мной будет легко (хотя очень хотел, чтобы не было тяжело).
Вот сейчас попрошу прощения – и все испорчу…
6. Виноват я перед тобой?
Виноват. Я виноват уж тем, что позволил своим чувствам созреть, что тебя очень близко подпустил к себе… – и далее по списку. Но просить за это прощения – недостойно наших отношений (а так хочется!). В этом чувствуется глубокая фальшь, как плесень, которую сразу не разглядишь.
Я чувствую перед тобой вину за то, что я так сложно устроен. И если ты думаешь, что я кокетничаю, – иди к черту.
Хотел я тебя обидеть?
Нет. Злого умысла не было ни в каком виде.
Хотел бы я, чтобы не было наших отношений?
Нет. Это часть моей жизни. Мне нечего стыдиться. Наши отношения не выставили меня в моих глазах «не тем» мужчиной. Иное дело – насильно мил не будешь.
Больно ли мне – в том числе и оттого, что тебе больно, что я – вольно или невольно – не оправдал твоих естественных ожиданий?
Больно. Только не надо говорить о предательстве. Не надо путать божий дар с яичницей. От любви до ненависти и мести – один шаг, не будем этого забывать. Хотя… Мой шаг был бы в сторону иронического комизма и фарса. Но сделать такой шаг – не уважать себя. Мужчины (подобные мне) подобных – женских – шагов не делают.
Существуют ли условия, при которых мы, несмотря на все сказанное, могли бы быть вместе (семья, ребенок и, глядишь, любовь)?
Да. К чему лукавить. Да. Конечно. Еще как.
Но сейчас не вижу смысла говорить об этом.
Что еще?
А вот что. Мне было важно обозначить предел моей принципиальности, искренности и сложности. Все, что ниже этого уровня, – для меня ложь. Письмо, оказывается, могло быть только художественным – не красоты ради, а полноты ради; вот почему все разговоры тет-а-тет были по определению неполными: не тот жанр; мне нужен был диалог в форме монолога. Я же чувствую каждое твое контрдвижение на каждую мою реплику и каждый пассаж. Как важно найти жанр общения. Разделите после этого искусство и жизнь.
Что еще?
См. пункт 1 .
7. Я так и не услышал от тебя главного комплимента своей жизни. Ты не скупилась на нежность, и мне с тобой всегда было комфортно. Но это совсем-совсем другое… Да мне его и слышать не надо; я все сразу пойму, если такой комплимент родится в тебе. Тут невозможно обмануть ни меня, ни себя, ни природу. Жизнь долгая; я не тороплюсь; поживем – увидим. Ты пока не созрела.
8. Я бы с чистым сердцем пожелал тебе счастья, удачи и мужчины твоей жизни – если бы не один пустячок: для моей женщины такое пожелание от меня означало бы, что я кривлю душой. Где-то обижаю ее, маскируя свою обиду. Если ты моя женщина – то я просто не могу не быть твоим мужчиной; а если все же могу, то…
Это было бы так грустно, что и думать об этом не хочется. А придется, ежели что…
Так что искренне желаю тебе всего наилучшего – с поправкой на то, что я в твоей жизни был. А, возможно, и есть.
9. Моя молитва.
Благодарю тебя за:
твой запах;
твои позы;
твои поцелуи;
твою нежность;
твою веру в меня;
мою любовь к тебе;
твою любовь ко мне;
мое и твое желание;
твой голос;
твою влагу;
твои стоны, всхлипы и прерывистое дыхание;
твои закрытые глаза;
твои открытые глаза;
счастье;
дикую горечь и боль;
счастье;
наше прошлое;
наше будущее;
твою улыбку;
то, что моя женщина;
твой запах…
P.S. Интересно, я написал это письмо тебе или себе? Или…
Такое впечатление, что писал для тебя, а получилось – себе. В общем и целом – в космос.
Важно то, что ты имеешь возможность его прочитать.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
13
Проекту Раскольникова не помешал и второй поединок с Порфирием Петровичем, сделавшим ставку на то, что преступник, Раскольников Родион Романович, от него « "психологически" не убежит»; и преступник в какой-то момент смалодушничал. Проект же, напротив, ещё более окреп и утвердился в его сознании. Доказательств преступления – не было (об этом тщательно позаботился повествователь); была исключительно « психология, которая о двух концах ». «"Теперь мы ещё поборемся", – с злобною усмешкой проговорил он, сходя с лестницы (оппозиция «верха – низа», в том числе и пространственного «верха – низа», также монотонно присутствует в романе – Г.Р.). Злоба же относилась к нему самому; он с презрением и стыдом вспоминал о своём «малодушии» (в малодушии-то и сказалась живая душа; отсюда и кавычки – Г.Р.)». Можно подумать, что мономан Раскольников не сдвинулся с мёртвой точки. Ни опереточный злодей Свидригайлов (по бесхитростной задумке – двойник Раскольникова, одного поля ягода, родственная душа), трижды подло – с комфортом, на стуле! – подслушивавший за дверью интимно-откровенные и судьбоносные разговоры Родиона с Соней (не услышанные ли откровения и сыграют потом свою роль в судьбе самого Свидригайлова?), ни до карикатуры опростивший идейную схему Раскольникова Пётр Петрович Лужин – не поколебали решимость Роди идти по той самой дороге до конца.
Куда важнее поединков с Порфирием Петровичем и футуристических диалогов со Свидригайловым были нервные, исполненные мистических пророчеств и сбывающихся предвидений трудные, этапные разговоры с глупой и безответной Софьей Семёновной. Излишне говорить, что Соня «с детскою улыбкой» и детским сознанием, странным, непостижимым образом («и странно и чудно») « сразу » постигла, что Раскольников и есть тот самый убийца, и даже «ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала».
Предчувствовала или нет, но общалась она с Раскольниковым как с тем, у кого на душе грех непосильный. Всё это нехитрые способы повествователя (по-писательски – виртуозные) убедить читателя, что Соня обладала своего рода способностями душевного экстрасенса, и даже медиума, бессознательно транслируя на Раскольникова незримую благодать страдания, указывая ему, ослеплённому идеей, путь простой, вечный и как бы само собой разумеющийся. За словами и поведением Сонечки всегда сквозит что-то большее, чем она говорит или делает, постоянно ощутим некий избыток дарованного ей знания, какой-то мудрёный подтекст, всегда безупречный. Она всегда предвидит результат. Не оттого ли и имя у неё обязывающее, нелогично «умное»?
Хрестоматийная, как бы диалектическая реакция Софьи хорошо известна: «Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен (она «как бы себя не помня», «вдруг» «бросилась… перед ним на колени» – Г.Р.), бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками». Перед нами цельный и непорочный монолит, кусок милосердия, чрезмерность которого и создаёт кажущуюся диалектичность, эффект уверенного многознания, почти мудрости. Можно всех жалеть, быть противоречивым – и умудряться избегать диалектичности. Вот Соня из этой породы интеллектуальных девственниц. Истинная диалектичность в том и состоит, чтобы в подтексте всей этой темпераментной сцены разглядеть элементарный фанатизм, следствие банального слабоумия. Но хрупкая ткань романа как бы ускользает от ломового напора диалектики, оставляя диалектику ни с чем, в дураках. Воду решетом пробовали? Роман как бы выше диалектики – он соткан из воздушных и эфемерных тканей метафизики и эзотерики. Соня, вечная Соня видит и понимает все ошибки Раскольникова, а он – в упор не замечает её «глобальности».
Может быть, и не стоило так пристально ворошить « психологию » романа, однако более чем вековое триумфальное шествие сонечкиных аргументов требует некоторого неадекватно-завышенного внимания со стороны научного сознания. Как-то очень просто и солидно-солидарно забывается о том, что психология, как сказано в романе, « о двух концах » . Один конец – желаемое за действительное – и правы Сонечка, повествователь, Достоевский и вся культура, созданная моделирующим, психологизированным сознанием. Другой конец – действительность осталась действительностью, несмотря ни на какие моделирующие искажения; есть действительность, а есть миражи. Роман – и есть мираж, и в качестве бесплотной модели, синтезированной из фрагментов как бы реальности, он по-своему совершенен, а именно: совершенен как произведение искусства. Но если к фантому отнестись как к действительности, словно Раскольников к своей «мечте», недопущение материалистической диалектики в роман означает только одно: неразличение и подмену вымышленной, виртуальной реальности и реальности, где Соня – религиозно зомбированная дура, а клинический бред Раскольникова – психология «об одном конце». Проще сказать, роман ничего не познаёт, но претендует именно на познание всего.
Вот это и есть подлинная архетипичность или подлинная банальность, когда раз за разом воспроизводится общая логика противостояния «ума» и «души» и аргументы веры кажутся фундаментально весомыми, а доводы рассудка – поверхностными и в принципе лишёнными глубины. Гениально воспроизведённая банальность – шедевр. Не будем же банально путать божий дар с яичницей – шедевр с истиной.
Итак, потоп и шквал милосердия (в которое, кстати, не верится именно потому, что слишком его много) захлестнул многострадальную душу Роди: «Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило её. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах». В этот просветлённый момент до Роди дошло, « куда » он её звал: «А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним и приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?»
Нет, конечно, не оставит. Иногда, чтобы проявить силу, надо не побояться быть слабым и беззащитным.
Можно было сказать, что Раскольников давно проиграл, именно в тот момент, когда, ещё не убив, уже предчувствовал, что после этого непременно пойдёт к Соне, и зачем пойдёт предчувствовал, а понял с роковым опозданием. Можно было бы сказать, что подсознание Раскольникова постоянно опережает сознание (детское, младенческое, женское, в сущности, сознание: одно «задушил… по примеру авторитета », то бишь Наполеона, чего стоит…), что не является, конечно, свидетельством превосходства первого над вторым. А ведь на этом детском, в сущности, допущении сделано всё «Преступление и наказание».
Но такое вполне научное предположение странным образом обедняет роман, ибо всё «богатство» романа заключено именно в многообразии представленных «моделей интуитивных прозрений», вся содержательность – в несводимости переживаний к вызвавшей эти переживания идее. Банальность идейной начинки не только не компрометирует роман, но способствует тому, что роман стал выдающимся культурным явлением.
И это блестяще передано в следующей за «жутким» признанием сцене объяснения Раскольниковым Соне своей «идеи». Он говорил умно, а выглядел полным дураком; Соня же ничего не понимала (хотя упрашивала: «Я пойму, я про себя всё пойму!»), однако всё сразу постигла: «От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу предал!..»
И – приговор: «ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймёт!» Кто понимает, кто не понимает? Кто поймёт логику души!
Раскольников в «мрачном восторге» выболтал Соне главное: позволил заглянуть в «реторту», где выплавлялась теория (Соня, кстати, даже «про себя» ничего не поняла): « у меня (…) одна мысль выдумалась, которую никто и никогда ещё до меня не выдумывал! » Это гениальная оговорка, стоящая пространных психологических длиннот. Раскольников именно «выдумывает мысли», но не мыслит, то есть не приводит собственные мысли в порядок, соответствующий порядку действительности. Выдумывать – значит творить свой порядок, имя которому произвол. А если ещё проверять свои мысли (вошь ли я, тварь ли, или человек?) ценой убийства другого – это банальная клиника. Больничка.
Раскольников, если уж быть точным, типичный поэт мысли, жертвующий реальностью во имя миражей. Если бы повествователь не превращал клинику в серьёзный полигон для выработки нормальных моделей поведения – роман был бы умным, а серьёзное отношение к нему выглядело бы глупо. Получилось наоборот: роман глуп, а серьёзное отношение к нему выглядит умно.
Раскольников разъяснял, Соня не понимала, но он получил то, зачем пришёл. «Ну, что теперь делать, говори!» (всё это с сопутствующими, достаточно однообразными истерическими гримасами; нормального лица Раскольникова мы, собственно, и не знаем; возможно, «корченье» свидетельствует об «исходе» или даже изгнании беса, кто знает). И Соня чеканит как по-писаному: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». Думается, Соня несколько запоздала с советом: он именно принимал страдание, откуда же тогда все эти корчи. «Он облокотился на колена и, как в клещах , стиснул себе ладонями голову». Казалось бы, классическая поза мыслителя, если немного бережнее относиться к голове. Но это на взгляд французов, поклоняющихся Наполеону и Родену. У русских всё иначе. «– Экое страдание! – вырвался мучительный вопль у Сони». И Соня была права: голова непрерывно «выдумывала» мысли, обрекающие на дальнейшие страдания. «– Я, может, на себя ещё наклепал, – мрачно заметил он, как бы в задумчивости, – может, я ещё человек, а не вошь, и поторопился себя осудить… Я ещё поборюсь».
Вот до чего додумался Родя. Впрочем, мысли Раскольникова как бы и те же – а человек перед нами уже другой, уже крест страдания на себя примеривающий, да что там, в принципе уже готовый последовать императиву своего тихого ангела-хранителя. Но осознает он это, естественно, значительно позже.
Напомним себе: роман о том, что происходит в потёмках «живой души», а не в мыслях. В мыслях ничего не происходит. Там мёртвая зона, нет движения, нет жизни. Родя, словно бездушный Кай, которого поцеловала Снежная Королева, заворожен холодной логикой, а Соня-Герда неутомимо возвращает его к жизни.
Архетип.
5. Где скрывается правда?(культурные сюжеты романа Э. Елинек «Пианистка»)
Книги Нобелевских лауреатов – занятное чтение. Одни ругают их за то, что книги эти просты, даже примитивны, другим не нравится, что они излишне сложны, непонятны. И вообще признаком хорошего вкуса у независимой (от чего, интересно, независимой?) и крайне интеллигентной публики считается быть разочарованным творчеством тех, кто как-то признан, увенчан лаврами, всерьез замечен и отмечен. Как правило, вместе со славой на писателей обрушивается зависть коллег, принимающая форму бескорыстного, хотя и пристрастного, профессионального любопытства. Недостатки тех, кто на виду, смотрятся особенно впечатляюще, а достоинства только раздражают.
Такое впечатление, что здесь без венского мудреца, дядюшки Фрейда, не обойтись.
Вот и роман «Пианистка» австрийской писательницы Эльфриды Елинек, живущей в Вене и удостоенной в 2006 году Нобелевской премии по литературе, вызывает противоречивые суждения. Чем удивляет нас Елинек?
Она рассказала нам историю – вроде бы, простую, однако не поддающуюся однозначной трактовке. Жила-была девочка, звали которую Эрика Кохут. Жила она с мамой, ибо папа вскоре после ее рождения тронулся умом и теперь находится в психлечебнице; он безнадежен. Фрау Кохут со своей дочерью живут душа в душу (внешне): иногда они гуляют «под ручку, причудливо сросшись друг с другом в одно целое». Мама хочет видеть свою дочь, обладающую, по ее убеждению, гениальными способностями, пианисткой с мировой известностью. Это мамина навязчивая идея, которую она с успехом внушила дочери. А пока что Эрика преподает в Венской консерватории. Она обожает классическую музыку и, убежденная в своей исключительности, даже уникальности, презирает толпу – то есть людей обычных, не посвященных в таинства музыки. Всех неталантливых.
Для того чтобы сюжет превратился совсем уж в банальный, появляется ученик фройлян Эрики, некто Вальтер Клеммер, студент Технического университета, тянущийся к высокому и прекрасному – к музыке. Юноша влюбляется в свою тридцатилетнюю учительницу; та, кажется, отвечает взаимностью. Мама решительно против. Она вообще против личной жизни дочери, которую ждет мировая слава.
Таков сюжет первого плана. Он осложняется тем, что Эрика не только любит маму, но и люто ее ненавидит (в буквальном смысле). Их милые отношения строятся как «поединок роковой». Друг без друга они не могут, а совместное проживание превращается в кошмар. И не спрашивайте почему: перед вами история болезни, а не анализ причин ее возникновения.
Кроме того, Эрика по такой же модели выстраивает отношения с собой: она носит себя на руках, холит и лелеет – и одновременно ненавидит, исходя пеной ядовитого презрения. Что вы хотите: действие происходит в Вене, мировой столице психоаналитики. Здесь люди загадочны и амбивалентны по определению.
Разумеется, по таким же фатальным лекалам кроятся ее странные отношения с воздыхателем, Вальтером Клеммером. Эрику тянет к нему, но она ждет от него боли. Нет, не ждет: требует боли, унижения, издевательств, побоев. Даже не так: она, излагая в письме многолетние тайные желания, приказывает ему стать повелителем; она отбирает у него волю затем, чтобы он сломил ее волю. «Но это же нонсенс!» – воскликнет наивный читатель. Возразим ему цитатой из романа: «Разве такое может пожелать женщина, великолепно играющая Шопена? Однако именно это, и ничто другое, очень желанно для женщины, которая все время играла только Шопена и Брамса».
Заканчивается роман пространной, тщательно прописанной в деталях сценой насилия (создается впечатление, что Елинек, заботясь об удовольствии читателя, не отказывает себе ни в чем). Клеммер не ожидал от себя такого: он думал, что любит эту сумасшедшую садомазохистку Эрику, толкающую его к сексуальному деспотизму. А Эрика думала, что просит боли – хотя на самом деле ей почему-то захотелось любви.
В финале изувеченная Вальтером Эрика, к тому же полоснувшая себя ножом по плечу для пущей жути, «идет домой». К матери. На круги своя. Аки пес на блевотины своя.
Сюжет второго плана противоречит сюжету первому, как бы нормальному. Там, где любовь, там всегда появляется кровь. Кстати, кровь – один из главных мотивов романа: Эрика все время кромсает свое любимое, и потому ненавистное, тело острой бритвой, не испытывая при этом боли, к которой стремится: «Эрика ничего не чувствует и никогда ничего не чувствовала. В ней столько же чувства, как в обломке кровельной черепицы, поливаемой дождем». Именно поэтому, обратим внимание, она чутка к духовной составляющей великой музыки, к опусам Шопена и Брамса.
Мать – плоть, давшая жизнь Эрике, ненавидит свою дочь именно как продолжение своей плоти; дочь, плоть от плоти, ненавидит свою мать именно за то, что обречена любить ее. Что касается отношений мужчины и женщины, то они превращаются в войну полов: «Представители обоих полов всегда стремятся к чему-то принципиально противоположному». Почему? Вопрос по отношению к роману не то чтобы некорректен, он попросту неуместен. Таков порядок вещей – и точка. На вопрос «почему?» в романе один ответ: мы такие.
Итак, перед нами история о том, как в человеке самым парадоксальным (читай: страшным и гнусным) образом совмещается искренний, возвышающий человека интерес к высокому искусству – и проявления самого низменного в натуре, превращающие человека в грязное животное. Сам факт совмещения такого рода является не просто скандальным, но порочащим культуру. Высшие культурные ценности создаются людьми с низменными наклонностями. В принципе, это примерно то же, что когда-то озвучила другая женщина, Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Однако фрау Елинек сделала иной акцент: у нее «сор», поэтический эвфемизм, означающий «нечто нечистое», превращается в жирную похотливую кляксу. Она заставила свою героиню думать не тем (или тем самым?) местом. Фройлян Эрика никогда не забывает, что великий и нежнейший лирик Шуберт страдал от сифилиса. Говоря об искусстве, о музыке, она испытывает сексуальное возбуждение. Пианистка играет «одной рукой на рояле разума, а другой – на рояле страсти». Эрика Кохут превращается в «пианистку» – то есть женщину, владеющую искусством извлекать волшебные звуки из музыкального инструмента, что только способствует превращению ее в заурядную самку. «Пианистка» становится некой формулой (культурной?), содержание которой выражается примерно следующим образом (слова самой Эрики): «Все мы люди-человеки, а потому далеки от совершенства».
Перед нами уже не история, а метафора, обозначающая уродливое единство противоречий. «Пианистка» – роман о поединке, в котором творец одерживает победу, а человек неизменно терпит поражение. (В скобках отметим, что соблазн представить великих творцов всех времен и народов людьми ущербными – примета нынешнего, новейшего времени. Более того, если великий талант оказывается вне «компетенции» этой закономерности, под сомнение ставится не закономерность – именно талант. И напротив: ущербность и демонстративная культурная невменяемость становятся косвенными признаками художественного таланта. Добро пожаловать в мир прекрасного, которое становится памятником человеческого ничтожества. Красота перестала спасать мир. Одной ложью стало меньше – однако на свет тут же появилась другая ложь: рукотворная красота лишь обнажает и подчеркивает неспособность человека стать личностью, сделать точкой отсчета человека культурные ценности.)
Эльфрида Елинек с пугающей честностью изрекла что-то мучительное на мучительную тему, но вот что именно? Без психоаналитизма в данной ситуации не обойтись.
Она художественно озвучила великую банальность: культура не делает человека, натурпродукт, лучше. Не верьте культуре: это сладкий обман. Мы хуже, чем то, что мы делаем и на что мы способны. Натура и культура идут параллельным курсом, а если они пересекаются, то натура всегда побеждает культуру. Вот почему в романе много грязи, много злачных мест, похабных картинок и сомнительных для достоинства человеческого ситуаций. Действие романа, покрытого паршой, из-под которой пробивается золотая парча изумительных музыкальных узоров, часто разворачивается в туалетах, куда персонажи спешат прямо из-за рояля то по малой нужде, то по большой, а то и по великой. Музыка пахнет говном. Человек раскачивается на качелях от натуре к культуре. Это называется жизнь. Имеющий глаза да увидит. Аминь.
Такого рода откровения становятся способом изживания страхов. В данном случае интересно и важно то, что роман написан женщиной. У нее и Вальтер Клеммер ведет себя как женщина. Именно с точки зрения женщины, честной и искренней женщины, кто бы сомневался, натура сильнее культуры, и по-другому быть не может. Это не человек не верит в собственный разум; это женщина не верит себе. В известном романе «Евгений Онегин» мужчине удалось укротить натуру; у женщин, само собой, иной взгляд на мир. У мужчин отношения «натура – культура» интерпретируются с позиций персоноцентризма (культуры); у женщин – с позиций индивидоцентризма (натуры). Обратим внимание: «Евгений Онегин» – он, «Пианистка» – она.
Почему же Нобелевский комитет с таким восторгом увенчал банальные женские страхи и откровения престижной премией? Почему это должно радовать читателя?
Да потому что вариант, при котором суровая формула «единство и борьба противоречий» стремятся к разрешению в гармонию (а гармония – это уже терминология из арсенала культуры, это духовная структура, где принципиально доминирует культурное начало) сегодня не востребован, не актуален. Сегодня, в эпоху, когда бал правит бессознательное, модно и престижно бояться самих себя, и на роль «культурных героев» в такой ситуации как нельзя лучше подходят женщины. Человечеству предлагается думать душой и смело отбросить «разумные предрассудки». Сегодня истина глаголет устами женщины, а для женщины истина – страх перед культурой. Боишься, но признаешься в своей «слабости» – значит, проявляешь максимально доступную человеку силу. Аплодисменты.
А что потом? Ведь культурная перспектива объявлена сладким обманом. Куда идти? По замкнутому кругу?
А разве это важно для человека, ощущающего свою силу? Живы будем – не помрем. Или, как говорят женщины, об этом я подумаю завтра. Хочется добавить: когда будет поздно. Но и об этом, согласно женской логике, лучше вспомнить завтра, то есть никогда.
Между прочим, легализация отнюдь не отрадного статус кво – культура дана человеку затем, чтобы осознать свое ничтожество – вовсе не так безобидна, как могло бы показаться. Она означает, что и впредь природная, социальная и духовная жизнь будет регулироваться способами природными, преимущественно силовыми – мужскими, которые так не нравятся женщинам, особенно тем, кто подался в феминистки, то есть в мужланши. Это значит: кто сильнее – тот и прав (великий демократический принцип). Иными словами, завтра снова война, ибо дискриминация культуры сегодня фактически означает объявление войны. Война, истребления, погибель как способ существования homo economicus`а – это нормально. Практически законно. Продление политики, которая является продлением экономики (а экономика есть не что иное, как чистейшей воды природная, бессознательная – силовая! – регуляция), военными средствами. Эпоха познания в форме бессознательного приспособления ищет и находит адекватное художественное воплощение. Женщины, дающие жизнь затем, чтобы ее сохранять, оказались в авангарде движения, угрожающего жизни! Такова плата за «честность» и «искренность» не способных мыслить.
Фрау Елинек главным стимулом к работе считает «бешенство и ненависть по отношению к окружающему». Она смело сравнивает себя с «терьером, который роет землю, вскрывает крысиные норы и извлекает на свет потаенное. Если я хочу что-то сказать, то говорю это так, как хочу я. Я оголяю язык до костей, чтобы изгнать ложь. Я пытаюсь заставить язык говорить правду, где бы она ни скрывалась».
Сплошные оговорки «по Фрейду»: «ненависть» как «культурный» стимул, «терьер», «язык с костями», то есть неуклюжий язык. Это правда. Роман Елинек, «пианистки», то бишь «писательницы», – весьма посредственный по своим художественным достоинствам опус.
Благие намерения, язык без костей (виноват: в данном случае с костями), изгнать ложь, говорить правду… Все время натыкаешься на этот вечный сюжет, демонстрирующий культурную слабость симпатичного местами человека, недостойного уважения и потому заслуживающего милосердия. Либо голая агрессия «по Елинек» – либо тотальное милосердие (синдром дауна) как альтернатива бездушной, «военной» интерпретации нашего многострадального мира, сплошь населенного маленькими людьми (сторонником такого подхода выступает, в частности, писательница Людмила Улицкая). Это и есть женский (бессознательный) подход к гуманизму как культурной проблеме, как проблеме сознания.
Каждая из дам по-своему права; они были бы правы каждая по-своему абсолютно, если бы не было культуры, созданной разумом, в котором женская логика присутствует на правах начала бессознательного, некультурного, – созданной мужчинами, но агрессивно получившей статус общечеловеческой. Подлинная альтернатива – не варианты homo economicus`а, а движение в сторону homo sapiens`а. Подлинная альтернатива – посмотреть на проблему с позиций культуры, разума, даже если носителем разумного начала выступает мужчина.
Интересно, где же скрывается правда?
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
14
Доведём до конца главную, сквозную линию романа: Раскольников – Соня, диалектика – живая душа, сознание – психика, смерть – жизнь. Не станем отвлекаться на злодейские пассы Свидригайлова, уже обречённого «предпринять некоторый… вояж» (как потом выяснится, сей вояж – изящный эвфемизм самоубийства), но одновременно питающего безотчётную надежду на перемену обстоятельств, на «вдруг» («я, может быть, вместо вояжа-то женюсь»); его предсмертный кураж – бледная краска в палитру демонических эмоций Раскольникова. Оставим в стороне очередной (третий и последний) раунд между странно синтонным Раскольникову Порфирием Петровичем (очередная, надо полагать, родственная душа, двойничок-с, только не живая, а окаменевшая, потому как не истекающая милосердием, юридическая – западная, что ни говори – душа), где странный состоялся разговор, даже и для этого романа странный. Впрочем, одного момента разговора всё же коснёмся. Порфирий Петрович «объясниться пришёл-с», чтобы «всё дотла изложить». И излагает. Собственно, в уста разумного следователя вложены комментарий и принципиальная оценка теории. Преобладает, ясное дело, психология. Порфирий Петрович искал, как сам признался, не столько факты, – факты можно диалектически развернуть в любую сторону, можно сотворить улику или алиби: вот он, умственный произвол! – сколько «черточку», психологически убедительный штрих. Для необычного русского следователя это важнее всяких улик. Но не это главное во встрече двух искушенных интеллектуалов-психологов, один из которых пришёл к другому уговаривать явиться с повинной – не имея на руках никаких улик, однако будучи убеждённым в своей прозорливости и желая добра страдающему преступнику. При желании в поступке таком можно усмотреть нечто отдающее и милосердием. «"– Так… кто же…убил?.." – спросил психологически, нравственно, да и идейно обескураженный Раскольников.
"– Как кто убил?.. – переговорил он (Порфирий Петрович – Г.Р.), точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с… – прибавил он почти шепотом, совершенно убеждённым голосом».
Шепот – это находка, конечно: при сплошной истерике на повышенных тонах «шепот» – это смена интонации, заставляющая прислушаться. Впрочем, шепот может быть и кульминацией истерики. Кто знает?
Психология-с, однако.
Как бы то ни было «шептание» и длительное, «до странности долгое» молчание вслед за бесконечными сеансами массовой истерии – это карикатура на нормальный диалог. Но не это главное.
В том главное, что Порфирий Петрович выступает, по сути, разновидностью Свидригайлова (или преступника Раскольникова), с той только разницей, что Свидригайлов решился «на вояж», а Порфирий Петрович как-то удивительно вовремя вышел из игры. Всё это Наполеоны Руси. (Вспомним философско-психологическую черточку Порфирия Петровича: «– Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? – с страшною фамильярностью произнёс вдруг Порфирий»; кстати, Свидригайлов уже при первой встрече вёл себя «непростительно дерзко», в контексте ситуации – фамильярно, а именно: предложил сестре Родиона десять тысяч рублей запросто, по-семейному. И Свидригайлов, и Порфирий на правах «своих» не церемонятся с Родей. Да и Лужин Петр Петрович едва не проник в семью Раскольниковых. Да, вспомним также тех грамотных «наполеонов», студента и офицера, у которых и подслушал свою идею Раскольников.) Весь этот легион по-разному подошёл к одной и той же проблеме: регуляцией от ума устраивать жизнь человеческую или положиться, как Соня, по чувству положиться на Бога, – если не на сверхразум, то во всяком случае на то, что неподвластно разуму. Свидригайлов сразу же объявил Раскольникову: «между нами есть какая-то точка общая» . Раскольников в свою очередь не из праздного любопытства с ним разговоры разговаривал: «некоторое любопытство и даже как бы расчёт удержали его на мгновение». Свидригайлов затем и явился в Петербург к Раскольникову (по наитию, конечно, как Раскольников к Соне), чтобы узнать, что « новенького » можно «выдумать», можно ли в принципе избежать «вояжа» – это был его расчёт. Резюме эксперта, поднаторевшего во зле: «Так себе теория», «теорийка», «theorie comme une autre» (теория как всякая другая). Ничего новенького. Раскольников же рассчитывал (бессознательно) укрепить свой дух примером «авторитета». Вот отчего эти двое так «всматривались» друг в друга. Вот отчего сам факт самоубийства Свидригайлова стал не решающей, конечно, но последней каплей, доточившей-таки камень сомнений Раскольникова: именно после этого известия «батюшка» Родион Романыч сдался властям, сдался.
В этом контексте не поединок уже, а заговорщицкое шептание с Порфирием Петровичем приобретает особый смысл. На Раскольникова возлагает надежды и миссию найти выход из тупика, ликвидировать сам тупик, чтобы другим «наполеонам» неповадно было, умный Порфирий. Он вразумляет (мужское начало – пафос вразумления; даже Разумихин себя «в шутку» – а в романе туго с юмором: тут всем не до шуток; нервный смех может вызвать разве что излишняя серьёзность – называет Вразумихиным) безумного Родю: «ваше преступление вроде помрачения какого-то представится (в случае явки с повинной – Г.Р.), потому, по совести, оно помрачение и есть». «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю…»
Мы уже знаем за кого «почитает» «Романыча» Петрович. А вот за кого почитает Порфирий себя? Раскольников поинтересовался: «– Да вы-то кто такой, – вскричал он, – вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?»
Следователь ответствовал преступнику достаточно взвешенно и трезво:
«– Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы – другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдёт, ничего не будет ). Ну, что ж, что вы в другой разряд людей перейдёте? Не комфорта же жалеть, вам-то с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь! А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь, хе! хе! хе! Вы мне, Родион Романыч, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне, – это уж такой мой норов, согласен; только вот что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить!»
Сам Порфирий Петрович – условный следователь, чудак, Шиллер: то два месяца уверяет всех, что в монахи идёт, то мистифицирует всех своей предстоящей женитьбой. И то, и другое – «миражи», но зачем понадобились именно такие миражи в качестве характеристики Порфирия Петровича?
Это показатель широты души и одновременно дефицита воли Порфирия, равно готового и на подвиг духовного заточения, и на жизнь рутинную, которая «дымом пройдёт». Но не горит он ни тем, ни другим, не жаждет истины пуще жизни. (Порфирий, кстати, значит «багряный» (греч.). Порфирий Петрович – сочетание несочетаемого, совмещение противоположностей.) В определённом смысле, пожалуй, его можно назвать одного с Родионом Романычем поля ягодой. Впрочем, все персонажи романа до скучного – одного поля ягоды, кто с краю, а кто ближе к центру. Объясняется всё элементарно: все они суть разные проекции одного «мономански» устроенного сознания, все они – оттенки одной идеи.
И всё же «дымом пройдёт» или «жизнь приготовил»? Как это всё понимать в отношении Раскольникова?
А так понимать, что в Раскольникове есть редчайший дар служения правде и Богу, который он кощунственно обратил в бунт против того, к чему призвание имеет. Если Родиона очистить страданием, то он явится уже не карикатурой на Наполеона, а приговором нравственному бонапартизму, разоблачателем разума, действительно защитником униженных и оскорблённых. Строго говоря, Порфирий склоняет Раскольникова брать пример с другого авторитета: с Христа.
Сам же Порфирий Петрович способен разве что вразумлять. Он не обладает для Раскольникова высшим авторитетом – авторитетом мученика, страдальца за правду. Ко Христу ведёт совместная дорога Родиона с Соней. Вот почему этот дуэт, так сказать, самодостаточен, он есть зерно о двух противоположностях, из которого вырастает выдуманная симфония романа. Все же побочные персонажи-муляжи тяготеют к двум заданным моноцентрам, а при более тщательном рассмотрении – к одному: к тому, который героически заполняет собой представительница «ангельской лиги» Сонечка, живущая, по земному, «во грехе». Родион – боюсь, здесь даже повествователь охмурён дурманом диалектики (ведь если диалектика служит идеологии, она становится зельем, которого действительно стоит опасаться) – по духу родственен именно Соне, а не Свидригайлову с Порфирием Петровичем, не говоря уже о «копиях копий» Лужине с Лебезятниковым. Тем самым Раскольников из проклятого превращается едва ли не в избранного, из гадкого утёнка – в белоснежного лебедя. Ему бы только фамилию сменить на Сонечкину…
А «помрачение» оно и есть «помрачение»: «помутилось сердце человеческое», «тут теоретически раздражённое сердце» ( Порфирий Петрович). Словом, разум ввёл в соблазн или кто-то там ещё при помощи разума.
Итак, жребий Сонечкин (уже в высшем смысле, том самом, который постоянно держит в подтексте повествователь) не минует и Раскольникова. Однако повествователь не хочет «упрощать» ситуацию. Своё гениальное психологическое чутьё и умение раскодировать те едва прослушиваемые сердечные ритмы, которые укрощают любой бессмысленный бунт разума, он выдаёт за объективность. А гениальным, как и юродивым, на Руси верят скорее, чем просто умным. Взыскует чудес Россия.
Это не объективность, а виртуозная имитация глубоко засевшей мономании. И вот происходит то самое вышибание клина клином, смена одной мономанской парадигмы, выдуманной Раскольниковым, на сонечкину, якобы не выдуманную, а наличествующую a priori, от Бога данную. Объективно здесь лишь то, что «люди» сплошь и рядом выдают желаемое за действительное, – и Раскольников, и Сонечка, и повествователь; однако повествователь, сей генеральный поводырь, имеет слабость верить в то, что его вариант мономании и есть «объективность». В этой объективности есть доля объективности – и она-то позволяет трактовать роман как гигантскую мономанию, субъективность, идеологическую тенденциозность, художественный (иррациональный) вариант реальности.
Повествователь не хочет упрощать ситуацию – и Раскольников продолжает «бороться» (расчёт повествователя психологически точен: чем внушительнее битва, тем значительнее будет победа). Он обречённо признается Дуне (а Дуня, Авдотья, как и Катерина Ивановна, Пульхерия Александровна, убиенная Лизавета, да и бывшая его невеста, собиравшаяся идти в монастырь, и даже «прынцесса» Дуклида – это всё тени и блики вечной Сонечки, та самая «ангельская лига», о чём свидетельствуют их древние бесхитростные имена: Авдотья – в переводе с древнегреческого означает «стойкая», Катерина – «чистая» («она чистая» – «заступается» за неё Соня), Пульхерия – «прекрасная»): «Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Если это не диалектика души, то что это?
Согласно повествователю, очевидно, это всего лишь остаточные помехи разума, «теоретически раздражённое сердце».
И тем не менее: страдания – в избытке, наказание – по всем позициям адекватно преступлению (Бог не дремлет, заботится о своём воспитаннике), а раскаяния – нет. Дремлет, что ли? Оставил своею милостию? Решил «дымом» пустить?
Нет, конечно. В этом случае роман затевать не стоило. Здесь иная, божественная (в сущности – диалектическая) непоследовательность: кого люблю – того и бью. «Бью» – потому как очищаю, умудряю, вкладываю стремление к истинно прекрасному ; вот и окружаю заботой верных и преданных женщин. Ни маменька его не оставит, ни Авдотья, ни тем более Соня. Следовательно, будет раскаяние. По большому счёту (вспомним в этой связи «Войну и мир»), стать человеком там, где пуще дьявола опасаются разума, – означает стать женщиной, покорной, по природе не способной к бунту.
Раскольников сопротивляется, однако в конце романа это действительно выглядит глупо. У него нет выбора, а есть только отвлечённая теория. «И всё-таки вашим взглядом не стану смотреть», – исступлённо упорствует Родион. «Кровь все проливают», и за это «венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества». Он тоже пролил кровь, но сделал это как-то неубедительно, и за эту « неловкость » , за эстетически уродливую форму, за невеличественность попал в разряд преступников. Но не за «преступление»!
Значит, дело в форме. «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!..» – с наполеоновским металлом в голосе восклицает тот, чьё сердце рвётся на части из-за правильности (справедливости!) теории. «Никогда, никогда не был я сильнее и убеждённее, чем теперь!..», что означает: никогда, никогда ещё муки сердца не были столь невыносимыми. Чем совершеннее, чем острее и отточенней теория – тем болезненнее реагирует на неё сердце.
С позиций разума, карикатурно выведенного в романе, из этого адского круга выхода нет. «(…) всякий из них (из людей – Г.Р.) подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот!»; однако того, кто осмелился назвать вещи своими именами, они из «благородного негодования» упекут на каторгу, в ссылку. А там просто «добьют окончательно», сломят дух – но ведь не теорию! Теория – не человек, её психологически не сломаешь. Сама каторга, ссылка, эти неизбежные следствия идиотизма людей, не имеют к правильности или неправильности теории никакого отношения. Человека можно уничтожить, но это лишь подчёркивает бессмертие теории. Всё «математично» и логично, а вместе с тем по-религиозному, по сонечкиному, фанатично. Повествователь знал, что делал, когда не спешил разбрасываться натурами, подобными Родиону Раскольникову.
Нелогична была только жажда жить. «И зачем, зачем же жить после этого…» Жить незачем, но жизнь оказывалась сильнее логики. «Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но всё-таки шёл». Шёл к Соне, а от неё – на каторгу.
Жить, но не умирать шёл. (Кстати, ситуация вновь архетипична, следовательно, банальна. Хочешь победить разум – читай и/или пиши евангелие. И бесы расточатся. Апеллируй к чуду. Без чудес разум неодолим.)
6. Звезда Пентагон
– Вот видишь, – воскликнул Сеня Горб, гостеприимно разводя руками, – все вершится по воле Господа. Твоя дуэль – это просто посрамление всем неверующим. Мог ли ты предположить, что все так закончится? Разве ты не видишь во всем этом воли Провидения? Только честно.
– Здравствуй, Сеня, дорогой мой секундант, – сказал я. – Рад тебя видеть.
– Здравствуй, Герман. С чем пожаловал?
Я приехал к Сене в гости с неясными, но добрыми намерениями.
– Я бы сказал, что с миром. Но, боюсь, ты мне не поверишь – после всего, что было…
– Ты сражался со злом, потому и победил: в решающие моменты Господь всегда поддержит сторону правды.
– Во-первых, я не уверен, что победил; а во-вторых… У меня в кармане лежит моя статья «Звезда Пентагон». Не знаю, с кем я здесь сражался, но я смог внятно проговорить пять заповедей, вокруг которых крутится мир. С тем к тебе и пожаловал.
– Ты мне скажи лучше: ты сейчас с Мариной? Вы счастливы?
– Видишь ли… Если начать ценностный ряд словом «женщина», то закончится он непременно Богом; если начать словом «разум», то тебя ожидает путь к гармонии. Это к вопросу о счастье.
– Все истину ищешь? Претендуешь на место мессии? Ты заигрался, превратился в завзятого дуэлянта. Твой враг – гордыня. С ним и сражайся.
– Нет, я себя ищу. Для меня истина – это природа человека. А враг мой – глупость. Место мессии, как тебе хорошо известно, занято «гонимым» Солженицыным.
– Все это я уже слышал. Как ни назови – все за «разумной» истиной носишься.
– И все же, будь добр, прочитай статью: это последняя, нет, предпоследняя попытка достучаться до разума человека цивилизации.
В повадках Сени что-то неуловимо изменилось. На моем языке, в моей системе координат я бы определил так: он не то чтобы потерял себя – он так и не обрел себя, но уже выдыхается, чувствует, что силенки кончаются, поэтому становится сух и категоричен – способ самозащиты такой.
Мужчины хуже женщин. В том смысле хуже, что с ними тяжелее общаться, они более капризны, самолюбивы, амбициозны, агрессивны и эгоистичны. Они по-человечески менее комфортны. Их тяжело любить.
Все это из-за того, что мужчины организованы более сложно, нежели женщины. Вся высшая сложность сильного пола только в одном: природой именно они предрасположены быть носителями интеллекта, предрасположенного к трансформации в разум. Однако быть предрасположенным, чувствовать свое призвание – это одно; быть же реальным носителем призвания – это совсем другое. Большинство мужчин обречены быть предрасположенными, не более того. Призвание такое межеумочное – быть предрасположенным. В духовном смысле – уже не женщины, но до мужчины еще топать и топать. Неизвестно куда (что хуже всего). Отсюда все их комплексы неполноценности. Они носятся с собой, как с писаной торбой, чувствуя, что способны сделать гораздо больше и лучше того, что делают.
Женщины, в целом ни на что особенно не претендуя, внутренне более уравновешены (что не мешает им быть более истеричными). Более простое в информационном плане существо, женщина получает больше возможностей для оптимальной регуляции, для адекватного приспособления к миру. Где проще – там не рвется.
Но мужчины, носители разума (по большей части это, справедливости ради, просто умные мужчины), отчасти уже компенсируют пороки пола. С умными мужчинами уже легче общаться, нежели с женщинами, они менее капризны, агрессивны и эгоистичны. Комплекс полноценности творит чудеса: понимание делает чувства мужчин гармоничными и красивыми. Мужчина, более сложное в информационном плане существо, если ему удается найти меру соответствия миру и своим возможностям, производит впечатление анормальности, настолько оно впечатляюще нормально.
К таким мужчинам тянутся женщины – как более слабые к более сильным. Закон всемирного тяготения. Такие мужчины способны сделать женщину и самих себя счастливыми. Вот секрет счастья: осчастливить женщину может тот мужчина, который способен сам сотворить счастье; в человеческом смысле счастье – это умение неустанно гармонизировать отношения: с самим собой, друг с другом, с социумом, с космосом. Для такого счастья нужен ум. Для счастья с женщиной необходим умный мужчина.
Вот почему женщины в принципе не разочаровываются и никогда не разочаруются в мужчинах как таковых; они стараются замечать в плохих то, что демонстрируют хорошие. Они тянутся к мужчине. Даже феминистки. Что тут удивительного?
Феминизм – это разновидность беспомощности женщин.
В принципе зависимость проста: чем больше ума, тем больше возможность счастья. Но не все так просто в жизни.
Все зависит не только от ума, не только от мужчины, не только от женщины, от случая… Все зависит от всего вместе взятого – взятого в счастливой пропорции.
Творец счастья – мужчина; но для этого фокуса ему необходима чуткая женщина.
Вот что я хотел сказать Сене по поводу счастья. Понятно, что говорить все это не имело никого смысла. Мы пережили уже ту стадию дружбы, которая составляет роскошь человеческих отношений.
– Нет, Герман, ты опоздал со своей попыткой. Я уже не только ничего не читаю, но и не пишу. Не вижу смысла. Мне все ясно, мне ясна природа твоих заблуждений. Я ученик Достоевского: что мне твои жалкие опусы? Кто ты есть, Герман? Никто. Человек, который не понял, что истина познается сердцем, – ничтожество. Тебя просто нет. Ты недочеловек. Или сумасшедший. Малиной вот угостить могу; а насчет звезды твоей… Бог тебе судья.
– По правилам натуры вы судите меня, культурного человека? Вот почему вам так хочется делать из меня сумасшедшего!
– А ты себе, наверно, кажешься умным?
– Если я не скажу вам, что я умный, вы же сами не догадаетесь.
– Знаешь, Германн, ты мне все больше и больше напоминаешь дьявола. Все сходится: ни дать, ни взять Вельзевул…
И Сеня стал активно креститься, вырисовывая трехперстием в воздухе, у себя под носом, какие-то подобия противотанковых ежей. Меня это задело за живое. И я, разумеется, наговорил ему глупостей. Начал я, как мне показалось, с блестящего пассажа: «Свобода для опарыша наступает только тогда, когда ему позволяют жить, как скоту, и верить при этом в Бога».
Сеня продолжал хладнокровно креститься. Он обложил себя ежами. А мне словно вожжа под хвост попала:
– У опарышей не бывает счастливых – у них есть довольные и не довольные жизнью; у них не бывает достоинства – есть понятие успех или неуспех; у них победителей не судят – а судят побежденных и раздавленных. Добро пожаловать в мир, где добрые люди (что, впрочем, не мешает им быть мелочными и злобными) позаботятся о том, чтобы ваше существование было как можно более невыносимым.
Я говорил это ему, но мысленно обращался к Гоше, олицетворению всех опарышей на земле, и не только к Гоше. В частности, к Учителю. Я говорил, потеряв всякую надежду, что меня услышат; единственный вразумительный мотив, толкавший меня на подвиг речеговорения, – мне просто надо было выговориться. Выпустить пар в гудок. Просто высказаться – чтобы уцелеть: иначе могло разорвать изнутри от излишнего смыслового давления, на выходе обретавшего форму ядовитой иронии. Боже мой! Чацкий с его наивным и безадресным «а судьи кто?» показался бы верхом здравого смысла по сравнению со мной, потерявшим над собой контроль.
– Хочешь, я поделюсь с тобой моим личным кодексом? Не хочешь? Тем более поделюсь. Так вот. Я бы приговаривал чистюль к линчеванию за сладострастные и обоснованные обвинения в тот момент, когда виноватому требуется помощь и участие. А для фанатов бессознательного освоения жизни я бы все же предусмотрел специальное Постановление Господа Бога – и наказывал бы как-нибудь по-дурацки только и исключительно дураков. Ибо: порядочный и беззлобный дурак – это нравственный монстр.
И еще… Был бы Богом – казнил бы в первую очередь тех, кто в Меня, Несчастного, верит. Не можешь думать – веруй, но не делай вид, что думаешь.
– Ненавижу всех, – заключил я, чем вызвал сотрясение воздухов, в которых появились еще десятка два зигзагов-ежей.
Я швырнул листы своей работы на Сенину территорию (они разлетелись белыми тощими аистами – рынок, демократия, религия, секс, национализм), развернулся и исчез из жизни Сени навсегда.
Он, поддавшись дьявольскому искушению, прочитал мою работу, о чем великодушно и обстоятельно уведомил меня своим, в пику мне, смиренным и прогрессивным эссе. Работа ему не понравилась решительно. Чему я был искренне рад. Но я дочитал его за версту смердящий милосердием опус до конца.
Чтобы досадить мне, Сеня стал в очередной раз защищать двух выродков, которые кошмарили пару континентов, прикрываясь демократическими слоганами, уместными разве что на ярмарке, той самой, по которой ехал Ванька-холуй, чтобы за честно заработанные три копейки отовариться в ближайшей бакалее и уткнуться хлебалом в вонючую лужу счастья. В слюнявые слоганы выродки, якобы, искренне верили.
Тем хуже для выродков (для их страны – полная жопа), это серьезное отягчающее обстоятельство, ибо характеризует демократических выкормышей как последних глупцов, холуев бессознательного.
Говорю вам: глупые люди – это инструмент апокалипсиса.
Своей святой, то есть слепой, демократической верой они немало повеселили весь цивилизованный мир, который, будучи на всепланетной ярмарке почтенной публикой, от души, подпираемой сытым брюхом, потешался над незадачливым восточным соседом. Ай, да Ванюша, ай, да придурок. Демократия, братство… Справедливость, международное право… Фу, до слез довели, паяцы окаянные. И, главное, откуда они взялись, такие выкопни? С Луны, что ли, свалились?
Интересуетесь, о каких выродках идет речь?
О Горбачеве и Ельцине. О дегенерате Борьке и дауне Мишеле, о ком же еще?
Взбесившийся капрал Адольф с европейским размахом доказал, что тоталитаризм – оборотная сторона демократии, разуверившийся в милости небес семинарист и полубес Иосиф с помощью вышеозначенных выродков окончательно убедил всех, что демократия – это худшая разновидность тоталитаризма.
Паскуды все.
Звезда Пентагон
Рынок, демократия, религия, секс, национализм – это инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры натуры , с помощью которых, однако, цивилизации удалось создать не пользующиеся авторитетом высшие культурные ценности.
Целых пять китов, на которых покоится цивилизация, стремительно входящая в штопор глобализма. В принципе хватило бы первых три позиции, и дело свелось бы к классическим трем китам. Но пять лучше: у пятиконечной Системы появляется внутренняя противоречивость, гарант устойчивости. Пятиугольник легко принимает форму замкнутого круга (он же круговая порука, он же круговая оборона, он же тотальная агрессия: на выбор). Перед нами вписанная в пять углов звезда Пентагон, украшающая древо цивилизации, похожее на пирамиду или рождественскую ель.
Итак, рассмотрим все пять позиций по порядку.
1. Рынок. Почему на рынке, на базаре правилом хорошего тона считается торговаться?
Принято ссылаться на традиции; специалисты утверждают, что в Коране даже есть страницы, где недвусмысленно указывается на необходимость торговли, коммерческого диалога, который является не только знаком взаимного уважения, но и едва ли не роскошью человеческого общения.
Словом, базар – это любезное сердцу место, где принято торговаться. Иначе говоря, диалог уважаемых продавца и покупателя трактуется как социокультурная традиция.
Думаю, дело обстоит несколько иначе. Что значит торговаться?
Навязывать свою цену на товар. Если ты сумел сбить или завысить цену, проявив при этом психологический напор, агрессию, изворотливость хитрющего беспринципного интеллекта (единственный принцип – деньги не пахнут), ты продемонстрировал силу, которая выражается уже в определенной сумме. Сила дорогого стоит; собственно, стоит денег. Тебя есть за что уважать: за жизнеспособность, за умение захватывать жизненное пространство. Получается, что тебя уважают за то, что ты – слава Богу! – не способен стать культурным. Человек торгующий – это богоподобный человек, ибо он ведет себя по образцу и подобию Всемогущего Господина: выстраивает отношения с миром с позиций абсолютной силы.
Все дело в силе. Деньги и торговля как способ их добывания – экономический эквивалент силы, а сила – решающий аргумент в эпоху культа бессознательных отношений. Вот почему умение торговаться стало одной из моральных ценностей homo economicus`а. Цивилизация сделала ставку на концепцию «человека экономического», homo economicus`a (культура же пока стыдливо ориентируется на «человека разумного», не понимая пока толком, фантом это или неизбежная перспектива). Этот экономический homo, если не считать нескольких антуражных Библейских заповедей, создан из двух прабиблейских канонов, сформулированных еще в дописьменную эпоху и отражающих реальные потребности реального человека. Первый гласит: кто сильнее, тот и прав . Второй вторит: все на продажу (сильнее, разумеется, тот, кто посредством второй эффективнее реализовывает первую заповедь). Чтобы выяснить, кто на свете всех сильнее («чьи в лесу шишки?»), необходим такой инструмент, как демократия.
2. Демократия. Итак, культ силы, силовая регуляция всех отношений – экономических, политических, нравственных – вот «духовный» (точнее – волевой, более природный, нежели культурный) стержень человека цивилизации.
Рынок – продление природной (силовой) регуляции, где деньги превращаются в эквивалент силы; однако «культурная», «духовно-правовая» легитимизация рыночных отношений начинается с политики, а именно: с высшей ее формы, демократии, при которой «простой» (то есть неспособный мыслить) человек свободным волеизъявлением выбирает отчего-то исключительно рыночные ценности. Никогда не ошибется. Ему подсказывают сердце и желудок.
Демократия – это возможность для сильного жить за счет слабого. Своеобразный гуманизм демократии можно увидеть в том, что бесчеловечный принцип «побеждает сильнейший» (отчасти, согласимся, справедливый принцип) распространяется на всю парадигму социальных отношений и принимает форму «честных» правил игры. Демократия – это проекция природных отношений на социум, своеобразный социальный дарвинизм, «гуманитарная» аранжировка базовых (природных) потребностей. Демократия создает и поддерживает оптимальную среду для развития рыночных отношений. Демократия не могла не появиться; если есть рынок – рано или поздно появляется и демократия. Рынок содержание отношений, демократия – форма.
Вот почему демократия выгодна сильным в первозданном, природном смысле (а кажется, что выгодна самой культуре), она стоит на страже интересов рыночных чемпионов, и никто в такой мере, как сильные мира сего, не заинтересованы в том, чтобы демократия торжествовала во всем мире. Экспорт демократии, проходящий по статье «благие намерения, то бишь гуманизм», становится формой агрессии (все той же диктатуры натуры).
Демократия – это возможность для одного представить базовые (прежде всего – экономические) потребности всех людей в таком выгодном для них свете, чтобы они доверили ему представлять свои интересы на политическом уровне. Америка – страна образцовой (безо всякой иронии) демократии. Именно в Америке возможности демократии реализованы с впечатляющей полнотой. Америка сделала ставку на витальные и обслуживающие их ментальные (не культурные) потребности человека (см. ниже два «глобальных» заповедных канона, основу нынешней транснациональной идеологии – глобализма). Это естественно и по-своему правильно – в том смысле правильно, в котором лев пожирает антилопу. Но она исключила из потребностей человека права личности – и это катастрофа. Демократия сегодня плоха не тем, что неэффективно обслуживает права человека, а тем, что делает это с пугающей эффективностью – тем, что обслуживает потребности натуры, а не культуры, homo economicus`a, а не homo sapiens`а.
Отсюда и все большее разочарование в демократии на фоне экономических триумфов и того «железного» факта, что противопоставить демократии вроде бы и нечего. Разочарование в демократии приводит к разочарованию в человеке.
А действительно: что же можно хотя бы теоретически противопоставить демократии?
Для этого, прежде всего, надо что-то противопоставить «рынку» как экономическому содержанию человеческих отношений. А тут и «выдумывать» ничего не требуется: сама жизнь (натура!) стихийно (бессознательно!) противопоставила стихии рынка идею регуляции (уже нечто из арсенала культуры); «цене», категории рыночной, уже давно противопоставили «ценность», категорию культуры. Проблема в том, что «рынок» пока регулируется, так сказать, в пределах и рамках своей первозданной функции, не утрачивая своей самотождественности. Где та грань, за которой количество перейдет в качество, – за которой «рынок» из содержательной категории превратится в инструмент диктатуры культуры и в новом своем качестве станет выполнять функции ограничения прежнего «рынка»?
Вопрос в такой плоскости даже не ставится – ни в науке, ни тем более в общественном сознании. Это плохо. Однако вопрос в такой плоскости в принципе может быть поставлен (что мы сейчас и делаем) И это хорошо. Пожалуй, это единственная хорошая новость для рынка сегодня.
Таким образом, предпочтительнее демократии на сегодняшний день, во-первых, желание выжить (а человек экономический, не станем питать иллюзий, будет стремиться заработать на всем, даже на отсутствии перспектив выживания: на гибели потомков можно неплохо погреть руки уже сегодня); во-вторых, демократии можно противопоставить потребности личности, человека культурного (разумного), которого успел-таки породить человек экономический. С точки зрения личности, лучше, гораздо лучше демократии – диктатура культуры . В общем и целом на сегодняшний день – это утопия, не станем лукавить. Тут можно было бы и закрыть вопрос, если бы не антиутопия, ставшая реальной перспективой нашей жизни: тотальное разочарование в самой идее демократического и, следовательно, рыночного мироустройства. Рост апокалиптических настроений сегодня очевиден. Человек экономический не спасет планету Земля. Он ее уничтожит, если уже не уничтожил. Потребительское общество потребляет само себя.
Я, разумеется, не знаю, как следует осуществить диктатуру культуры, едва ли не эквивалент царства Божия на Земле. Уж, конечно, не коммунистическим методом, ибо диктатура пролетариата – это разновидность диктатуры человека экономического, которая сегодня осуществляется в форме демократии. Зато я отдаю себе отчет в следующем. Во-первых, тенденции развития человека (развития, подчеркну, а не деградации), если взять многие тысячелетия его развития, – от натуры к культуре, от человека – к личности. Факт того, что с личностью пока не считаются, сам по себе еще не является аргументом в пользу того, что с личностью не будут считаться никогда. Во-вторых, если тенденция к реализации личностного начала не будет укрепляться, человечество с его демократическими иллюзиями попросту исчезнет. Боюсь, в скором будущем вопрос будет ставиться именно таким образом: или человек становится личностью, или человек прекращает свое существование. К обезьяне уже нет возврата; только вперед – к личности.
А как же вера? Разве вера в человека, которая является производной от веры в Бога, ничего не решает?
3. Религия. В монолитной цепи «рынок – демократия» не хватает еще одного звена, превращающего жестокую, как палка, прямую в перспективный треугольник, легко принимающий форму круга, а именно: религии. Sic: рынок – демократия – религия. На этих трех китах (так и хочется сказать – на трех палках) держится цивилизация.
Почему рынок и демократия непременно нуждаются в религии?
Религия («духовность!») еще более очеловечивает рыночные (силовые) отношения, которые нуждаются в режиме демократии, – очеловечивает настолько, что вступает с ними в противоречие. «Не убий», «не украдь» – это все ограничения в правах и возможностях сильного. В православии популярна притча о том, как торговцев изгоняют из храма Божьего. Казалось бы, религия едва ли не осуждает рынок.
С другой стороны, суть западной версии христианства великолепно иллюстрируется лозунгом: «Иисус любит победителей». Иисус, вне всякого сомнения, обожает рынок и демократию, которые обожествляют номинацию «чемпион». На самом деле религия «духовно» освящает все то же бессознательное копошение, ибо вера, психогенный феномен, противостоит началу разумному (культурному). Не случайно на самой сильной валюте мира вытравлена надпись во славу Божию. «Мы верим в Бога», – написано на искусительном долларе со змееподобной эмблемой. Деньги (сила!) – это святое. И в прямом, и в переносном, и в самом что ни на есть сакральном смысле этого слова. Для людей, «мыслящих» в рыночных категориях (то есть бессознательно принимающих рыночную данность), деньги неизбежно превращаются в смысл и цель существования.
Религия осторожно намекает, что деньги, на которых, кроме заверений в верности Богу, изображены, как правило, портреты политических деятелей (а надо ли специально оговариваться, что политика – это продление экономики, все тех же рыночных отношений?), это далеко не все, что раб Божий, то бишь человек, жив «не хлебом единым». Фактически же религия, любая религия, всего лишь корректирует рыночные отношения в сторону милосердия, ибо на корню отвергает культурную регуляцию. Именно гносеологическое отрицание культуры делает религию одним из столпов цивилизации. Религия – это нечто из области прав человека, но не личности.
Цивилизация буквально молится деньгам, ибо уповает исключительно на силу. Более разрушительного в духовном смысле инструмента представить себе невозможно. Однако есть и своего рода позитив. Если ты зарабатываешь «нечестным», неправедным путем, скажем, проституцией, наркотиками или войной (под предлогом экспорта демократии), но зарабатываешь при этом много, неприлично много денег (прикасаешься к святому, богоугодному, что ни говори), ты уже отчасти искупаешь свою неправедность. Человек, карманы которого буквально набиты сакральными бумажками, предметом грез всякого нормального человека, по определению не может быть исключительно отрицательным героем.
Религия, согласимся, осуждает некоторые проявления рынка (и это косвенно свидетельствует о культурном потенциале вероучений); однако она живет и здравствует именно потому, что процветает рынок.
Я не собираюсь утверждать, что существует только один источник возникновения религии – рынок. Сказать, что рынок заказывает идею Бога, было бы абсолютизацией в информационном космосе homo sapiens только одной его составляющей – homo economicus`a.
Существует и другой, не менее (если не более) важный, источник возникновения религии.
Гносеологические корни религии целиком и полностью – в сфере психологического управления. Как и всякая форма духа, религия не случайна, то есть она не могла не возникнуть. И возникла она как служба смерти, как «вздох угнетенной твари» (К. Маркс). Она паразитирует на страхе смерти, на действительной трагичности неразрешимых «экзистенциальных дихотомий» (Э. Фромм). И действительные сущностные противоречия предлагает разрешать «легко и приятно»: иллюзорным способом. Иначе говоря, религия есть способ духовной компенсации. Лично мне такая формула религии представляется исчерпывающей. И речь не о том, насколько мешают или помогают иллюзии жизни значительной части населения Земли. Речь о соответствии типа духовности, создаваемого религией, действительным потребностям реального человека, о роли религии в выработке действительно достойных духовных программ.
Религии есть на что опираться в структуре сознания человека. Потребность в психологическом приспособлении всегда будет гнать человека под защиту «высших сил». Однако с точки зрения теоретического (научно-философского) сознания, управляющего идеологическим, никаких особых философских проблем с религией сегодня нет. Все сакральные манипуляции – чисто психологического свойства (от потребности), и идеологичность религии легко объяснима.
Истинная проблема религии – в ее своеобразной амбивалентности: теоретической несостоятельности и одновременной глубокой практической укорененности в жизни. И здравый философский смысл говорит нам, что невозможно ограничится теоретическим разрешением проблемы, у которой множество иных измерений, нравится нам это или нет.
Амбивалентность религии, равно как и амбивалентность всех прочих инструментов диктатуры натуры, объясняется тем, что натура (в интересующем нас контексте – психика) «тянется» к культуре (к сознанию), эволюционирует в сторону культуры. От низшего – к высшему; от простого – ко все более сложному; от формальной логики – к диалектике; от системного мышления – к целостному; от психологического приспособления – к разумному пониманию (познанию). Более того, логика, и даже закон информационного развития (закон сохранения информации) гласят: натура неизбежно порождает культуру и так же неизбежно видит в ней своего смертельного врага.
Благодаря религии, принципиально оппонирующей рынку, рынок и демократия приобрели гуманитарную респектабельность, «культурную» легитимность и «перспективу». Иной, «лучший» мир, судя по всему, уже не за горами.
4. Секс. Казалось бы, странно говорить о сексе, о сексуальных потребностях в контексте религиозных предписаний, особенно строго осуждающих плотские проявления человека. «Не прелюбодействуй!», «Не пожелай жены ближнего своего!»: эти библейские слоганы стали моральными императивами. Попытка обуздать коллективным бессознательным индивидуальное – налицо. Однако рынок и демократия, опираясь на иной тип коллективного бессознательного, несколько иначе относятся к сексу, товару исключительно и вечно прибыльному. Святому, потому что грешному. В связи с амбивалентными характеристиками компонентов пентагона интересно было бы рассмотреть тему сексуальности.
Строго говоря, весьма органично раздвигает треугольник до четырехугольника (который еще ближе по своей геометрии к кругу!) еще одно производное от сакральной триады: секс, наиболее актуальная идеология (светская религия) эпохи. Культ силы и секс – близнецы-братья.
Тут вот что бросается в глаза: для человека экономического, который холит и лелеет свои базовые потребности, тема «про это» стала едва ли не культовой. Виноват: именно культовой, безо всяких оговорок. Пожрать, поспать, поселиться (хлеба и зрелищ, как говаривали в старину) – вот ценностный ряд «маленького человека», думающего брюхом и подбрюшьем, активно потребляющего. Без этой темы нет демократии; можно сказать, демократия в принципе не представима без эротики и секса, поскольку ее герой, homo economicus, «думает» тем самым лобным местом. Потребление, удовольствие – его религия, и секс в этом контексте становится вещью едва ли не сакральной.
Истинный демократ чтит «Библию» человека экономического с ее золотым аморальным правилом: кто сильнее, тот и прав. Даже маленькие слабости большого человека должны быть проявлением его силы. Вот почему для него любовь сводится к сексу, а секс – к проявлению силы. Секс становится органическим продолжением демократического (силового) мироощущения и миросозерцания; если угодно, секс становится атрибутом идеологии – идеологии потребления, конечно. В политике инструментом демократии становится война, в интимной жизни – завоевание дамских сердец, то есть психологический напор, органично переходящий в насилие, агрессивный, животный секс. Отсюда и фронтовая лексика записных сердцеедов: любовный фронт, любовные победы, любовные поражения, сразить наповал, взять штурмом неприступную крепость…
Иметь кого-то, вступать с ним в половой контакт – значит, угрожать кому-то, посылать его в сторону смерти. Секс как проявление насилия: это очень естественно и органично. Мы имеем дело все с той же диктатурой натуры.
Вот почему образцовый демократ должен быть сексуально озабоченным, в противном случае это сомнительный демократ. Война (в широком смысле насилие) и секс – два главных, неразрывно связанных между собой мотива, присутствующих там, где торжествуют рынок и демократия. Кстати, спорт, сублимация военных действий, буквально кишит секс-символами, столь любезными цивилизации. В искусстве цивилизация предпочитает культивировать образ блондинок.
Сексуальная революция парадоксальным образом не угрожает религиозным умонастроениям (а религия, в свою очередь, не в силах запретить сексуальную революцию): это ли не лучшее доказательство торжества рынка! Более того, сексуальная революция нуждается в религиозном возрождении и обновлении: одно проявление бессознательного, сексуальное, уравновешивает другое, моральное, и политика сдерживаний и противовесов вновь позволяет Системе (диктатуре натуры) обрести известную устойчивость. Кажется, устойчивость вечную.
Здесь даже богомерзкий гомосексуализм особо никого не смущает. Демократия и гомосексуализм – стороны одной монеты (той самой, что особо ценится на рынке). Отношение к гомосексуализму стало буквально тестом на демократичность мышления и поведения. Хочешь прослыть недемократом – усомнись в гуманизме гомосексуального движения. Религия, вроде бы, против; однако однополые браки уже начинают освящать. Однополая любовь (точнее, секс; любовь – это уже категория культуры, а не натуры) – явление не в последнюю очередь экономическое и, следовательно, политическое. А от политики не может себе позволить отмахнуться даже религия. Приходится демонстрировать гуманизм (модус которого – бесконечная толерантность, граничащая с беспринципностью) по отношению к аномальным проявлениям человека.
В известном смысле сторонами той же монеты являются демократия и феминизм . Почему феминизм является законнорожденной дщерью цивилизации – и именно той ее стадии, которая называется капитализм, – и при этом выдает себя за дочь культуры? Феминизму непременно хочется быть царского, высокородного происхождения.
Доминирующие отношения при капитализме – экономические, что означает: в человеке как существе информационном, в основном, задействован уровень телесно-психологический, низший, поскольку есть еще и высший, духовный. Человек как субъект экономических отношений, то есть потребитель, «честно» сведен (урезан) до эффективного удовлетворения базовых потребностей. «Лирика», «истина», «философия» и всякая прочая духовная чепуха, которая не имеет отношения к витальному, к выживанию, попросту перестала интересовать цивилизацию на высшем этапе ее развития. Капитализм, представляя собой новейший вид тоталитаризма (по сравнению с которым все до него существующие деспотии – если не сущий пустяк, то уж точно детский уровень), ограждает человека от самого себя, не позволяет человеку превратиться в личность. Препятствует его полноценному информационному развитию. Капитализм сделал человека врагом самому себе – не злонамеренно, конечно, а всей совокупной логикой отношений. Как в природе, так и в логике общественных отношений виноватых нет; есть бессознательное освоение жизни и приспособление к ее законам. Навязанный человеку образ жизни, объем взваленной на него обязательной для эффективного функционирования в социуме информации, необходимость весь свой информационный и энергетический ресурс поставить на службу выживанию (когда, как известно, не до жиру духовного), сама «культура цивилизации», наконец, – глубоко и принципиально некультурны.
И это, как ни парадоксально, является сегодня формой сохранения жизни (другой попросту нет), поэтому выступать против цивилизации – значит, бороться с жизнью. Делать это следует весьма и весьма разумно. Логика развития цивилизации подвластна законам, здесь нет, строго говоря, персонально виноватых. С другой стороны, логика развития цивилизации неизбежно должна привести либо к преодолению ее «информационных перекосов» – либо к погибели всех и вся. И здесь уже персональная познавательная активность весьма и весьма кстати, ибо фатального наличия позитивного сценария с неизбежным хэппи эндом в природе не существует. Присутствие законов – это не наличие предопределенности, а наличие вероятностей. Известно: закон что дышло: его необходимо «повернуть» в нужную сторону, то есть в необходимом объеме учесть «порядок вещей». Отменить нельзя, а учесть можно и нужно. Настораживает всеобщая вера в некий отдельно от человека существующий «разумный порядок», который как-то счастливо оберегает своих неразумных детей от роковых необратимых ошибок. Это и заставляет в разумной форме выступать против цивилизации – против враждебных личности техногенных, идеологических, экономических, экологических и иных перекосов.
Итак, культура является сегодня факультативным признаком человека, которому (человеку) вовсе не обязательно стремиться к превращению в личность. Это немодно, неактуально, непрестижно и попросту глупо. Гораздо актуальнее и престижнее продемонстрировать витальные возможности (социума и, соответственно, индивида как члена подобного социума). В связи с этим начало женское, принципиально некультурное (потому что натурное, телесно-психологическое, бессознательное) получает в известном смысле идеальные условия для расцвета. Чтобы быть лидером цивилизации, надо быть женщиной. Надо быть человеком, не различающим «сознательный» и «бессознательный» типы управления информацией, «разум» и «интеллект». И пусть никого не смущает преобладание мужчин в политике и экономике самых важных на сегодня сферах жизни. Это всего лишь усовершенствованные, наиболее эффективно выполняющие свои социальные функции женщины. Отсюда до идеологии феминизма рукой подать. Эта идеология не могла не появиться (вот он, закон!). Дескать, сама жизнь «доказывает» востребованность женщины. Оно бы и верно, только не «жизнь доказывает», а иррационально организованный мир, среда обитания человека. Феминизм в таком мире становится адекватной формой приспособления.
У нас есть все основания сказать: у цивилизации женское лицо; более того, у нее женская природа. Вот почему феминизм стал идеологией не просто кучки замороченных женщин, он стал идеологией цивилизации. Идеологией власти. Вера в бессознательное природное начало, бессознательное отрицание культурных регулятивов – это в широком смысле феминизм. Скажем, мужской шовинизм небритых мачо – это вариант феминизма; литературоцентризм (и вообще культ художественного отношения к жизни) – феминизм; отрицание философии, лукавая ее подмена «художеством» – феминизм (несмотря на то, что творится подмена руками «умных» мужчин); власть над душой человека в принципе – феминизм. И в таком своем качестве женское отношение к жизни (феминизм) превратилось в главную проблему человечества; если угодно – в главную угрозу существованию человека. Таков сегодня модус глобального вызова: натура угрожает культуре с позиций феминизма. Мужчины могут противопоставить этому разгулу бессознательного культурное измерение – или превратиться в женщин, чтобы благополучно разделить с ними судьбу всего бессознательно существующего.
Феминизм – это особого рода идеология, где натура доминирует над культурой, а кажется, что наоборот. А все дело в том, что интеллектуальная составляющая, будучи продлением психически-бессознательного, бессознательно же выдается за культуру, за разумное отношение.
Утрата половой идентификации вообще и феминизм в частности есть адекватное и закономерное проявление сути цивилизации, которая так и не научилась различать натуру и культуру. Претензия феминисток сравняться в правах и возможностях с мужчинами – это, по существу, претензия уравнять в правах натуру и культуру. Еще точнее – обойтись без культуры. Это идеология власти, власти натуры.
Только культура восстанавливает равенство полов перед лицом истины – то есть функциональное их неравенство, приводящее к равенству «по возможностям», к равенству перед лицом жизни.
5. Национализм. Хотите получить пятиугольник (полноценный, вросший в почву пентагон) – добавьте к сексу национализм. Культ силы и национализм – также близнецы-братья.
Культура возникает там и тогда, где и когда «национальный код» (психологическое, бессознательное) служит способом выявления «кода общечеловеческого» (культурного, духовного); если национальный код становится самоценным, важнее общечеловеческого, то есть превращается из формы в содержание, – перед нами натура, то есть та самая почва, на которой пышно взрастает идеология национализма. Национальное, иначе говоря, «вторично» по определению: вот почему оно так стремится объявить «вторичным» вненациональное, общечеловеческое. Перед нами классический комплекс неполноценности. Это, кстати, объясняет, почему любой национализм так легко совмещался и совмещается с фашизмом (гипернационализмом).
Правота, природная правота националистов в том, что они испытывают чувство любви к «малой родине», к органике, к родному болоту, к «невыразимому и душевному» – к форме, иначе сказать; они не могут подняться выше чувств, становятся их рабами – они инстинктивно ненавидели и будут ненавидеть всякого рода «рефлексию» и «концепции», то есть то, что составляет содержание культуры.
По-человечески это понятно (хотя и несимпатично); в культурологическом смысле – дремучий лес, преступление против истины.
Национализм представляется им формой выживания, а они сами себе – борцами за жизнь нации. Героями. Однако борьба за свое место под солнцем, продиктованная правом сильного, освященная всем строем рыночных отношений, одновременно превращается в борьбу против культуры. Герои превращаются в антигероев. Просвещенный национализм (то есть идеология, признающая приоритет культурного, общечеловеческого), если без национализма в принципе невозможно обойтись, еще допустим; однако признание приоритета национального кода над кодом общечеловеческим (будь то добродушно-лапотный или агрессивно-скинхедовский варианты национализма) – это скрытый призыв к войне, к насилию, к пренебрежению высшими культурными ценностями.
Любовь к родным осинам «дает право» националистам не думать, они правы уж тем, что неспособны мыслить. Как мило в XXI веке изображать из себя детей природы. Отсюда все эти камлания и мантры местного пошиба с бубном или без бубна. Кстати, националисты весьма религиозны – «культурны», на их языке. Для них нация, народ и Бог – в одном ряду. Можно сказать иначе: для них «с нами Бог» – примерно то же самое, что «держите вора».
Национализм как феномен бессознательного неизбежно смыкается со всеми другими проявлениями бессознательного, как-то: рынком, демократией и далее по списку. Корень у них один: матушка-натура.
Демократы и гомосексуалисты с феминистками просто обязаны выступать против национализма. Но как можно оставаться демократом и быть при этом против мягкого, просвещенного национализма? Кроме того, не забудем, что у национализма всегда есть чувствительный экономический аспект. Как запутано все на свете…
Язык интернационального общения – это язык культуры, язык сознания. Не английский, не французский, не русский – именно язык культуры. Если национальная элита упорно разводит свой родной язык, язык ощущений, и язык культуры, язык понимания, она, в конце концов, ставит себя вне «общечеловеческого» закона и обрекает себя на подпольное существование. А там, внизу, в пространстве виртуальном, но затхлом, у носителей вируса национализма рано или поздно формируется патологическая психология. Натура берет верх над культурой, и весь мир представляется скоплением вражеских (или дружеских, но чужих) племен. Нормально, когда люди стремятся к компромиссу; если они в принципе отвергают приоритет «наднационального» в иерархии культурных ценностей – это ненормально. Национализм на деле выступает формой самоуничтожения.
Подведем итог. Рынок, демократия, религия, секс и национализм – вот способы порабощения личности, которые ее же и породили. Пятипалый пентагон – это инструментарий, с помощью которого нападают и побеждают, а также спасаются и терпят поражения – чтобы нападать и побеждать. Sic. Это, так сказать, плохая новость.
Хорошая новость заключается в том, что даже цивилизации не под силу отменить диалектику, непосредственно связанную с понятием прогресс. Цивилизация должна породить культуру, где торжествовать будет диктатура разума.
Это можно было бы назвать верой, если совершенно отвлечься от технологии сознания. Однако сознание уже есть, и с этим неприятным фактом цивилизации придется считаться.
Потрясающий парадокс: с одной стороны, все стремятся к экономическому процветанию, которое обеспечивается демократией, а с другой – происходит разочарование в самом существе демократии – под разговоры о том, что лучше демократии ничего не придумано. Этот парадокс свидетельствует о том, что человечество бессознательно дрейфует Бог знает куда, во всяком случае, подальше от того места, будь оно Востоком или Западом, где думают головой. Прячем голову в песок как нечто лишнее для жизни, на манер упитанных страусов.
Вся надежда на информационную амбивалентность, в основе которой натурно-культурный симбиоз. И рынок, и демократия, и все прочие элементы общественного устройства – это всего лишь инструменты, способы достижения целей, и не надо превращать средство в цель. Такой невинный подлог не делает чести даже поэтам. Поменяйте точку отсчета, измените систему координат, по-новому осознайте цель – и та же демократия обнаружит свой культурный потенциал: она может стать способом утверждения диктатуры культуры.
Таким образом, дело не в демократии, не в автократии, и вообще не в «кратии», а в умении мыслить. Дело в нашем отношении к культуре, а не в том, насколько эффективно мы включились во всеобщую гонку за лидером цивилизации. Сама номинация «лидер цивилизации», при ближайшем рассмотрении, оказывается не просто не престижной – она оборачивается формой аутсайдерства. Не торопитесь, а то успеете.
Думаю, в ближайшем будущем человеку диктатура культуры не грозит; ему грозят такие цивилизационные (демократические, обратим внимание) последствия, как глобальное потепление, глобальное помутнение рассудка и, боюсь, глобальная агрессия. Человек экономический честно обнаруживает свое натуральное лицо: другого у него нет. Демократия в этом контексте осознается не как альтернатива деспотии, а как прямой путь к апокалипсису.
Беда в том, что человек духовный (разумный, культурный) пока не стал точкой отсчета для общества, и неизвестно, может ли ею стать. Пока все вокруг живут по законам джунглей (прообразам законов демократии): «каждый сам за себя», «война всех против всех» и «выживает сильнейший». Все мы в той или иной степени – увы! – американцы, поскольку живем и выживаем все в той же цивилизации и по законам этой цивилизации. И быть лидером цивилизации, повторим, не так уж и почетно, если разобраться. Почетно было бы быть лидером культуры, если бы эта номинация не была безнадежно утопической.
Вот наша сегодняшняя дилемма: антиутопия или культурная революция?
Собственно говоря, сам феномен глобализма, феномен то ли расцвета цивилизации, то ли выражения ее кризиса, то ли попросту фаза интенсивного цивилизационного распада, – сам этот феномен оказался возможен именно потому, что в должной степени не сформировалось отношение познания, в результате чего науки так и не обрели своего содержания, реального объекта изучения. Глобализм – феномен именно цивилизации, но не культуры, ибо содержанием процессов глобализации стало отсутствие культурного содержания. Вот почему «предметный» разговор в рамках отношения приспособления всегда беспредметен: он лишен объекта. Глобализм, по идее, вплотную подводит к осознанию феномена культуры. Однако цивилизацию и культуру разделяет не пресловутый «один шаг», а принципиально разное соотношение типов управления информацией. Субъект цивилизации – индивид (кавалер звезды Пентагон), субъект культуры – личность. Сама цивилизация есть предмет (форма), объектом (содержанием) которого(ой) должна стать культура. При этом переход к культуре означает не исчезновение цивилизации, а появление у нее объекта, осознанного содержания.
Пока что «духовное» содержание цивилизации определяют потребности индивида (homo economicus’a), то есть содержанием, с позиций личности и культуры (с позиций homo sapiens’a), является бессодержательность, «звезда Пентагон», вот почему доминирующей духовной и эстетической идеологией сегодня стал постмодернизм, где культ формы превратился в содержание. Постмодернизм, идеология индивида, протестующего против жесткого нормативизма социума, – это выражение диктатуры натуры, выдаваемое за высшие культурные достижения. Содержанием бессодержательной идеологии становится индивидоцентризм – культ ощущений (хотений, желаний), культ иррационального – следовательно, культ формы.
Необходимо осознать, что глобализм существует потому, что это выгодно – тем, кто преуспел в бессознательном освоении мира. Пентагон – это инструмент глобализма как вершины цивилизации (читай: бессознательного типа отношения к действительности), инструмент диктатуры бессознательного, диктатуры натуры .
Если же перспективу духовного развития связывать с персоноцентризмом, последовательно ведущим к гуманизму, формой проявления которого вполне может стать диктатура культуры , то здесь все еще только начинается.
Если выживем – то увидим.
* * *
Вечер был прохладным. Прямо надо мной сияла до боли знакомая мне темная звезда.
Что же движет людьми?
Вера. Ложная, само собой. Незрелая. Потом вера сменяется другой верой – потому что человек думает. Смена вер – это и есть жизнь человека. Кто-то верит в черта в полосочку, кто-то убежден, что на самом деле черт бывает только в крапинку. Разница принципиальная. Я никогда не унижусь до принципиальности, этого мнимого достоинства беспринципных людей.
Заем же тогда познавать? Ну, вот я понял, как устроен (я написал «утроен», и теперь не знаю, какое слово предпочесть!) человек. И что из того?
Само по себе это не делает меня счастливым. Но!
Я могу объяснить себе (следовательно, и другим – но они не поймут), как быть счастливым. Надо стать хорошим человеком. Глупый человек не может быть хорошим. Но это еще не значит, что всякий умный человек непременно становится хорошим. Умный человек может быть хорошим, имеет шанс им стать; у глупого таких шансов нет.
Итак, хороший человек – это умный человек. А умный человек тянется к гармонии – следовательно, будет стремиться к любви, ибо гармонии без любви не бывает.
Конечно, сказанное настолько просто, что ясно даже дураку. Но дурак не будет счастливым. И перестанет тебе верить.
Зачем понимать, если пределом понимания становится сомнительное открытие: никто, кроме тебя, никогда ничего не поймет?
А вот зачем: понимание почему-то непременно входит в состав того, что принято называть счастьем. Но не то «понимание», которое позволяет сменить веру, а то, которое заменяет веру.
Понимание, заменяющее веру: вот чудо из чудес. Чудо, тайна и авторитет в одном флаконе.
Такое понимание (сейчас полная концентрация, плиз: философское сальто мортале) обостряет чувства – обостряет тягу к любви. Чем больше понимаешь – тем более увеличивается потребность в любви.
Любовь – это подготовленное чудо; она приходит тогда, когда мужчина философски окрепнет (что само по себе чудо!).
И нет в мире других чудес. Просто – нет.
Стать философом, чтобы затем перестать им быть… Нет, не перестать. Придать чувствам иное – духовное – измерение.
Если мужчина хочет счастья, он должен быть философом. Если женщина хочет счастья, она должна быть настолько умной, чтобы не унизиться до претензии быть философом.
В таком случае она оценит мужчину, а он – женщину.
Вот вам и ответ на вопрос, зачем надо быть личностью, ответ жесткий, корыстный и эгоистичный: любовь. Хочешь испытать любовь – стань личностью.
Правда, любовь же и убивает.
Гармония.
Вот теперь мне было, что сказать Марине. Гора – с плеч.
Возле моего подъезда меня встретил Гоша. Поинтересовался, как дела. Я ответил так, как всегда отвечают врагам: хорошо, мол, дела. Лучше некуда. Он спросил, давно ли я не видел Марину.
Марину я не видел давно – потому что никак не мог решить, зачем мне ее следует видеть. Теперь, кажется, все прояснилось. Но появились плохие предчувствия. А тут еще темная звезда не давала покоя.
– Не ищи ее, – сказал Гоша в ответ на мое молчание.
– Почему?
Марина как-то говорила мне, что в принципе не исключает возможности съездить на какое-то время к своей тетке на Дон. Может, внезапно уехала?
– Не найдешь.
– Как это – не найду?
– Ее нет. Знаешь, как бывает: человек куда-то подевался, и костей его найти не могут. Он исчез. Его нет больше в этом мире. Ты ведь ее любил? Мне показалось, что тебе небезынтересно будет узнать о печальной судьбе нашей общей знакомой Марины. Смекаешь, что к чему? Нет? Дуэль у меня выиграть невозможно, корнет. Я бы и мертвый тебя достал с того света. Тебе просто повезло, что я остался жив. Тебе и сейчас везет: трогать тебя нельзя – себя подставишь. А Марина исчезла. Безжалостно вычеркнута из жизни. Она оказалась плохой женой. К тому же беременной от чужого мужчины. Да, да, только не говори, что ты этого не знал. А если и не знал – какая разница? Знал, не знал… Сейчас это не имеет значения. Такой вот несчастный случай. Бывает. Знаешь, сколько людей бесследно исчезают каждый год? Много.
Да, и еще кое-что напоследок: я тебе ничего не говорил. Ты ничего не докажешь. А если сунешься за справедливостью к людям в погонах, то я в ее исчезновении обвиню тебя… И даже докажу кое-что. И даже знаю, к кому я пойду: к тому, кто меня поймет и поддержит. У меня есть письмишко твое прощальное, документы кое-какие, выписки из ее медицинской карточки… У тебя есть мотивы. Зачем тебе нужна была беременная любовница? Ты открытым текстом говорил ей, что не хочешь ребенка. Не так ли? Кроме того, ты кровожаден – дуэль это доказывает. Да и у нее были мотивы свести счеты с жизнью, не так ли?
А я чист. Я – жертва интриг. Кроме того, вскоре я надеюсь стать депутатом высшего для страны уровня. Что, не ожидал от меня такого?
Социальное измерение – вот что становится содержанием пустой жизни. Стаж, карьера, награды – необходимые атрибуты личностной пустоты. Я не ожидал разве что того, что все на свете так элементарно и предсказуемо.
Я слушал Гошу, и сердце мое каменело. Если бы сейчас в него попала вражеская рапира, она бы просто поломалась.
– А теперь самое главное. Как ты думаешь: зачем я тебе все это рассказал? Молчишь, лузер? А я тебе до конца открою карты. Мне нечего скрывать. Ты, конечно, думаешь, что я убил Марину. И правильно думаешь. А кто виноват в ее смерти?
В ее смерти виноват ты. Целиком и полностью. Если это была твоя женщина , надо было либо жениться на ней и уматывать с моих глаз куда подальше – либо вообще не подходить к ней. Зачем было дразнить судьбу? Ты, умный человек, влез не только в ее, но и в мою жизнь. Ты не смог ее уберечь. Теперь жди привидений. А молитву придется придумать другую.
– Паскуда, – сказал я.
– Возможно, – ответил он с грустью. – Паскуда – это судьба. А теперь еще один укольчик, под занавес. Ты так и не прочитаешь последнего письма Марины к тебе. Так и не услышишь главного комплимента своей жизни. Зачем было письма писать? – вдруг вызверился он. – Не было бы писем – пожили бы еще… Пишут, пишут… Достоевские. Посжигать все к чертовой матери. Кстати… А почему ты боишься заводить детей?
* * *
Мне удалось узнать следующее. Марина действительно пропала. Вышла из дому – и не вернулась. Гоша выждал положенные трое суток, после чего как законопослушный гражданин и безутешный муж подал заявление в милицию. По факту исчезновения гражданки N. завели уголовное дело. Я даже видел черно-белую листовку с ее портретом: разыскивается такая-то… Словно преступница. Приметы… В общем, никаких особых примет. Всех, кто знает что-либо о ее местонахождении, просим сообщить по телефонам…
Убивают именно те, кто верит. Не других – так себя. Нет, сначала все же себя, чтобы потом мстить другим.
Что есть альтернатива вере?
Разум.
На портрете Марина была непохожа сама на себя.
Что делать?
Я был настолько умным, что не видел выхода из ситуации – точнее, понимал, что из нее нет выхода.
И еще. Мне казалось, что невозможно быть более одиноким, чем был я до тех пор, как потерял Марину.
Оказалось, что – можно.
И еще. Мне стало казаться, что все последнее время я шел именно к Марине, что вопрос соединения наших судеб был вопросом нескольких суток. Я бы что-нибудь придумал. Я уже был готов к тому, что надо совершить невозможное.
И вдруг – она исчезла. Исчезло мое будущее? Моя жизнь?
Я второй раз неосмотрительно сжег лягушачью шкурку. Эх, дурачина-простофиля.
Я пошел к следователю Степанову и выложил ему все, что мне было известно.
– Раздавим гадину, – сказал человек с лицом, похожим на перевернутую, обросшую бородой грушу. – Клянусь своей красотой. Слово Дяди Степы. Говоришь, на Дон собиралась ехать?
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
15
Концовка романа, та, что перед Эпилогом, задумана как формальная или ложная кульминация, а исполнена как кульминация настоящая. Проблема обостряется тысячекратно и ставится так: «только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить» (Соня) – или жить его заставит вкравшееся-таки в душу некое спасительное предчувствие неправоты сознания?
В первом случае «малодушие» и «боязнь смерти» означали фактическую смерть «живой души»; во втором – живая душа победила разум, подспудно, заочно как-то победила, сохранив жизнь человеку. И тогда жажда жить – симптом победы души, торжества Сонечки, а не форма смерти. Вот это русское пан или пропал и предстояло прояснить до конца.
Жажда жить может выступать и формой смерти…
Давайте честно: повествователь на каждом шагу прибегает к диалектике, но почему же он так панически от неё открещивается? Да потому что диалектика, идеологически, мошеннически не усечённая, диалектика в полном объёме, диалектика тотальная, спроецированная на «модели» достоевщины, неизбежно приводит к разоблачению мистификации романа, к разумному отрицанию его идеологически вывернутой, казуистической, именно смертельно опасной диалектики. Повествователь совершенно справедливо предчувствует это, поэтому спешит объявить диалектику антиподом «живой души». Поступает, кстати, вполне логично и, по законам нелюбимой им диалектики, диалектически обосновывает ненависть к диалектике. Если это не бессознательное «малодушие», то вполне сознательная манипуляция мышлением, то есть то самое духовное преступление, ради наказания которого написан роман. Но жестко настаивать на безальтернативности обрисованного противоречия было бы недиалектичным. Мы, конечно, не собираемся отягощать совесть гениального писателя. Конечно, перед нами классический случай святой простоты: мощение дороги в преисподнюю при помощи благих намерений и веры в свою правоту. Но, как видим, даже святая простота может диалектически обернуться орудием дьявола. Если уж браться за диалектику, то следует делать это не только «по чувству», но и «по уму».
А теперь от диалектики – к «пан или пропал». Раскольников пришёл к Соне «за крестами», чтобы идти «на перекрёсток». Говорит он «усмехаясь», но заметно, что он «как бы сам не свой»: «руки слегка дрожали», «мысли перескакивали», он «заговаривался», «на месте не мог устоять ни одной минуты»… С чего бы это, от малодушия?
Впрочем, кипарисный крестик («кипарисный, то есть простонародный»), сонин крестик он безропотно, хотя и не без некоторого ёрничанья, принял: «– Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе, хе!» Это значит: он ещё не верит, что это не ритуал, а новая суть его. А между тем «чувство, однако же, родилось в нём; сердце его сжалось», «и от чистого сердца, Соня, от чистого сердца» «он перекрестился несколько раз». Как Свидригайлов формально завис между «вояжем» и «женитьбой» (смертью и жизнью), хотя по сути всё уже было предопределено, так и Раскольников малость «диалектически» побунтовал («бунтующее сомнение вскипело в его душе»: может «остановиться и опять всё переправить… и не ходить»), однако делал он то, что делал. «Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего задавать себе вопросы».
«Вдруг» его повернуло затесаться в толпу, и толпа его простонародно приняла: толстяк немец по-свойски толкнул, баба с ребёнком даже попросила милостыню и смиренно приняла неизвестно как (чудом!) уцелевший в кармане пятак: «– Сохрани тебя бог!»
Что это: знамения, первые сочувствующие отклики мира на установку не задавать себе вопросы, знаки прощения?
Следующая сцена и есть неформальная кульминация, делающая весь последующий текст добавочным иллюстративным материалом. Посреди площади, именно там, «где виднелось больше народу», «с ним вдруг произошло одно движение». «Каким-то припадком оно (ощущение необходимого и безотлагательного раскаяния – Г.Р.) к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг , как огонь, охватило всего . Всё разом в нём размягчилось , и хлынули слёзы . Как стоял, так и упал он на землю…»
Безличные императивы, которым перестал сопротивляться Раскольников (он, умница, «перестал задавать себе вопросы»), и были воплощением воли Божией. Всё же «к жизни готовят» этот бойцовский дух и сильный характер.
«Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз». После этого спокойно пошёл по направлению к конторе. Разумеется, невдалеке ангелом-хранителем мелькнуло видение («предчувствованное», впрочем): то была Соня в наброшенном зелёном платке, символе страдания, принятого от Катерины Ивановны, и одновременно символе возрождения, связанного со страданием. Она «сопровождала всё его скорбное шествие». Это для Раскольникова «скорбное»; для повествователя это триумфальное шествие, ибо «се человек», «воскрешение Лазаря» и путь в Новый Иерусалим одновременно. Излишне говорить, что «он почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда , что Соня теперь с ним навеки и пойдёт за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё сердце его перевернулось…»
А тут ещё, в конторе, известие о самоубийстве Свидригайлова (свидетельство нежизнеспособности теорий, поданное в нужное, наинужнейшее время)… Кто, кто плетёт кружева смыслов, справедливых, как арифметика, и убедительных, как воскрешение Лазаря?
Раскольников вышел из конторы, сошёл с лестницы – но куда ему было идти? Не переписывать же роман заново. Дикий взгляд Сони довершил дело. Раскольников поднялся наверх . «Тихо, с расстановками, но внятно»: « Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором и ограбил ».
«Со всех сторон сбежались.
Раскольников повторил своё показание».
Далее следует, так сказать, соблюдение художественных формальностей.
Эпилог. Душещипательный процесс. Трогательные свидетельства неординарного великодушия и жертвенности Раскольникова: он, как вдруг выяснилось, ухаживал за «расслабленным» отцом умершего товарища, спас во время пожара двух малолетних детей; судя по всему, Раскольников с толком бы распорядился добытыми им деньгами, если бы разумом решались проблемы человеческие.
Сибирь. Каторга. Муки нераскаявшегося Раскольникова. Болезнь, потом почти выздоровление (всё это – на фоне невидимого присутствия Сони).
В один из ясных тёплых дней (шла вторая неделя после святой) Раскольников где-то около семи часов утра в перерыве между работой вышел на берег «широкой и пустынной реки», которая разделяла его с другими, свободными, полудикими людьми (виднелись кочевые юрты), «точно не прошли ещё века Авраама и стад его».
«Вдруг подле него очутилась Соня», в зелёном платке. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени». «Заря обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь» сияла на их бледных и худых лицах. «Их воскресила любовь».
Так под подушкой Роди появилось Евангелие (правда, с опережением событий, незадолго до своей болезни, а не в этот вечер: пути душевные неисповедимы). «Он (…) не мог в этот вечер долго и постоянно о чём-нибудь думать, сосредоточиться на чём-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое».
Аминь. Чудеса комментировать нет смысла (ибо тогда нет смысла в чудесах), они выше человеческого понимания, как жизнь выше диалектики.
И тут должна начинаться новая, недиалектическая история…
Вряд ли она могла быть столь же интересна, как история с элементами стихийной, живой диалектики. Во всяком случае новая история пока никем не написана.
Нам же представляется, что и писать её незачем, ибо новая история будет мало чем отличаться от Нового Завета.
7. Литература с синдромом дауна
Какую литературу сегодня читают?
Какую литературу сегодня профессионалам взять в руки не стыдно, а читателям, рядовым потребителям литературы, интересно?
Одним из знаковых имен в ряду востребованной литературы сегодня является, несомненно, имя Людмилы Улицкой. Ее последний роман «Даниэль Штайн, переводчик», вышедший в 2007 году, уже наделал много шума и наделает еще больше.
В принципе рецепт успеха достаточно прост. Талант? Нет, не о таланте идет речь; талант не мешало бы иметь, более того – он должен быть, но он должен быть не слишком большим, чтобы не мешал нравиться просвещенной и непросвещенной публике. Талант должен быть умеренным, автор – умеренно скромным, иначе прослывешь выскочкой, что публику, обожающую нагловатых чемпионов, отчего-то раздражает.
Но талант – это не рецепт успеха. Гораздо важнее другое: во-первых, надо уметь рассказывать простые истории, которые непросто понять, истории «с двойным смысловым дном» (а искусство творить притчи – это в большей степени ремесло, нежели талант); во-вторых, это должны быть истории о том, как добро тщится победить зло, истории о странных людях, обреченных брести по жизни корявой тропой милосердия. Чем хуже и горестнее становится таким персонажам, тем приятнее и комфортнее читателю. Катарсис.
И тут уже дело не в Улицкой. Она не только не изобрела рецепт успеха, она стала его заложницей, практически рабыней и наложницей (так же, как, скажем, суперуспешный Куэльо). Коллективное бессознательное требует сегодня темноватых историй о милосердии. Почему?
Во-первых, потому, что мир (читай – человек) безнадежно жесток. От литературы сегодня требуется не изощренное искусство многомерно отражать жизнь (именно в этом специализируется подлинный талант), а витиеватое искусство ее не замечать. Улицкая в своем новом романе так долго и безнадежно говорит о милосердии, что становится ясно: завтра снова война. Перед нами, собственно, еще одна вариация на вечную тему: хочется верить в то, что вера спасет мир.
И во-вторых… Сам факт безнадежной веры есть верное свидетельство того, что люди перестали верить в разум. «Путь разума завел меня в беду; теперь путем безумия пойду…» Поэтический культ безумия – это новая стратегия нового и новейшего времени. Успех романов Улицкой является косвенным доказательством того, что многомиллионные массы читателей, бессознательные потребности которых она бессознательно выражает, перестали делать ставку на разум.
Что же тогда спасет, если не разум?
Милосердие. Чудо. Что-нибудь неразумное и нерациональное, неизвестно откуда взявшееся. Что же еще?
Именно поэтому современное искусство так часто делает своим героем если не человека с болезнью дауна, то с характерно дауновской симптоматикой. Люди, страдающие этим заболеванием, совершенно неагрессивны, абсолютно непосредственны и по определению не способны причинить другому боль. Их окружает миф о том, что они не могут быть плохими людьми. Иными словами, хороший человек – это добрый человек. Думающий он или не думающий, разумный или неразумный – это уже становится неважным. И литература, ориентированная на тотальное милосердие, фактически призывает подражать даунам. Поменьше думать. Верить. Любить ближнего. Такова литература с синдромом дауна.
Роман Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» подкупает не железной логикой, а стремлением сломать всякую объективную (читай: насильственную) логику, железную и не очень, оставив на ее месте некую уверенность в том, что следует искать «другую» логику. Надо как-то «по-другому» смотреть на вещи. В художественном мире, который «монтажирует» писательница (композиция романа безумно сложна, что, очевидно, отражает сложность и запутанность мира), все правые фатально виноваты, а виноватые правы уж тем, что не настаивают ни на какой правоте… Хаос?
Хочется сказать, милосердный хаос. Одним из элементов романа являются письма самой писательницы. В одном из писем читаем: «Наше сознание так устроено, что отрицает нерешимые задачи. (…) Но если нет решения, то хорошо бы хоть увидеть саму проблему, обойти ее с заду, с переду, с боков, с верху, с низу. Она вот такая. Решить невозможно. (…) Очень хочется понять, но никакая логика не дает ответа. И христианство тоже не дает. И иудаизм не дает. И буддизм. Смиритесь, господа, есть множество неразрешимых вопросов. Есть вещи, с которыми надо научиться жить и их изживать, а не решать». Вот писательница и показывает нам неразрешимые проблемы жизни в разных ракурсах: с заду, с переду, с боков… Герои ее книги, евреи, попадают из гетто в лагеря, из лагерей – в Израиль, из Израиля – в Америку… Мелькают Польша, Литва, Россия. Множество героев, множество историй, изложенных в письмах, разговорах, воспоминаниях, документах, дневниках, беседах. Большая политика, частная жизнь, любовь, ненависть. Католики превращаются в иудеев, иудеи – в католиков. Все пестрит и клубится. Улицкая не решает, а буквально «изживает» так называемый «еврейский вопрос» – делает это честно, деликатно и впечатляюще. Постепенно читатель понимает, что книга вовсе не о евреях, не о национальных проблемах, а о людях, которые запутались, пытаясь решить для себя вечные, «неразрешимые вопросы». И главный ответ на все фундаментальные вызовы и вопросы – судьба Даниэля Штайна, еврея-кармелита, солдата милосердия.
Милосердие – вот ответ и христианам, и иудеям, и буддистам, и мусульманам, и атеистам. С этим ответом можно не соглашаться, однако с ним трудно спорить. В пространстве вечных вопросов не существует однозначных ответов, но существуют ответы убедительные.
«Даниэль Штайн, переводчик» – вполне убедительный ответ (в рамках «другой» логики).
Культурологическая проблема милосердия еще глубже. Почему именно сегодня, в век расцвета демократии и во времена экономического процветания, мы вдруг хором заговорили о кризисе разумного отношения к жизни и актуальности веры?
Иными словами, почему милосердие как система ценностей (трогательное производное от веры в добро) связано с демократией как типом общественного устройства?
Да потому что субъект демократии – маленький человек с большими потребностями – оказался существом принципиально не думающим. Ему бы пожрать и поспать, и все права такого человека сводятся к двум простеньким заповедям: хлеба и зрелищ. Сделать хорошим маленького человека можно только одним способом (кстати говоря, экономическим выгодным, приносящим большие барыши): загипнотизировать добром, опираясь на иррациональную технологию. Вот откуда бесчисленные мантры о милосердии, заполонившие литературу, столь же лицемерные, сколь и безнадежные. Кажется, что уже сама демократия освящена милосердием. Тут вполне уместно вспомнить притчу о курице и яйце. Демократия и милосердие: что появилось раньше?
В таком случае следует назвать вещи своими именами: под разговоры о милосердии неспособность думать становится «способностью не думать» – самым расчудесным образом превращается в достоинство. Мыслящий, разумеется, превращается в неверующего. Милосердная литература легализует право демократа не думать и объявляет горе заслуженной карой уму (безо всякой иронии: милосердие трудно уживается с чувством юмора). Да что там! Думать, размышлять становится формой сопротивления демократии. Мыслишь, следовательно, борешься против тоталитаризма демократии. Умный – следовательно, не демократ. Ужас неописуемый.
Милосердие, якобы, призвано уравновешивать жестокость, являясь единственной альтернативой, пусть и мифической. Либо жестокость – либо милосердие. Что должен выбрать добрый человек?
Добрый человек спешит выбрать милосердие, не подозревая, что оно является оборотной стороной «отвергаемой» жестокости. Добрый не видит этой диалектической взаимосвязи, ибо сама крамольная мысль о единстве противоположностей просто не может прийти ему в голову.
Таким образом, милосердие, будучи в данном контексте модусом зла, «позиционирует» себя как великая культурная ценность. Именно подобное милосердие, производное от желания не думать, погубит людей. Эта дорога в рай непременно приведет в ад. Такое милосердие кокетливо считает своей «дьявольской» противоположностью ненависть и жестокость; на самом деле полярной противоположностью милосердию, фактически покрывающему и провоцирующему жестокость, выступает способность мыслить ответственно, диалектически, не поддаваясь на провокации быть милосердным по отношению к глупости; полярной противоположностью сиропному милосердию выступает умное милосердие, которое всегда сурово.
Сиропное милосердие есть самая настоящая угроза жизни на земле сегодня. Безобидная и, казалось бы, надрывно, по-бурлацки тянущая воз с добром литература, сопровождающая свои милые перформансы характерными заунывными рефренами типа «ну, давайте жить дружно», «ну, давайте встанем в круг», «ну, давайте возьмемся за руки», плоха только одним: она не видит ничего плохого в том, чтобы человек не думал, не стремился быть личностью. Зло в том, что милосердие не видит истинных причин зла.
Сверхзадача такой литературы: человек должен читать книги, чтобы быть милосердным. Демократичным. Добрым. Верующим. Равнодушным к философии. Потребление книг становится формой невежества.
Сверхзадача литературы как языка культуры: человек должен читать книги, чтобы научиться мыслить. Познавать себя. Тогда только его просвещенной душе откроется милосердие, которое должно реально защищать жизнь, а не делать вид, что делает все возможное в этой безнадежной и бессмысленной затее.
Скажи мне, какую литературу читают сегодня, и я скажу, есть ли у читателей завтра.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА
Преступление Раскольникова – в широком, космическо-экзистенциальном смысле – состояло не в том, что он убил старуху: это, конечно, ужасный, но всего лишь уголовный аспект преступления. Еще более ужасный аспект – нравственный, ибо убийца не раскаялся и не считал нужным раскаяться в содеянном.
Но и это всё – следствия главного, главнейшего преступления, которое состояло в том, что Раскольников Родион Романович защищал саму идею преступления, саму идею поставил выше жизни . Факт подчинённости и подотчётности духовного космоса идее, разуму, отвлечённой диалектике, какой-то произвольно случившейся комбинации смысла – вот главное преступление, ради развенчания которого писался один из величайших в мировой литературе романов. Всю дышащую амбивалентной сложностью натуру человека (вспомним полемически смутные, чреватые смыслами вперемешку с непередаваемой гаммой ощущений состояния героя) Раскольников свёл к «арифметике», к логической мотивированности – именно это не простилось и не могло быть прощено преступнику, от которого с омерзением отворачивались даже уголовники-христиане, имеющие на совести крови и поболее, чем безбожник Раскольников. «Содержательнейшие» состояния томления, вожделения, наития, предчувствия предчувствий свести к «чёрствой» и «пустой» логике – это ли не преступное выхолащивание души?
Игнорирование психической содержательности человека и возвеличивание до степени приоритетных рассудочных функций – вот «философское» преступление Раскольникова, преступление не столько перед жизнью даже, сколько перед тем, кто её дал. Мыслить – бросать вызов Богу: приговор или диагноз, ставший уже банальным в мировой культуре. Соответственно, наказание такого особо опасного преступника осуществлялось не через исправительные учреждения, а путём обращения (возвращения?) в лоно Христово, в царство немысли, предмысли, где недоказуемые априорные ощущения предпочитаются безупречно доказанным концепциям. Уберите «томления» и «вожделения», всё это одухотворяющее вещество жизни – и вам просто нечем крыть, абсолютно нечего противопоставить хищному уму. Поэтому логике Раскольникова противостоит не другая, более совершенная логика (это внешний, идеологический уровень противостояния), а собственно плоть романа с его исключительным вниманием к психологическим состояниям героя – состояниям, непосредственно свидетельствующим о наличии души (в проявлениях ума души нет, что, согласимся, справедливо). Собственно, состояния эти (муки совести, души) и есть наказание Раскольникова.
Произвольность, ирреальность мотивов преступления настолько далека от нормы, что Достоевскому пришлось изрядно потрудиться, чтобы страдания полусвихнувшегося героя могли захватить людей, дружащих со здравым смыслом.
Герои Достоевского изначально и по определению далеки от полюса душевной гармонии, сбалансированности. Вызывающая неадекватность реакций на мерзости жизни оправдывается тем, что реакция исходит из представлений о высшей справедливости, оправдывается, так сказать, высокой болезнью. А то, что реакция зашкаливает, это даже хорошо, ибо свидетельствует об озабоченности клиента.
Достоевский вольно или невольно вместе с неестественным стремлением к абсолютной справедливости (идущим, кстати, от идеи) поэтизировал также неадекватность и неуправляемость ставших неестественными реакций, рассогласованность психики с действительностью, подавая это как неукротимое стремление к правде. Условный, истерический реализм Достоевского сводится в плане содержательном к реализму психопатологии.
Это особенно отчётливо просматривается в образе «положительно прекрасного» человека – Софьи Мармеладовой. Она – отдельно существующая ипостась Раскольникова, его живая, неискалеченная душа. Если быть точным – вымученная идея «живой души», не самодостаточный образ-персонаж, а некая рубрика или параграф, рупор и свод авторских идей.
В данном случае монотонная Соня «интересна» нам своей функцией – от начала и до конца схематичной функцией: она есть олицетворение «добра». Гордыня ума героев, Софии, никогда не приводит к счастливому финалу. Блаженны нищие разумом (они же, по Достоевскому, богаты духом).
Соня есть тот самый «сюрприз», тот самый аргумент, а лучше сказать, общий логический ход, который является коронным в идейном противостоянии разуму. Ход этот многократно апробирован, чтобы не сказать затаскан, он архетипичен, а потому тривиален. Если это последний решающий аргумент, то значит это только одно: разумных аргументов против разума попросту нет. Сам факт иррационального нельзя рассматривать как довод против рационального (а это и есть, по существу, главный пункт художников всех времён и народов).
Превратив Соню в аргумент, писатель поглумился в том числе и над законами художественности. Соня, строго говоря, и есть «эстетическая вошь», продукт разложения эстетики классического реализма, то самое пресловутое насилие над реальностью. В результате мы вынуждены анализировать не реальные смыслы «живого» образа, часто противоречащие конструкции романа, а разбирать спекулятивный реестр условных пороков и неописуемых добродетелей.
Достоевский отвлеченен до того, что нет на страницах его романов мужчин и женщин, есть жертвы неправедной борьбы с «живой душой» и выхолощенная плоть условных антиподов. У героев Достоевского нет пола, строго говоря. Пол им не нужен, он мешает, отвлекает. Им нужна чётко промаркированная позиция в противостоянии ада – рая. Вот почему Достоевским чаще интересуется богословие, нежели непредвзятое, неангажированное литературоведение. Достоевский сам себя сделал инструментом в борьбе за души, а инструмент такой всегда и только – миф. Достоевский творит мифы – и сам превращается в миф. Относиться к нему как к философу – означает самому становиться мифотворцем.
Философствование Достоевского опирается на тезис об антагонизме «диалектики» и «жизни». Лицемерный, в сущности тезис, ибо философии («диалектике») отводится чисто служебная роль под эгидой религии, обладающей якобы уникальным каналом связи с божественным, высшим миром. Психология такого конструирования понятна: в низшем мире верхней границей жизни является смерть, и это не только не укрепляет душу, но, наоборот, делает её болезненно-напряжённой, и тут ни математика, ни позитивно ориентированная философия не защитят. Защита приходит не с плацдарма знаний, а от веры, дающей надежду на преодоление смерти, детища второстепенного мира, – вечной жизнью, если не в Абсолюте, то около него, так сказать в его конторе, а не в конторе Порфирия Петровича.
«Преступление» – это философия, а «наказание» – уже реакция религиозной философии. Чтобы так запутать проблему, надо действительно впасть в детство, думая, что «по-взрослому» держишь Бога за бороду. Однако оборотной стороной детских заблуждений часто выступают пророчества, предчувствия – основа художественных открытий, психологическая основа чуда.
Без диалектики, без философии разобраться в «философии» Достоевского невозможно: можно только разделять его иллюзии, мифологизируя при этом человека, творчество и личность самого Ф.М. Достоевского, гениального путаника библейского масштаба.
8. Жизнь вместо диалектики?
Теперь мне часто снится тот сон, который я увидел в больнице – и напрочь забыл. Теперь мне кажется, что, если бы сон роковым образом не был стерт из памяти моей на время, все могло бы сложиться иначе. Я просыпаюсь разбитым, раздавленным чувством вины, с которым мне просто не с кем поделиться. Кроме Марины.
Я делюсь. И плачу.
…Сон неизменно начинается с красивой заставки. Зима. Вечер. Края серо-черных облаков тлели тихим светлым пламенем, у самого горизонта багровым пятном с оранжевыми прожилками замерло зимнее солнце.
Через несколько минут все краски погасли, и меж небом и землей воцарился скучный серый получас – тот самый час меж волком и собакой.
На исходе получаса некто с дивным экстерьером – полужуравль? полукот? – оказывается подле меня с важным сообщением. Он передает чужую волю, сервильно поджав при этом полухвост.
Завтра утром ровно в девять в отеле Пентагон меня будет ждать Оксана. Опаздывать никоим образом нельзя: случится непоправимое. Невозможное. Просто ужасное.
Я срываюсь с места и мчусь в город Минск.
Ровно в девять я в вестибюле отеля. Вижу Марину (которую почему-то зовут Оксана), но что-то помешало нам встретиться: она поспешно убегает, знаками давая понять, что видит меня, рвется ко мне, однако сегодня – не судьба…
Я с раздражением оглядываюсь вокруг, отыскивая в толпе респектабельных серых пиджаков рожу полукота. У меня есть к нему претензии. Он где-то здесь, этот чертов посланник, я это чувствую, даже вижу его полутень, но поделать ничего не могу: он неуловим.
Мне не остается ничего другого, как вновь за городом (ей-богу: у черта на куличках) ждать час заката. На этот раз небо, затянутое бледно-лиловым шелком облаков, переливалось слабыми отблесками. Что-то в мире поменялось. Полукот возник возле меня, не дожидаясь заката. Услужлив, но тверд.
Завтра утром ровно в девять в отеле Пентагон меня будет ждать Оксана. Опаздывать никоим образом нельзя. Ни-ни.
Ровно в девять я в вестибюле отеля. Оксана стоит спиной ко мне, что-то бурно обсуждая с хладнокровным господином. Я терпеливо жду, ни на минуту не спуская с нее глаз. Сама толерантность.
Вдруг она странным образом исчезает – как сквозь землю проваливается. Мелькает анфас полукота – на ходу он вытворяет какой-то обнадеживающий жест в мою сторону: дескать, еще не все потеряно, наберись терпения. При этом гнусавит омерзительно не музыкальным голосом: «Ну, и досталось же Достоевскому от Федора Андреева!» Навстречу ему, рассекая толпу своей репой на подставочке (она же груша, напоминающая штык-лопату), на всех парах прет следователь Степанов.
На следующий день я вновь оказываюсь в вестибюле отеля. Ровно в девять. Оксаны нет, нет вообще никого. Пусто. Слышу стук каблуков: навстречу мне в незнакомом платье летит Оксана. До боли в сердце знакомое сияние глаз. Она бросается на меня, ногами неприлично, словно обезьяна, обхватывает мне поясницу – и продолжительно целует (ее фирменный засос, который расслабляет меня и одновременно заставляет терять голову). Во мне просыпается желание. И я, наплевав на всех, задираю ей платье. Все. Мы вместе. Навсегда.
– Тебе было больно? – спрашивает она и гладит мне не заживающий бок, изувеченный рапирой.
– Будешь моей женой, узнаешь: я сначала сдохну, и только потом скажу, что мне было больно.
Она улыбается: услышала ключевое слово – жена.
Вот это уверенное безмятежное чувство – я буду жить с Оксаной (Мариной) и буду с ней счастлив – я пережил только во сне. Но чувство это было вполне моим, реальным. В жизни оно было бы точно таким же. Я это знаю всем нутром.
Нежно вглядываюсь в лицо Оксаны – и вдруг до меня доходит, что я не могу его узнать. Это она – и в то же время не она, что-то чужое появляется в чертах ее родного лица.
Мое безмятежное чувство расщепляется: его точит противный червь сомнения.
Выражением своей похабной хари полукот сообщает мне следующее: никаких червей, бери ее в охапку – и дуй, куда глаза глядят. Сию же секунду!
Промедление смерти подобно! Закат! Закат!
Я в нерешительности. Делаю роковую паузу (мне надо собраться с мыслями) – и все. Оксаны со мной нет. Полукот по-дурацки расшаркивается передо мной, объявляя меня идиотом, упустившим свое счастье на глазах у почтенной публики. Правой рукой я пытаюсь нащупать эфес своей рапиры – порву, подлеца, в лоскуты – и …
Я открываю глаза, чувствуя на губах поцелуй Марины. Спустя минуту, до краев наполненную пронзительнейшим чувством утраты, меня могильной плитой придавливает боль вины, жить с которой не представляется возможным.
Ну, почему этот сон вернулся ко мне только после исчезновения Марины?
Или – это был уже не совсем тот сон?
Январский день 2007 года начался так, словно на дворе стояла глубокая осень. Сплошной проливной дождь, сплошная беспросветная серость.
Внезапно дождь прекратился. Набухшие влагой облака сыто и степенно уплывали в сторону, освобождая место голубому простору. Осень сменила весна.
Зимой не было места только зиме.
Глобальное потепление, следствие глобального идиотизма.
– Пойду спать, – сказал я жене после завтрака. – В знак протеста.
– Против чего протестуем?
– Против жизни. Спать – значит, не жить, верно?
Возможно, это было бестактно с моей стороны: жена уже практически не могла спать. Состояние ее ухудшалось с каждым днем. Но мне хотелось говорить с ней, как с человеком вполне здоровым; хотелось показать, что сон – не главное в жизни. Так, пустяк. Да и жизнь, если разобраться…
– Да как сказать… – не согласилась со мной Вера. – Сон может быть и сладкой составляющей жизни. Ты разберись, чего ты хочешь.
Я заметил: с людьми, которые научились называть вещи своими именами, которые готовы встретить смерть, можно говорить о чем угодно. Для них запретных тем нет. Любая запретная тема – это все таки проявление жизни. Когда еще касаться запретных тем, если не перед смертью?
– Вот-вот, пойду разберусь. Спать пойду.
Мне, если честно, хотелось увидеть тот же сон, но с иной концовкой.
Так, в ожидании другой развязки, я провалялся в полудреме до весны.
Концовка мстительно всегда была одна и та же. Полукота я рассмотрел уже в деталях, но добраться до него мне так и не дали. Пора было с чем-то смириться.
И я решил пройтись по памятным местам.
Я шел по проспекту Победителей, по тому самому, который раньше был проспектом Пушкина. Школе № 17 повезло еще меньше: она утратила имя Ф.М. Достоевского и теперь называлась СШ № 17 для детей ЗПР (для детей с замедленным психическим развитием). Белорусский государственный университет сбросил иго тени вождя (имя В.И. Ленина, в народе кличка – Ильич) и гордо распрямил плечи: стал просто БГУ. В жизни произошло столько перемен, что хотелось просто сказать: люди стали другие.
На дворе стоял апрель 2007 года. Минск накрыла скоротечная, и потому особенно впечатляющая, весна. Ледяной упругий ветерок растрепал по небу косматые, набухшие чернью тучи. Через минуту из грязных туч повалил белый снег, и весь небосвод превратился в мутный купол. Еще через несколько минут жаркое солнце сильными лучами бесцеремонно распихало остатки туч к линии горизонта и на просторе принялось светить так, будто справляло неслыханный триумф. Ни с того ни с сего из прорехи бледно-синего неба вновь посыпались хлопья снега, словно в насмешку неизвестно над чем.
Кончилось эта небесная перебранка тем, что выдохшееся солнце, прижавшись к линии горизонта, бледнело и выгорало, скатываясь за черту. Оно мило улыбалось мне, и я прощался с ним до завтра.
Никакой трагедии в тревожных красках заката я не ощущал.
Опять подул свежий ветер.
Я помнил точно такой же апрель при социализме. Правда, тогда зимы были более холодными и снежными. Глобальный идиотизм приводил только к глобальным войнам, но не к глобальному потеплению, предвестнику глобального ада. Говорю же: ад – это глупость, апокалипсис – это глупые люди, полагающие, что они умны.
Забегая вперед (всего на несколько часов: будущее вот оно, буквально под рукой, просматривается до мельчайших подробностей), опишу вечер. Мне запомнилось прохладное синее небо, на котором уютным серым мехом распластались шкурки туч. Солидным алмазным блеском сияла надменная звезда Пентагон. Почему ее в упор никто не замечает? Почему?
А теперь вернусь на несколько часов назад, когда мир был залит солнечным светом. Было искушение поискать ту самую лужу, возле которой мы познакомились с Мариной, но что-то во мне решительно противилось этой затее.
Я шел по проспекту Пушк…, Победителей, конечно, едва не оговорился (боюсь, один я остался прежним, то есть во многом жил в неизменных координатах), и разговаривал с Достоевским.
– Продолжим глупую дуэль, участником которой вы стали не по своей воле. Что делать? В культуре оброненная из благих побуждений концепция превращается в брошенную перчатку. Да, да, в культуре тоже побеждает сильнейший – то есть тот, чьим оружием стали законы разума, направленные против бастионов веры. Догадываетесь, к чему я клоню? Если вы наблюдаете столкновение точек зрения, культурную дуэль, значит, сражаются натура и культура. Надеюсь, вы не унизитесь, как какая-нибудь писательница, до всемирно растиражированного аргумента «в споре рождается истина». В бессмысленном споре рождается правота одного из оппонентов. Побеждает всегда качество мышления. Культура. А знаете, кто будет признан победителем?
Правильно: тот, кто именем культуры, протаскивая императивы натуры, будет ратовать за милосердие. Тот, кто перемудрит сам себя. Тот, кто будет верить, что он победил. Тот, кто окажется слабаком. Примите мои поздравления в форме соболезнования. Я вручаю вам сей двусмысленный венок. Хотите – пусть он будет терновым с алмазными инкрустациями. Можно загнать в ближайший ломбард…
Что значит «вместо диалектики наступила жизнь»? Вместо культуры – натура? Жизнь не может быть вместо диалектики, маэстро; жизнь насквозь диалектична, как можно одно отделять от другого? Это все равно, что сказать: кошка вместо инстинктов. Ведь вы бы так не сказали? Надеюсь, что нет. Вы так заворожили человечество, Федор Михайлович. Просто попали в десятку – только с другой стороны. Стали ключом ко всем нынешним проблемам, к появлению которых сами же во многом и приложили руку, извините. Ах, глубина души, ох, как мы загадочны… Не знаю, можно ли вас подпускать к школьникам. Вы на них дурно влияете. И что вы так носитесь со своей хмурой вечностью? Когда-нибудь приходит никогда. И потом… Когда-нибудь становится наплевать на никогда. Вечность – это мы сами.
И тут до меня дошло (вот он, крошечный момент, десятая доля секунды, не время даже, а статистическая погрешность, – прекрасный судьбоносный миг, соединивший прошлое и будущее! Чем недолговечнее эйфория, тем она острее!). Моя трудная жизнь, состоявшая из невозможности принять верное решение, мои душераздирающие сомнения, мои метания, мои ошибки, вытекающие из правильных решений, – все это было полноводной, полнокровной жизнью. Нельзя было ни убавить, ни прибавить; это было бы нарушением моей гармонии.
И решения никакого принимать было не надо – просто потому, что я давно уже принял решение, еще тогда, когда даже не подозревал, какие трудности поджидают меня впереди. Получается, что я жил с готовым решением, не веря, что оно – уже свершившийся факт?
Получается, что жил.
Ничего не надо было менять в жизни; надо было просто жить невозможной жизнью – и это было счастьем. Теперь я точно знал, что такое счастье. Осталось ответить на вопрос: счастлив я или нет?
Даже не так. Моя проблема передвинулась в другую плоскость: где взять силы на это корявое счастье?
При этом понимание того, что иного счастья не бывает, явно прибавляло мне сил. Осознание того, что меня не покидает понимание, также было источником сил.
Было страшновато бросаться в хорошо знакомую пучину; но никакой иной жизни мне уже не хотелось. Еще вчера я лихорадочно искал глазами берег, чувствуя, что силы на исходе; сегодня я уже не хотел никакого берега, никакой скучной тверди, никаких окончательных причалов. Сам процесс плавания, удовольствие уверенно держаться на воде – то бишь безнадежно барахтаться в океане – и придавало мне сил. Не надежда достичь берега – а надежда достичь его как можно позже: вот что стало моей путеводной звездой.
Настоящая жизнь должна быть трудной, невыносимой – потому что реальной. Благостные миражи, мусор иллюзий – за борт, как балласт. Желание жить реальной жизнью – вот что стало perpetuum mobile моего существования. Я бы рассмеялся в глаза тому, кто назвал бы меня оптимистом; я бы расплакался от жалости к тому, кто посчитал бы меня пессимистом; я бы резко повернулся спиной к комплиментам унылого диалектика; я бы не устоял против искушения объявить сумасшедшим верующего. Мне было с ними не по пути, они не умели плавать.
Гармония, мое второе имя, стала мне спасательным жилетом.
* * *
Жена, состояние которой было безнадежно, прочитала эту запись из моего дневника (начинавшуюся со слов «моя трудная жизнь»; все остальное в последней главе – выдумка, художество) и попросила объяснить, что я имел в виду.
А я понял, что даже бумаге невозможно доверить часть своего существа.
И вдруг в соответствии с логикой моего нового мироощущения, я отчаянно осознал: именно и только бумаге и следует доверить существо моего существа. Более того: только тогда это существо и проявится. Бумаге – да, но не дневнику. Чему же?
Уже задавая себе этот вопрос, я улыбался, ибо знал ответ еще до того, как возник вопрос: роману, вот чему. (Я чувствовал, что знаю ответы на еще не родившиеся вопросы. Умение задавать вопрос становилось главнее умения нащупывать ответ в грамотно структурированном информационном космосе.) Я знал, что роман на русском языке – это мучительно сложный проект с непредсказуемым результатом; но я знал также и то, что у меня не было иного выхода. А почему роман будет – не для всех, прилично владеющих русским языком, языком мировой культуры, который ничем не уступает иным мировым языкам?
Потому что мой не написанный еще роман уже есть начало диктатуры культуры . А для опарыша это – словно дуст в жаркий солнечный день, когда кроме водопоя ни о чем думать не хочется. Да и о водопое пусть поразмыслит брюхо: оно все равно умнее головы.
Нельзя было облегчать себе жизнь, уклоняясь от того, что ее немыслимо обогащало. Легкая жизнь, белая и пушистая, легко помещалась в траурную рамку.
«Вот это жизнь!» – то и дело вспыхивало искрами у меня в голове. К гордости за себя примешивалось легкое чувство зависти к себе и, черт побери, – досадным осадочком – жалость: все-таки это было очень трудно – превращаться из личинки человека, ютившейся в коконе (мумия!), в бабочку личности, которой законы всемирного тяготения не только мешали, но и помогали обрести реальную свободу – помогали взлететь.
И все-таки это случилось.
Это случилось в XXI веке по христианскому летоисчислению…
И это было начало чего-то нового.
Или…
Конец.
Январь 2007 – август 2008
Примечания
1
Здесь использованы стихи А. Жданова, взятые из книги «Западный полюс земной». – Мн, УП «Технопринт», 2003

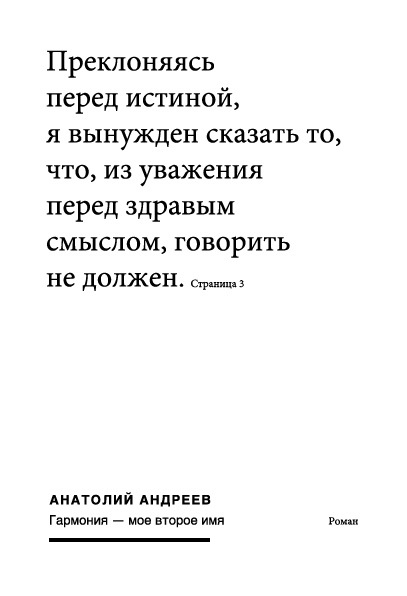
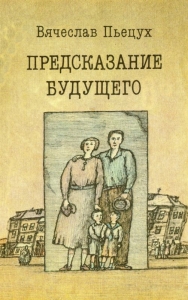



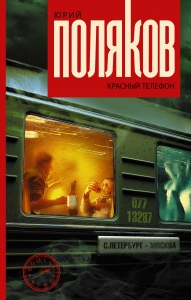






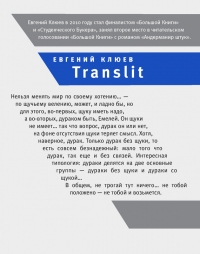
Комментарии к книге «Гармония – моё второе имя», Анатолий Николаевич Андреев
Всего 0 комментариев