Андре Бринк
Предисловие
1825 год. В том году происходят кульминационные события романа «Перекличка». Но к этому событию ведет рассказ о двух, пожалуй, даже двух с половиной десятилетиях. Так что нас, жителей конца двадцатого века, автор приглашает в начало девятнадцатого.
Что мы знаем о тех временах? Что больше всего о них помнится?
Прежде всего, должно быть, наполеоновские войны. Французское вторжение в нашу страну, горящая Москва, дорогой ценой давшаяся победа.
А 1825-й, завершающий год в этом романе? Для нас он тоже памятен. Восстание декабристов.
Андре Бринк рассказывает о тогдашней жизни в нашем, Восточном полушарии. Но все же это совсем другой край Земли и жизнь совсем другая.
Действие романа происходит на самом юге Африки, в той части этого материка, что находится дальше всего от Европы. Люди там не так уж много знали о событиях в Европе, да и в Европе не очень интересовались жителями того далекого края.
А как нам понять «земли чужой язык и нравы»? Особенно учитывая, что время было для того края особым, переломным. Впрочем, как и для Европы. Но по-другому.
Капская колония, где живут персонажи романа, в начале девятнадцатого столетия имела уже немалую историю. Полутора веками раньше Нидерландская Ост-Индская компания решила основать стоянку для кораблей на самой длинной и самой оживленной океанской дороге нашей планеты — от Европы к сказочным богатствам Индии и всего Востока.
Местом для такой «морской таверны» была избрана естественная гавань на самом опасном участке пути, где сталкиваются течения двух океанов — Атлантического и Индийского — и воды почти никогда не бывают спокойными. Первые португальские мореплаватели назвали это место мысом Бурь, а потом в суеверном страхе переименовали в мыс Доброй Надежды.
Там был основан «Город на мысе» — Капстад. И вокруг него «Колония на мысе» — Капская колония. Проходящие корабли получили возможность пополнять запасы продовольствия и питьевой воды, чинить все, что поломали и расшатали бури Атлантического и Индийского океанов. Моряки могли передохнуть в середине тяжкого плавания. Оно ведь продолжалось тогда несколько месяцев.
Со временем европейское поселение разрасталось, постепенно превращаясь в довольно обширную колонию. Дело в том, что климат, да и вообще природные условия оказались весьма благоприятными для европейцев — не то что, например, в Западной Африке, которую называли «могилой белого человека». Поэтому многие служащие Ост-Индской компании не возвращались в Европу, а оставались на Юге Африки навсегда.
Прибывали и поселенцы. Больше всего, разумеется, из Нидерландов, но приплывали и из Франции, и из германских княжеств.
К началу девятнадцатого века не только мыс Доброй Надежды, но и прилегающие к нему земли были уже захвачены европейскими переселенцами и их потомками. Колония простиралась на север и северо-запад почти до реки Оранжевой, а на восток — до реки Грейт-Фиш (Большой Рыбной реки или просто Большой реки). За нею жили племена коса, еще сохранявшие свою независимость.
А по всей Капской колонии на землях, отнятых у африканских племен, возникали фермы — такие, как у семейства Ван дер Мерве в этом романе. Поселенцы называли себя бурами (по-голландски — крестьянами, фермерами).
Андре Бринк показал типичную жизнь такой фермы. Рабовладельческое хозяйство. Хозяева — белые. Работники — потомки привезенных рабов и местные койкойны, которых европейцы называли готтентотами. По-голландски это значит «заикающиеся». Дело в том, что в языке койкойнов есть непривычные для европейского уха щелкающие звуки.
Рабов привозили с Мадагаскара, из Западной Африки, из Нидерландской Индии (теперь — Индонезия). Немало было малайцев.
В условиях рабовладельческого хозяйства у многих буров возникала и психология типичных рабовладельцев. Нидерландский барон ван Имхофф, побывавший в Капской колонии в 1743 году, заявил:
«В связи с ввозом в страну рабов здесь каждый европеец становится властелином. Он хочет, чтобы на него работали, и не желает работать сам. Большинство здешних фермеров — не фермеры в полном смысле этого слова, это плантаторы, и многие из них считают физический труд позором»[1].
Хозяин фермы — полновластный хозяин рабов. Выпороть, покалечить, засечь до смерти, продать, выменять… Хотя многие из рабов, в сущности, его родственники. Его сводные братья и сестры, потому что его отец не упускал ни одной молодой рабыни… Его дети, потому что и он сам следовал примеру отца и деда.
Да и в собственной семье он тоже бог и господин. Возможность распоряжаться жизнью и смертью своих рабов делала этого человека деспотичным во всех отношениях.
Могут быть, конечно, нюансы, как в поведении братьев Ван дер Мерве — Баренда и Николаса. Но это отличия чисто личного порядка: большая или меньшая жестокость, решительность, чувствительность или трусость. У одного по временам бывают угрызения совести. Другой, кажется, и не подозревает, что это такое.
Во всем же основном, главном братья ведут себя сходно. И смотрят на мир в общем-то одинаково, да и действуют тоже.
На бескрайних просторах Южной Африки фермеры были бесконтрольны и безнаказанны. Белых поселенцев насчитывалось сравнительно мало — два-три десятка тысяч. Фермы далеко отстояли друг от друга. Каждый фермер старался захватить столько земли, чтобы не видеть даже дыма от очага соседней фермы. Размер фермы нередко достигал семи тысяч акров. До местной власти, ланддроста, скачи — не доскачешь. Это ли не раздолье для самодурства и деспотизма?!
Надо учитывать и невежество буров. С распространением колонизации в глубь материка, все дальше от исходного пункта, Капстада, слабели связи с Европой. До фермеров лишь изредка доходили слухи о том, что там происходило. Считая себя носителями европейской культуры и гордясь этим перед африканцами, буры мало что знали о достижениях европейской цивилизации за предшествующие сто-полтораста лет.
Действие романа происходит на довольно зажиточных фермах, с хорошим достатком. Там сыновей учили читать и писать. Но для буров это не было всеобщим правилом. Да и те, кто учились, всю жизнь читали только одну книгу — Библию.
Толстая семейная Библия в кожаном переплете переходила от отца к сыну. По вечерам отец семейства читал ее вслух. Из Книги, так называли Библию, черпали все понятия о Вселенной, человечестве, истории, жизни, о добре и зле. Принеся в Южную Африку протестантизм в его наиболее суровой форме — в форме кальвинизма, — буры гордились своей религиозностью. Постоянно цитировали библейские заповеди. Но в подлинной жизни повторение заученных заповедей, как это наглядно показано в романе, ничуть не мешало дикости и бесчеловечности. А на рабов и вообще небелых бурам даже и в голову не приходило распространять понятия христианской морали.
В религии буры находили оправдание порядкам, установленным ими на Юге Африки. Судьба не только каждого человека, но и каждого народа, каждой расы предопределена свыше. И проклятие господне падает на тех, кто попытается избежать этой судьбы. Буры — народ избранный, herrenfolk. А коренному населению Африки предназначен иной путь, иной образ жизни. Их удел — быть рабами и слугами. Такое толкование Библии, такой образ мышления стали типичными для буров. С его помощью оправдывалось почти любое проявление расового гнета.
Персонажи романа живут и действуют в переломные годы южноафриканской истории. Мировые события того времени влияли и на буров. Судьба обитателей далекого края, может быть, и не особо занимала европейских правителей, но вот географическое, торговое и, говоря сегодняшним языком, военно-стратегическое положение мыса Доброй Надежды… Оно и тогда считалось очень важным.
В 1796-м, во время войн Великой французской революции, Англия оккупировала Капскую колонию, воспользовавшись тем, что Нидерланды тогда оказались на стороне Франции. В 1802-м Англия вернула Капскую колонию Батавской республике (как тогда назывались Нидерланды), но в 1806-м, в ходе очередной войны против Наполеона, захватила ее снова, на этот раз надолго.
Надо сказать, что и Наполеон подчеркивал значение Капской колонии в мировых делах. Ему принадлежат слова: «Мы должны взять Египет, если уж не можем выгнать Англию с мыса Доброй Надежды»[2].
Ведь и до Наполеона французские политики заглядывались на «морскую таверну». Флот и войска Людовика XVI накануне революции захватили ее и держали три года. Во французском гарнизоне там служил и Баррас, будущий глава французской Директории и покровитель молодого Наполеона. Там Баррас познакомился с женщиной по имени Катрин Гранд и потом, во Франции, сосватал ее в жены Талейрану. Так что и в своем узком кругу Наполеон был немало наслышан о мысе Доброй Надежды. Но после морского сражения при Трафальгаре, где Нельсон уничтожил французский флот, а вместе с ним и наполеоновские планы захвата заморских владений, императору французов оставалось лишь заявить: «На Эльбе и на Одере мы получим нашу Индию, наши испанские колонии и наш мыс Доброй Надежды»[3].
Британский захват Капской колонии был узаконен решением Венского конгресса 1814–1815 годов, и Великобритания постепенно начала вводить там свои порядки. Конечно, как и прежние хозяева, голландцы, она видела в этой колонии прежде всего военно-морскую базу, важнейшую стоянку на пути в Индию. В Капстаде — или, как по-своему переиначили его название англичане, Кейптауне — проводились работы по улучшению порта. Был размещен там и немалый британский гарнизон.
А с 1820 года в Капскую колонию начался приток переселенцев с Британских островов. Буры почувствовали себя куда менее уверенно, чем раньше.
Официальным языком колонии объявлялся английский. Он вводился в школах, знание его становилось обязательным для лиц, находящихся на государственной службе. Бурский Совет граждан Капстада был ликвидирован, всюду появились британские чиновники. На содержание этого административного аппарата и английского гарнизона требовались деньги, и буров обложили налогами, более высокими, чем прежде.
В 1825 году голландские риксдалеры были заменены фунтами стерлингов. При обмене старой валюты на новую за риксдалер, приравненный прежде к пяти шиллингам, давали только полтора. Иными словами, была проведена девальвация, причинившая бурам серьезный ущерб.
Но главное, что подрывало основы бурского фермерского хозяйства и вообще меняло уклад жизни в колонии, — это отмена рабства. Великобритания была по тем временам передовым буржуазным государством, и причиной отмены рабства стали потребности развития буржуазного общества. Рабство представлялось англичанам уже крайне отсталой, недостаточно эффективной формой эксплуатации.
Немалую роль в деле отмены рабства и работорговли сыграли передовые люди, гуманисты Великобритании и других стран Европы и Америки.
Работорговля была запрещена в Британской империи в 1807 году, рабство же отменили значительно позднее. Британский парламент принял решение о его отмене в странах Британской империи в 1833 году, а в силу оно вступило в следующем, 1834-м.
Но борьба за отмену рабства велась в Англии долгие годы. Отголоски этой борьбы доносились и до Южной Африки. О ней писали в кейптаунских газетах. О ней со страхом, таясь от своих рабов, говорили между собой фермеры-буры.
И все-таки слухи, хоть и туманные, неясные, совершенно неопределенные, ползли и среди рабов. Они, как и работники на фермах братьев Ван дер Мерве, старались по выражению лиц своих хозяев, по обрывкам их фраз, по их настроению догадаться, что же на самом деле происходит. Галант, главный герой книги Бринка, крадет у хозяев кейптаунские газеты и потом тайком разглядывает их, пытаясь хоть что-то понять по строчкам, где буквы бегут, как муравьи.
Но он, увы, как и другие рабы, читать не умеет.
…События на фермах братьев Ван дер Мерве развиваются по восходящей. А британский парламент не торопится. Год идет за годом, но долгожданного решения все нет. Рабы ждать уже не могут.
Надежды на решение сверху чередуются с мечтами спастись бегством, уйти на восток, за Великую реку, где африканские народы живут пока самостоятельной жизнью.
Атмосфера человеческих взаимоотношений на фермах накаляется докрасна, нервы напряжены и у рабов и у хозяев. Сам воздух напоен ожиданием уже надвинувшейся и вот-вот готовой разразиться бури.
И наконец буря — восстание рабов. Надежды на успех у него нет. И вот обвинительный акт в суде мыса Доброй Надежды от 8 февраля 1825 года, которым открывается роман Бринка. И вынесенный полутора месяцами позднее приговор, которым книга завершается…
Как сделать так, чтобы роман Бринка стал понятнее нам, живущим на другом краю земли, за многие тысячи километров, под другим небом, где и климат другой, и солнце светит иначе?
Посмотреть на этот край глазами наших соотечественников мы не можем. Наша страна, выполняя соответствующие решения ООН, не поддерживает с расистской Южно-Африканской Республикой дипломатических и торговых отношений, не имеет культурных связей.
Но сохранились свидетельства наших соотечественников о Капской колонии тех дальних времен, которым посвящен роман Бринка.
На первый взгляд это может показаться странным, но в те годы на мысе Доброй Надежды побывали сотни — нет, пожалуй, даже тысячи людей из нашей страны.
В 1808–1809 годах там стоял русский военный шлюп «Диана». В 1818-м — бриг «Рюрик». Им командовал известный мореплаватель Отто Коцебу, сын писателя Августа Коцебу. В 1822-м там почти два месяца находились два русских брига — тот же «Рюрик» и «Елисавета».
С 1814-го по 1829-й в южноафриканских водах — с заходом и без захода в порты мыса Доброй Надежды — побывали фрегат «Крейсер», транспорт «Кроткий», корабли «Суворов», «Елена», «Бородино», шлюпы «Камчатка», «Открытие», «Благонамеренный», «Восток», «Мирный», «Аполлон», «Ладога», «Предприятие», «Сенявин», «Моллер». Шлюпом «Моллер», заходившим в Кейптаун, командовал отец писателя Станюковича.
Почему так много русских судов проплывало тогда этим путем? Объяснение крайне простое. Как было тогда доставлять тяжелые грузы из Петербурга и Москвы в восточные пределы Российской империи: на Дальний Восток, на Камчатку? Восемь тысяч верст на подводах по грязи, трясинам, через тайгу — железных дорог-то еще не было?
А как на Аляску?
Вот и везли на кораблях самое тяжелое: пушки, колокола, канаты… Суэцкий канал был открыт только в 1869-м. Значит, оставался один путь — вокруг Африки. А тут мыса Доброй Надежды никак не миновать. Так и появлялись русские морские офицеры в Кейптауне и соседних поселках.
Самые интересные записки оставил известный мореплаватель капитан Головнин, командир шлюпа «Диана»[4], — настолько по тем временам, казалось, исчерпывающие, что другие русские мореплаватели долго потом пользовались ими, не считая нужным добавлять что-нибудь от себя. Штурман «Рюрика» Е. А. Клочков, побывав на мысе Доброй Надежды через десять, а потом еще раз через пятнадцать лет после Головнина, ограничился записью: «Рейд и город: Кап-штат и Симон-штат описаны в путешествии капитана Головнина. Во время пребывания нашего там жизненные припасы были весьма дороги»[5].
У Василия Михайловича Головнина действительно была возможность познакомиться с жизнью обитателей мыса Доброй Надежды. Его шлюп «Диана» стоял там тринадцать месяцев.
Свои суждения Головнин высказывал осторожно. Оговорился, что жизнь бурских фермеров знал мало, да и о горожанах старался не делать категорических суждений. Понимал, наверно, что для вынесения окончательных приговоров тринадцати месяцев мало. Настороженность у Головнина породили резкие оценки Джона Бэрроу (1764–1848), английского путешественника и дипломата, основателя британского Королевского географического общества. «Г-н Барро делает их настоящими невеждами, словом сказать, по его описанию, они составляют самый непросвещенный народ из того класса народов, который известен под общим именем непросвещенных народов… Но мне кажется, нельзя во всем с ним согласиться…»
Но все-таки европейски образованному Головнину уж очень бросилась в глаза оторванность колонистов от европейской культуры, узость их интересов. «Здешние голландцы, занимаясь с самой юности только торгами и изыскиванием способов набогатиться, недалеко успели в просвещении, и потому их разговоры всегда бывают скучны и незанимательны. Погода, городские происшествия, торговля, прибытие конвоев и некоторые непосредственно касающиеся до них политические перемены суть главные и, можно сказать, единственные предметы всех их разговоров. Они или делом занимаются, или курят табак, до публичных собраний не охотники и никаких увеселений не терпят».
Худшей чертой буров Головнин считал их обращение с рабами. «Главнейший из их пороков есть, по мнению моему, жестокость, с каковою многие из них обходятся со своими невольниками… Невольников содержат в здешней колонии очень дурно… Сказывают, что с тех пор, как англичане ограничили жестокость господ в поступках к своим невольникам и запретили торговлю неграми, их стали лучше содержать и более пещись о их здоровьи. Скупость, а не человеколюбие, без всякого сомнения, была причиною такой перемены: невозможность заменить дешевою покупкою умерших негров заставила господ обходиться лучше со своими невольниками».
О самих невольниках Головнин писал мало. Близко общаться с африканцами, будь то свободные или рабы, ему не пришлось. Да и иностранцы, бывавшие тогда в России, — много ли им приходилось говорить с крепостными?
Вообще суждения Головнина основаны на том, что он видел в самом Кейптауне, его окрестностях и близлежащих фермах. В «глубинку» Капской колонии заглянуть ему почти не удавалось.
То же самое можно сказать и о получивших наибольшую известность впечатлениях нашего великого соотечественника о мысе Доброй Надежды.
Это, разумеется, записки Ивана Александровича Гончарова… В низенькой каюте фрегата «Паллада», с авансом, взятым под будущие Путевые очерки у издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского, и двумя тысячами рублей, занятыми у брата, смотрел он, куря сигару, на приближавшийся африканский берег. А потом, в марте — апреле 1853-го, ездил и гулял по пыльным дорогам Капской колонии. Первый классик русской литературы, совершивший кругосветное путешествие.
«Мыс Д[оброй] Н[адежды] — это целая книга, с претензиями на исторический взгляд», — писал он Краевскому[6]. Эта «целая книга» вскоре появилась. Гончаров назвал ее «На мысе Доброй Надежды». Отпечатал в 1856 году, но не отдельным изданием, а в журнале «Морской сборник». В виде журнального оттиска — действительно целая книга, сто пятьдесят шесть страниц. Через два года, когда были завершены и опубликованы целиком очерки «Фрегат „Паллада“», она вошла туда составной частью.
Записки Гончарова широко известны. Хотелось бы напомнить только одно. Он со своими спутниками, офицерами с «Паллады», побывал в трех тюрьмах — решил повидать захваченных англичанами вождей народа коса. Это вожди из тех самых мест, за Великой рекой, куда так рвались в своих мечтах Галант и другие рабы в романе Бринка. В начале прошлого века там жили независимые племена. А ко времени плавания «Паллады» их земли уже были захвачены англичанами и бурами.
Но все же ни Гончаров, ни Головнин, да и никто из русских офицеров, не могли повидать толком жизнь на бурской ферме. Не видел ее и капитан Лисянский — тот, кто;-вместе с Крузенштерном совершил первое русское кругосветное плавание. Еще до этого плавания, в 1798 году, он долго жил в Кейптауне. Тогда же десять месяцев провел в Кейптауне, возвращаясь в Россию из Индии, путешественник и музыкант Герасим Лебедев. Да мало ли еще там побывало российских людей! Но те, кто оставил свидетельства, писали лишь о Кейптауне и окрестностях. А те, кто побывал и даже жил в «глубинке», затерялись, и следов их история почти не сохранила.
Поэтому стоит все же вспомнить еще об одних записках. Они были изданы в России в годы, которым посвятил свой роман Андре Бринк.
Это целых пять томов. Последние три вышли в русском переводе в Петербурге как раз в 1824 и 1825 годах, «Второе путешествие Вальяна во внутренность Южной Африки через мыс Доброй Надежды». А первые два тома — в Москве, тремя десятилетиями раньше, «Путешествие г. Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 годах».
Эти тома читали современники Екатерины II, Суворова, Державина, Пушкина, Батюшкова, Дельвига… А может быть, и они сами.
Французский натуралист Франсуа ле Вальян видел ту самую или почти ту самую жизнь, что дана у Бринка. Вот несколько выдержек, в тогдашних русских переводах.
О бурских фермерах. «Когда молодой колонист умеет править телегою и владеть бичом, то его воспитание почти кончено; ибо его не обучают ни читать, ни писать».
Особый гнев Вальяна вызывало обращение колонистов с готтентотами. «Сколько злодейств и ужасов! Несколько колонистов, хорошо вооруженных, соглашаются вместе, потом, нечаянно (то есть внезапно. — А. Д.) напав на какую-нибудь орду, принуждают ее пригнать к ним все свои стада… Что могут сделать против сил страшных разбойников несчастные дикие, которым огнестрельное оружие неизвестно!»
А как вели себя привезенные из Голландии преступники?! «Сии порочные и ленивые люди захотели пользоваться плодами земли, не возделывая оной. При том гордясь своим происхождением белых, они сочли, что люди не одинакового с ними цвета рождены быть их невольниками. По сему они и отяготили их самыми тяжкими работами и за то платили им дурным с ними обхождением».
О настроениях в среде мулатов можно судить по беседе Вальяна с девушкой, которую он называет «прекрасной мулаткой». Вальяна удивило, что она жила среди готтентотов. На это он получил ответ: «Правда, что я дочь белого, но мать моя готтентотка… Вы знаете, сколь великое презрение ваши белые имеют к черным и даже к получерным, подобным мне. Остаться жить между ими, значило подвергать себя ежедневным оскорблениям…»
Книги Вальяна долго еще находили в России читателей. На него ссылался Лисянский. Гончаров через много лет в своей «Палладе» сравнивал увиденное им самим с тем, что он читал у Вальяна.
Андре Бринк — писатель с мировым именем, автор уже многих романов. Он пишет их на языке африкаанс. Это язык буров, или, как они называют себя теперь, африканеров (то есть белых африканцев). Бринк сам переводит свои романы на английский, а затем они появляются в других странах в переводе на многие языки. И голос этого пятидесятилетнего человека, живущего в небольшом городе Грейамстауне на востоке Капской провинции Южно-Африканской Республики, слышен на всех континентах.
«Перекличка» — четвертый роман Бринка, изданный в нашей стране. В 1981-м в русском переводе вышли «Слухи о дожде» и «Сухой белый сезон». Они посвящены борьбе в сегодняшней Южной Африке. Об этих романах у нас писали много. И в журналах, и в газетах, и в научных исследованиях.
«Перекличка» ближе всего к третьему роману — «Мгновенье на ветру», — изданному в московском литературном альманахе «Африка» в 1982-м. Оба они — исторические. В одном действие происходит в 1749–1751 годах, в другом — в первой четверти девятнадцатого века. Проблема и там и здесь одна и та же — взаимоотношения черных и белых в условиях, созданных колониализмом.
Было бы неверно сказать, что история Южной Африки не нашла до сих пор отражения в романах, даже весьма известных. Достаточно вспомнить: «Капитан Сорви-Голова» и «Похитители брильянтов» Луи Буссенара, «Питер Мариц, юный бур из Трансвааля» А. Нимана, «Приключения молодых буров» и «Приключения Ганса Старка, южноафриканского охотника и пионера» Майн Рида, «Приключения трех русских и трех англичан в Южной Африке» Жюля Верна, «Копи царя Соломона» и другие романы Райдера Хаггарда. Последние десятилетия — многочисленные романы Стюарта Клюти и Уилбура Смита…
При всем разнообразии этих авторов и их идейных установок все-таки общее у них то, что в центре внимания почти всегда находятся буры, их переселения, их сопротивление англичанам. Или европейские путешественники, охотники, золотоискатели и их необычайные приключения.
Бринк же ищет в истории подоплеку нынешней трагедии своей родины: социального и расового угнетения небелого большинства страны, составляющего суть пресловутой политики апартеида.
В «Мгновенье на ветру» он поставил своих героев — белую женщину и черного мужчину, хозяйку и раба — вне привычных социальных условий. Оставшись в живых после гибели научной экспедиции и вынужденные месяцами бродить вдвоем в незнакомых местах за пределами Капской колонии, они постепенно теряют предрассудки, созданные общественными порядками. Их взаимоотношения становятся более естественными, они начинают лучше понимать друг друга. Но, вернувшись в Капскую колонию, оба жестоко поплатились за это.
Действующие лица «Переклички» тоже ведь поставлены в особые условия. Нарастающие слухи об отмене рабства выявляют напряженность, копившуюся из поколения в поколение.
Андре Бринк осмелился сделать то, на что решиться крайне трудно. Он бросил обвинение своему собственному народу, бурам-африканерам. Бернард, герой романа «Слухи о дожде», говорит: «Мне придется бороться против своего народа, против тех самых африканеров, которые в прошлом сами боролись за свободу, а теперь взяли на себя миссию распоряжаться судьбами других народов».
Судя по творчеству Бринка, эти слова — его собственное кредо. Он не изменил ему и в «Перекличке».
Название этого романа имеет, мне кажется, несколько значений. Это не только перекличка голосов персонажей, от лица которых поочередно ведется повествование. Это и перекличка прошлого с сегодняшней действительностью родины Бринка, поиск корней того трагического положения, в которое завели его страну белые расисты. Это и перекличка исторической темы в творчестве Бринка с темой сегодняшнего дня.
Сколь хороши художественные особенности романа, судить читателю. Главный упрек автору — в некоторой растянутости, замедленности действия[7].
А насколько достоверно удалось ему передать мысли и чувства людей той далекой эпохи?
Можно ли дать тут совершенно однозначный ответ?
Не трогайте далекой старины. Нам не сломить ее семи печатей.Так писал великий Гёте, но сам искал в далекой старине ответы на мучившие его вопросы. А Евгений Викторович Тарле, преклоняясь перед Львом Толстым, считал все-таки, что «в „Войне и мире“ действуют персонажи, которые сплошь и рядом говорят не как офицеры 1812 года, а как офицеры Крымской кампании или даже более позднего времени»[8].
Пожалуй, действующие в «Перекличке» лица говорят слишком одинаковым языком, к тому же более близким к нам, чем это могло быть в действительности. Да и строй их мыслей менее разнороден и пестр, чем он был тогда у фермеров и рабов.
Историк-профессионал, вероятно, может найти у Бринка и еще какие-то неточности. Но тут нелишне вспомнить упрек, который бросил своим коллегам-историкам академик Михаил Николаевич Тихомиров. Историки, считал он, мало еще сделали, чтобы «рассказать о жизни народа, о его воззрениях, о его праздниках, о его бедствиях и чаяниях, обо всем, чем жил человек прежнего времени. Об этом пишут только писатели, как это сделал Ромен Роллан в своей повести о Кола Брюньоне. А историки только брюзжат на писателей, укоряя их в неточностях»[9].
Во всяком случае, Андре Бринк много работал над историческими материалами. И писал честно. Думаю, что к этому роману можно отнести давние слова Пушкина: «…изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей».
Аполлон ДавидсонПерекличка (Роман)
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
По уголовному делу, ведомому Дэниелом Дениссеном, эсквайром, Его Величества прокурором Мыса Доброй Надежды, возбужденному ratione officii[10] против
1. Галанта (26 лет, уроженца Холодного Боккефельда), бывшего раба покойного Николаса ван дер Мерве; 2. Абеля (28 лет, уроженца Холодного Боккефельда), раба Баренда ван дер Мерве; 3. Роя (14 лет, уроженца Свартберхе), а также 4. Тейса (18 лет, уроженца Свартберхе), готтентотов, служивших ранее у покойного Николаса ван дер Мерве; 5. Хендрика (30 лет, уроженца Теплого Боккефельда), у служившего ранее у покойного Ханса Янсена; 6. Клааса (40 лет, уроженца Холодного Боккефельда), раба Баренда ван дер Мерве; 7. Ахилла (около 55 лет, уроженца Мозамбика), бывшего раба покойного Николаса ван дер Мерве; 8. Онтонга (около 60 лет, уроженца Батавии), бывшего раба покойного Николаса ван дер Мерве; 9. Адониса (около 60 лет, уроженца Тульбаха), раба Яна дю Плесси; 10. Памелы (25 лет, уроженки Бред Ривер), бывшей рабыни покойного Николаса ван дер Мерве; 11. Джозефа Кэмпфера (35 лет, уроженца провинции Брабант), белого, христианина из Капской колонии;на основании сведений, полученных прокурором Его Величества из доклада ланддроста[11] города Ворчестера Государственному секретарю, от 8 февраля 1825 года, а также на основании других материалов, имеющихся в деле, установлено:
Что первый обвиняемый, Галант, совершивший побег от своего хозяина, покойного Николаса ван дер Мерве, с фермы Хаудден-Бек в Холодном Боккефельде зимой 1824 года (хотя затем добровольно вернувшийся к хозяину), впоследствии, в период уборки урожая, в декабре 1824 года, возымел преступное намерение вкупе с другими рабами и наемными работниками своего хозяина, а также с одиннадцатым обвиняемым, Джозефом Кэмпфером, управляющим соседней фермы Жана Дальре, во время работы на гумне ввести своего хозяина во гнев жалобами на плохое питание и в ответ на заслуженное наказание убить его, не приведенное в исполнение лишь потому, что хозяин, выслушав жалобы обвиняемого, не стал наказывать его, а заявил, что не в силах предоставить лучшее питание; впоследствии первый обвиняемый, Галант, воспользовался возможностью, представившейся ему во время поездки вместе со своим хозяином по соседним фермам, и вовлек в свой преступный умысел рабов с различных ферм, где останавливался его хозяин, главным образом рабов Яна дю Плесси, тестя Николаса ван дер Мерве; с сего времени первый обвиняемый, Галант, имел связь с вышеозначенными людьми, подстрекал их напасть на фермы и учинить кровопролитие, захватить в ходе мятежа столько ферм, сколько удастся, а в конце концов и сам Кейптаун или же, в случае если они не сумеют укрепиться на территории Колонии, прорваться за кордоны на Великой реке, дабы присоединиться к обосновавшимся там беглым рабам. —
Что первый обвиняемый, Галант, перед вышеозначенной поездкой, во время и после нее вовлек в свой заговор ряд людей, в частности обвиняемых Роя и Тейса с фермы своего хозяина, обвиняемого Абеля, жившего в Эландсфонтейне на ферме у Баренда ван дер Мерве, старшего брата покойного Николаса ван дер Мерве, и обвиняемого Хендрика, который в день, предшествовавший убийствам, то есть в полдень во вторник 1 февраля 1825 года, прибыл со своим хозяином Хансом Янсеном из Теплого Боккефельда на ферму Хауд-ден-Бек в поисках потерявшейся лошади, а также ряд лиц, бывших в услужении у портного и сапожника Жана Дальре, проживавшего там же, в числе коих был обвиняемый Джозеф Кэмпфер и, по всей вероятности, преступник по имени Долли. —
Что изо всех обвиняемых, вовлеченных Галантом в заговор, второй обвиняемый, Абель, играл в нем самую активную роль, используя все возможности для вербовки новых злоумышленников из числа рабов, и действительно вовлек в заговор обвиняемого Клааса, мантора, т. е. управляющего, на ферме Баренда ван дер Мерве. —
Что в ночь с 1 на 2 февраля нынешнего, 1825, года было намечено привести вышеупомянутый умысел в исполнение, как то было решено 30 января, когда обвиняемый Абель и его хозяин проводили ночь в Хауд-ден-Беке (т. е. после того, как покойный Николас ван дер Мерве и обвиняемый Галант вернулись из поездки по соседним фермам); что на следующий день обвиняемый Абель покинул своего хозяина под предлогом, что якобы забыл в Хаудден-Беке лошадиную упряжь, и вечером того же дня вернулся на ферму ныне покойного Николаса ван дер Мерве, направился в хижину обвиняемого Галанта и его сожительниц, готтентотки Бет и обвиняемой, рабыни Памелы (последней в данном случае на месте не было, ибо она по приказу хозяина ночевала в его доме), и нашел там обвиняемого Галанта и обвиняемых Роя и Хендрика (последний был вовлечен в заговор только в описываемый день) уже готовыми действовать и вместе с ними отправился верхом на ферму своего хозяина Баренда ван дер Мерве; прибыв туда ночью, он вместе с обвиняемым Галантом принялся осуществлять преступный умысел, ворвался в дом, выманив у хозяина наружу тем, что выпустил из крааля овец, и захватил два ружья с порохом и пулями, принадлежавшие его хозяину. —
Что первый и второй обвиняемые, Галант и Абель, бывшие соответственно главарем и помощником главаря банды, поделили ружья и амуницию и, в присутствии примкнувшего к ним обвиняемого Клааса, произвели по выстрелу в Баренда ван дер Мерве, который к сему времени благодаря лаю собак обнаружил измену, причем Абель ранил своего хозяина в ногу, а обвиняемый Галант промахнулся; после сего Баренд ван дер Мерве поспешно вернулся в дом, но вскоре вышел оттуда через заднюю дверь и предпринял бегство в горы, будучи одет лишь в ночную рубашку, и был во время бегства еще раз обстрелян первым и вторым обвиняемыми, но без пагубных последствий.—
Что жене Баренда ван дер Мерве по имени Эстер (урожденной Хюго) также удалось под покровом ночи покинуть дом и некоторое время спустя направиться в горы с детьми и, как предполагается, в сопровождении молодого раба Голиафа, не примкнувшего к злоумышленникам; а первые пять обвиняемых вместе с присоединившимся к ним Клаасом поскакали обратно на ферму покойного Николаса ван дер Мерве, хозяина обвиняемого Галанта. —
Что на пути туда первые шесть обвиняемых, хотя они и умышляли убить Жана Дальре, живущего примерно в получасе ходьбы от Хауд-ден-Бека, все же не направились к его дому, дабы не дать возможности Николасу ван дер Мерве приготовиться к нападению из-за выстрелов, которые им пришлось бы произвести, однако осведомились по дороге у старухи готтентотки по имени Роза, дома ли обвиняемый Кэмпфер, намереваясь взять его с собой, как то было заранее уговорено, в ответ на что им было сказано, что вышеназванный Кэмпфер уехал в Ворчестер, чтобы препроводить к ланддросту раба Долли, сбежавшего от своего хозяина несколько дней назад. —
Что, узнав обо всем этом, первые шесть обвиняемых поскакали верхом на ферму покойного Николаса ван дер Мерве, куда прибыли среди ночи, и, расседлав и стреножив лошадей, отправились в хижину первого обвиняемого, где к ним, очевидно, присоединились и обвиняемые Ахилл и Онтонг и где находилась также сожительница первого обвиняемого Бет, по приказу первого обвиняемого ранее оставленная там связанной под надзором Ахилла и Онтонга, дабы она не могла уведомить о замышляемом преступлении своего хозяина. —
Что в хижине разгорелся долгий спор, в ходе которого было решено оставаться там до рассвета, к каковому часу обвиняемые Галант, Абель, Тейс и Клаас направились к хозяйскому дому и заняли заранее условленные позиции под персиковыми деревьями, в то время как Рой и Хендрик присматривали за лошадьми, а Онтонг и Ахилл находились на скотном дворе, дожидаясь там прихода своего хозяина. —
Что, когда они там расположились, покойный Николас ван дер Мерве в сопровождении покойного Ханса Янсена, проведшего ночь на ферме, вышли из передней двери дома и направились на гумно, после чего обвиняемые Галант, Абель, Тейс и Клаас покинули свое укрытие и бросились в дом, причем обвиняемые Галант и Абель устремились непосредственно в спальню хозяина, где, как им было известно, он держал на полке два ружья, о чем им сообщила сожительница обвиняемого Галанта, рабыня Памела, и, пока жена Ван дер Мерве Сесилия находилась еще в постели, успели взять по ружью. —
Что Сесилия ван дер Мерве, увидев это, вскочила с постели и схватила оба ружья за стволы, причем то, что держал Галант, было немедленно вырвано у нее и передано обвиняемым Тейсу и Клаасу, которые оставались за дверью спальни; тогда Сесилия ван дер Мерве, приложив все силы, вырвала второе ружье у обвиняемого Абеля и вышла с ним на кухню, после чего остальные бунтовщики закричали обвиняемому Галанту: «Стреляй»; последний действительно выстрелил из ружья, заряженного дробью, и опасно ранил Сесилию ван дер Мерве в пах, нанеся рану диаметром почти в восемь дюймов и от одного до полутора дюймов глубиной; после сего Сесилия ван дер Мерве упала и была вынуждена выпустить из рук ружье, которым уже успела завладеть и которое взял обвиняемый Галант и вынес из дома. —
Что к обвиняемому Галанту, покинувшему дом, немедленно присоединились Абель, Тейс и Клаас, а затем последовательно Рой, Хендрик, Ахилл и Онтонг. —
Что взятые ими два ружья покойного Николаса ван дер Мерве, одно из которых было без затвора, были розданы обвиняемым Галантом — одно Клаасу, а другое, то, что без затвора, Онтонгу, в то время как обвиняемый Тейс вооружился саблей, похищенной в доме Б аренда ван дер Мерве, а обвиняемый Ахилл — ассегаем, полученным от хозяина для охраны овец; сверх сего обвиняемые обладали к этому времени достаточным количеством пороха и пуль, одна часть которых была отлита из свинца, похищенного вместе с формой для отливки, обвиняемым Адонисом у его хозяина Яна дю Плесси и переданного обвиняемому Галанту во время пребывания последнего на ферме Яна дю Плесси в конце предыдущей недели, а другая — из дроби, которую обвиняемые похитили у своих хозяев. —
Что, пока обвиняемые стояли возле дома, Николас ван дер Мерве и Ханс Янсен, встревоженные звуком выстрела, ранившего жену первого из них, направились к дому, и тогда обвиняемый Абель, ружье которого было заряжено дробью, выстрелил в Николаса ван дер Мерве и ранил его в левую руку или в плечо, невзирая на что Николас ван дер Мерве и Ханс Янсен все же вошли в дом. —
Что вскоре после этого, пока бунтовщики готовились к новому нападению и штурму дома, Ханс Янсен преуспел в бегстве из дома, оседлал лошадь и поскакал по направлению к усадьбе Жана Дальре, но был замечен обвиняемым Роем, оповестившим об этом остальных, и по приказу Галанта за ним бросился в погоню конный отряд в составе Роя, Абеля и Тейса; настигнутый обвиняемым Абелем, скакавшим на хорошей лошади, Янсен был вынужден повернуть обратно к дому Николаса ван дер Мерве, куда и въехал прямо на лошади, после чего дверь за ним была закрыта. —
Что вслед за тем дом был окружен первыми восьмью обвиняемыми, каждый из которых занял заранее оговоренную позицию, выжидая момента, чтобы осуществить свой преступный умысел против Николаса ван дер Мерве и Ханса Янсена, а также против Йоханнеса Ферлее, учителя, прибывшего в Хауд-ден-Бек тремя днями ранее с молодой женой Мартой, чтобы заняться воспитанием дочерей Ван дер Мерве, но первый обвиняемый, Галант, охваченный нетерпением из-за того, что хозяин не открывает дверь, не единожды хотел поджечь дом, от чего его, однако, отговаривали обвиняемые Ахилл и Онтонг, убеждавшие его, что вследствие пожара не только погибнут женщина и дети, но и сгорит все добро; а в то же самое время четвертый обвиняемый, Тейс, предпринял безуспешную попытку проникнуть в дом через окно. —
Что второй обвиняемый, Абель, заметив, что Николас ван дер Мерве производит разведку, выглянув в окно, направил на него ружье и выстрелил, ранив того в голову, после чего Ван дер Мерве приоткрыл дверь и именем Господа попросил сохранить ему жизнь, но тщетно, хотя обвиняемый Абель и заколебался, что и заставило обвиняемого Галанта крикнуть ему: «Стреляй, Абель», после чего Николас ван дер Мерве закрыл дверь, а обвиняемый Галант занял такую позицию, чтобы он мог выстрелить в своего хозяина, если тот снова откроет дверь, вскоре после чего Николас ван дер Мерве, помолившись вместе с женой в спальне, открыл дверь и сразу же был убит обвиняемым Галантом. —
Что Ханс Янсен, видя это, закрыл дверь и направился в кухню, куда пришел также Йоханнес Ферлее и куда из спальни перебралась раненая Сесилия ван дер Мерве и попыталась спрятаться в печи, тогда как бунтовщики обогнули дом и обвиняемый Галант снаружи пробил сначала дыру в печи и вместе с остальными обвиняемыми произвел ружейный залп, вследствие которого вдова покойного Николаса ван дер Мерве вывалилась из печи и упала на пол, после чего обвиняемый Галант взломал дверь кочергой и ворвался вместе с остальными в дом как раз в тот момент, когда Ханс Янсен помогал Сесилии ван дер Мерве выбраться из-под обломков печи. — Что Ханс Янсен, увидев, что жизнь его в опасности, подошел к убийцам и попросил пощадить его, объяснив, что он всего лишь гость, заночевавший в доме, на что обвиняемый Галант ответил, что никому из христиан не будет пощады, ибо всем рабам была к Новому году обещана свобода, но, поскольку этого не произошло, они освободят себя сами, после чего обвиняемый Абель не колеблясь пристает ружье к груди Янсена и убил его одним выстрелом. —
Что в то же самое время Йоханнес Ферлее, схватившийся за ружье Абеля, после того как тот выстрелил в Янсена, был ранен обвиняемым Галантом в руку, вследствие чего Ферлее упал и, как показалось обвиняемым, также умер, после чего бунтовщики обыскали остальные помещения, найдя еще пару пистолетов и запас амуниции. —
Что обвиняемый Клаас, обнаружив, что Ферлее еще жив, сообщил о том остальным обвиняемым, после чего обвиняемый Абель выстрелил Ферлее в грудь, однако, поскольку Ферлее по-прежнему подавал признаки жизни, обвиняемый Галант дал один из пистолетов обвиняемому малолетнему Рою и приказал ему убить Ферлее, сказав при этом: «Застрели-ка его, он еще жив», что обвиняемый Рой и сделал. —
Что во время этих событий Сесилии ван дер Мерве удалось спрятаться под столом в гостиной, где, обнаруженная обвиняемыми Галантом и Абелем, она, услышав, как первый обвиняемый отдает приказ убить ее второму, выползла из-под стола, умоляя обвиняемого Галанта сохранить ей жизнь, ибо она и так уже тяжело ранена, в ответ на что он позволил ей удалиться в спальню. —
Что вслед за этим первый обвиняемый и его сообщники покинули дом, но вскоре вернулись обратно, однако в означенный промежуток времени Сесилии ван дер Мерве удалось выбраться из спальни и укрыться на чердаке, где уже ранее спрятались ее дочери вместе с Мартой Ферлее и ее младенцем. —
Что десятая обвиняемая, Памела, вторая сожительница обвиняемого Галанта, все это время находилась в доме, не оказывая, однако, никакой помощи своей госпоже, а после бегства последней на чердак вернулась в хижину Галанта, где встретила вышеупомянутую Бет (которая вместе с обвиняемым Галантом вошла в дом в начале событий, но помогала своей хозяйке и перевязала ей рану, прежде чем вернуться в хижину) и сообщила ей, что все мужчины убиты, а Сесилия ван дер Мерве вместе с Мартой Ферлее спрятались, после чего Бет вернулась в дом. —
Что, войдя в кухню, она нашла там первого обвиняемого, Галанта, вместе с обвиняемыми Тейсом и Клаасом, последнему из которых Галант дал распоряжение пойти проверить, не на чердаке ли хозяйка с детьми; услышав это, вышеназванная Бет вмешалась и попросила пощадить их, на что Галант ответил угрозой пристрелить и ее, раз она заступается за хозяйку, но исполнить эту угрозу ему помешал обвиняемый Клаас, который вслед за тем отправился на чердак и, увидев бедственное состояние Сесилии ван дер Мерве, сказал ей, что бояться ей нечего и что с ней больше ничего не сделают. —
Что обвиняемый Тейс не постеснялся при этом пригрозить дочерям покойного Николаса ван дер Мерве саблей, а обвиняемый Галант грозил им ружьем, против чего протестовала Бет. —
Что обвиняемый Галант, прежде чем покинуть дом своего убитого хозяина, вскрыл ящик стола, из которого взял недостающий затвор к одному из ружей, и, приладив затвор, отдал ружье обвиняемому Хендрику, после чего, выпив с сообщниками хозяйского вина, вместе с обвиняемыми Абелем, Роем, Тейсом, Хендриком и Клаасом покинул ферму, оставив там обвиняемых Ахилла, Онтонга и Памелу; последняя показала, что перед уходом обвиняемый Галант ударил ружьем ребенка, которого она держала на руках; впоследствии вышеназванная обвиняемая Памела бежала в горы, чтобы, по всей вероятности, согласно предварительной договоренности дождаться там обвиняемого Галанта, тогда как обвиняемые Ахилл и Онтонг оставались на ферме и были арестованы позднее в тот же день отрядом под командой Франса дю Той. —
Что первые шестеро обвиняемых, вооружившись четырьмя украденными ружьями и двумя пистолетами, поскакали к дому Жана Дальре, имея умысел убить также и его, но, найдя дом пустым (поскольку Дальре, предупрежденный о мятеже Барендом ван дер Мерве, который прибыл к нему рано утром, уехал, чтобы присоединиться к отряду Франса дю Той), направились к дому Баренда ван дер Мерве, чтобы убить его, если он там появится; прибыв туда, они обнаружили, что хозяина нет, но встретили там двух готтентотов, Слингера и Вилдсхюта, а также раба по имени Мозес (все трое были в услужении у Пита ван дер Мерве, отца вышеназванных Николаса и Баренда ван дер Мерве), которые пришли туда с пастбища Пита ван дер Мерве, куда накануне бежала Эстер ван дер Мерве; вышеупомянутые Слингер, Вилдсхют и Мозес имели при себе ружья и были посланы сюда, как впоследствии выяснилось, Эстер ван дер Мерве, дабы оказать помощь ее мужу, если в оной возникнет необходимость. —
Что, напуганные превосходящими силами бунтовщиков, эти трое решили присоединиться к ним и, распив вместе с остальными некоторое количество бренди, направились на пастбище Пита ван дер Мерве, где Мозес предпринял попытку к бегству, но был пойман бандой и возвращен назад. —
Что примерно в это время отряд христиан под командой Франса дю Той, прослышав о сих злодеяниях, нагнал и атаковал бунтовщиков, после чего Слингер, Вилдсхют, Мозес и Голиаф сдались, тогда как первые шесть обвиняемых оседлали лошадей и отказались повиноваться, в результате чего вспыхнула перестрелка; в частности, обвиняемые Галант и Абель стреляли в христиан, но никого не ранили, после чего обвиняемые предприняли попытку к бегству, но были схвачены отрядом христиан: сначала поймали обвиняемых Хендрика и Клааса, а затем одного за другим всех остальных, хотя и по прошествии значительного времени — так, обвиняемого Галанта схватили в горах лишь тринадцать дней спустя (часть этого времени он провел вместе с обвиняемым Тейсом, который сначала покинул главаря, но затем снова вернулся к нему), он обнаружил себя тем, что пытался украсть у Жана Дальре овцу, выстрелив при этом в дверь его дома; в конце концов в горах Скурве, неподалеку от фермы покойного Николаса ван дер Мерве, его нашла группа готтентотов, которым он сдался, не оказав более никакого сопротивления. —
Все вышеперечисленные преступления совокупно и каждое в отдельности, учитывая все обстоятельства, заслуживают наказания смертной казнью в назидание прочим, а потому я требую, чтобы все обвиняемые предстали сегодня перед полным составом суда согласно статье шестой Королевского законодательства.
(подпись) Д. Дениссен прокуратура Мыс Доброй Надежды 10 марта 1825 годаЧасть первая
Мама Роза
Знать-то мало. Ты попробуй пойми. Чего только не наговорят теперь в Кейпе хозяева про рабов, а рабы про хозяев. А что толку? Никто не скажет правды. Только свободный человек может сказать правду. Со смертью шутки плохи, смерть штука смертельная. Теперь легко говорить, мол, знаю, да и всегда знала, и вроде бы видела наперед, вроде как видишь тучу, издалека еще, над Грубыми горами, которые тут у них зовутся Скурве, потом над реками и фермами, холмами и лугами, полями и садами, и вот она все ближе, все черней, да как вдарит, как швырнет тебя наземь да продерет до кости. Легко, да и не легко, Ведь с чего начать? С того, как Галант был маленьким, или я, или старый Пит, или моя мать, или еще раньше. Здешний мир стар. Такой же точно он был при моей матери и при ее матери, а может, даже и при матери ее матери. Откуда мне знать? Вначале все было каменным. Нас, койкойнов, племя избранных, сотворил из камня великий бог Тзуи-Гоаб. Здесь, в Боккефельде, по-другому и быть не может, потому что все здесь из камня.
Если дойти до Тульбаха и взобраться на самую высокую гору, то видно станет далеко во все стороны. На семь дней вперед, ибо ровно столько длится поездка в Кейптаун. Вон Столовая гора на мысу, хотя так далеко, что не веришь, что это в самом деле она. А она там в самом деле, и там живут настоящие господа, стоят корабли, причаливают и отваливают, гремит пушка с Львиной горы. А еще видны Пардеберх и Контреберх, замок Рибека и Хунингберх и все до самой Салданы, где уже видно море, а такое и представить в уме невозможно. А еще Пикетберх и всю долину Двадцати четырех рек, что я помню с детства. Если встанешь между восходом и закатом и посмотришь прямо перед собой, увидишь Винтерберх и зеленую долину Ваверен, а справа узкое ущелье возле Витценберха. Это путь в наши горы, Скурве, суровые и страшные, как во дни Тзуи-Гоаба. Земля здесь темно-красная, точно она кровоточит изнутри, а если копнешь — желтоватая и вся изранена обломками серых и черных валунов, раскиданных здесь в незапамятные времена. Красновато-зеленые и бурые заросли, молочай и черные, будто деготь, деревья с пепельно-серой кроной. Полоски пшеницы среди скал. Тут и поймешь, что идешь куда надо и можно не спешить. Места тут высокие, и, когда идешь вот так из Ваверена, кажется, будто уходишь от мира, все вверх да вверх. Когда земля наконец становится плоской, долины остаются такими же узкими и тесными — с двух сторон их сдавил камень. Серый камень с красным пламешком изнутри, отломленный от скал и раскиданный по дороге. Крапчатый от лишайника, поросший кустарником и горьким вереском, с внезапными желтыми вспышками и крошечными голубыми искорками цветов, а выше в горы черный и серый камень, раскрашенный белыми струйками водопадов. Здесь камень идет твердый, сплошной. Камни растут и старятся вроде деревьев, так я думаю, а как состарятся, становятся черными или серыми. Внутри камня остается красное пламешко — камень как бы тлеет и живет в глубине, а снаружи он старый и серый.
Да, горы наши старые, они раскинулись подобно скелету какого-то огромного, давно умершего животного с одного конца Боккефельда до другого, кость на кости, но тверже, чем кости, и мы прилепились к ним. Они наша единственная опора. Они защищают нас от палящего солнца и ветра: тесные долины и лощины, поля и фермы, дома и постройки, пасущихся коров и овец. У вереницы ферм с их домами, строениями и краалями — Хауд-ден-Бек, и Рит Ривер, и Вангендрифт, Винкелхале, Лагенфлей, Бюффелсхук и Эландсфонтейн — вид вполне надежный, но не стоит давать себя одурачить этим. Один-единственный сильный порыв ветра — и все это исчезнет, будто и вовсе не бывало. Белые люди, хонкхойква, гладковолосые, — все еще чужаки в здешних краях. Они все еще носят в себе страх своих отцов, которые умерли на этих равнинах или в мрачных горах. Они до сих пор так ничего и не поняли. Они так и не стали камнем или скалой, вросшей в землю и рождающейся из нее снова и снова, как койкойны. Если тело человека не вылеплено из праха его предков, он чужак.
Они здесь пришлые, белые люди, приезжавшие сюда из Кейпа или из долины Ваверен, появлявшиеся тут год за годом, то в одиночку, то по двое, со времен деда Пита ван дер Мерве; но к тому времени мы, койкойны, приходили сюда и уходили бессчетное число зим и лет. Мы приходили и уходили, свободные, будто ласточки, что прилетают с первым теплом и улетают при первых заморозках — сегодня вечером еще здесь, а завтра утром уже нет, и кто их удержит? Здесь-то они и нашли нас, эти белые люди, когда пришли, чтобы укротить эту землю, как они это называют, чтобы зарыться в нее и понастроить на ней свои каменные стены. Но куда там. Они до сих пор так ничего и не знают о здешних краях, а смерть уже явилась за ними.
Мы из рода койнов, мы-то никогда не думали об этих горах и долинах, об этих длинных пастбищах и топях как о диких местах, которые нужно укрощать. Это белые называли эти земли дикими и считали, что они кишат дикими животными и людьми. Для нас здешние края всегда были дружелюбными и кроткими. Они давали нам еду, питье и кров даже в худшие из засух. И лишь когда сюда заявились белые и принялись копать, ломать, стрелять и изгонять зверей, эти места и впрямь одичали.
Не то чтобы у нас была легкая жизнь. Моя мать часто рассказывала мне, как когда-то наш народ был многочислен, как камни, и свободен, как ласточки; но затем, говорила она, на нас напала болезнь, во времена матери матери моей матери или того раньше, когда Великий Охотник Хейтси-Эйбиб был еще молод, и тогда нас осталась всего горстка, и год от года становится все меньше. И все же еще во времена моей матери мы продолжали приходить и уходить, свободные, словно ласточки или ветер. Зимы здесь суровые, поэтому наши люди уходили в другие края; летом же они возвращались вслед за дождем — всегда находились старики, которые точно знали, когда и куда идти. Мы обычно останавливались на ферме Пита, в Низкой долине, которую он называл Лагенфлей, но, когда наставало время уходить, никто не смог бы нас удержать, а потом мы приходили снова. Только гораздо позже, когда уже умерли мой отец и моя мать, когда нас осталось совсем мало, я обосновалась здесь навсегда. Вначале жила в Лагенфлее, видела, как подрастали у меня на глазах сыновья Пита, Баренд и Николас: кормила их грудью, когда они были маленькие. Потом я перебралась в Хауд-ден-Бек к Николасу. Но во время последней уборки урожая, после того как Пита хватил удар и он все время лежал на кровати, глядя в потолок, не способный ни двигаться, ни говорить, я вернулась, чтобы присматривать за ним, кормить его, переворачивать и мыть: ведь я знаю его с той поры, когда он был молод, знаю, что ему нужно и что нравится. Только его жена, старая Алида, не хотела терпеть меня там — она всегда ревновала его ко мне, и не зря, — вот она и отослала меня обратно в Хауд-ден-Бек. Уж ей-то было известно, что он приходил ко мне еще до того, как она его узнала. Теперь он жалкий и тощий, лежит в своей постели, нахохлившись, будто старый больной ястреб, издавая звуки, которых никому не понять; пальцы его будто когти, тело худое и почти прозрачное, кожа да кости, да еще эта вялая штуковина, похожая на голого птенца в разворованном гнезде. Сейчас Пит стар и беспомощен, но в молодости он был добрым жеребцом, и, когда он обнимал меня, по мне точно судорога пробегала от низа спины до горла и казалось, глаза вылезут из орбит. Да, это он умел, можете мне поверить — я знавала всех мужчин в этих краях, да и не только в этих, ведь, когда я была молода, все они приходили ко мне, чтобы истощить свою силу. Сейчас я состарилась, и они полагают, что от меня никакого проку, а зря.
Страна здесь суровая, женщин мало, а мужчины полны желания. А кто я такая, чтобы идти против жизни? Когда жеребец подходит, дрожа от похоти, я подпускаю его к себе. Мужчинам это нужно, это сохраняет им разум, иначе у них все туманится, их одолевает безумие, и они готовы сокрушить весь мир. Посмотрите на Николаса. Взгляните на Галанта.
Не могу больше молчать о нем. Все пытаюсь думать о другом, но мои мысли все время возвращаются к Галанту. Ведь я вырастила его, и как-никак его можно назвать и моим ребенком, хоть в нем всегда было что-то от дьявола.
Его матерью была Лейс. Она была гораздо моложе меня, почти ребенок, девочка с абрикосовыми грудями; она была чужачкой в нашем Боккефельде. Говорили, будто она родом откуда-то из-за моря, из Батавии, как и Онтонг, — так вот он и пытался утешить ее на свой лад, старый козел. Ведь мужчина всегда мужчина, особенно если женщин сыскать трудно. То же самое и с Питом. По ночам он частенько крался через двор, обычно ко мне в хижину, но порой и к маленькой Лейс. А потом Лейс начала пухнуть. Она была самой молодой из рано созревших девушек в наших краях и хорошенькой к тому же, хоть этого и не разглядеть в темноте; и что-то было в ней такое, что притягивало мужчин. И они не могли противиться этому — вроде как некоторые не могут насладиться цветком, не оборвав его лепестки, или не могут пройти мимо муравейника, не разворотив его. Так же было и с Лейс, девочкой с абрикосовыми грудями; и все мужчины отовсюду приходили, чтобы сорвать ее, так же как они приходили и ко мне. Но мне-то что; а вот она от этого безумела, что еще больше раззадоривало их. Она была точно плод, еще зеленый, но сладкий, и они пожирали его. И вот она начала пухнуть.
Рожала Лейс тяжело. Я была при ней, она больше никого не подпускала к себе. Поначалу я решила, что ребенок родился мертвый, и вот я отложила его в сторону, чтобы помочь Лейс, ведь она была очень слаба, а потом позвала Онтонга, чтобы он вырыл яму и похоронил ребенка. Но он вдруг вернулся, пепельно-серый от ужаса, неся на занемевших руках маленькое создание, остановился, весь дрожа, и сказал: «Посмотри на это, Роза, оно живое». И тогда я увидела, как оно шевелится, извивается, словно щенок. И я взяла его у Онтонга, искупала и приложила к груди — я истекала молоком после смерти моего ребенка, хотя тогда же кормила и Николаса, которому было всего несколько месяцев. Маленький звереныш потыкался слепо в мою грудь своей щенячьей мордочкой, затем нашел сосок и присосался, словно клещ. Я избаловала его с самого начала.
Хорошо, что у меня было молоко, ведь Лейс отказалась кормить его. Она не признала ребенка, не желала даже поглядеть на него, не то что брать на руки. Лежала и плакала день и ночь, пока, как мне показалось, не примирилась. «Не горюй, — сказала я ей, — я выкормлю его, молока у меня хватит». Вроде бы это успокоило ее, но она еще долго болела. Я думаю, она боялась выздороветь, боялась, что мужчины начнут все сначала. Как-то ночью вошел Пит, скомандовав: «Как там с рабыней? Пора и выздоравливать. Я сегодня в настроении». На нем была только ночная рубаха, так что я видела, как с ним обстоит дело; но Лейс повернулась спиной, подтянула колени к груди и завыла, точно собака. Пит собрался было двинуться к ней, и тут он, конечно, был в своем праве: он хозяин. Но когда он проходил мимо меня, я задрала на нем рубаху и основательно взялась за него. Я знаю, как удержать мужчину. Поздно ночью я снова взялась за него, чтобы ему не вздумалось беспокоить Лейс; и когда погасла утренняя звезда, когда пришло время пить кофе и читать псалмы, он вышел из хижины, пошатываясь от усталости, и нет никакой усталости, которая сравнилась бы с этой, уж можете мне поверить.
Я оберегала ее и от остальных. Тело у меня глубокое, и в моем болоте может утонуть целый табун; а если я этим могла помочь Лейс, то тем лучше для нас для всех.
Но Пит бесился все больше и больше, и под конец мне пришлось сказать ему все напрямик. «Если ты возьмешь еще раз Лейс, — сказала я ему, — она умрет. Утопится в запруде». Я видела ее глаза, когда он проходил мимо. Должно быть, потому-то он и продал ее тому человеку из Кару, что проезжал с товарами через Лагенфлей по дороге в Кейптаун.
Для ребенка все обошлось благополучно. Человек, который купил Лейс, вовсе не желал покупать и ребенка, а поскольку Лейс и сама не хотела брать его, он остался со мной. Он был у меня на руках, когда мы глядели вслед удалявшейся повозке, глядели на Лейс, сидевшую сзади словно маленький тюк тряпья, готовый вывалиться при первом же толчке. Странно, что мне уже тогда пришло это в голову, ведь, когда месяц спустя фургон снова проехал через ферму по дороге домой, тот человек сказал, что она и в самом деле вывалилась из повозки, попала под колесо и умерла; он требовал, чтобы Пит вернул ему деньги, но Пит и слышать об этом не желал; в тот день на ферме была жуткая свара, дело даже дошло до пальбы, прежде чем тот человек уехал, — но ребенок и тогда был у меня на руках, прямо держа свою маленькую круглую головку, точно обезьянка. Я поневоле улыбнулась. «Посмотри на него, — сказала я Онтонгу. — Кавалер». Потому-то он и получил имя Галант.
Онтонг помогал мне выхаживать его. Ребенок был единственным, что он мог считать своим собственным в этих краях. А может быть, он и был его собственный, кто знает? Но он мог принадлежать и любому другому, любому из многих, кто приходил отовсюду к Лейс, любому из тех безликих, приходивших ночью и уходивших до рассвета. Но он мог бы быть и от Пита. В таком случае он и Николас были бы двумя ягнятами от одного барана. Ягнятами, сосавшими мое вымя. Но кто я такая, чтобы решать? У Галанта много отцов. У него нет ни одного отца, и все его отцы. Вот что я отвечала, когда меня спрашивали. Но и спрашивать давно уже перестали. Теперь я старая, изможденная и усталая. Каждую зиму мне чудится, будто я умираю, зимы здесь, в Боккефельде, суровые. Но летом я словно снова оживаю, каждый раз заново, подобно прорастающим из земли травам. Мое тело то созревает, то засыхает, смотря по времени года, но корни у меня глубоки и крепки, я вросла ими в скалы. Пит и я состарились вместе. Но с ним уже покончено, а во мне еще есть жизнь.
Пит
Идиотом. Вот кем они меня, черт подери, считают. А все потому, что я лежу здесь вот так. Только потому, что мне не пошевелить языком, они думают, что я ничего не понимаю. Да и откуда им знать о моих мыслях, не замирающих ни на мгновенье, как вода подземных ручьев? Думают, я выжил из ума от старости. Здесь нет места старым и малым. Мол, мы бестолковые, и с нами трудно управиться. Вначале, лежа здесь, я их всех проклинал. Крича в молчании, извергая сполохи серного пламени. А они и не замечали. Разве что старая Роза. Она всегда глядела на меня вроде как с пониманием. Но Алида отослала ее, и, кроме как в день похорон, я ее больше ни разу не видал. А теперь меня оставили умирать. Я отдал себя в руки Алиде. А что было делать? Окон с видом на горы тут нет. А жаль. Было бы славно снова поглядеть на холмы. А так передо мной унылый вельд, сбегающий вниз прямо от порога дома, однообразно-серый, каким он бывает в пору летней засухи. Во времена моего деда долина кишмя кишела дичью. И хищниками тоже. Даже и во времена моей молодости, когда я вернулся в эти края. А когда сыновья были еще совсем молоды, здесь разбойничал одинокий лев. Но он был последний. По ночам с гор еще слышен вой шакалов или истерический визг гиены. Тогда Али да прижимается ко мне крепче. За все эти годы она так и не привыкла к нашему Боккефельду.
«Если б мы жили в Кейпе, этого никогда бы не случилось». Вот единственное, что она сказала после гибели Николаса. А ведь такой удар для нее.
И как представишь, что сделал это не кто-нибудь, а именно Галант. Выросший вместе с моими сыновьями. Но в том-то и дело. Им ни в чем нельзя доверять, их никогда не приручить. Как детеныша шакала, которого принесешь из вельда. Возишься с ним как со щенком. Приручаешь как можешь. И вдруг, когда этого менее всего ждешь, он огрызается и кусает тебя за руку. Здесь во всем какая-то дикость, которую невозможно укротить. А я все думаю.
Господи, да кто бы мог себе такое вообразить: Баренд очертя голову пустился наутек той ночью, когда все это произошло, бросив жену и детей. Эстер и Алида недавно говорили об этом, стоя возле моей постели. Думали, я не понимаю, о чем речь. Считают меня глухонемым. Но я слышал каждое слово, обжигавшее меня, точно раскаленный уголь. Баренду тридцать. Но будь я в прежней силе, я бы расплющил его за это в лепешку. Помчаться в горы в ночной рубахе. Для меня он теперь умер точно так же, как и Николас. И все же я взываю к господу.
Разве я хоть что-то делал не так? Господь поднял на меня свою руку в тот день на пшеничном поле и сокрушил меня. Все померкло, я лишился власти над миром. А когда очнулся, то был уже вот таким. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Абинадава: и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все Израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтоб придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу; и он умер тут же пред лицем Божиим[12]. Я, понятно, и не думаю упрекать Тебя, Господи, но, по-моему, это несправедливо. Ведь тот человек просто хотел помочь. А Ты сокрушил его своим огнем.
Всю жизнь я стремился блюсти Твои заповеди. Спроси у моей жены. Или у моего теперь единственного сына. Или у невесток, Эстер и Сесилии. Спроси моих рабов, любого на ферме. Разве я не читал им Слово Твое, разве не молился о них каждый вечер всю свою жизнь? Разве мы не распевали все вместе псалмы? Разве я не учил их Десяти заповедям и не служил им примером?
У меня никогда не было других богов перед лицом Твоим, и я не сотворял себе кумира: у меня и времени-то никогда не было для такой чепухи. Тут ведь приходится работать с восхода и до заката, а то и того дольше. Я никогда не поминал имени Господа всуе, разве что когда в голове, бывало, помутится от ярости, но тогда у меня на то были веские причины. Я помнил день субботний и соблюдал его — если дела на ферме позволяли. Я чтил отца своего и мать свою, Ты сам тому свидетель. Я не убивал — не убивал без нужды. Несколько разбойников-бушменов в пору моей молодости — но ведь они пытались стащить овцу. Порой рабы приводили меня в такое бешенство, что я готов был убить. Но всегда умел остановиться вовремя. Прелюбодеяние? Но с тех пор, как я взял в жены Алиду, я не знал других женщин. Во всяком случае белых, о других-то в Библии ничего не сказано. Другие на то и сотворены, чтоб немного поразвлечь нас в этой суровой стране, иначе вся жизнь наша была бы сплошные тяготы и муки. Я никогда не крал, Господи, и не произносил ложного свидетельства на ближнего своего: по правде говоря, чтобы избежать неприятностей, я всегда старался держаться от ближних подальше. Я никогда не возжелал ничего, что есть у ближнего моего. Его жена, его вол, его осел, его рабыня — что мне до всего этого? У меня и своих рабынь хватало.
Так чем же я прогневал Тебя? Я хочу услышать Твой ответ мне, когда предстану пред Тобой.
Вот я лежу тут совершенно беспомощный, и Алиде приходится кормить меня с ложки. Но раньше все было не так. Да и сам мир был иным. Во времена моего деда. И моего отца. И даже во времена моей молодости. Я частенько думаю: в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им — это сильные, издревле славные люди[13]. Так почему же потом все переменилось? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки[14].
Сто лет назад, мне рассказывал это отец, мой дед Ван дер Мерве, поругавшись с ланддростом, уехал из Тульбаха и перебрался в эти края; он застолбил приглянувшийся ему участок земли, проскакав в седле от восхода солнца до заката. По прошествии времени прибыли посыльные, чтобы вызвать его в суд. А после них целый отряд драгун. Но дед вышвырнул их всех со своей фермы. «Здесь ваше слово — ничто, — заявил он им. — Никто, кроме меня, не смеет здесь что-нибудь сказать». Потому он и назвал эту ферму Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку». В ту пору ферма включала в себя не только Лагенфлей и то, что нынче зовется Хауд-ден-Бек, но и все земли до Вагендрифта и дальше по изгибу до самого Эландсфонтейна.
Но прошло несколько лет, и начались засухи, одна за другой, дети принялись болеть, и тогда дед погрузил свой скарб в фургоны и покинул эти места, направившись в Свеллендам. И все же в семье никогда не умолкали разговоры о той далекой долине высоко в горах: о тамошнем вольном житье, об удивительно плодородной почве. По рассказам стариков, то был сущий рай, и представление это глубоко запало мне в душу. Я всем сердцем привязался к Хауд-ден-Беку задолго до того, как ступил на его землю. То была земля, власть над которой была ниспослана мне свыше, по воле Господа и моих предков. И потому я все-таки вернулся сюда, чтобы вышвырнуть самозванцев, незаконно обосновавшихся на ферме, и выкупить остальные земли (только Вагендрифт так и остался в чужих руках), чтобы восстановить обвалившиеся стены и заново распахать поля. Это было уже после смерти Хендрины. Я женился на ней в Свеллендаме, эту девушку выбрал мне в жены отец, а когда она умерла родами, я многие годы не видел проку жениться еще раз. Лишь вернувшись сюда и приведя в порядок ферму, я почувствовал, что пришла пора подыскать себе новую жену. Мужчине не дело жить в одиночестве, ведь и в садах Эдема Господь сотворил женщину ему в помощь и в утешение. И вот я отстроил дом, распахал поля, подрезал деревья и привел в порядок пастбища, а после нагрузил два фургона и отправился в Кейптаун, чтобы привезти себе жену да купить черенки и саженцы деревьев: персиковых, сливовых, абрикосовых, грушевых и фиговых, айвовых и гранатовых, да еще дубов, ив и тополей, чтобы защитить от солнца эту сухую землю.
На дороге за Витценберхом один фургон развалился. Пришлось все перегрузить в оставшийся, который теперь тащили две упряжки волов. На крутых спусках снимали задние колеса. Путешествие растянулось на целых десять дней. С наступлением сумерек расположились на ночевку на берегу реки Солт, а на заре въехали на Фармер Сквер. Я аж рот разинул от изумления. Даже в те дни Кейп выглядел внушительно. Улиц двадцать, не меньше, мощенных булыжником и пересекающихся под прямыми углами. Дубы Херенхракта на всем пути к Горе. Отштукатуренные белые дома с карнизами и высокими верандами, в тени которых сидели мужчины, беседуя, покуривая и выпивая. Рынок. Виноград и дыни, груши, финики и гуавы, грецкие орехи и миндаль, каштаны. Я привез бушель вишни со старых деревьев на ферме — вишни здесь редкость — и выручил неплохие деньги. Два корабля в гавани, полощущиеся на ветру паруса и поскрипывающие мачты. Чайки. Моряки, с важным видом переступающие негнущимися ногами и предлагающие пачки долларов за листовой табак и бренди, если ты умудришься контрабандой протащить их под ястребиными взорами агентов Ост-Индской компании. На Грин Пойнт просто красота. Коляски на зеленой траве. Скачки. Женщины в заморских нарядах. Готтентоты, кучкой стоящие в стороне, покуривая и поглядывая на все сквозь узкие щелочки век.
Это Алида привела меня туда. Племянница дяди Джона де Филлирса, о котором много лет назад мне говорил папа. «Ну что, Алида, может, поводишь Пита по городу? Наверняка он еще ничего не видел». Нежное, восхитительное создание. Взгляд из-под зонтика — робкий и насмешливый. В те дни она еще была помолвлена с чванливым молодым чужеземцем в щегольском наряде, неким Дальре. Вскоре дала ему от ворот поворот. Бедняга ползал на четвереньках в гостиной, кусая в отчаянии ковер.
Раз ночью нарвал ей букет роз в губернаторском саду. Меня остановила стража. Послал их ко всем чертям и удрал с цветами. И подумать только, на следующий день является отряд солдат, чтобы забрать меня. Дядя Джон весь багровый от возмущения и ужаса. «Пит, как ты мог так опозорить нас?» Алида хотела было удержать меня, но я оттолкнул ее и прорвался через кордон. А той же ночью прокрался обратно. Около девяти наружные двери открыты, гости выходят, спеша добраться домой до комендантского часа. Фонари, покачиваясь, расходятся в разные стороны во тьме. Голоса прощающихся: «Спокойной ночи». Несколько запыхавшихся готтентотов и рабов пробегают мимо, боясь нарваться на ночной дозор. Бум-бум, бум-бум — промаршировали по булыжнику солдаты, уходя все дальше и дальше. И под конец лишь шум моря да случайный крик совы в саду.
Напугал ее до смерти, когда постучал в ставень. Пыталась не пустить меня, пока я влезал в низкое окно. Я обнял ее. Черные волосы, рассыпавшиеся по спине. Маленькая ночная лампа на низком столике. Свет розовато просвечивал ее ушки, когда она отвела голову. «Пит, мы оба попадем за это в ад».
Я увез ее. На мое счастье, ночь была лунная. Бешено гнали волов через Кейп Флэтс. В фургоне Алида рыдала и колотила меня своими крошечными кулачками, пока я пытался успокоить ее, но я одной рукой ухватил оба эти кулачка и утихомирил ее. Когда она снова начала всхлипывать, то были уже другие слезы. Всю ночь фургон раскачивался и скрипел под нашими телами, единственный фонарь бешено мотался под брезентовой крышей. Будто во сне. Мне все казалось, вот сейчас проснусь, а ее со мной нет. А когда я в самом деле проснулся, было уже светло.
Несколько месяцев спустя из Кейптауна заявился судебный пристав, присланный родственниками Алиды. Я вышвырнул его с фермы. Пожалуй, мне повезло, что как раз в то время англичане захватили Кейптаун, во всей неразберихе, начавшейся после этого, родичам, конечно, стало не до нас. Мы дали им целый год на то, чтобы прийти в себя и смириться с волей господней, а потом пригласили на свадьбу в Тульбах, куда мы привезли крестить маленького Баренда. Ну и свадьбу мы зато закатили! Гости понаехали отовсюду. Многих мы прежде и в глаза не видали. На лошадях, в телегах, в фургонах. Кое-кто на своих двоих, и каждый со своими припасами и выпивкой в подарок. Целое стадо быков, зажаренных на вертелах. Ягнята и поросята. Дичина: антилопы, дикие козлы, фазаны, дрофы, дикие утки, все живые двигающиеся твари, чистые и нечистые, согласно Писанию. Пировали неделю подряд. А когда все выдохлись так, что и шевельнуться не могли, я кликнул Розу, чтобы та сплясала для нас свой дикий танец-вихрь. Какое тело было у нее тогда! Странная порода эти готтентоты — красивые и гладкие лет до тридцати, а потом вдруг стареют в одну ночь. Не прошло и десяти лет, как Роза превратилась в старую каргу. Но тогда, на нашей свадьбе, она еще сверкала: гладкой красотой, полудикарка в узкой кароссе на бедрах. Потом скинула и кароссу и голая танцевала среди мужчин, груди ее дрожали и подпрыгивали при каждом движении. Бренди лилось рекой, все мужчины сплясали по очереди с Розой, кое-кто, правда, уже не держась на ногах. Под конец упились даже цыплята. Двоих гостей пришибли в потрясающей кутерьме, у музыкантов не оставили в целости ни одного инструмента. Повытряхивали на дворе весь пух из перин и переломали почти все столы и стулья. Даже стог сена сожгли. Воистину, длань господня простиралась над нами.
Потом все кончилось. И с той поры мы оставались вдвоем с Алидой, живя в страхе божием и трудясь в поте лица своего, утешая друг друга тем, что оказались не бесплодны, размножаясь, населяя эту землю и укрощая ее. В те времена, куда бы я ни поглядел, все было моим. И ферма, и пастбища, и горы, и охотничьи угодья. Мы были здесь хозяевами — я и мои сыновья. Все, что нам было нужно, даровалось нам Господом да еще нашими руками и нашими ружьями, как летом, так и зимой.
Мы регулярно ездили через горы в Тульбах и в Ворчестер, чтобы продать страусиные перья, яйца, шкуры и прочие продукты и купить патроны, одежду, все, что мог предложить нам город. Но в Кейптаун наведывались редко. Как-то раз я взял туда и Алиду, но увидел, что ей от этого только хуже. В крови у нее все еще шумело море, и на нее тяжело подействовало возвращение к нему. Должно быть, мы жили вовсе не так, как ей хотелось бы. Но она всегда была мне доброй и послушной женой, так что я не жалуюсь.
Одну свою поездку в Кейптаун я помню особенно хорошо. Это было в октябре, не скажу, в каком именно году, пожалуй, Баренду было тогда около четырнадцати, а Николасу лет десять. И Эстер в то время уже жила у нас. Она оставалась дома с Алидой. Едва мы успели добраться до Кейпа, как поползли слухи о рабах, взбунтовавшихся в Куберхе и Свартленде. Подбили их на это вроде бы два ирландца, которые задурили им головы своими россказнями о свободе. Чего еще ожидать от чужеземцев? Слухи были жуткие: тысячи взбесившихся рабов, которые, грабя и убивая, переходили от фермы к ферме и двигались к Кейптауну, чтобы спихнуть всех нас в океан. Каждый, рассказывая, прибавлял от себя что-нибудь еще более ужасающее и невероятное. Как потом оказалось, почти все было пустой болтовней. Если память мне не изменяет, суть дела заключалась в том, что несколько зачинщиков собрали людей и шли от фермы к ферме, связывая и запирая белых фермеров, воруя ружья и патроны, обжираясь и напиваясь, а потом это пьяное и оборванное воинство выползло на дорогу к Кейптауну, где всего лишь за час в пух и прах было разбито отрядами регулярной армии. Пустячная история. Зачинщиков, как я слышал, повесили, остальных выпороли и отправили в тюрьму, вот и все. И столько беспорядков из-за одного-единственного ложного слуха о том, что правительство будто бы решило освободить рабов; а когда в некий, якобы назначенный день ничего не произошло, они сорвались с цепи. Нелепо и бессмысленно. И все же мне никогда не забыть того дня.
Толпящиеся на улицах люди. Женщины с зонтиками. Рабы с тюками на палках. Кучера, стоящие по обочинам. Весь город будто развороченный муравейник. Продавцы в лавках забывали взять деньги, а покупатели оставляли уже купленный товар. Рыночные лотки брошены без присмотра. Жизнь быстро уходила с улиц. Вот еще несколько кучек людей, о чем-то испуганно переговаривающихся, а потом исчезают и они. Мимо проскакали солдаты. Прогрохотали копыта лошадей. Двери заперты на засовы, ставни на окнах закрыты. Над городом, подобно тени от тучи, скользит тишина. Будто чья-то огромная невидимая рука прямо у тебя на глазах стерла рисунок на песке. Ощущаешь себя чужаком и самозванцем. И только вдали, у моря, еще слышатся крики чаек. Но вот смолкают и они.
Оставаться тут дольше я не собирался. Даже после того, как стало известно, что все кончено, и люди снова весело высыпали на улицы. Я велел сыновьям садиться в фургоны, и мы двинулись обратно, везя домой все, что купили и выменяли в городе, — бакалею и патроны, сукна и ситец, медную проволоку, скобяной товар и раба Ахилла, купленного как раз перед тем, как началась вся эта неразбериха. Изрядные деньги заплатил я за него, поскольку после запрета правительства ввозить новых рабов цены тут же подскочили до небес.
Чудовищно долгая дорога домой, но весь путь, помню, я промолчал, не сказав ни слова ни сыновьям, ни рабам. Ибо случилось нечто страшное, хула на самого Господа, повелевшего, чтобы сыны Ханаана вовеки пребывали рабами сынов Сима и Иафета. Я молча сидел в фургоне, зажав трубку в зубах и не отводя глаз от однообразного ландшафта. После того как опасность лишиться всего была так близка, даже знакомые места казались какими-то иными. Черепообразные очертания гор Парл. Зеленые долины по обе стороны голубого горного хребта. Олд Клоф. Шлагбаум у Родензансклофа. Из низкой долины Ваверена дорога вверх в эти труднопроходимые горы, через узкую гряду Рие-Витценберхе, по Скурвеберхе и дальше, в нашу высокогорную долину. Ферма. Но даже собственный дом показался мне странно чужим. Я едва узнал хрупкую женщину со стянутыми в узел темными волосами, которая вышла нам навстречу. Будто кто-то неведомый побывал и тут и от его прикосновения все вдруг сделалось прозрачным, проступили вены, внутренние органы и скелет.
Алида подошла поздороваться, но я отмахнулся от нее. Было нечто куда более срочное и важное. Я приказал мантору собрать во дворе всех работников, даже тех, кто пас овец далеко в вельде. Молча ждал, пока они не вернулись. А потом привязывал одного за другим к переднему колесу фургона и приказывал мантору сечь всех подряд — мужчин, женщин, детей: тридцать девять ударов взрослому и двадцать пять ребенку. Напоследок сам высек мантора. И только после того, как каждый получил свое, я наконец заговорил. «Пусть это послужит вам уроком, — сказал я им. — Вспомните о нем, если вам вдруг вздумается бунтовать против меня. А теперь за работу, и чтоб все было доделано». Потом пошел домой, поцеловал Алиду и сел за стол.
Всю жизнь у меня не было никаких трудностей с рабами. А теперь меня так постыдно опозорили мои собственные сыновья. И все из-за Галанта, который вырос, можно сказать, почти как родной у меня на ферме. О Господь всемогущий, не оставь без внимания раба Твоего Иова.
Галант
Высоко в горах, на скале, есть отпечаток человеческой ноги. След бушмена или койкойна, говорит мама Роза, впечатанный на заре этого мира, когда камень был еще мягким, а может, и след самого Хейтси-Эйбиба, Великого Охотника, из ее бесчисленных рассказов, или же Тзуи-Гоаба, когда тот сошел на землю, чтобы сотворить человека из камня. Этот след мне снится. Только подумать, что оставляешь памятку о себе вроде этой — в камне, навеки, наперекор ветру и дождю. А моими следами испещрены все окрестности Боккефельда, вдоль и поперек, следами мальчика и мужчины. На фермах Лагенфлей и Хауд-ден-Бек, в вельде через впадины и каменные хребты, вверх по неровному склону и дальше в горы. Следы, оставленные мной на пути в Кару с Онтонгом, Ахиллом и стадом, когда мы искали теплые пастбища. Следы, оставленные в поисках отбившихся от стада овец или разбойничающих хищников, включая и того самого льва. Следы на пути к запруде, мои, Николаса и Баренда, и следы узких ног Эстер. Все четверо ходили тогда босыми. Кроме как по воскресеньям или когда наезжали гости — тогда их следы имели форму башмаков.
— Мама Роза, почему ты и я всегда ходим босые?
— Потому что так надо.
— Я хочу башмаки, а то колючки.
— Башмаки носят только хозяева.
Следы. Следы. Через горы в Тульбах, в Ворчестер, порой следы окровавленных ног. Следы беглеца. Следы возвращающегося домой. Но все эти следы невидимы, стерты ветром и дождем. Они есть, но их нету. Нет отпечатка, оставшегося в камне навеки.
Посмотрите на мои ноги. Посмотрите внимательно на каждую царапину, шрам и мозоль от кончика пальца до пятки — крепкой, твердой, как рог. Все мои странствия по Боккефельду видны на них: зимой и летом, в засуху и в мороз. Все отпечаталось: трава и камень, горы и равнины, земля и вода, дом и поле, — все. Ногами я привязан к этому миру, и от него не уйти.
Я не могу сказать: это, а потом то, а потом вот это. Все следы видны сразу. Взгляните на мои ноги.
Они всегда возвращаются к маме Розе. Мама Роза пахнет Кизяком и травами, теплая, как каросса, защищающая тебя от мира, дарующая покой, как наполненный ароматами чердак. Мама Роза с ее снадобьями против любой болезни. Бучу от недержания мочи, недотрога, чтобы полоскать горло, дикий чеснок от крупа, чай с медом для бодрости, горький корень от колик, дагга, когда воспалятся глаза, алоэ от живота — на все у нее что-нибудь да найдется. И еще рассказы, тоже на все случаи жизни. Тут и водоросли, которые не смей трогать, ведь это духи девушек, обидевших дождь: к дождю следует относиться почтительно, а не то он пошлет молнию, убьет тебя и обратит в траву на болоте. Тут и лунатики, разгуливающие во тьме со своими совами и бабуинами, расхаживающие задом наперед и приносящие болезни непослушным детям. Тут и женщины-лунатики, что приходят к мужчине во сне и вытягивают из него семя, отчего по утрам он чувствует себя слабым и больным. И лунатики-мужчины, что приходят по ночам к женщине, чтобы заронить в ее лоно семя мертвого ребенка и перевернуть в ней все так, что она больше и не взглянет на обычного мужчину. Тут и Тзуи-Гоаб, что сотворил весь мир и всех людей, а еще и дождь, и солнце, и ветер, и огонь. И Гаунаб, что живет во тьме и вершит все ночные дела. И еще Птица-Молния, что выжигает траву там, где хочет положить свое яйцо, зарыв его поглубже в землю, где влажно. Там оно и лежит все время, понемногу разбухая, пока тучи вновь не загрохочут над землей, и тогда из него вылупляется новая Птица-Молния. Вспышка молнии — слюна ее, тучи — ее темные крылья, раскинутые над миром. Вот что рассказывала мама Роза. А если я никак не мог заснуть, она прижимала меня к себе покрепче и, кудахча словно наседка, нежно поглаживала меня до тех пор, пока я не уплывал, подобно облаку над горами, все дальше и дальше, дальше, чем Кейптаун, о котором мне рассказывал Николас, дальше всего, что есть на свете, — и засыпал.
Мама Роза всегда рядом. Вот я привязан к ее спине, а она ползает на коленях, надраивая пол, или наклоняется над плитой, чтобы снять медные горшки или черный чайник, и как бы укачивает меня. Она рядом и в ту пору, когда я начинаю помогать по дому, раскладывая по местам ножи и ложки из мойки или наполняя хворостом большой квадратный ящик возле плиты, работая под внимательным взглядом старой хозяйки, Алиды. А потом работа во дворе. И вот уже мои следы остаются тут, на земле. Ферма надевает на меня свое ярмо. «Работай хорошо, и мы поладим, — говорит старый баас[15], — а станешь дерзить или отлынивать, будет порка. Понял?» — «Понял, баас». И теперь уже не мама Роза, а Онтонг присматривает за мной и приучает к работе. Но она по-прежнему рядом, к ней всегда можно вернуться.
Поначалу работа не сложная. Собираешь хворост или кизяк. Кормишь цыплят и не пускаешь их в огород. Летом отгоняешь птиц от пшеничных полей и садов: солнце печет так жарко, что все плывет у тебя перед глазами, пока ты шагаешь то вверх, то вниз по склону, грохоча палкой по ведру и крича что есть мочи. Задолго до восхода солнца принимаются трещать цикады и так и трещат дотемна на одной-единственной ноте. Рубашка прилипает к спине, будто старая, ссохшаяся шкура. А доплетешься на закате до дому, пора помогать Ахиллу доить коров. А что уж говорить о яйцах; когда куры несутся в гнезда, все в порядке. Но если наседки разбежались, значит, нужно бродить по всей ферме, ища яйца, до самой ночи — порой только ради того, чтобы узнать, что их утащила выдра или игуана. Все тело ноет, когда тащишься к хижине мамы Розы: дверь приоткрыта, и внутри темновато-желтым светом горит свеча. Ты так вымотан, что и есть неохота. Лишь бы поскорей лечь да заснуть. Но чаще всего ты тут уже лишний, какой-то мужчина занял твое место возле мамы Розы, и придется устраиваться где-то еще. Иногда ночью к ней наведывается и сам хозяин, тогда она предупреждает меня, чтобы я не приходил домой, а перетащил свою кароссу в хижину Онтонга. Летом я просто укладываюсь спать в траве возле канавы, лежу на спине и смотрю на звезды, луна порой такая яркая, что кажется, будто она светит у тебя в голове. Но едва сон унесет тебя вдаль, как уже слышишь голос мамы Розы:
— Галант, утренняя звезда гаснет. Не заставляй хозяина ждать!
Во время жатвы я иду по следам жнецов, подбирая колосья, оброненные нерасторопными работниками. Но вот я и сам среди них, а это уже нешуточная работа. Согнувшись, размахивая рукой и раскачиваясь всем телом, продвигаешься вперед с каждым новым взмахом серпа, стараясь не отставать от остальных: пока день еще только нарождается, все красуются друг перед другом, стоит кому-то оплошать, и насмешкам не будет конца. Но чем дольше тянется день под этим палящим солнцем, тем молчаливей становятся мужчины. Тяжкое дело — идти вровень со всеми, чуть только отстанешь, как управляющий тут же хлестнет тебя по спине или по заду — сначала просто поддразнивая, предупреждая, но, стоит ему заподозрить, что ты отлыниваешь, тонкий бич сразу оставляет на коже красный рубец, даже через рубаху или штаны, и место это горит у тебя до самой ночи. Как только пшеница сжата, ее грузят на телегу, накрепко увязывая воз, чтобы он не развалился от качки на пути к сараю, где его хорошенько просушат во время рождества.
В первый же ветреный день сразу после Нового года приступают к обмолоту. Эта работа мне больше всего по душе. Гляди в оба, когда идешь рядом с лошадьми, не то они затопчут тебя вместе с пшеницей. По грудь в соломе, круг за кругом, огромные копыта, грохоча, проходят мимо тебя. До тех пор, пока хозяин или управляющий не решат, что время кончать. Раздается крик: «Уводи лошадей!», а как только их уведут, доносится новый: «Перекидывай!» Руки, кажется, отламываются от плеч, когда поднимаешь и переворачиваешь вилы с колосьями и мякиной. Солому убирают длинными деревянными граблями, ее становится все меньше и меньше, зерно делается все чище, пока наконец оно не готово для веялок, свист которых будет преследовать тебя даже по ночам в самом глубоком сне. И вот — сильный западный ветер дует теперь уже непрерывно — начинают веять, маленькие крапчатые облачка мякинной пыли висят в воздухе, пока их не унесет ветром, а тяжелое зерно падает на землю. Зачерпнешь лопату — бросишь, зачерпнешь — снова бросишь. Похоже на танец. Пот покрывает все тело, лица серые от мякины, на них влажно поблескивают глаза. В горле пересыхает, но передохнуть нет времени. Раз ветер дует, нужно веять, пока не отсеется последняя грязь и мякина, пока зерно не будет ссыпано в мешки и перенесено на чердак. Это последнее испытание: ты не мужчина, если тебе не под силу подняться вверх по каменной лестнице с полным мешком на плечах. «Хоп! Ля!» И вот он уже сброшен на пол и уложен вместе с остальными.
Жатва и молотьба всегда начинаются в Лагенфлее, потом мы переходим дальше, идем вокруг горы, мимо Хауд-ден-Бека и дальше, до самого поворота на Вагендрифт. С одной фермы на другую. Если ты прошел в страду через все фермы, можешь быть уверен, что мужская работа тебе по плечу.
Уборка окончена, год потихоньку идет на убыль, впереди только сбор бобов и винограда; но в наших краях винограда давят немного, не сравнить с тем, что бывает в эту пору за горами, на виноградниках в Тульбахе и Ворчестере. У старого бааса его ровно столько, чтобы хватило на пару бочонков бренди. Как только сусло начинает бродить, гудя и жужжа, будто осиный рой, хозяин сам присматривает за ним. Два-три дня он вовсе не приходит домой, ест и спит возле перегонного куба, если вообще спит. Через неделю, когда он проверяет, готов ли бренди, к нему, как к раненому буйволу, не подступишься. Но для нас все равно настают славные денечки: хозяин не скупится на выпивку.
В это же время идет уборка бобов, сбор и сушка фруктов; ласточки уже собираются стаями на утесах, первый мороз по утрам покрывает белыми пятнами траву, ломкую под ногами. Теперь пора заготовлять большие кучи кизяка и дрова — хорошие твердые поленья, которые будут потихоньку тлеть всю долгую холодную ночь, — ведь зима всегда приходит к нам в Боккефельд внезапно: краали и стойла должны быть утеплены для скота, который будет зимовать на ферме, пока мы погоним овец на теплые пастбища Кару. Оставшиеся дома мужчины станут корчевать новые участки буша и сжигать кучи сухого кустарника; не успеет еще утихнуть холодный северо-западный ветер, как начнется вспашка. И возобновляется привычный круг; ступни ног коченеют и трескаются от мороза, а на кончике носа вечной сосулькой висит капля. И так без передышки. Но во всем этом есть и нечто благотворное: зима и лето приходят и уходят в свой черед, и ты шагаешь с ними в ногу, и твоя мерная поступь подобна непрерывному биению сердца. Тебе не вырваться из этого круговорота, но он же и дает тебе силы двигаться дальше. Конечно, всякий год хоть чуть да отличается от другого. То чудовищная гроза или наводнение, то внезапная буря или засуха, то вдруг скот вырвется из краалей и разбежится по вельду, потом перемерзнут овцы или цыплят хватит солнечный удар, то, откуда ни возьмись, явится леопард и задерет ягнят или телят, то стада антилоп и диких козлов пронесутся в облаках пыли по полям или бабуины совершат опустошительный налет на сады, то прорвет плотину, то кто-нибудь покалечится ненароком или вовсе погибнет, то чей-то ребенок свалится в котел с кипятком… Каждый год случается что-то неожиданное, новое, другое. Но круговорот времен года остается неизменным. Зимой пастьба и пахота, весной посевная, летом уборка пшеницы, осенью сбор бобов и винограда. А потом снова все сначала.
Хозяин сам приглядывает за тем, чтобы я основательно обучился всему, дает мне то одну работу, то другую, будто испытывая, на что я годен. Несколько зим подряд он отправляет меня с пастухами на пастбища, через Блэк Хиллс, на поросшие кустарником равнины Кару. Вместе с мальчишками я хожу на охоту, мы по очереди стреляем из большого ружья, и если попусту изведешь свинец и порох, то порка неминуема. Я вожу волов, пару раз мне даже позволяют править фургоном, размахивая длинным бичом из носорожьей кожи. За волами ходит Ахилл, а вот ездить верхом и обращаться с лошадьми учит меня Онтонг. Мне нравится править фургоном, легкий взмах плеткой или пара окриков — и волы трогаются: поскрипывают хомуты, поводья туго натянуты; и все же ничто не сравнится с лошадьми. С первого дня я в мыслях считаю их своими, часами вожусь с ними, а когда говорю им что-то, кажется, будто они понимают каждое мое слово.
Серый жеребец. Я не спускаю с него глаз с того дождливого утра, когда я, спозаранку, без помощи Онтонга, сунул руку в кобылу, чтобы помочь ему выбраться. Дикое создание, сущий дьявол, рожденный для вельда и гор, а вовсе не для двора и стойла. Когда я смотрю на него, все во мне ноет от мучительного желания владеть им. Глубокой ночью он скачет по моим снам, ниоткуда и никуда, дикий как ветер. Но он достанется Баренду. Почему Баренду, черт побери? Что Баренд понимает в лошадях? Этот жеребец свернет ему шею.
— Сегодня будем объезжать Барендова коня, — говорит как-то утром хозяин. У меня перехватывает дыхание, будто молнией ударяет в живот. Барендов конь? Он мой. Мой серый жеребец!
Чтобы укротить лошадь вроде этой, ей за неделю до того нужно опутать ноги. Но этот жеребец ни разу никого и близко не подпустил к себе. Так что сегодня решится все.
— Бери его, Баренд, он твой, — приказывает хозяин. Баренд от страха готов в штаны наложить, это ясно, но он не подает и виду, желая покрасоваться перед отцом. Серого держат четверо крепких мужчин, но он без малейших усилий швыряет их из стороны в сторону, словно полупустые мешки. Баренду не сразу удается взобраться на него, но едва только он усаживается в седло, как жеребец подбрасывает его кверху, и он, кувыркаясь, падает и пропахивает глубокую борозду в навозе.
— Давай, Баренд, еще раз!
От хозяина легко не отвяжешься. На этот раз жеребца пытаются удержать подольше. Баренд успевает подтянуть колени и крепко упереться пятками в огромные бока лошади. Но жеребец снова дергает шеей, вскидывает задние ноги и сбрасывает его на землю — Баренд приземляется в навозе возле деревянной калитки.
— Ну, Баренд, давай снова. Что это с тобой?
После третьего падения Баренд отказывается пробовать дальше, не побоявшись даже отцовской плетки. На его перепачканном навозом лице видны бороздки от слез.
— Теперь пробуй ты, Николас.
Николас на четыре года моложе и куда слабее Баренда. Даже не успев сесть на лошадь, он уже снова жалким комочком лежит на земле. Теперь очередь Онтонга, хватка у него крепкая, укрощать лошадей он, говорят, научился еще в Батавии. Один-единственный дикий галоп по краалю — и Онтонг тоже на земле; и прежде чем жеребца успевают схватить, он перемахивает через ограду и исчезает. Целых два дня уходит на то, чтобы выследить, поймать и привести его обратно.
И снова хозяин приказывает Баренду садиться на лошадь. А когда тот грохается головой вниз, в навоз, хозяин сильно хлещет его бичом по торчащей заднице. Еще одна попытка — и он снова падает с глухим стоном. Теперь, даже хлыст не может заставить его влезть на лошадь. После него пробует Николас. Потом Онтонг. И каждый раз, когда всадник летит в воздух, радость распирает меня, и я кричу беззвучно: так их, так их, мой хороший, скидывай всех, ты же мой!
И вдруг хозяин говорит:
— Теперь твоя очередь, Галант.
Я цепенею от нахлынувшего страха. Ноги подкашиваются. Разве можно скакать верхом на молнии или на ветре?
— Он и ездить-то на лошади не умеет, — бормочет Баренд, трясясь от злобных рыданий и потирая содранное колено.
— Пускай попробует.
— Он убьется насмерть, — встревоженно говорит Онтонг.
— Ерунда. Пускай попробует.
Они крепко держат жеребца, а я вскарабкиваюсь ему на спину, петлей закручиваю вокруг запястий поводья и, слегка обхватив его бока ногами, подтягиваю кверху колени. Перед глазами все как в тумане, тошнота подкатывает к горлу, но мне все же удается выдавить из себя:
— Порядок, отпускайте его.
Молнией срывается он с места. Впившись в него как клещ, я изо всех сил стараюсь удержаться, пока он делает первые круги по краалю. На короткий миг, от которого у меня перехватывает дыхание, кажется, будто у него выросли крылья и мы парим над изгородью и горами. А затем снова падаем вниз, и я сильно ударяюсь задом о седло, едва не раздробив себе кости. Потом еще один полет и падение, во рту появляется привкус желчи, в глазах темнеет. Но пока что мне удается держаться, и я твержу про себя: не отпущу тебя, хоть убей. Он опять взлетает. И опять вниз, голова втянута, задние ноги вскинуты. Мои руки вот-вот вывернутся из суставов. Но я держусь.
Он бросается к воротам, явно собираясь с размаху удариться о них и расплющить меня в лепешку. Но как раз в эту секунду кто-то распахивает их, кубарем откатываясь в сторону. И мы скачем прочь. Я еще не видел лошади, которая скакала бы, как эта. Громыхая копытами по вельду, выжимая потоки слез у меня из глаз. И вдруг внезапно застывает на месте, едва не сбросив меня через голову. Еще одна схватка: жеребец бешено взбрыкивает и встает на дыбы. А потом устремляется к запруде, грохотом копыт заглушая все вокруг. Ну что ж, думаю я, утопи меня, если хочешь. Все равно не сдамся. Я уже чувствую в нем какое-то новое неистовство и понимаю, что он тоже боится — он боится меня. На всем скаку влетаем в запруду, нас окатывают брызги воды и тины. Если он вдруг вздумает перевернуться, он утопит меня. Но я клянусь себе всеми богами, каких только знаю, богами мамы Розы и богом бааса, что, если он перевернется на спину, я буду удерживать его до тех пор, пока он не потонет вместе со мной.
Но в этот миг, в самом разгаре своего безумия, он вдруг останавливается как вкопанный. Еще секунду огромное тело сохраняет напряженность, а затем я чувствую, как мускулы расслабляются, дрожа, будто рябь на воде.
«Пошли», — ласково говорю я. А когда мы выбираемся на берег, говорю «тпру» и треплю его по загривку. Его огромное тело дрожит подо мной. Он весь белый от пены. С трясущимися коленями я соскальзываю с его спины и рву пук травы, чтобы обтереть его. Он не делает ни единого движения, не издает ни звука, просто стоит, подрагивая, будто от холода. Я долго жду, потом беру поводья и веду его к ферме. Вдалеке я вижу мужчин, бегущих мне навстречу. Они, верно, думали, что я уже мертв. Я подхожу к ним, и они молча расступаются, чтобы дать дорогу. Подвожу серого жеребца к воротам крааля. Я вообще ничего не чувствую. Будто что-то умерло во мне в тот миг, когда бешенство оставило его. Покорный, как обезьянка, он идет за мной в крааль, а я беззвучно, отчаянно молю его: ради бога, вырвись, умчись прочь, чтобы никто, даже я, не отыскал тебя. Но от его былой дикости не осталось и следа. Это видно у него по глазам, влажным, круглым и кротким, как у коровы.
— Славно сработано, Галант, — говорит хозяин. — Отлично с ним справился. Теперь он твой.
— Нет, — сердито отвечаю я, — это Барендов конь.
Пусть берет его себе, думаю я, выходя из крааля. Никогда, клянусь, не прощу серому этого. Чтобы так постыдно позволить укротить себя! Я иду обратно к запруде и бросаюсь в воду, будто хочу утопиться, а потом, отдыхая, долго лежу на боку, желая лишь одного: навсегда забыть об этом злополучном дне. А когда появляются Баренд и Николас, во мне уже больше нет прежней злости, одна лишь угрюмая печаль, о которой им не расскажешь.
Запруда умеет унять любую печаль, с той же материнской нежностью, что и мама Роза. Нашими следами испещрена вся ферма, но мы всегда возвращаемся к запруде. Тинистая песчаная стена, чуть выше — поросший травой склон, ивы со свисающими почти до самой воды гнездами птиц-ткачей. Мы то и дело разоряем эти гнезда, иногда нас там уже поджидает свернувшаяся клубком змея. Тогда, испуганно вскрикнув, скатываешься обратно в воду. Это я всегда первым иду на разведку, и лишь потом за мной карабкаются остальные; это я первым проверяю, выдержит ли меня пружинистый сук, а когда сук ломается, это я лечу вниз, а они радостно скачут и покатываются со смеху. Но меня ничто не останавливает. Пока есть гнезда, мы будем разорять их. Порой устраиваем бои, швыряясь друг в друга грязью до тех пор, пока не остаются видны только белки глаз. Или ныряем, поспорив, кто дольше выдержит под водой; выныриваем чуть живые, потому что ни один не желает сдаться первым. Или приводим с собой кобелей и, укрывшись за земляной дамбой, выдаиваем их: тугой мускул сжимается у тебя в руке, каждый возбужденно подбадривает свою жертву, следя, чей пес выстрелит первым; возбуждение лишь усиливается от страха, что пес может неожиданно огрызнуться и укусить тебя. А часто, утомленные играми и купанием, просто лежим голые на берегу, жуя травинки, и, уставясь в небо, выискиваем похожие на что-нибудь облака: вот корова с огромным выменем, вот упряжка волов или телега, а вот лицо, рука, женская грудь, башмак, молоток, цапля. Порой мы так увлекаемся, что забываем о брошенной нами работе — птицы грабят поля, давно пора сгонять овец, доить коров, собирать хворост, полоть огород. А когда пытаемся незаметно прошмыгнуть во двор, там нас уже поджидает хозяин.
Но даже страх перед хозяином не может отпугнуть нас. И на следующий день мы снова возле запруды. Баренду и Николасу это, конечно, проще, работы у них куда меньше. Моя же не кончается никогда, Онтонг и Ахилл всегда начеку, следя, чтобы все было сделано вовремя. Но сколько бы ни было работы, я все равно убегаю к запруде. Именно гуда чаще всего ведут следы моего детства. Особенно хорошо, когда мы там вдвоем с Николасом, так оно обычно и бывает, ведь Баренд гораздо старше нас и уже почти взрослый.
Как-то днем, еще мокрые после купания, мы принимаемся рыть нору в земляной дамбе. Поначалу мы ищем крысу, которая скрылась в норе. Но вскоре забываем о ней и роем уже просто так. Зарываемся все глубже и глубже, касаясь друг друга мокрыми плечами. Земля тут влажная и сыпучая, не то что твердая глина снаружи. Ступни ног еще пригревает солнце, позади огромный дневной мир с его птицами и водой, а мы продолжаем продвигаться вглубь, нетерпеливо и упорно — как черви.
И вдруг туннель обрушивается. Мы еще копаем и выбрасываем землю, потом какое-то странное движение вокруг — и все забито песком: глаза, уши, нос, рот. Сжавшись от страха, мы безуспешно пытаемся приподняться. Погибаем, думаю я, и вот уже не различить, чье это тело бьется в конвульсиях, его или мое.
Когда мне наконец удается вздохнуть и прокашляться, я снова вижу солнечный свет, вижу ноги Онтонга и других мужчин, высоких, будто деревья.
— Пожалуйста, не говорите папе, — умоляет Николас. — Он убьет нас за это. Правда, Галант?
— Пришибет, это точно, — отплевываясь, бормочу я.
Мужчины уходят, а мы еще долго сидим у запруды в свете угасающего дня — два мальчика, которые вместе узнали, что такое смерть.
Но вот чего-то я все же понять не в силах. У этой самой запруды наши следы не только сливаются, но и почему-то расходятся: его — в одну сторону, мои — в другую. А все, как мне кажется, из-за грамоты. Хозяйка уже давно учит их читать и писать, я про это знаю, ведь они то и дело говорят об этом у запруды. И вот как-то раз Николас берет кусок глины, разминает и разглаживает его и хворостинкой рисует на нем цепочку каких-то странных знаков — линий, завитков и закорючек, вроде следа какого-то зверька.
— Что это? — с подначкой спрашивает он.
— Откуда мне знать? — отвечаю я. — Похоже на след хамелеона.
— Это мое имя, — говорит Николас. — Вот гляди. Это читается Николас.
Все это кажется мне весьма подозрительным.
— Как так может быть, — говорю я, — ты вот стоишь тут, сверху, а твое имя лежит внизу, в глине?
— Говорю тебе, это мое имя, — смеется он и обводит пальцем отдельные знаки. — Ни-ко-лас. — Потом стирает их и рисует новую цепочку. — А вот это имя Баренда.
Тут Баренд швыряет в нас комом тины, и урок сменяется более привычным кувырканием в воде.
Но через несколько дней, когда Баренд уходит с хозяином в вельд, я снова тащу Николаса к запруде.
— Нарисуй еще раз твое имя на глине, — прошу я.
— Зачем?
— Хочу поглядеть.
Он пожимает плечами и снова рисует цепочку знаков. Я долго сижу на корточках, разглядывая их и обводя пальцем.
— А мое имя можешь нарисовать?
— Конечно.
— Ну давай, рисуй.
Он сплющивает новый кусок глины и рисует новые знаки.
— Это и есть мое имя?
— Да, тут написано Галант.
Но мне в это никак не поверить. Когда смотришь в спокойную воду, то видишь свое собственное лицо, тоже глядящее на тебя, а стоит тебе начать двигаться или корчить рожи, тот, другой, делает то же самое. Это тоже странно, но хоть как-то понять можно. А эти крошечные следы, изображающие мое имя Галант, совершенно сбивают с толку.
— Пускай они останутся тут, — говорю я Николасу, раздеваясь, чтобы лезть в воду.
Я заботливо прикрываю значки листьями и ветками и на следующий день, когда Баренд тоже приходит к запруде, показываю их ему и спрашиваю:
— Что это?
— Как что? Это твое имя — Галант.
Теперь я знаю, что так оно и есть.
— Научи меня рисовать такие же значки и читать их, — прошу я Николаса.
— Хорошо.
Но Баренд вдруг грубо обрывает его:
— К чему трудиться? Он же всего-навсего раб. Какой ему от этого прок? Что он, станет лучше пасти скот, или убирать пшеницу, или собирать хворост?
— Научишь меня, Николас? — упрямо настаиваю я.
Он глядит на меня, слегка нахмурясь. Рассеянно и досадливо пожав плечами, запускает голышом в лягушку.
— Пожалуй, Баренд прав, — говорит наконец. — Грамота не принесет тебе никакой пользы, сам понимаешь. А ну, побежали! Поглядим, кто первым будет в воде!
Той же ночью над фермой бушует одна из неистовых боккефельдских гроз, и, когда я на следующее утро возвращаюсь к запруде, от знаков на глине нет и следа. Будто их вообще тут не было.
— Они не хотят научить меня писать, мама Роза, — жалуюсь я. — Покажешь мне?
— А ты думаешь, я умею? Всю жизнь я прекрасно обхожусь и так. Не ищи себе неприятностей. Приглядись повнимательней — и увидишь: всякий раз, когда привозят газеты из Кейпа, хозяин не в духе по нескольку дней.
Кейп, должно быть, удивительное место, и газеты-тоже вещь удивительная. Даже само слово «газета» — сразу ясно, что это что-то нездешнее. Никогда не знаешь, когда они будут, все зависит от того, кто и когда поедет в Тульбах. Порой привозят всего одну, но, если проходит много времени, их накапливается целая стопка, все тонкие и как-то таинственно свернутые. Тогда хозяин берет маленькие круглые стекла, которые всегда нацепляет на глаза при чтении Библии по вечерам, ставит кресло перед кухонной дверью и часами сидит в нем, читая, хмурясь и что-то бормоча себе под нос. В такие дни ему лучше не попадаться на глаза. Потом газеты убирают в сундук из желтого дерева в большой комнате, говорит мама Роза, — значит, они очень ценные. Порой какая-нибудь старая, странно пожелтевшая, вдруг объявляется снова: в ящике для дров возле плиты или чтобы завернуть яйца, когда собирают фургон в Тульбах. Но обычно их больше не видишь — рабам или койнам не следует прикасаться к ним, остерегает мама Роза, вещь эта живет собственной темной жизнью, и мама Роза не знает снадобий против нее.
Прежде все это меня ничуть не заботило. Но теперь, когда Николас отказался меня учить, я решаюсь на нечто невообразимое. Целыми днями, целыми неделями я рыщу по двору, следя за всеми приезжающими, пока наконец не появляется филдкорнет[16] с новой газетой. Предоставив хозяину достаточно времени, чтобы прочитать ее полностью и сорвать свой гнев на всех, кто попадется под руку, я незаметно проскальзываю в дом и краду ее из желтого сундука. Она очень тонкая, ее легко спрятать под рубашкой и проносить пять-шесть дней, пока не убедишься, что ее не хватились. Затем, оставшись наконец один в вельде, если не считать овец, осторожно вынимаю ее из-за пазухи и раскладываю на камне, расправляя смятые складки. Провожу рукой по маленьким черным цепочкам, бегущим, будто муравьи, по гладкой бумаге, тычу в них пальцем, подталкиваю их, даже прижимаюсь к ним лицом, чтобы понюхать. Но они молчат. Но я-то знаю наверняка, что тут говорится о чудесах Кейпа.
Едва вернувшись оттуда, Баренд и Николас стараются перещеголять друг друга в рассказах об этом далеком удивительном месте, а когда истории иссякают, я будоражу их память вопросами, пока не замолкаю, ошеломленный столь новыми для меня впечатлениями и картинами. Прямые, мощенные булыжником улицы, пересекающие друг друга. Гора, выше любой из наших, а вершина плоская, как стол. Большая запруда, которую они называют морем, огромная, больше, чем весь Боккефельд, а вода в ней живая и все время движется. И корабли, побольше любого дома, они приплывают из заморских стран, которые дальше, чем горизонт. Флаги на крестце горы, пушка, которая стреляет в полдень, распугивая голубей на улицах. Лошадиные скачки, на которых в один день можно выиграть кучу денег. Люди в богатых нарядах и высоких шляпах. Дома, где можно купить все, что только пожелаешь. Там даже рабам, говорят они, разрешают иметь собственные лавки и богатеть; и хоть ходят они, как и мы, босиком, одежда на них красивая, как у настоящих господ. Один раз Николас привез мне из Кейпа шарф из красного шелка, в другой раз островерхую шляпу — красивые, необыкновенные вещи, каких я прежде и в руках не держал. Ну и место этот Кейп.
— Вот погоди, — как-то вечером говорю я маме Розе, — когда-нибудь и я отправлюсь туда, чтобы посмотреть на все это самому.
— Кто так решил?
— Я решил.
— Не твое дело — решать. Это дело хозяина.
— В тот день, когда я отправлюсь в Кейп, я и спрашивать никого не стану. А тебя возьму с собой.
— Я там уже была.
— И все так, как рассказывает Николас?
Она сидит, уставясь через открытую дверь хижины туда, где сгущаются вечерние тени.
— Да, — говорит едва слышно. — Да, Кейп и вправду место удивительное. Но не для нас. Оно для хонкхойва, для белых людей.
— Почему же не для нас, мама Роза?
— Не твое дело — спрашивать об этом.
И в молчании этой сводящей с ума газеты, разложенной на плоском камне, в немых цепочках черных муравьев, бегущих по бумаге, морочащих голову невероятными историями о далеком городе, который преследует меня даже во сне, мне снова слышатся насмешливые слова, газета говорит лишь одно: не твое дело — спрашивать.
Я принимаюсь бранить их — они не снисходят до ответа. Будь проклято вонючее лоно, породившее вас! Маленькие черные цепочки невозмутимы. В ярости рву бумагу, сминаю в клочья, топчу их, разбрасываю по ветру, рассеиваю, как мякину, отшвыриваю назад в ад, в тот самый Кейп, откуда они явились.
Ибо в геенне вам место. И газетам вашим тоже. К чему мне имя, написанное на глине? Я и без того знаю, как меня зовут. Мое имя — Галант!
И все-таки, все-таки. Неужели мне никто не скажет?! Помоги. Подскажи. Да за что же держать меня в темноте? Кто я? Лошадь в темной конюшне? Паук с чердака?
Почему Николас не поможет мне? Он же не такой, как другие. Хотя нет, такой же. Если у меня и были сомнения, то от них помогает избавиться лев, хотя сам он тоже загадка. Внизу, в Кару, еще можно порой встретить одинокого льва-людоеда, гонимого засухой и гоняющегося за добычей, но не в наших краях, не в Боккефельде. Может быть, небывалая засуха заставляет его уйти так далеко от обычных угодий, или же бремя старости, или муки голода. Но как бы то ни было, у нас объявился лев. Мы узнаем о его присутствии, когда по ночам из крааля начинают пропадать овцы. Должно быть, леопард с гор, говорит хозяин. Но следы чересчур велики. Потом на соседской ферме исчезает из хижины ребенок: во тьме слышен вселяющий ужас рык. Мужчины со всех ферм Боккефельда, с собаками и рабами, целая армия на лошадях и пешком, с ружьями, ассегаями и палками, всем, что есть под рукой, идут на него. Мы трое тоже, Баренд, Николас и я: ведь мы уже не дети, у Баренда скоро свадьба.
Только глядите в оба, мрачно остерегает хозяин, возвышаясь во дворе, подобно дереву, озаренному и пронизанному солнечными лучами, с волосами как пламенеющая конская грива. Речь идет о жизни и смерти, говорит он, уже есть покалеченные и растерзанные.
Вначале следы ведут по открытому вельду, кажется, что настичь льва всего лишь дело времени. Но чуть погодя они начинают петлять по предгорьям, идти по ним становится все труднее и труднее. Армию разбивают на маленькие группки, у каждой по крайней мере одно ружье. Мы с Николасом неразлучны, при нас несколько рабов и готтентотов. Остальные вскоре теряются из виду.
Первый час или около того ты предельно осмотрителен и предельно осторожен. Ты замечаешь все на своем пути. Насекомых в траве, ящериц, стремительно снующих по камням, мангуста, стоящего на задних лапках у норы, муравьеда, разоряющего гнездо термитов, крошечную куропатку и чибиса, птицу-секретаря, с самодовольным видом расхаживающую на негнущихся ногах, вроде как хозяин воскресным утром, маленькую антилопу, словно навсегда застывшую в сухой траве, черепаху, медленно и осторожно поспешающую своей дорогой, рой пчел в древесном дупле, пятнышки ястребов, кружащих в отдалении, паутину, сверкающую от росы. Но когда начинает припекать солнце и пот стекает у тебя по спине, поневоле делаешься менее внимательным. В молчащем зное тебя одолевает сонливость. Именно поэтому он и застигает нас врасплох.
Неожиданное движение в космах сухого кустарника всего лишь в ста ярдах от нас. Это может быть что угодно. Но ты сразу понимаешь, что это лев, хотя отроду не видывал льва. Николас делает еще один шаг. Из кустов раздается низкое, глубокое рычание, от которого земля дрожит под ногами. Рабы и готтентоты бросают свои палки и ассегаи и в панике бегут к ближайшему укрытию — единственному дереву, тонкому и сухому. Спустя мгновение они свешиваются с ветвей, словно стая громадных летучих мышей. Мне смешно, и я не могу сдержать хохота.
Но лев уже тут как тут, голова опущена, темная грива дыбится на ветру.
— Стреляй, Николас, — от возбуждения говорю почему-то шепотом.
Вижу, как он вскидывает ружье. Но руки его дрожат.
— Стреляй, черт возьми! — В полный голос.
Охваченный внезапным ужасом, бросает ружье на землю, дико озирается по сторонам и пускается бежать к увешанному людьми дереву. На какое-то мгновенье цепенею. Лев проскакивает мимо меня, всего лишь в нескольких ярдах, не задев и, должно быть, даже не заметив. Николасу ни за что не добежать до дерева. Все пропало. Но вдруг — словно толчок чьей-то невидимой руки — я делаю то, о чем и не помышляю. Ружье. Ствол дрожит, затем сам собой выравнивается. Звук выстрела. Меня отшвыривает назад, шатаюсь, ноги подкашиваются, и я валюсь в колючий кустарник. Безумие. Я же мог убить Николаса.
Мертвая тишина, словно вдруг укротили гигантского коня. Еще мгновение я слышу, как Николас кричит. Потом лев настигает его — и оба катятся в смерче пыли. Люди падают и сползают с дерева. Николас медленно садится, старательно отряхивая с себя пыль. Бегу к нему, руки нелепо болтаются по бокам. Мы хватаем друг друга в объятия, смеемся и пляшем в безумном восторге.
Со всех сторон сбегаются охотники.
— Черт подери! — говорит хозяин. — Славно сработано.
— Да, это было не просто, — вдруг отвечает Николас. — Он едва не прикончил Галанта. Я поспел в самое время.
В изумлении гляжу на столпившихся вокруг. Неужели никто ничего не скажет? Но все, на что они способны, — тупая ухмылка и взгляд в сторону. Потом меня оттирают с дороги, чтобы подойти поближе ко льву, опускаются возле него на колени, разглядывают истертые и сломанные клыки, прочесывают пальцами спутанную гриву.
— Он бы и сам скоро подох, — говорит хозяин. — Охота уже не про него. Его, верно, вышибли из стаи, и ему пришлось бродить в одиночку. Должно быть, совсем свихнулся от нынешней засухи. — Раскуривает трубку, ухмыляется. — Будьте повнимательнее, когда станете снимать шкуру. Смотрите не попортите. Мы выделаем эту шкуру для Николаса.
Когда мы наконец снова одни, спрашиваю:
— А если бы я сказал хозяину, что это не ты?
— Чего ж ты не сказал? — огрызается Николас. — Думаешь, он поверит рабу, а не мне?
Да, он в самом деле один из них. Я ничего не понимаю. Снова тьма, темный чердак, стены его сжимаются вокруг меня. Неужели вообще нет никакого света? Неужели нет ни единого человека, который бы не предал меня?
Эстер?
Куда бы ни вели наши следы, ее неизменно идут следом. Ни руганью, ни камнями не заставишь ее отступить, когда ей что-то взбредет в голову. Даже хозяин с хозяйкой, я заметил, по временам приходят от нее в отчаяние. Они порой наказывают ее, но это не помогает. Николас и Баренд же просто беснуются, когда она упрямо плетется за нами, и соглашаются взять ее с собой только тогда, когда я вызываюсь нести ее на спине. Мне это ничего не стоит, невелика тяжесть.
Больше всего она любит ходить с нами к запруде, сидеть в траве или на земляной насыпи, наблюдая за нашими играми; колени подтянуты кверху, подбородок опирается на руки; в такие дни мы выкаблучиваемся перед нею как можем. Когда она здесь попривыкла — отец Эстер, управляющий в Хауд-ден-Беке, умер, и ее приютили хозяин с хозяйкой, — угрюмая замкнутость постепенно исчезла, под конец мы плещемся и плаваем все вместе.
Затем, внезапно, настает перемена и в этом. Стояла суровая зима с ранним снегом: перегоняя овец из Кару, мы потеряли много ягнят. И даже когда прилетают ласточки, заморозки не прекращаются. Тепла пришлось ждать долго, и вот наконец мы спешим, минуя айвовую изгородь, к запруде. За зиму все мы сильно выросли, моя одежда уже тесна мне. Мы полны сил, словно молодые жеребята, принюхивающиеся к свежему ветру. В этот первый теплый летний день после столь долгой зимы девочка, как и прежде, с нами.
Мы уже доходим до конца айвовой изгороди, как вдруг Баренд останавливается и сурово глядит на меня:
— Галант, мы идем купаться с Эстер. Тебе не следует ходить с нами.
— Почему? Мы же всегда ходим вместе!
— С этого дня, если она с нами, тебе здесь не место.
Удивленно смотрю то на одного, то на другого.
Николас бесцеремонно встревает:
— Я слышал, что отец зовет тебя. Сходи-ка узнай, в чем дело.
Оскорбленный и подавленный, поворачиваю обратно, потом останавливаюсь и смотрю издалека, как они карабкаются по холму к запруде. В порыве ярости беру камень и швыряю им вслед, но их уже не видать. Слышу, как в саду гудят пчелы. От запруды, чудится мне, доносятся их веселые возгласы. И крики птиц-ткачей. Но между нами лежит огромная тишина, тишина, преследующая меня всю дорогу, пока я, предоставленный сам себе, медленно поднимаюсь в гору. Глядя время от времени вниз, чувствую себя незваным гостем, чужаком, прибывшим невесть откуда и затерявшимся среди этих гор, хребтов и долин, далеких пшеничных полей и полосок ячменя, хотя я знаю, что тут повсюду мои следы, незримо покрывающие все это.
Мы всегда были неразлучны, разве не так? Они мои приятели. Какая же разница, с нами эта девочка или не с нами? Это похоже на то, как слушаешь в компании чей-то рассказ и вдруг устаешь и засыпаешь, а потом просыпаешься и слышишь, как история продолжается, но что-то изменилось, что-то пропущено и, значит, утеряно для тебя навсегда и, хотя общий смысл по-прежнему как будто понятен, на самом деле все совершенно другое и тебе больше не место среди знающих этот рассказ.
Высоко над усадьбой сажусь на валун, откуда могу оглядеть все, в чем мне было сейчас отказано. Чувствую, как во мне снова нарастает ярость, жеребец натягивает поводья, желая вырваться на волю. Упершись в валун, лежащий подо мной, ощущаю, как он медленно сдвигается под моим весом. Изо всей силы, тяжело дыша, толкаю и раскачиваю его, снова и снова принимаясь за дело, пока камень наконец не поддается; некоторое время он еще удерживает равновесие на краю обрыва, а затем опрокидывается и катится вниз, все быстрее и быстрее, увлекая за собой мелкие камни, все больше и больше, гремя подобно грому и высекая искры из всего, что попадается ему на пути. Может быть, эти искры зажгут траву? А что, если я разожгу горный пожар, который спалит все от вершины и до самых пшеничных полей внизу? Пусть бушует. Пусть все сгорит. Я зажгу грозовое пламя.
Как хорошо помню я ту, другую грозу. Память о ней столь осязаема, что я могу сжать ее, как камень в руке. Сонливым воскресным днем, в послеобеденное время, хозяин с хозяйкой едут навестить соседей, а мы все четверо бродим по горам, пугая криками бабуинов, сидящих вверху на утесах, стращая друг друга поддельными следами леопарда. И вдруг гроза, внезапный гром, грохочущий так, будто сама гора рушится прямо на нас. Мы стремглав бежим вниз по склону, Баренд и Николас далеко впереди, бросив меня вдвоем с Эстер.
— Давай останемся тут, — молит она. — Я так люблю грозу.
— Гроза убьет нас, — говорю я. — Ну-ка пошевеливайся.
— Нет. — Она хватает меня за руку. — Постой. Подожди немного, Галант. Посмотри. Подними лицо кверху, вот так. Чувствуешь, какой дождь?
Сердито дергаю ее за руку:
— Если нас не убьет молния, так наверняка прикончит хозяин.
— Посмотри. Ну посмотри же. Видишь эту молнию?
— Кого увидит Птица-Молния, тот сразу умрет. А теперь пошли.
— Галант, останься со мной.
Отчаявшись, я подхватываю ее на руки, чтобы снести вниз. Она брыкается и кричит на меня, пытаясь вырваться. Мы падаем, в кровь раздирая локти и колени.
— Ну погляди теперь, что ты наделала.
— Ты только послушай, Галант, послушай.
Наконец мы внизу, у подножия холма, где в гордом одиночестве стоит хижина мамы Розы. Мы вымокли до нитки. Мне страшно показаться хозяину на глаза с этим промокшим и перепачканным ребенком на руках, я знаю, что на помощь Баренда и Николаса рассчитывать нечего. Стучу зубами и дрожу от страха так же сильно, как и от холода. Толкаю покосившуюся дверь хижины, и мы вваливаемся внутрь, в густой запах дыма, бучу и мамы Розы.
— Поглядели бы вы на себя, — ворчит она скорее примирительно, чем сердито. Привычно быстрыми, ловкими движениями срывает с нас одежду и раскладывает ее вокруг огня на просушку, и вот мы уже закутаны в большую теплую кароссу из шкур дамана и шакала. Сладкий аромат бушевого чая, его бодрящее тепло растекается по всему телу, и мы сидим, свернувшись калачиками, понемногу отдаваясь пахучей теплоте хижины, тесной, надежной и успокаивающе знакомой, как темный чердак.
Эстер канючит, и, чтобы скоротать время, пока одежда сушится возле огня, мама Роза начинает рассказывать истории. Все те же истории, знакомые мне с детских лет. Водоросли, которые не смей рвать, лунатики — мужчины и женщины — под охраной сов и бабуинов, и Тзуи-Гоаб, и Птица-Молния, кладущая яйца в опаленную ею землю. Одна история за другой в благоухающей темноте, в очаге медленно тлеют угли, маленькие голубые огоньки сверкают и танцуют, взрываясь шквалом искр, а мы погружаемся в теплоту большой кароссы — окутанные запахом чая и пряностей, топленого свиного жира и хвороста, — наши тела прижимаются друг к другу, как когда-то, давным-давно, наши с Николасом тела в той песчаной норе, но эта близость не вызывает страха, незачем торопиться, чтобы поскорее вырваться наружу, тут исполнение всех моих желаний, таинственное темное тепло, исходящее от девочки, спящей рядом, положив голову мне на плечо, и моя рука двигается словно сама собой, лаская ее так же, как когда-то мама Роза усыпляла меня по ночам, нежно касается ее тела, исследуя в незапретной тьме мир столь же таинственный и прекрасный, как след чьего-то имени на гладкой глине, пока и меня не уносит сон. А когда я просыпаюсь в непроглядной ночной мгле, девочки уже нет, я снова лежу возле мамы Розы на матрасе в углу, ее мягкое теплое тело прижимается к моему, а ее рука гладит меня, увлекая обратно в сон.
Да было ли все это на самом деле?
Галант, не твое дело — спрашивать.
Но, должно быть, было. Ведь мое тело это помнит. И оттого все становится еще непонятней. Вроде чердака. Все снова и снова возвращаюсь к тому единственному темному мигу. И почему? Ведь ничего особенного вообще не произошло.
Как только находится хоть какой-то повод, мы спешим по лестнице на чердак. Его незабываемые запахи: связки лука, свисающие с балок, тыквы и гранаты, кисло-сладкая айва зимой, два сундука из желтого дерева, до краев наполненные изюмом, сушеными персиками и абрикосами, подмешивающийся во все запах бушевого чая, собранного в горах и подогретого в духовке для «выпотевания», размолоченного прутьями и рассыпанного на просушку на широких досках пола на чердаке. Здесь хорошо коротать долгие послеполуденные часы, чаще всего нас двое — Николас и я, иногда с нами Эстер или Баренд. Но сейчас я тут один. Где остальные, не знаю, меня это не интересует. Я пришел, чтобы побыть тут одному. Я, Галант, в доме хозяина. Пришел поглядеть, как это все бывает, когда хозяева там внизу одни. (Мама Роза, почему они живут в доме, а мы в хижине? — Галант, это не твое дело — спрашивать.) Я должен это узнать. Тут, наверно, и кроется разгадка.
Я проползаю между балками к передней части дома, к длинной узкой щели между досками. Я уже не раз бывал там с мамой Розой, и теперь мне здесь ничто не в диковинку, дом изучить нетрудно — большая, длинная узкая комната со спальнями по обе стороны, а позади кухня. Загадка в том, что они делают тут, оставшись одни, в том, что же они на самом деле такое. Сегодня я должен разгадать это. Газета мне не открылась, зато в дом я проникнуть могу, в самую его сердцевину — как крыса, высматривающая их сокровенные тайны.
В этот тяжелый, жаркий послеобеденный час хозяева в спальне.
Хозяин на краю большой кровати, наклонившись, расшнуровывает башмаки и снимает их со своих странно беззащитных белых ног. Будто срубленное дерево, со вздохом откидывается навзничь на вышитое покрывало. Хозяйка в кресле у окна, в руках вязание, но она не работает. Сидит, уставившись в изнурительную белизну за окном, прямая и неподвижная, волосы стянуты в тугой узел, сидит и смотрит вдаль, повернувшись спиной к кровати, словно отвергая ее.
Вот и все. И ничего больше. Никакой тайны. И никакой разгадки. Только по-прежнему остается разница: они там, а я тут.
Мама Роза, мама Роза… Но от этой боли у нее нет никаких снадобий. Я один. К кому обратиться? Если бы у меня был отец, тогда, может, к нему?.. Он где-то далеко в огромном мире. Но кто он и где он?
Онтонг
Хозяин велел мне присматривать за ребенком и приучать его к работе на ферме. Он хорошо все схватывал. Он мог быть и моим сыном: я знал его мать. Лейс, нежный плод, слишком зеленый, чтобы срывать его, — слишком хрупкая она была, что ли. Это у него, я думаю, от нее. Как часто я предупреждал его: «Галант, что проку сопротивляться? Дерево ломается, а вот тростник гнется. Спроси меня, я-то знаю». Я хотел остеречь его. Но было видно, что он не слушает. Я — малаец, я умею предугадать то, что будет.
Я надеялся, что Роза сумеет образумить его. Самая мудрая женщина из тех, что я знавал. Но его замкнутость, обособленность удручали меня. От таких недугов нет снадобий. Таким больным нет исцеления. Они притворяются смирными, а на самом деле они из той породы лошадей, которых не укротить. Они взбрыкнут, когда ты этого совсем не ждешь. А жаль. Он был толковый малый, и, уж конечно, не я напихал ему в голову все эти бредни. Я никогда не хотел даже слышать о них. Если бы мне удалось вовремя обсудить все это со старым хозяином. Но с тех пор, как его хватил на поле удар, с ним уже не поговоришь. С женой его об этом тем более не потолкуешь. Хозяйка Алида всегда сторонилась нас. И уж особенно после того, как убили Николаса.
Алида
Его отняли у меня задолго до смерти: горевать я не в силах. Всю жизнь боялась я потерять мужа и сыновей, боялась остаться одной в этой враждебной и чужой стороне, так далеко от моего родного Кейптауна; ужас в ночи и пугающее, незнакомое солнце днем. Теперь я лишилась третьего ребенка — если считать того, который родился мертвым, а как мне не считать их всех? — и Пит лежит бессловесный и лишь поводит бесцветными глазами, следя за мной. Во мне нет даже боли, я спокойна. Во мраке этой смерти жизнь обрела некую сомнительную ясность. Бояться отныне нечего, никакая катастрофа уже не удивит меня, я привычно занимаюсь делами с утра до вечера, неторопливо и собранно. Рабов здесь хватает, я могла бы и не работать, но все же работаю, и это приносит мне удовлетворение. Никакой спешки, просто желание чем-то занять себя, чтобы не впасть в отчаяние, желание скромное, но постоянное и взывающее к неукоснительному порядку, в котором нет места пустым мечтам и сентиментальности. Теперь мне некуда торопиться, я вступила во владение всеми этими землями, исподволь уготованными мне, и вполне спокойна, живя прописными истинами здешней природы.
Они привезли его тело в фургоне — завернутое в коричневое одеяло и уже обмытое руками старухи Розы. Она, вероятно, так и ехала всю дорогу, самодовольная, как тряпичная кукла, покачиваясь от тряски фургона, отдавшись во власть мерной, неторопливой поступи черных волов. Она ничего не сказала мне, но и не отходила от его тела, глядя на меня, пока я смотрела на него, на моего сына, Николаса, этого когда-то простодушного мальчика, ставшего потом чужим и непонятным, но теперь, в смерти, возвратившегося ко мне; в его спокойном молодом лице были и прежняя прозрачность, и непроницаемость поздних дней.
Мы похоронили его в гробу, который уже со дня нашей с Питом свадьбы стоял на чердаке, дожидаясь того времени, когда наконец примет в себя его заупрямившееся тело; теперь ему понадобится другой гроб, поменьше. Люди понаехали отовсюду, не только со всего Боккефельда, но даже из-за гор, из далеких плодородных долин Тульбаха и Ворчестера, ведь такие вести расходятся далеко. Не было, конечно, Сесилии, которая еще не могла ходить из-за своей раны, да ее отца, который остался с дочерью, считая, вероятно, что мы во всем виноваты. Сюда же привезли и двоих других, чтобы похоронить их на огороженном приземистыми побеленными стенами клочке земли, которому суждено теперь стать нашим семейным кладбищем: сейчас февраль — в такую жару тела убитых далеко не увезешь. Я имею в виду учителя Ферлее и Ханса Янсена, которому выпала судьба приехать за своей заблудившейся кобылой и разделить их участь. У Янсена нет родственников поблизости, и некому печалиться о нем. Но жена Ферлее Марта была тут, маленькое юное создание, прижимающее к себе ребенка, сама почти девочка, которая, казалось, никак не может прийти в себя от печального открытия, что смерть мужа покончила с ее невинностью.
Самые грандиозные похороны, что только бывали в Боккефельде, говорили все, ведь плоти, которой предстоит обратиться в прах, предостаточно. Хоронили в полдень, чтобы присутствующие успели разъехаться по домам после обильного обеда за столами, расставленными под деревьями на козлах: баранина, дичина, картофель и батат, желтый рис с изюмом, тыквы и бобы. Вместе с детьми набралось человек сто; и все же, когда мы разгоряченной толпой окружили три могилы, три сухие дыры, с трудом пробитые в неподатливой земле, нас было слишком мало — жалкая горстка людей на склоне холма; позади нас высились горы, а внизу раскинулась дрожащая в белом полуденном мареве желтая долина, там был дом, где в не спасающей от летнего зноя тени, все еще дыша и бог знает на что уставившись, лежал Пит, за ним сейчас, должно быть, присматривала Роза, которая, конечно, немедленно воспользовалась моим отсутствием, чтобы снова утвердить над ним свою губительную власть. Бессмысленно глядя на могилы, мы стояли возле них, ничем не защищенные от дикой простоты окружавшего нас ландшафта, бесконечного и однообразного, необъятного, терпеливого и нагого. Пожалуй, мы выглядели тут неуместно — горстка зерен, забытых на пустом гумне, где не осталось уже ни лошадей, ни работников и с которого ветер унес плевелы и мякину. Но и враждебности не было. Прежде я постоянно ощущала тут некую враждебность, угрожавшую мне не затаившимися темными опасностями, неопознанными и непознаваемыми, а упорной своей пустотой — не тайной, а категорическим отсутствием тайны. Теперь же я впервые чувствовала, что у меня есть причина быть здесь. «Быть здешней» — нет, это было бы сказано слишком уж сильно, никто из нас не может назвать себя здешним. Но, пройдя через смерть моего сына и через неотвратимую, близкую смерть мужа — он пока еще дышит и лежит с открытыми глазами там, неподалеку, под присмотром черной женщины, — я обрела чувство ответственности перед этой землей, перед этим ландшафтом, нашим и даже, увы, моим. Теперь моя жизнь связана с ним по праву, меня и похоронят тут вместе с остальными Ван дер Мерве. Так, странно и мрачно, сошла на нет моя чужеродность. Вместе с Николасом моя плоть погребена в эту землю, и я врастаю в нее корнями.
Рабы толпились возле дома, не решаясь подойти ближе: безмятежные тупые лица, словно высеченные из черного камня и наводящие тебя на мысль о холоде земных недр и сокрытом в них потаенном жаре. Может быть, и эти тоже когда-нибудь взбунтуются против нас, в какой-нибудь день или в какую-то ночь? Кто они такие? Они ходят по моему дому, потихоньку вкрадываются в нашу жизнь, но я о них ничего не знаю. А кто такие мы сами? Нынешний час, час смерти, отделил нас друг от друга и развел в разные стороны: они стояли возле дома, мы — возле могил. Потом их мужчин позвали зарыть могилы, а наши глядели на них, все более и более распаляясь, сжимая ружья в руках. Молодые люди, хорошо знавшие Николаса, среди них и Франс дю Той, что-то горестно бормотали себе под нос, а Баренд, одолеваемый отчаянием и, быть может, стыдом за свое бегство, вдруг вышел вперед и навел дрожащее ружье на мужчин, разравнивающих могильные холмики. Но я остановила его. На моей ферме этого не будет, сказала я нашим. Мы цивилизованные люди, у нас есть свои устои, которые мы должны блюсти, кому, как не нам, подавать им пример христианского милосердия? И они послушались меня, покорившись, как мне кажется, не женщине, а матери убитого сына.
Наевшись до отвала, все разъехались. Баренд и Эстер собирались переночевать у нас, но мне хотелось остаться одной, я даже рабов отослала с глаз долой, в хижины. Было нелегко убедить Эстер уехать. Она до сих пор очень близка мне, ближе, чем дозволялось быть моим сыновьям; тонкая и темноволосая, как обычно замкнутая, но сейчас, по-моему, еще более уязвимая, чем прежде. Несмотря на восемь лет замужества, тело у нее худое, крепкое, неподатливое — тело девушки, отказывающейся познать мужчину, который взял ее, пятнадцатилетнего беспризорного ребенка, в жены. И те же большие темные глаза, смущающие своей откровенностью, голодные, но отвергающие милостыню. Правда, сейчас, быть может под впечатлением этой смерти — в детстве они были очень дружны с Николасом, — она казалась по-взрослому серьезной, готовой к любой боли, будто плоть ее наконец-то созрела, будто она согласилась признать свою неизбежную женственность не как слепой рок, а как призвание.
После того как они с Барендом уехали, тишина в комнате нарушалась лишь равномерным дыханием Пита и жужжанием осы, бьющейся в закрытое окно. Эта женщина, Роза, по-прежнему сидела на полу возле кровати, уставясь на мужа и не обращая на меня никакого внимания.
Я сказала: «Роза…», собираясь отослать и ее, жадно желая вновь обрести власть над ним и над нашим одиночеством (белокурая Марта ушла с ребенком на кладбище посидеть в благоговейном страхе у могилы), но потом передумала. Теперь в этом не было никакой нужды. Все эти годы она была рядом, кормила грудью моих детей, принимала в свое глубокое тело моего мужа и многих других мужчин, податливая, как корова, и плодоносная, как земля, постоянно угрожая подорвать мою крошечную благопристойную власть над ним своим грубым земным присутствием. Если я вдруг умру, часто думалось мне, он будет по-прежнему сеять и жать, будто ничего и не изменилось, его необузданное мужское желание всегда встретит ее ответную женскую готовность. Но в тот день, стоя на пороге комнаты, — дыхание Пита и настойчивое жужжание осы на оконном стекле, женщина, в скромном величии сидящая на земляном полу, мой сын, надежно укрытый в могиле, — я почувствовала, как страх вдруг отхлынул от меня, подобно отливу, и осталось лишь ощущение покоя и уверенности в себе. Мы уже стары, все трое, уже неподвластны нетерпеливой требовательности наших желаний, белые стены дома замыкают нас в своей безопасности, а снаружи простирается необъятная, безмерная земля, которой я теперь владею вместе с ними. К нам молча приближалась смерть — старость ее предвестие и бремя, — надежный и утешающий союзник.
— Можешь переночевать тут, — сказала я Розе. — Успеешь уйти и завтра.
Мы вместе вымыли его, поменяли простыни, устроили поудобнее, щедро расточая на него наше материнское чувство, а за окном день потихоньку шел на убыль, и предзакатные звуки смягчали тишину сумерек. Я увела с могилы белокурую девушку, мы с Розой покормили и уложили спать ребенка, а потом уложили в постель и успокоили перед сном и девочку-мать. Когда я укрывала ее, она улыбнулась и быстро поцеловала меня, затем немного поплакала и, умиротворенная добротой своего неведения, уснула.
Неужели и я когда-то была вот такой же хрупкой, изнеженной куклой, бездумно заигрывающей с жизнью? Конечно, я была менее робкой, более дерзкой, пылкой и своевольной, но ведь в ее возрасте я еще не сталкивалась лицом к лицу со смертью. Жизнь в Кейптауне текла весело и беззаботно, незачем было вникать во что-то серьезно, достаточно было просто не замечать сложностей. А как я любила все это: оркестр, играющий по воскресеньям в городском саду, нарядные дамы и господа, прогуливающиеся по аллеям, малайцы в высоких конических шляпах или в красных и голубых тюрбанах, подпоясанные красными кушаками и вертлявые, будто обезьяны, смех под тенью дубов, рабы, бешено скачущие в диком танце; бал-маскарад в конце зимы, приседающие в реверансе девушки и блестящие кавалеры, знаменитости с зашедших на стоянку судов, музыка до самого рассвета; толпы на набережной, когда в гавань прибывают корабли, письма издалека, из Голландии или из Батавии, слухи о войнах, которые нас не касаются, и о суровых зимах, которые кажутся невероятными в умеренном климате нашего Маленького Парижа. И вдруг, без всякого предупреждения, в наш дом вторгся незнакомец из далекой глухомани, ростом выше дверного косяка, в суконной куртке и штанах из овечьей кожи, с гулким голосом и громким смехом. Запах и жгучая боль чрезмерности — в этом вихре из лент, кисеи и веселья, в котором о завтрашнем дне не стоит беспокоиться, а вчерашний уже лишился плоти, в котором на тебя возложена лишь одна ответственность — явиться домой вовремя — и в котором тебе ведомо лишь одно несчастье — если вдруг порвется любимое голубое платье или же если раб (конечно, впоследствии за это наказанный) разобьет маленькую фарфоровую безделушку — кошечку? собачку? даму с зонтиком? И только ночью, да и то не каждой, после того, как городская стража уже завершит свой обход, когда далекий, низкий, едва различимый гул нарастающего прилива незаметно проникает в твое расслабившееся тело, в тебе порой поднимаются беспокойная тревога, юношеская боль неуверенности и, может быть, даже — разве вспомнишь сейчас, спустя столько лет? — какой-то страх перед чем-то еще, чем-то иным и неведомым. И вся неопределенность этих праздных ночей обрела свою плоть в мужчине, выразилась в имени: Пит ван дер Мерве. Да, я выйду за вас замуж. Да, конечно, я уеду с вами.
Равнины Кейпа — вот границы моей родины, дюна за дюной, унылые и блеклые, испещренные следами ящериц, змей и стервятников, и переход через них отгородил меня не только от родных мест, но и от прошлого, и то и другое стало с тех пор невозвратным. Долгие дни путешествия по неприветливой земле, покрытой непривычной зеленью, дни, очерченные лишь движением фургона и теснимые со всех сторон ужасом, сопутствующим дерзкому и в своей бесповоротности ничем не искупимому деянию. Короткая, ни от чего не спасающая передышка в неправдоподобно плодородной долине Ваверена, а потом горы — дикие, мрачные, грозные. Уж на них-то никому не взобраться, уверенно думала я, однако то тут, то там виднелись колеи от фургонов, и вот, трясясь и раскачиваясь в разные стороны, мы пересекли их, последнюю границу, предел всякой надежде, чтобы вторгнуться в новые области этой неизвестной страны — Африки. После мягкой уступчивости Кейпа вдруг эта новая для меня резкость, грубая простота гор и тесных долин: судьба принимала вид сурового пейзажа.
Сама мысль о возможности вернуться утратила малейший практический смысл. Ведь одновременно был перейден и другой рубеж: смята, измучена, унижена и брошена обнаженной и израненной непорочность — и уже не унять ноющую боль пустоты.
А все же я гордилась своей решимостью, хотя еще и не знала, что меня ждет, ведь не могла же я вернуться обратно и встретиться лицом к лицу с осуждением или прощением праведников. Я останусь тут; я буду ему женой. Но молча подчиняться всему я тоже не стану. В этих забытых богом краях, где властвуют горы и мужчины, мне слишком часто доводилось видеть, как немногие живущие тут женщины постепенно теряли себя, все более и более опускались до роли тупой, вульгарной, податливой плоти: их удел — рожать детей и погонять рабов. Нет, я сохраню себя сопротивляясь: я буду жить с ним, но от своих жизненных принципов не отступлю, и стану терпеливо вводить у него на ферме привычки цивилизованной жизни. Садиться за стол мы будем в строго определенное время и одетые надлежащим образом, наши дети научатся читать и писать, в нашем доме не будет ни пылинки, это будет настоящий дом, а не обсиженный мухами и кишащий курами и козами хлев, какие я видела у других фермеров, наши рабы приобщатся к мудрости Священного Писания. Пит решил, что я говорю это в шутку, и покатывался со смеху, но я настаивала на своем. Он приходил в ярость и грозился поколотить меня, но я не уступала. Если он являлся домой не вовремя, обеда не было, если он не желал мыться и одеваться как полагается, я отказывалась обслуживать его. В конце концов он смирился. Правда, в чем-то другом и я подчинилась его силе. Вода, что точит камень.
Источенность, изнурение. Достаточно поглядеть на мое тело. Эти грубые, мозолистые, утомленные работой руки когда-то были затянуты в перчатки, они были гладкими и мягкими, их целовали офицеры. Ссутулившаяся спина была прямой. Обвисшие теперь груди — упругими и нежными, Пит без конца ласкал их, посмеиваясь над моим смущением: грубоватая нежность, единственное доступное ему проявление чувства, которое, вероятно, было любовью.
Один раз, вскоре после нашей дикарской свадьбы и рождения Баренда, Пит взял меня с собой в Кейптаун. Я едва не заболела от счастья. Мои родственники приняли нас внешне доброжелательно, но вынужденное прощение не могло перекинуть мост через пропасть. Кейптаун оказался всего лишь миром воспоминаний молодой девушки, которой уже не было: я не нашла себе места в тех далеких краях, куда попала с Питом, но и лишилась возможности вернуться сюда и заново обрести Кейптаун. Балы, скачки, вечеринки с офицерами — все казалось мне слишком фривольным и утомительным, и не потому, что город к тому времени стал английским, а потому, что я стала чужой. Но и когда мы вновь пересекли наши высокие горы, я чувствовала себя столь потерянной, как и прежде: истомленная полетом птица, которая не может сесть на свои сломанные лапки. Я тосковала по морю, сильно тосковала. Ну, а если бы он отвез меня обратно к морю, что я стала бы там делать? Покорно сидела бы на берегу, слушая шум прибоя, или, быть может, бросилась в волны, чтобы утопиться? Зачем? На то у меня не было никаких причин. И в следующий раз, когда он снова предложил мне поехать с ним, я отказалась, и не так, как это делают истинные христиане, во имя спасения души отрекающиеся от чего-то им дорогого, а просто признав тем самым, что я потеряла всякую надежду прижиться в здешних краях. Этого я не могла рассказать никому и, уж конечно, не могла поделиться этим с Питом. Я ревниво скрывала ото всех свое затаенное отчаяние. Чтобы никто о нем даже не догадался. Я должна сохранять хотя бы видимость благопристойности, чтобы оградить всех нас от непонимания окружающих.
Ну и, конечно, дети, единственное будущее, на которое я решалась надеяться. Первым был Баренд, большой, крепкий ребенок, вырванный из меня и лишивший меня сил: не будь тут Розы, он бы, вероятно, и не выжил. Я так никогда и не сумела примириться с тем, что она выкормила его — ведь именно это и спасло ему жизнь. Он был первое, что принадлежало мне, и только мне. Едва поправившись, я не отпускала его от себя ни днем, ни ночью, отдавая его только на время кормления; это изнуряло меня, но я не отступала. Он был мой, мое самоосуществление, через него постыдное обретало смысл. Восемнадцать месяцев после его рождения я была почти так же счастлива, как в пору моей беззаботной, ни о чем не ведающей юности. Вторая беременность лишила меня и этого краткого счастья. Я все время болела, если бы не отвары из трав и жуткие снадобья, которые готовила Роза, я бы, пожалуй, умерла: не могу сказать, что я тогда вовсе не хотела этого. Ребенок родился мертвым, но болезнь не отступала: я утратила значительную долю своей решимости. Пит взял на себя заботу о Баренде. «Я не допущу, чтобы он рос маменькиным сынком. Я сделаю из него настоящего мужчину, такого, как я сам». Я как могла противилась, пока были силы, но, почувствовав, что снова беременна, сдалась. На этот раз родился Николас, и я ненавидела его уже за то, что он окончательно лишил меня моего первенца, Баренда. Николас рос хрупким и болезненным и требовал моей постоянной заботы, заставляя меня, пусть бессознательно, преодолевать мою ненависть к нему; я избавлялась от чувства вины, отдавая ему времени и сил даже больше, чем на самом деле было необходимо.
Баренд ничего не понимал. Болезненный, вечно плачущий младший брат лишил его матери: после того, как он столь близко делил со мной мое призрачное счастье, его вдруг вытолкнули из моей жизни, ничем не защитив от суровых требований отца, который лишь плеткой и бичом умел сломить сопротивление там, где не мог добиться уважения. Если Баренд, рыдая, приползал ко мне ночью, ища утешения, Пит вырывал его у меня — и уносил прочь; и понемногу я приучила себя таить свою горячую любовь к сыну ради того, чтобы уберечь его от наказания, которое отец, не желая обрушивать на меня, переносил на ребенка. И тогда я поняла, как ошибалась, надеясь утвердить свое будущее в детях: я была нужна лишь для того, чтобы производить их на свет, чтобы потом Пит отбирал их у меня и лепил по своему образу и подобию.
В конце концов Баренд смирился, словно объезженный жеребец. Он стал замкнутым, ни с кем не делился своими заботами, научился хитростью добывать то, что, несомненно, не смог бы получить в открытую. Он делал все, чего требовал от него Пит, и даже, кажется, гордился тем, что отец радуется, видя его силу и отвагу, но так и не избавился от угрюмой озлобленности, никогда не проявлявшейся явно, но внушавшей опасения уже самой своей немотой. Я переживала больше всех, поскольку ему казалось, что именно я бросила его, и, хотя душа у меня по-прежнему болела за него, я вскоре поняла, что потеряла его навсегда.
Не потому ли я стала тогда выказывать еще больше любви Николасу, которого втайне продолжала упрекать? О господи, как мучительно, как невыносимо все это было. Любить и ненавидеть, испытывать отвращение и тосковать: как трудно разобраться в оттенках нашего страдания, причинах нашего одиночества, жертвах наших собственных обстоятельств. И почувствовать предел нашего терпения. Как распознать момент начала бунта? Для нас он так никогда и не наступил. Быть может, в самом смирении и заключалось спасение; и все же временами казалось, что стираются границы между небесами и преисподней.
Я отчаянно цеплялась и за Николаса, ведь на примере Б аренда я уже знала, что его ожидает. О боже, часто думалось мне, как же он выживет в мире Пита? Уж лучше, пожалуй, родиться рабом, быть тупым, бессловесным животным, покорно сгибающим шею под ярмом и не задающим никаких вопросов.
Всякий раз, когда ты наконец добираешься до истины, оказывается, что она уже неверна, человек всегда — неужели это неизбежно? — опаздывает: наша свадьба, первый ребенок, потом второй, третий, Эстер, а теперь эта смерть и паралич Пита.
Я никогда не сомневалась в том, что потеряю и Николаса — этого хрупкого белокурого мальчика, — что его превратят в моего врага, человека из «их» мира, враждебного моему. Но переход оказался куда менее болезненным, чем то было с Барендом, может быть просто потому, что к тому времени Пит уже считал Баренда вполне «своим» и не торопился заявить о своих правах на менее крепкого младшего сына. И даже когда Пит наконец взял его в оборот, Николас еще многие годы тайком приходил ко мне, чтобы поделиться чем-нибудь сокровенным или получить ласку. Когда я принялась учить их читать и писать, занялась с ними арифметикой и рассказывала все, что помнила из истории и географии, Баренд неохотно подчинялся мне, зато Николас оказался прилежным учеником, он мог часами просиживать над Библией. Это совершенно сбивало с толку Пита, безделья он не простил бы никому, но даже ему было неловко попрекать Николаса тем, что тот занят изучением Священного Писания. Наконец выход был найден, Николасу позволялось читать по вечерам и по воскресеньям, а днем он должен был работать: шесть дней работай и делай всякие дела твои… Но и тогда я замечала, что каждый раз, когда Николаса посылали пасти овец, он клал в заплечный мешок Библию или же менее увесистый молитвенник. И конечно же, случалось, что, пока он читал Библию, лежа в чахлой тени кустов или деревьев, овцы разбредались и какую-нибудь утаскивал шакал. Тогда Николаса избивали, следовала одна из тех жутких порок, которых у Пита не избежать было ни рабам, ни сыновьям, порка длилась бесконечно, глухие смачные удары, один за другим, звук их проникал повсюду, куда бы я ни пыталась спрятаться, закусив зубами подол платья или фартук, чтобы сдержать яростные бессильные рыдания; в открытые раны втиралась соль, и по ночам я часами осторожно отдирала лохмотья рубашки от спекшейся крови, покрывавшей его спину, когда-то детскую, гладкую, мою.
Самым странным было то, что Николас, казалось, переносил все легче, чем его старший брат. Силой Николас никогда не отличался, но упорства ему было не занимать. Упорство это раздражало Пита, побуждая его к еще большей суровости, но мне кажется, что даже он поневоле восхищался Николасом. И лишь потом, перед самой свадьбой Баренда, Николас вдруг заупрямился по-иному, сделался угрюмым и вспыльчивым, нередко выходил из себя, чем вызывал у Пита новые вспышки ярости, а у меня — все чаще повторявшиеся мучительные головные боли, которые были для меня сущим проклятием.
Я никому на них не жаловалась. Я не должна выказывать слабость тела или духа, если хочу уберечь и сохранить последние крупицы гордости. Я не желала такой жизни и не смогла смириться с ней, но раз уж я убежала с ним тогда, то должна жить и выжить. Быть может, в этом и заключалась единственная отпущенная человеку возможность проявить свою любовь к этой суровой и жестокой земле: мягкость тут неуместна, только крепкие люди доживают здесь до старости. Но как много лет и как много страданий потребовалось, чтобы понять это.
Бывали и минуты слабости, обычно по ночам, когда я спрашивала себя: что произошло бы, если бы я отказалась убежать с Питом? Какая жизнь ожидала бы меня, если бы я вышла замуж за своего иностранца в щегольском наряде и стала бы мадам Даль ре? Вопрос оставался, но лишь тенью в сравнении с резким светом моего реального существования — неосуществимая, может быть, даже и не желанная мечта.
Правда, когда я почувствовала, что Николас окончательно отдалился от меня и ушел в их мужской мир, я чуть было не сломалась. Спасла меня Эстер, напитав новым млеком мою жестоко униженную гордость. Тоненький, темноволосый, задумчивый ребенок лет шести — такой появилась она у нас. Эстер была дочерью Лода Хюго, служившего управляющим у Пита в Хауд-ден-Беке. До той поры, пока мальчики не женились и не отделились от нас, Хауд-ден-Бек и Эландсфонтейн были частью фермы, на каждой из них был свой управляющий и несколько рабов и готтентотов, которые возделывали поля, пасли коз и овец. Лод был хороший работник, неразговорчивый, но надежный. Его жену, Анну, мы едва знали, он держал ее взаперти, как, впрочем, и Пит меня. Роза или еще кто-то из рабов говорили, что она несчастлива — бог весть, как они узнают подобные вещи, какими-то своими таинственными способами они безошибочно постигают скрытую жизнь хозяев, — чему у меня не было оснований не верить, поскольку Анна была еще очень молода, всего лет четырнадцати, если я правильно помню, ко дню своего замужества, и забеременела уже через месяц. И мать и ребенок едва выжили при родах; мы послали им в помощь Розу — эта женщина вездесуща, — но почти два года до своей смерти Анна Хюго оставалась прикованной к постели. В то время к ним приехала старшая сестра Хюго — присмотреть за ребенком (хотя ходили слухи, что Анна, пока была жива, ревниво цеплялась за него, не желая ни с кем делить свою любовь). Так продолжалось несколько лет, пока сестра Хюго вдруг не вышла замуж за вдовца (из Грааф-Рейнета или какого-то другого отдаленного района), который с продуктами на продажу проезжал мимо нас в Кейптаун. Они хотели взять девочку с собой, но Лод оставил ее у себя. Однако одинокая жизнь угнетала его, и он стал все более пренебрегать своими обязанностями. Пит, конечно, не мог этого потерпеть, и между ними начались ссоры. Со временем Лод пристрастился к выпивке. То он по нескольку дней подряд валялся пьяный у себя дома, то рабы находили его в вельде и притаскивали на ферму — весьма неприглядная сцена. Что они будут думать о нас, если мы не сможем служить им примером поведения? У нас в жизни есть свои правила приличия, и если мы забудем их, что станет с нами самими? Как-то раз ребенка привезли к нам. Протрезвев, Лод приехал за девочкой верхом. Пит злился, потому что уже не доверял Лоду, да и мне было тяжело отдавать этого ребенка, девочку, которую я могла бы ласкать, не мучаясь страхом, что ее уведут в свой мир мужчины, но я понимала, что для нее лучше жить с отцом, которого она, несомненно, очень любила. После унизительной ссоры с Питом я испытывала горькое утешение, видя, как этот худой жилистый мужчина, окаменевший в своем оскорбленном достоинстве, уезжает верхом на гнедой лошади, крепко прижимая к себе ребенка.
— Пора вышвырнуть его с фермы, — сказал Пит.
— Дай ему возможность исправиться. Он очень одинок.
— А мы все разве не одиноки? Это еще не повод для мужчины так опускаться.
— Но у него ведь ребенок.
— Он больше не достоин быть отцом.
И все же Пит дал ему такую возможность. Я думаю, что Лод очень серьезно пытался исправиться, однако не прошло и месяца, как из Хауд-ден-Бека к нам явился пастух и рассказал, что Лод снова напился до беспамятства и лежит дома, хихикая и что-то бормоча, а все овцы разбрелись по вельду. Пит взял бич и сел на коня.
— Только не поступай опрометчиво, — попросила я.
— Разве ты когда-нибудь видела, чтобы я поступал опрометчиво? — возразил он и ускакал.
Он вернулся на закате, бледный и мрачный, держа в седле перед собой девочку. Она не плакала, но в ее глазах я заметила выражение, какое мне поневоле случалось наблюдать раз или два у овцы, которой запрокинули голову, чтобы перерезать глотку.
— Что случилось? — спросила я, хотя и так уже все поняла.
— Выпорол его хорошенько и оставил одного подумать обо всем.
— Надеюсь, не при ребенке?
— Уведи ее в дом, — лишь буркнул он в ответ.
Уже на следующее утро рабы принесли из Хауд-ден-Бека весть о смерти Лода.
— Как ты мог, Пит? — спросила я.
Но Пит был тут ни при чем. Не перенеся последнего унижения, Лод застрелился.
— Понапрасну извел порох, и только, — сказал Пит.
— Произошел несчастный случай, — объяснила я Эстер. — Ты должна держаться молодцом. Твой отец умер.
— Его убил этот человек, — сказала она, глядя на Пита, но не повысив голоса.
— Нет-нет, ну что ты, — поспешно возразила я, боясь поднять на Пита глаза. — Твой отец вышел из дому ночью. Чтобы… поохотиться. А ружье вдруг выстрелило.
— Этот человек бил отца. Я сама видела.
— Ее пора как следует проучить, — взорвался Пит. — Я не потерплю такого у себя в доме.
— Ты пальцем не дотронешься до этой девочки, — сказала я, заслоняя собой от его гнева молча выпрямившегося ребенка. — Ты отнял у меня сыновей. Я никогда не вмешивалась, когда ты порол их, хотя сердце у меня всякий раз разрывалось. Но к этой девочке ты не прикоснешься. Никогда. Она моя. Я вышла за тебя и искупаю последствия этого шага каждый миг моей жизни. И все же я никогда тебе не перечила. Но если ты причинишь хоть малейшую боль этой девочке, я заберу ее с собой и больше ты меня не увидишь. Надеюсь, ты понял?
Он уставился на меня с выражением, которого я прежде никогда у него не замечала, и с трудом выдавил из себя короткий, похожий на лай смешок. Не сказав ни слова, он повернулся и вышел из дома; через распахнутую дверь я видела, как он в ярости быстро шагал по бледно-охровому вельду, высокий и надменный, величественный в своем одиночестве, но — и это я тоже видела — впервые потерпевший поражение.
— Пошли, — сказала я Эстер. — Ты запачкалась, тебе нужно помыться.
Она вовсе не запачкалась, я мыла ее только накануне вечером, перед тем как уложить в постель. Но я ощущала странную, таинственную потребность обмыть новорожденного, закрепить мою власть над этим ребенком, сделать его своим. В моих действиях не было ничего осознанного, то был слепой, дикарский инстинкт самки, слизывающей влагу с только что рожденного детеныша. И когда я сорвала с нее одежду и начала мыть ее в лохани у плиты на кухне — голая, она была похожа на птенчика, — я и в самом деле вдруг почувствовала, как мои груди заныли от пугающего и безнадежного желания покормить ее. Она стояла неподвижно, спокойная и безучастная к назойливым ласкам моей руки, обмывающей тряпочкой все ее маленькое хрупкое тельце, изящные лопатки, прямую спину, крепкие, аккуратные ягодицы, узкую грудь, чувственно мягкий живот с выступающим наружу пупком, бесстыдно откровенную в своей невинности промежность, крепкие тонкие ноги и костлявые коленки, и мне казалось, что я не просто мыла ее тело, но как бы творила его, вылепливая из глины, подобно тому как когда-то давно неким таинственным образом я в своем лоне придавала форму другим детям. Она никак не отозвалась, когда я сделала вид, что щекочу ее под мышками и между пальцами ног, не захотела прижаться ко мне, когда я завернула ее в большую простыню, чтобы вытереть, и, только когда я снова надела на нее платье (в тот же день я принялась за шитье новых), мимолетная улыбка — или она мне только почудилась? — на миг озарила ее лицо, не благодаря меня за труд, а лишь выражая облегчение от того, что ее наконец оставили в покое.
Уже через неделю она убежала в первый раз. Пастух нашел ее в вельде и привел обратно, она не сопротивлялась и ничего не объясняла, просто серьезно выслушала мои нежные упреки, а через день убежала опять. Я побила ее, чтобы внушить ей страх, воспрещающий подобное безрассудство, и необходимость послушания. Она не плакала. Кажется, она ни разу не заплакала за все те годы, хотя порой я видела, как лицо ее кривилось от усилий сдержать слезы.
Но она убежала снова. Потребовалось немало терпения, чтобы понять, что она убегала не от нас, просто иногда ее тянуло обратно, в свой дом в Хауд-ден-Беке. Я жила в беспрерывном страхе за нее — кругом были гиены, бабуины, змеи, леопарды и еще бог знает что, — но мне пришлось смириться, другого выхода не было, не держать же ее взаперти. Немного привыкнув к нам и отчасти даже смирившись с нами, она иногда рассказывала о своих путешествиях, спокойно говоря о том, как змея подняла голову и зашипела, но уползла прочь, едва Эстер прикрикнула на нее; как она заметила леопарда, крадущегося за ней следом, но отогнала его; как случайно наткнулась на гиену, схватившую ягненка, и спасла его. Пит приходил в ярость от ее историй, но я доказывала ему, что Эстер вовсе не хотела врать, что это просто ее фантазии и что все девочки в ее возрасте таковы. Я уговаривала ее не приукрашивать столь сильно то, что случалось с ней, иначе мы перестанем ей верить. Однако мне стало не по себе, когда после ее рассказа о гиене я узнала от пастуха, что он в самом деле нашел сильно покусанного ягненка, а на земле следы борьбы и отпечатки лап гиены, да и потом иногда бывало, что какая-нибудь невероятная история тоже вдруг оказывалась правдой. Всегда трудно было отличить в ее рассказе действительные события от фантазий, и это лишний раз подтверждало то, что я уже давно с болью поняла — несмотря на все мои старания привязать ее к себе, она всегда останется одинокой и независимой. Это было заложено в самой сути ее девственной природы, причем девственность ее не имела ничего общего с отношениями между мужчиной и женщиной; Эстер сама отвечала за себя, а то, чем она делилась с другими, было даром щедрости, на который она шла сознательно, к тому же даром второстепенным, никогда не затрагивающим главного.
И все же с ней я была не так одинока. Всякий раз, когда я решала научить ее чему-нибудь, она училась — училась шить, вышивать, читать, готовить, все делая быстро, точно, ловко и не успокаиваясь до тех пор, пока не достигала совершенства. Но и в этом она выказывала странную отчужденность, как будто то, что наполняло наши дни, по сути для нее не важно: она не против заниматься всеми этими делами, ей даже нравится делать их хорошо, но то, что действительно ее волновало, всегда останется ее тайной, которую никто не узнает. А потому ее общество, хоть и утоляло слегка мою потребность в близости, в то же время еще острее заставляло меня почувствовать свою ненужность.
Я любила расчесывать ее волосы, длинные черные волосы, доходившие ей до пояса, и она покорно стояла каждый вечер чуть ли не часами, пока я их все расчесывала и расчесывала: одно из немногих удовольствий, которые выпали мне на долю с тех пор, как я покинула Кейптаун. Роскошные, великолепные волосы. Но вот однажды без всяких объяснений она вдруг обрезала их большими ножницами для шитья. Когда, оправившись от потрясения, я заплакала, она смотрела на меня с тихим удивлением; то был один из редких случаев, когда я не выдержала и наказала ее. Но это было, конечно, бессмысленно. Она просто еще раз утвердила свою независимость, еще раз напомнила мне, что утешение, которое я находила в нашей близости, было лишь моей иллюзией, а вовсе не частью ее жизни.
Ночами я часто лежала без сна, с тревогой думая о ее будущем, обеспокоенная потаенной силой ее натуры. После того как Пит засыпал, дыша так глубоко, что казалось, будто сами стены дома раздуваются и сжимаются от его дыхания, я потихоньку вставала и босиком подходила к ее матрасу в углу комнаты. Даже во сне ее узкое личико было серьезным и ничего не открывало моему вопрошающему взгляду. Иногда она еще не спала, ее глаза в свете свечи спокойно встречались с моими, невозмутимые и мудрые.
— Почему ты не спишь, Эстер?
— Я просто думала. — Или: — Я смотрю на луну. — Или: — Я слушаю шакалов.
— Не бойся.
— Я не боюсь.
Как-то раз она вдруг спросила:
— А что вы с этим человеком делали в темноте?
Она упорно называла Пита «этот человек», и ни разу — «дядюшка Пит».
— Уже поздно, — глупо ответила я. — Пора спать.
— А он не убьет и тебя?
— Он вообще никого не убивал, Эстер.
— Он убил моего отца.
Даже воспоминание об отце встревожило меня не столь сильно, как то, что она прислушивалась, хотя и в темноте, к яростным нападениям Пита на мое покорное, но отвергающее его тело; на следующий же день я велела служанке перенести ее матрас в другую комнату.
Вскоре после той ночи, возможно как раз потому, что ее замечание сильно насторожило меня, я сделала еще более встревожившее меня открытие, обнаружив, какое очарование таилось для нее в вопросах плоти. Как-то днем я поспешно вошла в дом, чтобы не видеть отвратительной возни собак во дворе, и вдруг заметила Эстер, которая, стоя у окна, глядела на них с такой увлеченностью, что у меня перехватило дыхание. Рот у нее был полуоткрыт, она дышала глубоко и часто, сжав кончиками пальцев щеки, а темные глаза (когда она наконец обернулась ко мне) сверкали огнем.
— Что ты тут делаешь, Эстер?
— Ничего.
С отсутствующим видом она тыльной стороной ладони стерла с губ слюну. На щеке — ее кожа всегда сохраняла прекрасную матовую смуглость — я заметила отпечатки пальцев.
— Не нужно смотреть на этих собак.
— А почему, тетя Алида?
Ее величавая невинность лишь нервировала меня, мне не хотелось продолжать этот разговор. Но той же ночью я снова лежала без сна возле Пита — даже спящий, он казался исполненным яростной жизни — и с беспокойством думала об Эстер. Сможет ли она хоть когда-нибудь приспособиться к нашим нормам поведения? Ведь в ней таилась та же самая дикая гордость, из-за которой ее жалкий отец предпочел самоубийство позору. Но если она не смирится, что тогда ожидает ее? Какие глубокие и неизлечимые раны нанесут ей здешние мужчины? Я подумала о Пите и представила себе его и сыновей идущими по ферме, но после краткого приступа гордости — ведь это мои мужчины, я сама сотворила их — я снова содрогнулась от страха, не перед тем, каковы они, а перед тем, какими они для женщин уже никогда не станут. Один из них возьмет ее и осмелится истоптать, как топчут собаку, овцу, лошадь или корову. А может, она и сама всегда знала об этом и этот огонь жил у нее в крови? Не в нем ли и коренилась ее серьезность, такая непостижимая даже для нее самой, моей девственной почти-дочери?
То, что этим мужчиной окажется один из моих сыновей, я тогда не могла и подумать, лишь теперь, глядя в прошлое, понимаешь всю неизбежность случившегося, хотя на нем и лежит неприятный налет кровосмесительства. Они всегда бродили по ферме все вместе, втроем, и с ними, конечно, мальчишка-раб Галант.
Я плохо помню его ребенком. Он всегда был здесь, на заднем плане, в тени, как тень остальных. Я считала его сыном Розы и потому, вероятно, не любила, но меня невольно подкупала его мягкая, обезоруживающая манера держаться. Можно было отправить его гулять вместе с мальчиками и Эстер и ничего не опасаться, во всяком случае не опасаться ничего серьезного. Он, казалось, с самого рождения знал свое место. Еще бы, ведь у него не было жуткого опыта моих сыновей, которых оторвали от матери, чтобы сделать мужчинами в безжалостном мире их отца. Насколько я помню, Галант никогда не давал никакого повода для беспокойства. А теперь убил моего сына. Я потрясена этим, да и как тут не быть потрясенной, и все же я не в силах горевать, потому что сейчас мне кажется, будто все это минуло уже давным-давно. Я состарилась — и не годами, а душой. В моей последней близости к моему бессловесному мужу есть некая умиротворенность, но есть и усталость. Наши могилы поджидают нас на огороженном клочке земли, на склоне холма, чуть повыше дома. Было бы хорошо наконец-то отдохнуть. Я примирилась с этой землей. Но едва ли я когда-нибудь что-то пойму. Николас, сын мой.
Николас
Дни убоя скота на ферме самые хлопотливые. Каждый понедельник папа резал овцу, но это было обычное дело. Настоящий убой начинался осенью, после первых заморозков, после сбора бобов, когда полевые работы подходили к концу, а жизнь на ферме словно бы сворачивалась. Тогда и начинался убой быков, овец и свиней, чтобы готовить солонину, вяленое мясо, просоленные ребра, коптить колбасы, ветчину и бараньи ноги на долгие зимние месяцы. Для Баренда и Галанта эти дни были праздником; но меня мама не подпускала к кровавой бойне до тех пор, пока мое любопытство не одержало верх и я стал тоже проситься туда.
— Ты уверен, что сможешь глядеть на это? — спросил меня отец тем тоном, от которого я всегда сразу же чувствовал себя ни на что не годным.
— Я тоже хочу пойти, — канючил я. — Я хочу. Хочу.
Мама по-прежнему была против, но отец уже решил:
— Если ему кажется, что он выдержит, пусть идет. А мы посмотрим, мужчина ли он.
С наигранной храбростью я отправился вместе с остальными к большому плоскому камню. Но когда Ахилл перерезал глотку первой овце и кровь, хлынув струей, залила его штаны и голые щиколотки, мне стало плохо. Я отвел в сторону слезящиеся глаза, надеясь, что никто ничего не заметит, ведь иначе я так никогда и не узнаю, что будет дальше. Но от папы ничего не скроешь.
— Ну как, Николас? — насмешливо спросил он. — Что это ты такой бледный?
Едва не плача, я выдавил из себя:
— Я не хочу оставаться здесь.
Да, именно это я всегда чувствовал на ферме. Что я не хочу оставаться здесь.
Конечно, и тут бывали времена, когда все еще шло хорошо. Хотелось бы верить в это, но что толку? Что осталось от прежнего? Старые имена и обрывки воспоминаний; так бывает, когда туман спускается на холмы, обволакивая все бесцветной пеленой, только временами ты видишь скалу, холм или куст и понимаешь, что все они как-то связаны между собой, что вокруг раскинулся непрерывный и многозначительный мир, окутанный туманом и невидимый до поры. Все первородные чувства уже утратили свою силу, оставив взамен себя бессмысленную неясность. Когда-то давно ярко светило солнце. Когда-то давно были два мальчика и девочка или три мальчика вместе с Барендом, когда-то были два мальчика, когда-то мальчик и девочка, когда-то мальчик, которому стало плохо возле камня для убоя скота, и все дразнили его. Когда-то давно была женщина, которая никому не была матерью, но которую все звали мамой, мамой Розой, она осушала наши слезы, смеялась вместе с нами и, как никто другой в целом свете, умела рассказывать истории. Когда-то давно была запруда. Когда-то давно была гора. Когда-то давно, давным-давно. Плотный мир, закутанный ныне в туман.
Мама Роза. Эстер. Галант. Немногие уцелевшие из прошлого имена. Но и они покинули меня. Или корень зла таился во мне самом?
Родители не одобряли моей привязанности к маме Розе. Папе, в общем-то, было все равно, но мама сердилась и раздражалась:
— Ради бога, перестань называть ее мамой. Никакая она тебе не мама. Она готтентотка. И все эти визиты к ней тоже пора прекратить. Я не желаю, чтобы мои дети росли в хижине, как рабы.
— Но она рассказывает нам всякие интересные истории.
— Языческие глупости. Из-за нее вы все угодите в преисподнюю.
Когда я подрос и стал лучше разбираться в таких вещах, я изо всех сил старался обратить маму Розу в христианство. Мне очень хотелось, чтобы она стала верующей. Но даже большая коричневая Библия на голландском языке не произвела на нее должного впечатления.
— Я знаю эту книгу вдоль и поперек. Всю жизнь, каждый вечер я слушаю, как твой отец читает ее и молится.
— Так ведь это Слово самого господа, мама Роза!
— Вот ты его и слушайся, это твой бог. Мне до него дела нет.
— Он хозяин над всем миром. Он создал все.
— Тзуи-Гоаб, Красная Заря, создал все. Даже Гаунабу не удалось убить его. Разве я не рассказывала тебе об этом?
— Но об этом в Библии ничего нет.
Она сплюнула на пол, едва не угодив в меня.
— Тзуи-Гоаб не живет ни в какой книге. Он живет повсюду. В созревающей пшенице. В деревьях, выпускающих листья после зимы. В ласточках, улетающих отсюда и снова возвращающихся. В камнях. Во всем.
— Мама Роза, если ты не покоришься, господь пошлет с неба молнию и убьет тебя.
— Ну и пусть посылает. Пусть попробует.
— Но моя мама говорит…
— Пусть себе говорит, что хочет. А ты слушайся ее. Но она не смеет приказывать мне. Мое сердце принадлежит лишь мне одной. Тут, на ферме, я единственный свободный человек.
Последнее слово неизбежно оставалось за ней. Например:
— Будь поосторожнее, Николас, сегодня утром я видела, как в вашу с Барендом спальню залетела ласточка.
Моей книгой была папина Библия, ее книгой — целый мир. И в ней она умела прочитать все что нужно, когда требовалось разобраться в любом деле. Будь начеку, если вдруг услышишь, как кузнечик верещит на крыше — это предвестие надвигающейся беды. А еще падающая звезда, или человек, наступивший на могилу, или курица, прокукарекавшая петухом, или уханье совы, или птица-молот. Птица-молот считалась самым ужасным предзнаменованием: и когда она вглядывается в воду и вызывает души умерших, и когда летит в сторону заходящего солнца, и когда издает три грозных крика над хижиной или домом.
Ее предсказания и пугали, и злили меня. Я не мог найти им никаких опровержений в папиной Библии, не было способа освободиться от них. И понемногу мама Роза ушла из моей жизни, хотя я по-прежнему нуждался в ней: нечто столь же огромное и надежное, как гора, лишило меня, отодвинувшись в сторону, своей сени, и я остался нагим под палящим солнцем и ветром.
Галант оказался более отзывчивым на Слово Божие, хотя я и подозревал, что он скорее всего просто притворяется, чтобы не ссориться со мной: едва ли он действительно считал себя обращенным в нашу веру. Я настойчиво уговаривал его, пытаясь доказать ему важность и неотложность решения — сейчас или никогда: а вдруг господь уже нынешней ночью придет, чтобы забрать его душу, тогда он будет проклят навеки, а это куда страшнее, чем если в тебя ударит молния.
— Когда я умру, — беспечно отвечал он, — мне хватит времени, чтобы полежать в земле и подумать о боге.
Думаю, что влияние на него мамы Розы всегда было слишком сильным. И чтобы сохранить мир и не утратить его дружбы, я все реже приставал к нему с Библией. Потому что я нуждался в Галанте. Он единственный безоговорочно принимал меня как равного. Для всех остальных я стоял выше — баас или маленький баас, хозяин или маленький хозяин — или ниже: для папы и мамы, для мамы Розы и для Баренда, который вечно задирал меня и для которого, по-моему, наибольшим удовольствием было отбирать у меня то, что я по-настоящему любил. Маленькую тележку, которую смастерил мне Онтонг, жеребенка, которого хотели отдать мне, бабки, которые я хранил в мешочке, сшитом мамой Розой из кожи мускусной кошки, глиняных быков, змеиную кожу, коллекцию черепов, которую я так долго собирал — птиц, бабуинов, шакалов, кабанов, — а под конец он отнял у меня и Эстер. А вот Галант был моим товарищем. Порой мы, конечно, и ссорились, и дрались, но всегда на равных. Даже в этом, по-моему, ощущалась добрая рука мамы Розы.
Эстер появилась в моей жизни позже. Вначале она сторонилась нас. И только потом начала повсюду ходить за нами следом, держась на расстоянии и не говоря ни слова, но с молчаливой настойчивостью, которая сквозила в каждом ее движении. Когда я слепил ей глиняного быка, она приняла мой подарок очень серьезно, неловко держа его в руке и словно не понимая, что с ним делать; но потом я узнал от мамы, что она взяла его с собой в постель. И очень огорчилась, когда однажды утром увидела, что игрушка разбилась — то был один из редких случаев, когда она заплакала.
— Не горюй, я сделаю тебе другого, — утешил ее я.
Мы отправились к запруде, и она молча следила за мной большими темными глазами, пока я лепил нового быка из желтоватой глины. Странно было видеть, с каким благоговением она обращалась с этой простой, грубой игрушкой, все время нося ее при себе. С того дня мы стали неразлучны. Сначала нам бывало немного неловко, когда она вместе с нами отправлялась к запруде. Мы пытались отогнать ее, швыряя в нее камнями и комьями глины, но она лишь отходила чуть подальше, а как только мы забирались в воду, возвращалась назад и усаживалась возле нашей сваленной в кучу одежды, словно сторожа ее. Нам было не по себе, когда мы голые плескались в запруде, а она чинно сидела на берегу в длинном платье, кожаных башмачках и украшенной цветами шляпке, но затем мы махнули рукой на свое смущение и просто перестали обращать на нее внимание.
Запруда была нашим самым любимым местом на ферме. Спустя много лет, уже женатым, я приехал как-то раз в Лагенфлей за плугом и, не застав папы дома, снова отправился туда. На мой повзрослевший взгляд, запруда показалась какой-то неприметной, заросшей тиной, грязной, а главное, уныло крошечной. Но в детстве она была для нас огромным миром. Взрослые туда не ходили. Она принадлежала только нам, детям. Работа, убой скота, порки, страх — все это был другой, взрослый мир, он оставался там, за ивами, в нем мы чувствовали себя чужаками. А этот мир у запруды был только нашим, незыблемым и как бы стоящим вне времени в его бесконечном покое. И постепенно Эстер тоже вошла в него.
Как-то днем, желая покомандовать, Баренд снова попытался прогнать Эстер, а когда она отказалась уйти, вдруг схватил ее и столкнул с берега в воду. Это произошло так неожиданно, что мы не успели помешать ему. Он и сам перепугался, поняв, что наделал. Не зная, что теперь предпринять, мы стояли, испуганно глядя на Эстер. Она пару раз вскрикнула, побарахталась, наглотавшись воды, а потом начала старательно грести к берегу. Ей было трудно двигаться в намокшей тяжелой одежде, да к тому же она не умела плавать; правда, до берега было недалеко, и запруда в том месте была неглубокой. Вымокшая и перепачканная илом, она наконец выбралась на берег и встала на четвереньки, откашливаясь и тряся мокрой головой, точно собака.
— Мама убьет нас, если узнает об этом, — испуганно сказал я. — Нужно как-нибудь высушить ее одежду.
Но не успели мы подойти к ней, а она уже как ни в чем не бывало сбросила с себя мокрую одежду и развесила ее на кустах. И затем, словно это было совершенно естественно для нее — а разве нет? — улеглась возле нас на траве, чтобы обсохнуть. Когда мы наконец отправились домой, платье ее еще было мокрым и грязным, но она, должно быть, рассказала маме какую-нибудь невероятную историю — Эстер всегда умела обвести маму вокруг пальца, — поскольку нас никто ничего об этом не спросил. С того дня она уже всегда купалась вместе с нами. И ни один из нас, мне кажется, не придавал этому ни малейшего значения. Но это, конечно, не могло не кончиться. И вот как-то весной, когда выдался первый теплый день после очень долгой и очень суровой зимы, которая все не хотела уходить и не пускала нас к запруде, мы все отправились купаться. Но едва мы подошли к айвовой изгороди, идущей вдоль дороги к запруде, как Баренд вдруг остановился и обернулся. Эстер шла следом, немного отстав от нас.
— Подождите, — сказал Баренд. — Слушай, Галант, ты теперь не будешь купаться с нами, когда тут будет Эстер.
Тон, которым он это произнес, так напомнил мне папин, что я невольно вздрогнул.
— Почему? — спросил Галант.
— Потому что она девочка.
— А как же тогда вы?
— Она такая, как мы, а ты не такой.
Я оглянулся назад и увидел платье Эстер, мелькавшее за деревьями. Через несколько минут она снимет его и как обычно будет купаться голой. Но что случилось за эти месяцы? Отчего у меня при этой мысли вдруг перехватило дыхание? Впервые в жизни, позабыв обо всех наших прежних ссорах, я был на стороне Баренда, а не Галанта. Если не считать того, что я бы с удовольствием отослал прочь и самого Баренда. Но Галанта мне обижать не хотелось, ведь он был моим другом. Мне было перед ним неловко.
Некоторое время я не знал, что делать. А потом, опустив голову и смущенно чертя ногой круги на земле, пробормотал:
— Галант, я забыл сказать тебе. Папа велел передать, чтобы ты присмотрел за гнедой кобылой. Она хромает.
Он, должно быть, понял, что я вру. Но лишь сощурил глаза и язвительно спросил:
— А кто, собственно, собирается купаться? Утки загадили всю воду.
Мы с Барендом молча смотрели, как он удалялся, поддавая босой ногой камешки.
— Зачем ты соврал ему? — спросил Баренд.
— Не мог же я просто так прогнать его.
Баренд что-то раздраженно буркнул. Но прежде чем успела вспыхнуть ссора, к нам подошла Эстер.
— А что случилось с Галантом? — спросила она.
— Ему расхотелось купаться, — ответил Баренд, глядя куда-то в сторону. — Сегодня мы пойдем втроем. — Мне показалось, что он торопится. — Ну что, пошли? Нечего торчать тут весь день.
Мы шли через заросли кустов и деревьев к запруде, странно смущенные, словно никогда не бывали тут прежде, словно случилось нечто такое, к чему мы были еще не готовы, словно ощущали на себе пристальные взгляды взрослых.
А подойдя к запруде, еще долго медлили, используя любой предлог, чтобы протянуть время: бросали в воду голыши, гонялись за утками, шлепали босиком по грязи, глазели на свисавшие с деревьев остатки прошлогодних птичьих гнезд.
— Ну что, Эстер? — спросил наконец Баренд. — Ты будешь сегодня купаться?
— А тебе какое дело? — сказала она. — Что это с вами сегодня?
Обиженный тем, что она своим замечанием как бы объединила меня с Барендом, я решил покончить с этим.
— Давайте кто первый окажется в воде? — предложил я.
Но они не двинулись с места.
— Снимай платье, — потребовал Баренд.
— Зачем?
— Может, ты собираешься купаться в платье?
— Что это с тобой?
— Давай, или ты боишься?
Она пристально поглядела на него, потом спокойно закинула руки за спину, чтобы развязать завязки на платье. Мы уставились на нее так, словно видели впервые. В горле у меня пересохло, я не мог даже глотать.
— Нет, — вдруг заявила она, опустив руки. — Сегодня мне что-то не хочется купаться.
— Снимай платье! — заорал Баренд, снова подражая отцовской манере отдавать приказания.
Губы Эстер упрямо дернулись, и она повернулась к нам спиной. Баренд резко рванулся вперед, словно хотел остановить ее. Я уже готов был броситься за ним, чтобы помешать, но заметил в нем какую-то непривычную робость. И вдруг он принялся уговаривать ее, в голосе его слышались интонации, которых я никогда прежде у него не знал:
— Если ты снимешь платье, я дам тебе сахара, сколько попросишь.
Она обернулась и, подняв брови, то ли удивленно, то ли вызывающе поглядела на него.
— А твою новую тележку? — спросила она.
— Все, что хочешь.
Я затаил дыхание, пораженный столь не свойственной ему вспышкой щедрости.
— И змеиную кожу? — упрямо продолжала она.
— Я же сказал: все, что хочешь.
— А ты позволишь мне выстрелить из твоего ружья, когда мы пойдем на охоту?
Он немного поколебался, но потом все же кивнул.
Она стояла, молча обдумывая ситуацию. В воде плавали и ныряли утки. Я отвлекся, глядя на прозрачные крылья стрекозы. Далеко во дворе кудахтали куры.
— Ну пожалуйста, — сказал Баренд.
— Прекрати это, слышишь! — набросился я на него. — Эстер, не позволяй ему!
— Нет, — спокойно сказала она. — Сегодня я, пожалуй, не буду купаться.
А затем отвернулась и пошла прочь.
Я ожидал, что Баренд сорвет злость на мне, но он лишь отошел в сторону, уселся на корточки и принялся сосредоточенно месить глину. Я готов был заплакать.
Через некоторое время он швырнул комок в воду и сердито обтер руки о штаны.
— Может, ты думаешь, что меня интересует эта глупая девчонка? — спросил он.
После того как мы вечером погасили в спальне свечи, я еще долго лежал, уставясь в потолок, словно собираясь пробуравить его взглядом. Что-то у меня в душе готово было рыдать, сам не знаю отчего. И в то же время я чувствовал безмерное облегчение: ведь Баренду не удалось подчинить ее своей воле. Нет, даже не от этого. Баренд меня мало беспокоил. Я думал об Эстер, только о ней. Я не хотел, чтобы она ходила с нами купаться. То, что произошло днем, как бы пробудило во мне собственнические притязания на нее. Я еще не ощущал своего права владеть ею, просто мне хотелось взять ее под свое покровительство, принять на себя обязательства, требовавшие от меня чего-то гораздо большего, чем я мог в самом деле дать ей тогда.
— Когда ты захочешь пойти выкупаться, я буду следить, чтобы тебе никто не мешал, — сказал я ей на следующий день, а затем почему-то добавил: — Обещаешь?
Она, конечно, не поняла, почему я сказал так. Да я и сам едва ли до конца понимал тогда это. Она бросила на меня быстрый проницательный взгляд и, слегка пожав плечами, ответила:
— Хорошо.
И с того времени, всякий раз когда она шла купаться, я прятался за деревьями так, чтобы не видеть ее, и защищал ее от всего мира. Я ложился на землю и закрывал глаза, пытаясь представить ее себе такой, какой я видел ее прежде: смуглое, барахтающееся в воде тело, гладкое, как у выдры, длинные, мокрые и сверкающие на солнце волосы, липнущие к телу, когда она выходила из воды, ее таинственное и прекрасное девичество. И я ни разу не схитрил, ни разу не попытался подглядывать за ней, даже когда она сама звала меня, предлагая купаться вместе с нею. Ведь я должен был охранять ее и от себя самого, более всего от себя самого. Ведь все мы всего лишь грешная плоть, осужденная на адские муки.
Заботило ли это ее хоть немного? Что я мог бы сказать или сделать, чтобы заинтересовать ее? Я смастерил мебель для ее выструганной из дерева куклы, выдул птичьи яйца и сделал из скорлупок хрупкое ожерелье, собирал для нее бабки. Она спокойно и благосклонно принимала мои дары, держась при этом так, словно ей было все равно, дарю я их ей или нет.
Уже тогда во мне исподволь созрело решение: я женюсь на ней. То, что она переселилась к нам, я воспринимал как знамение свыше. Все, за что я цеплялся в своей непрочной жизни, было отнято у меня. И только благодаря Эстер я еще мог продолжать жить.
Ей я решался доверить то, чего никогда не сказал бы никому другому, даже маме: как я боюсь, как ненавижу эту ферму, как мне хочется уехать отсюда. Я рассказал ей о своем намерении уехать, как только стану достаточно взрослым, уехать далеко в Кейптаун, а то и того дальше. Я стану пастором или в крайнем случае возчиком. Кем угодно, лишь бы не оставаться навеки прикованным к жизненным обстоятельствам, в которых другие чувствовали себя совершенно свободно и естественно, но к которым я никак не мог приспособиться. Она молча слушала меня и кивала, когда я ждал от нее ответа. Она вроде бы доверяла мне, во всяком случае я не ощущал в ней недоверия — и это придавало мне решимости.
Острыми колючками терновника мы расцарапали кожу на запястьях, выдавили капельки крови и, смешав их, скрепили наш договор. Она поцеловала меня холодными сухими губами.
И все же она оставалась отчужденной, этого не могло изменить ничто. А когда ей хотелось побывать на отцовской могиле, она убегала в Хауд-ден-Бек, и даже я не в силах был помешать ей. Мне нравилось касаться ее длинных черных волос, и она с отсутствующим видом терпела мои ласки, но, поняв, сколь сильно я пристрастился к этому, обрезала волосы. В ней всегда было нечто суровое и робкое одновременно. И все же я был доволен. Ведь все это временно: когда-нибудь мы с ней поженимся, и она великодушно откроется мне.
— Когда мы поженимся, я попрошу папу, чтобы он отдал мне Хауд-ден-Бек, — сказал я. — И ты сможешь жить там, где тебе больше всего хочется.
Она уставилась на меня с каким-то странным выражением.
— По-моему, ты говорил, что не хочешь быть фермером?
— Я стану фермером, если ты этого хочешь.
— Ну, до этого еще далеко. Впереди еще много времени.
Но времени оказалось меньше, чем мы думали. Мы ждали, когда ей исполнится пятнадцать. В наших краях это вполне зрелый для замужества возраст.
Накануне дня ее рождения, того дня, когда, как мы условились, я должен поговорить о наших планах с папой, я был так взволнован, что не мог заснуть. Казалось, сердце вот-вот разорвется у меня в груди.
— Что это с тобой? — недовольно пробурчал Баренд. — Ворочаешься, как черт знает кто.
— Баренд, я женюсь.
— Ты что, спятил? На ком ты собираешься жениться?
— На Эстер, конечно. Завтра ей исполняется пятнадцать. Я поговорю с папой.
— А ее ты спросил?
— Разумеется. Уже давно.
Он замолк так надолго, что я решил, что он заснул.
— Баренд, — окликнул я его, не в силах сдержать своего волнения. — Почему ты молчишь?
— Никогда не ожидал от тебя такого.
Бог его знает, что он имел в виду.
На следующий день, когда мы в полдень все вместе сидели за обеденным столом — обычная трапеза: мясо, молоко, хлеб, — папа, окончив молитву, поднял голову и сказал:
— По-моему, Эстер теперь уже вполне взрослая, чтобы выйти замуж.
— О чем это ты? — спросила мама, от удивления снова поставив на стол тарелку, которую только что взяла в руки.
Эстер слегка покраснела и уставилась глазами в стол. Я очень удивился тому, что она успела поговорить с папой раньше меня, но от нее всего можно было ожидать.
— Сегодня утром Баренд рассказал мне о своих планах, — сказал папа, разрезая мясо.
Меня будто ударили ногой в пах, перед глазами все поплыло, голоса звучали словно издалека. Эстер подняла голову и посмотрела на папу, потом на Баренда, затем на меня. Такой бледной я ее еще никогда не видел.
Мой собственный голос показался мне каким-то чужим, когда я попытался вмешаться:
— Но это же невозможно. Мы с Эстер…
— Баренд — старший, — резко оборвал меня папа. — Ему и решать. По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы мои сыновья выбирали себе в жены высоких и крупных женщин. Чтобы потомство Ван дер Мерве было сильным и выносливым. Но если Баренд решил…
— А разве у Эстер нет права решать? — спросила мама с несвойственной ей твердостью.
— Я думаю, что Баренд уже поговорил с ней, — сказал папа.
— Конечно, — ответил Баренд. — Разве не так, Эстер?
— Видит бог… — взорвался я.
— В этом доме не поминают имени господа всуе, — мрачно заявил папа. — В любом случае тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись. Ну ладно, что ты скажешь нам, Эстер?
Она снова подняла голову и посмотрела, но не на кого-то из нас, а просто куда-то в пустоту, шевельнула губами, будто пытаясь произнести что-то, и затем вновь опустила голову. Даже смуглость кожи не могла скрыть ее бледности. Если бы она сказала хоть слово, если бы возразила тогда! Я не мог и представить себе, что она отвернется от меня и предаст так же, как и все остальные. Должно быть, сам господь пожелал, чтобы все свершилось именно так. Но если это его воля, то, значит, он разглядел во мне некий чудовищный изъян, достойный предельно жестокой кары.
И все же были времена, когда мир вокруг меня был еще целостным. Ранним утром, скрючившись от холода, мы с Галантом и мамой Розой сидим на корточках вокруг большого железного котла, зачерпывая руками кашу, и глаза у нас слезятся от дыма. Вечерами во время молитвы, мы, пятеро, за длинным столом, освещенным керосиновой лампой, рабы темной кучкой расположились на полу возле кухонной двери, и голос папы рокочет над нами, вылепливая каждое слово, будто фигурки из податливой глины. И поздно вечером, когда лежишь, съежившись, под одеялом, ветер рвет солому с крыши у тебя над головой и мама входит со свечой, чтобы заботливо укрыть и обнять нас, а потом немного посидеть с нами. И на восходе солнца в вельде, когда мы с Галантом идем за овцами в счастливой уверенности, что впереди долгий день и нас никто не потревожит. Баренд, Галант, я и Эстер играем возле запруды и лазаем за бледно-голубыми яйцами в гнезда птиц-ткачей. Эстер, прижимающая свое запястье к моему, чтобы смешать капельки нашей крови. Редкие и потому особенно радостные поездки в Кейптаун с папой…
Папа. Всегда папа. Всегда только он один. Все остальные казались тонкими веточками, которые отламываешь, чтобы подобраться к мощному стволу огромного дерева. Но он всегда сторонился меня. Мне к нему не удавалось пробиться. И в день рождения Эстер самое мучительное оскорбление нанесла мне не она, и не Баренд, а папа, который словно бы окончательно отверг меня своим уничтожающим замечанием: «Тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись». Я всегда пытался преодолеть свое одиночество, господь тому свидетель. Еще совсем маленьким я старался, как умел, помочь маме, но даже она выталкивала меня из гнезда. Я всегда отдавал Баренду все, что он требовал, и даже больше, напрасно надеясь, что он полюбит и признает меня. Все в своей жизни я поверял Галанту, потому что мне хотелось, чтобы он был мне другом. А для Эстер я готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы только она навсегда осталась со мной. Но за всем и за всеми неизменно был папа, единственная вершина, возвышающаяся в долине нашей жизни.
Не было никого сильнее его. Никто не мог с такой легкостью подняться по лестнице на чердак с полным мешком пшеницы на плечах. Никто не мог сравниться с ним в ловкости, с которой он заваливал бычка, холостя его. «Грош цена тому фермеру, который не может превзойти в работе своих рабов», — любил говорить он. И никто — ни на нашей ферме, ни по соседству — не мог тягаться с ним, когда он пахал, сеял, копал землю или что-нибудь строил. Мне хотелось, чтобы он гордился мной. Или хотя бы признал во мне мужчину. Но на его взгляд, я никуда не годился.
— Пора становиться мужчиной, мой мальчик. Мужчиной до мозга костей. А ты все еще маменькин сынок.
— А каким я должен стать, папа? Объясни мне. Что значит быть мужчиной до мозга костей?
— Настоящий мужчина зарастает волосами на груди и не дает никому проходу, как жеребец, — отвечал он, сопровождая свои слова гоготом, похожим на рев быка.
У Баренда выросли волосы на груди. Не такая жесткая подушка волос, как у папы, но достаточно впечатляющая. А я, к моему вечному стыду, так и остался гладким. Даже это было для меня знаком того, что, вероятно, я никогда не смогу соответствовать папиным требованиям. Но я старался. Клянусь господом богом, старался. Я работал на гумне, пока не падал от усталости. Я жал пшеницу вместе со всеми, пока не получил солнечный удар и меня не унесли домой с жаром и помутившимся на много дней сознанием. Когда мы ездили в Кейптаун, я вызывался править волами, стараясь изо всех сил, чтобы он похвалил меня, но в ответ получал лишь снисходительную улыбку, словно я забавлял его. Он ни разу так и не признал во мне мужчину. И когда в тот день он сказал: «Тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись», он словно вынес мне окончательный приговор, подтвердив, что я для него полное ничтожество: мужчина без волос на груди.
И все же я однажды попытался снова. Ведь надежда неистребима. (А не была ли и моя женитьба на Сесилии, дочери Яна дю Плесси, еще одной попыткой доказать ему, что я мужчина? Нет, не думаю. Скорее это была попытка спасти свою репутацию, доказать уже не ему, а самому себе свою способность выжить.) Та история со львом приключилась вскоре после дня рождения Эстер, и, может быть, именно поэтому я и решил, что мне представился еще один случай завоевать его расположение. Ко дню ее рождения о звере уже прослышали в окрестностях: до нас доходили вести о разбое, учиненном им то на той, то на другой ферме, об овце, украденной ночью из крааля, о следах, пугающе крупных для леопарда или другого привычного хищника. А потом на одном из папиных пастбищ пропал ребенок-раб: его утащили прямо из хижины, где он спал вместе с другими рабами. В ту же ночь в наших горах раздался львиный рев — звук, от которого трепещешь всем телом. Никогда прежде тебе не приходилось слышать его, но стоит ему впервые послышаться, как в тебе пробуждается какой-то темный инстинкт, который узнает его и откликается на него так, словно ты ожидал его с самого рождения. Одинокий рев, сопровождаемый гулким громыханием, будто сама гора издает эти звуки, а потом ритмичные вздохи, такие низкие, что их едва различаешь, — тайная близость, втягивающая и выбрасывающая тебя, — вдох и выдох. В этом звуке чудилось дыханье самой этой страны, неукрощенной и неукротимой. В наших краях уже бог весть сколько времени не бывало никаких львов, и вдруг на тебе — он снова тут.
Не было надобности посылать за соседями; уже на следующее утро без всяких приглашений весь Боккефельд собрался на охоту. Все, разумеется, поняли, в чем дело, и решили не возвращаться домой, пока незваный пришелец не будет убит. В этом и была вся суть: не просто охота, а свидание со смертью. Не просто лев, но сама смерть, которая вечно рыскала среди нас, даже если мы не всегда умели так ясно распознать ее голос.
И это, конечно, был случай доказать папе, что не следует пренебрегать мной и отвергать меня.
Та утренняя охота словно вобрала в себя все наши прежние погони за хищниками. Мы всегда охотились вместе, идя гуськом по следам леопарда, гиены или рыси; впереди папа, потом Баренд, за ним я, а замыкал шествие Галант. Когда становилось страшно, мы близко придвигались друг к другу, наступая на пятки один другому, и, если папа вдруг останавливался, мы все с разгону наскакивали на него. Однажды мы преследовали раненого леопарда, который уже не раз ускользал от нас, и папа то и дело предупреждал нас, чтобы мы не наступали ему на пятки, но мы были так напуганы, что не обращали внимания на его слова. Пока наконец он не рассвирепел и не заорал:
— Баренд! Если ты хоть раз еще налетишь на меня, я тебя прибью.
Оцепеневший от страха Баренд лишь пробормотал в ответ:
— А я тогда прибью Николаса.
(А я — Галанта.)
И все же, несмотря на раздражение, во время охоты между нами возникала некая близость, общность перед лицом невидимой угрозы, будь то леопард, которого мы потом нашли мертвым в чаще, или кто-нибудь еще. Я ощущал эту близость и в то утро, когда мы с Галантом и горсткой почти невооруженных готтентотов отправились на поиски льва. На несколько часов все, что случилось недавно, казалось, отошло на задний план и стало мелким, незначительным, словно и вовсе не было никакого дня рождения Эстер. Я был так погружен в собственные мысли, что лев напал на нас прежде, чем я успел осознать это. Я непроизвольно вскинул ружье, но курок заело. Убегая прочь без оглядки, я уже почти примирился с неизбежным, как вдруг услышал за спиной выстрел — лев рухнул на меня и повалил на землю. Но даже и тогда я еще не мог поверить, что остался жив. Я продолжал тупо удивляться заурядности смерти, когда Галант схватил меня и начал тормошить, поднимая на ноги. Я был весь в пыли. Глаза у меня слезились. Но ужаснее всего была мысль о том, что я выказал себя трусом. Это было дьявольски нечестно: ведь сплоховало ружье, а не я. А когда я увидел папу и остальных охотников, то оказался не в силах сказать им в лицо всю правду.
— Он чуть не прикончил Галанта, — пробормотал я, тяжело дыша, подошедшему ко мне Баренду. — Я попал в него в самый последний миг.
Но на самом деле я говорил это папе, который стоял сзади, заслоняя от меня солнце своей широкополой шляпой.
Не все ли равно Галанту? Какая ему разница, кто застрелил льва, он или я? Для него это была обыкновенная охота, обыкновенный зверь, не тот, так другой. А для меня это было последней попыткой вновь обрести то, что, как мне следовало бы знать, было невозвратно утрачено.
— Вот те на! — пробормотал папа, поглядев на меня, а потом отвернулся и подозвал охотников. Он наверняка прочел правду у меня в глазах. Никакого сомнения. И его презрительное молчание было куда тяжелее любого громогласного обвинения во лжи.
Все толпились вокруг, что-то возбужденно крича, смеясь и пиная мертвого зверя ногами. Но когда они наконец ушли, мы остались вдвоем, чтобы освежевать льва. Как всегда вдвоем. Галант и я. Если бы он сказал мне хоть что-нибудь! Но его тактичное молчание жгло меня чувством вины более глубоким, чем то, которое можно искупить словами. Я проклинал этого мертвого льва, пока мы сидели на корточках, сдирая с него шкуру: как он смел лежать тут столь жалким, как смел позволять нам делать с ним такое? Ведь всего лишь несколько минут назад он был еще так ужасающе, так чудовищно жив! А сейчас перед нами лежала пыльная туша, грива вымазана грязью, вся в колючках и сухой траве, зубы сточены и сломаны, голова слишком большая по сравнению с костистым телом, глаза подернуты голубоватой пеленой смерти, когти затуплены. Я не хотел даже глядеть на него: быть таким недостойно льва!
Великан, ночное рычащее чудовище, которое могло вдохнуть и выдохнуть тебя с низким звуком непотревоженного дыхания, превратилось в жалкую жертву всего самого скверного в нас. Его смерть стала смертью чего-то, что я хотел обрести, чего-то такого, что желало остаться нетронутым, чего-то важного, что все прочие не посмели бы отрицать. Как побежденные, брели мы обратно к дому, таща его шкуру, словно свидетельство нашего поражения: я впереди, Галант далеко позади. И если бы мне вздумалось вдруг остановиться, то уже никто не наскочил бы на меня сзади. И все же главным моим чувством было нежелание оставаться здесь, невозможность оставаться здесь. Как в тот далекий день возле камня для убоя скота.
Ахилл
Мне нечего сказать о тех днях. То, что было, было уже потом. Это их забота, не моя. И страна эта их, а не моя. Моя родина там, откуда меня привезли на корабле, где растут деревья мтили, а это очень далеко отсюда. Они пришли с длинными ружьями, чтобы охотиться на нас, как охотятся на зайцев. Стариков пристреливали или загоняли в чащу. Им были нужны только молодые. Они ощупывали нас — руки, ноги, тела, проверяли зубы, мяли груди наших девушек. А потом гнали от одной стоянки до другой, по долгой, длинной дороге, что идет от Зимбабве к морю, туда, где растут пальмы и солнце поднимается из воды. Тех, кто был не в силах идти, бросали на дороге умирать. Остальных грузили на корабли, прикованных цепью друг к другу, ряд за рядом. В цепях не встать и не повернуться. Те, кто умирал, умерли в цепях. А кто не помер, те выжили. Солонина, свинина, кислое пиво. И вот мы в Кейпе, ходячие скелеты, с шатающимися зубами, пропахшие уксусной вонью. Целый месяц вдоволь еды и арака, чтобы откормить нас немного, а потом работа в каменоломне возле Львиной горы, чтобы поднакачать мускулы. И вот уже аукцион и удары гонга.
Я сбежал с первой же фермы. Меня поймали и выпороли. Я убежал опять. Поймали и выпороли. И еще раз. Потом продали на ферму подальше. Я убежал и оттуда, хозяин поймал и выпорол. Потом снова продали и я снова убежал. Мне выжгли железом клеймо и бросили в Черную дыру в крепости. Рано или поздно перестаешь думать о побеге. Понимаешь, что все без толку. Знаешь, что тебе уже никогда не отыскать дороги на родину, в ту страну, где растут баобабы и деревья мтили с белыми голыми стволами и темной кроной, где ты носил свое настоящее имя, Гвамбе, где возле тебя была твоя мать, где твой отец восседал рядом с другими вождями баконде. Здесь у тебя другое имя — Ахилл. А это значит — раб.
Большой человек купил меня в Кейптауне и привез в своем фургоне в здешние края за горами. Как только мы добрались до фермы, он выпорол всех своих рабов. И меня тоже. Чтобы припугнуть нас. Я больше и не пытался убегать. Тут стареешь до времени. Но ничего не забываешь. По ночам мне снится луна, которая поднимается из темного моря, плещущегося о берег. Эта рана никогда не затянется, она вроде шрама от каленого железа, только ее никому не видно. Но болеть она не перестает ни на миг.
Что они могли знать об этой боли? Они были всего лишь детьми. Баренд и Николас, которым нравилось дразнить меня или прикрикивать на меня, точно я был для них мальчишкой. Галант, которого я учил править фургоном: я видел, что у него ловкие руки, но разве могло мне прийти в голову, что он научится убивать? И маленькая девочка Эстер, которая частенько приходила поглядеть, как мы работаем, и приносила для нас в кармане передника печенье с кухни. Она-то была другой, не такой, как остальные. Но и она была всего лишь ребенком, и что она могла понять?
Эстер
Ощущение вещей. Плотность ткани. Ворсистый мех, мягко податливый под рукой: папина куртка. Истертая головка глиняной трубки, зазубренный уголок там, где она отбилась, когда он упал. Пугающий металлический холод ружейного ствола. Большая крепкая рука, обхватывающая меня, а потом шелк и щетина лошади, трущиеся о мои ноги.
Кухня, жилая комната, спальня — мой мир. Твердая крышка стола из желтого дерева во время обеда, легко поддающаяся ногтю, гладкая под ладонью. Мягкая на ощупь свеча, плавно сужающаяся к грубому фитилю. Медь, железо, дерево. И запахи: корица, гвоздика, лук, дым горящих дров. Матрас, набитый сеном, приятно покалывающий голую кожу, постепенно прилаживающийся к настойчивому натиску тела.
И мир за дверьми. Деревянная калитка, истертая и засаленная прикосновениями рук. Зазубренность камня, саднящего кожу, рубцы и трещины, тяжесть камня в руке. Сухая трава в птичьих гнездах и великолепные хрупкие скорлупки крошечных яиц, грубая кора ивового сука, царапающего кожу на бедрах. Хлюпанье грязи, обтекающей пальцы рук и ног. Ощущение воды: капли, сбегающие из чашевидной ладони к локтю; прилив холода к лицу, погруженному в горный источник; влага, сладострастно обмывающая окунаемое в нее тело. (Что он делал, таясь и сторожа меня, пока я купалась? Охранял от других или тайком подсматривал сам? Надеясь, что он подсматривает, я предлагала ему, невидимому, больше себя — вот, смотри, мое тело, смотри же, какова я есть, смотри, на что я способна, — чем тогда, когда он бывал рядом, раболепный и заботливый.)
Но дело не только в этом. Важно не просто чувствовать, но и ощущать, когда тебя чувствуют. Не просто ощущать своей кожей поверхность камня, но и знать, как сам камень ощущает тебя. Его тяжесть в руке, его покой, его немота. И как тебя ощущает дождь. Первые капли, их запах и то, как они, оживляя, изменяют запах травы, вереска, лишайника, земли. Дождь, промачивающий тебя насквозь, одежда, в холодном вожделении липнущая, присасывающаяся к твоему телу, как он присосался тогда после укуса змеи; осознание собственного тела, каждого члена, изнуряющее жжение внутри. Я бы так и сидела, если бы мне позволили, опустив голову, поджав ноги, вроде камня, чтобы чувствовать, как дождь омывает меня, проникая в меня, пронизывая насквозь. Гром. Не приходящий сверху из туч, а сотрясающий землю. Желание оставаться босой, неприкрытая нагота желания. Объятые пламенем небеса, громыханье гор, рушащихся вокруг, растворение в простой текучести бытия, создающей и перевоссоздающей меня, влажной и восхитительной. Однажды, когда я сбежала в Хауд-ден-Бек, случилась гроза, первая в моей жизни гроза, в которой мне удалось стать частью ее самой; а когда они нашли меня — почему в таком бешенстве? почему в таком едва ли не отчаянье? — мне уже было не важно, что я так и не добралась до своего дома. Я очистилась, и это главное.
В Хауд-ден-Бек я убегала, чтобы найти его. Меня не взяли на похороны: может быть, никаких похорон и не было, хотя потом там оказалась могила. Как-то раз я даже попробовала разрыть ее, чтобы удостовериться в его смерти, но сломала ногти о твердую землю и оставила эту затею. Все равно это было бессмысленно. Мне нужно было нечто большее, чем просто прикосновение к его куртке и крепким башмакам, чем его отцовский запах: мне нужна была его память обо мне, которой меня лишили. Этот человек явился и избил его, будто беглого раба, отшвыривая меня, пока я, крича от ужаса и ярости, висла на его бьющей руке; потом он увез меня к себе на лошади. А когда я снова вернулась домой, отец исчез. Память исчезла. Так много было всего, чего я о себе не знала: рождение, младенчество, мама. Отец был при этом, он видел это, став хранителем моей целостности, а когда он умер, ее уже было не восстановить. Все, что он знал обо мне, теперь навсегда похоронено вместе с ним. Толкнув к смерти моего отца, этот человек убил часть меня самой — там была мама, тетя Нэн и сам отец, — потеряв его, я навсегда утратила связь с ними.
Привязаться к кому-то — значит потерять ту часть себя, которую придется вверить другому. Нет, никогда. Никто не будет больше владеть мною. Уступить — значит лишиться последней возможности выжить среди них. Мне придется жить с ними, придется — и это я тоже знала — выйти замуж за одного из них. Но я никогда не буду принадлежать им. Принадлежать только себе самой, всегда оставаться отчужденной и неприступной — мой долг по отношению к себе и к тому, что еще осталось от моего отца и продолжало жить во мне. Память, дождь. Быть смытой им в забвение, чтобы вновь воссоединиться с утраченной памятью.
Николаса я подпустила к себе близко. Его кротость и терпеливость были опасны, великодушие его маленьких даров угрожало мне. Было так легко уступить. Но он не мог понять моего ужаса: Ради бога, не дари мне ничего. Не удерживай меня. Не подавляй. Он был так туп в своей покорной назойливости. Я не собиралась издеваться над ним — соблазнить, чтобы потом отвергнуть, — просто у меня не хватало сил вовсе оттолкнуть его. Я нуждалась в его нежности. Если бы он дарил мне ее, не требуя взамен моей жизни. В каком-то смысле я даже предпочитала грубость Баренда, его явную враждебность: он выкручивал мне руки, думая, что я закричу, рвал на мне платье, ожидая, что я заплачу, — но все напрасно. Больше всего ему нравилось досаждать мне, дергая меня за волосы. Эту боль было особенно трудно выносить, даже не просто боль, а унижение, издевательство над тем немногим, чем я еще позволяла себе гордиться. Чтобы прекратить это мучение, мне оставалось лишь одно — обрезать волосы. Трогая в темноте коротко остриженные пряди, я плакала; но я знала, что нанесла ему ответный удар, еще раз утвердила свою неприкосновенность. По сравнению с Барендом Николас был слишком мягким: послушный пес, покорно виляющий хвостом, всегда готовый услужить. Придется выйти за него замуж, другого выхода нет. На что еще надеяться девушке в здешних краях? Да, я согласна, когда мне исполнится пятнадцать. Казалось, что до этого еще так далеко.
Когда Баренд заговорил в то утро, я не поверила своим ушам. Ничего не стоило поймать его на вранье, пристыдить. Я ждала, что Николас вмешается. Первый испуг прошел; глядя на сцену, в реальность которой никак не могла поверить, я удивлялась собственному бесстрастию. Я ощущала даже некую извращенную гордость, которую испытываешь, когда за тебя бьются. Правда, никакой битвы и не было. Николас лишь чуть приподнялся со стула и снова упал на него, сокрушенный одним-единственным окриком этого человека и наглостью Баренда.
Худшей обиды он не мог нанести: не найти в себе смелости даже попытаться. Просто отказаться от меня, пожалев себя самого. Наглое бесстрашие Баренда, посмевшего столь грубо заявить о своих правах на меня — принадлежать ему я никогда не буду, но откуда ему было знать это? — так потрясло меня, что все во мне вспыхнуло, разжигая волнение, подобное тому странному возбуждению, которое я ощущала порой, глядя на брачные игры животных, в которых самцы и самки с откровенным бесстыдством провозглашали и утверждали новую жизнь. Я уставилась на Баренда, на этого человека, его отца, на его удрученную мать, на Николаса, чувствуя, как страсть разгорается во мне с такой силой, что пришлось опустить голову, чтобы они не заметили выступившие на щеках пятна, и сглотнуть ком в горле. Сражения, ожидавшие меня впереди, будут самым надежным способом выжить.
Однажды я уже испытала нечто подобное — хватит у меня смелости признаться в этом? — нечто столь же неожиданное, сколь и необъяснимое. Как-то раз, направляясь в Хауд-ден-Бек, я повстречала Галанта, пасшего в вельде овец. Я знала, что эта встреча не сулит никакой опасности, Галант — единственный, кто не станет мне мешать и не выдаст меня. Мы немного поболтали, он дал мне ломоть хлеба, и я отправилась дальше. Я так торопилась добраться в Хауд-ден-Бек дотемна, с радостью предвкушая ночь, которую проведу там одна (в небольшом очаге горит огонь, вокруг воют гиены и шакалы, молчаливые горы хмуро глядят на звезды, и могила, в которой, если верить им, лежит мой отец), что едва не наступила на огромную змею, заметив ее лишь тогда, когда она вонзила мне в бедро свои ядовитые зубы. Я пнула ее ногой и закричала, зовя на помощь. Когда ко мне подоспел Галант, я уже размозжила ее плоскую треугольную голову, но толстое великолепное туловище еще извивалось в пыли. О господи, я же умираю. Галант повалил меня на землю, разорвал на мне панталоны и надрезал кожу вокруг двойной аккуратной ранки на бедре. И принялся отсасывать кровь, высасывал и сплевывал, бешено и неистово. Он был похож на молочного теленка, и, хотя я была уверена, что, конечно же, умру, я вдруг ощутила горение внутри, растворявшее меня, словно потоки дождя, но дождя теплого, не льющего сверху, а поднимающегося изнутри меня, точно он приник к моим грудям, которые тогда только еще начали набухать — крошечные болезненные бугорки, нежные и упругие.
Он прижал к ранке черный камень, потом приложил какие-то травы, которые, должно быть, дала ему мама Роза, — я ничего не замечала. Когда он перестал высасывать яд, во мне образовалась странная обезоруживающая пустота. Раньше я никогда не стеснялась Галанта, но сейчас не решалась встретиться глазами с его радостным и довольным взглядом. А может, и ему в этот миг вспоминался тот давний вечер, когда мы спустились с гор во время грозы — мне так хотелось остаться там навсегда, но он схватил меня и потащил вниз — и мама Роза сняла с нас одежду и, чтобы мы согрелись, завернула нас в кароссу. Не знаю, сколько времени мы лежали там в темноте — в очаге тлел кизяк, от дыма слезились глаза и щипало в носу. Должно быть, не слишком долго, но мне казалось, словно многие ночи слились тогда воедино и мы тоже как бы слились друг с другом под той грубой кароссой. Было так темно, что я отважилась приласкать его: там не было ни меня, ни его — только два маленьких тела, невидимо прижавшиеся друг к другу; близость, которая не грозила ни опасностью, ни расплатой. Робкое прикосновение, голова, лежащая у него на плече, моя рука, поглаживающая его. Он не шевелился. Я знала, что он не решится ответить на мою ласку, и сделала вид, будто сплю, а когда и в самом деле заснула, по-моему, он рискнул.
Теперь прежняя невинность утеряна. Осталась лишь память о том прикосновении. Неужели так и придется жить дальше, все время что-то теряя, упуская возможности, все более и более утрачивая надежду? И только память о прикосновении все еще со мной, но я могу утратить и ее. Дождь, прибивающий все к земле, смывающий песок и камни, обмывающий до безжалостной чистоты. До голой правды. Корни, цепляющиеся за размытую землю. Камень, грубо царапающий простодушную ладонь. Лепесток, касающийся щеки. Рука, запутанное сплетение вен, суставы, чуткие кончики пальцев — ощупывающие, исследующие, отважившиеся.
Очертания и грубые складки пустой куртки, висящей на крючке. Засохшая грязь. Слюна во рту. Другая влага, таинственная. Молодое животное, дергающее соски. Едкий дым.
Резкий сладковатый запах бушевого чая — запах одиночества.
Шакалы опять будут выть сегодня всю ночь…
Баренд
Между ними и мной всегда было расстояние. Конечно, я на несколько лет старше, но причина не в этом. Когда я был маленьким, вся ферма принадлежала мне одному, я мог бродить по ней и исследовать ее укромные уголки. И куда бы ни отправился отец, он всегда брал меня с собой, неся на плечах. Тогда мне еще ни с кем не приходилось делить его любовь. По ночам я спал между ними на широкой кровати. Что может быть утешительней и надежней, чем мягкая, набитая пухом перина и их тела, подобно двум большим теплым караваям, защищающие меня с обеих сторон. Но с рождением Николаса все переменилось. Я очень обрадовался, когда папа сказал, что у меня теперь есть брат, но, увидев на руках у мамы это беспомощное, отвратительное существо, я был не просто разочарован — мне показалось, будто меня предали. И все же поначалу я старался с ним подружиться. Таскал к его кроватке все, что, на мой взгляд, могло его заинтересовать или позабавить: ящериц, лягушек, кузнечиков, черепах. Но он лишь начинал орать благим матом, и мама тут же врывалась к нам, чтобы сердито оттаскать меня за уши и выпроводить из комнаты. Как мне было не возненавидеть этого маленького подлеца? Несколько раз, когда поблизости никого не было, я пытался приглушить его вопли подушкой, но кто-нибудь непременно поспевал ему на помощь. А потом они с Галантом целыми днями лежали рядышком на кароссе, расстеленной возле дома, и мама Роза кормила их обоих, дав каждому по груди. Те двое всегда были вместе, а я — всегда один. Глубокая горечь осела у меня в душе.
Когда они немного подросли, они ни на минуту не оставляли меня в покое: куда бы я ни пошел, они тащились следом, хныча и изводя меня бесконечными и бессмысленными просьбами, лишая одиночества, ставшего единственным моим утешением. Я пытался отделаться от них: заманивал в заросли терновника, карабкался по крутым тропам, где ничего не стоило расшибиться и расцарапаться в кровь (один из них все же сломал руку), сталкивал их в воду или подстрекал залезать на деревья, с которых они могли свалиться, — их ничто не устрашало. Конечно, временами я и сам был не прочь развлечься вместе с ними — купаться в запруде, кататься верхом на бычках, гоняться за бабуинами, охотиться на зайцев, дикобразов или оленей, — а при случае они помогали и в работе. Но когда мне хотелось побыть одному, их назойливость была просто невыносима. Не раз я был готов придушить их обоих.
Я — старший, и потому именно мне доставалось за любые наши шалости — папа был скор на расправу. И опять же потому, что я старший, мне приходилось работать наравне с другими мужчинами, пока те двое резвились неподалеку или выполняли какие-нибудь пустячные поручения. Трудясь в поте лица, идя за плугом, сея пшеницу, мотыжа землю, строя каменные стены, я с завистью слышал, как они весело плещутся и визжат в воде. И никуда было не деться от грубоватых наставлений отца:
— Давай-давай, Баренд, поднажми. Когда-нибудь эта ферма будет твоей, и тебе еще многому надо научиться.
Я никогда не чувствовал себя таким свободным, как они. Работе, казалось, не будет конца. А раз мне предстоит стать тут хозяином, я должен доказать, на что способен. И я доказывал это — ни раб, ни наемный работник не могли перегнать меня: я не хуже их орудовал лопатой, плугом, серпом и топором. И радовался, когда отец хвалил меня. Особенно на охоте: ружье всегда было послушным в моих руках, я прирожденный охотник. Но все это не могло заглушить потребности хоть иногда вырваться на свободу, повеселиться или просто побездельничать. Но и в этом мне было отказано. «Давай, Баренд, поднажми. Ты мой первенец. Ты должен служить примером всем остальным».
С Николасом всегда приходилось быть начеку: то он бывал угрюм и замкнут, то изо всех сил старался вкрасться в доверие, чтобы потом за спиной предать и нажаловаться маме и отцу. На Галанта по крайней мере можно было положиться. Он никогда не ябедничал. Эдакий маленький наглец! Уже тогда я замечал, что папа относится к нему слишком уж снисходительно, скорее потешаясь над ним, чем сердясь на него за его проказы. Конечно, отцу нравились бойкость и ловкость Галанта, качества, которыми он гордился и в себе самом, но Галант при его попустительстве все больше отбивался от рук. Раба нужно держать на коротком поводке, иначе хлопот не оберешься. Меня особенно раздражала их близость с Николасом. Это переходило все границы. Приятели, пусть так, но все равно нужно помнить о разделяющем их расстоянии. А они забывали. Я старался, как мог, следить за этим, полагая, что в конечном итоге так будет лучше для Галанта, но они поступали по-своему, а отец на все смотрел сквозь пальцы. Круто перечить отцу я не решался, и мне пришлось смириться.
К чему слишком много говорить о тех временах? Что толку ворошить старый муравейник? Оглядываясь назад, я не могу побороть в себе чувства пустоты, ощущения, будто меня и вовсе не было в нашем детстве. Это они были там, а не я. В последние годы, когда мы навещали семьями друг друга по воскресеньям, Николас частенько говорил: «А помнишь?.. А помнишь?..» Но помнили они, а не я. И к чему бахвалиться своими воспоминаниями? Должно быть, им это нравилось. А мне нет: мне так и не довелось быть ребенком, на это никогда не оставалось времени. И теперь слишком поздно сокрушаться о былом. Жизнь всегда что-то утаивала от меня, но что проку возмущаться? Все это в далеком прошлом. С годами привыкаешь держать себя в руках и тянуть лямку.
И только Эстер в каком-то смысле была другой, она никогда не докучала мне, не то что Николас и Галант. Но едва ли я понимал ее. Она походила на маленького, славного пушистого зверька, которого хочется приласкать и защитить, но который рычит и кусается, стоит тебе подойти слишком близко. В ту давнюю весну, когда она еще только поселилась у нас, я привел ей из вельда отбившегося ягненка. «А что мне с ним делать?» — презрительно спросила она. Старалась показать, что ей нет никакого дела до ягненка, но я заметил, что, оставаясь одна, она бегала и играла с ним. Как-то раз я долго стоял, спрятавшись за печкой, и глядел на нее. Во дворе не было ни души, и она могла резвиться не таясь. Но когда я вышел из своего укрытия и окликнул ее, она резко отскочила в сторону, отпихнув от себя ягненка.
— Зачем ты подглядываешь за мной? — злобно зашипела она.
— Я видел, как ты играла с ягненком, — как можно мягче сказал я. — Значит, он тебе все-таки нравится?
Она сердито топнула ногой:
— Нет, не нравится. Терпеть его не могу.
— А я видел, как ты обнимала его. И даже поцеловала.
— Вранье! — закричала она, бешено молотя по мне маленькими кулачками.
— Перестань, Эстер, стыдиться тут нечего. Все любят маленьких ягнят.
— Не нужен мне твой проклятый ягненок!
Тогда я решил испытать ее.
— Ну что ж, — сказал я. — Тогда давай зарежем его.
Я вовсе не собирался этого делать. Просто хотел, чтобы она призналась, что ей нравится ягненок — мой подарок. Но я в жизни не встречал такой упрямицы, как она.
— Режь, если хочешь.
Лицо ее стало мертвенно-бледным, но именно это она и сказала.
— Почему ты не хочешь признаться? — почти умолял я.
— Мне не в чем признаваться. Убивай его, если тебе это нравится. Мне все равно.
Я достал из кармана перочинный нож, надеясь, что напугаю ее. Но она не подала виду, что переживает, только вся точно окаменела.
— Ты не сделаешь этого, — дерзко заявила она.
— Значит, тебе нравится ягненок?
— Нет. Но ты просто хочешь напугать меня.
Я честно ожидал, что она в последний момент остановит меня. С ножом в руке я присел на корточки и прижал ягненка к земле, оттянув назад его тонкую белую шею.
— Ну скажи, что тебе жаль. Скажи, и я отпущу его.
Она стояла рядом, вся дрожа, но упрямо отказываясь произнести хоть слово. Я чувствовал, что готов разрыдаться. Но я не мог отступиться, не уронив своего достоинства: она же первая будет считать меня трусом. Мне не оставалось ничего другого, как прирезать ягненка.
Мама пришла в ярость, услышав об этом. Но я сказал, что меня попросила Эстер.
— Эстер? — удивилась мама. — Эстер, это правда?
— Ну, если он так говорит…
— Но я хочу услышать это от тебя самой.
— Какое мне дело до вашего ягненка! — закричала Эстер, повернулась и убежала.
Чуть позже я увидел ее, плачущую, в зарослях айвы. Она меня не заметила, а я потихоньку ушел, чтобы избежать встречи. Я все никак не мог понять в ней чего-то, чего-то такого, что и пугало, и больно задевало меня.
С той поры я все время старался отыскать ее и поговорить с ней, но в ответ получал лишь гримасу, высунутый язык или плевок. А если я выкручивал ей руки или дергал за волосы, она не вырывалась, невозмутимо глядела на меня большими темными глазами и, как в том случае с ягненком, как бы подстрекала к жестокости, словно желая проверить, на какую еще крайность я способен решиться. «Скажи, прошу тебя, — требовал я. — Скажи — баас». Но мне никогда не удавалось подчинить ее. Слезы выступали у нее на глазах, узкое лицо искажалось от боли, но губы оставались плотно сжатыми. Она могла застонать, но ни разу не заплакала и не взмолилась. И мне поневоле приходилось уходить и оставлять ее в покое. Но я вовсе не хотел обижать ее! Мне просто хотелось приручить этого маленького, дикого, красивого и злобного зверька с острыми, как шипы терновника, зубами.
Неужели она ничего не понимала? Я вовсе не желал причинять ей боль. Ведь я любил ее. Она была единственным существом, которое я любил и желал. Если бы я захотел что-то взять у Николаса или Галанта, я бы просто потребовал это у них или отнял силой, доказав им, кто тут главный. Но с ней все было иначе. Я ничего не хотел брать у нее: мне нужна была она сама. И когда Николас сказал той ночью, что женится на ней, мне показалось, будто у меня отнимают самое жизнь. И я решился на последний, отчаянный шаг. Я не мог объясниться с Эстер: она бы подняла меня на смех. Оставалось лишь одно — сказать отцу, что мы с ней уже обо всем условились. Я прекрасно понимал, чем рискую. Единственное слово Эстер — и все рухнет, а я сделаюсь посмешищем. И тогда, клянусь, я бы повесился.
Она подняла голову и поглядела на меня. Мне никогда не забыть ее взгляда, устремленного на меня с противоположной стороны стола. Но не произнесла ни слова. Николас тоже не посмел: его, я знал, мне бояться нечего. (Он даже не выглядел расстроенным. По-моему, ему просто хотелось заиметь жену. Не важно какую. Иначе как еще можно объяснить то, что меньше чем через полгода он женился на Сесилии дю Плесси, девице столь непривлекательной, что никто, несмотря на все ее прочие несомненные достоинства, не взглянул бы на нее дважды?) Но она-то, думал я, станет протестовать. И когда этого не случилось, я испытал ни с чем не сравнимое чувство — одновременно опустошающее и пьянящее.
Потом я спросил ее:
— Эстер, ты в самом деле согласна выйти за меня?
— Я этого не говорила.
— Но и не возмутилась.
— Ты же все устроил так, как хотел.
— Эстер, это потому…
Но разве я мог признаться: Потому, что я люблю тебя? Больше всего на свете мне хотелось сказать именно это. Но стоит мне произнести эти слова, и все будет так, как тогда с ягненком. Только на этот раз нож будет у нее в руках.
— Потому, что я хочу тебя, — с трудом проговорил я.
— Ты всегда получаешь то, чего хочешь.
— Да, но с тобой…
Я взял ее за руку. Она не вырывалась. Она, конечно, уже тогда знала — холодное, мрачное презрение в ее глазах, — что до конца моих дней мне придется расплачиваться за это жестокое и непоправимое решение.
Часть вторая
Сесилия
В тот день, когда мы с Николасом поженились, лил дождь. Отец — мама умерла уже давно, лишь немногие женщины доживают в этих краях до свадьбы дочери — и остальные мужчины были идиотски счастливы. После долгих месяцев засухи дождь казался им десницей божьей, а Питу ван дер Мерве — еще и предзнаменованием плодородия. Но мне было как-то тревожно. Время для дождя было неподходящее; неважно, засуха или не засуха, но, если что-то начинается в неположенное время, это обычно предвещает беду. Да и тогда лил не просто дождь. Не тот, что приносит облегчение, напитывает землю и дает жизнь растениям, а бешеный поток, размывавший почву, срывавший с гор камни, наносивший глубокие раны земле и топивший коров и овец. Было страшно даже думать о том, как мы после свадебной церемонии в Тульбахе поедем обратно через горы. Отсюда, сверху, казалось, будто сами горы устремились вниз, в долину, и не осталось больше ничего, кроме лавины воды. Один из волов оступился, упал и сломал ногу. Пришлось его пристрелить. Тушу везли домой в фургоне. Мое подвенечное платье было забрызгано кровью, что уж никак не назовешь хорошей приметой. Но мужчины были в прекрасном настроении. Они зажарили вола в сарае, едва не учинив пожара.
— Ну и что с того? — орал мой свекор. — Какая же это свадьба, если ничего не сгорит! Поглядела бы ты, что творилось, когда женился я.
Мне всегда было при нем немного не по себе. Шумный смех, разносящийся по всему дому. Большие волосатые руки. Подтеки пота на рубашке. Запах. Его манера смотреть на тебя так, словно ты была телкой на торжище. И то, что он говорил в день свадьбы, размахивая руками — с куском мяса в одной и стаканом бренди в другой: «Сесилия мне по нраву. Я всегда говорил сыновьям, чтобы они с умом выбирали себе жен. Только высоких, только крупных. Такие хорошо родят. А мы, Ван дер Мерве, будем укрощать эту землю для нашего потомства. Нет, я вовсе не против Эстер (она стояла в стороне от остальных гостей, тонкая и смуглая, полыхая на свой особый лад, словно огонь, который горит, не давая пламени), но Сесилия именно та женщина, какую я сам выбрал бы в жены своему сыну. Ешьте и пейте, друзья. И да пребудет над нами милость господня».
В тот день я больше не видела Эстер. У нее есть привычка уходить незаметно. Она, конечно, злилась на меня за то, что я теперь буду жить в Хауд-ден-Беке, в доме, который она считала собственным еще с тех времен, когда ее отец служил управляющим у дядюшки Пита. Но какое мне дело? Так решили без нас, Ван дер Мерве отдали нам этот дом, а мой отец подарил мебель и дал взаймы фургон, чтобы перевезти вещи. И еще приданое: сто овец, пять молочных коров, двух Лошадей, рабыню Лидию и двадцать мешков обмолоченной пшеницы. Именно столько я, должно быть, и стоила в его глазах. Да и Лидию-то он отдал лишь потому, что ему было трудно управляться с ней; никому не нужное существо, дурочка, которая вечно бродила по двору, собирая перья и всякий хлам — а зачем?
Не могу сказать, что я не любила отца, но я с радостью перебралась в Хауд-ден-Бек. Отец всегда относился ко мне хорошо — он человек богобоязненный, да и что еще ему оставалось делать? — но никогда не мог простить мне того, что я не мальчик, рождение которого он считал единственным смыслом своего брака. До меня у мамы было два мальчика, но они родились мертвыми, а родив меня, она слегла и больше не вставала. Отец всегда говорил, что от дочери проку мало. И сколько я ни старалась доказать и ему и себе, что могу заменить сына, это его ничуть не убеждало. Я справлялась с любой работой: присматривала за птичником и за огородом, выгоняла овец на пастбища, отвозила в Тульбах продукты, сама правя фургоном, ходила на охоту, когда отцу хотелось поесть дичины, ездила верхом, объезжая пастбища и наведываясь в Эландсклоф, на ферму, которая принадлежала бы мне, будь я мужчиной. После смерти матери я как-то раз напрямик спросила отца:
— Почему ты не отдашь мне Эландсклоф? Тебе же не управиться с двумя фермами.
— А как ты управишься хотя бы с одной? — вздохнул он. — Если бы ты была парнем. Но, должно быть, ты ниспослана мне в наказание за какой-то грех, который я совершил, сам того не ведая. Пути господни неисповедимы.
— Я умею работать не хуже любого мужчины.
— Я знаю, ты очень стараешься. Но ты рождена женщиной, и единственное, что можно сделать, это подыскать тебе хорошего мужа. Может быть, Луббе или Ван дер Мерве. Я поговорю с ними, когда придет пора выдавать тебя замуж.
— Ты не сделаешь этого! — возразила я. — Я не хочу, чтобы меня пускали с торгов.
— А чего ты хочешь? Сидеть и ждать, пока к тебе посватается кто-нибудь вроде Франса дю Той? Сама знаешь, какой из него муж.
Мне было неприятно даже упоминание об этом жалком человеке с чудовищным родимым пятном на лице; все женщины по соседству вечно пугали им своих взрослых дочерей, чтобы держать их в повиновении. Но я упорно стояла на своем: я не позволю, чтобы меня выставляли на продажу.
— Не оставаться же тебе старой девой! — вспылил отец. — Что станет с тобой, когда я умру, кто о тебе тогда позаботится?
— Если понадобится, обо мне позаботится господь.
— Сесилия, ты уже большая, но не настолько, чтобы я не мог тебя выпороть.
— Но я и тогда не изменю своего решения, отец.
При других обстоятельствах он, конечно, не потерпел бы подобного неповиновения, но в тот день он был слишком встревожен, чтобы спорить. Он весь затрясся, но не от гнева, а от бессилия. А под конец сказал:
— Ты воспротивилась воле отца. Господь покарает тебя за это. И когда он нашлет на тебя свою кару, не вздумай роптать.
И, прекратив дальнейшие пререкания, направился в сарай, в котором держал бочонки с бренди. С того дня он стал наведываться туда гораздо чаще, чем прежде, а его мрачное проклятие, словно раскаленный уголь, горело у меня в мозгу. Я опускалась на колени, чтобы смиренно склонить голову перед волей господней — но не перед волей отца. Пусть свершится то, что мне предначертано, я все приму. Я отнюдь не противилась мысли о замужестве — в этом мое предназначение, и я покорюсь ему, но молила об одном: да не допустит господь, чтобы я предлагала себя каждому встречному. С самого детства я всегда была покорна воле отца. Но на этот раз то, что он полагал праведным деянием, для меня выходило неправедным.
Господь, вероятно, снизошел к моим молитвам, поскольку в предначертанный свыше срок ко мне посватался Николас. Я была уже гораздо старше того возраста, когда девушки выходят замуж в здешних краях: мне было двадцать, а Николасу только восемнадцать. Но если такова воля господня, к чему задавать бессмысленные вопросы. А окажись вместо него Франс дю Той? И потому, когда Николас сделал мне предложение, я дала согласие, да и отец тоже обрадовался. Само сватовство было как гром среди ясного неба. До нас только что дошло известие о том, что Баренд женится на Эстер, как вдруг к нам верхом на лошади прискакал Николас. Не откладывая дела в долгий ящик, он в тот же вечер спросил:
— Ну что, может, нам пожениться?
— А я уж думал, что ей никто не сделает предложения, — сказал отец, даже не дав мне ответить. — Одобряю. Присаживайся, Николас, я принесу выпить.
В те дни в Николасе ощущалась какая-то странная сдержанность. Временами он мрачнел, будто упрекая меня за то, что я согласилась выйти за него, но мужчин понять трудно, а я привыкла знать свое место. Неловко признаться, но я порой испытывала к нему материнские чувства. Словно я была гораздо старше своих лет, а он гораздо моложе своих, словно он нуждался в моей опеке куда больше, чем я в его. Ночами я подолгу лежала без сна, терзаясь сомнениями и обидой, но я сумела смирить свою гордыню. С самого детства мне внушали мысль о том, что я когда-нибудь выйду замуж и стану помощницей своему мужу, и я принимала это как должное, но теперь я ощущала в себе нечто вроде сопротивления воле господней, и оно тревожило меня. Если бы знать наверняка, что я исполняю его волю; но грешно молить о предзнаменовании. Нужно просто верить. И вот мы поженились под проливным дождем. Может быть, дождь и был тем знамением, о котором я не решалась молить? Пути господни неисповедимы. Смирение. Главное — смирение.
Дабы жена восхваляла господа, являя покорность своему мужу.
Шумное веселье нашего свадебного пира раздражало меня, но я приняла это как еще одно испытание, через которое следует пройти, чтобы закалить свой дух. Гораздо удивительней было то, что, когда все наконец разъехались и мы остались одни, я почувствовала смущение от окружившей нас тишины. Маленький дом казался слишком огромным для нас двоих. На стенах спальни плясали отблески свечей, дождь капал через прохудившуюся крышу. Мы с Николасом были одни — впервые. Он стоял, глядя в окно, за которым не было ничего, кроме черноты.
У меня перехватило дыхание. Но я подошла к нему поближе и встала у него за спиной.
— Мне кажется, нам следует лечь спать.
И чуть не прибавила при этом «мой мальчик». Он и в самом деле был похож на маленького смущенного мальчика.
— Да… хорошо… — запинаясь, пробормотал он. — Но крыша протекает.
— Починишь ее утром.
— Нет, я схожу посмотрю сейчас.
— В такой-то дождь. Пошли лучше Галанта.
Но он уже вышел. Свечу чуть не задуло, когда он открыл заднюю дверь. Черная вода натекла в дом и образовала на полу лужу. Мне не хотелось оставаться одной. А если дождем размоет фундамент и стены рухнут? Я рывком открыла дверь, окликая его. И мгновенно промокла до нитки.
— Иди домой! — крикнул он из темноты с такой яростью, что мне пришлось подчиниться.
В углу полутемной кухни на полу спали рабы. Галант и Онтонг с фермы свекра и рабыня моего отца Лидия. Я с отвращением глядела, как они, точно звери, все вместе лежали под грубым одеялом. Вне себя от возмущения, я пнула их ногой:
— Лидия, вставай и свари мне кофе.
— Хорошо, хозяйка.
Ничего не соображая со сна, она безропотно выбралась наружу, совершенно голая. Мне было не разглядеть остальных в темноте, но их глаза, хотя и невидимые, были тут — вторжение чужаков в мой собственный дом.
— Ради бога, Лидия, надень что-нибудь, — приказала я. — Как ты можешь расхаживать голая. Это неприлично.
— Да, хозяйка.
Все еще раздосадованная, я прошла обратно в спальню, сняла подвенечное платье, надела ночную рубашку и села на кровать. В окно по-прежнему хлестал дождь. Я чувствовала себя покинутой. Когда же вернется Николас, подумала я и слегка вздрогнула, вспомнив клубок черных тел на полу в кухне, их запах. Когда Лидия принесла кофе, мой внимательный взгляд словно проник через ее одежду, и я с отвращением увидела ее тело и груди. Господи, ведь мы не животные, мы люди. И все же скоро и мне придется смириться и покориться столь же безропотно, как покоряется она.
После того как она удалилась, бесшумно переступая босыми ногами, я еще долго неподвижно сидела на кровати, даже не пригубив кофе. Стыдясь самой мысли о предстоящем унижении, я желала лишь одного, чтобы Николас поскорее вернулся и все бы осталось уже позади.
И вот он пришел, совершенно вымокший, белокурые волосы от воды потемнели и слиплись.
— Я думал, что ты уже спишь. — В его голосе мне послышался упрек.
— Я ждала тебя. Иди сюда, ты продрог.
Я встала и налила ему остывший кофе. Он так и стоял в мокрой одежде, с которой стекала вода.
— Тебе нужно раздеться и лечь в постель, — сказала я.
Его глаза на влажном от дождя лице казались неестественно большими. Продолговатый череп. Кто он такой, этот незнакомец, — мой муж? Я вдруг почувствовала, как во мне разгорается желание. Смутившись и задыхаясь от волнения, я быстро легла в постель и отвернулась, чтобы он мог раздеться.
Прошло довольно много времени, прежде чем он забрался под одеяло, в ночной рубахе, все еще дрожа от холода. Он задул свечу и не шевелясь лежал на краю кровати. И тут я вдруг поняла, что он боится меня куда сильнее, чем я боялась его некоторое время назад. И мне снова показалось, будто он не муж мне, а сын.
— Теперь мы женаты, — сказала я, с удивлением услыхав свой хриплый голос. — И ты должен сделать меня своей женой.
— Ты, наверное, очень устала, Сесилия, — ответил он. — Позади трудный день. Спокойной ночи.
— Человеку надлежит поступать так, как предписано господом, — мягко возразила я. — Не навлекай на нас гнев божий.
Он приподнялся и наклонился надо мной, все еще слегка дрожа.
— Спокойной ночи, Сесилия.
Губы его были влажные и холодные, будто сырое мясо. Потом он повернулся и уснул. Я лежала, прислушиваясь к его дыханию, а за окнами по-прежнему лил дождь. Крыша протекала, и я слышала, как капает вода. Я ощущала сострадание к этому незнакомцу, спящему рядом со мной, но к моему состраданию примешивалось еще что-то — но что? Страх. Боль. Ощущение несостоятельности, словно я потерпела неудачу, словно я была в чем-то виновна. Неужели я так ему противна? Но в том потоке, которым нас несло, подобно утлому суденышку, ничто не обещало мне ни ответа, ни проблеска надежды.
Неделю спустя я решительно заявила ему:
— Николас, если ты не сделаешь этого сегодня, я пожалуюсь твоей матери.
— У нас впереди еще много времени.
— Наше время прошло уже неделю назад. Или я тебе неприятна?
— Мне просто хотелось, чтобы это было легче для тебя.
— Но я — твоя жена.
Он неподвижно лежал возле меня на широкой кровати, слишком большой для нас двоих, словно парализованный страхом или негодованием, а может, тем и другим. Я поняла, что пришло время действовать самой. Ощущение весьма неприятное, особенно если ты привыкла всегда подчиняться мужской воле. Отсюда, должно быть, я и почерпнула ту решимость, которой прежде у меня никогда не было, ту силу, о которой и не подозревала. И все же мне было стыдно, поскольку это было своеволием и выходило за пределы того, что можно было требовать от меня. Но я понимала, что, если я отступлюсь, наш брак станет посмешищем для всех. И если мое теперешнее своеволие было карой, ниспосланной на меня отцовским проклятием, то тем более следует смириться с ней. О Господи, молила я в душе, если все это грешно, то пусть, совершив этот малый грех, я избегну греха более страшного. Я придвинулась к Николасу и начала потихоньку успокаивать его, как обычно успокаивают собаку. Он попытался воспротивиться, но потом подчинился моим настойчивым ласкам. А затем, словно обезумев, в бешенстве обрушился на меня. Я не испугалась, словно была ко всему готова заранее; ради спасения его гордости я была готова вынести любое унижение. Но откуда было ему знать, что, после того как он уснул, я еще долго лежала без сна: не из-за надругательства над моим телом, а из-за открытия столь важного, что я тогда не в силах была до конца разобраться в нем. Только спустя годы мне удалось уяснить его окончательно: благодаря тому, что он взял и использовал мое тело, я взяла верх над ним самим.
В должный срок родился первый ребенок. Девочка. Соль на рану, от которой я страдала с раннего детства, вечно слыша, что рождение дочери не приносит ничего, кроме унижения и горести.
— Прости меня, Николас, — сказала я. — Я молила господа о сыне. Но господь решил иначе.
Но он отнесся к этому совсем не так, как я ожидала: то было не разочарование и покорность судьбе, а, скорее, даже облегчение.
— Будет время и для сына, — сказал он, осторожно коснувшись головки ребенка и глядя на него с благоговейным страхом. — Мы назовем ее Эстер.
Я смотрела ему в лицо, ничего не видя, а когда он вышел, долго лежала, до боли закусив палец, чтобы заглушить другую, еще более мучительную боль. Тогда впервые я начала догадываться об истинной причине его отчуждения.
Девочку назвали Хеленой. Так звали мою мать, и я настояла на этом имени, считая, что поступаю правильно. Вторая дочь, если ему хочется, может зваться Эстер — так ее и назвали. Третий ребенок тоже оказался девочкой — Катриной. Николас по-прежнему не выказывал ни малейшего недовольства. Он всегда любил дочерей, повсюду водил их с собой, особенно Эстер, которая была его любимицей. Порой мне казалось, что он не просто щадил меня, а даже радовался тому, что у него дочери, а не сыновья. Только мой отец никак не мог смириться с тем, что ему отказано и во внуке.
— К чему было работать до кровавых мозолей, приводя в порядок две фермы? — сказал он, когда родилась Хелена. — Вот Эландсклоф. Вот еще Бюффелсхук. Где ты отыщешь что-то лучшее, чем эти земли возле Вагенбомс Ривер? Самые тучные во всем Боккефельде. А судьба не подарила мне ничего, кроме дочери и внучки.
Его разочарование угнетало меня. Конечно, в свои преклонные годы он заслужил вознаграждение за тяжкие труды. Но что я могла поделать? Да и, по сути, все это больше меня не касалось. Выйдя замуж за Николаса, я перенесла центр своего мира с отцовской фермы в Хауд-ден-Бек. В этом заключался мой долг. И можно сказать, что здесь всем заправляла я. Терпением и смирением я добилась этого и теперь не откажусь легко от достигнутого. Я утвердила свою власть над мужем. Хозяйкой в этом доме была я. В делах фермы последнее слово всегда оставалось за мной. Я перестроила дом, чтобы он отвечал моим нуждам, особенно после рождения первого ребенка. И не только ради того, чтобы было больше места, а для того, чтобы дом стал моим, чтобы уничтожить все, что было в нем связано с Эстер. Я надстроила стены дома, чтобы под крышей был удобный чердак, на который снаружи вела широкая каменная лестница. Справа была устроена спальня для детей. Снаружи, за кухней, я решила пристроить — и сделала это — маслобойню и сарай, который был оборудован под школьное помещение. В кухне у меня была плита с духовкой, чтобы было удобней готовить, не выходя из дома. Огород я тоже переделала, приспособив его к своим собственным поварским надобностям.
Почти все это строил Галант, он лучше, чем Николас, знал, что делать и как. Надежный и умелый работник. И все же мне всегда бывало не по себе, стоило ему оказаться поблизости. Еще с той самой дождливой ночи, из-за его манеры молча глядеть на тебя. Не то чтобы он был нахален. Будь он просто наглым, его можно было бы наказать и вытравить это из него. Но не в этом было дело, а в странном выражении его глаз, словно то были глаза свободного человека. Да еще к тому же его нежелание называть Николаса баасом. Позволь он себе такое со мной, я бы приказала его выпороть. Но по отношению ко мне он всегда держался очень почтительно. Да, хозяйка. Нет, хозяйка. Как прикажете, хозяйка. А если я заговаривала об этом с Николасом, он лишь пожимал плечами и смеялся:
— Это не имеет никакого значения, Сесилия. Мы с ним отлично понимаем друг друга. Мы выросли вместе.
Давно бы следовало упразднить рабство. Терпеть не могу рабов. Они раболепствуют.
А еще эти ужасные сны, в которых я видела черных.
В отцовском доме рабы не слишком беспокоили меня — разве что в тех ночных кошмарах, — может быть, потому, что там я сама была мелкой сошкой. Но в моем собственном доме их присутствие раздражало и выводило из себя. Куда бы ты ни заглянул, куда бы ни пошел, они торчали у тебя за спиной или шли следом, бесшумно ступая босыми ногами и сверкая глазами в полутьме. Они были повсюду, точно тени, точно кошки. Опускали глаза, когда ты подходил к ним, — все, кроме Галанта, — или притворялись, будто чем-то заняты, но едва ты проходил мимо, как снова чувствовал, что их глаза следят за тобой. Невозможно быть хозяйкой в собственном доме, пока они рядом. Покорные и вездесущие, они заправляли всем и вся. Потому что они знали — и я тоже знала, — что без них не обойтись. Они были похожи на что-то мягкое и податливое, что уступает нажатию пальца, но, едва отпустишь, вновь обретает прежнюю форму. Они были как вода. Но не как камень. Это был поток, выбирающий кружные пути, отступающий назад и снова возвращающийся, все размывающий вокруг.
С благословения божия мы строили, возделывали земли и процветали. Живя бок о бок, Николас и я продолжали идти нашими обособленными путями. Я уже почти смирилась с тем, что его отчуждение неизбежно, что это часть нашего совместного существования. Он уходил рано утром, возвращаясь, чтобы позавтракать и немного поспать, а потом снова отправлялся в вельд. Или уезжал в Тульбах — гораздо чаще, по-моему, чем того требовали дела, — поручая Галанту присматривать за фермой. Вдобавок приобрел привычку вечерами после ужина молча подниматься из-за стола и уходить из дому, не возвращаясь порой часами. Но я смирилась и с этим. Я должна позволить ему жить собственной жизнью и не задавать ему никаких вопросов. Однако глубоко под поверхностью нашей жизни уже начался процесс разрушения.
Впервые я поняла это как-то вечером, когда Николас, как обычно, ушел из дому. Я легла спать, но ночь стояла душная, и вскоре мне захотелось пить. Я поднялась с постели и в привычной темноте прошла на кухню к бочонку с водой. Земляной пол приятно холодил босые ступни. Я открыла верхнюю створку двери, чтобы впустить немного воздуха, и долго стояла, глядя в тихую ночь. Ни ветерка. Вдалеке чернела зазубренная линия гор. Спокойная, невозмутимая луна. И тут я увидела Николаса, который шел к дому — но не от калитки, через которую он обычно выходил, когда хотел наведаться в крааль, а через старый вишневый сад, со стороны хижин. В хижинах было темно. Только дверь одной была приоткрыта, в глубине мерцал свет очага. В этой хижине жили Онтонг и Лидия. Но я знала, что Онтонга сейчас там нет. Еще утром он уехал на дальнее пастбище, где шакал утащил ягненка.
Галант
Все теперь по-другому. Не важно как, но по-другому. Хауд-ден-Бек — это тебе не Лагенфлей. Николасу вовек не быть таким хозяином, как старый баас.
— Галант, Николас женится на Сесилии из Бюффелсхука. Ему понадобится пара умелых рук, чтобы пустить дело в Хауд-ден-Беке. Ты будешь моим свадебным подарком Николасу. Теперь ты его раб.
Онтонг едет с нами, должно быть, одолженный на время, взаймы, но в конце концов остается. Потом приезжает и Ахилл: за это, объясняют мне, старый хозяин в течение семи лет будет получать часть урожая. В Лагенфлее Онтонг с Ахиллом присматривали за мной, а тут, в Хауд-ден-Беке, меня делают мантором, надсмотрщиком над ними. Но не в этом суть.
— Ты должен с уважением обращаться с человеком, который куда старше тебя, — предупреждает мама Роза. — Особенно если этот человек может быть твоим отцом. А если ослушаешься, напущу на тебя лунатиков, чтобы они высосали из тебя все соки. Слышишь меня?
— Слышу, мама Роза. Но не знаю, как сложатся дела с Николасом.
— Ты отправляешься с ним в Хауд-ден-Бек, вот и все. Не твое дело задавать вопросы.
Внимательно наблюдаю и уже в день свадьбы понимаю, что Николасу не совладать с женой. Вижу там и Эстер, замкнувшуюся в себе, стоящую в стороне от остальных, готовую зарычать на каждого, даже на меня; когда попадаюсь ей на пути, она торопливо выходит из кухни под дождь, словно это я виноват в том, что теперь ее навсегда лишили Хауд-ден-Бека и отцовской могилы. Кроме того, похоже, в ее глазах я теперь всего лишь раб. Это заставляет меня вновь задуматься о Николасе.
Вскоре после свадьбы мы с Николасом отправляемся вверх по склону горы, что поднимается прямо от болота сразу за домом, уступ за уступом, один красный, другой серый. Отсюда сверху видно далеко вокруг. Глубоко внизу болото, которое от непрерывных дождей разбухло и превратилось в озеро, так широко растекшееся среди холмов, что, подъезжая от Лагенфлея, приходится делать огромный крюк, чтобы попасть на ферму. Недавно побеленный, кричаще белый длинный дом с соломенной крышей высится посреди голого двора, чуть ниже раскинулись сады и огороды, а полосы пшеничных полей простираются аж туда, где вдалеке темнеют первые скалистые гряды гор Скурве, тех, что напротив нас. Необычные это горы. Вниз на закат они тянутся от Рие-Витценберха мимо Эландсфонтейна до поворота на Вагендрифт, там пропадают, но только для того, чтобы снова объявиться напротив Хауд-ден-Бека, словно река, русло которой то и дело уходит под землю. Там, где встает солнце, вельд огибает болото и горы и идет к Лагенфлею. И куда ни глянь, все это называется Хауд-ден-Бек.
— Я уже больше не под отцом, Галант, — говорит Николас, оглядывая то, что отныне принадлежит ему. — Теперь я женатый человек, и нам с тобой нужно превратить вот это место в настоящую ферму. Это вовсе не то, к чему я стремился, но на все воля божья.
— К чему говорить о нас с тобой? Ферма-то твоя.
— Ты — моя правая рука, Галант. Без тебя мне тут не справиться.
Он кивает на дальнюю сторону тесной долины, туда, где из земли выступают каменистые подножия холмов.
— Ты можешь обработать там поле, посадишь тыквы, бобы, овощи, если хочешь, сей пшеницу, я дам тебе семян и навоза сколько надо. Работай хорошенько, и я буду давать тебе каждый год телку и двух ягнят.
— Из тебя выйдет хороший фермер, — отвечаю, не глядя на него.
Не собираюсь говорить этого, а почему-то говорю. Должно быть, потому, что по его тону понимаю — теперь все по-другому. Мы уже не мальчики. Все по-другому. Теперь на мне упряжь, теперь есть вожжи. Их могут натянуть посильнее, могут чуть ослабить, но мне от них уже никогда не избавиться.
— И это все? Больше тебе сказать нечего? — В его голосе слышится разочарование.
Ничего не отвечаю на это. Откуда мне знать, что именно ему хочется услышать? Тут его ферма, я его раб. Мы молча спускаемся по крутому склону, вместе и порознь. Снова моросит дождь, а в дождь мне легче схоронить свои мысли.
В доме тоже каждый живет как бы сам по себе, хотя и все вместе. Те первые недели, пока льют дожди, мы спим на кухне, старые хижины еще не починены. Мы спим на полу возле очага, Онтонг и я, а между нами Лидия из Бюффелсхука. Хорошая женщина, щедрое тело, но не все в порядке с головой. Вдруг ни с того ни с сего начинает бегать кругами, будто цыпленок, укушенный осой; тогда ее приходится утихомиривать и силком приводить обратно: на губах пена, глаза закатываются, и видно одни белки. И вечно она — когда не работает, а то и когда работает — собирает всякий хлам (перья, веточки и листья), которым набивает матрас. А все из-за удара по голове, когда она была еще ребенком, говорит Онтонг. Но мама Роза думает иначе — Лидия, должно быть, попала на восходе солнца под чью-то тень, а это, как все говорят, поселяет в человеке темноту, и только очень редкостное снадобье, втираемое в надрезанную кожу, могло бы тут помочь. Онтонг — малаец, но даже он не в силах излечить эту женщину: Лидия остается такой, как была.
Мужчине не дело спать с такой вот женщиной, но, если она единственная в округе, приходится мириться, а в темноте это не так уж трудно. Она со странностями, конечно, но лучше такая, чем никакой. И вот Онтонг и я по очереди спим с ней. Но потом ее выходки надоедают мне.
— Бери ее себе, Онтонг, — говорю. — Ты терпеливее.
Лишь только кончаются дожди, Николас вызывает меня на грязный двор.
— Хозяйке не нравится, что вас так много в доме. Наруби деревьев в долине и строй себе хижину. А на болоте есть глина и тростник. И Онтонг тоже пусть строит себе хижину.
— Хижину для меня одного?
— Тебе же надо где-то жить.
Потому я и говорю, что Хауд-ден-Бек совсем особое место. Всю свою жизнь я жил вместе с другими. А теперь мне разрешают строить хижину для себя одного, подобно птице, вьющей гнездо в первые теплые дни после суровой зимы. Гнезда, нависшие над запрудой… Нет, нечего впутывать сюда запруду. Ее времена миновали.
Рубить ветви и таскать охапки камыша и тростника — дело нелегкое, но по вечерам, управившись с работой в доме, Лидия помогает обмазывать тростник глиной. К первой уборке бобов хижины готовы, моя довольно далеко от той, которую будут делить Онтонг и Лидия. Поглядите-ка на меня — хозяин собственной хижины, земляной пол в ней ровный и твердый, посреди хижины разостлана каросса, у стены в глубине сундук, в нем все мои вещи из Лагенфлея. Вполне хороша, чтобы поселить в ней даже маму Розу: я вижу, что она все больше склоняется к тому, чтобы последовать за мной в Хауд-ден-Бек. Но когда она наконец решается покинуть Лагенфлей, то перебирается в собственную хижину, особняком стоящую в получасе ходьбы от нас.
— Не хочу быть привязанной к дому другого человека, Галант, — говорит она, когда я в первые морозы достраиваю ей хижину. — Ни у кого не хочу просить милостыни. Я свободна.
— Молния ударит в тебя тут на холме, — остерегаю я. — Место уж слишком открытое.
— Не боюсь я никакой молнии.
И я знаю почему. Мне не раз доводилось видеть ее во время грозы: когда молнии неистовствуют и вспыхивают, по ее мнению, слишком близко, она выходит под дождь, поворачивается спиной к грозе, наклоняется и задирает свою кароссу. Ничто не может так устрашить Птицу-Молнию, как голый зад мамы Розы.
И в конце концов я перестаю сетовать на ее независимость. Потому что в эту пору на ферме появляется Бет, молодая женщина с далекой восточной границы, и она мне по нраву. Покладистая женщина эта Бет. Трудная, если заупрямится, но не жадная на свое тело, уживчивая и легкая. Обычно, когда у нас в округе появляется новая женщина, мы все идем к ней, как лошади к кормушке, ведь женское лоно редкость в наших краях, а мужчине нужна его влага. И вот, едва Бет поселилась у нас, еще до наступления нового полнолуния, я спрашиваю у нее:
— Что скажешь, Бет? Погляди на эту хижину, она моя. Будешь жить в ней?
Подобно птице, она внимательно осматривает гнездо, выщипывает там и сям по клочку соломы, заглядывает внутрь, приказывает перевесить дверь в сторону восхода, как то принято у койкойнов, велит изменить то да ее и остается довольна.
Я иду к Николасу и говорю ему:
— Я взял себе женщину и буду с ней жить. Это Бет.
И он великодушно дарит двух ягнят, чтобы мы устроили праздник.
Работа, конечно, идет своим чередом, ведь ферма сильно запущена, а рабочих рук не хватает. Время от времени Николас нанимает готтентотов, которым случается проходить мимо, или же Франс дю Той и другие соседи-фермеры дают взаймы своих работников, но постоянных рабочих рук не хватает: я, Онтонг, а потом еще Ахилл, вот и все. Поначалу мы все делаем вместе. Но потом каждый выбирает работу себе по душе. Мне поручают лошадей. Николас не любит лошадей, как не любит и собак. Он их побаивается, и они тоже с ним настороже. А я лошадник. Я готов без конца чистить и кормить их. Конечно, я мантор и должен присматривать за всем, что делается на ферме, но лошади — моя первая забота. И еще постройки. Николас решил понастроить стен по всей ферме. Краали, конюшни, хлева. Каменную стену вокруг двора и курятника. Ограду вокруг маленького кладбища с могилой отца Эстер. Еще одна стена перегородит плотиной восточную сторону болота. Он хочет прорыть новые канавы, чтобы подвести воду к бобовым и пшеничным полям, к садам и небольшой плантации табака. Копаю, устилаю камнем и затем обмазываю глиной. За все это отвечаю тоже я. Онтонг выделывает шкуры и режет ремни, работает в кузнице на заднем дворе, чинит плуги, колеса и телеги, а если надо, хотя такое случается нечасто, умеет изготовить столы, стулья и сундуки, как никто другой. Когда в Хауд-ден-Бек перебирается Ахилл, ему поручают овец, коз и небольшое стадо коров и быков.
Такова наша постоянная работа, каждому по его склонности. Но есть и другая, которую мы делаем все вместе, — сезонная работа. В Хауд-ден-Беке сажают и сеют всего понемногу, и нам приходится потрудиться. Нужно расчистить и заново вспахать заросшие сорняками, запущенные поля. Пшеница и ячмень посеяны в нижней части долины. А это значит, что нужно подготовить гумно, выровнять землю, разбросать на ней навоз и утрамбовать его. Ближе к дому бобовые поля и сады — старый вишневый сад, молодые персиковые деревья, посаженные перед домом, абрикосовые деревья и яблони.
На дальней стороне болота, влево, там, где начинаются горы, Николас пробует растить виноград. Но из этого ничего не выходит. В Лагенфлее старый баас каждый год собирает достаточно винограда, чтобы получилось несколько бочонков бренди, а здесь, в Хауд-ден-Беке, бренди приходится покупать в Тульбахе или в Кейпе, бочонки стоят в сарае, ключ от которого всегда при мне.
Как и в детстве, работа зависит от времени года. Когда после сбора бобов улетают ласточки и Ахилл угоняет овец на зимние пастбища Кару, мы, оставшиеся на ферме, в любую погоду, в мороз и снегопад, выкорчевываем кустарник, сжигаем сухую траву и готовим землю для пахоты. К тому времени, когда возвращаются ласточки и Ахилл, земля уже готова для сева. А потом мотыжим, пропалываем и орошаем ее до середины лета, когда пшеница начинает желтеть и пора жать ее, навивать стога, молотить зерно и убирать его в амбар. А едва покончишь с пшеницей, пора собирать бобы и фрукты, сушить их, не теряя времени — ведь дни становятся все короче и к вечеру все холоднее. И пока не ударил первый мороз, нужно успеть собрать в горах бушевый чай, а тут уже время выделывать шкуры, охотиться и забивать скот на зиму, а потом нагружать фургон продуктами, которые Николас отвезет на продажу в Кейптаун. Все те же дела, что и в Лагенфлее, каждый раз от начала и до конца, как день от восхода и до заката, а затем все сызнова.
Я поставлен главным над всеми остальными, а Николас главный и надо мной. Но я все же никак не могу понять, кто он теперь для меня и кто я для него. Правая рука или раб? Мы уже не дети. Теперь он всегда ходит в башмаках, а я, как и прежде, хожу босиком. Так что же значат на самом деле его слова: без тебя мне тут не справиться? Я пробую проверить это как-то в полдень во время поздних заморозков, нарочно сломав плуг. Неподходящий день для пахоты: моросит дождь, северо-западный ветер пронизывает до костей, но Николас приказывает пахать. Сегодня мы все выясним, думаю я. Устроить это нетрудно — плуг сломается, напоровшись на торчащий из земли камень. К закату работа так и не закончена, и тут на поле спускается Николас.
— Что у тебя случилось?
— Плуг сломался.
— А почему ты не поднялся ко мне и не доложил?
— Хотел сам починить его.
— Отчего он сломался?
— Я сломал его. Я же говорил тебе, что сегодня неподходящий день для пахоты.
Он усмехается, но как-то неуверенно. Изучающе поглядывает на меня, я смотрю ему прямо в глаза, и он отворачивается.
— Ну что ж, — говорит наконец, — такое может приключиться с кем угодно.
— Я ударил его о камень.
— Беда с этими камнями, их никогда не углядишь вовремя.
Он, понимаю, знает, что все это не так. Но хочет верить в то, во что верит. Хочет избежать того, что на самом-то деле уже случилось, увильнуть от открытого столкновения со мной. Что он станет делать в Хауд-ден-Беке без меня? Но что стану делать я, если он откажется помочь мне понять, кто я для него?
Насвистывая, иду по неровно вспаханной земле обратно к хижине, к Бет. Но понимаю, что вопрос не решен. Лошадка не укрощена. Ее поставили на колени, но ненадолго. Николас еще не решается оседлать ее и скакать на ней, как ему вздумается. Но это все равно случится рано или поздно. Мы не сможем вечно уклоняться от этого.
А работа идет своим чередом, день за днем. Несмотря на усталость или болезни: когда ломит спину, болят зубы, мучает кашель или понос; мама Роза даст тебе лекарство, и работа продолжается. И подобно выдохшейся кляче на гумне, ты идешь круг за кругом и зимою и летом.
Конечно, бывают и праздники. Когда Николас уезжает в Кейптаун, а его жена отправляется навестить больного отца, мы остаемся на ферме за хозяев. По вечерам на лошадях отовсюду съезжаются гости, Абель и другие рабы с ближних ферм, звучит музыка, и все пляшут, скачут и красуются друг перед другом. Никто не играет на скрипке лучше Абеля, никому не сравняться с ним, когда он кружится в танце. А если устанешь, есть бренди, украденное на окрестных фермах, а кончится бренди, есть еще медовуха старого Ахилла, которая ударяет тебя посильнее любого жеребца. Ее нужно выдерживать целый год, но зато это настоящая огненная вода. В глиняный горшок кладется дюжина, а то и больше яиц, сверху наливают уксус и лимонный сок, если есть лимоны, а когда растворятся даже скорлупки, туда добавляют много меда и бренди и еще какие-то таинственные травы мамы Розы, чтобы придать ей совершенно особый вкус; выдержав несколько месяцев в темном углу хижины, ее разливают в тыквы-горлянки и запечатывают глиной до будущей зимы. Медовуха старого Ахилла — это огненная кровь наших диких празднеств. Танцы, выпивка, шутки и перепалки с вечера и до рассвета. Частые стычки из-за немногих женщин в нашей многочисленной мужской компании. Из-за Бет тоже. Теперь, когда она живет со мной, я не позволяю никому прикоснуться к ней. Как-то ночью старый Адонис из Бюффелсхука отправляется домой, получив от меня удар топором по голове. Этот теперь уже никогда не будет приставать к Бет. Задаю трепку и самой Бет, просто чтобы знать наверняка, что она не станет заигрывать с другими мужчинами, а после валю ее на пол и объезжаю так, что ей этого никогда не забыть. А вокруг продолжается веселье, наполняя ночь криками и музыкой.
Но когда ночь содрогается в последних конвульсиях, когда угли в очаге из красных становятся серыми, когда шакалы притворяются духами мертвецов, когда бабуины кричат на утесах и женщины-лунатики прокрадываются в хижины к спящим мужчинам, когда веселье на дворе начинает мало-помалу стихать, я ускользаю от всех, вывожу из конюшни Николасова жеребца и скачу куда глаза глядят, в темноту, в никуда и куда угодно. Кажется, будто смерть наступает тебе на пятки и вот-вот выследит и схватит тебя. Есть в такой ночи одиночество, какого я не знавал до сих пор. Вдалеке слышно, как Абель и все остальные гости разъезжаются по домам, на фермы своих хозяев, где вскоре им придется вставать под удары колокола, едва успев прилечь. Так коротко наше веселье, а затем на вырвавшуюся на волю лошадь снова надевают упряжь.
Спрыгиваю с Николасова жеребца, поднимаю камень с земли и запускаю им в другой, высекая в темноте искры. Подхожу к одной из стен, которые мы тут понастроили, и принимаюсь разбирать ее, хватаю камень за камнем и швыряю в ночь, как голыши в запруду, хотя на этот раз тут нет никакой воды и, стало быть, нет никаких кругов. Швыряя камни, крепко зажмуриваюсь, пытаясь разбить образ детей с гладкими телами, купающихся в той темной запруде. Ты сегодня не пойдешь с нами, Галант. Тебе нельзя смотреть на Эстер. Ты раб.
Но ничего не могу добиться.
Тяжело дыша и дрожа от усталости, снова сажусь на лошадь и еду к хижине мамы Розы. Она не рассердится, даже если ее разбудишь среди ночи.
— Зачем, — спрашивает, — так терзать себе душу?
— Опостылел сам себе, мама Роза.
— А чего ты ждешь от меня?
Откуда мне знать? Может, стало бы легче, если бы я снова превратился в ребенка, заполз бы под кароссу и подчинился ее ласкающим рукам, гладящим и гладящим меня, пока я не усну. Но разве теперь это поможет?
Она заваривает бушевый чай над дымным очагом, в котором медленно тлеют дрова. Глаза у нее слезятся. Она уже старая, как горы.
— Расскажи мне какую-нибудь историю, мама Роза.
— Ты что, рехнулся? Ты же теперь взрослый. Прошло время рассказывать тебе истории.
— Расскажи мне о Великом Охотнике Хейтси-Эйбибе. О Водяной Женщине. Расскажи о Птице-Молнии, что кладет свои яйца в землю.
Я возвращаюсь к хижине, построенной моими руками, и к женщине, принадлежащей мне.
Она стонет, просыпаясь, садится и трет глаза. Теплый запах женщины.
— Где ты был всю ночь, Галант?
— Ездил на лошади.
— Кто крепок ночью, тот днем слаб, — поддразнивает она низким со сна голосом. — Иди ко мне.
Это помогает. И она это знает. Знает нужды моего тела. И присматривает за мной и ночью и днем. Она теперь стряпает в доме Николаса и потихоньку таскает для меня мясо и всякую другую снедь. «Ешь, — говорит она. — Тебе нужно есть мясо». Приносит и другие лакомства — слухи и новости, все, что услышит в доме. Еще один раб сбежал от Баренда, такое случается часто, у Николасова брата тяжелая рука. И всякие другие вести. Какой-нибудь хозяин уезжает на неделю или на месяц, и будет где устроить пиршество. И всегда держит ухо востро в те дни, когда привозят газеты. Новый закон о рабах, рассказывает она. Теперь мужа и жену нельзя продавать раздельно. Еще одно собрание в Кейпе. Хотят, чтобы дети рабов считались свободными от рождения. Но правительство против этого. В газетах всегда какие-то новости, и в основном о рабах.
— Ты уверена, что это правда? — с жадным волнением спрашиваю ее. — Уверена, что не ослышалась?
— Конечно, уверена. Я же сама читала.
— Ты умеешь читать? — удивляюсь я.
— Меня научили в Бреинтуисхохте, где я жила раньше.
— Тогда принеси сюда газету и покажи мне.
— Они не выпускают газету из рук. Ты сам знаешь.
— Ты все время в доме. Тебе нетрудно. А потом положишь ее на место.
— Я и так уже рассказала все, что в ней говорится.
— Почему ты увиливаешь?
— Я не увиливаю. Просто говорю.
— Бет, ты у меня дождешься.
Но даже колотить ее бессмысленно, она упряма. Придется добыть газету самому. В полдень я вижу, как Бет выходит из дому. Николас далеко на пастбище, а хозяйка в огороде. Я прячусь за персиковыми деревцами возле парадной двери с охапкой хвороста, чтобы было чем оправдаться, если меня заметят. А когда убеждаюсь, что никого поблизости нет, проскальзываю в дом. Газеты в сундуке, это я знаю от Бет.
Настороженно прислушавшись, не заскрипит ли задняя дверь, сую газету в охапку хвороста, поспешно выхожу и ныряю за деревья.
— Вот она, — говорю я, входя в хижину. — Должно быть, та самая. Она лежала сверху.
— Галант, нам не поздоровится.
— Читай. — Я сую ей газету под нос. — Читай мне. Я хочу услышать.
— Я все и так рассказала.
— Женщина, читай.
— Тут о правительстве.
— Покажи значок правительства. Я хочу увидеть своими глазами.
— Вот.
Она прижимает палец к цепочке следов в середке газеты. Я внимательно изучаю эту цепочку.
— А о чем говорится вот тут?
— Тут о собрании. То, что они говорили.
Я вырываю газету и мну ее.
— Не надо! — кричит она. — Баас будет…
— Его звать Николасом.
— Но он наш баас.
Я отталкиваю ее и сую ей смятую газету.
— Покажи мне еще раз значок правительства.
— Я же показывала.
— Покажи снова.
Я вижу, что она боится. Поколебавшись, она снова прижимает палец к маленькой цепочке знаков.
— Это не те значки, что ты показала в первый раз! — кричу я.
Она трясется от страха и пытается выкрутиться.
— У правительства есть несколько значков.
— Ты лжешь, Бет. Ты не умеешь читать, умеешь ничуть не больше, чем я.
— Я просто хотела, как лучше для тебя, Галант. Ну пожалуйста…
— Ты обманула меня. Этого я не прощаю никому.
Я замахиваюсь топором, которым обычно колю дрова.
— Нет, Галант, не надо!
— Бет! — зовет из кухни хозяйка. — Где ты там?
Я отпускаю ее. А сам остаюсь в хижине, пока не слышу, как через ворота проскакала лошадь; тогда выхожу, держа газету в руках.
— Я хочу знать, что тут говорится о рабах, — говорю я Николасу, когда он слезает с лошади.
Он удивленно забирает у меня газету.
— Зачем ты берешь вещи, в которых ничего не понимаешь?
У меня все плывет перед глазами, но я сдерживаюсь.
— Николас, я хочу знать, что тут говорится.
Он смеется, в смущении удерживая лошадь между собой и мной.
— Там говорится о всяком, — говорит он, ухмыляясь. — В том числе и о белой курице, которая в заморской стране высидела на яйцах черную кошку.
Я крепко сжимаю поводья, суставы пальцев белеют.
— А теперь распряги лошадь и почисти ее, — говорит он. — Солнце уже садится.
Я знаю, что не могу тронуть его пальцем. И он тоже это знает. В том-то и разница между нами. Я смотрю ему вслед, пока он идет к дому. Мне остается только одно: как следует объездить сегодня ночью Бет.
Я делаю это, и вот теперь она ждет ребенка.
И это тоже то новое, что вызывает во мне возмущение. Что я буду делать с ребенком? Что из него получится? Каждого жеребенка, рожденного здесь, укротят, я не хочу этого для своего сына.
— Я не хочу его, мама Роза, — обрушиваюсь я на старуху. — Тут не место для ребенка.
— Но он не будет рабом, — напоминает мне она. — Он ребенок Бет, а она свободная женщина, она из койкойнов, как и я.
По телу у меня пробегает дрожь, как от глотка медовухи старого Ахилла. Страшная молния. Я готов и плакать и смеяться. Я скачу домой на лошади Николаса, глядя на звезды. Этот ребенок будет ходить, куда захочет. Он сможет дойти до самого Кейптауна. Вот я тут, я скачу в темноте, но мой сын ускачет навстречу солнцу. У меня никогда не было ничего, кроме упряжи сегодняшнего дня. Но дорога этого ребенка пройдет до самого рассвета.
От этой мысли у меня кружится голова, и, когда лошадь спотыкается, я теряю равновесие и лечу на землю, расцарапав локти и колени. Я готов чертыхаться, но смеюсь. Пусть ваши чертовы белые курицы, думаю я, выводят сколько угодно ваших чертовых черных кошек. Что мне до этого? Привязывайте меня на веревку, как скотину, держите меня на самом коротком поводке. Но мой сын умчится навстречу солнечному восходу.
Эстер
Баренда никто не заставлял селиться на этой ферме. Он старший, и у него было право выбирать. А Хауд-ден-Бек куда лучше, Много воды, пшеничные поля на равнинах, пастбища в вельде, почва каменистая, но глубокая и тучная. Ферма стоит на открытом месте, даже кладбище ничем не защищено. Но чтобы держать меня подальше от могилы отца и от дома, в котором я родилась, он предпочел взять себе Эландсфонтейн, ферму, упрятанную в тесной долине между двумя крутыми хребтами гор, далеких и суровых. Чтобы заточить меня тут и безраздельно владеть мной.
Еженощная звериная схватка, когда он жадно хватал и брал меня, стремясь усмирить, укротить, словно кобылицу, а я яростно сопротивлялась, понимая, что, так или иначе, он куда более уязвим, нежели я. Одно лишь унижение было в его триумфе, когда, обессиленный и жалкий, он оставлял меня, разодрав и истоптав только мое тело. То была настоящая борьба — сохранить неприкосновенными собственные желания и мечты. Тело должно выжить. Мы обречены на зависимость от его пределов и побуждений. Но тело — всего лишь движимое имущество вроде домашней скотины, а ведь есть еще земля и текучее упорство воды. Ими он овладеть не мог, только я сама, хотя и заточенная в собственном теле, имела доступ к ним.
Наши дети были итогом этой нескончаемой войны. Я не хотела их. Но, даже родив двух мальчиков, я странным образом обрела еще большую неуязвимость. Точно они были и не мои; даже выношенные и рожденные мною, они сумели утвердить мою независимость от него. Поначалу я казалась бесплодной. Во мне, вероятно, была некая горечь, которая отравляла и убивала его семя, — и я радовалась этому. Я боялась, что дети могут укрепить его власть надо мной, и каждый месяц я как бы заново утверждала свою беспощадную девственность, которая не имела ничего общего с той испачканной простыней, которую он вывесил из окна, чтобы на нее могли полюбоваться ласточки и горные орлы. Мое бесплодие было демонстративным и гордым. Я расцветала под испуганными взглядами его матери, внимая раздраженному шепоту того человека, моего свекра: «Я же говорил тебе, Баренд, чтобы ты женился на большой, крепкой женщине. Что же будет с нами, что будет с Ван дер Мерве?»
Почувствовав себя беременной, я оцепенела от отвращения. Я отказывалась смириться с этим. Должно быть, я просто больна, это просто какая-то странная опухоль. Все во мне противилось мысли о ребенке. Я ничего не скажу ему, даже если он что-то и заподозрит. Не знаю, что он заметил, но он стал смотреть на меня не с прежней похотью и яростью, а с каким-то благоговением. Даже выказывал признаки нежности. И эта нежность бесила меня. Теперь он слишком напоминал мне Николаса. От насилия я могла защититься, нежность куда коварнее. Оставшись одна, я изо всех сил надавливала на живот руками, пытаясь изгнать из тела растущую в нем плоть, это враждебное присутствие во мне чего-то чужого, изнутри угрожавшего моему одиночеству. А потом первое робкое движение, легкое, как помаргивание века, шевеление маленькой ручки или ножки. И что-то во мне переменилось. Я еще продолжала бороться так, словно на чашу весов была брошена моя последняя свобода, но уже знала, что проиграла. Ребенок был во мне, и я желала его. С тех самых пор, как я осталась одна после смерти отца, я ничего не желала столь страстно. Когда я потеряла его — так глупо и бессмысленно, — мне хотелось умереть. Я понимала, почему потеряла его — потому что слишком его желала, такое случалось со мной и прежде. Но на этот раз мне было особенно тяжело. Ноющая пустота внутри не возвращала меня к моему нормальному состоянию, а лишь говорила о моей потере. Утратить то, чего еще не имел, — это оказалось страданием куда более мучительным, чем просто физическая боль. То была смерть возможного, внезапное сужение горизонта, уточненная и потому более отчетливая ограниченность тела. Размытая земля, высохший подземный источник.
Когда я больная лежала в постели, в комнату вошел Баренд. Что-то всколыхнулось у меня в душе, мне хотелось, чтобы он подошел и обнял меня. Хотелось сказать ему, как мне жаль. Но, увидав суровую злобу в его взгляде, поняла, что он винит и ненавидит меня за случившееся. Я не произнесла ни звука, и он ушел. Мне кажется, в тот раз мы упустили последнюю возможность приблизиться друг к другу. Беременность сделала меня менее защищенной. Теперь следует быть еще более осторожной, чтобы меня не захватили врасплох.
Когда это случилось снова, та первая бурная радость уже больше не вернулась. Все произошло хотя и без особого желания, но и без сопротивления. Это было не чудо, а всего лишь простая неизбежность. Все было «нормально». Не продолжение самой себя, а защита от будущего. Мечта не умерла, а только, окопавшись, ушла от мира в еще более глубокую нору, оставив еще меньше возможностей для любви и надежды.
Мне запрещалось ездить одной в Хауд-ден-Бек. Бывали только рутинные семейные визиты вместе с Барендом. В первый раз мы поехали туда на свадьбу к Николасу. Я заранее предвидела, что это будет пыткой: Баренд издевательски бахвалился мною, тот человек, его отец, как всегда, толковал о добродетелях больших жен с плодоносным лоном, его мать изо всех сил старалась, чтобы я чувствовала себя «как дома», соседи впивались в меня глазами, пытаясь обнаружить какие-нибудь признаки беременности, хотя мы были женаты всего два месяца. Сесилия с деланной гордостью расхаживала по дому, который был когда-то моим, и, обнажив крупные зубы, улыбалась застывшей улыбкой, словно желая показать всем, что ей вовсе не тесно в тугом корсете, стянувшем ее большое неуклюжее тело, а Николас беспомощно глядел на меня, точно раненый олень, недоуменно ожидающий выстрела, который наконец избавит его от мучений. Все это было невыносимо. Сильный ливень немного приглушил их буйное веселье и разогнал кое-кого из гостей. Но все равно это было отвратительно, хотя и не столь мерзко, как тогда в Эландсфонтейне, где меня окружила толпа неистово ликующих гостей, от которых мне пришлось спасаться за забаррикадированной дверью спальни, сорванной потом Барендом, который вторгся ко мне для первого решительного сражения в нашей нескончаемой войне. Мне тут было не по себе, и, улучив момент, я выскользнула из комнаты. На кухне был один Галант. Остальные рабы разносили гостям мясо и бренди.
Неожиданный островок тишины: в комнатах толпы людей, снаружи льющийся беспрерывным потоком дождь — а в кухне никого, только мы двое.
— Ты что-нибудь ищешь? — спросил он.
— Я ухожу.
— Привести твою коляску?
— Нет, я пойду пешком.
У меня и в мыслях не было уходить, но стоило мне произнести это, как я вдруг ощутила острое желание остаться одной, пусть даже и под дождем. Вот именно — под дождем.
— Нельзя идти пешком в такую погоду, — сказал он.
— Я люблю дождь. — И неожиданно добавила: — Разве ты не помнишь?
Он ничего не ответил. Должно быть, он все забыл. Пожалуй, так оно и лучше; однако в его безучастности ощущалась какая-то неприязнь, словно он перечеркивал не только свои собственные воспоминания, но и то, что — кто знает? — было важным и для меня.
Когда я открыла дверь, у меня перехватило дыхание, и я невольно отступила назад.
— Я же говорил, что ничего не выйдет.
Не скажи он этого, я бы осталась. Но он словно испытывал меня, и я заявила:
— Нет, я пойду.
— Давай я провожу тебя и покажу дорогу.
— Я сама найду дорогу.
— Возьми фонарь.
— Не говори глупостей. В такой-то дождь?
Он угрюмо смотрел на меня, а я стояла, опершись телом о дверь.
— Галант, — мне нужно было как-то пробиться к нему, но, не решаясь просто взять и потрясти его за плечи, я попыталась хотя бы словами выразить свою мольбу, — теперь ты будешь жить тут. Пожалуйста, ради меня, присматривай за этой фермой.
— Хорошо, мисс Эстер.
Меня словно обожгло. Он никогда прежде не называл меня так. Я отвернулась и вышла под дождь, оставив дверь открытой. Буря была еще страшнее, чем я думала. Гораздо страшнее. Когда я, пошатываясь, вышла со двора, кругом была чернота. Казалось, дождь готов смыть всю землю. Я мгновенно промокла до нитки. Отыскала дорогу обратно и, спотыкаясь, добрела до конюшни. В темноте оттуда вырывался наружу пар, тихо ржали лошади, резко пахло мочой. Я хорошо знала лошадей, и, когда заговорила с ними, они тоже узнали меня. Дрожа от холода и сгибаясь под тяжестью намокшей одежды, я наконец обретала долгожданное тепло, прижимаясь к их огромным телам. Я стояла, приникнув к ним, пока не почувствовала, что могу снова поспорить с дождем. В темноте не было смысла седлать лошадь. Я выбрала ту, которую знала лучше других, вывела ее из конюшни, вскарабкалась и легла на нее всем телом, радостно ощущая бодрящую теплоту огромного животного, скакавшего под дождем в ночи, напряженное сокращение мускулов, обманчивую покорность его дикой силы. Несколько раз я почти засыпала на спине лошади от изнеможения и приходила в себя только тогда, когда начинала сползать с нее или когда она неожиданно останавливалась или сворачивала, чтобы преодолеть какое-то невидимое препятствие.
Когда я добралась до Эландсфонтейна, уже светало, наступал новый серый, безрадостный день. Я закоченела и чувствовала, что у меня начинается жар. Баренд, долго разыскивавший меня в вельде, прискакал домой в такой ярости, что ударил меня. Я не сопротивлялась. Не только из-за странной благодати изнеможения, но и из-за необъяснимого удовлетворения, возникшего во мне, — так, должно быть, чувствуешь себя после ночи, проведенной с мужчиной, которого по-настоящему любишь.
Несмотря на категорический запрет Баренда, я поначалу часто наведывалась в Хауд-ден-Бек. К сожалению, не пешком — фермы были слишком далеко друг от друга, не меньше двух часов езды даже на быстроногом коне — и всегда на всякий случай прихватывая с собой корзину со свежевыпеченным хлебом, джемом или окороком. Но если меня никто не замечал, пока я сидела возле могилы или просто бродила по ферме, я возвращалась домой, так и не вручив им гостинцы. Узнав об этом, Баренд устраивал мне ужасные сцены, но потом и он смирился. Ему хватало хлопот с рабами — они постоянно убегали. Его жена по крайней мере возвращалась — если и без особой охоты, то хотя бы из чувства долга.
Забеременев, я сделалась немного рассеянной. Мне всегда нравилось быстро скакать верхом. Бешеная скачка как бы освобождала мои мысли, и они бежали сами по себе. В тот день лошадь подо мной вдруг чего-то испугалась — змеи, черепахи или кого-то еще — и, на полном скаку рванув в сторону, угодила в нору муравьеда и сбросила меня. Тогда-то я и потеряла ребенка. После этого меня уже куда меньше тянуло на могилу отца.
Поначалу, в заблуждениях юности, еще веришь в дикий бунт. Потом, оказавшись в ловушке жизненных обстоятельств — жена, женщина, слабый пол, — видишь лишь две возможности, противостоящие насилию, — безумие и самоубийство. Но необходимость выжить пересиливает все, даже чувство собственного достоинства. Это не отказ от борьбы, а осознанное терпение тела и разума.
Смириться? Стать в конце концов похожей на тетушку Алиду? Нет, никогда. Мое существование — не покорное согласие, а постоянное ожидание. Понимание того, что жизнь есть нечто большее, чем то, что сейчас. Глядя на бесплодную землю, порой и не подозреваешь о скрытых водах, текущих в глубине. Это приглушенное существование; некая битва, ставшая невидимой и призрачной, лишь изредка взрывающаяся извержениями, которые потрясают тебя и дают тебе новые силы. Дикость и неистовство, притаившиеся, но готовые в должный момент рвануться вперед, подобно лошади, бешено несущейся в ночь.
Бет
Позади была долгая дорога, и я надеялась обрести покой в Хауд-ден-Беке, а что из этого вышло? Нас была всего горстка койкойнов, бродивших из года в год разными путями из Оутениквы к Камдебоо, вокруг Снеговой горы и вверх по змеиному изгибу реки Фиш, из заросшего кустарником Кару к лесам Сурфельда. Но жизнь становилась все беспокойней, закон преследовал нас по пятам. Кочевать без пропуска не разрешалось; чтобы работать, надо было иметь письменное соглашение с хозяином; тебя могли пристрелить раньше, чем ты догадаешься, что нарушил закон. И вот мы решили обосноваться в Бреинтуисхохте с нашим небольшим стадом коз и овец. Мы получали работу у тамошних бурских семей — Пинслосов, Лабусхангьесов — и долгое время ни на что не жаловались. Потом жизнь снова осложнилась. С одной стороны наседали буры, а с другого берега реки — коса под предводительством Хинтса[17]. Проснешься утром, а краали разграблены. Тогда отряды буров садились на коней, им закон не писан, а по ночам костры людей племени коса загорались на вершинах холмов: значит, вскоре жди нового набега.
Я старалась держаться в стороне, слушала, что говорили и те и другие. Мы открыли эту страну, говорили буры, она наша. Нет, отвечали люди Хинтса, Тиксо создал этот мир для каждого, и любой может пасти свой скот там, где найдет подходящую землю. Так слово за слово — и вот уже снова война.
Мы как раз оказались в Грехемстауне, куда отправились с баасом за рождественскими покупками; нас окружили там, в этом белом городишке среди зеленых холмов. Воины коса устремились вниз по склону, подобно черному потоку, прорвавшему плотину. Размахивая бычьими хвостами, потрясая щитами из бычьей кожи. Ассегаи летели будто тучи саранчи. Я думала, нам не вырваться оттуда живыми.
Но не страх погнал нас прочь, едва самое худшее осталось позади. Коли пришла пора помирать, что толку пытаться схорониться от смерти. Мы ушли потому, что знали — это не наша война. Какое нам до нее дело? Если буры и коса хотят поубивать друг друга, пусть себе убивают, лишь бы нам, койкойнам, не оказаться между двумя мельничными жерновами. Такое никому не выдержать. И вот горстка наших потихоньку выбралась из города, когда пороховой дым еще висел над ним, подобно облаку.
Я покинула город, неся за спиной ребенка, но он умер по дороге к Кейпу. Нас было немного, когда мы отправились в путь, но нас осталось и того меньше, когда мы перебрались через горы. Мы разбились по двое и по трое, каждый пошел своей дорогой — племени не стало. Я работала на фермах, мимо которых проходила, то помогая на кухне, то в поле. А во время уборки бобов баас Николас повстречал меня в Тульбахе и нанял. Сказал, что его жене нужна помощница на кухне. У нее была своя рабыня, но они с ней не ладят, а хозяйке нужна повариха.
— Работа как раз по мне, — сказала я. — В Бреинтуисхохте я выучилась вести хозяйство, я умею делать любую работу по дому.
У меня не было причин жаловаться. С новыми хозяевами ужиться было нетрудно. А вскоре мне приглянулся Галант. Мужчин на ферме было немного. Старый Онтонг жил с рабыней Лидией. Ахилл — тот вообще бы& с причудами. Да еще готтентоты, нанимаемые на уборку урожая. К тому времени я уже долго жила без мужчины, если не считать случайных встреч на фермах по дороге, а от такого волей-неволей становишься похотливой и мрачной. Если корни не высажены во вспаханную борозду, она остается бесплодной. И я почувствовала облегчение, когда Галант взял меня. Он был не слишком разговорчив, все думал о чем-то своем, а порой к нему и вовсе было не подступиться. Но в руках у него все горело. И никто не мог сравниться с ним, когда он объезжал лошадей, да и женщин тоже.
Я вскоре подладилась к своей хозяйке. Она была вспыльчива и не выносила неловкости или небрежности в работе, но я не жаловалась. Со мной она никогда не обходилась грубо. Вот только с Лидией срывалась, и мы частенько толковали между собой про это, сидя вечерами у очага. Все мы, конечно, знали о слабости бааса к Лидии, о том, что он по ночам наведывается к ней в хижину, но то было его хозяйское право, и никто не осуждал его. А вот хозяйка просто видеть не могла Лидии. Должно быть, из-за бааса, потому что всякий раз, когда он отправлялся в хижину Лидии, на следующий день бывали неприятности. Тогда Галанту или кому-нибудь еще приказывали отвести Лидию в конюшню и связать ее. Обычно это случалось после того, как баас уходил в поле. Хозяйка сама порола Лидию. Но бывают порки и порки, мне довелось испытать на себе разные. А потому я понимала, что хозяйка поступает скверно. Стоило ей начать пороть Лидию, как она уже больше не владела собой. И только когда крики Лидии от воплей рожающей женщины переходили на вой умирающего щенка, порка прекращалась. Тогда хозяйка выходила из конюшни, толкая впереди себя Лидию. Лидия шла совершенно голая. Хозяйка раздирала на ней одежду ударами бича или просто срывала в ярости. И это тоже скверно. Ведь Лидия уже не ребенок, она даже старше меня, у нее уже и дети есть. Но ее голой отправляли в вельд собирать хворост или кизяк. И даже зимой, когда земля была покрыта беловато-серым, точно зола, и похрустывающим под ногами снегом, Лидия все равно ходила голая. Если хозяйка не видела, мы относили Лидии кароссу, чтобы укрыть ее, пока не придет время возвращаться домой.
Когда я в первый раз увидела все это, мне стало плохо. Я тогда носила ребенка Галанта, а женщина в такое время делается менее выносливой. Но меня напугала даже не сама порка, а голос хозяйки, доносившийся из конюшни, пока она хлестала бичом Лидию. Странный голос, больше похожий на стон или рыдание. Я подслушивала, стоя под дверью, но не могла разобрать ни слова, и все же мне казалось, будто она говорила слова из Библии, похожие на те, которые мне доводилось слышать, когда нас по средам и воскресеньям собирали в доме для молитвы. Галант увидел меня и сердито увел прочь: я вся дрожала, но не от холода.
— Пошли отсюда, — сказал он. — Здесь тебе делать нечего.
— Но хозяйка убьет Лидию!
— А ты не суйся.
— Почему ты ничего не скажешь баасу? — спросила я.
— Будет только хуже.
И он увел меня. Но как только он ушел, чтобы помочь Ахиллу пригнать овец, я вернулась к конюшне. И увидела, как Лидия выходила голая. Но я глядела не на нее, я поневоле уставилась на хозяйку. Лицо ее побагровело, волосы растрепались и взмокли от пота, на щеках виднелись бороздки от слез, она тяжело дышала. Может, от усталости, такая порка способна вымотать кого угодно, даже такую крепкую женщину, как хозяйка. Но меня удивило другое — или это мне просто почудилось оттого, что я носила ребенка? — увидев ее, я сразу подумала, что она похожа сейчас на женщину, которую всю ночь любил мужчина.
Если Галант не желает вмешиваться, решила я, то я сама поговорю с баасом. Но вскоре произошло то, что совершенно потрясло меня. После еще одной такой порки, когда Лидия под вечер возвращалась домой с обычной ношей кизяка на голове, голая и вся посиневшая от холода, из-за сарая со стороны сада появился баас. Увидав ее, он остановился и побледнел. Я тогда как раз вышла из кухни с бочонком для воды. Было еще светло, и я все хорошо видела.
— Что случилось, Лидия? — спросил баас.
Лицо Лидии было перепачкано грязью и соплями. Все тело в синяках, не только спина, но даже живот и груди. Но она все-таки держалась прямо, высокая и стройная, как алоэ. Она уставилась на бааса, не произнося ни слова.
В этот миг из кухни вышла хозяйка и сердито оттолкнула меня в сторону.
— Ты когда-нибудь видел подобное бесстыдство? — сказала она баасу. — Она была невыносима целый день. То и дело грубила мне. Я давно уже предупреждала тебя. Сегодня ты должен наконец наказать ее.
Он побледнел еще сильней, но сказал:
— Лидия, ложись на землю.
И выпорол ее бичом.
Все это время хозяйка стояла позади меня на ступеньках, тяжело дыша открытым ртом. Я больше не могла на это глядеть, взяла бочонок и пошла за водой, а потом обогнула дом, чтобы пройти на кухню с переднего крыльца. С меня было довольно. Но теперь по крайней мере прекратятся его ночные визиты к Лидии. А это уже немало. И что бы вы думали? В ту же самую ночь он снова отправился к Лидии. А на следующий день нас всех, как обычно, позвали в дом на молитву, словно ничего и не случилось; хозяин с хозяйкой уселись за стол, хозяин расстегнул застежки на своей коричневой книге и начал читать, медленно и размеренно, смакуя каждое слово.
Вот тогда-то мое сердце и восстало против них. По натуре я человек уживчивый, легко лажу со всеми, но теперь я начала сторониться этой женщины. Я делала все, что она приказывала, но душа у меня не лежала к ней. А баас, по моему разумению, был еще хуже, чем она. Она поступала скверно, но у нее были причины так поступать. По крайней мере она, должно быть, думала так. У белых людей есть свои странности. Но то, что сделал баас, было сущим срамом, мне противно было даже думать об этом.
Я устала от вечных скитаний, да к тому же носила ребенка. Если бы не это, я собрала бы свои пожитки и ушла бы, куда глаза глядят. Но из-за ребенка я осталась тут, возмущаясь в душе и стараясь держаться подальше от бааса. Я буду говорить ему «доброе утро» и «спокойной ночи» — это мой долг, — но не более того. Я никогда не прощу ему, что у него не хватило смелости остановить свою жену в ее дурных делах.
Вот почему история с ребенком так потрясла меня. Я не могла понять себя. Как можно желать то, что внушает тебе ужас? Я сделалась чужой и непонятной себе самой. Вправду говорят, человек — это пропасть, и куда глубже, чем любая из пропастей в горах Скурве.
Мы так радовались нашему ребенку. Мне еще не доводилось видеть мужчины, столь забавно счастливого, как Галант. Глядя на него, я ощущала, как груди у меня разбухают от молока. И это оказалось кстати, потому что Галант пристрастился к моему молоку не хуже ребенка, мол, такого вкусного питья никогда прежде не пробовал. Порой они сосали из моих грудей одновременно, отец и сын вместе, жадно причмокивая и прикрыв от удовольствия глаза, а я смотрела сверху на их лица и чувствовала, как все во мне сжимается от счастья.
— Галант, нельзя так трястись над ребенком, — предупреждала я его иногда. — Ты искушаешь злых духов. А если с ребенком что-то случится?
— Что может с ним случиться? Ты с ним, да и я с ним тоже.
Мы назвали его Давидом. Как-то вечером баас читал нам из своей книги о царе Давиде, это было в среду, я хорошо помню, потому что в среду молитва всегда короче, чем в субботу. Он читал нам о Давиде и царе Сауле, о том, как царь метнул в Давида свой ассегай и как Давид ушел в горы, зная, что придет время и он сам станет царем. А когда мы возвращались в хижину, Галант сказал:
— Мы назовем его Давидом. Его день тоже придет. Ведь он не я. Он не раб.
— Разве так плохо быть рабом? — спросила я. — Тут, на ферме, разницы между твоей жизнью и моей немного. Они по-доброму относятся к тебе. Баас сделал тебя мантором. Ты всем управляешь. Ты можешь сеять пшеницу, у тебя свои телки и ягнята. Тебе дают еду и одежду, просто так, ни за что.
— Все равно я остаюсь рабом.
И больше ничего не сказал. А я не стала спрашивать, что толку спорить с ним, когда он в таком настроении. Его непросто понять.
Ребенку было около года, я только что отняла его от груди, когда баас послал Галанта в Кару, чтобы пригнать коров, которых там прикупил. Пятьдесят восемь коров, я хорошо помню. Только что закончилась зима, наступило время большой уборки в доме и побелки стен. Галанта не было двадцать шесть дней, я считала их, день за днем. Когда перестаешь кормить, груди болят от распирающего их молока, и единственный, кто может тебе помочь, это мужчина.
С Давидом стало трудно управляться: он все время хотел пить, у него резались зубы и постоянно текли сопли. Я могла бы снова начать кормить его, но это не избавило бы от хлопот, ребенок стал бы помехой и в доме, и на дворе. Хозяйка уже не раз сердито жаловалась на него. А мне вовсе не хотелось давать ей лишний повод сердиться. Работы у меня было невпроворот, и не только по дому: Галанта и Ахилла не было, и мне поручили присматривать за овцами. Деньки были тяжелые, и приходилось быть начеку, чтобы не прогневать хозяев.
Когда мама Роза бывала свободна, она приглядывала за ребенком, но у нее самой работы было по горло. Пару раз, когда я оставляла ребенка одного, он выбирался из хижины и заползал в дом. Умный маленький паршивец. Но слишком непоседливый. Тогда баас и предупредил меня:
— Получше присматривай за ребенком. От него одни беспокойства. Смотри, чтобы он не попадался под ноги хозяйке.
— Хорошо, баас, — ответила я. А про себя подумала: «Ты бы лучше присматривал за собой. И нечего командовать мною. Я тебе не Лидия».
Я поговорила с мамой Розой, и она обещала помочь мне. Но уже на следующий день, загоняя овец в крааль, я поняла, что что-то случилось. Давид лежал возле хижины. Он был привязан к дереву, всхлипывал «о сне и отчаянно сучил ножками. Внутри у меня все похолодело. Отвязав его, я заметила синяки у него на теле.
— Что случилось? — спросила я маму Розу, едва сдерживаясь.
Она выделывала кожи на заднем дворе, растягивала и размягчала их тяжелым камнем, чтобы потом Онтонг мог нарезать из них ремни. Она была вроде бы спокойна, я только заметила, что работала она слишком быстро. Ее даже чуть не зашибло камнем, что выскользнул из куска кожи и со свистом упал на землю.
— Мама Роза, что тут произошло?
— Пришлось привязать ребенка к дереву. Он снова заполз в дом, и Николас приказал забрать его. А потом велел мне отнести белье к запруде.
— А откуда эти синяки?
Она продолжала размахивать камнем. Он то вихрем взлетал вверх, то снова опускался вниз.
— Я про это не знаю, — сказала она наконец, не глядя на меня. — Почему ты не спросить у тех, в доме?
Для начала я покормила ребенка грудью. Сейчас ему было нужно материнское молоко. Держа у груди это маленькое, сотрясающееся от частых прерывистых рыданий тельце, я направилась к дому, расшвыривая по дороге цыплят.
— В чем дело, Бет? — спросила хозяйка, когда я вошла в кухню.
— Я пришла спросить, что случилось с ребенком, — сказала я. А сама думала при этом: Посмей только сказать, что я наглая. Я огрею тебя вот этим поленом.
Должно быть, она поняла, что мне сейчас не до пустой болтовни.
— Там во дворе что-то стряслось, — сказал» она. — И баас очень рассердился. Я же говорила тебе, чтобы ты держала ребенка подальше от дома.
И тут он вошел в кухню из комнаты. Он остановился возле двери и уставился на меня своими дымчатыми голубыми глазами. Рукава его рубашки были спущены, но не застегнуты. Я тоже глядела на него. И думала: Эх, не будь сейчас у меня на руках ребенка… Но не решилась произнести ни слова. Я вспомнила о Лидии, о том, как он приказал ей в тот день: «Лидия, ложись на землю», и как она легла, безропотно подставив под его плеть свое израненное тело. Я похолодела от страха. Мужа со мной не было, он далеко в Кару, а я тут совсем одна.
Так ничего и не сказав, я повернулась и вышла. У меня все плыло перед глазами, даже непонятно, как я добрела до хижины.
Прошла еще неделя. Давид уже поправился. Удивительно, как быстро выздоравливают дети. В то утро мне приказали заняться мясом: был понедельник, резали скот, и нужно было перемыть все мясо. Ходить от дома до воды было далеко, и я не могла взять ребенка с собой. Поэтому я хорошенько накормила его и заперла в хижине.
Откуда мне было знать, что такой маленький ребенок сумеет открыть дверь?
Мама Роза рано утром угнала на пастбище овец, Онтонг поливал сад, поблизости никого не было. Промыв мясо, я вернулась к дому и отнесла его на кухню. Выходя с кухни, я услышала голос бааса за спиной:
— Бет…
Я обернулась. Он был так же бледен, как в тот день, когда бил Лидию.
— Бет, я ведь предупреждал тебя насчет ребенка?
Больше он ничего не сказал. Но я и так уже все поняла.
Давид лежал возле хижины на боку. Он дышал, но уже с трудом, как-то странно хрипя. Я глядела на его тельце. Но плакать я не могла. Я взяла его и понесла к воде, туда, где только что мыла мясо. Обмыла его тельце и понесла обратно. Вдалеке я увидела маму Розу. Она помахала мне рукой. Я не ответила ей. На закате ребенок умер.
Мама Роза была при этом со мной, потом она отправилась в дом, чтобы сказать им об этом.
Было полнолуние. При восходе луны в хижину вошел баас. Я сидела на земляном полу, груди у меня набухли от молока и болели. Он остановился возле двери, огромный, точно ночной мрак.
— Бет, ты должна простить меня, — хрипло сказал он. — Я поругался с женой. И потерял голову. Я не хотел этого. Ты же знаешь, что я не такой.
— Да, баас, — ответила я.
— О господи, Бет, скажи хоть что-нибудь, скажи, чего ты хочешь. Я дам тебе все, что ты попросишь. Все, что угодно.
Я опустила голову и сглотнула ком, застрявший в горле. Я не плакала. Я не могла плакать. Даже не знаю почему.
На следующий день Давида похоронили, завернув в маленькое серое одеяльце. Ни за кем не посылали, никто не пришел посмотреть на него. Его просто закопали в землю. Я не могла глядеть на это.
Баас снова пришел ко мне в хижину.
— Бет, ты должна простить меня.
Я прижалась головой к его твердым коленям и обхватила его ноги. Я не могла отцепиться от него. Мне казалось, что я тону. Я думала о Лидии. Ложись на землю. Думала о том, как в ту же ночь он вернулся к ней, чтобы взять ее израненное тело. Я ничего не могла понять, я и сейчас ничего не понимаю. Я знала, что потеряла Галанта. Он никогда не простит меня. Но не этому я ужасалась, стоя на коленях, вцепившись в его ноги, стеная, точно животное, воя, как Лидия во время порки, как собака, как сука в дни течки. Меня ужасала пустота, огромная и растущая во мне пустота, такая мучительная, что я готова была выползти во двор и, как собака, всю ночь выть у него под окном.
Да, так оно и было — и с того дня я не могла уже оставить его в покое. Я вожделела к нему каждый миг. Куда бы он ни пошел, я шла следом, моля его, чтобы он взял мое тело. Но он ничего не хотел замечать. А я все ходила за ним следом. Я стала его рабыней. Мне хотелось, чтобы он приказал: Ложись на землю. Я безмолвно молила его об этом. Я ходила за ним как тень. Я знала, что только так можно заполнить мучительную пустоту во мне.
Неужто я и вправду надеялась, что вновь обрету своего ребенка, если обращу свое тело в падаль и брошу его под ноги этому мужчине, чтобы он разодрал его на куски, как стервятник раздирает свою добычу? Конечно, надеяться было безумием. Но разве можно не быть при этом безумной? Все время ощущаешь, как в тебе все горит. И мучишься жаждой. Жаждой. Мне хотелось сказать ему: возьми меня. Растопчи меня. Галант никогда больше ко мне не притронется. Я потеряла своего мужчину. Я все потеряла. Я отвергнута всеми потому, что мой ребенок мертв. Мне так одиноко. Ночь. Возьми меня. Раздери меня на куски.
Но он не хотел. Безумная Лидия и та годилась для него, а я нет. Ведь я была грешной. Я носила в своем лоне смерть.
Лидия
Мои перья. Побои, ругань, крики, голоса со всех сторон. Что они там все говорят? Мужчины. Огромные, без перьев, они пронзают меня. Боль. Разбивают меня, точно ком земли. Почему они не оставят меня в покое, хоть на одну-единственную ночь? Но у меня есть перья. Набитые в мой матрас. Перья гусей, кур, перья ласточек, птиц-ткачей, журавлей, стервятников и даже перья горных орлов. Я все подбираю их, эти перья, много-много лет. Мужчины терзают меня. Терзают меня день и ночь. Та женщина с плетью. О чем они говорят? Голоса, голоса… Но у меня мои перья. И я разговариваю с птицами. Теми, что с перьями, на деревьях. Я говорю с ласточками и с дикими гусями. Со всеми тварями, покрытыми перьями. Они говорят, чтобы я потерпела. Скоро я улечу отсюда, улечу, как ласточка.
Баренд
После долгих размышлений я пришел к выводу, что все наши беды начались с тех пор, как в Кейпе появились англичане. Конечно, у нас и прежде бывали неприятности с властями: папа часто рассказывал о ссоре моего прадеда с ланддростом в Тульбахе, да и потом к нам то и дело наведывались бейлифы и чиновники, чтобы собрать налоги и рассказать нам о новых законах. И все же Кейп всегда оставался для нас далеким, а страна — огромной. Если у тебя случались какие-нибудь неприятности, ты мог погрузить вещи в фургон и уехать туда, куда еще не ступала нога человека и где дым соседского очага не застилал горизонта. Но когда появились англичане — вначале ничего вроде бы не изменилось, они, должно быть, боялись рисковать и далеко уходить от Кейпа, лишь с 1806 года, а то и позже они сделались смелей и назойливей, — все стало как-то неладно.
Взять хотя бы засухи. В этой стране только и слышишь о засухе: именно засуха была причиной, заставившей прадеда стронуться с насиженного места после того, как он огородил для себя кусок здешнего рая в Хауд-ден-Беке. Но засухи приходили и уходили, и, уповая на милосердие господне, жить было можно. Но англичане, лишенные истинной веры — ведь они даже не умели говорить на языке государственной Библии, как же они надеялись, что господь поймет их? — навлекли гнев божий на нашу страну. И теперь, когда тут случается засуха, все высыхает дотла и дождь приходит лишь тогда, когда уже ничего спасти невозможно, да это и не дождь, а настоящий потоп. А затем вдруг налетела саранча. Если верить отцу, ее никогда прежде не бывало в Боккефельде. Порой сюда доходили слухи о ней откуда-нибудь издалека, но наша высокогорная долина, казалось, была в безопасности. Но вот за последние несколько лет саранча появлялась тут трижды, каждый раз начисто опустошая вельд и пшеничные поля. Я не говорю уж об инспекторах, комиссарах и прочей нечисти, которые принялись разъезжать по фургонной дороге через Витценберх, постоянно докучая нам. Вдруг, откуда ни возьмись, новые налоги, пошлины, земельные обложения и еще бог весть что; а к тому же анкеты, в которых тебя принуждали перечислять вое, чем владеешь: пшеницу, фрукты, овец, коз, рогатый скот, свиней, рабов, домашнюю птицу, все по порядку. А посмей только повысить голос или поднять руку — и можешь не сомневаться, что у твоих ворот мигом окажется бейлиф или даже отряд готтентотов-пандуров, чтобы силком тащить тебя в суд.
Именно пандуры и заварили кашу в Слахтерснеке. До нас доходили слухи о тех событиях, а когда Николас нанял готтентотку Бет, которая пришла в наши края из пограничных районов, он и ее подробно расспросил обо всем, что она видела. Я не берусь решать, кто там был прав, а кто виноват, мне нередко доводилось слышать, что буры из пограничных мест — народ своевольный и хлопот с ними не оберешься, хотя едва ли кто-то вправе по-настоящему осуждать их. Но когда дело дошло до виселицы, после того как пандуры убили Фрека Безуденхаута, а его брат и остальные родичи подняли оружие на англичан, сам господь явил свою волю, повелев оборваться четырем веревкам из пяти. После этого любой истинный христианин немедленно освободил бы приговоренных. Так сказано и в Священном Писании. И то, что англичане просто послали за новыми веревками и снова вздернули четверых осужденных, лишний раз убедительно доказало, что все они безбожники.
— Клянусь всеми святыми, — сказал я отцу в тот день, когда мы узнали о расправе в Слахтерснеке, это было в воскресенье, вскоре после моей свадьбы, когда мы все, кроме оставшейся дома Эстер, съехались в Лагенфлей на богослужение, — я пристрелю первого же англичанина, который посмеет явиться ко мне на ферму и попытается навязать мне свои законы.
Николас, помню, не преминул упрекнуть меня, щегольнув своим показным благочестием:
— «Отдай кесарю кесарево».
— Англичанин никогда не будет для меня кесарем, — резко оборвал его я.
— Но ведь у евреев кесарем был римлянин, — ответил он.
Со временем его взгляды сильно изменились, должно быть, и он постепенно понял, что заветы Библии невозможно соотносить буквально с поступками и законами англичан, но в ту пору он нередко доводил меня до бешенства.
— Если бы в ветхозаветные времена существовали англичане, — сказал я, — господь наверняка повелел бы что-то иное. И если все мы не будем начеку, англичане вырвут эту страну прямо у нас из рук.
В день моей свадьбы папа читал нам в назидание слова из книги Иисуса Навина. У меня не часто остается время для чтения, я фермер, и работы тут всегда по горло, но, когда выпадает минута отдыха, я с удовольствием перечитываю эти слова из главы двадцать третьей, начиная с четвертого стиха:
Вот, я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которых я истребил, от Иордана до великого моря, на запад солнца.
Господь, Бог ваш, Сам прогонит их от вас (доколе не погибнут; и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего) и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь, Бог ваш.
Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами; не вспоминайте имени богов их; не клянитесь (ими) и не служите им и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня.
Слова эти всегда чтились у меня на ферме, мы никогда не уклонялись ни направо, ни налево. Все беспокойства, какие у нас случались, приходили извне. Если не считать Эстер. Единственное, что всегда отягчало мне душу, — это моя пагубная страсть к Эстер. Библия ничего не говорит о том, что нельзя возжелать собственную жену. И все же я порой чувствовал, что чрезмерность моего влечения к ней, пробудившегося еще в те далекие дни, когда я как бы впервые увидал ту голую девочку у запруды, должно быть, грешна. Я надеялся, что женитьба зальет это пламя, но ничего не изменилось, разве что к худшему. Год от года моя страсть лишь росла, по мере того как Эстер на моих глазах становилась женщиной, хотя почти не менялась внешне, сохраняя свое тонкое, неподатливое, отвергающее меня тело. Ее сопротивление, ее попытки защищаться зубами и ногтями, так что при каждой нашей схватке мне приходилось заново и безуспешно укрощать ее, — всего этого было довольно, чтобы свести меня с ума. Она в любой миг готова была взбрыкнуть и сбросить меня, как тот серый жеребец, которого папа подарил мне в детстве и который никого не подпускал к себе до тех пор, пока Галант не укротил его. Впрочем, едва ли мне действительно хотелось, чтобы Эстер стала кроткой и покорной. Ведь именно эта ее дикость и подогревала мою страсть и влечение к ней.
С первых же дней нашей совместной жизни, что бы я ни сделал, все, казалось, было не по ней. Я мог бы выбрать для себя Хауд-ден-Бек, ферму с плодородными землями, о которой мечтал многие годы, но я увез ее в Эландсфонтейн, стремясь оградить от постоянных напоминаний об отце, — но и этим ей не угодил.
Во всех ее поступках было что-то противное воле господней. Например, то, как она отвергала даже мысль о детях. Мне хотелось оплодотворить ее, видеть, как она носит моего ребенка, я думал, что это усмирит ее. Отец всегда говорил: «Единственный способ справиться с наглой бабой — обрюхатить ее». Но мне не удавалось даже это, она словно исторгала из себя мое семя. А когда это все же случилось (я уже утратил к тому времени всякую надежду) — после трех лет бесплодия, когда ей исполнилось восемнадцать, — она намеренно выбрала самую дикую лошадь и настегивала ее плетью, пока та не сбросила ее. И потеряла ребенка. Помню, тогда я решил: уж если поднимать руку на женщину, чтобы проучить ее, то сделать это следует именно сегодня. Мужчина не должен терпеть подобное надругательство над собой, это противно воле господней. Но стоило мне увидеть ее, как от моей решимости не осталось и следа: она лежала на широкой кровати — смуглая кожа побледнела, большие темные глаза горели на узком лице, черные волосы разметались по вышитой мамиными руками подушке, высокие скулы, большой рот, губы, плотно сжатые от ненависти ко мне, на белом покрывале руки с длинными тонкими пальцами и обкусанными ногтями, мягкая округлость предплечий. Все во мне вдруг размякло, я словно лишился всякой опоры, как дерево, корнями проросшее в воду. Более всего мне хотелось подойти к ней, опуститься на колени возле кровати и сказать: «Прости меня». Но почему и за что? В чем я виноват? К тому же я слишком хорошо понимал, что, унизившись до извинений, я пожну лишь вечное ее презрение. И как в тот далекий день, когда мне пришлось прирезать ягненка, я снова готов был зарыдать от отчаяния. Но я обязан сдержаться. Малейшее проявление слабости — и она станет еще больше презирать меня. Я отвернулся и вышел. Во дворе вытер ладонью выступившие на глазах слезы. Из-за бьющего в глаза солнца, убеждал я себя, прекрасно понимая, что на самом деле виной всему была та женщина, моя жена, которую я желал столь страстно, что сам ощущал себя неопалимой купиной, которая все горит и горит, никогда не сгорая дотла.
Даже рождение детей ничего не изменило в Эстер. До последнего мига моей жизни она останется мне врагом, и, чтобы оказаться достойным ее, я должен быть столь же сильным, как она, ни в чем не уступать ей, не выказывать даже малейшей слабости, которой она могла бы воспользоваться, чтобы меня уничтожить.
Пожалуй, и на нашей с ней судьбе в некоторой степени сказалось вмешательство англичан. В день свадьбы, приехав в Тульбах, мы вдруг узнали, что голландский пастор перепутал числа и уехал в Кейптаун, а поскольку нам вовсе не хотелось возвращаться домой ни с чем и через неделю снова проделывать этот долгий путь, пришлось иметь дело с английским священником. Пришлось примириться с неизбежным, зная, что это не приведет ни к чему хорошему. И в надлежащее время господь подтвердил правоту моего предчувствия, но какой ценой!
И все же главные беды приходили извне, от ланддроста и его чиновников. В прежние времена всех их назначали из наших. Пока ланддростом был старый Фишер, мы не знали никаких хлопот ни с рабами, ни с прочими делами, решавшимися в Тульбахе; но англичанин Траппс оказался сущим ублюдком. Вскоре стало ясно, что и господь гневается на этого человека: он не пробыл в Тульбахе и полугода, когда здание суда было буквально смыто наводнением. Теперь нам приходилось ездить по судебным делам в Ворчестер. А что касается всех этих новых законов и предписаний, которые англичане понапридумывали у себя в Кейпе, то теперь в каждой свежей газете сообщалось о новых и новых неприятностях. Но как наши рабы умудрялись пронюхать об этих сообщениях и всяких прочих слухах, ума не приложу. Такие вести распространяются быстро и незаметно, как чума, и стоит тебе сделать какой-нибудь неверный шаг, как рабы тут же узнают про новые законы и бегут жаловаться ланддросту. И тогда тебе остается либо немедленно пускаться за ними в погоню, либо ждать, пока не придет повестка из суда. Нас перестали уважать на наших собственных фермах, а от этого добра не жди.
У меня всегда были трудности с рабами, они то и дело сбегали. Кое-кто из соседей считал, что я излишне суров с ними. Даже папа как-то раз упрекнул меня в чрезмерной строгости. Но ему легко говорить: его рабы жили при нем уже много лет, он давно укротил их, и они знали свое место. Не то что мои, купленные недавно. Да и времена теперь настали не те. И рабы это прекрасно понимали. С тем большим основанием я полагал, что необходимо со всей суровостью укротить их, дать им понять, за кем тут последнее слово. Я — хозяин, и для них самих же лучше поскорее примириться с этим. Иначе, едва ты отвернешься, они сядут тебе на шею. А другого ожидать от них нечего: они хоть и выглядят покорными, но в глубине души всегда останутся дикарями. Конечно, я мог последовать примеру Николаса и взять у папы несколько надежных рабов. Но все во мне противилось этому: рабы — те же собаки, они неохотно меняют хозяев. К тому же мне хотелось все начать заново, разорвать путы угнетавшего меня прошлого.
Всякий, кто отлынивал от работы, без долгих разговоров получал порку. Трудность заключалась лишь в том, что они слишком хорошо знали — правительство повязало мне руки; и каждый раз, когда наказание казалось им чрезмерным, они убегали в Тульбах. Чаще всего я перехватывал их и возвращал домой для еще более основательной порки: что ж, думал я, если они и после этого захотят жаловаться, то по крайней мере их жалоба будет обоснованной. Наш прежний ланддрост Фишер как-то раз даже заклеймил спину одного беглеца, чтобы тот впредь хорошенько думал, прежде чем убегать от хозяина. И все же я лишился двух рабов (и нескольких готтентотов, но бог с ними, они все равно никудышные работники), что было весьма ощутимой потерей, поскольку стоили они чертовски дорого. А когда ланддростом сделался Траппс, я убедился, что для англичан слово беглого раба порой значило больше, чем слово его хозяина. За Клааса меня оштрафовали тогда на пятьдесят риксдалеров. И мне пришлось утешаться тем, что я по крайней мере отомстил ему, когда он вернулся домой.
— Теперь поглядим, во что тебе обойдется мой штраф, — сказал я, связав ему лодыжки и запястья и повалив на пустую бочку в сарае.
В тот раз я твердо решил не останавливаться ни перед чем; какими бы ни оказались потом последствия, пусть это послужит хорошим уроком всем остальным. Но Клаас был крепок, и нам пришлось провозиться с ним почти до самого вечера. А потом вдруг появилась Эстер и положила конец порке. Ее появление, помню, страшно изумило меня, ведь прежде она никогда не вмешивалась в мои дела. Ее место было в доме, там она была полной хозяйкой, а все остальные дела на ферме всегда решал я. Кроме того раза. На закате она открыла дверь и вошла в сарай, где мы все еще учили Клааса. Я подумал было, что она принесла мне кофе: от порки пересыхает горло. Но она вошла с пустыми руками, дрожа от гнева.
— Может, прекратишь это? — спросила она, не постеснявшись присутствия рабов.
— Эстер, не суйся не и свое дело. Это тебя не касается.
— А я тебе говорю, немедленно прекрати.
Я не мог допустить, чтобы меня унижали на глазах у рабов, и, взмахнув бичом, снова опустил его на плечи Клааса. Но тут она бросилась ко мне и схватила обтрепанный конец бича.
— Ты что, не знаешь, как этот ублюдок оскорбил меня? — сказал я, едва сдерживая ярость. — Он обошелся мне в пятьдесят риксдалеров. Из-за него я потерял в суде четыре дня, а сейчас время сева. А когда он вернулся, то надерзил мне снова.
— Пока я живу тут, я не позволю тебе так обращаться с рабами.
— Эстер, попридержи язык!
Она продолжала тянуть на себя бич, пытаясь вырвать его у меня из рук. Не будь я так зол, я бы расхохотался: мне ничего не стоило свалить ее одним пальцем. Но не станешь же затевать при рабах драку с собственной женой.
— Отвяжите его, — приказал я. — Надеюсь, он получил хороший урок.
Эстер молча смотрела, как рабы отвязывали Клааса. А когда его выволокли из сарая, сказала, не удостоив меня взглядом:
— Только так тебе и удается быть хозяином?
— Эстер, ты нарываешься на неприятности.
— Прикажешь выпороть и меня?
Я схватил ее за руку. Как когда-то давно, в детстве, когда пытался заставить ее заплакать, а она не плакала. Она и сейчас даже не застонала. Я резко отпустил ее, повернулся и быстро вышел из этого мерзкого сарая, провонявшего шкурами, соломой и Клаасом, который изгадил все вокруг. Неужели она не понимала, что я поступал так ради ее же блага? Ведь именно ради нее я старался превратить эту ферму в настоящий рай, в котором мы с ней могли бы чувствовать себя хозяевами. Разве мог я рисковать, оставляя ее жить среди этих полудиких созданий, пока они не укрощены до конца? Я хотел, чтобы она жила тут спокойно, чтобы она гордилась мной. А она всякий раз больно ранила меня.
Той же ночью я усмирил ее по-своему. Но и тогда она не издала ни звука — ни стона, ни вскрика боли или наслаждения. Она оставалась сухой. Неподатливой и сухой, бесплодной, как сама ненависть.
Наутро я узнал, что все наемные работники, все готтентоты, сбежали еще ночью. Но Клаас был на месте. Правда, он и ходить-то еще не мог, но мне кажется, не только поэтому. Он извлек хороший урок и с того дня сделался покорным, как пес. А потом я прикупил Абеля. Парень он был трудный и не слишком усердный, но хорошо влиял на остальных рабов. Весельчак, который умел смеяться над чем угодно, сущий шельмец, который никогда не избавится от своих мальчишеских проказ, и прирожденный музыкант. Никто не мог сравниться с ним в игре на скрипке. Именно Абель внес дух единения в жизнь моих рабов, в том числе и тех, кого я купил позже других, именно он научил их держаться вместе, подобно дружной упряжке волов.
Если бы нам не докучали англичане, все было бы прекрасно. Но они никогда не оставляли нас в покое, всегда были здесь — как фурункул, который никак не может вскрыться, вылезая то тут, то там, вызывая недомогание и раздражение, а сковыривать его бессмысленно. Сначала ввели опгааф — налог на рабов. А затем последовал поток новых предписаний, одно хуже другого: рабов нельзя заставлять работать по воскресеньям, часы работы строго определены, но при этом нелепы и никак не согласованы с реальными нуждами — да неужели кто-то и впрямь думал, что мы прекратим уборку или молотьбу в указанное нам время, даже если надвигается гроза? Наказания тоже четко определены: столько-то ударов такой-то плетью и за такую-то провинность. Рабов полагалось приобщать к религии. Мужа и жену запрещалось продавать раздельно. Против многих из этих правил я и не возражал: кто же не знает, что мужчина работает лучше, когда при нем жена и дети, хозяину от этого прямая выгода; мы всегда читали нашим рабам Библию и молились вместе с ними. Но меня задевало то, что правила эти придумывались для нас, словно мы сами были толпой язычников. Какой мне от них прок? В Эландсфонтейне хозяин я, и мне решать, что хорошо, а что плохо для меня и моих людей. Ну что ж, отвечали газеты, допустим, все это так и есть, но вот в Вест-Индии или еще бог несть где с рабами обращаются плохо, и там необходимы законы, а английские законы должны быть одинаковы везде и для всех. Пусть так, но англичанам вообще нечего делать в Боккефельде. Они о нас ничего не знают, лучше бы им сюда и вовсе не соваться. Разве англичане очистили эту землю от диких зверей, бушменов, бродяг и прочей нечисти? Разве англичане погибали от здешних засух, наводнений и снегопадов, разве на них нападали шакалы, леопарды и разбойники? И уж конечно, не англичане будут отделять агнцев от козлищ в день Страшного суда. Все, что мне предписывает Библия, я постараюсь исполнить, но что касается газет, пусть англичане подотрутся ими.
В Боккефельде стало неспокойно и опасно. Куда ни пойди, всюду фермеры жалуются и ругаются. Правда, кое-кто из стариков, например тесть Николаса Ян дю Плесси, предпочитал держать язык за зубами, но остальные роптали.
— Мне жаловаться не на что, — говаривал старик Ян, когда речь заходила об этом. — Все зависит от самого хозяина. Обходись со своими рабами по справедливости, и никто никогда не настроит их против тебя.
— Но они тайком замышляют взбунтоваться, дядюшка Ян.
— Меня мои рабы уважают. Спроси хоть старого Адониса.
Много споров было у меня и с Франсом дю Той, которого у нас недавно назначили филдкорнетом — должность, которую следовало бы отдать мне, но Франс ловко ладил с англичанами.
— Нам всем было бы куда легче, если бы мы могли обходиться без рабов, — такова его точка зрения. — Единственный вопрос в том, что земли в колонии слишком много и своими силами ее не обработать. Нас всего горстка, а страна огромная. А потому рабство — неизбежное зло.
А Ханс Луббе считал, что, пока власть еще в наших руках, нужно решить этот вопрос самим, без постороннего вмешательства.
— Если мы освободим детей наших рабов, никто не пострадает, — утверждал он.
— Но работы у нас на фермах день ото дня больше, — отвечал я. — Или ты хочешь, чтобы белые делали рабскую работу?
— Лучше научиться делать ее, пока не поздно. Конечно, мы все немного обленились, но…
— Ничего мы не обленились! — сердито оборвал я. — Просто есть разница между работой для белого и работой для раба. Для чего же господь даровал нам рабов? Разве не для того, чтобы хоть немного облегчить нам жизнь? Или ты не знаешь Завета?
Николас же чаще всего говорил вот что:
— Если рабов все-таки освободят, кто на самом деле пострадает? Они потеряют куда больше, чем мы. Как они проживут без нас? Им не обойтись без нашей помощи.
Как-то раз в наш разговор встряла и Эстер. Обычно я старался не вовлекать ее в эти споры — есть вещи, которых женщинам не понять, — но невозможно было всегда избегать при ней этой темы. В тот день, помню, мы препирались уже довольно долго и со все большим азартом, как вдруг она спросила, спокойно, но с вызовом:
— А вы сами хотели бы быть рабами?
— От женщины путного слова не жди, — сказал я, стараясь сдержаться, чтобы и она не сорвалась при чужих. — Дело не в том, чего нам хочется или не хочется. Дело в том, как тут все сложилось. Эту страну нужно обживать.
Теперь решилась вмешаться в разговор и Сесилия. Обычно она очень сдержанна и похвально молчалива в присутствии мужчин, но, должно быть, слова Эстер подстегнули ее — они всегда были готовы перегрызть друг дружке горло.
— Разница вот в чем, — решительно заявила она, — в этой стране нет ни одного раба, который бы по ночам ворочался от страха, что явится белый человек, убьет его спящего и ограбит.
— А как их ограбить? У них ведь нечего взять, — ядовито возразила Эстер.
Эта короткая перепалка заставила меня по-новому взглянуть, на Сесилию. Привлекательной ее не назовешь: слишком она неуклюжая и большая, да еще это бледное веснушчатое лицо, рыжие волосы и блеклые, почти бесцветные глаза, — и все же внушительная особа; твердо стоит на земле и свое место знает.
Эстер не унималась:
— Ты что, газет не читаешь? Не видишь, что творится в колонии?
Но Сесилия и тут была тверда:
— Я читаю Библию, и мне этого довольно. Новости из газет только смущают и беспокоят, а то, о чем не ведаешь, не может причинить боли.
Подобные разговоры вспыхивали повсюду, куда бы ты ни поехал, на всем пути от нижних границ Теплого Боккефельда вверх по нашей тесной долине до самого Кару; затем обратно через горы к Тульбаху, а оттуда к Ворчестеру или в сторону моря к долине Двадцати четырех рек. Все кругом только и говорили об этом. Каждый раз, когда из города привозили свежую газету или в наши края заявлялся какой-нибудь курьер или чиновник, улей начинал гудеть. Противнее всего было ощущение злобного бессилия, которое вызывали в тебе эти газеты — газеты англичан, которые и понять-то трудно. Да и что такое это «правительство», на которое они вечно ссылаются? Его не пощупать и не схватить за горло. Далеко отсюда, в Кейптауне, какие-то неведомые господа собрались за закрытыми дверьми и решают нашу судьбу, а то и еще хуже — не в Кейптауне, а в каких-то чужих городах за морем: они отправляют нам на кораблях свои предписания, сами оставаясь недосягаемыми. А мы должны склонять головы и покорно отвечать: «Слушаюсь, баас», раз и навсегда утратив право самим решать и устраивать собственные дела. Мы даже не могли как следует отыграться за это на тех, кем владели: мы нуждались в них, а они это знали и пользовались этим при каждом удобном случае. Что-то в нашем мире свернуло с пути праведного и стало неуправляемым, а это, разумеется, ничем хорошим не кончится.
Взять хотя бы ту историю с Голиафом. Я купил его несколько лет назад в Ворчестере за четыре быка у человека, попавшего в затруднительное положение по дороге в Кару. Хорошо обученный малый лет пятнадцати или шестнадцати. Не доставлял никаких хлопот до позапрошлого года. Мы тогда работали день и ночь, спеша убрать пшеницу. И вот как-то в воскресенье он не вышел на работу, а когда я отправился разыскивать его, то увидел, что он сидит в тени возле хижины. Ну и что, ответил он на мой удивленный вопрос:, ведь это против закона — работать по воскресеньям. Никакие уговоры не помогали.
— В таком случае, Голиаф, пора тебе кое-что растолковать, — сказал я. — То, что велит делать закон в Кейпе, — это одно. А то, что велю тебе я, твой хозяин, тут, на ферме, — совсем другое.
После порки он с полной готовностью последовал за мной на поле и усердно работал до глубокой ночи. Но на рассвете, когда я будил рабов, Голиаф вдруг подошел ко мне с кожаным мешком за спиной.
— Куда это ты? — говорю.
— Да я, баас, пришел сказать, что иду в Ворчестер, баас, жаловаться за вчерашнее. — И это очень спокойно, чуть ли не подобострастно.
Кто-то, должно быть, подбил его на это, подумал я, скорее всего Абель. Но и сам Голиаф при всем внешнем подобострастии оказался весьма упрям. Я не мог терять времени попусту, пшеница была еще не сжата.
— Прощаю тебя в последний раз, Голиаф. Пойдешь с нами работать?
— Мне очень жаль, баас, но я должен сначала сходить в Ворчестер, баас.
— Ну что ж, тогда слушай меня внимательно. Ступай в свой Ворчестер, если тебе так неймется. Но клянусь всевышним, как только ты вернешься сюда, я задам тебе такую порку, что ты не забудешь ее до самой смерти. Понял?
Он сглотнул слюну, адамово яблоко у него задергалось. Но он уже решился. Я пошел на поле, а он отправился в Ворчестер. Чертовски трудно в эту пору обойтись без работника, но я не хотел выглядеть дураком. Каждый день, пока его не было, я мысленно увеличивал наказание, которое задолжал ему, и ждал, когда он вернется. Восемь дней спустя — мы как раз погрузили на телегу последний сноп пшеницы — прибыл курьер с повесткой от ланддроста Траппса, в которой мне предписывалось в такой-то день явиться в суд.
Если бы меня не пилила Эстер, я бы ни за что никуда не поехал и поглядел бы, что из этого выйдет. Но она нудила, что ей нужны ткани и всякие другие вещи, что кожи и шкуры занимают место в сарае, куда нужно ссыпать пшеницу, и вот я все-таки поехал. Два дня пути и еще полдня ушло на разбирательство в суде. Хорошо еще, что меня не оштрафовали, как в тот раз с Клаасом, а то я бы не сдержался. Но ланддрост удовлетворился строгим предупреждением и долгими разглагольствованиями о новых предписаниях. Более всего меня взбесило то, что этот мерзавец Траппс заявил, что намерен теперь регулярна посылать в Боккефельд своих комиссаров и проверять, как мы там соблюдаем законы. А все из-за того, что у Голиафа хватило нахальства рассказать о том, что я посулил ему перед его уходом.
— А теперь топай домой пешком, — сказал я Голиафу, когда мы вышли из здания суда. — И советую тебе поторопиться, я даю тебе только два дня.
И я уехал на фургоне.
Вернувшись домой, я застал Эстер в нередком для нее злобно-язвительном настроении — «Может быть, хоть это послужит тебе уроком, Баренд». Выслушав эдакое, я так рассвирепел, что тут же оседлал коня и ускакал в Хауд-ден-Бек, чтобы хоть кому-то излить душу.
Сесилия — впрямь образцовая жена! — сварила нам кофе, и я наконец выплеснул все накопившееся во мне раздражение. Николас, как всегда, отвечал осторожно, но Сесилия сразу встала на мою сторону: просто нет сил терпеть этих рабов, особенно Галанта, который все больше и больше отбивается от рук. Потом мы с Николасом отправились в конюшню, он хотел проверить лошадиную упряжь для молотьбы.
— Голиафа выпороли в Ворчестере? — спросил он.
— Интересно, когда ты в последний раз был там, в суде? — взорвался я. — Для нынешнего ланддроста слово черномазого значит куда больше, чем слово христианина. — Я снял с крюка ремень и стегнул им по башмаку. — Ничего, подождем, когда он вернется. Он получит все, что ему причитается. За мной не пропадет. — Мысль о Голиафе снова привела меня в ярость. — А если ко мне явится комиссар по туземным делам проверять, как я обращаюсь с моими рабами, я преподам ему такой урок, что на всю жизнь запомнит.
— Да, — вздохнул Николас. — Вот бы тому комиссару, что первым сошел на берег в Кейпе, сломать себе шею. Тогда бы и нам жилось спокойно.
Я порадовался тому, что он со мной заодно, хотя и не слишком верил в его искренность; для Николаса главное — нравиться всем и каждому, он скажет что угодно, лишь бы его похвалили: он вроде пса, виляющего хвостом, чтобы его погладили по голове.
— Если так будет продолжаться и дальше, — сказал я, — им вскоре взбредет в голову освободить рабов, ни больше ни меньше. А что тогда будет с нами?
— Да, страшно и подумать, — согласился он, перебирая упряжь.
— Пусть только попробуют. Первого же англичанина, который посмеет явиться ко мне освобождать моих рабов, я вышвырну обратно в горы, а то и пристрелю.
— Боюсь только, что, если мы взбунтуемся против правительства, рабы ударят нам в спину.
— Не волнуйся, — ответил я. — Если они заговорят об освобождении всерьез, я для начала разом перестреляю своих рабов, а потом уж начну разбираться с англичанами.
— Трудные нынче времена, Баренд. Все так перепуталось. В последние месяцы у меня сплошные неприятности.
— А все из-за твоей излишней мягкости. Я не говорю, что нужно быть жестоким. Но и распускать их тоже не следует, не то они сядут тебе на шею. Рабов надо вовремя кормить и пороть тоже вовремя, как было заведено у отца. Только такой язык они и понимают. Особенно теперь, когда англичане подстрекают их на беспорядки.
— Конечно, ты прав, — бодро согласился он и тут же, как всегда, пошел на попятную. — Только бы нам самим не подбить их на беспорядки.
— Думаешь, в том, что произошло, есть моя вина? — спросил я. — А ты хотел бы, чтобы пшеница гнила на корню только потому, что Голиафу нравится по воскресеньям прохлаждаться в тени?
— Я вовсе не осуждаю тебя. Я это просто к слову.
— Ну ладно, я извещу тебя, если появится комиссар. И тебя, и всех соседей, мы должны держаться вместе и спровадить его ко всем чертям.
Комиссар прибыл даже раньше, чем я предполагал, всего несколько дней спустя, когда Голиаф еще отлеживался у себя в хижине после порки, которую я ему задал. Больше всего мне хотелось взять ружье и пристрелить непрошеного гостя. Но я понимал, что не следует рисковать и давать правительству повод направить войска в Боккефельд. Я пригласил комиссара в дом выпить чаю с Эстер, а сам вышел через заднюю дверь и приказал Абелю объехать все ближайшие фермы и созвать соседей. А потом заглянул в хижину к Голиафу.
— Слушай, — сказал я ему, — если хочешь остаться в живых, делай, как я прикажу.
И когда через час комиссар все же настоял на том, чтобы лично переговорить с моими рабами, Голиаф вполне убедительно объяснил ему, что, мол, упал с лошади и потому лежит тут, а вообще он ни на что не жалуется, большое спасибо, баас. Вид у комиссара был недовольный, но больше он так ничего от Голиафа и не добился. А после полуденного кофе, когда он уже собрался уезжать, начали съезжаться соседи, откликнувшиеся на переданное Абелем приглашение. Каждый с ружьем. Ни единой угрозы. Ни одного грубого слова. Просто выстроились верхом на лошадях в две шеренги, между которыми ему пришлось проехать на его низкорослой пугливой кобылке. Мы поскакали следом.
— В чем, собственно, дело? Что-нибудь случилось? — спросил он чуть погодя, явно встревоженный нашим конвоем.
— Ничего особенного, просто хотим немного проводить вас, чтобы знать наверняка, что с вами все в порядке. А заодно, может быть, подстрелим что-нибудь на обед.
На наше счастье, неподалеку от фермы в лощине мы заметили стадо антилоп. А когда началась пальба, этот суматошный мозгляк вдруг обнаружил, что оказался как раз между нами и стадом и наши пули свистят вокруг — одна даже вырвала клок из его шляпы. Кобылка его совершенно обезумела от страха, принялась ржать и брыкаться и тут же скинула его на землю. После чего он, перепуганный насмерть, бросился прочь на четвереньках, спасаясь от пуль, которые взметали пыль то справа, то слева от него. В конце концов мы, конечно, прекратили пальбу, притащили его обратно, усадили на лошадь и предложили бренди из пристегнутых к седлу фляжек, извиняясь за то, что произошло: как это печально, что по нелепой случайности он оказался как раз перед стадом. Он не мог выдавить в ответ ни слова. Только таращился на нас из-под простреленной шляпы: судя по его взгляду, да, кстати, и по запаху, урок он извлек из этого неплохой. Теперь мы могли быть уверены, что английские комиссары не скоро решатся снова побеспокоить нас.
Но когда соседи разъехались и я вернулся домой, случилось нечто напугавшее и меня самого. Я огибал конюшню, ведя на поводу лошадь, когда заметил Абеля, выходящего из хижины Голиафа. Позади него в полутьме стояли еще какие-то люди, но я не мог разобрать, кто они.
— Абель! — позвал я. — Прими лошадь.
Он резко остановился, словно я застал его врасплох, уличив в чем-то недозволенном.
Держа поводья, я ждал. И вдруг он метнулся назад к хижине и взял лопату, прислоненную к стене: ума не приложу, как там оказалась лопата, ведь им было строго-настрого приказано после работы убирать инструменты на место. Держа лопату в руке, Абель обернулся ко мне. Между нами повисло долгое молчание, ни один из нас не шевелился и не произносил ни звука. Вполне возможно, что он ничего не замышлял, и все же было в его позе нечто такое, отчего все во мне сжалось от неведомого до той поры страха.
— Абель, — наконец сказал я.
Он по-прежнему молча глядел на меня, не выпуская лопаты из рук. Позади него в темноте хижины маячили тени каких-то мужчин.
Я вдруг вспомнил о ружье, которое было засунуто в притороченный к седлу мешок. Отведя назад руку, я нащупал дуло и медленно вытащил ружье. Этого Абель, должно быть, не ожидал. Еще секунду он глядел на меня, потом опустил лопату и, чуть раскачивая ее в руке, подошел ко мне и взял поводья.
Может, мне все это просто почудилось? Или меня в самом деле спасло ружье? Самым неприятным было ощущение, возникшее потом, когда я понял, что, попытайся он ударить меня лопатой, я бы даже не смог выстрелить. Страх совершенно сковал меня. Так бывает, когда идешь в темноте и вдруг замечаешь что-то движущееся: ты не в силах ничего разглядеть и даже не вполне уверен, есть ли тут в самом деле хоть что-то, не говоря уж об опасности — всего лишь намек, беспокойное подозрение, что ночь вовсе не столь безмятежна, как ты привык думать.
Знай я наверняка, что Абель намеренно угрожал мне, я выпорол бы его столь же основательно, как и Голиафа. Но меня тревожила именно эта неуверенность, неопределенность, куда более зловещая, чем любой враг или хищник, которого можно в конце, концов распознать и пристрелить. В тот краткий миг озарения я вдруг понял, сколь ненадежен наш покой, каким опасностям подвержена наша жизнь, как просто выбить почву у нас из-под ног.
Что было бы, не окажись при мне в тот вечер ружья?
А если меня и в самом деле спасло лишь ружье — что ждет нас, рано или поздно, когда, захваченные врасплох, мы не успеем схватить его?
Мама Роза
В начале не было ничего, кроме камня. Тзуи-Гоаб сотворил нас из камня. Но потом увидел, что мы не можем жить без воды, ведь вода правит миром, пускает в рост дерево и траву, поит человека и прочих тварей. Женское лоно — это вода, дети выплывают отсюда в мир. А когда земля становится сухой и грозит вновь обратиться в камень, мы молим о дожде, и молитву эту люди моего племени произносят с самого сотворения мира:
О ты Тзуи-Гоаб Отец отцов наших Отец наш! Раскрой утробу громовой тучи Даруй жизнь стадам Даруй жизнь людям тоже, мы молим тебя. Мне худо От голода От жажды Позволь мне вкусить от сочных плодов земли Разве ты не Отец нам Отец отцов наших Тзуи-Гоаб? И мы возблагодарим тебя И мы восхвалим тебя Тебя Отец отцов наших Тебя бог наш Тебя Тзуи-ГоабЭта молитва не на каждый день. Не для простой засухи. Давно уже я приметила: одна и та же вода, дающая зеленую жизнь вельду и поящая человека и животное, может смыть пашни, потопить стада и сровнять горы с землей. Ведь наши Скурвеберхе, наши Грубые горы, всегда тут, всегда вроде бы те же самые, хотя они постоянно меняются. А изменяет их вода. Иногда очень медленно и терпеливо, течет год за годом по капле, а иногда бурными и нежданными потоками. А потому надо знать наверняка, чего же ты хочешь от Тзуи-Гоаба, когда произносишь молитву о Дожде. Он дает жизнь, но и сама жизнь может обернуться смертью. Только вода изменяет мир, но ты не в силах принудить ее сделать это по твоему повелению. Ты молишь о воде, и тебе ее посылают, но ты не в силах предсказать те перемены, что она учинит. Тебе приходится принять все, как есть, даже если она смывает тебя вместе с землей, в которую ты пустил корни.
Потому-то я и внушаю людям, что сила в терпенье. Самое главное — научиться терпеть и выжидать. Но мужчинам неведомо, что такое терпенье, они не умеют ждать потопа. «Будь терпеливым, — твердила я каждому, кто приходил ко мне, — не торопи и не принуждай. Ты ведь и сам не знаешь, что за воду получишь, когда допросишься».
Я чувствовала: оно надвигается. Нетерпение, беспокойство в самой земле. И каждый на свой лад лишился покоя.
Николас, повадившийся ходить ко мне за помощью с первых же дней женитьбы. Он боялся, как бы его не увидали у меня в хижине, и потому до поздней ночи бродил по вельду, притворяясь, будто просто гуляет. Если у меня был гость, он не заходил в хижину, лишь тень его мелькала мимо во тьме. Но если не было никого, он подсаживался к очагу, как в те давние дни, когда они с Галантом приходили послушать мои рассказы. Он не сразу признался, зачем ходит, просто заходил, здоровался и подолгу молча сидел у огня.
— Мама Роза, — наконец сказал он как-то раз, — помоги мне.
— Что случилось, Николас? Я уже давно вижу, что у тебя в сердце какая-то заноза.
— Я теперь женат, мама Роза. Но у меня не ладится с женой.
Я и сама не слепая и ничего нового тут не услышала, но притворилась, будто не понимаю.
— Она вроде добрая женщина. И будет доброй матерью. У нее крепкие бедра.
— Беда не в ней, мама Роза. Беда во мне. Я не могу делать это как следует.
— Что? — Ему надо было высказаться и облегчить душу.
Долго собираясь с духом, он наконец выпалил:
— То, что мужчина делает с женой, мама Роза. Это у нас никак не ладится. Она слишком требовательная.
— Почем ты знаешь, что она требовательная? Ты ведь понимаешь, что тебе с ней нужно делать, так?
— У меня нет желания делать это.
— Из-за Эстер?
— Зачем ты спрашиваешь? — сердито сказал он.
— Затем, что знаю, ты давно присох к Эстер. Но это яйцо надо не высиживать, а разбивать.
Его голос задрожал.
— Но что же мне делать, мама Роза?
— Стать настоящим мужем своей жене.
— Знаю. Я пробовал. Но ничего не выходит. Думаю, она презирает меня. Она обращается со мной как с ребенком, а не как с мужчиной.
— Вот и докажи ей, что ты мужчина. Объезди ее как настоящий мужчина.
— Как настоящий мужчина… — Даже в тусклом свете очага было видно, как он залился румянцем. — Тут что-то с этим не так, мама Роза. Нет ли у тебя какого снадобья, чтобы вылечить меня? Я не могу жить с Сесилией в таком унижении.
— Представь себе, что она — Эстер.
Он подскочил словно ужаленный.
— Я не могу так думать об Эстер!
— А разве ты не хотел жениться на ней?
— Конечно, хотел. Но не… но не для того, чтобы делать это с ней.
— Не понять мне тебя, Николас. Вы, белые, вечно все запутываете.
— Помоги мне, мама Роза! Что скажут отец и мать, если узнают, что я сплоховал?
— Ничего ты не сплоховал. Нагляделась я на вас с Галантом, когда вы были маленькими. У тебя все что Надо, не хуже чем у него. Думаешь, я не знаю, чем вы занимались у запруды?
— Но что же тогда со мною?
Я попыталась помочь ему снадобьями, травами, которые даешь старым мужчинам, и сказала, чтобы он пил их вместе со стаканом бренди на ночь. Где не выручат травы, поможет бренди. И какое-то время думала, что дела у них пошли на лад. Но вскоре он заявился опять.
— Только одно средство могу я придумать, — сказала я наконец. — Эдакая болезнь находит порой на белых мужчин. Должно быть, ваши женщины не слишком глубоки. Корням мужчины нужна вода, та, что в глубине женщины, а у белых женщин эта вода, похоже, есть не всегда.
— Так что же мне делать?
— Смочи свои корни в черной женщине. Это даст им силу и жизнь.
— Не хочу! Это ведь грех.
Я только пожала плечами.
— Не хочешь так не хочешь. Но тогда нечего ходить ко мне и жаловаться.
— Библия запрещает это.
— Выходит, ты думаешь, что твой отец мог делать то, что запрещает Библия?
— О чем это ты?!
Он уставился на меня так, словно его лягнула кобыла.
— А кто, ты думаешь, сделал твоего отца таким мужчиной, каков он есть?
Может, не по-доброму было говорить ему такое. Но ему надо было знать.
— Я не всегда была такой, как теперь, — сказала я. — Теперь я просто старая сушеная фига. Но когда я была молодая, у меня было тело хоть куда. И твой отец приходил ко мне.
Он убежал от меня в такой спешке, точно я была заразная, спотыкаясь и чуть не падая на бегу. И больше не приходил. Но я-то не слепая. И не глухая тоже. И когда он начал по ночам наведываться к Лидии, я поневоле усмехалась в душе. А когда родился первый ребенок, решила, что он и вовсе скоро выздоровеет. Но чего я уж никак не ожидала и что меня тревожило, это то, как его жена стала обращаться с Лидией. Что эта несчастная безумная женщина могла понимать в том, что хорошо, а что плохо? За что ее так? Но Сесилии перечить не стоило, она порой бывала по-настоящему жестокой.
Беспокоил меня по-прежнему и сам Николас. Вскоре стало ясно, что дело тут не только в корнях. С отцом-то все было куда проще. Влага из лона женщины быстро его вылечивала. Но влага, нужная Николасу, была иной — куда глубже, темнее и опаснее. Поток, который, я чувствовала, начал набухать под почвой нашей фермы еще задолго до того, как разразилась гроза. Невидимый поток и оттого особенно зловещий. И разве я могла преградить ему путь?
С Галантом тоже было не легче. Как-то ночью я нашла его в вельде, он швырял камни в темноту. В вельде, далеко от фермы, в том каменистом месте, куда на заре мира упали камни, свалившись с гор. Я долго стояла и следила за ним, а он меня не замечал. Поднимет камень и швырнет, поднимет и швырнет со всей силы, и так без конца, пока из горла не начали вырываться хрипы.
— Что ты делаешь, сынок? — спросила я, подходя к нему.
Он резко, будто испугавшись, обернулся и отер пот с лица.
— Ничего, камни бросаю, — угрюмо отозвался он. — А что, нельзя?
— Тебя кто-то обидел? — спросила я. — Кто?
Я знала, конечно, но решила, что лучше, если он скажет сам и облегчит душу.
Он поднял еще один камень и разбил его вдребезги о большой валун, в темноте взметнулись искры.
— Поосторожнее, — предупредила я. — Стоит такому камню отлететь назад в тебя, и ты будешь мертвехонек.
— Ну и что с того? — Он швырнул еще один камень.
— Пойдем со мной, Галант. Я напою тебя чаем. Это успокоит тебя.
— Нечего меня успокаивать.
Я уселась в стороне, подальше от его злобно летящих камней, поджидая, когда он выпустит из себя всю ярость. Он бросал и бросал до тех пор, пока уже и руки не мог больше поднять, а это немало, потому как Галант хотя и худущий, но крепкий, как кремень.
Швыряя камни, он кричал и ругался так, что мне казалось, будто в воздухе запахло серой, словно тут ударила молния. И вдруг я услышала, как он плачет. И даже когда остановился, задыхаясь от изнеможения, то все еще продолжал рыдать.
Наконец я снова заговорила с ним:
— Пойдем ко мне в хижину, Галант.
На этот раз он подчинился, совершенно измотанный, опустив плечи и понурив голову — весь задор вышел из него. Он что-то снял с дерева и перекинул через плечо, будто пустой мешок, потом догнал меня, и мы направились к моей хижине. В свете очага я увидела, что это был совершенно новый плисовый жакет.
— Откуда это у тебя? — спросила я. — Неужто старый Дальре сшил его для тебя?
Как раз тогда этот иссохший старикашка, портной и сапожник, поселился на ферме у Николаса. Помня Галанта с тех пор, как кормила его грудью, я знала, что то была его первая в жизни обнова: обычно он получал обноски Николаса, благо они были одного роста и телосложения.
— Николас дал, — буркнул он, бросая жакет на пол в угол. — Должно быть, чтобы откупиться от меня.
Он вытащил из кармана кусок жевательного табака — я снова подивилась, откуда у него табак, но спрашивать поостереглась — и сунул его за щеку, а я тем временем подвесила над очагом котелок с бушевым чаем.
— За ребенка? — спросила я, не поднимая глаз.
— Да. — Он сплюнул. — Дал мне сегодня днем. Не сказал ни слова, но я-то знаю, что за ребенка.
Я продолжала возиться с котелком, подкидывая в огонь дрова, дуя на угли и помешивая чай.
— Галант, — сказала я, понимая, что сейчас должна говорить со всей осторожностью, — какой смысл жить с такой бурей в душе? То, что случилось, ужасно, но все позади.
— Ничто не позади, — ответил он из темноты, тяжелой от дыма. — Вот что я тебе скажу, мама Роза. Ничто никуда не уходит. Все остается возле тебя, вроде камней на земле. Об один споткнешься. Другие поднимешь и отшвырнешь. Но все остается тут. Все и навсегда.
— Трудно жить с таким мыслями, Галант. — Я налила ему чай покрепче, какой люблю сама и какой ему сейчас был нужен.
— Я готов покориться всему, что бы ни случилось, мама Роза, — мрачно продолжал он. — Мы уже взрослые. Наше время уходит. Но есть ведь и дети. А где мой ребенок? Когда я отправлялся в Кару, чтобы пригнать коров, Давид был здесь и с ним все было в порядке. А когда вернулся, его уже похоронили. Бет говорит, что он заболел. Говорит, что умер от болезни, а не от битья. Скажи мне правду, мама Роза. Мне надо знать правду.
— Бет — жена тебе. Коли она говорит так, то надо ей верить.
— Но я спрашиваю тебя.
— Меня не было поблизости, когда это случилось.
— Никто не хочет сказать мне. Все боятся.
— А с Николасом ты говорил?
— Бет сказала, что он приходил и просил прощения. Она сказала, что он и в мыслях не держал убивать ребенка. Что ребенок умер от болезни.
— Николас — твой баас, Галант. И наша жизнь, и наша смерть у него в руках. Так уж устроен мир.
— Но Давид — мой ребенок.
— То, что случилось, ужасно, — повторила я, дуя на чай и поглядывая на Галанта поверх кружки. Сквозь чад я видела его горящие глаза. Я вспоминала ту ночь, когда они с Эстер прятались в моей хижине в грозу, укрывшись большой кароссой, так много лет тому назад. — Ужасно, — снова сказала я. — Но ты еще молод, и Бет женщина здоровая. Вы еще заведете полную хижину детей.
— Я покончил с Бет.
— Вы же так хорошо с ней ладили.
— Она не уберегла ребенка.
— Тебе не в чем упрекнуть ее.
— Она не остановила Николаса.
— А кто может остановить его? Он — баас, Галант, пора тебе наконец понять это. Что бы он ни делал, у него есть на это право, потому как он — хозяин. Прекрати задавать вопросы, а не то впутаешься в неприятности. Запомни, Николас — баас в Хауд-ден-Беке.
— Хауд-ден-Бек, — с горечью повторил он. — Заткни-Свою-Глотку.
И больше ничего не добавил. Мы молча пили чай, а когда кружки опустели, продолжали сидеть возле очага. Все было как в прежние времена. Ночь тяжело нависала над нами всей своей тушей. И вдруг в кромешной темноте мы оба одновременно услышали какой-то странный темный звук: тха-тха-тха. Нельзя было понять, откуда он шел, приближался или удалялся. Но мы явственно слышали его. Тха-тха-тха. Я быстро схватила кароссу, подползла к Галанту и накрыла нас ею с головой. Мы едва дышали. Галант дрожал, точно от холода, хотя ночь была теплой. То был тхас-шакал. Я тотчас же признала его. Никто и никогда не видал его, но вот он явился. Бродит по округе, стоит только кому-нибудь случайно наступить на свежую могилу. Дух мертвого, оборачивающийся шакалом, чтобы пугать живых. Тха-тха-тха. Даже сквозь толстую кароссу мы ясно слышали его голос и сидели, боясь шелохнуться, пока наконец вой не начал стихать, словно удаляясь прочь, еще дальше в ночь, быть может, в сторону фермы.
— Утром я посыплю могилу листьями бучу, — пообещала я, когда все стихло и мы выбрались из-под кароссы. — Это принесет ему успокоение. А теперь пора спать.
— Я не пойду домой в темноте.
— И не надо. Спи здесь.
Он свернулся клубочком в углу. Я сидела возле тлеющих углей, глядя на темный комок его тела, прикрытый новым жакетом. Я припомнила его детство, как он спал возле меня, прижавшись к моему телу, как гладила его, метавшегося во сне, пока он не затихал. И сейчас, в эту ночь, ему нужна была женщина. Но не я — женщина, которая стала бы ему женой и утишила его печали. Он отвернулся от Бет, а это худо. Мужчине вроде него нельзя без женщины.
Я вспоминала, как они с Николасом, младенцами, сосали мои груди. Мои ягнята, черный и белый. Сидя тут той ночью и карауля его тревожный сон, я думала: Сегодня я готова разорваться надвое, подобно древнему, источенному водой, разваливающемуся на куски камню. Ведь я люблю их обоих. И жалею их обоих.
Я все сидела и думала, думала. Так много расшевелил во мраке той ночи вой тхас-шакала. Умерший ребенок. Все мертвецы, населяющие наш мир. Скоро и мне помирать. И Галанту. Всем нам. Один за другим мы умираем, каждый в свой черед, как и живем. И в некий день, когда уже умрет последний из моего народа, когда мы останемся на земле только памятью, только преданиями, передаваемыми по ночам детям белого племени их родителями, все наши бесчисленные мертвецы восстанут из могил, чтобы одиноко бродить в темноте. Ночью, когда дома затихнут и все покажется покинутым и заброшенным, несчетные толпы мертвецов будут рыскать по здешней земле — духи всех тех, кто умер в этой прекрасной, неистовой стране, по которой люди моего племени некогда странствовали свободно. А потом останутся только мертвецы. Словно огромный черный поток, заполнят они собой все пустоты, беззвучно поднимаясь выше и выше, пока все вокруг не станет ровным и гладким, черным и мерцающим в лунном свете Тзуи-Гоаба. Тха-тха-тха.
Николас
Река выходила из берегов. Я все еще судорожно цеплялся за что-то, за ветвь или ствол дерева, но хватка слабела. Когда это началось? Даже этого мне не понять. Конечно, была смерть того ребенка, но она лишь напомнила о существовании потока, который уже начинал выходить из берегов. И все же именно та смерть в каком-то смысле определила все.
Если б я мог объяснить случившееся Галанту. Что я мог сказать ему, если и сам был не в силах разобраться в этом до конца? Разве довольно того, чтобы просто свалить вину на Сесилию, доведшую меня до крайности? Я женился на ней, я пытался достойно исполнять супружеский долг. Но ее неумолимая требовательность, ее настойчивое желание быть униженной и растоптанной и тем самым оправдать свою женственность — все это устрашало меня. Ее крепкое, молочно-белое, покрытое веснушками тело мучило меня как кошмар — такое пугающе здоровое, такое ужасающе алчное, оно всасывало меня, словно стремясь поглотить целиком, чтобы потом Сесилия могла с еще большим гневом осуждать низость этого акта и, встав на колени возле постели, едва наша «близость» была позади, молить господа об очищении греховной плоти.
Помогло или лишь усугубило зло то жуткое снадобье, которое когда-то давно посоветовала мне мама Роза? Не могу сказать, почему я продолжал прибегать к нему, из-за безнадежной покорности или из-за собственного бессилия перед дьявольским искушением образа, который она своими словами вызвала в моем воображении? Когда я была молодая, у меня было тело хоть куда. И твой отец приходил ко мне. Что это — моя месть ему или последняя попытка стать с ним вровень, хотя бы и заплатив за это погибелью души? Конечно, мой поступок — чудовищное богохульство. Но гореть ли мне за это в аду или Же кара господня сокрыта в самой мерзости физической близости? Утомительные часы с Лидией в смраде ее хижины: ее безучастность, побуждающая меня к нелепой изобретательности и животной грубости, хотя я и знал наперед, что она покорно подчинится всему, чего бы я ни пожелал. Избивал ли я ее в угоду Сесилии за какое-то воображаемое оскорбление, нанесенное моей супруге, или ласкал — для Лидии все это было лишь прихотями и причудами мужского, хозяйского норова. Она ничего не спрашивала и даже никогда не пыталась понять, что я с ней делаю и зачем. Мое влечение к ней значило для нее столь же мало, как и моя ярость, моя потребность в ней была ей столь же безразлична, как и мое отвращение — к ней и к самому себе. Я — хозяин, а она рабыня, и она будет делать то, что я велю, вот и все. Я мог ласкать или пинать ее или глумливо обсыпать ее влажное тело перьями разодранного матраса — она ко всему относилась одинаково равнодушно. А когда порой я был готов придушить ее, лишь бы вызвать у нее хоть какой-то ответ, то сдерживался только потому, что понимал: любое насилие она воспримет просто как проявление того, что она считала моим хозяйским «правом». И может быть, единственное оправдание всему этому заключалось в том омерзении, которое пробуждалось во мне, и в неминуемой яростной злобе, с которой я затем возвращался к моей жене, столь безупречно чистой и пристойной, ожидающей, в равной мере благочестиво и нетерпеливо, своего — и своей чистоты — попрания.
Быть может, было бы проще и менее отвратительно вместо этой слабоумной Лидии взять Бет? Должен признать, что после смерти ребенка Бет испытывала ко мне странное влечение, которым едва ли не щеголяла. Но именно оно в конце концов и удержало меня. И не только из-за вины перед ней, хотя господу ведомо, как я казнился своей виной, но и из-за страха. Во имя чего, думал я, если не ради мести, она преследует меня повсюду? И что может быть легче, чем обрушиться на меня, когда в спазмах похоти я буду особенно уязвим? Искушение было сильным, но страх сильнее. К тому же мое отвращение к Лидии как бы уменьшало греховность нашей связи: в самом поступке заключалось и наказание за него. С Бет это могло бы стать обычным и не столь отравленным удовольствием, а оно было бы куда более греховно. Если бы Сесилия хоть раз сказала что-нибудь, если бы она обвинила или изругала меня, взмолилась к господу, прося вразумить или покарать, но она благочестиво и безмолвно подчинялась всему, на свой лад столь же покорная, как и Лидия. И если даже я терпел неудачу, если посреди нашего безлюбого спаривания мое сознание отключалось и я засыпал, она мягко убеждала меня, что это не имеет значения: попирать ее — со всей яростью или в полнейшем равнодушии — вот все, что от меня требовалось.
Но время шло, и она делалась все беспокойней, все напористей. Она понемногу свыклась с причудливой загадкой своей власти надо мной, и в ее голосе появилась едкость. Начались попреки. Почему у нас нет сына? Все почтенные люди имеют сыновей. Или это наказание мне за какой-то чудовищный грех, о котором и помыслить страшно? Тут она замолкала и подчеркнуто язвительно глядела на меня, хотя никогда не произносила имени Лидии или Бет.
— Всему свое время, — настаивал я. — Если будет на то воля господня.
— Даже у Эстер есть сын. Кто бы мог подумать, что ее плоское тело способно произвести на свет ребенка? Но вот у нее сын, она ждет второго. И я уверена, что это опять будет мальчик.
— Почему ты винишь меня? — однажды взорвался я. — Если ты так жаждешь сына, то почему не родишь его? Ведь это твое тело должно вынашивать его.
— Даже у рабов есть сыновья! — резко бросила Сесилия. В тот раз она впервые посмела сказать такое и, наверно, сама поняла, что зашла слишком далеко, но, начав говорить, уже не в силах была остановиться. — Даже у Галанта есть сын.
Может быть, именно поэтому она с самого начала невзлюбила этого ребенка, жаловалась на шум, когда он плакал, привязанный к спине Бет, а когда малыш начал ползать, твердила, что он «мешается под ногами».
— Но мне не особенно хочется иметь сына, Сесилия, — говорю я. — Я счастлив дочерьми, которых господь даровал мне. Я люблю их.
— Что-то должно быть не в порядке у мужчины, не желающего иметь сына. — В ее голосе было злорадство. — Вот то-то и оно. Ты не настоящий мужчина. Иначе почему ты слабеешь, стоит тебе взяться делать то, что положено мужчине?
Я едва не ударил ее, но на кухне была мама Роза, которая слышала наш разговор. В бессильной злобе я кинулся вон из дома, а завернув за угол, споткнулся о ребенка Галанта, который ползал, ища мать. Я не смог сдержаться. Но клянусь господом богом, я никогда не желал ему смерти, в любое другое время я бы и пальцем не тронул его.
Что за странная, бешеная, ослепляющая ярость порой вдруг накатывает на меня? Не припомню, чтобы такое случалось со мной в детстве. В этот миг я словно бы раздваиваюсь: словно откуда-то сверху смотрю на себя самого, буйствующего и орущего внизу — настоящее безумие, бессмысленное и глупое. Мне хочется спуститься вниз и взять за руку этого разъяренного человека и его жертву, хочется попросить их обоих не принимать все происходящее чересчур всерьез, сказать им, что все это просто случайность, какая-то ужасная ошибка, — но я ничего не могу поделать, не могу остановиться. Мне хочется выкрикнуть богу: Почему ты так поступаешь со мной? Почему я больше не понимаю тебя? Я всегда старался жить согласно твоим заповедям. Когда я ребенком слушал глубокий рокот отцовского голоса, все казалось мне таким чистым, утешительным, само собой разумеющимся. Откуда же взялось это смущение, это ощущение того, что Слово перестало соответствовать моей нынешней жизни, откуда эта неспособность властвовать над миром, в котором мне было предписано быть хозяином? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю[18].
Нет, ничто не помогало. Едва я произносил эти слова, как они теряли силу, становились просто очередной уловкой. Если бы я мог поговорить с кем-нибудь. С Галантом. Но нас разделял мертвый ребенок. И более всего меня пугало тревожное предчувствие того, что не эта беда самая страшная, что она, вероятно, лишь предвестие настоящего бедствия.
Онтонг
Почему ты ни во что не вмешиваешься, спрашивают меня. Почему и пальцем не пошевелишь?
Не по мне это, вмешиваться. Навидался я таких, которые вмешивались. Знаю, что с ними делают.
О себе рассказывать нечего, это никого не касается. Тело мое в их руках, а мысли мои им не по силам. Аллах их знает, сказал бы я раньше, но аллах уже давно покинул меня, а я его.
Как ты терпишь такое обращение с Лидией, спрашивают. Она же твоя. Живешь с ней. Вот и заступись.
Моя-то моя. И жил с ней, это точно. Жил с ней, но как бы порознь. Ведь коли баас вправе спать с ней, то вправе и делать все остальное, что вздумает. Тело принадлежит всем. Когда мы закрывались в хижине и прятались от мира, я обнимал ее, успокаивал, накладывал мазь на раны — это я мог. А когда вставало солнце и раздавались удары колокола, мы возвращались в мир и шли порознь. Чему быть, того не миновать.
Как долго человек может сопротивляться, пока его не сломают, спрашивал Галант.
Никого, говорю, не ломают понапрасну. Если сломали, значит, сам и виноват. Вот Ахилла сломали, а почему? Потому что смолоду бесился, не понимал, что можно изменить, а чего нельзя. А теперь по воскресеньям или ежели баас уедет куда-нибудь он первым делом напьется и свалится, рыдая, в темном углу или давай приставать к другим с сопливыми рассказами о далекой стране, откуда он родом, о тамошних девках, которых, мол, не довелось ему расчухать да пощупать как следует. И уж выговариваешь ему, утешаешь, а то и стукнешь или дашь пинка под зад, лишь бы расшевелить. Что толку распускать нюни? Человек несет свою ношу и должен нести, должен терпеть и терпит. Выживают терпеливые и неунывающие, говорил я ему. Камень можно поднять и швырнуть прочь, а то и разбить ударом лома. А воду в руке не удержишь — никому не удержать. Вот и живи, как вода.
Слов нет, как он меня злил. Я ведь тоже, ежели захотел бы, припомнил бы имена и названия, от которых по спине пробегает дрожь, сладко звучащие, врачующие любую боль имена. Я мог бы сказать: Джокьякарта, Мадура, Черибон. Я мог бы сказать: Сурабая, Маланг. Звучат они у меня в ушах — и словно бы вижу пальмы, и летящих голубей, и море, и тяжкую поступь буйволов, пускающих пузырьки в воде, и вкус кокосового молока на языке, и голоса детей на рисовых полях, и запах гвоздики и кориандра, шафрана и перца, и сладкую кору корицы. Но я помалкиваю об этом, потому что никого это не касается. Только меня.
И сны. Куда деваться от луноцвета, и птиц, и женщины, стройной как пальма, женщины, ничуть не хуже молодой девушки Лейс, которая стала матерью Галанта; а как проснешься в печали и изнеможении — рядом с тобой только Лидия. Но не упрекать же ее за то, что она не женщина моих снов? Я с благодарностью беру ее и делю с ней то, что дарует нам ночь, зная, что скоро снова день, а дни тут тяжелые. Сны помогали терпеть; я ведь понимал: собирать пожитки и отправляться на поиски той несуществующей женщины бесполезно. Человек должен нести свою ношу и во сне и наяву, иначе не выжить.
— Понял, о чем я? — спрашивал я Галанта.
— Хотел бы понять, — отвечает. — Но это непросто.
— Знаю, что непросто. Но в конце концов тебе легче, чем мне, — ты ничего другого не знаешь. Ты здешний. Здесь все твое. А меня лишили всего, едва мне стукнуло десять лет.
— Не уверен, что легче, — отвечает. — Может, как раз тебе и легче. Когда жить невмоготу, ты видишь во сне свою родину. Где бы ты ни был, ты знаешь, что она есть. А мне идти некуда. Но и здесь я не могу. Так что же мне делать?
— Это ты по молодости, — утешаю я. — Станешь старше — успокоишься.
— Думаешь, мне хочется становиться старым и успокаиваться?
— Хочешь ты или не хочешь, того не миновать.
Конечно, это его ничуть не утешало. А я все думал и тревожился о нем. Может, он и вправду мой сын? Сколько раз по вечерам или во время работы, если он не видел, пытался я высмотреть в нем что-то мое: выражение лица, поворот головы, форму ушей, осанку — признаки сходства. Но как тут можно быть уверенным? Да и разве оно важно? Он здесь, и я здесь, и мы оба в одной упряжке.
Поначалу, когда мы только перебрались в Хауд-ден-Бек, мы с ним по очереди спали с Лидией и делили между собой дневную работу. Мне казалось, что он вроде бы начал обживаться. Он по натуре своей одиночка, таким всегда и останется, собственное общество дороже ему любой компании — свойство, которое он, возможно, унаследовал от меня, — но в этом ведь нет ничего тревожного или дурного. Было ясно, что у них с Николасом все изменилось, да такого и следовало ожидать — они ведь больше не дети. Но они пытались приспособиться, каждый по-своему, один к другому, словно два больших пса, которые кружат и обнюхивают друг друга, прежде чем подружиться. А когда появилась Бет, все пошло еще лучше. В первый раз в жизни Галант вроде бы успокоился по-настоящему. И я поверил, что и дальше все пойдет хорошо.
Но после смерти ребенка я вновь встревожился. Я знал, что он ходил к маме Розе и говорил с ней, и она, должно быть, образумила его, поскольку не случилось немедленной стычки. Но он продолжал о чем-то мрачно размышлять. Ничего, по сути, до конца не уладилось. Он все как будто ожидал чего-то, даже торопил, чуть ли не нарочно нарываясь на неприятности. Когда у кухни мы поджидали, пока Бет вынесет еду, Галант встанет, бывало, на пороге, чтобы его непременно услышали в доме, и затеет с ней перебранку:
— А что, Бет, дадут нам сегодня поесть? Или надо ждать, пока нас накормят вместе с собаками?
— Хочешь заработать порку? — отвечала она, беспокойно оглядываясь на дверь.
А когда еда была готова, он смотрел и ухмылялся:
— Опять та же бурда? Или они думают, что мужчина будет сыт такой похлебкой? Может, они ждут, пока сдохнет какая-нибудь овца, чтобы дать нам кусок мяса?
— Я приготовила то, что велели.
Как-то раз Николас вышел на кухню в самый разгар такой перепалки. Я отошел, от греха подальше, и занялся трубкой — не дай бог, втянут в свои склоки, — но хорошо слышал, о чем они говорили.
— Значит, еда тебе не по вкусу, Галант? — спросил Николас.
Галант что-то буркнул в ответ.
— Ты никогда не жаловался в Лагенфлее.
— У старого бааса не на что было жаловаться. А тут, в Хауд-ден-Беке, похоже, туговато с мясом.
Я почувствовал, что Николас начинает злиться. Он протянул руку к задней стороне двери, где обычно висел бич, но так и не снял его с крюка. Его нужно было распалить куда сильней, чтобы он решился избить Галанта. Мы все это понимали. И именно потому-то, думаю, Галант и продолжал дразнить его: хотел испытать, насколько далеко может зайти. Он знал, конечно, что после смерти ребенка ему дали еще большую волю, чем, прежде, ведь всем было ясно, как тяжко опечален случившимся Николас. Но такому, как Галант, что ни дай, все мало. И он не угомонится, пока не убедится, сколько можно гнуть сук, пока тот не сломается. Он и давай его гнуть, то посильнее, то послабее, да все прислушиваясь — не раздался ли неизбежный треск. А вот это уж вовсе не по мне, и, главное, без толку и никому не нужно. Но переспорить его нечего было и пытаться.
Он все время раскачивал сук, и так и сяк. История с лошадьми удивила меня больше всего. Галанту с лошадьми никогда равных не было. Я часто подсматривал, как он возится с ними в конюшне, обхаживает каждую так, точно это человек, точно это женщина: гладит, ласкает, легонько подталкивает в бок, разговаривает о чем-то терпеливо, будто лошади понимают его. Он то и дело без спросу ходил в амбар за пшеницей и ячменем. Даже сахар с кухни таскал для них, особенно с тех пор, как хозяйка взяла у своего отца взаймы рабыню Памелу, потому как начала сильно не ладить с Бет; Галант сразу же приглянулся этой Памеле. И не то чтобы он отвечал ей тем же, во всяком случае не сразу, хотя дурнушкой ее не назовешь, разве что слишком худая, но с тонким лицом, спокойная, почти робкая; но кто понимает, тот видел, что глубоко внутри у нее уголек тлел. В ней было как раз столько воды и столько огня, сколько нужно, чтобы угодить мужчине. И что бы Галанту ни захотелось из дома — кусок мяса в добавку, бренди или сахару для лошадей, — Памеле только мигни. Ее за это порой и поколачивали, но она не выдавала Галанта.
И вот в те дни Галант начал вымещать свою злобу на лошадях. Не каждый день, он слишком любил их для этого, и даже не на всех: он облюбовал для этого лошадь Николаса, самую резвую и быстроногую в конюшне, красивого вороного жеребца с белой звездочкой на лбу. И вскоре я приметил, что всякий раз после стычки с Николасом, даже не слишком явной, просто после каждой проверки, испытания, раскачки сука, Галант вымещал злобу на жеребце. Я-то знал, как он привязан к этой лошади. Кроме Николаса, жеребец подпускал к себе только Галанта, зато и Галант возился с ним больше, чем со всеми остальными. Но теперь он начал дурно обращаться с жеребцом. Ведя его вниз на водопой, вдруг резко натягивал уздечку, чтобы повредить нежную мякоть в пасти. Он, похоже, нарочно подбивал лошадь взбрыкнуть, заржать и встать на дыбы — а тут ему и повод снова резко рвануть уздечку. А когда он разъярял животное так, что то начинало бесноваться, бросая Галанта из стороны в сторону, он брался за плетку и стегал и стегал его без конца, пока жеребец не задрожит всем телом.
В первый раз, увидав это, я кинулся к нему.
— Ты что, — закричал я, — спятил, что ли?
Он оставил лошадь в покое, а сам тяжело дышал, в глазах была дикость, точно он толком не узнавал меня. Затем отшвырнул плетку и пошел прочь, бросив лошадь, которую мне пришлось увести в конюшню.
— Никогда больше так не делай, — сказал я, когда он немного опамятовался. — Как ты можешь творить такое с лошадьми?
Он не ответил. Даже не поглядел на меня, слишком смущенный, чтобы поднять глаза.
И все же занятия этого не оставил. Как-то вечером, когда Галант снова довел жеребца до неистовства, Николас увидал это. Я был неподалеку, делал загородку для цыплят, искоса поглядывая на них, притворяясь, будто ничего не замечаю.
— Галант! — заорал Николас, бросаясь к нему. — Ты что, черт тебя подери, делаешь?
Галант остановился, как и в тот раз, когда вмешался я, и встал, понурив голову. Но через пару мгновений поднял ее и молча посмотрел прямо в глаза Николасу.
— Как ты посмел избивать мою лошадь?
— Она сломала ворота.
— На нее не похоже… — И долгое молчание, а потом Николас добавил глухим, сердитым голосом: — Если это когда-нибудь повторится…
— То что? — спросил Галант.
— Галант, ты уже давно испытываешь мое терпение. В один прекрасный день ты зайдешь слишком далеко, и мое терпение лопнет.
— Как это я зайду далеко? Я ведь просто раб и сын рабыни.
— Я предупредил тебя.
Ответа Галанта я не разобрал.
— Это мое последнее тебе предупреждение. Ты работаешь хуже и хуже. Сам нарываешься на неприятности. Понял?
— Нет. Совсем не понял. Если я работаю плохо, меня следует наказать. Ты ведь тут хозяин, разве не так?
— Галант. — Я слышал, что он уже с трудом сдерживается, но все еще пытается не сорваться. — Мы же с тобой всегда так хорошо ладили.
— Это по-твоему.
— Так вот, если это когда-нибудь повторится, хоть однажды…
Галант ничего не ответил. Я собрал инструменты и ушел в сарай. Они, должно быть, препирались еще долго, потому что уже стало темнеть, когда я снова увидал Николаса. Он возвращался домой, ведя лошадь. Галант отправился в вельд на своих двоих. В тот вечер я злился на них обоих. Они раздули пустяковое дело в крупную неприятность. А я не мог остановить их.
Мы, остальные, часто толковали об этом по вечерам, покончив с дневными трудами — поля обработаны, овцы загнаны в крааль, коровы подоены, хворост собран, двор прибран, — и сходились на том, что все из-за смерти ребенка. Но если с нами бывала Бет, она просто бесилась от наших разговоров.
— Что толку без конца говорить о прошлом!
— Мы говорим не о прошлом, Бет, а о том, что будет.
— А что будет? Баас попросил прощения, разве нет? Сказал, что ничего такого и в мыслях не держал. Так что же еще может случиться?
— Больно ты рвешься защищать бааса, — сказала как-то Памела, сидевшая с нами.
— А ты не встревай, — напустилась на нее Бет. — Ты-то что знаешь про это?
Они не выносили одна другую. Бет злилась, что Памелу взяли работать в дом, когда хозяйка рассорилась с ней, а Памела, похоже, винила Бет в угрюмости Галанта. Памела никогда не начинала ссоры: она обычно так молча глядела на обидчика, что этого было довольно. И хотя Галант по-прежнему держался сам по себе, было ясно, что Памела с ним заодно против Бет.
Тут были еще двое молодых парней, готтентоты Рой и Тейс, баас нанял их в районе Свартберхе. Моложе остальных да и не рабы, они обычно помалкивали при наших разговорах. Но когда Галанта с нами не было, они порой осторожно поддакивали, и я понимал, что их тоже тревожит то, что творится с ним.
Судачили об этом и рабы с соседних ферм. Обычно это случалось в конце недели или если хозяин уезжал куда-нибудь из дому. Тогда по ночам знай ездили туда и сюда на конях, и веселье нередко затягивалось до рассвета. Главным плясуном и говоруном был Абель с фермы Баренда. Красивый малый, высокий как дерево и сильный как бык, большой охотник до женщин. Поначалу он захаживал и к Памеле, но она его быстро отвадила. Время от времени он объезжал Лидию, которая, похоже, и не разбирала, кто с ней и когда. А чаще в поисках женщины уезжал на дальние фермы. Только его вроде и вовсе не беспокоило, что творится с Галантом. «Отстаньте от него. Все уладится само собой. Это не страшней, чем резь в животе». А потом отхлебывал бренди из тыквенной бутылки, доставал свою скрипку или снова пускался в пляс вокруг костра, потешая нас.
Остальные Барендовы работники были понятливей. Клаас, старый ворчун, обычно соглашался с тем, кто говорил до него, и при нем надо было держать язык за зубами, потому что поди угадай, что и как он распишет своему хозяину. Голиаф вообще очень осторожен. Он был еще молод и предпочитал держаться подальше от любых неприятностей. То было задолго до того, как сам он впутался в неприятности с Барендом — дурная тогда вышла история.
Без умолку говорил один Долли. Он работал тут у старого портного и сапожника Дальре, которому Николас выделил участок земли в Хауд-ден-Беке, неподалеку от нас. Долли был здоровенным детиной из Мозамбика и, мне думается, дурно влиял на Галанта.
— Поживем — увидим, — говорил он, довольный собой. — В один прекрасный день нам всем повезет по-настоящему. Что до меня, то я просто поджидаю подходящего случая, чтобы сбежать, а тогда меня ищи-свищи.
— Куда ты убежишь? — усмехался Ахилл. — Живо найдут и приведут обратно. Я пробовал.
— Страна большая, — отвечал Долли.
— Да уж, где помирать, места хватит. А не найдут хозяева — разыщут дикие звери. Или же просто помрешь с голода.
Если нас слышал старый Адонис из Бюффелсхука, он говорил:
— Вечно болтаете. Вечно языком треплете попусту. Как бы мы жили, не приглядывай за нами хозяева? Они дают нам и еду, и питье, и одежду — все, что мы попросим. И скажу я вам, лучше моего бааса Яна нигде не сыскать.
И тут же разгорались яростные перепалки хвастунов: все старики, пытаясь перещеголять один другого, наперебой восхваляли силу, ловкость и доброту своих хозяев. Среди самых отъявленных говорунов были, конечно, рабы старого бааса Пита: старик Мозес, Вилдсхют, Слингер и другие; вспыхивали споры и ссоры, нередко кончавшиеся шумными и жестокими потасовками.
А Галант тем временем вел себя как ему вздумается, точно наше мнение ничуть его не заботило. Никто не мог убедить его остановиться, пока дело не зашло слишком далеко. И вот, наконец, неизбежное случилось.
Как только мы убрали с полей бобы, сразу после первых морозов, Николас отправился с фургоном в Кейп, хозяйка уехала вместе с ним. Галант тоже просился поехать, но Николас не взял его: сказал, что Галанту нужно остаться тут и присматривать за делами на ферме, не зря же его назначили мантором. То было время ежевечерних веселий в Хауд-ден-Беке, буйных празднеств, подобных которым еще не бывало, да и не будет больше в наших краях. Чуть не каждую ночь резали овцу и жарили мясо на углях. Галант повел дело так, что все по очереди добывали мясо и выпивку. Фермеры по соседству, должно быть, ума приложить не могли, что за хищник повадился таскать их овец, а мы тем временем веселились ночи напролет, отчего на рассвете нас пошатывало от усталости и туман застилал глаза.
Бет воспротивилась было всему этому — Памела тогда уехала с хозяевами в Кейп, — но Галант быстро обуздал ее.
— Тут на ферме я мантор, — сказал он. — И если я говорю, что так должно быть, так оно и будет. И не вздумай проговориться Николасу, когда тот вернется, — увидишь, что я с тобой сделаю.
Остальные, услышав его слова, окружили их обоих — это, думаю, напугало Бет. Раз подчинившись, она с тех пор угрюмо участвовала во всех пиршествах и попойках.
Конец был неожиданный. Николас приехал домой почти неделей раньше, чем ждали. Как-то после обеда — тихим тусклым днем, какие бывают в начале зимы, незадолго до первого снега, — мы, оцепенев от ужаса, увидели фургон, приближавшийся к ферме по узкой полоске вельда между горными хребтами. Галант был возле забойного камня, он освежевал овцу и теперь разрубал тушу для ночного пиршества. Заметив фургон, он выпрямился и застыл, следя, как тот подъезжал все ближе и ближе. Руки у него были испачканы кровью, и смотрел он очень спокойно, точно вовсе и не был напуган. Чуть ли не доволен был, что его поймали на месте преступления.
Николас не сразу смекнул, что происходит.
— Поздновато режешь овцу, — сказал он слегка удивленно. — Ты что, пропустил понедельник?
— Я резал и в понедельник, — ответил Галант.
Тут-то я и понял, что на этот раз беды не миновать.
— Вот как? — недоверчиво сказал Николас.
Галант опустил руки в бочку с водой и принялся смывать кровь, очень медленно оттирая каждый палец и выковыривая грязь из-под ногтей. А потом надел жакет. Красивый плисовый жакет, подаренный ему Николасом после смерти ребенка.
— Мы потрудились, и нам захотелось мяса, — спокойно сказал он.
Возле дома из фургона вылезали хозяйка, дети и Памела. Галант и Николас были у камня вдвоем, я стоял за углом конюшни, наблюдая за ними и прислушиваясь.
— Я ведь оставил тебя тут за хозяина, ты должен был присматривать за всем, — сказал Николас.
Галант пожал плечами.
— Где овцы? — спросил Николас, подходя к нему чуть ближе.
— В вельде, где же еще.
— Приведи их в крааль. Я хочу пересчитать отару.
Галант странно усмехнулся. Не говоря больше ни слова, он неторопливо направился на пастбище, оставив Николаса возле овечьей туши. Я сделал небольшой крюк и последовал за Галантом, чтобы помочь ему. Вместе с Ахиллом, пасшим овец в вельде, мы пригнали овец к краалю. В воротах стоял и ждал нас Николас, поставив ногу на нижнюю перекладину и крепко зажав трубку в зубах. Когда мы подошли, он ничего не сказал. Овец пересчитал тоже молча.
Недоставало пяти.
— Онтонг, — спросил Николас. — Что ты скажешь об этих овцах?
Неприятный был вопрос. Мне не хотелось отвечать на него впрямую.
— Думаешь, кто-нибудь украл их? — спросил я его.
— Ничего я не думаю. Я тебя спрашиваю.
— Мне трудно ответить, баас.
— Ну а ты, Ахилл? Что ты скажешь?
— Я просто пригнал стадо домой, баас.
Я стоял, глядя на Николаса. Он повернулся к Галанту, но тот смотрел мимо, куда-то вдаль, что-то насвистывая сквозь зубы, хотя и не сказать, что весело.
— Может, вы видели следы леопарда? — спросил Николас, все еще пытаясь подсказать нам выход.
Тут Галант прекратил свистеть и обернулся к Николасу.
— Это не леопард, — сказал он. — И не шакал.
— А кто же в таком случае?
— Это я зарезал их.
— Я велел тебе резать по одной в неделю. Тебе этого показалось мало?
— Нам хотелось больше.
Николас загасил большим пальцем трубку и сунул ее в карман рубахи.
— Ты причинял мне немало хлопот и до отъезда, Галант, — сказал он. — Возвращаясь, я надеялся, что будет лучше. Я ведь уже предупреждал тебя, верно?
— Верно.
— Онтонг, Ахилл. — Николас говорил медленно, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Берите его и привяжите в конюшне.
Я попытался было остановить его.
— Баас… — сказал я.
Но было поздно, он уже решился.
— Пошли, — сказал нам Галант. — Ведите меня.
А пока мы вели его, он все оглядывался назад, словно желая убедиться, что Николас тоже пойдет следом.
Он сам улегся на пустую бочку в конюшне и подставил нам запястья и лодыжки, которые мы связали ремнями. Мы робко стояли возле него, боясь поглядеть с глаза друг другу, пока — нам-то показалось, что прошло не меньше часа, — не пришел Николас с бичом и кожаным ремнем. Ремень он дал Ахиллу, а бич мне. Вот это уж мне совсем не по душе. Коли хочешь выпороть своего раба, делай это сам. Не рабское это дело.
— Я сыт твоими выходками по горло, Галант, — сказал Николас. — Давай, Онтонг, начинай. Чего ты ждешь?
С трудом подняв голову, Галант обернулся и поглядел на Николаса.
— Зачем ты заставляешь их? — спросил он. — А сам что, боишься?
— Онтонг! — приказал Николас.
Я стегнул Галанта по спине. От удара с красивого жакета, кружась, поднялась пыль.
— Боишься? — снова язвительно спросил Галант.
Тут Николас точно потерял голову от бешенства. Он выхватил у меня тяжелый бич и принялся пороть Галанта, хлеща куда попало; бич взлетал и опускался вихрем. От заморского жакета уже остались одни лохмотья, гиппопотамова кожа бича врезалась в мясо, а он все не мог остановиться. Галант не произнес ни звука. Только по временам слышался тихий, глухой стон.
— Баас… — сказал я наконец.
Я вовсе не хотел перечить хозяину, но опасался, что, если он не остановится вовремя, случится ужасное. Он не слышал меня, чуть не рыдая от ярости при каждом новом ударе. Больше терпеть это было нельзя, и я слегка коснулся его руки:
— Может, хватит, баас? Ты убьешь его.
Николас остановился столь же внезапно, как и начал. Резко обернулся и с диким бешенством в глазах поглядел на меня. А затем отшвырнул бич и выбежал из конюшни.
Уже сгущались сумерки, когда мы с Ахиллом отвязали Галанта и притащили его в хижину, с трудом приведя в чувство холодной водой.
Только бы он наконец извлек из этого урок, думал я. Гроза надвигалась давно, и вот она грянула. Может, оно и к лучшему, может, теперь небо прояснится, и в Хауд-ден-Беке воцарится покой.
Но я его недооценивал. Чему быть, того не миновать.
Галант
Молодой жеребец на огороженном поле. Берегись стены. Не суйся наружу. Не вздумай перепрыгивать через нее… Так и не знаешь, что же будет, если ты рискнешь. И не узнаешь, пока не перепрыгнешь. А перепрыгнуть не просто. Тут, по эту сторону, все знакомо. Знаешь, где скакать, где пастись. Но каменная стена всегда здесь. Можешь делать вид, будто не замечаешь ее, можешь отвернуться, но стена остается, и кажется, что поле, огороженное ею, с каждым днем все меньше и меньше. Пока ты не захочешь перескочить через нее, даже если сломаешь себе шею. И вот я захотел. И прыгнул. И выжал.
Что толку бесконечно угрожать друг другу и наскакивать друг на друга, как два драчливых петуха, как бойцовые петухи в Кейпе, о которых рассказывает Ахилл. «Берегись, Галант, — говорит Николас, а потом еще: — Предупреждаю тебя». И наконец: «В последний раз». Но последнего раза нет и не может быть, и не обрести покоя, пока не дойдешь до края. Где моя стена? Посмею ли я? Когда я стегаю лошадь, меня бьет дрожь. «Черт подери! — хочется крикнуть. — Почему ты стоишь и покорно все терпишь? Ведь ты же гораздо сильнее меня и гораздо больше. Почему не взбрыкнешь, почему не затопчешь меня тяжелыми копытами? Почему не вырвешься, почему не умчишься в горы, чтобы никогда оттуда не возвращаться?» Но она не смеет. Позволяет избивать себя, издеваться над собой, усмирять себя. Терпит все, что с ней ни сделают. А я не могу. Не могу.
«Не доводи его до крайности», — говорит Онтонг. Что он понимает? Вовсе не Николаса я довожу. Плевать мне на его стену. А вот не сробеть перед моей собственной — дело другое. Иначе уж лучше выкопайте мне могилу и заройте меня в землю, и не надо никаких листьев бучу, пусть себе тхас-шакал бродит, сколько ему угодно.
Теперь мне все ясно. Быть детьми в Лагенфлее — это одно, а прижиться в Хауд-ден-Беке — совсем другое. Часто, когда мы со злобой и отчаянием глядим друг на друга, Николас кричит: «О господи, Галант, что это с тобой? Я тебя просто не узнаю. Мы ведь так хорошо ладили друг с другом».
Как мне объяснить ему? Про эту каменную стену, на которую мы оба глядим. Нам обоим еще предстоит перепрыгнуть через нее.
И порка тут ни при чем. Удары бича причиняют жгучую боль, врезаются в кожу, рвут мясо. Когда тебя отвязывают, ноги не держат, а вокруг темнота, из которой тебя возвращают, окатив холодной водой: ты даже не знаешь, чьи это руки. И все же порка еще не стена: порка просто не дает забыть о стене. И сулит радость оттого, что ты знаешь — ты попытался прыгнуть. Тебе не шевельнуться от боли, но это того стоит, ведь теперь ты по другую сторону стены. Теперь ты наконец знаешь.
А потом, глубокой ночью, когда все спят и только ты лежишь без сна и все тело разламывается от боли — но и от облегчения тоже, — вдруг делаешь новое открытие. Эту стену ты одолел. Но есть и другая. Перед прыжком ты думал лишь об одном: надо одолеть ее. А теперь одолел, а за ней другая. И вечно будет какая-нибудь еще. Одна за другой. В этой мысли сокрыто нечто устрашающее: слабость, охватывающая тебя прежде, чем ты даже попытаешься совершить следующий прыжок. Но потом засыпаешь, и сон приносит успокоение.
С первой зарей выползаешь из хижины. Утренняя звезда еще не погасла, от мороза на земле серые, будто заплесневелые полосы, еще не такие твердые, чтобы хрустеть под ногами, когда ступаешь по ним, но холод уже обжигает ступни. Колокол еще не бил. Тебе не разогнуться, ты окоченел, пока спал, свернувшись клубочком, на холодной земле, и, когда начинаешь двигаться, боль прокрадывается в тело. Кажется, тебе уже никогда не распрямиться, но стискиваешь зубы, потому что впереди долгий путь. Нужно уйти из Хауд-ден-Бека еще до колокола.
Приходится потрудиться, чтобы снова вдохнуть жизнь в угли, на которых подогреваешь в дымном чаду бушевый чай. Главное — не разбудить Бет. В тепле на короткое время как бы отпотеваешь, благоухание чая успокаивает боль. Накидываешь на себя истрепанные лохмотья, оставшиеся от нового жакета, и на цыпочках уходишь прочь от очага. Только один человек появляется из хижины, когда ты проходишь мимо. Та женщина, Памела. Неужели она подглядывает за тобой и по ночам? Ее глаза словно говорят: иди ко мне. И ты знаешь, что тебе с ней будет хорошо. Ты испробовал ее пару раз, как это принято в здешних краях. Но именно потому, что ты кое-что знаешь о ней, ты держишься подальше. У тебя уже была плохая история с Бет. Теперь надо обдумывать свои поступки как следует; Ты видишь это по глазам Памелы. Есть женщины, к которым можно прийти и уйти, и только-то. Но встречаются и другие, и ты понимаешь, что Памела из тех, особенных: ты придешь к ней, и это будет навсегда. Вроде того, как карабкаешься в горах, отрезанный от всего мира, оставшегося у тебя за спиной, а кругом лишь камни да скалы, и если ты не дойдешь до конца, если не переберешься на другую сторону, то так и погибнешь тут, в горах, и лишь когда-нибудь потом здесь отыщут твой скелет, от тебя останется только он, а вовсе не след ноги, впечатанный в камень.
— Куда ты, Галант? — спрашивает Памела, голос ее медлителен от сна — в нем покой женщины и ночи.
— За горы, — неохотно отвечаю я, раздраженный этим вопросом.
— Жаловаться идешь?
Взгляд ее проникает в тебя так глубоко, что хочется чем-нибудь прикрыться, но ты знаешь, что это не поможет.
— Да. — Мне вдруг хочется, чтобы она меня поняла. — Но не из-за порки.
— Из-за жакета?
— Почему ты меня спрашиваешь?
— Я беспокоюсь о тебе.
В глазах у меня все меркнет от ярости. Как она смеет говорить такое! По какому праву она вмешивается в мою жизнь? Клянусь самим Голубым Богом: никто и никогда не беспокоился обо мне. Даже мама Роза не беспокоилась по-настоящему. Чего уж говорить о других.
В смутном утреннем свете сердито гляжу на нее. На ее лице ни следа страха. Что-то в ней есть от газели: глаза, пугливая манера держаться. Словно при малейшем твоем неловком движении она стрелой метнется прочь.
— Почему ты так на меня смотришь? — спрашиваю.
— Не понимаю я тебя.
— Ну и что же?
— Ты должен вернуться, Галант.
— Вернусь, конечно. Куда я денусь?
А во мне словно бубнит чей-то голос: Вот тебе и другая стена.
— Если они станут спрашивать, — говорю я, — ты промолчишь или скажешь, что я ушел в Тульбах жаловаться?
— А чего хочешь ты? Чтобы я сказала или промолчала?
— Можешь сказать.
— Хорошо, скажу.
Утро становится серым. Скоро пробьет колокол. Но не звук колокола уношу я с собой в мыслях, с трудом переставляя ноги. А эту женщину. Памелу. Всю дорогу, а дорога долгая, именно Памела заставляет меня идти дальше, когда боль и усталость грозятся одолеть меня. Со мной ее глаза: молодая газель, готовая стрелой умчаться прочь, стройная и дикая.
Боль так сильна, что путешествие, длящееся обычно один день, растягивается на два с лишним. Каждый шаг причиняет муки. Отпечатки ног на земле словно пытаются удержать меня, вернуть обратно в Хауд-ден-Бек. К этой женщине. К Николасу. Боль. Каждый миг она напоминает мне об избитой спине, плечах, ягодицах, нотах. При вздохе ноет грудь. В ногах я тащу вместе с собой весь мир. Мне его не стряхнуть.
Николас, думаю я, если б ты взял меня в Кейп, я, может, и не брел бы сейчас через эти горы. Я ведь просил тебя. И ты знаешь, как давно я мечтаю поехать туда. Еще когда мы были детьми, ты первым рассказал мне о Кейпе, о тамошних высоких домах и тамошних людях, о горе с плоской, как стол, вершиной и о холме, с которого палит пушка, когда к берегу подплывают корабли, о лошадиных скачках и базарах, об улицах, парках и замке, о солдатах в красных мундирах с блестящими пуговицами, о рабах, весело пляшущих под музыку по воскресеньям. Ты сам рассказывал мне обо всем этом. А как я умолял тебя взять меня с собой! Ты же только и ответил: «Тебе придется остаться дома. Кто же присмотрит за фермой? Я только тебе и могу довериться, Галант. Больше мне не на кого положиться».
У тебя есть на то Онтонг и Ахилл, ты мог бы положиться на них. И есть твой брат, живущий в двух часах езды от нас. И нечего заманивать меня в ловушку благородной лжи. Я-то знаю, что ты думал на самом деле: «Я тут хозяин, и ты будешь делать то, что я прикажу». И нечего подкупать меня красивым жакетом. Сегодня жакет — завтра одни лохмотья. А мой ребенок лежит в земле. И никогда не забывай об этом.
Шаг за шагом тащу я свое израненное тело через горы. Высоко над головой кружат запоздалые ласточки, то подлетают поближе, то улетают прочь, то круто ныряют вниз, то снова быстро мчатся по ветру, пока мои ноги бредут своей дорогой по земле и по камням, измученные долгим странствием.
— Я вот пришел жаловаться, — говорю я судье. В таком месте становится как-то не по себе. Высокие побеленные стены, высокие своды потолка и высокие ступени. Все тут кажется огромным — лишь я маленький и съежившийся в своем разодранном жакете и грязной, обвисшей шляпе. — В Хауд-ден-Беке бьют людей. И еда плохая. А если подарят новый жакет, то потом разорвут его бичом в лохмотья. Вот поглядите на меня.
— У тебя есть письмо от хозяина? — спрашивает ланддрост.
— Какое еще письмо?
— Ты что, не спросил разрешения прийти сюда?
— Если б я стал просить у него разрешения, он снова поколотил бы меня.
— Значит, ты сбежал? Ты понимаешь, какой это тяжкий проступок?
— Я не сбегал. Я просто пришел жаловаться.
— Кто ты такой, чтобы так разговаривать?
Меня уводят в камеру, вниз, в подвал. Тут мало света и солома густо пропахла мочой. Маленькая миска рисового отвара, ломоть хлеба и кусок прогорклого свиного сала. Где-то высоко над окном, под самым навесом крыши, свили гнездо ласточки. Что они делают здесь зимой, почему не улетели вместе с остальными? Мне не понять их. Они вольны улететь, а почему-то остаются. Весь день слышится их щебетанье. Только после заката они наконец затихают, и тогда ужасающее одиночество воцаряется в камере. Сколько еще мне придется просидеть тут, пока за мной приедут?
К счастью, я сказал о своем уходе Памеле, и ожидание оборачивается всего лишь одной ночью в камере. Наутро приезжает Николас. Но та единственная ночь круто меняет мое представление о мире, подобно тому как нежданная гроза пускает горный поток по новому пути, дробя и сбрасывая вниз камни, стачивая все их зазубрины и острые углы, пока они, круглые и гладкие, не станут новым надежным руслом для сбегающей сверху воды.
Это ночь нескончаемых разговоров. Нас в камере трое, но один, старый и сломленный, потихоньку хнычет в углу, никого вокруг не замечая; говорим мы двое, я и тот человек. Настоящий великан, ему, верно, не составит труда поднять за ось груженый фургон. Когда он сгибает огромные руки, мускулы напрягаются так, будто Вот-вот разорвут тяжелые цепи, сковывающие их. Я не связан, а он в цепях, и на ногах кандалы; кое-где железо ободрало кожу и обнажило мясо. Время от времени, слабо шевельнувшись, чтобы переменить позу, он стонет. На мне мои лохмотья, а он совершенно голый, в тусклом свете камеры я вижу, что у него на теле нет живого места. Краснота мяса. Белизна сухожилий и костей. И его стон — глубокий, низкий львиный рык. Разве мне забыть когда-нибудь рычанье льва той далекой ночью, рычанье, подобное гулкому дрожанию самой земли?
— Что ты тут делаешь? — спрашивает он, когда меня вталкивают в камеру и я падаю, проехавшись на четвереньках по гнилой соломе.
— Я пришел жаловаться. Сказали, что будут держать тут, пока не приедет баас.
— Ты еще тратишь силы на то, чтобы жаловаться? — Он отрывисто смеется, смех его больше похож на стон, я слышу, как гремят цепи. Он с трудом поднимается, опираясь о стену, и, ухватившись за оконную решетку, медленно подтягивает свое разбитое тело и выглядывает в окно: но там не видно ничего, кроме запоздалых ласточек, да и те то появятся, то снова исчезнут. Свет падает на его могучие плечи, мускулистые руки, узловатую, окровавленную спину, ягодицы и крепкие, точно стволы деревьев, ноги.
— Все еще тратишь силы на то, чтобы жаловаться? — повторяет он и, придерживаясь рукой за решетку, оборачивается и глядит на меня. — Когда-нибудь и ты поймешь, что проку от этого никакого. Я давно покончил с жалобами.
— А сам ты что сделал? — спрашиваю я.
— Самое худшее.
— Убил хозяина?
Он кривится.
— Думаешь, это самое худшее, что можно сделать?
Отцепившись от решетки, опускается на пол, и я снова слышу низкий львиный рык, потом он замолкает так надолго, что мне кажется, будто он больше не заговорит. Но вот опять раздается грохот цепей, и он начинает рассказывать. Правда, словно бы не мне, а самому себе. Он рассказывает об охоте. Мне не понять, что это за охота, когда она была. А может, ее и вовсе не было, может, она ему просто приснилась — но разве в этом дело? Он путешествует вместе со своим баасом и вместе с другими хозяевами и их рабами в той земле, где восход солнца по правую руку, а закат — по левую, они идут, опустошая все вокруг. Стреляют буйволов, антилоп, носорогов, слонов, пока фургоны не начинают скрипеть под тяжестью бивней, рогов и шкур. По их следу, обозначенному тушами убитых зверей, тянутся стаи гиен, шакалов и стервятников. Кружение ястребов очерчивает их продвижение, неделя за неделей, на всем пути к Великой реке. А там они находят людей, целый поселок беглых рабов и всяких прочих людей, которые издавна убегали сюда, чтобы стать тут свободными.
— Неужели это правда? — спрашиваю я.
— Я видел их собственными глазами. Я говорил с ними. Все они когда-то были рабами, как ты да я. А теперь живут там свободные, на своей собственной земле.
— И что было, когда вы нашли их?
— Хозяева схватились за ружья, но те люди принесли нам еду, молоко, овощи, все, чего нам недоставало. А ночью куда-то исчезли, словно там их и вовсе никогда не бывало — только коровий навоз на земле да пустые хижины.
— А потом?
— Хозяева сожгли хижины и вытоптали поля. А что толку? Люди-то все равно ушли. Они свободны.
— А раньше были рабами, как ты и я?
— Да, как мы с тобой.
Цепи скрежещут о каменный пол. Уже темно, и мне его совсем не видно, но низкий львиный голос не умолкает:
— У нас на ферме, в некотором отдалении от дома, стоит большая скала, в которую вделаны обрывки ржавых цепей. Люди рассказывали, что в былые времена тут жила молодая рабыня, вроде бы малайка, которая то и дело убегала. Всякий раз ее ловили, возвращали назад и избивали. Но как бы ее ни наказывали, поркой или чем похуже, она опять убегала. Наконец ее приковали цепями к скале и оставили там навсегда. Скала та довольно далеко от хижин, не докричишься. Раз в день ей присылали с ребенком еду и воду и даже построили навес на столбах, чтобы она могла укрыться от зноя и ливней. Там она и оставалась до самой смерти, а люди говорили, что дожила она до глубокой старости. Сидела, прикованная к скале, и ни разу не сказала никому ни слова. А потом умерла, и хищники да стервятники пожрали ее тело и раскидали кости. В мое время на ферме уже не было никого, кто помнил бы ее. Но скала по-прежнему стояла там с обрывками цепей. И всякий раз, когда какому-нибудь рабу взбредало в голову убежать, его ловили, а потом пороли возле этой скалы, чтобы напомнить об участи той женщины. И больше уже никто не решался последовать ее примеру. Но когда мы вернулись с охоты, я частенько уходил по вечерам к той скале, чтобы посидеть возле нее и подумать про людей с Великой реки. Я не мог забыть их — свободных людей, таких, какими и должны быть настоящие люди. И тогда я убежал в первый раз.
— Но ведь это не самое худшее, что может сделать человек!
— То было лишь началом.
— Так что же ты все-таки сделал?
Снова долгое молчание. А когда он наконец заговаривает, его голос звучит мрачно, точно он упрекает меня за мою назойливость.
— Это из-за хозяйки, — говорит он. — Все время изводила меня. Чуть управишься с одной работой, тут же даст тебе другую. А если я пробовал перечить, бежала жаловаться хозяину. И он порол меня. А на следующий день снова принималась придираться то так, то эдак. Сама маленькая, тощая, но сущая стерва. И не уймется, пока не доведет тебя до того, что ты взорвешься и надерзишь, а тогда бьет тебя по лицу и мчится жаловаться хозяину. А при порках стоит рядом и подначивает его. Так ему, так ему. А каждый раз, когда я улучал момент и убегал, чтобы найти тех свободных людей у Великой реки, они шли за мной по следу, ловили, и все начиналось сначала. Пока терпение у меня не лопнуло. В тот день мы до самого вечера жали пшеницу под палящим солнцем, все тело зудело, исколотое мякиной. Я мылся внизу у источника, как вдруг появляется хозяйка и приказывает приготовить корм для скота. То была не моя работа, но человек, который обычно этим занимался, вроде бы сделал что-то не так. «Я устал», — говорю. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — закричала она и ударила меня по лицу. И тут на меня словно помрачение нашло. Я схватил ее за руку, а она принялась визжать, будто поросенок. Я-то просто хотел, чтобы она заткнулась. Но пока она боролась со мной, вырываясь и визжа, платье на ней вдруг треснуло сверху донизу. Тут она просто остолбенела. Перестала вопить и с разинутым ртом уставилась на меня, придерживая разодранное платье. «Отпусти меня. Пожалуйста, отпусти. Я никому не скажу, обещаю. Только не трогай меня». Она уже не была моей хозяйкой. Мне было мерзко глядеть на эту тварь, униженно и грязно умоляющую меня не трогать ее. Я в ярости оттолкнул ее. Она упала. И даже не пыталась больше подняться и убежать. Просто рыдала, пускала сопли и просила отпустить. Не знаю, что накатило на меня. Я стал бешено срывать с нее одежду, пока на ней не осталось совсем ничего — она лежала на земле, похожая на общипанного цыпленка, пища, причитая и дергая тощими ногами. «Делай со мной что хочешь, — скулила она. — Все, что угодно. Только не убивай. Я дам тебе все, чего попросишь».
— Ты что, разложил ее?
Резкое громыханье цепей.
— Нет, конечно. Я не раскладываю цыплят.
— Но ты же сказал…
— Я ударил ее ногой, вот и все. Поглядел на нее, лежавшую точно дохлый цыпленок, ударил ногой и ушел.
— И все?
Я снова слышу из темноты его сердитый хохот — грохочущий львиный рык.
— Все? Неужто ты не понимаешь, что это и есть самое худшее, что можно сделать в этом мире? Честь белой женщины — разве что-то сравнится с этим?
— А что теперь с тобой будет?
— Здесь они со мной разобрались. Теперь, сказали они, меня отправят в Кейп. Утром прибудут лошади, и меня увезут.
— И что потом?
— Если повезет, умру в дороге. Или же, если хоть чуть повезет, умру на виселице.
— А если совсем не повезет?
— Тогда меня ждет остров.
— Какой остров?
— Роббенэйланд. Живешь с кандалами на ногах. И разбиваешь камни, пока не помрешь.
— Но это все-таки лучше, чем виселица. Тебе сохранят жизнь.
— Какая же это жизнь? Это цепи. И все время пялишься на горы за морем. Неужели ты не понимаешь? Вроде того, как было с той рабыней, до самой смерти прикованной к скале. Ты привязан к этому острову, навсегда закован в цепи, а своим внутренним взором по-прежнему видишь тех людей с Великой реки. Свободных людей с их собственными землями и скотом. Разве такое не хуже смерти?
— Но ты сам говорил, что хозяева сожгли хижины и вытоптали поля. Так к чему им было убегать?
— Неважно. Зато они свободны.
Всю ночь его голос звучит из темноты. Порой он ненадолго замолкает, и тогда я впадаю в дремоту, но, когда просыпаюсь, слышу, что он снова говорит.
— Тебе надо немного поспать, — советую я.
— Может, сегодня я в последний раз говорю с живым человеком, — отвечает он. — Ты слушаешь меня? На том острове говорить запрещают. А пока я еще могу разговаривать.
— Я не знаю, что тебе сказать.
— Ничего и не надо. Просто слушай. Только не засыпай. Говорить буду я.
Потом он начинает бредить. Уже невозможно уследить за его мыслями. То что-то о детстве, то о какой-то женщине, а потом о другой, то о хозяине и хозяйке, то о людях за Великой рекой — все вперемешку. Затем какие-то долгие запутанные указания. Скажи это Сине. Не забудь про Томаса. А если Катрина спросит тебя…
— А кто эта Катрина?
Он вроде бы и не слышит меня.
— Откуда ты родом? С какой фермы? Куда послать весть о тебе?
— Не разговаривай, — обрывает он. — Просто слушай.
Речь его становится все более и более путаной, стоны звучат все глубже и тяжелее. Лязг цепей переходит в нескончаемое дребезжанье, и я понимаю, что его знобит от холода. Но как только я пытаюсь вставить хоть слово, он обрывает меня и говорит сам, снова и снова. Время от времени я приподнимаюсь на носки и выглядываю наружу через зарешеченное окно. Виден крошечный ломтик неба. Звезда. Как в те ночи, когда старый баас навещал Маму Розу, а мне приходилось спать под открытым небом. Только сейчас я в тесной камере, и воздух тут зловонный. А человек этот говорит и говорит. И не замечает, когда я проваливаюсь в сон и дурные видения одолевают меня. Лев нападает на меня, а мне не шевельнуться, потому что я прикован цепями к скале. Женщина предлагает мне воду. «Я беспокоюсь о тебе», — говорит она. Но я-то знаю, что все это зря — стервятники уже кружат надо мной. И люди, такие, как я, только они — свободные. Вдруг снова рычит лев, и я просыпаюсь под низкий рокот голоса мужчины в Цепях. Голос все звучит, прерываясь лишь странными судорожными рыданиями, до самого рассвета, когда за окном начинают щебетать ласточки, вылетающие из гнезда и возвращающиеся обратно: тогда наконец и мой незнакомец, вздыхая и что-то бормоча, погружается в забытье.
Яркий солнечный свет уже льет в окно, когда они приходят за мной — приехал Николас. Вместе с ним мы входим в уже знакомую мне большую комнату с высоким потолком, но ланддроста сейчас в ней нет, один лишь его помощник.
— Какого наказания вы хотели бы для него? — спрашивает этот человек у Николаса.
— Думаю, что хорошая порка ему не повредит.
Во внутреннем дворе высокий столб, к нему меня привязывают за руки. Столб и земля вокруг него будто в ржавчине. Над головой кружат ласточки, их не пугает даже звук ударов плети.
— Пойдешь обратно со своим хозяином? Будешь делать то, что он прикажет? — спрашивает меня после порки этот человек. — А не то велю заковать тебя в кандалы.
— Я стерплю все, чего заслужил, и от вас, и от моего хозяина.
— Ну хорошо. Можешь идти. Но если это повторится, так легко ты не отделаешься.
— Спасибо, баас.
Когда мы выходим, он отзывает Николаса обратно; стоя за дверью, я слышу их разговор.
— Мистер Ван дер Мерве, — говорит этот человек. — Я исполнил вашу просьбу. Но в будущем советую вам быть поосторожнее, когда наказываете рабов. Ремень, плетка или трость — это разрешено, но порка бичом может вызвать неприятности. Если об этом станет известно начальству, вы рискуете лишиться раба. Судебные власти в Кейптауне теперь очень строго следят за соблюдением закона о наказаниях.
Николас привел с собой для меня лошадь, и мы уезжаем из Тульбаха. Все тело избито. От боли временами даже кружится голова. Но я почти не замечаю этого: думаю о мужчине с львиным голосом, гадаю, повезет ли ему, где он теперь, может, уже на пути в Кейптаун. Я думаю и о Великой реке, которая, должно быть, очень далеко отсюда.
Человек в кандалах не выходит у меня из головы, даже ночью, когда мы укрываемся в горах во время тумана. Николас пытается заговорить со мной, что-то бормочет и бормочет без конца, совсем как тот мужчина в цепях, или погружается в сон, но я не засыпаю. И не из-за боли, а потому что думаю о своем незнакомце. Вот я возвращаюсь в Хауд-ден-Бек, избитый куда больше, чем когда отправился жаловаться в Тульбах. И все же это меня почти не печалит: почему-то мне кажется, что встреча с тем человеком в тюрьме стоит любой боли. Но не спрашивайте — почему.
Голиаф
Ну и зачем было идти за тридевять земель, в Ворчестер, жаловаться? Это Абель говорил, мол, надо пойти. «Вот спроси-ка Галанта, — говорил он, — мы с ним не раз толковали об этом. Если закон велит, баас должен слушаться. А если закон велит не работать в воскресенье, а баас наоборот, то нужно рассказать про это господину из суда. А позволять баасу поступать как вздумается — это все равно что самому подставлять свой зад, чтобы он пнул тебя».
Вот потому-то я все-таки пошел жаловаться. Свое дело я вроде бы выиграл, но я-то понимал, что все равно проиграю. Уже в тот день в Ворчестере, когда ланддрост приказал мне отправляться домой, я понял, что проиграю. Что толку, что он обещал прислать комиссара проверить, все ли в порядке. Пока я приду, пока он приедет… А дни, и недели, и месяцы там будем только мы — баас да я: на кой ляд мне тогда этот комиссар?
А когда комиссар приехал, тучный, одышливый человек, никому не смотревший в глаза, я понял, что от жалобы мне только вред. «Хорошо ли с вами обращается хозяин?» — спросил он. А что ответишь, когда баас Баренд стоит да слушает? Он уже растолковал мне, как нужно говорить. Комиссар спешил, я видел, что ему нет до меня никакого дела.
— Давай выкладывай, — сказал он. — Сам понимаешь, времени у меня в обрез.
— Баас обращается с нами хорошо, — ответил я.
Зачем он только корчил из себя сильного и строгого? Я видел, как ему хочется верить в побасенку, которую баас приказал наплести ему: будто меня сбросила лошадь. Ведь возьми он вдруг и не поверь, ему самому пришлось бы туго. Я понимал, что это ему ни к чему. Его послали сюда, чтобы проверить, но если бы ему в самом деле пришлось выбирать — он-то такой же хозяин, вроде наших, а хозяева всегда стоят друг за дружку. Мы по одну сторону. Они по другую. И так будет всегда.
— Больше никогда не пойду жаловаться, — сказал я Абелю, когда комиссар уехал. — Моя жизнь в руках бааса, и я не стану противиться его воле.
— И позволишь делать с собой все, что ему вздумается?
— У него есть право делать все, что ему вздумается. А мое право — терпеть, что бы он ни вздумал сделать, и никакого другого права у меня нет.
— Я подкараулю его с лопатой, когда он будет возвращаться домой, — сказал Абель, задыхаясь от ярости. — А там поглядим.
Я хотел остановить его, но у меня еще не было сил после порки, которую мне задали неделю назад. Да и Абель, я знал, никому не позволит соваться в его дела. И по правде говоря, во мне еще тлела последняя отчаянная надежда, я тогда еще верил, что, какое бы дикое дело ни замыслил Абель, оно у него выгорит. Но вот хозяин вернулся с охоты и приказал принять лошадь, и я увидел, как Абель покорно подчинился ему. И я подумал тогда: если уж Абель боится, то мне и вовсе надеяться не на что.
С того дня я без жалоб делал все, что мне приказывали. То был единственный способ выжить. Если ты не живой, то, значит, мертвый. О жизни, какая она ни есть, я хоть что-то знаю, а вот о смерти мне не ведомо ничего.
Николас
Что за зловещая причуда судьбы — устроить все так, чтобы мое выживание зависело от него?
Мы задержались в Тульбахе — мне хотелось побеседовать с торговцами и курьерами из Кейпа и фермерами, которые понаехали в город из отдаленных районов, — и уже близился вечер, когда мы погнали лошадей вверх по склону Витценберха, все дальше удаляясь от беленых домов с черными, крытыми тростником крышами и выбираясь на фургонную дорогу. Как я ненавидел эти каменистые дороги, по которым ездил то туда, то сюда, но всегда возвращался домой — не по собственной воле, а подчиняясь отцу, которому не было никакого дела ни до моих желаний, ни до моих возражений. Не успели мы проехать и полпути по горам — дойдя как раз до того места, где надо спешиться и вести лошадей на поводу по крутой дороге, — как начал опускаться туман, один из тех тихих, вкрадчивых горных туманов, которые сгущаются так быстро, что заволакивают все вокруг прежде, чем ты успеешь заметить это. Видимость уменьшилась до трех ярдов, потом до двух, потом до фута. Временами в неожиданном просвете ненадолго открывался головокружительный вид на склон внизу, на пропасть, на переплетение веток вереска и эрики, но затем все снова застилала слепящая белизна.
— Пожалуй, нам лучше вернуться в город, пока не поздно, — предложил я. — Переночуем там, а утром отправимся домой.
— Боишься? — огрызнулся он.
— Нет, конечно. Но скоро станет совсем темно.
— Ну и что?
Я посмотрел на него, но в его упрямом, ожесточенном взгляде был только вызов. Мы продолжали подниматься в горы. Вскоре лошади забеспокоились и начали громко фыркать. Я остановился.
— Галант, мы лезем к черту на рога. Туман не редеет.
Он пожал плечами.
— Давай повернем назад, — сказал я и потянул свою лошадь за поводья.
— Ну, если ты приказываешь, — ответил он. — Ты хозяин.
В его голосе слышалось явное пренебрежение, вызвавшее во мне новую вспышку ярости. После всего, что произошло, в нем не было и намека на покорность: избитый и израненный, он держался гордо, даже свои лохмотья он носил с вызовом, а из-под них, словно наглый упрек мне, виднелись синяки и кровавые шрамы. Он ничего больше не сказал, но я уже не мог повернуть назад, не признав тем самым своего поражения. Ярость утихла. Ее сменила усталость. Я все еще надеялся — на что? На что угодно, я был согласен на все, лишь бы не эта взаимная вражда. Неужели невозможно просто поддерживать отношения, не испытывая постоянной потребности помериться силами? Но если он не желает уступать, то и я не стану. Спотыкаясь, мы слепо брели сквозь влажный туман, таща за собой лошадей, копыта которых сбрасывали камни, катившиеся вниз по склону; резкий грохот их падения мгновенно приглушался мягкой, коварной белизной, которая окружала нас, прикрывая своей завесой массивные хребты гор, меняя их очертания, сводя на нет твою способность интуитивно угадывать дорогу.
— Куда ты идешь? — вдруг спросил он.
— Домой по фургонной дороге, куда же еще? — сказал я. — Сам не видишь?
— Ах вот как… — На лице у него мелькнула неясная улыбка, взгляд был угрюмый и насмешливый.
Не обращая на него внимания, я продолжал идти, упрямо уверяя себя, что поднимаюсь по проторенной дороге. Но его молчание вселяло неуверенность, убежденность в собственной правоте слабела. Я то и дело останавливался, хотя и понимал, что бессмысленно отыскивать какие-либо приметы в этом стирающем все различия тумане. Пригнувшись к земле, чтобы лучше видеть дорогу и чтобы всем весом удерживать сопротивляющуюся лошадь, я шел — и вел его за собой, — утешаясь мыслью о том, что мы по крайней мере бредем вверх, а не вниз. Из тумана временами возникали неожиданные силуэты предметов, плывшие нам навстречу, словно рыбы в мутной воде: искривленное дерево, источенная ветром скала, мокрый зеленый куст. Но не успеешь разглядеть их, как очертания уже расплываются у тебя на глазах — в кляксу, пятно — и снова исчезают. И лишь ощущение животного единства с двумя лошадьми и с Галантом подбадривало меня.
— Интересно, сумел ли он убежать? — вдруг сказал он. — В таком тумане им будет нелегко отыскать его.
— Кого?
Он удивленно поглядел на меня, словно мой вопрос застал его врасплох. Должно быть, он говорил сам с собой.
— Человека в цепях, — ответил он.
— Я не знаю, о ком ты говоришь.
— Да, ты этого не знаешь.
Он замолчал, ничего больше не объяснив, а я снова побрел вперед, побуждаемый стремлением двигаться, словно в этом заключалась наша единственная надежда.
— Здесь нам не подняться, — сказал он у меня за спиной.
— Я знаю дорогу. Следуй за мной.
Дорога, едва различимая в тумане, вела вправо. Ярдов через тридцать или сорок, если память мне не изменяет, она резко повернет влево перед новым крутым подъемом. Не дожидаясь Галанта, я нырнул в туман, который начал быстро темнеть: солнце, должно быть, уже садилось. Но если я не ошибаюсь, до последнего хребта уже недалеко. А оттуда, даже если туман и не осядет, найти дорогу будет совсем нетрудно. И скоро мы доберемся до Эландсфонтейна, где остановимся и попьем чаю с Барендом и Эстер — да, конечно же, и Эстер, — а затем поднимемся вверх по тесной долине, пролегающей между горами Дейвелсберх и Скурве, обогнем грозные вершины Ваалбоксклофберха и спустимся вниз к пологим равнинам Хауд-ден-Бека.
Он схватил меня за плечи столь внезапно, что я испуганно вскрикнул.
— Что ты, черт возьми, делаешь? — заорал я, хватаясь за бич.
— Посмотри, — сказал он.
Я посмотрел туда, куда он указывал, но не разглядел ничего, кроме неясных очертаний темных скал, смутно вырисовывавшихся в нескольких ярдах от нас. И вдруг на мгновенье туман закружило и собрало в клочья порывом ветра, он поредел, и я увидел, что земля обрывается у меня прямо под ногами: в шаге или двух от нас зияла пропасть глубиной в сто, а может, и тысячу футов. В следующий миг туман снова сгустился.
Галант держал меня за руку, чтобы унять мою дрожь. Я долго стоял, не в силах двинуться назад по тропинке вдоль скалистого уступа, который по ошибке принял за фургонную дорогу. Стараясь не глядеть на Галанта, я стоял, бессмысленно уставясь в туман и уже не надеясь увидеть что-то знакомое. И еще долго не мог успокоиться и сказать хоть слово.
— Ну, и куда мы теперь двинемся? — наконец спросил я.
— Можно укрыться под скалами неподалеку отсюда.
— Откуда ты знаешь?
— То место совсем недалеко от фургонной дороги. Влево от нее. Я не раз прятался там от дождя.
— О господи, да что же… — Я глубоко вдохнул воздух. — Значит, ты все это время знал, куда мы идем? И позволил мне…
— Я пытался остановить тебя. Но ты не стал слушать.
— Глупая обезьяна! — зарычал я на него. Вовсе не это мне хотелось сказать, но я все еще был не в себе после пережитого страха.
Казалось, нам не найти никакого укрытия среди этих высоких, громоздящихся друг на друга скал, упавших с гор в незапамятные времена. Но Галант знал дорогу. Он быстро и уверенно двигался вперед, скользя между камней, словно ящерица, и вскоре привел меня к небольшой пещере: песчаное дно в ней было сухим. Мы привязали лошадей снаружи, не обращая внимания на их тихое недовольное ржание, и вошли внутрь. Он попросил меня разжечь огонь — там лежал высохший папоротник и хворост, сырой от тумана, но еще годный для костра, — а сам, не говоря ни слова, вышел и вскоре вернулся с охапкой веток вереска, протеи и бучу, от которых исходил пряный, резкий, бьющий в нос запах. Он разложил их на две кучки и приготовил лежанки на ночь. Нам двоим едва хватало места у огня, но, откинувшись назад и прислонившись спиной к неровным скалам, можно было устроиться на ночь. От костра шло больше дыма, чем тепла, глаза слезились, и время от времени мы выползали наружу, якобы для того, чтобы проверить лошадей, но на самом деле — чтобы глотнуть немного свежего воздуха. Туман упорствовал, звезд не было видно.
То были мгновения и часы обезоруживающей близости — в той тесной пещере, где мы сидели, прижавшись плечами друг к другу и поджав ноги, чтобы удержать тепло. Теперь, после месяцев и лет, прожитых порознь, в преднамеренном удалении друг от друга, мы уже не могли делать вид, будто мы совершенно чужие. Долгое время мы сидели напряженно, словно не желая примириться с тем, что наши тела соприкасаются, но, когда на протяжении той долгой ночи один из нас поддавался сну или усталости и оседал всем телом на другого, напряжение слабело. Медленно погружаясь в дремоту, я еще чувствовал, как он борется с собой в жаркой, дымной тьме, но потом и его тело обмякло.
— Ты спас мне жизнь, — сказал я под защитой темноты.
— Я просто остановил тебя. Что тут особенного?
— А помнишь, как мы рыли нору в стене возле запруды и нас завалило песком?
— Давно все это было.
— Славно мы тогда проводили время.
Он ничего не ответил. Его отчуждение сводило меня с ума, но я все еще пытался нащупать слабое место в его обороне, пытался добиться от него хоть какого-то ответа, хоть какого-то признака раскаяния или сожаления, признания, что прошлое не ушло безвозвратно, что возвращение и, быть может, искупление еще возможны. Конечно, это было глупо, и в другое время я бы и сам признал, что это глупо, но сейчас, в этой тесной пещере, где мы, казалось, были так близки друг другу, я чувствовал потребность выйти за пределы очевидного. Он отрекался от нашего единства, и если бы не моя усталость, то я, вероятно, прекратил бы попытки к сближению, а то и вышел бы из себя. Но я ощущал в себе какую-то странную настойчивость, порожденную усталостью. В том непривычном, болезненном состоянии зависимости от него я вдруг понял, в чем именно был корень моих вспышек ярости: в стремлении добиться ответа, расшевелить его, вывести из состояния безучастности, в котором он оставался для меня недоступным — гладкая, неподатливая поверхность камня, которую можно бесконечно изучать, так и не находя в ней ни единой трещины. Даже сами раны я наносил ему, как бы пытаясь проникнуть внутрь, пробиться через непроницаемую оболочку: кожа и вправду была порвана, но оставались, должно быть, перегородки в разуме, отделявшие его от меня. Конечно, это было бессмысленно и ненужно, но меня угнетало сознание моей вины. Все было бесполезно. И его терпеливое молчание лишний раз подтверждало, сколь я был неправ. Наша невинность утеряна безвозвратно, так к чему же пытаться доказать обратное? Между нами лежала смерть ребенка, и мое все возрастающее, грызущее чувство вины, и еще, вероятно, тело черной женщины. Но нас разделяло не только это. То были лишь внешние проявления Некоего куда более коварного зла, о котором я мог лишь догадываться и к истокам которого брел наугад — на ощупь. В ту ночь мне казалось, что я сумею добраться до понимания этого зла. Но что толку пытаться, если Галант отказывался помочь? После нескольких напрасных попыток расшевелить Галанта я оставил его наедине с его мрачными мыслями и погрузился в собственные размышления.
Он, конечно, страдал от боли и винил во всем меня. Но сама боль была лишь следствием того главного зла, которое я мог почувствовать, но не объяснить. Мы уже не те прежние беззаботные мальчишки, теперь мы — хозяин и раб, — и разве можно винить в этом друг друга? Ведь этого ни избежать, ни изменить, это необходимое условие нашего совместного выживания.
Должно быть, я на мгновение заснул. Помню путаные обрывки сна, потом восстановилась вся картина целиком: мы снова были мальчишками, играли возле запруды, рыли нору в песчаной дамбе, мягкой и влажной после дождя, заползали все глубже, переговариваясь и хихикая, и вдруг все рухнуло. Только во сне не песок обвалился, а прорвало плотину, и могучий темный поток хлынул и поглотил нас.
— Эй! — послышался сквозь толщу воды чей-то голос. Это был Галант, трясший меня за плечо.
— В чем дело? — пробормотал я.
— Ты кричал. Я решил, что тебе что-то приснилось.
— Да, приснилось. Мне снилось, как прорвало плотину. А мы с тобой были в норе.
— Почему ты никак не можешь забыть этого?
— Сам не пойму, — ответил я и неожиданно для себя добавил: — Знаешь, когда я женился, отец отдал мне тебя потому, что я попросил его об этом.
— Зачем?
— Мне казалось, что у нас хорошо пойдут дела, если мы будем вместе. — Нет, не то хотел я сказать ему. Я попытался точнее выразить свою мысль: — Я чувствовал… ну ладно, я понимал, что мне без тебя не справиться. Я бы не знал, с чего и как начать. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Ты мне уже говорил это. Но при чем тут я? Ты учился вести хозяйство, еще когда мы были совеем маленькими.
— Да, конечно. Но тогда рядом всегда был папа. Он все решал. А потом я женился и вдруг оказался совсем один. И все ожидали, что я сразу же стану настоящим мужчиной и настоящим фермером. У меня была жена, была своя ферма. А я… а мне хотелось лишь одного — убежать отсюда прочь. Но я понимал, что тогда я уже никогда не посмею взглянуть папе в глаза. Он и так всегда глядел на меня свысока. Для него существовал один только Баренд. Я хотел наконец добиться успеха. Я просто должен был добиться, другого выхода у меня не было. Но я не знал, с чего начать. И единственное, что мне пришло в голову, это попросить папу отдать тебя мне, чтобы ты мне помог.
— У тебя все идет как надо, — сказал он и, чуть помолчав, добавил с ноткой горечи: — Ты хороший хозяин.
— Но я говорил совсем не о том.
Он не ответил. А я никак не мог остановиться. В своем беззащитном полусонном состоянии, в этой темной пещере в самом сердце гор, при свете угольков, тлевших так тускло, что Галант лишь тенью вырисовывался на фоне неясного красноватого мерцания, я ощущал неодолимую потребность выговориться.
— Знаешь, я никогда не хотел быть фермером, — продолжал я. — Баренд — тот просто дождаться не мог, когда наконец станет сам себе хозяином и получит в свои руки ферму. А для меня это хуже тюрьмы.
— А кем бы ты хотел стать?
— Самое ужасное, что я не знаю. У меня никогда не было возможности выяснить это. Но должно же быть хоть что-то в этом огромном мире, что мне хотелось бы делать. И тогда я был бы свободен. А сейчас я прикован к своей ферме.
— Почему же ты не уехал отсюда?
— Я не решался подвести папу. Я боялся его. А потом… потом я женился. Теперь у меня семья, на мне лежит ответственность за нее. Не могу же я просто взять и уехать. Временами я пытаюсь внушить себе, что все хорошо, что я вполне свободен. Но даже сама земля держит меня в плену, я обязан жить, подчиняясь смене времен года. Все мои действия зависят от дождя или засухи, от полей и от пастбищ. Порой я просыпаюсь ночью с тем же ощущением, как в тот день, когда нас завалило песком, — мне нечем дышать. Я готов разрыдаться или начать выкрикивать ругательства, чтобы разбудить всех. Но я не решаюсь даже на это, я просто встаю и выхожу из дома, спускаюсь к краалю и гляжу на коров и овец, на эту глупую скотину, тупо жующую свою жвачку, и тогда мне кажется, что я так же туп, как они, что я тоже заперт в свой крааль, что и меня по утрам выгоняют на пастбище, а по вечерам загоняют обратно. И тогда мне хочется, чтобы в крааль ворвался какой-нибудь чертов леопард или лев, прикончил меня и утащил отсюда прочь.
— Ты глупец, — с легким презрением возразил он. — У тебя есть все, чего ты хочешь. Так к чему желать, чтобы тебя прикончил лев?
— О господи, постарайся же понять, — бессмысленно взмолился я. — Ты должен понять меня.
И тогда он вдруг спросил:
— А зачем?
Я надолго замолк. Его вопрос жег меня сильнее любого раскаленного угля. В самом деле, зачем? Откуда эта потребность унижать себя, падать ниц перед собственным рабом, умолять его? Но никто другой в целом мире не сможет понять меня, в этом, должно быть, и было все дело. Мне больше не к кому было обратиться с такой мольбой. То была мучительная болезнь, от которой у мамы Розы не нашлось бы никаких снадобий. Эстер? Но она лишь усилила бы мои муки, еще больше разбередила бы мою потребность в близости. Не было никого, кроме Галанта. А Галант отказывал мне даже в слове утешения.
Я снова заснул. На этот раз мне снилась Эстер. Ее темные серьезные глаза, широко посаженные на узком лице, изящная линия скул и упрямый подбородок, маленький прямой нос и широкий рот, беззащитная шея; я видел знойную грацию ее тела, страстную напряженность ее членов, восхитительную непринужденность, которой она так отличалась от нас. Проснувшись со сдавленным криком, я вспомнил Эстер и почувствовал ноющую боль тоски по ней.
— Ты снова заснул, — сказал Галант с легким осуждением.
— Мне снилась Эстер.
— Эстер?
Но мне не хотелось ничего рассказывать. Я желал сохранить этот сон лишь для себя одного. Я крепко обхватил руками колени, словно пытаясь удержать ту утонченную ноющую боль, которая, пульсируя, слабела.
— Однажды, когда мы были маленькими, — сказал он, — мы с ней попали в грозу, а потом мама Роза завернула нас в кароссу и отогревала возле очага.
Я удивленно уставился на него, возмущенный его словами. И в то же время почувствовал, как во мне рождается новое теплое чувство к нему — ведь сейчас мы как бы снова сблизились, вспоминая Эстер, хотя, разумеется, его воспоминания были не столь интимными, как мои. Даже если только об этом мы и можем вспоминать вместе, то и этого довольно, чтобы наше пребывание в этой темноте, в этих богом забытых горах, так далеко от дома, обрело некий смысл. Наше сопереживание несло в себе болезненное, головокружительное ощущение свободы, какого я прежде никогда не испытывал. Сейчас, в эти краткие темные мгновения, мы обрели способность чувствовать что-то сообща просто потому, что нам незачем было мериться силами друг с другом. И все же какая злая насмешка таилась в той краткой свободе. Ведь я сидел рядом с человеком, тело которого было изуродовано по моему же настоянию.
— А что тебе снилось? — снова спросил он.
— Уже не помню, — соврал я, хотя в душе еще переживал свое запретное воспоминание. — Сам знаешь, как это бывает. А тебе что-нибудь снится?
Он пожал плечами.
— А что тебе снится?
Он не ответил. После долгого молчания — снаружи поднялся ветер и неистово выл среди скал, лошади то и дело ржали и били копытами — он вдруг сказал:
— Расскажи мне о Великой реке.
— Я же ничего о ней не знаю. Я там никогда не был.
— Тогда про Кейп.
— А что тебе рассказать про Кейп?
— Все, что хочешь.
— Жаль, что ты не поехал туда вместе с нами.
— Я же просил тебя взять меня с собой. Но ты отказался.
— Нужно было, чтобы ты оставался дома и присматривал за фермой. Кроме тебя, я никому не могу доверить хозяйство.
— Когда мы были маленькие, ты обещал, что возьмешь меня с собой.
— В следующий раз ты обязательно поедешь, — сказал я и подумал: Если бы я взял тебя с собой, всего этого, может быть, и не случилось бы. Не был ли твой поступок просто местью мне?
— Обещаешь? — спросил он.
— Обещаю.
И снова сказал:
— Расскажи про Кейп.
Как много лет назад, после моей первой поездки туда с папой и Барендом, я рассказывал ему обо всем, что мог припомнить, обо всем, что, как мне казалось, будет ему интересно услышать. Суета на площадях, улицы, мощенные булыжником, военные парады, груженные продуктами фургоны, прибывающие из дальних районов, шумные спортивные состязания на Грин Пойнт, концерты под открытым небом, прихожане, толпящиеся по воскресеньям в Гроте Керк возле кафедры проповедника, украшенной вырезанными из темного мерцающего дерева львами; мы даже поддались моде и вскарабкались на Столовую гору, склоны которой были усыпаны подошвами и каблуками, отвалившимися с непрочной обуви наших предшественников, я рассказывал ему об изумительном виде оттуда сверху — голубизна и зелень двух сливающихся океанов, узоры белых бурунов, меняющиеся лениво, почти неприметно для глаза, — рассказывал о флотилии кораблей, приближающейся к берегу подобно стае морских птиц с распростертыми крыльями и трепещущим на ветру белым опереньем, о толпах людей в гавани, когда причаливают гребные шлюпки, о том, как моряков, солдат и пассажиров окружают горожане, а рабы, толкаясь, спешат предложить им на продажу товары с лотков; рассказывал об изменившихся нарядах — тусклые цвета прежних лет уступили место более ярким сиреневым, голубым, темно-красным, зеленым и розовым оттенкам, талии женщин стали тоньше, покрой платьев изменился, широкие юбки ниспадают более свободными и грациозными складками, мужчины носят фраки и цилиндры. Он то и дело нетерпеливо прерывал меня, стремясь услышать все сразу, забрасывал вопросами о пушке на Сигнальном холме, о приходящих и уходящих кораблях, об одежде рабов, о сборищах у городского фонтана и возле мельницы, о запрещенных петушиных боях в карьере возле Львиной горы, о музыке и парках, о магазинах и лавках, которые держат рабы, о базарах, о Горе, о море. Меня удивили его познания, но, когда я сказал ему об этом, он лишь уклончиво пробормотал, что знает это из моих прежних рассказов и из рассказов Онтонга и других рабов, а затем обрушил на меня новый шквал вопросов. Я рассказывал все, что знал, а чего не знал, то просто придумывал на ходу. Какое это имело значение? Ему были важны не правда или выдумка, а образ этого чужеземного далекого города, самые яркие Краски и самые невероятные приключения. В той странной ночи все казалось правдоподобным, и я продолжал рассказывать, все более и более проникаясь духом его же представлений, насыщая его фантазиями, которых он столь жаждал. Некоторые мои выдумки были так забавны, что мы оба невольно начинали смеяться, а он все время понукал меня, будто разыгравшийся ребенок: еще, еще, еще. Время шло быстро, мы забывали о неудобствах и холоде — хворост уже сгорел, и последние угли едва тлели в костре, — а главное, ощущали все возрастающую близость, возникшую между нами в этой пещере, которая укрыла нас, отгородив от повседневной жизни и вновь возвратив на короткое время в детство. Но, должно быть, и в нашем нынешнем состоянии таилась боль, и сам разговор был вынужденным, ведь под зыбкой почвой воспоминаний, фантазий и выдумок — под этой почвой, по которой мы шли, бежал медленный темный поток, которого я старался не замечать, но который был тут и который всякий раз, когда мы замолкали, выплескивался наружу, подобно самой ночи. Мы продолжали говорить, притворяться, веселиться и сплетать в причудливый узор фантазии, но подземный поток был рядом, поднимался кверху, все ближе к поверхности, к тому месту, где он раньше или позже — это я хорошо понимал — прорвется и смоет наигранную веселость нашего притворства.
— А потом там случилось ужасное происшествие, которого мне не забыть до самой смерти, — сказал я и сразу же понял, что говорить этого не следовало, ведь это и был тот самый темный поток — я мгновенно распознал его, но было уже поздно. Я на секунду запнулся.
— А что там случилось? — спросил он.
— Мы поднимались от Гринмаркет Сквер вверх к Львиной горе. Мимо нас прошел раб, спускавшийся с горы, молодой малаец в красном тюрбане, который нес охапку хвороста и топор. Не помню точно, как все это началось, должно быть, его кто-то толкнул, кажется какой-то солдат, и хворост упал на землю. Ремень, стягивающий его, ослаб, и охапка развалилась. Кто-то засмеялся. Кто-то сказал что-то язвительное. Когда мы оглянулись, то увидели, как малаец в бешенстве замахнулся топором на солдата. Солдат попытался защититься от топора, но удар пришелся ему по плечу, почти отрубив руку. Люди в ужасе закричали. Раб продолжал размахивать топором во все стороны. Я видел белки его глаз, пока он слепо наносил удары, ревя, точно разъяренный бык. И вдруг кинулся на толпу, раскидав ее, как ведро гороха, опрокидывая на своем пути прилавки и лотки, ведра и бочонки и продолжая размахивать топором. «Амок! Амок!» — закричали вокруг. Молодая девушка пыталась убежать, но споткнулась. Дочь полковника, как мне потом сказали. На ней было светлое желтое платье. Удар обухом топора пришелся ей сбоку по голове. Брызнула кровь. А потом он зарубил мальчика-раба. Тот, должно быть, думал, что все это какая-то забавная игра. Он смотрел и смеялся.
Мне хотелось замолчать, но я не мог остановиться.
— А дальше? — спросил Галант.
— Потом появились солдаты. Они окружили его, но он не желал сдаваться. И все ревел, будто бык. После того как он зарубил ребенка, на площади, до отказа забитой людьми, воцарилась мертвая тишина. Сотни людей — и ни единого движения, ни единого звука. И кругом раскиданы товары — фрукты, овощи, яйца, кожи. И только бабочка порхала над букетом цветов. Было так тихо, что казалось, будто слышишь трепетанье ее крыльев. Все словно дыхание затаили. И только солдаты в алых мундирах очень медленно и осторожно приближались, взяв его в кольцо. И тут безумец снова ринулся в атаку. Пригнув голову и высоко подняв топор, он с ревом накинулся на солдата, попытавшегося схватить его. Топор обрушился солдату на голову. Какой это необычный звук! Череп раскололся пополам точно тыква. Странно все это выглядело: из-за тишины казалось, что все происходит очень медленно, каждое движение начиналось, завершалось, а потом начиналось другое. Все порознь. И бессмысленно. Но когда он ударил топором солдата, все пришло в движение. Солдаты открыли огонь. На площади было полно людей, и несколько человек задело пулями. Раб упал наземь, судорожно дергая руками, и покатился в пыли, корчась и извиваясь, как змея.
— Что они с ним сделали?
— Уволокли прочь. Мы ушли оттуда. Мне стало плохо. Не мог же я стоять и таращиться на это, как стервятник на падаль.
— А потом? — настаивал он. — Что было потом?
— Не знаю. Мы на следующее утро уехали. Думаю, его повесили. А может, сначала избили и отрезали уши. Я не знаю, как это теперь делается.
— А где они его повесили?
— Виселица установлена за городом, прямо под Львиной горой. Три высоких столба с тремя поперечными брусьями.
— И много людей ходит смотреть на это?
— Должно быть, много. По-моему, казни на виселице — одно из самых популярных зрелищ в Кейпе.
— А потом?
— Что «потом»?
— Потом, после того, как его повесили?
— Откуда я знаю? Думаю, что тело убийцы потом четвертуют, а голову насаживают на столб в тех краях, где он жил, чтобы другим было неповадно.
— И там она и остается все время?
— Потом, наверно, слетаются стервятники.
Он долго молчал. И вдруг сказал:
— Но зато он прикончил солдата.
— О чем это ты? — =-испуганно спросил я.
— Ты же сам сказал, что он убил солдата.
— Да, сказал.
— А другие, их он тоже убил?
— Не знаю. Ребенок, скорее всего, умер. — Я вздрогнул от накатившей на меня, как в тот день в городе, тошноты. — Можешь ты себе такое вообразить? Этот малаец, верно, был не в своем уме.
— Они же раскидали его хворост, — возразил он.
— О господи, да что такое вязанка хвороста?
Он не ответил, а мне расхотелось говорить. Я понимал, что совершил ошибку. Скрытый поток вырвался из-под такой, казалось бы, твердой почвы, и мы оба погрузились в него, молча борясь с его водами, чтобы не утонуть в их мраке.
И прочие воспоминания вдруг нахлынули на меня, все те, что я старательно отгонял от себя после злополучного визита в город. Ведь моя последняя поездка была отнюдь не такой приятной, как предыдущие, и вовсе не такой, какой я живописал ее себе и Галанту. Темный подземный поток ощущался постоянно. Прибывший в Кейптаун флот принес с собой не только яркое ощущение праздника, но и всевозможные слухи, тем более тревожные, что никто доподлинно не знал, какие из них соответствуют истине, а какие нет. Весь город гадал и судачил. Но по крайней мере одно было ясно — и намеки в газетах подтверждали это, — что филантропы в Англии, обеспокоенные потоками зловещих сообщений от миссионеров из Кейпа — кучки введенных в заблуждение идиотов из Лондонского миссионерского общества, — усилили нажим на правительство, требуя освободить наших рабов. И в те дни, я слышал, поговаривали о том, что закон, согласно которому готтентоты обязаны жить и работать в одном месте, будет вскоре отменен и они получат право (только представьте себе это!) уходить от хозяина, когда пожелают. Несколько человек отправились к губернатору, чтобы выяснить, так ли это. И какой ответ они получили? «Вопрос рассматривается». Ни малейшей попытки опровергнуть слухи, одно лишь стремление скрывать все как можно дольше — они знали, что мы все равно в их власти. Кое-кто говорил, правда, что и сам губернатор не вправе поступать так, как считает нужным, и должен ждать приказа из-за моря. Никто не знал наверняка, что произойдет и когда. В один прекрасный день может приплыть корабль из той далекой страны, в которой никто из нас не бывал и где, похоже, придумываются все на свете законы, — приплыть, чтобы подтвердить самые худшие наши предположения. А что станет тогда со всеми нами? Одно дело — тяготиться жизнью на ферме и мечтать о какой-то иной, и другое — оказаться вышвырнутым со своей земли по воле чужеземцев, в никуда и ни с чем. А именно это и случится, если они вдруг заявятся к нам, чтобы отобрать наших рабов. Как же нам справиться тогда с этой дикой страной? Она огромная, а нас так мало.
Но даже и столь печальная перспектива сама по себе еще не самое страшное. От чего я действительно приходил в ярость, так это от бессильного осознания той истины, что вся наша жизнь зависит от каприза или прихоти далекого врага, которого мы никогда не видели и которого нет возможности переубедить. Что бы мы ни решали и ни задумывали, не играло теперь никакой роли: в любой миг в нашу жизнь могут вмешаться незримые силы, глумливо посмеяться над нами и разрушить все наши замыслы.
Прежде я нередко спорил с Барендом и осуждал его за слепую ненависть к англичанам: я не мог привести подобное бунтарство в согласие с заповедью господней, требующей подчинения властям, ниспосланным свыше. Но во время последней поездки в Кейптаун я убедился, что Баренд, по сути дела, прав. Их вина не в том, что они англичане, а в том, что они иностранцы, чужаки в нашей стране, и, управляя ею издалека, отняли у нас власть над нашим благополучием и нашим будущим. Прежде, сколько я себя помню, мы всегда сами вели свои дела и принимали решения, все продумывая и взвешивая. Самым страшным было то, что нас лишили возможности распоряжаться своим будущим. Отними у человека будущее — и ты отнимешь у него достоинство. Одно немыслимо без другого. Кое-кто из горожан насмехался над нами: «Вы просто слишком обленились и не желаете работать», «Как вы можете жаловаться на опасность потерять свободу, если сама ваша свобода основана на рабстве?» или: «Единственное, чего вы хотите, — это властвовать над другими. И дело тут не в свободе, а только в стремлении властвовать». Они ничего не понимали в сути того достоинства, без которого твое существование оборачивается издевкой над самим собой. Им-то жилось спокойно и легко, да и что они могли знать о нашей жизни тут, далеко за горами, о горстке людей, которой предначертано укрощать эту дикую страну, дабы все остальные могли жить в ней, ничего не страшась. Разве мы сами решали, быть нам тут или не быть? Как бы мы могли выжить тут, если бы сам господь не пожелал этого? Даже я, бунтовавший против цепей, которыми был прикован к ферме, обязан смириться перед его волей. А разве это мыслимо, если ты не веришь в конечную цель, стоящую за каждодневным трудом в поте лица твоего? И разве могла существовать цель иная, чем укрощать и обживать эту дикую страну? Прошлое было для меня сплошным хаосом, настоящего я не понимал, и единственное, за что я цеплялся, было будущее, а оно залегало в самой почве этой угнетавшей меня страны. В этом была двусмысленность моего существования: подчинение земле означает подчинение господу. Только так все это и можно вынести. Но чтобы принять эту предначертанную мне судьбу, эту слабую веру в будущее, на моей ферме должно царить благоденствие, а для этого мне приходится прибегать к помощи тех, кого ниспослал мне в помощь господь. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу[19]. Зачем же господь в своей беспредельной мудрости ввел во грех Хама, если не для того, чтобы его хозяева могли благоденствовать в стране, дарованной им свыше? И сказал: Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих[20]. Откуда всем тем людям из Кейптауна было знать, что наша потребность в рабах не имела ничего общего с желанием угнетать других и властвовать над ними, а была вызвана лишь осознанием своей ответственности перед будущим?
Даже среди тех, с кем я беседовал в Тульбахе, находились слабаки, размякшие и готовые капитулировать перед правительственным курсом. Старый Карел Терон попыхивал трубкой в окружении девяти сыновей и провозглашал с величайшей убежденностью:
— Есть только один способ перехитрить этих ублюдков. Поступайте как я, продайте рабов, пока за них еще можно выручить хорошие деньги. Тогда правительство и пальцем вас не тронет. Только так и можно стать свободным.
— Но не у всех нас есть по девять сыновей, — напомнил я ему.
Он пристально поглядел на меня.
— В таком случае отправляйся к жене и принимайся за дело. Ты молодой мужик, черт тебя подери. Или с тобой что-то не так?
Словно его подучила Сесилия.
— А пока они подрастут, — сказал один из его сыновей, — попроси соседей помочь тебе. Для чего же еще существуют соседи?
— Хорошо вам говорить, — ответил я, — вы тут в Ваверене живете близко друг от друга. А как быть нам в Боккефельде и других местах?
— А о чем вы думали, когда строили там свои фермы?
— В те времена трудностей с рабами не было.
— Ну, наймите готтентотов.
— Скажете тоже, — вмешался фермер из Пикетберха. — Даже при нынешнем положении дел они умудряются удрать, когда им вздумается. А что начнется, когда по закону им не надо будет работать на одном месте? Разве вы ничего не слышали? В один прекрасный день у нас не останется ни единого надежного работника, а все, что мы сможем вырастить, растащат бродяги.
— Пока еще есть время, — ответил старый Карел. — Ведите хозяйство по-новому или перебирайтесь в другие места. Никто не заставляет вас оставаться в Боккефельде.
— И это, по-вашему, называется свободой? — спросил я. — Менять всю жизнь только ради того, чтобы подладиться к властям?
— Закон есть закон.
— Но такого закона еще нет.
— Так скоро будет, все идет к этому. Неужели не видите? Лучше сейчас все изменить, чем потом кусать себе локти.
— Ну а сами рабы? — задал я вопрос, который не раз задавал и Баренду. — Что станет с ними, если мы просто выгоним их с ферм? Деваться им некуда. Они умрут с голоду. Мы нужны им куда больше, чем они нам.
— Когда у вас не будет рабов, вам незачем станет и беспокоиться о них, — сказал старик, подзывая сыновей.
В Кейпе, перед возвращением домой, мой последний довод в спорах был неизменно таков:
— Пусть англичане попробуют дать рабам свободу. Сами увидят, что из этого получится. Если хорошо обращаться с рабами, они не уйдут от тебя, даже если по закону их освободят.
— Почему ты так в этом уверен? — резко возразил кузен Сесилии, управляющий на винодельческой ферме неподалеку от Ерсте Ривер.
— Я своих рабов хорошо знаю, — ответил я. — И уверен, что они мне преданы.
И вот, вернувшись домой, я вижу, что Галант — раб, которому я доверял больше других, — зарезал моих овец. Как тут не выйти из себя? Ведь речь шла не просто об овцах или обманутом доверии, речь шла о гораздо более важном — о моей и без того подорванной вере в будущее.
И вот теперь мы брошены вдвоем в тесную пещеру в горах — прямое следствие всего, что происходило до сих пор; меня обуревали воспоминания о бесконечных спорах, яростных перепалках, внезапных вспышках раздражения, неожиданной ярости, возникавшей между людьми, которые прежде были друзьями — в Кейптауне, в Тульбахе, везде, куда бы ты ни попал, — словно сам дьявол вселился в нас, чтобы довести до погибели даже прежде, чем нас погубят власти. Эти воспоминания камнем лежали у меня на душе, пока в тишине, воцарившейся вслед за моим рассказом об одержимом амоком малайце, я сидел рядом с Галантом.
Молчание становилось все более гнетущим, я чувствовал, что Галант снова весь напрягся. Или он просто не мог прислониться к стене из-за своей израненной спины? Я хотел было спросить его, так ли это, но решил, что мой вопрос неуместен, ведь я все равно ничем не мог помочь ему, по крайней мере сейчас. К тому же он заслужил наказание, разве не так? Лучше преподнести ему болезненный урок — болезненный не только для него, но и для меня, — чем позволить событиям окончательно выйти из-под контроля. Впереди у нас долгий путь, очень долгий, и нам предстоит пройти его вместе. И я страстно желал передать ему свою убежденность, сказать: Ради бога, Галант, ведь мы же с тобой понимаем друг друга. Мы нужны друг другу. Мы товарищи. Прошлое не имеет значения. Главное — это будущее. Мне не обойтись без тебя, черт тебя подери.
Но сказал я совсем другое.
— Галант, забудем обо всем, я хочу, чтобы ты по-прежнему оставался мантором.
— Решать — это твое дело.
— Я даю тебе еще одну возможность начать все сначала.
Он ничего не ответил. Должно быть, история с малайцем все еще занимала его мысли — как, впрочем, и мои. И все же следовало рассказать ее, ради него и ради меня самого. Ни он, ни я не могли больше прикрываться нашей былой невинностью. Ведь мы уже вкусили от запретного плода — где-то, когда-то на долгом пути, пройденном нами с того давнего дня, когда своды нашей норы обрушились на нас, до этой мрачной ночи в горной пещере.
Я не мог больше выносить его молчания и выбрался наружу. Ветер чуть не сбил меня с ног, от холодного сырого воздуха перехватило дыхание. Туман клубился по-прежнему. Над головой внезапно приоткрылась полоска темного неба с удивительно яркими точечками звезд и с месяцем, похожим на обрезок ногтя. Но затем все снова заволокло пеленой. С трудом удерживая равновесие, я встал, широко расставив ноги, и начал мочиться, обрызгивая штаны. Казалось, будто что-то тяжело наваливается на меня и сжимает со всех сторон. Теперь я понял, что гнетущее чувство, которое я ощущал, сидя в пещере, было вызвано не близостью Галанта и не теснотой, а мрачным осознанием того, что сам Боккефельд сжимается вокруг меня, что границы моего мира сужаются, уменьшая пространство отпущенной мне свободы. Сколь долго мы сможем справляться с собой и сдерживаться, сколь долго сможем примирять наши представления о справедливости с требованиями текущего дня? Выжить, но какой ценой? Малаец, повешенный и четвертованный на площади возле Львиной горы в Кейптауне. Галант в пещере под скалами, избитый, чтобы напомнить нам обоим о том, что я хозяин, а он — раб, о том, что в этой стране без этих уз, предписанных самим господом, никому не выжить. Все так запуталось, что уже трудно что-либо понять. Напрягшись под ветром, я слепо подставил лицо мокрому туману, испытывая пугающий восторг — словно мне нужно было претерпеть наказание, но не для того, чтобы очиститься, а для того, чтобы выжить. Опять это слово. И теперь мне уже никуда от него не деться.
Я так застыл от холода, что не сразу заметил, как ко мне подошел Галант и схватил меня за плечи.
— Что ты тут делаешь? — заорал он. — Опять ищешь смерти?
— Нет, — пробормотал я онемевшими губами. — Конечно, нет.
А может, он был прав? Со странной покорностью я позволил увести себя за руку обратно в наше укрытие, где уже погасли последние угли и где нас согревало лишь тепло наших дрожащих тел, прижавшихся друг к другу, как в детстве.
Трудно было представить, что мы сможем заснуть, но от изнеможения мы все же погрузились в оцепенение, от которого очнулись — сначала я, потом он, — лишь когда жесткий бесцветный свет проник в нашу пещеру. Мы с трудом заставили себя встать и выбраться наружу. Ветер утих. Туман то редел, то снова сгущался. Галанту приходилось хуже, чем мне, — его тело было изранено. Я избегал смотреть на него. Ни один из нас не произнес ни слова: переживания прошедшей ночи казались сейчас слишком далекими и слишком интимными, чтобы их можно было выразить словами. Притопывая ногами и согревая дыханием ладони, мы с трудом размяли затекшие тела, отвязали лошадей и двинулись в сторону дома — к мелкому моросящему дождю и резкому северо-западному ветру над зимним Боккефельдом. В Эландсфонтейне я остановился, чтобы выпить чаю, а тем временем Галант с Абелем кормили лошадей. Баренд ушел в поле, но Эстер была дома — еще более отчужденная и молчаливая, чем прежде; она носила ребенка — своего второго сына.
Абель
«Поглядите-ка на этого оборванца!» Это баас Баренд первым так его обозвал. А потом и мы все стали так его называть. Но только за глаза и когда были уверены, что он далеко и не услышит, ведь нрав у Галанта крутой. Только Голиаф однажды рискнул сказать ему в лицо, конечно в шутку: «Эй, оборванец, послушай-ка!» — но то было в последний раз, и нам пришлось тащить Голиафа к воде, чтобы привести в чувство.
Все дело было в жакете, в котором он так щеголял поначалу. Думали, что он выкинет его, когда жакет превратился в жалкие лохмотья, но не тут-то было — он упрямо продолжал носить его. И вовсе не стыдливо, а гордо, словно бы желал, чтобы весь мир глядел на него. «Это жакет моего ребенка, — объяснил он мне, ведь мы с ним близкие друзья, и он обычно говорил мне даже то, что не рассказывал никому другому. — Я получил его за Давида. И никогда не расстанусь с ним». Очень упрям бывал этот Галант, когда что-то западало ему в душу.
В то холодное утро с моросящим дождем и первым зимним туманом, когда они вернулись из Тульбаха, мы с Клаасом пилили дрова на заднем дворе. Клаас вечно заставлял меня пилить дрова, если хотел поизмываться надо мной. Знал, что я не выношу этого занятия. Но что поделаешь, ведь его сделали мантором, и теперь он только и искал случая, чтобы нажаловаться на меня баасу. С того самого времени, когда баас Баренд купил меня на аукционе в Вагендрифте вместе с кроватью, двумя баранами и ящиком фаянсовой посуды, мантором был я. И я оставался им до той поры, пока у Галанта не начались неприятности с баасом Николасом после возвращения того из Кейпа. В его отсутствие мы устраивали празднества, самые шумные, какие только бывали в здешних краях, уж можете мне поверить, ведь я вырос тут, на ферме Вагендрифт. Ферма эта лежит на изгибе узкой долины, идущей кверху от Эландсфонтейна, там, где горы сворачивают вправо, к Хауд-ден-Беку. Старый баас Пит всегда хотел выторговать ее себе, потому что она врезается в его угодья, но Франс дю Той держался за нее даже после того, как умер старик и хозяйка, рассорившись с сыном, продала все остальные земли. Так что я знаю всех в здешних местах. Я подружился с Галантом еще в детстве, когда мы вместе гоняли быков на зимние пастбища в Кару. Да и потом мы часто видались с ним, то тут, то там. Но за все эти годы нам никогда не выпадало времени вроде того, когда баас Николас уехал в Кейп, да еще вдобавок баас Баренд на целых две недели отправился на охоту. То было в ту пору, когда в Эландсфонтейне все суетятся, коптят колбасы, вялят и солят мясо на долгие зимние месяцы. Я всегда слыл на ферме охотником, но в тот раз мы рассорились с баасом из-за ружья — он заявил, будто я сломал ружье, и не взял меня с собой. И это, ясное дело, взбесило меня. Ну а те ночные праздники, тут, думаю, мы немного хватили лишку, что потом и расхлебывали. Не спорю, работали мы в отсутствие бааса не так, как надо, но дело было не в этом, а в том, что я дерзко ответил хозяйке. А все из-за ночной гулянки. Я и в самом деле хотел как лучше. Я собирался остаться дома, чтобы, когда баас Баренд вернется на следующее утро, я мог прямо поглядеть ему в глаза. Но ночью ко мне нагрянули гости. Галант и все остальные верхами, ища что-нибудь выпить. «У меня-то, друзья, ничего нет, — сказал я, — но я помогу вам раздобыть выпивку». И мы отправились на близлежащие фермы. А когда я утром вернулся домой, Клаас уже работал, и хозяйка спросила, где я пропадал. Голова у меня раскалывалась, глаза слипались, и ответ у меня, должно быть, вышел дерзкий, а Клаас, конечно же, донес об этом баасу, когда тот вернулся. «А когда станете говорить с Абелем, — сказал Клаас, — спросите у него, как он проводил все ночи, пока вас не было». Словно этот ублюдок сам не пьянствовал вместе с нами. Я как мог пытался оправдаться, но что толку, несделанная работа говорила сама за себя. Порка меня не особенно обидела, что заслужил, то и получил, нечто вполне привычное, вроде солнца или дождя в Боккефельде. Но о чем я в самом деле горевал, так это о том, что баас положил конец моему манторству, единственному, чем я по-настоящему гордился. А чтобы допечь нас как следует, еще назначил мантором Клааса, этого вонючего ублюдка.
А две недели спустя, когда заноза еще сидела у меня в сердце, баас Николас с Галантом подъехали, вынырнув из тумана, к Эландсфонтейну.
— Ну и вид у тебя, приятель! С чего это? — спросил я, хотя Онтонг уже рассказал о той знаменитой порке, когда приезжал к нам с копченым окороком для ной[21] Эстер.
— Ходил в Тульбах, — хмуро ответил Галант. — Пошел жаловаться, а получил только еще одну порку.
— Да, плохи твои дела, — сказал я. — Ты ведь всегда ходил у бааса в любимчиках.
— Погляди, что он сделал с моим жакетом.
— Стоит ли так горевать из-за жакета?
— Стоит, потому что это жакет моего сына. Я получил его за Давида. Никто не смеет рвать его.
— Пошли выпьем чаю, — сказал я, пытаясь успокоить его.
— Сам лакай свой чертов чай, — мрачно буркнул он.
— Сари нальет тебе чай.
— Мне все равно, кто будет его наливать.
— Ладно, пошли, дружище.
В жизни не так много вещей столь горьких, чтобы их нельзя было излечить сладкой женщиной и сладким чаем. Вот, к примеру, бушевый чай — в нем весь солнечный свет и вся дождевая влага гор, он вбирает свой вкус из земли и из горного тумана, а потом отдает его нам. Его высушивают в печи, чтобы он стал сладким, потом колотят и топчут, а взамен он одаряет тебя самой сладчайшей сладостью. Так же бывает и с женщиной.
Можно сказать, что я очутился в Эландсфонтейне из-за Сари. Я познакомился с ней в первый же день, когда она появилась в здешних местах, хотя в ту пору я еще жил в Вагендрифте. Так пчелы улавливают запах распустившихся цветов. В наших краях, где женщин мало, стоит только появиться новенькой, как мужчины тут же узнают об этом. В тебе словно что-то набухает: в воздухе ощущается свежий аромат. Когда Сари бывала со мной, она изумляла меня своей щедростью. В те прежние дни старый баас дю Той освобождал меня от работы в воскресенье, и я старался уже в субботу добраться до Эландсфонтейна засветло. И если погода стояла теплая, мы ускользали от остальных и проводили ночь в зарослях бушевого чая в горах. В такие ночи я не давал ей уснуть до рассвета, да и весь следующий день тоже. Временами я брал скрипку и играл для Сари. Ради нее я готов был заставить сами горы пуститься в пляс. А потом снова наваливался на нее и играл на ней как на скрипке, пока она не начинала стонать и вскрикивать от наслаждения — лучшая музыка на свете. И так все воскресенье до самого вечера, пока у меня почти не оставалось сил, хотя я и не мог насытиться вдоволь. Так это было у меня с Сари. А когда ночь заполняла впадины между холмами, подобно набухающему и выходящему из берегов зимнему болоту, я уже был высушен до последней капли. В понедельник я едва передвигал ноги, пошатываясь, как больной. Во вторник силы понемногу возвращались ко мне. А в пятницу я до мяса обкусывал ногти от тоски по Сари.
А потому ничего удивительного, что, когда старая хозяйка рассорилась с сыном и начала продавать имущество, я решил прибиться к женщине, к которой пристрастился. На аукционе была большая толпа, и я многим, похоже, приглянулся, в том числе и самому Франсу дю Той, но у меня не было ни малейшей охоты оставаться у него. Не то чтобы он был особенно строг с рабами — в этих краях по строгости никому не сравняться с Барендом ван дер Мерве, — но с ним никогда не знаешь, чего ожидать — сегодня так, а завтра по-другому. Была пятница, и я поднажал на бааса Баренда. «Баас, — сказал я ему, — купите меня. Обещаю, что вы не пожалеете об этом».
У этого человека сердце доброе, несмотря на его дурную славу, что он и доказал, купив не только меня, но и мою скрипку, чтобы не лишить меня радости. Себе он купил кровать, двух баранов и ящик посуды, но скрипка была куплена для меня. И в ту же ночь снова слышались пение, стоны и вскрики в зарослях бушевого чая.
Так что я знаю, о чем говорю, когда предложил Галанту: «Пошли. Сари нальет тебе чаю». Ведь теперь она была моей, а я всегда был готов поделиться с друзьями своими радостями и чаем, да и Сари была такой же.
Как я и предполагал, это ему помогло. Чай прогнал его угрюмость, сладость чая принесла ему успокоение.
— А теперь рассказывай, что там произошло, — сказал я, когда Сари налила ему вторую кружку и мы ушли за дом, где можно было укрыться от моросящего дождя и поглядывать на ворота, чтобы баас Баренд не застал нас врасплох. — Как дела в Тульбахе?
Он устроился на поленнице дров возле печки, не решаясь прислониться к стене.
— А знаешь, — сказал он, уставясь в туман, словно видел что-то далеко за горами, — а знаешь, что есть место, куда рабы могут убегать и где их никто не найдет?
— Где это такое место?
— За Великой рекой. Там много беглых рабов.
— Навидался я того, что бывает с рабами, которые убегают.
Он будто не слышал меня, просто сидел, уставясь на что-то вдали, отчего мне стало не по себе, а когда наконец заговорил, то казалось, будто он разговаривает сам с собой. Он рассказал о мужчине, которого повстречал в тюрьме и который, должно быть, сбежал во время тумана. Рассказал про раба в Кейпе, одержимого амоком, голову которого насадили на кол, чтобы ее клевали стервятники.
— Плюнь ты на это, — сказал я. — Ты же вернулся домой.
— Я-то вернулся, — ответил он. — Но сердце мое не вернулось.
Мне случалось встречать людей, глядящих вот так и словно не видящих того, что происходит у них прямо перед глазами, и я не на шутку встревожился — ведь я люблю Галанта.
— Возьми себя в руки, дружище, — сказал я. — Всех нас порют. Не так уж это страшно.
— Дело не в порке. — Он снова уставился вдаль, глядя как бы сквозь меня, и спросил: — И это ты называешь жизнью, Абель?
Я рассмеялся, хотя на душе у меня было неспокойно:
— А чего еще нам ждать? Не скажу, что наша жизнь особенно легкая или веселая. Но и у нас есть свои радости. Можно выпить сладкого чаю. А можно медовухи и даже бренди, если быть порасторопней. А когда жизнь кажется слишком мрачной, можно выкурить немного дагги[22]. А кроме того, есть еще женщины.
— И ты думаешь, что этого довольно?
— Ничего я не думаю. Просто так уж устроена жизнь. Ты рождаешься на свет, какое-то время живешь, а потом умираешь. Это суждено всем: тебе, мне, всем людям. И что в этом плохого?
Он снова глядел в моросящий дождь, чуть прищурившись от ветра.
— Мы намертво прикованы к этой жизни.
— У тебя болит спина, вот потому ты так и говоришь, — сказал я. — Попроси у мамы Розы какие-нибудь снадобья, когда поедешь мимо, и через пару дней все как рукой снимет.
— Да при чем тут моя спина! — Он вскочил, словно у него засвербило в заду. — Все-таки чего-то я никак не в силах понять, Абель. Когда меня отвязали от столба в Тульбахе, я был готов задушить Николаса голыми руками. Но вот теперь я сижу тут, и знаешь, что хуже всего? Что мне его даже жалко. — Он злобно сплюнул, едва не угодив в меня. — Мне никак не понять этого. Я вообще ничего не могу понять.
— Я принесу тебе еще чаю.
— Иди ты со своим чаем… — Он шагнул вперед, но вдруг остановился. — Как ты думаешь, Абель, тому мужчине в цепях удалось убежать?
— Почем я знаю?
— Я спрашиваю тебя. Мне нужно знать. Мы сидели вместе всю ночь. В темноте он был похож на льва. А прошлой ночью, когда опустился туман, я все думал: «Вот если бы ему удалось убежать. Они ни за что не нашли бы его в таком тумане, и он сумел бы добраться до Великой реки». Ну что ты на это скажешь? Я спрашиваю тебя. Мне хотелось, чтобы он убежал. Не только ради него. Но и ради меня самого. А если ему это не удалось…
— Что проку есть себя поедом, Галант?
Но он не слышал меня.
— Пока я сидел с ним, я все время молил о том, чтобы это чертово здание рухнуло и он убежал. Ничего в своей жизни я еще не хотел так сильно.
Странно, что он тогда упомянул то здание, думал я потом. Ведь всего пару дней спустя до нас дошли вести о том, что в Тульбахе была ужасная буря. Вроде бы это случилось как раз той ночью, когда Галант уехал оттуда. Весь фронтон дома, где была тюрьма, пошел трещинами до самого основания, и дождь хлестал прямо в подвал. Были выбиты почти все стекла и смыты опоры задней веранды и некоторые пристройки.
Когда я рассказал об этом Галанту, он вроде бы немного успокоился. Но на том дело все же не кончилось. Ничто не исчезает без следа. Вроде того, как ручеек бежит, а потом пересыхает — но под землей он продолжает свой путь, невидимый для глаз, и вдруг снова выходит на поверхность, где его совсем не ждешь. В конце зимы, когда разгулялся северо-западный ветер, Франс дю Той, которого недавно сделали филдкорнетом, привез сообщение о том, что из-за серьезных повреждений здание суда в Тульбахе закрыли и ланддрост перебрался в Ворчестер. Подумать только, туда добираться от нас на целый день дольше. Должно быть, сказал я Галанту, они сделали это просто для того, чтобы нам труднее было ходить жаловаться. Но он ничего не нашел в этом смешного. Во всяком случае, это ударило и по карманам хозяев, ведь для того, чтобы оплатить ремонт в Тульбахе, был введен новый налог на рабов во всей местности, от Ворчестера и Тульбаха до Теплого Боккефельда и дальше, до Холодного Боккефельда, и еще дальше, до самых дальних горных областей: два риксдалера за каждого взрослого, и за мужчину, и за женщину, и несколько шиллингов за детей. Ну и ладно, подумал я, пусть себе эти поганые голландцы раскошеливаются. Но баас Баренд так взбеленился, что мы старались держаться от него подальше. К счастью, к этому времени хозяйка родила второго ребенка, еще одного мальчика, и баас на радостях позабыл обо всем. Расхаживал по ферме с таким видом, будто он единственный мужчина на свете, у которого родился сын. Нам всем выдали двойную порцию бренди и зарезали овцу, и в ту ночь моя скрипка снова пела и стонала, точно Женщина в объятиях мужчины.
Во мне вновь пробудилось желание. Не могу понять этого зуда, но так уж со мной всегда бывает: в прежние дни, когда мне приходилось скакать от Вагендрифта до Эландсфонтейна, чтобы повидать Сари, неделя без нее казалась мне вечностью. Радость была так коротка, что я думал лишь о том, как бы поскорее увидеть ее снова. Но теперь, когда она жила со мной и была рядом каждую ночь, меня потянуло к другим женщинам. Теперь меня тянуло к Памеле. Когда она переселилась в Хауд-ден-Бек, я поначалу наезжал к ней, не часто, потому как ее не легко было укротить. И это, ясное дело, лишь прибавило мне пылу. Но в отличие от других женщин — «нет» которых легко переходит в «да» — Памела не желала подпускать к себе мужчин. Эта ягодка не хотела, чтобы ее срывали. Я быстро понял, что она поглядывает на Галанта, но тот после разрыва с Бет все еще сторонился женщин. Эдакий болван, скажу я вам. И в ту ночь мне вздумалось снова навестить Памелу.
— Куда это ты отправляешься? — спросил Клаас, когда я выводил лошадь из конюшни.
— Проехаться.
— Снова ищешь неприятностей?
— Ищу удовольствий. Прочь с дороги.
Поначалу я ехал медленно, чтобы не услышали в доме. Но, отъехав подальше, пустил лошадь во весь опор. И все же, когда я добрался до Хауд-ден-Бека, во всех хижинах было уже темно. Но я разбудил их и достал свою скрипку. Старый Ахилл притащил медовуху, и вскоре почти все пустились в пляс. Только Галант сидел мрачный. Но какое мне дело, ведь я приехал ради Памелы Памела сидела напротив меня возле костра, отблески огня играли на ее коже, на скулах, на плечах, на грудях, которые дрожали при каждом движении, точно вода, тронутая легким ветром, чего вполне достаточно, чтобы привести тебя в неистовство.
Но Памела сторонилась меня, а когда я стал наседать на нее, то сердито встрял Галант: «Оставь ее в покое, разве не видишь, что ты ей не нравишься?» Так что мне пришлось оседлать Лидию, которая всегда была под рукой, лежала на матрасе, набитом перьями, и покорно ожидала, когда мужчина сделает свое дело и уйдет. Таким напитком жажды не утолишь, и, когда я медленно ехал домой со скрипкой за спиной, на душе у меня было скверно. Желание ушло, я ощущал одну лишь усталость. И думал: что толку во всем этом? Ночь коротка, а день долог.
День оказался еще хуже, чем я ожидал. Клаас, ясное дело, опять нажаловался баасу, и тот снова напустился на меня. И тогда я впервые вспомнил о том, что сказал Галант, вернувшись из Тульбаха: «Дело не в порке». Теперь я начал понимать, о чем он говорил. Да, дело не в порке. Но в чем, я не мог понять. Просто чувствовал, что это имеет какое-то отношение к прошлой ночи с выпивкой, танцами и долгим возвращением домой. Но не к Памеле. Вовсе не к ней. К чему-то другому, непонятному. У бааса родился сын, вот он и расщедрился, позволив нам побуянить и поплясать. На одну ночь нам разрешили устроить веселье, более дикое, чем колдовской мак, и более сладкое, чем бушевый чай, вкус которого надолго остается на языке. Но как только все было позади, пришлось снова надевать на себя ярмо. Всегда одно и то же. В конце любого веселого пути тебя ждет баас со своим бичом.
Теперь я стал по-другому судить о Галанте и его разодранном жакете. И был готов поговорить с ним обо всем этом. То было время, когда такие разговоры велись повсюду. Газеты снова взбудоражили всех в наших краях, и, стоило хоть одной из них попасть к нам в Боккефельд, можно было сказать наверняка, что Галант снова придет в дурное настроение. Что-то там у них снова назревало, сказали мне Онтонг и другие рабы. А когда пришло время убирать урожай, между Галантом и баасом Николасом вспыхнула новая ссора. После того как собрали фрукты и еще не начали убирать бобы, Галант вздумал отмахать весь путь до Ворчестера, чтобы пожаловаться на хозяина. Памела рассказала мне об этом, когда я как-то ночью снова решил наведаться к ней. Но на этот раз она просто отрезала: «Я живу с Галантом». Я, конечно, оставил ее в покое. У меня и без того неприятностей хватало, ведь как раз тогда баас Баренд взял меня с собой в Кейптаун.
Думали, что хозяйка тоже поедет с ним, но она заупрямилась. Сари подслушала, как они ссорились. «Ты должна ехать со мной, — сказал баас. — Пока меня не будет, тебе некуда ездить одной». — «А я и не собираюсь никуда ездить, — ответила хозяйка. — Я просто хочу остаться дома с детьми». Как сказала, так и сделала, ведь она никогда никому не подчинялась, и, не переставая ворчать, баас нагрузил фургон продуктами, оставил Клааса управлять фермой и уехал вместе со мной в Кейп. Тогда я впервые порадовался тому, что я не мантор. Вторым фургоном, из Хауд-ден-Бека, правили Тейс и Рой: баас Николас остался дома, он ездил в Кейптаун в прошлом году, а между братьями был уговор ездить по очереди, чтобы один мог тем временем присматривать за фермами.
Вдали от дома мы с баасом прекрасно ладили. По вечерам, когда Тейс и Рой заканчивали работу, я играл на скрипке. Баасу нравилось, как я играю. Во время этого путешествия он словно ослабил хватку, стал не так строг не только ко мне, но и к себе самому. И музыка пришлась тут кстати. Как-то ночью, когда баас уже основательно подвыпил, он сказал: «Абель, ты здорово умеешь угодить другому. Нам с тобой по пути, и надолго. Мы подходим друг другу». И я снова ударил смычком по струнам, и под эту музыку мы сидели у костра, пока не погасла утренняя звезда.
Всю дорогу до города жизнь была хоть куда, а когда мы приехали в Кейп, стала и того лучше. Каждую ночь выпивки и пляски, веселые потасовки с рабами возле водяного насоса, игры в кости, драки и поножовщина. Но лучше всего были петушиные бои в карьере под Львиной горой. Особенно по воскресеньям. Все рабы Кейпа толпились вокруг петухов, а несколько человек стояли на страже, потому что полицейские запросто арестовали бы всех, если бы застали за этим делом. Некоторые петушатники занимались своим ремеслом из поколения в поколение, передавая секретные трюки от отца сыну. Едва петухов, бьющих крыльями и трясущих шпорами, выпускали, вся площадь покрывалась перьями и кровью. Толпа кричала, вопила, ревела и бесновалась. Ведь речь шла не только о петухах, но и о больших деньгах. Мне сказали, что тут, в каменоломне, были люди, которые крали деньги, рискуя получить порку, а то и угодить в тюрьму, лишь бы нашлось что поставить на петуха. Я собственными глазами видел как-то воскресным вечером одного мужчину из Констанции, его звали Джошуа, который поставил и проиграл на петушиных боях жену и троих детей. Взял да и просадил.
Горько мне вспоминать об этом, ведь как раз тогда я и проиграл свою скрипку. В то самое воскресенье.
— Чего это ты шляешься сюда каждый вечер, чтобы просто поглазеть? — спросили меня. — Тут тебе не представление, тут играют на деньги.
— А что можно поставить на кон?
— Все, что угодно, — сказали мне.
Я начал с горсти риксдалеров, которые выручил, продав шкуры шакала и рыси. Тут бойцовый петух другого мужчины, свирепый маленький драчун, разодрал моего в клочья. Но я уже вошел в азарт и, когда были выставлены два последних петуха, поставил на одного из них мою скрипку.
Поначалу я не слишком огорчился, проиграв ее, так как тощий мужчина по имени Ахмат, выигравший ее, уверил меня, что я могу попытаться отыграть ее на следующий вечер, а если не захочу, то он готов продать мне ее за пять риксдалеров. Всю ночь мне снились петушиные бои. Я не мог дождаться вечера, чтобы снова пойти туда. Но когда я сказал про это баасу, он так рассвирепел, что запретил мне идти туда и, уж конечно, отказался дать пять риксдалеров. Я продолжал приставать к нему с мольбами — при мысли, что я и в самом деле могу потерять скрипку, меня охватил ужас, — он шлепнул меня по щеке прямо на глазах у Тейса и Роя. Дома, на ферме, это другое дело, там он мог поступать, как ему вздумается. Но тут, на городской площади, при двух молокососах, вынести это было тяжело. Настоящий удар кулаком я бы еще принял как должное, но никак не пощечину. Так наказывают женщин и детей, а не мужчин. Чтобы унизить меня еще сильнее, он приказал Тейсу и Рою присматривать, чтобы я не сбежал за своей скрипкой. И уж вовсе назло мне приказал готовиться в обратный путь на два дня раньше, чем мы ожидали.
— Ради бога, баас, — умолял я. — Как же я буду без скрипки?
— Сам виноват, раз проиграл ее.
— Пожалуйста, баас!
По дороге домой я частенько гадал, не раскаивается ли он в своем опрометчивом решении в те тихие, тоскливые вечера у костра, когда не раздавалось ни единого звука музыки, которая могла бы развеселить нас. Но он ни разу не заикнулся об этом. Тогда, должно быть впервые в жизни, я тоже молчал целую неделю и не произнес ни слова, кроме «да» или «нет», в ответ на его вопросы.
Ну хорошо, я сам виноват. Я играл и проиграл, вроде того бедолаги Джошуа, который поставил на кон свою жену и детей. Ну и что? Я вполне мог отыграть свою скрипку. Так сказал мне Ахмат. Если бы выдался случай. Но баас не дал мне его.
Когда мы подъехали к ферме, Сари и все остальные рабы выбежали встречать нас.
— Черт подери, Абель, — сказали они, — нам так не хватало тебя. Тут слишком тихо без твоей скрипки. Может, поиграешь нам сегодня?
— Подите-ка вы… — отмахнулся я, прогнал их прочь и отвел душу с Сари. А что мне было делать? Но сердце мое рыдало по скрипке, которая столько лет была моей верной подругой.
Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что та поездка в Кейп обозначила конец какой-то части моей жизни. И не то чтобы потом у нас не было радостей: я даже сделал себе новую скрипку — хотя звук у нее был совсем не тот, это все же лучше, чем вовсе ничего, — и по-прежнему были выпивка и женщины. Тем не менее что-то было отрезано навсегда, словно за спиной у меня затворилась какая-то калитка.
Газеты появлялись одна за другой, и всякий раз, когда новая газета продвигалась от фермы к ферме по Боккефельду, мы замечали, как что-то происходит с нашими хозяевами — по их взглядам, которые они бросали порой на нас, по вспышкам раздражения, по тому, как они разговаривали, возбужденно размахивая руками, но тут же умолкали, стоило кому-то из нас оказаться поблизости. Это очень волновало Галанта, куда больше, чем остальных рабов, он ведь всегда был помешан на этих газетах. В прежние времена мне было плевать на них — какое мне до них дело? — ведь есть еще в жизни радости, можно выпить, поплясать и повеселиться с приглянувшейся женщиной. Но теперь что-то изменилось, над нашим вельдом нависла какая-то тень, что-то такое, чего тебе не ухватить. Вроде воды, уходящей под землю и неожиданно появляющейся снова на поверхности.
Правда, бывали и потешные случаи. Я чуть не помер со смеху, услыхав историю про Франса дю Той и газету, но Галант не находил тут ничего смешного и ни разу не рассказал мне, как все было. Как я потом разузнал, баас Николас в тот день уехал в Лагенфлей, у него, кажется, заболела мать или что-то еще случилось, а Франс дю Той привез в его отсутствие свежую газету. Он, должно быть, был мертвецки пьян, он вечно наклюкивался, а с годами все чаще и чаще, как то обычно и бывает с мужчиной без женщины. А какой женщине может приглянуться мужчина с таким жутким родимым пятном на лице? Ничего удивительного, что он докатился до этого. Его слабость была хорошо известна по всему Боккефельду, и матери прятали дочерей, стоило появиться этому бедолаге. Все говорили, что его сделали филдкорнетом просто потому, что он ладил с англичанами, никто в наших краях не выбрал бы его, если бы их об этом спросили. Так вот, он приехал в Хауд-ден-Бек мертвецки пьяным и, не найдя дома хозяев, ходил, пошатываясь, в поисках кого-нибудь, кому он мог бы отдать газету, и забрел в свинарник. Франс дю Той и свинья сражались на куче грязи и дерьма, а когда туда зашел Галант, ему было строжайше приказано держать свинью. Прикажи Франс такое мне, я бы и бровью не повел, я-то хорошо его знал, ведь мы выросли вместе. Но Галант просто взбесился. А когда неожиданно вернулся Николас, он вышвырнул Франса со спущенными штанами со своей фермы. Тот так и бросил газету в грязи со всеми новостями про рабов и про правительство. Я покатывался от хохота, слушая эту историю. Но Галант смотрел на нее другими глазами. А немного поразмыслив, я тоже решил, что все это вовсе не так забавно, как мне показалось поначалу, и, быть может, нужно не смеяться, а плакать. Ведь считается, что белый человек — хозяин, и когда видишь, как он улепетывает прочь с голым задом, а перепуганная свинья визжит в грязи, поневоле призадумаешься о том, как все обстоит на самом деле. Ведь если так пойдет и дальше, нам вскоре придется обращаться со словами «баас» и «ной» к свиньям.
А когда снова пришла пора убирать урожай, случилась неприятная история с Голиафом. К тому времени до нас дошли слухи о том, что рабы теперь не обязаны работать по воскресеньям, и о многом другом: о том, что время работы определено по десять часов в день с апреля по сентябрь и по двенадцать — с октября по март и что полагается добавочная еда в это время, что порка ограничена двадцатью пятью ударами в один раз, что нас нужно хорошо кормить и давать одежду, что пастору полагается каждый год объезжать фермы, чтобы женить рабов и крестить их детей, вот такие дела. Потому-то я и сказал Голиафу — мне и сейчас этого не стыдно, — что ему нужно пойти жаловаться. «Это единственный способ узнать, правда все это или нет, — сказал я. — Может, все это сплошное вранье. Но может, и правда. А тогда нам нужно знать наверняка». Он был очень встревожен и боялся, как бы с ним чего не случилось. Но пока Клааса не было поблизости, я его как следует обработал. «Дело не в тебе одном, — объяснил я ему. — Ты, приятель, должен пойти ради нас всех. Как же иначе мы узнаем, правда ли то, о чем говорится в газетах?»
Ведь человек всегда чувствует, когда что-то назревает, набухает и толкается изнутри, пытаясь вырваться наружу, подобно подземному потоку, и нужно вовремя распознать Это, если ты не хочешь потонуть. Так я говорил Галанту, так я все объяснил и Голиафу.
И он пошел, но дело обернулось худо. Комиссар приехал и выспрашивал Голиафа, а потом ускакал прочь, окруженный толпой подвыпивших фермеров. Мне трудно было сдержаться в тот день. Меня одолевали кровавые мысли. Но что я мог сделать? Разве мог я справиться с баасом Барендом и его ружьем? Но хуже всего было то, что он даже не заметил моей ярости. Просто позвал меня, чтобы я взял лошадь, подхватил свое ружье и пошел домой. Наплевав нам всем в лицо. Я стоял тогда, глядя ему вслед, и думал — теперь это уже не забава, теперь это всерьез. Неважно, что там говорят газеты — они для белых, и в них сплошное вранье. Нам нечего надеяться на помощь из-за гор. В здешних пустынных и диких краях мы предоставлены сами себе, и от этого становилось жутко. Как жить дальше, предстояло теперь решать нам.
Эстер
Новый день — и все та же знакомая тупая боль. Она всегда тут, деваться ей некуда, в лучшем случае просто помнишь, что она есть, в худшем — внезапный удар валит тебя с ног.
Только в тот странный месяц, когда Баренд уезжал в Кейп, все было по-другому. Не свобода, но чувство самодовлеющей полноты, ведомое мне прежде только во время беременности. Правда, и не в точности такое же: на этот раз не было ощущения попранности, не было тревожащего вторжения чужой жизни в мое тело, но в то же время не было и успокоения, вызванного самим существованием вокруг зародыша, замкнутого в моей утробе, существования, с помощью которого я словно обретала новую отчужденность и независимость от мира. На этот раз тут были дети, о которых надо было заботиться, были дом и ферма, все это требовало хозяйского глаза, и даже раболепная назойливость Клааса раздражала меня. Я была одинока, но не одна, и все же, если такой ценой надо платить за короткую передышку в моих страданиях, я готова платить снова и снова.
Баренд, конечно же, хотел, чтобы я поехала вместе с ним. Даже настаивал на этом. И соблазненная неясной надеждой на то, что очарование Кейптауна смягчит мою неизбывную боль, я чуть было не согласилась. Но затем, в одной из наших отвратительных ссор, он посмел ударить меня. Не в первый раз, но впервые вне плотских посягательств на мое тело. Ударил не в ярости, а с презрением и рассчитанным осознанием своего превосходства в силах. А потому мне стало легче возроптать и настоять на своем. Он ударил меня при Кареле; малыш, увидев это, заревел, а я лишь с ледяным спокойствием думала: Смотри, Карел, смотри хорошенько и запоминай. Тебе это пригодится. Затем я тебя и воспитываю — чтобы ты когда-нибудь начал точно так же обращаться со своими женщинами. Другой мести мне не дано. Оставив Баренда успокаиваться и искать оправданий, я вышла из дома и оседлала лошадь. И когда ночью, впервые за всю нашу совместную жизнь, он попросил прощения и принялся умолять меня поехать вместе с ним, мне было не трудно отказаться.
— Не понимаю, что на меня накатило утром, — говорил он. — Эстер, послушай, я обещаю, что это больше не повторится.
Я улыбнулась и отвернулась от него. Какой смысл было говорить ему: Конечно же, повторится. За этим порогом — следующий, и его тоже придется переступить. А как иначе нам выжить? Я уже представляла себе нас обоих в старости: два высохших тела, два полутрупа, яростно накидывающихся друг на друга, чтобы зарыться один в другого в поисках какой-то редкостной влаги, гнилостно бродящей в трубчатой глубине отвратительных скелетов.
И это повторилось, сразу же после его возвращения, в первое же воскресенье. Он требовал, чтобы мы поехали навестить Николаса и Сесилию. Отвыкнув за месяц его отсутствия от узды, я, разумеется, отказалась. Я могла бы сказать, что мне надоело унижаться перед благостно-праздничной Сесилией с ее безупречным домашним хозяйством, надоело ощущать на себе по-собачьи преданный, вопрошающий взгляд Николаса, но на самом деле я просто взбунтовалась против того, что меня снова принуждали исполнять желания этого человека. Снова ссора, скандал, бесплодный и яростный, и он снова ударил меня. На этот раз я попыталась дать сдачи. Он схватил и крепко сжал мои руки, удерживая меня.
— Бог свидетель, — зарычала я в бессильном гневе, — будь я мужчиной, я сломала бы тебе шею.
— Но ты не мужчина, так что придется подчиниться.
— Был бы жив мой отец, он бы тебе показал.
— Твой отец был просто жалким пьянчужкой.
Я закричала и забилась в его руках, пытаясь вырваться, отпихивая его что было сил. Малыш заплакал в кроватке, на шум в комнату вбежал Карел.
— Ну, что же ты, — сказала я Баренду, — продолжай! Покажи своим сыновьям, как ты умеешь избивать беззащитную женщину.
— Убирайся! — прикрикнул он на Карела, который тоже заплакал.
Стыдясь и злясь, как и в прошлый раз, он отпустил меня.
— В один прекрасный день твои сыновья вырастут и станут сильными. И тогда они отомстят за мать, — сказала я, тяжело дыша и пытаясь прикрыться лохмотьями ночной рубашки, не выдержавшей нашей борьбы. Он всегда начинал именно с этого — разрывал на мне платье, чтобы обнажить груди.
— Сама виновата, — буркнул он. — Сама меня довела. Ты же знаешь, я этого не хотел.
— Я же говорила, что ты снова примешься за свое. — Я взяла из кроватки малыша, чтобы успокоить его. Заслонившись от Баренда крошечным тельцем, добавила: — Ну хорошо. Поехали в Хауд-ден-Бек. Я схожу на могилу отца. А теперь выйди. Мне надо одеться.
Выехали мы рано. До Хауд-ден-Бека больше двух часов езды в двуколке. Ехали как всегда молча, Баренд правил, а Карел сидел между нами, держась прямо и расправив плечики так, словно в три года был на свой лад независим от нас. Малыш был у меня на руках, но время от времени, когда коляску сильно встряхивало на ухабистой дороге, тянущейся через ржавого цвета вельд, я старалась поддержать и Карела, втайне радуясь его яростным попыткам оттолкнуть меня. Мальчик мой. Разве не естественно было бы обидеться на него? На его потешную независимость? Что за порча была во мне, если я гордилась тем, что он становится двойником, маленькой копией того самца, битва с которым предначертана мне судьбой? Но даже при всей отчужденности он был моим, был рожден мною и со мной неразрывно связан: здесь начиналась моя власть над мужчиной, которым он когда-нибудь станет. Дочерей мне никогда не хотелось. Если уж надо рожать детей, то пусть это будут мальчики. Сама мысль о девочке отталкивала меня: ее жалкое стремление быть попранной, ее предельная уязвимость. Рождение дочери обернулось бы в конце концов моим собственным поражением. Так неужели и мальчики были для меня всего лишь средством получить причитающееся мне? Неужели месть стала проклятием и единственным выражением материнской любви? Нет, нет и нет. Я люблю их, люблю: их беззащитность, возможно, помогла мне увидеть, что и в мужчине есть нежность, в том самом мужчине, у которого не было другого выхода, кроме как брать верх надо мной в слепой схватке за выживание в суровом мужском мире. В моих сыновей вложена частица меня самой, и это сулит мне когда-нибудь в будущем столь желанную свободу. Впервые я начала понимать мою свекровь, начала догадываться, откуда у нее берутся силы. Она тоже жила только ради будущего, которое надеялась обрести в своих сыновьях. Хотя и тут таился обман: разве свобода может родиться из подчинения себе других людей? Но это я осознала, кажется, позже. Гораздо позже — в ту страшную ночь. А сейчас было апрельское воскресное утро, тихое и уже немного осеннее, с чуть пожелтевшими листьями, поблекшей травой, в которой здесь и там начинали сквозить коричневые пятна тростника и камыша, и я могла лишь бездумно и тупо сопротивляться непредсказуемому вилянию коляски, которая раскачивалась и тряслась, катясь по дороге между грубыми и равнодушными горами и все более приближаясь к уязвимо открытому месту, которое когда-то было моим домом.
Баренд прервал молчание, лишь когда мы проезжали мимо маленького домика портного Дальре, прилепившегося на краю Хауд-ден-Бека.
— Погляди-ка! — Он раздраженно хлестнул лошадей. — Этот болван ничего не смыслит в фермерском деле.
— Кому он мешает? — возразила я. — Разве Николасу хуже от того, что он живет здесь?
— Настоящую свалку устроил.
И тут Баренд был прав. Обломки развалившихся фургонов, брошенные во дворе где попало, цыплята, бегающие в пыли, свинья, которая, похрюкивая, лежала с поросятами прямо возле задней двери, пристройка, которую начали, да так и не закончили. От всего этого веяло угнетающим запустением. И все же я всякий раз невольно испытывала теплое чувство, глядя на старика, который с показной деловитостью ковылял на тощих ногах, потрясая спутанной гривой грязных волос и близоруко щурясь на солнечный свет. Такие родятся неудачниками и остаются ими, где бы они ни жили и что бы ни делали. Но здесь по крайней мере он мог жить спокойно вместе с несколькими нерадивыми работниками. В его вкрадчивой бестолковости было нечто напоминавшее мне об отце, вот почему я и заступалась за него каждый раз, когда начинались сердитые разговоры о том, что он загостился в наших краях.
— Непременно скажу Николасу, — продолжал Баренд, и я понимала, что он злится просто потому, что ему надо убедить себя в собственной правоте после нашего утреннего разговора о моем отце. — Мало того, что он разоряет полезный участок фермы. Он еще собирает тут всяких проходимцев. Хочет остаться — пусть наймет себе толкового управляющего, чтобы тот работал вместо него.
Я едва слушала. Баренд всегда знал про других людей, как им лучше поступать. Но в тот день ему так и не представилось возможности поговорить с Николасом о старике портном, так как вместо спокойно-скучноватого пребывания в гостях, на которое мы рассчитывали, нас ожидали весьма неприятные переживания.
Малыш кричал не переставая, и, когда мы наконец остановились у дома, я думала лишь о том, чтобы поскорее перепеленать и накормить его, и потому, должно быть, не обратила внимания на шум за спиной. Сесилия вышла к нам из дома: рыжие волосы, как всегда, собраны в узел на затылке, на белокожем веснушчатом лице пылали красные пятна, губы растянуты в улыбку, унылую и безотрадную, как остывшая овсянка. За ней гуськом следовали три девочки: белобрысая, рыжая и опять белобрысая.
— Целую вечность не виделись, — начала она. — Заходите. Может, взять у тебя маленького?
Я отказалась отдать ребенка, хотя и знала, что он, скорее всего, сразу успокоится на этой мягкой, удобной груди. Но когда я перепеленала его и начала возиться с бутылочкой, Сесилия взяла малыша на руки, расстегнула платье и дала ему грудь; свою дочь, уже пятнадцатимесячную, она все еще кормила. Оскорбленная и униженная ее материнским неистовством, я хотела отобрать у нее малыша, но вовремя опамятовалась: так ему, конечно, будет лучше, чем из бутылочки. Дома с ним нянчилась рабыня Сари, но в коляске для нее места не было — я не хотела ехать еще и поэтому.
— А где Николас? — немного погодя спросил Баренд.
— Скоро придет, — ответила Сесилия, протянув малышу палец, который тот ухватил своей крошечной ручонкой. — Учит уму-разуму одного нашего раба. На конюшне. Тут у нас снова непорядки. — Она вздохнула. — От них нет покоя даже по воскресеньям.
— Пойду помогу ему, — сказал Баренд.
— Чего тебе лезть не в свое дело? — сердито спросила я.
Он усмехнулся:
— Давно не упражнял руку, — и, не слушая меня, вышел.
— Выпьешь чаю? — спросила Сесилия и, не дожидаясь ответа, крикнула: — Памела! Чаю!
Ребенок, задремавший было у нее на груди, вздрогнул и, поперхнувшись, закашлялся. Но потом снова принялся сосать: маленькая струйка молока стекала из уголка его рта.
— Говорила я Баренду, что незачем нам сегодня приезжать, — обиженно сказала я.
— Чепуха. Садись. — И снова: — Памела!
Около часа мы пили чай и старались склеить беседу, пока малыш блаженно спал, прижавшись к ее большому телу. Старшие дочери сидели не шелохнувшись в креслах и казались похожими на двух сусликов, младшая ползала по полу, пытаясь поймать котенка, а в резком свете, лившемся в открытую дверь, я видела Карела, скачущего верхом на метле. Если бы остаться с ним вдвоем в вельде или у себя дома, где угодно, только не здесь, не в этой наводящей уныние комнате со строгой мебелью и ее безукоризненно продуманной расстановкой. Стулья, скамья, сундуки, длинный обеденный стол, комод, буфет, шкуры антилопы, леопарда и того самого пресловутого льва, расстеленные на темном полу. Время от времени Сесилия выходила поглядеть, чем занимаются на кухне рабыни. Как только она поднялась в первый раз, я воспользовалась этим, чтобы отобрать у нее ребенка. Наша отрывочная беседа представляла собой цепь безнадежных попыток преодолеть молчание, неизбежно обступавшее нас со всех сторон. Я всегда чувствовала себя тут непрошеной гостьей, но еще никогда это не ощущалось мною столь сильно. В доме все изменилось до неузнаваемости, от прежнего не осталось ничего. Эта женщина все перестроила и переделала на свой лад — увеличила до абсурда, разукрасила до безвкусицы. Даже запах тут теперь был другой: запах мыла, льняного масла, домашнего крахмала. Все, что мне было дорого когда-то, исчезло. Зато появилась она, эта большая, неуклюжая, рыжеволосая женщина, уверенно уповающая на спасение собственной души и черпающая в этой уверенности силы, потребные для хозяйничанья в угодьях, которые когда-то прежде принадлежали мне и моему отцу — с неожиданно острой болью я припомнила запах его трубки, прикосновение к его куртке. А эта женщина, вне всякого сомнения, приготовилась попасть прямо на небеса, чтобы и там, окружив себя ангелами рангом пониже, сразу же начать все чистить и переделывать по-своему.
Мужчины вернулись домой, и оба суслика с радостным визгом кинулись к отцу. Николас был явно не в духе, лицо раскраснелось, он запыхался.
— Не прикасайся ко мне, — сказала я, когда он подошел, чтобы поцеловать меня.
Он удивленно поглядел на меня.
— В чем дело?
— Да ей сегодня вожжа под хвост попала, — сказал Баренд, глядя во двор и рассеянно вытирая о штанину руки.
— Мне не хотелось заставлять вас ждать, — извинился Николас, — но пришлось.
— Тошно мне на вас глядеть, — прервала я его.
— Надеюсь, ты проучил его как следует? — с явным удовольствием спросила Сесилия. — А теперь попейте чайку. — И снова последовало: — Памела!
— Я отнесу на кухню поднос.
Встав со скамьи и положив на нее ребенка, я принялась собирать чашки.
— Ради бога, Эстер, — нахмурилась Сесилия. — А на что нам рабы? Они и так совсем обленились.
Но я сделала вид, будто не слышу. Я чувствовала, что могу расплакаться, если сейчас же не выйду из комнаты.
— Нет, в самом деле, Эстер, — сказал Николас, пытаясь удержать меня, в его голосе слышалась мольба, — если б ты знала, что он тут вытворял в последнее время. А сегодня утром я увидел…
— Мне это совсем неинтересно, Николас, — возразила я, едва сдерживаясь. — А теперь, пожалуйста, отпусти меня, я принесу ваш чай.
— Он чуть не прикончил мою лошадь. Не вмешайся я вовремя…
Я вышла на кухню. Там никого не было. Над очагом висело несколько горшков, утюгов, чайников. Две посудины яростно свистели на огне. Я отнесла чашки к лохани, стоявшей на чисто выскобленном столе, и принялась усердно ополаскивать их.
— Чего ты и в самом деле бесишься? — Сесилия выросла у меня за спиной. — Куда они все запропастились? И так вот всегда. Стоит только на минуту отвернуться, как их и след простыл. — Она подошла к задней двери и возвысила свой мощный голос до крика, способного пробудить и мертвеца: — Памела! Бет! Лидия! Где вы все, черт вас подери! — Она вздохнула и подошла к очагу. — Ну и народец. Даешь им буквально все, а что получаешь взамен? Сейчас, должно быть, разобиделись из-за того, что Николас проучил одного из них. Уж больно он мягок с ними, отсюда и все беды. Я без конца твержу ему об этом. — Затем, повернувшись ко мне, продолжала без паузы и в том же сварливом тоне: — Ежемесячные страдания?
— Нет, — резко возразила я, — ежемесячное блаженство. Баренд хоть отвязался от меня на время.
— Тсс, — прошипела она у меня за спиной, когда я повернулась и пошла обратно в комнату, предоставив ей наливать в чашки чай.
Когда я вошла к ним, разговор по-прежнему шел о рабах. Стараясь не прислушиваться к тому, о чем они говорят, я посмотрела, как спит малыш, и затем подошла к передней двери, чтобы полюбоваться ярким осенним днем.
— Только так их и можно держать в узде, — говорил Баренд. — А все эти слухи! Сущая отрава. Эти чертовы англичане мутят воду.
— Пока это всего лишь слухи, — возразил Николас. — Но в одно прекрасное утро мы проснемся и узнаем, что их освободили.
— Стоит ли беспокоиться, — неожиданно для себя самой встряла я. — Англичане, в конце концов, такие же люди, как вы.
— О чем это ты? — недовольно спросил Баренд.
— Неужели непонятно? — насмешливо возразила я. — Разве кому-нибудь придет в голову освобождать быка или лошадь? Беспокоиться об освобождении рабов может только тот, кто считает их людьми. А вы и женщин-то за людей не считаете.
— По-моему, не мешало бы тебя хорошенько проучить, — сказал Баренд.
Я нырнула в слепящий солнечный свет.
— Куда ты? — окликнул меня Николас.
Я обернулась и окинула их взглядом:
— На отцовскую могилу.
— Но, Эстер, послушай…
Ничего не видя перед собой, я побрела налево, спускаясь в узкую долину. Хорошо, что никто не пошел за мной, я сейчас была способна на всякое. Я прошла через ворота в стене, огораживающей двор, и долго просто так шла по вельду. Могила была в другой стороне, но это не имело значения. Все равно в таком настроении там нечего было делать. Направляясь к предгорью на противоположной стороне долины, я ощущала в себе пустоту и бессмысленную потребность просто двигаться вперед, и, когда уже высоко в предгорье меня наконец одолела усталость, я села на камень, подставив лицо бесхитростной ласке солнца и простодушному дыханию ветра. И снова, как в детстве, все здесь было знакомо и узнавалось на ощупь: гладкость и грубость камня, хрупкость травы, упругость кожи, когда я сжимала плечи, чтобы успокоиться, твердость костей в коленях, нежная прочность бедер. Это была я: но кто же я такая?
Осознание собственного тела. Муки голода, поддающиеся временному исцелению, вопреки упрямой мысли о том, что избавиться от этого недуга не дано, покалывание в затекшем от долгого сидения теле, знакомая тяжесть в мочевом пузыре. Что за двусмысленный вызов в том, чтобы просто задрать юбку и присесть на корточки, не прячась за камень или куст, а открыто, как животное: самое преходящее во мне вбирается в неизменно существующую землю. Только благодаря телесной влаге дано нам соприкоснуться с твердой землей. Не прошлое, да и не будущее сулило свободу, а вот эти короткие, удивительные мгновения. Свобода всегда кажется чем-то далеким, отдельным от тебя, чем-то вроде страны, куда попадешь, лишь вскарабкавшись на гору, переплыв реку или минуя границу. Но разве может быть нечто такое — свобода, истина — где-то вне нас самих? Разве можно представить себе свободу иначе, чем неотделимой от тебя самой: от того, кто ты есть, что ты есть, кем была, кем рискнешь стать потом? Испытывая какое-то странное удовлетворение, я направилась обратно, сделав большой крюк, чтобы не идти мимо фасада дома, и через задний двор вышла к низкой каменной ограде кладбища.
Проходя мимо конюшни, я услышала стоны или, скорее, вздохи, такие тихие, что они могли мне просто почудиться. Неожиданно меня нагнал и потопил в своих водах прежний страх. Я обогнула конюшню. Онтонг и Ахилл сидели на корточках по обе стороны большой двери, мрачно уставясь прямо перед собой.
— Добрый день, — сказала я, странно теряясь в их присутствии.
— Добрый день, ной Эстер, — ответили они.
Лицо старого Онтонга было, как всегда, совершенно непроницаемо.
— Что вы тут делаете?
— Хозяин приказал нам оставаться тут.
— Зачем?
Снова послышались вздохи, стоны, и на этот раз ошибиться было уже невозможно. Стиснув зубы, я вошла в конюшню. После яркого солнечного света во дворе мне показалось там так темно, что вначале я ничего не могла разглядеть. Затем в темноте проступили очертания человеческого тела, черные на черном. Я увидела мужчину, привязанного к поперечной балке под крышей, его ноги едва касались земли, руки были вытянуты и связаны над головой. Мужчина был голый. Я узнала Галанта.
До сих пор мне и в голову не приходило, что речь шла о нем. Внутри у меня похолодело. Голова закружилась. Опершись о грубый дверной косяк, я обернулась к Онтонгу:
— Что все это значит?
Онтонг по-прежнему смотрел прямо перед собой, избегая моего взгляда.
— Баас Николас сказал, что он должен висеть до вечера.
— Отвяжи его.
— Хозяин убьет нас.
— Онтонг, я приказываю, отвяжи.
Он ничего не ответил. Я сделала несколько шагов внутрь конюшни, затем повернула обратно.
— Можете отправляться в свои хижины.
Они не желали даже стронуться с места.
— Онтонг, Ахилл! — Злобное рыдание клокотало у меня в горле, но я старалась сдержаться. — Ступайте домой. Я сама разберусь с Николасом.
Они уставились на меня. Онтонг медленно покачал головой, но наконец они все же нехотя встали, бормоча что-то, и ушли.
— Галант, — окликнула я.
— Поди прочь, — прошипел он в судорогах ярости.
— За что он тебя?
— Поди прочь!
Его страдания были, вероятно, столь мучительны, что слова его прозвучали скорее как стон, чем как приказ.
— Давай я помогу тебе, — почти взмолилась я.
— Уходи отсюда.
Я беспомощно огляделась. В темноте все еще трудно было что-нибудь разглядеть, но наконец я заметила наполненные соломой ясли, которые с большим трудом пододвинула к нему, чтобы он мог встать на них и дать передохнуть рукам. Но он отказался даже от этого.
— Ну пожалуйста, Галант.
— Иди прочь.
Встав на колени возле яслей, я принялась подсовывать их под ноги Галанту. Подняв голову, я смотрела на него. Было по-прежнему темно, но мои глаза уже привыкли к этому. До сих пор меня волновали только его страдания. Но сейчас, стоя на коленях и глядя на него снизу, я вдруг заметила его самого, висящего надо мной в ужасающей наготе. Я обхватила руками ясли и прижалась лицом к шершавой, занозистой древесине, чувствуя, как она царапает мне кожу, и даже получая удовольствие от остроты этой боли. Внезапное возвращение, казалось бы, давно минувшего прошлого повергло меня в трепет. Словно я вовсе не стояла на коленях в темной конюшне, пропахшей лошадьми, мочой и соломой, вспоминая давно прошедшее, а все, что было когда-то, вдруг вернулось в своей осязаемой подлинности. На краткий миг мы вновь стали детьми, цепляющимися друг за друга в поисках тепла под необъятной кароссой мамы Розы, грубо ласкающей нашу наготу. На миг мы снова погрузились в грязную воду запруды, птицы-ткачи вспорхнули и защебетали у нас над головами. На миг я опять ощутила прикосновение его губ к моей ноге, пока он отсасывал змеиный яд из четких отметин ранки. И в то же самое время я чувствовала, что мы уже не дети. Я была женщиной, стоявшей на коленях в соломе, а надо мной было тело мужчины.
Ощутил ли он то же самое, или внезапно испугался, или почувствовал мой испуг, но его тело вдруг странно дернулось. Только теперь я увидела наготу мужчины, до сих пор мне неведомую — ведь наши дикие схватки с Барендом всегда происходили в темноте. Теперь она была у меня перед глазами, явная и угрожающая, недвусмысленная и очевидная, и в первый раз со времени моего детства ко мне вернулось еще одно памятное ощущение — тот восторг, тот восхитительный ужас, с которым я украдкой глядела на игры быков и коров, лошадей и собак. Ощущение чисто животное — и именно потому безгрешное и неистовое.
— Убирайся отсюда, — снова простонал он.
Его слова вывели меня из оцепенения, я снова начала осознавать, где нахожусь. Затем послышался какой-то шорох, и в проеме двери выросла чья-то темная фигура.
— Эстер? Что ты тут делаешь? — Это был Николас.
Я не шелохнулась, чтобы не выдать своего волнения.
— Эстер?
— Отвяжи его, — приказала я.
— Но…
— Я велела Онтонгу и Ахиллу уйти. А теперь отвяжи его.
— Но ты ничего не знаешь. Он чуть было не убил мою лошадь.
Я хлестнула его ладонью по лицу.
— Ты отвратителен, — сказала я. — Такого я могла ожидать от Баренда. Но ты! Мне за тебя стыдно.
Он тупо уставился на меня. Лицо его искривилось, точно он готов был расплакаться. В бешенстве я сорвала со стены серп и насильно всунула ему в руку.
— Ну, давай же, наконец!
Он влез на ящик и принялся перепиливать серпом ремни на запястьях Галанта. Галант, должно быть, потерял сознание. Как только руки его были освобождены, он тяжело рухнул на землю.
Связанный мужчина — это уже не мужчина, и нет пределов тому, что ты можешь с ним сделать. Но стоит тебе развязать его, как ты поймешь, сколь беспредельна та ответственность, которую ты взяла на себя, совершив столь обычный поступок.
— Ничего страшного, — пробормотал Николас. — Он куда здоровей, чем кажется.
Я даже не взглянула на него. Он воровато пошел к двери.
— Эстер, честное слово, я… — уже на пороге начал он.
— Я больше ничего не желаю слушать.
Он вышел из конюшни, растворившись в ослепительном свете.
В углу у двери стояла бадья, до половины наполненная водой. Только потом до меня дошло, что вода могла быть грязная, для лошадей. Тогда это не имело значения. Тряпки, конечно, не было, и я, действуя совершенно машинально, словно все происходило во сне, оторвала кусок от платья, намочила его и начала отирать лицо Галанта. Он снова застонал.
— Я же сказал — уходи отсюда.
Даже если бы я и хотела подчиниться, то все равно не смогла бы. Во мне не осталось ни воли, ни чувств. Продолжая отирать его лицо, я пыталась совладать с собою — с темным потоком, который грозил затопить меня и лишить способности что-либо понимать. Впрочем, я и не хотела ничего понимать. Макая тряпку в бадью, я продолжала обмывать его так, как обмывают покойников. Только он-то был жив, он чувствовал боль, временами вздрагивал и дергался, а из его горла то и дело, как он ни пытался сдержаться, вырывались сдавленные рыдания. Я смывала с него кровь, но не только кровь, а как бы всю ту грязь, которая мешала мне примириться с неисповедимо неистовым миром, в котором не было места ни мне, ни ему. Я обмывала его тело, будто впервые в жизни открывая для себя тайну человеческой плоти и ее разумную упорядоченность. Я бесстыдно обмывала все его тело, словно признав тем самым, что сейчас бессмысленно чего-то избегать или бояться. Он вновь застонал и пробормотал «иди прочь», но, по-моему, он и сам сознавал, что мне нельзя отступиться. В каком-то смысле он совершенно не интересовал меня — этот раб, этот самец, этот Галант. Разрубив ремни, опутывавшие его, я тем самым как бы попыталась обрести свободу; обмывая его, я молилась о том, чтобы и с меня смыло всю скверну.
Кто-то вошел в конюшню. Это была Памела, рабыня, подававшая нам сегодня утром чай.
— Баас Николас приказал мне прийти.
Мне было неприятно ее вторжение, хотя оно и давало мне освобождение и отсрочку, пусть временную, чего-то неизбежного, о чем я, впрочем, тогда еще не могла и догадываться.
— Даже если бы он не приказал тебе, ты все равно заявилась бы сюда, — сказала я, сама не зная почему.
А затем безвольно поднялась на ноги. Мы обе молчали. Галант тоже не произносил ни звука. Мы стояли над его распростертым телом, не сводя глаз друг с друга. Наш безмолвный поединок был исполнен той неистовой внутренней силы, которая может вспыхнуть только в схватке двух женщин.
Надо было что-то сказать, но я чувствовала, что голос беспомощно бьется у меня в горле, как птица, пытающаяся вырваться из силка. Наконец я бессвязно пробормотала несколько первых пришедших мне в голову фраз и вышла. Она их, думаю, даже не расслышала.
Памела
— Бери его. Приглядывай за ним. Никогда никому не позволяй делать с ним такое.
Вот что сказала мне эта женщина. Но я не знала, можно ли ей верить, с белыми надо всегда быть начеку. Вечером они читают тебе Библию, а на следующий день снова берутся за свое. Лучше уж и вовсе не верить им и полагаться лишь на себя. Из дверей конюшни я видела, как она шла по двору мимо бааса Николаса, который стоял возле загородки для цыплят: он что-то сказал ей, но она молча прошла мимо. Тогда я и подумала, что она, должно быть, говорила искренне. И все же я обождала, пока баас не ушел в дом, и только потом решилась пойти к Галанту.
— Подняться можешь? — спросила я.
— А с чего ты взяла, что не могу?
И все же мне стоило немалого труда поднять его на ноги, а по дороге к хижине пришлось то и дело останавливаться передохнуть. Хорошо, что Бет была на кухне, не хватало только, чтобы она попалась мне на глаза. Остальные рабы молча держались в сторонке, словно им было совестно глядеть на нас. А по мне, так оно было и лучше, ведь мне казалось, будто не Галанта, а меня выставили напоказ, будто это я тащусь голая по двору. Да и к тому же теперь за него отвечала я, а не они.
— Эта женщина была добра к тебе, — сказала я, когда мы остановились передохнуть возле хижины.
— Какое мне до нее дело?
— Пошли. Тебе нужно лечь.
— Со мной все в порядке.
Упрямец. Сам не понимал, что говорил. Когда я помогла ему улечься на матрас, он снова потерял сознание, и пришлось окатить его водой, чтобы привести в чувство. Поудобнее устроив его, я послала одного из парней, кажется Роя, к маме Розе за снадобьями. Я видела, что дело плохо. Незадолго до заката она сама пришла к нам, чтобы поглядеть на него. Она принесла кожаный мешок с мазями и снадобьями, и вскоре вся хижина наполнилась запахами камфары, льняного и касторового масла, голландских капель, меда и трав и каких-то неведомых отваров, готовить которые умела только она. Но ей и этого показалось мало, и чуть погодя она поднялась и вышла из хижины.
— Куда это ты, мама Роза? — спросила я.
— Пойду попрошу у Николаса бренди. Галанту нужно выпить.
— Не надо одалживаться у них. Я ничего не хочу просить.
Но она и слушать меня не пожелала. А может, и к лучшему, потому как после бренди он уснул. И лишь тогда, что-то с облегчением ворча, мама Роза отправилась к себе. Вскоре заявилась Бет после вечерней уборки в доме — хозяйка ни за что не ляжет спать, пока все не будет прибрано, — но я встала возле двери и преградила ей дорогу.
— Отправляйся ночевать в другое место. Я сама буду присматривать за Галантом.
Она покорно ушла. Позади был дурной день, она, верно, тоже понимала, что одной искры довольно для того, чтобы вспыхнул пожар. Когда она ушла, на двор наконец-то опустилась тишина. Только иногда лаяла собака или же словно нехотя поскуливала и принималась что-нибудь грызть, или вдруг доносился беспокойный шорох из крааля, но потом снова все затихало. Вдалеке порой слышался вой шакала, звук, который быстро разливается в ночи и высасывает ее. И больше ничего. Тишина тяжело нависла над миром. Но что мне до нее? Фонарь на крюке светил ровным слабым светом. Галант спал. Я молча сидела возле него, все еще боясь поверить, что он наконец со мной.
С того самого дня, когда хозяйка привезла меня на ферму, я приметила его. Может, и потому, что он держался в стороне и никогда не приставал ко мне. Все остальные, и старые и малые, от стариков Онтонга и Ахилла до молодых парней — бахвала Тейса и маленького Роя, у которого ничего еще толком и не получалось, — липли ко мне день и ночь. Поначалу я думала, что, стоит притвориться, будто я берегу себя для Абеля, к его женщине никто приставать не станет. Но я не могла ему довериться, больно уж он бегал за женщинами. Да и мне не хотелось просто так отдаваться мужчине. До сих пор я лишь одному мужчине охотно дарила себя, Луису, с которым мы работали у старого бааса Яна дю Плесси. Потом его продали, я осталась с ребенком, но и ребенок вскоре умер от горячки. Тоска по Луису иссушила меня. А когда я наконец оправилась, то решила, что больше ни один мужчина не будет владеть моей душой. И потому даже радовалась, что Галант не замечал меня. Я понимала, что ему мне было бы отказать непросто. Я желала его, мне не стыдно признаться в этом, но и боялась тоже — тогда, я знала, река выйдет из берегов, разольется, вырвет меня с корнем, унесет и выбросит на какой-нибудь пустынный берег, о котором даже подумать страшно. Я боялась этого потока. Но и понимала, что его ничто не удержит, он нахлынет на нас, раньше или позже. И когда ной Эстер поглядела на меня в тот день и сказала: «Бери его. Приглядывай за ним», я поняла, что поток вот-вот выхлестнет наружу. И успокоилась. Я по-прежнему испытывала страх. Но и страх был теперь мне не страшен. И я не просто смирилась, а была готова отдаться и подчиниться этому потоку.
Всю ночь напролет я сидела возле него, отирала ему лицо, когда он потел, а когда он стонал во сне, накладывала на раны мази, которые оставила мама Роза, легко, осторожно и нежно касалась кончиками пальцев его тела, чтобы успокоить и охладить огонь, сжигавший его. Если его бил озноб, я укрывала его кароссой, а когда он начинал метаться в жару, снова раскрывала и обтирала мокрой тряпкой его голое тело.
Наконец лихорадка вроде бы поутихла, и он погрузился в глубокий и спокойный сон. А я все сидела и молча глядела на него с радостью и удивлением. Все, что я когда-то знала, промелькнуло у меня в голове; казалось, я не смогу двинуться дальше, пока не управлюсь с этими воспоминаниями. Ферма, где я родилась, возле Бред Ривер, люди, которых там знала. Тот далекий день в Ворчестере, когда нас с матерью продали в уплату за хозяйские долги. Долгое путешествие в фургоне бааса Яна на его ферму Буффелсфонтейн, дорога через горы и затем сюда, в Боккефельд. Хозяйка Сесилия, которая всегда была добра ко мне, дарила свои старые платья, учила шить и вышивать тамбуром, готовить и штопать и подолгу читала мне каждый день после обеда Библию, пока я, устрашившись серного пламени в аду, плача и скрежета зубовного, не согласилась, чтобы меня крестили в Тульбахе накануне рождества. А потом Луис. И вскоре хозяйка потребовала, чтобы я приехала к ней в Хауд-ден-Бек, потому как другим рабам она не доверяла. Но сейчас в хижине Галанта все былое казалось каким-то далеким, словно все, что было до сих пор, происходило лишь затем, чтобы подготовить меня к этой ночи. Вокруг нас лежала бескрайняя тьма, а в этой чуть освещенной хижине мы притаились, словно дети, укрытые в лоне огромной черной матери. Словно всему на свете еще предстояло родиться заново.
Наконец запели петухи, хотя пока не светало. Галант проснулся, присел, опершись на локти, и потерянно и удивленно поглядел по сторонам. Потом снова улегся и уставился на меня, хмуро насупив брови, словно не понимал, да и не желал понимать, что же произошло.
— Не тревожься, тут только я одна. Я присматриваю за тобой.
— Я сам в силах присматривать за собой.
— Так дальше продолжаться не может.
Он снова молча уставился на меня.
— Ты не можешь один бороться с ними со всеми.
— Утром я пойду в Ворчестер, — резко оборвал он меня.
— Куда ты пойдешь в таком состоянии?
— Как только смогу ходить, пойду. Пойду жаловаться.
— И будет только хуже. Нельзя же всякий раз начинать все сначала.
— Я и не начинаю. Я продолжаю.
— Это тебе только кажется. — Голос у меня охрип от гнева, я боялась даже представить себе, что с ним снова может случиться такое. — Каждый раз остаешься в дураках.
— Нет. — Он сел, хотя лицо его и искривилось при этом от боли. — В дураках остается Николас. Это ему приходится ехать за мной и привозить меня обратно. Это ему приходится просить их, чтобы меня выпороли. Я-то могу все это стерпеть.
— Думаешь, что и впрямь можешь стерпеть? — Я дотронулась пальцами до его израненных плеч — его передернуло.
Но он только стиснул зубы и продолжал:
— Да, могу! Неужели не понимаешь? Прежде, когда он не решался тронуть меня, руки у меня были связаны. Но раз он бьет меня, я могу дать сдачи.
— Никто не может дать сдачи.
— Памела. — Едва он произнес мое имя, как мы оба вдруг затихли. — А я-то думал, что ты поймешь меня.
Я опустила голову, прижавшись к нему лбом.
— Делай, что считаешь правильным, — прошептала я. — Если так нужно. Я буду с тобой.
— Верно, — сказал он чуть погодя, — один я больше не могу. — Он взял меня за подбородок, приподнял мою голову и поглядел в лицо, его голос задрожал: — Но я не имею права. Неужели ты не понимаешь? Я не имею права просить кого-то остаться со мной. Может произойти, что-то ужасное.
— Но и ужасное лучше встречать не в одиночку.
— Оставь меня, пока не поздно, — сказал он.
— Нет, — ответила я из полутьмы. — Позволь мне быть возле тебя. Возьми меня, если хочешь.
Мне пришлось поддерживать его. Не понимаю, как он управился со своим израненным телом. Должно быть, он, как и я, понимал, что ни боль, ни то, что из этого всего выйдет сейчас, не имеет значения. Понимал, что нам этого уже не избежать. Потом он нежно гладил костяшками пальцев мое лицо.
— Галант? — сказала я так, словно его имя было для меня самым трудным вопросом. — Кто ты?
В его глазах вспыхнула тревога. Он долго в упор глядел на меня и лишь потом заговорил, вначале медленно и осторожно подбирая слова, потом все более и более настойчиво, словно ему уже было не остановиться. Он рассказывал о маме Розе, которая кормила его грудью, его и Николаса, обоих, о детстве в Лагенфлее, обо всем, что они с Николасом делали вместе, о норе, которую они вырыли и в которой их завалило, о запруде, о льве, которого они убили, о мужчине в цепях, которого он повстречал в тюрьме в Тульбахе, о Кейптауне, о людях, живущих свободными за Великой рекой. Он рассказывал о лошадях, которых укротил, о долгих бешеных скачках по ночам в никуда, просто так, слепых путешествиях во тьму, когда ездок и конь словно сливаются в одно целое. В дикой скачке, говорил он, ты можешь на время забыть о том, что ты раб. Есть только человек и конь, всего остального словно не существует. И весь мир — твой. Все это вдруг выплеснулось в его сбивчивых рассказах — только потому, что я спросила: «Галант, кто ты?» Но когда он наконец умолк, ответа я так и не узнала. Его клонило в сон, и даже голос стал сонным, и вот мы оба уснули, рядом, и я проснулась лишь утром, когда небо за стенами хижины уже окрасилось в унылый цвет заплесневелого хлеба. Но нам до этого не было никакого дела, мы были вместе и согревали друг друга теплом наших тел, единственного, что принадлежало только нам. В такие ночи ты болен мыслью о смерти, и не потому, что она поджидает и тебя, и другого, но потому, что вдруг понимаешь: смерть — это часть тебя самого, мозг костей твоих, и ты ощущаешь страдание и нежность, которая смягчает это страдание, и готовность одарить другого всей возможной любовью и участием, чтобы наперекор любым ужасам наступающего дня успокоить и его боль. И я открыла ему себя, не только свое тело, но и душу, чтобы он влился в меня, смыл и унес меня прочь, как дерево, с корнем вырванное разлившейся рекой, унес куда захочет, за пределы любой темноты.
И лишь потом, наконец решившись открыть глаза, я сказала:
— Ты так мне ничего и не ответил.
— А о чем же ты меня спрашивала?
— Не помню.
Мы снова заснули и спали до тех пор, пока не услышали звуки колокола. Галант остался в хижине, я попросила, чтобы он не вставал. Там, возле хижины, в холодный утренний час баас Николас и увидел меня, когда он, как обычно, шел в крааль. Явно удивленный моим появлением тут, он некоторое время не знал, что сказать.
— Что ты здесь делаешь? — наконец спросил он.
— Я теперь с Галантом.
Он поглядел на меня странным строгим взглядом, от которого все во мне сжалось, и мне показалось, будто он смотрит не на меня, а в меня и на что-то такое, на что не имеет права смотреть. Я ничего ему не сказала. Но уже тогда поняла, что он больше не оставит меня в покое.
Похоже, что теперь ему стало проще говорить не с Галантом, а со мной, и все следующие дни он то и дело останавливал меня, чтобы сказать что-нибудь для Галанта. «Скажи, что ему не на кого обижаться», «Скажи, чтобы он взял себя в руки» или «Скажи, что так будет лучше для него самого».
Но Галант не желал ничего слушать. Он оставался в хижине три дня. А затем, все еще с трудом держась на ногах и пошатываясь точно пьяный, пошел к баасу и сказал ему, что уходит в Ворчестер жаловаться. Я старалась, как могла, отговорить его, хотя и понимала, что уговоры бесполезны. И пусть сердце у меня сжималось от страха за него, я все же была горда, что он не подчинился, хотя и понимала, что его ждут новые страдания, сначала в Ворчестере, а потом дома, в Хауд-ден-Беке.
Бет во всем винила меня. «Это ты его настропалила, — накидывалась она на меня. — Неужели не понимаешь, на что ты его подбиваешь?» Но сердца ее все это не затрагивало, думаю, она была даже рада, что наконец сбыла его с рук, ведь любому на ферме было ясно, что она желала только одного мужчину, самого бааса. Как только Галант вернулся из Ворчестера, он и вовсе порвал с Бет, и она перенесла свои пожитки в новую хижину, построенную для нее Онтонгом. А я осталась с Галантом.
С хозяйкой тоже были свои хлопоты. Она всегда недолюбливала Галанта, в ее глазах он вечно выходил кругом виноватым. И я заметила, что, когда между баасом и Галантом вспыхивали ссоры, чаще всего подначивала бааса на это хозяйка. На людях она держалась святошей, но, оставаясь с ним наедине, не скупилась на язвительные попреки — из кухни мне все хорошо было слышно. С липучей назойливостью она принялась пилить и меня. Когда я мыла ей голову или расчесывала волосы, она частенько говорила:
— Памела, будь поосмотрительней с этим Галантом.
Я продолжала мыть ее волосы в теплой воде, делая вид, будто не понимаю, о чем речь.
— Он тебе не пара. Он собьет тебя с пути истинного.
— Я справлюсь с ним, хозяйка.
И принималась так яростно тереть ей голову, что ей трудно было продолжать свои поучения. Но я знала, что при первой же возможности она снова начнет мытарить меня. Я старалась не обращать внимания, но, когда мы решили пожениться, а хозяйка затеяла помешать этому, я почувствовала, что попала в западню. Она же сама обратила меня в христианскую веру. И я-то знала, что теперь рабам разрешено жениться у пастора. Но когда я попросила ее переговорить об этом с баасом, она вышла из себя.
— Чего это ради ты решила выйти замуж?
— Мне хотелось бы жить согласно заповедям.
— Твой Галант полное ничтожество.
— Но я хочу его в мужья себе. Мы хотим, чтобы у нас были дети, а это грешно, если люди не женаты.
— Хорошо, я поговорю с баасом.
Но всякий раз, когда я напоминала ей об обещании, она увиливала от ответа. Наконец я поняла, что она и в мыслях не держала говорить об этом с баасом. А когда Галант сам рассказал ему обо всем, она со злобными упреками накинулась на меня:
— Я же обещала, что поговорю с баасом. Для чего самовольничать у меня за спиной?
— Мы просто хотим получить разрешение, хозяйка.
— Памела, я не узнаю тебя, ты больше не та послушная девушка, которой я так доверяла.
Я ничего не стала отвечать. И постаралась прогнать от себя все мысли, связанные с тем, что творилось в Хауд-ден-Беке. Сами по себе все эти неприятности были не слишком серьезными, каждую в отдельности можно назвать пустяком, мелочью, и не более. Но когда это случается изо дня в день, год за годом? Стоило нам устроить субботним вечером пирушку, особенно если тут был Абель со своей скрипкой, как тут же из дому появлялся баас и кричал нам: «Довольно шуметь! Снова напились как свиньи?» Стоило кому-нибудь усесться в тени в жаркий летний полдень, чтобы поболтать и скоротать время, как наступала очередь хозяйки: «Вы разве не знаете, что мне надо немного отдохнуть? Неужели нельзя не орать во весь голос?» Если тебе что-нибудь вдруг понадобится: мука, хлеб, топленый жир, лекарства или что-то еще, изволь идти в дом и попрошайничать. Пожалуйста, хозяйка. Спасибо, хозяйка. В доме все вечно держат под замком. Считается, будто мы воруем все, что попадется под руку. А стоит чему-то затеряться — хотя теряли вещи обычно хозяйские дети, — сразу же подозревают Лидию, Бет или меня: «Неужели вы не можете держать руки подальше от чужих вещей?» И ни тебе извинения, ни объяснения, когда вещь потом, конечно же, отыщут в том самом месте, где ей и следовало быть. Или я работаю на кухне, а хозяйка шьет в комнате, и раздается крик: «Памела, я уронила катушку! Подними ее». Я иду и поднимаю катушку, хотя она лежит прямо у ног хозяйки. Потом нужно поднять ножницы. Потом иголку. Или что-то еще. А после ужина, когда я уже валюсь с ног от усталости и спешу поскорее вернуться к Галанту, нужно еще перемыть всю посуду, прибраться во всем доме сверху донизу — вдруг, мол, господь решит посетить его ночью и увидит тут беспорядок. И так изо дня в день. Хочешь не хочешь, а согласишься с Галантом, что порка — это еще не самое худшее. Но ради Галанта я лишь стискивала зубы и терпеливо сносила все, что выпадало мне на долю. Я знала, скажи я ему об этом, он разъярится и как-нибудь выместит свою злобу: сломает плуг или хомут, поранит ягненка, изобьет лошадь бааса или сделает дыру в бочке для воды. Он был мастер досаждать им так, что они не ведали, кто в этом виновен. Мне не хотелось подстрекать его на новые стычки, ведь в то время на ферме воцарился мир — хотя и ненадежный, все время напоминающий тебе о чем-то незримом, что молча нависло над тобой и только ждет подходящего мига, чтобы прорваться наружу. Вот почему я не говорила и не делала ничего такого, что могло бы вызвать их злобу, я старалась терпеливо выносить все: питалась их объедками, ходила в их обносках. И каждый вечер, склонив голову и сдерживая бушевавшую в сердце ярость, я приносила ведро с теплой водой и становилась перед ними на колени, чтобы снять с них обувь и вымыть им ноги — сначала баасу, потом хозяйке, потом детям. Да свершится воля твоя. Я думала о Галанте, который ждет меня в хижине, в нашей собственной хижине; думала о том, что когда-нибудь, когда они наконец дадут согласие, мы с ним поженимся и станем мужем и женой перед лицом всевышнего. Или этому вообще никогда не бывать? Ведь со дня, когда Галант заговорил об этом с баасом, тот стал пользоваться любым предлогом, чтобы держать Галанта от меня подальше, словно завидуя тем часам, которые мы проводили вместе: то отошлет Галанта со стадом к фермеру в Роггефельд, то прикажет отвезти фургон с фруктами в Тульбах, то потом отправит его на несколько дней помогать старому Дальре обрабатывать землю — это было еще до появления там управляющего Кэмпфера, — а стоит Галанту вернуться, его уже дожидается какое-нибудь новое поручение.
Трудно было выносить взгляд бааса, смотревшего на меня так, точно я была голой. С того самого дня, когда он увидел, как я выхожу из хижины Галанта. Особенно тяжело это было, когда мне приходилось мыть ему ноги. Он не спускал с меня глаз и смотрел на меня в упор, его нога прижималась к моему телу, он пытался коснуться ею меня даже тогда, когда сидел, перелистывая Библию, чтобы найти то место, которое собирался прочитать нам после ужина. И так каждый вечер. И все же мне и в голову не приходило, что дело зайдет так далеко.
Как же это все случилось? То было в конце зимы, болото еще вздувалось от зимних вод, но наседки уже сели на яйца. В разгар подготовки к весеннему мыловарению между баасом и хозяйкой вспыхнула ссора, начавшаяся с обычных попреков, что, мол, он никудышный хозяин, не умеет справиться с собственными рабами, и особенно с Галантом, который совсем отбился от рук. Улучив момент, я выскользнула из дома и побежала предупредить Галанта:
— Будь поосмотрительней с баасом. Они снова поругались.
Галант и без того был в мрачном настроении, угрюмо глядел по сторонам и отшвыривал все, что попадалось под ноги, злясь из-за того, что сломалась какая-то вещь, а обругали за это его. А когда он потом принялся колоть дрова, то со злости разбил вдребезги игрушечный фургон, который сам смастерил хозяйским детям несколько дней назад. Даже странно, что он так поступил, ведь он всегда очень любил детей, но в тот день в него точно бес вселился. За этим делом его и застал баас, который вышел во двор, как раз когда Галант втаптывал в землю обломки игрушки. Я тоже вышла в это время из кухни, чтобы покормить цыплят, услыхала, как баас закричал: «Галант!» — и сразу поняла, что дело плохо.
Я остановилась на пороге, держа под мышкой коробку с зерном. О господи, подумала я, только бы не все сначала.
— Чем это ты тут занимаешься, Галант?
— Эта штука мешает мне работать.
Баас направился к нему, медленно сжимая и разжимая кулаки.
— Снова нарываешься на неприятности?
Галант обрушил топор на полено с такой яростью, что его половинки взлетели кверху, едва не угодив в бааса.
— Ты что, хочешь убить меня?
— А ты не крутись под ногами. Мне нужно работать.
Что было бы, если бы я не стояла рядом? Еще одна жуткая ссора? Не знаю. Тогда я об этом и не думала, мне и в голову не приходило, что я могла чему-то помешать. Я заметила только, как баас отвернулся от Галанта, пытаясь сдержать гнев, и тут увидел меня и словно запнулся. А потом сердито приказал:
— Ну хорошо. Только поторапливайся и поскорее заканчивай.
— Ради бога, перестань дразнить его, Галант, — взмолилась я, как только баас ушел.
— А ты не суйся не в свое дело.
Я покормила цыплят и ушла на кухню готовить ужин. Когда тарелки уже стояли на столе и я вошла в комнату с ведром воды, баас снова уставился на меня, но я отвела глаза и потупилась. Встав на колени у него в ногах, я развязала шнурки на тяжелых башмаках и сняла их. Я опустила в воду сначала одну его ногу, потом другую, намылила и сполоснула их водой. Чтобы вытереть ему ноги, мне пришлось ставить их себе на колено, и я чувствовала, как он прижимает ступни к моему телу. Меня едва не стошнило, но я сдержалась, закончила свое дело и принялась мыть ноги хозяйке и детям. Потом отнесла ведро на кухню. Меня то и дело звали в комнату: поднять ложку, которую уронил ребенок, убрать тарелки, подать еще мяса, отрезать ломоть хлеба. После ужина я убрала со стола посуду и села для молитвы на пол возле двери вместе с остальными рабами. В тот вечер молитвам, казалось, не будет конца, баас читал и читал, слова из Библии окатывали меня, будто ленивые воды огромной реки. Но наконец он замолчал, и мы поднялись, чтобы выйти из комнаты.
Когда я подошла к двери, баас окликнул меня:
— Памела.
Я оглянулась.
— В последние дни ты часто запаздываешь по утрам с чаем, — сказал он. — Пожалуй, лучше тебе спать на кухне, чтобы ты успевала вовремя вскипятить воду.
— В чем дело, Николас? — подозрительно спросила хозяйка.
— По-моему, в этом доме хозяин я, Сесилия, — ответил он, не поднимая на нее глаз.
В голове у меня не было ни единой мысли, и я даже ничего не чувствовала. Просто оцепенело повернулась и направилась к задней двери.
— Куда ты? — спросил баас.
— Схожу к себе к хижину. Галант уже ждет меня.
— Нечего тебе ходить туда. Я же сказал, чтобы ты оставалась тут.
— Хорошо, баас. — Слова застревали у меня в горле, но я все же выдавила их из себя.
Позади него я видела женщину, одиноко сидевшую за пустым длинным столом: спина выпрямлена, руки спокойно лежат на Библии, и только голова поникла.
Той ночью на полу в чадной кухне Николас в первый раз овладел мною: с неистовством человека, напуганного тем, что он делает, но и с яростью того, кто никому не позволит удержать себя хотя бы потому, что сам понимает, что поступает дурно.
Сесилия
Никогда прежде я ни единым словом не упрекнула его. (Удерживаемая не только слепой покорностью мужу, но и стыдом за свои ночные кошмары, уже долгие годы мучившие меня. Как знать, быть может, его поведение было лишь карой, ниспосланной мне?) Если он желает навлечь на себя гнев господен, то мне, его жене, не подобает ронять свое достоинство, унижаясь до попреков. Я старалась просто исполнять свой долг: смиряясь перед господом, я оберегала чистоту своей плоти и чистоту плоти моих дочерей. Но когда он стал спать с Памелой прямо у нас в доме, бесстыдно оскверняя святыню нашего семейного очага, я призвала его к себе, открыла Библию и попыталась наставить его на путь истинный словами из книги Иисуса Навина:
Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего.
Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам:
То знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичем для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш[23].
Его лицо побагровело от ярости.
— О чем это ты, Сесилия?
Я неторопливо закрыла Библию и застегнула ее.
— Как-то раз ты рассказал мне об ужасной мерзости, которую сотворил Франс дю Той, — сказала я. — Тогда тебе было даже помыслить страшно о том, что мужчина может пасть столь низко. Но сегодня я спрашиваю тебя, Николас: разве есть разница между тем, что совершил он, и тем, что ныне совершаешь ты?
— Сесилия, как ты смеешь говорить такое!
Но я не отступила. Я ощущала удивительное спокойствие и уверенность в своей правоте. Я знала, что господь на моей стороне.
— Когда мы в прошлом году ездили в Кейптаун, — сказала я, — я ужаснулась, увидев среди рабов белых детей. Если так пойдет и дальше, подумала я тогда, нам не останется ничего другого, как освободить рабов. А что тогда будет с нами? На этой земле, которую сам господь даровал нам, мы станем подобны диким зверям. В своем безумии станем есть траву, подобно Навуходоносору.
— Ну, ты зашла слишком далеко, — слабо запротестовал он.
— Смирись перед господом, пока не поздно. Почему ты не упадешь перед ним на колени и не попросишь его открыть тебе, кто из нас двоих зашел слишком далеко?
Лишь одна мучительная уверенность владела мною: все мы живем в доме, построенном на песке. И разразится гроза, и нахлынет поток, и ураган станет сотрясать наш дом, и дом обрушится, и падение его сокрушит все вокруг.
Николас
Помоги мне, господи. В ту давнюю немыслимую ночь в горах я поклялся себе, что никогда больше не подниму руки на Галанта, спасшего мне жизнь. Но стоило нам вернуться в Боккефельд, как он вновь отдалился от меня. В защищенности той ночи я мог говорить с ним, возбужденные и словно опьяненные, мы ненадолго вновь стали близки, как в детстве. А теперь мы снова хозяин и раб. Видит бог, я старался выполнить обещание, данное себе самому в ту ночь, но это оказалось очень трудно, да и Галант не делал ни малейшей попытки помочь мне. Даже с наглостью, показным неповиновением и надменностью я сумел бы справиться, будь их корень в обычном упрямстве трудного раба. Но темный, таинственный поток, который, как я чувствовал, подспудно направлял его действия, вселял в меня неуверенность и страх — тем более что и сам Галант, похоже, тоже не вполне понимал, что им движет. Во мне росло ощущение того, что я безнадежно утратил власть над окружающим миром и над самим собой: даже стремление бороться против зла в собственной душе ослабевало. Да, это было на редкость бесхитростное открытие — понять, что отвращение убывает, что важен лишь первый поступок из любой цепочки: в первый раз, содрогаясь от желания и омерзения, ты принуждаешь себя овладеть черной женщиной; в первый раз связываешь руки человеку, чтобы выпороть его; В первый раз попираешь свои «принципы». А потом, сколь бы благими ни были твои намерения и сколь бы отчаянно ты ни пытался сопротивляться, возврата к прошлому уже нет. Ведь это себя самого ты и унизил. И единственное, что остается, — это агония молчания, окружающего каждый твой поступок, молчания, через которое не пробиться ни снаружи, ни изнутри.
Было нелегко, господь свидетель, вечно жить под гнетом набожных увещеваний и презрительных попреков Сесилии, из-за которых становилось все труднее держаться с нею, как то подобает супругу, из-за которых меня все более неодолимо влекло к темному пополнению мужской силы, присоветанному мамой Розой, к жуткому снадобью, к которому я — хотя и с прежней брезгливостью — уже приохотился, а потому заслуживал еще большего осуждения в глазах Сесилии. Карать ее и отстаивать свои права, карать себя и признавать ее власть надо мной — как вырваться из этого страшного водоворота, раздиравшего мне душу? Грех во мне, грех во мне.
С Памелой все стало еще тяжелее. Слишком уж она была не похожа на Лидию. Привыкнув жить, переступая через отвращение, я был испуган, заметив, что, думая о Памеле, испытываю только желание. А может, и не желание само по себе? Быть может, то было влечение, порожденное мучительным осознанием ее близости с Галантом? Только так я мог прикоснуться к нему. Видит бог, я вовсе не желал ни причинять ей зла, ни вызывать его вражды — как раз наоборот. Благодаря близости с ней я как бы на ощупь шел к той устрашающей близости с ним, которую познал лишь однажды в жизни, когда был по-настоящему свободен.
Но все было, конечно, попусту. Она лишь подлила темной влаги в тот поток, который набухал и набухал и над которым я давно уже утратил всякую власть.
Но кому я мог поведать о своем бедственном положении? Я не допускал и мысли о том, чтобы поделиться своими горестями с Сесилией. Памела — та вообще никогда ничего не говорила, лишь коротко отвечала на мои вопросы, и молчание ее было обвинением куда более красноречивым, нежели любые упреки. Баренд просто высмеял бы меня, и я давно утратил надежду добиться доверия Эстер. Также немыслимо было, по разным причинам, говорить об этом с отцом или с матерью.
Мама Роза? Может быть. Но жгучая память о том, что именно она первой толкнула меня на этот путь, в этот темный поток, удерживала меня. В отчаянии я стал думать о старике, который недавно поселился на небольшом участке в Хауд-ден-Беке, о портном и сапожнике Дальре. Он чужестранец, скорее всего он и не поймет моих тягот. И все же именно то, что он чужак, беспристрастный и равнодушный к ходу наших жизней, влекло меня к нему.
Я долго колебался, пока не почувствовал, что не в силах больше выносить все это. Как-то ночью, гуляя по вельду, я остановился возле жилища мамы Розы: в тусклом красновато-желтом свете очага я увидел старуху, которая возилась у огня, готовя свои отвары и настойки. Сердце у меня сжалось от тоски по ней. Но я знал, что не смогу поглядеть ей в глаза, и потому побрел дальше по неровному вельду, то и дело проваливаясь в неожиданные ямы и спотыкаясь о торчащие из земли валуны. В небольшом, крытом тростником домике Дальре, в его единственной комнате, еще горел свет. Я сделал крюк, чтобы меня не заметили работники — темные тени раскачивались в такт музыке и временами взрывались хохотом. Белый управляющий Кэмпфер сидел вместе с ними. Увидав его, я почувствовал раздражение — подобное панибратство казалось мне предосудительным. Впрочем, это меня не касалось. Дверь домика была открыта, и я разглядел тощего старика, работающего за грубо оструганным столом; белая грива старика была взъерошена и сверкала в свете лампы.
— О, мистер Ван дер Мерве, — сказал он, явно встревожившись при виде меня, — какой приятный сюрприз!
— Простите, если помешал.
— Может быть, вы зайдете? Не хотите ли выпить?
— Нет, спасибо, — отказался я, но он уже наливал в оловянные кружки бренди — отвратительное пойло, сжигающее внутренности и вызывающее головокружение.
— Вам тут, должно быть, очень одиноко, — сказал я, не решаясь отпить второй глоток.
Он пожал плечами.
— Ко всему привыкаешь.
Он осушил свою кружку залпом, причмокнул губами, взял со стола шило и снова принялся тачать башмак.
— Никак не пойму, почему вы решили поселиться в Боккефельде, — сказал я. — Вы на своем веку, вероятно, повидали немало куда более заманчивых мест.
— О, разумеется. — Он послюнил дратву, которой сшивал башмак. — Путь у меня за плечами долгий. Я родился в Пьемонте. Знаете, где это?
— Никогда и не слышал о таком.
Продолжая эту беседу, я просто тянул время, словно пытаясь избежать разговора о том, что меня мучило.
— Исколесил всю Европу, пока не оказался здесь по дороге на восток. Но так и не попал никуда дальше Капской провинции… — Он вдруг замолчал и поглядел на меня с напряженной улыбкой на старом, морщинистом, как у обезьяны, лице. — Быть может, ваша мама рассказывала, что я был знаком с ней в Кейптауне, еще до того, как она вышла замуж?
Одним случайным замечанием он перечеркнул единственную причину, побуждавшую меня довериться ему: я-то считал, что он чужак, стоящий как бы в стороне от наших жизней. Но он, оказывается, знал мою мать. Теперь понятно, почему он приехал сюда. Он тоже один из них. Как же я мог надеяться, что он поймет меня?
— Уже поздно. — Я поставил кружку на стол, так и не допив бренди. — Пора домой.
— Куда вы торопитесь? — разочарованно спросил он. — Мы даже ни о чем толком не поговорили.
— Я просто шел мимо и увидал у вас свет… Мне вскоре понадобится пара башмаков.
— В таком случае давайте я сниму мерку.
— Я приду в другой раз.
— Нет-нет, — настаивал он. — Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, верно?
С трудом сдерживая нетерпение и раздражение, я все же позволил ему заняться делом. Суетясь и астматически дыша, он обмерил мне ноги. Всю дорогу домой меня не покидало странное, неприятное ощущение, будто я оставил там часть себя. Словно, позволив старику нарисовать на куске кожи мою ногу, я дал ему некую бессмысленную и коварную власть надо мной.
Ничто не стало яснее. Да ничто и не могло проясниться. В темной кухне сейчас, должно быть, спит Памела, безразлично покорная моему праву распоряжаться ее телом, если мне вдруг взбредет в голову разбудить ее. И я знал, что взбредет. Что мне еще оставалось?
Галант — да, именно он был тем человеком, с которым мне хотелось поговорить и к которому хотелось прикоснуться. Но наша песчаная нора уже давно обвалилась и погребла нас под тяжестью своего свода. А темный поток неумолимо нарастал.
Дальре
Человек всегда одинок. Мы говорим и живем, не замечая друг друга. После того как старый Пит ван дер Мерве приказал Николасу выделить мне клочок земли на его ферме, я редко виделся с соседями. Их возмутило мое вторжение, я чувствовал это. Они смотрели на меня свысока, для них я был чудаком, чужаком и самозванцем. Христианское чувство долга предписывало им терпеть мое присутствие, но мне никогда не позволят стать среди них своим. Я вскоре понял, что Боккефельд неохотно открывает свое сердце посторонним. На меня всегда глядели с подозрением, словно я был не просто нищим, из милости живущим здесь, а носителем бог весть какой чудовищной заразы. Единственным, кто порой снисходил до того, чтобы побеседовать со мной, был Франс дю Той. Да и то лишь потому, что он ощущал себя таким же изгоем, как и я. Только причина этого была иная — упорный слух о том, что родимое пятно, покрывавшее левую половину его лица, было отметиной дьявола. Мне же он казался довольно приятным молодым человеком, куда более образованным, нежели многие другие соседи, и очень порядочным, хотя мне и доводилось слышать, как соседи говорили, должно быть из зависти, что его сделали филдкорнетом из-за того, что он водился с англичанами, предавая свой народ. Но я никого не вправе судить.
Порой нам с ним случалось поспорить.
— Разве так плохо жить одному? — спрашивал я, когда он начинал роптать на то, что, как мне казалось, было его судьбой. — Полагайся только на себя, и никогда не будешь зависеть от других. А стоит связаться с другими людьми, ни за что не узнаешь, куда это тебя заведет. Впутаешься во что-нибудь, сам того не ведая. И что бы ты ни делал, все равно небеса и преисподняя следят за каждым твоим шагом.
— Вам следовало бы стать проповедником, а не сапожником, — говорил он мне.
— А это почти одно и то же. Пока твои руки заняты делом, голова твоя вольна размышлять о господе и о человеке.
— Вам легко говорить. Вы уже старик, вы можете обходиться без других людей. — Тут он обычно ненадолго замолкал, а затем добавлял: — Вы можете обходиться без женщин. Но когда ты молод, трудно пренебрегать требованиями плоти.
В ответ на что я либо улыбался, либо вздыхал и снова погружался в собственные мысли. Разве я мог объяснить им свою жизнь? Этим людям я, должно быть, кажусь безумцем — старый болтун, который запустил и свою работу, и свои земли, бездельник, который опускается все больше и больше, живя в окружении цыплят, свиней и всякого хлама, и лишь урывками, не прилагая особых усилий, шьет одежду и обувь, а то и попросту бродит, бормоча что-то на непонятном чужом языке.
Даже самому себе это было не просто объяснить — про эти небеса и преисподнюю, о которых я толковал ему. На первый взгляд моя жизнь может показаться чрезвычайно заурядной, а то и скучной. Даже то, что во времена юности сверкало яркими красками, теперь выцвело до несуразности. Итог всему этому можно подвести в нескольких словах: молодой человек из Пьемонта, которому наскучила старушка Европа, собрал свои пожитки, чтобы попутешествовать и повидать мир, встретил на острове Тексел одного бахвала, убедившего его отправиться вместе с ним в Батавию, и высадился три месяца спустя, уже похоронив в море своего многоречивого попутчика, в Кейптауне, где растранжирил все свои деньги в забегаловках и публичных домах, а когда корабль отплывал обратно, ему не оставалось ничего другого, как задержаться в Кейптауне, где он сделался портным и сапожником, поселившись тут на время, которое растянулось очень надолго, против чего он и не возражал, особенно после того, как свел знакомство с богатым семейством де Филлирсов и влюбился в их жизнерадостную дочку Алиду, чтобы в один прекрасный день узнать, что Алида сбежала из дому с неотесанным мужланом из Боккефельда; после чего он в должное время женился на другой добропорядочной женщине, с которой жил вполне прилично и в относительном благоденствии до дня ее смерти, а затем ненадолго вернулся на родину, где все уже стало для него настолько чужим, что его снова потянуло в Кейптаун; откуда он, в последний раз поддавшись зову крови, отправился, погрузив в фургон все свои пожитки, далеко в глубинку за мечтой утраченного прошлого, а затем, с радостью и смятением отыскав на забытой богом ферме в Боккефельде потерянную Алиду далекой юности, принял приглашение ее супруга — теперь уже старого и смирившегося — и обосновался на небольшом клочке земли, принадлежавшей Алидиному сыну, в Хауд-ден-Беке, где и намеревался теперь тихо прожить немногие еще отпущенные ему годы. Так завершился круг моей жизни. И единственное, чего я хотел, — это чтобы меня оставили в покое и не принуждали снова вмешиваться в жизнь других людей.
К тому же я привык довольствоваться малым и, кроме Франса дю Той, людей видел редко. Время от времени я получал приглашение на воскресный обед в Лагенфлей, где вся семья собиралась за столом в старомодных праздничных нарядах. Порой ко мне заявлялся старый Пит, чтобы бросить неодобрительный взгляд на беспорядок во дворе. Старший сын Пита держался со мной крайне нелюбезно и, когда отца не было рядом, бормотал злобные ругательства. Жена Николаса, истинная христианка, всегда была готова прислать мне кастрюльку супа, дичину, корзинку яиц, тыкву или муку, но и она бывала остра на язык, говоря о том, что считала моей ленью и распущенностью. Сам Николас, похоже, был нелюдимым. Он всегда дружелюбно отвечал на мои приветствия, охотно обменивался несколькими словами о погоде, видах на урожай или непослушании рабов, но не более того. Лишь однажды он навестил меня сам. Это было поздней ночью, и мне показалось, что он чем-то расстроен, но выяснилось, что он пришел просто заказать новые башмаки. Странно, подумал я, являться так поздно ночью из-за подобных пустяков. Но чужая душа всегда потемки.
И еще, конечно, Алида — истинная цель и причина моего безрассудного путешествия через горы. Чего я, собственно, ожидал, покидая Кейптаун? Но человек хранит в душе образ далекого прошлого, нелепо и любовно расцвечивает и приукрашивает его в течение многих лет. Снова увидеть ее было для меня сильным потрясением. Не потому, что она постарела. Ведь и теперь она оставалась красивой женщиной, хотя и казалась замкнутой и подавленной — совершенно не похожей на ту веселую молодую девушку, которую я когда-то знавал. Может быть, это и было главным разочарованием — увидеть угасшим столь яркий свет?
Обосновавшись в Хауд-ден-Беке, я несколько раз наезжал в Лагенфлей. Ее муж всегда был дома. У нас так мало находилось тем для разговоров, что мои визиты к ним вскоре прекратились. И все же что-то в моей душе не желало умирать — ревнивая память, надежда, не исполненное и, быть может, неисполнимое желание, которые поддерживали меня в моем одиночестве. И наконец в прошлом году, после большого перерыва, я приехал в Лагенфлей посреди жаркого лета и застал ее одну. Она, как всегда, была отчужденной и неразговорчивой, но мой внимательный взгляд сразу же распознал в этом не что иное, как намеренную защиту слишком ранимой женщины. Пожалуй, мне следовало проявить деликатность и не затрагивать этой темы, но я полагал, что один-единственный раз я вправе проявить настойчивость и заставить ее признаться в том, что и так уже мне было ясно, — что она раскаивается в решении, принятом много лет назад, что она все еще думает обо мне.
— Вы помните, — начал я после того, как рабыня принесла чай и удалилась, — когда мы были…
— Тут помнить нечего, — сказала она. — Прошлое — это прошлое. Оно прошло. Навсегда. Человек должен смириться перед волей господней.
Она сидела спиной к открытому окну, из которого лился яркий свет, ее изящная голова слегка склонилась, когда она нагнулась, чтобы налить чаю. Нет страдания мучительнее, чем воспоминание о былом счастье.
В открытое окно я увидел подходившего к дому Пита. Она его не видела. Я приподнялся, чтобы поприветствовать Пита, но, не дойдя до двери, он резко повернулся и зашагал прочь. Я взял у Алиды чашку и снова сел. Удобный случай для разговора был упущен.
Вскоре после этого мне сказали, что у Пита на поле случился удар. Несомненно, из-за того, что он решил, будто между Алидой и мною что-то произошло. Как глупо. Я уже два года жил по соседству, и ему следовало понимать, что я человек порядочный и никому не причиню зла. Но они трудные люди, эти Ван дер Мерве.
Я вовсе не хотел бы прослыть неблагодарным. Они были великодушны и даже добры ко мне. Баренд нанял работников, чтобы помочь мне, даже раб Долли был выбран им, без сомнения, с лучшими намерениями, хотя Долли и доставлял мне много хлопот. Гораздо лучше я ладил с другим рабом, Галантом, которого время от времени присылал Николас, чтобы помочь починить что-нибудь, вспахать землю, засеять или собрать урожай на узкой полоске земли, а прошлой зимой Галант частенько оставался у меня даже целыми неделями — надежный и послушный работник. И все же удивительно, сколь неблагодарны эти рабы. Я помню, как Николас заказал мне жакет для Галанта. Сам выбрал плис, дорогую ткань, лучшую из того, что у меня было. Следовало ожидать, что Галант будет беречь дорогую обновку. Она и в самом деле была слишком хороша для раба. Но менее года спустя, когда он снова явился ко мне, жакет на нем был изодран в клочья, что я воспринял как оскорбление делу моих рук. Но зима в тот год стояла холодная, мне стало жаль его, и я подарил ему свой жакет, который сам носил всего пару лет. Но я ни разу не видал, чтобы Галант надел его. Так и расхаживал в своих лохмотьях. Никогда не поймешь этих людей.
Но работником он был хорошим. И только когда я принимался тачать обувь, ему, похоже, бывало трудно приняться за работу. Тогда он неизменно придумывал какую-нибудь отговорку, чтобы поглядеть, как я работаю.
— В чем дело, Галант? — как-то раз спросил я его. — Почему ты не начинаешь строить стену?
— Мне нужны башмаки, баас, — ответил он, к моему величайшему удивлению.
— Но ты же раб. А рабам не позволяют носить обувь.
— Вы должны сделать мне башмаки, баас. Я спрячу их так, что никто не увидит.
— А для чего они тебе?
— Чтобы ходить.
— Но твои ступни прочнее любых подметок, которые я вырезаю из кожи, — пошутил я. — Ты можешь босиком ходить там, где я не рискну пройти и в башмаках.
— Я хочу башмаки. Я должен иметь башмаки. Сделайте их для меня, — настаивал он.
— А чем ты заплатишь за них? — снова в шутку спросил я, надеясь отговорить его от этой затеи.
— Я дам вам за них целую овцу. Даже не одну. Только скажите, сколько вам нужно. Я отдам все, что у меня есть.
Под конец он так замучил меня своими приставаниями, что я видел лишь один способ избавиться от него.
— Хорошо, Галант, я сделаю тебе башмаки, когда у меня найдется время, — сказал я. — Но я человек занятой, и это будет не скоро.
— Я подожду.
Я, конечно, понимал, что речь шла о невозможном. Соседи и без того относились ко мне с подозрением. Что будет, если они узнают, что я сшил башмаки рабу? Но мне и Галанта не хотелось дурачить. Почему доверие раба имело для меня значение? Для меня, отверженного, изгоя, которого все осмеивают и которым пренебрегают даже рабы, само то обстоятельство, что Галант принимал меня — а наша связь зиждилась лишь на возможности для него получить пару башмаков, — вынуждало меня обходиться с ним терпеливо. И потому я не ответил ему прямым отказом, будучи в то же время уверен (принимая во внимание мое сомнительное положение тут), что всегда найду отговорку, чтобы не делать обещанного. Как-то раз он уже так напугал меня своей настойчивостью, что мне пришлось умиротворить его, сняв с него мерку; в другой раз дело дошло до того, что я вырезал подметки. После чего всякий раз, приходя работать, он для начала доставал подметки, примерял их к ногам, восторгаясь ими и обращаясь с ними так бережно, точно они были бог весть какой ценностью. Но большего я делать не собирался. Я надеялся, что в конце концов его пыл иссякнет и он позабудет о своем странном желании. Но мне никогда не приходилось встречать более упрямого человека. Спокойного, но упрямого. Только раз я видел его в ярости. Это случилось вскоре после того, как меня посреди ночи посетил Николас. Я тачал по его заказу башмаки, а Галант решил, что они предназначаются ему.
— Наконец-то вы делаете мне башмаки, — нетерпеливо сказал он.
— Нет, это башмаки для твоего бааса.
— Но я-то жду уже давно, гораздо дольше, чем он! Почему же вы делаете ему?
— Потому что он твой хозяин, Галант, — ответил я, пытаясь успокоить его, как умел. — Сам понимаешь.
Он схватил со стола, за которым я работал, молоток, решив было, что он собирается напасть на меня, я сжался от страха. Но, даже не взглянув в мою сторону, он отшвырнул молоток и вышел в таком бешенстве, что в тот день я боялся подойти к нему. Выглянув чуть погодя в окно, я увидел, как он разламывает каменную стену, над которой трудился уже несколько дней. Он вырывал из стены один камень за другим и швырял их с такой силой, что даже при ярком солнечном свете в воздухе вспыхивали искры.
Назавтра он успокоился, и, хотя мы некоторое время избегали говорить о башмаках, наши отношения вошли в прежнее ровное русло. Потом он порой упоминал о них, но уже без прежней настойчивости, словно тоже согласился с тем, что наши разговоры о башмаках не могли быть ничем иным, как своего рода игрой. Временами он даже бывал разговорчив, я думаю, моя способность одарить его башмаками возвеличила меня в его глазах. А может быть, мое положение иностранца и все то, что я рассказывал ему о дальних странах, побудили его глядеть на меня иначе, чем на остальных белых хозяев, живших в привычном для него мире. Не могу отрицать, что меня это даже трогало. Я, разумеется, старался использовать наши беседы для того, чтобы высказать ему разумные мысли — в те дни рабы были очень беспокойны. Один раз я с ним особенно разоткровенничался. Это было, кажется, в апреле прошлого года, вскоре после того, как обнародовали указы о наказании женщин-рабынь. Эти указы вызвали волну неразумных откликов среди окрестных фермеров.
— Знаешь, Галант, — сказал я — помню, то был холодный осенний день, Галант пропалывал сад, надев жакет, но не тот, что я подарил ему, а старый, изодранный, — не понимаю я вас, рабов. Если вы поразмыслите над тем, о чем за последний год говорилось в газетах…
— А о чем в них говорилось? — перебил он меня.
— С вами обращаются лучше, чем с рабами в любой другой стране, — продолжал я. — Правительство приняло все меры, чтобы облегчить вам жизнь. Вам дают хорошую пищу и одежду. Вы работаете строго определенные часы в день. Наказания тоже четко определены. Вам разрешено жениться. Мужа и жену теперь не продают порознь. Получив свидетельство от хозяина, вы даже можете ездить чуть ли не куда захотите. У вас даже есть собственное имущество. Так скажи мне, ради всего святого, чего еще вам надо?
И как вы думаете, что он ответил мне?
— А за Великой рекой есть люди, которые совершенно свободны.
Конечно, я становлюсь стар и глуп, но мне в самом деле не понять подобных доводов. Ведь я ожидал от него хотя бы намека на понимание.
Поэтому я даже обрадовался, когда приехал новый управляющий Кэмпфер. Баренд ван Мерве нанял его, насколько я знаю, по рекомендации одного фермера из Грааф-Рейнета, где тот прежде работал. Истинный брабантец — много болтовни и мало дела, да к тому же большой охотник до спиртного, особенно в конце недели. И все же он был белым и христианином, а потому, конечно, обладал иным складом ума, чем рабы. Он-то сумеет держать их в узде, решил я.
Алида
Жалкий недомерок. Неужели это и в самом деле тот мужчина, вспоминая о котором я часто думала: А если бы он первым сделал мне предложение? Увидеть его снова после стольких лет, это было подобно окончательному самоотречению. И как мне было не злиться на него? Не за то, что он недомерок, а за то, что он унизил меня, выставив на посмешище мои тайные мечты.
Теперь у меня осталось лишь то, что я имею. Такова была единственная горькая мысль, посетившая меня в тот день, когда Пита принесли с поля.
Впрочем, так оно и всегда было — если не считать того, что мечта оставалась незамутненной. Теперь я, как дерево, подрезана под корень. Вот что сделало со мной его возвращение. Так оно со всеми и бывает — каждая женщина остается наедине с судьбой мужчины, который определен ей в жизни. Эстер с Барендом. Я с Питом. Сесилия с Николасом. И даже сама смерть ничего в этом не изменит.
Галант
Еще одна газета. Я подправляю стену вокруг двора в тех местах, где колеса выбили из нее несколько камней. Появляется Франс дю Той с газетами в седельной сумке и спрашивает, есть ли кто из хозяев.
— Оставьте ее мне, — говорю я. — Я им передам.
— Тебе доверить этого нельзя, — отвечает он. — Новости слишком важные.
Когда он отпускает поводья, язвительно предлагаю ему:
— Может, заглянете пока в свинарник? Вот времечко и скоротаете.
Он нацеливается ударить меня, но я успеваю отскочить в сторону.
— Держи ухо востро, — говорю я Памеле. — Если они станут говорить о газете, запомни и перескажи мне.
— Они никогда не говорят при мне об этом, — отвечает она. — Хозяйка вообще не пускает меня в комнаты. С тех пор как ко мне стал ходить баас, она снова взяла в дом Бет. И я стараюсь не попадаться ей на глаза.
— Слушай повнимательнее, когда будешь работать в доме, — приказываю я Бет. — Вчера привезли газету.
— Чего ради я буду пересказывать тебе что-то, даже если и услышу? — огрызается она.
— Хотя бы ради того, чтобы я не свернул тебе шею.
Но когда потом берусь за нее как следует, я узнаю только, что хозяйка ничего не рассказывает о новостях.
— Если хочешь знать, так, по-моему, хозяйка напугана газетой не меньше твоего. Говорит, мол, пусть полежит, придет время — прочитаем. Беспокойств, мол, и без того хватает, вот что она говорит.
— Остается только одно, — говорю я Памеле, стиснув зубы. — Когда он снова придет к тебе, спроси об этом прямо.
Но даже и таким способом из них ничего не выудишь. В ответ она слышит только одно: «Всему свое время, а сейчас не время говорить о газетах».
— Принеси мне эту газету, — приказываю я Бет. — Я должен знать, что в ней говорится. Я уверен, что там говорится о нас.
— Они убьют меня, если я украду ее.
— А я убью, если не украдешь.
Они долго ищут газету по всей ферме, пока она лежит, надежно спрятанная, у меня под матрасом. А когда меня посылают к баасу Даль ре, я беру ее с собой и прошу его объяснить, о чем там речь. Почему именно его? Потому что все его презирают. Даже рабы говорят: мол, невозможно уважать белого, который не умеет держать себя, как положено хозяину. Поэтому-то он мне и по душе, возражаю я. Он приехал сюда из далекой страны. Он слушает меня и разговаривает со мной так, будто и не замечает, что я раб. Он не поднял меня на смех, когда я попросил его сделать мне башмаки. Поэтому я прихожу к нему с газетой. Но на этот раз он не похож сам на себя. Вид у него напуганный. И он ничего не желает мне объяснить.
— Почему тебя занимает все это? — спрашивает он. — Если тебе так важно узнать это, пойди и спроси у своего бааса. Я не хочу встревать в чужие дела.
Он даже не глядит на меня, делая вид, будто занят своей работой.
— Если баас решит, что тебе стоит знать, он сам тебе все расскажет.
Я начинаю сомневаться в этом человеке. Где башмаки, которые он обещал сделать для меня? Почему он до сих пор их не сделал? Выходит, он врал мне? Или они и вправду все одинаковые?
Газета жжет мне руки. О великий творец, неужто во всем этом чертовом мире не найти человека, который рассказал бы мне, о чем говорит эта проклятая газета? Я раскладываю ее на муравейнике и пристально гляжу на маленьких черных муравьев, которые, не двигаясь с места, бегут по бумаге. Я знаю, они говорят что-то обо мне, но я не в силах разобрать ни слова. До боли прижимаю ухо к газете, но так ничего и не слышу. Затем в отчаянии я начинаю рвать газету в клочья, засовывая обрывки в рот. Раз она молчит, я съем ее. Может быть, тогда она заговорит во мне. Я жую и глотаю, жую и глотаю, пока от нее ничего не остается.
Но все это только начало. Самое страшное ждет меня впереди. Когда я засыпаю ночью — и рядом со мной, на том месте, где обычно лежала Памела, одна пустота, — муравьи вдруг начинают шевелиться и ползать во мне. Я ощущаю их крошечные лапки, снующие туда и сюда, повсюду. Они ползают у меня во внутренностях, по всему телу, от головы до пальцев ног, в кистях рук, прямо внутри моих глаз, у меня в голове. Они ползут и ползут, шелестят и шуршат, но мне так и не разобрать, о чем они говорят. А потом они принимаются грызть мои внутренности, и я понимаю, что они будут поедать меня до тех пор, пока от меня не останется ничего, кроме сухой скорлупы, похожей на панцирь старой черепахи, вычищенный изнутри муравьями. Я начинаю колотить себя, шлепая по телу в тех местах, где, как мне кажется, они продолжают ползать и пожирать меня, но мне до них никак не добраться. Бьюсь головой о стену, чтобы заставить их умолкнуть, чтобы напугать их, но они грызут меня — мой язык, мои глаза, все мои внутренности. Кричу, реву, точно вол, которого холостят, подскакиваю кверху. И вдруг просыпаюсь, весь в поту, от собственного крика, который все еще звучит у меня в ушах, — и вокруг ничего и никого, но я-то знаю, что муравьи ползали и поедали меня. Тянусь к Памеле, но рядом никого, она спит в доме, и рядом с ней сейчас Николас.
Это всего-навсего сон, уговариваю я себя. Ведь я не ребенок, чтобы пугаться страшных снов. Стыдись, говорю я себе. Это всего лишь сон! А может быть, и вообще все только сон: может быть, я не ел никакой газеты. Может быть, и не было никакой газеты. Может быть, я никогда не уходил в Тульбах и не встречал никакого мужчины в цепях. Может быть, у меня не было никакого ребенка. Откуда мне знать? Единственное свидетельство всего, что случилось, — это лохмотья моего жакета. Но что они доказывают? Я так и не узнал ничего о газете и теперь уже едва ли рискну узнавать. А вдруг Памела и Бет скажут, что они ничего не слышали ни о какой газете? Пожалуй, лучше всего просто лечь и попытаться заснуть. Но тогда вновь появятся муравьи и будут пожирать мои внутренности.
— Ты нехорошо поступаешь со мной, Николас, — наконец решаюсь я. — Памела — моя женщина. Я выбрал ее для себя, и мы хотим пожениться. А теперь ты хочешь, чтобы я спал один и муравьи пожирали меня по ночам.
— Она нужна в доме, — отвечает он, делая новую подпругу для своей лошади.
— Она нужна в доме вечером, чтобы прибраться после ужина, — говорю я. — А потом она нужна утром, чтобы сварить чай. Но ночью она моя. Только ночью мы и можем быть вместе.
— Тут не о чем говорить, — резко обрывает он меня и отворачивается.
— Николас! — Я пытаюсь сдержаться, хотя это и нелегко. — Я взял Бет только потому, что мужчине нельзя без женщины. Но Памелу я взял потому, что хотел, чтобы она стала моей, и только моей. Я никогда особенно не беспокоился о женщинах. Но Памела — единственная. Ты слышишь?
— Работа тебя давно дожидается, Галант. Займись-ка делом и не нарывайся на новые неприятности.
— Оставь Памелу в покое, не то ты сам нарвешься на неприятности.
Он идет ко мне, держа в руке готовую подпругу. И тут же, словно она нас подслушивала, из кухни выходит Памела.
— Пожалуйста, не встревай в это, Галант. Я не хочу, чтобы снова случилось что-нибудь ужасное.
— Скажи об этом ему, — говорю я, потом отворачиваюсь и ухожу.
— Зачем ты снова напялил этот жакет? — кричит мне вслед Николас. — Сколько раз я говорил тебе, что не желаю видеть эти чертовы лохмотья?
— Это мой жакет.
— Ты носишь его мне назло.
— Я ношу его потому, что ты дал его мне за ребенка.
Насвистывая, я спускаюсь вниз к краалю, вокруг которого мы надстраиваем стену — неделю назад леопарду удалось перескочить через нее. Стараясь сдержать гнев, яростно принимаюсь за работу, поднимаю и укладываю тяжелые камни. Камни, камни, камни. Но если он не оставит Памелу в покое, то, клянусь черным сердцем грома, грянет новая гроза. Я всегда знал, что от женщин одни мученья. Тебе больно, а ничего поделать не можешь. А с Памелой все и того хуже. Я продолжаю поднимать и укладывать тяжелые камни, безуспешно пытаясь успокоиться. Но мои мысли далеки от этой работы. Памелу — вот кого я мысленно вижу перед собой. И слышу ее голос. В полутьме хижины она спрашивает меня: «Галант, кто ты?» И слова эти раздирают меня больнее ударов бича. Я лежу рядом с ней, но мне не шевельнуться, а все из-за этих слов. Кто ты? Я все говорю и говорю, рассказываю о маме Розе, о Николасе, обо всех других. Но я знаю, что вовсе не это хочу сказать ей и не это, конечно, она хочет узнать от меня. Никому другому я не позволил бы спросить: «Кто ты?» Я начинаю рассказывать об отце — но кто он, что с ним теперь? О матери — но где она и что с ней случилось? О маме Розе, вырастившей меня. О Николасе, который был мне товарищем в детских играх. Но это все о других, о них, а не обо мне. Как рассказать ей то, что она хочет узнать: где начинаюсь сам я? В ночи, по которой я плыву, будто по глубокой темной реке, во мне понемногу рождается слепое предчувствие того, что предстоит еще что-то сделать, до чего-то добраться, чтобы и я сам, и она могли сказать наверняка: Вот это — Галант. Сейчас, в этот миг, в нашей темноте, лежа рядом с ней, я могу лишь ощущать самого себя, но мне не дано выразить свое ощущение словами. Вот мое тело с синяками, порезами, шрамами, тело, слепленное из боли, подобно фигурке, вылепленной из глины возле запруды, моя спина и живот, мои руки и ноги, мой упругий, вросший в нее корень. Но разве возможно, чтобы на этом все и кончилось? Наверняка есть нечто большее, нечто такое, отчего люди даже много времени спустя будут говорить: Это — Галант. И я должен отыскать скрытую, таинственную суть себя самого, отыскать вместе с ней. Вот почему никто в целом мире не вправе отобрать ее у меня — ведь той ночью она как бы стала частью меня самого, той частью, без которой я никогда не смогу стать Галантом. Теперь я навеки прикован к ней. Но почему эти цепи не тяжелы мне? Откуда возникло ощущение, что лишь с этой цепью я смогу по-настоящему познать свободу? Я все пытаюсь докопаться до сути всего этого, но мысли с трудом ворочаются у меня в голове.
Швыряю камни, но это не приносит облегчения, жду, пока наступит ночь, вывожу из конюшни вороного Николасова жеребца и без седла скачу на нем во тьму, чувствуя под собой эту огромную лошадь, ощущая ее движение, слыша стук копыт, громыхающих внизу подо мной, от бешеного ветра из глаз текут слезы. Я подобен камню, поднятому невидимой рукой и подброшенному вверх с такой силой, что он больше никогда не коснется земли. Может быть, такова и смерть?
Но стоит мне вернуться домой, как тотчас же возвращаются муравьи и снова принимаются пожирать меня.
Памела догадывается об этом. Недаром она ночью потихоньку выскальзывает из дома, чтобы прийти ко мне и прогнать этих страшных муравьев. С ее приходом как бы луч света врывается в мой мрак, и снова у меня в ушах стонами наслаждения звучит ее голос: «Галант. Галант. Галант». В звуке ее голоса я вновь обретаю себя. Я снова знаю, кто я такой. Мы снова вместе.
Она приходит и следующей ночью. Ждет, пока все в доме заснут, отодвигает засов на задней двери, в одной нижней юбке выскальзывает в темноту и идет ко мне, бесшумно ступая босыми ногами: в ее плодоносную борозду я вновь высеваю свое семя.
— А что будет, если они узнают?
— Они не узнают. Они спят.
Я готов спросить ее: Он снова был с тобой? Но вовремя удерживаюсь. К чему отравлять себе счастье, его у нас и так слишком мало.
— Им незачем знать об этом, — говорит она и перед восходом солнца выходит из хижины, а место, где она лежала, понемногу остывает.
Но Николас все же узнает. Как-то утром, когда я вхожу в кухню с охапкой хвороста, я вижу, что он стоит возле плиты, загнав Памелу в угол.
— Где ты была ночью? — спрашивает он.
Я осторожно кладу на пол хворост, а рядом с ним топор с длинной рукоятью.
— Сегодня ночью я вышел на кухню, и тебя тут не было.
— Она была со мной, — говорю я.
Николас делает вид, будто не слышит. Продолжая глядеть на Памелу, спрашивает:
— Памела, разве я не приказал тебе оставаться ночью в доме?
— Она была со мной, — повторяю я. — Она моя жена, и она приходит ко мне.
— Уйди, Галант, — поспешно говорит Памела. — Я сама разберусь с баасом.
— Разбираться тут не в чем, — говорит Николас. — Если ты еще раз уйдешь ночью из дома, тебе не миновать бича.
— Вам запретили избивать женщин-рабынь, — говорю я. — Франс дю Той привез газету, там сказано про это.
— Что ты понимаешь в газетах?
Я неторопливо беру в руку топор, поглаживаю пальцами его лезвие.
— Мы с тобой уже много толковали о Памеле, — говорю я. — Памела — моя.
Он пристально глядит сначала на меня, потом на топор.
— Галант… — встревоженно вмешивается Памела.
— Ну вот что, — поспешно перебивает ее Николас, — если я хоть раз замечу, что ты опоздала утром, пеняй на себя.
И, не сказав больше ни слова, выходит из кухни. А ночью Памела снова со мной.
И теперь Памела носит ребенка. Я вижу, как она разбухает все больше и больше. В темноте она кладет мою руку себе на живот, и я чувствую, как он шевелится в ней. Проходит лето, наступает пора уборки урожая и молотьбы. Памела вынашивает ребенка, а я словно летаю по полям, не чуя под собой ног от радости. «Скоро появится ребенок, — говорю я Онтонгу. — И тогда каждый будет знать, кто такой Галант». Когда работа не ждет и некогда идти домой обедать, Памела приносит нам обед на пшеничное поле, на гумно, на делянку бобов. Иногда обед несет Лидия или Бет, но чаще всего Памела. Я выпрямляюсь, чтобы поглядеть, как она подходит, и ощущаю прилив гордости, готовой выплеснуться наружу. Вот идет моя женщина. И она носит нашего ребенка. Мы люди сегодняшнего и вчерашнего дня, а он — наша завтрашняя утренняя заря. «Вот погодите. Скоро вы его увидите, — говорю я Онтонгу, Ахиллу, молодым Рою и Тейсу, рабам старого бааса Дальре, Долли и Платипасу, и даже белому управляющему Кэмпферу — всем, кто работает тут. — Скоро вы увидите его собственными глазами. Это будет еще один Галант, такой же, как я. Только он не остановится там, где остановлюсь я. Он пойдет дальше и пройдет весь путь до конца. С башмаками на ногах».
Но по ночам меня снова охватывает беспокойство, муравьи по-прежнему грызут меня. К тому времени, когда ребенок впервые шевельнулся в Памеле, происходят неприятности на ферме Баренда. Я имею в виду историю с Голиафом, которого чуть не запороли до смерти, когда он пошел в Ворчестер жаловаться, что его заставляют работать в воскресенье или еще черт знает на что. Я кормлю лошадей в конюшне, когда туда входят Николас и Баренд, только что вернувшийся от ланддроста. Они выбирают упряжь для завтрашней работы. Я прячусь за лошадьми, потому что слышу — они говорят про газеты.
— Уйма всяких слухов об освобождении рабов, — говорит Баренд. — Сейчас самое время всем нам объединиться и дать отпор этим проклятым англичанам.
— А рабы ударят нам в спину, — возражает Николас.
— Для начала мы перестреляем их всех до единого. Я скорее пойду на это, чем дам им свободу. А потом выступим против англичан.
— Можешь на меня положиться, — отвечает Николас.
А неделю спустя мы узнаем об английском комиссаре, которого, едва не пристрелив, вышвырнули из Эландсфонтейна.
— Теперь надо быть начеку, — предупреждаю я остальных. — Об этом-то и толковали Баренд с Николасом. В один прекрасный день дойдет очередь и до нас.
— Но рабов куда больше, чем хозяев, — говорит управляющий Кэмпфер, который работает с нами на поле. — Если вы будете держаться заодно, они не посмеют вас тронуть.
Удивительный человек этот Кэмпфер. Тощий и белобрысый, и говорит как-то не по-нашему, потому что приехал из чужой страны. Он белый, как и хозяева, а работает вместе с нами, будто он раб. Живет у старого бааса Дальре в хижине, в такой же, как Долли и Платипас, а когда бьет утренний колокол, выходит на работу. Он даже ест и пьет вместе с нами, хотя он не раб и не готтентот и может уйти, когда и куда ему вздумается.
— Судя по всему, — говорю я, — вы, должно быть, беглый раб.
Он громко хохочет.
— Никогда в жизни не был рабом, — говорит он. — В той стране, откуда я приехал, рабов вообще нет. Там все свободны.
— Разве может быть такое? — спрашиваю я. — А кто же там работает?
— Там работают все, каждый делает свое дело.
— Что-то не верится. Рабы есть везде. И тут, и в Тульбахе, и в Ворчестере, и в Кейпе — повсюду. Только за Великой рекой все люди свободны, но и они тоже беглые рабы.
— Страна, откуда я приехал, находится далеко за морем. Я знаю и другие страны, где нет никаких рабов.
— Должно быть, он говорит правду, — вдруг вмешивается Ахилл; обычно он отмалчивается, но тут не выдерживает и вступает в разговор. — Там, где я родился, в той далекой стране, где растут деревья мтили, тоже рабов не было. Это белые приехали туда, изловили нас и сделали рабами.
С того дня я часто ловлю себя на том, что гляжу на этого Кэмпфера и думаю: вот бы посмотреть на ту страну, где вообще нет рабов.
— Но если там нет рабов, — спрашиваю я, — то почему они должны быть тут?
— Так уж получилось, — отвечает он. — Но ты не думай, это не навсегда. Когда-нибудь и здесь все станут свободными.
Ночью, когда я снова вместе с Памелой, я рассказываю ей то, о чем говорил нам на поле Кэмпфер.
— Тише, тише, — шепчет она, зажимая мне рот рукой. — И у стен бывают уши. Это опасные сказки.
— Кэмпфер говорит, что все это правда.
— Откуда мы можем знать наверняка, что другой человек не врет?
— Когда ты что-то говоришь мне, я знаю, что ты не врешь.
— Возьми меня, — говорит она. И я понимаю, что все это не ложь. Ее тело, мое тело, ребенок между нами, ребенок, которому еще предстоит появиться на свет, но который уже живет в ней. Все это правда. И этого у нас не отобрать никому. Даже Николасу. Есть вещи, над которыми он не властен.
Вот что я думаю, лежа рядом с Памелой в темноте. Но когда начинает светать и она потихоньку выскальзывает из хижины, а я, проснувшись, вижу, что снова остался один, сомнения вновь одолевают меня: откуда мне знать, правда ли все это? Откуда мне знать, была ли она в самом деле со мной и точно ли в ней жил и шевелился ребенок? Может, все это вроде того страшного сна с муравьями, которые никогда не оставляют меня в покое? Да, жизнь — штука запутанная и таинственная.
Все это не выходит у меня из головы в тот субботний день, когда я отправляюсь на поиски бычка. Недавно мы холостили молодых быков. У одного из них, когда его завалили, оказалась подбита нога, и потому его оставили, чтобы подлечить, в краале с телятами. Но сегодня во время утреннего доения Ахилл сказал мне, что бычок сбежал. Я знаю, что Николас разозлится, когда услышит об этом, вернувшись из Буффелсфонтейна, куда поехал на день рождения хозяйкиного отца, и потому, едва закончив утреннюю дойку, отправляюсь на поиски.
— Куда это ты собрался? — спрашивает мама Роза, когда я проезжаю мимо ее хижины, одиноко стоящей на невысоком холме, откуда все видно далеко вокруг.
— Сбежал тот бычок, что поранил ногу.
— Вроде бы я видела его сегодня утром там, внизу, — говорит она. — Может, зайдешь выпить чаю?
— Нет, я тороплюсь, — отказываюсь я: с годами мама Роза делается все более словоохотливой.
Возле дома старого Дальре я слезаю с лошади, чтобы расспросить его о проклятой твари. Но тщедушный старик ничего не знает, он плохо видит и к тому же вечно занят лишь одним — кроит да шьет.
— А где же мои башмаки? — спрашиваю я, не ожидая в ответ ничего путного: я уже перестал верить ему.
Но он только тупо смотрит на меня сквозь круглые мутные стекла и бормочет что-то о том, что, мол, нужно запастись терпением. Я выхожу из дома и иду к Долли и Платипасу, которые выкорчевывают кусты на небольшой полоске земли. Они показывают в сторону ручейка, сбегающего с горного хребта.
Но и в зарослях на берегу ручья бычка нет. Медленно тянется холодный день, а я все дальше и дальше отъезжаю от Хауд-ден-Бека, следуя по узкой долине между горами и огибая гору Ваальбоксклоф. Руки немеют от поводьев, и тогда я растираю их и согреваю своим дыханием. Ближе к вечеру я добираюсь до Эландсфонтейна, слезаю с лошади и иду прямо к хижинам. Сегодня суббота, и все уже отдыхают.
— Что-то ты сегодня рановато! — кричит мне Абель, сидящий на солнышке с кружкой в руках. — Выпить хочешь?
— Я ищу сбежавшего бычка. Я тут не задержусь. Меня ждет Памела.
— Никогда не позволяй женщине держать тебя на привязи, — говорит Абель.
К нам подходит Клаас, как всегда подозрительно и с любопытством глядит на меня и спрашивает:
— Про бычка ты все выдумал, где твое разрешение?
— А ты кто такой, чтобы спрашивать меня об этом? — отмахиваюсь я от него.
— Не слушай эту старую обезьяну, — насмешливо говорит Абель.
Бычка и тут никто не видал, и я веду лошадь к бочке с водой, чтобы напоить ее перед дорогой. Пора возвращаться, солнце уже садится.
— Добрый вечер, Галант, — слышу я за спиной голос Эстер.
От этого голоса ноги у меня вдруг тяжелеют. Я еще не видел ее после той истории в конюшне, а это воспоминание такого рода, из-за каких мужчины и гибнут.
— Не беспокойся, — говорит она, — Баренд уехал в Лагенфлей.
— Я не встретил его по дороге.
— Он поехал напрямик через горы.
Я дергаю поводья, чтобы поторопить лошадь.
— Мне пора, — бормочу я, не глядя на нее. — Я ищу бычка, но Абель сказал, что он тут не появлялся.
— Ты, наверно, устал, — говорит она. — Давай я покормлю тебя перед дорогой.
— Не стоит.
Но она уже идет к дому, юбка на ходу обвивает ей ноги. Стройное, гибкое тело. Оно всегда было таким. И вдруг, сам не знаю почему, вспоминаю тот случай со змеей. Она умрет, с ужасом думал я тогда, в отчаянии разрывая ее кружевные панталоны, чтобы добраться до двойной отметины змеиных зубов на бедре. Неловкими пальцами открываю маленькую кожаную сумку, которую дала мне мама Роза, и прижимаю к ранке змеиный камень Онтонга — гладкий, круглый черный камень с серым пятном в середке и с крошечными дырочками. Онтонг привез его со своей далекой родины за морем, и никакому яду не устоять против таящейся в нем силы. Крепко держу ее за ногу, прижимаю камень к ранке и отсасываю яд до тех пор, пока ей не становится легче, хотя она по-прежнему бледна и испуганно дрожит. С трудом отвожу глаза от обнаженного бедра. Гладкое, как у выдры, тело возле запруды. Держись подальше, Галант. «Спасибо, Галант, — говорит она. — Я никогда этого не забуду». За что спасибо? Что я такого сделал? Просто прижал к ранке змеиный камень.
Забудь об этом, говорю я себе, следуя за нею по огромной пустоте двора. Откуда-то издалека доносится голос мужчины, который говорит мне: Это самое ужасное, что ты можешь сделать в этом мире.
— Вот тебе мясо, а вот хлеб.
— Спасибо. Мне пора.
— Тут есть еще немного супа. Я сейчас подогрею его.
— Хватит и этого. Я не голоден.
— Нет, подожди, пожалуйста. Зайди в кухню. На дворе уже холодает.
Где-то в передней части дома играют дети, но средняя дверь закрыта и приглушает их голоса, и потому дом кажется странно большим и пустым. У меня перехватывает дыхание. Она так близко от меня. Она помешивает угли, подбрасывает в очаг дров, подвешивает на цепочке черный котелок над огнем. Словно она рабыня, а я — хозяин, дожидающийся ужина.
— Как дела в Хауд-ден-Беке? — спрашивает она, не оборачиваясь.
— Не жалуемся.
— Надеюсь, что Николас больше не…
Я ничего не отвечаю. Она поворачивается ко мне. Несколько прядей волос выбивается из-за ушей и затеняет ей щеку. Глаза открыто глядят на меня.
Голым я был привязан тогда к балке в конюшне, и ее руки обмывали мое тело, не ведая стыда.
— Он делает что хочет, — сердито говорю я, стараясь отогнать от себя воспоминания.
— Но ты не должен позволять ему.
— Кто может не позволить ему что-то?
— Знаешь, еще когда мы были маленькие, мне всегда казалось… — Она замолкает и отбрасывает прядь со щеки. — Нет, наверно, глупо говорить об этом.
— Что тебе казалось? — спрашиваю я, сгущающиеся сумерки придают мне решимости, которой у меня никогда бы не хватило при свете дня.
— Что только ты один всегда понимал меня.
— Почему тебе так казалось?
— Потому что только мы двое, только мы с тобой всегда были среди них чужими.
— Суп подгорает.
Она отворачивается и снова берется за дело. Потом наливает суп в маленький котелок.
— Не слишком ли холодно ехать обратно?
— А что мне еще остается делать?
Некоторое время она молчит. Я доедаю суп, уже поднявшись.
— Да, конечно, — говорит она; голос ее словно мелеет, как мелеет в засуху река. — Пожалуй, тебе и в самом деле ничего другого не остается.
— Спасибо за суп.
— Я принесу тебе выпить на дорогу.
— Не надо, я не хочу.
— Ну, тогда возьмешь с собой.
Она берет с полки кувшинчик и уходит в комнату, чтобы налить в него бренди, а вернувшись, протягивает его мне.
— Спасибо. Теперь мне пора ехать.
— Да.
Я выхожу из дома и невольно останавливаюсь на миг от резкого удара холодного воздуха. Нерешительно оборачиваюсь. Она стоит на пороге, прислонясь головой к дверному косяку. Но ничего не говорит.
В дальней стороне двора вижу чью-то поспешно убегающую прочь тень. Человек спотыкается обо что-то, слышны ругательства. Это Клаас.
Когда я добираюсь до дому, Памела еще возится на кухне, я отдаю ей кувшинчик с бренди и прошу поставить на полку. Поздно ночью мы слышим, как во двор въезжает коляска. Я встаю, чтобы помочь Николасу увести лошадей в конюшню.
— Откуда бренди? — спрашивает он утром.
— Эстер дала мне.
— А что ты делал в Эландсфонтейне?
— Искал сбежавшего бычка.
— Мог бы и сам догадаться, что хромому бычку так далеко не уйти, — раздраженно говорит он. — Держись от Эстер подальше, Галант.
— Она дала мне поесть.
Он пристально глядит на меня, я чувствую, что нам не избежать новой ссоры, но тут он вдруг отворачивается и уходит. Ну и слава богу, думаю я, хоть с этим покончено. Но в то же утро, едва успел растаять последний ночной ледок, на ферму приезжает Баренд, так бешено настегивающий лошадь, что с нее стекает пена. Он что-то возбужденно рассказывает Николасу, стоя возле ворот. Затем направляется ко мне, ведя под уздцы лошадь. Николаса колотит от ярости, лицо у него белое.
— Баренд говорит, что Эстер пожаловалась ему, что ты слишком вольно вел себя с ней вчера вечером. — Голос его прерывается от гнева.
— Эстер пожаловалась? — изумленно спрашиваю я.
— Может, ты хочешь сказать, что я вру? — орет Баренд.
И снова конюшня.
— Галант, не ходи жаловаться, — умоляет Памела, вцепившись мне в ноги. — Сам знаешь, толку от этого никакого.
— Я и не собираюсь жаловаться. Я просто убегу. И они меня больше не увидят.
— Как же ты можешь оставлять меня одну? Ведь скоро у нас родится ребенок.
— Я сыт этой фермой по горло, — отвечаю я. — Все, хватит. Можно терпеть годы и годы. Но потом вдруг понимаешь, что с тебя довольно.
— Это просто безумие, Галант, — рыдает она, но, видя, что я не поддаюсь, зовет Онтонга, чтобы тот меня образумил.
— Время лечит любые раны, — уговаривает меня Онтонг. — Завтра тебе все покажется другим.
— Не бывать этому. Я сыт по горло и фермой, и всем ее дерьмом.
— Не нарывайся на неприятности, — говорит Ахилл, вздыхая и тряся седой головой. — Не то накличешь грозу на всех нас.
— О себе можете заботиться сами! — кричу я. — Я ухожу отсюда. Сегодня ночью. Я дойду до самого Кейптауна, и пусть попробуют поймать меня.
Все они что-то говорят, кричат, грозятся. Памела плачет. Но я слеп, глух и нем. Черные муравьи грызут меня изнутри, заползают в горло, пожирают язык. Я пытаюсь выплюнуть их, но они не желают выплевываться. Сегодня меня не остановит никто. Пусть только кто-нибудь посмеет. Хотя бы и хозяева. Кто угодно. Я ухожу. Сегодня я наконец свободен. Я ухожу в Кейптаун. А там сяду на корабль и поплыву далеко за море, в страну, где нет рабов. Я увижу ее собственными глазами. Я наконец свободен. И пусть эти чертовы муравьи делают что хотят.
Клаас
Если бы баасу Баренду взбрело в голову сказать в дождливый день: «Чертова засуха!», я бы ответил, не отрываясь от работы: «Да, баас, засуха». А если бы он вдруг посреди ночи заявил: «Солнце спать не дает», я ответил бы, даже не открывая глаз: «Да, не дает, баас». Жизнь учит. В былые дни я пробовал бунтовать. И единственное, что получил, — это избитую спину, а хуже всего был тот день, когда эта женщина вмешалась, чтобы прекратить порку. Порка и без того дело паршивое, достаточно паршивое, даже если вокруг одни мужчины, но, когда пришла эта женщина, все стало еще хуже. Мужчина что камень, ты можешь обойти его и дотронуться до него, он тут, перед тобой. Но женщина — это вода, ты не в силах удержать ее. Вот чего я не мог вынести.
С тех пор я покорился его воле, и жизнь стала легче. Меня сделали мантором, и даже Абель, который привык приказывать мне, должен был теперь повиноваться. Втершись в доверие к баасу, я мог теперь плевать на всех остальных. Они от этого впадали в такое бешенство, что по временам я боялся, как бы не очнуться в одно прекрасное утро с ножом под лопаткой. Но что оставалось делать? Жить надо.
Я мог бы и не выходить из хижины в тот вечер, когда здесь оказался Галант. Но я знал, что эта женщина одна. У меня и в мыслях не было ничего дурного, пока я следил за ними. Просто я надеялся, что мне, быть может, представится случай. Она встряла в мужские дела в тот день, когда меня пороли — для мужской гордости нет оскорбления тяжелее. А теперь наконец я сумею нанести ответный удар.
— Галант сегодня вечером слишком вольничал с хозяйкой, — сказал я баасу, когда тот вернулся домой. — А хозяйка его даже не остановила.
В некотором смысле теперь и он был у меня в руках. Он уже больше никогда не решится поглядеть мне прямо в глаза. По-прежнему оставаясь его рабом, я обрел над ним странную власть. И все вышло так просто.
Дю Той
Когда они нуждаются во мне — перед лицом опасности или грозящих неприятностей, — они с готовностью и восторгом приходят ко мне, именуя «филдкорнетом» или «стариной Франсом», но, как только все входит в свои берега, им становится незачем знаться со мной. Матери прячут дочерей, стоит мне объявиться у них на ферме, а мужчины всегда слишком заняты, чтобы предложить мне выпить с ними. Когда поступают новые сообщения о пользовании отгонными пастбищами, налогах или предписаниях по поводу рабов, ланддрост Траппс велит мне объявить об этом фермерам, но те ругают меня за это так, словно я лично несу ответственность за то, какие законы принимает правительство. Для представителей власти я презренный мужлан или, хуже того, мальчик на побегушках, а для буров я любимчик англичан, живое исчадье ада с отметиной самого дьявола на лице. А когда я выхожу из терпения, измученный потребностями моей одинокой плоти, то в своем унижении понимаю, что, должно быть, сам господь отринул меня. Им тогда никакое ругательство не кажется слишком жестоким, чтобы заклеймить меня. Но в тот миг, когда в округе случается что-нибудь непредвиденное, я снова становлюсь филдкорнетом, которого они готовы всячески обхаживать, прося помочь выпутаться из очередных неприятностей.
Взять хотя бы случай, когда сбежал раб Галант. Едва услыхав о его бегстве, я сразу заподозрил что-то серьезное. Ведь я давно уже знал о постоянных стычках между Николасом ван дер Мерве и его рабом. Ланддрост приказал мне особенно внимательно следить за братьями Ван дер Мерве, которые вечно норовят толковать закон на свой лад.
Трудность заключалась в том, что я не мог просто приехать на ферму и расспросить народ. Эти фермеры никого не подпускали к своим рабам. И лучше было не ввязываться понапрасну. Кроме того, я знал, что у Галанта характер трудный; как-то раз он застиг меня врасплох в весьма неприятном положении, впрочем, это не имеет отношения к моему рассказу.
— Ты уверен, что необходимо высылать поисковый отряд? — спросил я Николаса, когда он изложил мне суть дела.
— Неужели я стал бы просить тебя, если бы не считал, что это необходимо?
— Сколько времени прошло с тех пор, как он сбежал?
— Три дня.
— А может, он просто опять пошел в Ворчестер?
— Он сказал рабам, что идет в Кейптаун.
— Давай подождем еще два дня, хотя бы для того, чтобы знать наверняка.
— Ты хочешь знать наверняка, что ему удалось убежать?
— Я хочу знать, что все идет по закону. Собирать поисковый отряд только ради того, чтобы потом обнаружить, что он просто воспользовался своим правом подать жалобу в Ворчестере, кажется мне весьма странным.
— Франс, ты не лучше этих чертовых англичан, с которыми хороводишься.
— Ни с кем я не хоровожусь. — Его необоснованное обвинение задело меня за живое: сколько раз мне уже приходилось слышать это! — В цивилизованной стране должно быть уважение к закону и порядку, иначе все развалится.
— Послушай, если ты боишься, так и скажи. Тогда я сам созову погоню за ним. Но имей в виду, что мы это сделаем по-своему.
— Неужели ты не понимаешь? — сказал я, пытаясь убедить его. — В прежние времена все было по-другому. Каждый сам отвечал за себя. Но мир изменился, Николас. Людей кругом все больше и больше, города растут и все ближе придвигаются к нам, теперь надо соблюдать закон, чтобы права одного человека не превратились в бесправие другого.
— Ты очень бойко разглагольствуешь о правах и законах. Для тебя это байки из книг или газет. А для нас это вопрос жизни и смерти.
— Но ведь не каждый же сам по себе. Мы же не животные.
— Тебе ли об этом говорить? Ведь ни одна свинья в округе не может спокойно повернуться к тебе задом.
Мне пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не ударить его. Даже подобные оскорбления приучаешься выносить.
— Люди, живущие вместе, не становятся цивилизованными сами по себе, Николас, — заявил я. — Необходим закон, перед лицом которого все равны.
— Если только этот закон не лишает меня права самому решать, как должны идти дела на моей собственной ферме.
— Эту цену нам всем приходится платить. Каждый должен до некоторой степени ограничить свою свободу ради того, чтобы обеспечить законность для всех. И даже если это означает, что некоторые люди должны время от времени страдать, оно того стоит. Ради упорядоченного мира, который каждому обеспечивает законность и жизненное пространство.
— Говорить всегда легче, чем делать, — сказал он с горьким упреком.
— Я верю в то, о чем говорю. — Мой голос звучал чуть резче, нежели мне хотелось, но для меня было очень важно заставить его понять причины моей озабоченности. Во что, если не в законность, мог я еще верить? Что стало бы с нами со всеми, если бы мы не впряглись в одно ярмо и не шли все вместе вперед в одной упряжке? Лишись мы этого, наше присутствие в этой стране утратило бы всякий смысл, а это означало бы, что наши предки прожили свою жизнь напрасно. Закон. Закон и порядок. Это была единственная страсть, дозволенная мне. Единственное мое спасение в этом жалком мире.
— Закон стал твоим богом! — презрительно бросил он.
— Вот уж нет. Но нам без него не выжить.
— А теперь, Франс, послушай меня, — сказал Николас. — Никакой закон не может быть хорош сам по себе. Все зависит от того, кто его вершит. Только тот, чьи руки чисты, имеет право говорить о законе. Иначе он испачкает закон своими грязными палицами.
— Ты снова задираешь меня просто потому, что я тебе неприятен.
— Вовсе нет. — Привычным жестом правой руки он взъерошил свои светлые волосы так, что они встали торчком. — Я просто удивляюсь тому, что ты считаешь необходимым читать такую длинную проповедь, когда единственное, о чем я тебя прошу, — это поймать Галанта.
В конце концов я убедил его отложить поиски еще на день. Я предпочел бы подождать подольше, но на следующее утро управляющий старого Дальре Кэмпфер приехал ко мне с известием, что Галант побывал у них — ища пару башмаков, подумать только! — а потом отправился на пастбище старого Пита ван дер Мерве, где украл, ружье. После этого у меня не оставалось другого выхода, кроме как начать поиски.
Я созвал в поисковый отряд дюжину мужчин — я, двое молодых Ван дер Мерве, Кэмпфер, старый Ян дю Плесси, Дальре и шестеро готтентотов, все вооруженные. Мы выехали с моей фермы, проехали мимо Эландсфонтейна через горы на пастбище, за которым присматривал Мозес, раб старого Пита ван дер Мерве. Но Мозес не смог ничего сказать о краже, потому что, как оказалось, накануне ушел за провизией в Лагенфлей. Двое готтентотов, Вилдсхют и Слингер, рассказали нам каждый свою историю, которые я не мог принять на веру, так как они чуть ли не противоречили одна другой. В целом похоже, что они спали той ночью, когда было украдено ружье, а проснувшись утром, наткнулись на Галанта, который пригрозил им ружьем и приказал зарезать и зажарить для него ягненка; быстро сожрав большую часть, он засунул остатки в заплечный мешок и отправился в горы, помахав им на прощанье шапкой и сказав, что теперь пойдет в Кейптаун.
В здешних горах вести поиски почти невозможно. Скалы, утесы, пропасти. От лошадей никакого толку, и даже пешком продвигаешься вперед с превеликим трудом. Искать следы бессмысленно, местность слишком каменистая и неровная. А ведь Галант родился и вырос в этих краях и знает их как свои пять пальцев.
— Я все-таки никак не пойму, — сказал я Николасу, — что заставило его решиться на такой отчаянный шаг? Ведь прежде он всегда добровольно возвращался обратно.
— Просто сбежал, и все.
— После порки?
— Какое это имеет значение?
— Но что же он все-таки сделал?
— Ну хорошо, если тебе это так важно… — Он остановился прямо передо мной. Ноздри его побелели и затрепетали. — Он приставал к моей невестке.
— Что?! Ты хочешь сказать, что он…
— Что бы он ни сделал, тебя это не касается! — заорал Баренд, схватив меня за лацканы куртки. — Делай свое дело. Поймай его и верни назад. Живым или мертвым.
Но этого сделать не удалось. После нескольких часов поиска мы разбились на маленькие группки, чтобы разойтись как можно шире и помешать ему проскользнуть мимо нас к Рие-Витценберху. Но он исчез без следа. Пять дней мы рыскали по горам, но потом фермерам пришла пора возвращаться домой. Кроме того, погода испортилась — наступила настоящая зима, от холода зуб на зуб не попадал. За ночь, пока мы спали, землю укутал снег. Небо было пасмурное, яростно завывал резкий северо-западный ветер. И никакой надежды настичь его.
— Ну, думаю, больше мы ничего поделать не можем, — мрачно сказал Баренд. — Остается лишь надеяться, что этот ублюдок замерз в горах.
Когда растаял снег и немного поутих ветер, я выслал еще несколько поисковых отрядов, дав готтентотам четкий наказ: «Если обнаружите след, идите по нему хоть до самого Кейптауна». Но после недели бесплодных поисков они вернулись назад ни с чем. Было ясно, что Галант либо умер, либо уже добрался до Кейптауна.
Прошло, должно быть, уже более месяца после его побега, когда я узнал о его неожиданном возвращении в Хауд-ден-Бек. Вроде бы совершенно добровольном. Он вернул Николасу украденное ружье и покорно принял полагающееся ему наказание. И это, казалось, положило конец всей той истории. Теперь фермеры могли снова забыть о моем существовании.
Тейс
Галанта, который вернулся из Кейптауна, спустившись с гор, когда растаял последний снег, было не узнать. Отощавший и жилистый, руки и ноги изодранные, лицо землистого цвета. Но в глазах у него горел огонь — так должен выглядеть человек, повидавший что-то такое, чего никогда прежде не видел. Не знаю, как это объяснить, но он выглядел изменившимся и обновленным, будто был вымыт изнутри и снаружи.
Мы с Роем увидали его первыми. Мы только что вернулись с зимних пастбищ Кару и во временном краале для ягнят заделывали дыру, которую накануне ночью проделали в изгороди шакалы. Галант спустился к нам и послал меня спросить у бааса, согласен ли тот, чтобы он вернулся и отдал ружье. Если нет, то Галант снова уйдет.
— Конечно, — ответил баас, очень обрадованный этой новостью. — Если он явился с повинной, то мне нечего возразить.
Было видно, что он в самом деле доволен, ведь без Галанта дела на ферме шли из рук вон плохо.
Но баас схитрил с Галантом. После всех обещаний и после того, как Галант отдал ружье и пришел на кухню за едой, баас вдруг вышел из себя и принялся колотить его палкой, пока та не сломалась. А на следующее утро, когда мы думали, что все уже кончилось, баас позвал Онтонга и Ахилла и приказал отвести Галанта на конюшню — бил он Галанта не по-хорошему. Зная, каким был Галант прежде, мы все ожидали, что он снова сбежит. Но он лишь начал сторониться нас всех и никому не говорил ни слова. Вот почему я и сказал, что теперь Галанта было не узнать. Он оставался с Памелой, пока не родился ребенок, ведь та была на сносях. А когда потом мы спросили, что он собирается делать, он только покачал головой и ответил, что времена, когда стоило убегать, прошли. Жизнь теперь другая.
— Я много чего навидался в Кейпе, пока жил там, — сказал он. — Теперь я знаю, что мое место здесь. Я должен быть в родных краях, когда придет свобода.
— Какая еще свобода?
— Там, в Кейпе, все про это знают. Они сказали мне, что то, о чем говорят газеты, только начало. Теперь нам уже недолго осталось топтать землю босыми ногами.
А потом начал рассказывать про Кейп, Он снова повстречал мужчину из тюрьмы в Тульбахе. Мужчину без имени, которого увезли в цепях. Тот по дороге расправился с охраной, сказал Галант, разбил ломом цепи и теперь живет свободный, днем прячется в кустах на Столовой горе, а ночью выходит, как леопард, на охоту. Вот он-то и сказал Галанту, что все люди должны готовиться к великому дню.
И это была только присказка. Потом Галант рассказал нам о лошадиных скачках на Грин Пойнт, Кто-то там одолжил ему лошадь, и он победил на скачках, что нас вовсе не удивило, ведь мы знали, как Галант умеет управляться с лошадьми. На деньги, которые ему дали за победу, он купил себе коня. Огромного серого жеребца, самую лучшую на свете лошадь. И с того времени начал побеждать всякий раз, когда бывали скачки. Но другие наездники стали завидовать ему из-за всех его побед, и потому они прислали солдат, чтобы те схватили Галанта: они сказали солдатам, будто он подбивает людей на беспорядки. Там была настоящая битва. Они стреляли и убили его коня и забрали все деньги, так что ему и его друзьям пришлось убежать в горы. Но ночью они спустились вниз и напали на казармы, и вторая битва была еще страшней, чем первая. Пушку стащили с холма, и множество людей были разорваны ядрами в клочья. На рассвете они чуть было не схватили Галанта, но он убежал и спрятался на корабле в гавани, на корабле, который больше, чем целых три дома. Но когда корабль уплыл в море, вспыхнул пожар, и корабль потонул, и утонули все, кто был на нем, кроме Галанта, которому удалось доплыть до берега.
В другой раз там был человек, который бегал по улицам, одержимый амоком, нападал на людей с топором и разрубал их на куски, и под конец именно Галант одолел его и отобрал у него топор. За это, сказали все, он заслуживает свободы. И вот его привели в комнату губернатора в самом сердце крепости, но, к несчастью, в тот день там губернатора не было, и вся затея провалилась. А потом, сказал Галант, он поднялся на гору, откуда видно все до самого Боккефельда. А когда он пустил струю с самого высокого утеса, то угодил в губернатора, который как раз проезжал внизу. Так что Галанта схватили и притащили в суд к джентльменам, и те сказали, что его следует привязать к четырем лошадям и разорвать на части, но в назначенный день, когда его привели на городскую площадь, он увидел там своего серого жеребца, который, как он думал, был убит, а тот вовсе не был убит, и начал потихоньку ласково говорить с ним, а когда они изготовились привязывать его, он вырвался и вскочил на своего серого жеребца и ускакал. С того времени ему приходилось держаться подальше от города, и он жил со своим другом, Мужчиной без имени, в зарослях на Столовой горе. Когда темнело, они выходили оттуда, спускались с горы и веселились на городских улицах. Один раз даже проникли в церковь и устроили там попойку, там были все рабы из Кейпа, и они плясали всю ночь до утра. Они подружились с рабами из крепости и ухитрялись красть еду со стола самого губернатора, самые разные яства, каких никто в Боккефельде никогда и не видывал. И они толковали о том, как им заполучить свободу. Все хотели, чтобы Галант стал их вожаком, и пообещали ему, что, когда настанет великий день, он будет жить в крепости и Памела тоже вместе с ним. Но сначала они хотели, чтобы он вернулся обратно в Боккефельд и подготовил людей ко дню освобождения. Вот почему он вернулся и отдал ружье. Вот почему ему теперь плевать на любые порки, ведь он-то знает, что это ненадолго, надо просто еще немного потерпеть.
— Я мог бы остаться там, — часто говорил он. — Там, в Кейпе, хорошая жизнь, но я вернулся, чтобы мы все были вместе, когда придет наша свобода.
А потом спрашивал нас всех по очереди:
— Ну, что ты скажешь на это? Ты со мной или против меня?
— Если этот день и в самом деле настанет, — сказал Абель, — я буду с тобой. Буду плясать всю дорогу до Кейпа.
— На меня тоже можешь рассчитывать, — присоединился Долли. — Но если Кейп и вправду такое замечательное место, то почему бы нам не отправиться туда прямо сейчас?
— Потому что наше место тут, — отвечал Галант. — Мы должны именно здесь раздобыть себе башмаки на ноги.
— Я тоже, пожалуй, буду с вами, — сказал Голиаф, хотя и несколько неуверенно. — Но я должен знать наверняка, что дело не обернется плохо, не то нам всем крышка.
Люди старого бааса Пита тоже присоединились к ним, да и люди из Буффелсфонтейна. Только Онтонг и Ахилл, казалось, остерегались высказываться определенно.
— Надо подождать да поглядеть, — говорили они. — Когда настанет тот день, тогда и решим. Мы не желаем зазря нарываться на неприятности, дружище.
Так что каждый судил и рядил на свой лад. Под конец Галант добрался до меня и Роя:
— Ну, а вы как? Вы будете с нами?
Я-то предпочел бы оставаться в стороне. Все эти разговоры пугали меня. Что мне до них? Я должен делать свою работу — а ее столько, что только успевай пошевеливаться: пасти овец, месить глину, когда подходило время заново обмазывать стены построек и каменную стену вокруг двора, сажать и убирать бобы, расчищать новые земли для пахоты и сжигать кустарник — всего этого довольно, чтобы ты был занят круглый год, а стоит тебе начать отлынивать или бездельничать, как баас тут как тут со своим бичом. И вдобавок ко всему со мной был Рой, за которым нужен глаз да глаз. В тот день, когда наша мать умерла от кашля, она наказала мне присматривать за ним, ведь он был еще ребенок. А когда баас нанимал меня, я упросил его взять и Роя. Он, похоже, не больно-то хотел этого, ведь Рой был маленький и щуплый, но все-таки взял нас обоих. И чтобы баас не серчал, я старался, чтобы и Рой помогал в работе, хотя поначалу он делал лишь самую легкую — собирал хворост и кизяк, сжигал кустарник и всякое такое. Хлопот мне с ним хватало, чуть недоглядишь, как он уже убежит куда-нибудь: швыряться камнями в птиц, лазать за птичьими гнездами или играть у запруды — ну а чего еще ждать от ребенка? Но я изо всех сил старался хорошенько присматривать за ним и учить его всему, что он должен знать и уметь, как наказала мне перед смертью мать.
Вот почему меня так встревожили разговоры Галанта. Но он не оставлял нас в покое. То и дело припирал к стенке и спрашивал:
— Ну, что вы с Роем решили? Могу я на вас рассчитывать? Вы будете с нами?
— Как мы можем быть с вами? — возражал я. — Мы же не рабы, которым нужно заполучить свободу. Мы готтентоты, мы койны. Мы и так свободны.
— Покажи-ка мне свою свободу, — насмешливо говорил Галант. — Где она, эта ваша свобода? По чьей ферме вы расхаживаете босиком? И кто дает вам еду и задает порку? Кто решает, когда вам можно уйти, а когда нельзя?
— Мы можем уйти, когда захотим.
— А они поймают вас и вернут обратно. Разве не так?
— Так, — вынужден был согласиться я, чувствуя, что меня начинают задевать его слова. — Но от этого мы все равно не становимся рабами. И нам лучше держаться в стороне.
— Дело не в том, что лучше, а что хуже, Тейс. — Галант смотрел как бы сквозь меня, словно глядел на свой далекий Кейп. — Глупо говорить, что вы хотите остаться в стороне. Когда придет тот день, все вырвется наружу, подобно могучему потоку, который увлечет нас за собой. Так что лучше сделать выбор уже сейчас. Пока еще не поздно.
— Дай мне время подумать.
— Времени у нас мало. На одной стороне хозяева, а на другой мы, все остальные. Теперь больше нет разницы между рабами и койнами. Мы все ходим босиком.
В ответ на это я молча отводил глаза, ведь мне тоже хотелось увидеть Кейп. Но трудно сказать, что я стану делать, когда нахлынет тот поток, о котором он говорил. Я боялся. И рядом со мной был Рой, он прижимался ко мне, и я чувствовал, что он тоже напуган. Что бы там ни говорил Галант, это их печаль, а не наша — это дело рабов и хозяев, а не койнов. Так к чему нас в это впутывать? Неужели все и вправду будет так, как он говорил: нахлынет поток и никто не сможет остаться в стороне от него?
Мне было страшно.
В глубине души я чувствовал, как замечательно было бы шагать к Кейпу с ружьем на плече, идти свободным куда хочешь и не оглядываться на бааса, стоящего у тебя за спиной.
Но мне было страшно. Я боялся Галанта, которого словно подменили. И этой свободы, которая грозила всем нам уже всерьез.
Николас
Поток. Взятые сами по себе — всего лишь обломки кораблекрушения, уносимые течением, — события двух лет, прошедших с той ночи, когда мы с Галантом укрывались в горной пещере, до этой июльской ночи, когда он убежал в Кейптаун, были, вероятно, не особенно значительными и не внушали особых тревог; но все это время я постоянно ощущал темный, таинственный поток, который рос, набирал силу, подтачивал мои и без того слабые корни. Я часто думал: если бы наконец появилось что-нибудь видимое и осязаемое, с чем можно было бы сразиться открыто, если бы противник был столь же невинным, как те бедствия, которые обрушивались на нас в прошлом, — бушмены, эпидемии, засухи или наводнения, — я мог бы встретиться с ним лицом к лицу, одолеть его и выжить. Но перед этим таинственным потоком я был бессилен. И менее всего мне могло помочь теперь Слово Божие, бывшее раньше воистину светочем, озарявшим каждый мой шаг. Вина, конечно, лежала на мне самом и заключалась в моей гордыне. Господь отвернулся от меня и обрек свое Слово на бессилие в моих устах. На нас накатывали океанские валы запретов, предписаний и распоряжений из Кейптауна, издаваемых и отменяемых, как казалось, совершенно наобум, неведомая опасность надвигалась извне, из-за обманчивой защиты гор, и грозила захватить нас врасплох. А вокруг все стало шатким и ненадежным, не только у меня на ферме, но даже и в самой моей жизни: я не понимал, хозяин ли я сам себе или теперь от меня уже ничего не зависит? Во мне была какая-то ярость, какое-то безумие, прорывавшееся наружу, как ни пытался я сдержать его, и повергавшее меня в ужас, как ни старался я оставаться собранным и уверенным в себе.
И кроме того, Эстер. Даже потеряв ее, уступив Баренду, я все равно продолжал цепляться за нее как за последнее спасение своей души, до тех пор пока и она не отвернулась от меня. Ты отвратителен. Мне стыдно за тебя. А когда в тот день Галант был у нее — что за страшное, темное дело сотворил он, о котором я ничего не мог узнать ни у негр, ни у Баренда? Не мог же я потребовать правды от нее самой: я давно уже утратил всякое право быть с ней откровенным и ожидать ответной откровенности.
Избивать его было все равно что истязать себя самого, а когда он убежал, я утратил последнюю связь с ней — ведь только он мог поведать мне правду. Что бы там ни произошло, его следовало поймать и вернуть обратно, а если надо, то и убить. Чтобы избавиться от опасности, лжи, непонимания? Не думаю, что дело было именно в этом. Просто мною владела слепая потребность уничтожить что-то, в надежде, что из самого уничтожения таинственным образом родится жизнь. Поймать его, притащить обратно в цепях, заставить бежать домой перед лошадьми, чтобы снова утвердить мою жалкую власть над ним, а через него и над самой жизнью, которая, я чувствовал, ускользает от меня. Но он скрылся, и это было худшим — так мне тогда казалось — оскорблением, какое он мог нанести мне. Но как выяснилось, было еще одно, самое худшее, которого я не ожидал и которое он готовил, — его возвращение. Он отдал ружье совершенно добровольно, не оказав никакого сопротивления, даже с улыбкой. Я попытался выколотить из него эту улыбку, но понял, что это бессмысленно, и вовремя остановился. Всю ночь я лежал без сна рядом с тихо посапывающей женщиной, моей женой. Я даже не мог искать утешения у Памелы, она была уже на последних месяцах беременности. К тому же она, даже не спросившись у меня, сразу после ужина пошла к нему в хижину, словно это само собой разумелось (а разве не так?), и мне нечего было возразить ей. В моем теле копилась некая не подвластная разуму боль, и не было способа выплеснуть ее наружу. Оставалось лишь одно средство, чтобы избавить себя от горечи, которая поднималась во мне, тяжело сгущаясь в животе и в том корне греха, который я терзал с яростью и отвращением. Сесилия проснулась и поняла, что происходит.
— Не стыдно тебе? — спросила она. — У тебя отсохнет рука. Почему ты не разбудил меня?
Я отвернулся, но от нее было уже не отделаться. И когда я наконец подчинился, у меня, конечно же, снова ничего не вышло. Ее презрение было еще тяжелее оттого, что она молчала, оставив меня наедине с моей яростью, еще более разрушительной, чем до того. И все из-за этого мужчины, Галанта, который своим добровольным возвращением в рабство указал мне на пределы моей собственной свободы. О господи, я же не выбирал этой жизни. Ведь так решил Ты. Воля Твоя непостижимая свершилась надо мной.
Утром я снова выпорол Галанта. Мне хотелось расправиться с ним, избавиться от нечистой совести, образом которой он для меня стал. Но я вовремя остановился. Это превращалось в издевательство над самим собой. Вместо того чтобы утверждать свою силу, я лишь унижал себя в глазах своих рабов — в его глазах.
Весь день я просидел дома, читая Библию. Больше, клянусь, я никогда не потеряю власти над собой. И если даже что-то и собиралось с силами, чтобы уничтожить меня, я не шевельну рукой, пусть она даже отсохнет. Да воздаст мне господь по заслугам моим.
Паралипоменон, 21: И послал Господь язву на Израиля; и умерло Израильтян семьдесят тысяч человек.
И послал Бог Ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии, и сказал Ангелу-истребителю: довольно! теперь опусти руку твою. Ангел же Господен стоял тогда над гумном Орны, Иевусеянина.
И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящаго между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим; и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои.
И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? я согрешил, я сделал зло; а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его.
И Ангел Господен сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны, Иевусеянина.
И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжения и мирныя жертвы; и призвал Господа, и Он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения.
И сказал Господь Ангелу: возврати меч твой в ножны его.
Галант
Когда идет снег, в горах стоит тишина. Падает камень — и ты слышишь тишину, которая была до того и которая будет после. Мужчины из поискового отряда, верно, уже давно ушли, им такого холода не вынести. В пещере мне не грозит самое худшее, и со мной моя каросса, но без огня плохо. Когда становится совсем холодно, складываю небольшой костер, тру ветки друг о друга и добываю огонь. Приходится быть осторожным, чтобы дым не заметили внизу, в долине.
День от ночи не отличишь. Кожа высыхает и трескается, все тело покрывается чешуей вроде черепашьего панциря. Руки, ноги, уши. Ребра выпирают наружу. Но я должен выжить, непременно должен. Время от времени отправляюсь на какую-нибудь отдаленную ферму, чтобы стащить овцу. Подкрадываюсь с осторожностью, стараясь не нарваться на собак, рублю тушу на куски и бросаю кровавые ошметки, чтобы хозяева решили, что тут разбойничал шакал или гиена. Они не должны догадаться, что я тут, в горах. Пусть думают, что я далеко, в Кейпе.
Когда сидишь вот так, скрючившись, обхватив себя руками, сжимая пальцами свои жесткие ребра, начинаешь по-другому понимать собственное тело. Пальцы ощупывают один шрам за другим — одни давние, другие еще покрыты коркой запекшейся крови. Я читаю себя самого, будто газету. Здесь описана вся моя жизнь, каждый порез, каждый шрам, каждая мозоль и отметина говорят о чем-то; и все они всегда со мной, куда бы я ни пошел. Вот почему бессмысленно отправляться в Кейп. Наконец я понял это — можно убежать с фермы и от людей, но от своего тела ты никуда не убежишь. А в твоем теле вся твоя жизнь, твои родные места и люди, близкие тебе. Этот укус на плече — от Памелы. Эта мозоль — от вил на ферме у старого бааса Пита. Этот шрам — от бича Николаса. Этот давний ожог — от трехногого котелка мамы Розы. От всего этого не убежать. А ведь есть еще и другие шрамы, не оставляющие отметин на теле и невидимые для глаз, но пребывающие внутри тебя — рубцы и отметины, которые напоминают о себе, когда ты спишь, думаешь, мечтаешь. Слово, взгляд, жест. Ты не пойдешь сегодня купаться, потому что с нами Эстер. Лев, летящий вверх тормашками, когда пуля настигает его. Касание тел под мохнатой кароссой: Эстер, Эстер…
Это из-за нее я сейчас здесь. Ведь она сказала Баренду: «Галант вольничал со мной».
Чердак. Я лежу на животе и гляжу через щель в полу: я вижу мужчину на большой кровати и женщину в кресле, неподвижно смотрящую в окно. Я не могу понять этого. В своей очевидной простоте смысл ускользает от меня. А теперь я гляжу вниз с другой высоты, на этот раз — на самого себя. И снова мне ничего не понять.
Знаю только, что я тут. Вот мое тело — я чувствую его. Я Галант. Вот что по крайней мере я наконец знаю. Мне нечего делать в Кейпе. Я здесь, в тесной, глубокой пещере, а снаружи идет снег, падает камень, и его падение напоминает мне об окружающей тишине.
Моим ногам нетрудно найти дорогу в Кейп — я уже много раз мысленно проходил весь этот путь. Но шли бы только ноги — сам я все равно остался бы здесь, в этих горах. Потому что там, внизу, в Хауд-ден-Беке, женщина вынашивает моего ребенка. Завтрашнее солнце ожидает своего часа, чтобы взойти на небе. Сейчас ночь, но солнце поднимается из недр этой ночи, этой женщины. Как же мне покинуть ее? Я не могу уйти. Ты входишь в женщину, и ты пойман навеки. Ведь в ней растет ребенок, который уже имеет власть над тобой. Я могу сколько угодно притворяться, будто ничего об этом не знаю, могу убеждать себя, что дорога в Кейп поможет забыть обо всем. Но под этим снегом тебе не остается ничего другого, как только размышлять. Пока ты сидишь тут наедине со всем тем, что вобрало в себя твое тело, ты понимаешь: от этого не убежать. Бегство — это трусость, и оно ничего не дает, ведь твое тело убегает вместе с тобой, а в твоем теле — твое рабство.
Эстер.
Нет, ее же собственные слова и оборвали эту связь. От нее я наконец-то свободен. Должен быть свободен.
Памела — от нее мне не освободиться. Из-за ребенка, солнца, которое поднимается из нее.
Свобода — это не бегство в Кейп. Быть свободным не значит одиноко бродить по горам. Мои ноги по-прежнему босы — это клеймо жжет меня. Чтобы стать свободным, нужно самому захотеть остаться там, где твоя родина, осмелиться быть тем, кто ты есть.
Ласточки, оставшиеся тут на зиму, — теперь я понимаю их.
И каждый раз назад, к самому началу. Женщина, ребенок. Ребенок.
С тающим снегом я спускаюсь с гор, сбегая вниз, как вода. Я иду туда, чтобы вернуться к ребенку. И мне кажется, будто я впервые попал в эти края. Будто теперь они совершенно другие. Ведь на этот раз я сам решил вернуться.
Я привязан в конюшне, удары бича разрывают кожу и врезаются в израненную плоть, но мысли вырываются из меня, подобно падающим с гор камням. Бесконечные слухи об освобождении рабов. Но я тут. И руки у меня связаны. И все же я буду повторять эти слухи снова и снова, пока все не поверят мне.
Я вновь вместе с женщиной, в животе у которой, точно рыба, шевелится новая жизнь. Мама Роза перебирается к нам, чтобы быть поблизости, когда придет время. Ночью поток прорывается. Ребенок борется, стараясь выплыть наружу. Памела бьется, стонет, рыдает, пытаясь избавиться от тяжкого бремени.
На восходе солнца ребенок уже спит у нее на руках. Ребенок с белыми волосами и голубыми глазами.
Камень, падающий бесконечно. А в нем тишина, которая была до него и будет после.
Часть третья
Кэмпфер
Нет, всегда так быть не может. Сколько раз я утешал себя этой мыслью — и в тот день, когда мы жали пшеницу, и в тот послеполуденный час на гумне. И передо мной возникало лицо матери, постаревшее раньше времени, усталое и измученное. И сколько же раз так будет еще? «Джозеф, — обычно говорила она, — я вижу для тебя только два пути в жизни: ты либо станешь богачом, либо окончишь жизнь на виселице. — И, качая седой головой (она поседела, когда ей не было еще и тридцати), со вздохом добавляла: — Никак не пойму, от кого ты это унаследовал. Уж во всяком случае не от меня». А если это слышал отец, то начинались бесконечные пререкания. Он был родом из Северного Брабанта — мы жили неподалеку от Бреды, — а мать была южанка и родилась на территории Бельгии, и потому бурные перепалки были не редкость в нашем семействе. «Вот подожди, мама, — успокаивал я ее, — я еще докажу, на что способен. Весь мир будет с почтением глядеть на меня». Пожалуй, у нас обоих были причины верить в то, о чем мы говорили, ведь я родился в рубашке, что с самых первых дней давало повод для всевозможных предсказаний моего будущего — как зловещих, так и восторженных. А сам я был уверен лишь в одном — что бы ни сулила мне судьба, она ничего не подарит мне просто так, мне придется приложить усилия, чтобы добиться удачи. Мы были вроде многочисленного помета щенков: сосков для всех не хватало, и можно было выжить, либо перехитрив, либо одолев остальных.
Сколько я себя помню, мы всегда жили, окруженные войной или слухами о ней, армии заворачивали к нам, чтобы промаршировать по нашей песчаной местности, — австрийская, русская, французская, — а на побережье громогласно заявляли о своем присутствии англичане. Сегодня мы были республикой, а завтра уже королевством или частью французской империи. Я вырос, постоянно слыша имена членов дома Оранских, потом им на смену пришел Пишегрю (его имя в нашей семье звучало именем Сатаны, в устах моего отца сообщения о его продвижении от Антверпена до Хертогенбоса и Неймегена превращались в рассказ о путешествии Люцифера, а то, что его солдаты сотворили с матерью и моими сестрами, заперев отца и всех братьев в свинарнике, я понял лишь много лет спустя, хотя и тогда уже смутно подозревал нечто ужасное — ведь Элси после того помешалась и была способна произносить лишь какие-то нечленораздельные звуки); а потом Луи Наполеон.
Мимо нашей крошечной фермы, где жгли древесный уголь, чтобы заработать на жизнь — а жили втринадцатером, — и сажали капусту и турнепс для своего стола и на продажу — девочки приглядывали за домашней птицей и скотом или пряли и ткали вместе с матерью, — все лозунги того времени пролетали, кружась, словно уносимые ветром клочки бумаги, часть которых остается трепетать на изгороди. А поскольку все они были на иностранном языке, то напоминали таинственные напевы в волшебных сказках, которые любила рассказывать мать.
Liberté, egalité, fraternité[24] — три горячих уголька, тлеющих зимней ночью у тебя в животе, пока ты лежишь вповалку с братьями и сестрами, слушая, как шумит дождь и ветер, или прислушиваясь к тишине падающего снега, а за перегородкой тем временем возятся, посапывают и неожиданно повизгивают свиньи, козы и коровы. Les droits de l’homme. La Commune. Vive la république[25]. По вечерам мужчины пьют джин за чисто выскобленным столом (мать тем временем сидит в полутьме, штопая и вышивая, — серенькая мышка с покрасневшими веками и вечной каплей, свисающей с кончика носа) и беспечно перебрасываются магическими словами. L’homme est ne libre et partout il est dans les fers[26]. Отец стучит кулаком по столу так, что позвякивают тарелки: «Черт подери! Можете говорить сколько угодно. Но единственное, что мы видели от этой так называемой свободы, из-за которой все с ума посходили, так это голод и нищету. Весь урожай турнепса расхищен очередной сворой солдат. Месячный запас угля отобрали за просто так. А моя жена и дочери, моя Элси!..» — Тут его голос прерывался, потому что Элси была его любимицей, и раздавался еще один громовой удар кулаком по столу.
И все время, о чем ни пойди разговор, звучит одно и то же имя. Наполеон. Разбивший оковы рабства. Освободитель. «Освободитель моей задницы! — Это снова отец. — Если это называется свободой, то хотел бы я поглядеть, что такое рабство!» И жалобные, тягучие упреки матери: «Герд, только, пожалуйста, не при детях».
Трое моих братьев вступили в армию, и не прошло и года, как двое из них погибли: один — сражаясь за Австрию, другой — за Францию, а третий вернулся домой без ноги. И снова отец ругался на чем свет стоит. «И после этого у них хватает наглости болтать о свободе-равенстве-братстве! — Желтая от табака слюна брызжет изо рта. — Единственное, что мы видели до сих пор, так это их чертовы задницы, а на них любоваться — удовольствие небольшое». — «Ох, Герд, Герд. Ну как ты можешь?»
Я должен был признать, что отец, вероятно, прав. И все же по ночам, когда ветер завывал за окнами, слова эти продолжали звучать у меня в ушах. Liberté. Egalité. Fraternité. Я верил, что где-то за этими словами, за всей нищетой и убогостью, турнепсом и углем, лохмотьями и бессмысленным бормотаньем Элси должна таиться потрясающая реальность. Иначе я вообще не находил в жизни ни малейшего смысла.
Дела пошли еще хуже, когда умер отец, — после того, как он, невзирая на протесты матери, решил покинуть дом и вступить в армию, чтобы задать хороший урок Наполеону. К несчастью, в его смерти не было ничего героического: по дороге в Хохенлинден он споткнулся о собаку и нечаянно выпалил себе в грудь.
К этому времени я уже обнаружил — не без помощи дяди Фонса, чахоточного старшего брата матери, — что даже из войны можно извлечь выгоду, если среди всех этих беспорядочно разбросанных и постоянно перемещающихся армий ты ухитришься появиться с контрабандными товарами в подходящее время и в подходящем месте. Вскоре наша деятельность переросла в широко распространившееся движение сопротивления иностранным захватчикам. Мой пока еще невредимый старший брат Дидрик был у нас вожаком. В конце концов было решено в назначенный срок, в среду ночью, взорвать казармы гарнизона, расположенные возле Остерхаута. Но в последний миг отвага покинула меня: вспомнив о своей бедной матери, которая и так уже столько потеряла во время войны, я решил, что ради нее не должен подвергать свою жизнь опасности. А потому упаковал свои пожитки в заплечный мешок и во вторник ночью сбежал из дому, чтобы присоединиться к армии. (Впоследствии я узнал, что их замысел провалился и оба — дядя Фоне и Дидрик — были в числе погибших: весьма очевидное доказательство того, что я не зря родился в рубашке.)
Мать рыдала, когда я разбудил ее, чтобы попрощаться.
— Тебе же еще нет и шестнадцати, Джозеф, — умоляла она, но я поднес палец к ее губам и сказал:
— Я рослый для своих лет, мама. И вполне могу сойти за восемнадцатилетнего. Сейчас самое время позаботиться о благе семьи.
— Мы очень бедны, Джозеф, но всегда ухитрялись сводить концы с концами.
— Моя мать заслуживает лучшей жизни. И кроме того, я всегда говорил тебе, я чувствую это нутром, что мне предстоят великие дела. — И, потрясая кулаком, гордо прошептал ей на ухо — Либерте. Эгалите. Фратерните.
— Ох, Джозеф, Джозеф, — не унималась она, — ты даже не умеешь это правильно произнести.
— Увидишь, мама.
И вот я отправился в путь в полной уверенности, что история распахнется передо мной, как калитка. В ушах у меня победно звучали фанфары. Расступитесь перед человеком, родившимся в рубашке!
Как бы не так, черт подери! Единственное, что выпало мне на долю, — год за годом таскаться по всей Европе, большей частью на своих двоих. Бывалые солдаты вокруг меня с довольными лицами разглагольствовали о великих битвах, в которых им довелось участвовать: Ульм, Аустерлиц, Йена, Лейпциг — названия громкие, как звуки фанфар, — а я вместо ожидаемой славы видел лишь кровь и дерьмо, лохмотья и нищету, дохлых лошадей, усталость, ругань и беспрерывный голод.
Разочаровавшись в обеих воюющих, сторонах, я в конце концов прибился к банде мародеров, которые, подобно стае стервятников, следовали по пятам за армиями, пробавляясь грабежом. А когда был заключен мир и в Вене начались переговоры, я решил отряхнуть с моих ног прах разрушенной и обнищавшей Европы и отправиться в Англию.
Мать была безутешна, но я стоял на своем.
— Я попытал счастья в Европе, — сказал я, стараясь успокоить ее, — но ничего не вышло. Но конечно, все это было не напрасно. Ты не должна терять веры в меня. Я обещаю: ты умрешь богачкой.
— Мне не так уж долго осталось жить, Джозеф. Из одиннадцати детей в живых осталось всего четверо, да и то один калека, а другая слабоумная. А теперь и ты хочешь покинуть меня.
— Ненадолго, мама. Я уверен, что удача поджидает меня за ближайшим углом. Англия полна самых заманчивых возможностей.
Но в Англии, куда после войны возвращались домой солдаты, к иностранцам относились не слишком ласково. Я нанимался на всевозможные временные работы — в угольные копи, на обувную фабрику, даже на картофельные поля, — но это была вовсе не та жизнь, на которую я рассчитывал и которой, по моему мнению, заслуживал, а потому я стал проявлять все больше интереса к рассказам о дальних странах. В то время много говорили об Америке, где, по слухам, прославленные лозунги моей юности уже стали действительностью и все люди обрели свободу и достаток. Были разговоры об Австралии. А еще о мысе Доброй Надежды. Меня привлекло само это название, а когда я добрался до Саутгемптона, там как раз был корабль, который готовился отплыть к югу Африки, что и развеяло мои последние сомнения.
Однако прибытие туда по меньшей мере не предвещало ничего хорошего. Пять дней жуткий ураган не давал кораблю войти в гавань и чуть было не оборвал якорную цепь, а когда нам наконец удалось выбраться на берег, ветер дул с такой яростью, что ты едва мог удержаться на ногах; Гора была скрыта грядой клубящихся белых облаков.
Несколько рабов-малайцев предложили мне приют в лавке краснодеревщика, где они работали, в обмен на большую часть табака и арака, которые мне посчастливилось контрабандой протащить на берег. Благодаря знакомству и ходатайству главного столяра Мустафы мне подыскали работу на винограднике неподалеку от Констанции. «А опыт в виноградарстве у вас есть?» — весьма подозрительно спросил меня владелец фермы Сиас де Вет. «Я обучался этому делу в самых разных областях Франции, — заверил я его. — В Вандее, в Бургундии, в Медоке и многих других местах». Этому научил меня покойный дядя Фоне — упокой господь его грешную душу, — когда я был еще юн и восприимчив к советам: «Если тебя спросят, умеешь ли ты что-то делать, непременно отвечай „умею“. Ведь подучиться всегда успеешь, а стоит ответить „не умею“, и ты упустишь случай». И я действительно вскоре подучился. А если и делал что-то не так, то успокаивал де Вета тем, что, мол, делаю это на французский манер, но ничего не имею против того, чтобы освоить методы, принятые в этой отдаленной колонии. Под конец мы с ним недурно поладили, но больше двух лет я не смог там выдержать. История по-прежнему звала меня. Да и мать не становилась с годами моложе.
Меня снова понесло в армию — и на этот раз совершенно зря. На что было рассчитывать солдату в Кейпе? Вылазки против мародерствующих бушменов и готтентотов, дежурства на крепостных батареях в Кейптауне, походы во внутренние районы страны. Не прошло и двух месяцев, как я дезертировал. Но когда я работал на уборке урожая на одной из ферм неподалеку от Пикетберха, меня вдруг арестовали. Кто бы мог подумать, что они столь серьезно относятся к дезертирству в этой все еще полудикой колонии? Черт бы их всех побрал! В наказание — изрядная порка в Кейптауне, и вдобавок публичная — самое мучительное унижение за всю мою жизнь.
Но по крайней мере теперь я был официально отчислен из армии, снова был свободен и мог попытаться начать новую жизнь. Тогда-то я и повстречал герра Либермана, который, нагрузив товарами три фургона, намеревался предпринять торговую экспедицию во внутренние районы страны.
— Мне нужен проводник и хороший охотник, — сказал он, после того как я ему представился. — Вы знакомы с центральными районами?
— Я знаю их как свои пять пальцев, — уверил его я. — И к тому же вырос с винтовкой в руках.
— В таком случае я беру вас с собой, если только вы не запросите слишком высокого жалованья.
Как только мы условились об оплате, я убедил его вложить несколько сотен риксдалеров, причитавшихся мне после нашего путешествия, в партию товаров, которые я мог бы продать с выгодой для себя. Похоже, что судьба наконец улыбнулась мне.
Мы отправились в путь — через горы к Вармбаду, потом через дикую, необжитую местность к Свеллендаму и еще дальше, к Грааф-Рейнету и Великой реке. Во время всего нашего путешествия я обычно выезжал верхом вперед, чтобы разведать местность, а потом возвращался и указывал дорогу герру Либерману. Доверчивому старику даже в голову не приходило, что я знаю эти места не лучше его самого. Когда мы забрались подальше в глубь страны, торговля пошла очень бойко. Обычно мы останавливались на ночевку на какой-нибудь ферме и на следующий день с утра распаковывали товары и с большой выгодой продавали или обменивали их. К тому же нас неизменно снабжали на дорогу едой и выпивкой. Не раз случалось, что герр Либерман упивался настолько, что не просыпался по нескольку дней подряд, и мне приходилось привязывать его, чтобы он ненароком не вывалился из фургона. А я тем временем мог спокойно обделывать собственные дела. Выяснив, что в этих отдаленных районах можно продавать товары куда дороже, чем возле Кейптауна, я без малейших угрызений совести клал в собственный карман разницу между тем, что герр Либерман рассчитывал получить, и тем, что я получил в действительности. Для него в этом не было никакой потери, а меня каждый заработанный риксдалер все более приближал к вожделенным «Либерте-Эгалите-Фратерните», до которых, как я теперь понимал, можно добраться лишь с кругленькой суммой в кармане.
Я убедил старика пересечь Великую реку и отправиться в Землю кафров. Он поначалу возражал, говоря, что это, мол, противозаконно. Но кто про это узнает? А когда он увидел, сколько слоновой кости можно получить в обмен за смехотворно малое количество дешевых бусин, скобяного товара и табака, его водянистые глаза широко раскрылись, так и застыв в немом изумлении, и он на радостях немедленно напился в стельку.
Мы двинулись обратно, лишь когда у нас вышли все товары. Герр Либерман был вполне доволен путешествием и намеревался возвращаться в Кейптаун. Но я уговорил его еще немного поразмыслить над открывшимися нам возможностями.
— Вы только подумайте, — объяснял я, — имей мы товары, которые пользуются тут спросом, мы привезли бы домой впятеро больше слоновой кости.
— А про какие товары ты говоришь?
— Про бренди и оружие.
— Aber[27] Йозеф, ведь нельзя продавать оружие племени коса. Gott im Himmel[28], разве ты не слышал, что говорят буры о пограничных стычках?
— Герр Либерман, вы не сможете рассказать мне про войну ничего такого, чего бы я уже сам не знал и не испытал. Мне еще не исполнилось и десяти лет, когда я узнал, что война самое прибыльное дело.
— Но если коса будут вооружены, они вырежут всех буров.
— Лучший способ обеспечить мир — это сделать так, чтобы оба противника были одинаково сильны. Тогда ни один из них не решится напасть первым.
Герр Либерман по-прежнему не испытывал восторга от моего предложения, но благодаря последним каплям бренди, оставшимся у нас в бочонке, мне удалось убедить его поехать в Алгоа Бей, где мы продали слоновую кость и прочие товары. Прибыль была столь ошеломляющей, что старина Либерман немедленно осушил бутылку мерзкого коньяка «Кейпсмоук», который уложил его пластом на пять дней, в течение которых мы продвигались обратно к Великой реке с фургонами, трещавшими под тяжестью закупленных мною ружей и патронов, табака, бренди и скобяных товаров.
На этот раз торговля напоминала бушующий полевой пожар, и благодаря нескольким туземцам, которых я нанял в Алгоа Бей, сделки проходили очень быстро. А когда все железные котелки были раскуплены, мне пришла в голову мысль продавать жадным до них дикарям дробинки на рассаду. «Это не котелки, а семена, — втолковывал я им. — Просто положите зерно в воду, и через месяц начнет расти горшок. Как только он вырастет до нужного размера, можете вытаскивать его из воды». Надо было видеть, с каким восторгом они покупали дробь, платя за каждую дробинку половинную стоимость котелка. Когда мы двинулись в путь, наши фургоны еле тащились, до отказа нагруженные слоновой костью. Чтобы не нарваться на пограничный патруль, о котором меня предупредил один из туземцев, я оставил герра Либермана с фургонами неподалеку от Алгоа Бей и сам отправился вперед, чтобы убедиться в том, что берег чист.
И тут удача вдруг изменила мне. Когда я вернулся туда, где оставил фургоны, я нашел там лишь одного из погонщиков, которому удалось скрыться в кустах при внезапном появлении патруля.
И снова я был вынужден наниматься на фермы, сначала в Сурфельде, в восточных районах, но затем, после войны девятнадцатого года, когда племена коса лавиной пересекли границу, грабя и уничтожая все на своем пути, я вернулся в более безопасные края и обосновался неподалеку от Ворчестера. К тому времени мне удалось скопить небольшую сумму денег, однако фермеры были либо чудовищно скупы, либо не могли предложить приличную плату; чаще всего они нанимали меня, расплачиваясь частью урожая, а когда бывали засушливые годы — что случилось со мной три раза подряд, — я оставался почти ни с чем, еле-еле наскребая денег на то, чтобы прокормиться и прикрыть голую задницу.
Далеко за морем мать тосковала и ждала меня. Быть может, она уже ослепла от слез. А может быть, и умерла. Но единственное, чем я мог похвастаться, была работа на фермах, принадлежавших не мне, а другим. Звучные слова далекого прошлого начали понемногу изглаживаться из памяти, словно их яркие обрывки снова сорвало с изгороди и унесло ветром. Значит, все было напрасно? Великие лозунги революции. Наполеон. Неужели напрасно?
На крошечном участке старого, выжившего из ума сапожника Дальре в Хауд-ден-Беке мне снова блеснул слабый луч надежды. Лето стояло хорошее. Сухое, но хорошее. Пшеница колыхалась на ветру. Меня просили помочь убрать урожай и на соседних фермах. Вновь забрезжила надежда заработать достаточно денег, накупить товаров, погрузить их в фургоны и отправиться в глубинку за слоновой костью.
Впервые в жизни ко мне относились с некоторым почтением. Не старик Дальре и не семейство Ван дер Мерве, смотревшее на меня свысока, как на обычного работника, а рабы. Удивительно, с какой охотой они собирались вокруг меня, жадно слушая все, что мне взбредет в голову рассказать. Еще, еще, еще, подстегивали они меня. В их глазах я был необыкновенным человеком. А может, порой думал я, мое время еще не вышло? Ведь впереди у меня полжизни. Быть может, моя рубашка наконец проявит свою магическую силу, быть может, мать не напрасно ждала меня так долго?
Все эти мысли постоянно вертелись у меня в голове в то лето. Особенно занимали они меня во время путешествия с Николасом в Кейптаун в конце октября и в тот октябрьский день, когда мы убирали на поле пшеницу. И конечно, в тот послеполуденный час, когда мы сразу после Нового года молотили зерно на гумне. Ведь именно тогда, по-моему, все и решилось окончательно.
Галант
Белый. Ребенок Памелы был белый.
Николас
Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек — «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья — весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное — пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Из-за отсутствия развлечений и разговоров мне хватало времени для размышлений по дороге туда и обратно. Рой обычно держался особняком, с улыбкой на нахальной рожице и настороженными, как у суслика, глазами, от Мозеса я не мог добиться ничего, кроме коротких кивков, подтверждающих все, что бы я ни сказал, а Кэмпфер лишь односложно отвечал на заданные вопросы, и не более того, — хотя я уже давно приметил, что он порой бывал весьма болтлив, когда оставался наедине с рабами.
Неужели я действительно неудачник? Но что именно называется неудачей? Человек неизбежно умаляет то, чем, как ему кажется, он обладает, сама жизнь — это нечто беспрерывно урезающее тебя, ограничивающее твои возможности. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это на уважение соседей. И даже не уважение, а хотя бы признание и симпатию. Но и этого мне так и не удалось добиться. Родители потеряли веру в меня с тем большим основанием, что я хозяйничал на исконно родовой ферме. Мой брат презирал меня, называя слабаком. Моя собственная жена не считала меня настоящим мужчиной, поскольку я не мог произвести на свет сына да к тому же бегал за черными женщинами. Эстер давно и решительно отвергла меня. А по взглядам и ответам Галанта я видел, что и он относится ко мне пренебрежительно: а ведь мы были когда-то так дружны. Кто еще оставался? Бет, которая по-прежнему ходила за мной по пятам, явно поджидая случая, чтобы отомстить мне за смерть сына? Памела, которой я не решался поглядеть в глаза, когда она входила в дом со своим белым ребенком?
Я старался не замечать злобного, хотя и молчаливого упрека Сесилии и ее отношения к ребенку Памелы. Неужели господь не мог удалить его с моих глаз? Но это, несомненно, было его карой мне, карой, каждодневно налагаемой заново, чтобы вынудить меня к предельному смирению. Карой невыносимой и не оставляющей мне иного выхода, кроме как окончательно покориться его воле. Бывали дни, когда я готов был просить Сесилию отослать эту женщину обратно в Бюффелсфонтейн, но я понимал — и Сесилия странным образом словно соглашалась со мной, — что мой грех всегда должен оставаться у меня перед глазами.
И только дети были еще со мной. Хелена. Маленькая Эстер. Катрина. Лишь они не задавали никаких вопросов и не судили меня. Держа двух старших за руки, а младшую на плечах, я мог целыми днями гулять с ними по ферме. Маленькие ручки, с любовью обнимающие меня за шею, горячие влажные поцелуи, словно тебя лижут щенята, запах солнца, пыли и смятых цветов. Невинность хрупкая и мимолетная. Ведь я знал, что стоит приехать учителю, а этого ждать уже недолго, и возникнет неизбежное отчуждение. Собственно, оно и так уже чувствуется. Сесилия постепенно брала верх, заявляя, что «неприлично» девочкам целыми днями повсюду разгуливать с отцом. Еще немного — и они объединятся с ней против меня и моего мужского мира и окончательно уйдут в ее материнский мир. Постоянно обостряющееся чувство одиночества. Вначале все кажется таким цельным. Любовь и забота матери, внушающая благоговение сила отца, расположение брата, доверие друга, который делит с тобой все. Но как скоро все это было отравлено, как безжалостно уничтожено! Ты все еще маменькин сынок. — Сегодня утром Баренд рассказал мне о своих планах. — Такое я могла ожидать от Баренда. Но ты! Мне стыдно за тебя. — Огромный лев с черной развевающейся гривой, у тебя на глазах превратившийся в жалкую грязную тушу: навеки загубленная свобода. Единственным, что мне помогало теперь выжить, была, как это ни странно, ферма, та самая, которая так угнетала меня прежде. И вот мы возвращаемся туда, каждый погруженный в собственные горькие размышления, — Рой, старый Мозес, Кэмпфер и я.
В этом году мне не хотелось ехать в Кейптаун, сама мысль о предстоящей поездке раздражала меня. И когда март и апрель уже прошли, а я все никак не мог собраться — бобы созрели нынче поздно, и еще нужно было расчистить и вспахать землю, — я молча решил отложить поездку до следующего года. Но продуктов скопилось слишком много — мыло, кожи, шкуры, бушевый чай, яйца, пух, солонина, — да и Сесилия не оставляла меня в покое: «Дети подрастают, Николас. Я не желаю, чтобы мои дочери росли как дикарки. Нужно подыскать в Кейптауне учителя. Хелене пора начать учиться». И когда в октябре наступила короткая передышка перед близящимся неистовством жатвы и молотьбы, которое обрушит на нас яростное лето, мне все же пришлось поехать.
— Ты уже давно приставал ко мне, чтобы я взял тебя в Кейптаун, — сказал я Галанту. — Теперь этот случай представился.
Но к моему удивлению, он отказался ехать.
— Лучше я останусь дома. Я уже был в Кейптауне и видел все, что хотел повидать.
— Не понимаю тебя, Галант.
— Если ты прикажешь мне ехать, я поеду, — как всегда мрачно заявил он. — Но если я вправе решать, то лучше останусь дома.
Его отказ огорчил меня и испортил мне настроение. Ведь я надеялся, что если он поедет со мной, то за долгую дорогу нам, быть может, удастся вернуть что-то утерянное с той давней ночи в горах. Теперь это было исключено. Но почему уже в те дни я думал об этом как о «последней» возможности?
В конце концов я постарался убедить себя в том, что, может, оно и к лучшему, что он останется дома. Пожалуй, нам даже нужно расстаться на некоторое время после всего случившегося в ту зиму, чтобы разобраться в себе самих. Да и ферма будет в надежных руках, что там ни говори. Это, по-моему, было самым главным в наших отношениях — я по-прежнему безоговорочно доверял ему. По общему мнению, он сильно переменился после своего возвращения. Не скажу, что он стал более открытым, просто утратил свою былую тупую непреклонность, казалось, что благодаря путешествию в Кейптаун он возмужал и остепенился. А может быть, мы просто научились жить рядом. Мы оба стали старше и, должно быть, немного мудрее, мы приспособились и притерлись друг к другу. И вот я пошел к старику Дальре и попросил его одолжить мне на месяц Кэмпфера. Дальре, конечно, не мог отказать мне, поскольку жил тут исключительно нашей милостью. С папиного пастбища в горах я прихватил старого Мозеса и еще взял малыша Роя, чтобы тот вел волов.
— Постараюсь вернуться поскорее, — уверил я Сесилию, которая, казалось, была довольна, что я наконец уезжаю. Если бы она накинулась на меня открыто, думал я, но ее смирение было воистину непостижимо. Она всегда была права, всегда безупречна в исполнении своего долга, несомненно полагая, что господь дарует ей свое одобрение и утешение за то, что она покорно следует его неисповедимой воле. Мне не хотелось бы роптать, но такая жена самими своими достоинствами весьма затрудняет жизнь собственного мужа.
Продукты были распроданы очень быстро и с гораздо большей прибылью, чем в прошлые годы, и вскоре я взялся закупать товары по списку, составленному Сесилией: веревки, ситец и шляпы, сахар и специи, а для себя самого — два ружья, патроны, железо, деготь и смолу. Мне посчастливилось найти и подходящего учителя — мужчину средних лет по имени Ферлее, вполне благопристойного, хотя и несколько занудного, женатого на девушке, которой едва минуло пятнадцать, и жившего в доме ее родственников, где недавно родился первенец. Из рассказов родственников и по рекомендательным письмам я выяснил, что он работал учителем по найму в восточных районах, три года провел в окрестностях Грааф-Рейнета, а потом перебрался в Стелленбос. Родственники его жены настаивали, чтобы молодые оставались в Кейпе, но он хотел снова отправиться в глубь страны, а потому мы уговорились, что он начнет преподавать в Хауд-ден-Беке с февраля, когда мы уже уберем урожай и когда их ребенка можно будет перевезти на новое место, да и Хелена к тому времени немного подрастет.
Я познакомился с ним на собрании в Кейптауне — одном из многих, как мне сказали, случавшихся за последние месяцы, — на котором обсуждался вопрос о рабах. Недовольство, охватившее всю колонию, казалось, достигло точки кипения. Я был рад, что мне довелось присутствовать там и воочию увидеть, как обстоят дела. Ведь слухи всегда все перевирают.
Большинство собравшихся были из Кейптауна, но немало было и фермеров-виноградарей из окрестностей города, из Стелленбоса и еще более дальних мест, даже из Свеллендама. — В конце зала примостились кучкой рабы, среди них я заметил и Мозеса, вечно сующего во все свой нос. Было заявлено — и слова эти были встречены бурными аплодисментами, — что с нас довольно туманных слухов и всевозможных отговорок, нам необходима полная ясность. За неделю до того к губернатору была послана депутация, и теперь к нам явился с ответом чиновник, что само по себе было весьма примечательно, так как лорд Чарлз слыл человеком, которого нельзя ни в чем убедить. Чиновник обращался к нам с демонстративным почтением. Вначале его речь чуть было не заглушили крики разбушевавшейся толпы, но, когда стало ясно, что он настроен вполне благожелательно, ему позволили продолжать без помех. Он привел с собой молодого переводчика-готтентота — пандура, очень гордого своей яркой формой и в то же время жутко напуганного всем этим сборищем разъяренных буров, что в сочетании производило довольно комичное впечатление.
Согласно заявлению чиновника, которое молодой пандур переводил, запинаясь от страха, правительству было известно о наших тревогах и оно провело тщательное расследование нынешнего положения дел. Подробное сообщение уже отослано королю Англии, и через некоторое время будет получен ответ. Если Британское правительство решится на освобождение рабов — разумеется, при условии достаточной денежной компенсации, — нам будет объявлено об этом заблаговременно. Все выяснится к концу года. Если к этому времени мы не получим никаких известий, то это будет означать, что мы вольны жить, как жили. Если же что-то изменится, то к рождеству или к Новому году по всей колонии будут разосланы курьеры с подробными инструкциями.
Кое-кто из фермеров ворчал по поводу новой отсрочки. Кое-кто даже грозился напасть на переводчика-готтентота, словно это он был во всем виноват. Но в дверях стояли одетые в красные мундиры солдаты, готовые воспрепятствовать любым беспорядкам. Однако большинство присутствующих были согласны принять официальный ответ. Нельзя же требовать, чтобы решение было вынесено уже на следующий день. Я тоже был вполне готов подождать до Нового года: зато тогда мы будем знать наверняка, являемся ли мы хозяевами на своих собственных фермах и над нашими рабами.
Слышались здесь и такие разговоры, что, мол, нечего сомневаться в решении правительства и нужно самим положить конец этому состоянию двусмысленности, освободив рабов немедленно. Я много размышлял над этим по дороге домой. Ну предположим, я даже захочу освободить своих рабов — но что будет с рабами на соседних фермах? Такое положение, несомненно, приведет к печальным последствиям. Каждый человек должен считаться с соседями: никто не вправе поступать так, как ему вздумается. И кроме того, Новый год уже близок, ждать осталось недолго.
Так что не могу сказать, что мысли о сделанном за поездку не приносили мне удовлетворения. Конечно, доволен я не был, но и особенного недовольства тоже не испытывал.
В узкой высокогорной долине, блеклой в свете летнего солнца, фургон, казалось, катился сам собой. Волы, должно быть, унюхали запах пастбищ Хауд-ден-Бека, передние начали весело бодаться, так что Рою пришлось хлестнуть их бичом и отойти в сторону.
Я, разумеется, сделал остановку в Эландсфонтейне. Еще издали я стал высматривать, не мелькнет ли платье Эстер. Но Баренд был дома один. Эстер ушла в вельд, ответил он на мой вопрос. Похоже, ничто не могло приручить ее к дому. Мы сидели в прохладной комнате, попивая свежий кофе, привезенный мною, а Кэмпфер вместе с работниками расположился в тени на дворе. В окно я видел, как он удобно уселся на корточки, охотно отвечая на их возбужденные расспросы про Кейптаун, пока я рассказывал Баренду о своей поездке, о ценах, по которым были проданы продукты, о покупке новых ружей и найме учителя.
— Почему ты так рвешься дать своим дочерям образование? Ты что, думаешь, что они будут жить в городе?
— Это все Сесилия, — ответил я. — И кроме того, они ведь девочки. Нельзя же их воспитывать столь же вольно, как мальчиков.
Он насмешливо глянул на меня из-под темных бровей.
— Ну еще бы, — сказал он. — Девочек тебе, конечно, воспитывать проще, чем мальчиков.
— Я не променял бы своих дочерей ни на каких мальчиков.
— Не сомневаюсь. И все же жаль, если в один прекрасный день Хауд-ден-Бек окажется без наследника и попадет в чужие руки.
Я умышленно пренебрег его ехидным замечанием и переменил тему разговора:
— Тут ничего не случилось, пока меня не было?
— Все в порядке. Я через день наведывался в Хауд-ден-Бек. Галант, похоже, наконец образумился. Во всяком случае, наглости у него поубавилось.
— После Нового года мы все заживем еще лучше, — сказал я.
— Что ты имеешь в виду?
Я начал рассказывать ему о собрании в Кейптауне. Посреди разговора в комнату вошел Абель, прервав нас каким-то дурацким вопросом о мотыге. «Я скоро приду», — раздраженно ответил ему Баренд. Но Абель все равно вертелся неподалеку, пока я продолжал рассказывать. Потом мы вышли во двор, товары Баренда были уже выгружены. И вскоре мы снова двинулись в путь, но уже без старого Мозеса, которого я отправил обратно на пастбище отца, подарив ему табак, бочонок бренди и новые штаны.
И тут я вдруг вновь почувствовал недовольство. И не столько из-за того, что скоро окажусь дома, сколько из-за неприятных воспоминаний о первой поездке с отцом в Кейптаун, когда все были так взбудоражены вестью о восстании рабов в Куберхе. После того как мы вернулись оттуда, папа собрал всех рабов и выпорол их для острастки. В его время это было единственным способом устрашения, необходимым и вполне достаточным. А теперь? Я, как мог, старался отогнать от себя мрачные мысли. Ведь теперь нам снова есть на что надеяться. И пока мы все ближе подъезжали к дому — мимо фермы Франса дю Той и затем на восток к Хауд-ден-Беку, — на душе у меня понемногу полегчало. Наконец показалась и ферма, зажатая с двух сторон горными хребтами: большая усадьба с каменной оградой, побеленным домом и дворовыми пристройками, краалями и рощицей деревьев. Я поневоле ощутил чувство гордости: все это было делом моих рук. Ветхая лачуга, в которой когда-то жила Эстер, превратилась в крепкий высокий дом с крытой просмоленным тростником крышей. Внизу, там, где была устроена запруда, виднелась широкая полоса темно-голубой воды. Выложенные камнем оросительные канавы. Сады, персиковые деревья перед домом, поля бобов, темно-зеленая полоса тыквенного поля, широкие просторы уже желтеющих пшеничных полей. Во всем этом чувствовались надежность и незыблемость. Все было сделано хорошо, крепко, надолго. Мы больше не были здесь временными жителями, все это будет длиться и продолжаться. Может, теперь и вправду пришло время избавиться наконец от неуверенности? Ты многое потерял, но и многому научился, ты возмужал. Вскоре после того, как я высадил Кэмпфера возле домика Дальре и вместе с Роем покатил дальше, я увидел вдалеке девочек, которые выбежали встречать меня. Яркие развевающиеся платья, встрепанные на ветру волосы, громкие голоса: «Папа! Папа! Папа!» Моя ферма, мой дом, мои дочери.
Да, мы восторжествуем.
Господь истребит врагов наших, встав во главе нашего воинства.
И сегодня вечером, после того как Памела вымоет нам ноги и уберет со стола посуду, все соберутся для молитвы — мы за столом, рабы на полу возле двери — и я целиком отдамся размеренному рокоту собственного голоса, звучащего с едва сдерживаемым ликованием:
А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!
Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно.
Встань и молоти, дщерь Сиона; ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли[29].
Мама Роза
Год выдался сухой и ветреный. Ветер то налетал порывами и кружил, норовя сорвать юбку, то дул постоянно и ровно день за днем, словно его подгоняла чья-то могучая рука. Он сметал все на своем пути, клонил к земле пшеницу, и поневоле хотелось, чтобы поскорее пришло время молотьбы, потому что то был подходящий ветер, готовый унести прочь солому и мякину, оставив на гумне тяжелые крупные зерна.
На первый взгляд на всех боккефельдских фермах в то лето было тихо и спокойно. После бегства Галанта и его возвращения в пору таяния снега грозовое небо прояснилось. Дни стояли ясные, безоблачные, ласточки вернулись домой, солнце вставало, шло своим путем по небу и снова садилось, чтобы подняться наутро вновь, пшеница наливалась и желтела темным золотом, опаленная кое-где слишком жарким солнцем и все же предвещавшая лучший за многие годы урожай.
И только ветер нарушал наш покой и тревожил всех. Совсем особый ветер поднимался тут, у нас. Его не увидишь глазами и не почувствуешь кожей, но я-то умела распознать его. В первый раз я ощутила его в тот день, когда Галант пришел поговорить со мной об этом. Я жила в стороне от остальных, но все они проходили мимо моей хижины, и от меня ничто не ускользало. Вечерами частенько захаживали Галант и другие рабы из Хауд-ден-Бека или от старика Дальре, рабы Баренда тоже порой заглядывали ко мне — славный шалопай Абель, всегда готовый поплясать, выпить и посмеяться, тихий молодой Голиаф и эта ползучая гадина Клаас, а еще люди с дальних ферм: Слингер, вечно щеголявший страусовым пером на обвисшей шляпе, старый Мозес с выцветшими глазами и беспрерывно хнычущий Адонис с фермы Яна дю Плесси. Каждый шел ко мне со своими бедами, и я слушала их всех, ведь я старуха, и мне они спокойно поверяли то, что не решились бы рассказать никому другому. А почему бы мне не помочь им? Я была всем им матерью.
В тот вечер Галант принес мне супа, который по его просьбе Памела стащила на кухне, и долго просидел у меня, рассказывая свои дикие истории про Кейптаун.
— Кейп, должно быть, стал совсем другим с той поры, как я повидала его в молодости, — сказала я наконец. — Что-то я ничего не могу припомнить по твоим рассказам.
Это больно задело его.
— Ты думаешь, что я сочиняю небылицы, мама Роза?
— Разве я это говорила? Да и откуда мне знать? Я же не могу заглянуть тебе в голову, верно? Я только помню, что, когда ты был маленьким, я гладила тебя по ночам, чтобы отогнать от тебя дурные сны. Но когда мужчина становится взрослым, не так-то просто избавить его от дурных снов.
— Значит, ты мне все-таки не веришь.
— Что тебе до того, верю я или не верю? Лишь бы ты сам в себя верил.
Он долго молчал.
— Ты в себя веришь? — снова спросила я.
Не глядя на меня и устремив глаза куда-то вдаль, туда, где бродит в ночи тхас-шакал, он вдруг сказал:
— Я уже больше не тот, каким был прежде, мама Роза.
— Из-за белого ребенка у Памелы?
— Ребенок тут ни при чем! — взорвался он.
— Ну ладно, так в чем же дело? Они укротили тебя?
— Нет, — спокойно ответил он. — Нет. Этого никто не сумеет сделать. — Помолчал немного, а потом продолжал — Когда я уходил отсюда, я хотел найти место, где мог бы жить. В Кейпе, на другом берегу Великой реки, где угодно. Всю жизнь я искал такое место, всю жизнь хотел убежать отсюда. Но есть одна вещь, которую я наконец понял: человеку не уйти от родных мест. Они цепляются к его подошвам. Мое место тут. В Боккефельде. В Хауд-ден-Беке. Раньше я жил тут просто потому, что у меня не было другого выхода. А теперь я хочу жить тут. Я сам так решил и сам выбрал для себя это место. И теперь оно мое.
— Выходит, ты наконец доволен?
— Нет, ты меня неверно поняла. — Он обернулся и поглядел мне в глаза. — Разве можно быть довольным, пока ты раб? Но по крайней мере я уже нашел свое место, оно — мое. А теперь пора избавиться от хозяев.
— Почему ты сегодня говоришь так путано?
— Я знаю, что говорю, мама Роза. Я просто жду, когда придет мой час.
Его ответ встревожил меня.
— Какой еще час? — спросила я.
Он не ответил, а вместо этого снова спросил, глядя на меня в упор:
— Мама Роза, ты слышала о том, что мы скоро станем свободными?
— Год за годом все только и толкуют про это, Галант, — предупредила я. — Не принимай этих слухов слишком близко к сердцу. Добром это не кончится.
— Рождество или Новый год, — спокойно продолжал он, будто не слыша меня. — Вот что они говорят. Эти вести пришли к нам прямо из-за моря. И газеты говорят о том же.
— Что ты знаешь о газетах?
— Говорю тебе, это правда! — Вне себя от возбуждения, он схватил меня за плечи и принялся трясти так, что у меня залязгали зубы. — Ты слышишь?
— Конечно, слышу. И вовсе не обязательно так орать на меня.
Смутившись, он отпустил меня.
— Так вот, это говорят газеты, — повторил он.
— Где ты такое прослышал?
— Это слышали все. — Он упрямо продолжал стоять на своем, таким уж он уродился. — Это будет на рождество или в Новый год. Теперь я знаю, где мое место, а когда наступит этот день, тут узнают и про меня тоже.
— Рождество и Новый год придут и уйдут, — сказала я. — Как в любой другой год.
— Вот посмотришь. Я дождусь своего часа. И он наступит в Новый год. Не раньше и не позже.
Поначалу я решила, что это просто одна из его причуд. Но я все же навострила уши и вскоре услышала то же самое от Абеля.
— Это Галант рассказал тебе? — спросила я.
— Почему Галант? Мы давно с ним не виделись. У меня вести прямо из Кейпа.
А потом и старый Мозес повторил то же самое, и еще люди из Ворчестера, которые перегоняли скот на новые пастбища. У меня начала кружиться голова. За жизнь услышишь столько всякого, что перестаешь верить словам. А теперь еще эти новые вести. А вдруг это правда?
Я решила поговорить с Бет. После того как у Памелы родился ребенок с белыми волосами и голубыми глазами, дела в хозяйском доме пошли по-иному. Памелу прогнали, а Бет опять взяли на кухню, хотя я знала, что хозяйка недолюбливает ее. От мужчин и впрямь одни неприятности. Бет снова работала в доме — лишь иногда Памелу звали, чтобы она помогла хозяйке починить одежду или вымыть голову, — и потому я попросила Бет держать ухо востро и разузнать все, что сможет. Пора было разобраться, что происходит вокруг.
Не скажу, чтобы ей удалось узнать многое. Если верить Бет, хозяйка не больно интересовалась газетами, вроде даже и вовсе не брала их в руки. А если и говорила что-то, то ничего было не понять: «В стране за морем они хотят, чтобы рабов освободили, но фермеры не позволят этого». А когда Бет стала приставать к хозяйке, та просто приказала ей заткнуться. А потом вдруг ни с того ни с сего налетела на Бет с бранью: «Хоть бы нам наконец избавиться от этих проклятых рабов. Неужели они не могут взять у короля деньги и выкупить у нас рабов?» Но что все это могло означать? Бет понимала не больше моего.
— А ты не пробовала поговорить с Галантом? — спросила я ее.
— Стоит мне заговорить с ним, как он велит помалкивать. С ним трудно иметь дело, особенно после смерти Давида. Мама Роза, я не знаю, как мне жить дальше. Я никому не нужна.
Ну что ж, придется, видно, мне самой пойти и все разузнать, наконец решила я. Ведь уже настала пора уборки урожая, пшеница падала под серпами жнецов, и вскоре придет рождество, а там и Новый год. Нужно все разузнать, пока не станет слишком поздно. Ведь я уже чувствовала первые толчки грядущих событий, подобные первым порывам ветра.
Я отправилась на фермерский двор. День выдался тяжелый, с самого утра цикады пронзительно звенели в редкой листве деревьев, от их звона раскалывалась голова. Ветер утих, в воздухе ни дуновения. Весь мир побелел от зноя. Темно-желтые пшеничные поля, на них фигурки жнецов: взмах серпом — и шаг вперед, еще взмах — и еще шаг вперед. Там были Галант, Онтонг, Ахилл, молодые Тейс и Рой, сезонные работники Валентин и Флак, люди старика Дальре — управляющий Кэмпфер и здоровенный малый Долли — и еще кое-кто с фермы старого Пита. Пшеница у него созрела в тот год позже, а потому жатва началась в Хауд-ден-Беке, лишь потом жнецы пойдут дальше, постепенно огибая горы. Облака белым тюком белья разбухали над горным хребтом, и никто не мог сказать, когда они наполнятся черным громом, угрожая пшеничным полям.
Николас работал во дворе, устилая тростником крышу амбара. Памела и Лидия помогали ему. Я догадалась, что Бет, должно быть, на кухне.
Хозяйка вышла из прохладной комнаты, услыхав, как я разговариваю с Бет. Из-за ее юбок выглядывала младшая дочка, две старшие девочки играли на каменной лестнице, ведущей на чердак.
— А, это ты, Роза. Ну, что тебе нужно?
— Я пришла узнать, все ли в порядке, хозяйка.
Я бросила взгляд на Бет, та поняла и вышла во двор.
— А с чего ты решила, будто что-то не в порядке?
— Столько всего наслушаешься от людей, хозяйка.
— Вот как?
— Может, дадите немного нюхательного табака, хозяйка?
Моя просьба, казалось, раздосадовала ее, но она все же достала табак с полки в углу и отсыпала мне его в коробку. Беда с этой хозяйкой, чуть что — и взбесится.
— Ну, так про что ты хотела узнать?
Я выглянула в дверь и вдруг увидела в слепящей белизне вдали столб песчаной пыли, который, кружась, двигался по фургонной дороге в сторону двора. Ничего особенного для этого времени года, тем более в такое засушливое лето, и все же я поневоле содрогнулась от ужаса. То был Гаунаб, Черный дьявол, принявший облик смерча. Имя такому смерчу сарес, говорила когда-то мне мать, и он предвещает беду. Я видела, как он приближается к нам, кружа в воздухе пыль, веточки, сухие листья. Мне уже случалось видеть, как такой смерч подбрасывает дохлых лягушек и прочие дьявольские отродья. Я оцепенела, увидев, что он движется прямо к дому.
— Скорее дайте воду, хозяйка! — закричала я.
А поскольку она не двигалась с места и ничего не собиралась делать, я просто оттолкнула ее с дороги, схватила кадку с водой, стоявшую возле плиты, и с трудом, спотыкаясь и расплескивая воду, потащила кадку к воротам. Там я выплеснула воду, чтобы преградить путь саресу. Смерч от неожиданности приостановился, отпрянул в сторону и замер. Меня все еще пошатывало от пережитого страха, пока я брела обратно к дому, неся пустую кадку. Девочки, замерев, молча глядели на меня с лестницы. Когда я вошла в кухню, они мигом проскользнули за мной следом.
— Что это на тебя нашло, Роза? — обрушилась на меня хозяйка.
— Сами не ведаете, что говорите, хозяйка, — сердито ответила я.
— Что за глупости ты творишь? Бет только что наполнила кадку водой.
— Смерч предвещает беду, хозяйка. Если бы я его не остановила, на ферму пришла бы смерть. Разве вы сами этого не знаете?
— Опять ты плетешь свои безбожные небылицы, — раздраженно сказала она. — Сколько тебе говорить, чтобы ты не смела пугать детей своими языческими глупостями! Я не желаю слышать этого, понимаешь, не желаю!
— Это не небылицы, хозяйка, — возразила я. — Это правда. Я знаю это с детства.
— Господь покарает тебя за твои грехи, Роза.
Я вздохнула.
— Хозяйка…
— Все, хватит, у меня еще полно штопки, — сказала она, отворачиваясь.
Я подняла было руку, чтобы удержать хозяйку, но потом передумала. Что толку расспрашивать ее, раз она в таком дурном настроении? С тяжелым сердцем я вышла из дому и прошла к амбару, где Николас все еще возился с тростником. Может быть, хоть к нему мне удастся подступиться.
— Добрый день, мама Роза.
— Добрый день, Николас.
Он стоял на лестнице, лицо его раскраснелось от жары, на рубашке проступили темные подтеки пота. Лидия укладывала в охапки тростник, кудахча что-то себе под нос, точно курица на насесте. Памела не поднимала головы, словно стыдилась поглядеть мне в лицо. В отдалении в тени лежал ребенок, завернутый так, что лица было не рассмотреть.
Николас спустился вниз за охапкой тростника.
— С чего это ты проделала такой путь по жаре? — спросил он.
— Хочу кое-что узнать у тебя.
— Что же?
— Люди много чего говорят про Новый год.
Я внимательно глядела на него, но не заметила в нем и следа волнения.
— Вот как? — сказал он. — И что же они говорят?
— Много чего говорят. И рассказывают, будто газеты говорят про то же.
— Баас! — крикнула с крыши Памела. — Не слушайте ее.
— Все говорят про одно, — продолжала я, ведь не могла же я уйти ни с чем. — А теперь я хочу все услышать от тебя самого. Они говорят, что к Новому году рабов освободят.
— Кто «они»?
— Все. И все говорят, будто так сказано в газетах.
— Мама Роза, можешь передать людям, которые говорят это, что я пристрелю первого же человека, который явится ко мне освобождать рабов. А если будет нужно, пристрелю и самих рабов.
— Не дело ты сейчас говоришь, Николас.
— Тогда нечего приставать ко мне с такой чепухой. А тот, кто забил тебе голову всеми этими глупостями, нарывается на неприятности. Советую тебе предупредить его. У меня и без того забот хватает.
Но в его голосе я услыхала отзвук страха. Может быть, мне следовало для начала успокоить и подбодрить его и лишь потом постараться выудить из него все, что я хотела узнать. Но я и сама еще не пришла в себя от страха, который нагнал на меня сарес, а потому не могла вести дело терпеливо.
— Ты все-таки скажи мне, говорят про это газеты или не говорят? — снова спросила я.
— Какая разница? Нельзя же верить каждой чертовой газете. Даже люди в Кейпе сами толком не знают, чего хотят.
— Разве газета может врать?
— Мама Роза! — Я видела, что он вот-вот сорвется. — Я обещаю тебе: если газеты скажут что-то, чему я поверю, я сам тебе все расскажу. Ты же знаешь, с какой жадностью рабы глотают самую дичайшую чушь. Что будет, если мы позволим всякому ложному слуху тревожить наш покой? Постарайся же понять меня.
— Я могу понять только то, что мне объясняют, Николас. Я спрашиваю тебя лишь об одном: из газет пришли эти вести или нет?
— Я тебе все сказал, — отрезал он. — Остальное не твоего ума дело.
— Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, Николас. Ведь я вскормила тебя своей грудью.
— Ты больше ничего от меня не добьешься.
— Хочешь утаить правду? — спросила я. — Тогда я вот что скажу тебе: если это и впрямь правда, она все равно выйдет наружу, раньше или позже.
Он стиснул зубы.
— Мне некогда болтать, Роза. К вечеру нужно закончить крышу.
Я почувствовала, как во мне поднимается вихрь ярости.
— Не надейся, что крыша убережет тебя от ветра, Николас! — крикнула я. — Когда грянет буря, она сметет все, что попадется ей на пути.
Он что-то прокричал мне вслед, но я уже не слышала. В ушах у меня стоял звон, но то были не цикады. Роза. Вот как он посмел назвать меня! Словно он позабыл маму Розу. Разве могла я подумать, когда кормила его грудью, что доживу до такого!
Я брела в мерцающем послеполуденном свете, не разбирая, куда иду. И все думала лишь одно: как жаль. Теперь людям есть чего опасаться. Они превратили эту землю в гумно, но на этом гумне обмолотят их самих. Тзуи-Гоаб нашлет свой ветер, чтобы отделить плевелы от пшеницы. Он не допустит, чтобы его народ унижали столь тяжко. Он там, наверху, в красном небе, он видит все, что случается на земле, и, когда придет час, он нашлет на землю свой великий ветер.
Ахилл
А все потому, что не слушали меня. Говорил же я им — разве нет? — что они сами нарываются на неприятности. Всякий раз когда заговаривал этот Кэмпфер, я помалкивал, не желая спорить с белым человеком. Прежде, когда я был молод, со мной такое случалось. Но теперь я ученый. Единственное, на что я теперь надеялся, — это прожить в покое оставшиеся мне годы, работая, когда надо, попивая медовуху, когда она есть, и мечтая по ночам, когда был один, о деревьях на моей родине, высоких деревьях с белыми стволами и темной кроной. Ведь только это мне и осталось, только это никому у меня не отобрать.
Никогда не мог понять этого Кэмпфера, никогда не мог поверить ему. Кожа у него белая, тонкая, она не покрывается загаром, как у других белых, а только краснеет и шелушится; на голове нечесаная грива, а на лице редкая бороденка. Тощий как жердь, словно никак не мог наесться досыта, сущее пугало, кожа да кости, но выносливый, как змея. И ведь он вовсе не голодал. Всякий раз, работая у нас на ферме, он нажирался до отвала жирной похлебки, которую нам давали утром и вечером, а днем уплетал бобы и мясо да толстые ломти хлеба, которые нам раздавал Галант. А если кто оставлял кусок хлеба или что-то еще недоеденным, он не гнушался сожрать и объедки. Набрасывался на них, как стервятник. И все равно оставался худым как палка. А когда мы посмеивались над ним из-за этого, он хохотал, обнажая гнилые зубы, и спрашивал: «Разве хороший петушок бывает жирным?» Он всегда разговаривал и шутил с нами на равных, будто был среди нас своим, и все равно не становился от этого для меня менее белым. Это меня тревожило. Каждый человек должен держаться своих, а не то жди неприятностей.
Правда, рассказывать он был мастак. Стоило ему войти во вкус, даже я поневоле заслушивался. Когда он принимался рассказывать про далекие страны за морем, мы все слушали его как зачарованные. Если верить ему, он был там великим вождем. Самым могущественным. И он вел своих воинов из страны в страну, чтобы освобождать людей, которые были рабами. Человек, Разрывающий Цепи, — так называли его. И куда бы он ни пришел, там больше уже не оставалось ни единого раба, никто больше не голодал и не жил в нищете. У каждого была своя собственная жена, а у тех, кто хотел этого, — у всех славных тощих петушков — даже две или три, смеясь, рассказывал он. А теперь он приехал сюда из-за моря, чтобы помочь и нам. Наш час близится, говорил он. Просто нужно запастись терпением. Подождать подходящего расположения звезд. Ведь он родился в рубашке и умеет угадывать будущее. А нас всех ждут великие дела.
— Не об этом ли они толкуют, когда говорят про Новый год? — спросил его Галант.
— Может, и об этом, — ответил тощий человек, серьезно поглядев на него. — Времени, как и пшенице, нужен срок, чтобы созреть.
— А что говорят газеты? — спросил Галант, у которого всегда на уме только одно.
— Дело не в газетах, — сказал Кэмпфер. — А в звездах. Я вижу, как они движутся в нужном направлении. Близится великое освобождение. Свобода, равенство, братство.
А сам при этом был похож на бааса, когда тот читает нам Библию по средам и воскресеньям.
— Не верю я этому человеку, — сказал я, как обычно, Онтонгу, когда мы остались одни в хижине. — Если он и впрямь был таким великим вождем, то почему же он так оголодал, что не брезгует воровать у нас за спиной объедки?
— Может, он столько воевал, что у него не было времени наесться досыта? — сказал не по годам серьезный малыш Рой.
— Если он был таким важным человеком, так почему он теперь вместе с нами жнет пшеницу? — продолжал я.
— Потому что мы как раз те люди, которых он хочет освободить, — сказал Тейс. — Разве ты не слышал, как он говорил, что всегда встает на сторону бедняков?
— Нет, не доверяю я ему, — гнул я свое. — Всегда подозрительно, когда кто-то вдруг начинает печься о других. Какое ему до всех до нас дело? С чего это он прилип к нам и никак не отлипнет, точно муха в жару? А ты ему веришь, Галант?
— Отстань от меня! — пробормотал тот. — Поживем — увидим. Рождество и Новый год уже не за горами.
Незадолго до рождества Кэмпфер снова работал с нами, убирая пшеницу. Тяжелый день, очень жаркий, треск цикад колючками вонзался в уши. Никому не хотелось разговаривать даже за завтраком. Один только Кэмпфер трещал без умолку.
— Выходит, вы готовы проглотить что угодно? — спросил он. — Почему вы позволяете измываться над собой, соглашаетесь работать в такое пекло?
А все потому, что баас утром показал нам полосу пшеницы и велел жать ее — тяжкая работа по такой жаре. Но что сказано, должно быть сделано, даже если и придется работать до самой ночи.
— Раз пшеница созрела, ее нужно жать, — сказал Онтонг. — Есть-то ведь всем хочется.
— А ест баас, — ответил Кэмпфер. — Вам-то достаются одни объедки. А что ты скажешь, Ахилл? Ты, должно быть, человек мудрый, вон какой седой.
— Ничего я не знаю ни про какие объедки, — грубо отрезал я. — Я вполне доволен тем, что баас дает мне.
Но он уже оседлал своего конька. Когда Бет спустилась к нам со второй порцией выпивки — во время уборки урожая баас не скупился, давал бренди раза четыре в день, — мы уселись в тени передохнуть. Тут нас и нашел баас, который пришел поглядеть, как идет работа.
— Как дела?
— Не худо, баас. Только вот жарко очень, баас.
— Все равно еще рано прохлаждаться в тени.
— Конечно, баас. Мы и не прохлаждаемся.
— Я думал, что вы сделали гораздо больше.
— Мы все успеем, баас, — сказал я. — Хорошая пшеница уродилась в нынешнем году.
— Да. — Он огляделся. — Ну что ж, пожалуй, и я с вами поработаю. — Он ухмыльнулся в мою сторону. — Мне жарко не меньше вашего, а разве ты когда-нибудь слышал, чтобы я жаловался, Ахилл?
— Никогда, баас.
— Помнишь, что говорит Библия о труде в поте лица своего?
— Да, баас.
— А знаешь, Ахилл, быть может, в один прекрасный день ты сможешь вернуться к себе на родину. Ты бы согласился?
Мы все уставились на него.
— Что это значит, баас?
— И ты тоже, Онтонг.
— Не понимаю я, о чем вы сегодня толкуете.
— Да я просто так. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил, верно? — Он рассмеялся. — Вот скажите мне, а вдруг вас освободят, так что же — вы все по домам?
В глазах у меня защипало: среди бела дня я вдруг увидел деревья мтили из моих снов, мерцающие в белом небе. Длинную дорогу, ведущую к морю. Солнце, поднимающееся из-за пальм.
— Разве мне найти дорогу домой, баас? — сказал я. В горле у меня пересохло, точно от тоски по женщине. — Да и мать моя и все остальные уже, должно быть, померли. Разве кто помнит меня там?
Но я уже видел, как возвращаюсь домой, как спускаюсь по доске с корабля, как люди толпятся на берегу, чтобы поглядеть на меня, и кто-то вдруг восклицает: «Да это же Ахилл! Вон там Ахилл, которого увезли отсюда ребенком». Только человек этот скажет не «Ахилл», он назовет меня Гвамбе, именем, которое мне дали при рождении.
— Вот это правильно, Ахилл, — сказал баас. — Что толку возвращаться? Куда лучше остаться тут.
— Если вы так думаете, баас, — согласился я, склонив голову и пряча от него лицо.
И тут вдруг встрял Галант.
— Не позволяй ему дразнить себя, Ахилл. Не позволяй ломать себя. Потерпи еще десять дней — уберем пшеницу, перейдем в Лагенфлей, а там и рождество. А после рождества и Новый год.
Стало совсем тихо, как будто умолкли даже цикады.
— И что все это значит, Галант? — спросил баас.
— Ты не хуже меня знаешь, что будет на Новый год, — как всегда, с вызовом ответил тот.
— Тебе снова задурили голову всякими слухами? А ты и уши развесил? — сказал баас, и в голосе у него звучало: берегись.
— С ушами у меня все в порядке, — ответил Галант. — Да и с глазами тоже. Я просто жду, когда наступит Новый год.
— По-моему, у тебя просто слишком много свободного времени, вот ты и болтаешь попусту, — сердито сказал баас. — Давайте-ка за работу, время не ждет. А за твою наглость тебе придется сжать еще одну полосу после того, как остальные закончат работу.
Галант выпрямился и поглядел на него. Но ничего не сказал. И слава богу. А то не миновать бы ему еще одной порки.
Пока баас работал с нами, Кэмпфер не проронил ни слова. Держался в стороне, точно все это его не касалось. Но как только баас отправился по бобовому полю обратно домой, он вдруг снова распетушился. Сколько мы еще будем мириться со своим баасом? Неужели у нас никогда не лопнет терпение? Разве мы уже не сыты по горло всем его дерьмом? Он все говорил и говорил, пока я не спросил его прямо:
— Почему вы помалкивали, пока баас был тут? Почему ничего ему не возразили?
Но он только поглядел на меня бесцветными горящими глазами, взял серп и снова принялся жать.
— Я-то знаю, когда придет мой час, — бросил он мне через плечо.
Я обернулся к Галанту, потому что на этот раз он меня крепко огорчил.
— К чему дразнить его так? — сказал я. — Сам знаешь, чем это кончается.
— Он меня больше не тронет, — ответил тот. — Разве он хоть раз ударил меня с зимы?
— В один прекрасный день у него лопнет терпение.
— Нет, он знает, что близится наше освобождение. Разве зря он приставал к тебе со всеми этими разговорами о возвращении в твою страну? Просто он все знает. И стал теперь куда осторожнее.
— С чего ты так невзлюбил его? — спросил я. — Он добр к нам. Он дает нам еду, а зачем, как ты думаешь? Чтобы мы работали. А кто не работает, заслуживает порки. Баас и сам работает не меньше нашего.
— Эй, принесите-ка мне пук травы! — насмешливо крикнул Галант. — Пора заткнуть этого старика. По-моему, он говорит не ртом, а другим местом.
— И все-таки, ты еще об этом пожалеешь, — предупредил я его. — Сегодня ты наговоришь с три короба, а завтра сюда явится отряд солдат, чтобы забрать нас всех. И тогда нас выстроят рядами перед джентльменами в Кейпе и мы будем стоять со связанными за спиной руками.
— Пусть себе приходят, — ответил он, подняв серп. — Наступит час, и весь Боккефельд поднимется против них. Мы погоним их выстрелами до самого Кейпа. Вот погоди, в один прекрасный день я взберусь с ружьем на вершину Львиной горы, и они все меня увидят.
Я наклонился и принялся жать. Не лежит у меня душа к таким разговорам. Чуть погодя я разогнулся, чтобы дать передохнуть спине, — вдали я увидал идущую к дому маму Розу; что заставило ее отправиться так далеко в такую жару, удивился я и сказал Кэмпферу:
— А вы бы хоть постыдились. Белый человек, а позволяете Галанту говорить такие слова.
— А что в этом плохого? — спросил он. — Галант просто знает, что тут скоро не будет никаких рабов. А вот что случилось с тобой? Или ты больше не мужчина?
— Это вас не касается, — пробормотал я.
— Когда я стану набирать людей в свою армию, мне понадобятся только настоящие мужчины. А не старые бабы, наложившие от страха в штаны.
— Говорите что угодно, — сказал я. — Но меня в такое дело и силком не затянешь.
И я знал, что говорил, потому что в мерцающем солнечном свете того жаркого дня я видел деревья мтили моей далекой родины.
А может, подумал я, свобода — это тоже всего лишь мерцающий обман?
Если бы они меня послушались.
Эстер
Никогда не выносила этого человека. Огромный, многословный, грубый — его тень легла на мое детство с того самого мига, как я увидела, что мой отец упал под ударами его бича. И все же я не испытала ни радости, ни малейшего злорадства, увидав его недвижимым и усохшим всего лишь два дня спустя после того, как его хватил удар на поле, — тогда вся семья собралась на рождество в Лагенфлее. Тревожно было смотреть на него, лежащего на постели с горящим и тоскливым взглядом. Все прежние годы на рождественских праздниках он господствовал и в доме, и на ферме, подавляя всех своим шумным присутствием: то зажаривал тушу быка на огромном вертеле во дворе, то хватал чью-то скрипку, чтобы возглавить шествие музыкантов, то произносил нараспев гулким патриаршим голосом одно из своих любимых библейских изречений:
Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся[30].
В каком-то смысле непомерная избыточность его жизни — хотя порой оскорбительная и раздражающая — служила всем нам защитой от самого страшного. Вместе с ним были разбиты и мы сами — неожиданно, безнадежно; мы все вдруг оказались беззащитными перед лицом нашей собственной неизбежной смерти. Ненадолго задержавшись на пороге комнаты, чтобы переглянуться с ним, я вдруг ощутила боль, не за него, а за себя самое, и на меня внезапным потоком — порывом ветра, пронесшимся не мимо, а как бы сквозь меня, — нахлынули воспоминания обо всех тех ночах, когда я без сна лежала возле мирно похрапывающего Баренда, лежала, впившись ногтями в ладони, неподвижно глядя в темноту и думая: «О господи, неужели это все? Неужели так будет продолжаться бесконечно? Нет, где-то — потаенно, но реально — должно скрываться нечто большее, чем просто вот это медленное старение, неминуемое убывание возможностей, отказ от надежды. Где-то должна таиться сила столь огромная, что когда-нибудь она взорвется во мне, озарив и наполнив смыслом то, что сейчас кажется уже отошедшим или сходящим на нет». Воспоминания обо всех тех ночах, когда Баренд сдирал с меня одежду и мстил за то, что не находил ничего, кроме наготы, а потом обиженно отворачивался и засыпал, оставляя меня наедине с иной обнаженностью в этой темноте.
И когда я вышла из комнаты с ее запахом разложения, отравлявшим семейный ритуал рождественского праздника, я вновь ощутила в себе этот молчаливый крик: Должно же быть в этой жизни нечто большее! Что-то должно случиться, и очень скоро, пока я еще жива и готова повиноваться зову. И всего лишь пару недель спустя, задним числом, я обнаружила, какое ужасное событие назревало под внешне ничем не примечательной поверхностью того вполне обычного дня.
Начался он весьма заурядно, был даже налет легкомысленности в том, как наши возницы старались обогнать друг друга: Абель на козлах нашей коляски, запряженной четверкой лошадей, Галант — на козлах фургона Николаса. Мне нравилась эта гонка, дикое грохотанье колес по колеям дороги, громыханье копыт, растрепавшиеся на ветру волосы. Но Баренд остановил и сердито отчитал Абеля. И пожалуй, был прав: подобные скачки опасны, ведь мы рисковали не только собственной жизнью, но и жизнью двух наших мальчиков, восторженно повизгивавших от страха. И вот мы поехали более степенно, на некотором расстоянии от Галанта, чтобы не наглотаться пыли, поднимаемой их коляской.
Я редко видела его с той субботы, зимой, полгода назад, когда он заглянул к нам, разыскивая бычка. И была почти уверена, что с тех пор он намеренно избегал меня: он всегда держался очень спокойно, особенно при посторонних, но теперь в его повадке проглядывала какая-то горькая отчужденность, подчеркнутая сдержанность. Я слышала, его снова за что-то выпороли, а потом он убежал, кажется в Кейптаун. Как-то раз я попыталась расспросить про него Николаса, но тот лишь сердито отмахнулся от меня. Я не настаивала: мы очень отдалились друг от друга со времен нашей безрассудной и невинной юности. И все же…
После полудня, когда все прилегли вздремнуть в отупляющей духоте, разморенные сытным рождественским обедом, я выскользнула из дому, убежав от детей, которые непременно расшумелись бы, требуя, чтобы я взяла их с собой; убедившись, что меня никто не видит (служанки мыли на кухне посуду, а двор был пуст и, казалось, сверкал в своей пустой белизне), я пошла по тропинке, ведущей вверх по склону к запруде, у которой я не бывала уже много лет. Кроме звона цикад, все было тихо, даже птицы-ткачи, оцепенев от жары, замолкли в своих висячих гнездах. Запруда лежала передо мной, грязно-коричневая и зеленоватая, — наперсница моего детства, немеркнущая память.
Он так тихо сидел на большом валуне, что я не замечала его до тех пор, пока, вспугнутый звуком моих шагов, он не вскочил и не бросился к ближайшим ивам.
От неожиданности у меня перехватило дыхание.
— Галант! — крикнула я.
Он остановился с явной неохотой, словно я застигла его на месте преступления.
— Почему ты убегаешь от меня?
— Я не убегаю.
— Я не хотела пугать тебя.
— Я и не испугался.
— Я просто… — Нерешительным жестом я показала в сторону запруды, словно это само по себе могло что-то объяснить.
Он ничего не ответил.
Я осторожно приблизилась к нему; он, казалось, готов был броситься прочь.
— Когда я в последние месяцы бывала в Хауд-ден-Беке, ты почему-то избегал меня.
— Ну и что?
— Но это так…
С презрительным видом он отвернулся, собираясь уйти.
— Но что я тебе сделала плохого? — воскликнула я.
Он обернулся и поглядел на меня в упор, глаза его горели.
— Ничего, — сказал он. — Ты — белая женщина. А белая женщина не может сделать ничего плохого.
— Ради бога, Галант!
— Тебе в самом деле было приятно, когда меня выпороли? — злобно и неожиданно огрызнулся он, будто загнанный пес.
— Разве я кого-нибудь заставляла бить тебя? — возразила я. — Когда? И зачем мне это?
— Ведь ты сама просила, чтобы я остался в тот день, когда я искал бычка. Ты сама дала мне еду. Ты сама дала мне бренди. Мне ничего этого не было нужно. Ты мне все насильно всучила.
— О чем ты говоришь? — изумленно спросила я.
— А когда Баренд вернулся, ты сказала ему, будто я к тебе приставал.
В тяжелой духоте я чувствовала, как по щеке у меня сбегает Струйка пота, но не могла поднять руки, чтобы смахнуть ее.
— Этого не было, — прошептала я. — Как ты мог подумать, что я…
— Я вообще не хочу думать о том, что ты сделала или не сделала. Меня это не касается. Что бы ты ни сделала, все правильно. Но сегодня рождество, и до Нового года всего лишь неделя.
Я удивленно покачала головой. Должно быть, он спятил, подумала я. Или же я сошла с ума. Безумие всегда таилось под хрупкой оболочкой нашей жизни.
— Почему ты не скажешь правду? — вдруг спросил он. Он подошел на шаг ближе. В его голосе слышалась почти что мольба. — Зачем тебе врать? Если ты сделала это, значит, тебе это было зачем-то нужно. Но только не ври мне. Этого ты никогда не делала.
— Я не вру, — хрипло сказала я. — Клянусь тебе. Я никогда не говорила Баренду ни слова. Как ты мог подумать про меня такое?
Он уставился на меня. Мы стояли не шелохнувшись. Еще одна струйка пота потекла у меня по скуле.
— Там был Клаас, — наконец сказал он каким-то странным голосом, а затем снова все стихло и только звенели цикады.
— Прости меня, — пробормотала я.
— Замолчи! — сердито крикнул он. Наклонившись, он поднял с земли камень и запустил им в воду. Потом еще один и еще. В детстве я часто видела, как он швыряет камни. Я понимала, что он больше ничего не скажет, а потому повернулась и пошла прочь со смешанным чувством облегчения и гнетущей тоски.
Я подождала два дня. А потом, когда Баренд вернулся с поля — наши жнецы в тот год запаздывали с уборкой, на других фермах пшеница была сжата еще до рождества, — я сказала ему:
— Клаас сегодня дерзил мне. А когда я отругала его, он надерзил снова.
Поневоле используешь то оружие, которое у тебя есть. Хотя страдание не приносит искупления, не дает тебе никакого чувства правоты. Оно как ржавчина, лишь портит и разъедает. Единственный смысл прошлого в том, что оно прошло.
Клаас
Чего еще было ждать от этой женщины? Она ведь белая. В тот раз она притворялась, будто возмущена поркой. Когда они прикидываются добрыми, это еще хуже, чем их грубость, — с ними никогда не знаешь, чего они потребуют за свою доброту. Она просто дожидалась случая. И дня через два после рождества, без всякой причины, просто потому, что ей так захотелось, она приказала высечь меня.
Все эти годы я склонял голову и гнул перед ними спину. Как мог, старался угодить баасу. И вот какая меня ждала награда.
А потому, когда от Галанта приехал Абель и сказал, что близится час подняться против них, я был готов.
Галант
Первый день Нового года. Урожай убран, но время молотьбы еще не настало. Мы ждем, когда начнет дуть западный ветер. Единственный день в году, когда мы вольны делать, что хотим: рабам дарят подарки, и, сколько себя помню, гулянье и пляски не затихают до ночи. Все веселятся, словно молодые жеребята. И так каждый год. Кроме нынешнего.
Ночи напролет я разговариваю про это с Памелой, она все старается расхолодить меня.
— Ради бога, не принимай так близко к сердцу слухи про Новый год, — всякий раз говорит она. — Тебе же будет хуже, если все обернется не так.
— Многие годы я позволял им взнуздывать и погонять меня, — говорю я. — Но теперь мы услыхали слово свободы. Как же мне не принимать его близко к сердцу?
— С каких это пор ты стал верить слову белых? — спрашивает она. — А помнишь, что было, когда ты сказал им, что мы хотим пожениться? Сколько раз они давали слово и нарушали его?
— Это слово особое, — настаиваю я. — Оно пришло к нам из далекой страны за морем. Так говорят газеты. Я сам слышал.
— Ну и что? Те люди за морем тоже белые. Они все одинаковы и все заодно.
— Тогда и нам пора научиться быть заодно.
— Мелешь что на ум взбредет, — отвечает Памела. — А все равно никогда не скажешь, что думаешь на самом деле. И что такое «быть заодно»? А если Новый год придет и уйдет, как пришло и ушло рождество, что тогда? Все это только ветер, который проносится мимо.
— Нет, рождество не было просто ветром, Памела. Вспомни, что произошло на поле в Лагенфлее. Мы там жали пшеницу и вдруг услыхали, как закричал старый баас, а когда обернулись, он уже рухнул на землю, будто дохлая лошадь. Я поначалу испугался, решил, что он нас выследил. Ведь с нами там был Кэмпфер, и мы вели беседы о свободе. Но потом я понял — нам послано знамение, что хозяев теперь будут забирать от нас. А потому нам нужно быть готовыми к Новому году.
— Ты же ничего не можешь, Галант. И никто ничего не может сделать. Все решают они. Мы рабы.
— После Нового года никаких рабов больше не будет. Старый Мозес слышал это собственными ушами, когда ездил с Николасом в Кейптаун. И Джозеф Кэмпфер тоже знает про это. А кроме того, было знамение со старым баасом Питом. Спроси любого.
— Галант, Галант. — Она прижимает мою голову к своей груди, раскачиваясь из стороны в сторону. — О господи, неужели ты ничего не понимаешь?
— А ты кто такая, чтобы спрашивать, понимаю ли я? — кричу я. — Ты родила белого ребенка.
— Перестань! — рыдает она. Слезы стекают у нее по лицу и падают мне на голову.
Я хватаю ее. Мы боремся, как два зверя, зубами и ногтями. Я подминаю ее, готовый переломать ей все кости, а она, бешено крича, вонзает мне в спину ногти. Неужели мы хотим уничтожить друг друга? Я не понимаю, что мы делаем и почему. Знаю только, что жадно бросаемся друг к другу каждую ночь, сражаемся, бьемся, причиняем боль, пытаемся вырваться, освободиться, убежать. А что толку? Ночь вокруг нас остается все такой же темной, как и была.
Ребенок спит в углу хижины, но он все время остается между нами. Маленькая девочка с мутными голубыми глазами и белыми курчавыми волосами. Порой, когда Памелы нет рядом, я беру ребенка на руки, готовый швырнуть его на пол, растоптать и уничтожить, но знаю, что не сделаю этого. Мне уже никогда не избавиться от него — как и от Давида, который по-прежнему является мне во сне. Мне этого не понять. Никак не понять. Это так же ужасно, как те муравьи из газет, которые грызут меня по ночам, пока я сплю, выедая меня изнутри. Смерть Давида отрезала меня от Бет, я больше не желал иметь с ней дела. Но ребенок Памелы не может освободить меня от нее. А ведь должен был бы. Глубоко в лоно моей женщины Николас заронил свое семя и отравил ее чрево. Это его ребенок. Я знаю, что мне не освободиться от Памелы, пока жив ребенок, но я не в силах причинить ему зла. Ведь дитя беззащитно, оно ни о чем не ведает, оно — завтрашнее солнце, и от этого меня одолевают слабость и дрожь. Из лона Памелы взошло солнце Николаса, и все же именно оно не дает мне избавиться от нее. О господь всемогущий, мне этого не понять. И это грызет мне душу и разъедает ее.
Поскорей бы настал Новый год. Теперь уже скоро.
В канун Нового года все соседи съезжаются вместе с рабами и работниками в Хауд-ден-Бек. Пока хозяева танцуют в большой комнате и возле дома, мы веселимся возле хижин. Абель, как всегда, заводила. Но сегодня я не могу глядеть на их гулянье. Я потихоньку вывожу из темной конюшни вороного хозяйского коня и без седла скачу в ночь. Ночь очень тихая, но от бешеной скачки поднимается ветер, и копыта коня высекают из камней искры. Я скачу и скачу вдаль во весь опор, пока лошадь не выбивается из сил. Сегодня в последний раз мне пришлось удирать с фермы тайком. Завтра Новый год. Уже завтра я смогу приходить и уходить, когда и куда мне вздумается. Завтра у меня на ногах будут башмаки, как у свободного человека. Все это и означает свободу.
В такую ночь уснуть невозможно. Когда лошадь уже не может идти дальше, я привязываю ее к дереву и поднимаюсь в горы, чтобы там в одиночестве встретить начало нового дня. Тусклый свет звезд. Серый туман, медленно поднимающийся снизу. Петухи кричат все громче и громче. А потом появляется грязновато-красное пятно. День, похожий на все остальные. И все же это первый день Нового года.
Только после того, как солнце поднялось уже высоко в небо, я наконец иду к лошади и очень медленно еду обратно к дому. Двор еще пуст. Возле хижин вповалку лежат люди, уснувшие прямо там, где их свалила усталость. И только Лидия бродит по двору, как всегда собирая перья и что-то бормоча себе под нос.
— Что ты делаешь? Почему не спишь? — спрашиваю я.
— Я должна работать. Собирать перья, — говорит она. — Я скоро улечу.
— Незачем тебе сейчас работать. Сегодня Новый год. Вот уже скоро ты увидишь, как Николас выйдет из дома, чтобы объявить нам кое-что. А может, приедет человек из-за гор.
— Я должна улететь, — говорит она.
— Ну так и лети к чертям собачьим!
Я слышу, как в хижине плачет ребенок Памелы, но не иду туда. Я завожу коня в стойло, чищу его щеткой и насыпаю ему пшеницы. Ешь вволю, думаю я, продолжая расчесывать и поглаживать его. Сегодня Новый год.
Уже позднее утро, мы молча сидим возле своих горшков с завтраком, большинство очень мрачные с похмелья, когда Николас выходит к нам из дома, неся мешок с подарками. Всем дарит одежду. Мужчинам — штаны и рубашки, женщинам — платья. Только Лидии, как всегда, ничего — да и что ей до подарков? — она продолжает бродить в цыплячьей загородке.
Вручив всем одежду, табак и сахар, Николас сворачивает мешок.
— Будем надеяться, что год выдастся хороший. Сегодня можете веселиться. А как только подует ветер, начнем молотьбу.
Он поворачивается, собираясь уйти. Все остальные покорно сидят, разглядывая одежду и пробуя табак, но я отшвыриваю свой сверток.
— И это все? Больше мы ничего не получим? — спрашиваю я.
Николас оглядывается, словно не понимая, о чем я говорю.
— А чего ты ожидал еще?
На ногах у него новые желтые башмаки, которые ему стачал старик сапожник: те самые, которые предназначались мне.
— А башмаки? — спрашиваю я.
— С каких это пор рабы стали ходить в башмаках?
Все замирают и молча глядят на нас.
— Сегодня Новый год, — спокойно говорю я. — Теперь больше нет никаких рабов.
— Галант, сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не слушал глупые россказни?
— Мы еще посмотрим, кто прав, — говорю я. — Не успеет окончиться день, как приедет человек из-за гор.
— Чем скорее ты выкинешь из головы всю эту чушь, тем будет лучше для тебя и для всех. — Он перекладывает мешок в другую руку. — Тут, в Хауд-ден-Беке, все будет по-прежнему. А тот, кто нарывается на неприятности, тот дождется их.
— Вот так-то, — говорит Онтонг, когда Николас уходит.
— Этот человек скоро прискачет сюда на коне. Просто нужно немного подождать.
Но день идет своим чередом, а никто так и не появляется. И только беда, приключившаяся с Лидией, нарушает покой, царящий на ферме. Глупая история, но чего еще ждать от этой придурковатой бабы? Извалявшись в грязи на болоте и облепив все тело перьями, которые собирала все эти годы, она забралась на дерево, должно быть за незрелым персиком, и, не удержавшись, упала на землю. Онтонг несет ее в хижину, все тело у нее в грязи, в крови и в перьях, а она плачет и смеется одновременно — жалкое зрелище.
Вот так и кончается наше новогоднее веселье.
Лидия
Я умею летать. Глядите, я умею летать. Почему вы не верите? Больше ни один мужчина не завалит меня. Больше не будет побоев, раздирающих меня на куски. Ничего. Глядите, я умею летать.
Онтонг
— Теперь ты видишь, как верить газетам и что принес нам Новый год? — сказал я Галанту. — Мне он принес только несчастье с Лидией. Вон она лежит: не поймешь, то ли женщина, то ли дохлый цыпленок.
Если бы мне не пришлось с ней столько возиться — и хозяйка приходила помочь, и мама Роза, но все без толку, Лидия лежала пластом, — то, может, у меня было бы больше времени на Галанта. Правда, трудно сказать наверняка. Быть может, я просто не хотел связываться с ним в те дни, ведь я чувствовал, что он что-то затевает. С того самого дня, как старого бааса Пита хватил на поле удар, я знал: что-то случится.
После Нового года на ферме настали плохие времена. Обычная работа шла своим чередом, но мы ждали, когда подует ветер, чтобы начать молотьбу. Ветер дул все лето, а теперь, когда в нем была нужда, вдруг затих. Тишина тяжело нависла над нами. Наше терпение готово было лопнуть — вроде как гнешь доску все больше и больше, а сам ждешь, что она вот-вот сломается. Никто ничего открыто не обсуждал, во всяком случае при мне. Галант то и дело глядел куда-то вдаль, словно все еще ждал человека на лошади. Но я знал, что никто уже не прискачет Если бы что-то было, то это было бы уже давно.
Хоть бы поскорее поднялся ветер…
Откуда нам было знать, что когда наконец он поднимется, то сокрушит на своем пути все и вся.
Галант
Молотьба на гумне. Сколько всего ненужного уносится ветром в такие дни. С самого детства я люблю это время больше всех других, все менее важные дни словно собираются тут воедино. От работы ломит спину, и к ночи ты выматываешься так, что нет сил поднять руку, а когда ты лежишь со своей женщиной, усталость давит на тебя, точно тяжелой ногой, и от мякины зудят глаза, нос, горло, спина между лопатками, все тело. Но это мужская работа, и она рождает в тебе чувство гордости, ты словно дерево, пошедшее в рост, из ног твоих вырастают корни, и корнями этими ты вскрываешь все, что сокрыто, — землю, камни и подземные воды, по твоим корням вода поднимается наверх, к стволу, к твоему телу, которое склоняется, раскачивается и гнется, как дерево на ветру, пока ты бросаешь пшеницу лопата за лопатой, тяжелые зерна падают вниз, мякину уносит прочь, на земле остается лишь чистое зерно, а в твоем теле — приятная, глубокая усталость. Эта работа приносит удовлетворение — она начинается еще затемно, стоит только первому свету вспыхнуть под угасающими звездами, и длится до того времени, пока последняя капля солнца не стечет за черные горы. Из сарая вывозят телегу, доверху груженную снопами, твердая земля на гумне покрыта толстым слоем колосьев. Я иду за лошадьми, нужно иметь сноровку, чтобы водить их по гумну, ведь молодые лошади дики и непослушны, а старые хитрят и стараются держаться ближе к середке, чтобы делать круги поменьше. Остальные работники раскладывают и перетряхивают снопы, а лошади идут круг за кругом, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, пока их по грудь не завалит соломой. Тогда приходит пора уводить их и убирать вилами солому, оставляя на земле зерно, лежащее золотыми насыпями. Час за часом, без минуты отдыха под палящим солнцем мужчины работают граблями и вилами, убирают солому и мякину, чтобы затем подставить лопаты, полные зерна, сильному встречному ветру. Мы долго ждали, пока подует этот ветер, который проходит по всей стране, будто великан, шагающий семимильными шагами. Теперь ветер этот наконец пришел, он поднялся среди ночи и продолжает дуть весь день до самого заката, время будто вошло в свою колею. Спокойные дни миновали. Ферма снова оживает, мы подставляем лопаты с зерном ветру, словно белье на просушку, тяжелые зерна как бы нехотя падают на землю, стекают с ровным шелестом вниз, точно капли дождя.
И так каждый год. Но в этом году вдобавок к работе еще и потаенная тьма, тяжесть, неразразившаяся буря. Ведь рождество миновало, и Новый год тоже позади. Уже середина января, а до сих пор так ничего и не произошло. Слово свободы унесено ветром, а нам остался лишь его пустой звук.
Если бы я хоть мог вызвать Николаса на ссору. Но после моего возвращения с гор он стал со мной особенно осторожен. Он сделался терпеливым и сдержанным, даже когда я намеренно дразню его. И от этого еще хуже. Если бы он поднял на меня руку, я бы получил повод, который мне нужен. Но он лишает меня даже этой возможности.
Но если он будет и впредь избегать ссор со мной, мне придется начать самому. К тому-то и шло дело в тот день на гумне.
С раннего утра Кэмпфер подзуживал нас, как и на уборке урожая. Мы все работаем вместе: рабы, сезонные работники и люди старого Дальре, Платипас и Долли. Солнце обжигает спины, и понемногу разговоры стихают, только Кэмпфер трещит без умолку.
— Галант, — говорит он, облокотившись на метлу, — Новый год пришел и ушел, верно?
— Ну и что? — У меня внутри все сжимается, словно пальцы в кулак, но я не отвлекаюсь от лошадей, веду их круг за кругом.
— Разве не обещали освободить к этому времени рабов?
Мне нечего возразить ему. Я знаю, он прав. И все же мне не нравится этот человек. Зачем он приехал из такой дали, из-за моря? Зачем суется в нашу жизнь?
— Давайте сначала закончим молотьбу и увезем пшеницу, — говорю я. — Тогда у нас будет достаточно времени, чтобы потолковать.
— Вот это правильно, — соглашается старый Ахилл, потирая затекшую спину. — Больно уж много мы все болтаем. Должно быть, ты наконец понял, что говорить куда легче, чем делать, а?
— А ты заткнись! — обрываю я его.
— Разве ты не говорил, что, если они не освободят вас к Новому году, вы возьмете свободу сами? — продолжает Кэмпфер.
— Верно, — говорю я, — так оно и будет. — Я готов схватить вилы и завалить его выше головы пшеницей, чтобы он наконец замолчал.
— А как ты собираешься это сделать? — спрашивает он. — Может, прямо пойдешь к Николасу и скажешь: «Теперь я свободен»?
— Может быть, и так.
— А если он погонит тебя обратно, работать?
Я продолжаю вести лошадей, шея от мякины горит огнем.
— Я тебя спрашиваю, Галант, — вызывающе говорит Кэмпфер. — Разговоры разговорами, а дело делом. Раньше или позже, тебе все равно придется что-то предпринять.
— Вы сегодня завели опасные разговоры, — предостерегает Онтонг, приостановившись с поднятыми вилами.
— Верно, — соглашается старый Платипас, потом разгибается, берет понюшку табаку и снова хватает своими черными клешнями метлу. — Что мы знаем о свободе? В тот день, когда хозяева скажут, что мы свободны, мы получим ровно столько свободы, сколько они захотят нам дать. Не больше и не меньше.
— Вот потому-то и бесполезно ждать ее от хозяев, — говорит Кэмпфер. — Вы получите только то, что сумеете взять собственными руками.
Он уже прекратил работу.
— Вам легко говорить, — ворчит старый Платипас. — Вы здесь чужак, и, как только у нас начнутся беспорядки, вы можете смыться.
— Я с вами заодно, — отвечает тот спокойно. — Я приехал, чтобы обосноваться тут. Если вы решите идти до конца, я буду с вами.
Все метлы и грабли замерли. Слышно, как далеко в саду щебечут птицы.
— Что значит «идти до конца»? — спрашиваю я.
— Это вам решать, — говорит он, глядя на меня своими бесцветными глазами, — сколь далеко вы готовы пойти теперь, когда они нарушили свое обещание.
— А давайте-ка еще немного подождем, — шутливо предлагает Тейс. — Может, курьер еще в пути. Дорога от Кейпа долгая.
— Они говорили — на рождество, потом говорили — на Новый год. С тех пор прошел почти месяц. — Кэмпфер снова глядит на меня. — Ну что, Галант? Тебе нечего мне ответить?
Целый мир борется у меня в душе. Мать, которой я не помню. Отец, которого я никогда не знал. Прежние дни возле запруды. Укрощение серого жеребца. Змеиный камень у бедра Эстер. Охота на льва. Ряды муравьев, ползущих по странице и набрасывающихся на меня ночью. Бет, совравшая мне, что умеет читать. Мой ребенок, избитый до смерти, и мой жакет, разодранный в клочья. Мужчина с голосом льва, и цепи у него на руках, и кандалы на ногах. Свободные люди, живущие за Великой рекой. Женщина, до конца дней своих прикованная к скале. Ночь в пещере во время тумана. Всего этого слишком много, ни о чем нельзя подумать в отдельности, все это тут, во мне, одновременно — растет и разбухает, словно стремясь родиться на свет, а в ушах у меня жуткий вой ветра.
— Одному человеку ничего не сделать, — говорит Кэмпфер. — Но если взяться за дело сообща, оно может выйти. Я видел такое собственными глазами. Вас тут более чем достаточно, а баас всего один.
Мы опускаем метлы и вилы. Я выпускаю лошадей, и они тянутся к пшенице, но малыш Рой удерживает их. Кругом летают мухи. Я слышу их жужжанье.
— Чего вы от нас ждете? — спрашиваю я Кэмпфера.
— А что мне вам подсказывать? Вы сами должны решить, чего вы хотите.
— Уже много лет они дурачили нас, — говорю я после долгого молчания. — Но никогда не говорили так определенно. Они сказали, что приедут люди из Кейпа и освободят нас. Но люди эти так и не появились, а Новый год уже прошел.
— Ну, так и что же теперь? — осторожно спрашивает Тейс.
— Кэмпфер прав, — говорю я. — Что толку попусту болтать о свободе, если ты не готов, не осмеливаешься сам взять ее в должный час? А разговорами этого не добьешься.
— А как добьешься? — робко спрашивает Рой.
Я оглядываюсь по сторонам. Потом беру вилы и наношу ими удар в воздух.
— Поосторожнее, Галант, — предупреждает Ахилл. — А если тебя увидит хозяин?
— Пусть увидит! — кричу я. — Что, боитесь? Хотите оставаться рабами?
— Разговоры о свободе — это одно, — отвечает старый Платипас. — А убийство — совсем другое.
— Я не желаю проливать ничью кровь, — говорит Онтонг.
Я медленно иду к нему по гумну, топча ногами зерна. Слегка прижимаю зубья вил к его голой груди.
— Мы здесь все заодно, — спокойно говорю я. — Мы все говорим одинаково. — Что-то внутри давит меня, толкается и рвется наружу, и, начав говорить, я уже не могу остановиться. — Долгие годы мы все сносили молча. Дурную пищу. Грубости. Порку. Холод. Жару. Голод. Он брал наших женщин, если ему этого хотелось, и делал им белых детей. Он убил моего ребенка. А я терпел. Мы все терпели. Но есть одно, чего терпеть нельзя, а если ты смиришься даже с этим, то ты не вправе называть себя человеком. — У меня какое-то странное ощущение, словно я слышу свои собственные слова откуда-то издалека. — Речь идет о свободе, которую нам пообещали, но не дали. Многое можно выносить очень долго. Но в конце концов ты встаешь на дыбы, как конь, и отказываешься терпеть дальше. И когда этот миг наступает, ты говоришь: «Теперь я беру свою жизнь в собственные руки». Иначе ты пес, червяк или змея, но не человек.
— Ты попался на удочку этому хитрецу, — говорит старый Ахилл. — Он забил тебе голову глупостями. Разве ты не видишь, что он — белый?
— Никто мне не забивал голову, — отвечаю я. — То, что я говорю, родилось во мне самом. Он только помог вырваться наружу тому, что давно копилось внутри меня. Все это уже давно было во мне, но я думал, что еще не время. А теперь я знаю: пришла пора выпустить все это наружу. Ведь Новый год уже миновал.
— Я буду с тобой! — говорит Долли, вставая рядом, мускулы играют на его потных плечах, руках и груди, серых от пыли и мякины.
С поднятыми вилами я перехожу от одного человека к другому.
— Ты со мной или против меня? — спрашиваю я.
И когда зубья вил касаются их тел, они все отвечают:
— С тобой, Галант.
— И что нам теперь делать? — говорит Ахилл после того, как я по очереди переговорил с каждым. Лицо его посерело от страха.
— Мы должны разозлить этого человека, — заявляет Кэмпфер. — Вывести его из себя. Его не трудно взбесить, такой уж он по натуре. Прямо сегодня, на гумне. Тогда у нас будет повод взбунтоваться.
— Прямо здесь? Сегодня? — спрашивает Ахилл, поперхнувшись.
— Ты наверняка сможешь это сделать, — говорит мне Кэмпфер.
— Да, я это сделаю.
Но при этом невольно думаю: вот так оно было всегда. Когда мы шли воровать яйца из птичьих гнезд, именно я должен был первым совать туда руку, чтобы проверить, нет ли змеи. Это я первым проверял, выдержит ли нас ивовый сук. Это я укрощал лошадей и шел впереди всех на охоте — и только потом они шли за мной следом по пути, который прокладывал я.
Мы усаживаемся на корточках в тени. Одни закуривают трубки, другие жуют табак. Старый Платипас берет очередную понюшку. Лошади разбредаются в разные стороны и направляются к пшеничным полям. Рой встает, чтобы привести их обратно, но я останавливаю его:
— Пусть себе идут, куда хотят. Мы не сдвинемся с места.
Когда приходит время завтрака, мы молча смотрим, как Бет спускается вниз с едой, а с ней Памела, которая несет бутыль вина.
— Чего это вы тут прохлаждаетесь? — удивленно и настороженно спрашивает Бет.
— Хочется сидеть — вот и сидим, — отвечаю я.
— Если бы тебя слышал баас…
— Вот этого я и хочу, пусть слышит.
Я встаю, остальные еще сидят, но я вижу, что они внимательно следят за мной. Я беру у нее котел, ставлю его на гладкую землю и снимаю с него крышку. Нарочито спокойно опрокидываю котел ногой и гляжу, как растекается густое варево.
— Да что это ты! — в ужасе кричит Бет.
Все остальные по-прежнему наблюдают за мной, напряженные, будто туго скрученные ремни.
— Посмотри на эти помои, — говорю я, размазывая жижу ногой. — А теперь ступай и скажи своему баасу, что нам такого дерьма не надо.
— Будут большие неприятности, Галант!
— Ступай и скажи ему.
Памела ставит на землю бутыль и спешит ко мне.
— Ради бога, Галант!..
Но я отталкиваю ее, и она тоже уходит, ссутулив спину.
Проходя по бобовому полю, перед тем как войти в сад, Бет пару раз оборачивается. Со странным облегчением я гляжу ей вслед, словно всю жизнь ждал этого мига и теперь он наконец наступил.
Цикады громко звенят от летнего зноя.
Николаса нет так долго, что я начинаю опасаться, не струсила ли Бет и не промолчала ли. Но вот мы видим, как он медленно спускается вниз, постукивая бичом по штанинам.
Когда он подходит к гумну, на котором лежат необмолоченные снопы, я поднимаюсь на ноги, беру длинные вилы и гляжу на него в упор. Я смотрю на него и впервые в жизни думаю о нем не как о Николасе, а как о хозяине.
— Ну что, Оборванец? — шутливо спрашивает он, остановившись в нескольких шагах от меня и помахивая бичом. Но его мятущиеся, испуганные глаза не в ладу с шутливым голосом.
— Мы больше не станем есть это.
— Почему же?
— Это варево для рабов.
Краем глаза вижу, как остальные поднимаются один за другим. Только Кэмпфер по-прежнему сидит в отдалении, прислонившись спиной к телеге.
Баас смотрит по очереди на каждого из нас, молча стоящих с вилами и метлами в руках.
— Почему ты не бьешь меня? — спрашиваю я. — Ударь меня, у тебя есть право на это. Ты — баас.
— Что это на тебя сегодня нашло, Галант? — хмурится он.
— Зови меня Оборванцем, — говорю я. — Для тебя я больше не Галант.
Небольшая мышца дергается у него на щеке, крошечная тень, появляющаяся время от времени.
Цикады продолжают громко звенеть.
— Вы будете есть то, что я вам даю, — говорит он. — Или можете оставаться голодными.
Рукоятка вил у меня в руке намокает от пота.
— И советую вам поторопиться, — продолжает он. — В пятницу я уезжаю за учителем. К этому времени вся пшеница должна лежать на чердаке.
Мы молча глядим на него.
— Ясно? — спрашивает он.
Нагнувшись, я поднимаю бутыль, принесенную Памелой, вытаскиваю затычку и выливаю вино, оно медленно впитывается в землю, оставляя темное пятно.
— Я дал вам еду и вино, — говорит Николас. — А что вы с ними делаете, меня не касается.
Он отворачивается и идет прочь. Рука с бичом напряжена. Но он не останавливается и не оглядывается на нас.
Еще долгое время после того, как он исчезает в саду, мы молчим. Потом Онтонг говорит:
— Вот видите, он не захотел сердиться.
— Ты что, струсил? — спрашивает Кэмпфер, сидя в тени. — Я ожидал от тебя большего.
Но ему уже не разозлить меня. Теперь это не его дело. Я все взял в свои руки.
— Давайте закончим молотьбу, — говорю я. — А когда в пятницу Николас поедет за учителем, я отправлюсь вместе с ним, чтобы переговорить с людьми на всех фермах, где мы будем останавливаться. Потому что не только тут, в Хауд-ден-Беке, нам нужно взять свободу. Это дело каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка, всех рабов в Боккефельде и в других местах. То, что мы начинаем на этом гумне, будет продолжаться до тех пор, пока по всей стране не пройдет молотьба и не будет отвеяна вся мякина. Конь, которого мы сегодня оседлали, дикого нрава, но это самый лучший на свете конь: стоит только сесть на него, и вовеки не слезешь. На этом коне мы проскачем весь путь, мы будем скакать с фермы на ферму, по всему Холодному Боккефельду и по всему Теплому Боккефельду и потом дальше через горы, через долину Ваверен к Стеллебосу, и так до самого Кейпа. А если нам преградят путь, мы отправимся к Великой реке, где живут свободные люди. Но что бы мы ни делали, мы уже не слезем с нашего коня.
— Больно многого ты от нас требуешь, — бормочет старый Ахилл. — Да еще на голодный желудок.
— Да, сейчас мы голодны, — отвечаю я. — Но сегодня ночью, когда они заснут, мы стащим из крааля самую жирную овцу и зарежем ее. С этого часа мы будем брать все, что захотим. И будем есть сообща. А потом все вместе оседлаем нашего коня и поскачем по стране, свободные и быстрые, как ветер.
Мы берем вилы и метлы и снова принимаемся за работу. Копыта лошадей выбивают из колосьев крупные зерна, пласт за пластом, мякина отсеивается, тонкая золотистая пыль уносится ветром, и остается только добрая, чистая пшеница, готовая для помола.
В красноватых сумерках мы длинной цепочкой возвращаемся домой, каждый с вилами или метлой на плече. У запруды, куда мы подходим помыться, несколько птиц-молотов, похожих на причудливого вида камни, неподвижно стоят в мутной воде и смотрят вниз. Мы останавливаемся, оцепенев от страха и боясь их потревожить. Ведь мы знаем, что не рыбу видят они в мутной воде, а лицо человека, отмеченное печатью смерти.
Бет
Мы все ели овцу, зарезанную той ночью, и по приказу Галанта каждый из нас омыл руки в ее крови возле камня для убоя скота. Я была против этой затеи, но Галант схватил палку, и я поняла, что он готов расправиться с любым, кто станет перечить ему. Меня бесило его подлое обращение со мной — разве я была хоть в чем-то виновата? — но во мне было больше боли, чем злости. Он оттолкнул меня. Все от меня отвернулись. Я осталась одна с голодом в теле и одиночеством, похожим на боль в костях. Похожим на смерть.
Могла ли я остановить их, если бы попыталась? Но кто бы стал слушать меня? Я страшилась того, что надвигалось, ведь и зарезанная овца, и омовение рук в крови было только началом. И на следующую ночь все повторилось снова. Мы опять были там. Даже мама Роза, к моему удивлению, пришла и держала овцу, а Галант оттянул овце голову и перерезал горло одним ударом длинного ножа так, что кровь темной струей брызнула ему на руки.
После второй овцы я заговорила с хозяйкой, потому что больше не могла терпеть и не знала, как еще предотвратить бедствие.
— Грядут плохие дела, — сказала я ей. — Я подумала, что лучше сказать вам об этом, пока не поздно, чтобы вы смогли что-то сделать.
— До чего же ты надоедливая, Бет, — сердито ответила она. — Почему тебе все время нужно настраивать меня против других?
К четвергу я уже была не в силах выносить это. Я поджидала бааса возле двери в кухню, пока он спускался с чердака, куда мужчины загружали последние мешки пшеницы — молотьба была закончена.
Заметив меня, он остановился и в последний миг попытался увильнуть от встречи со мной.
— Не уходите, баас, — сказала я. — Я пришла, чтобы рассказать вам кое-что.
— Что же, Бет?
— Вам нельзя завтра уезжать за учителем. Здесь назревают ужасные дела.
— О чем ты?
— Это все Галант, — сказала я, обернувшись, чтобы убедиться, что меня никто не слышит. — Будьте поосторожнее, баас.
— Ты уже давно точишь зуб на Галанта, Бет. И на меня тоже. Но я устал от этого.
— Вы не понимаете меня, баас.
— Я понимаю тебя лучше, чем ты думаешь, и с меня всего этого довольно.
— Но, баас, все дело в Галанте.
— Мы с Галантом выросли вместе, — огрызнулся он. — Порой между нами случались недоразумения, но мы всегда умели в них разобраться и сумеем сделать это и впредь.
— Баас, послушайтесь меня. Не уезжайте завтра и не оставляйте ферму без присмотра.
— Галант поедет со мной. И я не нуждаюсь в твоих паскудных советах. А теперь убирайся и оставь меня в покое.
Я смотрела ему вслед. Он вошел в дом и захлопнул за собой дверь кухни, отгородившись от меня, словно я была зверем, готовым напасть на него. На дворе было темно. В доме горели керосиновые лампы, и в Их свете окна казались беззащитными. Ставни затворят только после молитвы. Окна смотрели в ночь будто глаза — но то были слепые глаза, они ничего не видели; а снаружи можно заглянуть внутрь прямо сквозь них.
Я сделала все, что могла. Они не захотели слушать. И тут я впервые вдруг устыдилась того, что бегаю за ним, будто сучка во время течки. Он вообще ничего не понимал. Может, он и в самом деле боялся меня — из-за ребенка. Да и откуда ему было знать про огонь в моем теле, огонь, который могло погасить только его семя? Ведь, только отдав мужчине свое тело, можно обрести власть над ним. А пока он властвует надо мной, и я хожу за ним по пятам год за годом.
Но даже и сучка в конце концов может начать кусаться.
Дальре
Неважно, сколько я еще протяну — долго мне не выдержать, здоровье мое ухудшается, — но ту поездку мне не забыть никогда. Все уже назревало, но я почти не обращал внимания на происходящее, я просто был там, время от времени задремывая в подскакивающей на ухабах коляске, запряженной четверкой лошадей. Вроде бы ничего необычного: во всяком случае, так казалось тогда. Только впоследствии, когда мне вспомнились все подробности, я словно заново пережил те несколько дней, услышал все те звуки, свидетельствовавшие о нашем продвижении по выжженному солнцем вельду меж голых, коричневых пшеничных полей и грубых хребтов бесконечных серых гор, под небом, с которого случайные, свободно плывущие облака отбрасывали вниз темные тени, быстро уносимые ветром: жуткое путешествие на колеснице Смерти, под грохот наших костей — на козлах молчаливая Смерть с длинным кнутом и прямой спиной, рядом подросток, на узкой скамье я и бледная белокурая девушка, держащая ребенка, и два трупа, торжественно ведущие беседу, один из них в новых башмаках.
Деталей не помню: разве мог кто-то из нас предвидеть тогда то, что было уже так близко? Пройдут два дня — и все свершится. Двое из нас будут мертвы и похоронены, одна овдовеет, других казнят или закуют в цепи, а я лишусь даже того немногого, что имел. И единственное, что останется непотревоженным, — это здешняя природа: вельд, горы и тени от облаков, гонимые невидимым ветром.
Услышав о том, что Николас ван дер Мерве собирается в пятницу ехать к Йостенсам за учителем, я попросил его взять меня с собой, прельстившись не столько возможностью короткого бегства от мрачного гнета этих гор, сколько представившимся случаем обсудить с ним наконец обстоятельства, при которых с его отцом случился удар. Но этому, увы, помешало присутствие Галанта, а Николас в свою очередь помешал мне прояснить недоразумение с Галантом из-за башмаков. За два дня до этого, вечером, он вдруг заглянул ко мне — собственно, именно он и сказал мне о намечаемой поездке — в весьма дурном расположении духа.
— Я пришел за башмаками, — объявил он.
— Они еще не готовы. Ты же знаешь, что у меня в последнее время было много работы.
— Это мои башмаки вы отдали Николасу.
— Ничего подобного. Твои башмаки еще шьются. Наберись терпения. Я уже вырезал подметки, как и обещал.
— А где они?
Но в комнате было столько всякого хлама, что мне не удалось найти их. Я знал, что они где-то тут, и, разбирая вещи потом, когда все было уже позади, я, конечно, нашел подметки. Но оттого, что я не смог показать их в тот вечер, Галант мне не поверил. Он настаивал на том, что из кожи для его башмаков я сшил башмаки Николасу.
— Вы такой же, как все другие хозяева! — обрушился он на меня. — Но берегитесь: если поднимется ветер, он сдует вас прочь вместе со всеми остальными.
Я не имел ни малейшего понятия, о чем он говорит. Только потом все понял. Но тогда было уже слишком поздно.
В пятницу утром, спозаранку, мы отправились в путь. Жена Николаса и три дочери стояли перед домом и глядели, как мы отъезжаем, я видел, как дети махали нам вслед, пока не исчезли в облаке пыли от коляски.
Мы ехали от одной фермы к другой, начав с усадьбы Франса дю Той, через Вагенбомс Ривер и Эландсклоф, мимо Лонг Ривер и дальше, и, как это тут принято, останавливались в каждом месте, чтобы выпить чаю, кофе или вина и немного побеседовать — впрочем, тогдашние разговоры я находил столь неинтересными, что не мог припомнить их впоследствии: пока они разговаривали, я обычно погружался в собственные мысли. Когда мы добрались до фермы Йостенса, уже темнело. Там мы застали ожидавшего нас учителя, Яна Ферлее, — худого, с серьезным лицом, изможденным и ученым видом — и остались переночевать. В субботу мы поехали в Буффелсфонтейн, на ферму тестя Николаса, старого Яна дю Плесси, который настоял на том, чтобы мы у него заночевали. На следующее утро, плохо проведя ночь, я поднялся очень рано. Было воскресенье, еще никто не вставал, даже рабы (ничего удивительного после буйной ночной попойки, затянувшейся чуть ли не до утра). Вспомнив о торчащей головке гвоздя в скамье, которая накануне причинила мне изрядные мучения, я взял в сарае молоток и полез в коляску; Забив гвоздь, я вдруг заметил под скамьей прикрытый старым, изодранным жакетом Галанта сверток, которого там прежде не было. Лениво, без особого любопытства я развернул его и увидел, к моему удивлению, форму для отливки пуль. Ничего особенно подозрительного в этом не было, хотя место для формы тут было явно неподходящее. Но прежде чем я успел задуматься об этом, из дома вышел старый дю Плесси, ударил в колокол для рабов и пригласил меня завтракать. Утро прошло под заунывные звуки молитв и каких-то разговоров, и только после обеда мы наконец отправились домой. Ферлее все время говорил о себе, но его жена не произносила ни слова: эта хрупкая белокурая женщина сидела с отсутствующим видом, укачивая младенца, — так девочки обычно играют с куклой. На закате мы вернулись в Хауд-ден-Бек. Я, может быть, и заговорил бы об отливочной форме, если бы не отупел от жары и слишком обильной еды. Если бы этот учитель не болтал без умолку. Если бы я не стеснялся заговорить с Николасом в присутствии Галанта или с Галантом, когда рядом был Николас. Если бы… если бы… если бы… Где начало вины и от кого она исходит?
Рассказывать почти нечего, и все же я по-прежнему поглощен воспоминаниями о тех днях — словно я могу найти ключ ко всем событиям, стоит только как следует поискать.
Мимолетно и поверхностно моя жизнь коснулась их жизней. Алиды, старого Пита, Николаса и Галанта. Я пытался ни во что не вмешиваться, не вставать ни на чью сторону, никого не обижать. Но даже ничтожное прикосновение нарушило равновесие: праздная беседа, обещание башмаков. Если бы я сделал для Галанта те башмаки, которых ему так хотелось?.. Если бы после стольких лет я не отправился на поиски Алиды, то старого Пита, может, и не хватил бы удар? А если бы он был здоров, сумел бы он вовремя заметить, что происходит, и найти способ предотвратить все это? Или же нет? Или же все случившееся было для всех нас неизбежным? Не таится ли разгадка в самой этой стране, которая ни от чего не позволяет уклониться, превращая даже ни о чем не ведающего и не желающего ведать зрителя в соучастника?
Мы покорно ехали по этой внешне невинной долине, не подозревая того, что все в наших жизнях уже решено.
Рой
Галант по дороге все больше помалкивал. Время от времени баас говорил ему что-нибудь, но Галант в ответ лишь бормотал «да» или «нет». И старикашка Дальре тоже сидел молча с потухшей трубкой в углу рта, его косматая белая грива развевалась на ветру, а глаза неподвижно смотрели куда-то вдаль, словно не видя того, что было рядом. Но как только мы останавливались на какой-нибудь ферме, распрягали лошадей и хозяева уходили в дом, чтобы поесть или выпить, Галант тут же менялся.
— Пошли, — говорил он. — Времени мало. Нужно поговорить с людьми.
Только на первой ферме, у бааса дю Той, Галант держал язык за зубами. Слишком опасно, сказал он: этот человек филдкорнет, и нам вовсе ни к чему, чтобы кто-нибудь из его рабов донес на нас, ведь тогда отряд буров заявится к нам прежде, чем прогремит первый выстрел. Но на всех других фермах мы собирали людей — повсюду.
Я просто глазел на них. Мне хотелось удрать в вельд, чтобы поискать черепах, мангустов или птичьи гнезда. Мне уже надоели эти разговоры. Но он все время держал меня возле себя, и я поневоле чувствовал себя важной персоной. Если кто-нибудь пытался что-то спросить у меня, я говорил:
— Вы лучше слушайте Галанта. Он командир, а я его правая рука.
После этого они уважительно глядели на меня и придвигались поближе к Галанту, чтобы выслушать его.
— Как у вас тут идут дела? — спрашивал Галант. — Вы, верно, слышали, что было сказано про рождество и Новый год?
— Да, слышали, — отвечали они, одни угрюмо, другие более откровенно. — Но Новый год как пришел, так и ушел.
— У них было достаточно времени, чтобы дать нам то, что они обещали, — продолжал он. — Но все напрасно. Теперь мы знаем, что свободу нам никто не даст: мы должны добыть ее сами. Слабому не достанется ничего. Только достойный получит свободу.
На что кто-нибудь из стариков обычно отвечал:
— Они убьют нас всех скопом.
— Вот потому-то я и езжу с фермы на ферму, — говорил Галант. — Чтобы каждый был начеку и разузнал заранее, где хранятся ружья. Когда наступит время, мы должны захватить ружья, прежде чем хозяева о чем-нибудь догадаются.
— Как мы узнаем, что время пришло?
— Вы получите весть из Хауд-ден-Бека. Оттуда мы пойдем по всему миру, и каждый будет с нами.
— А как остальные смотрят на это?
— Они стоят за нас горой.
— А сколько еще ждать?
— Уже не долго. Дней десять. Может быть, пять. А вы будьте начеку и готовьтесь. Мы пошлем весть.
— А вдруг они пришлют отряды?
— Если мы все проделаем быстро, то сумеем уйти раньше, чем сюда прибудут отряды. Может, стрелять и не придется. — Затем он давал им некоторое время для того, чтобы они могли переварить его слова, и добавлял: — Вот что я вам скажу: если буры попытаются сопротивляться, мы будем стрелять. Но мы не станем проливать кровь понапрасну. Хотя и не боимся пролить ее. — Он опять ненадолго замолкал. — А вы лучше подумайте о собственной крови. Если кто-то вздумает ударить нам в спину, его кровь прольется первой. Понятно?
— Понятно.
— Когда все будет позади, я объеду все фермы и разыщу тех, кто к нам не присоединился. И немногие из них останутся в живых после этого.
Всякий раз когда я слышал, как Галант произносит эти слова, у меня словно паук пробегал вниз по спине: страх, в котором было и наслаждение, вроде того как ты в первый раз отводишь в сторону девушку, чтобы спросить ее: «Ну так как?»; страх и наслаждение, которых ты никогда не забудешь, от которых у тебя пересыхает горло, а в груди перехватывает дыхание, и живот напрягается, словно его сдавило.
На каждой ферме Галант назначал человека, который должен был обо всем докладывать ему и которому было велено захватить ружья и присматривать за тем, чтобы все рабы держались заодно. Когда Галанту то там, то тут попадался кто-нибудь сомневающийся в нашем деле, он начинал рассказывать о том, что видел и слышал в Кейпе прошедшей зимой, и после этого ни у кого не оставалось больше никаких сомнений.
Ночью на ферме бааса Йостенса, куда мы приехали за учителем, Галант несколько часов развлекал всех своими кейптаунскими историями: рассказывал, как мы все поднимемся на Гору с ружьями, и как джентльмены выстроятся перед нами и сложат оружие, и как мы захватим власть во всей стране. Бренди в ту ночь лилось рекой: кто-то стащил из подвала непочатую бочку, и Галанту было чем смазать язык. Уже запели петухи, когда люди наконец разбрелись по хижинам. Я думал, что Галант тоже выдохся, но он не сдвинулся с места, и мы вдвоем остались сидеть у костра, глядя на пламя, мерцающее и умирающее, и на красные угольки, которые, угасая, покрывались серым налетом.
— Ты славно поработал сегодня, — сказал я наконец, чтобы нарушить молчание. — Теперь за тобой пойдет весь Боккефельд.
Он ничего не ответил, может быть, он вообще меня не слышал.
— А для меня найдется ружье? — снова заговорил я.
Он посмотрел на меня прищурившись, чтобы разглядеть через дым.
— Сколько тебе лет, Рой? — спросил он.
— Откуда мне знать? — удивленно сказал я. — Должно быть, восемнадцать или около того.
Он ухмыльнулся.
— Тебе еще нет и четырнадцати, приятель.
— Я уже был с девушкой.
— Это еще ничего не значит.
— Я умею обращаться с ружьем.
— Надеюсь, что умеешь. — Он отвернулся. А через некоторое время вдруг сказал: — Нет. Нет. Что же это я говорю?
— Можешь на меня положиться, — сказал я поспешно. — Вот увидишь, я буду стоять за тебя верней, чем любой другой. И в тот день, когда ты поднимешься на Гору в Кейпе, я буду рядом с тобой.
— Рой. — Он медленно покачал головой. — Я не уверен, что ты как следует понимаешь, во что ввязываешься.
— Конечно, понимаю. Я все время слушал тебя. Я убью каждого, кто встанет мне поперек дороги.
— Ты же не раб. Ты готтентот.
— Но ты сам говорил Тейсу, что тут нет разницы. Что мы все под одним ярмом.
— И все же ты можешь остаться в стороне, если захочешь.
— Я не захочу. Я хочу держать в руках ружье, совсем новенькое ружье, И хочу отправиться в Кейп, чтобы увидеть все собственными глазами.
— Это не игра, Рой. Речь идет о жизни и смерти.
— Я буду стрелять в них так, что все будет залито кровью.
— Стрелять мы будем только в крайнем случае.
— Я стану делать только то, что ты скажешь.
— Хорошо бы, если бы я мог вот так же доверять каждому, — сказал он. — Но, Рой, ты же еще ребенок. А дети… — Он говорил чуть ли не сердито. — Ведь именно ради детей такое вот дело и затевается. Но я не хочу, чтобы тебя убили.
— Никто меня не убьет. Ты же сам говорил, что мы будем переходить с одной фермы на другую, забирая всех с собой. Как ты думаешь, мне позволят взять одно из тех ружей, которые баас купил в Кейптауне?
Он поднялся на ноги прежде, чем я закончил, и ушел в темноту. Через некоторое время он вернулся, остановившись возле угасающих углей. На этот раз он говорил очень тихо, я едва слышал его.
— Долгие годы живешь, затаив это в душе, — сказал он. — Даже делаешь вид, будто не замечаешь. Надеешься, что все обойдется. Затем, в один прекрасный день, видишь, что другого выхода нет. Что тебе никуда от этого не деться. И тогда решаешься. И все же по-прежнему надеешься… — его голос угас, — …что этого удастся избежать.
— Ты вовсе не так говорил с людьми сегодня, — сказал я удивленно.
— Им я должен говорить то, что заставит их пойти за мной, Рой. Но никто не знает, что творится у меня в душе. Никто, кроме меня. — Он снова повернулся, словно собираясь уйти, но остановился. — Все могло быть иначе, Рой, — сказал он. — Я дал ему возможность. Все было бы иначе. — Он наклонился, чтобы поднять с земли свой изодранный старый жакет, который захватил, чтобы укрыться от ночного холода. — Но вот как это обернулось. И я буду трус, если не сделаю того, что должен сделать.
— Ты просто устал, — сказал я неуверенно. — У тебя был трудный день. Завтра все снова будет в порядке.
— Все в порядке уже не будет никогда, Рой. — Он вздохнул, обернулся и поглядел мне в лицо. — Рой, что бы ни случилось, запомни: у меня не было другого выхода.
Веки у меня стали такими тяжелыми, что глаза закрылись сами собой, и я не знаю, говорил ли он что-нибудь еще. Я свалился прямо возле костра и весь остаток ночи видел во сне великую войну и то, как мы бешено скакали вперед на лошадях, стреляя и убивая всех на нашем пути.
Следующую ночь мы провели на ферме у старого бааса дю Плесси: здешних людей — старого Адониса, Йохема и остальных — мы знали уже давно, так что Галанту нетрудно было уговорить их. Только Адонис — изворотливая старая обезьяна, вот он кто, — доставил нам много хлопот, выдумывая одну отговорку за другой. Я даже удивился, видя, как терпеливо Галант продолжает убеждать старика. Старый баас Ян, сказал Галант, держит в сарае форму для отливки пуль, которой пользуются все фермеры в округе, и Галант хотел, чтобы Адонис принес ему форму. Другие вызывались принести ее, особенно Йохем, который обычно и отливал пули, но Галант остановил их: он настаивал на том, чтобы Адонис сам отдал ему форму. Сначала я подумал, что он просто хочет польстить старику или подшутить над ним, но потом, когда форма лежала в коляске, надежно упрятанная под старым мешком и разодранным жакетом, Галант пояснил мне:
— Это все потому, что я не доверяю старому ублюдку.
— Почему же ты просто не скрыл от него все? А если он выдаст нас?
— Эта штука заставит его попридержать язык. Видишь, хотел он того или нет, теперь он все равно с нами. Это единственный способ заставить его молчать.
Я ухмыльнулся:
— Крепко ты всех прижал.
Он вздохнул.
— Нам предстоит еще очень долгий путь, Рой.
— Ты же сказал, что осталось всего несколько дней.
— Каждый день теперь как целая жизнь.
— А что будет на всех других фермах и в других местах? — вдруг спросил я. — Мы уже побывали на многих, но что будет на всех остальных, где не знают о наших планах?
— Не беспокойся, — сказал он. — Они присоединятся тотчас же, как мы начнем. Это вроде пожара в вельде: стоит только ему начаться, как дальше он горит сам по себе. Пока дует ветер. — Затем он снова замолк, как уже бывало не раз, — в крыше хижины, где мы сидели, застрекотал кузнечик, — а спустя долгое время заговорил гораздо тише и словно обращаясь к себе самому: — Если только ветер дует.
Памела
Он был очень спокоен в ночь перед тем, как они поехали за учителем. Бешенство, охватившее его после рождения ребенка, казалось, наконец-то утихло. Я хорошо все помню, потому что то была наша последняя ночь. Когда они вернулись в воскресенье вечером, к нам заявился Абель, и они проговорили до утра, в понедельник он ускакал на лошади бааса и возвратился уже на рассвете, а во вторник я отправилась спать на кухню, чтобы приглядывать за тем, что происходит в доме. Так что это была наша последняя ночь.
Но он не хотел взять меня. Не потому, что у него не было желания. Дело тут было в чем-то другом. Он сказал:
— Давай я обниму тебя и полежу рядом. Чтобы слышать, как бьется твое сердце.
— Что тебе до моего сердца?
— Оно такое живое. Все бьется и бьется.
— Галант, что с тобой?
— Лежи тихо.
Мы долго лежали так, и он заснул, держа руки у меня на груди. Но мне не спалось.
Поздно ночью мне стало так одиноко, что показалось, будто он покинул меня. Я дотронулась до него и негромко позвала:
— Галант.
Он открыл глаза, еще одурманенный сном, постанывая и шевеля губами, словно пробуя его на вкус, и спросил:
— Что, пора вставать?
— Нет. Но ты завтра уезжаешь.
— Это ненадолго. Ты же слышала, что сказал Николас — мы вернемся в воскресенье.
— А потом?
— Сама знаешь, что будет потом.
— И ты уверен, что хочешь довести все до конца?
— Я должен сделать это. — Неожиданно он спросил: — Памела, ты помнишь первую ночь, когда я был с тобой? Ты задала мне вопрос, а я на него тогда не смог ответить.
— Что за вопрос?
— Ты спросила: «Галант, кто ты?»
— Я так спросила?
— Да. Разве не помнишь? С того времени этот вопрос не выходит у меня из головы.
— А почему ты сейчас говоришь об этом?
— Хочу, чтобы ты знала, что сейчас впервые я вроде бы нашел ответ.
— И какой же ответ?
— Не спрашивай меня пока. Только свободный человек может ответить на этот вопрос. Но теперь ждать уже недолго.
— Только не говори, будто я толкнула тебя на это.
— Никто меня ни на что не толкал. У меня у самого есть глаза.
— А что ты можешь увидеть? Темень-то ведь какая.
— Не покидай меня, Памела. Я не знаю, что произойдет. Никто не может этого знать. Но ты должна оставаться со мной.
— Было время, когда я чуть не ушла от тебя, — сказала я тихо.
Он напрягся, я слышала, как у него перехватило дыхание.
— Почему?
— После того, как у меня появился ребенок, — прошептала я, — были дни, когда я просто не могла этого больше выдержать.
В темноте признаваться было легче, но все равно нелегко.
Его рука нежно ласкала меня. Я закрыла глаза и прижалась головой к его плечу.
— И когда отец хозяйки приехал к нам в гости, — сказала я, — я попросила его забрать меня обратно. Он ведь просто дал меня ей взаймы.
— А что ты ему сказала? — Я чувствовала его дыхание у себя на лице.
— Сказала, что здесь со мной обходятся нехорошо и что я хочу обратно к нему.
— А он что ответил?
— Он говорил как по Библии. «Ты же крещеная, Памела, — сказал он. — Почему же в тебе так мало веры? Разве ты не знаешь, что мы будем вознаграждены на небесах? В этом мире нам дано только терпеть. Господь служит нам примером».
— Почему же ты не рассказала ему про Николаса?
— Потому что не из-за него я хотела обратно.
Я едва решилась произнести эти слова, но темнота помогла мне.
— А из-за кого же?
— Из-за тебя.
— Ты хотела уйти от меня? Разве я плохо с тобой обращался?
— Нет. Дело не в этом. Просто я приношу тебе одно только горе.
Он ничего на это не ответил. Я подумала, что он молчит от злости, и ожидала, что он оттолкнет меня, но он не шевельнулся. Наконец он сказал:
— А все из-за того, что мы пока еще на этом берегу, Памела. Мы не умеем видеть как надо, потому что у нас глаза рабов. Но как только мы окажемся на другом берегу, мы во всем разберемся. Солнце поднимется. И тогда я скажу тебе, кто я такой. И тогда мы впервые по-настоящему узнаем друг друга.
— Не понимаю я, что ты такое говоришь про берега. Ты сейчас рассуждаешь, прямо как старый баас Ян.
— Нет, вовсе не так. Просто мы все еще прикованы к скале, как та женщина, о которой я тебе рассказывал. Но пройдет всего несколько дней, и мы будем свободны. Мы пересечем Великую реку, которая отделяет нас от другого берега. И тогда наши глаза все увидят как надо. Все станет другим. — И, помолчав, добавил: — Памела, мне нужна твоя помощь.
— Чем я могу помочь тебе?
— Мы завтра уезжаем. Дом будет открыт. Я хочу, чтобы ты взяла ружья и припрятала их.
— Но тогда прольется кровь, Галант.
— Как раз для того, чтобы не пролилась кровь, я и прошу тебя взять ружья. Спрячь их.
Мне стало страшно. Одно дело — вот так лежать в темноте и разговаривать, но красть ружья — дело совсем другое. Ружье — вещь опасная, оно несет смерть.
Я протянула руку и коснулась его.
— Иди ко мне, — прошептала я. — Ночь уже кончается.
Он напрягся, но отрицательно помотал головой.
— Не сегодня, Памела, — прошептал он. — Я хочу тебя. Но слишком многое мешает мне. Только когда я стану свободным человеком, мы снова будем вместе. Иначе все останется по-прежнему.
На восходе они уехали в коляске; лошади гарцевали, словно понимали, что Галант правил ими, — они всегда старались ради него.
В первую же ночь я держала ружья в руках. Я взяла их с полки над кроватью, на которой спала хозяйка, я поглаживала гладкое дерево, и тяжелую медь, и холодные стволы. И вдруг младшая девочка застонала во сне. Я быстро положила ружья обратно. И не потому, что испугалась, как бы не проснулась хозяйка, а из-за ребенка.
На вторую ночь, когда все уже заснули, я бродила по дому как привидение. Я хорошо знала дом и, конечно, могла ходить тут даже в кромешной темноте, не натыкаясь ни на что. Просто я никак не могла заставить себя войти в спальню. Наконец, когда запели петухи, я поняла, что время уходит. Нужно сейчас же взять эти ружья, или случай будет упущен. Я осторожно отодвинула засов на кухонной двери, чтобы потом быстро и незаметно выскользнуть из дому. Но в этот миг меня окликнула хозяйка.
Адонис
Вранье. Все они врут, коли говорят, что это я украл форму для пуль и отдал Галанту. Он всегда был против меня, этот Галант: вспомнить только, как он накинулся на меня с топором, когда Бет появилась на ферме. Может, он думает, что я простил ему это? А теперь хочет свалить вину на меня. Мы обнаружили пропажу формы, когда они уже уехали. Он, должно быть, сам взял ее. Ничего я про это не знаю и знать ничего не желаю. Мой баас всегда был добр ко мне. Что бы стало со мной без него?
Сесилия
В темноте, перед рассветом, пробудившись ото сна — всегда один и тот же сон, — я услышала какой-то шум на кухне и, выйдя проверить, в чем дело, увидела Памелу, стоявшую у двери.
— Что ты тут делаешь? — спросила я.
Она вздрогнула и обернулась.
— Я… я просто хотела выйти, — пробормотала она. — У меня схватило живот.
— Я слышала, как ты бродила всю ночь, — сказала я. — Может, ты заболела?
— Нет, хозяйка. Это, должно быть, просто от духоты.
— Ну, тогда ступай. И принеси мне лохань на обратном пути. Скоро утро.
Она вышла. Меня охватило странное чувство: впервые за все время я увидела в ней не просто служанку, которая работала в доме долгие годы, а женщину. Ее беспокойство, несомненно, было вызвано отсутствием Галанта. Я почти что завидовала ей: если бы я могла вот так же беспокоиться о Николасе. И тут я поневоле взглянула на все по-новому. Рабы доставляют немало хлопот, вечно путаясь под ногами вроде домашних животных, и все же где-то в них, похоже, таятся человеческие чувства.
Если бы только она могла сдерживать свою низменную Натуру в присутствии моего мужа. Тогда бы тут не лежал завернутый в лохмотья ребенок, заставляющий всех нас краснеть от стыда. Но ими всегда движет животная хитрость, подсказывающая им, как воспользоваться мужской слабостью.
Я снова вспомнила свой сон. Слава богу, Памела разбудила меня прежде, чем он успел завершиться так, как он всегда заканчивался, однако и того, что было, оказалось довольно, чтобы я почувствовала себя плохо. Сколько раз он посещал меня за мою жизнь, бесконечные варианты одного и того же кошмара! Я одна то в вельде, то в доме или сарае или еще где-нибудь, и затем вдруг оказывается, что рядом еще кто-то. Я никогда не вижу его лица, знаю только, что он черный. Я пытаюсь прогнать его прочь, но всякий раз не могу выдавить из себя ни звука. Когда он приближается, у меня перехватывает дыхание. Я пытаюсь закричать, хотя понимаю, что меня никто не услышит. В следующий миг он уже сдирает с меня одежду и кидает меня на землю, чтобы совершить надо мной нечто невыразимо ужасное. «Пожалуйста, убей меня, — умоляю я его. — Ради бога, убей, уж лучше умереть». Но он не убивает. И самое ужасное происходит.
Всякий раз, пробуждаясь от этого сна и чувствуя себя более испачканной, чем если бы вывалялась в тине или в иле, я сразу вставала, чтобы помыться, вымыть все тело, отскрести с себя эту грязь, но мне никогда не удавалось полностью очиститься от мерзости моих воспоминаний. И обычно проходило несколько дней, прежде чем я чувствовала, что снова могу посмотреть в глаза Николасу и всему свету.
То же самое было сегодня ночью, но Памела, разбудив меня, предотвратила самое худшее. И заставила меня задуматься. На рассвете, после того, как я вымылась в лохани, и задолго до того, как ферма ожила, я пошла к домику, приготовленному для учителя и его жены, и уселась в той части, которую мы отгородили шкафом, сделав школьную комнату для Хелены. Я держала на коленях Библию, но не читала ее. Просто долго перелистывала страницы, а потом оставила книгу открытой на коленях. И это помогло мне немного успокоиться.
Может быть, этот сон был карой господней, ниспосланной свыше, чтобы побудить меня задуматься о той злобе, которую я испытывала к Николасу. Господь даровал нам трех дочерей, и конечно же, в его воле лишить нас сыновей. А если я буду и впредь выражать недовольство этим, то не ввергну ли я Николаса в еще более тяжкий грех? В будущем мне нужно выказывать больше смирения.
Во время его отсутствия, как, например, в октябре, когда он уезжал в Кейптаун, я обычно чувствовала себя спокойней, лучше владела собой (если не считать этого сна): я за все отвечала сама, и все в доме и на ферме делалось согласно моим желаниям и указаниям. Не надо было ни на кого оглядываться. Но сейчас, в это раннее воскресное утро, я была вынуждена признаться себе, что тоже чувствую себя одиноко. Может быть, это в порядке вещей: господь сотворил человека прямостоящим, чтобы ему было нелегко коснуться кого-то рядом с собой, одиночество — это просто условие нашего существования. И все же приятно ощущать рядом присутствие другого человека.
Благодаря беспокойству рабыни, которая не могла заснуть из-за плотской тоски по мужчине и которая спасла меня от самого страшного мига в моем сне, я сумела понять нечто в сути моих собственных потребностей.
Дети выбежали из дома, огласив двор своими громкими криками. Я взяла Библию и направилась к двери, чтобы во имя господне принять на себя ответственность за день грядущий.
Ферлее
С самого начала Марта была против возвращения в глубь страны. Жизнь гораздо спокойнее, приятнее и веселее в Кейпе, знакомом ей с детства, говорила она. И кроме того, там все ее родственники. Но именно близкое соседство с ними и побудило меня принять окончательное решение. С того дня, как мы поженились — шаг, на Который было нелегко решиться тому, кто прожил в одиночестве сорок лет, — ее семейство не оставляло нас в покое, давая советы и наставления, а с рождением ребенка все стало и того хуже. Этим и объяснялось мое весьма торопливое согласие на предложение Ван дер Мерве наняться учителем к нему на ферму.
Почти всю дорогу от Кейптауна Марта плакала, чем тревожила и ребенка. К счастью, когда мы добрались до фермы Йостенса, дела пошли чуть лучше: он по крайней мере был ее дальним родственником, а его жена знала средство, как успокоить желудочные колики ребенка. В течение двух недель, которые мы провели там, Марта немного примирилась со своей судьбой, но, когда в воскресенье мы поехали дальше в повозке Ван дер Мерве, она по-прежнему не разговаривала со мной. Она уже не плакала, но держалась довольно замкнуто. Только один раз, очень тихо, чтобы никто не услышал, она прошипела мне в ухо:
— Ян, я никогда не прощу тебе, что ты так поступил со мной.
— Потерпи немного, Марта, — взмолился я. — Как только у нас будет свой дом, ты сразу почувствуешь себя гораздо лучше.
— Что бы ни произошло, ответственность за это будет лежать на тебе.
— Само собой разумеется.
Может быть, мой ответ и прозвучал несколько язвительно, но мои нервы тоже были уже на пределе.
И Ван дер Мерве, и маленький старичок, приехавший с ним, дорогой все больше молчали, так что мне пришлось приложить усилия, чтобы поддерживать беседу: я рассказал им о том, что повидал в восточных районах — что было, безусловно, достаточно интересно, чтобы расшевелить любого, — и обо всем, что пережил, работая учителем и переезжая с места на место. Ради их же блага я хотел, чтобы они поскорее поняли, что поступили правильно, остановив свой выбор на мне. Их дети будут в надежных руках, строгих, но заслуживающих доверия. Жаль только, что это девочки: обучение женщин — пустая трата времени. Что дали Марте гувернантки и учеба в школе? Все это, безусловно, ничуть не помогло ей в ведении домашнего хозяйства. Она даже не умела кормить ребенка, и нам пришлось подыскать рабыню; к счастью, Ван дер Мерве сказал, что у него на ферме тоже найдется кормилица. Во всяком случае, если я добьюсь каких-то успехов с детьми Ван дер Мерве, может быть, его соседи захотят посылать ко мне своих сыновей. Пусть это и было, для меня в некоторой степени шагом вниз, но после целого года в окружении родственников Марты — сколь бы благими ни были их намерения — я по крайней мере совершил поступок, восстановивший мою независимость.
Время от времени Ван дер Мерве высказывал какое-нибудь замечание. Чаще всего оно не имело никакого отношения к тому, что я рассказывал, словно он вообще меня не слушал, но я был достаточно осторожен и соглашался со всем, что он говорил, хотя он и придерживался довольно странных взглядов, особенно о рабстве. Да, весьма необразованный человек, но я предпочитал не противоречить ему на столь ранней стадии нашего знакомства: он был моим работодателем и мне нужно было ему понравиться, хотя бы ради Марты. Впоследствии еще представится более чем достаточно возможностей мягко просветить его. Я уже не без удовольствия предвкушал это.
— Пожалуйста, не волнуйся, — повторил я Марте, когда мы в воскресенье отъезжали с фермы дю Плесси, в надежде своим тоном убедить ее, что я совершенно в себе уверен. — Мы начинаем новую жизнь. Постарайся думать об этом как об увлекательном приключении. Верно, мистер Дальре?
Но маленький старичок в ответ лишь уставился на меня с безмолвным удивлением.
Баренд
В то воскресенье Эстер была снова просто невыносима. Одно из тех ее ужасных настроений, которые обрушиваются на нее без всякой разумной на то причины, это даже не связано с ее женскими недомоганиями. Мы начали ругаться, едва проснулись, а когда я предложил съездить в Хауд-ден-Бек, чтобы познакомиться с учителем, за которым поехал Николас, она наотрез отказалась.
— Но сегодня же воскресенье, — сказал я. — Самое время повидать родственников.
— Это твои родственники, а не мои.
— Чего тебе не хватает, так это хорошей порки.
— Ну, если это доставит тебе удовольствие…
— Ты сегодня упряма, как кобыла во время течки.
— А ты, верно, воображаешь себя хорошим жеребцом? — отпарировала она с привычной злобной ухмылкой.
Жестокий удар после прошедшей ночи. И черт побери, я в этом не виноват. Она сама затеяла ссору, прекрасно понимая, чем это закончится. Впрочем, наша короткая утренняя перепалка несколько прояснила для меня причину ее дурного настроения. Все и в самом деле началось с кобылицы, красивой лошади, которая забрела на ферму в субботу после полудня, — дикое создание, которого никто тут прежде не видел. Абелю наконец удалось загнать ее в угол и взнуздать, но только после отчаянной борьбы и не раньше чем она дважды сбросила его (Клаас чуть не помер со смеху, наблюдая за происходящим, и мне пришлось слегка хлестнуть его бичом, чтобы он прекратил заниматься ерундой и помог Абелю усмирить лошадь), а когда он все-таки привел ее во двор, из конюшни вырвался мой жеребец. Нам пришлось спасаться бегством, потому что обе лошади принялись скакать, сбивая все на своем пути, перемахнули через забор огорода, разбили в щепки деревянную пристройку к сараю и проделали большую дыру в айвовой изгороди, пока наконец жеребец не загнал ее в угол между воротами и конюшней. Еще довольно долго они вставали на дыбы, кусали и лягали друг друга, но потом кобылица уступила, и жеребец покрыл ее. Обернувшись, я заметил Эстер, которая стояла возле задней двери, наклонясь вперед и опираясь о дверной косяк — кулаки сжаты, свисающие пряди волос мокры от пота, губы полуоткрыты. Увидев меня, она тотчас отвернулась и исчезла в доме. Ни один из нас не заговорил об этом. Но когда мы вечером погасили свет в спальне — тяжелый запах керосина еще висел в душном воздухе, — она начала выкобениваться как сучка, и мне пришлось усмирить ее силой. Она, должно быть, была взвинчена историей с лошадьми, и это настроение не оставляло ее и в воскресенье.
— Не хочешь — не надо, я поеду с мальчиками, — сказал я.
— Питер еще слишком мал.
— Говорю тебе, я беру детей с собой. Сама решай, ехать тебе или нет.
Я понимал, что она, конечно, не переменит своего решения. Но и я своего тоже.
— Запрягай коляску, — приказал я Абелю. — Поедешь с нами верхом и возьмешь кобылицу.
— Куда ты ее забираешь? — спросила Эстер, явно недовольная тем, что кобылицу уводят.
— Я не желаю, чтобы тут снова все разнесли в щепки. По пути попробую выяснить, откуда она взялась. Может, она сбежала от Дальре. Он единственный во всей округе, кто способен упустить такую вот лошадь. Пора ему собирать свой хлам и убираться из Боккефельда.
— Почему ты так несправедлив к бедному старику? — спросила Эстер.
— По-твоему, я несправедлив ко всем на свете, — ответил я и, желая досадить ей, добавил: — Надеюсь, ты не думаешь, что я оставлю кобылицу только для того, чтобы ты напускала на нее жеребца, едва я отвернусь?
Ее щеки от ярости пошли красными пятнами, и, не говоря ни слова и даже не попрощавшись с детьми, она ушла в дом.
Мы проехали мимо фермы Франса дю Той не останавливаясь: я знал, что кобылица наверняка не его, а заезжать к нему просто так мне не хотелось. Я не слюнтяй Николас, который всегда боится обидеть этого человека, хотя сам же его терпеть не может.
Как оказалось, и Дальре не имел никакого отношения к кобылице. Так сказал мне Платипас: он был единственным, кого я обнаружил на ферме. Долли и Кэмпфер, наверно, отправились за выпивкой. Чтобы белый был столь близок с грязными рабами — это уже выше моего понимания.
Когда мы добрались до Хауд-ден-Бека, Николаса еще не было.
— Мы подождем, — сказал я. — Я не тороплюсь.
— Может, останетесь пообедать? — предложила Сесилия.
— Если это тебя не стеснит.
Я приказал Абелю отвести кобылицу в конюшню: пусть теперь ею занимается Николас. С меня достаточно.
День выдался необычайно длинный. Сесилия, конечно, образцовая хозяйка, но она не умела поддерживать беседу, и вскоре мы исчерпали все, что можно было сказать об урожае, поездке Николаса, болезни отца, о детях и их обучении. Я начал подумывать, не лучше ли все-таки уехать домой, но это означало бы лить воду на мельницу Эстер.
После обеда мы пошли немного поспать, Сесилия — в свою спальню, а я — в детскую. Но в такую жару не заснешь. Мертвая тишина во дворе. Жужжание мух в доме. Дети играли в пристройке, приготовленной для учителя, а потом, похоже, улизнули в сад. Я велел им не выходить со двора, но мне было лень идти за ними, и к тому же я вспомнил наши купания в запруде в такие же знойные дни в Лагенфлее, когда мы сами были детьми. Так и не задремав, испытывая отупляющую сытость от обильного обеда у Сесилии, я погрузился в воспоминания о воскресных послеполуденных часах моего детства. Давние дни возле запруды. Тот день, когда я пытался заставить Эстер снять платье, и ее отказ. Она всегда и во всем противилась мне: даже ее согласие выйти за меня замуж было всего лишь способом досадить мне. Я вспомнил наши вылазки в вельд, в горы. Тот день, когда нас неожиданно настигла гроза и мы с Николасом побежали вперед, оставив их позади, — и наш ужас при мысли, что их с Галантом могло убить молнией, а они в это время преспокойно пережидали грозу в хижине мамы Розы. Думая обо всем этом, я задним числом понимал, что нам всегда, отовсюду угрожали всевозможные опасности, и все же мы прошли через все невредимыми и теперь, спустя много лет, оказались тут, в настоящем времени. В безопасности и покое; вот только в какой-то неведомый миг нашего путешествия мы утратили ощущение увлекательного приключения. Все стало ровным и предсказуемым. Быть может, это и хорошо, а может быть, даже неизбежно. Но, увы, все стало менее значительным, чем могло быть, если бы… Если бы что? Этого я не знал. И все же когда-то, должно быть, существовали какие-то иные возможности. Но какое невероятное событие должно произойти, чтобы к нам вернулось ощущение полноты жизни и ее новизны, чтобы Эстер вновь стала загадочной и желанной? Много лет назад тут были взрослые, папа и мама, и мы, дети, которые в воскресный полдень могли веселиться, не думая ни о чем на свете. А теперь уже мы преждевременно стали взрослыми, а веселящиеся дети были нашими собственными детьми. А пройдет еще несколько лет, и настанет их черед. И так без конца? И без всякой цели?
Я пытался обуздать свои мысли. Воскресные дни для меня всегда тяжелы. От безделья поневоле думаешь обо всем. Всю неделю напролет работаешь без передышки, следишь за тем, что делается вокруг, и это дает тебе ощущение уверенности в жизни. Но в такой день кажется, будто весь мир ускользает от тебя. Ты не ведаешь, что происходит в этой давящей духоте, чувствуешь себя чужаком в своих родных краях, тебя охватывает ужас, которого ты не в силах обуздать, потому что он вне пределов твоего разумения. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух[31].
Со двора вдруг донесся громкий смех Абеля. Какое беззаботное веселье! Уже не в первый раз я вынужден был признаться себе, что завидую ему. Как мне хотелось бы быть таким! И я мог бы быть таким, если бы уже в раннем возрасте на меня не пало тяжкое бремя ответственности.
Я припомнил нашу с ним поездку в Кейптаун, спокойные, веселые вечера у костра, когда он играл на скрипке. Вдали от дома у меня словно груз свалился с души, порой я даже подпевал ему, и мы по очереди прикладывались к кувшину с бренди. Но в конце концов именно я должен был решать, когда остановиться, чтобы события не вышли из-под контроля. Я был не вправе свободно, как он, забыться, отдавшись музыке и веселью.
А потом он потерял свою скрипку в Кейптауне. И даже не сумел дать разумного объяснения пропаже. Но догадка вдруг озарила меня: он просто хотел лишить меня того, что, как он знал, мне нравилось — злорадная уловка всех рабов, вечно желающих насолить хозяину. И это навсегда останется преградой между нами. А потом, после того что устроил Голиаф, Абель даже угрожал мне лопатой. Всего одно мгновение, но я никогда не забуду пережитого ужаса. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю[32]. Что за бредовые мысли будил у меня в голове тот воскресный день! От жары и духоты я совершенно лишился воли. Казалось, этому дню не будет конца.
Николас вернулся домой только перед заходом солнца. Учитель выглядел сущим ублюдком, но его жена оказалась молоденькой худощавой девушкой с миловидным, невинным, хотя и утомленным лицом. Ребенок заплакал. Сесилия позвала рабыню Памелу, чтобы та взяла и покормила его.
Мы сидели в большой комнате, пили кофе и болтали. Старик Дальре сунулся было в дверь, но, заметив меня, извинился и ушел.
— Он становится обузой, — сказал я Николасу. — Подумай, как избавиться от него.
— Отцу это не понравится.
— Отец лежит трупом. Откуда он узнает?
— Узнает.
Я переменил тему, чтобы не затевать ссоры.
— Как идут дела на фермах, через которые ты проезжал?
— Некоторые фермеры еще молотят пшеницу, но большинство уже закончили.
— Ты доволен урожаем?
— Да. Год был засушливый, а урожай оказался одним из Лучших.
— Тебе случайно не попадался человек, искавший пропавшую кобылицу?
— Какую кобылицу?
Я объяснил.
— Нет, — сказал Николас, — но, если хочешь, оставь ее тут. Рано или поздно за ней кто-нибудь явится. У меня как раз есть пустое стойло, а если кобылица и вправду такая дикая, то Галант будет с удовольствием присматривать за ней. А никто не объявится, так оставлю ее себе. Тогда не придется ехать в Тульбах покупать лошадь.
— Да, лучше держаться подальше от городов, — согласился я. — Житья не стало от этих проклятых англичан.
— Кажется, на сей раз самое страшное миновало, — сказал он. — Я по дороге заглянул к Франсу дю Той, он говорит, что о комиссарах и курьерах ничего не слышно, а ведь уже конец января. Это может означать лишь одно — что они отказались от мысли об освобождении рабов.
— Наверное, у него, как всегда, нашлось о чем поговорить?
— Да, опять разглагольствовал о законности и порядке.
Я расхохотался.
— Пустая болтовня. А все из-за его рожи. Такому уроду нетрудно быть святошей. Он и годен только на то, чтобы произносить высокопарные речи.
Белокурая женщина вошла в комнату, что-то сказав Ферлее про ребенка, и учитель вышел вместе с ней.
— Не вижу я никакого проку в твоей затее с учителем, — сказал я. — Он лишь забьет головы твоих дочерей всякой ерундой.
— Сколько можно об одном и том же. — Он поднялся. — Пошли, покажешь мне кобылицу.
Абель поджидал нас возле двери.
— Запрягать коляску, баас?
— Разве вы не останетесь переночевать? — спросил Николас.
— С удовольствием. — Я обернулся к Абелю. — Подыщи себе место для ночлега у Галанта или где-нибудь еще. Мы поедем утром.
Если мы с мальчиками не вернемся домой, подумал я, Эстер придется как следует поволноваться — такая пилюля ей и нужна.
От конюшни мы направились по саду и по бобовым полям вниз, к захламленному гумну.
— Почему ток у тебя в таком виде? — спросил я, раздраженный его нерадивостью.
— Не было времени привести в порядок после молотьбы, — извиняясь, ответил Николас. — Но я приказал Галанту проследить, чтобы завтра же все расчистили и утрамбовали.
По дороге домой мы прошли мимо краалей и запруды. Сумерки сгущались. Вокруг разливалось ощущение покоя, заполняя всю долину, точно чистая прохладная вода. Со стороны запруды мы глядели на двор фермы с ее крепким домом и пристройками, на учительский домик, конюшни и сараи, краали и хижины, на огороженное стеной кладбище чуть в стороне, пока пустое, если не считать могилы отца Эстер.
Мне припомнилось то беспокойство, которое я ощущал днем. Я был не прав, решил я теперь. Все это вовсе не суета сует. Поглядеть хотя бы на спокойную надежность этой фермы. Да и моей собственной тоже. Во времена нашего прадеда и времена папиной молодости все здесь было диким и нецивилизованным. Но в борьбе с дикарями и хищниками наш народ укротил эти края, и теперь они наши на веки вечные. Нам тоже были знакомы опасности и тревоги — чего стоили одни беспорядки, чинимые рабами в последние годы. Но теперь наконец-то все позади. Благодаря суровым мерам, необходимым, чтобы они понимали, кто тут настоящий хозяин, мы удержали кнут в своих руках, и теперь нам все подвластно. Насколько хватал глаз, земля была наша. Оглядывая ее, я вдруг почувствовал, что мне понятно то глубокое удовлетворение, с которым в конце седьмого дня творения господь осмотрел все им сотворенное и увидел, что это хорошо.
На короткий миг я даже ощутил тоску по Эстер. Ведь как-никак мы сотворены, чтобы быть мужем и женою.
Кэмпфер
Я никогда не думал, что все это пойдет дальше разговоров. Сколько раз мне уже доводилось видеть подобное? — ветер поднимается, затем слабеет и снова стихает. Даже в тот день на гумне я по-прежнему был уверен, что Галант просто притворялся раздосадованным, когда его хозяин не дал втравить себя в очередную ссору. (Хотя, конечно же, нетрудно было догадаться, как именно поведет себя этот человек.) Впервые я почувствовал, что они не ограничатся угрозами, в тот воскресный вечер, когда Галант и Николас ван дер Мерве вернулись домой с учителем. Я, как обычно, отправился к хижинам, чтобы немного выпить с рабами. Долли там не было — слава богу, думал я впоследствии, иначе бы вся моя затея провалилась, — так как ему и Платипасу нужно было починить стену свинарника, сломанную свиньями в отсутствие Дальре.
Я был потрясен, узнав, как далеко продвинулся Галант в своих планах. Во время путешествия он и в самом деле подговорил рабов с соседних ферм к мятежу; в воздухе запахло грозой.
— А ты уверен, что все у вас получится? — спросил я очень осторожно, чтобы не вызвать у него подозрений.
— Конечно, — решительно ответил Галант. — Разве все идет не так, как ты нам говорил? Ты же был с нами с самого начала.
— Да, разумеется. Я просто хотел убедиться в том, что ты относишься к этому всерьез.
— А ты думал, что я шучу?
— Нет-нет. Можешь на меня положиться.
Он внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь разглядеть, что таится в моей душе, и наконец сказал:
— Ну что ж, тогда все в порядке. Мы условились начать во вторник ночью. Осталось два дня. Предупреди Долли. У нас каждый человек на счету.
Вернувшись в ту ночь в свою хижину, я не мог сомкнуть глаз. В конце концов я вышел во двор и уселся, прислонясь к дверному косяку и глядя на звезды. Легкие, почти прозрачные облака летели по небу, подгоняемые ветром. Взошла луна. Вдруг мне почудилось, будто не облака, а луна и звезды быстро и бесшумно проносятся над головой. И даже более того: словно сама земля, ферма, двор, хижина и я плывем куда-то в пустоте. Мне пришлось упереться руками в землю, чтобы не упасть от головокружения.
Я закрыл глаза. И в воображении увидел, что мятеж удался: увидел, как мы выступили здесь, в Хауд-ден-Беке, и захватили ружья. Увидел, как мы продвигаемся дальше, переходя от одной фермы к другой, ко все более далеким землям по ту сторону долин и горного хребта, пополняя по пути наши ряды, и вот уже с нами огромная армия, больше, чем у Наполеона, которая, словно ураган, сметает все на своем пути. Я увидел, как мы маршируем по улицам Кейптауна, подбадриваемые криками толпы, как, подобно огромной волне, которую уже ничто не остановит, поднимаемся по склону Горы, с вершины которой на весь мир провозглашаем величественные слова: Liberté, egalité, fraternité! В мечтах я вижу, как ко мне приезжает моя мать, вдруг снова ставшая молодой и красивой, с белокурыми волосами и улыбкой на лице, и я увожу ее в новые места, на земли, которые принадлежат нам и где мы будем жить, а с нами отец и мои умершие братья и сестры и Элси, к которой вернулся разум. Я слышу, как мать говорит мне: «Джозеф, сын мой, я горжусь тобой. Я всегда верила в тебя».
Но затем я вызвал в своем воображении другую картину — картину восстания, потерпевшего поражение. Я увидел маленькую горстку людей, захваченных врасплох и разбитых, увидел трупы, устилающие землю, и калек, ползущих, подобно паукам с перебитыми ногами, как те сотни солдат, которых мне довелось видеть на полях сражений в Европе. Я увидел победителей, скачущих по нашим телам, топчущих их копытами своих лошадей, увидел оставшихся в живых, согнанных в кучу, израненных и оборванных, и в их глазах безнадежный, голодный взгляд побежденных, увидел, как мы, спотыкаясь, бредем длинной колонной, с руками, связанными за спиной, один прикован к другому, а рядом конвой на лошадях, подгоняющий нас кнутами, увидел, как мы висим на виселицах, болтаясь на ветру, а птицы спускаются с неба, чтобы пожирать наши тела, пока от них не останутся одни кости, услышал, как ветер с тоскливым воем бесчинствует в пустых глазницах черепов и между ребрами скелетов. Я увидел свою мать, старую и изможденную, похороненную даже без гроба, с узловатыми руками, сложенными на груди, и с глазами, устремленными вверх в последнем упреке за все, что я так и не исполнил.
Ночь была теплая, но я дрожал от озноба. Никогда прежде я не испытывал такого безнадежного страха. Зубы у меня стучали. А над головой по-прежнему проносились легкие облака, словно весь мир падал куда-то в бесконечном, неостановимом падении.
Величественные лозунги моей юности снова зазвучали у меня в ушах. Но борьба за эти идеалы всегда кончалась неудачей, поражением и горем: мир, покрытый полями сражений, изувеченные люди, трупы и скелеты, лохмотья, голод, плачущие дети, ненависть, насилие, ужас, страх.
Неужели все мечты неизбежно оказываются всего лишь иллюзиями? И есть ли у меня право ради слабой надежды, что на сей раз это обернется чем-то большим, чем просто иллюзией, присоединиться к Галанту и другим в их отчаянной авантюре? И не будет ли это верным способом навсегда лишиться всего, даже надежды?
Но останавливать их было поздно. Они уже решились, и мне никуда не деться — ведь они видели во мне одного из зачинщиков. Если я теперь скажу им: «Посмотрите, это же безумие, я не желаю впутываться в это», они просто перешагнут через меня, и я стану жертвой того, что сам же и накликал. Но что же мне делать? Неужели нет никакого выхода?
Мне было страшно. Один господь знает, как мне было страшно.
Но даже бояться было уже слишком поздно.
То, что еще секунду назад было всего лишь догадкой, кошмаром, от которого можно было пробудиться, теперь превратилось в абсолютную уверенность: это не кончится ничем иным, кроме неудачи и поражения.
В своей жизни я знавал два типа людей: тех, кто рожден повелевать, и тех, кто рожден быть рабом, — и одни служили условием существования других. А между ними время от времени появлялись личности вроде меня, высказывавшие недовольство и намекавшие на иные возможности, — мы были исключением, вроде того как порой рождаются дети с искривленной стопой или телята с шестью ногами, — которые добивались единственной цели — вселить в остальных беспокойство. Наша единственно возможная победа заключалась в поражении. И это делало нас омерзительными. Мне пришлось много пережить, чтобы понять это — и господу известно, что мне было нелегко расстаться со своей мечтой, — но наконец-то я кое-чему научился, и в ту ночь на земле, летевшей в бездну, подобно падучей звезде, я уже ни в чем не сомневался.
Не было никакой надежды предотвратить все это, во всяком случае прямым вмешательством. Но кое-что можно было сделать. Зовите меня трусом, зовите как угодно. Я не стыжусь признаться, что мне было страшно. Но даже если я не смогу спасти никого, кроме себя самого, это уже немало. Прежде всего для моей матери — я не имею права добить ее окончательно еще одним поражением и еще одним мертвым сыном.
Рано утром, когда старый Дальре еще спал, я вызвал Долли и сказал ему, что Галант велел ждать его в горах, где все остальные присоединятся к нам в великий день. Чтобы мои объяснения показались ему более убедительными, я предложил ему прихватить с собой одно из двух ружей Дальре.
Долли выглядел так, словно его пригласили на пирушку. Он расправил широченные, уже немного ссутулившиеся плечи, и в его глазах вспыхнул огонь. Пришлось применить всю силу внушения, сдерживая его, чтобы он не впал в неистовство и не разгромил всю ферму. Старый Платипас не должен ничего заподозрить, предупредил я его: он слишком ненадежен и может нас выдать.
— Так почему сразу не перерезать ему глотку? — спросил Долли.
— Тогда фермеры немедленно поймут, что мы что-то замышляем. Нужно сохранять все в тайне.
— А разве они ничего не заподозрят, когда увидят, что нас нет?
— Галант им все объяснит, — ответил я. — Мы обо всем договорились с ним прошлой ночью.
— Я должен быть здесь.
— Не беспокойся. Ты и будешь здесь.
Мы дождались, пока Платипас угнал овец в вельд, а Дальре принялся слоняться по двору, проскользнули в дом, стащили ружье и немного еды. Затем ушли в горы, где прятались до ночи.
— Жди меня здесь, — сказал я Долли. — Я пойду за остальными.
Прости меня, господь: мне вовсе не хотелось причинять вреда Долли, но кем-то приходится жертвовать, и в любом случае это не продлится долго. Подождав во дворе, пока в окнах Дальре погаснет свет, я прокрался к дому и начал молотить кулаками в дверь, а когда он открыл, взволнованный и испуганный, я объяснил ему, что Долли сбежал с ружьем и я разыскивал его весь день. Сейчас я выследил его, и, чтобы обезвредить Долли, пока он не стал угрозой всей округе, мне нужно ружье.
Дальре настаивал, чтобы мы позвали на помощь братьев Ван дер Мерве, но я убедил его, что слишком много преследователей только помешают погоне; с ружьем, с Платипасом, якобы мне в помощь, и с цепью я вернулся в горы. В надежном месте я приказал старику дожидаться меня и пошел дальше один.
Долли обрадовался, увидев меня.
— А где все остальные? — спросил он.
— Они в пути.
Затем я хватанул его прикладом по голове и сковал цепью. Ружье, которое было у него, я припрятал среди скал, а затем позвал Платипаса и показал ему задержанного беглеца.
— А теперь возвращайся домой и скажи баасу, чтобы он больше ни о чем не беспокоился. Я поймал этого человека. Он опасен, поэтому я прямо сейчас поведу его к ланддросту.
Я вовсе не сбежал. В ту ужасную ночь я все продумал с предельной четкостью. Я знал, что Галант и остальные видели во мне вожака и что им был очень нужен силач Долли. Я надеялся, что, оставшись без нас двоих, они вовремя изменят планы и откажутся от своей безумной затеи.
Пусть себе клянут меня, если им хочется, думал я. Меня уже за многое проклинали в моей жизни. Но я всегда действовал с лучшими намерениями. Я всегда в душе верил в благородные лозунги. Но теперь, поняв наконец, что из них в итоге выходит, я был просто обязан ради себя самого и ради всех остальных не ввязываться в подобную авантюру.
Если после моего ясного предупреждения они поднимут мятеж, то это уже их собственное дело и за него они будут в ответе сами.
А я в ответе за мою собственную жизнь и за жизнь моей старой матери.
Абель
Наконец-то дело идет к тому, что я получу назад свою скрипку. Вот что я сказал им в воскресенье ночью, когда мы сидели перед хижинами, в последний раз обговаривая все, после того как Галант вернулся из поездки по фермам. Только дайте мне ружье, чтобы, стреляя, я мог расчистить себе дорогу в Кейп; а там я пойду прямо на петушиные бои, поставлю ружье на петуха и отыграю скрипку.
— Вы Делайте, что хотите, — сказал я им. — Но я буду прокладывать дорогу на Гору со скрипкой в руках, буду играть так, что у вас зачешутся пятки и весь мир пустится в пляс.
— Мы говорим о серьезных вещах, — сказал Галант. — Сейчас не до шуток.
— А ты думаешь, я шучу? — рассмеялся я. — Вы тут все говорите о свободе. Ну хорошо, тогда я спрошу вас, а что это за штука такая, которую вы зовете свободой? Это значит еда, когда ты голоден, и питье, когда тебя мучит жажда, и женщина, когда тебе приспичит; это значит скрипка, когда тебе весело или тоскливо, и чтобы никто не мог приказать тебе заткнуться или убираться прочь. Вот и все. А что до остального, то я плевать на это хотел.
Как только стемнело и все белые убрались в дом, мы уселись возле костра: работники из Хауд-ден-Бека, Кэмпфер с фермы старого Дальре — Долли и Платипас, сказал он, задержались с работой, но он обещал передать им все — и я. Даже мама Роза была тут, иссохшая, как старая айва. Все, кто нужен, были здесь в ту ночь.
Поначалу все отмалчивались, каждый ожидал, что другой заговорит первым, ведь дело предстояло важное: а когда знаешь, что оно уже близко и нет возможности увильнуть, у тебя от этого слегка перехватывает дыхание. Мама Роза принесла из сада полный передник поздних сладких персиков, и мы сидели, неспешно поедая их, словно вовсе никуда и не торопились. Ахилл, как старая черепаха, жевал беззубыми деснами спелый персик: сладкий сок потек по его подбородку, и все рассмеялись.
— Ты похож на человека, которого ничто на свете не заботит, — сказал я ему.
Он посмотрел на меня — свет от костра мерцал на его мокром лице — и слизнул языком капли сладкого сока из уголков рта.
— Ну и что из этого? — сказал он. — Нет ничего на свете лучше персиков.
— Может быть, — пошутил я. — Но я-то думаю, что самый лучший персик на свете — это финик.
Наша болтовня разозлила Галанта.
— Есть вещи более важные, чем персики и финики, — сердито сказал он.
— Ничего нет лучше финика, — сказал я. — Но ты прав. Пора и поговорить — впереди большие дела. — И поневоле рассмеялся от радости. — Еще день или два — и мы будем свободно расхаживать по всей земле и брать все, что захотим. Я уже вижу, как я… — у меня снова вырвался смех, — я вижу себя на крыльце дома в Эландсфонтейне с выпивкой в руках и трубкой в зубах; вот я вытаскиваю трубку и кричу: «Эй, Баренд! Приподними свой зад, приятель! Давай сюда фургон, я хочу прокатиться».
Глаза молодых парней загорелись, они захихикали. Словно я вынул свою скрипку и принялся настраивать ее перед танцами.
— Или же я зову Баренда и приказываю ему: «Эй, Баренд, я хочу, чтобы ты отправился в Хауд-ден-Бек и сказал баасу Галанту, чтобы тот задал хорошую порку этому бездельнику Николасу».
Остальные тоже заулыбались, и я продолжал:
— А если у меня будет настроение, я отправлюсь к хижинам и скажу: «Открывай-ка, Эстер, твой баас идет к тебе».
Галант набросился на меня, словно рысь на кролика. Не успел я понять, в чем дело, как он уже навалился на меня, схватил за горло и принялся душить.
— Заткнись! — заорал он. — Или я убью тебя! — Его лицо нависло надо мной, никогда прежде я не видел его в таком бешенстве. — Если это единственное, о чем ты мечтаешь, Абель, то я из тебя из первого вышибу мозги. Ты понял меня?
— Черт побери, приятель, — прохрипел я, когда он ослабил хватку, — я же просто пошутил. Что это за жизнь; если и пошутить нельзя?
— Ты полагаешь, что мы собираемся на праздник?
— Ну, ты-то все превращаешь в похороны.
Кэмпфер вскочил первым и оттащил от меня Галанта, затем подоспели остальные.
— Возьмите еще персиков, — бесстрастно сказала мама Роза. — Они сочные и сладкие.
— Я бы охотнее чего-нибудь выпил, — сказал Онтонг. — Я знаю, что у Ахилла припрятана медовуха.
— Что ты можешь знать о моей медовухе? — недовольно пробурчал Ахилл, но потом все-таки уступил и притащил бутылку. Гроза прошла стороной, мы принялись разговаривать и говорили всю ночь напролет, пока не запели петухи.
Я думал о том случае, когда был готов разделаться с баасом Барендом из-за Голиафа. В тот день меня остановило его ружье. Но такие вещи не забываются и потом грызут тебя, заставляя краснеть от стыда. На этот раз никакое ружье не остановит меня. На этот раз я все доведу до конца.
Только Ахилл время от времени с сомнением покачивал головой, сидя у костра и причмокивая высохшими губами, словно припоминал вкус персика.
— Вы сами ищете свою смерть, — пробормотал он.
Его трусливые речи взбесили меня.
— Ну хорошо, — сказал я. — Тогда я по крайней мере умру с криком в горле, понимая, что сделал хоть что-то стоящее. И кто знает, может, смерть — это как женщина: глубокая и неведомая; от страха перед ней у тебя поначалу дрожат колени, но стоит погрузиться в нее, как уже и не хочется выныривать.
— Легко говорить о смерти, пока ты молод, — проворчал старик. — Я тоже был таким, мне это знакомо. Но когда поживешь с мое, смерть выглядит пострашнее.
— Не беспокойся, я заслоню тебя собой, — поддразнил я его.
Он продолжал что-то бормотать себе под нос, но мы не обращали на него внимания.
Мы прикинули, кто у нас есть: те, что у костра, и еще Долли и Платипас, и рабы с ферм, где побывал Галант, с ружьями своих хозяев. Казалось, для начала этого довольно, и все считали, что нужно как можно скорее двинуться дальше, пока слухи о бунте не разнесутся по округе. Некоторые были готовы выступить уже следующей ночью, но еще многое нужно было подготовить, и мы не могли пускаться в такое предприятие очертя голову. Галант приказал Онтонгу и Ахиллу — они были недовольны, но боялись открыто возражать ему — отлить побольше пуль в форме, которую он привез с собой, а я должен был за оставшиеся два дня привлечь на нашу сторону людей на тех фермах, где не успел побывать Галант.
— А как ты это сделаешь? — спросил Кэмпфер. — Ты же весь день работаешь в Эландсфонтейне. Твой хозяин не позволит тебе уйти, когда тебе вздумается.
— Это уж моя забота, — сказал я. — Я все устрою.
Мы условились выступить во вторник вечером. И на следующее утро, в понедельник, по дороге домой, я подождал, пока мы не отъехали на час от Хауд-ден-Бека, а потом сказал баасу Баренду:
— О господи, баас, мы же оставили там вожжи, а они нужны для тяги на мукомольне.
— Почему же, черт подери, ты не подумал об этом раньше?
— Простите, баас. Но я могу вернуться и забрать их.
— Ладно, поезжай.
Все оказалось легче, чем я думал. Весело насвистывая, я поскакал обратно в Хауд-ден-Бек, где осторожно прокрался в сарай и взял сбрую. Выйдя из сарая, я увидал вдали Галанта и помахал ему сжатым кулаком. Он ответил тем же жестом, означавшим: Завтра ночью!
Проехав мимо дома Дальре, я свернул на фургонную дорогу и, сделав большой крюк вокруг горы, направился к Лагенфлею. В тот день, когда старого бааса Пита хватил удар, мы говорили с его людьми о том, как получить свободу, но сейчас нужно было ввести их в курс дела, чтобы они были наготове. Из Лагенфлея я поехал на горное пастбище, где Мозес, Вилдсхют и Слингер пасли овец. А к ночи вернулся в Эландсфонтейн, но не показывался баасу на глаза. Я знал, что он, конечно, бесится из-за моего отсутствия и, должно быть, накачал себя до того, что готов задать мне порку. Но это меня уже не волновало: еще один день — и у него больше не будет надо мной никакой власти.
В ту ночь у меня был последний разговор с людьми на нашей ферме. Я даже переговорил с Клаасом: к моему большому удивлению, он с готовностью согласился присоединиться к нам.
— Посмей только сказать хоть слово баасу — и тебе крышка, — предупредил я его.
— А с чего ты взял, что я хочу иметь дело с этим человеком? — сказал он. — Я жду этого случая с того самого дня, когда хозяйка выпорола меня ни за что ни про что.
Во вторник утром, приказав Клаасу сказать хозяину, что кобылица снова убежала, а меня послали на поиски, я отправился на дальние фермы. Мне приходилось быть начеку, чтобы меня не заметили хозяева, но это оказалось не трудно. На одной из ферм мне рассказали о каком-то Хансе Янсене, который, разыскивая сбежавшую кобылицу, проезжал мимо вместе со своим готтентотом Хендриком. Но я не обратил на это особого внимания: откуда мне было знать, что я увижу их, вернувшись в Хауд-ден-Бек? Но даже если бы я и знал, это ничего бы не изменило. Они не имели к нам никакого отношения, а я должен был делать свое дело.
Незадолго до сумерек, проездив целый день верхом, я вернулся в Эландсфонтейн: в небольшой ложбине, на некотором расстоянии от хозяйского дома, я привязал лошадь и сел на камень, глядя на ферму, готовящуюся к ночному отдыху. Хозяйка вышла из куриной загородки с полным передником яиц, рядом с ней шли два маленьких мальчика с корзинками. Баас, совершив последний обход краалей, свинарников, сарая с сеном и конюшни, направился наверх к хижинам — конечно, чтобы узнать, не вернулся ли я, — а потом пошел обратно к дому. Я увидел Сари, выходящую из задней двери за последней охапкой хвороста. Вот она входит в дом, чтобы вымыть им ноги. Затем ужин. И наконец двери закрываются на замки и засовы и свет гаснет.
В последний раз.
Только после этого я спустился вниз, к хижинам, чтобы чего-нибудь поесть. И в последний раз переговорил с людьми, проверив, помнит ли каждый, что ему делать. Теперь ждать уже совсем недолго.
Затем я вывел из конюшни еще одну лошадь и отвел ее в ложбину. Потом вскочил на своего коня. В свете луны я ехал хорошо знакомой дорогой по долине мимо Вагендрифта, а затем вверх, к Хауд-ден-Беку.
Я уже представлял себе, как держу скрипку у подбородка и, поглаживая струны, извлекаю из них звуки, подобные стонам женщины в ночи. И как в те былые дни, когда я обхаживал Сари, я поднес руку к носу и понюхал пальцы. Это был запах свободы.
Хендрик
Эта кобыла и раньше доставляла нам немало хлопот. Сущий дьявол, а не лошадь. Все мое тело еще болело от побоев — конечно же, как всегда, во всем обвинили меня, — когда баас приказал мне ехать вместе с ним искать эту чертову лошадь. Три долгих дня, в том числе и воскресенье, а в этот день я обычно отправлялся через горы, чтобы навестить Дину и детей. Мы уже давно собирались пожениться — нас обоих воспитали в послушании заповедям. Но что толку? Я койн, а Дина рабыня. Баас не хотел покупать ее, чтобы мы могли жить вместе, а ее хозяин не желал видеть у себя на ферме готтентотов: говорил, что мы все воры и бродяги.
Когда наконец во вторник мы нашли лошадь на ферме Хауд-ден-Бек, я заметил, что тамошние рабы довольно подозрительно поглядывают на меня. Потом один из них, Мантор Галант, подошел ко мне.
— Как тебя звать? — спросил он. — Ты раб?
— Я Хендрик. С чего ты взял, что я раб?
— Кто твой баас?
— Ханс Янсен, — ответил я. — Мы приехали издалека, с холмов Кару.
— Вы останетесь на ночь?
— Наверно. Баас уже не мальчик, а он три дня отбивал себе зад в седле. — Я покосился на него. — А с чего это ты задаешь мне вопросы?
— Потому что я рад, что ты приехал. Ты можешь нам пригодиться. Если только ты не хозяйский прихвостень.
— Хозяйский прихвостень? Погляди, что кнут Ханса Янсена сделал с моей спиной. — Я приподнял рубашку. — А в воскресенье он не дал мне повидаться с женой и детьми.
— Тогда присоединяйся к нам.
— О чем это ты?
— Сегодня ночью люди в Хауд-ден-Беке поднимают мятеж. Нас обещали освободить после Нового года, но фермеры этому помешали. А теперь мы сами вырываемся на свободу. Как ваша лошадь.
— Вырвавшуюся на свободу лошадь все равно поймают.
— Но человек не лошадь. Мы все продумали. Или, может, ты считаешь, что это все не твое дело, потому что ты койн?
Я ничего не ответил. И пошел к конюшне. Лошадь потихоньку заржала, когда я открыл верхнюю створку двери. На миг я ощутил желание выпустить ее, чтобы она снова свободно носилась по всему свету. Но моей спине и так уже за это досталось. Я осторожно прикрыл дверь и вернулся к Галанту.
— Да, я койн, — сказал я. — Голландцы зовут нас готтентотами. Но что все это означает? С одной стороны хозяева. С другой — рабы. А мы? Мы посередке. Нас пинают с обеих сторон. Хозяева заявились сюда из-за моря, да и вы тоже. Только мы одни всегда были здесь. А что мы за это имеем? — Я дернул плечами. Дрожь пробежала у меня по спине. — Дай мне лошадь.
— Ты можешь взять лошадь своего хозяина.
— Ту самую? — Я снова ощутил дрожь, но теперь уже от восторга. Как он догадался, что я вот уже несколько лет мечтаю об этой лошади?
Я протянул Галанту руку.
— Ты прав, — сказал я. — Хорошо, что я тут оказался. Можешь на меня рассчитывать.
Янсен
Я приехал сюда только для того, чтобы забрать свою лошадь. Разве я хоть в чем-то виноват?
Галант
На этой ферме мы все видели. Похороны — давно, в те времена, когда умер отец Эстер. Свадьбу. Детей, которые рождались, и детей, которые умирали. Вот конюшня. Я до сих пор привязан к ее балке и жду, когда Эстер отвяжет меня. И шепот Памелы той ночью: «Галант, кто ты?» Нам знакомы пахота и сев, сбор урожая и жатва. Мы знавали страдания и радости, видели лето и зиму. Знаем мы и ветер.
Но сейчас ветер стих, и все замерло. Ничто не движется. Все в напряжении, в ожидании.
Только одно гложет меня: с того дня на гумне Николас избегает оскорблять меня и не дает повода, которого я ищу. Все готово, но на сердце у меня тяжело — мне нужен последний повод. Уже вторник. Сегодня ночью это должно свершиться.
Солнце садится, когда Николас вдруг выходит мне навстречу, держа за руку свою дочь Хелену. С ним гость Ханс Янсен и длинный, тощий учитель Ферлее.
— Галант, — говорит он сурово. — Сегодня вторник, а я еще в воскресенье сказал тебе, чтобы ты привел в порядок гумно.
Я пожимаю плечами.
— У меня была другая работа.
— Ты сам знаешь, что каждый год после обмолота нужно привести в порядок и заново утрамбовать гумно. — Он глядит на гостя. — Баас Янсен тут рассказал мне, что у них недавно было много хлопот с непокорными работниками. А я ответил ему, что горжусь своими людьми, что они могут служить примером всем остальным. А ты так подводишь меня.
Я молча жду.
— Чтобы завтра на рассвете гумно было приведено в порядок.
— Солнце уже село.
— Тогда, черт побери, поработай в темноте. У тебя было достаточно времени. Завтра утром, когда взойдет солнце, я хочу показать баасу Янсену, что ты сделал.
— Солнце взойдет и зайдет. Я не могу остановить его.
— Галант… — Как хорошо я знаю этот маленький мускул, дрожащий у него на скуле. И все только потому, что ему хочется покрасоваться перед этим чужаком. — Утром мы первым делом пойдем на гумно.
— Как хотите.
Когда они уходят, я испытываю желание расхохотаться — на душе у меня легко и беззаботно. Теперь я понимаю, что чувствует Абель, когда говорит о скрипке. Наконец все спокойно — напряжение спало, все прояснилось. Словно новое солнце поднимается с гумна. Теперь у меня есть повод, которого я желал.
На мгновенье я снова мальчик. Я один под серым моросящим дождем возле конюшни, где жеребится кобыла. Поблизости никого, а ей больно. Я запускаю в нее руку по самое плечо, нащупываю внутри горячую влажную жизнь и вытаскиваю ее наружу. Это жеребенок, спотыкающийся на тоненьких ножках, но вскоре неукротимый и свободный, будто молния, — самый дикий на свете серый конь. И он мой навсегда. На этой лошади я буду скакать ночью в горы, в наступающий день, в самое сердце солнца.
Теперь я знаю: лошадей укрощают, надежду заковывают в кандалы, мечту убивают.
Но сегодня я вытащил нового жеребенка из темноты матери-кобылицы. На этого коня я усаживаюсь, чтобы скакать в мир. И уже никто не отберет его у меня. Жеребец, неистовый, как ветер, как буря, как огонь, как сама жизнь.
В темноте ночи мы слышим стук копыт. Это лошадь Абеля. Звук кажется неясным и приглушенным, подобно отдаленному грому.
Но на самом деле он уже очень близко.
Хелена
Господь мой пастырь; я ни в чем не буду нуждаться.
Завтра я начну учиться в школе. Мне не нравится, как пахнет изо рта учителя. А его жена миленькая. Она дает мне подержать ребеночка.
Мама уже начала учить меня всякому. Папа говорит, что я очень умная. Я уже умею сама заплетать косы. И я знаю, что два плюс два — пять.
Часть четвертая
Мама Роза
Мне рассказывала мать, а ей ее мать, а ее матери, я думаю, тоже ее мать, как однажды, давным-давно, Луна послала хамелеона к только что сотворенным Тзуи-Гоабом людям, чтобы тот сказал им: «Так же как я убываю, потом исчезаю, а потом появляюсь снова, так и вы будете умирать и снова рождаться». Но заяц перехватил эту весть у хамелеона, побежал вперед и сказал людям: «Слушайте слова Луны: так же как я умираю, так и вы тоже будете умирать». Вот так и пришла смерть в мир. А теперь она поселилась среди нас, в нашем Боккефельде. И не просто смерть тех, кого убили. Есть тут и другая смерть, более глубокая, — смерть сердца, а она останется с нами надолго. Когда я пристально смотрю во тьму, я вижу своими старыми глазами, как умирают очаги моего народа и остывшая зола становится белой. Не видно больше дыма, поднимающегося от костров. Не слышно песен женщин, возвращающихся с хворостом из вельда. Антилопы, всегда бродившие по этим долинам, ушли отсюда, и дикие звери исчезли. Только слышится иногда вой шакала да крики птицы-молота, шагающей по воде смерти. Сердце остыло у меня в груди, и взор тускнеет. Мой конец близок — меня надломила смерть того, кто мог бы быть моим сыном, и смерть тех двоих, что сосали мою грудь.
Это смерть, что приходит издалека. Бывает молния, которую ты видишь своими глазами, молния, возвещающая грозу, которая побьет пшеницу, но и даст новую жизнь земле для следующего урожая. Но бывает и другая молния, невидимая, он оставляет свою отметину у тебя в сердце, она таится в тебе, годами выжидая, съежившись, терпеливо, как яйца. Птицы-Молнии в темноте земли, и вдруг в один прекрасный день она вспыхивает, опаляя и обжигая тебя изнутри, насылая безумие, которое погубит тебя, и только после этого ты, быть может, опять станешь плодоносным для какого-то нового урожая.
О Тзуи-Гоаб Отец отцов наших Отец наш! Пусть пронесется грозовая туча.Что еще я могу сделать. Мне не изменить мир. Когда той ночью вспыхнул пожар, разожженный Галантом и остальными, я не могла ни остановить, ни поддержать их. Я не могла присоединиться к ним, но и не могла оставаться в стороне. Единственное, что я еще могла делать, — это быть тут — видеть, что происходит, смотреть моими старыми глазами и слушать моими старыми ушами, — для того чтобы все это не ушло просто так, как проходит стороной летняя гроза на горизонте, о которой и не вспомнишь, когда проснешься утром. Я не спала. Я была тут. Я была среди них. Я уже слишком стара, но кое-что еще мне по силам, и я это делала — была тут.
Теперь во мне осталась одна только жалость. Жалость ко всем. И к убитым, и к тем, у кого не было другого выхода, кроме как убивать. Жалость к родителям и жалость к детям. К белым и к черным.
Когда позже прибыл фургон, чтобы увезти тела, я поехала тоже. Я помогала обмыть и убрать их и положить на стол: Николаса, учителя и этого чужака Янсена — всех троих. То было долгое и тряское путешествие из Хауд-ден-Бека обратно в Лагенфлей, туда, где мы все начинали, где в прежние времена старый Пит был властителем и хозяином. Теперь для него все было кончено, он умирал. Я обмыла и его тоже, и, к моему удивлению, Алида не стала мешать мне. Он был еще жив, но я обмывала его так, как обмывают покойников; как мать моет свое дитя. Смерть затаилась, поджидая всех нас. И потом не останется ничего, кроме грубых скал и равнин нашего высокогорья с черными деревьями и красной травой да запаха бучу и сладкого черного чая в вечернем ветерке.
Я была тут — вот все, что я могу сказать о случившемся.
Поначалу я думала, что мало просто знать: нужно еще и понимать. Теперь я не уверена в этом. Разве довольно просто понимать, если не пытаешься изменить? Вот Галант и попытался. Но куда это его завело? Лишь голова его возвратится обратно в Хауд-ден-Бек.
Хауд-ден-Бек. Все эти годы мы думали, будто он отрезан от остального мира — место, укрытое и защищенное горами. Думали, что мы предоставлены здесь сами себе, что ничто не грозит нам извне. Но это было заблуждением. Как тот лев, который много лет назад появился у нас ниоткуда и нарушил нашу спокойную жизнь, все мы тоже явились сюда с нашим прошлым внутри нас и нашими мирами, прилепившимися к нам. И теперь из-под сени смерти мы все смотрим назад, в прошлое. И может быть, кто-то услышит, как мы взываем из темноты — голоса, перекликающиеся в огромной тишине, мы все тут вместе, но каждый навеки одинок. Мы говорим и говорим, бесконечная цепь голосов, все хором, но и все порознь, все разные, но и все одинаковые, и пусть отдельные звенья и окажутся ложью, но вся цепь — истина. И имя этой цепи — Хауд-ден-Бек, Заткни-Свою-Глотку.
Да, мы вглядываемся в прошлое, и я могу сказать, что видела, как это надвигалось издалека, через все годы и смены сезонов — солнца, и снега, и ветра. Да, я видела. Я понимала. Но разве этого довольно?
Нет. Страдая от боли, которая осталась после всего, чему я была свидетелем, я знаю, что это не ответ. Все зависит от того, как ты понимаешь, и от того, как ты приходишь к пониманию. Важно не просто понимать разумом, а пережить все это. Ни от чего не уклоняться. Не судить. Страдать, не считая, что твоя боль дает тебе право на что бы то ни было. Жалеть. Любить. Не отказываться от надежды. Быть тут — вот что важно. Все мы человеческие создания, и я сострадаю всем, потому что я всем мать.
Меня зовут мама Роза.
Я была тут.
Дю Той
Я полагал, что понимаю происходящее. Я делал то, чего от меня ожидали, спокойно и трезво оценивая здешние многочисленные происшествия. За пределами страстей и ужасов нашей личной вовлеченности располагалось нечто крошечное и ничтожное, то, что казалось непреложным фактом. Но теперь, ознакомившись с их версиями, я смущен неопределенностью истины. Где она прячется? Во всех тех утверждениях и опровержениях, в этом проступающем рисунке, или где-то в бешеных и безнадежных попытках нащупать исходное действие, предшествующее слову? Выявляется ли она в бесконечной литании повторов или же истина невыразима? Может ли девственность быть провозглашена иначе, чем в акте насилия, и невинность утверждена иначе, чем в ее порче? Но если столь рискованна даже сама попытка постичь истину, то как найти путь к законности, орудием и вершителем которой, предполагается, я должен быть?
Законность: слово проникновенное и страстное, как та безликая обнаженная женщина, которой я жажду и которой никогда не буду обладать, покорно отдающаяся мне в моих безудержных мечтаниях — огонь, в который я мог бы войти и утонуть, — и навеки недостижимая из-за постыдной Каиновой печати, которую я ношу на лице. Слово столь же отвратительное и визгливое, как свинья, которую держат рабы, чтобы на короткое время пригасить иное обжигающее меня пламя. Свинья-женщина, вызывающая отвращение, и любимая, утверждающая низменную потребность, врожденную неполноценность; девушка-свинья, унизительная, смешная и необходимая. Законность: я избираю тебя и вступаю с тобой в брак, хотя и допускаю, что стоит оказаться с тобой лицом к лицу, как женщина неизбежно превратится в свинью.
Итак, факты. Во вторник утром, второго февраля, старик Дальре и Баренд ван дер Мерве прибыли ко мне на ферму в Вагендрифт с сообщением, что на ферме Николаса ван дер Мерве совершено убийство. С их помощью я немедленно созвал всех, кого мог, после чего повел отряд — дюжину мужчин — к Хауд-ден-Беку.
Прибыв туда, мы обнаружили вышеназванного Николаса ван дер Мерве, а также Ханса Янсена и учителя лежащими мертвыми на полу — Ван дер Мерве возле передней двери дома, а двоих остальных на кухне. Мы немедленно обследовали тела и обнаружили у Ван дер Мерве три раны, в плечо, в голову и в правый глаз, но глаз был лишь оцарапан. На теле Ферлее мы обнаружили рану в левой руке, вторую — в левом боку и третью, сквозную — в левом бедре. Левая рука была почти полностью раздроблена. Вдобавок он получил рану в живот. На теле Янсена мы обнаружили рану на правой стороне груди и еще одну в левом боку, но были ли они вызваны одним выстрелом или двумя, я не могу сказать.
Жена Ван дер Мерве была также ранена и лежала на кровати в своей спальне, рана была в нижней части живота, и Сесилия ван дер Мерве не позволила нам обследовать ее.
На заднем дворе мы обнаружили молодую женщину Марту Ферлее, сидевшую на траве, подтянув колени к подбородку и уставясь вдаль; ее ребенок, завернутый в одеяло, лежал рядом и плакал, но она не обращала на него внимания. Она, казалось, не замечала нашего присутствия и в ответ на наши вопросы лишь качала головой. Дар речи она обрела лишь после того, как мы доставили ее на ферму Лагенфлей и отдали на попечение старой миссис Алиде, но даже и тогда она была не в состоянии сообщить хоть что-то вразумительное о том, что произошло.
Неподалеку от дома мы обнаружили двух престарелых рабов покойного Николаса ван дер Мерве Ахилла и Онтонга и женщину-готтентотку по имени Бет, которая ухаживала за раненой хозяйкой дома и успокаивала трех маленьких девочек, которых мы нашли сидящими прижавшись друг к другу на чердаке.
После краткого обследования места преступления мы поскакали к ферме Баренда ван дер Мерве, но, не найдя там никого, последовали дальше в горы, где на расстоянии трех четвертей часа пути от фермы, на пастбище старого Пита ван дер Мерве, увидели убийц, которые немедленно вскочили на лошадей. Двое из моего отряда выстрелили в них, и они тоже произвели несколько ответных выстрелов, но без жертв и ранений с обеих сторон. Я видел, как Галант повернул назад свою лошадь, остановился и выстрелил. Его выделяло то, что к шляпе у него была привязана кровавая тряпка и на нем были башмаки, вероятно снятые с убитого хозяина, которого мы обнаружили босым.
Слуги и рабы старого Пита ван дер Мерве немедленно подошли к нам, чтобы сдаться, заявив, что они не имеют ничего общего с убийцами. Старик по имени Мозес привел нас в свою хижину, где мы увидели Эстер ван дер Мерве с двумя маленькими сыновьями под охраной молодого раба Голиафа, который, похоже, помог ей скрыться предыдущей ночью. Она была возвращена супругу, и, хотя она без особой радости встретилась с ним, они вместе отправились к себе домой, в то время как остальные члены отряда продолжили преследование преступников.
В краале для овец мы нашли лошадь, которая, как нам сообщили, принадлежала Клаасу, скрывшемуся пешим. Слуга Янсена Хендрик был сброшен лошадью и вскоре обнаружен среди скал, где он, подобно Клаасу, валялся в состоянии опьянения.
В тот же вечер молодой парень Рой был арестован неподалеку от пастбища. Абеля схватили на следующий день, когда он пытался убежать через горы по направлению к Тульбаху.
Я немедленно предпринял предварительный допрос четырех арестованных. Все они сообщили о подстрекательстве Галанта и ссылались на то, что рабам уже давно обещали свободу, но, поскольку этого не произошло, они чувствовали, что у них нет другого выхода, как самим добыть свободу. На основании их показаний я составил подробный отчет, который отправил вместе с арестованными в Особую коллегию. Впоследствии мне сообщили, что ланддрост принял арестованных в Гоудини, откуда переправил их в Ворчестер.
Остальные обвиняемые были задержаны в течение последующих двух недель. Первоначально Ахилл и Онтонг были оставлены на свободе, но после того, как в их хижинах была обнаружена одежда, принадлежащая их покойному хозяину, я отдал приказ арестовать и их тоже. Рабыня Памела была задержана шесть дней спустя, когда ее привел обратно на ферму голод, так как она во время своего бегства в горы взяла лишь небольшой ломоть хлеба. Сам Галант был схвачен лишь на тринадцатый день, вскоре после того, как люди из моего отряда напали на след его и Тейса в горах. Тейс оказал сопротивление, и его пришлось усмирить силой. Но когда Галант в конце концов сдался в плен, он сделал это добровольно. В то время мы расположились лагерем в горах над Хауд-ден-Беком, и не исключено, что Галант, если бы захотел, мог под покровом темноты убить многих из нас, однако он спустился к нам безоружным и с поднятыми руками. Он шел босиком, с башмаками своего покойного хозяина, связанными шнурками и перекинутыми через плечо. Вначале мы решили, что у него кончились патроны, но в ответ на наши расспросы он привел нас к тайнику в нескольких сотнях ярдов, где у него были спрятаны ружье и кожаная сумка, полная пуль и пороха.
Мне пришлось сдерживать своих людей, чтобы они не нанесли ему тяжелых увечий, поскольку они были в ярости из-за убийств, в которых он был повинен, и из-за того, что им столько дней пришлось выслеживать его в этой трудной местности; связав ему руки и ноги, я решил, что будет самым разумным отослать всех остальных домой. Галант и я проследовали через Боккефельд и вниз к Тульбаху в одиночестве, я на лошади, он пешком. Из-за ушибов, которые он получил во время ареста, мы двигались очень медленно. Но в определенном смысле время уже не имело особого значения. То, что произошло, относилось к прошлому, а то, чему еще предстояло свершиться, хотя и было предсказуемым, но имело отношение ко времени и к месту, до которых мы еще не добрались. То был период межвременья — состояния, в котором мы были подотчетны лишь друг другу.
Этот человек вызывал во мне любопытство. Я пытался прощупать его, но он держался очень замкнуто. Он вовсе не казался угрюмым или озлобленным, и я не думаю, что он намеренно утаивал что-то от меня, пожалуй, дело тут было даже не в нашем непонимании друг друга. Просто он производил впечатление человека, находящегося в мире с самим собой и со всем окружающим. Он не высказывал никаких жалоб по поводу тягот нашего путешествия. Он, похоже, даже не испытывал потребности разговаривать, а когда говорил, то ограничивался краткими ответами общего характера.
Или, может быть, в этом безысходном положении, без надежды на оправдание, за пределами нашей обычной жизни с ее понятиями о добре и зле, только повседневные мелочи и имеют право на существование?
Я делал многочисленные попытки втянуть его в разговор, выудить из него осмысленные ответы на мои вопросы.
— Галант, — спрашивал я, — почему ты это сделал? Зачем совершил это ужасное преступление?
В ответ он глядел на меня с поразительной кротостью, словно мой вопрос казался ему совершенно излишним.
— Чтобы быть свободным, — говорил он.
— Но зачем доходить до таких крайностей?
— А что еще мне оставалось делать?
— Несомненно, было еще много иных возможностей, которые ты мог попытаться осуществить.
— Я пытался.
— Но убийство!
— Мы убиваем ежедневно в сердце своем.
— Но ты же вырос вместе с Николасом. Он был твоим другом. Тебе не кажется, что просто немыслимо совершить такое?
— Пока не совершишь, это кажется трудным. Затем ты делаешь, и это сделано. Это похоже на рытье земли, или собирание хвороста, или укрощение лошади. Когда ты мальчик, ты думаешь, что тебе никогда ничего не удастся с женщиной. Потом ты делаешь это, и все становится просто.
Насмехались ли его глаза надо мной? Я чувствовал, как мое лицо горит от ярости и стыда.
Но я продолжал настаивать:
— Когда делаешь это с женщиной, появляются дети. Но убийством ты не добился ничего. Кроме новых смертей.
Он пожал плечами.
— Неужели ты не испытываешь ужаса от всего этого, — спросил я, — теперь, когда все позади?
— Это не позади. И никогда не будет позади.
— Ты проиграл. Все кончилось поражением.
— Тут нет никакого поражения, — спокойно сказал он. — Просто сейчас вы сильнее, вот и все.
— Мы всегда будем сильнее.
— То, что вы сильны, еще не значит, что вы правы, — ответил он.
Я начал сердиться.
— Ты думаешь, что право было на твоей стороне, когда ты заполнил дом мертвецами?
— В этом не было ни правоты, ни неправоты, — сказал он. — Тут было только убийство, дело, которое нужно было сделать. Если и есть какая-то правота, то она будет для других, когда-нибудь. — И чуть тише добавил: — Может быть.
— А какая тебе от того польза? — спросил я. — У тебя даже нет детей, которые переживут тебя.
— Может, будет и ребенок, — сказал он.
— Где? Откуда?
Он улыбнулся и потупился, не дав себе труда ответить.
— Тут нет ничего, кроме развалин и опустошения, — настаивал я.
Если бы я мог взять его за плечи, потрясти, чтобы вбить в него нечто разумное.
— Всегда есть дети, — сказал он, не глядя на меня. — Нас могут топтать. Нас могут развеивать по ветру. Нас могут сметать как мякину. Но все это не имеет значения. Пшеница остается. Зерно. Хлеб. Дети.
Он, должно быть, свихнулся, подумал я, из-за всего того, что совершил; я не находил смысла в его словах, да и его молчание озадачивало меня.
По мере того как мы продвигались вперед, такие разговоры случались все реже и реже.
— Неужели ты не испытываешь угрызений совести? — спросил я его в последнюю ночь перед прибытием на место. — Неужели ты действительно так сильно ненавидел Николаса?
Он взглянул на меня, словно мой вопрос удивил его.
— Я вовсе его не ненавидел, — ответил он.
— Но ты хладнокровно убил его.
— Я его любил, — сказал он. — Поэтому мне пришлось убить его.
— Ты просто не в своем уме.
— Я любил его. — Впервые в его голосе вдруг послышался напор, словно ему было важно, чтобы я понял (но что? не приписываю ли я ему мои собственные путаные мысли?). — Он вырос вместе со мной. Мама Роза была нашей матерью. Мы всегда были вместе. Потом он отвернулся от меня. Он был уже не Николасом, а человеком, которого я не знал. Человеком, который стал чужим самому себе. Я должен был освободить его от этого чужого человека. Я должен был убить в нем белого, чтобы опять превратить его в друга. Того самого Николаса.
— По-моему, ты сам не понимаешь, что говоришь.
Он некоторое время пристально смотрел на меня. Его глаза горели как угольки. Он, должно быть, не спал уже много ночей. Но он ничего не ответил мне.
— Наше путешествие скоро закончится, — сказал я, движимый непонятным желанием успокоить его. — Завтра мы будем в Ворчестере, а оттуда тебя отвезут в Кейптаун.
— Да, — сказал он. — Наконец-то я попаду в Кейп.
— Но ты же был там, — сказал я, — в прошлом году, когда сбежал с фермы.
Он промолчал.
— Почему ты тогда вернулся?
— Я должен был вернуться.
— Как же ты был глуп, Галант! — вскричал я, выведенный наконец из себя.
— Кто ты такой, чтобы говорить мне это? — сказал он. — Ты спишь со свиньями.
В ярости я схватил сук и ударил его по лицу. Тонкая темная струйка крови потекла из его левого глаза по щеке. Он не сделал попытки смахнуть ее связанными руками. Мне поневоле стало стыдно.
— Прости меня, — пробормотал я. — Но ты не имеешь права издеваться надо мной.
— Мои руки осквернены, — сказал он. — Но и ваши тоже. Мы равны. И все же именно вы ведете меня в суд, чтобы они убили меня. Вот она, ваша законность.
— Тут большая разница, — горячо возразил я, — между убийством и… — Я запнулся.
Он только пожал плечами.
То был наш последний разговор.
Потом уже все шло своим чередом. И сейчас, когда все позади, когда истина установлена и правосудие свершилось, когда одни казнены и другие посажены в тюрьму, мы можем идти по домам, неся единственную ношу — бремя истории.
Мне больше нечего добавить. Это все правда, только правда, и ничего, кроме правды, и иначе быть не может.
Тейс
И тогда Галант влепил мне затрещину, от которой я сел на задницу.
— Я-то думал, что могу положиться на тебя, — сказал он. — Ну что ж, если ты наделал в штаны от страха, можешь проваливать.
Вот это и убедило меня идти с ним.
Пока мы говорили о том, что должно произойти, я был на его стороне. И только в ту ночь, когда мы наконец услышали, как лошадь Абеля приближается к хижинам, я вдруг испугался. Неожиданно я понял, что разговоры кончились — нас ждало настоящее дело. Вот почему я сказал:
— Ты и вправду уверен, что мы сумеем сделать это? Ведь мы разожжем огонь. А огонь обжигает.
— Что ты знаешь про огонь? — спросил Галант. — Нужно сначала обжечься.
— Тогда будет слишком поздно.
Тут он и дал мне оплеуху, а Абель плюнул в меня. И только много времени спустя, когда огонь уже угас, когда я вернулся из Кару и отыскал Галанта в горах и отряд настиг нас — я причинил им немало неприятностей, прежде чем они наконец отобрали мое ружье и избили меня, — я снова заговорил с ним про это; но к тому времени он сильно изменился. Действительно ли такой огонь чего-то стоит, спросил я его, если он просто сгорает сам по себе?
— Ты ошибаешься, принимая пламя за огонь, — ответил он, не глядя на меня, в те последние дни он всегда смотрел либо мимо, либо будто сквозь тебя. — То, что ты видишь, — это внешнее. Настоящий огонь другой. Он внутри, и он темный, как сердцевина у пламени свечи.
Не знаю точно, отчего он так переменился. Это случилось еще до того, как я вернулся из Кару, куда убежал с пастбища, где нас настигли после убийства. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что перемена произошла в ту ночь, когда мы возвращались с фермы бааса Баренда. Он заставлял нас идти вперед, но уже в то время, мне кажется, он изменился. Может быть, это и была та темнота внутри пламени, о которой он говорил? В самом начале, перед тем как мы выехали из Хауд-ден-Бека, он сцепился с Абелем, который настаивал на том, чтобы отправиться в Лагенфлей и начать со старого бааса Пита. Но Галант и слышать об этом не хотел.
— Оставим старика в покое, — сказал он. — Он уже и так умирает у себя в постели, он тут ни при чем.
— Но он их отец, — возразил Абель. — Это он породил и вырастил их.
— В его времена все было по-другому, — сказал Галант. — Он ничего в этом во всем не понимает. С ним ты всегда знал, что хорошо и что плохо, он, может, и тяжелый человек, но сердце у него доброе. Наша война не против него.
— Не знал я раньше, что ты такой слабак, — сказал Абель.
— Вынимай нож, и посмотрим, кто из нас слабак.
И мы подчинились ему. Да, конечно, он отличался от Абеля, но я сейчас говорю не про это. Решимости и у него, и у нас было достаточно. Но к тому времени, когда мы скакали обратно из Эландсфонтейна и та самая другая темнота уже была в нем, вот она-то и отличала его от нас. Может быть, то была темнота, из которой рождается свет? Так Птица-Молния мамы Розы сидит, высиживая яйца в муравейнике, и ты видишь лишь ее горящие глаза. А потом, в горах, он изменился еще больше. Я-то знаю, ведь мы много говорили в те последние дни.
— Все белые сейчас собираются вместе, — сказал я ему. — Но им никогда не найти нас тут, в горах. Мы можем по ночам нападать на фермы по очереди, пока во всем Боккефельде не останется ни одного бааса.
— Думаешь, тогда мы станем свободными?
— Ты сам так говорил.
— Да, Тейс, должно быть, именно так я и говорил.
— Так что же с тобой теперь? Жалеешь, что убил бааса Николаса?
— Я ни о чем не жалею. Я должен был это сделать. Но это ничего не изменило.
— Галант, я в самом деле не понимаю тебя.
— Не понимаешь и не поймешь. — Он долго глядел на меня и лишь потом добавил: — Тейс, ты еще мальчик. Будет гораздо лучше, если ты сам им сдашься: тогда у тебя останется хоть какая-то надежда на спасение.
— Я не мальчик. — Я чувствовал себя обиженным и униженным. — В ту ночь, когда мы выступали, ты сказал, что я наделал в штаны от страха. Разве я не показал тебе, на что способен? Я все время оставался с тобой. Ведь именно я вернул бааса Янсена, когда он пытался удрать на лошади. Это я взломал дверь в доме бааса Баренда. Это я помог тебе отобрать ружье у хозяйки. А когда эта женщина и дети пытались спрятаться на чердаке, я поднялся туда со своей саблей и заставил их спуститься вниз…
— Я знаю, Тейс. Ты действовал как настоящий мужчина. Но этого еще недостаточно.
Его слова пугали меня. И в конце концов я оставил его в покое и больше не пытался понять его. Он хотел остановить меня, когда мы увидели, как к нам поднимается отряд, но я бросился им навстречу, несясь на лошади по склону горы и стреляя в них. Когда тебе остается только смерть, ты вкладываешь в нее всего себя. Скакать прямо на них, на их ружья — вот все, что я понимал про свободу, о которой мы говорили так много. Для меня все было кончено. Мне некуда было возвращаться, я мог лишь идти вперед, все глубже и глубже в огонь вельда. Это было странное ощущение, так чувствуешь себя, когда напиваешься допьяна, — так я чувствовал себя в ту первую ночь, когда мы отправились с нашей фермы.
В ту ночь, когда Абель появился с лошадьми из Эландсфонтейна, Галант спросил:
— Все готовы? Время разговоров прошло. Теперь — война.
И я поскакал вместе с ними во тьму. Копыта лошадей грохотали в ночной тиши. Ударяя о камни, они высекали искры, взлетавшие, подобно стайке жуков-светляков. Пусть они подожгут красную траву, думал я. Пусть весь мир займется пожаром. Мы идем!
Эстер
Было то время месяца, когда желание иссушает меня огнем. И все же я сопротивлялась Баренду, когда он хотел взять меня: я противилась ему, зная, что его близость, успокоив меня, утвердит мое подчинение ему, а это для меня унижение куда более мучительное и невыносимое, чем физическое страдание. К тому же он почему-то вдруг не захотел погасить свет. В желтом свете лампы, нависшем над нами, словно тяжелая туча пыли, мы метались в отчаянной борьбе по кровати, а когда он сорвал с меня ночную рубашку, я заметила, как наши тени гротескно мечутся на пустых стенах и потолке. Насильно, как то бывало уже не раз, он взял меня, но, когда я почувствовала, что он близок к пределу, мне удалось освободиться от него — вскрик ярости, пощечина, горящая кожа. Ребенок захныкал во сне — звук, который слышишь не ушами, а нутром. Раздраженный и подавленный, Баренд отвернулся от меня и заснул. Поражение и победа — сами по себе понятия относительные. Значение имело лишь то, что мой бунт неизбежен, иначе мое подчинение стало бы столь же порочным, как и его постоянное утверждение мужской силы.
Тяжелое тело ночи обрушилось на дом после того, как погасили лампу. От запаха керосина щипало ноздри. Ставни закрыты; огромный мир снаружи недосягаем, а мы томимся в этой давящей духоте: Баренд — в тупом забвении, а я — лежа без сна на спине и неподвижно глядя в потолок, каждый мускул тела напряжен от желания и ненависти, сцепленные пальцы прижаты ко рту. Пока наконец в какой-то безымянный час я не услышала, как из крааля вырвались овцы и залаяли собаки.
Клаас
Истина в Библии, а вокруг нас одна ложь. Я вправе сказать только то, что знаю. Я уговорился с Абелем, что, вернувшись из Хауд-ден-Бека с остальными, он три раза крикнет филином, а после этого я выпущу овец из крааля, чтобы выманить бааса во двор, где мы его и захватим.
Я ждал крика филина. Уже наступили сумерки, баас совершал последний обход двора, высматривая, что недоделано и что сделано плохо, а хозяйка то выходила из дома через заднюю дверь, то снова входила, чтобы привести детей, и тут я вдруг почувствовал, как у меня сжалось сердце. Еще немного, подумал я, и он исчезнет навсегда. Тогда я направлюсь к этой женщине, чтобы отомстить ей и за ту давнюю порку, и за недавнее избиение, которое она учинила потому, что была виновата в истории с Галантом. Она станет податливой в моих руках. Она закричит, когда я возьму ее. Все эти годы мне приходилось унижаться перед ней. Теперь наконец пришло время доказать ей, что я не просто раб, но и мужчина. Я научу ее говорить «пожалуйста». А потом я брошу ее следующему, как старую, изношенную тряпку.
Ставни закрыли на ночь. После того как Сари вымыла им ноги и убрала посуду после ужина, она вышла из кухни, и двери тоже заперли. Все во дворе затихло. Было слышно, как в сарае тихо жуют свою жвачку коровы. Я ждал, когда закричит филин.
Но потом все пошло наперекосяк. Прежде чем я понял, что случилось, овцы сами по себе вырвались из крааля. Мои попытки остановить их привели лишь к тому, что они разбушевались еще больше — все стадо устремилось из крааля в свете луны, собаки залаяли как сумасшедшие.
Я услышал, как отодвигаются задвижки на кухонном окне. Баас Баренд высунулся наружу и крикнул:
— Что тут, черт побери, происходит, Клаас?
Не успел я ему ответить, как меня окружили наши люди на лошадях. С перепугу я их даже не заметил.
— Помоги мне, — сказал я Абелю. — Эти чертовы овцы вырвались из крааля. Нужно загнать их обратно.
— Но ведь об этом мы и договаривались, — ответил он.
— Не спорь со мной, приятель. Ведь их выпустил не я. Они вырвались сами. Ради бога, помоги мне загнать их!
Только потом мне вдруг пришло в голову, как это было нелепо, но в тот миг я был слишком взвинчен, чтобы правильно соображать. Я думал лишь о том, что все пошло как-то не так и нужно загнать овец в крааль. Баас уже шел через двор, когда я увидел, как Абель и Галант влезли в окно кухни — то были именно они, остальные стояли возле меня — и исчезли в доме.
Затем я услышал, как баас кричит из сарая:
— Клаас, проклятый ублюдок, почему собаки так разбушевались?
— У меня гости, баас, — заикаясь, проговорил я.
В доме, должно быть, зажгли лампу, потому что в окне кухни вдруг появился отблеск света, и тут Абель и Галант выпрыгнули из окна с ружьями в руках.
— Баас… — начал я, но они уже выстрелили, он споткнулся, как раненый заяц, и упал. На мгновенье я решил, что он убит, но выстрелом ему лишь царапнуло пятку. Он подполз ко мне на четвереньках в белой развевающейся ночной рубахе и вцепился в меня: но не в ярости, а в страхе.
— Помоги мне, Клаас! — закричал он. — Ради бога, помоги мне! Клаас, я дам тебе все, что ты попросишь. Я же всегда был добр к тебе. Пожалуйста, помоги мне!
Никогда не ожидал, что увижу такое. Человек, столь сурово управлявший нами, теперь хнычет и виляет хвостом, как напуганный пес. Я был так поражен — в этот момент со стороны дома к нам подбежали Галант и Абель, готовые пристрелить нас обоих, — что мог лишь пробормотать:
— Но, баас, у меня же нет ружья. Как я помогу вам?
Не думаю, что он услышал меня. Увидев их с ружьями, он отпустил меня и побежал, обогнув сарай, обратно к дому.
— Слушай-ка, Клаас, — мрачно сказал Галант, — если ты станешь помогать Баренду, я пристрелю тебя из этого вот ружья.
Мы побежали обратно к дому, но в тот миг, когда мы завернули за угол, дверь захлопнулась. Тейс бежал впереди; найдя где-то лопату, он принялся колотить ею в дверь. Дверь тряслась под ударами, и вскоре мы услыхали звук расщепившегося дерева.
— Готово! — закричал Галант.
Но тут мы увидели, как баас, все еще в ночной рубахе, выбежал через заднюю дверь и помчался к айвовой изгороди. Абель бросился за ним, прицелился и выстрелил — но баас лишь слегка подпрыгнул от страха и побежал дальше. Галант тоже выстрелил, но ружье дало осечку — вот так баас Баренд и удрал в горы. Тейс рвался в погоню, но Абель удержал его.
— Займемся для начала домом, — сказал он.
Охваченные новым приступом безумия, мы ворвались в дом. Сколько раз я уже бывал тут прежде, покорно держа шапку в руках — Да, баас. Хорошо, ной, — а теперь вдруг весь дом был наш. Мы принялись крушить все, что попадалось под руку: столы, стулья, буфеты, полки. Разодрали подушки и раскидали перья по всем комнатам. Абель нашел кувшин с бренди и пустил его по кругу. Это было похоже на новогоднее пиршество. Одежда и потное лицо малыша Роя были так облеплены перьями, что виднелись только его горящие глаза.
Чуть погодя я снова вспомнил об этой женщине. Теперь самое время повидаться с ней, кровь у меня разгорячилась. Я отправился на поиски, но ее нигде не было. Я разворошил и перевернул кровать, думая, что, может, женщина в страхе прячется под матрасом, но и тут ее не было. От отвращения я вылил содержимое ночного горшка на кучу скомканных простыней и одеял.
— Что ты тут делаешь? — спросили люди у меня за спиной.
— Ищу эту женщину.
— Она уже давно выбежала через переднюю дверь, — сказал мне один. — Галант приказал Сари увести отсюда детей.
— А где сам Галант?
— Давай-ка выпей еще, — сказал Абель и сунул мне в руки кувшин.
Я основательно приложился. Остальные шумной толпой вернулись в большую комнату, а я остался в спальне у большой деревянной кровати, разбитой на куски. Голова у меня кружилась. Все вокруг казалось нереальным. Я стоял, глядя на разорение в комнате, и ужасное оцепенение понемногу сковывало меня. Баас удрал, думал я, и ной тоже. Совсем скоро они вернутся обратно вместе с соседями, чтобы отомстить за разгромленный дом. Я ведь должен был догадаться еще тогда, когда овцы вырвались из крааля. Нам всем уже крышка, а они до того глупы, что продолжают пить и крушить дом.
Спотыкаясь, я добрел до двери и начал орать на них в ярости и страхе, но никто меня не слушал. Теперь в любой миг, через час, через минуту, всадники стремительно налетят из-за холмов.
— Что это с тобой? — вдруг спросил Абель, взяв меня за плечи и встряхнув. — Ты похож на саму смерть.
— Нам нужно поскорее убираться отсюда.
— Почему?
— Не понимаешь? Они же все убежали. Даже эта женщина.
И тут я вдруг с удивлением увидел ее, стоявшую в темноте возле разбитой передней двери. Я уставился на нее. Я задрожал, но сдержал волнение. На ней была ночная рубашка, вся разодранная. Я пошел к ней как во сне.
— Не тронь ее! — неожиданно услышал я приказ Галанта, который появился позади нее.
— Верно, — сказал Абель. — Мы воюем против мужчин. Пусть уходит.
— Мне нужен человек, чтобы отвести ее в безопасное место, — сказал Галант. — Через горы, на пастбище старого бааса Пита, к Мозесу и остальным.
— Клаас! — сказала женщина, но голос ее прозвучал не очень уверенно.
— Да, хозяйка, — ответил я, думая о долгой дороге ночью через горы. Там никого не будет поблизости. Но я думал и об отряде, который, несомненно, явится сюда для возмездия: если я смогу увести ее, меня не будет среди жертв. Они, может быть, даже отблагодарят меня за это.
— Я отведу ее, — сказал я поспешно. — Я знаю дорогу.
Галант уставился на меня. Что смотришь? — думал я. — Что ты такое видишь во мне?
— Я отведу ее, — настойчиво повторил я.
— Где Голиаф? — спросил Галант.
— Я хочу остаться тут, — взмолился Голиаф. — Я хочу быть с тобой.
— Ты слышал, что я сказал! — раздраженно оборвал его Галант. — Голиаф, ты уведешь ее отсюда через горы на пастбище к Мозесу. Позаботься, чтобы она была в безопасности. Присматривай за ней, пока мы не вернемся. Ты за нее отвечаешь.
— Но… — Голиаф, казалось, готов был расплакаться.
— Позволь мне увести эту женщину, — настаивал я.
— Я посылаю Голиафа! — закричал Галант. А когда Голиаф исчез в темноте с женщиной, Галант обернулся к нам. Отпихнув с дороги сломанный стул, он зарычал на нас: — И это все, о чем вы можете думать? Это и есть ваша свобода — крушить, пить и препираться?
Понурив головы, мы последовали за ним туда, где Рой держал наших лошадей. Галант приказал мне сесть на лошадь бааса Баренда и ехать рядом с ним, словно он прочел мои тайные мысли и хотел знать наверняка, что я не сбегу по дороге.
Я продолжал думать о женщине, идущей по горам в разодранной ночной рубашке. Это походило на утреннее пробуждение после сильной ночной попойки. Если ты знаешь, что произойдет с тобой чуть позднее, то уже заранее испытываешь это.
Голиаф
С того самого дня, как я поддался на уговоры и пошел жаловаться, меня словно пришибло. Тут у нас есть некоторые, которым плевать на побои и порки, но я не из таких. И это житья мне не давало. Не баас, а мой страх перед ним, моя боязнь боли. В тот вечер, когда я увидал, что даже Абель боится поднять на него руку, я испугался еще больше. И когда я узнал, что мы начинаем бунт, мне показалось, словно мне дали еще одну возможность. Я должен убить даже не хозяев, а свой страх. В этом огромном огне, думал я тогда, мой страх перегорит, и я стану новым человеком.
Для того чтобы избавиться от этого гнета, придется сделать нечто такое, о чем невозможно даже подумать: придется убить, обагрить свои руки кровью. Готовя себя к этому, я давился ужасом, который застрял у меня в горле, как сухая корка хлеба, пока мы носились по дому бааса Баренда, круша все, что попадалось нам под руку. После бренди стало легче. Я пытался накачать себя до состояния, в котором смогу сделать то, чего более всего страшился. Свобода, казалось, была совсем близко.
И тут появился Галант и приказал мне отвести эту женщину через горы к старому Мозесу и позаботиться о ее безопасности.
Этого мне вовсе не хотелось. Я знал, что, если он отнимет у меня эту возможность — убийством расчистить себе путь к свободе, у меня уже больше никогда не хватит решимости отбросить страх, который столько времени сковывал меня. Но он приказал отвести женщину в безопасное место, и у меня не было выбора.
По дороге мы не произнесли ни слова. Я знал, что потерял свою единственную и последнюю возможность. Теперь другие, может, и станут свободными, а я нет. И обида на Галанта, которую я испытывал тогда, была самым яростным и горьким чувством за всю мою жизнь.
И только потом, когда все были арестованы и увезены в Кейптаун, я начал с удивлением спрашивать себя, не понимал ли меня Галант куда лучше, чем я сам. Неужто он уже тогда видел, что я просто ослеплен, что у меня никогда не хватит смелости выкорчевать из себя свой страх? Неужто он раньше всех остальных понял, что все это кончится поражением и казнью, неужто просто хотел уберечь меня от этого?
Из-за этой женщины. Но о ней я не могу говорить. Я не имею права говорить то, что знаю.
Платипас
В хижине мамы Розы, неподалеку от дома старого бааса Дальре, я прятался в ту ночь, когда их лошади проскакали мимо. Едва заслышав стук копыт, я заполз в угол под шкуры и тихо лежал, боясь шелохнуться. И слышал, как мама Роза говорила им:
— Нет, я ничего не знаю про Плати. Если он не у себя в хижине, значит, его вообще тут нет, вот и все.
Накануне ночью Кэмпфер повел меня в горы и показал связанного Долли. И велел мне сказать старому баасу, что они направляются прямо к ланддросту. Что сильно перепугало бааса Дальре.
— Если братья Ван дер Мерве услышат про это, особенно Баренд, — сказал он, — мне уже никогда не узнать, чем это кончится.
И приказал мне держать язык за зубами, пока ланддрост не решит дело.
И я тоже перепугался. Когда остальные явятся сюда за Долли и Кэмпфером, не обвинят ли они во всем меня? И что выйдет из их затеи без тех двоих? Целый день я бродил с этим страхом в душе. А когда солнце село, я спрятался у мамы Розы.
Да, верно, я обещал, что буду вместе с ними. Но я уже стар. Я вовсе не хотел обманывать их, но и не хотел умирать. Мне осталось не так много дней, и я хочу прожить их спокойно. Мне всегда хватало моего табака и моей кружки бренди или чая, солнечного лучика, чтобы прогреть мои старые кости, да порой ночи, проведенной в хижине мамы Розы. А это их безумие — оно не по мне.
Наконец я услышал, что лошади поскакали прочь.
Бет
Руки у меня были связаны. Только Онтонг и Ахилл остались тут, когда все остальные ускакали, чтобы разжечь пожар в Эландсфонтейне. Галант приказал Онтонгу приглядывать за мной, потому что не доверял мне. Но Онтонг вскоре сказал, что Лидия плохо себя чувствует, и ушел. Так же поступил и Ахилл.
— Бет, — неуверенно пробормотал он, стараясь не глядеть на меня, — теперь ты сама по себе. Делай то, что считаешь правильным.
Но руки у меня были связаны куда крепче, чем веревкой или ремнем. Это было похоже на то, как много лет назад наше племя готтентотов на восточной границе угодило в войну других людей — буров и племен коса. Неужто этому никогда не будет конца? Неужто человеку никогда не позволят просто жить собственной жизнью?
Через пустынный двор я прокралась к задней двери дома, надеясь, что у меня хватит смелости постучаться и крикнуть людям, спавшим внутри: «Ради бога, вставайте! Берегитесь, ведь сегодня сама смерть бродит босиком по Боккефельду». Но я не постучалась. Что за ремень связывал мне тогда руки? Конечно, это было что-то более сильное, чем просто обида за те случаи, когда я пыталась предупредить их, а они высмеивали и прогоняли меня.
Я повернула обратно. Но той ночью мне не было покоя. Я остановилась возле хижины, которую мы делили с Галантом, когда Давид был еще жив. Славные были времена: Галант так любил ребенка. И почему все должно было кончиться? Я вспомнила, как он оттолкнул меня, будто я носила в себе какую-то болезнь. Точно так же, как и баас. У двери хижины я задержалась, чтобы заглянуть в прошлое. Те дни в Брейнтихьюхте. Долгий путь в Кейп. Погибший ребенок. Растущая пустота. И вот теперь я тут, и руки у меня связаны. Куда пойдешь в такую ночь?
Я направилась по тропинке к хижине мамы Розы. Многие годы мы ходили по этой тропинке, чтобы просить ее помощи, когда уже ничто другое не помогало. Издалека я увидела, что у нее горит огонь, и по запаху поняла, что она варит травы. Я почувствовала облегчение, глядя, как она, несмотря ни на что, занимается своим делом. Но у нее был гость. Он показался мне похожим на старого Плати. Я пошла обратно. Но не только из-за него: просто я знала, что сейчас мне не помогут ни ее травы, ни ее рассказы и советы. В ту ночь я нуждалась в ином снадобье.
Запруда мерцала в свете луны, неясная пелена воды в темноте. За ней высились горы, их хребты чернели на фоне неба, подобно огромному спящему зверю.
И снова к кухонной двери. Прижавшись головой к гладкой древесине, я долго стояла, стараясь собраться с мыслями. И тут мне вдруг показалось, что я слышу в доме приглушенные голоса, а потом стон женщины. Памела. А с нею баас.
Когда я преследовала тебя, умоляя притушить пожар, который ты сам разжег, убив моего сына, ты оттолкнул меня. Но ты не задумываясь взял ее и насадил в ее лоно белых детей. И потому ты умрешь как грязный пес — ведь ты и есть грязный пес!
И опять к хижинам. Обернувшись, я увидела падающую звезду, прочертившую белый след над домом.
Я не могла больше оставаться одна. Дыхание обжигало мне горло. Я пошла в хижину Ахилла и легла с ним, просто чтобы рядом был живой человек. Потому что я не знала, что делать, и руки у меня были связаны.
Глубокой ночью я услышала приближающийся стук копыт — они возвращались.
Долли
Этот проклятый ублюдок Кэмпфер надул меня. И как меня угораздило поверить этому дерьму? Просто потому, что он работал вместе с нами? Черт подери! Ведь он же белый. А они все заодно.
Когда он заковал меня в цепи, я сказал ему:
— Почему ты просто не удрал, если так боишься? Зачем ты увел меня с собой, мерзавец?
— Ради твоего собственного блага, — ответил он, из чего я понял, что он сошел с ума. — То, что задумал Галант, кончится поражением. Я удержал тебя в стороне от этого. Ты еще скажешь мне спасибо.
— Я никогда никому не скажу спасибо за цепи.
— Потерпи, пока мы не доберемся до Ворчестера. А там я развяжу тебе руки.
— И тогда я сдавлю ими твою цыплячью глотку. И разорву тебя к чертям собачьим в клочья.
Но он не снял с меня цепей. Не моргнув глазом наврал ланддросту, что я сбежал и он поймал меня. А это означало «кошку-девятихвостку» и год в цепях.
— Год — лучше, чем виселица, — сказал мне Кэмпфер. — Если бы я оставил тебя с Галантом и с остальными, тебя бы повесили.
— Если бы ты оставил меня там, наш пожар не погасили бы так легко. Но год пройдет быстро, — сказал я ему. — И тогда я приду за тобой. Куда бы ты ни спрятался, от Кейпа до Великой реки, я изловлю тебя. Тебе не будет покоя ни днем, ни ночью. Раньше или позже я отыщу твой след и пойду по нему. А если я не успею настичь тебя, это сделают мои дети. В тот день, когда ты солгал мне, ты зажег во мне пламя, и оно будет гореть до тех пор, пока весь вельд не сгорит дотла, а вместе с ним и ты.
Онтонг
Долго тянулась та ночь, когда они вернулись из Эландсфонтейна. Тогда все и решилось окончательно. Не в безумии, резне и сумятице следующего дня и не потом, когда убитых увезли в фургоне, чтобы похоронить, а в ту ночь, пока мы сидели в хижине Галанта.
Наутро, когда хозяева укрылись в доме, затворив все двери и окна, я помешал Галанту поджечь дом (он действовал в каком-то исступлении, словно и сам не сознавал, что творит, словно его и не было тут с нами, а когда я заговорил с ним, он казался вроде бы даже удивленным, точно я обвинил его в чем-то таком, о чем он и не догадывался), нехорошо, сказал я ему, сжигать женщину и детей и уничтожать все, когда мы можем поступить иначе. Но моих слов оказалось недостаточно. В нем бушевало какое-то другое пламя, которое мне следовало погасить в ту ночь, а я этого не сделал. И позволил этому человеку, который, возможно, был моим сыном — откуда мне знать это? — сжечь себя дотла. Галант, сын мой, рожденный из лона девушки Лейс, которую я познал.
Они вернулись утомленные, словно после буйной попойки, и с горьким привкусом похмелья во рту. Галант был очень спокоен. Абель сжимал кулаки. Хендрик опустил голову, будто его уличили в чем-то дурном. Тейс угрожающе размахивал саблей, как ребенок, сбивающий палкой головки цветов. Клаас был мрачен. Рой, точно во сне, еле передвигал ноги. Все сидели возле очага. И никто не говорил ни слова.
Наконец Ахилл, стараясь казаться равнодушным, спросил:
— Ну что, убили бааса Баренда?
— Нет, — ответил Абель, — он удрал в горы.
— Значит, вы плохо сделали свое дело.
— Не беспокойся, мы изловим его утром.
— Может, и хорошо, что ему удалось удрать, — сказала Бет, стоявшая в стороне возле двери. — Зато не свершилось зло.
— А ты-то что в этом смыслишь? — накинулся на нее Галант.
— Уж коли решились на такое дело, — продолжал Ахилл, — то делайте его хорошо или не делайте совсем. Упустив бааса Баренда, вы сделали самое худшее. Теперь все пропало.
— Заткнись! — заорал Абель. — Или ты хочешь, чтобы мы взялись за тебя?
Галант втиснулся между ними, чтобы помешать драке.
— Не надо, Абель. Пусть выскажет все, что хочет.
— Сам же сказал, когда мы уезжали, что время разговоров прошло.
— Да. Но теперь все уже по-другому. Дело сделано. Теперь мы можем во всем разобраться. И у нас пока есть время. А потом его, может, и не будет. Поэтому я хочу, чтобы каждый высказал все, что у него на уме.
— Хочешь, чтобы мы сидели и точили лясы, пока баас собирает отряд в погоню?
— Ночью ему далеко не уйти, — сказал Хендрик. — И к тому же он смертельно напуган.
— Почему бы нам прямо сейчас не взяться за хозяев Хауд-ден-Бека? — спросил Абель. — Они спят. Пока они догадаются, в чем дело, мы успеем их прикончить.
— В доме полно ружей, — ответил Галант. — Нужно сперва завладеть ими, а для этого придется дождаться утра. Так что у нас есть время, чтобы все обсудить.
— Почему вас так мало? — спросил я, когда они замолчали. — Где Кэмпфер, Долли и Плати?
Абель что-то пробормотал.
— Не слышу, что ты там бормочешь, — сказал я.
Галант поглядел на меня.
— Мы к ним заезжали. Мама Роза сказала, что Долли сбежал, а Кэмпфер отправился его ловить. А старый Плати просто куда-то пропал.
— В таком случае, приятель, нас слишком мало, чтобы делать дело, — сказал я. — Мы не можем начинать его без Долли.
— А как быть без Кэмпфера? — спросил Ахилл. — Ведь это он все придумал. Это он все затеял.
— Может, оно и к лучшему, — ответил Галант. — Я никогда до конца не доверял этому человеку.
— Ну а Долли?
— Да, это тяжелый удар. Но мы справимся и без него.
Тейс сидел и выковыривал, точно муравей, кончиком сабли крошечные комочки земли.
— Если эти люди уже сейчас идут на попятный, — сказал он, ни на кого не глядя, — то что с ними будет потом?
— А что будет с нами, если мы остановимся на этом? — тут же вмешался Абель. — Вы что думаете, они оставят нас в покое, даже если мы больше ничего не сделаем? То, что было в Эландсфонтейне, уже свершилось. Мы ступили на опасную тропу, которая горит под ногами. Если мы будем стоять на месте, наши подошвы сгорят. Единственное, что нам остается, — это идти вперед. И плевать на тех, кто плетется позади.
— Понятно, что теперь все против нас, — осторожно сказал я, стараясь успокоить его. — Но ты и вправду уверен, что без убийства нельзя? Разве мы не можем просто прихватить свои пожитки и убежать к Великой реке? Галант рассказывал, что там много людей, живущих свободно. Почему бы и нам не стать свободными, как они?
— Свободными? — спросил Абель. — Убежать и жить в чужом месте, будто мы воры или преступники?
— Я и так живу в чужой стране, — спокойно ответил я.
— Неужто ты и впрямь не понимаешь? — раздраженно спросил он. — Пока тут есть хозяева, нам не стать свободными, где бы мы ни обосновались. Убежать — это не значит стать свободными. Нет, мы должны тут втоптать их в землю.
— Ты говоришь так, словно нам ничего не стоит затоптать их, — предостерег я его. — Что толку затевать дело, зная, что оно безнадежно?
— Нет, — неожиданно возразил Галант, отведя глаза от огня и поглядев на меня, — нет, это не так.
— В самом деле? — язвительно спросил я. — А ты посмотри, как все пошло. Баас Баренд удрал. Ваши самые верные помощники сбежали. И ты говоришь, что это не безнадежно?
— Да, говорю.
— И хочешь начать войну, зная, что все равно проиграешь?
— Меня больше не заботит победа или поражение.
— Ты сейчас говоришь, как Лидия, — насмешливо сказал я. — Или ты просто спятил?
— Кто знает, может, Лидия не так уж и безумна, — заявил Галант, не обращая внимания на смешки вокруг. — Были времена, когда нам стоило говорить о победе или поражении, говорить о свободе. Еще сегодня, когда мы скакали в Эландсфонтейн, можно было думать об этом. Но теперь все иначе. Теперь мне нужно думать о своем сыне, который в один прекрасный день поглядит на меня и спросит, что выбрал его отец: быть рабом или свободным человеком. Я делаю это не ради себя. А ради него. На земле, которую мы сегодня сжигаем, потом появится плодородная почва, чтобы служить моему сыну.
— Ну, теперь мне ясно, что ты просто рехнулся, — сказал я. — Где этот сын, о котором ты вдруг заговорил?
Он покачал головой, будто окончательно утратив веру в меня.
— Я знаю, что говорю. Ты просто слишком стар.
— Верно, — сказал я, — я уже стар. И научился терпению. И знаю, что все выходит куда лучше, когда смиришься. Если ты объяснишь баасу, что он поступает нехорошо, если докажешь ему, что ярмо слишком тяжелое, он облегчит тебе ношу. И незачем убивать и сеять смерть.
— Ну конечно, — возразил Абель, — он чуть облегчит твою ношу. Укоротит часы работы, даст побольше еды или хижину получше или еще кружку бренди, если ты как следует угодишь ему. Но мы все равно остаемся рабами, Онтонг! Вот это мы и хотим изменить. Не просто немного облегчить себе жизнь, а жить свободно. Я не вол в ярме. Я мужчина. У меня есть руки и ноги, как и у бааса. Я хожу, как он, я ем, как он, я беру женщин, как он. Я и устаю так же, как он. И обижаюсь, как и он. Так объясни мне: почему ему быть хозяином, а мне рабом? Вот что я скажу тебе, Онтонг: когда баас пытается удержать меня под ярмом — ну что ж, дело его, на то он и баас. Но если я сам позволяю надевать на меня ярмо, это непростительно. Значит, я сам превращаю себя в раба. А это куда хуже, чем просто жить под ярмом.
— Ты еще молод, потому так и говоришь, — сказал я.
И тут вмешался Галант:
— После того, что было сегодня ночью, меня уже никто не может называть молодым.
— И что же тебя так состарило?
Он пристально глядел на меня над пламенем очага, словно хотел испытать. В руках он крепко сжимал мешочек с пулями, которые я отлил для него днем. Наконец он сказал:
— Ты не поймешь, Онтонг.
Долго длился наш спор в те томительные часы перед рассветом. Все говорили, кроме Бет, которая, приготовив нам поесть — немного мяса, хлеба и медовухи, — мрачно сидела в стороне, о чем-то размышляя, и кроме Роя, уснувшего в углу хижины. На сердце у меня было тяжело, оно давило в груди, точно огромный ком глины. Я больше ничего не говорил Галанту, обиженный его упреком, самым несправедливым, какой он мог мне бросить: Ты не поймешь, Онтонг. Он навсегда отгородился от меня. Мы стали чужими друг другу, и не было надежды, что я когда-нибудь пойму его.
Галант, Галант.
Ты, может, и был моим сыном. Но был ли я тебе отцом?
Баренд
Она никогда не была моей, и тем не менее я продолжал надеяться. Но в ту ночь я потерял ее окончательно. Я понял это на следующее утро, когда наш отряд настиг на горном пастбище убийц и старый Мозес вывел ее и детей из хижины невредимыми. Мы ни о чем не говорили. В этом не было никакой необходимости. Вместе, но чужие друг другу мы поехали обратно в Эландсфонтейн.
По дороге я время от времени поглядывал на нее. Раз или два я даже тихонько позвал ее: «Эстер».
Она и виду не подала, что слышит меня; она была слишком далека от меня и даже не старалась намеренно отгородиться. Ее просто тут не было. В любое другое время это привело бы меня в ярость. Я, быть может, попытался бы силой добиться от нее ответа. Но в то утро я покорно ехал рядом, подавленный ощущением того, что мне вынесен окончательный приговор. Она, пожалуй, была даже красивее, чем прежде. После этой наводящей ужас ночи, в течение которой одному богу известно, что произошло, она выглядела совершенно безмятежной и держалась в своей разодранной ночной рубашке так, словно была в подвенечном платье. Ее окружала какая-то тишина, не похожая на ее обычную отчужденность: тишина, внушавшая мне, что Эстер больше не нуждалась ни в поддержке извне, ни в человеке, на которого могла бы опереться. Держа перед собой младшего сына, она сидела на лошади прямая, как пламя свечи, горя в тот жаркий день огнем без дыма.
Я любил ее. Но было немыслимо сказать ей об этом. Даже радость, которую я почувствовал, увидев ее невредимой — господь свидетель, в ту страшную ночь, мучимый яростью и стыдом, я временами даже желал того, чтобы с ней случилось что-то ужасное, — мне пришлось скрыть: она показалась бы сейчас пошлой и неуместной.
Почему она не убежала вместе со мной? Времени было достаточно. Даже после того, как они принялись ломать переднюю дверь, мы могли убежать через заднюю. Я схватил ее за руку. Но она вырвалась с таким видом, точно мое прикосновение осквернило ее. Я слышал, как дверь трещит под ударами.
— Скорее, Эстер! — закричал я. — Они убьют нас. Пошли со мной.
Но она стояла не шелохнувшись, придерживая ворот ночной рубашки, которую я разорвал.
— Отстань от меня, — спокойно сказала она, бледность проступила у нее на лице сквозь привычную смуглоту кожи. Казалось, она была даже рада, что останется тут.
Дверь все больше поддавалась под ударами. Я отвернулся и бросился прочь. Это вовсе не было осознанным решением, просто что-то произошло с моими ногами.
Та ночь походила на дикую лошадь, с которой мне было не совладать, и то, что я в конечном итоге упаду, было столь же ясно и предсказуемо заранее, как падение с огромного серого жеребца в тот далекий день моего детства, — только о времени и характере этого падения можно было еще гадать. Сначала Абель, который не вернулся домой. Потом Эстер, унизившая меня таким способом, который она сама прежде сочла бы невозможным.
Услыхав шум в краале, я отнюдь не сразу заподозрил что-то неладное. Лишь когда Клаас так странно ответил на мой оклик, во мне возник легчайший налет подозрения. Потом выстрел. Я не почувствовал боли. Просто ноги подкосились сами собой. Оглянувшись, я увидел Галанта и Абеля, которые целились в меня из окна кухни. И вдруг словно сама ночь затряслась от звуков и движений. В тот раз меня спасло ружье, теперь был черед Абеля. И тут я понял, что уже в тот давний день была предопределена неизбежность этой ночи, этой встречи, от которой ни один из нас не мог уклониться.
Я словно помчался в темноту. Меня не покидало ощущение, будто все это лишь сон, в который не стоит верить. Ведь свершилось нечто непредставимое, совершенно непостижимое — рабы восстали, они вооружены, они стреляют в меня.
Они окружали меня с раннего детства. Я часто ссорился и даже дрался с Галантом. Нередко я видел, что они злятся, порой замечал, как их трясет от ярости, и понимал, что они готовы убить меня. Если бы только они не были рабами, а я баасом Барендом. Но ведь именно это определяло наши отношения все эти годы — они рабы и подчиняются мне; существует невидимая, но безусловная граница, которая разделяет нас и которую они никогда не посмеют переступить. Они могут ворчать, рычать и огрызаться, как озлобившиеся псы. Но никогда не укусят. Не посмеют. Это было исключено, совершенно непредставимо. Только раз Абель подошел чуть ближе к этой границе, но даже ему оказалось не под силу переступить ее. А теперь, в один невероятный миг, все переменилось.
Меня не заботило, попадут они в меня или нет. Важно было то, что они стреляли — рабы стреляли в своего хозяина! Они переступили границу, и уже не было конца тому, что еще могло случиться.
Вот чего я испугался. Не того, что они убьют меня или вырежут мою семью, а того, что один-единственный выстрел поколебал весь уклад моей жизни, весь миропорядок, установленный самим господом. Господу, вот кому сейчас грозила опасность. Все было поставлено на карту, и все могло погибнуть — ничему не уцелеть в этом пламени. Ведь такова сама природа огня — не только сжигать, но и совершенно менять все в процессе сгорания — обращать дерево в пепел.
Ощущение было такое, словно я стоял на склоне горы и вдруг заметил, что на меня катятся камни, не один или два, а весь склон — сама гора устремилась вниз надо мной, подо мной, всюду. То, что всегда казалось надежной опорой, потекло, будто вода, а вода обратилась в огонь.
Не то ли испытываешь, когда сходишь с ума? Или когда умираешь?
Все это и в самом деле было своего рода безумием и смертью. Смертью всего того, что я всегда считал чем-то само собой разумеющимся, всего того, что сделало меня таким, каков я есть, всего, что поддерживало мою жизнь и давало мне ощущение уверенности.
Я оставил Эстер в доме и побежал. Не от опасности, которая физически угрожала мне, а от развалин жизни, гибнущей у меня на глазах. Если это можно назвать трусостью, то я готов признать себя трусом.
Я убежал. В горы за домом. Ни к чему было убегать слишком далеко. И так меня никто не найдет. Мои босые ноги были изранены о камни. Долгие часы выжидания, молчаливого, тревожного вслушивания в грохот разрушения внизу. А Эстер? Я все ждал, что услышу, как она, спотыкаясь, бежит ко мне, испачканная, в разодранной одежде, раненая — и наконец признавшая меня. Мне бы следовало знать, что надежда была напрасной. После того как шум внизу смолк, я еще долго продолжал ждать, но она так и не появилась. Может быть, она мертва? Менее суровой кары я и не заслуживал. Но что теперь будет со мной? А с мальчиками? Да простит меня господь, но я вспомнил о них лишь гораздо позже. Будущее, в конце концов, было предрешено, не важно, живы мы или умерли.
Когда я отправился обратно на ферму разыскивать семью, кругом все было тихо. Дом в развалинах, все разграблено и разбито вдребезги. Никаких следов Эстер и детей. Я не решился остаться тут, ведь в любой миг убийцы могли вернуться. В глубоком отчаянии я опять поднялся в горы, чтобы провести там остаток ночи.
Разве что-нибудь изменилось, если бы утром я в первую очередь поехал к Франсу дю Той, чтобы тот собрал отряд? Его ферма была ближайшей. Но по дороге я сообразил, что на мне лишь ночная рубашка. Разве мог я в таком унизительном виде предстать перед человеком, которого я всегда презирал, и отвечать на его неизбежные расспросы о моей жене и детях?
Я проехал мимо его фермы к дому старого Дальре. Он дал мне штаны, короткие и узкие, но теперь по крайней мере мне было чем прикрыть свою наготу. Он настаивал, чтобы мы немедленно отправились в Хауд-ден-Бек, откуда, как он сказал, незадолго до моего появления слышались выстрелы. Но у нас не было ружей, и меня трясло так сильно, что ему пришлось помочь мне взобраться на лошадь. Мы поехали в Вагендрифт, где Франс заставил меня лечь и дал немного выпить, а потом отправился собирать свой отряд.
Порой мне кажется, что Николасу повезло больше, чем мне. Те три выстрела наверняка убили его мгновенно, не причинив особых мучений, а потом для него все уже было кончено. Теперь он мертв, и о нем вспоминают как о мученике, а я вынужден жить дальше, и молчание Эстер всегда будет оставаться со мной.
Если бы я мог своими руками прикончить Галанта.
Впрочем, об этом жалеть поздно. Мне следовало раньше держать его в узде. И Абеля тоже. И Клааса. Всех. Мы им слишком много позволяли, вот они и решились на такое. Нет. Нет — я сейчас говорю, как папа. Может, прежде так оно и было, но теперь все изменилось. Слишком поздно говорить об этом, дело зашло чересчур далеко. И я больше не знаю ответа ни на один вопрос.
На первый взгляд мир кажется спокойным и снова подвластным нам. Ферма Николаса перешла мне, потому что Сесилия вернулась к отцу. Я новый хозяин Хауд-ден-Бека. И я без отлагательств сделал то, чего давно хотел: приказал этому никчемному старику Дальре собирать пожитки и убираться прочь. Он был свидетелем моего позора, что стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Разве я сумел бы сохранить хотя бы видимость самоуважения, если бы он оставался рядом?
Должен признаться, что он и тут умудрился неприятно поразить меня. Никаких ответных обвинений, никаких слезливых уговоров. Просто опустил косматую голову и пробормотал: «Как вам угодно. Полагаю, я ничего лучшего и не заслуживаю». Он, должно быть, уже впал в старческий идиотизм.
Но даже его отъезд не принес особых изменений. Да, Хауд-ден-Бек теперь мой, но прежним он не станет никогда. Ни сама ферма, ни управление ею. Если почва однажды ушла у тебя из-под ног, это может повториться в любой миг. Сегодня. Завтра. Через сотню лет. Я пока еще тут, и со мной мои сыновья. Но все утратило надежность и никогда не обретет ее вновь.
Я выжил. Но может быть, я выжил только ради того, чтобы оказаться лицом к лицу с куда более страшной истиной — с гибелью мира, который породил меня, с гибелью грядущего, в которое я верил и в которое должен был верить, чтобы выжить.
Мог ли я предотвратить это? Нелепый вопрос. Даже мое бегство привело лишь к тому, что я угодил в еще более безнадежную ловушку. Длинная цепь событий, звено за звеном. Эстер. Я. Наши сыновья. Мы все рядом друг с другом, но наше одиночество бесконечно. Каждый из нас может по-настоящему говорить лишь с самим собой. И в окружающей нас тишине все мы напряженно вслушиваемся, ожидая начала новой катастрофы.
Хендрик
Я стоял и глядел на них из конюшни, когда они в меркнущем свете звезд вышли, чтобы занять свои места на дворе, — тени, восставшие на заре. Мальчишку Роя вместе со старым Онтонгом и Ахиллом отправили в крааль — скорее чтобы убрать их с дороги, нежели ради пользы дела, — Галант, похоже, не слишком доверял им. Сам Галант провел Абеля, Клааса и Тейса (с его саблей!) к персиковым деревьям неподалеку от передней двери. Меня попросили подождать в конюшне, чтобы, если будет нужно, вывести лошадей. В глубине души я сразу же решил, что если что-то пойдет не так, то я смогу удрать первым. Или выпущу кобылицу и объясню, что мне нужно идти за ней, и тогда никто не сможет меня ни в чем обвинить.
Казалось, ожиданию не будет конца. Петухи неистово кричали. В коровнике уже проснулись и негромко мычали коровы. В конюшне, где я находился, лошади начали фыркать и ржать, вытягивая шеи, натягивая ремни привязи, требуя, чтобы их вывели наружу. Внизу, у канавы, шипели и дрались утки. Я увидел, как Тейс несет ведра для молока, вероятно чтобы чем-нибудь занять себя и успокоиться. В то раннее утро стояла какая-то неприятная тишина, словно день затаил дыхание.
Как только взошло солнце, дверь кухни наконец открылась, и я увидел выходящих мужчин, моего бааса Ханса и бааса Ван дер Мерве. Они остановились на дворе, поглядели на небо, потягиваясь и расставив ноги, а затем неторопливо прошли через двор, чтобы помочиться у стены пристройки, где стояли фургоны. Дверь кухни осталась открытой.
Я перепугался, увидев, как Галант вышел из-за деревьев и направился прямо к ним. Но конечно, их это не могло насторожить. Разве они знали о том, что должно произойти? Я видел, как Ван дер Мерве что-то коротко сказал Галанту. Ни малейшего признака ссоры.
Хозяева неторопливо двинулись дальше, в сторону крааля. Тот день, должно быть, казался им таким же, как все остальные. Пройдя мимо крааля, они направились вниз, к гумну.
Я увидел, как рабы вышли из засады за персиковыми деревьями и быстро побежали вокруг дома к двери кухни. Они сняли шляпы, прежде чем войти в дом.
Теперь их уже ничто не остановит.
Сесилия
Если бы только в ту ночь грянул гром или вспыхнула молния. У меня вошло в привычку при первых же признаках грозы будить всех домочадцев, закрывать зеркала и собирать всю семью вокруг обеденного стола для молитв, пока не утихнет буря за окнами. С самого детства я привыкла считаться с погодой. И если бы это произошло, мы были бы предупреждены вовремя. Но совершенно иная молния, темная и таинственная, ударила по ферме в ту ночь.
Какое унижение. Бороться с рабами за ружья, которые они взяли с полки над моей кроватью, ощущать, как тебя толкают и пинают мужчины, от которых пахнет, как от животных. Разве я не предупреждала Николаса, господь упокой его душу, насчет Галанта?
Мой привычный ночной кошмар вдруг стал ужасающей реальностью. Черные руки, хватающие меня. Потные лица. Сверкающие белки глаз. Хрипы, вырывавшиеся у них из горла, пока они, тяжело дыша, боролись со мной; звери. Я билась с ними как одержимая. Только не это, о милосердный господь. Лишь бы не эта самая гнусная мерзость, какую только можно сотворить с белой женщиной.
Когда раздался выстрел, я не сразу почувствовала боль. Я поняла, что случилось, лишь когда ощутила какое-то липкое тепло, взглянула вниз и увидела кровь. И едва не рассмеялась от облегчения: пусть он лучше пристрелит меня, чем надругается надо мной, как то бывало в моих сновидениях.
Лишь гораздо позже я поняла, что содеянное им было, если только такое возможно, куда страшнее — он презирал меня столь сильно, что даже не желал нанести то, иное унижение. И не хотел убивать меня. Рана была намеренной, нацеленной именно сюда — самое унизительное изо всех возможных унижений.
Может, это было его ответом на грех, давно творимый Николасом? Но к чему возлагать ответственность на меня? Разве я не жила благочестивой жизнью истинной христианки? Зачем же мстить за его грех мне, да еще вот так?
Моя ночная рубашка была залита кровью, как когда-то много лет назад подвенечное платье. Уже в тот давний день, обагренная кровью пристреленного вола, я знала, что все это кончится плохо. Кровь за кровь, одна непрерывная цепь от начала и до конца.
Моим ранением это еще не кончилось. Унизительными были и мои попытки спрятаться от них: они выволакивали меня, как тюк окровавленных лохмотьев, то из одного укрытия, то из другого — из печки, в которую я по глупости залезла и где меня завалило отбитой штукатуркой и камнями, из-под обеденного стола и, наконец, с чердака, куда я вползла по каменной лестнице, оставляя за собой кровавый след. О господи, как это все омерзительно. А потом лежать на спине, позволив рабыне промывать и бинтовать мою рану, — унижение, которому нет конца.
Ради моих детей я выносила это страдание перед лицом господа. Ради них я умоляла убийц, не ради спасения своей жизни. Раболепствовать перед рабами и умолять их о милости!
Николас, мертвый, на шкуре льва в передней комнате, с раскинутыми в стороны руками и ногами, с которых они сняли башмаки. Тела и кровь в кухне. Вся перепачканная молодая жена Ферлее, молча уцепившаяся за меня на чердаке, слишком испуганная, чтобы плакать, прижимающая своего младенца к обнаженной груди. Униженные. Опозоренные. Презренные. Разве можно допустить, чтобы белая женщина испытывала подобные страдания на глазах у черных?
Я до сих пор не могу понять этого. Почему они кусают руку, пекущуюся о них? Мы заботились о них, обучали их заповедям божиим, каждую среду и воскресенье читали им Библию, молились вместе с ними и распевали псалмы. Мы давали им еду и одежду по потребности. Когда они болели, мы заботились о них. Когда у них бывали какие-то затруднения, мы помогали им. У них не было ни забот, ни тревог. Им даже незачем было беспокоиться о завтрашнем дне: мы заботились обо всем.
И после всего этого вот такое. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища Кого поглотить[33].
О господи, даруй мне силы вынести это тяжкое испытание. Служить примером моим детям. Не склоняться и не подчиняться. Даруй мне силы, чтобы я могла восторжествовать надо всеми этими несчастиями к вящей славе Твоей. Я измучена болью и страданиями, но не сломлена. Это трудно, господь знает, как это трудно, но я верю, что он на моей стороне и не оставит меня. В страданиях его мучеников восславлено имя его. И в его огне мы все очищаемся от скверны.
Если бы только он предпочел оставить свой знак у меня на лбу, а не в этой раненой плоти, заклейменной позором в самой сути моего женского естества.
Мы должны презреть свою плоть, чтобы жить, очистившись от скверны в той стране, которую даровал нам господь, нам и нашим детям, отныне и во веки веков.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной[34].
Абель
Я ни в чем не раскаиваюсь. Жаль только, что мы не сумели довести дело до конца. Да, мне жаль только этого. И все же лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем вообще не пытаться. Всю жизнь ступаешь осторожно, обнюхивая все вокруг, как пес, радующийся любому куску, который ему дадут, цепляешься за любые возможности, которые тебе перепадают: но однажды ты должен набраться мужества поставить все на карту и вырваться на свободу. Хотя бы раз в жизни ты должен совершить что-то просто потому, что пришло время и тебе плевать на все остальное. Если это сломает тебя, ты умрешь. Чуть раньше или чуть позже, какая разница? По крайней мере теперь, когда придет твой последний час, ты будешь знать, что не упустил свой случай. Я ни в чем не раскаиваюсь.
Я навсегда потерял свою скрипку. Было бы славно снова взять ее в руки, коснуться смычком струн, услышать те звуки, похожие на стенания женщины, и вдохнуть запах канифоли. Но что сделано, то сделано. Зато я попытался.
Всю свою жизнь я лгал им, о чем бы ни заходила речь: о хворосте, который мне приказывали собирать, о топоре, который потерялся, о лошадях, которых нужно было напоить, о пустом бочонке из-под бренди. У меня не было другого выхода. Ложь была единственным укрытием, в которое я мог спрятаться. Все, что я имел, принадлежало им: мое тело, мои руки, моя работа, мое время, дни, ночи — все куплено и оплачено ими. Если не считать того, что они никогда не владели мною самим. Всегда спасался от них своей ложью. Но беда в том, что постепенно привыкаешь лгать и самому себе. Это становится привычкой, от которой нелегко избавиться. Начинаешь убеждать себя, что жизнь не так уж и плоха. Вот тогда все становится с ног на голову. Но потом, в один прекрасный день, понимаешь: теперь я должен послать все к черту. Пусть даже и ненадолго. Это по крайней мере даст тебе смелость прямо взглянуть в глаза всему миру, когда они затянут петлю на твоей шее.
Пожалуй, все это чем-то напоминало свадьбу. В самом начале горький привкус во рту, когда я понял, что баасу Баренду удалось удрать, хотя при виде того, как он с голым задом драпал в горы, я так расхохотался, что, выстрелив в него, промазал. Убегай, думал я, беги, ублюдок. Скоро все белые хозяева побегут в разные стороны, словно стая бабуинов, вспугнутых в горах леопардом.
Но настоящее веселье началось в Хауд-ден-Беке. Когда мы с Галантом вышли из спальни после потасовки с этой женщиной из-за ружей, это было похоже на пляску. Если бы у меня с собой была моя скрипка, я принялся бы играть на ней прямо тут же. Он угодил ей из ружья куда следовало. Пробуравил, как в брачную ночь.
Нам надо было удержать белых во дворе, тогда мы управились бы с ними гораздо быстрее. Нельзя было позволять, чтобы они вбежали в дом и захлопнули двери, но выстрел насторожил их. Чтобы разделаться с Николасом, много времени не потребовалось. Когда он высунулся в дверь, я выстрелил первым. Потом выстрелил Галант. И сразу же прикончил его. Но этот тип Янсен, черт подери, чуть было не удрал. Ему это почти удалось. Если бы мама Роза не крикнула нам, когда он проскакал мимо сарая, мы бы упустили его. Рано утром мы приставили к конюшне Хендрика, так что лошади были наготове, и мы с Тейсом помчались в погоню. Настоящие скачки, такие, как я видел в Кейпе; мы отогнали его от участка старого Дальре, прежде чем он успел поднять тревогу, и погнали к зарослям на дне пересохшего русла ручья. Поняв, что ему не уйти, он повернул лошадь и что было мочи поскакал обратно на ферму. Смеху-то, животики надорвешь. Затем началась игра в кошки-мышки с людьми в доме. Учитель и его худосочная женушка тоже проскользнули внутрь через заднюю дверь. Галант хотел поджечь крышу, чтобы выкурить их оттуда, как делают со змеями, но этот старый ублюдок Онтонг остановил его. Наконец малыш Рой заглянул через небольшое верхнее окошко, на котором не было ставней, в кухню, и сказал, что хозяйка залезла в печку. Мы начали стрелять в печь снаружи, а Галант принялся крушить дверь ломом. Мы управились как раз вовремя и успели увидеть, как хозяйка выкатилась из печки с кучей грязи и мусора. С этого мгновения пошла сплошная пальба, мы стреляли, крушили дом и снова стреляли. Обоих мужиков, Янсена и Ферлее, изрешетили пулями. Один из них, кажется Ферлее, хотел было уползти, но кто-то крикнул: «Эй, это дерьмо еще шевелится!» И Рой выстрелил в него еще раз, прямо в пуговицу на жилете. Ни малейшего страха в этом парнишке. Сражался, как бывалый солдат, и если бы мы не удержали его, то он, быть может, принялся бы за женщину и детей.
Да, это было весело. Ведь мы все делали вместе. Не то чтобы один делал одно, а другой другое, а все вместе. А потом принесли бренди и устроили такую пирушку, что стены дрожали — крики, смех, грохот, пальба в мертвые тела; под конец маленькая женушка учителя Марта шлепнулась задом на траву, уставясь куда-то вдаль, словно среди бела дня увидела привидение; она даже не плакала, просто сидела так, будто ужасно устала, хотя было еще утро; потом мы рыскали по дому, искали патроны, раздирали матрасы и опрокидывали столы и прочий хлам. Давно не бывало в наших краях такого веселья. Когда мы совсем выбились из сил и уже ничего не могли придумать, мы принялись пинать ногами тела на кухне: вот тебе за ту порку. Вот тебе за дурную еду. И вот тебе за то, что орал на меня. И какая разница, что мы даже не знали тех двоих — кто такой, черт подери, этот Янсен? Кто такой этот Ферлее? — они просто валялись тут вместо всех других хозяев. Затопчите их, смешайте с грязью. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! И давайте еще выпьем.
Николас
Все остальные не имели к этому почти никакого отношения: они посторонние. Все началось когда-то давно между мной и Галантом, а теперь настигло нас в этот вневременной миг.
Я увидал его рано утром, когда мы с Хансом Янсеном направлялись вниз, к краалю. Он, как всегда, держался независимо, но я к этому привык.
— Доброе утро, Галант.
Он не ответил.
Мне не хотелось спрашивать про ток — я предпочел бы не затевать ссоры с самого утра, но, к моему величайшему неудовольствию, Янсен напомнил мне об этом, и, чтобы не ударить перед ним лицом в грязь, я спросил Галанта:
— Ты привел ток в порядок?
Он ухмыльнулся:
— Все готово для молотьбы.
— О чем ты? Мы же закончили молотьбу.
Он промолчал. Настроение у меня испортилось. Он намеренно унижал меня в присутствии постороннего: теперь мне снова придется наказать его. Неужели это и вправду неизбежно? Почему он не желает понять, что для него самого лучше жить со мной в мире?
— Мы идем на ток, — резко сказал я ему. — Пойдемте, Ханс. — Чуть отойдя, я обернулся к Галанту — Я найду тебя попозже.
Он пожал плечами.
На гумне все было таким же, как и накануне, каким было с того дня, когда мы закончили обмолот. Голое и потрескавшееся, развороченное тяжелыми копытами лошадей, которые делали круг за кругом, отделяя плевелы от пшеницы — чистого крупного зерна, провеянного на ветру, ссыпанного в мешки, погруженного на телеги и уложенного затем на чердаке готовым для помола: хлеб насущный для всех обитателей фермы.
— Ну, что я говорил, — сказал Ханс Янсен, зажав трубку в зубах и самодовольно поглядывая на меня. — То-то и оно, приятель. Все они одинаковы.
Я отвернулся от него, стараясь смириться с неприятной мыслью о том, что нам с Галантом вскоре снова придется встретиться лицом к лицу. Единственное, что оставалось решить, — где и когда.
Мы еще были внизу, не успев даже осмотреть крааль, как вдруг услыхали выстрел в доме. И оба одновременно бросились туда. Когда мы добежали до ворот, раздался второй выстрел, я почувствовал странный толчок в руку, но лишь после того, как мы благополучно укрылись в кухне, Янсен удивленно воскликнул:
— О господи, они ранили вас! Посмотрите на свою руку.
Вскоре после этого, когда я пытался урезонить их, стоя возле двери, я услышал крик Галанта:
— Стреляй в него, Абель!
И еще выстрел. К счастью, лишь слегка оцарапавший меня, так как я успел отскочить назад и захлопнуть дверь.
Я прислонился к стене, прикрыв глаза от неожиданного головокружения.
Я услышал, как из спальни меня окликает Сесилия. Лежа в крови на смятых, перепачканных простынях, она требовала, чтобы мы вместе с детьми прочитали молитву. «Ты соображаешь, что говоришь? — хотелось мне заорать да нее. — Это единственное, что тебя волнует? Чтобы умереть благопристойно? Чтобы все было сделано как полагается? А я, выходит, для тебя ничто? Тебе все равно, что, быть может, через пару минут меня убьют?» Но я сдержал себя.
Я отстраненно слушал собственный голос, произносивший слова молитвы: «…дабы смертию лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству»[35].
В дверь так сильно колотили, что я не смог закончить молитву. Не потрудившись сказать «аминь», я поднялся с колен.
— Ты не можешь оставить меня одну, Николас.
— Мне нужно поговорить с Галантом.
— Ты должен быть вместе со мной и детьми!
Я на цыпочках подошел к двери и осторожно отодвинул засов. Он, наверно, так и стоял тут, поджидая меня, но, должно быть, не думал, что я появлюсь так скоро. Остальные тоже были здесь, но они стояли чуть дальше — неясные, расплывчатые пятна, словно мой взгляд никак не мог сконцентрироваться на них. Тут были лишь мы двое. Казалось, мы остались одни на всей земле, обнаженные, как когда-то давно два мальчика возле запруды, — я и моя тень.
Я жду, пока он заговорит. В эту минуту, в эти несколько секунд, я понимаю, что умру. Должно же перед этой зияющей пустотой найтись хоть что-то, что мы могли бы сказать наконец друг другу. Но во мне нет ни мыслей, ни чувств. Я не знаю, что ему сказать.
Вот это и есть самое страшное — молчание, предшествующее смерти, обнаженность, ощущение разобщенности с человеком, который был моим единственным другом. Неспособность прикоснуться к нему. Расстояние, разделяющее нас, из-за которого нам остается лишь молча глядеть друг на друга. Жестокое молчание.
Жизнь против жизни.
Что в такой вот тишине остается от всей твоей жизни? Как осмыслить ее начало, ее ход, ее конец? Голые дети возле запруды под свисающими с деревьев птичьими гнездами. Обвалившаяся нора в земляной дамбе. Вечера в дымной хижине. Древняя как мир старуха, рассказывающая сказки. Девочка. Укрощенный жеребец. Лев — огромный таинственный хищник, явившийся из другого мира и растревоживший темноту своим рыком; непостижимая свобода его гулкого дыхания, вдоха и выдоха. И когда Галант попал во льва, жизнь покинула его тело со вздохом, похожим на стон, — казалось, будто он жалеет нас, оставшихся в живых. В тишине, столь же беспредельной, как сегодняшняя, стоял я в тот день возле убитого льва. Но я солгал тогда отцу про льва. И с той поры все стало ложью. А сегодня я сам паду жертвой того льва.
Молчание длится, тишина полна образов. Свадьба. Жена. Дети у меня на плечах. Безмолвное негодование Эстер. Поездка в Кейптаун. Упущенные возможности той ночью в горах. Воскресные дни в Лагенфлее. И работа, которой нет конца: вспашка земель, постройка стен, рытье канав, сев, уборка урожая, молотьба.
Земля. Вода. Ветер. Огонь.
Чем же я могу поделиться с тобой в этот последний миг? У нас все было общим, у меня нет ничего своего. Даже слова.
Я тут — ты там. Хозяин — раб.
Был какой-то миг, увы, непоправимый, когда я из твоего товарища превратился в хозяина, когда я окончательно потерял собственную свободу. То был страшный миг, когда между нами выросла каменная стена, огромная неодолимая гора, такая высокая, что у нас оставалась лишь иллюзия того, будто мы видим друг друга. И услышать друг друга мы тоже больше не могли.
В твоей ли власти сделать выбор, например стать хозяином или нет, или же тебе просто предначертано быть жертвой окружающего мира? Впрочем, это теперь не имеет значения, это уже с нами свершилось.
И теперь, когда мы зашли так далеко — и потому, что мы зашли так далеко, — мы способны лишь на самые простые поступки.
Ты убьешь меня. Потом, если все пойдет по закону, будешь убит и сам. А жаль. И не из-за самого убийства — в подобном молчании уже не ощущаешь страха, — а из-за того, что все это слишком просто: мы оба тем самым лишь уклоняемся от ответственности, от исполнения своего долга. А нам надо было научиться жить вместе.
В этом правды нет, а лишь окончательное поражение — для нас обоих. Это ложь. Как та шкура льва, на которую я сейчас падаю.
Итак, мы снова возле камня для убоя скота. И снова я ощущаю страстное и бесплодное желание не быть здесь. Но я здесь.
Рой
Они считали, что у меня молоко на губах не обсохло, но я им показал. Считали, что просто дадут мне подержать лошадей и всякое такое, но я был с ними все время. Когда они в кухне пристрелили учителя, этот человек потом вдруг захрипел — он лежал возле стены, за креслом. «Ну-ка, — сказал Галант, — пальните в него еще разок». Тейс был рядом, но, услыхав это, мигом спрятался за спины других. Поговорить-то он мастак, а вот как дошло до дела, струсил. А я взял пистолет, который мне кто-то сунул, прицелился в пуговицу и Нажал на курок. Тело дернулось — и конец. Очень просто.
Вот как я все это понимаю: если бы они не надумали бунтовать, мне пришлось бы торчать весь день в вельде с овцами, а солнце в те дни припекало так, что земля пятки обжигала. Выходит, мне с их бунтом очень повезло.
Жаль только, что все кончилось так быстро.
Марта
Ну что, учитель, до чего довел тебя твой ум? Теперь ты умер, и мне придется самой заботиться о себе. А я привыкла к лучшей жизни. Это ты настоял на том, чтобы пересечь горы и начать все сначала. Говорил, что, когда я войду во вкус настоящей жизни, мне она понравится.
Это из-за тебя я так рано стала матерью. Я еще играла в куклы, когда ты женился на мне. Ты превратил меня в свою куклу. А теперь у меня ребенок.
Неужели ты действительно думал, что я сумею жить в здешних краях? В Кейпе все было таким милым и цивилизованным. Нужно было испытать подобный ужас, чтобы я поняла, сколь жестока эта страна. Дикие земли, не для белых людей.
Если это и есть та самая жизнь, о которой ты говорил, то мне такой жизни не нужно.
Хелена
Там, на чердаке, самый лучший на свете запах. Запах сушеных фруктов и изюма, табака и чая. Но в конце прошлой недели мама сказала, что я уже большая и поэтому мне больше нельзя лазать на чердак: девочка, которая скоро начнет учиться в школе, должна следить за своим поведением. И я была даже рада, когда мы снова забрались туда. Это было похоже на игру в прятки.
Я, конечно, знала, что на самом деле это не игра. Но пока я лежала на полу и глядела через щели между досками, все внизу казалось таким непонятным — пальба, грохот, крики, — что в это нельзя было по-настоящему поверить. Когда я смотрела вниз на этот чужой мир, мне казалось, будто я где-то далеко-далеко отсюда, но я продолжала смотреть не отрываясь. На этот мир взрослых, которого я, наверно, никогда не пойму и который был для меня чужим. А поэтому и все происходящее не слишком волновало меня.
Маленькая Катрина то и дело принималась плакать, а мама издавала какие-то смешные звуки. Я знала, что если посмотрю на ее одежду, то снова увижу кровь. Поэтому не смотрела. Я просто лежала на животе и глядела в щель, зная, что, даже когда я стану взрослой и очень старой, я все равно этого не забуду. Потом мне из-за этого начали сниться страшные сны. Правда, пока я лежала там, на чердаке, все это не особенно отличалось от сна.
Иногда я и вообще не понимаю. Может, я тогда просто спала? А может, и теперь сплю? Но если это только сон, то проснусь ли я когда-нибудь?
Я даже не знаю, хочу ли я проснуться.
Памела
Я бы охотнее осталась в ту ночь в хижине, чтобы быть рядом с Галантом, если вдруг что-то произойдет. Но он был мрачен и злился на меня с того дня, как вернулся из поездки за учителем, сердился, что я не украла ружья. А как я могла украсть их? Я попробовала, но мне помешала хозяйка. И тогда я решила, что мне нужно ночевать в доме — это единственное, чем я могу доказать ему, что я с ним заодно. А если баас снова вздумает обойтись со мной как обычно, пускай. Зато я буду в доме, буду начеку и, если понадобится, открою им дверь. Мне хотелось остаться с Галантом, но ради него я ушла в дом. И это-то было самым ужасным: не убийства, тогда и потом, а то, что они разлучили меня с Галантом — ведь прежде мы были вместе.
— Да, ступай, — сказал Галант, когда я взяла ребенка. — Теперь твое место там.
— Неужели ты не понимаешь? — взмолилась я.
— У меня много дел, — ответил он и отвернулся.
На полпути к дому, оглянувшись, я увидела, что он стоит в дверях хижины, глядя на меня и на ребенка. Я хотела окликнуть его, но что бы я ему сказала? Вот так это и осталось у меня в памяти: я тут, он — там, а между нами тишина двора.
Перемыв посуду и прибравшись на кухне, я уложила ребенка возле плиты и затем улеглась сама. Но заснуть не могла. Я лежала, прислушиваясь к тихому сопению ребенка и к звукам в доме. В темноте дом начинает жить собственной жизнью: потрескивают балки, словно по ним медленно прохаживается грузный мужчина, скрипят кровати, в дымоходе вздыхает ветер, стучат ставни. Я вслушивалась и в звуки снаружи, но не слышала ничего необычного. Возле двери пес грыз кость. Вдалеке порой слышался хохот шакала или какого-то таинственного духа. Попискивали летучие мыши. Прокричала совка. Вот и все. Но я-то знала, что ночь полна голосов мужчин и цоканья лошадиных копыт. Кровь, беззвучно бурлящая в темноте. Ветер, затаивший дыхание перед тем, как разразится гроза и белая молния расколет черное небо.
И вдруг я услышала шаги Николаса. Я напряглась, но не шелохнулась.
— Памела! Ты спишь?
Я старалась дышать глубоко и ровно, надеясь, что он отстанет.
Его рука легла на мое голое плечо. Я по-прежнему не шевелилась.
Ты снова принимаешься за старое, думала я. Неужели тебе не довольно того, что тут спит твой ребенок? А мужчина, которого я хочу, там, снаружи. Но что он знает обо мне? Что может знать один человек про другого?
— Оставишь ты меня, наконец, в покое? — спросила я. — Или ты не понимаешь, что делаешь?
— Мне нужно поговорить с тобой, Памела.
— Можешь поговорить днем. А сейчас ночь, и я сплю.
— Мне больше не с кем поговорить.
— Разговаривай с такими, как ты. А меня оставь в покое. Я рабыня.
— Раньше ты меня слушала.
— Потому что я не имела права отказаться.
Он помолчал, а потом спросил:
— Памела, что нашло на Галанта?
Я так удивилась, что невольно села рядом с ним. В темноте ничего не было видно, даже угли в печке уже погасли.
— Галант очень изменился, — сказал он.
— Почему ты говоришь об этом мне? — злобно сказала я. — Это ваше дело.
— Он со мной не хочет разговаривать. А ты его жена.
— Этого не подумаешь, зная, что ты спишь со мной.
— Сегодня вечером я плохо говорил с ним.
Я ничего не ответила. Но напряженно ждала, что он скажет еще.
— Я приказал ему к утру привести в порядок гумно. Я вышел из себя из-за бааса Янсена.
— Это ваши дела, меня они не касаются.
Почему он так забеспокоился? Он — хозяин, он может делать все, что хочет, ему вовсе незачем укорять себя. И тут он вдруг встал и направился к двери.
— Мне что-то не по себе из-за этого, — сказал он. — Может, сходить и поговорить с ним?
Я на четвереньках бросилась за ним, скинув одеяло.
— Он уже спит, — прошептала я, стараясь удержать его. — Поговоришь утром.
Он помедлил, держа руку на задвижке.
Я обняла его за ноги.
— Что это с тобой, Памела?
— Останься со мной.
Я еще крепче обняла его. Он наклонился ко мне.
Бери меня, думала я. Делай со мной что хочешь. Это в последний раз. Завтра, когда они будут убивать тебя, я буду с ними. Если ты взмолишься о помощи, я рассмеюсь тебе в лицо. Я истопчу тебя. Я плюну на тебя и на твое потомство.
Я делала это ради Галанта. Но на следующий день, когда они в ярких лучах солнца вышли из разгромленного, полного крови и трупов дома во двор, где я поджидала Галанта с ребенком на руках, он не заметил меня. Горящими, точно солнце, глазами он глядел мимо меня так, словно и вовсе не видел.
— Галант, мне нужно поговорить с тобой.
— Нам больше не о чем разговаривать.
— Я помогла тебе.
— Ты держалась в стороне. Больше ты мне не нужна. Погляди на эту тварь у тебя на руках.
— Выходит, это моя вина?
Он задохнулся от ярости. Схватил ружье и замахнулся на меня. Я пыталась увернуться, и удар прикладом пришелся по головке ребенка.
Долгое время спустя, когда все они уже ускакали, а отряд буров еще не прибыл — я видела все это издалека, — я пришла на ферму, чтобы взять кусок хлеба на разгромленной кухне, а затем снова убежала в горы, далеко в Скурвеберхе, где они никогда бы не отыскали меня.
Ближе к ночи ребенок умер. Я сама похоронила его. Земля была слишком твердой, чтобы рыть могилу, но я укрыла тельце под грудой камней, чтобы уберечь от стервятников. Ребенок, который смотрел на меня глазами бааса, когда сосал мою грудь. Но он был и моим тоже, разве я могла отвергнуть собственное дитя?
Я не плакала, даже пока громоздила тяжелые камни, а потом уже было поздно плакать. Пустота была слишком огромной.
Ужасно то, что я даже чувствовала какое-то облегчение, словно смерть ребенка очистила меня. Если бы сейчас вернулся Галант, я бы пошла к нему навстречу с тяжелыми от молока грудями и сказала: «Погляди, мои руки пусты».
Но он так и не вернулся. Хлеб вскоре кончился. Я бесцельно бродила по горам, голодная, с ноющими от боли грудями. Наконец мне пришлось спуститься вниз.
Хозяева все-таки победили. Они навсегда разлучили меня с Галантом. Теперь он уже никогда не вернется. Напрасно я думала, что смерть ребенка что-то изменит. Даже после смерти ребенок привязывал меня к чему-то, что было мне неподвластно, но в чем я была замешана и потому испытывала чувство вины. Не знаю почему. Я вообще больше ничего не понимаю. Но так уж все случилось. То, что принадлежало только нам двоим, вырвалось у нас из рук и ушло к другим.
Они даже не захотели повесить меня вместе с ним. Даже в этом мне было отказано. Но все равно мы были с ним мужем и женой.
Ахилл
Тяжело раненная, истекая кровью, хозяйка просила нас с Онтонгом помочь ей и обещала, что скажет господам из Кейптауна, чтобы они заботились о нас до конца наших дней. И после того как наши ускакали, мы с мамой Розой и Онтонгом ухаживали за хозяйкой. А когда прибыл фургон, поехали вместе с ней в Бюффелсфонтейн, на ферму ее отца. За это она подарила нам рубашки и штаны бааса. Но люди из отряда нашли у нас эту одежду и сказали, что мы тоже участвовали в убийстве. Они заковали нас в цепи вместе с остальными. А хозяйка не остановила их. Может, она была слишком больна, а может, ей вообще ничего не сказали про это? Правда, я-то знаю, что белые все легко забывают.
А может, оно и к лучшему. Потому как всего труднее жить, пока есть надежда. А теперь надежды больше нет.
Мозес
Что проку говорить, мол, следовало поступать так или эдак. Надо пользоваться случаем, который тебе выпадает, но и уметь вовремя остановиться. Мир вовсе не таков, как хотелось бы, но не мне же пытаться изменить его. Лучше хоть немного радоваться жизни, чем совсем лишиться ее. Разве лучше висеть на виселице вроде тех, остальных, или работать в цепях до конца дней своих? Я тоже был бы среди них, если бы не сумел сохранить трезвую голову. Главное — вовремя заметить молнию и спрятаться. А не то ослепнешь.
Когда я в последний раз был с баасом в Кейпе, я собственными ушами слышал, что нам обещали свободу к Новому году или сразу после него. Я всем рассказал про это и был доволен. Но когда ничего не произошло, я смирился. У голландцев свои правила.
Потом, когда Абель приехал на пастбище и рассказал, что весь Боккефельд поднимает восстание, я был вместе с остальными. Казалось, что так и должно быть, и я принялся начищать ружье, которое мне дал баас Пит, чтобы охранять стадо. И для верности поплевал на пулю. Я был готов действовать. И воткнул в шляпу перо цесарки.
Но когда Голиаф с хозяйкой и детьми появился ночью на пастбище, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что дела обернулись худо. Услышав о том, что баасу Баренду тоже удалось сбежать, я сказал Вилдсхюту:
— Пустое дело, приятель. Пускай Абель говорит что хочет, но я-то знаю, что весь свет повернулся к нам задом.
А хозяйке сказал:
— Рассчитывайте на меня.
Чтобы она знала, на кого можно положиться.
Но наутро все опять переменилось. Когда мы спустились в Эландсфонтейн и увидали разграбленный дом, я поневоле почувствовал радость. А тут вернулись Галант и все остальные — на Галанте были новые желтые башмаки и кровавая тряпка на шляпе, — и они рассказали про то, что произошло в Хауд-ден-Беке. Я поглядел на них и крикнул Галанту:
— Мы здесь, капитан! Приказывай!
Всегда надо держаться победителей. Не то хлопот не оберешься.
Мы все вместе вошли в дом. Отыскали бочонок бренди, которого они не заметили ночью. Вилдсхют, Слингер и я выпивали вместе с ними. И я словно бы видел, как мы скачем к Кейптауну, как нас становится все больше и больше, и вот уже вместе с нами шагают сотни тысяч рабов. И кто в целом свете сумеет остановить нас?
Но едва мы добрались до пастбища, как я услышал крик Слингера:
— Они едут!
Увидав отряд буров на лошадях, я сразу понял, куда теперь все повернулось. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня схватили вместе с шайкой бандитов и пристрелили за злодеяния, в которых я неповинен.
Поэтому я был среди первых — я признаюсь в этом без малейшего стыда, — кто побежал сдаваться. Увидев это, Галант и Абель принялись стрелять: одна пуля даже продырявила мне шляпу. Но тут отряд выстроился цепочкой, и бандитам пришлось удирать, спасая свою жизнь. Мне приятно сказать, что я помогал фермерам ловить преступников. Я всегда чтил закон и порядок. Можете спросить старого бааса Пита. Разве иначе он доверил бы мне охранять свои пастбища?
Теперь жизнь опять течет спокойно. Может, и не совсем так, как мне хотелось бы. Но я не жалуюсь. Все могло быть куда хуже.
Пит
Ничего не удержать моим рукам. Бессильно лежат они возле меня на постели. Прежде я цепко держал в них ферму и людей, землю и горы, рабов, поля, скотину. Теперь все отнято у меня, словно сорвана простыня, прикрывающая мой срам. Голозадым родишься и голозадым же помираешь. Были когда-то на земле исполины, но их время миновало.
Черт бы побрал этого Дальре! Придя в тот день домой и увидав, как он у нас расселся, я так взбесился, что тут же повернул обратно в поля. Жнецы уже взялись за пшеницу. Мозес и остальные мои работники и все люди с фермы Николаса — его пшеница была убрана. Они, должно быть, не ожидали, что я вернусь так скоро. Я подошел к ним незаметно и замер, услыхав, о чем они говорят. Убийства и разбой. Чудовищное бешенство обуяло меня. Я заорал на них и схватил серп, чтобы порубить их на месте. И вдруг в глазах у меня все померкло. И с того времени я лежу тут, как младенец. Я бы, наверно, остановил их. Но что проку в добрых намерениях? Господь не принимает их в расчет. Когда ковчег господен привезли на гумно Хидона и волы споткнулись, Оза протянул руку, чтобы придержать его. Но бог убил его на месте. Вот и вся благодарность божья. Суета сует — все суета.
Галант
Хозяева мертвы, но мы еще не свободны. Разве бык становится свободным только от того, что с него сняли ярмо? Страдая от одиночества, ты спишь с женщиной — разве ты чувствуешь от этого себя менее одиноким? Если бы знать заранее, скольких ошибок можно было бы избежать. Но как можно знать что-нибудь заранее? Все понимаешь только после того, как испытаешь сам. Интересно, не так ли обстоит дело и со смертью?
И все же тот час на чердаке — он был.
Я прячусь здесь, в горах, и мое время истекает. Я забрался очень высоко, к тому самому следу человека, что навеки впечатан в камень. Все остальные ушли. На закате меня покинул и Тейс. Он был последним. Ему, кажется, надоело бесцельно бродить вместе со мной по горам. Он, верно, ждал от меня чего-то другого — великих дел, которые могли бы все оправдать, чего-нибудь такого, что можно унести с собой в могилу и с чем не так страшно умирать. Он ведь еще очень молод.
Когда он ушел, внизу, в долине, послышались выстрелы. Может, его убили. Может, он сам кого-нибудь убил. Новые трупы.
Они знают, что я тут. Только темнота удерживает их. На заре они придут за мной. Я дождусь их с башмаками Николаса, связанными вместе и перекинутыми через плечо. Босиком легче, мне так привычней. Башмаки жмут.
Не знаю, будет ли стрельба, когда они придут. Убьют они меня на месте или попытаются взять живым. Схватят они меня или нет, теперь это уже не важно. Это ведь не имеет никакого отношения к свободе. Вот чего не мог понять Тейс.
Внизу, в долине, лежит Хауд-ден-Бек, хотя сейчас во тьме его не видно. Начало и конец всего. Я забрался высоко, почти до самых звезд. Небо ясное. Только в отдалении, в той стороне, где Кару, время от времени вспыхивают сполохи летней грозы. Бури проходят стороной. А здесь небо ясное.
Как хорошо я знаю мои горы. Но нынче ночью они словно отстранились от меня, хотя и стоят вокруг. Я еще здесь, но уже больше не с ними. Я теперь иду своей дорогой. Завтра, когда я уйду отсюда, и потом, когда я умру, каждая скала, каждый утес и куст — я уверен — останутся тут, но уже без меня. Они всегда были здесь. Они укрывали меня всю жизнь, согревая, словно в сложенных ладонях. Надо всеми моими радостями и горестями, приходами и уходами, трудом и отдыхом, страданиями, сомнениями и краткими мгновениями счастья всегда возвышались эти горы, добрые и надежные. Я не мог без них.
А они обойдутся без меня, теперь уже навеки. И все же меня одолевают какие-то странные сомнения: я знаю эти горы так, как никто другой, и, если я умру, что-то в них умрет вместе со мной — знание, которое я почерпнул, глядя на них, прячась в них, ощущая их вокруг себя. И я нужен им из-за этого знания. Тот отпечаток в камне схож с моим собственным.
Еще один дальний сполох. Вспыхнул, погас — так быстро, что не понять, был ли он на самом деле или просто привиделся мне. Нет, был.
А не привиделся ли мне тот час на чердаке?
На свой лад сполохи так же вечносущи, как горы. Глубоко в землю кладет свое яйцо Птица-Молния, и, когда приспеет срок, скорлупа трескается и огонь возвращается в мир — огонь, горящий, сжигающий и пожирающий все лишнее, чтобы жизнь могла родиться заново в красной траве, кустарнике, в маленьких желтых цветах, во всем, чему суждено расти. Подобно жизни в утробе женщины, яйцо Птицы-Молнии лежит в темноте, ожидая времени, чтобы появиться на свет.
Может быть, после моей смерти тут появится ребенок — мой сын.
Одиночество. С самого начала и всю жизнь. Когда мы были детьми, мне казалось, что Николас со мной, но это было не так. Потом я думал то же самое про Бет, но она отвернулась от меня. Памела была мне ближе всех, но она родила светловолосого ребенка. Я думал, что рабы и готтентоты — Абель и другие — со мной заодно, но и это длилось недолго. Я их, конечно, не упрекаю — одних запугали, другим помешали, — но так уж все получилось. Каждый вел свою собственную войну. На самом деле мы не были заодно. Мы никогда по-настоящему не понимали друг друга.
Эстер.
Неужели все было напрасно? Неужели мысль о свободе оказалась для нас непомерной? Только нынешняя ночь оставалась у меня на то, чтобы найти ответ. Завтра утром я спущусь с гор, а что будет со мной потом, я не знаю.
Живешь так, словно блуждаешь со свечой в темноте. За спиной, там, где только что было светло, смыкается тьма. Впереди, там, где скоро станет светло, тьма лежит непотревоженно. Только тут, где ты находишься сейчас, света достаточно, чтобы оглядеться по сторонам: один миг — и ты идешь дальше. Но в такую ночь, как нынешняя, все иначе — тьма позади и тьма впереди не могут осилить света, источаемого настоящим мгновением. Можно закрыть глаза, и все равно будет видно. Жизнь, бушующая в сердце у пламени. В падении камня заключена тишина — предшествующая и последующая.
Вот на что это было похоже там, на чердаке. Только тогда не было мыслей, одна лишь слепота поступка. А теперь мне нужно озарить его мыслью. Вот почему я оставил себе эту ночь, ведь куда проще было бы спуститься вниз вместе с Тейсом.
Я сделал все, что мог. В Новый год, когда Николас роздал нам одежду, и ничего больше, свет во мне умер. Что нам еще оставалось, как не развести новый огонь, чтобы согреться? Все мы, даже те, кого потом запугали и настроили против нас, держались тогда вместе. Это было важно. Этим огнем нам надо было выжечь сорняки, смыкающиеся вокруг нас. Но вскоре всех раскидало в разные стороны. И тогда остались только мы двое — Николас и я.
Бедняга Николас, ты, верно, думал, что все это было затеяно против тебя. Ты думал, что именно тебя мне хотелось убить — из-за того, что ты соврал своему отцу про льва, когда мы были детьми, или из-за того, что не пускал меня к запруде, когда купался там с Эстер, или из-за того, что ты порол и бранил меня, из-за того, что я попал по твоей вине в тюрьму в Тульбахе, или из-за чего-нибудь еще. Но дело вовсе не в тебе. В той чудовищной тишине ты стоял в проеме двери вместо многих других, ты занял их место. И не место своего отца, или Баренда, или Франса дю Той. В тот миг у тебя не было ни лица, ни имени. Ты стоял там вместо всех белых, вместо всех хозяев, всех тех, кто властвовал над нами, брал наших женщин и называл свои фермы Заткни-Свою-Глотку — Хауд-ден-Бек.
И бедняга Галант! Ты думал, что истребляешь хозяев, чтобы завоевать себе свободу, а все, что тебе удалось, — это застрелить одного человека. Ведь на изъеденной молью львиной шкуре лежали мертвыми не все белые хозяева, захлебнувшиеся собственной кровью, а лишь один человек, и это был Николас, которого ты когда-то считал своим другом и который должен был бы остаться им.
Сполох на горизонте.
На чердаке мы были вместе. Один-единственный час.
Неужели это было напрасно?
Мы не стали свободны. Но разве это значит, что свободы вообще не существует?
Да, конечно, мы проиграли. Но то, за что мы бились, живо без начала и без конца, подобно горам, подобно огню. А за это бороться стоило. Может быть, существуют вещи, во имя которых лучше проиграть, чем победить. А главное — попытаться.
Этого я бы никогда не сумел понять, если бы не попытался — вместе с горсткой людей — разбить цепь, называемую Хауд-ден-Бек.
Этого я не сумел бы понять, если бы не вспыхнул огонь того часа, проведенного на чердаке. Темный сполох.
Когда Тейс крикнул: «Вон он!», мы отскочили от двери и бросились за Барендом. Абель выстрелил, я тоже. Собаки лаяли как бешеные. Некоторое время мы еще гнались за ним вдоль изгороди, но ему удалось скрыться. В такой темноте бесполезно искать человека; если он дошел до гор, значит, ушел. Я понимал это.
Все кинулись к задней двери, которую он не затворил за собой. А я задержался во дворе и потом снова направился к сломанной передней двери. Возле дома стояла Абелева Сари с детьми — одного держала за руку, другого, завернутого в одеяло, на руках.
— Куда ты? — спросил я.
— Они все крушат в доме, — ответила она. — Детишки боятся. Они ведь маленькие. Поэтому хозяйка приказала мне…
— Да, конечно, уведи их отсюда.
И тут из-за угла вышла Эстер. Увидав меня, она остановилась в нескольких шагах, придерживая рукой ворот белой ночной рубашки. При свете луны я видел ее лицо, но глаза оставались в тени.
Она казалась испуганной.
— Я сказал Сари, чтобы она увела отсюда детей.
— Спасибо. Я…
Я поглядел на Сари. Старший мальчик тянул ее за руку, прячась от меня у нее за спиной.
— Уходите, — сказал я. — И ждите за сараем. Там вас никто не найдет.
Они ушли.
— Спасибо, — повторила Эстер. Кажется, она сказала именно это, но голос ее звучал так тихо, словно у нее пересохло в горле. И затем она выдохнула: — Галант.
И ничего больше. Мы не шевелились, темные в свете луны, стоя так близко, что могли коснуться друг друга, но не касались. Она уронила вниз руку и замерла. Ворот ночной рубашки был разорван и отогнулся. Ни я, ни она не двигались. И между нами было все, что копилось долгие годы. Тьма укрывала нас, как каросса в дымной хижине мамы Розы. Мне казалось, будто все наше прошлое незримо витает вокруг нас. Мы снова были в вельде, где ее укусила змея, а я выдавливал яд черным камнем. Мы снова были в конюшне с тяжелым смрадом лошадей и соломы, я с кровоточащими ранами на спине, а она развязывала мне руки и обмывала мое избитое тело. Мы стояли в пыльной кухне возле раскаленной плиты: «Останься. Не уходи. Не покидай меня, мне одиноко». Все сразу и открыто. Она шевельнулась. Ее лицо казалось мокрым от пота. Мое, я знал, тоже. Ее грудь бесстыдно оголилась. За нами, далеко позади, в доме, ночь полнилась их криками, но я не замечал этого. То происходило в другом мире. А здесь были мы с ней. Время остановилось. Ничего не происходило. Ничто не уходило. Она. Я.
Пока — не знаю, не помню как — я не протянул руку, чтобы коснуться ее груди, но не осмеливаясь, никогда не осмелюсь, и все же осмелился, но лишь кончиком пальца, и сказал, мне кажется, что сказал именно я:
Эстер
«Пошли» — по-моему, это сказала именно я. Одно-единственное слово, но даже оно казалось излишним, когда мы пошли, ведущий и ведомая — или наоборот? — вокруг дома и наверх по каменным ступеням на чердак; то тут, то там клочья травы — приятная ласка для босых ног. Полная тьма, мир, беспомощно барахтающийся внизу, исчез и потерял всякое значение, казался очень далеким от этой интимной темноты, ограниченной, но беспредельной, нашей, сиюминутной, и все, как в детстве, снова свелось к простому прикосновению. Грубая поверхность древесины, колючесть соломы, полуоткрытый мешок пшеницы, сыплющейся холодным упругим потоком меж пальцев. Одежда, сорванная и яростно отброшенная. Незаметно ночь становилась плотной, твердой и определенной, принимая форму мужчины. Я касалась его страстно, нежно и с благоговением, руки, с отвращением отталкивавшие и царапавшие Баренда, теперь ласкали мужское тело, жесткость волос, плечи, ребра и бедра, неожиданно округлые ягодицы, твердые колени, всю наготу, прежде отрицаемую, а теперь открывшуюся во всей своей грубой твердости и уязвимой мягкости — пульсирующую, настойчивую, насильственную. Я рухнула на пол, судорожно ища какую-нибудь опору; его спина, покрытая царапинами, ожогами и шрамами. Это, должно быть, конец, ничего не может быть выше этого — тьмы, ослепительного света, — когда он обрушился на меня, сокрушая, ломая меня, давая мне подлинное бытие, имя, нераздельную целостность существования, одиночество, торжество распятия. В молчаливом безумии он сокрушал, терзал и уничтожал меня, делая навеки свободной — ощущение совершенно невыносимое. Для Баренда у меня была лишь та нагота, которая открывалась, когда он срывал с меня одежду, сейчас же все было иным — нагота ребенка у запруды, бесстыдное провозглашение: вот я, вот я, вот. Уничтожь меня, сотвори меня, прожги огнем.
Вздохи, вскрики, рыдания, прерывистое дыхание — все в молчании, без единого слова. Невозможно, немыслимо разговаривать. Все, что мы могли делать, все, что мы могли предложить друг другу, был этот ужас и чудо, заключенное в нем, эта яростная схватка тел, наше торжество и наша месть за все, что мы потеряли, чего у нас никогда не было, отчаянный порыв к будущему — к тому единственному, чего у нас было не отнять, потому что его просто не существовало. Все решилось в тот день в конюшне: его боль, и мой гнев, и то, как я развязала ему руки, — это не было нашим собственным выбором, нам оставалось лишь покориться тому, что мы сами сделали неизбежным.
Проклянет ли меня за это мир? Отвергнет? Но никто ничего не узнает. Я и сама буду все отрицать, потому что случившееся принадлежит только мне. А я сама, оглянувшись когда-нибудь назад, когда он будет уже мертв, не сочту ли все это непостижимым, ничтожным и жалким? Нет, не сочту. Во мне живут два существа, и ни одно из них не может быть жалким: ребенок и дикарь. Мы с самого начала разглядели это друг в друге. Но только раз, избавившись от разрушительного воздействия власти и страдания, в безумии, бешенстве и крушении привычного мира, в той ужасающей, милосердной и всеобъемлющей ночи мы были достаточно свободными, чтобы принять это. И никогда более. Но принятое однажды, это стало нашим навеки — превыше смерти и гор.
Теперь он мертв. Но живет во мне. Время не властно.
Такой краткий час, такой темный, такой светлый. Но благодаря этому самому интимному из всех возможных деяний, не признаваемому стыдящимся миром, мы вошли в историю — вот мы. Смотрите — мы свободны. Теперь мы можем снова принять на себя бремя наших различий. Короткий крик, как вызов молчанию, почти неуловимая пауза, остановка между грубым вторжением в дом и бегством в суровую невинность гор — но это и есть сама жизнь: видение, озарение, раздвоенный свет, ужас, радость. В моем лоне заключено будущее, предопределенное в тот незначительный миг, когда я осмелилась распахнуть себя перед ним, и он сказал мне, по-моему, сказал это именно он:
Галант
«Пошли» — по-моему, это сказала она, и мы вдвоем пошли на чердак. Сколько раз мы уже приближались к этому, но всякий раз останавливались, не из-за вмешательства извне, а из-за нас самих. Свободная женщина и раб. Но на этот раз все было иначе. Там, на чердаке, я был свободен: мужчина, а она была женщиной. И ради этого мгновения, такого простого и мимолетного, наверно, стоило родиться на свет, жить, страдать, пребывать во тьме и затем умереть.
Да, конечно, это не было той свободой, о которой мы мечтали, открытой и явной и доступной всем. В этом смысле мы проиграли. Но, может, свобода и не бывает иной, чем эта, маленькая и личная? Если это так, то у нас и в самом деле не было надежды на успех. И все-таки нам нужно было сделать то, что мы сделали! В этом я уверен. Нужно было. Не будь этого, все случившееся на чердаке было бы чем-то обыкновенным. А без нее наше восстание было бы просто безумием и полной неудачей.
Теперь я, кажется, впервые начинаю понимать, о чем говорил тот похожий на льва мужчина в Тульбахе. Я совершил самое страшное преступление, и, даже если они никогда об этом не узнают, это все равно достаточная причина, чтобы убить меня. Ведь этой свободы им и следует страшиться.
Убивать просто. Каждый может сделать это, стоит только по-настоящему разъярить себя. Но выбрать с открытыми глазами — хотя и во тьме! — такое завтра, которого нет, но которое родится на свет благодаря твоему выбору, — это, пожалуй, самое трудное из всего, что мне доводилось делать. Пока я был рабом, обо всем заботился баас. Мне незачем было думать о завтрашнем дне: для раба нет ни «вчера», ни «завтра». Но в тот миг, когда в молчании чердака над грохочущим внизу домом я обрел женщину, которая всегда была моей, я добровольно взял на себя бремя прошлого и предопределил свое будущее.
Это я теперь понял. Последняя ночь в горах прошла не зря. Впереди меня ожидает то, что мне когда-то рассказывал Николас: та же смерть, что настигла одержимого амоком, кидавшегося с топором на людей. Повесят на виселице с тремя перекладинами, потом отрубят голову и выставят ее на столбе в том месте, откуда ты родом, пока от нее не останется только череп, скалящийся на ветру. Пусть так и будет. Теперь я могу выйти и подождать их прихода, что бы мне ни предстояло, даже Кейптаун и смерть.
Меня услышали, лишь когда я начал убивать. Другого голоса у меня не было. Свободен? Нет, я не свободен. Но теперь я хоть знаю, что такое свобода, какой она может быть. На мгновенье я увидел ее вспышку.
Солнце уже медленно всходит. Долины озарены светом и похожи на огромную запруду, залитую прозрачным пламенем.
Здесь много ласточек. Они всегда были тут, с самого рождения этих гор. Когда я пойду сейчас вниз по склону, они будут летать над моей головой туда и сюда, кружась, ныряя, взлетая и кувыркаясь над скалами, свободные лететь, куда им вздумается. Позже, в конце лета, когда первые заморозки высушат хрупкую траву, они начнут собираться в стаи. И однажды вдруг разом поднимутся в небо и улетят. Я не знаю, куда они улетают, когда наступают холода. Может, где-то вдали всегда жарко. Я знаю лишь одно — что они улетают, а потом, когда снова наступает лето, возвращаются. В зависимости от времени года они вольны прилетать и улетать.
А некоторые противятся даже временам года.
Скоро придет пора спускаться вниз. Я не вернусь. Во всяком случае, тот Галант, что сидит здесь, уже не вернется. Но с моей смертью все не кончится. Может быть, я заронил свое семя в ее лоно. Этого я никогда не узнаю. Но так это или не так, родится у нас сын или нет — а если родится, то свободным, потому что она его мать, — что-то из исчезающего непременно вернется. Что-то останется на земле. Что-то возвратится. Мой череп будет следить за здешним высокогорьем даже пустыми глазницами. Яйца Птицы-Молнии долго лежат в земле, но однажды скорлупа трескается и огонь возвращается в небо над этими горами без начала и без конца, где остался след моей ноги, гордо впечатанный в камень.
Спускаюсь. Я сгорел дотла. Но огонь — огонь остается.
ПРИГОВОР
После надлежащего судебного разбирательства, заслушав обвинительный акт, предъявленный Королевским прокурором, и аргументацию ответчиков, тщательно взвесив все, заслуживающее внимания и могущее оказать воздействие на мнение Суда, отправляющего правосудие именем и по поручению Его Королевского Величества в Колонии на Мысе Доброй Надежды, мы, нижеподписавшиеся, объявляем следующее:
Есть печальная истина, которой учит нас опыт и которая заключается в том, что представление о собственном угнетенном положении — верное либо ошибочное, — завладев разумом человека и пустив в нем корни, нередко приводит оного к безрассудным и отчаянным деяниям.
До тех пор пока человек доволен своим положением, мир и согласие царят в его душе и можно не опасаться с его стороны попыток путем насилия изменить существующий порядок вещей, независимо от того, в сколь неравном по отношению к другим людям положении может такой человек находиться; но едва он осознает свое неравенство по отношению к тем, кому судьба даровала более благоприятное положение, им овладевают пагубные страсти, ему кажется, что он вынужден нести бремя, возложенное на него не по праву, и тогда мир и покой покидают его душу и он начинает делать все возможное, дабы сбросить с себя сию ношу.
Страна, в которой мы живем, увы, уже представила нам доказательства сей истины, и да охранит нас небо от новых ее подтверждений.
Можно ли привести пример большего неравенства в человеческих отношениях, нежели то, что наличествует в отношениях свободного человека и раба, когда последний вынужден вопреки своей воле посвящать значительную часть жизни служению своему свободному господину, и все же во всей истории Колонии до 1808 года мы не найдем ни единого случая, когда рабы хотя бы помыслили о том, чтобы путем насилия избавиться от своих уз.
Воспитанные в духе нашей священной религии и привыкшие повиноваться своим господам, они не нарушали своего повиновения, а ежели это и случалось, сами понимали, сколь сильно презрели свой долг, и принимали причитающееся наказание как совершенно заслуженную кару за свои деяния. Таковое умонастроение необходимо для поддержания мира и порядка в стране.
Мы отнюдь не выступаем здесь в роли защитников рабства как такового, мы лишь говорим об условиях, реально существующих в Колонии, в стране, хозяйство которой основано на рабском труде, свободные обитатели которой, или, строго говоря, так называемые колонисты, с самых первых дней колонизации получили законное право, подкрепленное примером их собственных руководителей, вкладывать значительную долю своих доходов в приобретение рабов. В таковых условиях воспитание рабов в духе повиновения господам совершенно необходимо для поддержания порядка в стране и для ее процветания.
Однако в 1808 году горстка коварных и злонамеренных людей, очевидным умыслом коих было ввергнуть страну в смятение и беспорядок и тем самым добиться выгоды для себя, изыскали возможности пошатнуть это умонастроение у значительной части наших рабов и, преступно извратив милосердный акт британского законодательства, запретивший отнюдь не рабовладение, а работорговлю, внушили рабам, что тех держат в рабстве вопреки воле Его Величества короля Англии, ибо в самой Англии никаких рабов нет.
Из памяти колонистов еще не изгладились воспоминания о темной туче, нависшей тогда над их головами вследствие действий этих злоумышленников, коим удалось отравить умы рабов ядом недовольства и неповиновения, ядом, который распространялся с поразительной быстротой, разъедая души людей.
Страшная кара, постигшая вожаков этих злоумышленников, и их неспособность осуществить замысел всеобщего мятежа удержали рабов от повторных попыток бунта, но едва ли можно с уверенностью утверждать, что нам удалось полностью уничтожить дух бунтарства, получившего широкое распространение. Не случайно после этих событий сильно увеличилось число жалоб рабов на дурное обращение с ними их хозяев, и, хотя правительство сделало очень много, чтобы весьма улучшить положение рабов в Колонии, угли неповиновения и надежды на освобождение от рабства продолжали тлеть под пеплом, так что малейший ветерок способен был раздуть пламя с новой силой.
Эта несбывшаяся надежда и была причиной бунта рабов в 1808 году, свидетелями коего мы были. И хотя тогда не пострадал ни один из христианских обитателей Колонии, тем не менее это явилось причиной беспорядков в одной из наших южноамериканских колоний, о которых мы вскоре после того услышали; и вот теперь впервые призыв к убийству в ответ на крушение надежды на освобождение прозвучал в нашей стране из уст раба, который собрал шайку сообщников и который, не останови мы его вовремя, мог бы ввергнуть всю страну в глубочайшую печаль и тревогу.
К тому моменту, когда мы остановили его в его преступных деяниях, которые он намеревался осуществлять и далее, три человека уже пали жертвой его смертельной ненависти.
Необходимо как можно более тщательно вникнуть в причины, подвигнувшие подсудимых на совершение ими преступных деяний, им вменяемых, не только потому, что они могут оказаться смягчающими обстоятельствами в их преступлениях, но и для того, чтобы быть уверенными в правильности приговора, вынесенного Судом.
Начнем с главаря банды, раба Галанта, обвиняемого в умышлении заговора и в подстрекательстве сообщников на учинение кровавых преступлений, в том числе на убийство его собственного хозяина, который был другом его детства и жизнь которого он прервал самым жестоким образом. Выслушав показания подсудимого, легко вообразить, будто бы подсудимый тяжко страдал от постоянных издевательств со стороны хозяина. Весьма прискорбно для беспристрастного следствия, что человек, против которого высказываются таковые обвинения, мертв и не может опровергнуть их и что его вдова, также обвиненная подсудимым в дурном обращении с рабами, в результате тяжелых последствий ранения не может предстать перед Судом. Однако мы выслушали здесь показания других подсудимых и свидетелей, и таковых довольно, чтобы опровергнуть лживые заявления подсудимого Галанта. Ланддрост, к которому он в прошлом обращался с жалобами на якобы жестокое обращение с ним, нашел их необоснованными; другие подсудимые показали, что подсудимый Галант всегда был любимцем своего хозяина, который, даже будучи предупрежден готтентоткой Бет о том, что Галант злоумышляет против него, не придал этому никакого значения, ибо полагал невозможными подобные умыслы со стороны его любимца, коего он считал едва ли не членом своей семьи и к коему был привязан всей душой, ибо был вскормлен и взращен вместе с ним; потакая прихотям подсудимого, хозяин даже позволил ему иметь двух сожительниц вместо одной.
Ни один из подсудимых, кроме Галанта, не высказал никаких жалоб на плохое питание, хотя все они объявляют, что увеличение рациона было бы встречено ими с радостью. Но давайте обратимся к показаниям Джозефа Кэмпфера — он свободный человек и христианин и, следовательно, как свидетель заслуживает полного доверия; настоящим приговором с него снимаются все выдвинутые против него обвинения, и он безоговорочно признается невиновным. Как показал здесь Кэмпфер, во время жатвы рабы получали вино четырежды в день, хлеба больше, нежели могли съесть, а сверх сего дважды в день суп с бобами и небольшое количество мяса. Это ли нехватка пищи и питья? Сколь многие тысячи счастливых обитателей свободной Европы на коленях благодарили бы Господа, если бы он, снизойдя к их молитвам, ежедневно ниспосылал им столь, по разумению некоторых, скудную трапезу?! Но для Галанта эта пища была слишком простой; считая, что во время жатвы им полагается получать столько мяса, чтобы можно было насытиться им и без хлеба, он за шесть дней похитил из хозяйского стада четырех — наверное, не самых тощих — овец и сожрал их ночью вместе с прочими рабами и работниками фермы Хауд-ден-Бек.
Нет, отнюдь не дурное обращение, которому якобы подвергался подсудимый Галант, подвигнуло его на то, что он сам называет битвой за свободу; нет, на это его подвигла крушение надежды на освобождение. Обратимся к его собственным словам. Как заявила на очной ставке с ним свидетельница Бет, Галант говорил ей в прошлом году, что он будет ждать наступления Нового года и что, ежели его к этому времени не освободят, он начнет убивать хозяев; достоверность сих показаний подтвердил и сам подсудимый, сославшийся на некое неназванное лицо, которое сообщило ему при встрече в Кейптауне, что все рабы должны быть освобождены до истечения года. Вот это и есть та ось, на которой начал вращаться маховик, пущенный рукой подсудимого.
Таковые ложные слухи действительно имели хождение в течение времени, длительность которого не представляется возможным установить. Известно, что они имели хождение не только среди рабов, но и среди рабовладельцев. А посему неудивительно, что некоторые легковерные и обманутые этими слухами хозяева, решившие, что их право владеть рабами, которое они всегда почитали вторым по значению после права на жизнь, находится теперь под угрозой, время от времени позволяли себе в резких выражениях высказывать свое недовольство, а рабы, слышавшие таковые высказывания либо узнававшие про них, в свою очередь стали испытывать вражду к хозяевам, кои, как они полагали, противодействуют их якобы неизбежному освобождению. Именно в этом смысле мы и рассматриваем заявление подсудимого Галанта об отказе сообщать рабам новости из газет и о тех разговорах, которые, как он утверждает, его хозяин вел с другими рабовладельцами. Ибо у нас вряд ли есть основания сомневаться в том, что таковые разговоры действительно имели место среди рабовладельцев, которые, боясь лишиться сразу всех своих рабов, были доведены до состояния предельного отчаяния и гнева.
В нашу задачу не входит разыскание лиц, распространявших эти ложные слухи. Достаточно сказать, что таковые слухи действительно имели место и что они и были, как то утверждает подсудимый Галант, побудительной причиной всех его преступных действий.
Второй член преступной банды, подсудимый Абель, заявляющий, что он был капралом под началом у капитана Галанта, ссылается главным образом на сведения, полученные им от Галанта, и не может (или не желает) назвать других распространителей подобных слухов; однако (как явствует из показаний вдовы Сесилии ван дер Мерве, полученных от нее в ходе расследования) подсудимый Абель перед убийством Янсена воскликнул, что не будет пощады никому из христиан, ибо они не освободили рабов к Новому году, хотя приказ об этом был ими получен, а посему рабам приходится самим себя освобождать. Сии слова достаточно ясно доказывают, что и этот подсудимый совершил злодеяния под влиянием тех же ложных представлений.
Правда, подсудимый называет и иные причины, такие, как дурное обращение со стороны его хозяина и угроза хозяина убить его, однако, опасаясь того, что медицинское освидетельствование докажет всю лживость его утверждений, подсудимый, изворачиваясь, старался внушить Суду, будто бы хозяин порол своих рабов, не оставляя на теле никаких отметин, а что касается угрозы застрелить его, то речь здесь идет о том единственном случае, когда хозяин, выйдя из себя, просто пригрозил ему ружьем, чтобы заставить повиноваться. Многие из свободных работников нередко слышали подобные угрозы от своих хозяев в минуту гнева, однако не придавали им никакого значения, понимая, что серьезных намерений те не имели.
Можно ли говорить о реальной угрозе, имея в виду наспех брошенную фразу хозяина, чьей собственностью раб является и чье имущество претерпит убыток в случае смерти раба? Мы отнюдь не утверждаем, что хозяева никогда не убивали своих рабов, но ведь нам также известны и случаи, когда отцы убивают своих детей, а есть ли лучшая опека для ребенка, нежели опека родителя? Или на чью еще любовь отец может положиться столь же уверенно, как на сыновнюю?
Если сравнить число рабов, убитых своими хозяевами, с общим числом убийств, совершаемых в стране, то мы увидим, что раб под опекой хозяина находится едва ли в меньшей безопасности, нежели дитя — под опекой родного отца. В особенности же это справедливо по отношению к тем рабам, кои (подобно Галанту и Абелю) приближены к господскому дому, ибо не только естественное чувство привязанности, но и соображения личной выгоды заставляют их видеть в своих хозяевах подлинных друзей и защитников.
В отношении прочих подсудимых можно сказать лишь одно — их всех вовлекли в преступное сообщество. Готтентоты, входившие в их число, а именно подсудимые Рой, Тейс и Хендрик, не имели причин требовать свободы и бороться за нее, ибо они и без того уже были свободны. А посему и жажда возмездия за неисполненное якобы обещание не могла служить для них побудительной причиной. Разумеется, они тоже находились в подчинении у хозяев и, движимые стремлением самим стать хозяевами, стремлением, искусно подогреваемым в них Галантом, они тоже взбунтовались против хозяев, от которых они, конечно, имели куда меньше привилегий, нежели рабы. Желание грабить и учинять насилие могли оказать воздействие на их разум, но в основном они все же являются лишь орудием, которым воспользовались для осуществления своей преступной цели главарь банды Галант и подсудимый Абель.
В отношении третьего подсудимого, Роя, следует принять во внимание еще одно обстоятельство, а именно его возраст; Суд считает, что подсудимый еще не достиг 14 лет или, во всяком случае, он ближе к 14 годам, нежели к 18 (а как сказано in rebus dubiis, in primis in criminalibus ad admittendam benigniorem sententiam)[36]. Означенный подсудимый заслуживает скорее жалости, нежели осуждения за содеянное им, в чем он не только честно и откровенно, но даже с детским страхом сознался. И даже в том случае, если бы он совершил преднамеренное преступление, к нему следовало бы применить наказание, предусмотренное Lex 37 ff de minor: In delictis autem minor annis vigintiquinque non meritur in integrum restilutionem utique alrocioribus; nisi quatenus inlerdum miseratio aetatis ad mediocrem poenam judicem produxeril[37]. Сверх сего, мы видели, что подсудимый Рой с самого начала был принуждаем Галантном служить ему в качестве форейтора и что именно Галант приказал ему пристрелить раненого Ферлее. И можно ли сомневаться в том, какая участь ожидала бы этого подсудимого, которого можно назвать еще ребенком, в том случае, если бы он отказался повиноваться приказу Галанта?
Шестой, седьмой и восьмой подсудимые, Клаас, Ахилл и Онтонг, будучи рабами, преследовали ту же цель, что и подсудимые Галант и Абель. Создается впечатление, что вышепоименованные Ахилл и Онтонг пристали к заговору с большой неохотой, ибо понимали всю опасность этого предприятия, они не спешили присоединяться к остальным и не запятнали руки кровью своего господина и других лиц, ставших жертвами преступления, а также не приняли участия в походе к дому Дальре, где преступники умышляли учинить еще одно кровопролитие. Напротив, после того как банда покинула Хауд-ден-Бек, они вернулись к своей раненой хозяйке и оставались подле нее до тех пор, пока не прибыл отряд. Кроме того, Суд полагает недоказанным предъявленное им обвинение в изготовлении пуль для банды и, следовательно, признает их невиновными по этому пункту обвинительного акта. Вместе с тем установлено, что они принимали активное участие как в обсуждении заговора, так отчасти и в начальной стадии его осуществления. Некоторые предметы одежды, принадлежавшие покойному Николасу ван дер Мерве, впоследствии обнаруженные в хижинах вышеозначенных подсудимых, полностью изобличают их виновность.
Обвинение против девятого подсудимого, Адониса, признано недоказанным, причем Суд не считает нужным останавливаться на этом вопросе более подробно. Адонис, так же как и одиннадцатый подсудимый, вышеозначенный Кэмпфер, от ответственности освобождается.
Рассмотрим вкратце дело десятой подсудимой, Памелы, которой предъявлено обвинение в соучастии путем недоносительства о приготовлениях к расправе над семьей покойного Николаса ван дер Мерве. Суду представляется вероятным, что она действительно намеревалась снабдить Галанта хозяйскими ружьями, к чему имела неоднократную возможность как служанка в господском доме, хотя достоверных улик, изобличающих ее в этом, не обнаружено. Казалось бы, есть основания считать, что, сознательно умалчивая о готовящемся бунте, она подвергла опасности жизнь людей, в доме которых ей был предоставлен кров, и, следовательно, несет долю ответственности за убийство своего хозяина и двух других лиц, а также за увечье, нанесенное ее хозяйке. Но давайте зададим себе вопрос, кто же такая эта подсудимая и каково ее отношение к подсудимому Галанту? Могла ли она, будучи его женой, преодолеть естественное чувство даже в том случае, если муж и в самом деле посвятил ее в замышляемое преступление, могла ли она совершить донос, вследствие которого она была бы разлучена с Галантом навеки? Более того, если кого и можно простить за пассивное пособничество преступлению, так это, разумеется, Памелу, которая хорошо знала безудержную натуру Галанта и понимала, что любое вмешательство будет стоить ей жизни. Сколь оправдан был подобный страх, доказывают жестокие действия Галанта после убийств в Хауд-ден-Беке по отношению к ребенку, которого Памела держала на руках и отцом которого Галант, по всей вероятности, являлся. Вследствие вышеизложенного Суд освобождает Памелу от наказания.
Переходя теперь к определению меры наказания по нескольким пунктам обвинения в отношении подсудимых, признанных виновными, Суд отмечает, что вооруженное выступление против государства представляет собой наиболее ужасную форму государственной измены и что виновными в таковом преступлении по справедливости признаются те, кто восстает против существующего порядка вещей с оружием в руках.
В стране, в которой существует рабство, восстание рабов с целью освобождения есть не что иное, как приведение ее в состояние войны, и посему подобные восстания в Римской империи по праву именовались войнами, ибо они могут привести и, как мы знаем, не раз приводили к полному уничтожению государства; к сему случаю с полным правом применимо и положение о том, что Nullum esse genus himinum unde periculum non sit etiam validissmis imperiis (смотри также Mattheus de Griminibus Lib. 48, Tit. 2, Chap. 2, par 5)[38].
Даже те подсудимые, которые были использованы главным образом как орудия главарями банды, не могут, исходя из этого, быть освобождены от наказания. Когда Галант обсуждал с остальными заговорщиками свой преступный план, ни у кого из них еще не было оружия. Но их хозяин владел двумя ружьями и двумя пистолетами, так что ничто не могло помешать любому из них обратиться к хозяину в поисках защиты и сообщить ему о замышляемом злодеянии, предотвратив тем самым его совершение. Когда пятеро подсудимых, в том числе трое готтентотов, ехали безоружные на ферму Баренда ван дер Мерве, они могли изыскать средство отстать от бунтовщиков и под покровом ночи скрыться в горах или в вельде.
Почему же они не последовали примеру раба Голиафа, оставившего банду после того, как Галант и Абель завладели ружьями, порохом и пулями своего хозяина и даже стреляли по нему?
Седьмой и восьмой подсудимые, Ахилл и Онтонг, как могли, старались внушить нам, что они употребили все свое влияние для того, чтобы отговорить Галанта (коего Онтонг чаще всего именует сыном) от его преступного умысла и доказать ему опасность замышляемого, однако, когда Галант начал упорствовать в своих намерениях, что сделали вышеозначенные подсудимые? Они сели ужинать вместе с остальными злоумышленниками, каждый из них поспал затем немного, упустив тем самым еще одну из многочисленных возможностей сообщить хозяину об угрожающей его жизни опасности; если же они не хотели или не могли этого сделать, то почему же тогда они не попытались убежать, пока остальные отправились на ферму Баренда ван дер Мерве?
Подсудимый Клаас, утверждающий, будто присоединиться к банде его побудил страх за свою жизнь, имеет столь же малые основания уходить от ответственности. Когда его хозяин, пробудившийся около десяти часов вечера из-за лая собак, спросил его, в чем дело, Клаас своим молчанием вынудил его покинуть дом и тем самым позволил проникнуть туда Галанту и Абелю, чтобы завладеть ружьями и амуницией. Расположение усадьбы в горах давало подсудимому возможность скрыться, как то сделал его хозяин; сверх того, он мог остаться со своей хозяйкой, как то сделал Голиаф. Но активная роль, которую играл подсудимый во всем случившемся, ясно и недвусмысленно доказывает (если в столь ясном деле нужны дополнительные доказательства), что он был добровольным и злонамеренным соучастником преступления.
Даже обвиняемый Рой, несмотря на свою молодость, о которой говорилось выше, принял необычайно активное участие в преступлениях, содеянных бандой; движимый кровожадным любопытством, он был по меньшей мере прямым пособником злодеяния, что и побудило Галанта сунуть ему в руку заряженный пистолет и приказать добить раненого и умирающего Ферлее.
Ни один из подсудимых не попытался предупредить страшные злодеяния, сообщив о подготовке к ним своему хозяину, хотя благоприятные возможности для этого были у каждого из них. Никто из рабовладельцев не сможет чувствовать себя в безопасности в собственном доме, если раб будет намеренно скрывать от него опасность, которой тот может подвергнуться, даже если подобное недонесение и вызвано страхом раба за собственную жизнь.
Стремление сбросить ярмо рабства, никогда ранее не доходившее в нашей Колонии до подобных крайностей, можно расценивать лишь как желание выйти из-под власти закона и из повиновения правительству, как жажду кровопролития, войны и беспорядков, приводящих к всеобщей смуте. А посему стремление обрести свободу, толкающее на подобные действия, служит не смягчающим, а отягчающим вину обстоятельством.
И можно ли сказать, что если страдать приходится столь многим, то гуманность требует, чтобы милосердие распространялось на всех, а наказание лишь на немногих? В истории мы можем найти немало примеров, когда за тяжкое преступление, совершенное большим числом злоумышленников, несли кару лишь некоторые из них. Но даровать милости преступникам — это прерогатива монархов. Как судьи, мы вправе поступить лишь так, как того требует закон, и действовать в соответствии с предоставленным нам правом определять меру виновности и наказания за содеянное.
Исходя из вышеизложенного, Суд признает первых восьмерых обвиняемых по данному делу виновными. Двое из них, Галант и Абель, признаны виновными в заговоре, государственной измене, предумышленных убийствах и вооруженных нападениях. Остальные — Рой, Тейс, Хендрик, Клаас, Ахилл и Онтонг — признаны виновными в соучастии в осуществлении заговора, составленного первыми двумя обвиняемыми, причем третьему обвиняемому, Рою, вменяется в вину также соучастие в убийстве покойного Ферлее, четвертому обвиняемому, Тейсу, — крайне активная роль, которую он играл во всех совершаемых злодеяниях; при этом, однако, учитываются малолетний возраст третьего обвиняемого и обстоятельства, при которых он выстрелил в покойного Ферлее.
Суд приговорил всех вышеназванных обвиняемых к публичному наказанию и сим передает их в руки палача:
первый, второй и четвертый обвиняемые приговариваются к смертной казни, они будут повешены за шею до наступления смерти; головы Галанта и Абеля будут затем отделены от тел, насажены на пики и выставлены в самых людных местах Боккефельда, где и останутся до тех пор, пока их не уничтожат время и хищные птицы;
третий, пятый и шестой обвиняемые, Рой, Хендрик и Клаас, будут выставлены на всеобщее обозрение на эшафоте с петлями на шее, а затем вместе с седьмым и восьмым обвиняемыми, Ахиллом и Онтонгом, привязаны к столбам и биты розгами, после чего заклеймены и отправлены в цепях на каторжные работы в Ворчестер — Рой, Хендрик и Клаас пожизненно, а Ахилл и Онтонг — на пятнадцать лет каждый;
одновременно Суд подтверждает вердикт о признании девятого и одиннадцатого обвиняемых, Адониса и Джозефа Кэмпфера, невиновными, освобождает десятую обвиняемую, Памелу, от наказания и отклоняет более тяжкие и все прочие обвинения, предъявленные третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому и десятому обвиняемым, возлагая судебные издержки в равных долях на всех подсудимых.
Настоящий приговор вынесен в суде Мыса Доброй Надежды 21 дня марта месяца 1825 года и оглашен в означенный день.
(Подписано) Й. А. Трутер, В. Хиддинг, В. Бентинк, И. Х. Нитлинг, Й. С. Флек, Р. Й. Трутер, Р. Б. Борчердс, Р. Роджерсон. В присутствии (подпись) Д. Ф. Беранже, секретаря.Примечания
1
Hofmeyr Y. H. South Africa. London, 1931, p. 34.
(обратно)2
Millin G. S. The People of South Africa. London, 1951, p. 17.
(обратно)3
Millin G. S. The People of South Africa. London, 1951, p. 17.
(обратно)4
Путешествие российского императорского шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах. СПб, 1819.
(обратно)5
Клочков Е. А. Путешествие вокруг света в колонии Российско-Американской компании. — «Северный архив», 1826, № XXI–XXII, с. 202.
(обратно)6
Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова… СПб, 1912, с. 24.
(обратно)7
См., например, рецензию в журнале «The African Communist», № 92, p. 105–107.
(обратно)8
Тарле Е. В. Пушкин как историк. — «Новый мир», 1963, № 9, с. 220.
(обратно)9
Тихомиров М. Летопись нашей эпохи. — «Известия», 30 октября 1962 г.
(обратно)10
Согласно процессуальным нормам (лат.). — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)11
Главный окружной чиновник, наделенный административно-судебными полномочиями (африкаанс).
(обратно)12
1-я Паралипоменон, 13:7–10.
(обратно)13
Бытие, 6:4.
(обратно)14
Екклесиаст, 1:4.
(обратно)15
Хозяин; а также почтительное обращение к белому человеку (африкаанс).
(обратно)16
Чиновник, ответственный за порядок в сельской местности, а также начальник военизированного отряда буров.
(обратно)17
Вождь одного из племен народности коса.
(обратно)18
Послание к римлянам, 7:19.
(обратно)19
Послание к ефесянам, 6:5.
(обратно)20
Бытие, 9:25.
(обратно)21
Госпожа; почтительное обращение к белой женщине (африкаанс).
(обратно)22
Наркотическое вещество.
(обратно)23
Иисус Навин, 23:11–13.
(обратно)24
Свобода, равенство, братство (франц.).
(обратно)25
Права человека. Коммуна. Да здравствует республика (франц.).
(обратно)26
Человек рожден свободным, и повсюду он закован в цепи (франц.).
(обратно)27
Но (нем.).
(обратно)28
Господь всемогущий (нем.).
(обратно)29
Михей, 4:11–13.
(обратно)30
Бытие, 8:22.
(обратно)31
Екклесиаст, 8:8.
(обратно)32
Осия, 8:7.
(обратно)33
1-е послание Петра, 5:8.
(обратно)34
Псалтырь, 22:4.
(обратно)35
Послание к евреям, 2:14–15.
(обратно)36
В сомнительных случаях за преступление, совершенное в первый раз, налагается самое мягкое наказание (лат.).
(обратно)37
В законе 37 и далее о несовершеннолетних преступниках: Человек моложе двадцати пяти лет не заслуживает строгого судилища, кроме как за самые жестокие преступления, да и то лишь в том случае, если речь, взывающая к состраданию из-за юного возраста преступника, не побудит суд вынести более мягкое наказание (лат.).
(обратно)38
Нет такого человека, который не мог бы стать угрозой даже для самого могущественного государства (…О преступлениях, книга 48, раздел 2, глава 2, параграф 5) (лат.).
(обратно)







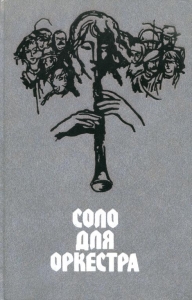


Комментарии к книге «Перекличка», Андре Бринк
Всего 0 комментариев