Сухбат Афлатуни ТАШКЕНТСКИЙ РОМАН
ЛАГИ
Долговязый мужчина неаккуратного телосложения колотит ломом серую корку. Рядом на корточках курит другой, помощник. Раскрытый ящик с инструментами дантиста-любителя дополняет картину «Воды не будет».
Долговязый показывает курящему, как надо громко стучать по асфальту. Курящий восхищенно кашляет. За ними беспокойно наблюдает по-беременному одетая женщина, развешивающая белье.
Беспокоит ее не водопроводное действо, а боль в пояснице, нарастающая с каждым ударом железа о камень. Лаги (ее имя) рассеянно доразвешивает простыни, то пропадая, то появляясь из-за спины зачастившего, как буровая вышка, асфальтодробителя. Наконец почти бежит от боли в дом, успев все же нечаянно зацепить серый взгляд сидящего на корточках. Спасительная темнота и сырость подъезда, первый этаж.
Через десять минут помощник запросит перекур. Прольется пыльным горохом короткий майский дождь, и никто не выбежит снимать белье. За пять минут до прихода «скорой» лом войдет во что-то мягкое и склизкое. Земля.
На момент рождения Султана Лаги потеряла все, кроме свекрови. Где-то в западном Казахстане растворился почти законный муж. Потом куда-то подевалась работа. Следом приезжал отец — специально для того, чтобы проклясть. Проклятие вышло до того неловким, что отец тут же смущенно засобирался и тоже исчез.
Наконец, пропал паспорт.
После каждой потери свекровь относилась к Лаги все лучше, ощущая над ней свою возрастающую и ветвящуюся власть. Один раз даже почистила ей яблоко, порезавшись. О порезе умолчала, только ушла в другую комнату, швырнув на стол перед Лаги голое яблоко-кандиль, слегка измазанное кровью.
В потерянном паспорте Лаги была Луизой.
Так ее не называл никто, кроме отца. Теперь, будучи проклятой в качестве Луизы, Лаги надумала целиком перейти на свое природное, хотя и не менее странное, имя. «Луиза» еще в детстве надоело, особенно то, как произносилось отцом — с запрокидыванием головы, заламыванием бровей.
Так Лаги потеряла свою двойняшку, финтифлюшчатую дуру Луизу. Она мысленно схоронила ее под коростой крупнозернистого асфальта недалеко от подъезда — единственное место, куда она ежедневно шла со слезящимися наволочками-простынями, и вроде как помянула, допив припрятанное винцо и заев неожиданно солоноватым яблоком.
Султан, едва родившись, заполнил своим светом все пустоты и сквозняки, образованные недавними потерями. Господин ребенок. Даже свекрови поубавилось — ее он тоже растворил в себе. Султан с такой лучистой снисходительностью принимал любовь обеих женщин, что повода для ревности они найти так и не смогли. Когда же через пару месяцев наконец дали воду, гармония докатила до той ступени, выше которой обитает только чудо.
И чудо деловито явилось — в лице свекровиной подруги, ее копии, но с более наусьмленными бровями. Была она из пятиэтажки через квартал, куда воду еще не дали и даже не начали обещать. Напросилась искупаться. Так объяснила свекровь, хотя поумневшая Лаги догадалась, что в действительности пятиэтажница была радушно зазвана для созерцания любимого внука. И еще она сообразила, что это перед ним — а не перед ней, бедной родственницей, — свекровь зачем-то решила оправдаться, солгав про «напросилась».
Чай заварен, запасы мелкой карамели высеяны на стол. Без труда разыграв приступ головной боли, Лаги покидает место банно-чайной церемонии. Вылетев из подъезда, приземляется на скамейку и закрывает глаза.
Через минуту вздрагивает, почувствовав на себе чей-то взгляд, льющийся сверху.
Не открывая глаз, Лаги вдруг нарисовала высокого белобородого старца с огромными, в пол-лица, смущенными глазами. Пару секунд мысленно поразглядывав белого незнакомца, Лаги с силой раскрыла глаза.
Кроме пыльного солнечного света, перед ней никого не было. Только с периферии дворика приближалось что-то мужское, одетое в линялый спортивный костюм.
У Лаги одновременно родились две дурацкие мысли.
Первая — что это не кто иной, как Султан, мгновенно выросший, пока она тут прохлаждалась на скамейке. Вторая — что сейчас этот взрослый Султан прошаркает мимо нее, даже не остановившись. Или еще хуже — поприветствует кивком своей розовой головы в жидких кудрях. Впрочем, незнакомец приближался именно к ней, хотя и не очень уверенно. О кудрях судить было трудно — голова обмотана платком, лицо сосредоточенно готовилось к улыбке.
Конечно не Султан. На ногах — дребезжащие сандалии, в левой руке шумит мятый полиэтиленовый пакет. На молодом лице — получившаяся наконец улыбка с неряшливо инкрустированным в нее серебряным зубом.
Здравствуйте, вы Лаги, а (имя соседки-купальщицы) у вас? Она чистое белье забыла, принес вот. Помахивает поддакивающе захрустевшим пакетом.
Лаги кивает, но создание не уходит, а продолжает вертеть перед ее носом пакетом и скалиться, пуская зайчики серебряным зубом. Почему застенчивые люди так назойливы? Он, извините, не знает, извините, какая квартира, и вот уже садится перед Лаги на корточки, так, будто номер, который ему должна сообщить Лаги, как минимум двадцатизначный. Зуб уже не блестит, и на женщину снизу вверх устремляются прозрачно-серые глаза.
Я — Маджус.
Вечером того же дня Лаги бормотала Султану сухими сонными губами не совсем обычную колыбельную. То есть, допев до конца обычную, в которой Лаги разве что бола[1] заменяла на Султан (Султан большим будет, Султан как месяц будет), она стала произносить другие слова. Падали они ей на язык словно из воздуха.
Султан будет сильным, в пиджаке с авторучкой, а не в дурацком спортивном костюме. Аккуратный всегда будет, на голове — венец. И не будет такой бедный, как Маджус… Тут Лаги осеклась, почувствовав, что запела слишком далеко. Пусть Султан как месяц будет…
Лаги допела, уложила Султана в скрипучую кроватку (он при этом открыл глаза и улыбнулся). И упала в кресло, скрестив узкие руки на побаливавшем животе. Сон, сон, иди ко мне.
Смежная комната на треть освещена старческим торшером. Под ним, нацепив мужские очки, в попытках сосредоточиться на «Науке и жизни», коротала время свекровь. Ей не мешали ни Лаги с ее заячьим голоском, ни даже мысль о пеленках, которых, как снег, намело за день. Ей не мешало ничего — ей мешало все.
Пустила подружку искупаться. Той, разумеется, купаться было не нужно. Пять минут всего водой пошумела. Пришла, конечно, на внука поглазеть, на позор полюбоваться. И свой позор за собой притащила, Маджуса. Жалко, конечно, парня. Старший сын, любимец. А жизнь ему уже задернулась, и люди отвернулись, и он всё их затылкам улыбается.
С Маджуса растравленное сердце перескочило на запретные мысли о сыне. Тоже, конечно, старший. Здоров, спортсменом был, школа с серебряной медалью. Весь в мать, благородный, неласковый. В институт поступил почти без блата, под аплодисменты. Потом сбился, конечно, с цели. И сочувствия матери не захотел, вцепился в первый же носовой платок в женском облике. Появилась эта Лаги, знакомьтесь, девочка-припевочка. А потом и от ее сочувствия сбежал…
Султан как месяц будет. Невестка что-то запелась. Прислушалась к ее бормотанию, отчетливо различив последние слова… Конечно. Песней проболтаться легче. Вот и вся наука и жизнь.
В груди свекрови наконец проснулась маленькая швея. Деловито вдев нитку в длинную иглу, она стала стегать покрывало с каким-то тоскливым рисунком. Дело было не столько в покрывале, сколько в проворных, вверх-вниз, вверх-вниз, взмахах иглы, царапавших изнутри грудь и подбиравшихся к самому горлу.
Свекровь встала, содрав с переносицы очки, вышла на лоджию. Ничего не оставалось, как, уткнувшись в сложенные горкой курпачи, выплакать эту невыносимую иглу и успокоиться на время, пока швея не найдет новую. Или, вытащив из тех же курпачей запрятанную от самой себя «Стюардессу», эту швею на время выкурить.
Сон сбежал от нее. Правда, то же самое делали до сих пор и другие немногочисленные мужчины Лаги, включая отца Султана. Вспомнилась заметка, читанная в позавчерашнюю бессонницу в свекровиной науке-жизни. Паучихи, поедающие своих супругов. Но вздрогнувшей от брезгливости Лаги представлялись почему-то не пауки, а люди, совершенно неодетые люди, она и Юсуф. Она целует его в плечо, но как кукла, без любви, а потом вдруг, гадость, гадость, начинает откусывать, откусывать и пережевывать до десенной боли жесткого Юсуфа. Она ждет, что сейчас он ее ударит, отшвырнет. Она готовится к этому удару, уже почти плачет от него. А Юсуф только ворчит, что она мешает ему встать и одеться. Он всегда спешил одеться-причесаться. А изо рта у него, когда ворчит, пахнет насваем, и Лаги в ужасе, что ей придется съесть и этот рот вместе с этим запахом. Ее тошнит, а Юсуф все не отталкивает ее.
И зачем отталкивать женщину, если легче от нее самому оттолкнуться? Неслышно одеться и исчезнуть навсегда рано утром, оставив в бедном животе Лаги кусок своей плоти, через несколько месяцев ставший Султаном.
Глупые, безумные мысли. И Лаги отгоняет их и снова зовет сон. Но вместо сна приходят другие мысли.
Вместо сна приходит Луиза. Одета как Лаги в день получения нового паспорта. И с таким же раздутым пузом, какое было у Лаги. Полным девчачьих страхов, отцовских попреков и соседских пересудов. Ходит Луиза медленно, кланяясь животом. Ходит мимо крестовин с бельевыми веревками, лениво играет прищепками. Чтобы Лаги не сильно ее испугалась, начинает напевать «К Элизе». Любимая пьеса отца, всегда заставлял тебя играть перед пьяненькими гостями, помнишь?
Легкий сквозняк доносит запах курева. Свекровь! Как пионерка в туалете, чтобы никто не видел. Бедная жестокая женщина. Верно сказал Маджус. Лаги прикусила губу, припоминая. Вспомнила… Если бы люди поняли, насколько жизнь действительно прекрасна, они бы умерли от блаженства. Поэтому они мучают себя и друг друга, спасая тем самым друг другу жизнь. Да, что-то такое.
Чтобы отогнать мрачные мысли, Лаги стала вспоминать приход Маджуса.
И вовремя, иначе до ее чуткого сознания долетел бы отсвет сцены, происходившей на другом конце мира. В душной ташкентской палате на продавленной койке, напоминавшей авоську, метался в полузабытьи отец Лаги. Ему было жарко, холодно и больно. Он часто ворочался, и койка скрипела и пела под ним, как под молодым любовником. У соседа по палате, спавшего с тюбетейкой на колхозном лице, негромко натренькивало радио. Играли Бетховена, но отец Лаги почти не знал Бетховена и не различал музыки. Но вдруг затанцевал кустистыми бровями и выдохнул: «Ллууии. Уиии…»
Случайно заглянувшая в палату русская нянечка нагнулась над больным, так, что обкусанная шариковая ручка чуть не выпала из нагрудного кармана ему на лицо. Впрочем, больной это вряд ли бы почувствовал. Завтра она даст телеграмму родным; а еще говорят, у местных не принято стариков бросать. Посмотрев на его страшноватые, но понятные ей гримасы, она вышла, потом опять вернулась. Сквозь пахнущие оконной ватой облака забвения отец Лаги ощутил, как к нему в постель, под него, протиснулась холодная утка.
Радио-бетховен выдал последний аккорд и забился в конвульсивных аплодисментах. Ллуии. Са!
Лаги наконец заснула.
Задушив окурок в пепельнице из курортной ракушки, свекровь принялась за дело. Растопила утюгом снежные заносы пеленок-распашонок, превратив их в две аккуратные стопочки. Выдавила на донце перевернутой пиалы листья усьмы, безукоризненно подвела брови. Вытерла со стола малахитовые затеки. Сняла халат, расплела седоватые косы. Пробормотала бисмиллу и отошла ко сну, полному храпов, вздохов и скрипов морских водорослей в немецком диване.
Включенное на минимальный звук радио заверило ее, уже спящую, что она прослушала первую часть чьей-то шестой симфонии. Сидевший рядом, скрестив по-турецки ноги, ангел свекровиного сна бесплотно кивнул. Мы продолжаем наш концерт. Ангел выжидательно поднял наусьмленные брови и еще раз кивнул. Бетховен, «К Элизе». Свекровь перешла на мягкий, с подсвистываниями, храп. Усилившийся степной ветер заболтал прищепками на бельевых виселицах за окном.
Султану приснились пятна необыкновенно голодной расцветки, он захныкал и проснулся. Над кроваткой склонилась сонная и счастливая Лаги.
Через несколько минут несложный ритуал был исчерпан, и то, что только что было единым телом матери и сына, блаженным, кормяще-питающимся, снова разошлось на две разновеликие половины. Большая половина направилась было к креслу, еще хранящему запах сна. Нет, смысла нет. Сон ушел.
Впереди несколько часов гарантированной бессонницы и астматического степного ветра. Лаги подошла к открытому окну и кончиками пальцев стерла с подоконника невидимую теплую пыль.
О том, что она женщина, Лаги вспоминала только во сне. Наяву была каким-то вечным подростком с маленькой курносой грудью. Дочкой была, невестой, потом сразу невесткой и сразу матерью. Даже женой Лаги побыла как-то наполовину: в загс не ходили, по совету свекрови тайно навестили муллу. Но это — уже другая память.
Памятей у Лаги было несколько. С того самого позднего детства, когда не стало Барно-опы, доброй и заботливой мачехи. Умерла на кухне, среди недорезанного лука и закипающих кастрюль. Добрая бездетная Барно шила Лаги шелковые платья и читала на ночь «Сказки народов мира». Когда Лаги заглянула на кухню, где только что крошился лук и варилась шурва, ее память, как речка, встретившая преграду, разделилась на два рукава. С того дня она разучилась хорошо спать и большую часть ночи видела воспоминания.
Барно-опа! — истошно кричит девочка, и поток подхватывает ее и несет мимо разметавшейся по земляному полу мачехи, золотых колечек жира на остывающей шурве, мимо, мимо. Ты теперь богата, Лаги…
Тогда же она разучилась плакать.
В старину именно таких, бесслезных, отдавали обучаться доходному ремеслу плакальщиц. Но отец был в партии, в свободное время переводил с русского на узбекский О. Генри, а о будущем дочери начинал думать, только отбывая повинность на родительских собраниях. Сама Лаги, разумеется, на этих собраниях не бывала — но помнила, поскольку где-то недалеко от них протекал второй рукав ее памяти. Вода в этом рукаве была ее слезами — обиды, боли, восторга, — этих слез она никогда не сможет выплакать.
Отец сидит за школьной партой, подперев бухгалтерскими ладонями маленькое неряшливое лицо, в то время как Лаги лежит одна в вечернем доме и слушает, как во дворе голодные птицы воруют виноград. Разучившись плакать, Лаги перестала расти. Метр пятьдесят семь, папа-мама плохо поливали. Отметки на дверном косяке, которые, улыбаясь, делала Барно-опа, отец под горячую ремонтную руку замазал ядовитой эмалью. Оставался невидимый рост, бесконечный, как сказки народов мира.
Кто скользил по ней сухими губами во сне? Кто обнимал ее сильными, как нагретый мрамор, и мягкими ладонями? Память Лаги не умела помнить счастье, не умела говорить о нем, не знала подходящих слов. Подростком Лаги много, отвратительно много читала, выбирая книги с самыми твердыми переплетами — чтобы использовать их как ширму между собой и другими. Слова из книг не помнила, запоминала книги, чувство защищенности, огражденности, создаваемое ими. Она строила из этих книг дом, подгоняя друг к другу и склеивая слюной обложки, — при чтении слюноотделение становилось особенно сильным. В десятом классе Лаги почувствовала, что дом построен, новые книги служат только архитектурным излишеством. Она продолжала читать, но уже без страсти, без поглаживания рукой по надежному, как мужское плечо, переплету.
Теперь в построенный дом нужно было завлечь мужчину. Лаги наусьмила брови, надушилась оставшейся от Барно-опы «Красной Москвой» и выглянула в окно. За окном был двор; октябрьские воробьи, испугавшись Лаги, взмыли вверх, смеясь сквозь застрявшие в клювах сухие виноградины. Потом вернулся с очередного родительского партсобрания отец. Громыхая, поставил под навес трофейный велосипед и, не видя ни Лаги, ни ее дома, прошествовал в крытый шифером туалет. Стояла спокойная осень. Мужчин нигде не было. Медленно и бесполезно выдыхалась «Красная Москва».
Лаги прищурила глаза, вернулась во внутренние покои нового дома, нашарила в полумраке первую попавшуюся книжку и без всякого аппетита начала читать. Через пару минут выяснилось, что это забавно переведенные отцом «Дары волхвов», издательство «Ёш гвардия».
Свекровь спала, и по выражению ее толстого лица невозможно было разобрать, что ей снилось. Это знал, наверное, сидящий неподалеку лысый ангел ее сна, но он был занят вслушиванием в радио. Бормотание время от времени перекрывалось то футбольными воплями, то выныривающим из какой-то проруби симфоническим оркестром; судя по шуму, половина оркестрантов принималась делать друг другу искусственное дыхание. Тогда свекровин ангел раздраженно поднимал глаза и смотрел на кухню. Там над нелепым сооружением из нескольких «Наук и жизней» сидел на корточках другой ангел сна. Глаза у него были открыты, и поэтому он ничего не видел, и его книжный домик постоянно разваливался. Открытые глаза означали, что человек этого ангела не спит.
Оркестр снова исчезал в проруби, утащив за собой несопротивляющихся футболистов с болельщиками, и диктор продолжал рассказ. Свекровин ангел отрывал послушно закрытые глаза от кухонного ангела-бездельника и снова припадал к эфиру, напоминая монгольского диссидента, ловящего «Голос Америки».
Диктор говорил: «…Когда воды в кранах не было особенно долго, женщины отправились в баню. Чтобы не привлекать взгляды к обозначившейся беременности младшей женщины, старшая расщедрилась на отдельный номер. Правда, была еще причина — резкий запах кислого молока, которым мазали волосы в общем зале, сидя друг перед другом на корточках в бесконечных беседах. Этот запах был запахом ее прежней жизни, в котором не было ареста отца, писем отцу народов, войны, смерти отца, смерти отца народов, реабилитации отца, окончания училища и безупречной деятельности, результатом которой стали почетные грамоты. Этот кислый запах брал на себя смелость заявлять, что всего этого, по сути, не было. И, будучи запахом раннего детства, он имел на это право.
Но оказалось, что в номере кислым молоком пахнет даже сильнее. И раздевшаяся невестка оказалась совсем не такой толстопузой, чтобы так уж бояться общественного мнения из общего зала. Там всегда пар, и каждый занят только собой, своим телом и своими словами, которыми перебрасываешься с чьим-то телом напротив…»
Радиопомехи.
«…От духоты тело начало оглушительно чесаться. Выяснилось, что Лаги забыла дома мыло. Пришлось мыться раскисшим куском хозяйственного, валявшимся на полу, с прилипшими волосами. На женщин лилась тусклая вода, старшая кричала на младшую, младшая отрешенно терла ключицу оставшимся обмылком и страдала от острых, как приступы рвоты, наплывов музыки неизвестно откуда. Симфония то всплывала, то погружалась, то превращалась в футбольную драку на фоне октябрьского неба, и нельзя было ни плакать, ни вырвать. Голые женщины стояли друг против друга; долгожданная горячая вода стекала по медузообразным грудям старшей, она кричала, терлась капроновой губкой и размахивала руками, как дирижер. Младшая, богиня, стояла лицом вниз, разглядывая желтоватый метлахский пол, на который стекали грозовые облака мыльной пены. Наконец старшая женщина закончила долгую тюркскую речь русским „сволочь“ и замолчала, страдая и тяжело дыша. Вода еще пару минут текла по двум смуглым фигурам, потом ее выключили. В тишине стало слышно, как старшая плачет, растирая мокрые глаза влажными прядями длинных волос. Эфирные футболисты, давно уже прекратившие вечернюю драку, выстроились вдоль липкой банной стены и лениво сочувствовали. Вечером свекровь написала трехстраничное письмо отцу Лаги».
Диктор закашлялся и тут же растворился в собственном кашле.
Мужчина в ее сне не был Юсуфом. Это не доказывает, что она не любила. Она защищала Юсуфа от жизни, от любви матери, от мучительного сна, во время которого он вспоминал подвал, вскрикивал и не мог проснуться. Бессонная и бесслезная Лаги будила его, пересказывала, как ребенку, книги и целовала его голое плечо, на которое падал свет уличного фонаря…
Лаги стояла у открытого окна, глядя на политый из шланга двор. Увидела невысокую мужскую фигуру в незаправленной рубашке и не испугалась.
В соседней комнате заговорила во сне свекровь, у кого-то громко и властно прося прощения. Ночной человек подошел вплотную к подоконнику, улыбнулся и поприветствовал прильнувшую к оконной решетке Лаги.
Это был младший брат. Младший брат Маджуса, которому, оказывается, сейчас нехорошо. Это было правдой.
Закутанный в курпачу Маджус лежал рядом с дымившимся исрыком, отгоняющим демонов, и держал за щекой непроглоченный аспирин. Завтра будет как огурчик, заверил брат и шепотом засмеялся. Он всегда болеет после того, как поговорит с людьми. Он же святой, а сейчас быть святым особенно тяжело. Участковый недавно приходил, отец пытался деньги дать; начальник поговорил с Маджусом, извинился, потом еще даже два кило говядины принес, коров держит. Маджус после разговора два дня болел, я тоже отгул взял. Вы меня не узнали — я тут у вас сантехником работаю, а вообще я на заочном отделении в столице.
Лаги слушала молча. Слушать в темноте молодого сантехника было нехорошо, нехорошо перед Султаном, ее господином. Но ночью, когда он и свекровь засыпали, Лаги становилась свободнее. Старше. Ночью она может пожалеть Маджуса. Человек предсказал будущее, и оно ему мстит, выворачивает ему наизнанку губы и обнажает потускневший серебряный зуб. Это будущее прекрасно, но на пути лежит боль. Маджус украл от хлеба этой боли, от ее черствости.
— Укя, сходите, пожалуйста, сейчас к Лаги, — просит Маджус младшего брата, и облизывает серым языком серебряный зуб, и смеется в стенку. — Посвятите ее, пожалуйста, в наш подвал.
При слове «подвал» Лаги отпрянула от оконной решетки.
В соседней комнате, добившись наконец прощения у душной ночной тишины, счастливо задышала свекровь.
Больному из седьмой полегчало, и он заговорил. Нянечка задержалась у его койки, прислушиваясь к его рассказу. Единственная лампа дневного света мигала и жужжала, как пойманная муха. Со второй попытки больной смог помочиться: в утке плавало подушечное перо. Сейчас больной дорасскажет про своего друга, она вынесет из палаты утку, и жужжащую муху дневного света убьет паук темноты.
Друг тяжелого больного был достойным человеком, ветераном войны. Работал в министерстве и схоронил двух жен. А дочь выросла и опозорила его. Захотела настоящей жизни, которая бывает в книгах. Привлеченные ее современными взглядами, к ней тайком пробирались какие-то типы. Друг изо всей силы охранял дочь, но она решила опозорить своего отца. Ушла из дома и стала ждать ребенка. Тогда друг заболел, комнаты заколосились пылью, и о позоре вот-вот должны были узнать на работе. А может, даже узнали, потому что предложили путевку в самый худший санаторий. Потом друг получил еще более страшное письмо. Читал и не верил. Дочь научилась быть аферисткой, поселилась у своего сожителя, потом выжила его из квартиры, затеяла аферы с потерей паспорта и собирается отобрать жилплощадь у престарелой сожителевой матери. Даже если это было ложью, терпению пришел конец. Он приехал и проклял дочь, но она ничего не поняла. Ползала у его ног, и он чувствовал, что она ничего не понимает. Она осталась с женщиной, которая вдруг стала кричать, ее защищая. Теперь всех ждет испытание.
Больной замолчал, ожидая мнения нянечки. История о друге казалась непонятной, но больного надо было поддержать словом. Нянечка поняла, что он осуждает своего однополчанина, его суровость к дочери. Молодежь, конечно, да. Например, молодые нахальные нянечки, даже утку нормально не поставят. Но чтобы дочь родную проклясть, это, больной, недопустимо. Вы лучше, больной, поспите. Больной?
…Ба-альной!!!
Снег сыпал на лицо, сыпал на глаза, на густые брови, сыпал на нос и щеки, снег сыпал на молодые губы и безвольный, тщательно выбритый подбородок. Снег сыпал и таял, сыпал на мирные черепичные крыши и таял в кустах шиповника. Город почти не пострадал от боев, и снег ему был к лицу. Третья зима вдали от Самарканда, думает старший лейтенант и легко отрывается от земли. Он прикидывает, сколько еще служить, и медленно летит над Ратхауз-штрассе, не зная, что это — Ратхауз-штрассе. После холодной украинской зимы здесь почти курорт, старинный европейский рай. Он летит затылком вниз, лицом к небу, молодой политработник, и снег ложится и тает на его выбритой улыбке. Под ним, на заснеженном дворе, тихо наигрывает на реквизированном рояле крохотная фройляйн, эта музыка входит в летящего коммуниста, берет за душу. Он делает несколько кругов над девочкой, она что-то объясняет своим торопливым слушателям в мундирах, даз ист Бетховен, вартен зи битте нох фюнф минутен, майне херн, нох фюнф минутен. Ничего не поняв и радуясь собственному непониманию, политработник пилотирует свое молодое восточное тело дальше и выше. Снежинки растут и превращаются в белые звезды, молодая мать склоняется над сыном, и от ее тепла тает весь снег с черепичных крыш, и они оказываются крышами родного Самарканда. Как прекрасно жить, даже когда не знаешь иностранного языка.
Лаги еще раз бросает торопливый взгляд на Султана и через минуту, миновав похрапывающую свекровь и скрипучий коридорный пол, осторожно закрывает за собой входную дверь. Пять минут, только на пять минут…
Свекровь проснулась — показалось, что хлопнула дверь. Тяжело встала, жадно вглядываясь в темноту. Пошла на кухню, на ходу заплетая косу. Зачерпнула стаканом из эмалированной кастрюли, в которой отстаивалась глинистая вода. Шумно выпила и, поставив стакан на стол горлом вниз, ушла спать с одной недозаплетенной косой. Засыпая, решила постричься и купить модные бигуди.
Квартира снова затихла. Лишь на кухне, минуты через две, поехал по мокрому столу стакан. Доехав до края, замер.
Лестничная клетка была освещена дохлой лампочкой — все же Лаги смогла ближе разглядеть брата Маджуса. Аккуратная улыбка, большие серые глаза с заметным косоглазием. Мужчина почувствовал, что его разглядывают, представился Маликом. Лаги слышала это имя, когда чинили воду. Малик строго посмотрел на часы. Пора.
Привычные пять ступенек вниз; последняя, осторожно, высокая. Малик свернул налево и остановился у входа в подвал. Сюда желтый лестничный свет почти не доходил. Доставая из кармана ключ от подвала, Малик выронил его, быстро поднял и смутился. Смущение делало его очень похожим на брата, и совсем осмелевшая Лаги шагнула в пахнущий теплой плесенью подвал.
Султан лежал с открытыми глазами. Ему было так страшно, что он не мог даже заплакать. Потом он услышал шорох. Над ним закружил ночной мотылек, привлеченный тихим, бесконечно сладким светом, исходившим от детской кроватки. Султан, все еще потный от страха, следил за веселым полетом ночного гостя. Наконец мотылек совершил посадку на бумазейную пеленку и уставился на Султана, подрагивая крылышками — словно подмигивал. Султан вздохнул.
Лаги сейчас находилась как раз под тем местом, где стояла кроватка Султана.
Они спустились еще ниже, куда уже не доходил свет из подъезда. Страшно — сказала Лаги, хотя по-настоящему страшно не было. Словно ждавший этого детского признания, Малик провел по стене рукой: щелкнул выключатель, возник красноватый свет. Лаги осмотрелась, и ей стало действительно не по себе.
Это был обычный подвал, низкий потолок подпирала нелепая колоннада из больших и малых труб: из одной трубы капала вода со всхлипами, похожими на плач оставленного ребенка. У стены стоял столик, накрытый прожженной клеенкой, изображавшей экзотические фрукты. На столике лежала настоящая плеть, выглядевшая мрачнее всего остального. В отличие от гаечных ключей и всхлипывающих труб, ее присутствие здесь было непонятно.
Малик извинился, что не прибрано, и взял со стола плеть. Держал он ее неуверенно, кончиками пальцев. Лаги было страшно плети и страшно спросить, для чего она здесь нужна. Тут, кажется, и Малик почувствовал, что плетку надо как-то объяснить.
…Сестра… Вы не бойтесь, но там без нее один раз нельзя… Один раз ударить будет нужно. Вы сами будете просить, а рукой я не смогу. Вы можете, если боитесь, вернуться, только Маджус очень просил. Я бы сам вас не привел — только один раз…
И он отодвинул большой фанерный лист, за которым открылся еще один спуск, уже без ступеней. Лаги оглянулась — тихо всхлипывала вода, на закопченной клеенке бесшумно дозревали ананасы.
Спускаться пришлось недолго. Лаги только начала привыкать к темноте и к желтым зигзагам, которые чертил на песчаных стенах туннеля карманный фонарик Малика, как они свернули в маленькую пещерку слева. Малик почиркал спичками, зажег три свечи, оказавшиеся на земляном полу, сел напротив них и пригласил Лаги сделать то же самое. Лаги хотела оглядеться, но было все еще боязно, и она напряженно смотрела перед собой.
Обычные хозмаговские свечи, они горели как там, наверху; не хватало только насекомых. Один мотылек, и всё. Лаги заметила на стене маленькие отпечатки ладоней. Хотела спросить, но Малик жестом попросил о тишине. Весело горели свечи.
То, что произошло в следующую секунду и растворилось, не дожив до ее конца, было ясным и совершенно внутренним. Оно не задуло свечей, не искривило дугой пещеру. Просто несколько — нет, сотня — резких, додуманных и прозрачных мыслей фейерверком взлетели из самого средоточия Лаги. Не только этих ослепительных мыслей — самой этой сердцевины Лаги прежде в себе не знала. И все же это были ее мысли, она их носила в себе все долгие годы, которые теперь стали пустыми, как скорлупа. Ясные, раскаленные до синего блеска мысли, — они не прорицали будущее, они были им. Они были также прошлым, они были формулами Лаги, словами, из которых она была сделана, которые она бормотала всем своим маленьким телом, всем своим неспелым умом.
…и исчезли, самопереведясь на обычный, сонный язык человечества. Горизонт снова затянуло словесной пылью, из которой было уже невозможно извлечь даже пепел отпылавшего фейерверка. Смысл остался, но отменял все те смыслы, которыми до сих пор жила и шевелилась легкомысленная невежда Лаги.
Лаги почувствовала, что вся словно онемела, затекла, заполнилась какой-то тяжелой подушечной мякотью. Тряпичная кукла, нет, надувной шарик, наполняемый ржавой водой из крана, с братишкой баловались, сейчас лопнет, и ржавая вонючая вода затопит… Все затопит…
…Хлыст, просвистев, будто в замедленной киносъемке, стеганул ее по плечу. Откуда-то изнутри понеслась волна боли и воли к жизни.
Когда эта волна докатилась до губ, Лаги выдохнула — еще!
Больше нельзя, покачал головой Малик. Извините. И что ударил… И что привел… — бормотал он, гася пальцами свечи.
Через пять минут они уже выходили из подвала.
Прежде чем поблагодарить (за что?) Малика и прошептать слова прощания, Лаги задает вопрос, ради которого она и пошла с незнакомым мужчиной в подземелье.
…А Юсуф-акя, мой… спутник жизни, бывал там? (Слова слетали с губ шелестящими ошметками кожи.) Понимаете, до отъезда ему часто снился какой-то подвал. Вы случайно не в курсе? — прибавляет Лаги по-русски.
Малик молчал, обволакивая Лаги серым взглядом. Потом сказал: нет. У Юсуфа не было ключей. А попасть туда одному первый раз очень опасно. Только вдвоем. У вас скоро пройдет, а жизнь переломится к лучшему. Вы теперь сами это знаете. Смотрите, какое прекрасное утро (за дверью подъезда все еще было темно). И вы тоже такая (осекся). …Извините, сестра, вам перед дорогой лучше поспать хорошо. Возвращайтесь, пожалуйста. До свидания.
До свидания, кивнула Лаги. Вайрам учун катта рахмат[2], добавила она уже вслед пропадавшей в сумерках фигуре. Действительно, то, что с ней было там, — это был праздник. Мгновенный, жестокий. Необходимый.
Далеко, в Ташкенте, уже чувствовалось утро.
Под слоем пыли доцветает акация. У железных ворот шестнадцатой больницы расположилась на торговлю старуха в парчовой безрукавке. Неторопливо раскладывает на складном табурете курт, семечки, сигареты. На курт сразу же приземлилась оса; сигаретами хрипло поинтересовалась проститутка, проплывавшая профессиональной походкой в родную постылую четырехэтажку. Странный шум заставляет обеих, старуху и девицу, посмотреть на дорогу. Там в сторону Фархадского базара громыхал грузовик; арбузы, которыми он был набит, подпрыгивали, как шары в телепередаче «Спортлото». При очередном скачке, перед красным светофором, один арбуз вылетел из крытого кузова и расшибся об асфальт. Из кабины вылезло насмешливое кудрявое лицо, вид расколотого арбуза, казалось, еще больше его насмешил. Сплюнув, лицо исчезло в кабине; зеленый свет, грузовик рванулся, прощаясь с погибшим арбузом сизым дымом и пылью. Проститутка рассеянно отсчитала мелочь. К арбузу подбежала черная собака и принялась весело пожирать сочные обломки, тычась мордой в мокрую мякоть.
А в больничной палате неподалеку угасал старик. Всю жизнь молодой и сейчас всего только шестидесятилетний, он начал вдруг стариться с каждой секундой, каждой новой капельницей, каждым новым осмотром. Впрочем, капельницы и осмотры его уже мало трогали, он был далеко, где его уже никто не мог поймать и вылечить, он летел себе на спине, лицом в снегопад, временами отщипывая от буханки пайкового хлеба, которую грел под больничной шинелью с капитанскими звездами. И плыл под ним один и тот же уютный город с морковными башенками, в котором круглый год справляли Рождество. А самых красивых женщин называли Луизами.
Луиза… Какое имя! Какая музыка…
Малик шел быстро, едва касаясь предрассветной земли, которая в этот час полна сухой травой, стеклом, арахисовой лузгой и куклами с оторванными десницами. Тепло в спине, оставшееся от последнего взгляда Лаги, сменилось холодной испариной.
Малик соврал. Это была неизбежная, заботливая ложь — и, как всякая неистина, она была непростительна. Но для правды не хватило слов. Какими словами рассказать Лаги о том, как он нашел Юсуфа в этом святом месте? В изодранной одежде, кружившегося и бившего самого себя руками и по рукам? На вопросы, как он туда попал, отвечавшего смехом? Для этой правды у Малика еще не хватало языка. Он не был авлиё, как Маджус; хождение в пещеру дало ему мысли, но не родило для них слов. Он даже стал более молчалив и косноязычен, а сегодня — оказывается, и лжив. Как я несовершенен! Малик резко остановился и с силой пнул гнилую арбузную корку. «Как ты несовершенен», просвистела арбузная корка, взлетев в утренний воздух.
Но обжигающий язычок вины скоро уже был незаметен рядом с другим разгоравшимся пламенем. От него высыхала слюна во рту, грудь покрывалась горячей росой, а низ живота, где, согласно Афлатуну, обитает вожделеющая душа, сводило томительной судорогой. Малик уже перестал видеть лабиринты пятиэтажек, пыльные акации и арбузную корку, приземлившуюся где-то за его спиной…
Он видел и чувствовал только Лаги, светлую Лаги, прижимавшуюся к нему всем своим грустным телом. Он водил губами по ее щекам, скулам, векам, подбородку, не находя только губ. А она стоит, боязливо лаская его, все еще борясь с блаженством. Наконец Малик находит шепчущие вечное нельзя губы Лаги и всеми своими губами, всем своим безумным огнем, в котором смешались любовь, сострадание, вина, врывается в Лаги.
…И останавливается, тяжело дыша.
Он стоит перед своим подъездом, уже здесь чувствуя запах исрыка, исходящий от постели брата. Кажется, он слышит даже запах его мочи: после постигшего его несчастья Маджус стал иногда ошибаться во сне, как ребенок.
Дорогой старший брат, я не могу сейчас к вам вернуться. Я выполнил все, что вы сказали. Вы не поймете того чувства, которое я сейчас испытываю. Вы знаете, что из-за вашего недуга меня не женят, потому что первым должны женить вас как старшего. Вы знаете мою судьбу, что у меня из-за этого не будет собственного потомства, не будет уважающей меня супруги. Вам это было известно еще до того, как это открылось мне в пещере, вам наверняка известно даже больше, но неизвестны мои чувства, печали моей молодости, которые не утешают ни пещера, ни учеба в столице, ни забота о вас. Возможно, вы уже проснулись и ждете от меня вестей, но я вернусь… позже.
Малик резко разворачивается и почти бежит прочь от своего подъезда, исрыка и завернутого в курпачу Маджуса. Через полчаса он звонит в рыжую дверь на пятом этаже. На звонок дверь приоткрывается, в проеме рядом с цепочкой показывается круглое добродушное лицо в бигуди под прозрачной косынкой. Выходит, потягиваясь, рыжий насмешливый кот. Роза, хрипло говорит Малик, здравствуйте. К тебе можно?
Заходи, раз пришел… Яичницу будешь?
Бесшумно вернувшись, Лаги бросилась к Султану. Крепко прижала к себе. Перепеленала. Положила, пытаясь стряхнуть с себя — что? Пророчество Маджуса? Подземелье с тремя свечами? Мысли, вплетавшиеся в один узор с пророчеством Маджуса, прояснявшие недосказанное им и затемнявшие сказанное. Или — стряхнуть с себя последний, утробный, взгляд Малика?
Оцепенение, сковавшее ее в подвале, постепенно рассасывалось, мысли стали путаться, и Лаги все целовала Султана, улыбавшегося ей во сне. «Вам перед предстоящей дорогой поспать хорошо», попрощался с ней Малик. Какой дорогой? Она догадывается. Юсуф, бедный Юсуф, что с тобой?.. Лаги снова целует сладкие щеки Султана, кладет его в кроватку. Ей хочется курить, свекровь прячет на балконе в курпачах сигареты, пропажи одной она не заметит. Но… усталость, лень, дремота. Пирамидальный тополь напротив уже моет пыльную голову в теплых потоках рассвета, гремит велосипед почтальона, наигрывает флейта. Лаги прикрывает веки, пытаясь отгадать мелодию. Отгадка приходит четко и бесчувственно, как диагноз. «К Элизе». Так же бесчувственно Лаги наблюдает, как под эту мелодию начинает рушиться ее дом, построенный из книг, словно какой-то бульдозер разбивает его огромной, похожей на маятник чугунной гирей. Ла-ла, ла-ла, та-та-та; взлетает фейерверк из пыли, кружатся страницы, падают книги и журналы; и Лаги бесстрастно созерцает гибель своего любимого дома под свою любимую мелодию и даже немного дирижирует ступней в драной тапочке. Впрочем, флейта уже сбивается на какую-то другую, похожую и вместе с тем неряшливую мелодию, словно флейтист поперхнулся пылью, поднятой падающим домом. Последними, откуда-то сверху, рушатся тяжелые «Сказки народов мира» и больно бьют Лаги по плечу.
От тупой боли Лаги приоткрывает глаза. На пороге стоит смуглый юноша в белой одежде. В правой руке держит флейту, в левой, под мышкой, истрепанные номера «Науки и жизни». Лаги узнаёт его — это ее сон. Он делает укоризненную гримасу. Ахам ащрамьям… Рамемахи[3]. Лаги проваливается в долгожданную пустоту.
Следующий день пролетел в суетливом тумане. Завертелись сборы, доставание билета; Султан, предчувствуя разлуку с Лаги, капризничал и становился мокрым каждые пять минут. Страшная утренняя телеграмма от кого-то из родственников, звавшая в Ташкент к постели отца, лежала на видном месте и оттуда тупо надзирала за сборами. В середине сборов у свекрови разболелись ноги, и Лаги полчаса просидела на корточках перед диваном, массируя ей икры и слушая вздохи, стоны и наказы в дорогу.
То, о чем говорилось в телеграмме, Лаги не понимала; она не ждала этой полной орфографических ошибок двухцветной бумаги, где ее называли Луизой. Она именно сегодня ждала вести от Юсуфа, и вначале ей показалось, что это он, Юсуф, сейчас где-то решил умереть. Он вообще как-то сказал: я не сумею без тебя жить. Теперь оказалось, что прожить без нее не смог отец. Он лежит в своей черной палате и ждет доброй маленькой феи Луизы; она прилетит к нему, обрызгает живой водой, и он, молодея, выбежит с ней из палаты, посадит рядом с собой на облезлый трофейный велосипед, и они поедут… куда-нибудь. Знаете, папа, я полюбила одного мальчика… А, яхши, кизим. Юсуф зовут. Яхши, яхши, отвечает отец, вращая педали. Мы с ним… уже стали как муж и жена. Яхши, кивает выздоровевший отец, и Луиза не может понять, в чем здесь заключается яхшивость.
Но Луизы больше нет; в паспортном столе подтвердят. Нет той маленькой сопливой феи, которая махала вам волшебной палочкой на утреннике. Есть Лаги, у нее болит плечо, туда упали сказки народов мира, рассыпавшиеся от удара на тысячу бумажных осколков. Лаги стоит перед зеркалом, сейчас за ней приедет настоящее такси — царский дар свекрови. Впрочем, кто у Лаги остался, кроме Султана и свекрови, по-своему доброй… Но как быть, если предстоящая дорога вдруг задразнила призраком свободы? Плохая дочь. (Лаги быстро надевает платье.) Плохая, неблагодарная невестка. (Торопливо расчесывается.) Наверное, плохая мать. (Подъехала какая-то машина — не наша?) Дорога. Дорога — это свобода. С тебя вдруг снимают пропревший роговой панцирь. Лети!
Хлопает дверца такси, через полминуты хлопает входная дверь, свекровь бегом, бултыхая заботливым телом, возвращается к Султану. В последний момент Лаги вцепилась в ребенка, с ним поеду, свекровь еле их разлепила.
Отдышавшись, она слышит, как такси выруливает на большую дорогу, и говорит Султану: опа в Ташкент тебе подарок покупать поехала. Подарок-подарок!
Полвосьмого утра, магазины еще закрыты. Бутылочки из молочной кухни весело дребезжат в холодильнике. Она прекрасно управится одна с Султаном. Конечно. Сейчас попьет чай с остатками нишалды. Миша, Миша, я иду кушать в баню нишалду. Это она напевает, впадая всем телом в пахнущую луком кухню.
И еще раз, уже не прячась в ванной, перечитать вчерашнее письмо от Юсуфа. Принесли вместе с телеграммой, на конверте чужим почерком чужой обратный адрес, для Лаги. Внутренний голос матери подсказал вскрыть. Вчера несколько раз тайком, урывками, читала; один раз даже Лаги подумала отдать. Нет уж, пусть едет в свой Ташкент, может, хоть наследство ей какое-нибудь выпадет. Отец у нее, она узнавала еще до его приезда, состоятельный, из интеллигентов. Свекровь отпивает горького чаю с лохматыми чаинками, скребет сухой лепешкой по днищу нишалдовой банки. Слюнявит палец и, не торопясь, разворачивает сложенный вчетверо листок тетради в линейку. Грамотность у Юсуфа прекрасная, но две орфографические ошибки свекровь вчера все же нашла.
Дорогая Лаги!
Прошу, не рви это письмо сразу. Если захочешь порвать — вспомни, как мы были вместе, как гуляли в парке, когда я еще не был перед тобой виноват. А сейчас у меня даже нет слов, чтобы охарактеризовать себя. Я хорошо зарабатываю, здесь меня не знают, и я пользуюсь уважением. Археологи — прекрасные ребята, но я не могу оценить их великодушие, живу как механизм.
Я знаю, какое огорчение доставил тебе, матери и будущему ребенку своим бегством. Слишком усилилась полуночная болезнь. Я решил уехать далеко, чтобы там исчезнуть, как точка на горизонте. Мне снилось это место, я знал, что меня там поджидает гибель. Рассказать тебе об этом я не мог, я убил бы этим ребенка. Я натворил еще одну беду: прямо перед выходом из дома я понял, что у меня нет твоей карточки. Боясь искать и шуметь, схватил твой паспорт, оказавшийся под рукой. Ты была в нем такая красивая и моя! Только в поезде я осознал, что поступил ужасно.
Я приехал наконец в то место, но трех немцев, о которых я тебе рассказывал, там не оказалось. Через несколько дней меня подобрали археологи, с ними, кстати, был один немец, доктор Блютнер из Австрии, но он к тем троим, конечно, отношения не имел. Я начал поправляться, прежние ужасы меня перестали терзать, хотя пришло понимание ужасной действительности, в которую я втолкнул тебя и всех. Прошу только одного — скорее напиши, не могу жить без твоего прощения. Я хорошо зарабатываю, пользуюсь уважением, но не могу без тебя жить. И не могу к вам вернуться, не узнав, что ты простила. Скоро начнутся дожди, археологи устанут и уедут, но без вашего прощения я буду сидеть здесь в степи, мне обещали списать палатку. А может, даже если вы все меня простите, я буду вынужден здесь ненадолго остаться. Я, как мужчина, должен разобраться в себе. Я должен стать подлинным человеком. Только не ненавидьте. Я начал поправляться, доктор Блютнер мной доволен, но волнуется, что из-за бюрократии сюда не успеет прибыть его ассистент, чтобы оценить уникальность археологических находок, к которым я тоже имею отношение. Твой муж Юсуф.
Свекровь еще раз перечитала и спокойно сложила листок. Вчерашняя обида, что Юсуф написал не лично ей, совсем выветрилась. Осталось только чувство гордости за сына, сумевшего признать ошибки и добиться уважения ученых. Были в письме неясности, надо будет расспросить, не показывая письмо, у Лаги, она что-то знает и темнит. Правда, это была не первая весточка от сына — два месяца назад передал через какого-то алкаша деньги и слова, что цел-жив. Но письмо, написанное живой рукой, пусть не ей, матери, — она простит, — это было так волнительно, получить его. Ничего, углым, я все прощу, даже если забудешь на коленях попросить прощения.
Вы — мудрая женщина, сказали ей в прошлом году на работе.
Свекровь долакомилась нишалдой и, прежде чем спрятать письмо в тумбу с почетными грамотами, поцеловала бумагу.
Утреннее солнце оживило виноградник, запели осы и шмели, по лозам и листьям побежали муравьи. Малик уже копался в земле, поливал грядки с тыквой, смотрел, сделав ладонь козырьком, на солнечное море из виноградных листьев, шмелей, гроздей, неба. После вчерашнего загула Малик был тих и хозяйственен. Небольшой участок под окнами квартиры был уже обрызган водой; здесь же, на деревянном топчане, полулежал Маджус, подпирая тощей рукой крупное напряженное лицо. Братья тихо переговаривались. Журчание воды и хор насекомых заглушали их голоса; было странно, что беседующие сами слышали друг друга.
Разговор выглядел мирно, но это был сложный и глубокий спор. Маджус строго улыбался; Малик уже минуту сидел на корточках, бессмысленно водя веточкой вишни в глинистой воде возле незрелой тыквы.
…Почему мне не позволено прикасаться к этой женщине?
Чтобы не множить ложь, отвечает Маджус. Ее жизнь и так переполнилась чужой ложью, фальшивыми цветами со смертельным запахом. Ей, ука, солгали все: муж, написавший ложь, мать мужа, солгавшая о несуществовании этой лжи, отец, солгавший своим мнимым проклятием. Даже вы, встав на путь сочувствия и похоти, не нашли правдивых слов. Любовь умножает ложь, если не подчиняется любви к истине.
Малик отвечает тишиной, потом начинает рыть землю любимой лопатой. Ака, поворачивается он к брату. Почему мы так живем? Почему я имею право прикасаться к женщине, которую не люблю, и лишен той, о которой болею уже два месяца?
Из окна выглядывает младшая сестренка с книжкой; строгий взгляд Малика загоняет ее обратно во внутренние сумерки.
Мы живем ради келажак — будущего, слышит Малик. Кроме него, у нас ничего нет. Кто-то живет ради сегодня, кто-то — ради завтра, следующей недели. А мы — ради будущего, о котором никто не знает. Ради сладостного духовного коммунизма. В котором общая память, ею все насыщаются, как сладкой едой, и один на всех виноградник, под ним усадят султана. Копните теперь, пожалуйста, чуть правее.
Ака, я верю, но ведь то, что вы сейчас говорите, вам не было открыто в пещерах. Там говорят грубую истину, а ваши слова полны спокойной сказкой. Но лучше бы ваша сказка заканчивалась свадьбой…
Малик копает правее, лопата встречает препону.
Садится на корточки, выкапывает небольшой тяжелый камень. Перетаскивает его к Маджусу, ставит возле топчана. Маджус кивком благодарит и подливает себе из синего чайника. Минуты две братья рассматривают камень, водят пальцами по теплой зернистой поверхности, продолжают беседу. Да, сейчас в аэропорту… Помощник тоже там… Акя, а она долго пробудет в Ташкенте? Щебет нахлынувших на виноградник воробьев заглушает разговор братьев.
РАФАЭЛЬ
На сиденье рядом разместился экзотичный мужчина в серой шляпе. С полминуты он смотрел — сквозь Лаги — в окошко, на неподвижные лопасти винта. Потом театрально спохватился, приподнял шляпу и пропел: добрый день. Он вообще так говорил — как пел.
Готовимся к полету? Лаги кивнула. Мужчина хотел сказать еще какую-нибудь галантность, но тут стали раздавать полетные леденцы. Стремительно повернулся к проплывавшему мимо подносу (серая шляпа подпрыгнула) и ловко добыл целую пригоршню. Так же резко повернувшись обратно, протянул их на растопыренной ладони: угощайтесь. Лаги угостилась, улыбнулась и отвернулась к окошку, где лопасти наконец пришли в ленивое движение.
Гул двигателя был еще не сильным, и Лаги слышала, как за ее спиной сосед шуршит леденцами, пытаясь засунуть их в карман брюк. Кажется, он принадлежал к той же породе авиапассажиров, что и ее отец, обязательно привозивший из командировок рвотные пакеты или охапки освежительных салфеток, которыми можно было надушить всю махаллю.
«Сувенирка из самолета!» — говорит отец, помахивая пластмассовым ножичком.
Двигатель выругался, как ошпаренный сантехник, и самолет взлетел. Колеса еще продолжали крутиться, а под ними уже уплывал утренний город из крыш и песка. Потом шасси спряталось, крыши исчезли, остался один песок.
Серая шляпа поинтересовалась, нравится ли девушке любоваться красотой.
Инстинкт вежливости требовал ответить. Лаги призналась, что внизу серо и неинтересно.
— Неинтересно, — заметил любитель карамели, — еще не значит некрасиво. Красота спасет мир, скоро появятся облака. Я забыл представиться незнакомке: Рафаэль. Рафа. Эль.
Он пыхтит и роется во внутреннем кармане пиджака. Наконец извлекает несколько листочков и великодушно протягивает один Лаги.
«Борухов, Рафаил Нисанович». Ниже: «Врач-уролог», номер телефона. Напечатано через фиолетовую копирку, сбоку красной и зеленой ручкой дорисован цветочек.
— Рафаэль — это дружеское имя, — объясняет мужчина и таинственно улыбается.
На горизонте появились кондитерского вида облачка.
— Лаги. Лаги Ходжаева.
— Лаги? — переспрашивает Рафаил, или Рафаэль, как его там. — Совсем не местное имя. А похожи вы на таджичку. Или метисочку. У вас, я предчувствую, мама русская.
— Мама была немка. — Лаги осеклась. Зачем? Выбалтываться первому встречному, соседу по полуторачасовому, не успеешь оглянуться, полету?..
Но общительный врач был вполне доволен своей почти отгадкой и глубже в душу лезть не собирался:
— У меня талант угадывать нацию. Это сложно, но можно наловчиться. Как вы думаете, какая у меня нация?
Лаги совсем смутилась. Почему-то она считала национальность чем-то вроде физиологической подробности, о чем вслух рассуждать не совсем прилично.
— Еврей… Бухарский еврей? — тихо предположила она.
— Абсолютно, — зачем-то еще тише с улыбкой подтвердил Рафаэль.
(Бедный маленький Султан, звездочка моя, как ты там сейчас…)
Мысли об оставленном сыне и умирающем отце накатывали тяжелыми волнами. Лететь еще час, тоска.
Она поворачивается к соседу, читающему газету. Серая шляпа покоится на упитанных коленях, голова с залысинами о чем-то усердно думает.
— А почему… друзья вас зовут Рафаэлем?
— В честь великого итальянского художника. Моцарт живописи! Знаете, многие мои друзья — люди художественного творчества. Я сам лично временами рисую. Красота спасет мир. Говорят, так сказал сам Достоевский. Вы имеете представление, кто такой Достоевский? Вот, стараюсь жить по этому замечательному призыву. Недавно такой ремонт себе сделал — просто закачаетесь…
Бедная Лаги действительно закачалась — самолет как раз влетел в огромное, нафаршированное вихрями облако.
Самолетик болтало; сосед продолжал рассказывать о красоте, многозначительно глядя на Лаги. А ей вдруг вспомнились буро-зеленые гигиенические пакеты из командировочной коллекции отца — интересно, в этом самолете такие водятся?
— Вы очень бледны; у вас, я чувствую, какая-то личная неприятность, — участливым шепотом пропел Рафаэль.
— Доктор… угостите, пожалуйста, еще одним леденцом… Знаете, у меня в Ташкенте сейчас… очень болен отец. Не знаю, дождется ли он меня.
Качка прекратилась; два леденца на секунду застыли вместе с неуклюже-галантной рукой где-то около плеча Лаги.
Рафаэля прорывает сочувствием, вопросами, жестами участия; последнее, наверное, некстати — несколько раз он ободряюще трогает своими горячими крупными пальцами плечо Лаги. Она слегка отстраняется, принимает сочувствие, сонно отвечает на вопросы, затолкав царапающую карамель языком за щеку.
— Я хочу вам сказать, меня в аэропорту будет встречать машина с водителем. Мы только на минутку заедем ко мне, а потом сразу в больницу вашего папы. Я не могу вас просто так оставить — я давал клятву Гиппократа.
«Клятву Дон Жуана», — думает Лаги.
«Наш самолет совершил посадку в городе Ташкенте…»
Этого Города уже нет, потому что никогда не было. Единственное, что удерживало его от превращения в коллективную галлюцинацию, было требование прописки. В остальном он больше всего походил на сгусток огней, каким, кстати, и представал идущим на посадку ночным самолетам. Расположение аэропорта почти в центре столицы приучало летающих горожан видеть Ташкент широкоформатно и немного сверху. Эта электрическая лужа, пульверизировавшая светящимися каплями на нависшее над ночной столицей крыло, — кажется теперь нечаянным и точным портретом Города. То, что у других городов воплощалось в архитектуре, ландшафте и акценте, в Ташкенте вдруг проступало в невещественности слезящейся самоиллюминации.
Однако самолет с Лаги приземлился еще днем. Ничего не светилось. Ничего, кроме обычного солнца, не сияло. Но запах столицы, веселый и горьковатый, проник сквозь испарения взлетно-посадочного асфальта и ударил в Лаги. И она закрыла глаза.
Ташкент!
Машина действительно встречала; за рулем ерзала уменьшенная и утолщенная копия Рафаэля в импортных подтяжках. Пошумев пару минут на таджикском, мужчины обернулись к Лаги. «Это мой кузен», — представил Рафаэль водителя. Кузен приветственно вздохнул.
Рыжий «Москвич» покатил по обжигающему августовскому Ташкенту, в котором Лаги не была почти год.
— Почти год, — сказала Лаги сама себе, когда машина миновала перекресток Хмельницкого и Руставели.
— Что? — переспросил Рафаэль. — Вы правы, действительно жарко.
Заехали к Рафаэлю.
Прежде чем выйти из машины, он извинялся, что не может сейчас пригласить Лаги к себе в апартамент. От духоты в машине и длительных извинений у Лаги слегка закружилась голова.
— Я вам сделаю вентилятор, — сообщил водитель, когда Рафаэль вышел.
— Спасибо вам. — Вялая струйка сквозняка обдает взмокший лоб и веки. — Вы — двоюродный брат Рафаэля?
— Я — его родной младший брат. Вы не знаете, что такое кузен? — спросил водитель и начал беспокойно протирать носовым платком пятнышки жира на лобовом стекле. За стеклом летали, ползали и бегали дети.
— Извините… я не хотела вас обидеть.
— Нет, почему, с вами приятно общаться. — Немного поразмыслив, он протягивает Лаги что-то золотое и блестящее: — Вот, берите, пожалуйста, брат только что привез из командировки.
К Лаги подплывают две самолетные карамельки.
Миновав торговку куртом у железных ворот, машина подъехала к больнице. Через пятнадцать минут (расспросы, стеклянные коридоры) Лаги останавливается перед восьмой палатой. Человек, названный в честь Моцарта живописи, остается ждать в вестибюле.
Завидев Лаги, к ней откуда-то издали, из другого конца коридора, устремляется пожилая медсестра.
— Дочка?! Гражданочка, вы дочка? — Она почти бежит к Лаги, то освещаясь на солнце, то пропадая в душной хлористой тени.
Дочка, дочка, родила сыночка. Лаги, дрожа, открывает дверь палаты.
В палате было темно от людей; казалось, все ждали только Лаги. На стуле около койки отца смуглым айсбергом возвышался самаркандский амакя, всегда, сколько помнила Лаги, работавший директором магазина.
Перед тумбочкой копошилась на корточках незнакомая симпатичная женщина, из многочисленной и труднозапоминаемой отцовой родни.
Неподалеку, тоже на корточках, сидел двоюродный братишка Лаги, сын дяди из Гиждувана; в детстве он приезжал в Ташкент гостить на лето, худенький смешливый мальчик, младше ее на пару лет. Два года назад женился, растолстел и завел на лице выражение такой серьезности, которая даже здесь, в палате умирающего, была, наверное, излишней.
Родственники были одеты нарочито не по сезону: мужчины — в серых костюмах и выгоревших галстуках, женщина — в темно-синем бархатном платье с мясистыми розами. На соседней койке сидел другой больной, старик в майке, полосатых штанах и ферганской тюбетейке. На подушке у него лежал транзистор, издававший хрипы, кашель и футбольные свистки.
И только потом Лаги разглядела за всей этой вылезшей на первый план массовкой — отца. То, что пока еще было ее отцом. Ей были подарены несколько секунд молчаливого и неподвижного присутствия.
Футбольный судья пронзительно свистнул.
Синяя женщина вскочила обниматься с Лаги, закружила ее в приветственном танце из объятий, сухих поцелуев под ритмичное яхши-мы-сиз, тузук-мы-сыз[4], тра-та-та-та-та-та-мы-сыз… Зашедшая из коридора медсестра настойчиво теребила Лаги за руку. Двоюродный братишка поднялся и встал с каменным видом. Дядя, продолжая сидеть, тихо заговорил с другим больным; Лаги показалось, что он сказал: «Явилась — не запылилась». Тот, в свою очередь, добродушно засмеялся и направился к выходу.
Медленно пробираясь сквозь эти сети из приличий и обид, Лаги наконец доходит до страшной кровати отца. И останавливается, не зная, что делать дальше.
И никто в палате этого не знает — как должна вести себя блудливая дочь, обесчестившая себя и семью, но допущенная из сострадания попрощаться с отцом.
Красавец братишка снова опустился на корточки — так легче ощущать себя зрителем. Почему-то ему вспомнилось, как он однажды в детстве вдруг поцеловал Лаги в губы, когда они играли во дворе, наполняя водой воздушный шарик. Поцеловал и сразу убежал — боялся, что Лаги его побьет. Не побила.
Лаги поглядела в лицо отцу, на его веки, губы, подбородок, словно надеясь найти подсказку. Но там уже словно кто-то начисто вытер все прежнее, родное. Лишь в углубившихся морщинах задержалась дорогая пыль прошлого, но и она безмолвствовала. Губы, мучительно звавшие дочь два дня назад, были будто заметены снегом. (Какой-то подсказчик, уменьшающийся с каждой минутой, дергал отца за капитанскую шинель и шептал, что дочь следует простить, снять с нее несправедливо и неумело наложенное проклятие. «Какая дочь? — смеялся летящий над городом офицер. — У меня нет никакой дочери. Я еще никогда не бывал с женщиной, дочери быть не может. И никого я не проклинал, кроме немцев. Фашистов. Еще предателей. Еще…»)
В это время Лаги уже стояла на коленях, обхватив руками уходившие куда-то в пустоту железные перила койки, и выла. «Дода… Дода-жон… Дода». Как тогда, когда он приехал проклинать, она инстинктивно пыталась найти его ладонь, уткнуться в нее, просить о милости. Тогда, в апреле, отец отрывал руку, прятал за спину. Сейчас рука была в полном ее распоряжении. Но ладонь была сухой и чужой. Глиняной.
Лаги встает; зрительские лица родни проплывают мимо нее; она понимает, что идет к двери. За дверью на нее опускаются добрые и шершавые руки медсестры. Очень вас ждал, рассказывал, какая вы у него умница, хорошая. Жалел, что погорячился.
Все еще шевеля губами (дода… дода…), Лаги слушает святую ложь.
Через пару минут дверь палаты открылась, торжественно появился братишка и поманил Лаги. Предстояло еще что-то.
Бархатная родственница, цветя всеми розами на своем платье, с полуулыбкой подвела Лаги к отцу. Амакя занял прежнее председательское место на стуле — он только что продиктовал в ухо умирающему какое-то пожелание. Женщина опустила Лаги на колени; амакя взял правую руку отца и положил ладонью вниз на темя Лаги. Отец слабо кивнул.
Директор магазина читал молитву и давил сухонькой отцовой рукой на темя Лаги. Отец хрипел, послушно кивал и улыбался пятну сырости на потолке. Лаги, потерявшая все ощущения, кроме смутного чувства приличия, ждала, когда родственники решат, что она полностью прощена.
Когда боль в темени от отцовой руки стала особенно давящей, а пение молитвы — особенно тяжелым, шумевший и свистевший радиоприемник вдруг заговорил. «Моцарт, — сказал он и облизнул невидимые губы. — Увертюра к опере „Дон Жуан“».
И пока братишка не заметил строгого взгляда амаки и не выключил задурившее радио, молитва, хрипы, тихие причитания доброй сине-красной родственницы — все мешалось с неожиданной музыкой, светлой, страшной.
Луиза! Луиза! Луиза!
Процедура прощения была выполнена, Лаги выставили из палаты. Она двигалась на пластилиновых ногах по коридору, полоса света, полоса тени, снова света. В одной из светлых полос она нашла Рафаэля — тот о чем-то жестикулировал с двумя врачами. Увидев Лаги, ринулся к ней в тень и собрался осыпать медицинскими словами.
— Я все знаю, — остановила его Лаги; хотя — что она знала?
— И что вы собираетесь решать?
— Знаете… Рафаэль Нисанович… давайте поблизости… покушаем. Я так хочу есть…
И, как сдувающийся шарик, легко и бесшумно упала в обморок.
Снег прервался, сразу стало холодно. Медленно дул ветер. Самаркандский капитан долетел до реки, делившей оккупированный город на две части, и мягко приземлился на склизкие камни набережной.
Здесь его поджидали.
У причала в холодной австрийской воде покачивалась лодка. В ней сидел коренастый лодочник, похожий на старуху; голову и плечи покрывала накидка из темного полиэтилена. На его коленях улеглась маленькая рыжеватая собака с двумя белыми пятнышками на лбу. Лодочник и собака посмотрели на прибывшего одинаковым взглядом. Капитан отдал честь и откашлялся.
— Насреддин Умарович Ходжаев, партиец, год рождения одна тысяча девятьсот восемнадцатый, год зачатия — одна тысяча девятьсот семнадцатый, — торопливо, почти без акцента, начал он.
Лодочник рассеянно слушал, сплевывая в холодную нефтяную воду. Собака дрожала и скалила улыбку. По противоположному берегу медленно катили фронтовые грузовики и быстро шли люди.
— В течение последующей жизни восемьдесят два раза лгал и говорил ложь; три раза… делал ссание на огонь; шесть раз наслаждался с дурной женщиной, из имеющих родинку выше колена; два раза изливал семя на куст боярышника; убил в сражениях двадцать человек, убил без битвы двух человек, еще — одну собаку…
При этих цифрах Насреддин Умарович прервался и покосился на собаку лодочника. Лодочник зевнул, поправил съехавший от ветра полиэтилен и хрипловато проговорил:
— Достаточно. Стихи принес?
Капитан порылся в кармане под шинелью, где обычно бывало тепло, но теперь — зябко. Трофейная карамель, перемешанная с махоркой и какой-то мелочью; сложенный листок — ага. Глядя на лужистое дно лодки, не отражавшее ничего, кроме пустого неба, капитан протянул листочек старику. Тот по-хозяйски развернул, высыпал забившуюся меж складок махорку на свою темную пролетарскую ладонь и принялся изучать стихи. Собака тоже тыкалась головой в бумажку, моргая от запаха махорки.
— Ну, поехали, сынок. Курта хочешь? — сказал наконец лодочник и поманил бывшего капитана к себе.
Тут ветер окончательно сдернул полиэтиленовую накидку, и она полетела над дымящейся водой куда-то в сторону комендатуры. На обнажившейся массивной лысине оказалась маленькая тюбетейка, вышитая крестами. Лодочник попытался нахлобучить ее поглубже, и неудачно.
— В лодку! — скомандовал он новоприбывшему, уже без всякого «сынка».
Часы на ратуше увесисто стукнули восемь.
Через несколько минут к причалу прибило старый полиэтилен и розовую куклу без левой руки.
Дни похорон и поминок прошли в дыму. Было много еды, соседей, ос, летающих над едой, соседями, столами в богатых скатертях, дымом. Лаги раздавала вещи отца, что получше; что похуже гости забирали сами. Вкус еды она не чувствовала, прежние лица соседей не узнавала, новые — не запоминала. Она была добросовестным роботом скорби, вместе с другими женщинами выполняла бесслезный плач и готовила все новую и новую красивую и безвкусную пищу. В нее не тыкали пальцем, она была прощена, и об этом прощении — последнем благодеянии уважаемого человека — все рассказывали как о чуде.
Рафаэля она почти не видела. Он выполнил клятву своего Гиппократа, поднял с больничного пола глупую-преглупую Лаги. И все же Рафаэль был где-то недалеко. То он оказывался за столиком, где сидели «европейцы», и о чем-то достойно беседовал с отцовским другом, рыжим хирургом Лисицианом; хирург при этом вытирал рот салфеткой и согласно кивал. То визитка Рафаэля — другая, уже без цветочка — обнаруживалась около зеркала в прихожей. Рафаэль присутствовал — ровно настолько, что его нельзя было не заметить, но при этом невозможно было прогнать.
По вечерам ей звонила свекровь и хриплым от счастья голосом сообщала про Султана. И, не меняя мелодии, рассказывала, как хоронила когда-то своего мужа, известного городского физика и бабника.
Наконец, через неделю Лаги почувствовала вкус пищи. Он был горько-соленым.
Все закончилось, и она оказалась одна. Дом, бывший эти дни театром поминок, опустел. Многослойный, накопленный за много дней запах еды. На завтрашний вечер были взяты билеты обратно, к сыну. Завтра Лаги станет думать, как строить свою жизнь. Продолжать существование с полусвекровью в ожидании исчезнувшего полумужа? Перебраться в Ташкент, восстановиться на факультете? Об этом она будет думать завтра. Пока она стоит у окна в вечернем доме из сырцового кирпича. По наружной стороне стекла, где уже сумерки, ползет оса, освещенная кухонным светом.
Дренди-бренди-колбаса, на веревочке оса. Когда веревочка — больно, но не страшно. Тебя дергают и кормят. Колбаса, бренди. «Лаги-опа, нима ош емисизми?»[5] «Джаночка, какая интересная красавица выросла, только худенькая, пусть ему земля будет пухом!» А теперь одна в осеннем доме. Воробьи, поклевав виноградник в голубые зрачки переспелых ягод, давно шумно ушли разорять другие сады. Оса, досеменив до края стекла, унеслась в пустоту. Старый дом еле слышно потрескивал глиняными костяшками кирпичей. Начало. Горько-соленого страха.
Трусость — это недостаток, страх — болезнь. Лаги почувствовала, как заболевает.
Первым симптомом стал ветер; в окна стали заглядывать обугленные жарой листья и ветви, отодвигая изнутри пестрые занавески. От сквозняка закорчилась хищная актиния под закипающим чайником. Луи… са… луи… ссааа… — торопливо зашептал чайник.
Чай — напиток утешения, но если бы его можно было взять, не кипятя в пустом доме. О, чайник — по виду напоминающий отрубленную слоновью голову, а по звуку — хриплого кладбищенского попугая!
Лаги с хрустом выключила слоновью голову, погасила свет и, не дожидаясь, когда в окне проступит рисунок ночного двора, ушла из кухни — спать. Скорее натянуть на голову пыльное одеяло, надежно сомкнуть веки, чтобы сквозь них не проникал ветер. Спи, моя радость, усни. Не думать о ветре. Спи, моя радость, усни. Хруст полиэтилена, плеск маслянистой воды.
Лаги засыпает лицом на север.
Часы на ратуше отбивают восемь ударов, на пестрый циферблат выезжает фигурка Турки в сером тюрбане и магометанских одеждах. Он кланяется и начинает исполнять смешной танец под замедленный Турецкий марш. В мирное, туристическое время сюда приходили толпы детей и иностранцев. Зевак… Сейчас Турка дергал ногами перед пустой площадью в обмылках сугробов.
Войны уже не было. Или еще. И площадь не была совершенно пустой — но женщина, которая шла по ней, неровно дыша и глотая ветер, не была похожа на зеваку. Только однажды она повернулась к Турке, он как раз собирался напоследок поклониться невидимой публике, развеянной по всему концентрационному миру. Женщина не видела Турку, не видела площадь; она не увидела бы и саму себя, поставь перед ней кто-нибудь в шутку зеркало. Но шутников поблизости не было — вот-вот должен был начаться комендантский час, редкие тени прохожих, спотыкаясь, отползали нах хауз. Даже неподозрительная во всех смыслах личность Турки поспешила уехать в свой черный часовой домик. Зверек из семейства грызунов, живший во впалом животе женщины и бесцеремонно требовавший еды, на время затих. Но боль в животе не ушла — зимняя боль растоптанной женщины.
Она вздрагивает, потому что из-за угла на нее почти вываливается высокий смазливый блондин в русской форме. «Фройляйн Луиза!» Да, Луиза, это она.
«Я зовусь Борис, Борис Либерзон, вы меня помните, я друг Дина, должен от него вам что-то объяснить», — начинает он бормотать на почти правильном немецком языке. Да, это Борис, переводчик из комендатуры, друг. Он что-то, торопясь, говорит, пытается схватить за руку. Герр Либерзон, ступайте в казарму и переводите своего Кафку, а я больна, и мой турецкий танец ист цу энде. Так, наверное, она отвечает ему — за гулом ветра не разобрать, за сумерками уже не разглядеть. Сейчас начнется ваш комедиантский час; она разворачивается, чуть не потеряв равновесие, и уходит прочь. Солдат-переводчик бежит за ней; сумерки.
Через час, в разгар тишины, на пестром циферблате колокольчики заиграют «Мальчик резвый, кудрявый» и под заснеженными цифрами возникнет другая фигура. Украшенный розами череп на голом женском торсе с барочными грудями. Прежде чем начать свой повседневный тотентанц, фигура отвесит сверхучтивый поклон. На этот раз — в сторону совершенно пустой площади.
Лаги проснулась, разбуженная болью. Она лежала в чем-то мокром, словно не глаза, но все тело источало слезы. Спазм, снова спазм… Лаги лежала, крепко сжав веки — последнюю преграду между собой и… Она провела рукой по животу, откуда волнообразно исходила боль, и задохнулась от дикого открытия.
Живот был вздут как шар — как полгода назад, до рождения Султана. Не веря, она провела по животу другой, правой, рукой. Не довершив удостоверения, сжала руку в кулак — от нового порыва боли. Оттягивать ее узнавание уже не было смысла — боль роженицы. Она билась в ней, отказываясь сообщать о своей причине и забывая проговорить слова утешения. Лаги охнула и согнула в коленях ноги — все еще боясь открыть глаза.
…В перерывах между болью Лаги замолкала (она все кого-то звала) и начинала безумно вслушиваться. В ушах была тишина, только один раз кто-то вроде тихо пожаловался, что, вот, замерзли лотосы. Лотосы замерзли.
Потом Лаги уже не смогла вслушиваться. Боль, нарастая по законам барабанной дроби, дошла до своего пика. Лаги, хрипло прошептав «мама», полетела, понеслась вперед, вдоль золотых и красно-синих пятен.
Перед рассветом она проснулась. И задрожала — мелко, бесслезно: так захотелось почувствовать рядом, вплотную, твердое тело Юсуфа. Его тело, словно вырезанное из драгоценного дерева, еще хранящего тепло субтропического полдня.
В комнате было темно, но уже можно было разобрать куцую лепнину вокруг люстры и саму люстру, нависшую бесстыдно-голым медузьим животом. В голове вертелась какая-то дешевая песенка, болела поясница, хотелось в туалет — темный домик, обклеенный изнутри позеленевшими портретами индийских кинозвезд.
«Утро красит нежным светом, — по-пионерски дергая головой, пропела Лаги по дороге к включателю. Проверенный способ подбодриться. — Стены древнего Кремля!» И неожиданно вспомнила, как Борис Леонидович, друг отца и переводчик, шутил над этой песней: «Просыпаюсь я с рассветом, а в кармане — ни рубля». Откуда только страх?
Лаги стояла в туалетном домике, прижавшись щекой к пыльной индийской фотографии. Цыплячьей желтизной сочилась не спасавшая лампочка, из ямы пахло чужими. Ни света, ни запаха Лаги не чувствовала, даже своего сердцебиения. Только шорохи во дворе, лязг секатора, как будто подрезали виноградник, и сопение собаки. А еще — плакала какая-то женщина, утирая пьяное лицо пыльными виноградными листьями.
А потом Лаги оказалась снова в комнате, каким-то стремительным чудом миновав двор. Скорчилась над треснутым квадратом телефона, залеченным синей изолентой. Держа в левой руке визитную бумажку, ошибаясь и начиная набирать заново, Лаги звонила на другой конец города, в квартиру с таким ремонтом, что закачаешься.
Сбивчиво извинившись за поздний… нет, ранний звонок, Лаги запнулась. К счастью, трубка успела проснуться, удивиться, кашлянуть. И пообещать приехать — немедленно. «Немедленно» было уже пропето вкусным басом выспавшегося мужчины.
Рафаэль лежал на толстом, выпуклом диване. Жадными ноздрями всасывал рассветную тишину и улыбался. Мужчина в полном соку. С опытом жизни, со знанием науки дружбы и искусства любви. Были поражения (Рафаэль насупился). Были поражения, которые ты встречал с великодушной усмешкой (Рафаэль сощурился в улыбке). Тебя хотели сделать участником анекдота «Вернулся муж из командировки». Самый лучший друг. Самая любимая жена. Самый лучший и самая… Вон из моей памяти! — командует Рафаэль двум голым выродкам, которых он застиг в им же вычитанной позе из израильского непристойного журнала. Засранцы, мерзость амонитская! Уползают в зашифоньерный сумрак, не разнимаясь.
Но что же он лежит? Ему был звонок, его готовы принять, смотреть на него прекрасным, мягким взором. Рафаэль взлетает с дивана и мчится, шлепая наливными, как яблоки, пятками по паркетному полу — вперед, вперед, в ванную! Артистично хватает зубную щетку и на секунду застывает с ней, как фон-караян, перед зеркалом, вырезанным в форме большого сердца.
Опомнившись, Лаги стала перезванивать Рафаэлю, чтобы не приезжал. Поздно — перламутровая квартира уже вытолкнула из себя мужчину, пахнущего «Поморином» и еще чем-то бодрым, и теперь сонно мычала долгими гудками.
Лаги повесила трубку, подошла к столу отца.
На столе творился тот же пестрый беспорядок, что и в прежней отцовской жизни, в его странной душе. Три-четыре газетные вырезки. Одна — с карикатурой Бор. Ефимова, которого отец собирал в особой папке с юмором. Черно-белая фотография Сикстинской мадонны, на которой стоит треснутая пиала с высохшим чаем. Чаинки прилипли к желтоватому дну, как застарелые кровоподтеки; сама пиалушка уже не пахла — ни отцом, ни чаем. Почтительно обернутая в ветхую газету книжечка Брежнева, двадцать четвертый съезд. С карандашными мыслями отца на полях; некоторые были арабской вязью.
Сбоку находилась стопка полупрозрачных листков с фиолетовым русским текстом. А, вот заголовок. Франц Кафка. Это имя Лаги уже где-то слышала. Нет, это не название, скорее — писатель. Название вот — «Замок». В воображении Лаги почему-то нарисовался большой немецкий замо́к, который отец вешал на дверь, когда они еще жили в Самарканде. Рядом несколько листков, простроченных мелким летящим почерком, — отец писал, как Ленин. Нет, это на узбекском; начал переводить прозрачные страницы. «Сарой». Зачеркнуто. «Кала». В скобках: «Жинни-кала»[6] и знак вопроса. А, вот о каком замке… Лаги вздохнула. Села, взяла отцовскую пиалушку, стала бессмысленно водить ею по лицу. К затихшему, но все еще колеблющемуся в Лаги страху добавилось растущее чувство стыда. Пиала шумела, как морская раковина. Страх и стыд.
Сейчас он придет.
Лаги почувствовала, как ей будут давить плечи и руки. Если бы все только обошлось руками и плечами! Тени, которые напугали ее своим бесцеремонным танцем во дворе, были бесплотны и пусты; а придет сейчас тот, из плоти и крови, напичканный лимфоузлами, локтями-коленками, вчерашним шашлыком. И все это навалится, зажурчит горячей слюной, захрустит фалангами пальцев, надавит бахчевым животом. И Лаги превратится в висячий мост, по которому восторженно зашагает футбольная команда.
Приближение….
Почему пещеры, куда водил ее Малик, дали ей мудрость, но не дали силы? Или мудрость — это единственная сила, на которую может рассчитывать слабый?
В школе она научилась, зажмурив от брезгливости глаза, давать сдачи. И разучилась это делать, еще не окончив школы. Мир мужчин, притяжению которого Лаги сопротивлялась во время подростковой ломки, навис над ней, как корабль пришельцев. Этот мир был полон лесных законов, окровавленных футбольных мячей и непристойных фотоснимков, на которых специальные куклы (Лаги вначале не верила, что это живые девушки) безмолвно показывали себя. Это был мир нагло-победоносный, как запах из школьного туалета «М», где хулиганы матерятся и, насвистывая, заливают мочой непогашенные окурки, а нехулиганы дорисовывают на стенках то, что не успели на парте.
И Лаги, сменив «Красную Москву» на подаренный самаркандским дядей флакончик «Фам Дамур», начала отступление перед этим миром.
Год назад, почти прокусив дымящую соломинку «Стюардессы», она призналась себе в своем поражении. Ровно год назад.
Огни! Золотые, удушливые, пляшущие. Студенты в ночи. Лаги, прошлогодняя Лаги в синем отцовском трико, стоит на каменистом пригорке, любуется весельем. Пламя трех костров швыряет палевые тени на горы, ближние и отдаленные.
Алкоголь творил с ней свои страшные чудеса. Вот костры, разом пошатнувшись и лязгнув, поплыли медленной каруселью; блуждающие студенты выстроились во внешнее, опоясывающее кольцо и тоже поехали, поехали. Сейчас она почувствует сзади горячие, нетерпеливые шаги. Это я, Юсуф…
Выпила — залпом — после вечернего погружения в озеро. В воде было не холодно; рядом с Лаги качались-осыпались цветы заката. Мерцавшее чувство счастья не выпускало из озера. Сияющая синяя вода, казалось, вообще не имела температуры: Лаги ее не чувствовала, обернутая невидимым покровом, сотканным из тысячи влюбленных губ. Когда же на поверхность всплыли первые звезды и озеро выплеснуло Лаги на грязный берег, она почувствовала холод. Холод. Внутри дрожащего тела резко наступила зима, зима посреди мягкого узбекского сентября. Полотенце, свитер с налипшим репьем, втиснутая в зубы бутыль, терпкий огонь устремляется в горло и стекает жидкой искрой по подбородку.
…Шаги. Юсуф… (Что-то говорит, наращивая с каждым словом нагловатую хрипотцу.) Потанцуем?
Огни, удушье, молчаливая борьба обреченных, казалось, на соитие. Конец этого пьяного танца Лаги не помнила. Их тела закатились в черное нутро часового механизма; Лаги ударилась о деревянное лицо зубастой турецкой куклы.
Пиалушка выскользнула на пол, завертевшись волчком. Звонок. Звонок. Звонок! Пиала остановилась и вопросительно посмотрела на Лаги своей единственной глазницей.
Не открывать и спрятаться. Где-то тускло залаяла собака. Не открывать! Лаги подбежала к зеркалу причесаться, на тот случай, если все же…
Звонок и стук в калитку. Лаги стоит на кухне, закрыв лицо руками. Считает; сорок один, сорок два… Лают уже две собаки, им подпевает петух. Бездна.
Долгий, сокрушительный стук в калитку; рядом с калиткой — Лаги, чертит что-то пальчиком на известковой стенке. «Лаги Ходжаевна! То есть Насреддиновна!» — поет испуганный Рафаэль. Калитка заперта изнутри на щеколду, легко догадаться, что дома кто-то есть. Девяносто шесть, девяносто девять…
Двести!
В открытом проеме калитки стоит вспотевший Рафаэль. Держит перед собой три лепешки; по нижней хозяйственно бегает мураш.
— Я думал, у вас нет хлеба… Что с вами было — вы… одна?
Прогнать-впустить, впустить-прогнать…
— Заходите… Раз пришли.
И Лаги продолжает произносить какие-то квелые слова: «Спасибо за хлеб. Как здоровье?.. Как дома?..» — шаркая калошами по кирпичной дорожке виноградного дворика. Следом, обиженно разглядывая рассветный сумрак, бредет Рафаэль.
Они сидят в гостиной, медленно пьют чай. Вполголоса разговаривают о жизни. Растерзанная лепешка, вазочка с чищеным орехом, обобранные кисти винограда. Прошедший страх Лаги, почти забытая обида Рафаэля. Вполгромкости телевизор, утренний концерт, песни и пляски народов Аляски. Продолжая слушать биографию Рафаэля, Лаги искоса смотрит в подернутый пеленой помех экран.
— Я свою соперницу! Увезу на мельницу! В муку перемелю — пирогов напеку!
По экрану прохаживается женщина, широкая, голосистая. Такая точно соперницу в муку перемелет, рассеянно думает Лаги. И пирожки у нее получатся — объедение…
— …И остался жить один, в гордом одиночестве, полностью один. Я сам пошел на эту трагедию и пока не жалел… Вы не могли бы переключить на соседнюю программу, на футбол?.. Нет, я понимаю, у вас траур!
Султан едет в уродливой коляске, над ним — теплые кроны деревьев. Взрослые остались дома резать морковь, Султана катает шестилетка Юлдуз, младшая сестренка Малика. Около коляски вертится рыжая собака Черныш и пытается укусить колеса.
Султан дремлет, ему снятся обрывки колыбельных. Два дня дома неспокойно, ходят гости, Хадича-опа (мать Малика) и Юлдуз. Они прячутся и пережидают, когда у Маджуса закончится боль. Тогда за ними придет Малик, который сейчас один сидит с братом и читает ему успокоительные песни, а когда не помогает, бьет хлыстом. Последней из дома прибежала Черныш, худая и пропахшая исрыком. И тогда решили приготовить плов.
Султан просыпается и несколько секунд видит перед собой вселенную. Лаги, выключающую телевизор. Буви-жон, перебирающую пепельный рис. Малика, поющего перед костлявым Маджусом. Юсуфа, фотографирующего высокого кудрявого немца на фоне неба. И добрую собаку Черныш, самую знающую из всех.
— Мне, наверное, пора, — говорит Рафаэль и кланяется Лаги, согретой утренним солнцем комнате, выпитому чаю и еще чему-то невидимому.
— Рафаэль Нисанович…
— Просто Рафаэль!
— Не просто. Все не просто… Я вам не сказала, почему не открыла сразу. Рафаэль, мне было страшно. Во дворе… — Она прикрыла глаза, вспоминая колеблющиеся лики, обступившие ее.
— Ну, загляните в церковь, в мечеть! У меня знакомство в синагоге… Знаете, в религии есть очень порядочные люди, они вам помогут. Вы, я извиняюсь, верите в Бога как — по папе или по маме?
Лаги продолжает сидеть с закрытыми глазами; Рафаэль сосредоточенно вспоминает какой-нибудь страшный случай из своей жизни, но в голове вертится только измена жены. Еще он знает поэзию. Но сейчас читать наизусть не будет, атмосфера не та.
И он ушел, оставив лепешку, клятву звонить и многообещающий поцелуй в руку. Страшную историю о слоне он вспомнил только в дороге и прорепетировал ее про себя, чтобы рассказать в следующий раз.
Лаги вернулась в комнату. Обнаружила пятьдесят рублей, все-таки оставленных Рафаэлем. Подошла к столу. Там уже сидел полупрозрачный юноша и наливал себе чай. Старые знакомые.
«Ну, как тебя зовут сегодня?» — мысленно поинтересовалась Лаги у своего сна, ложась на тахту. «Ты все равно не выговоришь с первого раза, со второго — забудешь, — заверил сон. — Лучше повторим корни глагола „будх“[7], на котором ты засыпалась на пересдаче». И, приспособившись рядом с размякшей Лаги, по-братски обнял ее своими тонкими коричневыми руками и забормотал: «Бодхати, бодхишьяти, бодхаяти, буддха…»
Этого объятия Лаги, как всегда, не почувствовала (бубодха, бубодхисати…) — она снова входила в озеро, держа на руках Султана, играющего на флейте.
Спросонья Буддхагоша Винаяка принял звуки флейты за наступление зимы. «Лотосы замерзли», — испугался. Потом почти рассмеялся своему испугу. У северных монахов, у которых он сейчас гостил и книжничал, лотосов не водилось. Озера были пустыми.
Винаяка ходил по вселенной, таская за собой книги. Теперь он пришел сюда, где монашество жило под землей, в рукотворных пещерах, а на поверхности стояла только голая глиняная ступа со священными обрезками ногтей Пробужденного.
Монах встает, протирает лицо песком, плотно закрыв глаза. После ритуала идет в подземную трапезную, перебирая на ходу связку мелкого грецкого ореха.
Он движется мимо немногочисленных сидящих и чавкающих фигур, мимо кувшинов со свитками — в библиотеке идет починка, часть книг перенесли сюда, поближе к теплу. Половина монахов — бывшие огнепоклонники — продолжают радоваться при виде огня.
Винаяка прислушивается к разговору двух новых монахов. Тот, что постарше, за завтраком втолковывал другому учение о перерождении и теперь — запросто, словно на это и не требовалось специального разрешения, — предсказывал молодому его последующие жизни. Молодой грыз лепешку и, судя по движению зрачков, не верил.
— …А потом ты переродишься на далеком Западе, толстым, некрасивым, женолюбивым, но прославленным рисовальщиком, будешь рисовать красками, сделанными из жира. Изобразишь для западных жителей бога Ганешу в лепестках пламени. И за это переродишься потом недалеко от этих мест и предстанешь в образе стройного юноши-врача, почти прозрачного, длинноволосого, и удостоишься увидеть нового…
Тут только шарлатан заметил, что его молодой слушатель ушел за новой лепешкой. Последние пророчества были уже произнесены перед сидевшим поблизости Винаякой.
— Простите, — пропел самозваный пророк и стянул в знак извинения с головы серую тряпку.
Тут подал голос сидевший наискось рябой монах, произнося вслух надпись, которую он выводил на своем новом кувшине:
— Кув-в-шин мо-наха Дхармамитры, чужое. Кто ук-радет, тот вор!
Домой летела уже другим самолетиком, без пропеллеров. Сиденье рядом было пустым.
Она поставила на него сумку, наполненную заказами свекрови и купленным в последний момент фиолетовым зайцем для Султана. «Куёнча, а куёнча», — позвала Лаги зайцеобразное чудо. Пошевелила его лапками с розовыми подушечками, потом стала вертеть зайца, как будто он танцует. Тихо стала напевать.
Самолет осмонда учиб кетватти. Ичида Наргиза утриб егватти. Йиглама, йиглама… (Самолет в небе летит. А в нем сидит Наргиза и плачет. Не плачь, о Наргиза! Родишь сына — назовешь Рустамом.)
«Пууууу…» — сказал смешной самолет и заковылял по направлению к взлетной полосе. Вечернее солнце нерезко ударило в глаза. Лаги обняла зайца и решила вернуться через две недели, чтобы восстановиться на востфаке. Новый замдекана оказался дальним родственником, санскритский грех ей были готовы отпустить. Леденцы? Спасибо, не хочется.
Когда самолет оторвался от бетона, Лаги показалось… Будто по газону вдоль взлетной полосы бежал Рафаэль, левой рукой придерживая шляпу, а правой яростно посылая самолету воздушные поцелуи. Страстью и негою сердце трепещет.
И она снова слилась с Султаном — так взаимопроникают акварельные пятна на влажной бумаге. Рядом сидела свекровь, похорошевшая, пахнущая парикмахерской, и слагала долгий рассказ о событиях последней недели. Лаги иногда ее переспрашивала, чтобы показать, что слушает. Только на минуту, когда свекровь заговорила об усилившейся болезни Маджуса и поведении Малика, Лаги прислушалась и не переспрашивала. Вспомнила дребезжащие сандалии Маджуса, странное пророчество: «Лаги-ханум, вам скоро станет помогать мужчина, как старший брат». Что ж… Лаги снова принялась тискать Султана, пугать его фиолетовым зайцем с необрезанным ценником, невпопад переспрашивать.
Ближе к вечеру свекровь многозначительно усадила Лаги пить чай.
— Видела я недавно один сон, — заговорила свекровь по-русски. — Про Юсуфа. Что страдал по ночам болезнью, которую ты от меня скрывала. Так это?!
Лаги молча уставилась в дымящуюся пиалу.
Нас родилось три брата Боруховых; младшего, Гаррика, вы уже видели в машине. А со старшим произошло такое, что он попал работать в цирк. Представьте, когда отец об этом узнал, долго смотрел на свои руки и целый день ничего не мог есть. Брат в школе был отличником по биологии, все боялись, что он решит стать биологом и резать животных. А он вместо этого решил их дрессировать. От него стало пахнуть клеткой. Родители в ужасе. Потом его прикрепили к слонам, стали увозить на гастроли.
Он часто брал меня к себе на работу, он на целых пятнадцать лет старше, между нами еще сестра, но она сейчас замужем. Меня там даже научили жонглировать двумя предметами. Можете поверить, это был выдающийся цирк, одни имена чего стоят: Кваренги, Мишель… Мишель — это цирковое имя брата, по паспорту он Миша. У него был номер, который стал ну просто любимцем публики: слоненок бегал по сцене, а на спине у него были прикреплены разноцветные крылышки. Такой слоненок, умнее собаки — а сколько грации, кокетства — не поверите! Летал по сцене, прыгал через все что надо, и главное — эти крылышки, такая искра фантазии!
Я почти не могу говорить, что произошло дальше.
Пожар. Ночью. Такой, что даже в областной газете… Писали, что удалось спасти какую-то редкую змею, которую я даже в глаза не помню. И все. Знаете, что я вижу? Слоненок носится по клетке, крылья уже горят. От ужаса он выполняет все-все номера, которым его учили, а его никто не хвалит и не спасает; вокруг горят другие животные. Знаете, что я еще вижу, когда мне бывает плохо? Как под утро на крематорий, в который превратился цирк, приходит брат, садится на корточки и сходит с ума.
Лаги стояла возле громыхающей раковины, в третий раз перемывая чистую банку из-под нишалды. Чувствовала себя как партизан после допроса. Правда, партизан после допроса не заставляли еще перемывать посуду.
В клетке. Снова в клетке. Что же не радуешься, не целуешь железные прутья? Впрочем… Еще успеешь. Красота спасет мир, упрекнул ее Рафаэль. А кто спасет красоту? Кто спасет это лицо, которое друзья фотографировали — не могли нафотографироваться, эти руки? Рабыня для свекрови, служанка для сына, кукла для мужа…
С улицы вернулась пыльная свекровь.
— Слышала, еще в космос парня послали!.. Юсуф в школе мне всегда этим голову морочил: «Опа-жон, мне нужно в космос!» Это я к тому, что… он был уверен, что Султан его ребенок? Подожди, не отвечай! Слушай, что я решила тебе советовать: езжай в Ташкент, восстанавливайся на свой восточный язык, пусть за душой хоть диплом будет. Восстановишься, я привезу Султана, чтобы рос в столице. По дому тебе будет помогать Хадичина Юлдуз, с Султаном сидеть, у нее здесь нет жизни из-за братьев, ночью вскрикивать стала, бечора. Денег немного я и Хадича будем вам передавать. Зла на Юсуфа не держи и постарайся его забыть. Как будто он в космосе, далеко, слишком далеко от нас, женщин, хорошо? Ты еще молодая, двадцать, двадцать один, я в твои годы…
…я в твои годы… я в твои годы… Ум-та-та, ум-та-та… я в твои годы…
И она поступила, как велела свекровь.
Рафаил Нисанович сидел на ночном дежурстве и сонно рифмовал. Завтра свадьба одного из троюродных братьев, от Рафаила ждут поздравления в стихах.
Желаю радости от брака, живите не как кошка и собака, а…
Припаздывающее продолжение наводило на пессимизм. Никто от него завтра ничего не ждет. Бездетный, разведенный, легкомысленный — такому на свадьбе лучше молчать глазами в тарелку. Тарелка, в свою очередь, будет полной — родня любит Рафаэля всем сердцем, всей своей мочеполовой системой, которую Рафаэлю временами приходилось врачевать. И на поминки его звали от всей души, иногда даже заставляли, хватая за плечи, прочитать какие-нибудь стихи, созвучные усопшему. Но завтра, к сожалению, будет свадьба, и ценителей созвучий найдется мало, зато ценителей сплетен…
Блеснуть поэзией хотелось перед Лаги, которую он возьмет с собой на свадьбу, что бы там ни шептали старухи. Да, он всегда был выше предрассудков. Он не прятал женщин, за которыми ухаживал еще при Маринке — не прятал и раны от Маринкиных ногтей. Даже изменить ему она наконец решила с самым тусклым из его друзей и устроила себе потом свадьбу, не надев приличного платья. Желаю радости от брака… Собака!
Воспоминания отвлекли от мук творчества. Рафаил Нисанович комкает не оправдавший надежды листок и стоически относит в мусор.
Корзина, куда упал комок бумаги, оказалась заполнена какой-то ветошью, зелеными тряпками, колышками и обрезками красной тесьмы. Что все это делало в мусорной корзине медицинского учреждения? Рафаэль подошел к окну и — рассмеялся. В голову пришла, нет — влетела такая идея, что пальчики оближешь. Завтра он покажет всем карнавал! Его никто не узнает, он явится в костюме лесного человека из тряпок и перьев и запоет…
И-известный все-ем я-а птицелов, сюда пришел покушать плов!
(Флейту! И огни — золотистые, пляшущие!)
…Из тряпок, колышков, шнурков, сложенных вместе, сопряженных, явился мне человецкий образ. Хали-бали э, бали э! Вот так же из мяса, жил, костей возникло представление о Я. Когда рассматриваю их порознь, Прокричи мне в ухо хоть двадцать «хали э!» — Не вижу в них ничего, похожего на Я.— А что такое «человецкий»? — грустно спросил Винаяка у лжепророка, оказавшегося к тому же лжепоэтом.
— Это значит: не полностью человеческий, — милостиво объяснил новый знакомец и наконец нахлобучил себе на череп серую тряпку, которую все это время вертел в руках.
«А лотосы все-таки замерзли», — подумал вдруг уставший Винаяка. Он почувствовал сквозь толщу потолочной земли, как серый дождь наверху безжалостно переходит в ранний ноябрьский снег. Значит — сидеть ему в этом черном подземелье до весны, дышать коптящими огнями, слушать, не перебивая, местных пророков и серых витий. А ташкентская община, в которую он держал путь, на целую зиму останется без Сутры золотого блеска.
И все же — первый снег…
— Давайте поднимемся ненадолго наверх.
— Наверх?
Да, они будут играть в снежки и лепить из снега статую Пробужденного.
Вечером снег стал превращаться в воду. Ташкент вспенился жидкой глиной, в лужах на просевшем асфальте радужничали бензиновые цветы. Только на ветвях еще тяжелел снег, отчего кроны склонялись друг к другу и птицы могли ходить по деревьям, почти не пользуясь крыльями.
Со свадьбы возвращались в тишине, даже таксист попался неразговорчивый. Только дворники на лобовом стекле ритмично брюзжали на непогоду.
— Вы имели успех, — наконец сказала Лаги. — Когда начали жонглировать яблоками, я даже испугалась.
— Мой брат был известным человеком в цирке. Я вам еще расскажу о нем.
— Не думайте, мне действительно понравилось. И племянник у вас смешной. Имя красивое у него — Уриэль, правда?
Рафаэль хотел в ответ поцеловать Лаги ручку, но в этот момент Лаги поднесла ладони к лицу, сжав виски кончиками пальцев. Рафаэль отвернулся к грязному окну и стал насвистывать Папагену. В мокрой темноте проплыло иллюминированное пятно дворца раджи, окруженное волосатыми пальмами.
— Денег не будет, — подал голос таксист.
Рафаэль повернулся и не понял.
— От свиста — денег не будет, — объяснил шофер и строго посмотрел на Лаги, словно она должна была поддакнуть. Дворники с ненавистью заскребли стекло.
— А счастья? — спросил, раздражаясь, Рафаэль.
— Не надо… — улыбнулась Лаги и зачем-то легко погладила сиденье рядом с собой.
Дорогая Лаги-опа!
Как Ваши дела, как жизнь, как дома? У нас все нормально. Маджус поздоровел, поправился на два килограмма триста граммов, сегодня выходил во двор и играл там с бесхвостой кошкой. Я видел, как разные люди смотрят на него из окон, это было трогательно.
Еще раз прошу беречь себя. Мне кажется, сейчас Вам послана новая проверка. Так говорят в пещере. На этом прощаюсь, мои родители передают Вам приветы. С уважением и молитвой, Малик.
Через полчаса Малика благополучно забрала милиция. Били мало. Когда вели по улице, один милиционер даже заботливо смахнул с черных кудрей Малика сухой осенний листок.
ЮСУФ
…как мужчина, должен разобраться в себе.
Кипятильник в стеклянной банке обрастал пузырьками.
…стать подлинным человеком. Только не ненавидьте.
Юсуф закрыл глаза. «Не ненавидьте». Он не мог представить Лаги ненавидящей. Она будет ждать, становясь от ожидания дальнозоркой. Стоять у ночного окна, чертить на пыльном подоконнике его имя.
Снова поднес керосиновую лампу к письму. В сарае, где ночевал Юсуф, был кипятильник и не было света. Керосиновую лампу подарил на время раис.
…доктор Блютнер мной доволен, но волнуется, что из-за бюрократии сюда не успеет прибыть его ассистент, чтобы оценить уникальность археологических находок, к которым я тоже имею отношение. Точка.
Юсуф выключил кипятильник, тишина. Вышел на воздух. Прислонился к нагретой за день глиняной стене. В сухом небе жухла половинка луны. Юсуф провел шершавой щекой по шершавой стене, потом, жадно глядя в желтое пятно на небе, тихо завыл.
Вдали задребезжали собаки.
Сплюнул в выжженные заросли полыни, вернулся к керосиновому свету, полному налетевших — как их там, по учебнику? Чешуйчатых или перепончатокрылых?
Доктор сейчас ночует у раиса, тоже, наверное, готовится пить чай. Запасы кофейного порошка, над которыми Доктор трясся, как над глиняными кусками будды, быстро закончились. Доктор мгновенно обмяк, потом притерпелся к зеленому чаю. Хотя между вкусом кофе, которым Юсуфа случайно угостили, и вкусом здешнего чая большой разницы не отмечалось. Оба напитка были одинаково солеными, из-за местной воды. А Доктор все ходил и думал о кофе. «Ну и копал бы себе где-нибудь в Бразилии!» — говорил на это профессор Савинский и слушал, как смеются подопечные. «А что, Профессор, вы бы и сами… покопать в Бразилии», — замечал кто-то, отсмеявшись. «Заладили — Бразилия», — весело ворчал Профессор. «А Профессор бы и в Бразилии будду откопал!» Вспышка спиртного веселья. В тот вечер за фанерной стенкой, разглядывая паутину на окне, Доктор жаловался Юсуфу, как единственно трезвому: «Мой бедный друг профессор Савинский…» Недопитый зеленый чай к утру испарялся, оставляя на стенках пиалы кристаллический налет.
Бритая голова склонилась над чаем; Юсуф следил, как с алюминиевого дна всплывают скомканные чаинки. Они напоминали обрывки древнего пергамента, вроде добытого когда-то Доктором, тогда просто доктором, у уйгуров. Правда, рядом лежало более близкое сравнение — серые клочья недописанного письма.
Маленькими сильными ладонями Юсуф поит себя чаем. Скоро он уснет, вместе с чаем в молодой утробе, — уснет бездонным сном лжеца. Юсуф объяснял себе, что хорошо спит от ежедневного труда. От свежего воздуха пустыни. Из всех причин выбрать самую утешительную. Проверить, надежно ли спрятан паспорт Лаги, и пообещать себе, уже при погашенном свете, завтра все-таки досочинить это вечное письмо.
Время ночи, когда Юсуф разговаривает во сне, еще не наступило. Через неделю раскопки на Маджнун-кале приедут снимать на телевизор. Юсуф ждал этого даже во сне.
Сквозь дырявую крышу на безумца просачивалась луна, освещая островок бритого лба и мякоть раскрытой ладони, полную тупиковых линий жизни и любви. На крыше сидел маленький дракон и деловито облизывал тонким язычком пыльные крылья.
Через неделю отцовский дом был прибран, остался только сарай. Конец сентября выдался тихим, с базаров несли охапки хризантем. В университете Лаги восстановили, санскрит был торопливо сдан, по этому случаю Лаги пошла в кино. Возвращаясь с каким-то прыщавым провожатым, много думала о Султане, потом о Юсуфе и Малике.
Рафаэля в этом ряду не было, он помещался в отдельном, круглом пятне случайного света. Горячий, по-своему заботливый Рафаэль. Вулкан, извергающий конфетти. Ей скоро сделают предложение, она ответит наспех придуманным отказом. Скорее всего. Хотя Юлдузке, например, Рафаэль нравился. А этой семилетней женщине стоит доверять.
Случайный провожатый довел девушку до калитки и замер, готовясь к поцелуям. Лаги быстро отвела рукой его драконью физиономию и захлопнула дверь. Никаких шалостей, на завтра намечено исследование сарая.
Сарай был полон книг и пауков. Книги были старые, на арабском, которого Лаги не знала и немного боялась. Откуда были родом эти книги, и почему отец их настолько берег, что никогда не читал, — Лаги тоже не знала. Иногда отец рисовал на краях газеты деревья и птиц арабской вязью, но знал ли он то, что рисовал?
Сундук с книгами занимал своей квадратной тушей полсарая. Остальное пространство съедали трофейный велосипед, кадка из-под высохшего фикуса, который когда-то на Новый год наряжался в елку, и испорченные часы, разучившиеся после землетрясения играть Турецкий марш. Все было укутано пылью — заходи и чихай.
И Лаги зашла, оставив дверь открытой: в сарае не было электричества. За ее спиной, во дворе, осыпались виноградные листья, обнажая сонных шмелей на липких лозах. Лаги начала мыть велосипед: благодарное стариковское позвякивание.
Вот и сундук протерт, теперь заглянем внутрь.
Замка не было, но открыть было непросто, все запеклось ржавчиной. Поглощенная открыванием, с каплей пота на переносице — Лаги не почувствовала, как где-то рядом заиграла старинная музыка. Флейта? Показалось. Вот сундук и открыт. Лаги чихает и кричит через двор Юлдузке, чтобы выключила огонь под мошугрой.
Отец хотел, чтобы Лаги изучала арабский — он называл его вторым, после русского, языком просвещения. Наверное, рассчитывал, что Лаги станет читательницей этого сундука. Но после того, как застал дочь запросто разговаривающей на скамейке с каким-то хулиганом, про арабский больше не вспоминал.
«Я хочу изучать хинди», — сказала как-то Лаги, глядя в зеркало на свое лицо, которое ей казалось очень индийским. Отец, стоявший позади, на несколько секунд застыл в зеркале, потом куда-то из него вышел.
В отличие от отцовского письменного стола в сундуке царил порядок. Даже отрава для мышей была разложена с какой-то ученой симметрией. Но мыши здесь не бывали, а то, что Лаги приняла за их помет, оказалось рассыпавшимся бисером одной из книжных закладок. Лаги принялась протирать пыльные переплеты, иногда рассеянно перелистывая карие страницы. Рисунков не было, причудливая, но однообразная вязь быстро надоела. Книги остро пахли старостью. Их горячий глагол окончательно превратился в тихую макулатурную мудрость. Их Слово вылетело воробьем и зачирикало, раскачиваясь, как на качелях, на сморщенной виноградной грозди.
Орган и дойра, звучавшие до этого исподволь, загудели так внятно, что Лаги услышала, вздрогнула, выронила последнюю непротертую книгу, она упала на земляной пол, выдохнув фейерверк пыли. Органист-невидимка нажал на самые громкие клавиши, заглушив на секунду и маленькую дойру, и испуганный вскрик Лаги.
Из книги вылетели два аккуратно сложенных желтых листка.
Пыль осела, музыка снова откочевала за порог восприятия; Лаги присела на корточки, разворачивая выпавшие листки. Страх и любопытство. «Юлду-уз! Юлдуз-у!» — закричала она. «Опа, нима деяпсиз?»[8] — ответил откуда-то со двора детский голос. Лаги испуганно разворачивает листок, аккуратный почерк, не арабская вязь, европейская. «Юлдуз… суп под огнем выключила?»
Выключила. Держа раскрытые письма, Луиза подходит к двери, ближе к свету. До нее снова долетает музыка, но теперь — теперь уже не страшно. Где-то рядом, за виноградником, Юлдуз и Султан, огонь погашен. Скоро всех ждет обед.
«Ли-е-бе Лу-и-за», — читает Лаги по слогам первое письмо. Это не английский — его она учила. Немецкий? Второе письмо написано неразборчиво, с тем же «лиебе» вначале. Почерк другой — раскованный. А вот здесь и еще здесь и здесь — читается имя отца.
Протертый циферблат испорченных часов глядит на Лаги. Под маской циферблата, в механической темноте, зашевелились спящие ноты Турецкого марша. Перевернулись на другой бок и снова уснули. Liebe Luisa…
Luisa!
Скажите господину органисту, церковь пора закрывать…
Порядок приблизительно таков.
Вы обращаете внимание на N хотя бы потому, что он совершенно другого пола и из другой вселенной, пахнущей прожаренным песком. Количество книг, написанных об этой вселенной, уже давно должно было ее уничтожить, раздавить своей массой. Но она каждый раз сжигала сочиненные о себе талмуды, пекла в глиняных печах плоский хлеб и рожала сыновей.
Вы же — вы мирно пасли аккуратно причесанных коз и играли на флейте, когда руки не были заняты книгой или чашкой горячего шоколада. Ваше лицо украшали очки.
Вы любили пастушка, а пастушок учился на врача и знал наизусть Канта.
Поэтому, когда вас завоевывают азиатские орды, вы от неожиданности роняете чашку шоколада, и все, что у вас остается, — это холодная мансарда и Западно-восточный диван, захваченный по ошибке вместо Библии. И флейта, которую можно завтра же обменять на хлеб. Чтобы не плакать, вы начинаете тихонько наигрывать на милом инструменте, не думая о последствиях.
И тут появляется N, в серой хламиде с заснеженными звездами войны. Чужероден и горяч. Пришел послушать флейту, напоить спиртом, оглушить монгольским смехом. И полюбить.
А теперь вы сидите в небольшой церкви, даже зимой пахнущей мокрыми лилиями. Невидимый ангел покаяния клюет вас в голое горло. Ваше козье стадо разбежалось. Ваш пастушок пал смертью безумных где-то под Кёнигсбергом. Наконец, недопитая чашка шоколада уплыла, остывая, вниз по Дунаю. Остался хаос, голод, новая любовь. Клевок.
Вы глядите на смуглого волхва в церковном алтаре, в голову приходят мысли совсем неалтарные. Тайный любовник, азиатский огонь. Боль в горле. Органист, похожий на воробья, играет раннего Баха. Вы остро влюблены, фройляйн. Всем телом, включая заплаканные очки. И ничего не поделаешь. Таков порядок. Отснято.
Телевидение ехало в синей маршрутке, прыгая на ухабах и пропадая в пыли. Шум мотора заглушался криками летящей следом детворы.
Телевизионщики запаздывали; археологи уже давно ходили причесанные, выбритые и злые. На столах, застеленных парткомовским кумачом, лежала флегматичная глиняная голова в кудряшках. Еще — благословляющие кисти рук и несколько почти целых кувшинов… Кружились насекомые, обманутые красным цветом скатерти.
Еще один стол был подготовлен в доме раиса, но уже не для съемок, а послесъемочного отдыха. Фарфоровые чайники с водкой, миндаль; с кухни пахнет чищеной морковью и зарезанным бараном — будет плов. Профессор Савинский глядит на приближающееся телевидение и бесшумно ругается одними губами.
Юсуф стоит около своего раскопа, в одолженной австрийской рубашке. На красном столе лежит его голова, четвертый век. Юсуф ищет глазами доктора Блютнера. Интересно, почему сына все-таки назвали Султаном?
Телевидение тормозит, дети прыгают, профессор надевает пиджак с маленьким орденом на лацкане. Когда он будет показывать находки, скажет: «А вот кувшин, на котором сохранилась забавная надпись: „Этот кувшин принадлежит монаху Дхармамитре, не воровать“. Как видите, древние служители культа ревностно оберегали свою собственность. И что же? Прошли века, и кувшин, сохраненный в гостеприимной узбекской земле… Нет, пожалуй, про гостеприимство надо будет сказать отдельно, не вклинивая. И кувшин, сбереженный… Теперь принадлежит… Ладно, потом».
Последним из машины вылезло бесцветное существо и ласково улыбнулось осенней пустыне. С этой рассеянной улыбкой оно простояло, прислонившись к машине, еще минут пять, пока телевизионщики раскладывали технику, смеялись о чем-то с археологами и жадно пили теплую воду. Потом существо легко подошло к стоявшему поодаль Доктору и произнесло сквозь улыбку:
— Их хайсе Артур. Зер ангенейм[9].
Доктор посмотрел на молодого человека недоверчиво, словно отказываясь поверить, что перед ним действительно Артур. Тут позади возникла телевизионщица с блокнотом и энергично прокартавила:
— Артурик, немецкий практикуешь? Молодечек… Это Артур, наш ведущий, — заявила она Доктору. И полетела дальше.
Доктор рассеянно улыбнулся.
— Артур Афлатулин, кунстлер унд кунствиссеншафтлер[10], — еще раз представился Артур.
Между знакомящимися пролегла длинная упитанная тень. Артурик поднял выцветшие голубые глаза и увидел полного блондина в розовой рубашке. Тонкие благовония, распространенные незнакомцем, делали его похожим на древнего сирийца или парфянина. Но как только маска, созданная запахом, спала, Артурик увидел перед собой обычного розового немца. Вроде тех, у кого он постреливал в Интуристе сигареты.
— Э-э… Будьте знакомы, — Доктор повернулся к Артурику. — Мой аспирант, студент Венского университета господин Артур Брайзахер, знаток эпиграфики. Артур, вот вам неожиданный наменсбрудер, товарищ Артур… э-э…
— Можно просто Артур, фамилии часто затрудняют международные контакты, — сказал Артурик.
— Вот как? Моя фамилия мне в этом, как правило, помогала. Так вот, Артур, твой наменсбрудер, или по-русски toska, — ведущий наших телемучений, человек, имеющий какое-то отношение к искусству. Кроме того, он интересуется немецким языком.
И исчез, сославшись на экстренную консультацию с профессором Савинским.
— Доктор… Он же — Доктор! — объяснил Брайзахер, когда они остались вдвоем. И доверительно пожаловался: — Мне так жмут эти новые брюки…
Тезки поговорили об удивительной биографии Доктора (путь от безвестного врача до всемирно признанного историка) и разошлись. Приметив какого-то лысого широкоплечего парня, Брайзахер побежал к нему. Стало видно, что брюки ему действительно жмут, а тучная грудь при беге делала смешные подпрыгивающие движения. Добежав, он принялся о чем-то махать руками; Артурику показалось, что несколько раз Брайзахер показал на него. Впрочем, австриец просто отгонял невесть откуда взявшегося осленка, пока не подбежал толстый мальчик и не утащил осленка куда-то.
Скоро внимание Артурика уже было отвлечено. Вокруг него стали постепенно нарастать женщины. Телевизионщица, что-то снова уточняющая и довольная каждым ответом Артурика. Молодая археологиня, спутавшая Артурика с артистом Нахапетовым, но не уходящая после того, как ей сказали, что это не он. Числящаяся поваром дама из Литвы попросила прикурить и так и осталась рядом, стильно дымя. Еще какие-то особы — одна из них даже окликнула Артурика по имени. Вот тебе и пустыня.
Артурик разговаривал с ними. По-детски мягкие пряди волос, чистые глаза, открытая улыбка фигуриста. Тонкая, одновременно какая-то надежная фигура. Налет монголоидности сообщал драгоценную горчинку — вроде той горошины, что не давала всю ночь уснуть одной безымянной принцессе.
— Доктор, вы опять чем-то расстроены? — мягко спросил Савинский.
— Что? Нет. Но телевидение… Зачем нужно было это телевидение, хаос, иллюзии? Мы так мирно сосуществовали с нашим подземным монастырем, забирали у них только самое ненужное, то, что и без нас пустили в утиль; мы уважали их маленькую философию и не лезли в их могилы со своим уставом. Теперь приезжает ваша местная фабрика грез, с этим смазливым штази; день потерян, а…
Савинский слушал вполуха. Его больше волновало, как он будет рассказывать о двух вчерне прочитанных Брайзахером текстах — отрывке из Сутры золотого блеска и детском стишке про куклу. Тяжелый характер у Доктора, сварливый; бедная Марта. В Средние века от таких мужей избавлялись ядом…
На Артурика безбожно светила и рычала включенная телетехника. За его спиной, к пыльному горизонту, ветвились лабиринты раскопок. В руках — несчастный кувшин монаха Дхармамитры.
— Древняя земля советской Средней Азии… — начал Артурик.
Какой фигуркой был Артурик на часах с ратушной площади? Неужели никакой?..
Луиза медленно шла по городу. Который час? После того как полгода назад она заложила часы в ломбард, еще долго по привычке смотрела на опустевшее запястье. Теперь почти отучилась. Итак, часы Луизы весело тикают в ломбарде на окраине Праги, если он, конечно, еще существует… Что существует — ломбард? Прага? время? Существует ли сейчас само время?
В ответ часы на ратуше пробили два раза. И принялись замедленно назвякивать баховскую «Шутку». От Шутки выворачивало наизнанку мозги — часы словно методично смеялись: «Слышите, мы не показываем время, мы его замедляем, зааамеееедляяяя… яяя… мммм».
Даже две фигурки, плясавшие под Шутку, легкомысленно выпадали из траурного ритма. Кавалера, вылитого Щелкунчика, заклинило в приседаниях. Его круглая партнерша, кондитерское чудо с плоской грудью, равномерно кружилась вокруг Щелкунчика, как планета-спутник. Танец закончился неожиданно: фигурки как по команде присели и сдернули с себя маски. Под уродливой маской кавалера оказалось прелестное женское лицо, под молочно-кисейной физиономией барышни — черная борода и тюрбан. Горожане обожали этот момент.
Под замерзшими ногами хрустел тающий лед.
Луиза оказалась на пестрой набережной. Здесь чувствовалась суета, было больше света, гуляли неголодные университетские профессора, с которыми у новой власти возникло что-то вроде романа. Жизнь продолжалась, и этой банальности никто не стыдился. Часы на ратуше продолжали праздновать Время своими кукольными плясками. В пивной на Гуттенберг-штрассе еще веселее звенели им в ответ кружки с напитком бывших истинных арийцев. Ожившая местная газета даже сообщала о монументальном поползновении властей соорудить памятник то ли Марксу, то ли Суворову.
«Соорудят Тамерлану, чтобы никого не обидеть», — Луиза остановилась и чуть было не помахала рукой. На противоположном берегу серой реки, возле барж, стояли красивый восточный офицер и его друг, долговязый переводчик.
Лаги и Юлдуз сидели в темноте на курпачах; по лицам бегали серо-голубые зайчики от телеэкрана. Шли местные новости, диктор Ирлин. Султан, спавший в курпачах, похныкивал сквозь соску, но просыпаться не хотел. Под веселую этнографическую музыку поползли сообщения о собранном хлопке, долго, на фоне хлопкового поля. Юлдуз и Лаги молча смотрели на поле.
— Опа, а что значит: «Золотые руки делают белое золото»? — вспомнила Юлдуз самостоятельно прочитанный лозунг.
Лаги нащупала языком во рту дупло от выпавшей пломбы.
— Ничего не значит. Это сказано для украшения. Чтобы у народа хорошее настроение было, понимаешь?
— Всегда хорошее?
В спальне резко зазвонил телефон.
— Рапаэль-ака, наверное, — стыдливо улыбнулась девочка.
Лаги стояла в спальне; в трубке рябили короткие гудки. Несколько минут подождала, ожидая повтора. Телефон, поблескивая диском, молчал. Из комнаты долетали обрывки телепередачи. Новости кончились, заиграла музыка. Лаги направилась обратно в зал. Приятный мужской голос начал:
— Древняя земля советской Средней Азии хранит немало старинных преданий и легенд. Поколения сменялись поколениями…
«Чакона, — догадалась Луиза. — Чакона Баха… Или Чаконда? Нет, Чаконда — это у Рафаэля», — и вспомнила туманную девушку в темно-коричневом наряде. Говорили, что Лаги на нее похожа.
— Нет, не Рафаэля, а Леонарда, — вслух поправила себя Лаги.
Юлдуз удивленно оглянулась и снова погрузилась в телевизор.
— …засыпаны песком. Что же — как сказал Шекспир: «Дальше — тишина»?
Молодой человек на экране сглотнул, борясь с воображаемым комом в горле, и сделал внушительную паузу.
Музыка, пустыня.
— Опа, «Дальше — тишина» тоже сказано для украшения?
— Юлдуз, смотри и не отвлекайся…
— Опа, вам кто больше нравится — танцор из индийского кино или этот диктатор?
Снова зазвонил телефон.
Это была свекровь, звонившая в последнее время все реже. Спрашивала в основном про Султана, редко — про Юлдуз. Готовилась приехать в гости, пожить неделю. «Я вам мыло привезу. У нас тут мыло хорошее появилось». Рядом стояла Юлдуз и ждала, что для нее тоже скажут что-нибудь: стала заплетать говорящей Лаги косички.
В опустевшей комнате тем временем показывали раскопки. Профессор Савинский рассказывал кивавшему Артурику о кувшине монаха Дхармамитры. Доктора Блютнера показали что-то бесшумно говорящим, пока за кадром перечислялись его регалии и особое отношение к нашей стране. Наконец Доктор сделал усталый жест и сказал что-то голосом переводчика о борьбе за мир и культуру. Последним показали Юсуфа — он таращился в камеру и нес откровенную чушь. Чушь звучала искренне и горячо — наверное, поэтому ее и не вырезали при монтаже.
Султан проснулся и тихо смотрел на молодое лысое лицо, сведенное судорогой неуверенности. На подпрыгивающие брови, бегающие глаза, на подбородок, производивший ложное впечатление волевого. Что думал Султан, в первый раз видя отца? Наверное, ничего. Дети живут в расширяющейся вселенной, где на взрослое «что думал» не всегда найдется ответ.
— …и будет… чтобы сохранить… нашим детям… для всего мирового человечества… будем копать-копать, сколько хватит сил!
«Тут у нас такие новости были, я чуть валерьянку не пила, — сообщала в это время свекровь, зевая в трубку. — Малика в милицию забрали, он, оказывается, с какой-то бабой связался, спекулянткой, ходил к ней, конечно. Так ее мертвой нашли, ограбленной. Решили — Малик. Хорошо, держали недолго, Маджус дома молитву прочитал, отец бегом-бегом благодарность отнес, отпустили. Вот неспокойная семья. Конечно. А вчера Малик ко мне приходил, весь пьяный, про тебя спрашивал. Хорошо, я его шурвой накормила…»
— …А под утро на пепелище цирка прибежал брат, долго боролся, чтобы пройти через толпу. Ему кричали, что слон сгорел, а он все протискивался вперед, где еще что-то горело, что-то поливали водой, несли какие-то уцелевшие клоунские костюмы. Потом он сел на корточки и заплакал.
— А что потом? — спросила Лаги, не поднимая головы.
— Потом он надолго исчез и вернулся только тогда, когда пошел дождь — позвонил к нам в дверь и вернулся. Когда вышел отец, он лег перед ним на пороге и стал целовать ему ноги в старых тапках. Отец долго стоял, делая вид, что рассматривает дождь за дверью, потолок, а потом тихо всем сказал: «А теперь — праздник». И все стали плакать и поднимать брата, я от радости схватил со стола яблоки и начал жонглировать…
— А где теперь ваш брат? Он жив?
— В Израиле, служит в зоопарке. Недавно написал мне, что смотрел на дракона.
— Дракона?
— О, не бойтесь, совсем маленького, такие иногда встречаются на Ближнем Востоке. Говорят, об этом еще в «Науке и жизни» писали.
Рафаэль посмотрел на пыльное пианино. «Фабрика имени Молотова».
— Лаги, скажите по секрету, вы хорошо играете?
Не дожидаясь ответа, открыл крышку и бойко заиграл одним пальцем «Во поле березонька стояла». Лаги допила остатки шампанского.
— Вы знаете гимн Израиля? — Рафаэль загадочно поправил на горле бабочку.
Лаги помотала головой.
— Звучит очень похоже, — объяснил Рафаэль и снова застучал «Березоньку».
Вечером ей позвонил немецкий переводчик.
— Я перевел письма, которые мне передал Рафаил Нисанович. Никакой оплаты, я в долгу перед Рафаилом Ниса… Он для меня как спаситель, помог выпутаться. Не рассказывал? Кроме того… Сами письма — целый роман, приятно переводить… Богатство нюансов.
— Опа! Ким телепон киляпти?[11] — подошла Юлдузка, держа на руках недовольного Султана.
— Таржимон… Жим тур, э[12], — Лаги прикрыла трубку ладонью.
— …санович сказал передать работу через него, — шептала трубка, — но я сейчас его не вижу… Есть вариантик — мы встретимся, я все вам отдам…
Голос в трубке показался знакомым, где-то уже слышанным.
— Извините, я как-то упустила… Как вас зовут?
— Аф-ла-ту-лин. Артур Афлатулин.
Нет, Лаги это ничего не говорило.
— Па-па… Па-па…
Султан лежал без штанов на курпаче и вертел в руках необъятное яблоко, отливавшее переспелым воском. За окном булькал дождь.
— Па… Папа.
Из дырочки в яблоке, обведенной кружком коричневой гнильцы, выполз червячок.
Потеряв равновесие, червячок упал на курпачу. Султан развеселился.
Задумался.
Дождь застучал сильнее.
В комнату вошел рыжий кот, понюхал воздух и зевнул. Кота привез пару дней назад Малик, забежал, выпустил из сумки охрипшее от страха существо. Потом Малик покатал на спине Юлдузку, подарил Лаги красивое мыло, полотенце и разноцветную книжку Навои (С днем рождения… Опа, вот еще деньги, не отказывайтесь). И убежал, даже не сказав, как зовут кота. Тот, однако, быстро освоился и стал отзываться на любые имена. Особенно на те, которые сопровождались запахом мяса.
Кот подошел к Султану, завороженному звуком дождя, потрогал лапой яблоко.
— Папа? — громко спросил Султан.
Аспирант Артур Брайзахер и Юсуф сидели около небольшой карагачевой рощи; в вечернем небе уже заиграл звездный оркестр, которым дирижировал, помахивая жалом, невидимый Скорпион.
В пегих кудрях Брайзахера примостилась тюбетейка, в темноте казавшаяся ермолкой.
— Мой дед был еврей. Преподавал в Мюнхене, имел влияние на Шпенглера. Не знаешь Шпенглера? Нет? И не стоит.
Брайзахер слизал с губ сладкий след выпитого кагора. Юсуф был подавлен — все еще переживал из-за своей позорной неудачи с телевидением. Потом медленно сказал:
— А мой дед торговал… Зато отец физиком был. Я его плохо помню: очень тихим, незаметным физиком был… Уважаемым человеком — на его похороны к нам полгорода приехало… Артур-ака, правду говорят, что вы член Австрийской коммунистической партии?
Брайзахер кисло кивнул. Говорить о коммунизме сейчас не хотелось, и он начал тихо и участливо расспрашивать Юсуфа о его жизни.
Уже через полчаса у ног Брайзахера шумел мутный поток чужой памяти. Брайзахер слушал вполуха, больше наблюдая за выразительной мимикой Юсуфа в бронзовом свете восходящей луны. Впрочем, изощренный слуховой аппарат Артура, вышколенный на Фрейде (друг деда, «Коллеге Хаиму от Зигмунта»), зафиксировал и факт неудачи с Женщиной, и тайное посещение Пещеры… Влечение к матери, символическое убийство отца, воображаемая встреча с призраком отца в пещерах — весь зоопарк дядюшки Зигги, а еще утверждают, что Восток и Фрейд несовместимы. Диагноз поставлен, пора переходить к посвящению.
Вытряхнул в пиалу остатки кагора. Посмотрел на звезды — те в ответ весело задрожали, подбадривая: дахин, дахин!
— …мать мне сообщила о ней, что она теперь в Ташкенте и у нее есть другой мужчина, пожилой и богатый.
— Dahin!
— Э? (Испуганные заплаканные глаза, совсем рядом.)
— Что? Нет, я хотел… тебе выразить… так все сложно… Будто идешь к заколдованному замку и никак не можешь дойти…
— …колдованному замку, — нервно вздохнул Юсуф.
— Когда-то ты приедешь ко мне в Зальцбург, мы будем сидеть в старинном парке, пить пиво, и я расскажу тебе свою жизнь… Тоже очень сложную. — И, слегка устыдившись, уточнил: — По-своему сложную.
— Артур-ака, — вдохновенно начал Юсуф. — Вы мне как старш-брат, старш-друг…
Брайзахер терпеливо выслушал эти горячие слова, ласково улыбаясь в темноту. Не прерывая извержений благодарности, полуобнял Юсуфа и повлек в сторону белевшего за карагачами дома, пробормотав кагоровым шепотом:
— Мы замерзли. Идем вон туда… согреться.
В этом доме размещался основной состав экспедиции; но сейчас дом был пуст — все были в райцентре на каком-то байраме. В этот дом приятели и вошли, обнявшись.
С пустыни подул мерзлый, терпкий ветер. Дней через пять раскопки на Маджнун-кале завершатся, и так с ними затянули. Потом Юсуф поедет с Артуром в Самарканд и Бухару — показывать Восток. Потом — в Хиву… Дальше пленка обрывалась. Правда, в запасе оставалась Москва, где учились младшие братья, Хасан-Хусан. И был профессор Савинский, кстати.
Минут пять стояла тишина, тревожимая только спотыканиями ветра о ветвистые карагачи. Потом из дома донесся шум, сдавленный крик «Шайсе!»; хлопнула дверь. Из нее вылетел голый по пояс Юсуф, прижимая к лицу чапан, и бросился прочь. Добежал до прорытого неподалеку дренажного канала.
— Ударил! Убил! Что наделал! Что делать…
Долгий хриплый вой пронесся над черным, как пропасть, полем.
В соленой воде канала булькнула встревоженная рыба.
Лаги стояла около Курантов, скучала, переводчик опаздывал. Не удержалась, купила себе на предпоследнюю мелочь тоненький кулечек соленых косточек. Быстро сгрызла, стала разглядывать окружающих. Окружающие, впрочем, не окружали, а пробегали мимо муравьиной походкой.
Пожилой армянин с бумажным пакетом в авоське, с базара; судя по взгляду, все еще продолжает мысленно торговаться… Семья из провинции, по выговору хорезмийцы, только что вышли, довольные, отметив приезд в столицу кругляшками пломбира в «Буратино». Высокая женщина в очках, два мальчика-близнеца за ней: «Санджар… Саид!» Интересно, кто из них кто?
Лаги начинает представлять, что было бы, если бы Султан родился близнецами. Во-первых, был бы Хасаном и Хусаном. Во-вторых, наверное, все было бы по-другому. Лаги вдруг остро захотелось родить еще. Она улыбнулась этому чувству, окружающий город превратился на секунду в сладкий теплый кисель, очень сладкий и очень теплый.
Близнецы скрылись, куранты пробили половину второго.
— Лаги? Здравствуйте. Я тут — были причины… Как говорят немцы…
Они расположились неподалеку от Комнаты смеха; ветром доносило обрывки какой-то патриотической песни.
Дорогая Луиза!
Как Ваши дела? Как дома? Как семья?
Спасибо Вам за письмо. Я поразился Вашей образованности, свободному пониманию жизни. У нас женщины столетия сидели во тьме и только недавно встали на путь культуры. Вы же словно уже прошли этот путь, но не коллективом, а порознь, и теперь возле ленточки финиша кажетесь в каком-то незаслуженном одиночестве.
Извините за неуместность этих мыслей в письме о любви, но они возникли в горячих спорах с моим другом, Борисом-переводчиком, которого я попросил перевести эти письмена. Мы сейчас много спорим, он считает, что спор — критерий истины. Я настаиваю, что любовь.
После встречи с Вами я испытал глубокое, сокрушительное чувство. Соловей запел с ветвей прозрачной ивы, горлинка ответила с темного кипариса. Мне кажется, я даже понял истину того, что до сих пор читал о коммунизме — это то, что переживает мужчина со своей возлюбленной, только в масштабе всей Родины. Когда я понял это, то увидел удивительный сон. Словно иду я по снежному городу после битвы, трупы еще не убраны со скользких тротуаров. Потом думаю о Вас, отталкиваюсь от земли и…
Лаги посмотрела на Артурика, уплетавшего вафельное мороженое:
— Отрываюсь от земли и — что потом?
— Две строчки закаляканы… — произнес он озябшим языком. — Читайте дальше.
Дочитав письмо, Лаги устало откинулась на спинку скамейки, измазанную сухим пометом. Взяла свое подтаявшее мороженое, поднесла к обкусанным губам. Знаки вопросов, змееобразные знаки. Почему отец не отправил это письмо. Для чего столько лет хранил. Или отправил — но получил обратно. А многолетняя дружба отца с Борисом Леонидовичем Либерзоном. Что ж, в основе мужской дружбы всегда какой-то секрет — иначе дружба не держится.
Одно понятно — почему она была все годы Луизой. Кого она двадцать лет была вынуждена пародировать, воображая, что играет собственную роль. Луиз-за.
— Вы не хотите читать первое письмо? — поинтересовался Артурик, артистично смахнув набежавшую на лоб каштановую прядь.
— Потом. Когда найдутся силы. Не знаю, как вас благодарить за эти письма… Вы занятой человек, телевидение, театр…
— …Еще создаю песни, — подсказал Артурик. И улыбнулся: — Благодарность — один поцелу…
И поцеловал ей кисть, будто между делом, но искусно, с уверенным знанием женской руки, чувствительных проемов между пальцами, пьянящего запястья.
…Потом долго улыбался один на скамейке, прикрыв глаза и впитывая тающие женские шаги.
Пришла зима; осенние замыслы терпели крах — один за другим.
Юсуф и Брайзахер помирились, но в Бухару — Самарканд Артур поехал один, припудрив несимпатичный синяк, полученный от строптивого Юсуфа.
После этого Юсуф подсчитал деньги — выходило как раз на поездку в Москву, но вместо поездки случился запой, во время которого стали приходить голые монахи неизвестной религии и вести заумные эротические беседы. Потом запой кончился, монахи поисчезали, но денег тоже не обнаружилось.
Рафаэль наконец пришел с красными гвоздиками и сделал предложение, и опять-таки не так, как предполагалось. Он звал уехать с ним в Израиль, после свадьбы, и даже вместе с Султаном, дети — наше будущее. То есть у Рафаэля было уже решено, поднимался целый клан и даже его бывшая жена с мужем-невропатологом. Лаги смотрела то на гвоздики, то на Рафаэля, все казалось непредвиденным и страшным. Она уже точно не любила Рафаэля, она оказалась неспособной на любовь из благодарности. В голове сидел Артурик, но только в голове — место рядом с Лаги в постели, как и прежде, занимала пустота, ставшая даже какой-то заскорузлой. Но Лаги была влюблена, и хрупкий осенний цветок по имени «Роман с Артуриком» вот-вот обещал выпустить безумные красные соцветия.
Захворала свекровь. Закупленное впрок мыло пирамидкой громоздилось возле дивана и орошало больную запахом гниющих лилий. От болезни старуха слегка полысела и поглупела. Но вызывать Лаги из Ташкента воспротивилась. Раз в день приходила Хадича, кормила и читала ей вслух роман «Кортик». Лечить свекровь молитвой Маджус вдруг отказался, ссылаясь на обилие духов лжи вокруг больной; вообще, он изменился, этот Маджус. Не ожидали.
Шестого декабря небо стало розовым, посыпал второй снег. Рыжий кот, ставший наконец Мурзиком, поймал мышь и долго играл с ней на пороге. Потом стал умываться, слизывая с шерсти снежинки.
Лаги пошла выносить мусор под снегом, накинув платок. Из ведра торчали увядшие хохолки гвоздик. В ушах стоял вчерашний разговор с Рафаэлем.
«Неделю не могу прийти в себя после твоего отказа (когда он перешел с ней на „ты“?). Не вижу никаких причин для отсутствия нашего счастья… Я тоже люблю эту землю, у меня здесь тоже могилы!.. Мы сможем приезжать сюда в гости, конечно пустят… И что — мама-немка? Во-первых, это не имеет у нас в Израиле никакого значения, а во-вторых, об этом не надо слишком громко говорить, и все… И подумай о сыне, его там ждет будущее. Наука. Техника. Интеллигентность. (Загибает три пальца.) Иерусалим, Вифлеем (загибает еще два) — настоящий заповедник. Это же колыбель! Ну почему, какие причины? (Грустно смеется.)».
Лаги не знает, какие причины. Пророчество Маджуса? Страх перед словом «Иерусалим»? Артурик? Нежелание перемен, усиленное нелюбовью к старому Рафаэлю, — сорок два года, седые волоски на руках?
Уходя, попросил прийти на свой день рождения. Двадцатое декабря. «Это будет маленькое прощание… Может, еще передумаешь?» И застыл на пороге.
Перед самым отъездом из Самарканда магистр Брайзахер еще раз прошелся по сердцу города. Мимо гигантских развалин Биби-Ханым, мимо тяжеловесных порталов Регистана, изображавших Солнце, облаченное в Зверя…
Напоследок господин магистр пожелал осмотреть Шахизинду. Отпустил парнишку-гида, покурил под стандартным арочным входом, за которым тянулась бесконечная лестница наверх. Наступал вечер, посетителей почти не было, в воздухе образовались редкие снежинки.
Артур шагал, кривя толстые губы, иногда останавливался и тер глаза. Снег опускался по-восточному медленно; над обшарпанными куполами, напоминавшими протертые синькой апельсины, кружили птицы. Дорожка под ногами ежеминутно расплывалась.
Артур плакал о Юсуфе.
Страсть, грех обернулись тяжким абсурдом. Юноша с лицом самаритянина стоял в глазах, скульптурный и бесплотный, и все эти мудрые декорации из арок, арочек, старых урючин — без Юсуфа лишались способности радовать. И Артур медленно шел вдоль синих и изумрудных узоров, стен, арабских изречений, которые он мог бы прочесть, но не хотел, — и снег падал на изумрудные стены и растворялся в них.
Перестав плакать, Артур протер глаза китайским платком. «Юсуф. Jusuf», — прошептал Артур. Постоял немного, облокотившись о чей-то мавзолей. В голове вчерне написалось хайку.
Wohl, zartbitter Freund… Schneebedeckter Registan Registriert den Schritt[13].Снег пошел сильнее, а Артур все стоял, выпятив нижнюю губу и наслаждаясь минутой скорби.
…Через две недели в сумрачном семурге Москва-Вена Артур будет рассматривать фотографии с Маджнун-калы и, задержавшись на одной из них (веселый полуголый Артур, фотографировал Юсуф, вместо башни огнепоклонников на заднем плане вошло только небо), попытается вспомнить самаркандское хайку. И не сможет.
Еще через неделю, уже в Зальцбурге… Наполняясь пивом в ненавистно-открыточном центре родного города, где-то недалеко от Фештунга… Ухмыляясь падению снежка на туристические окаменелости церквей… Глядя на своего слишком верного товарища, знатока эпохи Шейбанидов, макающего лицо в пивную пену… Он вспомнил это хайку, тихо проговорил вслух, когда сотрапезник уплелся в туалет. Подумав, решил заменить первую строку («цартбиттер» рождало какие-то шоколадные мысли) на более классичное: Treue Einsamkeit. Подлинное одиночество.
А вскоре забыл полностью. Полностью. Полнос…
…тью. Наигравшись в снежки, монахи спустились в пещеры, тяжело дыша.
— А кем вы были до?
— В прошлом перерождении? — переспросил Дживака.
Винаяка поморщил крючковатый нос:
— До посвящения.
— О… Бактрийским царевичем.
Еще один бактрийский царевич. Ни врачей, ни актеров, ни возделывателей конопляного семени в этой стране — одни царевичи. Бактрийские.
— Правили, казнили, чеканили и портили монету?
— Это делали чиновники. Я строил храм.
— И как?..
— Я уже заметил достопочтенному Винаяке, что был бактрийским царевичем. Следовательно… — Дживака попытался выдержать паузу, — храм я построил. Впрочем, вам, как пришельцу из Хапта-Хинда, возможно, недостаточно известно, что правителем здесь считается не тот, кто правит. И даже не тот, кто казнит, — а тот, кто строит. Мое иллюзорное Я, например, построило храм и стало именоваться царевичем… Может, премудрого Винаяку интересуют… мои предыдущие перерождения?
Увы, не интересовали — встреченные Винаякой монахи-аборигены поголовно оказывались в прошлом перерождении женщинами, солнцегрудыми и лунозадыми, чьи возлюбленные за непонятной надобностью удалялись в пустыню. Винаяка поспешил поинтересоваться строительными обычаями бактрийского народа.
— О… — церемонно начал Дживака, — древняя земля Бактрии…
Обычаи оказались такими: кто больше построит, тот и царствует. Царствовать здесь сложно, поскольку приходится постоянно следить, чтобы никто тебя не перестроил. Известны два иноземных завоевателя — Александр Румийский и Аджи Дахака, которым Бактрия подчинилась только после того, как они начали большое, сказочно большое строительство.
— А что они строили? — Винаяка поставил светильник на пол посередине своей пещерки. Освещенное снизу лицо гостя казалось небрежно раскрашенной маской вампира.
— Строили? Неизвестно, поскольку ничего не сохранилось. Каждый раз наши владетели через какую-то эпоху объединялись и строили больше чужеземцев. После этого поработителей прогоняли. Или продавали в рабство на строительные работы.
— Странно… Видел я ваши дома, города видел, храмы… Пусть гость кельи меня извинит, но на моей родине они красивее…
Дживака сделал знак плечами, что не обижается:
— Разумеется. Ведь у вас, должно быть, строят для красоты или, — усмехнулся, — для удобства. У нас же, как сказано, для власти. Только во имя власти. Главное — величина, массивность… Красота тоже, конечно, но… иллюзорные Я моих соплеменников имеют возможность наслаждаться ею в женщинах…
«В иллюзорных Я женщин, — мысленно передразнил Винаяка. — Иллюзия наслаждается иллюзией, сон видит сон… И ради только этих мыслей идти в монахи? Скудновато живут наши северные братья. Сидят себе, как отсыревшие сухари, и рассуждают об Иллюзорности и Пустоте так, будто им уже известно, что такое полнота, насыщенность, что такое неповерхностная красота жизни… В государстве строителей и подкаблучников — люди духа оказываются разрушителями и евнухами…»
— Кто же обитает в ваших домах, если их строят не для красоты? Цари? Купцы? Плакальщики?
— О… В основном чиновники, те, кто правит. Цари же и принцы все время следят за строительством, осматривают котлованы, выражают свои пожелания шпаклевщикам, штукатурам, ослепляют или раскармливают зодчих… Кроме того, ездят по царству и надзирают, чтобы никто не построил больше, не перестроил их, — это самое сложное… Живут, как кочевники, почти все время в палатках, спят на стопках непросмотренных проектов… Немногие аристократы такое выдерживают! Некоторые слабожильные бросают и пытаются вселиться в те замки, которые они построили… Тщетно! Там уже вовсю обитают какие-нибудь казначейства, коллегии землемеров, управления по надзору за шахматами. Так что вселение занимает вечность — письма, воззвания, приказы… Короче, пока царь или князь пытается законным, бюрократическим путем вселиться в свой замок, кто-то успевает за это время построить больше. Тут-то князь перестает быть князем, царь — царем; его разоблачают, ведут на базарную площадь, при тучах народа, поскольку объявляется праздник….
Праздник!
Разноцветные тряпочки на чинарах теребит ветер, пропахший корицей и бараньим жиром. Продавцы свистулек дуют в глиняных осликов, дракончиков, химер, выдувая из них призывный свист; его перекрикивают торговцы сластями, призывно помахивая сушеной дыней.
Курильщики опия вылезают из своих пещер, щурясь от солнца и сплевывая на дорогу, засыпанную праздничным мусором. Бритоголовый парень, торгуясь, покупает тряпичную куклу у сирийского еврея; рядом с парнем стоит его красавица госпожа в синем платке и держит на руках маленького господина. Уличный жонглер швыряет в воздух красные яблоки. Щекастые мужчины гудят в длинные, до неба, трубы. Мимо пролетают дети и кричат ерунду.
Праздник! Бывшего князя или царевича волокут на базарную площадь…
Винаяка вздрогнул. Задрожал и язычок светильника.
— …при тучах народа, поскольку объявляется праздник, — посмеиваясь, продолжал Дживака. — Там его принуждают к чему-нибудь глупому… например, помочиться на огонь, разведенный из веток боярышника… После этого неудачливый венценосец идет в пустыню в отшельники или же становится простым чиновником… Даже не простым, а каким-нибудь младшим, крохотным чиновником, чья работа — точить каламы или же слюнявить палец начальнику, когда тот листает доклады об урожае конопли…
Огонек снова дрогнул. Дживака облизнул толстые губы и продолжал:
— От этого, естественно, к бывшему властителю вскоре приходит смерть. Что не так уж плохо — если он умер отшельником, его объявляют святым, а его могила получает специальную лицензию. Бородавки разные исцеляет, запоры, запои…
— А если — чиновником? — брезгливо спросил Винаяка.
— О… Если чиновником, то объявляется, что усопший обладал могучим и веселым мужским инструментом, которым якобы осчастливил при жизни своих подчиненных с их многочисленной родней; те шепотом подтверждают… Да что — при жизни! В народе начинают говорить, что эти бесстыдные свойства сохранились и после; к могиле на цыпочках устремляются бесплодные женщины, а также мужчины с инструментом… хе-хе… с мизинчик…
«Смизинчи… мизинчи… зинчи…» — забормотало эхо. Поежившемуся Винаяке пришло в голову, что его гость, лжепророк и лжепоэт, вероятно, еще и волхв; таких следовало гнать, им место на костре и в балагане. Но Винаяка знал — у местных народов очень сильны обычаи гостеприимства, прогнать гостя считалось грехом.
— Со временем, правда, забывается, где могила святого, а где вообще ничего, просто недостроенное здание, на достройку которого надо как-то изыскать денег, а изыскивать у нас получается только с народа… Когда в наши земли пришло учение Пробужденного, возникла некоторая путаница — пробужденные стали строить огромные монастыри, чтобы удалиться от мира, а наши за это стали признавать их князьями и царевичами… Со всеми вытекающими последствиями: котлованами, развенчанием, боярышником, посмертными сказками. Все это огорчало пробужденных, которые совсем не для того брили голову и зубрили санскрит. И тогда был найден выход — монастыри стали не строить, а рыть… Рыть! Под землей, под самой почвой, под корнями деревьев и руслами рек, под миром суеты и иллюзорных Я!
Где-то поблизости послышалось хлопанье крыльев. Подземные птицы?
— Итак, вы были бактрийским царевичем, — глухо, каким-то не своим голосом напомнил Винаяка.
— Да, я построил храм… И могу сказать, мой храм был изящен. Так красив, что чиновники — специальная коллегия с узкими седыми бородками долго обсуждала, считать меня царевичем или сразу князем… Но меня это уже не волновало, пока они совещались, мною уже было получено откровение в этом храме. Новая, в некотором смысле, истина… Мне приснилась такая религия, которая другим и не снилась…
— Так что же вы тогда делаете здесь, среди пробужденных-то?! — не выдержал Винаяка.
— Ничего, — невозмутимо ответил гость, растягивая каждое слово. — Ничего не делаю. Предаюсь недеянию… Куда я должен был идти с моей новой верой? Куда? Тут у нас не Индия, тут только города и пустыни. В пустыне кочевники, в городах чиновники, все везде поделено. Кругом либо стены, ограды, — либо пустота… песок… Милый Винаяка, почему вы не хотите спросить, кем я был в прошлой жизни? Вы бы все поняли.
— Я не могу понимать того, кому не верю, — Винаяка холодно сощурил большие брахманские глаза.
— Не верите?.. Тогда смотрите… Сами. Вы ведь не из трусливых, хотя и читаете много… Впрочем, ничего страшного… Просто… небольшое откровение…
Начинается.
Дживака присвистнул и, быстро вытащив откуда-то из складок зимней рясы конскую плеть, хлестнул себя по плечу. Эхо разнесло и размножило свистящий звук удара, быстро переросший в другой, похожий — хлопающих крыльев.
В келью влетел дракон и опустился подле Дживаки, едва не загасив крылом огонь светильника.
— Это вот Зарви, одно из воплощений Времени, — Дживака поглаживал дракончика по лысому лбу, словно собачку. — Он никому не причиняет зла, никогда не приходит без спросу. Он скромен и божеством себя не считает… Вообще ничем себя не считает…
Маленькое чудище печально посмотрело на Винаяку и беззвучно открыло пасть. Страх действительно быстро сходил, оставляя в душе мутные разводы тоски.
— Он есть иллюзия, правда, самая главная из всех и потому доступная, видимая только… самым лучшим людям… Соединяясь с иллюзией нашего Я… сообщает нам старость — подлинную, беспримесную старость! Без блажи и провалов памяти… Раз я вызвал… придется показать… веселее, брат Винаяка!
Старческие руки Дживаки суетливо заскользили по рясе, что-то подтягивая, отвязывая; вскочив, он сдернул с себя балахон и остался в одной набедренной повязке.
Тут Винаяка действительно не выдержал, поднялся и, подойдя вплотную к голому Дживаке, воззрился на его тело.
Обычное мужское тело — вещь не слишком интересная, но тело брата Дживаки не было обычным. Все то, что было до сих пор скрыто под серо-желтой рясой, — оказалось плотью молодого цветущего мужчины, подернутой тонким аристократическим жирком под молочной кожей. Но уже в предплечьях и у кистей рук кожа резко менялась, переходя в сухую и старческую, в сплетениях вздутых вен и жил легко прочитывался скелет. Винаяка неосознанно провел пальцами по руке волшебника — наивный и упругий вначале шелк молодости перетекал на ощупь в изношенный палимпсест, природный, не грим, брр… Дживака распахнул почти беззубый рот в довольной улыбке.
— Сколько… сколько тебе лет?.. — выдохнул Винаяка.
— Двадцать пять.
— Уходи.
— Да, потом уйду… Сейчас не могу, он торопит. — Дракон действительно перестал вылизывать языком крылья и чего-то ждал. — Я же вызвал… Ты извини, ученейший Винаяка, мы тут быстро… Это же ради тебя делается, мне что, — кряхтел юноша, расстилая на полу монашескую хламиду, — я уже все от него получил, и пророчество, и… Ради тебя сейчас годами жизни жертвовать буду, цени, хотя… ну их в бездну, эти годы!
И, улегшись на спину, губами поманил к себе дракона.
Тот быстро подполз и устроился, подобрав чешуйчатый хвост, на груди лжемонаха, ну совсем как какой-нибудь рыжий домашний кот. Через секунду перед окаменевшим от ужаса Винаякой уже не было ни голого волшебника, ни дракона…
На полу, пульсируя спазматической радугой, образовалось диковинное существо: женщина — не женщина, вроде как с крыльями, или это лучи, вся из каких-то икринок, зародышей, яиц, в которых кипела жизнь, а может, это были маленькие песочные часы, с какими-то кружками, с непонятными знаками внутри. Выскакивали какие-то гомункулы из кружков этих, плясали, старились вмиг и снова прятались в кружочек, в эмбриончик где-то в ложбинках вибрирующей, тикающей и переливающейся шестикрылой девы…
Винаяка почувствовал, что лишается ума.
…Схватившись за лежавшую рядом плеть, как за рычаг спасения, монах закричал и со всей силой хлестнул по творившемуся в его пещерке перламутровому безумию, мерзости радужной. И упал без сознания, в последний миг услышав удаляющееся хлопанье крыльев.
Словно книги и боги оставили его в этот час.
Очнувшись, услышал тихенький вой. Чадящий светильник горел на остатках жира, распространяя сумрак. Приподнявшись на локтях (болело ушибленное при падении плечо), Винаяка уткнулся взглядом в неподвижную плоть, распластанную рядом.
С ужасом припоминая, шепотом позвал:
— Дживака… Брат Дживака…
Протянул дрожащую руку, пальцы встретились с холодным мокрым телом, где-то в области шеи… ухо… волосы — мягкие тонкие волосы… Боги! Монах отдернул руку — Дживака же лыс, лыс был Дживака…
Снова тихий стон.
Отдернутая рука натолкнулась в полутьме на какой-то твердый округлый предмет недалеко от головы лежащего — камень, глина? Глаза свыклись с темнотой, как разум — с безумием; монах пододвинул поближе угасавший светильник.
Нащупанный предмет оказался рассеченной надвое глиняной головой — изнутри пустой, как трухлявый орех. Голова казалась похожей на лицо Дживаки, но была в каких-то круглых топорных кудряшках и, главное, улыбалась такой ровной завораживающей улыбкой, что монах на секунду позабыл о стонущем теле, — хотя, скорее, ему было просто страшно глядеть в ту сторону. Рядом с головой лежали части глиняной шеи, чуть ниже — кисти рук; все казалось сделанным из какой-то очень прочной, прямо неглиняной глины…
Монах, тяжело дыша, склонился над… над Дживакой?
Да, это был бактрийский царевич. Холеное смугловатое лицо с надменными усами. Нос с горбинкой; волосы, перетянутые на лбу красной лентой. Уже виденное Винаякой молодое царственное тело, блестевшее от каких-то хитрых умащений, благоухавшее… Только вместо стариковских ладоней Дживаки на убогом полу покоились две царственные длани, по перстню на каждой. Все это на глазах погибало, гасло — напрасно Винаяка тряс царевичу-еретику голову и тер запястье, как читал в одном медицинском трактате… Что наделал!
Внезапно лежавший улыбнулся, на лице что-то проснулось, затеплилось.
— Ты хорошо играешь в снежки, — прохрипел царевич. — Подыграй мне на флейте… Из тряпок, колышков, шнурков… Явился мне человецкий образ… О, ты же не знаешь, что такое «человецкий»… Наверное, думаешь — человеческий… А нет… Хали-бали э, бали э!
— Дживака…
— Человец…
— Постой… — Винаяка наклонился над самым ухом царевича. — Откройся, кем ты был в прошлой жизни?!
И тут пещерка осветилась, весело заиграли светильники, и Винаяка увидел, что находился не в своей маленькой келье, а в трапезной, где он только утром повстречался с Дживакой. Те же неподвижные монахи с четками из грецкого ореха, те же кувшины со свитками из библиотеки, только все не жуют, а смотрят на него, Винаяку, и на распластанное тело, бывшее еще утром — человецким образом. Монах поднялся, оглядел братьев, наполнил легкие подземной згой… И заговорил, потирая ушибленное плечо. Внятно, собрав последние силы ради соблюдения риторических канонов.
— Я, монах Винаяка, гость вашей вихары, случайно убил монаха-колдуна. Я, монах Винаяка, гость вашей вихары, сожалею и об этом убийстве, и о заблуждениях убитого. Я, монах Винаяка, гость вашей вихары, готов искупить этот тяжкий грех изучением туземного языка и переводом на него… одной сокровенной рукописи, которую имею с собой!
Монахи молчали, кто-то вполголоса спросил: «А строить ты умеешь?» Но на него зашикали.
Тем временем настоятель отдавал на местном наречии какие-то приказания. Один из монахов собрал в подол рясы глиняные руки и голову и замер, вопросительно глядя на старшего. Тот показал пальцем наверх; монах усмехнулся и скрылся, гремя обломками в подоле. Другой монах (Дхармамитра, хозяин кувшина) уже осматривал волосы и ногти царевича и выглядел довольным; потом, пробормотав молитву, деловито заглянул под набедренную повязку и отрицательно мотнул головой; братья повеселели.
Тут из темноты привели молодого монаха, который был утром вместе с Дживакой. Допрашивали его на известном Винаяке наречии, поскольку юноша оказался кашмирцем; когда его раздели, стало заметно, что лицо и кисти рук у него более взрослые, чем остальное тело, совсем еще мальчишеское. После этого Кашмирец горько рассмеялся и признался, что усопший брат Дживака оголял перед ним свое необычное тело и делал признания в чувствах и прочее, так они ночью согревались, он — кашмирец, ему было очень холодно одному и так далее; монахи слушали это с грустью.
Наконец, заговорил настоятель, причем произносил по-бактрийски, а к Винаяке подполз один из библиотечных монахов, чтобы переводить.
«Благовонные телеса уснувшего в смерть царевича отдадим властям, чтобы те объявили их священными и оздоровительными — коллегия белобородых нас давно об этом просила, никак один замок достроить не могут… Кашмирца наказать по причине нашего сострадания всем живым существам мы не можем; властям он тоже не нужен. Отдадим его огнепоклонникам — у них те, кому ночью вот так бывает холодно и кто вот так согревается, получают наказание. Книжника Винаяку из монастыря прогнать, сытно накормив на дорогу сушеной дыней и наказав говорить везде хорошее о нашей библиотеке».
И Винаяка пошел по снежной холмистой равнине, в островках карагачевых зарослей. По дороге его догнал сбежавший Кашмирец. Его уже успели ознакомить с плетью огнепоклонников и накормить чем-то дурным, так что его приходилось подолгу ждать возле карагачей. Но идти вдвоем было веселее. До ближайшего караван-сарая дня два ходу, а там они дождутся каравана и отправятся в Самарканд.
Кстати, монахам все почудилось — тело у Кашмирца было везде одинаково, и кожа везде одна и та же, равномерно смуглая кожа. Это выяснилось уже в караван-сарайной бане — когда монахи мылись, то повздорили, но быстро помирились. Залезая в липкую горячую воду, Винаяка попросил Кашмирца прочесть отрывок из Лотосовой сутры, которую тот знал наизусть, что и было сделано.
Хрустя целлофаном с каллами и зеленью укропного вида, Лаги потянулась к звонку рафаэлевской квартиры. И, как и раньше, не достала — высоко. Собравшись постучать, заметила, что дверь не заперта. Коридор, запах крема для обуви, тишина. Странный день рождения, без гостей, что ли? Оставив целлофановую погремушку на этажерке и разувшись, Лаги тихо заглянула в комнату. За обильно накрытым столом, среди пустых стульев, рюмок и тарелок, сидел мужчина, обхватив в глубокой задумчивости голову в ежике коротких волос. Почувствовав на себе взгляд, он поднял глаза. Юсуф. Юсуф.
АРТУРИК
Тридцать первого декабря было тепло, ходили без плащей. Попадавшиеся на улицах дед-морозы откровенно потели, снегурочек не было видно совсем.
Лаги сшила платье из кримплена и пригласила на Новый год Артурика — предвкушая отказ. Отказ означал бы все. Свободна до мозга костей. Ни Юсуфа, ни Артурика, ни — в отдельном оранжевом луче — Рафаэля. Будут только трое — Султан, Юлдузка и она — первичная новогодняя ячейка. И какая-нибудь Ирония судьбы, хорошо бы весь вечер и по разным каналам, чтобы не уснуть от скуки до двенадцати. А даже если и уснуть.
Но Артурик согласился. Так весело и быстро, что Лаги вдруг закричала в трубку: «Секундочку, в дверь звонят!» — и откинулась на тахту. Никто не звонил, просто надо было хотя бы минуту вжиться в новый образ событий. Это было трудно и приятно; Лаги водила трубкой по щекам, по шее, что-то представляла, прикидывала. Потом сказала серьезное «Алло». «Кто-то пришел?» — неревниво поинтересовались в трубке. «Мой старый друг по имени Никто», — процитировала Лаги начало одной из песен Артурика. И была вознаграждена теплым смешком.
«…по имени Никто, из пустоты скроил себе пальто», — напевала Лаги, вешая трубку.
Неделю назад они второй раз встречались с Юсуфом — так, обмен вещами. Не считая старого паспорта Лаги, ничего важного не было, да и паспорт был уже не важен. Пошел дождь, они забежали в стекляшку с разрисованными новогодней гуашью окнами. Которая напротив Дворца пионеров.
Пахло подгоревшим хлопковым маслом; взяли по пирожку-«ухогорлоносу» и теплому какао.
Когда какао было выпито до глинистого осадка, Лаги сказала, что хотя мулла — не загс, но, наверное, надо опять к нему сходить, чтобы он их как-нибудь разблагословил. И замолчала, разглядывая жирную бумажку от чебурека с кусочком карикатуры.
Нет, не надо ходить, Юсуф узнавал, он сам должен три раза сказать слово «талак», и все пройдет, то есть нет; да, это как развод.
Разрисованные стекла кафе. Пузатые елочные игрушки и хвоя, похожая на больной кактус. Все в каких-то пятнах и кровоподтеках. А снаружи не так. Снаружи красиво. Праздник для наружного пользования. А Лаги внутри, холодно, и тело напротив, которое она когда-то целовала в каждую родинку, сидит и читает ей инструкцию, как надо правильно, по обычаям, разводиться.
— Так, может, приступим, — предложила, улыбнувшись, Лаги.
Юсуф не понял. Потом понял, даже присвистнул:
— Что, прямо… здесь?
Лаги кивнула и попыталась выцедить из гущи остатки какао.
— Здесь, в кафе? — переспросил Юсуф.
«Пойти взять еще какао, что ли?» — решала Лаги.
— Свадьбу не делали, хотя бы развод — в кафе.
«Говорит как моя мать, как быстро от нее научилась», — подумал Юсуф.
— Меня недавно по телевизору показывали, интервью бра… — и осекся, вспомнил, что уже говорил ей об этом в тот страшный вечер неделю назад, у этого Рафаэля.
Дождь прекратился, за окном проклюнулось солнышко.
— Талак, — хрипло сказал Юсуф.
Лаги внимательно посмотрела на него, потом снова в окно. Действительно, распогодилось. Ну же.
— Талак… Талак.
— Все? Ну… я пошла, еще продуктов к Новому году купить, в университете нарисоваться, подарки детям… Спасибо тебе за все… и за какао, и за чебурек! — Еще раз окинула взглядом Юсуфа. Потолстел, что ли? — До свидания, Юсуф-жон.
Он видел, как Лаги прошла, уже на улице, мимо размалеванного окна кафешки, щурясь от слабого зимнего солнца. Потом исчезла, но Юсуф еще пару минут глядел на бездарный новогодний витраж. Игрушки, хвоя, Янги йил билан[14].
Доктор Блютнер медленно выгуливал толстого пуделя по имени Аполло. Как и положено пуделю, Аполло вел себя легкомысленно, Блютнер — глубокомысленно и сурово, как положено Доктору. Профессорский райончик, где происходила прогулка, отпугивал глаз почти швейцарской красотой — красотой тишины и гигиены, ландшафта с брезгливо поджатыми губами.
Пудель бегал где-то внизу, нюхал брусчатку, тявкал на сонных голубей. Голова Доктора плыла, покачиваясь в белесом сыром воздухе, на высоте метр семьдесят пять от мокрой мостовой, глаза полуприкрыты, уголки губ упали вниз. Тянулась муторная послерождественская неделя, с утра дождь, газеты врали больше обычного, болело плечо, и кто-то утром уронил пепел в чашку с кофе.
Кроме того, всплыло двухнедельной давности нераспечатанное письмо из ЮНЕСКО. «От Ионеско», — ухмыльнулась Марта, кладя на стол конверт и одновременно доставая с полки пыльного Платона. Многорукая Марта.
Доктор заглянул в письмо. Там, как всегда, звенел хрусталь французской речи, цвели вводные предложения, внизу виноградной гроздью висли любезности, подписи, должности. Менее интересным было содержание: просьба дать заключение по комментариям Индоарийского научного общества на вторую фазу проекта «Подземный мир Центральной Азии». Доктор потер нывшее плечо и пририсовал на конверте рожицу. Надо было отвечать. Потом он подумал об Индоиранском обществе, и ему стало еще тоскливее. «Когда вас посещают мысли о самоубийстве, самое лучшее — это пойти погулять с собакой», — вспомнил Доктор совет одного из своих давних пациентов, сюрреалиста-долгожителя.
Доктор посвистел, прибежал пудель, и они направились на прогулку, прихватив сломанный зонт.
Доктор еще раз потер плечо и задумался над диагнозом. На темную пыльную сцену (именно такой Доктор представлял в последнее время свою память) выскочили костлявые латинские термины и тут же начали перебранку, кому играть главную роль в пьесе «Боль в плече». Рядом топталось еще несколько приблудных диагнозов и даже зачем-то крылатое «Что позволено Юпитеру…», что уже окончательно разозлило зрительный зал, то есть Блютнера. Наконец вся эта компания расположилась на сцене консилиумом и принялась зачитывать по бутафорским скрижалям свои симптомы. Доктор поморщился.
А ведь когда-то он находил радость в этой больничной латыни, повторял ее как молитву в трясущемся поезде где-то в уйгурских песках, и даже слово gonorrhea пелось и звучало. Латынь и молодость. Красный Крест, змея над чашей — что она видела в этой чаше, эта змея, что искала? Болезнь рода человеческого, которую она когда-то так некстати попыталась врачевать фруктовой диетой? Что искал сам молодой Блютнер в медицине, в пустыне уйгурской, в которую бежал? Бежал лечить людей, а в итоге заболел сам, заразившись пожизненным недугом с нелатинским именем «археология», слово о начале. В начале было Слово, и побоку пошло врачевание убогих и узкоглазых, побоку. Случайно найденные рукописи, случайно угаданные решки и орлы, встреча с Мартой…
И клятва Гиппократа была оставлена ради молитвы Герострата, покровителя археологов, сжигающего на своем пути храмы прошлого огнем анализа и истины. Наука, чье имя словно выковано из первой строки Иоанна, эн архэ эн о логос, поглотила и сожгла молоденького филантропа Фридриха Блютнера, позднее, болезненное дитя Просвещения. Из пепла и песка тогда вылупился суровый двойник и наменсбрудер сгоревшего доктора. Это был пепельно-песочный Доктор Блютнер, профессор Венского университета, гонорис кауза еще четырех университетов и распочетный — десяти научных обществ, включая Индоарийское. Супруг известной иранистки Марты Блютнер…
Аполло неожиданно поднялся на задние лапы и лизнул Доктора в костлявую руку.
Молодость не проходит — просто уходит куда-то внутрь, в сердцевину. Как туркестанская река, исчезает, не добежав до горизонта, оставляя морщины и сухость, и продолжает свою жизнь под гнетом песка. Коллеги подшучивали над тем, как Доктор вел раскопки — словно оперировал (любимое словечко «диагноз»). Поразительнее всего, что руки Доктора при всех этих хирургических вмешательствах в землю оставались чистыми, приятными. Словно проступали кисти молодого Блютнера, протертые спиртом. Брезгливые кисти пианиста, подрабатывающего мясником.
Нет, молодость не исчезла, она только оставила внешнюю оболочку. Когда болезни начинали одолевать, откуда-то изнутри выходил молодой узкоплечий доктор в круглых очках с заклеенной дужкой, осматривал больное место и лечил его потоками латыни и успокоительными рассуждениями о диагнозе. Потом молодой Блютнер снова исчезал внутри, и лишь произнесенные им термины, обросшие руками и ногами, продолжали кружиться на черной пыльной сцене — именно так Доктор в последнее время представлял свою память.
Блютнер остановился, постоял немного с соседом по улице, профессором и хозяином рыжей таксы. Собаки, блютнеровский пудель и профессорская такса, весело здоровались друг с другом, заглушая тихие приветствия своих хозяев. У профессора были испуганные глаза и нервные губы. В университете он вел семинар по Кафке и Фадееву.
Отойдя от профессора, Блютнер с улыбкой подумал, кого тот ему напомнил. Иосиф, или на их манер — Юсуф, мальчик из Маджнун-калы, хмурый и горячий. Мог часами сидеть на корточках и внимать недовольным словам Доктора, даже когда тот по рассеянности переходил на немецкий. И, что поразительно, — ту голову нашел опять-таки Юсуф, странную, не совсем понятную голову.
Три дня назад Доктор получил от него маленькое письмо. Юсуф поздравлял с Новым годом. Просил адрес Брайзахера. (Доктор хмыкнул, пудель вопросительно задрал голову.) Собирается ехать в Москву, хочет посвятить себя науке.
Сероватый воздух постепенно наполнялся мелкими каплями.
Науке… Блютнер представил Юсуфа лет эдак через тридцать, академиком тире гипотоником, идущим на прогулку с черным оптимистическим пуделем, — исключительно ради того, чтобы вежливо перелаяться со встречными обладателями научных степеней и такс…
И ради этого идти на сделку с духом диалектического отрицания и методологического сомнения? Но разве сам Доктор не заключил ее в молодости?
Как бы написать об этом узбекскому Иосифу, легкомысленной жертве науки… Впрочем, возможно, Марта уже что-то ответила на это письмо. Фрау Марта отвечала на все письма к Доктору. На все, кроме писем «от Ионеско» и еще от «твоих милых кретинов» — так она называла бедное Индоарийское общество, выкладывая перед Доктором очередной пухлый конверт с их крылатой змеей…
С этими мыслями Доктор очутился в узкой прихожей своего коттеджа; Аполло, стряхнув с черных кудрей уличную морось, побежал в комнату бедокурить; оттуда вышла маленькая нестарая женщина с орлиным взглядом. Она мелодично помешивала молоко в керамической чашке и улыбалась. Профессор Марта Блютнер.
«Друзей моих… медлительный уход… в той темноте за окнами…»
Последнее слово Лаги не поняла; еще раз посмотрела и снова не разобрала. За окнами уже сгустилась темнота, теплый вечер тридцать первого декабря.
Год назад тридцать первого они были с Юсуфом; свекровь что-то жарила, Лаги помогала, потом Лаги стало плохо, и они лежали с Юсуфом вдвоем и молчали. Пришла свекровь, вспугнула их и стала говорить о войне. Долго рассказывала, потом заплакала и ушла смотреть телевизор. Они снова остались вдвоем, но уже не лежалось. Юсуф принялся стричь ногти — и начался этот… Медлительный уход. Что-то стало уходить — сквозь ладони, в песок, в темноту под окнами. Побег Юсуфа, смерть отца, невнятные встречи с Маликом, потеря Рафаэля. Лаги вспомнила, как Рафаэль кормил ее в самолете леденцами. Улыбнулась — вот уже и научилась улыбаться прошлому, а ведь это прошлое было всего четыре месяца назад, но виноградник тогда был зеленый, а сейчас облетел и напоминает черные кости.
Лаги зашла в комнату, где играли дети, покормила Султана, через час уложит всех спать… Попробовала манты, вкусно, лениво поковыряла ложкой в морковном салате, постояла у телевизора. Там-то вовсю летел густой снег, и они уже встретили свой Новый год, мужчина и женщина… Отошла от телевизора, надела кримпленовое платье, сняла, снова надела. Досмотрела фильм, грустно подошла к зеркалу и подкрасилась, дети спали, девять вечера. Зажигаются рыжие окна, между телевизором и холодильником сооружаются столы, весело-весело.
Зашла в спальню, набрала номер. Долго не отвечали. Потом что-то щелкнуло, и трубка наполнилась голосом.
— Алло? Алло?
— Рафаэль, — сказала Лаги. — Рафаэль, с наступающим Новым годом.
Говорили полчаса. Полчаса поздравлений, объяснений, еще чего-то. Милый Рафаэль, он чувствовал себя виноватым за тот вечер. Хотел добра.
…принимал больных: на что жалуетесь, разденьтесь, — и тут среди больных Рафаэль обнаруживает… Пропускаем диалог, в котором Рафаэль что-то уточняет и выяснят у молодого узбека, пришедшего на прием. И в руках Рафаэля оказывается муж той женщины, которую Рафаэль любил, но она ответила «нет», — муж той женщины и отец ее сына. Рафаэль понимает, что может устроить ей жизнь, он их соединит, сведет перед своим отъездом…
Гордость энтомолога, спаривающего бабочек. Пытался организовать им счастье, накрыл такой стол, что зашатаешься: последний день рождения на своей земле.
…Когда они ушли, так ужасно ушли, Рафаэль сел за стол, трагически накидал в тарелку салата из печени трески. Включил футбол, чтобы не задохнуться от скорби. Зазвонил телефон: «Ну, как они — мне можно приезжать?» — спросил голос Кузена. Рафаэль траурно кивнул. «А?» — уточнил телефон. Рафаэль начал рассказывать, какая вышла катастрофа. «Я все понял, — перебил Кузен и чихнул. — Привезу к тебе женщину, как раз обожает стихи».
Привезлась женщина, по профессии строитель, любительница поэзии. Спела частушку.
Об этом Рафаэль сообщать Лаги не стал, вообще этот мерзкий вечер уже исчез из головы. Голос Лаги, извиняющийся, милый, лился, лился волшебным нектаром в деформированную от прижатой трубки ушную раковину.
— С наступающим! — кричал растроганный Рафаэль. — Дай Бог вам удачи!
И Лаги стала ждать Артурика, а Артурик стал опаздывать. Десять. Десять сорок. Дома отвечали, что его не было уже с утра, даже вчерашнего.
Дура. Все для чего? Встретила бы одна. Напиться «Монастырской избы», насмотреться телевизора до фиолетовой радуги под глазами. Стать тверже. «И такое платье выгрохать, чтоб качнулись небеса». Э. Асадов. Уже выгрохала, кримплен, можете пощупать. И небеса, наверное, качнулись — вот какая теплынь под Новый год. И стол выгрохала… Как бедный Рафаэль на свой бедный день-рождень. Сколько грохота получилось — и платье, и вино, и стол, и две свечи, когда пробьет двенадцать. Даже одолженная гитара, протертая, с бантиком. Нет только главного героя. Того, кто странствует по предновогоднему городу, от одного стола к другому. Забыв о клятве встретить Новый год с ней. А было ли это клятвой? Дура.
Наверное, та тоже так ждала. Та женщина. Немецкая любовь отца. Как красиво и горько она написала: «Я всматриваюсь в часы, чтобы поторопить время твоего прихода, а когда оно наступает, вслушиваюсь в тишину, чтобы поторопить звук твоих шагов». Луиза! Тебе было много хуже. Холоднее. Больнее. И не было ребенка, чтобы весь смысл жизни не съедался мужчиной. У нее ничего не было, она пишет: «Я банкротка — ладони пусты». И в эту пустоту невзорвавшейся бомбой упал… когда треснула оболочка из шинельного сукна, фройляйн обнаружила тонкое тело радужного дракона… будущего отца Лаги.
Склонив голову на кухонный стол и обхватив ее руками, Лаги вспоминала.
В начале декабря, на следующий день после снегопада, она ходила на мазар. Купила поздних хризантем — четыре пушистые звездочки. Вначале читала молитву, руки на коленях пустыми ладонями вверх, цветы положила рядом, соцветиями в ледяную скамейку. Солнечный день, солнечно-мерзлый. Потупила глаза, молитва завершилась, Лаги провела ледяными пальцами по лицу.
Холмик густо и гладко обмазан глиной, смешанной с камышом. Посредине колышек с номером. Номер залеплен снегом, в него упираются розовые и фиолетовые перья хризантем. Воздух полон свежестью тающего снега; где-то гудит завод, сообщая о своем производственном существовании. Вертикальные ветви тала блестят под солнцем — звездой живых. Отец любил «…И над могилою гори, сияй, моя звезда». И вот она, главная звезда, горит над ней и сияет. Когда Лаги слушала эту песню, она жалела, что не умеет плакать.
А Новый год встретит одна. Банкроткой с опустевшими ладонями. Прекрасно.
— Иди сюда, Мурзик, — позвала она пушистого и хитрого товарища.
Пока Мурзик приближался, Лаги вспомнила слово. Свободен. «В той темноте за окнами свободен». И она будет свободна, в родной и теплой темноте. Лаги вышла в ночной двор и закурила. Одиннадцать десять.
В ворота резко постучали — Лаги чуть не выронила сигарету. Показалось, неправда. Еще раз постучали — тише и радостнее. «Хоз-кеваман»[15], — пробормотала Лаги, стала зачем-то соображать, куда спрятать курево. Позвонили. Подбежала к воротам: «Ты?» Из-за двери тихо запели про сударыню в честь новогоднего бала, пытаясь подыгрывать перезвоном дверного звонка.
И Артурик вошел — довольно трезвый для тридцать первого декабря одиннадцати десяти. Или сколько там уже? Время остановилось, обмякло несъедобными блинчиками Дали, ушло в свободную темноту, где друзья ходят с маленькими свечами, где праздник. Обнял, размашисто, пьяно, потерся легкой щетиной о ее горящие щеки… С наступающим. Поставил на брусчатку какой-то бидон, лязг, «что там?» — «ви-не-грет»…
Нет, он не забыл о Лаги, он слишком редко влюблялся, чаще разрешал любить себя, разрешал легкомысленно и корыстно.
Есть три вида мужчин.
«Мужчина адам», таких большинство, — ходят толпами по райскому саду, курят, фотографируются, ждут подходящей евы — вкусить, соединиться и совместно изгнаться куда получше.
«Мужчина змий», таких меньше, — сам ползет к евам, шуршит интересными словами, ласкает раздвоенным язычком, и так до тех пор, пока остаются еще райские женщины и в силах шевелиться язычок.
И третий, нечастый вид: «мужчина запретный плод» — райское яблоко, за которым, без всяких внушений змия и мыслей об адаме, тянется, тянется дрожащая женская рука. Это не золотой джонатан, не ароматное наманганское яблоко или красно-царственное алмаатинское. Какой-нибудь мелкотравчатый зимний сорт или скороспелка, размером с детский кулачок, с рябцой и гнильцой, но… Тянутся дрожащие руки, безошибочно находя в листве познания именно его, сладостный и сочный, впиваясь в заколдованную мякоть губами, ногтями, плечами, бедрами.
…Вдруг упал бидон, поставленный у ног, крышка слетела и покатилась с лязгом и дребезжанием вниз по кирпичной дорожке. Откуда-то, со всех сторон ночи, заработала артиллерия собачьего лая. «Винегрет… рассыпался?» Лаги поправила съехавшее платье (лай — хриплый, непоправимый) и наклонилась к поверженному бидону. Собаки-гаубицы, собаки-минометы, катюши — сколько их, облаивающих слетевшую крышку? А может, не крышку, а ее, Лаги, что наклонилась туда, где предполагался салат, но вдруг уткнулась счастливым лицом в колено Артурика… Колено неожиданно круглое, как яблоко, сквозь джинсы, пахнущие табаком.
«Скова-говы-го, — сказала Лаги, не отрывая лица от колен. — Скоро Новый год».
Пробка выстрелила в потолок, пробила его и полетела дальше, в звездные и надзвездные высоты — но этого, естественно, никто не заметил. Шампанское плевалось, как возбужденный верблюд, — успевай подставлять стеклотару. Все пировали.
Сонная Юлдуз стояла за дверью и осуждающе подглядывала.
В комнате теснился пестрый народ. Кроме Лаги-опы был какой-то молодой человек с голубыми глазами и надписью на рубашке на нерусском языке, наверное, иностранец или француз, говорил медленно. Как иностранец, Юлдузке он понравился.
Рядом стояли еще два иностранца, старики, и говорили совсем уже на другом языке, но Юлдуз его узнала — это был язык из фильмов про войну. Старики — мужчина и женщина — говорили и улыбались очень серьезно. Правда, потом женщине надоели серьезности, она вдруг присела и стала гладить пустой воздух около себя, называя его Аполло. Зачем, интересно — разве у воздуха бывает имя?
За столом, наложив в миски пурпурного винегрета, сидели двое мужчин, старик и просто мужчина, бритые и смешные. «Лысая башка, дай пирожка», — мысленно похулиганила Юлдуз. Это были тоже туристы, догадалась девочка, только нищие. И говорили на таком нерусском языке, который даже в телевизоре не встретишь.
Стояли в комнате еще какие-то гости, но Юлдузке надоело быть разведчиком, и она пошла спать. Перед «спать» подошла к Султану: лежит, сосет соску-ромашку, смешной такой. Когда вырастет, надо будет на нем жениться. Или на индийском танцоре из кино — там видно будет. Только не на Рапаэль-акя: он старый и его всегда жалко, даже когда шутит или приносит «Аленушку».
Юлдуз заснула. Двенадцать двенадцать. Гости, наполнявшие комнату, растворились — оставить любовников одних. Последними исчезли монахи, им очень понравился винегрет.
Артурик набрал в рот колючего шампанского. Запрокинув голову, пополоскал горло. Потом взял гитару, нахмурился. «Настроенная», — нахмурился еще больше, будто его лишили удовольствия долго-долго настраивать. Стал перебирать струны.
Лаги сидела неподвижно, светлая и серьезная, и только опьяневшие руки все складывали из салфетки какой-то кораблик-самолетик. Артурик сощурился на Лаги — ташкентская нимфа, помяни меня в своих молитвах.
«Утром придут мои друзья, я объяснил, как найти», — взял два решительных аккорда, снова перебор.
Лаги кивнула. Конечно, друзья… Медлительный приход; она ждала, когда он начнет песню, но Артурик дергал и дергал струны — всепоглощающее ожидание.
И Артурик запел — о дружбе, о горах, о веточке миндаля, черных лошадях и женщине, входящей в водопад, о раду…
Песня всхлипнула и прервалась. Наскоро задута свеча, вторая погасла сама. Куда-то в темноту, всхлипнув «ля», задвинулась гитара. Звук падающей одежды. Шепот, сухой и горячий, постепенно все более влажный. Потом…
И ему показалось, что понятно все. Она же лежала внизу, запрокинув тяжелую голову. Закрыв серые глаза — чтобы не смотреть в вечность, явленную в низком зимне-заплесневелом потолке. Тихо и хрипло она рассказывала про свою судьбу, находя для этого предмета необыкновенно простые и компактные слова, — ведь он их наверху все равно не поймет и не посмеется. А он понимал, успевал понимать, хотя был поглощен ее хрупкими плечами, маленьким подбородком. Слушал, жадно впитывая ненавистную германскую речь.
Он узнал, что до войны у нее был — друг? любовник? Врач. Он врачевал меня, сказала она. Истина — обнажение, он снимал с меня все новые покровы, о которых я не догадывалась: текстильные, картонные, хитиновые. Он лечил меня своим примером, бесконечно обнажая самого себя… Когда все коконы, шкуры, улиточные домики были сброшены, когда исчезла граница между «внутри» и «снаружи» и мы вот-вот должны были… Тогда его уволокли на фронт, он убивал твоих солдат и быстро оброс новой, страшной ракообразной оболочкой — панцирем — и признался в этом в письме. «Моя рука — взгляни на почерк — стала клешней». Скоро погиб, защищая город Канта, — какая ирония… Ирония ведь тоже панцирь — понимаешь?
И он понимал, ирония — это когда нелюбовь, когда иллюзия любви изгоняется иллюзией смеха, и ничего после. И чем сильнее он вплетался в Луизу, как в лозу северного винограда, тем сильнее понимал, как сам далек от этой истины и как близка она ему. И снова начинал путь — она же стонала, плакала, улыбалась и закрывала глаза.
Через несколько лет другая женщина, тоже красивая, образованная и немецкая, откроет ему, Дину, другую истину. Великую истину нелюбви… «Дин, уйми себя… Я сто раз тебе внушала, почему наша дочь Лаги, а не Луиза… Зови ее как хочешь… Уйди…» И он уходил. К дурным женщинам, из имеющих родинку выше колена.
К без двадцати двенадцать лесная красавица была доведена до ума. Ее окружал однокомнатный квадратоид на Чилонзаре с кухонькой и туалетом, пребывавшими в непрерывном обмене запахов. Квартира друга, друг в отъезде, оставил ключи. В эту многоэтажную избушку, полную тараканьего шелеста, Юсуф принес елку.
Елка была обвешана всеми необходимыми игрушками. Золотой орешек… турка в шальварах… котенок, играющий с яблоком… стеклянный красноармеец… гирлянда из бумажных лотосов. И довоенные пастушка с пастушком. Все это забрызгано веселым серебристым дождиком, перехвачено гумовской гирляндой и завершено странной пикой в виде улыбающейся индийской головы.
…В начале декабря Юсуф надел чистую рубашку и уехал с раскопок в Ташкент. Поселился в кинотеатре, у друга-киномеханика; жизнь превратилась в индийское кино. Он жил в подвижной темноте кинозала, пока актеры на экране шалили, страдали и пели о своей несчастной индийской любви. Потом все мгновенно засасывались в воронку хеппи-энда. И вот теперь…
«Мы у елочки плясать, — Юсуф сидел под елкой, скрестив по-турецки ноги, пытался петь. — Можем целых полчаса, — напевал он ровным отключенным голосом. — И ни капли не устанем… Вот такие чудеса».
Детки уже полчаса вхолостую скакали вокруг елочки, потом еще полчаса, вспотели и капризничали, Деда Мороза уже звали недружно и неубедительно; одна снежинка, покраснев, опозорилась прямо в белые колготки и зарыдала на корточках, — Дедушка Мороз с подарком все не шел. И бедные цветы жизни все мчались в хороводе, вокруг елочки и Юсуфа: «И ни капли не устанем… Вот такие чу… такие чу».
В пространстве ударило двенадцать, торопливо вскрывались бутылки: шипел и булькал зеленый змий; невпопад звенел хрусталь, стекло, фаянс. Вот такие чудеса, хрипло улыбнулся в пустоту Юсуф. Детки — снежинки, зайчики и мишки — взмахнули крыльями и улетели, побросав откуда-то сверху ненужные чешки. Углы чилонзарской кельи стали закругляться, на обоях проступили отпечатки ладоней, и Юсуф, так и не вызвав Деда Мороза, оказался в привычной пещере. В том самом месте, где на плече Лаги был оставлен великий невидимый след.
Протер глаза. Напротив сидел Доктор Блютнер в солидном домашнем халате со слегка замусоленным левым обшлагом — за него обычно дергал Аполло, когда просился погулять. Доктор пил кофе и брюзгливо листал скоросшиватель с надписью «Подземный мир Центральной Азии: под перекрестком культур». Юсуфу он даже обрадовался.
Звук налегающей тяжести, в темноте, обозначенной черной мужской рубашкой, она накрывает светлые, податливые островки кримплена. Черная рубашка слегка приподнялась — лишь для того, чтобы тонкие руки снизу расстегнули бесконечный лабиринт пуговиц. Под рубашкой высветлилась футболка, снимать через голову, разрывать губы, ушедшие друг в друга… а руки уже отключаются. Кримпленовое платье перелетает через новогодний стол и падает наизнанку рядом с маленькой синтетической елочкой…
Лаги горела — Артурик оставался таким же холодным и мягким, как всегда, только сильнее запотели ладони и стали совсем тибетскими сузившиеся глаза. Вот уже слетело последнее слово, сдвигались и падали последние ширмы и загородки, сжигались мосты и беззвучно лопались серые стекла…
И… и заплакал Султан. Громче, громче. Проснулась Юлдуз. Лаги шарила голой рукой в черной пустоте возле стола, пытаясь найти платье, и натыкалась только на джинсы. Левой рукой она еще ласкала отстранившегося Артурика. Наконец нащупала платье, поцарапавшись о пластмассовую хвою.
Путая слова, Юсуф спрашивал Доктора о здоровье. Как поживает дорогой Доктор?
— О… И сам не поживает, и другим не дает. — Доктор приблизил к тонким губам дымящийся кофе. — Ругает Индоарийское общество, швырнул на днях в невинную собаку труд целого коллектива. — Помахал скоросшивателем. — Уважаемого!
— И как Общество?
— Общество пока ничего, потому что не в курсе. Новый год у них, елки для сотрудников, инсценировка «Also sprach Zarathustra»[16], поклонение волхвов, потом подарки, хлопушки. После Нового года вспомнят про подземный проект, побегут к нам, а у Доктора — обострение, вся планета его раздражает, и «индоарийцы» — особенно.
— Обострение… болезни?
— Scabies Fausti, — засмеялся Доктор. — Чесотки Фауста.
Юсуф не понял.
Лаги ушла, где-то зажегся свет, ребенок замолчал. Потом разговаривала с какой-то девочкой («Сколько детей в этом доме», — думал Артурик, с трудом натягивая трусы). Вернулась, неуклюже повозилась с посудой на столе и ушла с тарелкой, полной еды. В комнату вошел кот, подошел к кушетке с Артуриком и поточил об нее когти.
Наконец вернулась Лаги — от нее пахло молоком и пеленками. Попыталась обнять Артурика — тот лежал неподвижно. «У тебя есть кофе?» — поинтересовался он и сел на кушетке.
Лаги поднялась с колен, зажгла свечу и убежала на кухню искать остатки рафаэлевского кофе. Свеча горела рядом с тарелкой с мантами и каким-то луковым салатом — Артурик поморщился. Встал, натянул джинсы. Поискал выключатель, зажег свет — в дверях осветилась Лаги с облупленным чайником и жестянкой с кофе. Артурик взял у нее банку, поднес к лицу и, встряхнув, понюхал содержимое. «Кофе для бэдных», — вернул банку Лаги. Лаги тупо рассматривала меленькую вытатуированную кошку на правом плече ночного гостя. Они стояли, полуголые и отчужденные, поливаемые электричеством.
Артурик спохватился: он, оказывается, принес фотик. Пауза. «Разденься, пожалуйста, и во-от сюда, к елочке — новогоднее ню, жалко, елка неживая… Ну что ты стоишь?»
«Ты… только за этим приходил?» — спросила Лаги. И постаралась улыбнуться.
Потом они вышли во двор покурить. На Лаги — старый больничного вида халат; шея, перехваченная ниткой мелкого жемчуга, открыта; волосы наскоро заплетены в две косы. Артурик в джинсах; на голые плечи наброшен чапан. В прорези чапана виднелся бледный торс, доверчиво выпяченный детский пупок, чуть ниже — каштановая волосяная дорожка, торопливо убегающая куда-то в джинсы.
— Можно один вопрос? — сказал Артурик.
Лаги молчала, неаккуратно стряхивала пепел.
— Вопрос о… твоих родителях.
Лаги внимательно посмотрела на него. Кивнула:
— Да, сколько хочешь вопросов, вся ночь наша: ты будешь спрашивать, я… отвечать. Только можно я вначале спрошу, единственный вопрос вначале? — И не дожидаясь согласия: — Что это?..
Вначале Артурик решил, что это и есть вопрос, нелепый вопрос-истерика. Но тут же заметил, что Лаги смотрит куда-то вверх, во тьму.
По винограднику кто-то шел — по самым верхним лозам. На Лаги упало несколько сухих листьев и ошметков коры. Привидение остановилось, высокое, в плаще, голые когтистые ступни едва касаются ветвей.
Лаги крепко зажмурилась и прошептала: «Уходи».
Гость молчал — печальная улыбка мешала ему говорить. Потом пробормотал что-то невнятное про пещеры — и ушел, исчез. Тяжелые крылья захлопали в другом конце двора и тут же потонули в собачьем лае.
Холодные руки Артура притягивали ее, прижимали к груди; она слышала, как он спрашивал ее: «Что это, что это?»; он увлекал ее в комнату, но там горел свет и было еще страшнее. Но страх постепенно проходил; руки Артурика становились теплее; он поил ее водкой, а она, путаясь, рассказывала о том, как уже видела «это» в начале осени…
Потом комната поплыла и покатилась, как детский аттракцион… Лаги снова показалось, что над ними кто-то ходит, но это уже было смешно и сладковато. Артурик оказался совсем рядом; Лаги снова увидела его мягкие плечи, потом трогательный пупок и каштановую дорожку вниз, на этот раз с продолжением. Артурик склонился над ней, влажно целовал ниже лопатки, уговаривал ничего не бояться, он с ней. А она не боялась — просто отупела от спиртного и пустоты, как тогда, в горах, когда Юсуф бестолково наваливался на нее, что-то пытался, путался…
Заголосил звонок.
Артурик, бедный Артурик зарычал «шайсе!» — пришли друзья. Выскочил во двор, подпрыгивая в одной брючине. Лаги в который раз стала натягивать кримпленовое платье — свою лягушачью кожу.
Пространство комнаты загромоздили руки, спины, ноги, жующие и поющие рты. Какая-то добрая блондинка тут же стала учить разбуженную Юлдуз английскому языку; художник в пестром свитере просил безнадежно захмелевшую Лаги попозировать завтра; Лаги вяло отказывалась и объясняла, что ее уже сфотографировали.
Гости как-то мастерски оттеснили ее от Артурика, отгородили шаткой колоннадой своих новогодних тел. Сквозь нее временами проглядывало то лицо Артурика с налипшей на лбу каштановой прядкой, то его рука с шампанским, то его же ступня в потертом красном носке. А совсем уже утром полудремлющая Лаги заметила, как к Артурику спустилась какая-то плотная дама в вязаном костюме, пристроилась рядом и полуобняла. Потом их снова заслонили телами (кто-то еще танцевал под телевизор)… В мелькнувший прозор Лаги видела, как дама шепчет в запрокинутое усталое лицо Артурика, целует ему ухо и пробирается свободной от рюмки рукой куда-то… А он смотрит пустыми улыбающимися глазами в потолок и подсвистывает телевизору.
Лаги сковывает страшная усталость; она, не шевелясь, наблюдает сквозь полуприкрытые окаменевшие веки, как эти двое — дамочка, уткнувшись взглядом в пол, будто что-то обронила, и Артурик, все так же устало и насмешливо разглядывая потолок, — выходят из комнаты во двор… «Я свою соперницу увезу на мельницу», — вяло думает Лаги. Вот они появились в полутемном окне; Артурик быстро закуривает, тетка жестикулирует, смеется и мешает… Вот они осматривают двор, Артурик гасит сигарету о виноградную лозу, уверенно показывает в глубину двора… Они идут в сарай и исчезают в сумраке.
Почему-то боясь шевельнуться, Лаги представляет, как Артурик, чертыхаясь, корежится в сарайчике между книжным сундуком, пауками, ржавым велосипедом и этой, в вязаной кофточке — или уже… не в кофточке. Жалость к своему несбывшемуся любовнику, рабу безумных женщин, настолько обжигает и душит — горючая жалость к утонченному телу в ссадинах, ржавчине (сундук!), синяках и нечаянно раздавленном пауке на голом бедре… Почти протрезвев, очумев от этой жалости, Лаги поднимается, берет курпачу и, не чувствуя ничьих взглядов, плетется во двор, в сарай, — по дороге подумав, что это маленькая курпача и ее им не хватит прикрыть и сундук, и велосипед…
Лаги постучалась в сарай: «Изьните… Я тут, изьните, принесла мягкое…» Внутри тишина, дверь не заперта. Посчитав до десяти, Лаги заглянула. В сарае было пусто. Зашла, села на сундук — железо показалось обжигающе-холодным. Куда они все пропали?
Новый год посмеялся над ней. Лаги поковыряла указательным пальцем во рту и выудила длинный каштановый волос Артурика — когда он туда попал? Размотала волос, провела им по щеке. Попыталась вспомнить Артурика, вытянуть из трясины праздника пару минут, где действительно были и губы, и слова, его запястья. Нет — память, привыкшая к книгам, не удержала, не смогла сохранить живого человека и подсовывала ей вместо Артурика какую-то тряпичную куклу, пахнущую куревом и винегретом.
Лаги откинулась на гвоздистую стену за сундуком и впала в какое-то горько-соленое забытье.
…Аккуратно положив волос Артурика на сундук, Лаги вышла из сарая. Сколько она там дремала? Ныл локоть, солнце нового года щипало глаза. Судя по тишине, гости ушли — и Лаги сонно остановилась возле надписи во всю стену забора, которую кто-то из них вывел бычком, а может, двумя.
«Спасибо хозяйке — уходим как зайки».
Поверх последнего слова было исправлено помадой: «как зюзики». И все.
— Лаги-опа!
Лаги обернулась. Возле полусгнивших кустиков ночной красавицы стояла Юлдуз. Одной рукой она прижимала к себе спящего Султана, другой — рыжего Мурзика, бодрствующего и потому не очень счастливого. Девочка отпустила кота:
— Лаги-опа… Теперь — дальше тишина, да?
Чашечка кофе, к которой Доктор ежеминутно припадал старческими губами, давно иссякла. В гуще беседы в пещеру, молча поклонившись, вполз монах-чайханщик и забрал чашку. Вместо нее он поставил между собеседниками две пиалки и грязный фарфоровый чайник с протезным жестяным носиком и крышкой на осклизлой веревочке.
Следом за монахом в пещеру забежала золотистая собачка, но лаять не стала, задумалась.
«Кавьям аликхас?»[17] — не разжимая губ, осведомился монах у Доктора. Тот изобразил отрицание. Долив хлопкового масла в светильник, монах вышел. Следом выбежала и собака: цоп-цоп-цоп.
— На чем мы остановились, Юсуф? Как после ранения под Кёнигсбергом я оказался в китайском Туркестане? Да, нас прервали. Кстати, не обижайтесь на черного чайханщика: прерывать — его ремесло… Постойте, не пейте без меня.
…Что мне было делать, Юсуф? Я обчистил этого мертвого солдатика — я же его и схоронил. Его русская шинель пришлась мне впору, она была даже красивее немецкой — нашей только детей в кино пугать. Кроме того, я обнаружил у него в подкладке мешочек с полуистлевшим листком — я знал русские буквы и догадался, что это молитва. Сел на корточки перед холмиком и прочитал листочек медленно, по слогам. Что мне было делать? Я пытался спастись через этот маскарад, на мне было одеяние русского солдата, но я не знал ничего по-русски, кроме букв. При первой же проверке меня ждал расстрел.
И, знаете, ночью этот солдатик побывал в моем сне. Сдержанно поблагодарил за доброе погребение и пообещал за две-три ночи обучить русскому языку… Вообще-то последующий опыт научил меня не слишком полагаться на обещания русских, но на мистическом уровне они надежны как никто.
Через неделю я наполнился русским языком, вжился, врос в украденную шинель и почувствовал любовь к Пушкину. У Лукоморья дуб зеленый, да?
— Зеленый, — хрипло подтвердил Юсуф.
У входа в пещерку стоял чайханщик, укоризненно глядя на Доктора.
— Дальше… Я тайно пересек Польшу, русская шинель и язык спасали. А в Германии во мне заподозрили дезертира — русским быть, как оказалось, не всегда удобно. И я расстался с маскарадом и стал просто Никто. Беженец, фрагмент разбомбленного пейзажа. Таким глубоким Никто, что меня пару раз даже приняли за еврея. Пейте чай.
…Я обыскал Прагу — моей любимой там не было. Город прекрасно сохранился; барокко вообще до отвращения живучий стиль, ничем не проймешь. Но ее нигде не было — общие знакомые, а их уцелело меньше, чем зданий, только пожимали худыми плечами. Ее отца отправили в сорок четвертом в лагерь — кстати, в том же лагере погиб Хаим Брайзахер, дедушка нашего Артура.
Наконец я оказался в том самом австрийском городке. Чаю? Ну, Юсуф, где ваше восточное гостеприимство — это ведь вы должны меня пичкать чаем, не так ли?.. Да, я набрел на этот городок — еще более нетронутый, чем Прага, не говоря уже о бедном Кёнигсберге… А жаль. Я бы раздраконил тот замок, лишенный стиля и мысли и потому влюблявший в себя все три оккупационные власти — прусскую, русскую, амери… И все устраивали в нем свою комендатуру и, даже ничего не переделывая в обстановке, тут же бежали мочиться в те же сортиры и лапать тех же буфетчиц — отчего они к концу войны сделались… как это? Полиглотками! Я переспал с одной из них, и случайно выяснилось, что та, которую искал, — она была в этом городе. Юсуф! Да вы меня не слушаете…
Он и не слушал.
Он видел уютный город с морковными башенками, под которыми круглый год справляли Рождество. Видел реку цвета ртути, с маленькой удаляющейся лодкой (двое и зверь); часы на рыночной площади, выполненные, как врал путеводитель, внучатым племянником Нострадамуса, известным часовщиком. Видел замок, в подвале которого ставили эксперименты над людьми.
Еще видел, как над городом взлетел, легко управляя хрустальными крыльями, самаркандский солдат, в одну ночь ставший поэтом, знатоком немецкого, философом, отступником, ангелом. Как летел он, не догадываясь о расплате, над снежным городом, где умных девочек звали Мартами, а самых красивых…
— …И я заметил ее издали, сквозь сумерки и снег. Наступал комендантский час, вокруг нее кружился какой-то русский — длинный, медленный, отличная мишень, будь у меня пистолет. Я приблизился сзади. Долговязый хватал ее за руки, всучивал какой-то сверток, она противилась, дрожала и гнулась, как стебель, под его медвежьим нахрапом. Я должен был накинуться со спины и задушить его, просто налететь и задушить — я же хирург, в конце концов. И тут я услышал, она попросила его «перевести Кафку». Кафку! Почему? Неожиданно, абсурд. Мне надо было его убить, а я вместо этого задумался. Признаюсь, сбил меня еще один факт: на городских часах зазвучала музыка, такая светленькая — трам-там-та-рам… Я застыл — это была музыка комендантского часа, в девять…
Доктор кивал. Он сидел, прикрыв глаза и дирижируя в такт слышным ему одному колокольным аккордам, тоника, доминанта… Потом резко хлопнул себя по лбу:
— Я упустил их, Юсуф! Тех двоих — я упустил.
— Выстрел. Еще.
Я очнулся. Бежать — где они? Пустые кишки переулков, направо, потом еще направо — их не было, пустота, ночь. Куда они могли деться? Я лихорадочно терял время, кружась во тьме чужого города… Мимо домов, набитых тихими испуганными людьми, коротающими комендантскую вечность. В какой-то особенно гадкой подворотне споткнулся обо что-то скрюченное, упал на него… На нее.
— Это была?.. — Юсуф сморгнул колючую слезу.
— Это была она.
Доктор не спеша подлил себе чаю, достал из кармана замусоленный кубик сахара, гигиенически подув, бросил в пиалку.
— Как врач, я констатировал смерть. Как влюбленный, я не верил врачу… и одновременно хотел уйти вслед за ней, поскольку иные пути мне казались обрубленными… Как солдат, я обыскал ее тело. И нашел то, что должно было примирить любовника и врача, жизнь и все остальное. Вот. — На ладони Доктора темнел зеленоватый кружок. — Можете взглянуть.
Кружок оказался в пальцах Юсуфа. На ощупь — монета, поднес к светильнику — пять копеек, тысяча девятьсот сорок, последняя цифра неразборчиво, веночек из костлявых колосков. Юсуф вопросительно посмотрел на Доктора. Повернул монету орлом — наизусть знакомый герб выглядел странновато: венок напоминал крылья, земной шар — лицо, даже морду; все вместе было похоже на какую-то птицу или дракона.
Безо всяких объяснений Блютнер протянул руку за монеткой. Протянул неудачно — когда Юсуф опускал пятак в докторскую ладонь, случилась заминка, неловкость, монета упала и побежала в темноту.
Доктор сосредоточенно взял светильник и стал медленно водить им над полом. Пятак нашелся быстро, но Доктор не торопился подбирать его, склонился над ним, как над археологическим чудом. Наконец он поднял серое окаменевшее лицо; «Что ж… Диагноз понятен». Жестом подозвал к себе. Для чего? Для того, чтобы Юсуф, согнувшись, еще раз взглянул на монетку?
Монета лежала орлом (драконом?) вверх.
— Решка означала смерть, орел — ее отсрочку. Так я тогда решил в темноте замкового городка. Я подул на коченеющие пальцы и подбросил монетку, соображая, как мне придется убить себя, если выпадет решка. Повеситься на руинах городского цирка? Броситься с ратуши под музыку «Мальчик резвый, кудрявый»? Нет, я не верил в решку. И выпал дракон.
Снег возле упавшей монеты стремительно таял; что снег! — весь город рассеивался, как неудачный сон… Под снегом оказался песок; за осевшими барочными декорациями — прямые линии пустыни, царство исконной геометрии с островками скудной ботаники… Передо мной, скрючившись, валялась больная туземка, похожая на поверженную каменную бабу. Я лечил ее, бедную пустынную женщину, я говорил с ней на латыни, хотя уже знал местный язык, — ее родня у меня за спиной молчала, лишь изредка повторяя на свой лад особенно магически звучавшие термины.
Я вылечил ее, Юсуф, и получил подарок — ту самую рукопись и младшую дочь степного царя в жены… Потом возвращение, скорая слава, быстрая профессура. Потом — потом моя степная ундина… Впрочем, что говорить. Я остался один, хворый, разжалованный. Снова побаловаться с фатумом? А что оставалось?
— И снова выпал орел?
— И снова выпал орел. И возникла Марта. Раз — и возникла.
Потрескивая, горел светильник; с шелестом растворялся кубик сахара в сомнительном чае, рождая на поверхности свой маленький квадратный фантом. Откуда-то вылетела бабочка-капустница и опустилась на кромку пиалы.
— Теперь монету бросили вы, — сказал наконец Доктор. — И… моя решка. Есть вопросы?
Снова тишина. Доктор выпил чай; то же машинально сделал и Юсуф.
— Есть вопросы? — повторил Доктор. — У нас мало времени.
— Вы… принесли им стихи?
— Это неважно. Уходите и не оборачивайтесь. Только не оборачивайтесь.
И Юсуф поднялся, ссутулился и пошел прочь, не оглядываясь. При выходе из пещеры услышал голос Доктора:
— Стойте… Подождите же!
Юсуф уходил в темноту.
— Вернитесь, Юсуф… Не бросай меня здесь! Я же пошутил — ты не выйдешь отсюда один. Стой! Слышишь? Сынок, иди сюда!
Это был уже голос отца — Юсуф вспомнил, как в детстве тот запер его в сарае, а сам спрятался… Господи, думал Юсуф, ускоряя шаг по пустым подземным коридорам в редких красных лампочках, для чего мне эти пещеры? Почему нельзя просто выращивать гвоздики и ходить в мечеть? Выращивать и ходить?!
Подземным ветром доносило горестный плач старика, умолявшего вернуться. Потом залаяла собака, и все смолкло.
Дверь подалась; открылся зал, одетый в тусклый мрамор. По запаху плевков Юсуф узнал его раньше, чем разглядел: безлюдный подземный переход в самой сердцевине ночного Ташкента. В этом переходе всегда путаешься: вместо ЦУМа выходишь к Театру Навои, вместо театра — к гостинице. Сейчас эта путаница не имела значения — надо было просто выйти на поверхность, родную, человеческую, назойливо освещенную. Неоновый голубь с застрявшей в глотке веточкой хлопка.
Но переход не кончался…
Сколько нищих! У кого они просят — в переходе Юсуф один.
…протягивали руки, дрожащие, цвета земли, словно вот этими ладонями они и вырыли подземный переход. Еще запрокидывали головы, пели, мычали, хрипели о помощи. Хорошо, вот возьмите… Их число росло, через каждый метр вдоль стены из фальшивого мрамора сидели убогие, страшные, сидели во вшивых кепках и железных шапках: «Подайте! Подайте, подайте!»
Ускорил шаг. Возьмите, бабушка. Отдайте руку. Ускоряю шаг, почти бегу. Уже сидят плотной шеренгой вдоль стен, почти друг на друге — подайте, подайте! — пустые ладони, беззубые рты, глаза-котлованы. Нестерпимая соль земли. Требуют, заклинают, шевелят обрубками, поднимают клешни. Хватают за край пальто, заклинают.
Юсуф споткнулся о выставленный кем-то костыль. Неужели Док…
МАРТА
Марта с трудом выгуливала пуделя. Смотрела вверх на капли, оседавшие на полупрозрачном куполе зонта. Собака была иезуитски-веселой и самовлюбленной, даже еще более веселой после ухода Доктора. Может, просто весна? Марта ее не чувствует. Весна — только для собак, а не для их старых хозяев. Но ей только сорок шесть.
Зима была тяжелой и бездонной. Овдоветь первого января. И — продолжать жить, топить камин. «Примите мои соболезнования… И мои! И мои не забудьте принять! А примите-ка и мои в придачу! Куда же вы, дорогая фрау Блют… О, люди науки — такие рассеянные…»
Она не выйдет снова замуж — зачем? У нее есть все для счастья: наука, пудель, студенты, новые книги с запахом типографской алхимии. Как нелепо глядел на нее в последний раз этот Брайзахер! Влюбленность? Чушь. Через две недели придет праздник, Ноуроз — город зазеленеет как сумасшедший, покроется узорчатым хлорофиллом, вальсирующими птицами, выбежавшей на улицы сонной богемой с вопросом «Что? Что случилось?» на лице… И только Марте и еще немногим будет известно, что это — Ноуроз: род человеческий, радуйся — тебе подарен еще год жизни; танцуй, возжигай огни.
Правда, весна в этом году ранняя; уже что-то зеленеет и даже цветет. К матерчатому витражу зонта липли какие-то ветви, почки.
Пес ткнулся своей глупой мордой в колено Марте.
«Я продам тебя цыганам — заведу себе кота», — сказала она неожиданно складно. И первый раз за последние два месяца улыбнулась.
Непогода рассеивалась — по сфере зонта поплыли солнечные пятна. Марта закрыла зонт, шутя покропила им собаку. Солнце, как фотовспышкой, осветило сырую улицу, крыши и башенки, обведенные темно-сизым краем неба. Через пару минут краски погасли, снова зашуршал дождь.
Сегодня Марта получила очередную депешу от Индоиранского общества, от «пещерных людей», как она их называла. Утро было съедено возней с бумагами.
Аполло замер и заскулил. «Что такое?» — Марта оглядела, насколько позволял зонт, улицу — никого. Пес продолжал хныкать. «Ну… старый греховодник, что с тобой?» — забеспокоилась она, наклоняясь к псу и запуская пальцы в его черные кудри.
И отдернула руку.
Все это уже было. Перед самым Новым годом, когда она последний раз пила с Доктором вино, а Аполло танцевал у них под ногами… «Марта, ты ничего не видишь в том углу?» — «Я? Ничего. А что ты?..» — «Ну, значит… я тоже… ничего. Не вижу». И заскулил пудель.
Марта вцепилась в ручку зонта.
Собака сорвалась с места и понеслась, лая и повизгивая, по улице. Через несколько секунд пропала в проеме между домами.
«Apollo! Zuruck, kom zuruck!» — звала женщина.
Забрела в глухой, в паутине высохшей жимолости, переулок.
«Apollo!»
Волны памяти, чужой памяти, окатывали Марту и отползали, оставляя ворохи какой-то библиотечной мути.
Пещеры.
Отрывок из книжки «Таинственные пещеры Туркестанского края» (Типография Кирснера, 1912). Автор уверяет публику, что древние среднеазиаты были предками славян. Пометки на полях замазаны кофейной гущей.
Копия из циркуляра военного министра Куропаткина о «предупреждении наплыва в наши среднеазиатские владения евреев». Зачем наплывали, ясно из записки «Об опасности воссоединения сионистов и суфистов». Копия рапорта генерал-губернатора Духовского: «Суфизм во многих отношениях представляется для нас наиболее вредным». Мимо, мимо. Суфии в ермолках, подземный заговор — трудно искать черную кошку в темноте, особенно когда нет самого ищущего.
А вот и ищущие. Донесение о визите армянского Калиостро, мистика Гурджиева, в Бухару и контактах с «наиболее вредными» в поисках мусульманской йоги. Еще… Выписка из дела по «Ордену Света», коллегия ОГПУ, год тридцать третий. «Во время допроса показал, что избавление от уз материи совершается при понимании иллюзорности физического плана и направлении сознания на мир идей». Допустим… «Коллективно читали Платона о Пещере». «…Проникнуть в Среднюю Азию. Орден вел подрывную мистическую работу также в Ташкенте, где имел кружок». Дошли они до пещер или нет? Главного, магистра Белюстина, избавили от уз материи в 1940 году. В Сталинабаде, где он направлял сознание на мир идей в облупленных стенах местного пединститута.
Марта до белизны в ногтях сжала рукоять зонта. Стало ясно, что ей явился покойный Доктор в самом страшном виде, в каком только мог явиться, — в виде бескрайнего, нелепо составленного архива.
«Источник сообщает: значительные средства, выделяемые советским правительством на массированные археологические раскопки на границе с Афганистаном, вызывают беспокойство у некоторых чинов ЦРУ, пожелавших остаться неопознанными…» Фотография: два затылка не в резкости, впечатление тревоги.
Источник — «Авеста». «Да не будет среди них ни горбатых, ни увечных, ни помешанных, ни с родимыми пятнами, ни похотливых, ни больных, ни кривых, ни гнилозубых, ни прокаженных, ни с другими отметинами Злого Духа. В первом круге ограды Вары проруби девять проходов… Созови своим рогом туда мужчин и женщин… И проруби одно световое окно в крыше, дабы было внутри им светло. И спросил Заратуштра: „О Творец материального мира! Чем же освещалась Вара, построенная Йимой?“ Так сказал Ахура-Мазда: „Солнечным светом и светильниками, хотя жителям Вары казалось, что над ними восходят и заходят звезды, Луна и Солнце“». (Пометка: «Уточнить место пещерной Вары у тов. Савинского».)
«…После чего молодой Бл-ер, даже не удосужившись пройти пластическую операцию, отправляется в Восточный Туркестан. Прибыв на место, для отвода глаз спасает жизнь двенадцати местным жителям… Один из них обращает внимание, что Бл-ер больше интересуется пещерами как якобы источниками заразы. В остальном в поведении Бл-ера ничего замечено не было. По словам очевидцев, мечтает завести собаку…»
…Черно-белый Блютнер в уйгурском костюме, очки с заклеенной пластырем дужкой. А вот он стоит по колено в желтой воде под бесцветным небом — черные семейные трусы, улыбка гения. Краешек фотографии обрезан — из семейного альбома похищали? А вот Афганистан, снимали года три назад — Блютнер и Савинский, два грифона, уселись на корточках перед раскопанными дельфийскими изречениями. Надпись на обороте: «Дорогому Винаяке — на память».
Карты, геологические карты афганского севера: цветное фото лазурита, схема подземных колодцев, тоннелей и кяризов. Следы недавнего чтения, кто-то славно поработал ногтем.
Еще материал; вшит позднее и из другой папки, на что указывали два лишних следа от дырокола. Судя по первой страничке, речь должна была идти об Индоарийском научном обществе.
Индоарийцы подкармливались в Иране щедрой шахской семьей, та, в свою очередь, — продажей нефти; нефть имела смысл благодаря существованию двигателя внутреннего сгорания. Однако именно на этот двигатель индоарийцы недавно обиделись — он отравлял им солнце, воздух и другие священные стихии… И индоарийцы договорились принять самые решительные меры — провести пару конференций и даже один симпозиум.
На первой конференции в Тегеране дело, правда, не пошло дальше намеков, как быстро ездили колесницы древних индоариев (безо всякого бензина) и как шибко бегали вьючные верблюды по Шелковому пути.
Вторая конференция, Париж. Участников привозят в конференц-зал на точном макете арийской колесницы; и они уже не стесняются в новаторстве. В древности, говорили участники (в основном те, кого мучила на заседаниях бессонница; большинство, утомленное банкетами, дремало), так вот, в древности (повторялось громче, чтобы разбудить спящих) наши предки передвигались очень быстро и совсем иными способами, без выхлопных газов. Они, то есть наиболее духовные из них, двигались под землей, жили под землей, выходя на поверхность только для того, чтобы построить какой-нибудь храм или город — отвлекающий маневр перед вечной экспансией Запада. Древние источники, которые на это откровенно указывают, пока засекречены. Под землей пространство имеет другие свойства, и, неторопливо шагая по какому-нибудь древнему подземному тоннелю, можно за пару часов перекрыть расстояние между Кабулом и Веной. (Шум в зале: кто-то захрапел.)
Последние страницы исписаны Артуриком («согласился сотрудничать под псевдонимом Гамлет»). Мелкий почерк с иллюстрациями. Писал об одном и том же — о женщинах. В постели. В гараже. В гостиничной уборной, лицом в кафель. Везде. Жен. Щи. Ны.
Их любовные повадки, дурные привычки под одеялом, характерные слова и междометия в час любви. Данные физиологической разведки — одним и тем же мелким, убористым почерком. Расположения родинок, подшпионенные сны. Для чего? Чьи-то соленые комментарии на полях. Обнаженные фотографии. Голые фигуры хором глядели, застигнутые всполохом фотовспышки. Страницы листались уже механически, мелькающие тела, ляжки, подбородки слились в какую-то бесконечную кинопробу к фильму про чистилище.
Марта очнулась от запаха мокрой коры. Все тот же переулок, дома, лимонная колокольня Мариен-кирхе.
И Марта увидела их. И совсем не испугалась.
Они медленно шли по переулку, босые не по сезону, в свободных одеждах. Женщина несла дитя, завернутое в дешевые пеленки. Глаза у нее закрыты, темные волосы — неприбраны. Вел ее под руку смуглый юноша-индус с серыми глазами, что-то внушая спящей. Дитя сосало соску-пустышку и беззвучно бодрствовало. Позади шел рыжий кот с развязавшимся бантиком на шее. Несмотря на дождь, все четверо были совершенно сухими.
Когда шествие поравнялось с Мартой, индус обратился к ней:
— «Ормазд создал сон в виде юноши в возрасте пятнадцати лет, ясного и высокого». Хорошо говорю это по-немецки? Кстати, котик не нужен?
Кот подошел к Марте и вопросительно мяукнул.
Лаги грызла яблоко и смотрела на группу ташкентских евреев, ждущих рейса Москва — Вена. Они ходили вокруг монументальных чемоданов, говорили по-таджикски, шумно водили детей в туалет. Посреди этой полусонной суеты громоздились две древние фигуры — старик в тюбетейке, похожей на крашеную скорлупу ореха, и старуха. Неподалеку от них в неудобной позе отдыхал Рафаэль, освободив ноги от лакированных туфель. Он не видел Лаги — они уже два часа назад попрощались, и, кусая губы, она направилась к стеклянному выходу… Потом тайно вернулась и приткнулась поблизости.
Она не могла подойти ближе — и так при их коротком прощании вся чемоданная родня ощетинилась улыбками. Для них Лаги была чужачкой, из-за которой бедный Рафаэль чуть было не остался в этом Ташкенте. Ее не полюбили еще с той самой свадьбы, когда он переоделся клоуном, пел и бросал из руки в руку яблоки. Женщиной Рафаэля для родни каким-то образом оставалась его бывшая Марина — вот она сидит неподалеку, в химической завивке, с тремя чемоданами и вторым мужем. Лаги видела, как несколько минут назад она независимо подошла к встрепенувшемуся Рафаэлю, что-то выясняла, между делом поправляя его слегка съехавший набок гороховый галстук. Родня смотрела на это безучастно, второй муж читал «Правду». Только мальчик Уриэль, который на той самой свадьбе громко признался Лаги в любви, подошел к Рафаэлю и во весь голос спросил по-русски: «А почему вы после тети Марины не стали жениться — вот тетя же женилась, заметили?» Старуха очнулась и сунула внуку какое-то желтое печенье.
Да, сейчас Лаги уйдет. Только еще немножко постоит, подежурит.
От стояния затекали ноги, венский рейс все запаздывал. «Я не хочу этот арапорт, везите домой», — возмущался Уриэль, и старуха, у которой уже кончились печенья, делала в воздухе успокаивающие жесты. «Дамой, дамой», — кривлялись остальные дети; проснулась кошка, спавшая в птичьей клетке, и тоже замяукала.
Кошка, жирная и несчастная, напомнила вчерашний разговор с Ташкентом. Разговор был со свекровью, которая приехала понянчиться с Султаном («Юсуф опять куда-то исчез. Ты его в Москве на улице не видела? …обязательно ходи в Большой театр!»). Потом трубку взяла Юлдуз: «Опа, приезжайте скорее — Мурзик потерялся! Такой хороший — везде искала. Наверное, мальчишки украли!» — «Не плачь, сестренка, найдется, еще поищите». — «Не найдется, везде искали, собаку нашли, а его не нашли». — «Какую собаку?» — «Пудельную». Тут связь прервалась — хай, сегодня перезвонит.
Венский самолет наконец прибыл и уже стоял где-то неподалеку, поливаемый серым московским дождем. Еврейский табор пришел в движение: детей снова повели в туалет, второй муж перестал читать «Правду» и напоследок торопливо делал из нее вырезки; старуха усмиряла нервную кошку. Рафаэль принялся вытирать пот большим, как наволочка, носовым платком; кузен Гаррик ходил вокруг в новых красных подтяжках и дирижировал сборами. «Мы едем на Землю обетованную; сначала в Вену, потом на Землю», — кричала в ухо старику какая-то симпатичная женщина; проходящие мимо оборачивались, а старик только хлопал воспаленными от невыносимой мудрости глазами.
Хуже всех вел себя Уриэль. Он подбегал, пинал чемоданы и убегал с криком: «Аба ба байт!» — единственная фраза, которую он выучил из израильского самоучителя. Ему обещали, что его накажут и вообще поставят в угол прямо в самолете. Наконец, просто оставят. Уриэль пинал клетку с кошкой и убегал. Вдруг он оказался прямо рядом с Лаги:
— Аба… ба… Меня оставляют. Поедешь вместо меня?
Теперь родня увидела ее, Рафаэль перестал тереть глаза платком. В этот момент стали объявлять начало регистрации на венский рейс.
Ровно на половине объявление запнулось. Скрежет, тишина, снова скрежет.
И в аэропорту стало светло — со всех сторон хлынула музыка, старая, мягкая. Закачались чемоданы, лопнули невидимые цепи, солнечная река подхватила беженцев и закрутила в прощальной пляске.
Кружился, расставив птичьи руки, мальчик Уриэль. Солидно подпрыгивал Гаррик, вокруг него семенила, прикрыв глаза, симпатичная женщина. Старуха с видом заправской сазанды[18] притоптывала возле кошачьей клетки. Рафаэль жонглировал золотыми шарами, приплясывая и плача; рядом прыгали дети, кто-то кричал: «Самолет, самолет, унеси меня в полет!»…
— Моцарт, сороковая.
Лаги обернулась. Неподалеку стоял высокий спортивный старик с чемоданом и наблюдал за танцем. Веселый прокуренный голос, каким он сказал «Моцарт», был настолько знаком, что трудно было поверить.
Старик тоже удивленно посмотрел на Лаги:
— Лизонька?
Так называл Лаги только один человек.
— Борис Леони… Дядя Борис!
…Когда через пару минут Лаги обернулась — уже никто не танцевал, музыка смолкла, ташкентцы спешно отступали в глубь зала по направлению к регистрации. Последним волокли Рафаэля. Поймав взгляд Лаги, он торопливо помахал ей флейтой.
Они шли по улице, продолжая удивляться вчерашней встрече. Б. Л. вернулся из Вены тем самым опоздавшим самолетом.
Последний раз они виделись, когда он приезжал в Ташкент лет шесть назад в «командировку на сентябрьские дыни». Много пил, с отцом и без отца, хрипло жаловался, что его перестали пускать на Запад. Школьница Лаги слушала его, жалела, потом рискнула дать совет: «А может, это оттого, что вы любите спиртное — они вас просто стесняются отпускать?»
Сейчас они весело вспоминали тот случай. Сели на скамейку: «Что изволите, барышня: курить или целоваться?» Не дожидаясь ответа: «Трубку мира или сигареты войны?» Достал свою знаменитую трубку. Порылся в портфеле и вытащил пачку веселых австрийских сигарет: «Империалистические, угощайся». Лаги курила, улыбалась; Б. Л. продолжал шутить.
— …Лизонька, что с тобой?
— Борис Леонидович, раз мы так встретились… Я нашла те письма, военные. Вы не можете рассказать мне о Лизе, то есть Луизе? У отца там было с ней, и вы…
Старик ничего не ответил, покусал пластмассовыми зубами мундштук погасшей трубки. Потом все же заговорил — бесцветно и нешутливо.
— …Она бросилась прочь, я упустил. Когда опомнился, она провалилась в ночные улицы. Там уже блуждал патруль — с зелеными фонарями, с колотушками из бараньих черепов. Говорят, такая в этом городе традиция, население само наших ребят попросило, сами костюмы с масками принесли. На чем я?..
— Комендантский час, — сухими губами произнесла Лаги.
— Да, наступил комендантский, где-то даже стреляли. Наверное, в воздух — воздух был нашим главным врагом, свободный европейский воздух, при этом такой насыщенный, что всплываешь в нем, как в Мертвом море. Я лихорадочно терял время, носясь во тьме чужого города… По соседней улице кралась патрульная машина, тихо звеня бараньими черепами, — я боялся, что сейчас они встретятся, Луиза и патруль, и все будет кончено. Со мной, с твоим отцом, с Луизой. При мне было оружие — хотя и не полагалось. Я взвел курок. Потом выстрел, совсем рядом. Ты когда-нибудь слышала живой выстрел?
Лаги помотала головой:
— В кино.
— Я не сразу разобрался где. Пустые кишки переулков, направо, еще направо — ее не было, пустота. Совсем рядом патруль, машина — я вмялся в стену, в какую-то подворотню. И увидел — Луизу и его…
— Отца?
— Нет. Дина в то время уже держали в замковом погребе. Хотя в первую секунду я подумал, что это именно Дин. Бред — тот тип был выше… твоего отца и в круглых крысиных очках. Похож — это меня немного сбило. Луиза лежала на потемневшем снегу, а тот возился над ней — кажется, обыскивал…
— Откуда вы все это могли видеть — там же было темно?
— Там было светло, — Б. Л. прикрыл глаза. — Светло как на солнце… Наконец он все-таки нашел у нее какой-то медальон. Или монету; присвистнул вот так и подбросил на ладони… И только тогда увидел меня. Я выстрелил.
(Светло как на солнце… на солнце… солнце…)
— В упор. Он покачнулся. Лизонька, куда ты?!
Она быстро уходила. Обернулась:
— Луизу застрелили вы.
Моцарт, сороковая. Он почти догнал ее, но она не останавливалась.
— Послушай, я все потом объясню… Я старый человек, на нас смотрят.
— Вы убили. Вы.
— Да остановись ты в конце концов, соплячка! Девчонка…
Лаги остановилась — дорожка предательски упиралась в серый забор, за ним тарахтела стройка.
— Кто… тогда?
Они стояли, тяжело дыша, запертые бетонным забором. Б. Л. обнял Лаги — осторожно и одновременно больно, как отец.
— Не я… не я… кто угодно — тот тип, патруль, наконец… она сама! Дин говорил, что она хранила у себя…
Лаги уже ничего не говорила, не отстранялась — только мотала головой.
— Отец знал об этом?
Б. Л. выпустил ее из костлявых объятий, они пошли обратно, оставив за спиной забор, упиравшийся в низкое простудное небо.
— Когда его отпустили из подвала, он уже многого не помнил и не понимал. Не знал немецкий, не любил философию… Помнил, что я его друг, первые дни ходил за мной по пятам как привязанный…
Б. Л. снова остановился, прикрыл уставшие от вспоминания глаза. Что он сейчас видел? Как Дин рассыпает шахматы и долго и внимательно разглядывает каждую фигуру, так, что Б. Л. становится не по себе? Или — как Б. Л. берет с собой еще бледного Дина в гости к замковым буфетчицам — и наутро слышит такой вопрос: «Борис, а как… Луиза?» «А кто это?» — прикидывается Б. Л., внимательно глядя на своего товарища. Насреддин молчит, потом медленно улыбается: «Имя такое красивое — Луиза. Если у меня…»
— Сказал только однажды, что если у него родится дочь — назовет Луизой, а если сын — Борисом.
Лаги молчит; серые вечерние облака, старинные деревья без листвы и цветов. Да, отец выполнил обещание — несмотря на безумное нежелание матери, Лаги была названа Луизой. А потом, через четыре года, должен был родиться маленький Борис, Борис Ходжаев, даже успел родиться…
— А отец помнил, что с ним делали в подвале?.. Нет?
Впереди засветилась рогатая «М» подземки, кровавый светлячок. Воскресная прогулка близилась к финалу.
— Почему ты решила, что это я… стрелял в Луизу? Абсурд какой-то.
Лаги пожала плечами:
— Увидела… Даже не закрывая глаз — увидела ваше тогдашнее лицо, темноту, выстрел. Особенно выстрел. Сколько ей было? Двадцать два? Двадцать два — как мне. Она была в чужом городе — я тоже сейчас в чужом городе. Брошенная — и я… наверное. Да вы не беспокойтесь, Борис дорогой Леонидович, со мной все как надо. У меня есть Султан…
Улыбнулась куда-то в себя. Они стояли в какой-то подворотне, в двух шагах от стеклянной пасти метрополитена.
Лаги шла — между каменной рекой домов и железной рекой машин.
«А что есть у вас, Борис Леонидович? Наверное, ничего. Вы всю жизнь переводили чужие прекрасные мысли, не становясь от этого прекраснее — только больше пили и торопливее старели.
Да, вас оправдывало остроумие. Просыпаюсь я с рассветом, а в кармане ни рубля. Смешно. Но это тоже — чужое. Взяли чужую песню, посмеялись. Вы шутили над словами, над буквами — даже не над людьми: для вас людей уже давно не было. Люди непереводимы… Нельзя их вынимать, как слова, из одного языка и, лишая памяти, родины, детства — перетаскивать в другой. Вы говорили когда-то отцу, что истина рождается в споре. А сами думали, наверное, по-другому: что спорщики и вообще люди — только мешают, что истина рождается там, где нет никаких людей… В темном тоннеле, где движутся слова, имена и буквы. А может, так вы стали думать потом, после выстрела. Да, наверное. Поэтому вам было так светло в той черной подворотне — люди стали вам неинтересны, кровь — скучной. Вы совершили нечаянное жертвоприношение и стали князем слов и имен. Известным переводчиком, перевозчиком образов, бесплотных и чужих. Что помешало вам тогда стать их царем — одним выстрелом в себя?..»
Так — нет, приблизительно так думала Лаги, подходя к толстым колоннам Большого театра. В театре уже горели огни, шевелились кулисы, разогревался оркестр.
Билет ей достал перед отъездом Рафаэль.
А Б. Л. все спускался по тоннелю метрополитена, с бесполезным валидолом под прикушенным языком. Толпа крутила его, а он все хотел остановиться и нащупать где-нибудь чистый воздух. «Ты не права, девочка, все не так».
Наконец он добрался до осклизлой стенки и чуть не упал возле какого-то нищего. Здесь дышалось немного легче, даже слышалась музыка. «Герр Либерзон, ступайте в казарму и переводите своего Кафку, а я больна, и мой турецкий танец ист цу энде».
Что ты, Луиза… Где ты слышишь турецкий танец? Это же сороковая, сороковая симфония. Сороковая — помнишь? Помнишь…
Москва! Как много в тебе света, газа, электричества. Как торопливо твое сердце, как нарядны вечерние реки, в которых глубоководными рыбами плавают огни. А звезды на изумрудных колпачках Кремля, а колдовское мороженое в кафе «Космос»? И, конечно, метрополитен — храм транспорта, подземное лицо столицы. Сколько мрамора, полудрагоценных камней, восторженных мозаик, позолоты! Сколько спешащих тел, сокращающихся мышц, бесконечных зачарованных лиц…
Но — выйдем скорее на поверхность, полюбуемся холодной прелестью весеннего заката. Только спросим напоследок гостя столицы, ленинградца Бориса Леонидовича Либерзона, ветерана войны и члена Общества советско-австрийской дружбы, что он думает о вечерней Москве? Борис Леонидович! Вы нас слышите? Ку-ку!
…Лаги уезжала из Москвы — прикрывшись зеленым зонтиком от мокрого снега.
Теплое утро, середина ташкентского мая.
Листва уже посеребрилась пылью и не режет глаз своей зеленью. Зато столько роз; город пахнет, как магазин «Цветы».
Пока все зачехлено последними сумерками — время полпятого или даже меньше. Только тишина и птицы.
Султан проснулся спокойным и невлажным. Дом еще спал; никто не ходил и не жарил лук. В распахнутом окне сонно зеленел виноградник.
…Султан чихнул и приоткрыл глаза. Над ним, пропитанное утренним светом, склонилось лицо Лаги.
— Прошел год, ровно-ровно год, — сказала Лаги, не замечая пробуждения сына. Она вспоминала, шевеля сонными губами.
«Он будет нашим царем, — говорил тогда Маджус, — царем немногих. Не перебивайте, опа, лучше сидите неподвижно. Итак, год.
У вас, Лаги, будет много забот и даже мужчин — забот, конечно, больше. Мужчин ровно двое — сначала к вам приблизится помощник, потом соблазнитель. Один будет сделан из воздушных шаров, другой — из колышков и тряпок, поэтому лучше не бойтесь их.
А зрительный зал будет глазом ребенка.
В нем станет отражаться время, он будет видеть наш театр насквозь, как будто он стеклянный. Это глаз прирожденного царя, умеющего видеть сквозь лица и руки, сквозь все возможные сочетания лиц и рук…»
Тут Лаги заметила, что Султан уже не спит, но глядит на нее из-под своих маленьких век. С полминуты они просто смотрели друг на друга. Потом где-то вдалеке, над Чиланзаром, весело прогремел гром. «К празднику», — почему-то успела подумать Лаги.
В тот великолепный майский день дождь так и не собрался. Несколько осторожных капель брезгливо ощупали пыльную листву. И все.
А потом прошло еще двадцать четыре года.
Две машины, с музыкантами и с телевидением, прибыли вместе, едва не столкнувшись. В переулке уже толпились небрежно припаркованные «Волги», несколько «Нексий» и «Запорожец», почти подпиравший кривую глиняную стену.
Вылезали тоже одновременно: трогая друг друга локтями, футлярами, коробками-шнурами. К прибывшим уже устремлялся распорядитель свадьбы, даже несколько распорядителей и пара советчиков с родственниками. Шаркали калоши, кипела беседа, на асфальт летели плевки. Телевизионщики зажигали слезоточивые огни, размечали пространство шнурами и окуривали сигаретами «Хон». Музыканты, опоздавшие сильнее, не курили, а ставили микрофоны («Раз, раз, бир, икки, раз») и расчехляли инструменты. Паренек с консерваторскими руками натирал канифолью смычок гиджака.
Тут выбило пробки. Распорядители ушли спасать дело; женщины на темной кухне замерли над салатом, разочарованно закричали дети. Но во дворе, где белели столы, было все видно. Заблудившееся пятно заката охватило один из почетных столов: блеснула тонкая оправа, заиграла перламутром седина. Старушка улыбнулась и посмотрела в свежее небо. Разумеется, она была иностранкой.
Снова загорелся свет, застучали ножи, залязгали вилки. Мужчина с микрофоном еще раз произнес считалочку, и музыканты заиграли.
Марта поморщилась — стол, куда ее усадили, стоял недалеко от колонок. Помочила губы в горьковатом чае. Ужас. Ужас. В каждом ухе по оркестру. Законопатиться ватой?
Гости тем временем наслаждались чаем, лузгали горный миндаль и смотрели на танцовщицу. Та кружилась между столами, отражаясь в чайниках и чашках. Кисти рук нетерпеливо и ловко ласкали пыльный воздух. Ей стали давать деньги — в основном сиреневые сотенки, — и она ловко сооружала из них веера, обмахивая и соблазняя кого-то невидимого. Проплывая мимо музыкантов, она освобождалась от денег; музыканты добавляли старания, фрау Марта закладывала очередной жгутик в свое старческое ухо.
Музыка кончилась; сквозь лабиринт столов к Марте пробирался телевизионщик.
Ослепляемая софитами, Марта в который раз бормотала о своей любви к этой древней и гостеприимной земле. От спешно проглоченной самсы разгоралась изжога; кроме того, Марте некстати вспомнился рассказ покойного Доктора о том, как один раз в узбекской пустыне на него налетела местная телешайка. Рассказ был забавен — ее первый муж вообще был рассказчиком. А? Нет, она слушает… Повторить про любовь к земле?
Марта повторяет, вслушиваясь в перевод. Нет, Доктору было легче — он знал русский как свои пять пальцев. Хотя для той части своей работы, в которую он ее не слишком посвящал, знание русского было… Забудем.
«Я полагаю, у вашей культуры имеются большие перспективы», — хрипло закончила Марта, ненавидя свое телевизионное косноязычие.
С ней бодро согласились.
«Тех двоих снимем позже, — командовала картавая телевизионщица, — пока поснимайте пляски». «Только и снимаем, — шепотом огрызался старик оператор, — только и снимаем — то пляски, то гробницы, то опять пляски с гробницами… Скоро все сами запляшем и сдохнем». Стал снимать танцовщицу — музыка заиграла снова.
«Интересно, кто эти двое, кого они собираются снимать?» — думала Марта, маневрируя вилкой между крупно нарезанным луком помидорного салата.
Марта прикрыла глаза, вспоминая начало — то ли этой свадьбы, то ли другого праздника. Все торжества, по которым она здесь ходила как призрак, давно слепились в какой-то бракованный калейдоскоп.
…Разноцветные тряпочки на чинарах теребит ветер, пахнущий бараньим жиром и кока-колой. Продавцы свистулек дуют в своих осликов, дракончиков, химер; их перекрикивают торговцы боярышником, сухим перцем и шафрановой пылью. Любительницы абсента вылезают из своих пещер, щурясь от солнца и сплевывая на дорогу, обсыпанную карнавальным мусором, обгорелыми страницами Фадеева (ритуальной жертвы последнего Дня библиотекаря), ракушками лузганого арахиса. Золотозубые матери с младенцами, завернутыми в дешевые пеленки. Мужчины дуют в длинные, до неба, карнаи, выдувая мыльные пузыри восторга…
Новый взрыв смеха заставил Марту приоткрыть глаза. Какие-то молодые люди, двое, с обморочными улыбками топтались на подиуме и дергали руками в такт музыке — гости от души смеялись.
— Почему смешно? — поинтересовалась Марта.
— Танец свидетелей… Цойгентанц. Они исполняют этот танец уже минут пятнадцать, а музыканты все не прекращают игру.
Она не поняла, свидетелей чего заставляют так долго танцевать.
Султан перешел на немецкий:
— В киндергартене я разучивал песенку: «Мы можем танцевать около рождественской ели целых полчаса…»
Марта улыбнулась. «Свидетельский танец». Все мы плясуны перед Богом, от Заратустры до Давида. Остальное — болтовня и старость. «А кто по дряхлости не может танцевать, пусть будет сказителем мифов», — как говорил старик Платон. Не пора ли, фрау Марта, приступить к мифам — семьдесят, самый возраст. Нет, спасибо, сказителей здесь хватает без нее, решила она, глядя на стол с белобородыми жрецами в тюбетейках. Позади этого стола, в тени, как раз проходили отплясавшие свидетели.
Марта протерла очки и принялась рассматривать жениха с невестой. Они сидели недалеко, на фоне ковра, по которому в виде двух колец мигали елочные лампочки. Рядом поблескивало ведро с розами.
Жених моргал; невеста сидела, как и полагалось, глазами в стол — оба старались показать смущение. Перед ними белел монументальный торт, украшенный сомнительной кондитерской флорой.
Потом их стало не видно: объявили общий танец, и пространство перед новобрачными заполнилось прыгающей молодежью; между ними, извиваясь, кружилась золотистая танцовщица.
Наконец и этот танец был завершен; ведущий свадьбы поправил галстук на волосатой шее и заговорил о почетных гостях, «присутствующих среди нас».
— Фрау Блютнер, сейчас вас попросят сказать тост…
— Мне? Нет… не сейчас. Мне нужно подготовиться, передайте им, пожалуйста.
Передали. Ведущий, не прерываясь, чиркнул в своем блокнотике и заговорил о дружбе народов — знаете, простой человеческой дружбе…
— Разрешите предоставить слово нашему дорогому гостю из Израиля!
Прежде чем было названо имя, из-за соседнего стола поднялся упитанный мужчина, спрятал зубочистку в карман и профессионально поклонился.
Артурик.
Да, Марта узнала. В ее кабинете стояла фотография Доктора на Маджнун-кале за пару месяцев до. Именно в тот день их терзало местное телевидение — Доктор, потея двойным подбородком, что-то объяснял, а рядом с ним, в полупрофиль, стоял эстетический юноша и внимал. Доктор как-то назвал Марте его имя — Артур, второй слог под ударением, — за мальчиком числилась одна история… Эта — последняя — фотография Доктора была вставлена в ореховую рамку, с нее регулярно смахивали пыль. Хотя Марте иногда казалось, что причиной такой заботы был даже не сам Доктор, а этот юноша — уже не Ромео, но еще не Гамлет, обещание золотой середины.
Марта глядела на дорогого гостя из Израиля. Обещание не сбылось. Сатир. Жирок балетного пенсионера. Лицо в авоське морщинок, особенно когда улыбается. Законспирированные под прическу проплешины. Говорит тост, посмеиваясь, дирижируя кусочком лепешки. Стих, придуманный для новобрачных; Марта поняла только рифму «брака — собака». Или «драка»? По израильскому обычаю дарит молодым монетку. Все едят и аплодируют.
— Этот человек был знаком с моим мужем.
— С профессором Брайзахером?
— Причем здесь… С первым мужем.
С Доктором.
Принесли шурву; колечки жира подрагивали в такт музыке. Проглотив еще одну желудочную пилюлю, Марта зачерпнула жир.
Артурик усердно причесывался, склонившись над зеркальцем теле-«рафика». Телевизионщики ждали: кто хрустел виноградными косточками, кто отмахивался от осы.
Наконец прическа была завершена, какие-то колышки и шнурки, торчавшие из карманов Артурика, спрятаны; галстук со свежим пятнышком жира элегантно поправлен.
Телевизионщица обошла Артурика:
— Молодчиночка… Начнем.
Но вместо этого все вдруг подняли головы — в небе вспыхнули зеленые звезды, потом гром. «Салют!» — закричали дети и, танцуя, улетели на улицу.
— Сегодня… праздник? — спросил Артурик, чувствуя, как с каждой секундой расползается его прическа.
— День поминовения и почестей.
— Что?
— День Победы.
— А… Забыл, поздравляю… Это значительно. Надо будет упомянуть к слову.
И упомянул довольно удачно, рассказывая в интервью об Израиле.
Потом Марта разговорилась с Артуриком — он вполне мило болтал по-немецки. Нет, он не еврей — просто по иронии судьбы оказался в Израиле. Приехал в девяносто пятом на похороны друга (был такой замечательный человек, Рафаэль) и остался. Неожиданное притяжение земли, опьянение историей. Чтобы чувствовать, необязательно стать евреем. Например, видел одного вполне чистокровного немца…
— Извините, господин Афлатулин, вы ведь когда-то работали на телевидении? — (Взгляд Артурика стал напряженным.) — Вы встречали моего мужа, доктора Блютнера — у меня сохранилась фотография, вы рядом с ним…
— Фотография? Да, конечно — конечно встречал. Я его и в Израиле пару раз видел — он меня узнавал…
Марта внимательно посмотрела на улыбку Артурика.
— Доктор Блютнер умер более двадцати лет назад.
— Правда… Жаль. Значит, это был другой Доктор.
Приторно извинившись, Артурик ушел курить.
Курилка образовалась около ворот, где на пыльном сквозняке шевелился жасмин. Курили не все — кто-то просто отдыхал от танцев и еды. Темно, три-четыре никотиновых огонька.
Подходя, Артурик понял, что говорили о нем. Остановился, прислушался; перед самым лицом маячили темные листья и белесые цветы.
— Это не старость — я тебе говорю, у него вблизи на лице грим.
— А живот, а залысины? Мы просто не любим смотреть, как стареют наши актеры.
Артурик откашлялся и с холодным выражением лица прошествовал мимо. В переулке, куда он вышел, пахло ночной землей; мигал фонарь. Набил трубку табаком, но вдохновение курить исчезло. Да, постарел. И… кто его помнит? Прозябает в Иерусалиме, один в четырех стенах плача.
Вдруг все стихло — музыка, курильщики, шелест запутавшихся в проводах воздушных змеев.
Приближались шаги, в переулок входили двое. Женщина несла сирень; мужчина держал в руках собаку. Собственно, они были пока только силуэтами, без электрического света на лицах. Но Артурик узнал. Он помнил женские шаги. Забывал лица, родинки и запястья любимых; фотографировал и все равно забывал. Осциллограф памяти сохранял только удары ног о землю.
Артурик бежал во двор. Его снова ударило поющей волной. Холодный страх гнал Артурика мимо ритмично жующих лиц, в темноту, в темноту, в дом.
…Почти никто не заметил, как во двор в синем плаще вошла невысокая женщина предосеннего возраста — гости были погружены в еду и беседу. Только Марта, улыбаясь, поднялась со своего места — улыбнулась и пришедшая; так они стояли, разделенные стеной танца. Наконец возникла арка; женщины подошли друг к другу, поздоровались и обнялись, не помяв сирени.
Артурик заперся в маленькой комнатке с зеркалом, курпачой и черно-белым фотопортретом с разноцветной ретушью. Зажег настольную лампу с пропавшим без вести абажуром. Следовало предпринять…
Прямо перед зеркалом коробка, заглянул. Торт, покрытый белым липким кремом. Артурик обрадовался ему. Подмигнув зеркалу, принялся за дело.
Свадьба была ловушкой, это он понял сразу. Его давно собирались жестоко женить, почти с самого детства. До сих пор ото всех уходил, как лиса, проглатывая очередной прогорклый колобок. Уйдет и сейчас, незаметным — по крайней мере, неузнанным. Артурик скорчился перед зеркалом — освещение было снизу, полосами, — лицо пугало само себя. Зачерпнул пальцем тортовый крем, мазнул по щеке. Еще раз. Теперь по другой. В зеркале постепенно появлялся клоун — клоун-колдун, привлеченный из-под земли запахом плова и водки.
Через пять минут работа была закончена. Облысевший торт Артурик быстро и шумно съел. Чтобы его не распознали по одежде, он снял ее и спрятал за зеркало, а голову замотал майкой, как чалмой. Постояв так с минуту, Артурик снова достал скомканный пиджак, добыл из него деньги и паспорт. Застыл, разглядывая свое лишенное карманов тело. Потом, вздохнув, засунул паспорт в трусы, там сразу сделалось зябко; деньги пришлось положить в рот. Это принесло некоторое удовлетворение — деформированные щеки маскировали еще больше. Истекая слюной от горько-соленых ассигнаций и кисловатой мелочи, преображенный Артурик приготовился к бегству. Наверху, над потолком, что-то загремело.
«Нахам[19], — прошептал безумный, думая, что говорит на иврите. — Нахам».
Салют возобновился совсем близко, гости запрокидывали лица и щурились от новых взрывов света.
Марта завтра улетала. В этом городе ей оставалось выяснить только две вещи. Она нашла глазами Лаги — та сидела на месте исчезнувшего израильтянина. Рядом сидел ее муж и медленно ел плов, улыбаясь в небо жующим ртом.
— А почему мать зовут Лаги? — спросила Марта.
— Она сама не знает. Имя сочинила бабушка и умерла, ничего не объяснив. Я думаю, это имя ничего не значит.
— Нет… — тихо сказала Марта. — Оно значит. Ты потом поймешь.
Небо снова загорелось.
Султан вспомнил фейерверк на празднике пива в Зальцбурге, второй год магистратуры. Сопровождали профессора Брайзахера он и еще несколько человек. Профессор захмелел и, злоупотребляя отсутствием Марты, рассказывал о своих приключениях с мужчинами. Его слушали молча, пряча улыбки в безразмерные кружки: кроме Султана, пиво пили все. Потом герр Брайзахер лениво повернул к Султану свое ученое лицо с кусочком картофельного чипса на губе. Он в молодости скоротечно дружил с одним узбеком, да. «Член какой-то секты — под брюками сплошные рубцы и шрамы. Самоувечье. Представляете? Вы слышали о таких сектах у себя на родине, Султан?»
…Султан обернулся. Свеча свадьбы постепенно догорала: музыканты играли медленнее; на остывшем бетоне танцевали только трое — мать, фрау Марта и золотая танцовщица. Завтра новый день, новый поиск работы. Деньги, собранные за три австрийских года, на исходе. Роман…
«Султан, я немного за вами шпионю — вы что-то тайно пишете. Как оно называется? (Этот разговор с Брайзахером происходил уже в Вене.) Так нечестно, вы опять молчите — я показывал вам свой сборник хайку, мой юношеский сборник, а вы пишете под пологом ночи и делаете из этого секрет… Обещаю, что не нажалуюсь вашей строгой наставнице — ну?»
«Украшение жизни? Уже запахло Голливудом. Decoration of Life. Пошло, как гамбургер. Переназовите как-нибудь… Кстати, о чем это ваше… ваш?..»
«Об украшении жизни, господин профессор. О тщете имен и названий — и невозможности их поменять по прихоти или похоти. Роман о ваших собственных снах, господин профессор, похожих на плохой голливудский киногамбургер, — но, поверьте, они лучше вашей яви, сонных конференций и ночных пабов с уютными клозетами. Это роман о прошлом — прошлое всегда красиво. Ташкентский роман… О высоком кудрявом немце на фоне неба, на фоне мечети в снегу, на фоне сбывшихся шуток и недовыполненных пророчеств. О связи далеких людей, о духовном коммунизме — если вам это о чем-то говорит. Мне это не говорит ни о чем — но это выше меня и вашей вечно уместной усмешки».
Нет, он не ответил ему так — просто снова замолчал. И следил, как Брайзахер шевелит губами, приоткрывает рот с глянцевым, весело скачущим языком, — и слегка вздрагивал лишь при произнесении своего имени…
— Султан! Подойди сюда…
Он повернулся — зов был от Лаги. Она сидела с Мартой — вокруг все хрустели и брызгали гемофилическим арбузом. «Откуда арбуз — ведь только май?»
Салют ударил совсем близко — так что с крыши посыпались пыль и листья. И погас свет — теперь уже везде, и по соседству, и во всей махалле…
— Султан!
Это был непривычный салют. Вместо мгновенных трехцветных звезд на небе проступало долгое золотистое пятно. Лишенные громкости и света музыканты начали собираться, только паренек на гиджаке водил и водил смычком по шершавой струне, словно и струна, и смычок не имели конца. Пятно между тем рассыпалось, и на свадебный двор стали опускаться…
…маленькие свечи, прикрепленные к парашютикам. Одни гасли в воздухе, другие на земле. У большинства же парашютик при приземлении ловко превращался в подсвечник с липучкой — и скоро весь двор стал похож на горящий именинный торт, испеченный в честь какого-то сверхдолгожителя.
Гости — а их оказалось уже не так много — сидели удивленно; дети спали кто где, улыбаясь прибытию сна. На секунду осветился какой-то нелепый призрак в снежной маске и чалме, бегущий голяком через двор, но никто не испугался, а может, и не увидел; в глазах у каждого плыли огоньки. Гнусавый смычок наконец доиграл — было слышно, как уезжает машина с музыкантами; гиджакист остался.
Обходя падающие свечи, Султан подошел к матери.
Говорила Марта:
— …Необычные обстоятельства его зачатия и рождения…
Лаги, не перебивая ее, повернулась к сыну:
— Султан, вон за тем столом сидит твой дедушка, подойди к нему — расспроси о здоровье и посмотри, как у него с едой.
— Опа, я полагал, что он давно… вафот этганлар?
Лаги сняла две свечки, приземлившиеся ей на плечо и рукав, смахнула застывающие капли воска:
— Ты же видишь, какая свадьба… В такие праздники все живы — и уснувшие, и бодрствующие… иди, мне пока нельзя.
И положила в рот сыну медовый кусочек арбуза.
Старик, на которого указала мать, сидел недалеко от стола белобородых и что-то писал прямо на скатерти. Увидев Султана, попросил принести хлеб и бумагу. Султан схватил первую же лепешку, снял с нее свечу и достал из кармана венский блокнот. Старик выглядел довольным — поцеловав хлеб, приступил к трапезе. Так они молчали минут пять, пока дед не поднял ладони:
— Спасибо. То, что я сейчас от тебя услышал, было хорошо. Остальное решай сам. Может быть, скоро я научу тебя летать. Трофейный велосипед подарите первому, кто попросит. Передай матери, чтобы омыла сундук с книжной ветошью.
— Вы не примете мать? — Он заметил, что старик его не слышит. Спохватился: — Как ваше здоровье?
Молчание. Дед прожевал лепешку и попрощался:
— Иди. То, что тебе удалось узнать про меня в Вене, стоило тебе слишком много времени. А то, что требует много времени, не бывает истинным… Чаще беседуй с собственной памятью — в ней уже есть все, что нужно человеку.
— Беседовать с памятью?
— Знаешь, как по-немецки будет «вспомнить», «воспоминание»? — Откашлялся. — Dies Werden stellt eine trage Bewegung und Aufeinanderfolge von Geistern dar, eine Galerie von Bildern, deren jedes, mit dem vollstandigen Reichtume des Geistes ausgestattet, eben darum sich so trage bewegt, weil das Selbst diesen ganzen Reichtum seiner Substanz zu durchdringen und zu verdauen hat[20]. Пробиться сквозь богатство… Только не бери эпиграфом. Иди к молодежи, мне нечему тебя больше научить. Праздник…
Свечи перестали падать, странное напутствие Гегеля, выложенное арбузными семечками на скатерти, покрылось темнотой.
— Я подошел к нему.
— Что он сказал?
— Идти к молодежи.
— Иди к ней — смотри, сколько собралось друзей… Фрау Марта, так что это был за чай у Доктора — неужели там была отрава?.. Иди, Султан, тебя ждут.
В конце двора, рядом с горкой дров для плова стоял щербатый забор и горело больше всего свечей. Подойдя, Султан нашел трех собеседников, испортивших Артурику желание курить, — Вадима, Санджара, Евгения; их тайные имена Султан вспомнил не сразу. Троица вдумчиво допивала кагор. Позади них в широкие прорези забора были видны другие ташкентские лица — веселые, шепчущие, полные смеха, заглядывающие в странный двор, усыпанный огнями. Л. М., Галия, Манс, Тима Шакиров, «Винаяка», Азиз, vladko@ishonch.com, Лейла, Влад И., Саид, Неля, Цвет Нашей Молодежи, кто-то еще. Султан приветствовал их взмахом руки.
— Come on, King of the Juice!
— Мы уже затоптались.
— Это та свадьба, которую решил на финал романа?
— А почему свадьба, а не Новый год, как ты хотел?.. А что ты там делал, между пустыми столами?
— Искал эпиграф.
— Нашел?
— Это становление воспроизводит некоторое медлительное движение и последовательный ряд духов… Той темноте за окнами угодный. Идемте, я готов.
Напоследок он повернулся во двор.
Свадьба рассосалась; старухи с тазами подбирали свечи и относили их ближе к новобрачным — те сидели, как и раньше, в невидимом гипсе. Одна особенно старушья старуха сняла свечку с бутылки кагора и потрепала Султана по плечу.
— Буви-жон? Бабушка? Откуда вы тут? Вы же…
— Жива, конечно. Старая гвардия нос не вешает. Это же внучка моя сегодня невеста — как я дома буду, сам посуди.
— Внучка…
— Твоего дяди Хасана дочка — московского Хасана, помнишь, он тебя рисовал краской и еще туфли подарил? Нехорошо родную кровь забывать, даже ученым людям такой грех не прощается.
— Как ваше здоровье…
— Да как ты меня исцелил перед отъездом, все не жалуюсь. Зря ты бросил людей лечить — большие бы деньги имел, уважение. Маджус до сих пор лечит — и сам сыт, и мечеть построил, министры его знают. А был простой оборванец, звездам поклонялся. Как пещеры бетоном залили, так сразу за ум взялся. За ум…
— Буви-жон… Вы привет ему передавайте, Маджусу-аке. Скажите, что ему уже недолго так мучиться. Бабушка!
Старуха глазами еще была с Султаном, но дуплистый рот уже бормотал свое, хлопотливое: «Песней проговориться легче… конечно…» И, погладив внука по щеке, ушла в глубь двора. Султан видел, как она прошла мимо стола, за которым он только что разговаривал с дедом. Тот сидел в позе писца; перед ним на коленях стояла Лаги и шевелила губами. Старик глядел вдаль и согласно кивал — на этот раз им никто не мешал.
— Султан!
Да, он идет.
Он провел ладонью по забору, пытаясь определить на ощупь породу дерева. Странно, это была сосна. Помахав на прощание свадебному двору, Султан вошел в небольшую рощу из сосен и чинар с выбеленными известью стволами. Там, на траве, уже находились те, кто ждал продолжения.
— Идем?
И пошли, прихватив гитару и пионерский барабан с отвалившимся дном, в котором несли лепешки. Жених с невестой догнали их позже, усыпив бдительность старух-советчиц. Рассказали, что перед самым их побегом немка произнесла необыкновенный тост, богословский.
Настраивая гитару, вышли к чинарам Дархана — на шоссе было пусто, не считая освещенного троллейбуса, внутри которого танцевали какие-то фигуры в старинных немецких нарядах. То ли развеселая массовка возвращалась со съемок узбекско-немецкой «Волшебной флейты» (консультировать которую и была приглашена профессор Блютнер), то ли… Троллейбус проехал, вслед ему пели.
Мимо мертвой консерватории двинулись к Алайскому, искать арбузы и водку. Прямо перед базаром шествие наткнулось на такую пару: полуголый мужчина с размазанным по щекам кремом, на спину накинут женский плащ — хозяйка плаща шла рядом, держа голого за локоть. Улыбаясь щербатым ртом, она пела: «Я дождалась тебя, какое счастье!» Тот, кого она дождалась, послушно улыбался в ответ и выжимал из-под нагримированных век бессмысленные слезы.
Султан слегка отстал, глядя вслед удивительной и по-своему гармоничной паре, потом нагнал своих, уже входивших в мраморные ворота ночного базара. Кто-то из идущих впереди будил спящего на арбузах продавца, тот сквозь сон торговался и искал продрогшей пяткой слетевший шлепанец.
…Когда вскрыли первый арбуз, у Султана неожиданно поплыло перед глазами — лица, арбузное чрево, какая-то больница в шахматах света и тени, добывание воды из-под асфальта… Покачнувшись, Султан полетел на землю, покрытую звездами битого стекла.
Он не ушибся — случайный порыв ветра поднял его вместе с целлофановым пакетом из «Ардуса» и стопкой букинистических книжек и понес куда-то. В небе еще не растаял едкий запах салюта, но Султан его не почувствовал — только чихнул пару раз во сне, пролетая над недостроенным костелом.
…И не узнал места, в котором открыл глаза. Утро. Кусками висел туман, из него выглядывали ветви, прогибающиеся под тяжестью влажной зелени. Ближе всего темнели стволы крымской сосны, дальше намечались березы и рощи яблонь и смоковниц. В разрывах между ветвями шевелились облака.
Султан приподнялся, пожевал серебристый лист мяты, чтобы прогнать изо рта ночной привкус.
Запела невидимая птица.
«Странно, почему я оказался в этом далеком саду именно сейчас? Почему именно я, а не кто-нибудь другой из людей… друзей?.. И зачем я так спокоен?» Так и не узнав ответа, добавил: «Благодарю тебя, Господи».
В Городе тоже наступило утро. Продавец арбузов подсчитывал ночную прибыль; смотритель троллейбусного парка выгонял из салона хулиганов в напудренных париках; фрау Марта, остановившись на фоне лозунга «Узбекистон — келажаги буюк давлат»[21], что-то записывала в свой зороастрийский блокнот. За Мартой шла Лаги с мужем, и лицо его было в такой судороге смирения, что нельзя сказать точно, был ли это раскаявшийся Юсуф или Малик, ослушавшийся брата…
Позади бежала золотистая собака и лаяла на воробьев, флаги и облака. Раннее солнце щекотало листву, пели грузовики, мурлыкали молочницы, центр Города объезжал визирь (о котором говорили, что он не терпит рядом с собой дураков, особенно тех, которые считают себя умнее его), открывались — книжные лавки… День начинался.
Ноябрь 2001 — июнь 2002ТАШКЕНТСКИЙ СЛОВАРЬ
Авлиё — святой.
Акя (ака) — старший брат; также употребляется при обращении к старшему по возрасту.
Амакя (амака) — дядя со стороны отца.
Афлатун — Платон.
Бечора — бедняга.
Бир — один; раз.
Бола — дитя, ребенок.
Буви — бабушка.
Дода — папа.
-жон — буквально: «душа», придает ласкательный оттенок именам и словам, обозначающим родственные отношения.
Икки — два.
Исрык (исирик) — гармала, растение, используемое для ритуального окуривания и против дурного глаза; обладает также дезинфицирующим действием.
Кизим — доченька.
Куёнча — зайчик.
Курпача — ватное одеяло.
Курт — шарики из сухой брынзы.
Мазар (мозор) — кладбище.
Махалля — квартал.
Мошугра — суп из маша (мелких бобов) с лапшой.
Насвай (носвой) — особо приготовленный табак, закладывается под язык.
Опа — старшая сестра; также употребляется при почтительном обращении (или упоминании) женщины.
Раис — председатель.
Углым (углим) — сынок.
Укя (ука) — младший брат; также употребляется при обращении к младшему по возрасту.
Усьма — растение, используемое для окрашивания бровей.
Шурва, шурпа — суп.
Примечания
1
Перевод отдельных узбекских слов — в «Ташкентском словаре» в конце книги; ударение на последнем слоге.
(обратно)2
Большое спасибо за праздник (узб.).
(обратно)3
Я устал… Давай спать (санскр.).
(обратно)4
Яхшими сиз? Тузукми сиз? — Как поживаете? Как ваше здоровье? (узб.)
(обратно)5
Сестра, почему не едите плов? (узб.)
(обратно)6
Дворец. Замок. Замок безумцев (узб.).
(обратно)7
Будх — будить, изучать, знать (санскр.).
(обратно)8
Что вы сказали, сестра? (узб.)
(обратно)9
Меня зовут Артур. Очень приятно (нем.).
(обратно)10
Человек искусства и искусствовед (нем.).
(обратно)11
— Кто звонит? (узб.)
(обратно)12
— Переводчик… Стой спокойно (узб.).
(обратно)13
Прощай, нежно-горький друг… Заснеженный Регистан Регистрирует этот шаг (нем.). (обратно)14
С Новым годом (узб.).
(обратно)15
Сейчас, иду (разг. узб.).
(обратно)16
«Так говорил Заратустра» (нем.).
(обратно)17
Написал стихотворение? (санскр.)
(обратно)18
Сазанда — танцовщица на свадьбах бухарских евреев.
(обратно)19
Не я (санскр.).
(обратно)20
Это становление воспроизводит некоторое медлительное движение и последовательный ряд духов, некоторую галерею образов, из коих каждый, будучи наделен полным богатством духа, именно потому движется так медлительно, что самость должна пробиться сквозь все это богатство своей субстанции и переварить его.
(обратно)21
Узбекистан — страна с великим будущим (узб.).
(обратно)



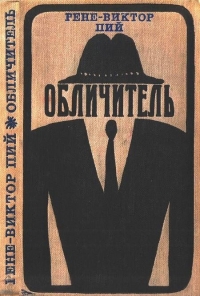




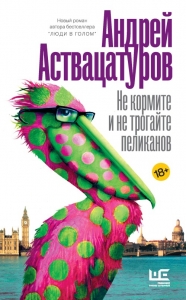

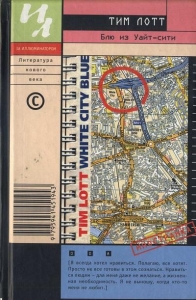
Комментарии к книге «Ташкентский роман», Сухбат Афлатуни
Всего 0 комментариев