Паскаль Брюкнер ДОМ АНГЕЛОВ
Рианне, моей любимой Тутси
Да, ночью верить в свет — вот жажда идеала.
Эдмон РостанС самого утра Антонен ехал по идиллическим местам: изумрудные озера меж горных вершин, пенящиеся водопады, черный мех елей, деревушки, прикорнувшие вокруг колоколен с острыми шпилями, пестреющие цветами луга. Он выехал из Инсбрука, долго петлял и немного заблудился. В сумерках, сытый красотами по горло, он решил поскорее добраться к друзьям в Клагенфурт. Там ему предстояло учиться на языковых курсах по программе «Эразмус». Но, не доезжая перевала Фидерпасс, взятая напрокат «ауди» застряла на повороте. Мотор чихнул, вроде бы завелся, но тут же окончательно заглох. Из-под капота струился дымок. Половина десятого вечера, начало июля, юг Австрии.
Акселератор не отзывался. Стрелка показывала, что бак еще наполовину полон. Антонен открыл капот, попытался проверить карбюратор, приводные ремни — но его познания в механике были нулевыми. Он не смог бы даже поменять колесо. Темнело, он был на высоте 1500 метров, от прохладного ветерка слегка знобило. О том, чтобы добраться автостопом, в такой час в этих краях нечего было и думать. Местные жители славились недоверчивостью. В свете фар он заметил в нескольких метрах тропинку, уходившую вправо в лес. Не хватало только на кого-нибудь наехать. Он подтолкнул машину левой рукой, открыв водительскую дверцу и крутя руль. Машина поддалась, он завел ее в лес и остановил на обочине. Потом надел свитер, запер дверцы и отправился искать подмогу. В довершение всех бед, несмотря на семь лет учебы, по-немецки он говорил еле-еле. Пройдя немного, он увидел деревянный дом, криво примостившийся на вершине холма; табличка над дверью гласила «Gasthaus Frau Rufhe» — то ли гостиница, то ли семейный пансион. Окна не светились, на приколотой к двери бумажке было написано «Geschlossen», закрыто. На всякий случай он постучал.
Тихонько.
Потом все громче и громче.
Он уже колотил изо всех сил в дверь, в ставни, раня руки о деревянные доски, уверенный, что никто его не слышит. Он сопровождал стук градом ругательств, орал «Scheisse» (дерьмо), грозил поджечь дом, швырял камни и комья земли в окна верхнего этажа, топал ногами.
И вдруг заметил ее.
Темная фигура отодвинула занавеску в чердачном окне. Это была женщина маленького роста, в чепце на макушке.
Она смотрела на него.
Невозмутимая.
Он содрогнулся.
Она, похоже, ничуть не боялась незнакомца, ломившегося в ее дом среди ночи. Может быть, она уже позвонила в полицию? Горы, казалось, притихли, наблюдая за этим поединком незваного гостя и хозяйки. Устыдившись своей истерики, он поднял правую руку в знак приветствия.
— Halli, ich bin da (Алло, я здесь).
Женщина в окне не шевельнулась.
Бесконечно медленно ползли минуты.
Всматриваясь в темноту, он вдруг понял, что она исчезла. Куда она могла деваться?
— Алло, алло, — повторил он, — есть здесь кто-нибудь?
Говорить по-французски в этих местах было нелепо. Дом необитаем, ему померещилось. Поднялся ветер, заколыхал низкие ветви елей, суровых стражей вершин. Он вздрогнул и решил, что пора вернуться. Он проведет ночь в «ауди», завтра утром, в лучшем случае, кого-нибудь разыщет. И вдруг женщина показалась снова, на этот раз в приоткрытом окне над крыльцом.
Он не слышал, как она спустилась, как открыла ставни. По воздуху, что ли, перелетела со второго этажа на первый?
— Entschuldigung (Извините меня).
Она словно оцепенела и не произносила ни слова. Он попытался объясниться на ломаном языке.
— Auto kaput, ich franzose, все закрыто, sehr kalt, haben sie Telephon, ich möchte ein Garage anrufen (Машина сломалась, я француз, все закрыто, очень холодно, у вас есть телефон, мне надо позвонить в гараж).
Он различал женщину плохо, но она явно была не первой молодости. И вдруг низкая, на диво мощная нота взмыла от порога. Незнакомка заговорила зычным голосом с густым акцентом, раскатывая «р».
— Wirr sind geschlossen… es tut mirr leid (Мы закрыты, сожалею).
Казалось, барабанные палочки застучали в голове. Тон не допускал возражений, это был приказ немедленно убираться.
— Ok, einverstanden, goodbye, Fräulein…
Он уже повернулся, чтобы уйти, но тот же зычный голос вдруг окликнул его:
— Ein Moment, bitte…
Он остановился.
— Коттеп sie mal zurück (Вернитесь).
Лязгнул тяжелый замок, скрипнули петли, и дверь приоткрылась. В слабом трепещущем свете то ли свечи, то ли лампы стояла крошечная сгорбленная женщина в чепце и ночной сорочке. Крестьянка из старинных сказок. Жестом она пригласила его войти. Она что-то бормотала себе под нос, и он прислушался: в потоке ее речи редкие внятные слова мелькали золотыми самородками. Насколько он понял, пансион закрыт на лето и откроется только в конце ноября, к лыжному сезону. Она тут просто сторожиха. Это слово она повторила трижды. Если он хочет, она может приютить его на ночь. Тощим пальцем, высовывавшимся из митенки, она указала наверх. Этот палец — кожа да кости — испугал его.
Она шагнула навстречу. Недолго думая, он пустился наутек, добежал до машины, заперся в ней и включил фары, рискуя разрядить аккумулятор. Он всматривался в темноту, боясь, как бы старуха силой не затащила его к себе. Сердце отчаянно колотилось в груди. Наконец он погасил фары, опустил спинку водительского сиденья и свернулся калачиком. Минут через десять, не в состоянии уснуть, он одумался. Он просто смешон. Женщина пожалела его, а он повел себя по-хамски. Собравшись с духом, он открыл дверцу, достал из чемодана туалетные принадлежности и вернулся к дому.
Старуха все еще стояла неподвижно на пороге, поджидая его. Она знала наверняка, что он вернется. Он снова пробормотал «Entschuldigung», извиняться стало уже привычкой, попытался что-то объяснить на смеси французского с немецким. Она не сочла нужным ответить. Он поднялся по ступенькам крыльца, она посторонилась, впуская его, буркнула:
— Bitte sehr…
Он был выше ее по крайней мере на две головы. Она показала ему лестницу, жестом пригласив наверх. Света не было, электричество отключено. Он не только оказался далеко от дома — он словно перенесся на столетие назад. Старуха бормотала без умолку, выговариваясь за месяцы вынужденного молчания: она перекатывала слова на зубах, точно камешки. Он не понимал ее говора, да она еще и пыхтела, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. Он боялся, как бы ей не стало плохо. Она показала ему каморку под крышей, без удобств: «Надеюсь, вас устроит», — повторила она не меньше трех раз. Карманный фонарик в ее руке отбрасывал на стены огромные тени. В доме было сыро и пахло плесенью с легкой примесью запаха душистых букетов, которые расставляют в гостиницах средней руки. Антонену подумалось, что надо остаться совсем уж без гроша, чтобы проводить зимние каникулы в этой халупе. В комнате стояла железная кровать без простыней, с матрасом в подозрительных пятнах, расшатанный стул и умывальник без ковшика и мыла. Стены вздулись и местами облупились.
— Es geht mir gut, vielen Dank (Меня вполне устраивает, спасибо), — повторил он.
Старуха с тревогой ждала его одобрения. Косичка редких седых волос, бородавка на подбородке, обломки зубов во рту — и представить невозможно, что она была когда-то веселой и резвой девушкой. Даже ее чепец казался изъеденным молью. Ее тело со временем усохло, почти исчезло: она утопала в обтрепанном зеленоватом халате. Она, однако, была не из боязливых, ее невозмутимость впечатляла.
Он предложил ей немного денег, она отказалась:
— Morgen, mit Frühstück, wir kümmem uns am Morgen (Утром, за завтраком, рассчитаемся).
Она оставила ему огарок свечи, коробку спичек, пожелала доброй ночи и затворила дверь. Ключа не было. В этом бардаке Антонен никак не мог заснуть. Ему хотелось есть, но на ужин рассчитывать не приходилось, оставалось прибраться. Для начала он умылся холодной водой, потом, закрыв туалетный несессер, немного навел порядок. В треснувшем зеркале отразился молодой человек с тонкими чертами и встревоженным выражением лица. Он провел пальцем по плинтусу, и толстый слой пыли привел его в отчаяние. Он поискал тряпку, чтобы пометить эту незнакомую территорию: уборка успокоила бы его. Завтра на рассвете только его здесь и видели. Деньги в уплату он оставит на кровати, пойдет за помощью в ближайшую деревню и выпьет хорошего кофе по-австрийски с Schlagsahne (сбитыми сливками), чтобы взбодриться. В животе у него урчало. Старуха могла бы предложить ему перекусить. Вот скряга-то!
Вообще-то она пугала его. Она не отличалась добродушием пожилых людей, чью агрессивность притупило время. Старуха сверлила его любопытными глазками и, казалось, знала о нем такое, чего не знал он. Он лег на кровать одетый, сняв только ботинки. Пружины жалобно скрипнули, он укрылся траченным молью одеялом, стараясь не касаться его лицом. Он морщился при мысли, что придется спать в незнакомом месте, топографию которого он не успел освоить. Свечу он задул: бояться в чужой стране — значит бояться вдвойне, если ты лишен языка.
Он уже проваливался в глубокий сон, когда дверь вдруг открылась, визгливо скрипнув петлями. Он вытаращил глаза и уставился в темноте на створку, которая медленно отходила от стены. Его пробрал озноб. Надо проснуться, рассеять эту галлюцинацию. Но нет! Темная фигура неспешно вошла в комнату, аккуратно задвинула щеколду и мелкими шажками направилась к кровати. Вот уже старуха склонилась над ним, обдавая кислым дыханием, словно гнилыми фруктами потянуло из погреба.
— Ich möchte mich zu ihnen legen! (Пустите меня лечь рядом с вами!)
Она шептала ему в лицо. Он сделал усилие, чтобы понять. Она повторила фразу, вцепившись одной рукой в одеяло. Ситуация выходила из-под контроля. Он ударился в панику. Нет, не посмеет же она? В ответ на его увещевания она твердила одно:
— Es ist mir kalt, das ist mein Haus, lassen sie mich herein (Мне холодно, я у себя дома, пустите меня).
— Да почему же в мою кровать?
Ткнув в него указующим перстом, она пихнула его с неожиданной для нее силой. Он подвинулся, из остатков уважения к старшим. Старуха плюхнулась рядом с ним — она оказалась тяжелее, чем он думал, кровать закачалась, как лодка на воде. По-прежнему протестуя, он попытался отгородиться от нее сложенным одеялом, но она властно шикнула на него, и он притих. Она поднялась и с трудом выпросталась из халата. На ней была простая ночная сорочка, совсем коротенькая, открывавшая тощие ноги; она снова легла, повернулась к нему, обхватила рукой, как примерная супруга, и будто бы задремала. Она громко дышала, каждый долгий вдох заканчивался всхрапом. Антонену было и страшно, и противно.
В голове роились дикие мысли. Каждая выпуклость этого живого скелета больно ранила его. Нет, сейчас он встанет, вернется в машину. Не так он понимал законы гостеприимства. Но она все равно его выследит, постучит в окно, уляжется на него ледяной владычицей, стиснет в жутком объятии. Он весь дрожал — от хозяйки не исходило ни малейшего тепла. Не желая трогать «это», он прятал руки между ног. Он был чересчур вежлив. Спустя некоторое время, решив, что старуха уснула, он хотел было высвободиться, отодвинуться к краю кровати, но страшные пальцы, похожие на когти хищной птицы, сжались, вернув его к действительности.
Он мог бы отпихнуть ее ногами, но бить человека, давшего вам приют среди ночи, нехорошо. Есть вещи, которые делать нельзя. Может быть, в горах такой обычай — спать в одной комнате, или просто ему попалась одинокая сумасшедшая, истосковавшаяся по ласке. Поднялся ветер, домик заскрипел, заколыхались и застонали обступавшие его ели. Казалось, они окружили дом, готовясь взять его штурмом и покарать их обоих за этот противоестественный союз. Старая ведьма сжимала его все крепче. Кровать словно втягивала их, ему казалось, что они погружаются в густой ил, который вот-вот засосет их с чавкающим звуком. Вскоре на дом обрушились потоки воды. Теперь он боялся, что полчища похотливых баб хлынут из подвала, из шкафов, чтобы затискать его насмерть. Крик застрял у него в горле.
В конце концов он все же уснул. А когда проснулся, было уже светло, дождь стучал по стеклам, барабанил по крыше. Профиль ведьмы, по-прежнему прижимавшейся к нему, вырисовывался в полутьме. Нос, словно согнутый палец, приоткрытый безгубый рот, сморщенные, воскового цвета щеки. Приободрившись от дневного света, он попытался высвободиться, но старуха точно закоченела. Он взял тощую, похожую на сухую деревяшку руку, попытался ее оттолкнуть.
— Fräulein, bitte, Fräulein, lassen sie mich heraus, ich habe es eilig (Мадам, пожалуйста, мадам, выпустите меня, я спешу).
В голосе не хватало напора. Его акцент ему самому резал слух. Он потряс свою соседку, слегка, потом сильнее и сказал по-французски:
— Пожалуйста, мне надо встать!
Голос вдруг сорвался на визг, им снова овладела ярость.
— Отвали, старая, я ухожу!
Выругавшись, он почувствовал себя увереннее. Подтянув колени к подбородку, резко перекатился на правый бок, вырываясь из старческих объятий. Ему удалось высвободиться, но длинные обломанные ногти хозяйки вцепились в его футболку, и та порвалась. Он дернулся так, что приземлился на пол, и тотчас вскочил, не успев почувствовать ни удара, ни боли. Освободившись, он заговорил со старухой по-французски с запальчивостью хорошо воспитанного юноши, с которого слетает лоск. Изъясняясь на чужом для нее языке, он ощущал безнаказанность. Его собеседница никак не реагировала — могла бы хоть возмутиться. Наконец он потряс ее за плечо. Она не шелохнулась, глаза ее были полузакрыты, кожа серая. Из приоткрытого рта с обломками зубов не вырывалось ни вздоха.
Он попятился, снова позвал ее, побежал к умывальнику и, набрав в пригоршню воды, брызнул ей в лицо. Капли сползали по сморщенным щекам, затекали за ворот ночной сорочки. Золотая цепочка с образком Пречистой Девы, соскользнув по шее, лежала во впадинке у левого плеча. Он взял образок, приложился к нему губами, надеясь на бог весть какое чудо. Старуха лежала неподвижно. Он снова потормошил ее, ударил по щеке.
— Нет, только не это, не сейчас!
Он стучал зубами, не в силах унять дрожь. Быстро собрал вещи, закрыл несессер, посмотрел, чтобы ничего не осталось в комнате, забрал банкноту в 50 евро, которую собирался дать ей в уплату. Потом расправил вокруг старухи постель, подоткнул одеяло, отряхнул на всякий случай подушку, чтобы, не дай бог, не оставить ни волоска.
— Auf Wiedersehen, Fräulen (До свидания, мадам)!
Он на цыпочках спустился по лестнице, несколько раз чуть не упав, — ноги подкашивались. Ему с трудом верилось, что чокнутая старуха дождалась именно этого дня, чтобы испустить дух в его объятиях. Он отпер замок, бесшумно отворил входную дверь.
Было шесть часов утра, и, к счастью, ледяной дождь окутал все вокруг серовато-белым туманом. Он проскочит незамеченным. Ветви деревьев отряхивали капли, блестя от влаги, их верхушки тонули в облаках. В горах приятно пахло мхом и гнилым деревом, его ноги глубоко погружались в мягкую землю. Где-то журчали ручьи, он слышал их, но не видел. Примятая ливнем трава почти скрывала дорогу, по которой, должно быть, ходили редко. Антонен побежал, пригнувшись, боясь, что полуголая хозяйка вот-вот выскочит из-за куста и силой затащит его обратно в царство мертвых. Ему чудились притаившиеся за елями скелеты, они звали его, ухмыляясь. В этом лесу густой сумрак царил даже днем, и это страшило его. Он испугался, что заблудился, не узнав дощатой лачуги, крытой дранкой, на краю откоса. Вчера вечером ее здесь не было. У двери, словно поджидая кого-то, стоял стул. Вдалеке слышалось урчание мотора, видно, где-то в поле увяз в грязи трактор. Запыхавшийся Антонен жадно глотал ледяной воздух, стараясь не поскользнуться. Он открыл машину, в салоне было сыро, по окнам стекали струйки. Частый дождь стучал в ветровое стекло, слепил его, казалось, этот ливень не кончится никогда.
Машинально он включил зажигание. О чудо: мотор завелся. Должно быть вчера, нервничая, он сам залил его. Он запустил дворники, включил на полную мощность отопление, чтобы отпотели окна, резко дал задний ход, развернулся, не глядя на пустую в этот час дорогу, забыв о всякой осторожности. Включил первую скорость, взревела коробка передач, шины взвизгнули. Автомобиль вильнул, зацепил обочину, заюзил, рассыпая из-под колес ветки и комья земли, чуть не врезался в поросшую кустиками скалу. Антонен все жал на педаль, ему хотелось уехать подальше от окаянного дома. Руки свело, так он вцепился в руль. Он чувствовал себя виноватым, хоть и не сделал ничего плохого — всего лишь попросился на ночлег. Только через час езды сердце застучало ровнее. Он проехал еще километров двадцать, не встретив ни одной живой души, и остановился у бензоколонки на автобане А2, не доезжая Клагенфурта, чтобы заправиться. Несколько раз проверил машину, чтобы убедиться, что старуха не прячется в багажнике или за водительским сиденьем. Потом, отыскав телефонную кабину, набрал местный номер.
— Ромен, это Антонен, я буду через час. Машина забарахлила, пришлось в ней ночевать. Еду.
Он выпил двойной шоколад с подсохшим штруделем, корочка которого крошилась на зубах. Окружающие — дальнобойщики, семьи на отдыхе — косились на него с подозрением. Может быть, они уже всё знали, вести разносятся быстро. Не в силах сдержаться, он заперся в туалете, и его вывернуло всеми его страхами. Он несколько раз вымыл руки и залепил себе перед зеркалом пару пощечин.
Ничего не произошло, он все выдумал.
Ему было двадцать лет.
Часть первая Незримый скандал
Глава 1 Аккуратный юноша
Еще долго после своего австрийского злоключения Антонен Дампьер шарахался на улицах от встречных старух: все они казались ему реинкарнацией хозяйки, преследующей его, чтобы вновь умереть у него в постели. Если порой, в порядке искупления, он помогал пожилой особе нести покупки, то исподволь выспрашивал, не бывала ли она в Австрии. Во сне ему снова виделись старушечьи объятия, руки, сжимающие его, точно путы, приоткрытый рот. Всякий раз, заводя интрижку с молодой девицей, он попадал в тенета старого кошмара, просыпался среди ночи с криком, уверенный, что лежащая рядом женщина умерла и держит его в плену, и безжалостно ее будил. Большинство убегали наутро как ошпаренные. О случившемся с ним он никогда никому не рассказывал.
За это время он стал риелтором в агентстве по элитной недвижимости «Урбалюкс» в Маре, получив экономический диплом и диплом юриста. Работал с отдачей, но и с осторожностью. Он был помешан на чистоте и предавался этой страсти, точно любимому виду спорта или боевым искусствам: душ он принимал по два-три раза на дню, а свою квартирку в квартале Монторгей содержал в почти безукоризненном состоянии. Его любимым времяпрепровождением в выходные было посещение хозяйственных отделов супермаркетов: он восхищался изобретательностью производителей моющих средств и никогда не уходил без солидного запаса всевозможных аэрозолей, жидкостей и порошков. Вместо того чтобы складировать все это под раковиной, он завел специальный шкафчик в спальне, который запирался на ключ. Он хранил бутылочки с жавелевой водой и нашатырем, как другие хранят марочные вина, в металлическом ящичке, под надежной защитой от сырости и огня. Его последней покупкой за бешеные деньги на eBay был миниатюрный, величиной с ладонь, беспроводной пылесос с детектором обнаружения мусора.
Каждый год он нанимал приходящую уборщицу, специально чтобы подловить ее. Он устраивал в комнатах бардак, уходил на два-три часа и возвращался, когда его не ждали. И начинался сеанс унижения: он чуть ли не с лупой высматривал грязь в углах, потеки на посуде, темные следы под чашками, мутный налет на стаканах и отсылал ее, часто в слезах, с суровым приговором: неумеха. Он гордился, преподав урок. Уборка — понятие обманчивое. Квартира безупречна лишь на первый взгляд. Пройдитесь с микроскопом по всем плоскостям: слои пыли покрывают мебель и паркет, девственная белизна выглядит серой. Одежда в комодах обычно сложена кое-как. У Антонена же было безупречно все, до самого последнего ящика. Что с лица, что с изнанки. Человек чист не потому, что больше не грязен: это первый этап на пути искупления. Его двухкомнатная квартира благоухала морозной свежестью.
Единственный сын, Антонен потерял обоих родителей в автокатастрофе, когда ему исполнился двадцать один год. Его отец, инженер-строитель, был из левых, ностальгирующих по СССР, коммунист в душе, больше по убеждениям, чем по принадлежности. Мать, преподавательница французского и активная феминистка, постоянно донимала мужа критикой слабых мест реального социализма. Этот спор они вели много лет.
— Разве можно свести христианство к инквизиции? — протестовал отец.
— Дурак, — фыркала мать, — религия никогда не обещала рая на земле.
Их гибель на национальной автостраде Дижон-Понтарлье — отец не пропустил грузовик — показалась сыну форменным издевательством. Он получил хорошее воспитание, никогда ни в чем не нуждался. Но эта родительская оплошность так его разочаровала, что он не мог горевать.
Антонен был юношей уравновешенным, но подверженным приступам неукротимого гнева. Про таких говорят: кулаки наготове. Ему случалось ударить без всякой причины, на улице или в метро, человека, чье лицо ему не нравилось. Каким-то чудом его ни разу не побили, но всё впереди. Отец и мать претили ему своей систематической недисциплинированностью. У них не было решительно ничего общего, кроме беспорядка, который они за собой оставляли, предоставив единственному сыну убирать за ними. Иначе говоря, с девяти лет он стал слугой своих родителей — добровольным слугой. Так он выказывал им сыновнюю любовь. Вечером, когда он возвращался из школы, со стола были еще не убраны остатки завтрака, постели не застелены, мусорное ведро переполнено. Он приучил себя вставать утром на полчаса раньше, чтобы навести в доме порядок. Ему случалось даже накрывать на стол, а потом и готовить для всех обед. Он огорчал своего отца, со страстью начищая ваксой его ботинки, и ошеломлял мать, представлявшую его как новый тип мужчины, который с малых лет приобщился к самой неблагодарной работе: натереть полы, вымыть посуду, пришить пуговицу, аккуратно выгладить белье, не подпалив ткань. Он умел даже гладить прямо на человеке, в случае срочности, помещая смоченную водой тряпицу между тканью и кожей. Антонен с детства обладал обостренным обонянием и постоянно обнюхивал себя в «стратегических» местах, хоть гигиену соблюдал безукоризненную. Его мать говорила тогда: Ангелок обезьянничает. Она была феминисткой не только на словах: независимость свою она демонстрировала во всем. Она крутила несколько романов одновременно, отринув буржуазную верность, копируя свою личную жизнь с модели Сартра и Бовуар. Муж обличал ее декадентские нравы и аморальность обеспеченной дамочки. Это был еще один, куда более мучительный, повод для ссор. Дойдя до ручки, она бросала ему:
— Заведи любовниц, тебе это пойдет на пользу.
Не выдержав нападок, он уходил и запирался в своей комнате. Увы, безнадежно моногамный, он даже не пытался изменять. В них столкнулись два варианта левизны: политика и анархия. Коллективная эмансипация или индивидуальная. Преобразование общества или распущенность нравов. Не раз, лет до десяти, мать Антонена, когда не успевала договориться с няней, брала его с собой в холлы гостиниц, где встречалась со своими мимолетными любовниками. Она оставляла его под опекой портье — за скромное вознаграждение, — с горой комиксов. Вечером, дома, он должен был говорить отцу, что они ходили по магазинам, и тот делал вид, будто верит. Лгал он легко, но от взгляда «старика», взгляда побитой собаки, ему делалось не по себе. Позже он слышал отголоски разражавшихся в гостиной сцен. Адюльтер был для его матери гигиеной души, правом, завоеванным в нелегкой борьбе с мужским превосходством. Сама она, впрочем, отвергала этот допотопный термин — по ее собственному выражению, она «порхала». Ничего личного против мужа она не имела, лишь провозглашала свою свободу, отыгрываясь за века порабощения. Чтобы успокоиться во время семейных ссор, Антонен расстилал и застилал свою постель до тех пор, пока голоса не стихали и муж с женой не мирились, утомившись, на ложе, в котором давно не водилось ничего супружеского. После этого он, в свой черед, приходил в ярость. Тогда родители запирали его в чулане без окон, полном ненужных вещей, которые он бил и ломал все до единой. Потом они заставляли его все убрать. Отец ставил матери в вину мягкотелость сына: что за занятия — вязать, шить да подметать? Она ему — типично мужские вспышки гнева. Ирония в том, что агрессивность досталась ребенку от родительницы, от нее и только от нее он унаследовал эти припадки ярости. Его родители побывали однажды на Кубе, с профсоюзной делегацией Сент-Уана по приглашению Гаваны. Отец был шокирован разрухой, мать же не переставала клеймить Фиделя, настоящего «фашиста» пошиба Муссолини или Франко, с сальсой в придачу. Но вечерами она уходила танцевать одна и возвращалась на рассвете, пропахшая табаком, алкоголем, мужским потом. Отец приходил в ужас, когда молодые люди перешептывались при виде их, свистели вслед его супруге, называли ее Guapa[1] и подмигивали. Эта неделя в тропиках стала одним из худших кошмаров его жизни. Случалось также, что мать, брошенная очередным воздыхателем, искала утешения у супруга и плакала на его плече целыми днями, как маленькая девочка, у которой отняли игрушку. Его отец, убежденный активист, не вписался в 1960-е и 1970-е годы; когда другие исповедовали свободную любовь, уезжали автостопом в Катманду, он печатал листовки и рьяно защищал линию Москвы. Он растратил молодые годы на беспорочную верность Центральному комитету, упустил свое лучшее время. И он наверстывал упущенное, слушал «Флитвуд Мэк», «Грейтфул Дед», «Ху», «Пинк Флойд», «Кинкс», затягивался порой косячком, смотрел в режиме нон-стоп фильмы Годара, Полански, Вуди Аллена, Феллини, Антониони, запоем читал ситуационистов, философов Венсенской школы. Это было даже трогательно — курс ниспровержения задним числом. Когда он врубал на полную громкость Боба Дилана или Дженис Джоплин, его жена ехидно спрашивала:
— Опять твоя стариковская музыка?
По словам близких друзей, ко времени аварии они были близки к разводу: мать, недовольная своей судьбой, только и ждала удобного случая бежать из супружеской тюрьмы. Она влюбилась в профессора философии из Нанта, последователя Делеза, который мог предложить ей более интересную, более насыщенную жизнь. Не исключено, что отец, который был за рулем, намеренно проигнорировал стоп-сигнал. Эти двое взрослых, проповедовавшие сыну свободу, честь и справедливость, своим личным примером перечеркнули каждую из этих ценностей. Антонен чувствовал себя мячиком для пинг-понга, которым перебрасывались родители. Он сохранил от их ссор одну уверенность: энергия — женское качество, слабость — мужское.
У левых родителей часто вырастают дети-консерваторы: их воспеванию бунта малыши следуют буквально и в результате выворачивают их уроки наизнанку. Старики призывали к отказу от табу? Их отпрыски становятся пуританами. Напуганный примером отца и матери, Антонен очень рано решил поставить крест на политике и на любви. Первая, понял он, делает человека идиотом, вторая сбивает с пути. Зато он сохранил от их воспитания вкус к двоичной системе. Его отец делил человечество на эксплуататоров и эксплуатируемых, мать на фаллократов и их жертв, он же разделил его на чистых и нечистых. Они все трое были манихеями. Антонен не хотел пускать на самотек свою жизнь, он хотел ее упорядочивать. Каждую минуту он чувствовал себя ответственным за порядок или хаос в своем мирке. Ему случалось просыпаться ночью, чтобы поставить ровнее стул, расправить складку на занавеске. Как другие дети заглядывают под кровать, боясь притаившегося там чудища, так он высматривал в темноте малейшую перемену обстановки вплоть до теней. Непарный носок в стиральной машине, хлебная крошка, валяющаяся на полу бумажка — все это были нарушения порядка, за которые он краснел.
Ему претил физический контакт с людьми в общественном транспорте. В любой толпе зрело зерно тлена, и это портило поездку. От свинтусов, дышавших в лицо, его тошнило. Он мечтал о магнитном обнюхивателе у входа в метро, который не пропускал бы дурно пахнущих пассажиров. Ребенком в часы досуга, в доме, где они жили, у Порт-де-Баньоле, он любил стирать белье соседям за скромную плату. Они выставляли для него за дверь пакеты с тряпьем, прилагая подробный список. Он возвращал вещи в тот же вечер, еще теплыми от утюга. Отец говорил: кончится тем, что ты откроешь прачечную. Чистота была его крестовым походом, всю свою жизнь он подчинил этой подспудной мании. Другие выходят в море, отправляются в дальние края, он же сжигал свои корабли, орудуя веником и тряпками. Но Зло возрождалось, всегда возрождалось. Искоренив грязь, он порой ударялся в слезы, радуясь эфемерной победе и сознавая, что война заранее проиграна.
Его начальником в агентстве был красавец-мужчина, голландец по происхождению, с благородным лбом римского императора, Ариэль Ван Хейфнис. Этот меланхоличный бизнесмен презирал свою работу, считая ее лакейской, — он предпочел бы руководить художественной галереей, музеем, может быть, даже симфоническим оркестром. Типичный случай предпринимателя, запоздало подцепившего культурный вирус. Это не мешало ему держать в ежовых рукавицах пятнадцать человек, работавших под его началом. Он владел искусством полупохвал, недомолвками сводя на нет комплименты. Своих сотрудников он жалел, если они работали с удовольствием. Сам он позиционировал себя философом недвижимости: он продавал не квартиры, а пространство персонального расцвета. Будучи сторонником фэн-шуй, китайской доктрины, проводящей параллель между циркуляцией земной энергии и меридианами человеческого тела, он никогда не показывал дом или квартиру, не процитировав Конфуция, Будду, Марка Аврелия, Кришнамурти. В каждом жилище он стремился обнаружить притаившуюся легенду, тайную мечту. Тесные квартирки на седьмом этаже без лифта он описывал как каюты лайнеров, сулил морской круиз, погружение в океан посреди города. В торгах ему не было равных, и от этой смеси алчности с высокой духовностью Антонену делалось не по себе. Ариэль придумывал сказочный Париж, таивший в себе множество параллельных судеб. Каждая улица обладала своим романтическим секретом, за каждой дверью дремал незнакомый мир. Он блестяще составлял объявления о продаже, изобретая новые концепты: кухня-столовая без стульев, где едят стоя для облегчения пищеварения; этическое окно, медитативный кабинет, трансцендентальная зала, — которые интриговали потенциальных покупателей. Он продавал здания поэтажно, с максимами одна другой лучше на каждую жилплощадь. Просторная и светлая квартира в Бельвиле становилась скандинавским лофтом с горячей водой в чанах, инуитским ковром, эскимосским иглу. Он предлагал ее со слоганом: станьте дикарем у себя дома! Виллы в Нормандии и Иль-де-Франсе предназначались аристократам духа, «экологически ответственным», и превращались в роскошные фермы с экологически чистым огородом, солнечным обогревом, ветряными двигателями в саду. У каждого клиента он спрашивал его астрологический знак, в том числе и по китайскому гороскопу, льстил их тяге к естественному, заботился о планете.
Ариэль носил серые или синие костюмы, роскошные ультраплоские часы на запястье, полускрытые рукавом. Он свято верил в достоинство галстука и не расставался с ним даже летом, в самую жару. Он походил на певца Брайана Ферри, кумира 1980-х, элегантного солиста британской группы «Рокси Мьюзик». В меру эксцентричный, он также состоял в ЛЗММ, Лиге защиты медведок метро, вымиравших с тех пор, как закон против курения лишил их основной пищи — никотина, который они высасывали из брошенных на пути окурков. Ариэль стремился идти в ногу со временем: преданный душой и телом высоким технологиям, фанатичный приверженец компьютера, он не брал в руки бумажных газет и читал новости только с экрана. Но был у него, в глазах Антонена, один серьезный недостаток: он вел рассеянный образ жизни. В часы досуга он бегал за женщинами, не пропуская ни одной юбки. Это был его невроз. Особую слабость он питал к вдовам. Траур так шел им. Он заговаривал с ними в церквах, на отпеваниях, представляясь другом усопшего. С апреля по сентябрь он прогуливался по кладбищам, вкушая контраст весны и лета с погребальными процессиями. Солнце призывало провожающих жить, покуда не положат в свой черед в землю. Он следовал за катафалками, оказывая знаки внимания безутешным вдовам, и через несколько недель или месяцев они, не устояв, мешали горе с изменой почившему в бозе супругу, столь скоро забытому. Этот опыт убедил его в неблагодарной человеческой природе. В своих рейдах к покойникам он часто встречал строго одетую, немного чопорную даму, которая не пропускала ни одного погребения и промокала глаза шелковым платочком, наблюдая за процессией. Она тоже подцепляла вдовцов прямо у раскрытой могилы. Однажды она, приподняв вуаль, заговорщицки подмигнула ему. Что до законной супруги Ариэля, высокой голландки, белокурой и роскошной, с густым акцентом — она могла в любой момент явиться в агентство, чтобы застукать мужа с поличным. Антонен плел небылицы, объясняя временное отсутствие ее супруга.
Ариэль начинал официантом в парижском кафе, откуда был уволен за неуместные комментарии: будучи полиглотом, он мог хоть кого отговорить от трапезы. Разубеждая клиентов, он хаял кофе с молоком, смерть для печени, кока-колу, яд для слизистых оболочек, мог десять минут разглагольствовать по поводу какого-нибудь сэндвича с ветчиной, указывал на погрешности в диете, рекомендовал или не рекомендовал те или иные вина, распространялся о вреде твердых и мягких сыров. Короче говоря, английские, испанские, немецкие туристы, желающие вкусить французской кухни, шарахались от него и уходили голодными. Он скрупулезно считал калории и в ресторане делил свою порцию надвое, чтобы не толстеть. Он мог бы оставлять еду на тарелке, но нет — один вид ее был дня него оскорблением. Если официант медлил убрать излишки, он под шумок перекладывал их вилкой в пластиковые пакетики. Зрелище было неаппетитное. Политически он был левым, по крайней мере, до дня выборов, когда его рука сама собой опускала в урну бюллетень кандидата от правых. Он не мог иначе. После этого он вновь становился убежденным прогрессистом, и его друзья были ему под стать: экс-леваки из богатых, образумившиеся «анфан террибли», дедки в джинсах, шестидесятилетние старички в прикиде рокеров. Каждый вечер он приходил поболтать с Антоненом, опекал его как родного сына, хотел вылепить по своему подобию, только сетовал, что тот так мало интересуется прекрасным полом. Скабрезные намеки оскорбляли стыдливость молодого человека. При всей своей сдержанности Ариэль пускался порой в откровенности, от которых Антонену становилось не по себе:
— Знаете, я, как все, глупо боюсь старости. Почему столько мужчин и женщин ищут все новых партнеров? Да чтобы обмануть время: новое тело — это оплот против смерти, короткая победа над дряхлением. Моя первая жена, ныне покойная, была божественным созданием, в прошлом манекенщицей. На моих глазах ее длинные ноги мало-помалу покрывались целлюлитом — так плющ съедает растрескивающийся под ним мрамор. Мне стало страшно.
Ариэлю хотелось быть одновременно Казановой, Жаном Нувелем[2] и Франсуа Пино[3], равно как и безусловным хозяином элитной недвижимости. Каждую неделю он боялся, что жилищный пузырь лопнет и хлынут лавиной дурные новости. Еще он подумывал создать в Париже соколиную охоту для истребления голубей, разрушающих камень своим едким пометом. С восторгом воображал он полчища хищных птиц: соколов, ястребов, сарычей, атакующих в небе голубок и вяхирей. С некоторых пор, признался он Антонену, у него небольшая проблема со зрением. На всех мужских головах ему мерещились кипы. Он всматривался в лысины в поисках следа от круглой шапочки. Даже на головах Папы и святых ему виделось черное блюдечко поверх волос. Он уже показался окулисту, который его успокоил, и собирался посетить психотерапевта.
— У меня есть на этот счет две гипотезы: либо я, сам того не зная, еврей, и мое подсознание возвращает меня к корням. Либо я провидец, и все эти люди принадлежат к народу Моисееву. Представляете, Антонен, что, если Бенедикт XVI еврей и я один это вижу? Вот была бы сенсация!
Глава 2 Несостоявшаяся продажа
Пришла весна, облачив деревья пышной листвой. Воздух благоухал. Это был один из тех феерических дней, когда Париж ошеломляет, без счета расточая свои красоты. Вдоль широкого проспекта близ парка Монсо тянулись, насколько хватало глаз, бежевые фасады богатых домов. За коваными оградами играли красками миниатюрные парки. Фонари в виде канделябров на высоких мачтах чередовались с платанами в цвету. Даже тротуары казались девственно чистыми, без неблаговидных меток столичных собак. Была середина дня, май месяц. Антонен — ему исполнилось уже двадцать девять лет — поджидал чету бразильцев, желающих приобрести недвижимость во Франции. Предметом купли являлась квартира в двести пятьдесят квадратных метров, на шестом этаже, с панорамным видом на столицу, четыре спальни, тенистый внутренний двор, сдвоенная гостиная-столовая. Повсюду дубовый паркет, белые стены, потолки с лепниной, три мраморных камина. Антонен многого ждал от этой продажи — она стала бы подтвержденим его риелторских талантов. Пришел он заранее, чтобы осмотреться и навести лоск. Он носил с собой в кожаном чемоданчике мини-пылесос, набор тряпок из микрофибры, складные щетки и метелки — всё, чтобы нанести последние штрихи опрятности и чистоты. Он осмотрел каждый уголок, проверил все краны, спустил воду в четырех туалетных комнатах, прошелся вдоль и поперек по балконам, нет ли где голубиного помета или сухого листа, нарушающих гармонию. Покрытый лаком паркет блестел, как замерзшее озеро. Ремонт был сделан идеально, краской не пахло, никаких потеков не осталось. За десять минут до прихода господина и госпожи Жоан Луис да Силва, уроженцев Сан-Паулу, коммерсантов, торгующих экологически чистым спиртом, Антонен спустился на лифте, огромном, как кабина подвесной дороги, в холл здания, просторное помещение из черного вулканического камня, с хрустальной люстрой, украшенной медными шарами, с красными кожаными креслами и зеркалами на стенах, от которых кружилась голова. Все это смахивало на вестибюль дома свиданий в духе бель-эпок. Двустворчатая входная дверь, высокая, как замковые ворота, открывалась легким нажатием пальца после набора семизначного кода. Посередине сияла латунная ручка. Через запасной выход можно было пройти в подземный гараж.
Антонен знал досье назубок, Ариэль Ван Хейфнис заставил его вчера повторить все слово в слово, подкрепив урок виртуальным визитом на сайте агентства. Он зубрил его вечером перед сном, повторял вслух в полдень, перекусывая сэндвичем. Теперь он с бьющимся сердцем ждал момента встречи. То была основа основ, Ариэль объяснял ему это тысячу раз: надо убедить покупателя в исключительности предлагаемого товара. Столько людей жаждут его купить, что ему придется набавлять цену, чтобы оказаться счастливым обладателем. Взяв клиента за горло, продавец становится хозяином положения и волен сокращать сроки. Раздуть, приукрасить, запутать — такова формула удачной сделки. Более того, добавлял Ариэль, надо, как на войне, предъявлять ультиматум, не давать времени на размышление. Еще совет: не допускайте, чтобы клиент столкнулся со следующим или предыдущим, как у психотерапевта или в борделе.
Антонен вышел на тротуар, сощурился от света, раздул потревоженные пыльцой ноздри. С возрастом он становился аллергиком, каждую весну у него слезились глаза. Было ровно шесть часов. Медленно подкатил лимузин, черный БМВ с тонированными стеклами; похоже, водитель искал нужный номер. Они пунктуальны — это плюс. Антонен шагнул навстречу с дежурной вежливой улыбкой на лице. И тут боковым зрением он заметил выше по бульвару две пошатывающиеся фигуры, которые шли, держась друг за друга и агрессивно переругиваясь. Два подгулявших клошара с бутылкой в руках приближались быстро, почти бегом, несмотря на заплетающуюся походку. Они покачивались в шатком равновесии, точно пара танцоров, переплетясь ногами. Лица и тела, казалось, жили отдельно от ног. В других обстоятельствах Антонен бы и внимания не обратил на пару пьянчужек на прогулке. Он нахмурился. Куда это они так резво скачут, два шельмеца? Они приближались с воплями, прохожие испуганно сторонились. Это был какой-то двухголовый болид, летящий в безумном менуэте. Досталось от них двум мирно клевавшим крошки голубям. С неожиданным проворством один из забулдыг пнул птицу ногой, попав прямо в брюшко. Раненый голубь завалился набок, отлетел как мяч, поднялся и попытался взмахнуть крыльями, но на него обрушились новые удары — башмак гуляки раздавил его, превратив в месиво из перьев, лапок и кровавой плоти. Послышался треск ломающихся косточек, и птицу с сальным смехом размазали по тротуару.
Антонен не успел опомниться, так быстро все произошло. Парочка была уже совсем близко, обломки костей прилипли к их подошвам. Чета бразильцев высаживалась из лимузина, шофер, бритоголовый колосс с наушником и фуражкой под мышкой, придерживал перед ними дверцу. Стройные и подтянутые, они одновременно сняли темные очки, выйдя из машины. В них была непринужденность людей, обласканных роскошью от рождения, которые знают, что мир принадлежит им.
Будущие покупатели были всего в паре метров от Антонена, он уже протягивал им руку, ладонь которой подернулась влагой, вот их пальцы соприкоснулись, и тут раздался вопль. Тандем пьяниц распался. Тот, что покрепче, продолжал двигаться зигзагами вперед, другой остановился, точно вагон, оторвавшийся от состава. Он качнулся с ноги на ногу, согнул колени и рухнул мешком у стены здания, стукнувшись подбородком о камень. Антонен толком не разглядел: может быть, это спутник толкнул его? Какая разница! Он так долго готовился к этой встрече, что придумать экспромтом запасной план оказался не способен. Извинившись перед бразильцами, он собрался было помочь пьянчуге или хотя бы поднять его и увести в сторонку, чтобы не портил вид, но тут лежащий приоткрыл окровавленный рот, икнул, надул щеки и, длинно выругавшись, сблевал. Вытаращив глаза и не думая сдерживаться, он изрыгал желчь с бормотухой и кусочками пищи. Слабое поползновение помочь превратилось у Антонена в отчаянное желание убрать отсюда негодяя.
— НЕТ, НЕ ЗДЕСЬ, НЕ СЕЙЧАС!
Несколькими минутами раньше, несколькими метрами дальше его бы это не тронуло. Но этот неотесанный мужлан сблевал под ноги хозяевам замка.
— ИСЧЕЗНИ! СДОХНИ!
Молодая чета замерла, женщина поднесла руку ко рту и грациозно вскрикнула, точно принцесса, обнаружившая в своей шелковой постели жабу. Антонен повлек их к дверям, заслоняя своим телом от мерзкого зрелища и вони, исходившей от паршивца, который продолжал корчиться в спазмах. Когда за ними закрылась великолепная дубовая дверь, воцарился покой: теперь их окружала помпезная роскошь холла, разгул позолоты и зеркал, призванный ошеломить посетителя, лишить его дара речи. Антонен извинился за непредвиденную накладку, каких никогда не случается в этом квартале, и пообещал, что такое больше не повторится, — как будто он, простой продавец, был хозяином улиц и площадей, ответственным за все городские перемещения. Он позвонил к консьержке, сообщил ей о происшедшем, слезно попросил сделать все необходимое, убрать «это». Бразильцы явно были шокированы. Он, рослый, с густыми черными волосами и высокими скулами, она, зеленоглазая мулаточка с пухлыми губами и теплой золотистой кожей, на запястье дорогие часы, ноги обтянуты черными джинсами. Оба такие красивые, шикарные, сдержанные. Они разговаривали между собой вполголоса на своем языке — сама нежность и музыкальность. Когда добрались до шестого этажа, Антонену пришлось быть вдвойне красноречивым, чтобы представить квартиру с наилучшей стороны. К несчастью, молодая женщина плохо понимала по-французски, а муж, вынужденный переводить ей каждую фразу, опускал самые изысканные обороты. Этот дубляж все портил, мешал Антонену, он путался, терял нить, вворачивал английские слова, и разговор буксовал из-за смешения языков, чреватого недоразумениями. Зная, что решение зачастую зависит от жены, он не сводил с нее глаз, улыбался ей, но она была уклончива, то и дело отводила мужа в сторонку и что-то быстро ему говорила. В ее тирадах повторялись несколько слов:
— Nâo, теи querido, eu nâо prefiro (Нет, дорогой, я не предпочитаю).
Антонен взял с собой на всякий случай договор запродажи. Он даже не решился его достать. Магия не срабатывала: не будь этого инцидента, они бы клюнули. У жены нашлись мелкие придирки: в кухне мало шкафчиков, рабочая поверхность слишком узкая, света недостаточно. Антонен как мог опровергал эти лукавые доводы, но разговор все так же затягивался из-за трудностей перевода. Придралась она и к количеству туалетов: четырех ей показалось мало. Следовало ли заключить, что семья страдала энурезом или слабостью мочевого пузыря? Антонен изыскал вместе с ней возможность установки пятого, показал варианты отводки сливных и водопроводных труб. Разговор скатился в чисто техническую плоскость при участии красавца, бойко жонглировавшего языками, и занял целый час. Они еще успели полюбоваться красотой заката, несколько раз потребовали список памятников, видных со всех балконов, сфотографировались на их фоне, смеясь как дети, а жена перед уходом сняла квартиру на видео своим мобильным телефоном. Когда они уже открывали дверь, прощаясь, она вдруг выказала подозрительный энтузиазм и рассыпалась в похвалах красотам здания и качеству ремонта, все так же через посредство мужа. Тут Антонен понял, что сделка сорвалась. Когда они вышли на улицу, его затошнило и он едва решился опустить глаза. Клошар лежал на скамье в нескольких метрах, глядя в небо. На тротуаре, отмытом консьержкой, осталось красноватое пятно, как будто на этом месте было совершено убийство. Бразильцы не проронили ни слова. Однако супруга незаметно толкнула мужа локтем при виде пьянчуги. Антонен, смешавшись, счел нужным добавить:
— Знаете, это очень безопасный квартал, очень чистый.
Они еще пожелали взглянуть на подземный паркинг и ушли пешком — лимузин следовал за ними на почтительном расстоянии.
Антонен решил не возвращаться на работу. Ариэль позвонит с минуты на минуту, ему был обещан «колоссаль комиссион», как называл это начальник со своим сомнительным юморком. Надо ли изобразить оптимизм или сказать правду? Чтобы не мучиться, он выключил телефон. Вернувшись домой, на улицу Монмартр во II округе, он бросился одетый на кровать и подавил яростное рыдание. Около восьми включил телефон — никаких сообщений не было. Ариэль даже не счел нужным осведомиться, настолько он был уверен в талантах своего помощника. Антонен мог бы позвонить в поисках утешения своей подруге Монике, но при мысли, что она придет с собакой и останется ночевать, всякое желание пропадало. Она давно настаивала, чтобы они поселились вместе, но он уклонялся и был счастлив провожать ее до дверей утром, когда она уходила: чувство выполненного долга сменялось облегчением. Лучший момент в любви, сказал Клемансо, это когда вы поднимаетесь по лестнице. Нет, возражал Антонен, когда спускаетесь — или прощаетесь. Он восхвалял Монике достоинства LAT — англосаксонский акроним, означающий Living Apart Together, жить вместе раздельно, каждый в своей квартире. Она терпеть не могла этих сомнительных теорий, в которых видела лишь типично мужской отказ брать на себя обязательства. Он нежно любил ее, но в малых дозах. Делил свое сердце, как пирог на ломти. Она в свое время оставила на его ночном столике книгу в красном картонном переплете, что-то вроде справочника, сто советов по рубрикам типа «Моя жизнь в моих руках».
Антонен порылся в карманах и обнаружил, что забыл вторые ключи от квартиры у парка Монсо. Выругав себя за рассеянность, он надел куртку и направился к метро. Скорее всего, ключи остались на столе в кухне. Вернувшись туда, он без труда их нашел — не пришлось даже зажигать свет, топографию квартиры он знал наизусть. Для очистки совести он повторил экскурсию в одиночестве, почти в темноте, вслух и с выражением, точно актер, проваливший спектакль и репетирующий заново. Втянувшись в игру, он стал изображать и покупателей, копируя их акцент и их деланые восторги. Лицемеры проклятые, чертовы набобы. Все они одинаковы! Когда он вышел на улицу, поднялся ветер, надвигалась гроза, первая в этом году. Фонари на проспекте не горели, наверно, авария в сети: решительно, квартал уже не тот. Антонен не сделал и двух шагов, как вдруг чья-то рука вцепилась в его левую ногу. Он вздрогнул и чуть не упал. Накатил страх — как у животного, попавшегося в железную пасть капкана. Несмотря на темноту, он сразу узнал бродягу, упавшего в лужу собственной блевотины у стены дома. Он, значит, вернулся на место «преступления». Антонен не заметил его, когда входил. Лежащий на боку пьянчуга рявкнул:
— Дай-ка мне десятку, выпить охота, черт побери!
Антонен задергался, пытаясь высвободить ногу, но клошар держал ее крепко. Силен был, мерзавец, даром что пьяный. Другой ногой Антонен ударил вцепившуюся в него руку, каблуком, чтобы побольнее. Рискуя потерять равновесие, он оперся о стену и свободной ногой продолжал наносить удары в живот, в грудь, в лицо. Он бил, и сладостное чувство захлестывало его. Бродяга лежал смирно, видно, был так пьян, что ничего не чувствовал. Он был жирный, и Антонен наносил удары прицельно, чтобы достать до жизненно важных органов, до суставов.
Негодяй заплатит за то, что поднял на него руку.
Заплатит за то, что наблевал ему под ноги.
Заплатит за сорванную сделку.
Мало-помалу бродягу проняло: он дрыгал ногами, пытался защитить лицо. По счастью, рядом не оказалось ни одного прохожего, ни одной машины. Проспект был пуст. Выбившись из сил, вкусив горькую радость бить слабого, Антонен сбежал, бросив подонка на произвол судьбы. Он шел пешком не меньше двух часов, чтобы успокоиться, то и дело оборачиваясь и вздрагивая при виде каждой полицейской машины. Вернувшись домой, он бросил в стенной шкаф свои ботинки — «Вестон», стоившие бешеных денег, — и уставился на них с ужасом. Они, ботинки, были в ответе за этот приступ ярости. В наказание он не стал их чистить и поклялся себе больше никогда их не надевать.
Через день, листая на работе «Паризьен», он прочел в рубрике происшествий, что неизвестный бродяга умер от побоев в том самом квартале, где он был два дня назад. Полиция полагала, что речь идет о сведении счетов между бомжами. Но Антонен сразу понял, что это его рук дело.
Глава 3 Капитан Крюк
В то время Антонен то ли жил, то ли встречался с Моникой, высокой брюнеткой с матовой кожей, лет тридцати, полуфранцуженкой, полуангличанкой, — ее мать родилась в христианской семье в Керале. Познакомились они на корпоративной вечеринке. Она была архитектором по интерьерам, училась в «Ар-деко» и в Колледже искусств и дизайна Сент-Мартин в Лондоне, молилась на Жана Пруве и Ле Корбюзье и постоянно рисовала, набрасывая столы, стулья и всевозможные предметы на листах бумаги. В Лондоне, в прошлой жизни, она была манекенщицей. Время от времени она доставала свои старые фотографии, на подиуме или в модном журнале, и ждала его реакции. Антонену понадобилось время, чтобы понять, что он должен отвечать:
— Ты совсем не изменилась, но мне ты больше нравишься сейчас!
Моника душила его своей любовью и подбивала делать карьеру. Со своим надменным личиком, чуть раскосыми глазами и высоким ростом, она хорошо смотрелась на редких званых обедах, где они бывали. На людях она вела себя переменчиво: сперва входила царственно, веки опущены, пухлые губы поджаты, скульптурная головка гордо вскинута на тонкой шее. Она проверяла: ошеломлено ли собрание ее приходом. Другие болтали — она восседала. Ей было достаточно выглядеть, чтобы жить. И вдруг с высоты этого безмолвия она бросалась очертя голову в разговор, чудила, тараторила без умолку, слишком громко хохотала. Антонен умолял ее сдержаться — она лишь входила в раж, гримасничала на манер Бастера Китона, копировала гостей. Выговорившись, снова умолкала, переходя от буйства к прострации.
В интимной жизни она была на диво скромна. Мыться могла часами, тщательно закрыв двери. Плеск и шум воды был едва слышен. Туалет, этот очень личный акт, совершался в тишине. Антонену приказано было не приближаться. Даже зубы она чистила почти беззвучно. Она свела домашнюю симфонию к тихой камерной музыке под сурдинку. Ванная после нее благоухала ароматическими маслами.
Она дарила любовнику чудесные подарки без всякого повода, отчего ему становилось не по себе. Он считал себя обязанным отдариваться в ответ какой-нибудь безделицей. Его эта гонка изнуряла, она же, наоборот, обожала состязаться в великодушии, и каждая вещица, подаренная или полученная, была для нее поводом к новым дарам. Она смотрелась во все зеркала, в рамы картин, в экраны компьютеров, в стекла на улице, никогда не пропускала своего отражения, волнуясь о впечатлении, которое оно могло произвести. Порой она сидела голая на краю ванны перед большим зеркалом, словно хотела сама себя заворожить или понять, что же в ней завораживало других.
— В двадцать лет, — говорила она с иронией, — я была хороша и считала себя некрасивой. Теперь я и впрямь некрасива, но нахожу, что совсем недурна.
Наедине она часто смотрела перед собой большими печальными глазами, сидела, ни слова не говоря, уставившись в стену. Потом вдруг бросалась Антонену на шею, целовала, шептала нежные слова, пугавшие его. Ему хотелось закрыть ее, как закрывают досье: отработал и убрал на место. Страсти повергали его в ужас: он стремился организовать любовь на манер рабочего расписания, отвергая сердечную анархию. Он помнил одно утро, ему было тогда лет четырнадцать, мать в очередной раз не ночевала дома. Его отец читал за столом «Юманите»[4], прячась за развернутой газетой. Антонен наклонился и увидел, что он плачет горючими слезами. Свободная любовь — тяжкое бремя, если она чужая. Он надолго сохранил отвращение к неразборчивой похоти.
Беседу между ними всегда поддерживала Моника, порой давая ей угаснуть, точно углям в камине. Антонен был неразговорчив, боялся запутаться, ляпнуть невпопад. Моника запоем читала книги, начинала по нескольку зараз, забывала их в кафе, в поездах, тут же переключалась на другую. Она глотала и классиков, и современников с ошеломлявшим его аппетитом. Он только и делал, что расставлял на полках томики, которые она приносила к нему, а иногда тайком выбрасывал один-два в мусорное ведро. Он никогда не открывал книг, которые она ему дарила, тем паче литературных новинок. Только аккуратно вытирал пыль с каждой обложки.
Их роман начался с технологического недоразумения. В начале их знакомства он послал ей длинное sms-сообщение и написал в конце: «Je t’embrasse» — целую. То ли он плохо набрал, то ли еще что, но телефон запомнил только три первые буквы: Je t ’ет — почти Je t’aime[5]. Она поймала его на слове, хотя для него это была не столько страсть, сколько дань условности, в которой наслаждение играло второстепенную роль. Он не отдавался — скорее уступал. Моника долго заводилась, если прибегнуть к автомобильной метафоре, а Антонен был неважным механиком. По обоюдному соглашению, Венере они служили скромно. Когда Антонен кончал, Моника сама доводила себя до оргазма, коротко вскрикивала и больше об этом не говорила. Простая формальность, и только. Порой после любви она смотрела на него тоскливыми глазами, словно спрашивая: и это всё? А иной раз умоляла его в постели: подожди, подожди, — и он видел, как другая женщина, пылкая, ненасытная, вырывается из той, что лежала под ним. Она часто ходила в ночные клубы и танцевала до утра. Иногда затаскивала его с собой, но веселиться он не умел, пить не любил, и она называла его ночным колпаком.
Всю свою заботу Моника отдавала собаке, джек-рассел-терьеру очень живого нрава с черной полосой поперек морды, похожей на пиратскую повязку. Она назвала его Капитан Крюк. Она вообще безгранично любила животных и подавала нищим, только если при них были кот или собака. Не в меру резвый, Капитан Крюк требовал постоянного ухода: его надо было выводить три-четыре раза в день и непрерывно развлекать. Этот плотный комок мышц и шерсти вечно задирал на улицах других собак, даже зубастых догов, которые могли разорвать его в клочья. К тому же он бесцеремонно вмешивался в их интимную жизнь. Когда они занимались любовью, Моника поначалу запирала пса в другой комнате, дав ему косточку или мячик. Но у Капитана Крюка было на этот счет свое мнение: он лаял под дверью, скреб по дереву коготками. Если ему открывали, он запрыгивал на постель и утыкался влажным носом между ног хозяйки, которая, смеясь, отбивалась.
— Это же терьер, он охотится на лис и барсуков, ничего не поделаешь, такой у него генетический код.
Легко было все валить на генетический код. Капитан Крюк демонстрировал ярко-алую эрекцию и обнюхивал их интимные места, повелительно лая. Причиндал у него был маленький и твердый, как карандаш. В начале их связи Антонен и Моника соединялись в темноте, в полном молчании, а после сразу бежали в ванную смыть грех потоками воды. Но вскоре она добилась права не гасить лампу, а через три месяца — оставлять открытой дверь, чтобы пес не чувствовал себя брошенным. Капитану Крюку мало было присутствовать при любовных игрищах хозяйки. Из ревности или по нескромности он кружил вокруг любовников, высунув язык, взбухшим членом словно меряясь с Антоненом. Из страха перед случайным укусом у того пропадало желание, а пес знай себе возбужденно терся о Монику.
— Нет, малыш, нет, — смеялась она, — извини, нельзя.
И, схватив его в охапку, уносила в кабинет, мягко журя.
— Понимаешь, милый, я должна объяснить ему мое решение, пес заслуживает, чтобы с ним обращались как с большим.
Объяснения происходили по-английски — Моника была совершенной билингвой, пес, видно, тоже, Антонен слышал шепот, ласковый и укоризненный, негромкое тявканье, затем наступала тишина. Моника обладала даром убеждения. Она возвращалась, будила Антонена, но ему больше ничего не хотелось.
— Прости меня, любимый, надо было успокоить Капкрюка (так она сокращенно называла пса). Он не привык оставаться один. До того как мы с тобой познакомились, он все ночи спал со мной. Я уверена, что вы подружитесь.
Антонен этой уверенности насчет будущей дружбы не разделял.
— Спасибо тебе за понимание, — говорила она, целуя его, — ты чудо.
Пес стал арбитром их любовных игр. Перманентный гон смущал молодого человека: при виде разнузданного либидо кобеля съеживалось его собственное вожделение. Собаку все возбуждало, а Антонена все расхолаживало. Он предложил свести Капитана Крюка с суками его породы, чтобы тот успокоился. Моника в ответ рассказала ему об имевшем место печальном опыте с сукой. В ходе непредусмотренной случки на улице пес оказался пленником penis captivus: неопавшая головка застряла намертво. Ни в коем случае нельзя было растаскивать их силой, ведь у кобеля может сломаться пениальная косточка, а сука рискует разрывом вульвы. Битых пятнадцать минут они терпели насмешки уличных мальчишек, мясник из ближайшей лавки окатил их водой из ведра, и в конце концов Монике пришлось погрузить собак в такси, завернув их в одеяло, чтобы не испачкать сиденья, и оплатить поездку к ветеринару. Он может представить себе, какая это была травма?
Моника много работала, приносила свои досье домой по воскресеньям, порой спрашивала у него мнения или совета. К дизайну у нее был настоящий талант. Ариэль высоко ценил ее, может быть, даже слишком, не скупился на комплименты и предлагал ей открыть собственное агентство. Когда она изучала досье или рисовала, лежа на кровати рядом с возбужденным кобелем, Антонен трудился в поте лица, проводя большую воскресную уборку. Она наблюдала инспекторским глазом, указывала на недоделки. Пес, наделенный врожденным чувством соревнования, носился, суча лапами, по кровати. То были редкие моменты, когда им бывало весело вдвоем. Моника молодела на глазах, становилась милой и ласковой девочкой. Антонену даже виделось их общее будущее. Он мучился, что не может любить ее больше, чувствуя в себе какой-то тормоз, парализовавший его чувства. Он, однако, старался. Он ценил ее сдержанность: никаких излияний или неуместных признаний, хотя и она мечтала о более тесном союзе и не раз закидывала удочки в этом направлении.
Он замечал в иные вечера, когда она уставала, морщинки в уголках губ, намек на красную сетку, и чувствовал одновременно облегчение и грусть. Он представлял себе, какой она станет через тридцать лет, когда эти пухлые, в форме домика, губы превратятся в узкую щель с морщинистыми краями, а щеки ввалятся. Антонен с детства любил состаривать своих одноклассников и учителей, воображая их лысыми и пузатыми. У всех мужчин старость сказывается в первую очередь либо на животе, либо на волосяном покрове. Первый вздувается в ностальгии по невозможной беременности, второй редеет, превращая голову в блестящий шарик, этакую гипертрофию мужского достоинства. Антонен и сам видел, как проступает под его нынешними чертами, — его считали красивым парнем, — морщинистый старец, и этот образ мешал ему жить. Он мечтал о чудесном устройстве, которое стирало бы годы, как стирают с зеркала пыль.
Но сейчас у него появились другие заботы; он, быть может сам того не желая, в очередной раз поддавшись бесу вспыльчивости, убил человека. Надо было пойти в полицию, признаться, смыть грех со своей совести — гигиена души не менее важна, чем гигиена тела. Он не решался открыться Монике и тем более своему начальнику. Несколько недель он жил под бременем стыда, внимательно просматривал газеты, надеясь, что другая заметка опровергнет первую, — вдруг избитый им бедолага выжил? Но кого волнует смерть какого-то пьянчуги? Со временем, однако, угрызения совести пошли на убыль. И поскольку никакой представитель сил правопорядка не явился его арестовать, он решил, что ничего не было.
До того знойного дня в конце июля — назавтра они уезжали в отпуск в бухты Кассиса, — когда в метро на линии 12 Антонен пережил нечто, потрясшее его до глубины души. Он возвращался, осмотрев бывший дом терпимости в квартале Пигаль, на авеню Фрошо — кокетливый особняк с ухоженным садом за высокой оградой, где помещались когда-то мастерские Тулуз-Лотрека и Гюстава Моро. Он сел в метро на станции «Сен-Жорж», но на «Нотр-Дам-де-Лоретт» поезд встал. Голос в громкоговорителях пробулькал, что на линии «Конкорд» произошла серьезная авария. На официальном языке это означало самоубийство. Пассажиры, которым было предложено покинуть поезд, ругая на все корки идиота — нашел время и место кончать с собой! — вышли. Вагон опустел. Усталый Антонен замешкался; с ним остался только оборванный старик, странно ёрзавший за спинкой сиденья. Вскоре вагон наполнился зловонием: старик сходил под себя. При виде возмущенного лица молодого пассажира он захихикал, натягивая штаны, и исполнил танцевальное па.
— Противно тебе, да? Я мразь, а знаешь почему? Потому, что золото вечно…
Он смеялся, гордый своими подвигами, счастливый, что внушает отвращение. Его смех зазвенел металлическими нотками, как будто ему в горло напихали пружин от будильника, и закончился долгим приступом кашля. Гнойная корка запеклась в уголках его рта и морщилась вместе с губами. Антонен застыл на месте, чувствуя, как его пропитывают тошнотворные испарения. Он едва сдерживался, чтобы не схватить старика за шиворот и не ткнуть носом в его кучу. А тот продолжал свои нападки. Одно слово то и дело всплывало в потоке брани, жгучее слово, отражавшее всю его картину мира: мразь! Антонен бежал, потрясенный, и не решился рассказать об увиденном Монике. С него градом лил пот. Запах подонка отравил каждую его клетку. В эту ночь ему снились грязные пьяные люди, купающиеся в бормотухе и нечистотах.
Глава 4 Сердце, полное помоев
Воздух вдруг стал словно разреженным.
Антонен открыл другой Париж, скрытый под декором первого, — не город памятников и дворцов, но столицу опустившихся. Он дожил до тридцати лет, не осуществив ни одной своей мечты по той причине, что их у него не было. И вот в этой жизни, лишенной событий, в тоскливой рутине Провидение послало ему знак: сначала первый пьяница на бульваре Малерб, потом этот второй в метро. «Кто-то» открыл ему глаза — что же хотели ему сказать?
Месяцем позже, в конце августа, ему было поручено показать новым покупателям ту самую квартиру у парка Монсо, которую он не сумел продать весной. На этот раз сделка не имела для него никакого значения, столько всего произошло с тех пор: Антонен едва пробежал глазами досье, пришел с опозданием и с тайной надеждой, что еще один отброс общества преградит им дорогу и выблюет кишки на тротуар. Клиенты, проживавшая в Нью-Йорке чета французов, были заранее возбуждены, Антонену даже не понадобилось впадать в красноречие. Муж, финансист, то и дело отвечал на телефонные звонки, отдавая распоряжения на ломаном английском, жена переговаривалась с подругами: «какие планы, гениальный шопинг, маленькое кожаное платье от Версаче, совсем дешево». То была алчность вкупе с суетностью, любовь к спекуляции и горячка потребления. Но оба были достаточно умны, чтобы это понимать, и лучились таким благодушием, что им хотелось все простить. Через полчаса договор запродажи, предусматривающий десятипроцентную скидку, был подписан на краешке стола. Покупатели без конца распространялись о поэзии парижских крыш на фоне купола Пантеона и башен собора Парижской Богоматери. Они искали нюансов: после яркой синевы нью-йоркского неба, резавшей глаз, парижская голубизна, бледная, молочная, переходящая в сероватую белизну. Мягкий климат после студеной зимы и знойного лета. Их воодушевление было заразительно, и Антонену подумалось, не приняли ли они чего-то возбуждающего. В довершение всего они исполнили вальс без музыки посреди квартиры, и супруга уговорила Антонена станцевать с ней несколько па под аплодисменты мужа. Затем они чокнулись шампанским, которое доставил их шофер.
На улице Антонен, разочарованный слишком легкой победой, еще надеялся, что какой-нибудь пьяный подонок облюет лаковые штиблеты его клиентов, и они пожалеют, что сунулись в это злачное место. Но ничего такого не случилось. Сделка была успешной и даже с барышом, потому что квартал за несколько месяцев успел подорожать. Агентству досталась существенная прибыль. На работе Антонену пришлось выпить еще шампанского и выслушать ядовитые комплименты коллег. Ариэль поднял хвалебный тост в его честь, превознося его лишь для того, чтобы унизить остальную команду. Он закончил свой панегирик следующими словами:
— Знаете, в чем проблема богачей? Они симпатичны. У них столько денег, что их хочется любить, в их обществе все чувствуют себя лучше…
Антонен получил, помимо комиссионных, премию в три тысячи евро. Он пригласил Монику в дорогой ресторан, чтобы отпраздновать событие и после ужина воздать ей должное. Она полнее ощущала наслаждение в сиянии успеха. На сей раз Капитан Крюк не смог испортить пир чувств и был, к его вящей досаде, без объяснений заперт в прихожей.
Но эти мелкие радости меркли для Антонена перед откровением последних недель. Он не держал зла на первого клошара за то, что тот пять месяцев назад сорвал ему сделку, но не мог ему простить, что он забыл границы приличий. Как забыл их и тот, другой, что облегчался в вагоне метро. Первый не уважал себя, потеряв тем самым право на уважение других. Он, конечно, не заслуживал смерти, и Антонен ел себя поедом, но хорошее наказание ему бы не помешало. Эти двое представляли собой симптом всеобщего упадка. Антонен открывал дно, как девственник обнаженную женщину: с изумлением. Он никогда прежде его не видел — и теперь видел только его. То был другой город, грязный и запаршивевший, далекий от припудренной и подкрашенной столицы, которую продавали туристам. Париж не был праздником — Париж был клоакой. Может быть, здесь и билось сердце мира, но сердце, полное помоев. У стен зданий кишмя кишели на картонках опустившиеся существа, распространяя вокруг испарения своих изнуренных тел. Люди спотыкались о них вечерами, путались в их спальных мешках. Кучкуясь в окружении шелудивых собак, они прозябали в постоянной брани, стычках, пьянстве. Они хватали друг друга за грудки из-за любого пустяка, дрались насмерть, а потом впадали в прострацию до следующей вспышки ярости. У него на глазах его братья опускались до последнего предела и еще ниже. Как он мог так долго оставаться слепым?
Вот уже полвека Париж перестал быть народным городом. Реконструкция, начатая при Андре Мальро, изгнала беднейшие слои населения из центра, отданного на откуп среднему и высшему классам. Рабочие, ремесленники были вытеснены на периферию. Зато деклассированные элементы, отбросы общества хлынули в город просить у новых буржуа и богемы на прокорм. Народ уничтожили, заменив его народцем: так сосуществовали бок о бок зажиточность и крайняя нужда. Богатые выиграли, но за это приходилось платить постоянным зрелищем голодранцев, ночующих на асфальте и кормящихся из помоек. Нищета притаилась червоточиной в недрах изобилия. Это дошло до Антонена постепенно, и назад хода уже не было. Так он размышлял, когда некий нищий обосновался напротив агентства «Урбалюкс», перед церковью Сен-Дени дю Сен-Сакреман, на углу улиц Тюренн и Сен-Клод. Это было здание в неоклассическом стиле, за решетчатой оградой, тяжелыми колоннами и широкими лестницами смахивающее на греческий храм. Клошар по имени Мариус приволок деревянный контейнер, ставший его домом. Он выложил его изнутри картонками, соломой, старыми одеялами. Мариус был согбенный, злобный и невероятно грязный. Он жил, развалясь в собственных нечистотах, как свинья, разбрасывал вокруг тряпье, всевозможный мусор, пластиковые бутылки с сомнительными жидкостями. Верующие, идя к мессе, опускали головы, отводили глаза, борясь с совсем не христианским желанием прогнать его взашей. Нищий любил задирать их, богохульствовал, называл священников педофилами. Стервец все рассчитал: возле церкви, в зажиточном квартале, он был кругом в выигрыше. Католики обеспечивают себе рай, подавая нищим, левые тоже. Надо было видеть лица буржуа, обнаруживших у своего порога грязное существо на куче отбросов. Они улыбались ему, потому что сторонник прогресса считает своим долгом быть терпимым к нищете, но надеялись, что мусоровоз увезет его как-нибудь ночью с прочим мусором. Когда нищего с его странной постройкой увидел Ариэль Ван Хейфнис, он сморщил нос и пересек улицу, чтобы поговорить с ним.
— Добрый день, мсье, я работаю напротив, не нужно ли вам чего-нибудь?
— Отвали, мудила, вид мне застишь.
— Поразительно, — сказал потом Ариэль, — этот человек спонтанно повторил слова Диогена Александру Македонскому: не заслоняй мне солнца. Вот настоящий философ, не то что фатоватые педанты, которые разглагольствуют по телевидению. Этот человек — просто клад. Его инсталляция заслуживает места в величайших музеях Франции. Да, да, правда, поразительная изобретательность. Он воссоздал первобытное жилище из подручных материалов. Это следует обдумать для улучшения нашего маркетинга.
Ариэль не отступался:
— Дорогой мой, вы служите примером: ваша скудная жизнь подчеркивает тщетность наших благ. Вы преподали нам всем урок!
— Иди ты на хер!
Ариэль разработал для своего агентства «линию бездомного» и собирался продавать «комплект выживания», чтобы можно было жить у себя дома на манер клошара, на картонках, без мебели, с жаровней посреди комнаты. Он был уверен, что богатые клиенты клюнут. Он назвал это «апартаменты Говарда Хьюза», по имени американского миллионера, который, умирая в заточении в своем поместье, кишел паразитами и не стриг ногти, волосы и бороду. Ариэль развивал Антонену теорию об американских homeless — бездомных и французских маргиналах: первый таскает за собой свою тележку, полную хлама, как шахтер вагонетку с углем. Это кающиеся от американской мечты: они загубили свою жизнь и расплачиваются за ошибки вечными скитаниями. Клошар по-французски — дело иное, это шут при короле: он насмехается над суетой и деловитостью, показывая нам, как мы самодовольны и уязвимы. Он провокатор, в то время как его англосаксонский коллега — контрпример. Каждый день Ариэль навещал своего нового друга, приносил ему деньги, еду. Он оставил ему диктофон, на случай, если придет вдохновение, уверенный, что тот разродится великой доктриной анархии. Мариус сделал одну-единственную запись следующего содержания:
— Отвянь от меня, да пошустри меню поразнообразнее, обрыдла уже твоя жрачка.
Диктофона Ариэль больше не видел и стал наведываться реже. Каждый раз, когда его жена или подруга заходили за ним вечером в агентство, бродяга поднимался и, делая неприличные жесты, орал:
— Не одолжишь мне свою цыпочку? Приперло! Спустить надо…
Ариэль, казалось, ничуть не обижался на эти выходки. Мариус, чтобы разжиться мелочью, валялся у банкоматов, выказывая елейную вежливость, что было верхом шантажа. Люди при виде его не могли сдержать тошноту. Деньги текли из банкомата рекой, а он, обездоленный, смиренно протягивал руку. Смирения хватало ненадолго, и уже через час он начинал задирать прохожих. Приходской священник, здоровенный остроносый верзила, с гордостью носивший сутану, явился в агентство посоветоваться с Ариэлем, как помочь «нашему брату в нужде». Формулировку эту можно было истолковать по-разному. Будучи «под газом», как он говорил, Мариус бил пивные бутылки, рассыпая вокруг осколки, отчего было опасно там ходить, особенно детям в сандалиях и собакам, рисковавшим поранить лапы. По кварталу пошла петиция, прихожане теряли терпение. Вдобавок Мариус, вместо благодарности, дважды за неделю блевал у двери агентства, грязно ругаясь. Ариэль, однако, не стал окатывать его водой или звать полицию. Он выказывал полнейшую невозмутимость.
— Интересно, — говорил он, — что же этот бедолага пытается нам сказать? Каков месседж этой неудержимой рвоты?
— Знаете, — ответил однажды Антонен, — я могу перевести вам его месседж в двух словах: грубо говоря, он блюет на вас и не желает вашего сочувствия.
Это толкование охладило энтузиазм филантропа по случаю. Кюре еще несколько раз пытался выступить посредником, но тщетно. Капризы бродяги достали всех.
Закончились в одночасье горячие супы, равно как и попытки диалога о мудрости древних и пятидесятиевровые банкноты, засунутые за обшлаг драного свитера. Улица Тюренн стала границей, no man’s land, разделявшей две враждующие страны. Дальше события развивались странным образом. Одеяла клошара исчезли, как раз когда наступила осень. Картонки, которыми он укрывался, отправились на помойку. Через пару недель ранние холода победили его упорство: за ним приехала машина службы спасения и, сославшись на риск переохлаждения, невзирая на его вопли, увезла. Больше его не видели. Муниципальные службы убрали ящик, осталось только темное пятно на асфальте, которое с подозрением обнюхивали проходящие собаки. Антонен не знал, что возмущает его больше, — грязный Мариус или флюгер-Ариэль, резко сменивший хобби. У него появился новый конек: он скупал на французских побережьях заброшенные маяки, принадлежащие морскому ведомству, и готовил проект «Робинзон» для меланхоликов и мизантропов. Он даже планировал семинары по саморазвитию на голых скалах под плеск волн. Теперь он проводил все уик-энды в Конкарно, Дуарнене, Сен-Жан-Кап-Ферра, где вел переговоры с властями.
Антонен же, напротив, продолжал кипеть гневом. Пираты скамейки, солдаты бутылки бесили его, рефрен попрошаек резал ему слух. Когда один из них у дверей булочной совал ему под нос свою кружку, он, скрипя зубами, шипел:
— Вставай и иди работать!
Жалкий аргумент, но ему становилось легче. На вопрос: «Не найдется пары евро?» — он отвечал:
— Найдется, конечно, но я оставлю их себе.
Его грубость не удивляла побирушек, они были недостаточно горды, чтобы ответить резкостью. Само их присутствие было оскорблением прогрессу, медицине: архитекторы, скульпторы, художники веками трудились, чтобы построить этот сказочный город, — а они разрушали его своей грязью. Антонен вполне отличал бедность от нищеты. Его семья не была богата, дед и бабка, матрасники из Юра, были выходцами из народа и гордились этим. Они уважали себя всегда и в любых обстоятельствах. А «цветам тротуара» как раз самоуважения и не хватало — это были нечистоты с человеческим лицом. Их присутствие было безобразно, позорно. В Париже ходят по фекалиям — собачьим и человечьим.
Антонену вспомнился один случай. Ему было десять лет, осенний вечер, станция скоростного метро «Дефанс», он с отцом, который держит его за руку. На перроне людно, в основном служащие, разъезжающиеся по домам после тяжелого дня. Высокий, хорошо одетый мужчина с атташе-кейсом в руке стоял на краю платформы, у самой черты. Он вставал на цыпочки, тянул шею — ему не терпелось увидеть поезд. И вдруг какой-то субъект вскочил с пластикового сиденья, кинулся на него и толкнул — как раз в ту минуту, когда поезд въехал на станцию. Мужчина потерял равновесие и упал, не успев даже вскрикнуть. Он не погиб, но ему отрезало левую ногу. В сорок четыре года. А напавший на него, деклассированный элемент, спокойно ушел, сделав свое черное дело, и его так и не нашли, несмотря на камеры слежения. Тихая, почти незаметная драма. И еще одно Антонен запомнил благодаря этому эпизоду: жизнь можно отнять в одну секунду, одним простым движением.
Глава 5 Откровения пары ботинок
Каждое утро, в девять часов, на угол бульвара Осман и улицы Шоссе-д’Антен приходила маленькая женщина в пестрой юбке и грубом шерстяном свитере, с повязанными косынкой волосами; в руке у нее был маленький чемоданчик с дырками. Открыв его украдкой, она доставала запеленатого младенца — не всегда одного и того же, — и вставала на углу с протянутой рукой. Младенец спал у ее груди, не подавая признаков жизни, и никто не мог сказать, жив он или мертв. Якобы мать приносила своего кормильца в чемоданчике и запихивала его туда вечером, подсчитав выручку. Однажды ее забрала полиция, и вместо нее на углу появилась старуха с трясущейся головой, которую потом сменил паралитик.
Антонен, мало-помалу превратившийся в детектива нищебродов, наблюдал за той женщиной несколько недель. Он ходил теперь по Парижу с блокнотом в руке и записывал свои открытия. Никогда прежде он не видел этого города, не водил дружбы ни с лирически настроенными любителями прогулок, ни с меланхоличными пьяницами, ни со словоохотливыми мечтателями. Чтобы открыть для себя Париж, надо смотреть не вверх, а вниз, на нищую братию, что покрывает подворотни и тротуары, точно прыщи на лице города-светоча. Антонен купил в канцелярском магазине большую карту столицы. Он решил держаться в границах центра. Кнопками он отмечал на карте места скопления бомжей и соединял их линиями. Синие кнопки означали самые людные места, красные — устрашающую плотность сброда, черные — отдельных клошаров, загнивающих по углам, желтые — кочевой люд, что не сидит на одном месте. Антонен покрывал территорию этими цветными флажками, как будто речь шла о регате или скачках. Удивленной Монике он объяснил, что это учет недвижимости для нужд агентства. Он бывал в бесплатных столовых, бродил по набережным Сены, вокруг вокзалов, на запасных путях, где обосновались и жили в палатках из подручных материалов многочисленные одиночки. Он научился отличать тружеников, выброшенных на улицу из-за безработицы или по болезни, от настоящих отбросов общества, которые едва держались на ногах и были неотделимы от своих нечистот. Первые пытались бороться, у них еще был шанс выкарабкаться, вторые опускались на дно. Есть нужда и есть нищета. Он, фанатик гигиены, приходил в ярость. Возмущения тут мало, это лишь содрогание благородной души, оскорбленной в лучших чувствах. Он не занимался политикой, не ходил на выборы, но у него был незыблемый принцип: человек должен быть стыдлив перед собой и перед другими.
По мере своих изысканий он по-настоящему узнавал маргинальный люд. Из всей этой толпы нищебродов, всякой твари по паре, одни лишь цыгане вызывали у него восхищение. Уроженцы Восточной Европы, корнями уходящие в далекую Индию, они во многом усовершенствовали технику попрошайничества. Они были гениями выживания в любых условиях. У них работали все, от младенцев до старух, каждый вносил свою лепту. «Заработки» их были активные и пассивные; они посылали отряды карманников щипать пассажиров в метро, автобусах, поездах, а их больные, вплоть до умирающих, занимали посты на перекрестках и главных пешеходных артериях. Воришки, от семи до двенадцати лет, заполоняли вагоны на остановках, набрасывались на пассажиров, точно стая воробьев, обчищали их в два счета, особенно дам, и, свистя, убегали. Если им случалось попасть в полицию — никаких документов, никакого гражданства и ни слова по-французски. Их отпускали через несколько часов — закон о несовершеннолетних никто не отменял. Они приспосабливались ко всем нюансам рынка: осеняли себя крестом, прося деньги, мыли ветровые стекла у светофора, носили образки Девы Марии, показывая, что они не какие-нибудь опасные джихадисты. Однако в кварталах, населенных мусульманами, они попрошайничали по-арабски:
— Салам алейкум, алейкум салам.
Улыбчивые девушки обступали вас на улице, протягивая бумаги в пользу глухонемых, слепых, заик, голодающих и просили немного мелочи в обмен на вашу подпись. Такие симпатичные — и вытаскивали банкноты у вас из кармана так ловко, что впору восхититься. Они подбирали упавшие под ноги кольца из фальшивого серебра и отдавали их вам за вознаграждение. Еще они продавали цветы, ландыши на 1 Мая, и очаровательных щенков, белых с бежевым, — говорили, что они краденые. Братьям нашим меньшим легче разжалобить француза, чем людям в нужде.
Те, что просили подаяния, делились на два лагеря — вежливых и жалостных. Первые не знали границ в раболепстве: они готовы были лизать вам ботинки за евро или двадцать сантимов. Их могли игнорировать, отгонять, но они не отставали, отвешивая земные поклоны каждой мелкой монетке.
— Прс-с-стите, мусью, прс-с-стите, матам, извиняйте меня, што бешпокою, нечего есть, много детки, один монетка, пж-ж-жалсста…
Зимой и летом они оставались на своем посту, непрерывно бормоча жалобы. Они брали вас измором. В их угодливости было что-то оскорбительное, и рука невольно тянулась к карману. Жалостные должны были представлять собой душераздирающее зрелище: выбитый глаз, отрезанное ухо, всего по три пальца на каждой руке, полноги или разъедающая щеки опухоль. Среди умений цыган, говорила молва, числилось поточное производство калек, целое искусство пилы и зубила, резки и кройки, требовавшее подлинного мастерства. Они проявляли чувство мизансцены, поистине вызывавшее восторг, и выбрасывали на улицы своих убогих, скроенных по мерке, обстриженных безумными садовниками: тут безрукие, там дети-уроды; одурманенные, непрерывно плачущие женщины; припадочные, которым впрыскивали какую-то гадость, чтобы они тряслись; паралитики, словно вышедшие прямиком из фильма ужасов. Они были не лишены своеобразного чувства юмора, выставляя напоказ своих монстров. У пожилого мужчины на площади Республики вся левая сторона лица была умело выжжена утюгом или паяльником. Пришлось ему, видно, нелегко. Но результат был гарантирован пожизненно: незаживающая язва, переливавшаяся всеми оттенками от кобальта до багрянца, с толстыми желтыми прожилками. Этот человек вызывал ужас и любопытство; ему издали кидали монетки, которые он небрежно подбирал. Дородные матроны соседствовали с пигмеями, которым перемололи кости. Имелась и команда чудесно исцелявшихся паралитиков, которые, собрав выручку, резво бежали в метро. Поговаривали, что всей этой сетью руководят некие «капо», ворочавшие где-то в Южной или Восточной Европе большими делами. Девушек покупали у семей за несколько тысяч евро, выбирая самых смышленых и сговорчивых. Не слишком нравственно, но, согласитесь, выдает настоящий организаторский талант. Попрошайка — мелкий предприниматель, он изучает рынок и выбирает платежеспособных «клиентов».
Антонен не мог смириться с распущенностью городских отбросов. Когда-то в Англии таких людей метили каленым железом, продавали в рабство, помещали в богадельни или монастыри, чтобы научить добродетелям труда. Любопытную исправительную машину изобрели голландцы: бродягу, не желавшего работать, сажали в подвал, который наполнялся водой. Если он переставал откачивать воду, то тонул. Суровый, но действенный урок.
Антонен жил теперь двойной жизнью: риелтор днем, охотник, следопыт вечерами. Придя с работы, он переодевался и шел обшаривать Париж в поисках какого-то несуществующего решения. Чего он, собственно, искал? Он сам не знал, но так продолжаться не могло! Он хотел открыться Монике, но они были недостаточно близки. Однажды он признался ей, показав на валяющегося в подворотне клошара:
— Эти люди мне омерзительны…
— Не нервничай, миленький, просто не смотри на них!
И наконец его осенило: он делал большую воскресную уборку, именуемую у него чрезвычайной и занимавшую от четырех до шести часов. Вымыв пол специальной тряпкой, выписанной из Скандинавии, он случайно наткнулся на пару ботинок — тех самых, которыми он избил пьяницу восемь месяцев назад. Он поместил их, образно говоря, в карантин, убрав в дальний угол шкафа «в наказание». Он поморщился, увидев на них слой пыли, и дважды начистил их, пока они не заблестели как зеркало.
И тут вдруг все стало ясно.
Эти ботинки указали ему путь.
Все его блуждания, все терзания последних месяцев обрели смысл в этой элегантной и изысканной паре обуви. Ботинки были орудием возмездия. Он поцеловал их, прижал к груди как ребенка.
Вот оно — решение.
Он не осмеливался облечь его в слова.
Это было невыразимо.
Есть жизни, которые стоят больше других.
Но многие, очень многие стоят меньше — вот истина.
То было обращение — мгновенное.
От потрясения Антонен опустился на пол, обхватил голову руками, борясь с головокружением. Так он пролежал в прострации несколько часов, не в состоянии ни двигаться, ни говорить. Моника нашла его на полу среди разбросанных вещей и вызвала «скорую помощь». Врач диагностировал приступ тетании[6] и сделал успокоительный укол. Когда назавтра она попыталась его расспросить, он не захотел отвечать. Она заключила, что дело в связи на стороне и замкнулась во враждебном молчании. Он мог бы успокоить ее, сказав правду, но не снизошел до этого.
Часть вторая Воин-монах
Глава 6 Лишний жест
Он не должен был этого делать.
Он был не прав.
Он вспылил.
Но и пес не должен был этого делать.
В мире и без того хватает беспорядка, он не потерпит хаоса у себя дома, да еще вдобавок со стороны четвероногой твари!
Моника уехала на три дня в Базель на конгресс по новым технологиям. Ей предстояло сделать там важный доклад о термической изоляции старых домов, которые называли «энергетическим ситом». Она попросила Антонена об услуге, в знак ее бесконечного к нему доверия: может ли он взять к себе Капитана Крюка? Это налагало регулярные обязанности: выгулять собаку утром, в полдень и в последний раз вечером, подольше. Кормить ее разнообразной пищей: фрукты, овощи, мясо. Мыть каждый день специальной рукавичкой из конского волоса. Ежевечерне протирать лосьоном от блох. Капитан Крюк был меломаном: немного Верди, Пуччини по вечерам и, конечно, его любимая песня — «Wot» Кэптена Сенсибла, хит 1980-х годов, которую он обожал за ритм и за слова, напоминавшие ему его имя. Он мог слушать ее десять раз подряд.
Капитан Крюк очень любил Антонена.
В самом деле.
Он любил свободные, открытые натуры…
— И потом, — она покраснела, — если малыш будет, как бы это сказать, слишком нервничать, Антонен сумеет снять напряжение.
— Снять напряжение, но как?
— Ты прекрасно знаешь как… — Она замешкалась, подбирая слова. — Ты можешь его… — Соединив по два пальца на каждой руке, она изобразила кавычки, но слов так и не нашла.
— Я не понимаю.
Ее лицо залилось краской.
— Я хочу сказать, побольше разных упражнений. Он так нуждается в любви.
Антонен, видно, не смог скрыть удивления, потому что она тут же дала задний ход.
— Как хочешь, я только предложила. Со мной он подолгу гуляет, мы бегаем часами, но три дня уж как-нибудь продержится.
Поначалу Капитан Крюк вел себя хорошо. Спал он в корзинке из душистой кожи. Ходил за Антоненом хвостом повсюду, в агентстве терся о ноги всех женщин — тех смешило его вздутие между лапами. Вот бы их мужьям такую силу! Антонен, краснея, извинялся. В первый же вечер, когда Антонен включил его любимую песню — «Не said Captain, I said wot?», — Капитан Крюк лег на спину и, выставив напоказ половой орган и дрыгая лапами, казалось, ждал от хозяина недвусмысленного жеста. Антонен не обратил на него внимания, и пес, печально заскулив, улегся спать. Но проснувшись утром, он забрался на кровать и лег на бок все так же во всеоружии. Он просил ласки. Антонен с достоинством отстранил его. В этот вечер он решил начистить столовое серебро, доставшееся ему от бабушки со стороны матери. Он как раз купил новый состав швейцарского производства для чистки серебра, который давал абразивный эффект без вредных последствий. Он расставил все на пластиковой пленке, подложив под нее газетный лист, и взялся за тряпку. У нового средства был один недостаток: оно оставляло пятна на неметаллических поверхностях — мраморе, камне, дереве. Не успел он начать, как Капитан Крюк запрыгнул на стол и принялся лавировать между вилок и ложек. Шерсть у него стояла дыбом от возбуждения, он рычал, и даже музыка не могла его успокоить. Да что же это за собака? Машина какая-то, вечный двигатель? Антонен призвал его к порядку. Он все понимает, осталось потерпеть сутки до возвращения хозяйки. Пес нервно залаял, тяпнул Антонена за руку, несколько раз вильнул задом и, застигнув его врасплох, всунул свою горячую штучку прямо ему в ладонь. Антонен пронзительно вскрикнул. А маленький, не больше карандаша, собачий член уже заходил ходуном на манер обезумевшего метронома, подрагивая от возбуждения. Пес задел бутылку, ее содержимое выплеснулось на газету и потекло со стола на пол. Ядовитый состав тотчас разъел лакированный паркет, образовав лужицу в форме теста Роршаха.
Это было чересчур.
А ведь Антонен его предупреждал.
Чисто рефлекторно он схватил расшалившегося пса, распахнул окно и выбросил его наружу. Даже не успев понять, что с ним случилось, Капитан Крюк с визгом разбился о плиты внутреннего двора. Шел дождь, уже стемнело, все окна были закрыты, жильцы ужинали или смотрели надрывавшиеся в гостиных телевизоры.
В панике Антонен схватил поводок, сбежал вниз по лестнице, поднял еще теплого пса и, крадучись, покинул дом, чтобы отнести трупик на улицу Этьен-Марсель, где было более людно. Дождь смоет растекшуюся кровь. Грохот мусоровозов, проезжавших в этот час и перемалывавших гигантскими челюстями отходы, заглушал все другие шумы. Антонен выбрал место потемнее, неподалеку от Пост-дю-Лувр, на углу улицы Эрольд, где не горели два фонаря. Воспользовавшись затишьем в уличном движении, он украдкой положил тельце на мостовую, не отцепляя поводка, и спрятался в подворотне. Ждать пришлось не больше минуты. «Вольво»-кабриолет, мчавшийся от площади Виктуар, переехал собаку, не остановившись. Антонен выскочил из тени и закричал:
— Собака, моя собака, мою собаку задавили, на помощь…
Заплакать ему не удавалось, но он нашел нужный тон, а это главное. Капли дождя на его лице могли сойти за слезы. Мужчина и женщина под зонтом подошли к нему и, увидев мертвую собаку, возмутились.
— Ах, мерзавцы! Вы не запомнили номер?
— Нет, фонари не горят, как нарочно, именно здесь.
Он сумел подавиться рыданием. Пара смотрела на него с сочувствием, мужчина положил ему руку на плечо, и от этого тяжелого теплого прикосновения немного полегчало. Он сочинил вполне складный рассказ и обкатал его на этих прохожих, чтобы потом изложить Монике. Пес, настоящий мужчина, учуял молодую сучку на другой стороне улицы и кинулся за ней, вырвав у него из рук поводок. О, это его вина, он никогда себе не простит. Секунда невнимания оказалась роковой. Они поверили ему без тени сомнения и принялись утешать. Нет, он не должен винить во всем себя. Они оставили ему номер телефона на случай, если понадобятся свидетели.
Он ушел, держа мокрого пса на вытянутых руках, словно герой фильма. Капитан Крюк был маленький и весил не больше сумочки. Он дозвонился Монике в Швейцарию и срывающимся голосом рассказал ей о случившемся. Ему удалось даже всхлипнуть. Она решила, что это шутка, и, ничего не ответив, повесила трубку. Назавтра вечером она пришла за телом. Антонен завернул его в фольгу и положил в туалете. Жаль, что от пса начало попахивать, ведь именно теперь он был олимпийски спокоен. Вот таких животных он любил — смирных и тихих. И морда в покое, и хвост, и все остальное. Раздавленный Капитан Крюк был не лишен благородства. Колеса переехали его живот, и внутренности вывалились наружу. Он завернул их отдельно. Моника почти ничего не говорила, голос ее срывался от горя и потрясения.
— Я доверила тебе моего Капитана Крюка — и через два дня он мертв.
— Это могло случиться и при тебе… я ведь все уже рассказал. Ты знаешь, какой он был… неугомонный. Сорвался с поводка, я ничего не мог поделать.
— Я тебе не верю.
— Есть свидетели, они оставили мне телефон, позвони им!
— Почему ты не пошел в полицию?
Голос ее дрожал от возмущения, она была на грани нервного срыва.
— Его бы это не воскресило, а я не разглядел номер машины. Было слишком темно. Мне жаль, это моя вина, я тоже очень любил его, ты знаешь, он… обладал удивительным чувством юмора.
Она завернула пса в одеяло и в слезах ушла. Он не удерживал ее. Выглядела она неважно. Он перезвонит ей через несколько дней.
У него есть дела поважнее.
Пес не должен был этого делать.
А ведь он его предупреждал!
Этот эпизод очень ему помог.
Говорят, что трудно только в первый раз. У него, собственно, это был уже второй, если считать трепку, которую он задал пьянчуге весной. Прежде он вел себя, повинуясь импульсу; теперь ему предстояло превратить реактивные поступки в сознательные действия. Для начала он решил пореже видеться с Моникой. Эта женщина только отвлекала его, их роман зашел в тупик. Все равно она никогда не простит ему смерть терьера. Он чувствовал себя как солдат перед боем — ему нужны были все его силы. Он был спокоен, он нашел свой путь — особенно после того, как прочел в газете поразившую его заметку. В супермаркете в Бельвиле накануне Рождества сорокалетний бомж убил ножом в спину женщину, уроженку Гонконга, за то, что та была красива. «Она не имела права жить, слишком хороша», — объяснил он полицейским. Красота была оскорблением, и он наказал ее. Антонен же готовил кару другому оскорблению — грязи.
Грандиозность замысла ошеломила его. Он был самоучкой, некому было указать ему путь. Мир не готов выслушать его послание — что ж, он будет проповедовать примером и пробудит совесть. Как химик изолирует бациллу, которую хочет изучить, так Антонен выбирал цель: не молодые деклассированные элементы, чья судьба еще не свершилась, не энергичные мигранты, не бомжи, еще способные встать на ноги, — нет, только совсем опустившиеся. Спасение избранным, непримиримость к пропащим.
Он возликовал однажды вечером на улице Монмартр, возле церкви Сент-Эсташ. Они возвращались из ресторана с Моникой — несмотря ни на что, он пытался возобновить с ней отношения. Разговор не клеился. Было около половины двенадцатого, рестораны закрывались, стоял лютый холод. Вонючий старик, сидевший на куче отбросов, спустил штаны и при всем честном народе подтирал зад, ничуть не стесняясь, ярко освещенный витринами магазина. Мимо проходила вразвалочку группа отвязной молодежи — взвинченные, в кепках задом наперед, они переговаривались на непонятном наречии, состоявшем из жаргона и междометий. При виде подтирающегося старика с дымящейся кучкой под ягодицами они с отвращением завопили и принялись лупить его ногами в живот и в лицо. Через несколько секунд старик лежал с выбитыми зубами в луже крови. Компания с хохотом разбежалась.
— Сделай же что-нибудь! — умоляла Моника, повиснув на его руке.
А Антонен с восхищением смотрел на мразь, получившую урок от молодежи. Правосудие свершилось. Эти пышущие здоровьем парни возродят Францию. Надо было им его прикончить.
— Вызови полицию, скорее!
— Он получил по заслугам.
Моника посмотрела на него как на сумасшедшего и прошипела:
— Это ты убил Капитана Крюка, теперь я уверена, я потребую эксгумации и вскрытия. Плохое обращение с животными — дело подсудное, знаешь ли.
Жалости к бродяге хватило ненадолго, кобель снова вышел на первый план. По спине у Антонена пробежал холодок. Ему надо быть осторожнее, лучше скрывать свои эмоции. Чтобы успокоить ее, он позвонил пожарным и сообщил об избитом старике.
Но Монике рядом с ним не было больше места. Кончено, женщин он отныне касаться не будет, разве что с бесконечными предосторожностями: погрузиться в них значило кануть в бездну, поставить под удар налаженную жизнь. Он благословлял изобретение презерватива, не отказался бы от защитных средств для поцелуев, для рукопожатий, даже для слов — их ведь тоже надо сдерживать, чтобы не оскорблять слух. Грязные, обидные слова накрепко врезаются в память. Через три дня после этого случая он сообщил ей по телефону, что их роман окончен. Моника не удивилась, но сочла своим долгом закатить ему сцену. Правды она даже не заподозрила, решила, что есть соперница, осыпала его бранью, а потом, разрыдавшись, умоляла дать ей еще один шанс. Но секс его больше не интересовал. Беда в том, что, трудясь на благо человечества, он вынужден был скрывать величие своей миссии. В толпах людей, бродивших по бульварам, наверняка нашлись бы хоть один мужчина, хоть одна женщина, которые тоже мечтали истребить паразитов, но не осмеливались. Настанет день, когда они поклонятся ему как первопроходцу оздоровления, и он сделает их своими соратниками.
Но как взяться за дело? Не годились ни револьвер, ни бейсбольная бита. Он не головорез, привыкший к уличным боям, он существо деликатное, родители нежили его и холили и воспитали с острым чувством социальной несправедливости, он паинька, только подвержен вспышкам ярости. По зрелом размышлении он остановился на удавке: задушить «пациента» легко — захлестнуть на уровне яремной вены и сдавить сонные артерии одним рывком, чтобы не брыкался. Он не раз видел такое в кино. Можно было бы потренироваться на кошках, утках, птицах, но ему претила бессмысленная жестокость. Он упражнялся с диванными валиками, сдавливая их изо всех сил. В материи убийства он оставался девственником, хоть и убил человека по неосторожности и собаку в гневе.
Собака не в счет.
Этот дурацкий пес не мог даже приземлиться на четыре лапы.
Вот идиот!
Все в член ушло, а ловкости ни на грош!
Глава 7 Проба пера
Не так-то легко виртуозу хозяйственных работ превратиться в палача. Вскоре Антоненом овладело уныние. Он затеял невозможное. Ему бы хоть сообщника. Он готов был все бросить, позвонить Монике:
— Знаешь, я тут собирался убивать клошаров, потому что они грязные, но это слишком хлопотно. Хочешь, поженимся, и я куплю тебе новую собаку?
Однако наваждение вновь настигало его. Ему снились толпы живых мертвецов, которые, хлынув с тротуаров, волнами накатывали на его жилище, чтобы забрать его с собой. Он продолжал собирать сведения, читал статистику: в Париже насчитывалось десять тысяч бездомных, средняя продолжительность их жизни составляла сорок восемь лет (для остального населения восемьдесят). Ежегодно умирало триста пятьдесят человек, от холода и от истощения. Зима косила их переохлаждением, лето — обезвоживанием. Алкоголь довершал остальное. Это истребление не знало никакой логики, невинные гибли, как и грешные.
Антонен стал прилежно заниматься спортом, чтобы превратить себя в машину для убийств. Он записался в школу карате, терпел удары, синяки, вывихнутые пальцы. Порой он бегал по два-три часа, пересекая Париж с севера на юг и отмечая на бегу места скопления нищей братии и клошаров-одиночек, загибающихся по углам. Он возвращался после этих марафонов в потрясающей форме, а ненависть его удесятерялась. Теперь, когда Моника ушла, ему больше не надо было скрываться. Сам себя назначив начальником штаба, он готовил будущее наступление. Большая карта столицы на стене его спальни была усеяна разноцветными кнопками. Новый цвет появился с недавних пор: белый, цвет смерти. Линии фронта пребывали в постоянном движении. Он снимал на видеокамеру короткие фильмы и хранил их в компьютере под защитой пароля. Вставал чуть свет, чтобы закончить свои изыскания до начала рабочего дня. Иногда он убивал двух зайцев: отмечал квартиру для продажи и бивуак отребья.
Пора было переходить к действиям. Он выходил на улицы с наступлением ночи, не зная пока, на ком из лишних людей остановить свой выбор, — а выбирать среди этой мерзости было из чего. Руки у него горели, ноги тоже, он чувствовал себя снарядом, готовым поразить цель. Ярость сменялась унынием. Он сделал первый шаг — на Севастопольском бульваре, на углу улицы Бур-л’Аббе, затушил горящую сигарету о протянутую ладонь нищего и пустился наутек. Попрошайка взвыл, но Антонен был уже далеко. Он был доволен этой гнусностью и полон решимости продолжать. Он окатывал водой спящих на тротуаре вонючих бродяг, чтобы разбудить их. Высмотрев «стойбище» клошаров и одевшись соответственно — свитер с капюшоном, закрывавшим лицо, крепкие кроссовки, — он разбегался и бил ногами кого попало что было сил. Одурманенные, пьяные бедолаги, даже не успев понять, что с ними случилось, просыпались с синяками на животе или сломанными ребрами. Бывало, один из них, поднявшись, грозил Антонену кулаком. Тот предлагал ему «выйти поговорить». Вид у него, надо думать, был безумный: никто не осмеливался с ним связываться. Вскоре он проникся чувством всемогущества. То-то он вычистит эту выгребную яму — Париж! Была у него мысль обливать их бензином, но это шло вразрез с обостренным чувством справедливости, унаследованным от отца: он должен карать только безнадежных, остальным дать шанс выкарабкаться. Каждый раз, когда он замышлял очередную «зачистку», в ушах у него стоял колокольный звон — то ли церкви праздновали грядущее событие, то ли давление крови в висках вызывало слуховые галлюцинации. Чтобы сблизиться со своими жертвами, он пытался пить прямо из горлышка самое дрянное вино. Он пил перед зеркалом, раздевшись до пояса, надув бицепсы. От этих возлияний ему становилось худо, крутило живот. Пить он не мог, оно и к лучшему — не увязнет в этом болоте.
Однажды, когда ему надоело лупить бродяг и пинать ногами их кружки, он разработал два хитроумных плана, которые укрепили его веру в себя. Он узнал, что на площади Вогезов, недалеко от агентства, студенты с помощью ассоциации DAL[7], «Черного четверга» и группы адвокатов сумели занять роскошную пустующую квартиру из семи комнат. Они развернули транспаранты, бичующие эгоизм собственников жилья и мэрии, требуя реквизиции всех свободных квартир в Париже. Их акция, широко освещенная в СМИ, получила поддержку левых партий за исключением социалистической, замешанной в дело через фигуру мэра Бертрана Деланоэ. Там же, у стены дома XVIII века, в южном углу площади, расположились пять молодых бомжей со своими спальными мешками. Два араба, немец из Померании, итальянец и поляк. Они изъяснялись на малопонятной смеси языков. Антонен постепенно сошелся с ними, приносил им сигареты, алкоголь, кофе в термосе. Утром и вечером приходил он к их «резиденции» с подарочками. Он не задавал им вопросов, принимал такими как есть. Только спрашивал, почему же эти сынки буржуа, засевшие наверху, не предложат им гостеприимство, не будучи даже у себя дома. Маргиналы долго не реагировали, с фатальным равнодушием принимая это социальное неравенство: они спали в грязи и нечистотах, в то время как двумя этажами выше папенькины сынки, борцы с роскошью, катались как сыр в масле. Антонен не отступался, ежедневно разжигал в них классовую ненависть, вспоминая аргументы отца против «имущих». Но инертность этих бродяг была чудовищна. Они только и делали, что пили да дрались. Напротив, в сквере, между влюбленных парочек и туристов бегали, пыхтя, толстяки; какой-то одурманенный тип с косичкой, в жилете и полосатых штанах, часами выделывал танцевальные па, словно исполняя менуэт перед королем Франции[8]. Был тут и вечный битник с серыми сальными волосами, терзавший под гитару «Иглз» и «Стоунз» надтреснутым от табака и пива голосом. Однажды ночью, около трех часов, Антонен, тщательно замаскировав лицо, навестил своих новых друзей и, воспользовавшись их глубоким пьяным сном, поджег маленьким паяльником их постель. Он зашел наутро, изобразив удивление: как, матрасы обуглились, спальники обгорели, все вокруг присыпано зловонным пеплом? Они остались живы только благодаря случайному прохожему? Какой ужас! Он тотчас покатил бочку на незаконных жильцов второго этажа. Он-де слышал, как они на скамейке в сквере сговаривались избавить дом от этого сброда. В дурных головах взыграла ярость, и молодые люди в тот же вечер, вооружившись ломами, ножами, дубинками, напали на ни в чем не повинных студентов: они вломились в их «замок» и принялись все крушить, отдубасили их, изнасиловали одну из девушек. Антонен, предварительно засняв все на мобильный телефон, позвонил из автомата в полицию; приехали полицейские в касках, буянов-оборванцев схватили, двоих посадили в тюрьму. Доблестные студенты, перепугавшись, быстренько вернулись к папам-мамам. DAL и «Черный четверг» наехали на власти — те, мол, сами организовали это нападение, чтобы выгнать непрошенных жильцов. Антонен потирал руки, одним ударом убив двух зайцев: лагерь бомжей был ликвидирован, незаконно занятая квартира освобождена. То-то же, он еще всех будет держать в страхе. Он лелеял наивную мечту: проявить достаточно красноречия, чтобы отбросы общества сами накидывали петлю на шею или пускали пулю в рот. Но в этой среде кончают с собой редко, будучи за гранью отчаяния.
Произошел еще один случай, не столь яркий, но тоже доставивший ему удовлетворение. На улице Беарн, возле все того же роскошного квадрата площади Вогезов, обосновалась у отеля «Реле-э-Шато» семья цыган, выходцев из Болгарии, — молодая пара и две их очаровательные дочурки с подведенными сурьмой глазами. Они соорудили себе лачугу из картонок под аркой, отделяющей улицу от площади. Об этом сообщили в полицию, и та попросила их убраться. За них вступились прохожие. Антонен, случайно проходивший мимо, тоже присоединился. Кто-то позвонил на телевидение, и в восьмичасовых новостях на канале «Франс-2» показали, как вопящего Антонена заталкивают в полицейскую машину за сопротивление представителям охраны правопорядка. Он провел в комиссариате IV округа несколько часов и был отпущен благодаря вмешательству Ариэля, который прислал своего адвоката. Но обрел ореол борца и защитника слабых.
Оказавшись дома, он принялся танцевать:
— Ай да я, черт побери!
Он хотел было позвонить Монике и сообщить ей хорошую новость, но вспомнил, что они расстались. В самом радужном настроении несколько дней он усердно творил добро. В метро, встретив монотонно бормочущего попрошайку, он давал ему советы — разнообразить речь, поставить голос, — и оставлял немного денег. Он уже воображал себе, как, сделавшись наставником побирушек, учит их началам риторики. Увидев нищенку, рывшуюся в мусорном ящике, он придерживал ей крышку, заводил разговор, интересовался ее добычей, выказывал искреннюю симпатию. Аккордеонисту-румыну, бодро и фальшиво наигрывавшему известный мотив Пиаф, дал пятьдесят евро.
— Великолепно, старина, продолжайте в том же духе.
Но главное было впереди: он не мог больше терпеть, он чувствовал себя как солдат из отряда, расквартированного в казармах, когда вокруг бушует война.
Наконец он засек на набережной Жеммап, у канала Сен-Мартен, бродягу с тачкой и мешком, полным всякой дряни, в истрепанном пальто, в ботинках без шнурков на босых, фиолетового цвета ногах. Использование пластиковых пакетов с маркой торговой сети типично для отбросов общества. Они ниоткуда, только эта марка — их родина. Это был косматый великан с огромным животом, серыми волосами, длинной грязной бородой и перекошенной физиономией. Антонен выслеживал его много дней, украдкой фотографировал, делал записи в блокноте. Иногда он даже не являлся на деловые встречи, лишь бы не упустить свою дичь. Ариэль подозревал за ним связь, которая и послужила причиной разрыва с Моникой.
— Пай-мальчик пустился во все тяжкие. Сначала арест, потом любовные похождения. Куда мы катимся?
Антонен его не разубеждал, он был только рад действовать под прикрытием. Однажды он застал своего великана на улице Сен-Дени[9], на углу улицы Гренета, во II округе: тот торговался с расхристанной старухой в компрессионных чулках. Мадам носила очки в роговой оправе и, не прекращая торгов, делала вид, будто говорит по мобильному телефону старой модели. После долгих и бурных переговоров она согласилась дать ему по льготному тарифу за двадцать евро — ровно столько было у него в кармане. Он возразил: мол, потом-то ему понадобится выпить, и предложил сойтись на пятнадцати.
— Ты уж выбирай, — не соглашалась старуха, — порезвиться или выпить.
— Мне надо то и другое, после любви-то жажда одолевает. А милостыню просить уже поздно. Ну же, будь лапочкой, давай я припаркую мой «роллс» у отеля.
— Иди-ка лучше на улицу Ломбар, там найдешь старуху, которая тебе даст за пятнадцать евро.
— Ну нет, на них без слез не взглянешь, да и мочой пахнут.
— Думаешь, от тебя дерьмом не разит? Да ты себя нюхал, ёрш сортирный? Проваливай, всю коммерцию мне испортишь, господа испугаются.
— Глотку-то не дери, дамочка, ни к чему это. Жаль, ты мне приглянулась, хоть и не первой свежести. Ладно, доброй ночи, дамы-господа, пойду напьюсь да подрочу, дешевле станет. На свою штучку вприглядку погляжу, она-то бабок не просит.
Когда он удалялся, волоча ноги, молодой бритоголовый громила, сидевший на тротуаре улицы Сен-Дени с картонкой, на которой было написано «ХАЧУ ЕСТЬ», поднялся и последовал за ним в темноте, едва рассеиваемой неоновыми вывесками секс-шопов и тунисских лавочек. Прохожие в этот час были редки; клошар свернул на улицу Бон-Анфан, узкий проход между двух глухих стен. Преследователь, ни слова не упустивший из торгов бомжа с проституткой, приблизился, убедившись, что никто его не видит. Антонен спрятался за углом. Бродяга нашел укромное местечко, чтобы спокойно помастурбировать, будучи еще под впечатлением переговоров со жрицей любви. Спустив штаны, он изготовился к долгому объятию с самим собой, но тут бритый кинулся на него, ударил в живот и вырвал банкноту в двадцать евро, которую тот еще держал в руке, жалкую голубую бабочку со смятыми крыльями. Выплюнув ему в лицо «старый хрен», он пустился наутек и скрылся в лабиринте улочек. Антонен тут же пришел на помощь потерпевшему, который упал на колени, держась рукой за гениталии. Он колебался, то ли расплакаться, то ли возмутиться, но слезы не шли. Он слишком опустился, чтобы плакать как человек.
Антонен натянул на него штаны, которые тот подпоясывал веревками, и усадил на тротуар. Он выслушал рассказ о нападении, как будто не видел всё своими глазами; бродяга клялся, что бритый стащил у него пятьдесят евро. Антонен возместил их ему и даже не услышал в ответ «спасибо». Чуждый миру взаимопомощи, старик опасался подвоха. Антонен заверил его в своих добрых намерениях и, представившись Морисом Торезом, предложил проводить.
Контакт был налажен. Они пошли вместе. Аккуратно причесанный Антонен рядом с этим вонючим колоссом зажимал нос, чтобы не потерять сознание. Так они брели целый час, поддерживая беседу, состоявшую в основном из междометий и нечленораздельной воркотни. Марсель Первый — смеха ради он присвоил себе королевский титул — говорил на смеси парижского уличного жаргона, старого арго и говора предместий. Его звали Марсель Мюллер, был он из Фессенхайма в Эльзасе. Он уверял, что атомная электростанция «разъела ему мозги». Рассказывал, как опасен стал Париж для таких людей, как он, нападают то и дело, даже средь бела дня, а уж спать в метро, на станциях, в нишах туннелей и вовсе жутко, разбудят в три часа ночи, приставив нож к горлу, разденут-разуют отморозки, промышляющие под землей грабежом спящих. Злейший враг клошара — сам клошар. Марселю было всего сорок два года, выглядел он лет на десять старше; особенно зол он был на нелегалов — курдов, иракцев, афганцев, которые портили малину, отвлекая на себя все сочувствие «спонзоров».
Антонен проводил его домой, к каналу Сен-Мартен, где он жил в вонючей нише под будкой смотрителя шлюза, — матрас лежал прямо на полу, грязная холстина защищала от ветра и дождя. Рядом с примитивной газовой плиткой валялись вещи бродяги — бидоны, котелки, какое-то тряпье. Шлюз находился на пересечении канала и улицы Гранж-о-Бель: с одной стороны ровная гладь серой воды, такой плотной, что казалось, она не течет, с другой — тяжелая машинерия ржавого металла, зубчатые колеса, шкивы, рычаги, допотопная техника XIX века. А внизу этот недочеловек выставлял на обозрение прохожих свою грязь. Пахло нагаром, дизельным топливом, по черной воде проплывали иногда дохлая крыса или собака. Неподалеку был бьеф[10] Усопших — подходящее название. Антонен простился с новым другом крепким рукопожатием и пообещал наведываться. Он вернулся домой, пьяный от радости, как подросток, добившийся первого свидания. Добыча у него на крючке. Его отец гордился бы им: он всю жизнь боролся с паразитирующей буржуазией, а его сын отыграется на люмпен-пролетариате, ее сообщнике. Передача эстафеты от поколения к поколению, священная цепь!
Глава 8 Великий вечер
Каждый вечер после работы Антонен бегом бежал домой переодеться и шел проведать своего Отброса. Он появлялся всегда с наступлением темноты, чтобы никому не попасться на глаза. Клошар встречал его невозмутимо, ничуть не удивляясь, что «буржуа» вдруг заинтересовался его особой. Антонен снабжал его бутылками дешевого пойла, едой в вакуумной упаковке, консервами. Порой, устыдившись, он выбирал вино получше: бордо, кот-дю-рон — даже приговоренные к смерти имеют право промочить горло перед казнью, но бродяга плевался:
— Что за дерьмо? Отравить меня, что ли, хочешь?
А потом, с устрашающей улыбкой отпетого, рявкал:
— Что, поймал я тебя? Дерьмо-то дерьмо, но я пью все, что горит.
У Марселя было исполосованное шрамами лицо, к которому, казалось, была приклеена клочковатая борода в крошках и объедках. Все его последние меню можно было разглядеть в этом мочале. Марсель Первый, жестянщик по профессии, признался Антонену, что отсидел два года в кутузке — «такая вот незадача». Его обвинил отчим — он-де столкнул свою мать, калеку, с лестницы, это даже не было правдой, но старая сова не пережила падения. Лексикон его, когда он выпивал, состоял из четырех выражений на все случаи жизни: сволочь, сукин сын, гнойный пидор, прошмандовка. Разговор получался головокружительный, даже будь он способен на большее красноречие, это мало что изменило бы. В немудреном диалоге он в основном давил на жалость: жена смылась, не иначе под влиянием «этих сук-феминисток», потому что он лупил ее под горячую руку; дети, «засранцы», от него отреклись; с работы уволили за пьянство; все сволочи. С собутыльниками он готов был сцепиться по любому поводу. Марсель Первый был настоящим отморозком: он схлопотал второй тюремный срок во Флери-Мерожи за то, что сломал ногу старушке, сделавшей ему замечание. Он воплощал всё безобразие мира нищеты: был жалок перед сильными и безжалостен к слабым. Промышлял он гадкими делишками: например, опустошал церковные кружки в час, когда лишь несколько старушек молятся или дремлют на скамьях. Одним движением руки выгребал содержимое, поднимая невероятный скандал. Священники выпроваживали его, не применяя насилия. Он называл их вороньем и педофилами, одного даже ударил кулаком, но аббат не стал подавать жалобу: христианские заповеди призывают к непротивлению злу. Говорил он металлическим голосом, словно в глотку был встроен микрофон. Трезвым бывал редко, всего несколько часов в день, в основном по утрам, после чего погружался в полукоматозное состояние, невнятно бормотал, вращал глазами как полоумный. Раз в месяц речная полиция или служба спасения силой увозила его в Нантер, в реабилитационный центр. Там его держали несколько недель и, отмыв и подлечив, выпускали на волю. Все это время Марсель переживал за свой «дом», боясь, что какой-нибудь чужак займет его теплое местечко, готовый выпустить кишки каждому, кто посягнет на его собственность. Он был так громаден, что его побаивались.
Была у него «сердечная подруга», старуха-кошатница, жившая близ площади Пигаль, в нише на улице Фонтен. Он виделся с ней раз в неделю, не чаще, потому что добраться до Пигаль было для него все равно что пересечь Атлантику, целой одиссеей. Эту даму, с которой он любил побаловаться, он смеха ради называл Букет Прованса. Раздавая корм бродячим котам, она пропиталась в равной степени двумя запахами: тошнотворных консервов и кошачьей мочи. Даже ее подопечные морщились, обнюхивая ее. Этот душок, однако, не смущал Марселя, который повторял, гордый своей сентенцией:
— Когда любишь, не принюхиваешься…
В своей гнусной жизни Марсель был не чужд романтики и оживлялся, рассказывая байки о своей зазнобе. Букет Прованса сама ела кошачий корм прямо из банок и, поднося мясные кубики ко рту, говорила:
— Видишь, котик, вкусно, мамочке нравится…
Все ее сбережения, жалкая пенсия почтовой служащей, уходили на кошачью благотворительность.
Антонен решился и наметил вечер понедельника — спокойный день, когда люди выходят мало и улицы пустеют с восьми часов. Он пойдет к бродяге с двойным рационом бормотухи и под шумок сделает свое черное дело. Весь день у него бешено колотилось сердце, потели руки, горели щеки. В прошлую субботу он купил в хозяйственном магазине прочную веревку, какую используют яхтсмены, чтобы поднимать паруса и реи. Он отрезал полметра и сдавил себе горло до потери дыхания. В глазах темнело, он ослаблял давление, снова сжимал и наконец заходился неудержимым кашлем. В понедельник утром на работе он появился с красной полосой поверх адамова яблока, что встревожило коллег, а Ариэлю дало повод пройтись насчет «неуместного засоса».
Часов около трех пошел дождь вперемешку со снегом, частый, непрерывный, ледяной. В половине седьмого Антонен, прибравшись на рабочем столе, отправился домой. Как одеться? В молодежную униформу — джинсы, кроссовки, кожаную куртку, — коль скоро в тридцать лет он еще может сойти за юнца? Или остаться в рабочей одежде, но тогда есть риск, что его засекут? Он вспомнил, как его отец цитировал Луи Арагона: до войны поэт-коммунист ходил на демонстрации в смокинге, меньше шансов быть арестованным, когда все вокруг в спецовках и кожанках. Он хотел встретить революцию при параде. И Антонен выбрал костюм хорошего кроя. Надо быть особенно аккуратным, кончая с опустившимися созданиями, противопоставив щегольство их мерзости. Он надел ботинки на рифленой подошве, чтобы не поскользнуться на мокрой мостовой, и в одиннадцать выскользнул из дома, горя нетерпением, словно одержимый. Он доехал на метро до станции «Куронн», купил в арабской лавке два литра бормотухи, снова сел в метро, вышел на «Репюблик» и минут десять шел по пустым улицам. На фасадах домов одно за другим, точно закрывающиеся глаза, гасли окна. В память об отце и чтобы приободриться, он начал насвистывать «Интернационал», потом «Время вишен». Сколько раз он слышал этот гимн, завершавший большинство семейных трапез, по крайней мере, до падения Берлинской стены в 1989-м! После этого мать запретила исполнение, и отец напевал его, только когда она уходила.
Марсель лежал, закутавшись в грязную доху, похожий на выбравшегося на лед моржа, только без клыков, зато щеки в багровой сетке свисали так же. Антонен разбудил его, протянул бутылки. Марсель Первый заворчал, но обрадовался при виде вина в пластике. Пластик был в его глазах гарантией качества. Он выглядел еще безобразнее в слабом свете фонарей — щербатый рот, редкие волосы, нечесаная борода, зловонное дыхание шакала. Выпив залпом из горлышка почти пол-литра и заверив своего «кореша» в вечной дружбе, он раскрыл зонт со сломанными спицами и прошелся под ливнем, точно помещик, осматривающий свои земли. Потом снова уснул, впав в тяжелую кому. Морщинистые веки закрылись, он казался подгнившей тушей в ожидании удавки мясника. Антонен достал чехол со смотанной веревкой, приподнял бороду, отыскал шею под толстым слоем тряпья и газет, прикрывавших плечи. Кожа была дряблая и шершавая. Паразитов он, верно, давил как дышал. Ворочать его было легко, точно куклу. Антонену открылось упоение хирургов, работающих над неподвижными телами. Он перевернул бродягу на живот, чтобы легче было накинуть петлю и, главное, чтобы не видеть его мерзкой рожи. Завел веревку под подбородок. Интересно, услышит ли он, как хрустнут шейные позвонки? Удавку можно было затягивать, но руки у него затряслись, и он никак не мог унять дрожь. Судороги пробегали от локтей до пальцев. Он выпустил конец, поработал кулаками, похлопал ладонью о ладонь, разгоняя кровь. Пальцы перестали дрожать, и он снова взялся за удавку, полный решимости кончить поскорее.
И тут бродяга вдруг затрясся в судорогах, поднимавшихся от ног кверху. Он брыкался, затылок и плечи напряглись, пальцы скрючились. В уголках рта выступила слюна. Антонен узнал симптомы: у одной из его кузин несколько раз случались при нем такие припадки. Нет, нелюдь принадлежит ему, он не может так подвести его теперь. Антонен знал, что надо что-нибудь засунуть эпилептику в рот, чтобы тот не проглотил язык. Он должен был спасти его любой ценой, не дать безымянной силе отнять его добычу. Он хотел перевернуть Марселя, но тело, наполнившееся, казалось, невероятной энергией, оттолкнуло его. От мощного удара локтем он отлетел к стене и чуть не потерял сознание. Его жертва хрипела, корчилась, пускала слюни. Ему было не совладать с припадочным, только и удалось, что засунуть край грязного одеяла между зубов.
Все пропало!
Он поспешно собрал свои вещи, веревку, пластиковый чехол, оставшуюся бутылку вина и бежал в ночь. Найдя телефонную кабину, он набрал 18, номер пожарных, и сообщил измененным голосом, что с бомжом на набережной канала случилась беда. Он точно указал место и повесил трубку, не назвавшись. Он был растерян, все пошло не так, как планировалось. Он столько часов провел, готовя убийство, что мог уже его не совершать. Убийцей не станешь за здорово живешь, убивать — самое трудное дело на свете. Должны бы существовать университеты преступления, как автошколы для начинающих водителей.
Вымотанный, он присел в нескольких сотнях метров на скамью у канала, выглядевшего ночью особенно зловещим. Вода переливалась жирными бликами, точно в кухонной раковине. Черные фигуры лежали на земле вповалку в спальных мешках. Он мог бы столкнуть их в канал, но что-то его удержало. Машинально Антонен откупорил литровую бутылку вина и, превозмогая отвращение, принялся пить. Каждый второй глоток он сплевывал с глупым смехом. Полчаса спустя, захмелев, скатился со скамьи и упал у самой воды. Большая пузатая баржа в пятнах ржавчины стояла на якоре в нескольких метрах. Речная бригада подобрала его, пьяного, когда он уже почти свалился в воду. Один ботинок, плохо зашнурованный, плавал неподалеку. Его уложили на носилки и отнесли в пункт первой помощи у метро «Жорес». Личность установили сразу — этот идиот держал при себе документы; сделали тест на алкоголь — он оказался положительным, правда, не слишком высокого уровня. Воздержанный по натуре, Антонен слетал с катушек от первой же капли. Его хотели отправить в отделение скорой помощи больницы Сен-Луи, но он упросил пожарных этого не делать. Здоровенный бритоголовый парень спросил его, что он забыл у канала среди ночи. Это хоть не ПС — попытка самоубийства? Другая бригада уже оказала здесь помощь бомжу час назад, его удалось спасти благодаря анонимному звонку. Антонен путался в объяснениях, он ничего не помнил. Пошатываясь, вышел на улицу и вскочил в такси, но, когда захлопывал дверцу, сержант шепнул ему, обдав табачным духом:
— У меня такое чувство, что мы с тобой еще встретимся, парень!
Светало, наступил тот странный час, когда каждый предстает в своей подлинной сути. Антонен спросил себя, по какому праву этот тип заговорил с ним на «ты»: стало быть, человек в момент слабости становится собственностью своих спасителей. Он вернулся домой в шесть утра; таксист с гримасой отвращения буквально вытолкал его из машины: его грязный, порванный на коленях костюм годился теперь только на выброс. Зря он последовал совету Арагона. Он долго стоял под душем, потом заставил себя, преодолевая тошноту, выпить кофе. Но мерзость пристала к нему, как язва: от него пахло Марселем Первым, как он ни брызгался туалетной водой. Что за наваждение? Ему казалось, коллеги на работе отворачиваются и перешептываются за его спиной. Он готов был поклясться, что его тело воняет как у бомжа.
Глава 9 Ведьма из туннеля
У всякой страсти, даже самой темной, извилистый путь. Она идет на убыль и вспыхивает вновь с еще большей силой, когда ее уже считают угасшей. На долгие недели Антонен и думать забыл о своих пагубных замыслах. Сознавая, что спас того, кого хотел убить, он решил остановиться. Тоже мне, варвар-надомник, изверг фанерный. Взамен он принял целый ряд похвальных решений: он поднимется по служебной лестнице, женится на Монике — он не сомневался, что она, подумав, согласится. Он удвоил рвение на работе и в несколько дней рассеял опасения, вызванные его частыми отлучками. В качестве проверки Ариэль поручил ему группу богатых китайских предпринимателей, которые хотели приобрести несколько вилл в западном предместье, а возможно, даже усадьбу или небольшой замок. Он объездил с ними городки Рюэй-Мальмезон, Версаль, Ле-Везине, Сен-Жермен-ан-Ле, показывал им красивые особняки из тесаного камня, наслаждаясь их ритуалами и пытаясь прозреть суть за внешними формами их поведения. Они добрались до Валь-де-Луар и Турени, где осматривали поместья, крепости с башенками и бойницами. Эти места, донельзя старомодные, походили на парки аттракционов, и китайцы намеревались купить три-четыре объекта, чтобы воссоздать средневековье из папье-маше для своих соотечественников. В Шамборе они катались в паланкинах, которые несли их подчиненные, много смеялись и беззастенчиво сплевывали на землю. Возвращаясь из этих поездок, Антонен валился с ног. Ариэль частенько спрашивал его о личной жизни и вызывался поговорить с Моникой, чтобы помирить их. Он был непрочь подольше побыть с ней наедине, выступая адвокатом своего подчиненного.
Но Антонен не исцелился. Стоило ему встретить на улице опустившегося бродягу, как ярость вновь захлестывала его. Тогда, с толстяком на набережной канала Сен-Мартен, на него накатило сострадание. Этот человек во власти Злого Недуга тронул его. Это не должно было повториться. Через месяц после фиаско он возобновил свои блуждания по Парижу. Он выходил на охоту под покровом ночи, наведывался к бесплатным столовым и на видеокамеру с высоким разрешением снимал длинные очереди нищих, ожидавших кормежки. Точно хищник, подбирающийся к стаду, он высматривал самых слабых, истощенных, с трясущимися руками, тех, у кого едва хватало сил хлебать суп. Он давал им клички, анализировал их поведение, а вернувшись домой, устраивал кастинг ужаса, оставляя в списках лишь самых опустившихся. Ему часто вспоминалась фраза из американских детективных фильмов: It’s a dirty job but someone got to do it (Это грязная работа, но кто-то должен ее делать).
И на этот раз ему снова помог случай. Однажды под вечер в пятницу в бесплатной столовой Сент-Эсташ, в квартале Монторгей, в двух шагах от его дома, его внимание привлекла беззубая старуха. Маленькая, сгорбленная, с нечесаными волосами, она говорила пропитым хриплым голосом, словно наглоталась бритвенных лезвий. Ходила она в рваном свитере поверх грязной ночной сорочки, с голыми ногами — и это среди зимы, — в дырявых носках и сандалиях. Опустошив свой котелок, она садилась на ступени церкви и верещала, привлекая внимание, а когда к ней поворачивались головы прохожих, раздвинув ноги, извлекала окровавленную тряпку и вопила еще громче, ни к кому не обращаясь. Она выплевывала ругательства, размахивая своим омерзительным флагом. Что-то в Антонене возмутилось: он не любил невоспитанных женщин. Безобразнее этой твари и представить было нельзя: расплющенный нос торчал посреди сморщенного, с кулачок, лица. Губ не было вовсе, они провалились в рот, превратившийся в узкую щель. Не укладывалось в голове, что этот монстр — женщина. Антонен стоял перед ней как вкопанный, разинув рот.
— Чего смотришь, пидор гнойный, или не видал, что у бабы между ног, мудила?
Старуха поднялась, грозя ему кулаком, и Антонен сразу понял — это будет она. Она заплатит за свое бесстыдство. Сфотографировав ее, он проследил за ней до Форум-де-Аль. Там проходит под землей большая дорожная развязка длиной в несколько километров; туннель соединяет набережные Сены с кварталами правого берега, проходя под садами Форума и разветвляясь в громадный дорожный комплекс. Старуха вошла в него с улицы Тюбиго, где проделаны три отверстия в огромной бетонной плите, растрескавшемся бункере, увитом чахлой растительностью. Она шла, волоча ноги. Выбрав левый вход, с улицы Мондетур, по узкой полосе тротуара она углубилась во мрак, ругаясь вслед редким проезжавшим машинам, слепившим ее фарами. Через сотню метров открыла решетчатую дверь, предназначенную для обслуживающего персонала, в которой кто-то выломал замок, и спустилась вниз по лестнице. Антонен следовал за ней на расстоянии, морщась от зловония. Лестница выходила в коридор, едва освещенный потрескивающей неоновой лампой. Издалека доносился глухой гул, смесь уличного движения и голосов. Должно быть, где-то там было стойбище ее собратьев, к которым она и направлялась неверным шагом. Если бы хватило смелости, он задушил бы ее прямо здесь, воспользовавшись случаем, но веревки у него с собой не оказалось, а прикоснуться к ней голыми руками было противно.
Он колебался.
Перспектива утолить жажду смерти повергла его в панику. Это слишком просто, ему нужно время. Он не тронул ее и вернулся назад, хорошенько все запомнив, чтобы найти дорогу в следующий раз. Теперь он знал, куда она уходила каждый вечер. Он еще не раз видел ее на церковной паперти, отвратительную, злобную; он называл ее Карабос. Поев, она всегда требовала вторую порцию, пинала ногами стоявших за ней, выбивала у них из рук миски. Потом обходила террасы кафе, задирая клиентов, молодых, здоровых, оскорблявших ее своим счастьем. Приподняв юбку, заливалась гадким утробным смехом. Порой ее прогулки между столиками кончались плохо; не довольствуясь одной только бранью, старуха плевала в тарелки, распускала руки. Она раздавала женщинам оплеухи, смахивала со столов напитки, однажды даже раздавила стакан в ладонях и пыталась обрызгать сидевшую рядом брюнетку своей кровью. Никто не смел дать ей отпор. Какая-то священная аура окружала это чудовище, то была извращенная притягательность падали, ее тело являло собой ходячий архив разложения. Порой полиция забирала ее на неделю, но она возвращалась, все такая же, под защитой статуса полусумасшедшей.
Однажды дождливым вечером, повыв со ступенек лестницы на луну, Карабос отправилась, шатаясь, в сторону Нового моста. Она поскользнулась на металлической крышке водосточного люка и упала на дорожке сада, разбитого на месте бывшего Центрального рынка, именуемой теперь аллеей Андре Бретона. Старуха пыталась встать, тяжело опираясь на локоть.
Внезапно Париж опустел.
Они были одни на целом свете.
Она лежала на земле жалкой сломанной куклой, заплутав в лабиринтах своего безумия. Антонен снова ничего с собой не захватил, но он должен был нанести удар. Второй раз такого шанса может не представиться. Он мог бы отломать сук дерева и бить ее. Слишком заметно, слишком грубо. Ему претило пролить кровь, дать выход телесным жидкостям. Большой камень решил бы проблему, но камней в этом подобии сада не нашлось. Какой-то шорох отвлек его внимание: слева надвигалось полчище крыс, казалось, земля заколыхалась. Добрый десяток этих тварей пересекал аллею строем, слаженно, быстро. Промелькнув тенью, они скрылись с шелковистым шуршанием под крышкой водосточного люка. Карабос все еще лежала, протягивая к нему руки и бормоча что-то невнятное. Его прошиб пот, и, вдохнув кислый запах, он осознал свой страх, свое желание. Машинально он взял ее за руку, потянул, помогая встать. Когда она почти поднялась, он отпустил руку. Она упала, тощее тело стукнулось о брусчатку. Он опять потянул ее вверх, силой поставил на ноги и снова толкнул. Еще немного — и она разобьется, ее череп треснет, как яичная скорлупа. Он с наслаждением представлял себе эту картину. Старуха падала, а он бил ее ногой между грудей. Она визжала.
Карга, однако, оказалась хитрее, чем он думал. Поняв стратегию Антонена, она скорчилась на блестящей от дождя брусчатке и спрятала тощие руки между ног. Он еще раз попытался ее поднять. Но она вдруг выхватила из-под своих лохмотьев какой-то блестящий предмет и быстрым движением метнула ему в ногу. Он едва ощутил ожог, увидел опасную бритву, испугался. Умей он драться, выбил бы лезвие из ее руки и добил бы ее ногами. Карабос пришла в себя и уже надвигалась на него ползком, угрожающе сжимая бритву. Она хотела снова его порезать, злобно бормоча ругательства. Ему представилось ржавое лезвие — верный столбняк. Он отступил. Нельзя было недооценивать энергию отбросов общества, ведь их жизнь — борьба за выживание. Он помчался в отделение скорой помощи больницы Отель-Дье, чтобы продезинфицировать порез, сказал, что на него напали, подавать жалобу отказался и согласился на всякий случай на укол. Проклятая ведьма порезала его почти до кости. Еще немного — и он остался бы хромым. Назавтра, несмотря на повязку, он усердно занялся карате, которое на время забросил.
Унижение не давало ему покоя ни днем ни ночью. Когда нога зажила, он поклялся отомстить. У церкви Сент-Эсташ старухи не было, и он побежал к туннелю под Форумом. Оделся он соответственно случаю, спрятал под курткой короткую дубинку, прихватил фонарик и баллончик со слезоточивым газом. Но гордостью его были ботинки, в носки которых он забил обойные гвозди — их головки едва выступали из подошвы, а острия он загнул, чтобы не поранили ноги. В левый ботинок он спрятал маленький нож с выкидным лезвием в кожаном футляре. Одни только приготовления наполнили его злобной радостью; если бы не надо было иметь пристойный вид на работе, он обрился бы наголо, чтобы выглядеть агрессивнее. Говорят, не всяк монах, на ком клобук, но что касается насилия, это именно так. Всю дорогу он насвистывал «Молодую гвардию», песню большевиков, которой научил его отец, и весело думал, что тот был бы рад возрождению коммунистической идеи и конвульсиям финансового капитализма. Чем больше проходило времени, тем ближе он чувствовал себя к этому человеку, жившему в тени слишком сильной супруги. Он нырнул под землю на улице Тюрбиго, щуря глаза от фар встречных автомобилей и закрывая лицо, чтобы не быть узнанным. Повсюду валялись люди на картонках, дыша выхлопными газами. Он нашел решетчатую дверь, спустился по ступенькам и оказался в узком коридоре. Слышался глухой гул вентиляции, где-то капала вода. Струйки пара вырывались из плохо пригнанных стыков труб. Он находился, должно быть, за большим подземным паркингом: с одной стороны сотни машин, с другой — тайный мир с его призраками. В конце коридора оказалась еще одна лестница, уходившая под землю. Пол и стены были исписаны граффити, забрызганы грязью. На площадках валялись матрасы, чьи-то временные ложа, и пустые пивные бутылки, точно дань силам ночи. Вправо и влево уходили короткие галереи, заканчивающиеся запертыми дверями. Неужели он ошибся? Возможно ли, что старая ведьма проделала весь этот путь?
Антонен спустился еще на три или четыре этажа, пока лестница не кончилась; зарешеченные лампочки, дававшие свет, стали реже. Он включил фонарик и вскоре вышел на что-то вроде насыпи. Потянуло тяжелым духом, говорившим о скоплении людей, жара стала удушающей. Запахи ног, пота, никотина отчаянно соперничали друг с другом. Полоска света пробивалась из-под приоткрытой двери, откуда доносились голоса. С бьющимся сердцем он заглянул в щель и увидел что-то вроде дортуара — матрасы на полу, железные койки. Человек десять, все мужчины, пузатые и тощие, расхаживали по комнате, пили и курили. Кто-то готовил еду на газовых плитках. За этой комнатой угадывались другие, целая подземная сеть. Антонен приотворил дверь; большая очередь стояла к коренастому крепышу в майке, длинных трусах и босому, который раздавал матрасы и собирал деньги. Другой субъект, как две капли воды похожий на первого, сидел в шезлонге, скрестив ноги, и наблюдал за его действиями с длинной палкой в руке. Рядом с ним стояли два ящика пива, которое он продавал поштучно. Сходство этих двоих было поразительным: тот же рост, то же телосложение, те же поджатые губы, тот же нос в густой сетке красных прожилок. На продавленной ободранной софе сидели еще мужчины, некоторые в одних трусах, пили, курили, барабанили по картонкам. Успевшие выпить подсчитывали оставшуюся наличность. У иных Антонен заметил мобильные телефоны, у двух-трех даже ноутбуки. Из соседних комнат выходила еще публика, многие были болезненно худы. Висел густой дым, дышать было нечем. Антонен испытал удивление первопроходца перед неизвестным племенем. Стало быть, под поверхностью Парижа есть другой город, где Люди Тьмы отдыхают от своих горестей. Иерархия была проста: те, кто без гроша, спали на лестнице, остальные — на этом импровизированном постоялом дворе.
Он завороженно смотрел, вытаращив глаза, и вдруг оказался внутри: еще один бродяга с перекошенным лицом толкнул его сзади, беззлобно, но сильно. Мол, вставай в очередь, как все. Антонен пристроился в хвост, не зная, что спросит. Зрелище этого хаоса так его ошеломило, что он почти забыл об осторожности. Он пришел убить — а оказался в очереди, как в булочной. Когда он добрался до «портье», тот отвлекся от своего занятия и всмотрелся в него. Он не мог понять, кто перед ним: слишком чистый для маргинала, но одет не как цивильный горожанин. Может быть, легавый, но зачем он здесь?
— Что угодно, мсье?
Антонен замялся.
— Не понял? Стандартный номер или люкс? С душем или с ванной?
Вокруг заржали. Мужчина подмигнул остальным. Гордый своим остроумием, он взял Антонена за подбородок, сдавив ему горло своей лапищей, полунасмешливо, полуустрашающе. Беглым взглядом оценил его платежеспособность, которая явно была куда выше, чем у обычных клиентов.
— Да ты, старина, богач рядом с нами-то. Хочешь девочку?
— Какую девочку?
«Портье» достал из кармана большой школьный свисток и трижды коротко свистнул. Тут же откуда-то вышла молодая женщина, приземистая, белобрысая, остроносая, похожая на обоих парней.
Крепыш сорвал с Антонена шапочку:
— Перед дамами шляпу снимают, мсье.
— Марго, — приказал другой, — постель с обслуживанием.
Замарашка пожала плечами и вздохнула.
— Сделай это для мамочки, пожалуйста, ей надо на лечение.
Он ухватил ее за щеку и ущипнул так, что девушка вскрикнула от боли. Она покосилась на Антонена. Потом устремила на него взгляд, который, казалось, молил:
— Спасите меня из этой тюрьмы.
Что это за «мамочка», Антонен даже задуматься не смел — верно, дела семейные. Даже в самом низу социальной лестницы вместе выживать легче. Из люка, спрятанного под скатанным ковром, тем временем выбирались еще женщины изможденного диковатого вида. Они сбились в кучку, что-то ворча.
— Нет, не интересуюсь.
— Что, не глянулась тебе наша сестра, недостаточно хороша для тебя? Цена сходная, договоримся, хочешь?
— Я не ее ищу.
— А кого же?
— Женщину постарше, маленькую такую, она много кричит и ходит в бесплатную столовую Сент-Эсташ.
Голос его звучал фальшиво. Мужчина, лежавший в шезлонге, привстал.
— Чего тебе от нее надо?
— Я должен ей немного денег, — не задумываясь ответил Антонен.
— Вот как, хорошая новость. Очень кстати, это наша мать. Давай выкладывай, мы ей передадим.
Переварив эту информацию, Антонен понял, в какую западню угодил. Так это чудовище еще и дало потомство?
— А где она? Я хотел бы передать ей лично.
— Не доверяешь нам? А скажи-ка, откуда ты ее знаешь?
Антонен замялся, достал из кармана две банкноты по двадцать евро и протянул их мужчине.
— Это все?
— Ты хочешь сказать, — вмешался второй брат, — что перся в такую даль, только чтобы отдать долг? Редкость в наше время. Святой ты, что ли, парень? А почему в таком прикиде? Это, часом, не ты напал на нашу маму как-то ночью?
Ломая голову, как бы увильнуть от вопроса, Антонен вдруг почувствовал прикосновение шершавой кожи: иссохшая ледяная ладонь легла на его руку. А за этой ладонью показалась и вся Карабос, еще больше, чем прежде, похожая на скелет. Откуда она взялась? К нему обращался череп, из-под черт проступали кости. Он в ужасе отшатнулся — ему показалось, что перед ним реинкарнация старой австриячки.
— Чего тебе надо?
Голос был скрипучий, пронзительный, точно лязг разлаженного механизма. Она нервно хихикала, старая девчонка, прошедшая через все мыслимые мерзости, озиралась, ища внимания окружающих, а кротовый народец пялился на нее, посмеиваясь.
— Чего тебе надо, голубчик? Хочешь надеть колечко мне на пальчик?
Все заржали. А мумия продолжала ораторствовать:
— Надо тебе спросить разрешения у моих сыночков, слышишь? А пока, так и быть, можешь меня поцеловать.
Она потянулась к нему своим беззубым ртом. Подбородок ее трясся. Это ископаемое женского рода, эта хранительница парижских бездн жеманничала.
— Ну что, котик, поцелуешь?
Воспользовавшись тем, что Антонен отвлекся, один из близнецов наклонился и задрал ему штанины: врачи выбрили то место, где бритва разрезала кожу. Если парни увидят розовый шрам, ему конец. Угрожающее кольцо уже сомкнулось вокруг него.
Сознавая свое физическое превосходство — он был на голову выше всех, — Антонен двинул чересчур любопытного сына старухи подбитым гвоздями ботинком в подбородок и, вырвавшись из круга, кинулся к двери. Он успел увидеть, как несколько фигур медленно осели на пол, словно алкоголь тормозил падение. Нищая братия не преследовала его, они только взревели, точно потревоженная нечисть на шабаше, а потом расхохотались. Этот жуткий хохот несся за ним, пока он взбегал по лестнице. И в общем гвалте выделялся высокой нотой смех Карабос — тонкий, скрипучий, дьявольский смех. Все они издевались над ним, и град насмешек несся вслед, пока он поднимался.
Добежав до освещенной площадки, он встретил еще несколько клошаров, которые, пошатываясь, искали пристанища на ночь. Антонен достал из ботинка нож и продолжил восхождение к выходу. Выбравшись наконец на проезжую дорогу и увидев над собой табличку «Улица Лувр», он понял, что спасен. Подземелья ужаса отпустили его. Он перелез через заграждение, рухнул без сил у ступенек Биржи на вытоптанный газончик и заплакал слезами ярости, облегчения, разочарования. Почему этот сброд, вместо того чтобы проучить его, смеялся? Они даже не приняли его всерьез. Это омерзительное, что с виду, что в поступках, отребье хохотало над ним. Быть может, его приглашали таким образом разделить с ними их пойло и их вшей? И вместе, поднимаясь и падая, напиваясь и блюя, они опустятся на самое дно, в последний круг ада, в большую клоаку Парижа.
Часть третья Встреча с замечательной женщиной
Глава 10 Смена стратегии
У Антонена опустились руки. Он возомнил себя избранным Богом, чтобы очистить землю от скверны. Но Бог отнял у него мандат. Он забросил работу. Свирепствовал кризис, Ариэлю нужны были результаты. Он вбил себе в голову составить конкуренцию крупнейшим агентствам по элитной недвижимости, а еще хотел купить небольшие виноградники в Любероне, Лангедоке, Кагоре и удобрить почвы для лучшего урожая. Он нанял за бешеные деньги некую даму — медицинского консультанта по окружающей среде, в обязанности которой входило выявлять аллергенные субстанции в старых домах. Специалист по эфирным маслам, она также практиковала на досуге ароматерапию. Она прощупывала полы и стены, разбирала квартиры по досточкам в поисках загрязнений и следов асбеста. Нанял Ариэль также двух франтов, из благородных, с дворянскими фамилиями, очень представительных и принадлежавших к миру, до которого он хотел дотянуться. Наконец, он купил помещение, примыкавшее к агентству, хозяйка которого, старая еврейка родом с Украины, как раз умерла. Он оплатил ее похороны и произнес трогательную речь о роли диаспоры из Центральной Европы в швейной промышленности и ее значении для лица квартала Маре. Он даже хотел упомянуть о мерещившихся ему кипах и своей возможной принадлежности к народу Моисееву, но Антонен его отговорил. Никогда еще Ариэль так не тратился, в то время как продажи катастрофически падали. Он требовал многого от всех, не прощал ни малейшей промашки. Поведение Антонена огорчало его: он несколько раз на правах наперсника говорил по телефону с Моникой. Она хотела знать точно: кто заменил ее в сердце бывшего любовника? Ариэль пригласил ее на обед, чтобы успокоить, и теперь в каком-то смысле спрашивал у Антонена разрешения соблазнить его бывшую подругу. Если он так глуп, что упустил женщину столь же восхитительную, сколь и блестящую, так пусть хотя бы даст другому попользоваться. Антонен великодушно разрешил, намекая на свои бурные похождения, хотя его внешний вид отнюдь не свидетельствовал в пользу насыщенной личной жизни. Он приходил на работу небритым, всклокоченным, забывал сменить рубашку, начистить ботинки. Он, всегда за собой следивший, совсем себя запустил. Это больше не был донжуан в расцвете, скорее старый холостяк, не ищущий одобрения зеркала.
Он взял себя в руки, вспомнил, что путь его предначертан. Он все еще надеялся кому-то довериться. Но как открыть такую тайну, не рискуя прослыть преступником? Приходилось придерживаться излюбленной стратегии: скрытность, скрытность и еще раз скрытность. С недавних пор ему снова стали сниться родители, он хотел спросить у них совета, но они по обыкновению ссорились, и докричаться до них было невозможно. Они не обращали никакого внимания на сына, крутившегося рядом.
Он привел себя в порядок, с усердием взялся за работу и возобновил уроки боевых искусств. Провидение даст ему третий шанс, он был в этом уверен. Однажды апрельским вечером на улице Фобур-Сен-Дени он наткнулся на бригаду службы спасения, уговаривающую строптивого бомжа. Ласковый тон женщины-врача и чернокожего социального работника, их бесконечное терпение глубоко тронули Антонена. Бродяга, лежавший под грязным тряпьем, посылал их подальше, а они, сохраняя спокойствие, поили его горячим кофе, кормили супом, предлагали ночлег. Для Антонена это было озарением: он должен, как эти люди, работать в гуманитарной системе. Он позвонил в несколько организаций и записался на собеседования. Приняли его снисходительно, даже недоверчиво. Он репетировал перед зеркалом, отрабатывал мимику, заготовил речь, довольно близкую к истине: он возмущен количеством людей, выброшенных на улицу, и хочет помочь им в меру своих скромных сил. Гнев его был искренним и произвел впечатление. Но одна только бесплатная столовая Сент-Эсташ готова была принять его немедленно, на три вечера в неделю, благо он жил рядом. Работа не оплачивалась, только давала право на бесплатный ужин.
Ему выдали синюю нарукавную повязку и длинный передник, чтобы защитить одежду. «Клиенты» появлялись наплывами, первой приходила трезвая и вполне пристойная публика, много мужчин, несколько женщин, за ними прибывали другие, шатающиеся, увечные. Персонал состоял из самоотверженных молодых людей и девушек, желающих внести лепту в борьбу с нищетой в современном мире. Как стыдился Антонен рядом с ними своих дурных мыслей! Девушки улыбались ему, но быстро пасовали перед его холодностью. Он исподволь навел справки о Карабос. Старуха умерла в конце зимы: ее нашли раздетой, в одной задранной сорочке, на горке в детском садике неподалеку. Переохлаждение, вне всяких сомнений. Антонен пришел в отчаяние. Для очистки совести он сходил и к каналу Сен-Мартен, узнать, что сталось с Марселем Первым. Его место занял уже другой клошар, помоложе и поагрессивнее. Марсель Первый допился до ручки и однажды вечером утонул в канале. Антонен был раздосадован еще пуще: «кто-то» посягнул на его работу!
Ариэль обнаружил однажды, роясь в столе Антонена, — он шпионил за всеми своими сотрудниками, — официальную бумагу, удостоверявшую работу последнего в бесплатной столовой. Это его сильно разочаровало: он мечтал о незаурядной судьбе для своего протеже, а тот скатился до вульгарной благотворительности. Он отправился однажды вечером к церкви Сент-Эсташ, одевшись соответственно случаю, встал в очередь и, оказавшись лицом к лицу с Антоненом, — тот разливал половником густой суп, — презрительно бросил:
— Что, делаем доброе дело, помогаем убогим?
Антонену было досадно, что его разоблачили, но он ничего не отрицал. У него свои убеждения, и он волен делать, что ему вздумается, в свободное от работы время. Широким жестом он наполнил миску Ариэля до краев.
Однажды вечером, в пятницу, около половины десятого, когда кухня уже закрывалась и последние «клиенты» доедали суп, подкатил большой мотоцикл, с которого спрыгнула женщина, вся в черном, и направилась прямо к Антонену, на ходу снимая шлем. Она тряхнула головой, освобождая волосы, достала из кармана куртки фотографию и, даже не поздоровавшись, спросила, видел ли он этого человека. Это был скверный снимок мужчины лет сорока с лицом словно из папье-маше. Мотоциклистка говорила решительным тоном, видно, не привыкла, чтобы ей перечили. Смерив Антонена взглядом, она потребовала старшего и, не поблагодарив, укатила в ночь. Он навел справки — это была директриса небольшого приюта для бездомных под названием «Дом ангелов», расположенного в Пре-Сен-Жерве, на окраине Парижа. Эта женщина, носившая сногсшибательное имя Изольда Деода де Отлюс, была героиней французской гуманитарной среды, почти такой же известной, как аббат Пьер или Бернар Кушнер. Антонен, задетый ее надменностью, набрал имя в Гугле и нашел множество ссылок. «Аристократка», как ее называли, была настоящей пассионарией: она с ранней юности не раз бывала с благотворительными миссиями в Индии, в Бангладеш, но чаще всего в Африке, в зонах военных действий — в Сьерра-Леоне, Либерии, Конго, Руанде. Несколько лет она провела у Матери Терезы в Патне и в Калькутте, была ранена в левую руку в перестрелке во Фритауне и месяц числилась пропавшей без вести.
Антонен читал эти строки и диву давался: он искал информацию, а нашел целый роман. Эта женщина оказалась полной противоположностью всему, что он любил: бурная жизнь против жизни домашней. Изольда де Отлюс была родом из французской семьи, прославившейся при Старом Режиме наравне с Конде и Ларошфуко, затем в наполеоновских войнах и, что более спорно, принадлежностью к коллаборационизму во Вторую мировую. Ее двоюродный дед, Арно де Отлюс, руководил милицией Центрального региона, пока его не скосила автоматная очередь бойцов Сопротивления весной 1944 года. Его легендарная жестокость — каких только зверств ему не приписывали — снискала ему прозвище Людоед из Алье. Его младший брат Эрнест, напротив, ушел в партизаны, дважды предав свой класс — Сопротивление плюс компартия, — но погиб при взрыве гранаты, не дожив до Освобождения. Третий же брат, Жан-Кристоф, дед Изольды, до конца войны работал на правительство Виши в аграрном секторе. Он нанял Эмманюэля Берля, тонкого прозаика-еврея, автора знаменитой фразы «земля не лжет», писать речи для маршала Петена, но последовать за маршалом в Зигмаринген отказался и после Освобождения сдался властям. Явка с повинной и гибель родного брата в бою помогли ему избежать расстрела: он отделался пятью годами заключения. От своих идеалов он не отрекся и передал их детям. Его сын Гаэтан, отец Изольды, в 1961-м, в разгар Алжирской войны, вступил в Париже в ячейку ОАС[11] и взорвал несколько бомб, одну из них в доме Жан-Поля Сартра на бульваре Монпарнас, другую у Андре Мальро — при этом взрыве погибла маленькая девочка. Он также покушался на жизнь Франсуа Мориака, который выступил против пыток, применяемых армией к алжирским партизанам. За ним охотились тайные агенты Де Голля, и он, чудом не прошитый однажды вечером автоматной очередью на улице Жоржа Бизе, бежал в Аргентину, где женился на наследнице богатой немецкой семьи, сочувствующей нацизму, Шарлотте фон Вальдштайн, уроженке Оберстдорфа, что в Альгау. Изольда родилась в середине 1970-х от этого союза — крайне правого отца и матери, чьи братья и кузены служили в Абвере, Люфтваффе, а один даже в СС, и почти все погибли во время штурма Берлина советскими войсками.
Для Антонена эта история была зеркальным отражением истории его отца, внука одного из первых членов-основателей компартии Франции в Туре в 1921-м, который воевал в Испании, погиб в битве за Мадрид и был ярым сторонником Сталина. В шестнадцать лет Изольда, молившаяся на своего дядю Эрнеста, павшего за родину, порвала с семьей. Она исключила из обихода немецкий язык, на котором говорила так же свободно, как на французском и испанском, уехала во Францию учиться медицине и вступила в Революционную коммунистическую лигу, чтобы окончательно отмежеваться от своего проклятого рода. Через два года она бросила и учебу, и троцкизм и с головой ушла в гуманитарную помощь. С детства воспитанная в традициях католичества, она хотела помогать бедным, не дожидаясь гипотетической революции. Она покинула Францию и десять лет провела в Африке и в Азии.
Вернувшись — ей едва исполнилось двадцать восемь, — однажды июльским вечером на станции метро «Брошан» она наткнулась на группу молодых скинхедов, которые схватили спавшего на скамейке беженца-тамила и готовились бросить его на рельсы. Она вмешалась, и они столкнули ее вместе с бродягой с платформы вниз. По счастью, интервалы в этот час большие, и ей удалось выбраться вместе с раненым перед самым носом надвигающегося поезда. Вывихнутая рука, сломанные ребра, разбитая скула — и немеркнущая слава. В этой среде она стала Пассионарией бедных: ее непримиримость столь же раздражала, сколь и воодушевляла. Ксавье Эммануэлли, Жак Ширак, Николя Саркози публично приветствовали ее. Она основала «Дом ангелов», чтобы помогать самым обездоленным, и, будучи в фаворе у властей, особенно левых, с блеском выбивала субсидии.
Волею случая Антонен снова встретил ее две недели спустя, во время акции, организованной на набережной Жеммап группой «Дети Дон Кихота»: они требовали палаток для бездомных, чтобы те не погибли от холода. Префектура полиции была против, равно как и местные жители. На место стянули около сотни рот республиканской безопасности. Присутствовали СМИ, иностранные телеканалы. Демонстранты скандировали лозунги перед полицейскими, готовыми к атаке. Антонен повторял их вполголоса, прикидывая, как бы сбежать, когда начнется заваруха, и тут чья-то рука легла на его плечо. Он вздрогнул. На него с насмешкой смотрела Изольда де Отлюс:
— Что-то вид у вас не очень уверенный. Громче, мой мальчик, надо орать!
Она обошла его, пробившись сквозь толпу, выхватила у кого-то мегафон и обратилась разом и к полиции, и к манифестантам.
— Друзья мои, это, по-вашему, нормально, что сотни бездомных не могут ночевать в палатках зимой?
Дальнейшего Антонен не запомнил, но с первой же фразы его пробрала дрожь. Она дышала надменностью, но пыл ее речи невольно захватывал.
— Я их люблю, этих несчастных, а вы их презираете…
Аплодируя, он отбил ладони. Потом полиция атаковала, снесла палатки, побросав часть в воду. Изольду, в облегающем платье и туфлях на шпильках, забрали: она устроила из этого целое представление, и, когда ее заталкивали в фургон, он поймал себя на том, что громко свистит и улюлюкает, — чего с ним не случалось никогда в жизни.
Глава 11 Новое назначение
Настоящие героини в наши дни — это героини сердца. Секс слишком банален, искусство во многом субъективно. Альтруизм — карьера, открытая всем и не ограниченная никакими условностями. Изольда де Отлюс изобрела новый концепт: милосердие от кутюр на высоких каблуках. Мало кому удавалось в такой степени сочетать экстравагантность с благотворительностью. После митинга на набережной Жеммап ее препроводили в комиссариат X округа на улице Луи-Блан, где она провела ночь и затем была привлечена к суду за неповиновение силам охраны правопорядка и оскорбление действием полицейского при исполнении: она ударила шлемом одного сержанта. Наутро Антонен ждал ее у комиссариата вместе с другими активистами, чтобы устроить торжественную встречу. Она вышла сияющая, босиком — шпильки-стилетто не выдержали. На суде ее защищали лучшие адвокаты, и она была отпущена с миром во имя дорогого сердцу Франции принципа, сформулированного Де Голлем по поводу Жан-Поля Сартра: «Вольтера в Бастилию не посадишь». Да, что бы ни сделала эта женщина, в тюрьму она не сядет никогда.
Через несколько месяцев, возвращаясь под вечер из заброшенной промзоны в 94-м департаменте, которую Ариэль хотел превратить в экуменический центр, Антонен увидел у дверей агентства родстер «ямаха». Не успел он переступить порог, как его вызвали к патрону: перед ним, в кожаном плаще и остроносых сапожках, точно героиня вестерна, сидела Изольда де Отлюс, покуривая сигариллу. У Антонена защемило сердце. Ему стало стыдно, но она показалась ему смешной: этот прикид, лошадиное лицо, рассыпающиеся пряди волос, высокий голос. Ариэль придвинул ему стул и попросил выслушать, что «эта замечательная женщина» имела ему сказать:
— Мсье Дампьер, я наблюдаю за вами с нашей первой встречи, я навела о вас справки. Вы заслуживаете лучшего, чем агентство недвижимости, — извините меня, мсье Ван Хейфнис: раскручивать простаков на дорогие квартиры — это не ваш уровень. Ваш КПД позорно низок. Без долгих разговоров перейду к делу: бросьте эту работу и идите в мою ассоциацию. Хватит охмурять людей, займитесь вместе со мной спасением обездоленных. Я нанимаю вас на полную ставку. Оплата низкая, кормежка скверная, жилищные условия хуже некуда. Но, по крайней мере, вы будете приносить пользу людям. И вы будете со мной, — добавила она, широко улыбаясь. — Не беспокойтесь, с вашим патроном я обо всем договорилась, он согласен.
Ариэль пожирал глазами роскошную мотоциклистку:
— Антонен, я подозревал, что за вашей рассеянностью в последние недели кроется женщина… Я только не ожидал, что это окажется столь… яркая особа.
— Не думаю, что вашего сотрудника интересует пол, именуемый слабым, — оборвала его Изольда. — Его обуревают иные страсти.
— На вашем месте, — продолжал Ариэль, — я бы ни минуты не колебался. Мадам явно вскружила вам голову. Я бы свою давно потерял.
Наглость этого предложения ошеломила Антонена. Эта женщина, с которой он едва знаком, является без предупреждения, беззастенчиво его вербует, сулит кровь и пот и ни секунды не сомневается в его согласии. Она покупала его, как футбольный клуб игрока, только на меньшее жалованье. Он так давно пытался проникнуть в благотворительную среду — и вот среда сама пришла к нему. Он был так шокирован этим предложением, что согласился. В считаные минуты бросил все — карьеру, амбиции — ради женщины, которую едва знал. Ариэль великодушно пожаловал ему немаленькое выходное пособие и обещал взять назад, когда ему «надоест творить добро». Он, похоже, был рад избавиться от него, чтобы продвинуть новых сотрудников. Однако, познакомившись с Изольдой, он смотрел на своего подчиненного по-новому — уважительно.
— Я так и знал, что вы от меня что-то скрываете! Ну вы и стратег! Снимаю шляпу, ваша светлость.
Антонен не возражал, смущенный этим мужским восхвалением.
Спустя неделю, доработав несколько досье, он приехал в «Дом ангелов», расположенный на шоссе Депортасьон в Пре-Сен-Жерве, в 93-м департаменте. Это был небольшой приют для обездоленных, работавший на государственных и частных дотациях. Существенным новшеством, введенным мадам де Отлюс, было самоуправление. Все обитатели приюта участвовали, каждый по мере сил, в собственной реабилитации. Самые серьезные направлялись потом в агентства по трудоустройству. «Дом ангелов» представлял собой сооружение из тесаного камня в два с половиной этажа, затерянное среди строительных площадок, кишевших экскаваторами и бульдозерами. Его окружали засыпанный гравием двор и чахлый садик, где был натянут большой тент и стояли сборные домики. Прежде, когда здесь работал кирпичный завод, это была вилла хозяина. Один из фасадов украшали психоделические узоры — творчество местных художников.
Изольда встретила его в спортивном костюме, осунувшаяся, бледная. То была уже не давешняя горделивая амазонка, но сорокалетняя женщина, выглядевшая на свой возраст. Была в ней эта мерцающая красота зрелости, которая то гаснет, то сияет вновь. Она бывала и блеклой, и лучезарной. Очень высокая, выше метра восьмидесяти, одним своим появлением она заставляла притихнуть. Она представила Антонену команду: Камель, гигант в спецовке с кольцом в ухе, отвечал за порядок, Алиса, сварливая старуха, заведовала столовой: был еще Бастьен, юный студент с лицом Христа, белокурыми волосами и длинной бородой, который постоянно проповедовал, и Бетти, толстушка с пирсингом в губе, явно влюбленная в Изольду. Доктор Лежен, терапевт из больницы Ларибуазьер, приходил трижды в неделю с ассистенткой и психологом. Антонена Изольда назначила своим личным помощником — иначе говоря, мальчиком на побегушках. Ему полагалось быть в ее распоряжении двадцать четыре часа в сутки. Она отвела ему комнатку на чердаке на случай «перегрева». Для начала они два часа выгружали из грузовика доставленное оборудование и переносили его в подвал. Изольда работала молча, не жалуясь, тяжести таскала под стать грузчику с Центрального рынка.
Антонен не мог поверить, что оказался в эпицентре циклона. На такую удачу он и не надеялся, это компенсировало даже потерю в зарплате (1200 евро в месяц чистыми) и, стало быть, необходимость в скором времени сменить квартиру. Он был воином, а воин должен идти на жертвы. За этот год он приобрел одно ценное качество: терпение. Он выждет и нанесет удар со знанием дела. Оставалось умаслить хозяйку. Изольда была не из доверчивых ветрениц и не из чопорных идеалисток, какими изобилует эта среда. Изольда была личностью по определению. Малейший жест — даже выпить чашку кофе — она возводила на уровень совершенства. Стоило ей открыть рот, как любой собеседник был захвачен ее пылом. Все в ней било через край: не последовать за ней значило устыдиться, остыв до комнатной температуры. Она сметала препятствия, отмахивалась от возражений, и он думал: какую чудесную команду мы могли бы составить, если бы только она согласилась разделить мои взгляды. Но она была от них далека. Все равно что он предложил бы пойти на ограбление шефу полиции! Что ж, он поработает под началом этой бой-бабы с раздутым эго несколько месяцев, пока не обкатает свою стратегию. Потом можно сделать ручкой и вернуться в недвижимость, представлявшую собой лучшее из возможных прикрытий. На первый взгляд работа была проста. Надо было регистрировать вновь прибывших, по большей части мужчин — женщинам была отведена небольшая комнатка, — предоставлять каждому кровать, следить за гардеробом, за работой прачечной, раздавать талоны на еду. У большинства постояльцев не водилось ни документов, ни даже фамилий — только клички и прозвища. Все они здесь были у него под рукой — недоумки, городские сумасшедшие с согбенными плечами, «кроненбургскими пузами» (так на языке этой среды называется пивной животик), ковыляющей походкой. Открывая дверь, все заводили одну и ту же песню:
— Влип я, опять взялся за старое.
Для каждого самым большим успехом в жизни было завязать. Антонен усиленно изображал интерес. Ему рекомендовали держаться «благожелательного нейтралитета», не слишком дистанцироваться, но и не выказывать чрезмерного сочувствия. Он только делал вид, будто сопереживает, а сам украдкой зевал. В этом проблема несчастья: оно не только ужасно — оно скучно. Стоило вновь прибывшему открыть рот, Антонен, глядя на него с широкой улыбкой, думал про себя: «МОЖЕШЬ СДОХНУТЬ, МНЕ НАСРАТЬ».
Из персонала он отдавал предпочтение охраннику Камелю, бывшему вышибале родом из Туниса, который, как никто, умел разруливать конфликты, утихомиривал буйных, успокаивал страдающих дромоманией, которые не могли усидеть на месте и все время, даже ночью, ходили. Антонен спрашивал себя, кто из них, Камель или он, победил бы в честном поединке. Жаловал он также буфетчицу, которой имя Алиса шло, как бриллиант букету чертополоха: она держала постояльцев в ежовых рукавицах и даже стучала на них хозяйке, которую звала «мадам Гордячка». Но сердце у нее при этом было золотое, и она готова была сама не поесть, если на всех не хватало. А вот другие сотрудники ему не нравились: они обращались с постояльцами как с важными господами, но за их угодливостью сквозила плохо одерживаемая ярость. Особенно он невзлюбил Бастьена, христообразного сухаря, теоретизировавшего по поводу любого своего действия, даже если он прочищал раковину. По вечерам на собраниях по мотивации Бастьен твердил:
— Этих людей я не сужу, я говорю им: респект. Если они приходит к нам, я их принимаю, если не хотят, силком тащить не стану. По какому праву я бы их судил?
Все соглашались, только Антонену хотелось заткнуть ему глотку и размозжить череп молотком. Вместо этого он улыбался и кивал. Однажды, когда он употребил в разговоре слово «клошар», Изольда одернула его:
— Антонен, так больше не говорят, «клошар» — нехорошее слово. Надо говорить бомж — без определенного места жительства. Первый термин уничижителен, он не оставляет людям надежды выкарабкаться, второй описателен и даже оптимистичен, потому что от «без» можно перейти к «с».
Антонен сконфузился от этого урока семантики, хоть и уловил в тоне Изольды некую нравоучительную иронию. Зато от нее же он узнал новое слово: «асфальтизация» — состояние самых безнадежных, что уже не в силах подняться с тротуара. На работе он вел двойную бухгалтерию. Его интересовали только необратимые случаи. Он научился отличать подпорченных от пропащих. Когда ему попадался совсем отпетый, он ставил против его имени две звездочки и переписывал в блокнот все его данные. Надо было остерегаться «выплатных попоек» — дней, когда бомжи получали свои социальные пособия и напивались вусмерть, засыпая в конце концов в собственной блевотине. В дни особенно большого наплыва в приюте стоял запах мочи и грязных ног такой густоты, что парфюмер мог бы дистиллировать его по капле. Никто не возмущался — все вели себя так, будто прогуливались среди роз. Это был непрерывно гудящий улей живых мертвецов. Они были либо пьяны, либо с похмелья. В прошлом году голуби склевали ноги одного парня, уснувшего пьяным сном на пустыре: когда он проснулся, у него не было подошв, точно подметки оторвали у ботинок.
Своеобразным талисманом приюта был один кроткий старичок, которого все звали Гвоздиком. «Кореши» когда-то по пьяному делу вбили ему шутки ради гвоздь в макушку. По счастью, острие не повредило никакие жизненные центры, только слегка задело мозжечок, что сказалось на речи, и бедняга с тех пор заикался. Этот чудесно спасенный водил в «Доме ангелов» дружбу со всеми, оказывал мелкие услуги и позволял трогать свою голову — на счастье. Устав «Дома ангелов» гласил: поддерживать со всеми доверительные отношения, уважать их достоинство, облегчать их страдания. Антонену, с его убийственными поползновениями, это удавалось в полной мере. Порой, под хорошее настроение, он встречал постояльцев словами: «Добро пожаловать в „Ритц“, дамы-господа». Шутка действовала. Он им нравился, с его хмурым видом, черным юмором, нервными жестами. Он, по крайней мере, не изображал симпатии, оказывал услуги, и только. Жизнь у этих господ и дам была не сахар: раннее сиротство, побои либо насилие в детстве, безработица, разводы — кругом невезение, все они были одним миром мазаны. Всегда один и тот же душераздирающий рассказ об одних и тех же тяготах. Не имея возможности истребить их из огнемета, он вызывался добровольцем на работу в прачечную, отстирывал их тряпье при температуре 180° с нескрываемым наслаждением. Мысль о паразитах, агонизирующих в этих гигантских машинах под действием энзимов, наполняла его счастьем. Он отмывал помещения с таким усердием, что все только диву давались. Изольда с извращенным удовольствием разводила всюду грязь, провоцируя его. Он не жаловался, мыл и мыл. Многочисленные стажеры ломались через несколько недель, а он держался на бездонной глубине своей ненависти.
Только однажды, один-единственный раз он дал слабину — треснул защитный панцирь. Весь этот день он имел дело с особенно омерзительными существами, в том числе с молодой токсикоманкой, осыпавшей его бранью и угрозами. Вечером, сидя в темной кухне, он дал волю слезам. Хозяйка, проходившая мимо, увидела его и крепко обняла. Уткнувшись лицом в ее левую грудь, огромную и упругую, он выплакался всласть без всякого стыда. От нее хорошо пахло, «Ветивером» для мужчин от «Герлен», она куда-то собиралась. Под черным плащом на ней было вечернее платье, высокие ботинки — видно, намечался благотворительный вечер. Ее длинные волосы падали на плечи шелковым водопадом. Антонен так боялся разочаровать эту восхитительную женщину. Он выдохнул ей в ухо между рыданиями:
— Я не смогу!
— Нет, сможешь! Теперь уже слишком поздно отступать. Мы с тобой заключили пакт.
К стыду своему, он почувствовал, как твердеет между ног, и поспешно высвободился из ее объятий.
Глава 12 Богоматерь скорбящих
Антонен робел перед мадам де Отлюс. Эта женщина сама по себе была событием. Ее присутствие изменяло вибрацию атмосферы. Бившая в ней ключом энергия ошеломляла его. Он видел, как она мыла стертые ноги бродяг, как с бесконечным терпением отмывала дочиста под струями воды бедолагу, подобранного у железной дороги, терла его губкой, руками снимала корки засохшего дерьма и гноя, не выказывая ни малейшей брезгливости, с каким-то даже озаренным видом. Две недели спустя она возвращала того к цивильной жизни, чистого, выбритого, с зажившими язвами. Стычки, брань, запахи ее не смущали. Она снисходительно взирала на ссорящихся чад, точно мать, защищающая свой выводок. Само понятие отвращения было ей неведомо. Она чистила туалеты так же лихо, как и накрывала на стол. Контраст между ее грацией и этой грубой работой был разителен. Надо было видеть, как она входила в мужскую душевую и спрашивала зычным голосом:
— Ну что, ребятки, отмылись-ополоснулись хорошенько?
Она говорила Антонену «ты», в то время как он обращался к ней на «вы».
— Ты знаешь, почему я назвала это приют «Дом ангелов»? Потому что я вижу, как сквозь раздутые хари этих бедолаг проступают лики ангелов. «Не презирайте рубище нищих, — говорил Иоанн Златоуст. — Те, чей вид нам противен, — тоже чада Божьи, вылепленные из той же глины, что и мы». Я люблю их, этих пропащих, я принимаю их такими, какие они есть, и пытаюсь сделать их жизнь лучше.
Она высказывала эти простые истины с воодушевлением. Изольда де Отлюс была жадна до несчастья, как другие до золота: она не так любила нищих, как саму нищету. Ее алчная доброта повсюду искала гибнущих, чтобы их спасать. Она то и дело цитировала Мать Терезу:
— «Радостны бедные, бедные — наши господа».
Эта Мадонна Заблудших довела до совершенства культуру экстатической улыбки, которой она научилась у сестер-монахинь, чтобы нейтрализовать враждебность, — улыбка как оружие устрашения. Чем больше Изольда, молитвенно сложив руки, устремив глаза в синеву, повторяла свои лозунги — слушать, любить, доверять, — тем крепче сжимал Антонен кулаки, думая о побоях. Она говорила с проникновенным видом фанатиков, не отягощенных ни малейшими сомнениями. А ему хотелось крикнуть: заткнешься ты наконец? Не прошло и месяца, как возникли первые конфликты: Антонен, хоть и провозглашал себя другом рода человеческого, с трудом владел собой. Он сделал замечание юному маргиналу, в третий раз потерявшему документы, и проходившая мимо Изольда, услышав повышенный тон, одернула его:
— Спокойнее, пожалуйста. Не тебе судить его или отчитывать. Твое дело ему помочь. Надеюсь, я ясно выразилась.
Он соглашался, не желая вступать в пререкания. Но позже снова встревал с инициативой, предлагая, например, устроить облаву на нищих. Эти дамы-господа мало того, что отравляют воздух, так еще и отказываются от помощи, предпочитая жить в грязи, а не в приюте. Изольда протестовала:
— Наши «гости» (она употребляла именно это церемонное слово) ничего нам не должны, мы не налагаем на них никаких обязательств.
Антонен не отступал:
— Объясните мне, что заставляет здорового человека сесть однажды на тротуар с протянутой рукой?
— Те, кто дошел до края, больше ничего не могут.
— Даже двадцатилетний юнец, который, вместо того чтобы поднять зад, побирается на вино и сигареты?
— Бывает и такое, но это исключение.
— Так вы не находите, что это просто-напросто рэкет, применяемый к честным людям?
Не в силах формулировать свои доводы спокойно, Антонен заводился. Она урезонивала его:
— Антонен, ты уверен, что избрал верный путь? Я понимаю, что тебе бывает нелегко, но если эта работа так тебе невыносима, возвращайся к своим квартирам для богачей.
Да, с ней надо было делать однозначный выбор.
— Достаточно ли ты любишь этих несчастных, Антонен? Ведь речь идет именно о любви.
Вечно этот шантаж высокими чувствами! Он гнул свое.
— Вы твердите о реадаптации, это ваша мантра. А вы знаете, что никто из этих несчастных не возвращается к нормальной жизни, — если такие и есть, процент до смешного мал. По мнению специалистов, лишь пять процентов бомжей имеют шанс выкарабкаться. И рецидивы неизбежны.
— Неправда, наши успехи не так уж ничтожны. Этим людям, обиженным жизнью, нужен свет надежды. Это усиливает их сопротивляемость и опровергает самые мрачные прогнозы. Повторяю, если тебе не по силам тягаться с бездной, скажи мне это сразу.
Она испытывала его, загоняла, как зверя, толкая к неверному шагу.
— Люди ненавидят нищих, потому что боятся однажды увязнуть в той же трясине. Подавая монетку, они заклинают злую судьбу, ты так не думаешь?
Он глотал вертевшиеся на языке ответы, боясь выдать себя. Лучше всего молчать. А она продолжала:
— Все эти бродяги в наших городах несут плохую весть: бедность возвращается и грозит каждому из нас. Они подрывают наше уважение к человеку, нашу слепую веру в прогресс.
Он кивал, склоняясь перед этим монументом мудрости.
— Ты знаешь, сколько надо времени, чтобы стать клошаром? (Только никому не говори, что я сказала это слово.) Считаные дни. Перестаешь мыться, бриться, менять белье — и опускаешься. Если никто не протянет тебе руку, с тобой покончено. Это точка невозврата. Знаешь, какие бывают старики? Они хранят все, вплоть до куриных костей, превращают свое жилище в свалку, куют себе броню из отбросов. Быть бедным — это уже быть меньше, чем гражданином. Но стать клошаром — это стать меньше, чем человеком, это живой крах.
Он восхищался этой гранд-дамой, посвятившей жизнь обездоленным. Когда большинство буржуа устремлялись на лазурные пляжи, бороздили моря на яхтах, она пропадала в трущобах, якшалась с голытьбой. Она предала свой класс, чтобы служить униженным, свою семью — чтобы перейти к левым, предала и левых, навязав им свою фамилию, от которой веяло старым добрым Вагнером с легким налетом неонацизма. Она и завораживала, и раздражала все стороны. На дне ей было так же вольготно, как под золотыми сводами дворцов. Было в ней это изящество аристократов, для которых каждый, будь то принц или слуга, — свой. Она знала лишь себе подобных. Она позволила себе роскошь отказаться от ордена Почетного легиона, которым социалистическое правительство хотело наградить святую покровительницу обиженных. Этот отказ только увеличил ее популярность.
У большинства людей случаются приступы филантропии. У нее это было перманентное состояние. Ее милосердие было превыше всех невзгод, неумолимо простирала она его на свою паству. Горе тому, кто смел ей перечить. Не согласиться с ней значило оскорбить всех проклятых мира сего. Она могла быть и жестокой: публичное унижение входило в ее излюбленный сценарий. Негодование свое она копила и выплескивала его разом по вдохновению. Вспышки ее гнева вошли в легенду. Она, например, гордилась тем, что отчихвостила певца Боно в беседе с Кристианой Аманпур на канале CNN. Лидер группы U2, разглагольствуя о голоде в мире, некстати спутал Монровию и Фритаун, Либерию и Сьерра-Леоне. Она не спустила ему этого ляпсуса, напомнив, что балагану шоу-бизнеса далеко до реальной жизни. Ангажированный солист не простил ей этого афронта. В «Доме ангелов» Изольда установила железную дисциплину. Сложности были дороже всего ее сердцу: в насыщенной гневом атмосфере она находила какое-то эпическое величие. Эта обезумевшая Юнона могла ругаться, как ломовой извозчик. Шея ее багровела — вот-вот ударит. Однажды она случайно выронила из сумочки американский кастет, украшенный черепами. Она конфисковала его у молодого курда и тут же выбросила в помойку. У Камеля был целый ящик, полный бритвенных лезвий, ножей, дубинок, нунчаков, конфискованных у «гостей». Не жаловала Изольда и неправительственные организации и особенно артистов левого толка.
— Все эти активисты из ассоциаций подобны дамам-патронессам девятнадцатого века: у них есть свои цыгане, свои нелегалы, свои иммигранты, свои женщины, подвергающиеся насилию, и они носятся с ними как с писаной торбой. Не говоря уж об актерах, которые используют угнетенных для личного пиара. Они позируют в Сахеле или в Бангладеш с рахитичными негритятами, с голодной детворой. А попозируй-ка с нашим парижским клошаром, который к тому же еще и воняет, — это не так гламурно и не окупается.
Антонен продолжал собирать сведения о ней на разных сайтах. Были в ее биографии теневые зоны. Она стала объектом яростной полемики, затеянной знаменитым английским эссеистом Кристофером Хитченсом, автором критического труда о Матери Терезе (The Missionary Position, Лондон, 1995), со страниц которого он обвинял святую в неоказании помощи людям в опасности, в так называемой вербовке душ, в болезненной одержимости абортами и контрацепцией. Хитченс, взявший интервью у Изольды в Калькутте, — ей было тогда восемнадцать лет, — описал ее как «самую сексуальную, но и самую фанатичную монашку» из всех, встреченных в этом узком кругу: она-де беспрекословно повиновалась приказам основательницы, отказывая в обезболивающих умирающим и в операциях больным, если на то не было воли «самой». «Она бросалась на лежащие тела, — писал Хитченс, — так, будто они принадлежали ей испокон веку, и обещала им рай сегодня же. Надо было видеть, как это восхитительное создание оспаривало живые скелеты у других спасателей, индусов, мусульман, протестантов, отвоевывало их, как долю рынка в бизнесе милосердия, складывая вповалку на тележки или подручные носилки, — поразительное зрелище. Она не спасала — она выбирала свою квоту несчастных».
Изольда хотела тогда подать в суд, но Мать Тереза ее отговорила. Когда журналисты спрашивали ее об этом эпизоде, она ссылалась на свою молодость и безграничное восхищение албанской монахиней, тем временем канонизированной Ватиканом.
Но ей прощали всё — ее любили. Каждое утро, в дождь ли, в ветер, она выходила на пробежку в соседний парк Анри Барбюса, длинной шпилькой сколов собранные в пучок волосы. Шпилька представляла собой кусок рога, заточенный, как кинжал: было чем отпугнуть агрессивно настроенных подонков, часто встречавшихся в этих местах. Своими скульптурными формами она притягивала всевозможную шпану. Каждую неделю она на личные деньги покупала букеты роз и расставляла их по всему дому. По воскресеньям дарила лилии или тюльпаны всем своим «товарищам» — некоторые из них настолько не привыкли к подобным знакам внимания, что отказывались, подозревая насмешку. Были и такие, что топтали цветы. Изольда ничего не говорила, подбирала смятые стебли с терпением, внушавшим страх. И так до тех пор, пока, в следующее воскресенье, подарок не принимали.
— Даже парии имеют право на красоту, особенно парии.
Получив в свое время соответствующую квалификацию, она сама делала желающим маникюр и педикюр, обрабатывала изъеденные грибком гноящиеся пальцы, вырезала вросшие ногти. Она также делала женщинам массаж, помогала им краситься, чтобы «вновь обрести самоуважение». По субботам был «парикмахерский день», самых заросших бродяг усаживали в ряд на стулья и подстригали им космы, а Изольда, вооружившись лупой и пинцетом, сосредоточенно обирала вшей. Она лелеяла своих обездоленных, как садовник цветы. Возвращение к жизни тех, кто получал работу, был поводом для маленькой церемонии и дежурной речи:
— О ты, чудом вставший на ноги, никогда не забывай, из какой бездны тебе посчастливилось выбраться. И будь готов помочь тем, кому повезло меньше, чем тебе.
Благосклонная правительница своего маленького королевства, она билась с административным трибуналом департамента Сена-Сен-Дени за право хоронить своих постояльцев в саду. Их последний вздох тоже должен был принадлежать ей.
— Это мои дети, я хочу, чтобы они оставались со мной, каждого из них я люблю как сына.
Имела она и свой двор — в конце недели, после работы, у нее собирались молоденькие студентки из Венсенна и Вильтанеза, хорошенькие негритянки и магрибинки, боготворившие ее. Она звала этих поклонниц «смуглыми Растиньяками» за амбиции, заставлявшие их работать не покладая рук, чтобы вырваться из своей среды, из пут архаичных семей и обскурантистской религии. Ее тщательно обставленная комната напоминала кукольный дом в пастельно-розовых тонах, на грани слащавости. На полках стояли фарфоровые статуэтки, гипсовые ангелочки. Шкафы ломились от платьев от-кутюр, пальто, кожаных курток, дорогого белья. Вечера с обильными возлияниями заканчивались поздно. Особо избранные имели право остаться на ночь — для них ставили в коридорах раскладные койки, — и все они соперничали за благосклонность Героини, к вящему огорчению Бетти по прозвищу Колобок, которой Изольда откровенно пренебрегала. Иногда ее заходили навестить бывшие соратницы по Индии, такие же гранд-дамы, как она, с длиннющими фамилиями, которые пришепетывали, поджимая губы, и с волнением рассказывали о своих маленьких сиротках из Бенгалии, о своих дорогих прокаженных из Ориссы. А раз в полгода она устраивала в «Доме ангелов» благотворительные обеды, куда приглашались дамы в шляпках и каменьях, артисты левого толка, миллионеры-гуманисты, готовые платить 1000 евро за мисочку зеленого горошка, панированный эскалоп и крем-брюле с кислой виноградиной. Они были так счастливы пообщаться с Дивой и увидеть живьем ее вшивую братию, что порой удваивали ставку. Два часа шоссе Депортасьон было запружено шикарными лимузинами с личными шоферами. Сойдясь ненадолго, два мира вновь расставались, богатство возвращалось в свои особняки, нищета оставалась на дне.
Вечерами, когда бездомные спали — помещения позволяли разместить максимум два десятка, — Антонен с Изольдой отправлялись в старом грузовичке «на промысел», подбирать бродяг, дрожавших от холода по канавам. Они всегда привозили одного-двух и, накормив, укладывали в теплую постель. Потом они сидели вдвоем в ее кабинете на втором этаже и беседовали. Полки были заставлены классиками марксизма и «третьего мира», Энгельс соседствовал с Лумумбой и Францем Фаноном, на стульях громоздились кипы «Монд дипломатик». Вся эта литература была знакома Антонену — он видел ее у отца. Мало-помалу эти вечера вдвоем с ней стали традицией, и когда ее не было, он грустил. Он окончательно поселился в отведенной ему каморке и дома почти не бывал. Иной раз в полночь, вдруг проголодавшись, они покидали Пре-Сен-Жерве и отправлялись в Париж. Она надевала джинсы, кожаную куртку и на своей машине, красивом черно-сером «мини» — этот автомобиль, да еще мотоцикл были единственной откровенной роскошью, которую она себе позволяла, — везла его в маленькие оживленные кабачки в XVIII округе, где у нее была квартирка-студия. Иногда, нахлобучив синий берет à la Че Гевара, она устраивала так называемые вечеринки «Текила-бум-бум». Пила она изрядно — коньяк, водку, мохито, кайпиринью. Под хмельком заказывала огромные стейки с перцем. Глядя на ее хищные зубы и окровавленный рот, Антонен только диву давался. Никогда он не видел, чтобы женщина так обжиралась и не толстела. Хорошенько выпив, она расслаблялась, травила глуповатые байки, пускалась в откровенности, которые делали ее человечнее и не вязались с ролью суровой жрицы, которую она обычно играла. Бывало, она перечисляла наизусть все крайне правые организации Европы и Латинской Америки — то была память о семье, так как ее отец всех принимал у них дома в Буэнос-Айресе. Самые радикальные группировки, полный европейский перечень — негационисты, антисемиты, красно-коричневые завораживали ее. Особенно ей нравились «Мотардз Гой»[12] из Венгрии, по крайней мере, за их абсурдное название. Энергии в ней было хоть отбавляй, спала она мало, целыми днями была на ногах. Еле живого от усталости Антонена засыпала вопросами, хотела все о нем знать.
— Расскажи мне о себе, ты такой милый мальчик, только что-то слишком тихий. Где твоя темная сторона, как у тебя с личной жизнью, ты же красавчик, наверно, имеешь успех?
Он уходил от ответов, замыкался. Порой его так и подмывало открыться ей в том, что произошло тогда в Австрии, обнажить пагубную часть своего нутра. Но он вовремя одумался. Она была святой с приветом, он — служивым, повязанным по рукам и ногам: он помогал обездоленным днем и мечтал истреблять их ночью. Их пути сошлись, но не пересеклись. Их отношения должны были оставаться чисто рабочими. Однажды вечером она поведала ему, как в детстве, переживая, что у нее не растет грудь, раздевалась в полнолуние и молила ночное светило даровать ей хотя бы два бугорка, когда ее подруги уже щеголяли изрядными полушариями.
— Видишь, Антонен, сработало (она показала на свою внушительную оснастку), луна вняла моим мольбам.
Эти признания смущали его ужасно. Возникшая между ними близость страшила, заставляя опасаться неприятного исхода. Он бы предпочел, чтобы она перебинтовывала груди. Она с ним не церемонилась, выходила из душа полуголая, небрежно набросив рваный розовый халатик, открывавший обширные области такой же розовой кожи. Однажды ночью он застал ее за туалетом в ночной рубашке: длиннющие ноги в веснушках, на левой руке шрам, лицо намазано кремом. Антонен залепетал извинения, а она одарила его ослепительной улыбкой, от которой он оцепенел. Прижавшись к нему в узком коридоре, она потешалась над его смущением. Сказать по правде, она стеснялась его так же мало, как некогда женщины, без стыда раздевавшиеся перед рабами-мужчинами, которых и за людей-то не считали.
Он восхищался ею духовно, никакой иной тяги к ней не испытывал, только отчаянную жажду благодарности. Он уж и не знал, как ее удивить. Ему это удалось, когда он распутал одно деликатное дельце. Некая дама, хорошо одетая, слегка не в себе, подбирала в квартале раненых птиц. Она носила их в больших сетчатых сумках: на пернатых жалко было смотреть, дама катила бочку на жестоких мальчишек, на злых людей. Она предъявляла бумаги от Общества защиты животных и других организаций. Антонен, засомневавшись, проследил за ней. Спасительница на самом деле сама расставляла ловушки на птиц, выкладывала приманку на куски ткани, смазанные клеем, прижав их к земле камнями. Так и попадались голуби, воробьи, синички, вороны. Она калечила им крылья и лапы молотком, а как только косточки срастались, ломала снова. Бедные птицы бились, пищали, но вырваться не могли. Они пытались клюнуть сумасшедшую — она спиливала им клювы или обматывала их колючей проволокой. Антонен застиг ее с поличным, конфисковал птиц, отнес их в ветеринарную клинику, а негодяйке велел больше не попадаться ему на глаза. Надо было сделать немного добра, чтобы совершить большое зло. Изольда похвалила его и ласково взъерошила ему волосы — этот дружеский жест стал у них почти кодом. Он был очень горд собой.
В иные вечера «Дом ангелов» выглядел совсем как домашний очаг: там смеялись, курили, играли в карты, только спиртное было под запретом, а в оборудованном кинозале показывали итальянскую послевоенную классику, американский нуар, романтические комедии, лучшие фильмы «новой волны». Изольда, никогда не упускавшая случая поучить, произносила вступительное слово, представляла режиссера, объясняла его замысел. Она читала настоящие лекции, силясь поднять своих неучей к вершинам знания. Для всех она была воплощением ума и деликатности. Надо было видеть эти образины, эти разбитые рожи, загипнотизированные ее речью. Для нее они не были недочеловеками, она взывала к их разуму, к их чувству прекрасного. Бетти завороженно слушала, безмолвно, одними губами повторяя каждое слово своей богини. Иногда кто-то из зрителей спьяну падал со стула. Бастьен поднимал его, усаживал. Когда Алиса была выходная, Изольда варила на всех спагетти; поварихой она была неважной, и ее слипшиеся макароны походили на затвердевшие клубки змей. Сотрапезники, при всей своей нищете, толк в еде понимали и вяло ковырялись в тарелках, не в состоянии — особенно беззубые, — проглотить эту неудобоваримую стряпню. Но под хорошее настроение все съедалось. Все эти опустившиеся люди радовались жизни, и Антонена тоже захлестывало их веселье. Его восхищали все — христиане, марксисты, мусульмане, агностики, — кого он встречал в своей новой профессии. Никогда он не думал, что вера, идеализм могут сделать человека лучше. Он краснел за свои чудовищные мысли и мечтал влиться в это братство. Помогать самым беззащитным и получать в ответ любовь. Что-то отрадное проникало в его сердце, вытесняя горечь: он был почти счастлив. Но являлось новое отребье — и в нем снова вспыхивал гнев.
Глава 13 Каллас в метро
Пассажиры девятой линии между «Мери-де-Монторгей» и «Пон-де-Севр» могут видеть на каждой станции стайки детворы под предводительством мальчиков постарше, которые следят за людским потоком. Эти ребятишки, самому младшему из них лет восемь, не больше, — профессиональные карманники, обчищающие туристов. Когда толпа теснится у дверей вагонов, они пристраиваются сзади и под шумок вытаскивают из сумок кошельки, мобильные телефоны, ай-поды. Таких маленьких, таких с виду невинных, их трудно в чем-либо заподозрить. Они выскакивают из вагона по знаку старшего на следующей станции, делят добычу и устремляются к следующему поезду. Как правило, это цыганята, работающие на взрослых цыган, что живут в таборах вокруг столицы. Париж — город плотный, компактный, как яйцо: в нем не ходят, а топчутся, натыкаются друг на друга, передвигаются стиснутыми в толпе себе подобных. Поэтому карманная кража, этот спорт близкого контакта, так в нем распространена.
Однажды под вечер Антонен заметил на платформе станции «Миромениль» десяток мальчиков и девочек в школьных формах. Он восхитился изобретательностью маленьких паршивцев, вырядившихся по стандартам зажиточного общества, понимая, что появляться в отрепьях подозрительно. Они вошли в его вагон, этакие паиньки, ни дать ни взять, английские школьники, но глазами так и шарили. Он не заметил среди них маленькую девочку, черноволосую и на диво худенькую, бросавшую по сторонам алчные взгляды. Без всякого стеснения она запустила ручонку в карман брюк Антонена и кончиками пальцев подцепила его мобильник. Ей бы все удалось, если бы в эту самую минуту телефон не зазвонил. Антонен в ярости схватил ее за руку, отобрал мобильник и выволок воровку из поезда на станции «Сен-Филипп-дю-Руль». Он сурово отчитал ее, она не отвечала, только бормотала что-то на непонятном языке. Полицию он решил не звать. В конце концов, жить всем надо, пусть гуляет. Ее маленькая банда вышла следом и наблюдала за ней искоса. Он уже хотел сесть в следующий поезд, но тут увидел, как старший, безусый коротышка с отвисшей губой, утащив малышку в угол, надавал ей пощечин. Попалась — получай. За оплеухами последовали удары ногой в живот и бедра, бил парень со знанием дела. Антонен вмешался и дал ему тумака. Шайка не разбегалась и, похоже, ждала только его отъезда, чтобы продолжить избиение. Не раздумывая, Антонен взял девчушку за руку и увел. Всю дорогу она ругала его на чем свет стоит, по крайней мере, так он мог предположить по ее тону. Когда он спрашивал, как ее зовут, она отвечала десятком взятых с потолка кличек: Сефора, Каррефур, Талис, Арева, Гольдман, Как-40, Тоталь, Шанель и даже Метро. Пигалица издевалась над ним. Но она достаточно знала французский, чтобы понять, что он не желает ей зла. В «Доме ангелов» он объяснил ситуацию Изольде, которая, против ожидания, приняла их холодно. Самоотверженность не должна быть синонимом безответственности. Малолетка среди пьяных мужиков — что хорошего? Тем более что с юридической точки зрения он совершил, ни много ни мало, похищение. Ее надо отпустить и надеяться, что она не подаст жалобу. Скрепя сердце, он обильно накормил девчушку и дал ей пятьдесят евро в компенсацию за неудавшуюся кражу. Ей будет что предъявить своей шайке.
Два дня спустя она вдруг вернулась, пришла вразвалочку, как ни в чем не бывало. Дорогу нашла сама. Она кинулась к Изольде, которая встретила ее без особой теплоты, но малышка взяла ее за руку и больше от нее не отходила, готовая услужить чем могла. Обезоруженная такой преданностью хозяйка не осталась равнодушной к чарам девчушки. Никто не знал, как ее зовут, и, поскольку она все время пела, было решено назвать ее Марией Каллас, — она от этого крещения пришла в восторг. Вытянуть из нее что-либо о ее происхождении было трудно, узнали только, что она из Румынии, из Барбулешти, и семья продала ее за долги местным мафиози. Сначала она работала в Аннемасе, на швейцарской границе, потом ее отправили в Париж, где она влилась в братию уличных попрошаек, а ночевала в остове брошенной машины. Она пропадала где-то неделями, появлялась нежданно-негаданно: попала в облаву, болела, уезжала. Иногда приходила с компанией таких же сорванцов, и, передохнув в «Доме ангелов», вновь отправлялась с ними в Париж щипать японцев, американцев, немцев. Пострелята учили бомжей, как вытащить банкноту из кармана и не попасться: во дворе проводились настоящие уроки карманной кражи. Изольде это не очень нравилось, она боялась, что не сегодня завтра головорезы из цыганского табора нагрянут к ним с целью шантажа. Однако она, как и все, освоила ловкость рук и забавы ради таскала у Антонена документы. Карманник из нее был никудышный, пальцы путались в ткани, он ловил ее с поличным, она хохотала. Играм не было конца, и этот дух веселья принесла с собой в «Дом ангелов» маленькая певица.
Высокая блондинка и цыганочка казались двумя побегами одной ветви. Мария Каллас обожала Изольду, кидалась ей на шею, обнюхивала, любила ее духи. Чтобы угодить ей, она показывала карточные фокусы, ходила колесом, кувыркалась, давала целые концерты в саду вместе со своими маленькими товарищами. Под аккомпанемент аккордеона и тарелок малышка Каллас распевала во все горло, до хрипоты, и достигала порой подлинной гармонии. Она еще и танцевала что-то вроде хип-хопа, отбивая ритм на консервных банках. С утра она весело упархивала работать у метро «Насьон»: садилась на картонку и тут же принималась плакать, выкладывая потоку прохожих дежурные жалобы. Подавали ей охотно, сердце сжималось при виде этого одинокого ребенка. Она брала с собой бутылку воды, чтобы промочить горло. Собрав хорошую выручку, вытирала глаза и, напевая, уходила. Изольду маленькая чертовка совсем покорила, она даже обещала отвести ее к дантисту: нескольких зубов у нее не хватало. Эта девочка пробуждала в ней материнские чувства, и однажды она обмолвилась Антонену, что подумывает об удочерении. Она начала учить ее грамматике, орфографии, начаткам арифметики и алгебры. Малышка все схватывала на лету. Они вместе отправлялись по магазинам, и проворная девчонка всегда ухитрялась украсть больше вещей, чем они покупали. Тучи детворы сновали по комнатам «Дома ангелов» среди бездомных, так и норовя стянуть кто бриошь, кто кусок мяса, и Алиса, царица кухни, гоняла их, раздавая тумаки. Изольда постоянно опасалась несчастья: девчонки бесстыжие, а у постояльцев кровь может взыграть, мало ли… Камель был начеку.
В эту пору у мадам де Отлюс случился приступ меланхолии, вызванный, возможно, гибелью одного из ее протеже, — тот утонул. Она впала в уныние, от наплыва несчастий опустились руки. Она уже утратила беспечность молодости, способной справиться со всеми трагедиями, потому что за нее — время. Пелена отчаяния омрачала ее лицо, ставшее бледным, будто старая слоновая кость. Когда, устав от болезней и безумия, она покидала приют, за нее оставался Антонен. Она возвращалась назавтра, с красными глазами, с дрожащими руками, опустившаяся хиппи-перестарок. Она не подкрашивала корни волос, могла запросто надеть грязный свитер, дырявые кроссовки. Подобно ее святой покровительнице, суровой Матери Терезе, тоже подверженной депрессиям, Изольду одолевали сомнения. Мистическая матриархиня стала молчаливой.
— Если все эти несчастные, которым мы помогаем, выберутся когда-нибудь из нищеты, как ты думаешь, будут ли они добры?
— Не знаю.
— Они одиозны, я в этом уверена. От бедности сердца черствеют. Надо помогать этим страдальцам, но не стоит питать иллюзий насчет их выздоровления.
— Не вы ли сказали мне однажды: бедняки заслуживают нашего сострадания, но как они распорядятся в дальнейшем своей свободой, нас не касается?
— Я это сказала? Какой вздор! Знаешь пословицу: дерьмо не заблестит, сколько его ни полируй. Проигравшие не бывают прекрасны, это выдумки эстетов.
Она продолжала свои горькие размышления:
— Не бедняк нуждается в благодетеле, нет, совсем наоборот. Невзгоды первого — бальзам на сердце второго. Бомжи презирают нас, и они правы: мы слетаемся, точно мухи, на их беду. Ты знаешь, кто мы такие, Антонен, — заблудившиеся на дороге жизни. Мы, сбившиеся с пути, помогаем терпящим бедствие. Они на дне — а мы стоим на краю бездны и скоро туда упадем.
Произошел еще один случай, о котором Антонен не знал что и думать. Они встретились однажды под вечер в центре Парижа: Изольда давала интервью «Фигаро». Погода была прекрасная, и она предложила посидеть на террасе кафе. Она мешала ложечкой в бокале кока-колы, устроив настоящий водоворот. Вокруг кишмя кишели уличные торговцы со всевозможным фальсификатом — флаконы «Шанели», сумки «Вюиттон», ремни «Гесс» и «Кукай», элитные часы за пятнадцать евро. Тамилы, курды, камерунцы, китайцы воспользовались манифестацией против социальной политики правительства, на которую была мобилизована полиция, и спустились из своих бастионов в Клиньянкуре и Сент-Уане в богатые кварталы. Это затишье продолжалось час или два, не больше. Рядом с ними сопливые оборванцы ковыряли в носу и вытирали пальцы о рукава прохожих, громко хохоча. При виде их надо было готовить стакан воды, чтобы выплеснуть в лицо, иначе не отстанут. Группки маленьких попрошаек из Южной Европы искали, кого бы пощипать. Они расхаживали, посвистывая, засунув руки в карманы, а глазами так и стреляли. Были тут и девочки, круглощекие, в цветастых юбках, в полосатых кофточках. Эти малышки напоминали Антонену Марию Каллас, только были не такие хорошенькие. Они протягивали прохожим петиции за мир во всем мире.
Все произошло буквально в одну секунду.
Изольда выложила свой мобильник на блюдце и не успела еще допить кока-колу, как девчонка с грязными черными волосами кинула на стол засаленный листок с фальшивыми подписями. Антонен отогнал ее, она забрала листок, но прихватила заодно и мобильник. Изольда, не ожидавшая ничего подобного, вскочила. Стайка девчонок порскнула за угол, на ходу засовывая украденные вещи в трусы. Одна из них, прежде чем скрыться, задрала футболку и, издеваясь, показала грудь.
— Сиди здесь, жди меня, — приказала Изольда.
Он увидел, как в глазах ее мелькнул с быстротой фотовспышки кровожадный огонек. Скинув туфли, босиком она выдала впечатляющий спринт. Она рассекала толпу, бесцеремонно толкая прохожих. Десять минут спустя вернулась, запыхавшаяся, красная, массируя пальцы; в левой руке она держала свой мобильник, а карманы были набиты всевозможными вещами — кольцами, часами, кошельками, которые она отдала хозяину кафе.
— Как вам удалось? — восхищенно спросил Антонен.
— Я убедила их вернуть то, что принадлежит мне. И то, что они стащили у других, тоже. Я объяснила им, какой ущерб они нанесли тем, кого обокрали. Они поняли и всё вернули. Я хотела, чтобы они извинились, но на это их не хватило.
Она лучезарно улыбнулась, гордая победой пути истинного. Четверть часа спустя, пересекая сквер Людовика XVI, они наткнулись на компанию цыган, по большей части детей, склонившихся над одной из своих товарок, судя по всему, больной. Завидев издали высокую фигуру Изольды, они с криками кинулись наутек, в том числе и больная. Антонен успел заметить на лице маленькой воровки огромный синяк. Изольда невозмутимо наблюдала за сценой свысока. Средний палец ее правой руки был поднят вверх в направлении разбегающейся детворы. Она издевалась им вслед! Невозможно, это не укладывалось у него в голове. Видя, как он удивлен, она еще поддела его:
— Есть один радикальный способ прекратить кражи мобильников.
— Какой?
— Вмонтировать в каждый аппарат взрывное устройство с детонатором. Если телефон украли — набираешь код, и раздается взрыв. В лучшем случае вору оторвет руки, в худшем снесет лицо, ухо и вышибет мозги. Это принцип противопехотных мин.
— Это чудовищно, вы так не думаете!
— Я так думаю, но это шутка, дурачок.
Наступило Рождество, и с ним пришла радостная весть. Уже полтора года, как на Антонена снизошло «откровение», а он все еще ничего не совершил. Развешенные на стенах бумажные фонарики создавали иллюзию праздника. Изольда купила огромную елку, которую Антонен и все остальные украшали целый день. Гвоздик даже вырезал на скорую руку фигурки святых из дерева. Но Изольда, стараясь не задеть чувства людей других вероисповеданий — мусульман, буддистов, сикхов, — свела к минимуму религиозный аспект церемонии. Она сказала, что отправится к полуночной мессе со всеми желающими, но праздник будет посвящен детству и детям, дремлющим в каждом из нас. Вырядившиеся призраками бомжи подняли большой шум и смешно отплясывали вокруг елки что-то вроде джиги. Зима стояла студеная, государство обнародовало план «Холода» и реквизировало гимнастические залы, казармы, церкви, чтобы разместить там бомжей. Один замерзший на улице мог стоить префекту поста. Тем не менее некоторые, выскользнув из сетей, погибали в пустых домах и подвалах. Когда приходила весть о смерти товарища, Изольда глухим голосом сообщала ее за обедом. Скорбный гул поднимался из-за столов, словно Костлявая незримо витала над ними. Обед превращался в собор обреченных, плечи сутулились, каждый спрашивал себя, кто следующий, подозрительно косясь на соседей. Все спешили опустошить свои тарелки, боясь сгинуть до десерта.
Серым утром в конце декабря толпа изможденных людей, закутанных в старые парки, топталась у входа в «Дом ангелов», ожидая открытия дверей, кофе и горячего супа. Они подтягивались группками, точно армия после войны, хромая, кашляя, сгибаясь под бременем невзгод. Изольда смотрела на них лихорадочными глазами учительницы, пересчитывающей детей у дверей класса. То была обычная публика — безработные в свободном падении, нелегалы, душевнобольные плюс особо колоритные персонажи, от которых в ужасе шарахались остальные. Они иллюстрировали собой парижский закон беспредельной деградации: кем бы вы ни были в этом мегаполисе, всегда найдется кто-то еще гаже, еще отвратительнее. Многие ночевали прямо на тротуаре, дышали свинцовыми испарениями из коллекторов и страдали сатурнизмом. Очередь, ожидавшая у дверей, гомонила нестройным концертом плевков, брани, грязных шуточек. В самом конце стоял молодой еще мужчина, лет сорока, не больше, с огромным волдырем на левой щеке, обмороженными скулами и растрескавшимися губами. Он толкал перед собой коляску, наполненную всевозможным хламом, и выворачивал при ходьбе носки внутрь. Козел отпущения, он только что получил взбучку, вращал глазами и дрожал от холода с потерянным видом, свойственным этой братии. Антонен принял его, записал имя, Фредерик, и все утро не отходил от него, как отец, опекающий самого слабого из сыновей. Он не задавал нескромных вопросов, смотрел с хмурым выражением лица, так хорошо ему удававшимся. Бедолага мялся в нерешительности. Мало-помалу, отогревшись и наевшись, он разговорился. «Непруха у меня», — повторял он, как другие сказали бы «у меня грипп». Говорил он невнятно, после каждой фразы издавал горлом что-то вроде кудахтанья, которое можно было ошибочно принять за смех. Через час он сказал Антонену:
— Слышь, новенький, ты мне нравишься, чувствую я, мы с тобой поладим.
— Ага, будем друг за дружку держаться?
Фредо жил под мостом кольцевой автодороги у Порт-де-Шарантон, возле Венсенского леса, на шоссе Рейи.
— Тут тебе и город, тут тебе и природа. Я ж пятнадцать лет на улице, парень, как один день, хочется иногда зелени.
Антонен смотрел на его лицо, молодое, но уже испитое, в красных прожилках, в рубцах, точно по нему прошлись колючей проволокой.
И вдруг, вглядевшись внимательнее, решил: это будет он!
В одно мгновение.
Это был выбор не хуже любого другого.
Да и не выбор даже, ведь решение кого-то убить приходит само, как любовь.
Потому что это он, потому что это ты.
Фредерик не был худшим из всего этого отребья. Были у него язвы на руках, открытые раны на ногах, фурункул на виске, который не мешало бы прооперировать.
Но ему он годился таким, как есть.
В самый раз.
И Антонен принялся его обхаживать. Он предложил навещать его с целью «логистического контроля» — это бюрократическое выражение понравилось ему своей мутностью. Каждый раз, отправляясь на машине «на промысел», убеждать уличных одиночек воспользоваться услугами центра, он делал крюк, чтобы зайти к Фредо. Тот делил арку под эстакадой с семьей тамилов из Шри-Ланка, бежавших от гражданской войны, которым помогали кузены, жившие в Порт-де-ла-Шапель, в квартале Литтл-Индия. Вечерами аппетитные запахи с их кухни щекотали ноздри. Не больше двадцати метров отделяло их от Фредо. Это было что-то вроде no man’s land между городом и предместьем: зелень пучками пробивалась среди камней, вокруг раскинулся лужок с чахлой травой. Ветер порывами задувал под мост, содрогавшийся от машин и тяжелых грузовиков. Фредо жил на насыпи под аркой. На этом узком холмике он оборудовал себе жилище из подручных материалов, обладавшее главным козырем — крышей, защищавшей от дождя; кроме того, на возвышенности ему не грозили наводнения, и крысы сюда не добирались. Фредо соорудил лесенку, которую убирал на ночь, чтобы не пожаловали незваные гости. Антонен, часто с Марией Каллас, ходившей за ним хвостом, выполнял для него мелкие поручения, справлялся о здоровье, о реадаптации. Слово звучало многообещающе, это был волшебный «сезам». Людей реадаптируют, как винтики в сложный механизм. Фредо, завидев их издали, почитал своим долгом встать и махал им рукой. Этот верзила, всегда тяжело дышавший, был так приветлив, что даже раздражал. Его воспаленные гноящиеся глаза были раздуты, как мячики для пинг-понга, пучки черных волос торчали из ушей. Больше всего бесило Антонена его постоянное шмыгание носом и сопли, блестевшие на губах и подбородке. Он протягивал ему салфетку, бормотал, не повышая тона:
— Утрись, черт возьми, тебе сколько лет?
— Непруха, парень, что я могу сделать? В голове-то у меня так много всего, никак порядок не наведу, скоро лопнет.
Антонен сразу взял с ним властный тон, чтобы не сорваться. Он чередовал теплоту с холодом. У него всегда находилась при себе сигарета, а то и бутылочка безалкогольного пива, купленная в арабской лавке. Ирония ситуации: замыслив истребить отребье общества, приходилось сначала побыть социальным помощником. Он носился с Фредо, помогал ему готовить еду, приносил лекарства, обещал отвести на консультацию в больницу Тенон, чтобы ему прооперировали гнойник на правом виске, предлагал пройти курс дезинтоксикации и лично сопроводил в наркологическое отделение больницы Питье. Он терпеливо слушал его нескончаемый рассказ о невзгодах: двое детей разбились на машине, жена ушла, работу электрика потерял. Антонен утешал его:
— А если найти новую жену? У тебя ведь еще могут быть дети?
— Если бы да кабы да во рту росли грибы…
Это Фредерик твердил постоянно, как мантру. Он цеплялся за эту расхожую фразу, подчеркивая свое бессилие что-либо изменить. В начале февраля он заболел, сильно кашлял.
— Москва — Париж, — повторял он, ухмыляясь. — Проклятые казаки. Ты ведь не бросишь меня, а, мой Тонио?
Он имел в виду волну холода из России, вызвавшую во всей Европе полярные температуры и сотни смертей. Антонен уговаривал его пожить в приюте, где был и медпункт. Фредо не хотел покидать свое убогое жилище, боясь его лишиться. Бродяги готовы были глотку друг другу перегрызть за каждое место, кадастр нищеты ничуть не уступал нашим мэриям. Отчаявшись уговорить своего нового «друга» и опасаясь, как бы он не загнулся от плеврита, Антонен без ведома Изольды и остальных принес ему антибиотики, противовоспалительные препараты, парацетамол. Кашель прошел, температура спала. Антонен ухаживал за ним, как за родным братом, выслушивая бесконечный перечень его бед. Он спасал его, чтобы задушить собственными руками. Он терпел его кашель, его постоянные жалобы, прикидывая про себя, какого числа с ним покончит. Он решился в тот день, когда бродяга обмочился да еще и захихикал:
— Ах ты, пить надо меньше…
Сфинктеры у него отказывали, медики на своем языке называют это крайней степенью недержания. Отовсюду лило и сочилось. Фредерик дозрел, он уже медленно загибался. С ним будет легче, чем с Карабос. Антонен изучал его всесторонне, рассматривал изгиб шеи, жидкие грязные волосенки, точно остатки мха на стволе, тонкие длинные сухожилия, тянущиеся от головы к плечам. Сдавить покрепче — и конец. Фредерик смотрел на него порой, и в его больших растерянных глазах Антонен читал немую мольбу. Он часто употреблял выражение, которое Антонен находил красивым и загадочным: «Горе горькое, неотвязное». Фредо говорил на двух языках: один — для социальных работников — плоский и корявый, состоящий из старого арго и просторечий; другой, более членораздельный, предназначался для доверенных лиц.
Антонен начал к нему привязываться.
Пора было с ним кончать.
Глава 14 Такая мягкая перина
Изольда была членом коллектива под названием «Уличные мертвецы», отдававшего дань памяти про́клятым тротуара, умершим от голода, от одиночества, от болезней. Очередная церемония проходила на паперти Бобура. Был поставлен шатер, а перед ним растянуты четыре больших полотнища с прикрепленными к ним белыми масками, рядами по десять штук. Вокруг зажгли свечи, на маски повесили кресты, чтобы подчеркнуть, что хоронят безликих и безголосых. Изольду пригласили перечислить покойных поименно:
— Джеймс, замерз в подземном переходе Муэт; Дени, скончался в реанимации больницы Отель-Дье; Жанетта, умерла от передозировки под Аустерлицским мостом…
Едва слышным голосом она напомнила, что за последний год триста тридцать три человека угасли на улице, пали на полях сражений с нищетой и равнодушием. Многие зрители достали носовые платки. Потом хор бомжей под аккомпанемент скрипки и аккордеона затянул песню Брассанса «Тебе, овернец», и даже фальшивые ноты не могли испортить красоту мелодии. Дирижировал ими здоровяк с «конским хвостом», длиннющими усами и изборожденным шрамами лицом. У Антонена перехватило горло, к глазам подступили слезы. Да, за внешней невозмутимостью он был по-глупому впечатлителен. Он плакал, слушая военные марши 14 июля, плакал, когда его отец напевал «Интернационал» или «Аванти пополо», гимн итальянского рабочего движения, плакал в кино, в театре.
Изольда, уже овладевшая собой, смотрела на него сурово. Она не одобряла излишней чувствительности. При всей своей самоотверженности сама она была сдержанна: служила людям, но не раскрывалась им, совершая необходимые действия, независимо от личного отношения. Ее великодушие существовало отдельно от нее, быть может, это была самозащита, способ не поддаться отчаянию. Пожимая руки хористам, Антонен с изумлением увидел перед собой пьянчугу, которого он забил ногами полтора года назад на бульваре Малерб, у парка Монсо.
Ошибки быть не могло, это был он, и даже в лучшей форме. Антонен узнал бы его из тысячи.
Стало быть, он не умер!
И теперь, живехонький, распевал гимны на траурной церемонии.
Даже этого он упустил!
Это был плевок в лицо.
От такого конфуза все волнение как рукой сняло. На карту была поставлена его честь.
И он выбрал воскресный вечер, когда город закрывает ставни и рано ложится спать. Изольда дала ему выходной, он работал на износ и заслужил немного свободного времени. Около шести часов стемнело, погода стала мягче, дул западный ветер. Сыпал мелкий дождик, прогнавший последних прохожих и затуманивший свет фонарей. Около девяти Антонен сел в метро на линии 8, вышел на «Порт-Доре» и потрусил к логову Фредерика под кольцевой дорогой. Надо было двигаться, чтобы дойти до конца, — логическим завершением гонки станет убийство. Вдали виднелись темные силуэты аттракционов Тронной ярмарки с крошечными точками сигнальных огоньков. Он поспешал, торопясь убить, в сыром холоде парижской зимы, по пустынным улицам. Его била дрожь, но он был полон решимости выполнить свой долг. Он надвинул на лицо капюшон, как бандиты в кино, и почувствовал себя другим человеком, больше, сильнее. В области насилия на ком клобук, тот и монах. Чтобы добраться до логова Фредо, надо было вскарабкаться на бетонную насыпь, блестевшую от дождя. Лесенка была убрана, но Антонен, в ботинках на рифленой подошве, в два счета залез наверх. Фредо спал на тюфяке, закутавшись в грязный спальник. Под мостом царила непроглядная тьма, но Антонен включил фонарик. Тамилы тоже спали, со своего места увидеть его они не могли. Над их головами вибрировали под тяжестью машин и грузовиков металлические балки. Из опрокинутой пластиковой бутылки вытекали остатки бормотухи, которая, гадко воняя, подсыхала, точно запекшаяся кровь. Фредо напился, значит, будет легче. Он спал на левом боку, фурункул у правого глаза налился лиловым и походил на светящийся сталактит.
Бедняга Фредо, он ему нравился, они могли бы стать товарищами по несчастью. Антонен погладил его волосы, чуть было не поцеловал. Он избавит его от бремени жизни. Достав из кармана найденный на стройке тонкий электрический провод, он осторожно, как отец, обматывающий шарфом шею своего ребенка, просунул его под затылок друга. Итак, после месяцев приготовлений он наконец-то сделает это. Трудно только в первый раз.
Прощай, товарищ, ты заслуживал лучшей участи.
И тут едва слышный шепот донесся из спального мешка:
— Давай, старина, прикончи меня…
Антонен вздрогнул как громом пораженный. Он прислушался, уверенный, что ему померещилось.
— Я уж давно тебя жду…
От изумления он упал навзничь. А тихий голос продолжал:
— Я сразу понял, чего ты сюда таскался, почему мне помогал. Я догадался, только не знал когда. Каждый вечер я ждал, что ты придешь.
Из спальника показалась всклокоченная голова Фредерика.
— Знаешь, что хуже всего на улице? Презрение прохожих. И у тебя оно самое: твоя фальшивая доброта. Ты не первый вьешься вокруг нас. Сними капюшон, смешно на тебя смотреть.
Фредерик щелкнул зажигалкой: голова его была наклонена набок, провод еще обвивал шею, точно позорный ошейник. Губы растянулись в смущенной улыбке.
— Мы ведь немногого стоим…
Он покачал головой.
— Я могу притвориться, будто сплю, если тебе станет легче.
— Нет, только не это.
— Тебе неприятно, если глаза у меня будут открыты?
— Ты не понял, я не хотел ничего плохого…
Фредерик сощурился, разочарованный ложью.
— Ну конечно…
Его скептический взгляд доконал Антонена. Он вскочил и, даже не подобрав провод, бросился бежать. Поскользнулся на насыпи, усугубив позор, и скрылся, пряча во тьме свой стыд. До рассвета он бродил по улицам сам не свой. В третий раз за этот год высшая сила помешала его призванию. Он вернулся домой в шесть утра, встретив пьяных гуляк, вывалившихся из ночного клуба, рухнул на кровать и проспал до четырех пополудни. Рабочий день пропал, он боялся гнева Изольды. Он позвонил, сослался на приступ гастроэнтерита; она назвала его безответственным и пригрозила выставить, если он еще хоть раз прогуляет, не предупредив. Не мог же он ей объяснить: «Понимаете, мадам де Отлюс, я хотел задушить бомжа и сдрейфил. У меня из-за этого депрессия!»
Ближе к семи им овладела безумная идея. Он загладит вчерашний промах, закончит начатое. Он так загорелся, что даже не прихватил никакого оружия. Ему не терпелось вернуться туда как можно скорее. И вот он пришел, во второй раз за неполные сутки, к мосту с наступлением темноты, молясь, чтобы Фредерик был пьян и уже спал. Но логово оказалось пустым. Бродяга ушел в загул. На этот раз, клялся себе Антонен, он не дрогнет, не купится на его треп, не спасует перед глазами жареного мерлана — он задушит его голыми руками. Он ждал, нетерпеливо потирая руки. Он должен это сделать, сегодня, сейчас. От возбуждения Антонена бил озноб. Он зевнул и машинально забрался в спальный мешок Фредерика. Неодолимая усталость вдруг навалилась на него, и он уснул. А когда проснулся, как от толчка, бродяга сидел рядом и курил; стояла непроглядная тьма, и он видел только тлеющий кончик сигареты. Фредо ухмыльнулся, увидев, как Антонен приподнялся на локте.
— А ты упрямый, парень, своего не упустишь!
Хуже того: Фредо протянул ему электрический провод, который он забыл вчера.
— Валяй, старина, не дрейфь на этот раз.
— Но почему?
— Ты за дурака меня держишь? Да я сам тебе морду расквашу, если будешь тянуть резину. Давай же, черт тебя дери! Мы ведь правда мразь, все равно что тараканы. Ну же, хоп — и раздавил…
Антонен не счел нужным ответить и бессильно откинулся назад. Ему было тепло под этой периной, от которой шел крепкий дух, затхлый, но, в общем, приятный. Окутанный им, как блаженством, угревшись, он снова заснул. Проснулся он только утром. Фредо дремал рядом с ним прямо на земле, укрытый старыми одеялами. С пустой гудящей головой Антонен ушел в «Дом ангелов». Изольда метнула на него гневный взгляд, подозрительно обнюхала, указала на неподобающий наряд и развязанные шнурки. Но ему было плевать. К вечеру его накрыл ледяной ужас. Фредо донесет на него мадам де Отлюс, и она его выгонит. Его убийственные поползновения станут всем известны. Но через два дня Фредо явился как ни в чем не бывало. Он только шепнул ему в коридоре:
— Ну что ты телишься? Нервишки у тебя ни к черту, парень…
Изольда, проходившая мимо с упаковками минеральной воды, услышала последние слова, остановилась и пожелала узнать, что происходит. Фредерик вспыхнул, точно мальчишка, застигнутый за курением.
— Спросите лучше у него, м’дам.
— Антонен, ты что-то от меня скрываешь?
— Ничего, дурацкое пари…
— Какое?
— Так, глупость.
— Объяснись! Ты же знаешь, что наши отношения с теми, кому мы оказываем гостеприимство, должны быть прозрачными.
— Ничего такого, Изольда, правда, уверяю вас.
Он не знал, что сказать, как вывернуться. Ничего не шло на ум.
— Говори сейчас же!
Антонен сглотнул слюну: надо было признаться в несуществующей вине, чтобы скрыть подлинное преступление. Он наспех сымпровизировал:
— Мы с Фредо поспорили, кто выпьет литр залпом. Я не одолел и половины, меня вывернуло.
— Да нет, м’дам, неправда, врет он.
— Да, на самом деле два литра.
Он держался за свою неуклюжую ложь, предпочитая ее невозможной правде.
Изольда, побледнев, поставила бутылки на стул.
— Ты что, с ума сошел? Я поручаю тебе следить за душевным здоровьем неустойчивых людей, а ты с ними напиваешься? Ты, между прочим, не доброволец, ты на жалованье, а это означает большую ответственность. То, что ты сделал, преступно, Антонен. Ты воспользовался слабостью обездоленного, чтобы усугубить его зависимость…
Уже удаляясь по коридору, она вдруг развернулась.
— …и вдобавок ты проиграл пари!
После этого все завертелось очень быстро.
Антонен страдал вдвойне: он провалил свой план и лишился уважения мадам де Отлюс. Атмосфера в «Доме ангелов» стала невыносимой. Злобная кампания в прессе, начатая по ту сторону Атлантики и подхваченная французскими СМИ, предъявила Изольде серьезные обвинения: она-де была любовницей многих вождей в Либерии и Сьерра-Леоне во время гражданской войны. Разоблачения, имевшие место на процессе Чарльза Тейлора в Международном уголовном суде в Гааге, а также записи, найденные в бумагах Кристофера Хитченса после его смерти, 15 декабря 2011 года (он продолжал потихоньку собирать о ней сведения), действительно указывали на ее тесные связи с большинством кровавых лидеров той поры. Днем она ухаживала за жертвами, а ночью спала с палачами, покрытыми ритуальными шрамами — великолепными корсарами в банданах, обвешанных амулетами. Она не брала взяток, не прикасалась к окровавленным бриллиантам, как манекенщица Наоми Кемпбелл, однако Богоматерь Трущоб оказалась той еще авантюристкой. Она, в частности, была любовницей Фоде Санко, основателя Единого революционного фронта Сьерра-Леоне и одного из самых беспощадных истязателей. Да, та, кого принимали Папа Римский, Великий раввин Израиля и Патриарх Всея Руси, чье имя регулярно упоминалось Нобелевским комитетом, водила странные знакомства. Ее соперники из «Врачей без границ», «Эммауса», «Социальной помощи» упивались этими гадкими слухами, радуясь, что могут сбить с нее спесь. Но Изольда и эту клевету сумела обернуть себе на пользу. Вместо того чтобы отрицать, она все признала. Да, она уступала этим убийцам, но по принуждению и чтобы спасти от расправы мирных жителей. Она дала интервью в теленовостях на канале TF1, у Клер Шазаль, которое заметили и пустили в эфир почти повсюду.
— Представьте себе, вы женщина, белая, одна в джунглях, кругом бушует гражданская война, вам двадцать лет. Нет ни прав, ни закона, царит лишь грубая сила. Является группа боевиков, они пьяны, обкурены, вооружены до зубов. Сделка проста: или вы уступите, или они отрежут руки женщинам и детям. «Short sleeve, long sleeve», как гласил лозунг той поры, короткий рукав, длинный рукав. О себе вы не думаете — вы говорите «да», надеясь, что они не нарушат сделку и не убьют вас потом. В дальнейшем условием каждой моей связи было спасение семьи или деревни. Я даже умолила их пользоваться презервативами. Это было пари. Эти мужчины с руками по локоть в крови ни разу не обманули меня. Мне повезло. Вы хотите меня заклеймить — но выслушайте сначала мою версию.
За пятнадцать минут она повернула общественное мнение в свою пользу и спасла репутацию; ее кандидатура на Нобелевскую премию была подтверждена. Феминистские группировки мобилизовались в ее защиту. В странах христианской культуры никого так не любят, как раскаявшихся грешниц.
Тем временем у нее появилось новое увлечение — некая Фарида Абделиза, очаровательная скрипачка из консерватории, марокканка по происхождению, которая приходила через день по вечерам «приобщиться к гуманитарной помощи». Она проводила ночи напролет с белокурой дивой и играла ей классические арабские мелодии. Все в доме судачили о прихотях Изольды, ее гинекей[13] гудел. Вчерашние фавориты строили планы, как вернуть ее милость и устранить непрошеную гостью. Разжалованный Антонен делил свою печаль с Бетти, которая бродила по коридорам, еще толще и белее прежнего, и однажды, дойдя до края, даже предложила ему с ней переспать. Они провели ночь в одной постели, не касаясь друг друга. Постояльцы же напевали вполголоса подходящие к случаю непристойные песенки. Антонен все еще с трепетом поджидал Фредерика, находя в этом какое-то извращенное утешение. Он не так боялся разоблачения, как осмеяния.
Катастрофа разразилась быстрее, чем можно было ожидать, в начале апреля. Изольда по просьбам «гостей» согласилась установить в пустовавшей комнате мини-футбол, но лязг и возбуждение от игры ударяли в их слабые головы, и они швыряли друг в друга мячами. День клонился к вечеру, тяжелый день, семьдесят приборов за обедом, много больных в медпункте и даже одна госпитализация в Бобиньи с синдромом Корсакова и началом гангрены. Психологиня не пришла — слегла с гриппом. Приемная доктора Лежена была набита битком. Пациенты недовольно ворчали, им осточертело ждать, над ними издеваются, мать вашу, напряжение росло. Большинство не сидели, а полулежали на стульях, некоторые сползали на пол, смеша до колик остальных. Это был класс старых подростков, всегда готовых сорвать урок. Была тут и Мария Каллас с сильным кашлем, замотанная в шарф, осунувшаяся. Она сидела, болтая ногами, под взглядами окружающих зомби. Около половины седьмого совсем стемнело, тяжелые тучи обложили небо, и тут перегорели две лампочки, что вызвало настоящий переполох. В темноте раздались крик и визг. Только узкая полоска света из-под двери кабинета освещала приемную. Пока Бетти позвала Антонена, пока тот сходил за новыми лампочками, два собутыльника, напуганные темнотой, успели подраться, почти в замедленном темпе, настолько оба были пьяны. Тот, что посильнее, схватил другого за волосы и бил головой об пол вязкими, как при съемке рапидом, движениями. Остальные подбадривали его, топая ногами. Только Мария Каллас пронзительно кричала. Миротворец Камель отпросился на вечер с острой болью к дантисту.
Увидев двух сцепившихся бомжей, Антонен кинулся на них. Не сознавая своей физической силы, он разнял их одной рукой. Но вместо того чтобы остановиться и силой усадить обоих на стулья, он, не сдержавшись, ударил того, кто одерживал верх, известного в своей среде негодяя, бывшего тряпичника, этакого оплывшего Геркулеса. За первой оплеухой последовала вторая, потом третья, с каждым разом все сильнее. От каждого удара Антонен чувствовал себя лучше, адреналин в нем взыграл, тем более что противник не давал отпора, молотя кулаками пустоту. Он бил по беззубому рту с радостью, чувствуя, как вылетают оставшиеся пеньки, точно брошенные в стакан игральные кости. Впервые он поднял руку на подонка — и уж этого-то готов был прикончить. «Убей его, убей его!» — разорялись больные в приемной. В темноте было едва видно — но достаточно, чтобы следить за матчем. Одновременно распахнулись две двери — кабинета врача и Изольды; оба кинулись останавливать Антонена. Драка была в разгаре, и болельщики тоже вошли в раж. На помощь подоспели Бастьен, Бетти и даже Алиса, вооруженная чугунной сковородкой, — только тогда удалось навести порядок, раздав несколько затрещин, угомонить начинающих бунтовщиков и увести Марию Каллас. Антонен кипел от ярости: будь здесь Фредо, он прикончил бы его в несколько секунд, с ликованием переломив шейные позвонки. Он непременно хотел добить своего «клиента» и, оттого что ему помешали, окончательно вышел из себя. Что-то наконец освободилось в нем, он пересек грань. Изольда пыталась оттащить его за шиворот, и он обрушил весь свой гнев на нее. Эта порочная аристократка своим надменным видом его достала. Брызжа слюной от ярости, он с неподдельной радостью влепил ей две увесистые пощечины. От неожиданности она пошатнулась, но ухитрилась схватить его за пальцы, выкрутила их так, что он согнулся, и нанесла удар коленом в причинное место. Драться эта стерва умела. От второго удара, локтем под нос, он рухнул наземь. Его верхняя губа была разбита и кровоточила. Она достала из ящика шприц и вкатила ему успокоительный укол.
Через несколько минут общими усилиями его привязали к стулу в ее кабинете. Над верхней губой Изольды выступили капельки пота. Несмотря на отметины пальцев Антонена на щеках, ее кожа фарфоровой белизны стала мертвенно-бледной. Она испугалась. Тяжело переводя дыхание, она обратилась к нему:
— Вы уволены, я в вас ошиблась. Убирайтесь немедленно, без выходного пособия. Я сообщу о вас всем. Никогда больше вы на пушечный выстрел не подойдете к бездомным. И чтобы духу вашего здесь не было. От вас один вред. Недопустимо до такой степени терять хладнокровие.
Она снова говорила ему «вы». Его развязали. Он собрал свои вещи в зеленоватый пакет из супермаркета «Монопри», взял чек на скромную сумму — последнее жалованье. Никто с ним не попрощался, даже Мария Каллас отвернулась и спряталась за ноги Изольды, когда он хотел ее поцеловать.
Часть четвертая Свободное падение
Глава 15 Неуслышанные молитвы
Двух дней хватило Антонену, чтобы опомниться. Из-за неумения держать себя в руках он погубил целый год усилий и потерял дружбу единственной женщины, которой когда-либо в жизни восхищался. Он написал ей длинное письмо с извинениями, обещал больше никогда ни на кого не поднимать руку, выразил готовность искупить свою вину, предложил ей самой побить его в наказание за причиненный вред. Она не ответила. Работу он потерял, на банковском счету осталось ровно тысяча триста евро. За квартиру было заплачено до конца следующего месяца, потом придется съезжать. Хуже того, он как будто вышел из образа, не понимая, как оказался во власти гнева. Все эти опустившиеся люди не заслужили такой враждебности. Пусть себе подыхают в своем углу, он молод, выкарабкается. Не прошло и двух дней, как он, с еще вспухшими губами, помчался в «Урбалюкс» и с трудом узнал бывшее место службы. Агентство занимало теперь целый квартал. Он толкнул дверь, спросил Ариэля. Личная встреча, он был уверен, лучше телефонного звонка.
— Ваша фамилия? — осведомилась новая секретарша, молоденькая блондинка с приклеенными ресницами. — Мсье Ван Хейфнис занят. Вы по какому вопросу?
Девица была — палец в рот не клади, этакая задавака на каблучках, с высоченной грудью, обтянутая черным платьем туже некуда. Она смотрела на Антонена с надменной миной. Но все же оказала милость, позволив ему присесть на софу. Холл преобразился: новенькое ковровое покрытие, блестящие лаком деревянные панели, свежевыкрашенные оконные рамы, зеленые растения в горшках — пахло деньгами и преуспеянием, невзирая на кризис. Посреди холла возвышалась гигантская фотокартина скандального русского художника Олега Кулика: на ней был изображен мужчина в набедренной повязке, который, сидя на табурете, доил собаку, судя по всему, овчарку-босерона, — молоко щедро струилось из огромного сосца. Полотно впечатляло. На большом столе из толстого стекла лежали журналы по моде и архитектуре. Но не только — тут были экземпляры «New York Review of Books», «Times Literary Supplement», «Philosophie Magazine», «XXI век» и, ни много ни мало — «Руководство Эпиктета», «Тибетская книга мертвых», «Максимы и мысли» Шамфора. На стене красовалась написанная готическим шрифтом последняя строка из «Этики» Спинозы:
«Все прекрасное столь же трудно, сколь и редко».
Этим многое говорилось о предприятии. Здесь любили искусство и литературу, насколько это возможно с неплохим капиталом. Ариэль выиграл свое пари! Антонена ждал еще один неприятный сюрприз: из смежной комнаты вышла Моника, элегантная, как никогда. На ней был бархатный костюмчик с очень глубоким вырезом, выгодно подчеркивающий ее матовую кожу. Она удивилась, увидев его, сидящего в углу с видом провинившегося мальчишки.
— Ты пришел просить прощения? — фыркнула она.
— Прощения? А ты-то что здесь делаешь?
— Ты разве ничего не слышал?
— О чем ты?
Она нервно рассмеялась, секретарша тоже прыснула.
— Ты правда не знаешь? Я живу с Ариэлем уже полгода и открыла отдел дизайна в его агентстве.
— С Ариэлем? Ты хочешь сказать, вы с ним?..
Он не договорил, сделав красноречивый жест.
— Ты же сам дал ему разрешение приударить за мной, помнишь? И он, уж поверь мне, не упустил случая. Не прикидывайся удивленным, старина. Ты меня бросил — он подобрал.
Не снизойдя до дальнейших объяснений, она удалилась: мол, дел хоть отбавляй. В ее почти раскосых глазах англо-индийской метиски он прочел простой приговор: земля обетованная отныне ему заказана. Теперь, будучи подругой другого, она неожиданно вновь обрела ценность в его глазах. Союз Ариэля и Моники, ее роскошный вид, его головокружительный успех — было отчего ревновать и грустить. Перед глазами у Антонена стояло все, что он отринул — и чего лишился. Он уже хотел уйти, когда Ариэль, непревзойденный режиссер, появился в холле с самодовольно-насмешливым видом и сигарой во рту.
— А, сын аббата Пьера и «Лица со шрамом». Я так и знал, что вы приползете на брюхе, но не думал, что так скоро.
Антонен заранее сочинил целую историю, но Ариэль его оборвал.
— Не утруждайтесь, я все знаю. Изольда де Отлюс звонила мне. Нехорошо бить слабых, особенно человеку с большим сердцем. А как вы посмели ударить ее? Все-таки вы мерзавец, да еще и с психическими отклонениями.
Секретарша не упускала ни слова из их диалога и даже не притворялась, будто занята своими делами. Антонен сослался на помрачение, на тяжелую работу, стал умолять взять его назад, пусть даже с понижением в должности.
— Вам нужны деньги, не так ли? Идиллия закончилась, прекрасная Изольда вам не уступила? Бедняки — это был только предлог, вам совсем другое было нужно, она не захотела, и вы распустили руки?
Ариэль был уже не добрым папочкой, опекающим своего протеже, а рассерженным начальником.
— Вы видели Монику, она вам все сказала. Вы и сами догадывались, не правда ли? Вы променяли орла на кукушку, вот к чему вы пришли. Как вы могли упустить такую женщину? Вы никогда не признавали ее талант художницы, не проявляли интереса к ее индийской или английской крови, к ее азиатским корням, ко всему лучшему в ней. Она рассказала мне о вашей совместной жизни — да вы просто маньяк, мой мальчик. И в койке, похоже, не гигант. Одно название, а не трах. Как только она терпела вас целый год? И вдобавок вы укокошили ее собаку, это уж совсем никуда не годится. Идемте, выпьем где-нибудь и потолкуем.
Они сели за столик в модном бистро «Прогресс» на углу улиц Бретань и Вьей-дю-Тампль.
— Вы мне очень нравились, Антонен, я возлагал на вас большие надежды. У всех у нас случаются кризисы, главное — преодолевать их с высоко поднятой головой. И никогда не пасовать, что бы с нами ни случилось. Не вы один страдаете. Да взять хоть меня — год назад, как раз когда вы ушли, я чуть не бросил все после этой утраты, даже готов был присоединиться к вам и уйти в благотворительность, представляете себе…
— Как это?
— Очень мило с вашей стороны делать вид, будто вам интересно. Вы позволите мне довольно длинное отступление? Потом мы поговорим о вас, обещаю. Впрочем, у вас нет выбора. Вы, может быть, догадывались, два года у меня был роман с одной хорошенькой продавщицей с улицы Фран-Буржуа. Она работала у «Сандро», девушка с Антильских островов, живая, чувственная, ладно, не буду утомлять вас подробностями. Одно «но»: она была на двадцать пять лет моложе меня. Мы выглядели несколько смешно, люди на нас оборачивались, я был ее «sugar daddy», ее сладким папочкой и щедрым покровителем. Дожив до пятидесяти, вы задаетесь вопросами о смысле жизни, о будущем и все такое. И вот вы встречаете молодую особу, которая от вас в восторге, для нее вы — оплот, маленький Трианон. Она знает, что вы женаты, не заморачивается этим, она пришла, чтобы пробудить вас от супружеской спячки. Для нее вы сильны и неутомимы, она побуждает вас превзойти себя, вдохновляя на настоящий эротический марафон. И вы безропотно покоряетесь. Если вам случается дать слабину, она ворчит: «Еще, любимый, ты же можешь. Ты совсем не старый, это все только у тебя в голове».
Мы встречались в кафе поблизости, в грязных гостиницах возле Северного и Восточного вокзалов, она такие любила. Я умолял ее не брать меня за руку на людях, боялся насмешек и нежелательных встреч. Мне приходилось скрывать ее от всех, чтобы не возбудить подозрения моей супруги, ревнивой, но, к счастью, почти не выезжающей из Амстердама. Не знаю, любил ли я Мари-Софи, так ее звали, но она меня интриговала. Очень спортивная, вечно качалась в спортзале, занималась и танцами. У нее было атлетическое, изумительно вылепленное тело, и, главное, была одна особенность: она любила стариков. Пятьдесят лет годится, но шестьдесят — высший класс. Я-то был для нее зеленоват, она восхищалась моими морщинами, жировыми валиками, седыми висками, надеясь, что все это будет усугубляться. Увядшая кожа, дряблые мускулы приводили ее в состояние транса, она покрывала их поцелуями, яростно сосала. При виде мешков под глазами была на седьмом небе. А уж старые обвисшие тестикулы просто обожала! Чем ниже и волосатее, тем прекраснее. Я вовсю пользовался этой ее склонностью, зная, что она, увы, эфемерна. Мари-Софи даже опубликовала роман на эту тему, имевший определенный успех, она мечтала стать писательницей, а в бутике работала, чтобы собирать материал. Книга получилась забавная, откровенная. Все старые пердуны Парижа прошли через ее постель. Она приняла последний вздох крупного магната, на нее западали сенаторы и даже один епископ и Великий раввин. Книга неплохо расходилась и привлекла к ней изрядное количество престарелых похотников, полных решимости попытать счастья на краю могилы. Но на тот момент избранником был я. Через месяц она предложила мне, чтобы похудеть, — я как раз бросил курить, — бегать вместе с ней. Я согласился — я действительно оброс жирком. Видели бы вы меня тогда — в агентстве я не расставался со спортивной сумкой.
Дважды в неделю она таскала меня в Люксембургский сад — она жила в XIV округе — или в Булонский лес. Сославшись на раннюю встречу, я покидал семейный очаг на улице Пасси в половине восьмого. Вы когда-нибудь бывали утром в Люксембургском саду? Зрелище трогательное и комичное одновременно. Вы встретите там два типа людей: это собачники, восторгающиеся гениталиями своих питомцев, и бегуны. Эти вторые — разношерстное племя: старые актеры, страдающие тиками, молодые актриски, боящиеся животика, непременно с тренером, щебечущие на бегу подружки, убеленные сединами интеллектуалы и политики, не желающие отставать от жизни, отряды пожарных, молодых активных пенсионеров, борющихся со временем. Многие ногами роют себе могилу: каждый месяц по крайней мере один из них падает на этом поле битвы, сраженный инфарктом или сердечным приступом. Мари-Софи стала моим учителем мотивации. Поначалу я жестоко мучился. Через двадцать пять минут бега трусцой мне казалось, что я умираю. Я падал на траву, ловя ртом воздух, уверенный, что вот-вот отдам богу душу. Она нависала надо мной с ненасытной улыбкой, уперев руки в бока. Разгоряченная бегом, она всякий раз требовала, чтобы я брал ее, часто стоя, прислонившись к дереву, когда мы были в Булонском лесу, среди колумбийских трансвеститов и фургончиков. Я ждал с минуты на минуту сердечного приступа и был к этому готов. В конце концов, я хорошо пожил, дела меня больше не увлекали, жене и детям светил после меня солидный доход, свой долг я выполнил.
Но я был жив, и чем больше терпел, тем больше требовала от меня Мари-Софи. Чудовищная мысль созрела в моем мозгу: она хочет убить меня, она для того и связывается со стариками, чтобы отправлять их на тот свет. Такая извращенная форма Эдипова комплекса в отношении престарелого отца, а то и деда. Она соблазняла их не ради денег, а чтобы положить прекрасный конец их жалкому существованию. По ее замыслу, я должен был умереть в состоянии эпектаза, выражаясь религиозным языком, а попросту говоря, оргазма. Эта перспектива мне даже нравилась. Во время любовного акта я ждал последнего спазма, который пронзит мою грудную клетку, обездвижит руки: мгновенная смерть в дивном лоне моей любовницы, в путанице сплетенных тел, с еще влажным от ее слюны ртом. Она смотрела мне прямо в глаза, когда я кончал. То, что я принимал за страсть, было лишь нездоровым любопытством: она хотела видеть во всех подробностях, как я отдам концы. Я наводил справки о ее прежних любовниках. Почти все откинулись, но их преклонный возраст объяснял столь высокий процент смертности. Как ни странно, от бега я окреп, сбросил пять кило, мой сердечный ритм выровнялся, исчез животик, к великому удивлению Мари-Софи, которую огорчала моя живучесть. Я завязал с вином, с крепкими напитками, не ел жирного и острого. Жена дивилась моей новой физической форме, чуяла соперницу и заставляла меня брать ее непременно всякий раз с семяизвержением. То есть в плотском плане я работал на два фронта. Моя любовница ужесточила режим и увеличила время бега до часа без перерыва. Ничто так не возбуждает, как любовь со своим потенциальным убийцей, — вы словно имеете саму смерть. Из бравады я принимал вызов и был счастлив, что умру в объятиях той, что хотела меня уничтожить. Она этого уже почти не скрывала. Я просил ее лишь об одном: если я рухну однажды замертво, то хочу испустить последний вздох, уткнувшись носом между ее дивных ног, в упоительном запахе ее лона. Я настойчиво просил ее сесть на меня верхом, в какой бы час это ни случилось и сколько бы ни было вокруг народу. В конце концов, смерть стоит небольшого оскорбления приличий. Она пообещала и удвоила усилия, чтобы прикончить меня. Однажды серым прохладным ноябрьским утром, в Люксембургском саду, на аллее, что идет вверх вдоль лицея Монтеня, у ограды которого курят, ширяются и дерутся подростки, я изо всех сил держал темп. Мы пошли на четвертый круг. Мари-Софи, далеко опередившая меня, оглянулась с мстительной ухмылкой.
«Пошевеливайся, не отлынивай…»
Я видел ее блестящие глаза, улыбающиеся губы, розовый язык, ее роскошное тело, туго обтянутое черным трико; надежда на мою близкую смерть была написана на ее лице. Для нее я был уже покойником — вопрос нескольких минут. Она раздраженно махала рукой, предлагая мне догнать ее, — и вдруг пожала плечами, поднесла руку к груди и медленно осела наземь с изумленным выражением на лице. Качнулась, точно сбитая ветром чайка, но вместо того, чтобы подняться, завалилась в пыль. В широко раскрытых глазах застыло недоверие: не может быть, чтобы недуг сразил ее! Она упала прямо под ноги команде тренирующихся пожарных, которые от неожиданности сбились в кучу малу. Мари-Софи умерла полчаса спустя, ни массаж, ни инъекции не помогли. Вскрытие показало врожденный порок, сердечную гипертрофию: она была обречена. Интенсивные занятия спортом ускорили конец. Этот чудовищный эпизод поверг меня в растерянность. Я одержал победу над той, что хотела меня убить, но лишился восхитительной любовницы. Я настоял на том, чтобы оплатить похороны. Похоронили ее на Гваделупе, в коммуне Бас-Терр, известной своими ураганами и землетрясениями, в сильную грозу. После погребения я обедал с ее родней, братьями и сестрами, все были убиты горем. Одна из них, старшая, мне понравилась. Я взял ее в оборот, но она отказалась мне уступить, пока в семье траур. Я вернулся оттуда другим человеком. Я выжил; судьба дала мне шанс, который я должен был осознать. Я не мог продолжать жить как раньше. Кончина Мари-Софи стала, так сказать, концом моей прежней жизни.
Тогда-то я и встретил Монику: она грустила после вашего разрыва, я тосковал. Мы стали вместе залечивать раны. Это замечательная женщина, большой талант. Когда она не рисует, то читает мне по вечерам несколько страниц из книги — романы, стихи, философские эссе. Немного Шопенгауэра, Витгенштейна или Дерриды на ночь — лучшее снотворное. Ее голос убаюкивает меня. Страсть к собакам ее покинула, могу вас успокоить, теперь она предпочитает беспечную негу кошек. Я уже попросил у жены развода, оставлю ей половину моего имущества. Я готов даже отдать ей все, лишь бы обрести покой. Мне пятьдесят один год, и я начинаю новую жизнь. Мы с Моникой вынашиваем смелый план: создать рай на земле, совершенную экосферу с помощью новейших технологий, город под куполом, где люди смогут ходить голыми и разные виды будут сосуществовать в гармонии. Мы прощупываем почву в Бретани, в Стране Басков, и уже назвали наш проект «Эдем II». Что вы на это скажете?
— Ничего не скажу, — мрачно ответил Антонен, — это ваш выбор…
— Я знаю, я слишком много говорю о себе, а вы ведь пришли просить у меня помощи. Посмотрите, Антонен…
Он обвел рукой кафе, столики, выставленные на тротуар, сидевших за ними молодых людей и девушек в экстравагантных нарядах, которые болтали и громко смеялись.
— …посмотрите вокруг. Здесь полно богемной молодежи, все эти люди видят себя в будущем режиссерами, пластическими хирургами, актерами, писателями, певцами, поэтами, гениями, которых признают потомки. Они ждут издателя, продюсера, который вознес бы их к вершинам славы. Взгляните вон на того красавчика: он издал книгу, которая неплохо продается, ему нет еще тридцати, смотрите, как он собой доволен. А вот другой рядом с ним: три года он ищет деньги на постановку фильма, уже почти отчаялся, ему за сорок пять, время уходит. Каждый сегодня хочет быть артистом, воплотиться в своих творениях. Я знаю, сам такой. Спросите любую из этих хорошеньких девушек, чем она занимается. Она вам ответит: я актриса! Спросите тогда, в каком ресторане. На самом деле она официантка или барменша, но не теряет надежды получить роль. Все хотят достичь славного статуса творца, но немногим это удастся. А если будут упорствовать — кончат клошарами, как вон тот…
Ариэль указал пальцем на стоявшего под фонарем художника-ирландца: всегда босиком, в грязном полушубке, он ходил по кварталу бледный, с запавшими глазами, с большой картонной папкой под мышкой, полной мазни, которую он пытался всучить простакам. Рядом с ним на бетонной скамье отдыхали другие бродяги, ни дать ни взять синод мистиков, погруженных в созерцание собственной пустоты.
— Но вы, Антонен, — вы не попались в эту западню. Вас мучит другое, мне трудно вас раскусить. Я возлагал на вас большие надежды, а вы взяли и все бросили. Я недооценил вашу жажду абсолюта и, главное, вашу необузданность.
— Я совершил ошибку…
— Вы поддались порыву, это сильнее вас.
— Ариэль, я хочу вернуться на работу, я на мели, дайте мне еще один шанс…
Ариэль нахмурился; повисло долгое молчание.
— Я знаю… но это невозможно.
— Я изменился, уже сейчас, за несколько дней, я обещаю вам…
— Во-первых, ваше место занято человеком помоложе. Но и по дружбе я не могу взять вас сейчас. Если я поддамся жалости, вы сами мне этого не простите. Приходите через год, а тем временем поработайте над собой, покажитесь психотерапевту. Вам это нужно, ничто ведь не случайно. Переживите свою неудачу до конца. И главное — отдохните. Что-то вид у вас несвежий: для такого фанатика гигиены вы, на мой взгляд, несколько себя запустили — под ногтями черно, борода не подстрижена, волосы грязные. Возьмите себя в руки, мой мальчик.
Ариэль протянул ему раскрытую ладонь и, широко улыбнувшись, ушел. Антонен едва сдержался, чтобы не заехать кулаком ему в физиономию.
Глава 16 Je vous salis, ma rue, pleine de crasse[14]
И тогда он увяз в Париже, как в болоте. Ему понадобилось меньше двух недель, чтобы опуститься душой и телом. Изречение Изольды — клошаром становятся за сорок восемь часов — он превратил в пророчество. Деньги кончались, с квартиры он съехал, перебирался из одной скромной гостиницы в другую. Хозяева косились на него недоверчиво и каждое утро справлялись о его платежеспособности. Безденежье — это тьма невзгод: считаешь гроши, боишься, что не хватит, ощущаешь себя изгоем в своей стране; все это мучило его. Его вещи умещались в одном чемоданчике на колесах.
В тридцать один год он чувствовал себя конченым человеком. Ничто его не интересовало, ни события, ни работа, и еще меньше — женщины, которые пробегали мимо, взмахивая юбками и звонко смеясь.
Мало-помалу он перестал принимать душ: зачем мыться каждый день, если завтра все равно будешь грязным? То, что ужасало его прежде, теперь казалось нормальным. Собственные запахи были не так уж страшны. Со своими миазмами можно ужиться, это от чужих шарахаешься. Он наслаждался, прея в собственном соку, после стольких лет соблюдения этикета. Решено, по части гигиены он берет годичный отпуск. Успеет еще намыться, когда вернется в общество. Он пытался вновь разжечь свою злость на маргиналов, как подстегивают загнанную лошадь. Безрезультатно.
Если хватало духу, он шел навестить Фредо под Шарантонским мостом. Они неплохо спелись, после того как он попытался его убить. Об этом они никогда не заговаривали. Славный малый Фредо хорошо к нему относился; он даже предложил ему разделить «его скромную хижину». Зла на него бродяга не держал, скорее был недоволен, что Антонен не довел дело до конца, и искренне беспокоился, видя, как опустился его новый друг.
— Ты красивый, мой Тонио, ты образованный, мог бы жить да радоваться. Что с тобой случилось?
— Что-то пошло не так, сам не знаю что.
Вдвоем они бранили жестокость этого мира и эгоизм людей. В каждом разговоре вспоминали, как Антонен задал взбучку «патронессе». Черт возьми, до чего же ему полегчало! Фредо над ним посмеивался — «это ты маху дал!» — оба хохотали и приходили к совместному выводу: во всем виновата непруха. Легко было валить на нее. Антонен приносил Фредо томики, найденные на улице, на мусорных ящиках. Книга — единственная вещь, которую можно оставить на виду где угодно, никто не украдет. Он читал ему вслух, например, стихи Раймона Кено. Фредо особенно нравились эти строки:
Если ты думаешь, если ты думаешь, если, девчонка, думаешь ты, что так, что так, что так будет вечно — бездумно, беспечно, когда бесконечно улыбки вокруг, и весна, и цветы, то знай, девчонка, поверь, девчонка, девчонка, пойми: ошибаешься ты…[15]Он в шутку спросил, не зовут ли жену Кено Кенуй[16]. Антонен в ответ рассказал ему анекдот, слышанный от Моники, о Жане Кокто: его фамилия, говорил поэт, — множественное число от коктейля. Но больше нескольких строк из любой книги ему прочесть не удавалось. Душа не лежала. Фредо вздумалось приобщить Антонена к бормотухе. Он заставлял его напиваться, хотел, чтобы они оба были «пьяны в стельку, в сосиску». Антонен пил через силу, по доброте душевной, мерзкое кислое пойло, как пьют лекарство. Через несколько минут его выворачивало, и единственным результатом была неотвязная головная боль. Они вместе отправлялись на нищенские рынки в Сент-Уан и Монтрей, к китайцам, египтянам, курдам, торговались со старьевщиками, перед которыми был разложен на одеялах самый невероятный хлам: щербатая посуда, ржавые ножи и вилки, сломанные коляски, грязные открытки, тряпки, бывшие когда-то свитерами и кардиганами. Каждый отброс был предметом ожесточенного торга за несколько евросантимов. Фредо учил его избегать мелкой шпаны, местного хулиганья, блатной публики, группок нищей братии с тощими собаками. Это был мир подонков, голодный и злобный: не крестные отцы из предместий, а «крутые парни» из Магриба, с Корсики, из Грузии, Чечни и бывшей Югославии, которые заправляют большими делами, не расстаются с «калашниковыми» и «глоками» и разъезжают в спортивных машинах со сногсшибательными красотками. Это было племя бродяг, всякой твари по паре, те, кто бороздит Европу со своими псами, сбиваясь в банды хищников, ловко поигрывая ножичками и совершая кровавые зверства почти случайно. То были флибустьеры, бандиты с большой дороги, с обритыми наголо головами, с накачанными торсами и тяжелыми ручищами. Но самыми опасными на поверку оказались другие, тощие, и среди них немало демобилизованных солдат, отвоевавших в Боснии, Хорватии, Молдавии, Абхазии: самые крепкие состояли в подручных у крестных отцов 93-го департамента. Антонен боялся, что один из этих ножей однажды пустит кровь ему, такому явно бесхарактерному, просто за то, что он живет на свете, потому что его лицо кому-то не приглянется. Вконец оголодав, они с Фредо шли с другими такими же обитателями городского дна в XIII округ, где в мрачном бетонном здании располагалась Армия спасения и можно было съесть краюху хлеба и миску супа, пропев надтреснутым голосом пару гимнов. Одетые по-клоунски энтузиасты раздавали им Библии.
— Чтобы пожрать, — говорил Фредо, — я бы и в ислам обратился. Если потом еще и выпить дадут.
Он уговаривал своего нового друга поселиться с ним — «сделаю тебе скидку», — но Антонен дорожил своей независимостью и каждый вечер возвращался в гостиницу.
Денег не хватало, и он перебрался за кольцевую дорогу, за Порт-де-Пантен, в грязные меблированные комнаты под названием «Митиджа», предназначенные для беженцев и нелегалов, на узкой улочке рядом со стройкой. Через месяц даже за эту конуру платить стало нечем.
И вот однажды утром он оказался со своими скудными пожитками на парижской мостовой у Северного вокзала. Присев на дорожный столбик, он обхватил голову руками. Было начало июля, первая жара. Он вспомнил, как возле парка Монсо два с лишним года назад поджидал клиентов, вспомнил так некстати появившийся пьяный тандем. С того момента все и пошло кувырком. Нет, он никогда никого не убьет, разве что случайно. Он хотел очистить мир, а грязь засосала его. Мы однажды перестаем ненавидеть, не из великодушия, но по лени, потому что ненависть поглощает слишком много энергии. Мы прощаем, чтобы задуматься о другом. Пока он тер пальцами виски, прогоняя головную боль, какой-то молодой парень, рыжий, кудрявый, с круглыми розовыми щеками, положил на его сумку монету в два евро, пробормотав что-то по-английски. Он обернулся к группе туристов обеспеченного вида — отец, мать, две девочки и собака в окружении элегантных чемоданов, — и крикнул в их сторону:
— Is that ок, Daddy?[17]
Ответа Антонен не расслышал, но паренек в бермудах встал рядом с ним и с извиняющейся улыбкой проговорил:
— Just опе photo, please…[18]
Он дождался, пока отец настроил объектив:
— That is fine, Joey, we have y ou with a typical french clochaarde...[19]
— Спасибо, мосье, — сказал парень и вприпрыжку убежал к своей семье, которая уже садилась в такси.
Антонен посмотрел на монетку и, поколебавшись, сунул ее в карман. Тоже деньги. Он убедился, что его бумажник на месте, и тут группа из трех подростков в рваных свитерах с бандитскими физиономиями и сильным восточным акцентом приказала ему убираться:
— Ты, не тор-р-рчи здесь, это наша тер-р-ритор-р-рия.
Они показывали пальцем на компанию человек из десяти, то ли болгар, то ли албанцев, то ли русских, молодых и крепких, которые готовы были прийти на подмогу, если он ослушается. Самый младший, лет двенадцати, не больше, и самый агрессивный схватил сумку Антонена и с воплем отшвырнул ее подальше. В прошлой жизни он бы выдал им по первое число. Теперь же молча покорился: улицы поделены, места забиты. Приходилось уважать законы городских племен.
Он сдал свои вещи в ломбард, в том числе часы и смартфон, остатки былой роскоши, и со скромной суммой денег, с вещевым мешком на плече отправился к Сене осваивать свой новый дом — улицу. Каждый день ему приходилось решать проблемы, чтобы просто выжить: найти, где поспать, что поесть, где уединиться, чтобы справить свои надобности. Он ночевал в чахлых скверах, в канализационных трубах, на пустырях, постелью ему служили картонки. Питался он плохо и нерегулярно, страдал головокружениями, тротуар колыхался под ним, дома сжимались, точно складки аккордеона. Его мучили одновременно голод и тошнота: стоило ему съесть яблоко или бриошь, как его выворачивало. Он страдал морской болезнью, хотя не был подвержен бичу уличного сброда — пьянству. Антонен был своеобразным антропологическим исключением: трезвый клошар. Он пребывал в прострации, поглощенный своими повседневными заботами, утрачивал мало-помалу чувство времени, изъяснялся нечленораздельным брюзжанием. Он чувствовал, что слился с асфальтом, который стал его второй кожей, врос в тротуар, впечатался как след. Его подкашивали приступы неодолимой усталости, но спать он боялся, чтобы не обобрали. В замкнутом кругу бесплатных столовых и ночлежек он делил ночи с лунатиками, с безумцами, которые бродили голые или в одних трусах, согнувшись пополам, и подолгу смотрели на него, не говоря ни слова. В ночлежках обычным делом были изнасилования. Но его защищала от нападений надежная броня: от него воняло. Зловоние стало для него лучшим щитом. Очень скоро у него завелись паразиты — клопы, блохи, вши. Забывая о дезинфекции, он чесался как одержимый. Однажды он решил поставить перед собой стаканчик с картонкой, на которой было написано: «Спасибо за ваше доброе сердце». Он слушал в метро, как теноры от нищеты с сокрушенной миной исполняют свою вечную песню. Язык у них был плохо подвешен, всегда один и тот же сценарий, чтобы разжалобить простаков. Кто говорил слишком тихо, кто надсаживался. Конкуренция других таких же бедолаг уменьшала выручку каждою. Антонен не мог заставить себя обращаться к пассажирам в вагоне метро, он не мог похвастаться красноречием нищеты. Он стал членом Профсоюза попрошаек, побирушек, собирателей окурков и Протянутых рук. Влился в войско доблестных паладинов, занятых делом чрезвычайно серьезным — саморазрушением. Он больше не видел лиц людей, только подвижный лес ног, брюк, туфелек. Да он и сам стал прозрачным: человек, севший на тротуар, теряет лицо, исчезает с коллективного экрана.
Подавали ему немного. Дамы бросали мелкие монетки, шепча: «Мужайся!» Мальчишки пинали его блюдце ногами. Каждому прохожему, потрясенно смотревшему на него, ему хотелось сказать: «Всего несколько недель назад я был чистым и обеспеченным. Я был таким, как вы. А вы можете стать таким, как я».
Хорошо одетый человек, к которому он протянул руку, остановился и уставился ему прямо в глаза.
— И не стыдно тебе побираться — молодой, здоровый? Вставай и иди работать!
Мало того, он сгреб его за шиворот:
— Убирайся, бездельник, чтоб я тебя больше не видел!
Слова, которые когда-то произнес он сам, в устах другого человека ошеломили его. Зло, которое он мечтал совершить, вернулось к нему бумерангом. Он был согласен на всё: забей его кто-нибудь камнями, он бы и глазом не моргнул. Парадоксально, но унижение, презрение рождало в нем своеобразную гордость. Он научился выживать на два-три евро в день: полбатона, чашечка черного кофе, а остальное находил в мусорных ящиках, воровал в лавках, таскал со столиков кафе. Он допивал воду из стаканов, доедал объедки с тарелок, пока официанты не прогоняли его взашей. Обслуживать его отказывались, даже когда ему было чем заплатить: от него слишком плохо пахло. Он оброс стандартным арсеналом бродяги: тележка из супермаркета, полная хлама; рваный спальник, свернутый тюфяк, скомканное тряпье, пластиковые бутылки. Ничего не имея, он хранил все, даже пустые банки из-под содовой. Порой он сходился с такими же обездоленными, как он сам, болтунами, выпивохами, неисправимыми раздолбаями. Они читали ему вслух газеты годичной давности, с особенным вниманием прогноз погоды. Однажды он неделю делил скамейку в XII округе с малийцем, который слушал на своем транзисторе только классическую музыку и бормотал:
— Я очень богатый, я миллионел. Я умею ласполядиться капиталом. Вы, фланцузы, челесчул ленивые, нефиг мне тут делать. Извиняйте, забилаю мои капиталы…
Прежде общество неудачников пугало его, он боялся заразиться. Теперь они его успокаивали: есть те, кто пал еще ниже. Эти изгои были когда-то детьми, полными надежд, они могли бы стать адвокатами, инженерами, талантливыми музыкантами. А теперь они шатались причудливыми когортами по нашим улицам, медленно разлагаясь в городской вони.
Однажды на станции метро «Шанз-Элизе-Клемансо», битком набитой туристами, он мельком увидел со спины маленькую девочку с длинной косой, пристроившуюся сзади к японцам, чтобы вытащить бумажник. Он узнал ее по грациозному изгибу руки, змеиным движением вползающей в сумку и извлекающей банкноты, как срывают цветок. Это была она, его маленькая принцесса, с ее неровными зубками, невероятной ловкостью и живыми глазами. Она, его куколка, работала в поте лица, и он, умилившись, взмолился про себя, чтобы японцы безропотно дали себя обчистить. Эта девочка пробудила в нем ностальгию по недавнему прошлому. Он окликнул ее: «Мария Каллас, Мария Каллас!» Она нерешительно обернулась, у нее было столько кличек, как знать, ее ли зовут. Когда же она узнала его, ее лицо исказилось страхом, и она, подпрыгнув, как мячик, пустилась наутек. Он побежал за ней, но она была проворнее и оставила его позади в переходах метро. Он вышел к Большому дворцу, искал ее у очередей на выставки, под деревьями и на аллеях. Он не мог поверить, что она убежала от него. На ее глазах он вздул двух идиотов и отныне был связан для нее только с этим эпизодом насилия. Ищи-свищи ее теперь. Он так хотел убедить ее, что изменился. Он любил ее как собственную дочь, спас от расправы и не мог смириться, что его любовь не взаимна.
На следующий день он решил покинуть уличный ад и провести остаток лета с Фредериком под автострадой. Была, несмотря ни на что, какая-то буколическая нотка в этом жилище на границе города, там росла травка, бегали вокруг удравшие из аэропорта Руасси кролики, глаз мог отдохнуть на зелени, да и до Венсенского леса рукой подать. Фредо — жалкий тип, но не более, чем он сам; объединив свои невзгоды, они скрасят одиночество. Он наведет порядок в его бивуаке, наладит быт, научит его начаткам кулинарии. Он поможет ему и тем спасется сам. Вместе они выберутся из нищеты и через год-другой отпразднуют воскресение! Поход занял у него целый день, потому что путешествовал он, как некогда праздные короли, со всем домом, а у переполненной тележки вдобавок сломалось колесо. У него ничего не было, но и это ничего весило слишком много, и приходилось влачить его, как тяжкое бремя. Когда идешь пешком, Париж, при его длине едва ли в двенадцать километров, становится лабиринтом, каждая улица уходит на века в глубину, расстояния измеряются не в километрах, а во времени. Антонен останавливался каждый час, так он был слаб. Он не ел ничего существенного уже два дня. У лужайки Рейи, полной выехавшей на пикник публики и окруженной деревьями, дышалось легче. Близость леса вносила свежий сельский тон в засилье бетона и каменных фасадов. На деревьях заливались птицы.
Добравшись наконец до места, усталый и голодный, Антонен увидел, что жилище Фредо окружено заградительной лентой. Он громко позвал его, спросил по-английски тамилов, которые, смутившись, отвели глаза. И тут из машины без опознавательных знаков, припаркованной неподалеку на тротуаре, выскочили двое — два типа в штатском с повязками на левой руке.
— Антонен Дампьер?
— Это я.
— Судебная полиция. Вы арестованы за убийство Фредерика Делавуа.
Не успел он и слова сказать, как на нем защелкнули наручники и втолкнули в машину.
Глава 17 Свободное падение
Антонена привезли в комиссариат на авеню Домениль. Факты были таковы: Фредо нашли вчера вечером задушенным электрическим проводом. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев Антонена. Их часто видели вместе: это делало его главным подозреваемым. Его заперли в темной камере с лужицами крови на полу и следами рвоты на плинтусах. Ему было не привыкать. С обтрепанной страницы эротического журнала, валявшейся на полу, смотрел огромный сосок, разъеденный сыростью.
Против всяких ожиданий арест его воодушевил. Вернулась былая блажь. Ему хотелось быть виновным — не прошло и часа, как он признался в преступлении. Он так хотел уничтожить Фредо, что мог без труда взять его убийство на себя. Невероятная гордость наполнила его, смягчив горе от потери друга. Наконец-то он пребывал на высоте своих чаяний. На первом же допросе он признал вину, раздуваясь от сознания собственной внезапной значимости. Он был так точен в деталях, что и сам в конце концов поверил в свой вымысел. Инспекторы сменяли друг друга, удивляясь такой готовности сотрудничать. Морщась от запаха, они поглядывали на него с насмешкой. Видок у него был, конечно, подозрительный. Все по очереди выслушивали его версию, и он старался придерживаться каждый раз одной и той же. Его кололи по всем правилам. Но ему это было не нужно. Попроси его, он признался бы и в геноциде.
Кое-какие детали не сходились. Антонен утверждал, что задушил Фредо спящим в спальном мешке, а тело было найдено в траве неподалеку со следами борьбы. Когда его спросили о времени преступления, он наобум назвал девять вечера, в то время как вскрытие показало, что смерть наступила около полуночи. На вопрос о мотиве он ответил:
— Фредо распустился, пришлось его проучить.
Он так путался в показаниях, что вызвал подозрения офицера судебной полиции. На следующий день ему назначили адвоката. Это был парень моложе Антонена, почти мальчишка, в сером плаще под Богарта, прятавший свою юность под натужной серьезностью. Неопытность сквозила за каждым его шагом. Он был хорошо воспитан, то запинался, то иронизировал. Он уговаривал Антонена отказаться от своих показаний, советовал не подписывать протокол. Тот смотрел на него свысока: это его преступление и он не откажется ни от одного слова. Адвокат вспылил, вежливости не хватило:
— Если вы кого-то покрываете, то будете отвечать за дачу ложных показаний, если же несете вздор — это из области психиатрии. Как я могу вас защищать, когда вы и мне лжете?
Он пригрозил, что больше не придет. Антонен его не удерживал и твердо стоял на своем. Полицейские ему тоже не верили, но убийство бомжа представляло мало интереса, и готовый виновный их устраивал. Его передали следственному судье, секретарь записывал показания. Судья, женщина лет сорока с длинными черными волосами и запавшими глазами, заставила Антонена трижды повторить его версию и поинтересовалась, имеет ли он выгоду от признания себя виновным. Отчаявшись что-то из него вытащить и за неимением других ниточек, она решила отправить его в тюрьму Френ.
Несколько дней Антонен прожил в эйфории. Печаль по Фредо компенсировалась сознанием выполненного долга. Он сидел с убийцами, с крутыми парнями в татуировках, с налетчиками без чести и совести и гордился тем, что принадлежит к братству отверженных. В камере он спал на полу, отвыкнув за столько месяцев на улице от кровати. На него смотрели как на мелкую сошку, шпану, из-за сомнительной гигиены его сторонились и прозвали Вонючкой. Ему было плевать. Судьба его свершилась. Будь жив его отец, он гордился бы им. Он послал длинное письмо Изольде де Отлюс, подробно признался ей во всех своих планах. Рассказал о снизошедшем на него откровении людской мерзости, о своей метаморфозе в пророка истребления, о своих неудачах и наконец о победе — убийстве Фредо. Он даже планировал, добавил он в постскриптуме, взять ее в союзницы, уверенный, что вместе они совершат великие дела. Он ни о чем не жалел — разве только о том, что больше никого не прикончил. Зная, что все письма в тюрьме читают, он надеялся убить двух зайцев: вернуть уважение этой женщины и придать достоверности своему запротоколированному рассказу. Она, разумеется, не ответила. Через два дня пришел адвокат.
— Мсье Дампьер, у меня хорошие новости, вы свободны.
— Как?
— На пустыре близ Венсенского леса, возле Порт-Доре, нашли девочку, задушенную тем же способом. То же орудие убийства, электрический провод, каким задушили Фредерика Делавуа. Смерть наступила через два дня после убийства бродяги. Это снимает с вас подозрения, так как в это время вы уже находились под арестом.
— Кто эта девочка?
— Цыганочка из табора, лет двенадцати-тринадцати, не больше.
— Как ее зовут?
— В том-то и дело, что никак не зовут, у нее были только клички. Дайте глянуть в досье. Ее знали под множеством прозвищ: Гудеа, Эппл, Одеон, Грасия, Самсунг. И вот еще: Мария Каллас.
— О нет, только не она…
— А что, вы ее знаете?
— Конечно, она бывала в «Доме ангелов». Поверить не могу, нет, этого не может быть. Кто мог это сделать? Вы уверены? Проверьте. Мария Каллас, как певица?
— Есть предположение, что она была свидетельницей убийства бомжа и ее убили, чтобы не болтала лишнего. Задушили ее через два дня, вы были уже в тюрьме. Ее тело было наспех прикрыто ветками в трехстах метрах от места первого преступления. Ее нашли прохожие, привлеченные лаем собаки.
Антонен обхватил голову руками, потом вдруг поднял ее, просияв, точно его осенила гениальная идея:
— А если… если я скажу, что это я ее убил, как вы думаете, мне поверят?
Во взгляде юного адвоката промелькнула печаль: он мечтал о гениальных мошенниках, об отважных гангстерах, а ему достался жалкий мифоман!
— Вы и вправду больны, старина, с головой не дружите. Большинство подозреваемых кричат о своей невиновности, вы же берете на себя все преступления. За что только коллегия подсунула мне такого идиота?
Назавтра Антонена выпустили, вернее, с позором вышвырнули на улицу: он только запутал дело и следователи потеряли из-за него драгоценные дни. Сокамерники свистели ему вслед. Он присвоил себе титул, которого не заслуживал. Мадам де Отлюс, вызванная в качестве свидетельницы, подтвердила, что ее бывший сотрудник психически неустойчив и склонен к насилию. Но на действия она считала его неспособным. Он — жалкий, бесхарактерный тип.
Это подкосило Антонена.
Тюрьма могла бы его спасти — свобода доконала.
Он потерял двух людей, имевших для него значение — трогательного бродягу Фредо и Марию Каллас, веселую кроху, которую ему хотелось спасти от нищеты. А мадам де Отлюс, его муза и вдохновительница, с презрением отвернулась от него.
Несколько дней он бродил по Большим бульварам, питаясь из мусорных контейнеров, ставших для него настоящим рогом изобилия. Он подбирал фрукты, в основном бананы, слегка почерневшие, но вполне съедобные. Ошивался вечерами у ресторанов и магазинчиков, поджидая ящики с неликвидом и оспаривая их содержимое у таких же бродяжек. Он довольствовался объедками, очистками, требухой и обрезками протухшего мяса. Однажды в метро, на линии 4, молодой человек в хорошем костюме обратился к пассажирам:
— Здравствуйте, я хорошо зарабатываю на жизнь, ни в чем не нуждаюсь, провожу отпуск на Лазурном берегу летом, в Альпах зимой. Я собственник моей квартиры, не имею детей на иждивении, ужинаю каждый день в ресторане. Если вы так глупы, чтобы дать мне один-два евро, я, пожалуй, соберу. Заранее спасибо.
Пассажиры зааплодировали, щедро зазвенела мелочь. Антонена эта тирада привела в ужас.
И тогда он скрылся в подземельях города. Добрые люди подсказали ему, как спуститься в канализацию, — через незакрытый люк на улице Шарль-Фурье в XIII округе, возле приюта «Крошка хлеба», где он провел несколько ночей. Под блестящей поверхностью Парижа, под его оживленными улицами существует сложнейшая сеть подземелий, лабиринт линий метро и катакомб, переплетение газовых труб, телефонных и электрических проводов. А еще ниже, под этим лабиринтом коридоров и туннелей, раскинулся колоссальным полипом целый пейзаж провалов и проемов, настоящий муравейник, не нанесенный на карты, каменные бездны, темные пещеры с узкими горловинами, подземные озера, промытые в известняке, гипсе, песчанике. Париж похож на чемоданчик фокусника или контрабандиста, это город с двойным, с тройным дном. В этом царстве теней живут призраки-полулюди, пещерные дикари, враждующие племена и одиночки, бежавшие от мира. Украв фонарик, Антонен неделю блуждал по городскому нутру, боясь, что его раздавит бремя темноты. Он шлепал в грязи, ориентируясь по надписям на каждом ответвлении коллектора, день был под собором Парижской Богоматери, другой под Оперой. Увидев полустертую табличку «Вандомская площадь», он сказал себе: надо же, я ночую в «Ритце». Он наблюдал издалека за бригадами рабочих, одетых, как водолазы, в тяжелые сапоги до бедер, в дыхательных масках, и видел в них воплощение своих замыслов: они прочищали трубы от сточных вод, грязи, тяжелых металлов. Он тоже хотел вычистить мир от дерьма, он провозгласил себя Великим Ассенизатором, Принцем Уборки — и вот теперь копошился, как червь, под землей. Он встречал диковинную фауну: огромных крыс, тысячи тараканов, от полчищ которых, казалось, колыхались стены, пауков, летучих мышей, мертвыми плодами висевших под потолком.
Очень скоро он не выдержал зловонных испарений: ему казалось, что он окунулся в выгребную яму парижан. Окончательно потеряв голову в этом лабиринте, он выбрался на воздух через выход под мостом Альма, открытый для посетителей, проскочив между двумя группами. Гигантский кишечник Парижа исторг его как тошнотворный экскремент — каковым он и был. Заросшее грязное существо, распространявшее трупный запах, — вот чем он стал теперь. На время он нашел приют на Монмартрском кладбище, в конце улицы Клиньянкур: перебирался ночью через ограды и спал в мавзолеях, под защитой от ветра, но не от стужи и заморозков. Он делил с покойниками их жилище, но еще не был столь нечувствителен к тяготам и вынослив к холоду. В конце концов он спустился на станции метро, которые Управление городского транспорта превращает на зиму в коллективные дортуары. На каменных перронах, как скот, спали люди. Устав от этого отребья, слишком похожего на него самого, Антонен облюбовал пустой уголок на станции «Круа-Руж», заброшенной с незапамятных времен, подобно другим станциям-призракам, «Аксо», например, или «Молитор». Это помещение арендовали иногда для киносъемок, в 2008 году там устроили выставку эротических рисунков, которую пассажиры видели мельком из окон, шарахаясь от невероятных поз на этих фресках. Стены были исписаны гигантскими граффити, пол засыпан осколками стекла, всевозможными отбросами, пластиковыми, металлическими, картонными, которые грызли крысы. Он нашел в туннеле на запасном пути маленькую нишу метра два глубиной, служившую для хранения инструментов, и устроился в ней. Шум проходящих поездов убаюкивал Антонена. Машины везли пассажиров к механическому апокалипсису, взвывая и скрипя колесами на поворотах, уносились с такой скоростью, что он едва успевал различить прижатые к стеклам лица, покачивающиеся вправо-влево тела. Он забился под землю, стал ископаемым существом и, точно святой в алькове, свернувшись клубочком, ждал смерти.
Бригада рабочих нашла его в нише и вызвала полицию. Два агента ББПБ, Благотворительной бригады помощи бездомным, пришли за ним под вечер и, положив на носилки, вынесли наверх. Он еще отбивался, несмотря на слабость, и его силой затолкали в автобус социальной помощи, ожидавший на перекрестке Круа-Руж. Фургон с тонированными стеклами был полон горластых бедолаг, расхристанных баб в синяках. Его бесцеремонно толкнули на продавленное пластиковое сиденье рядом с верзилой с мутными глазами. Тощий тип в больших очках вошел следом за ним, непрерывно бормоча:
— Поэзия — она стоит сэндвича. Послушайте стихи…
Он старательно выговаривал слова, но его заставили замолчать увесистой оплеухой, разбив ему очки. Он не протестовал, продолжая бормотать себе под нос. ББПБ была кошмаром бродяг, предпочитавших улицу приютам. Свобода в аду лучше комфорта в оковах. Их всех везли в Нантер, в центр размещения и лечения бездомных. Бывшая тюрьма, исправительный дом в XIX веке, теперь это был приют для нищей братии. Автобус, отправившийся около одиннадцати вечера, объезжал город всю ночь. Полицейские — их называли Синими, — отделенные от толпы решетчатой перегородкой, сидели спиной к гвалту. Работу свою они ненавидели, находились в самом низу служебной лестницы и постоянно опасались удара ножом или бутылочным осколком. У Порт-де-Ванв автобус сделал долгую стоянку: кто-то сообщил о полуголом парне на вентиляционной решетке метро. Его нашли буквально поджаренным от лба до пупка, с отпечатками решетки, как на антрекоте. В автобусе хихикали и отпускали шуточки:
— А ну-ка, бифштекс на стол, это для нас, а то живот подвело!
Обожженного бродягу завернули в термоодеяло и увезли на «скорой» в больницу. Синие обшаривали каждую станцию метро, автобусные остановки, подворотни, кусты, где могли быть их «клиенты», кишевшие, как тараканы под камнем. Иногда садились и добровольцы, которые хотели умереть в тепле и из последних сил набирали номер службы спасения — 115. Другие, «строптивцы», которых сажали силой, бранились, обзывая вновь прибывших коллаборационистами и предателями. Нужду справляли прямо в автобусе, ноги шлепали по вонючей жиже. Тусклые лампочки слабо освещали весь этот сброд: наркоманов и проституток, старых обдолбанных хиппи и случайно подобранных нелегалов, нищих всех мастей, с опухшими лицами, воспаленными глазами, в свищах и гнойных корках, — корабль дураков разъезжал по Парижу, вот чем был этот вонючий автобус. Жуткий смех из самого нутра звучал порой как выстрел и нес с собой слизь, кровь, дерьмо. Ревущий легион громогласно требовал оставить его гнить и подыхать как ему заблагорассудится. Никакой помощи эти босяки не просили — только права разлагаться заживо. Грязная бабища, подсев к Антонену, предложила ему свои прелести за глоток из горлышка, — ей показалось, будто у него из кармана торчит бутылка.
На рассвете они въехали в больничный двор. Шел снег. Прямоугольные здания под крышами в белых фестонах, заснеженные ветви деревьев — все это походило на сказочный дворец. Провода и карнизы были покрыты коркой льда. С водостоков свисали острые сосульки, словно кинжалы, готовые поразить неосторожного. В окружающем безобразии этот дом стоял, будто осиянный славой. Все было прекрасно и чисто на одно утро — пока не замарает пейзаж людской обоз. И тогда вновь явится из XIX века мрачный мегалит для наказания неимущих. Раздался звон колокола. Автобус исторг свой горластый груз. Антонен еще успел услышать речь надзирателя.
— Ну, шваль, добро пожаловать в клуб. Знаете, какая разница между человеком и животным? Напомню вам: горячая вода и мыло.
После этого он рухнул без сознания на девственный снег.
Глава 18 Лазарь восстал из могилы
Когда врачи раздели Антонена и очистили его, точно луковицу, снимая щипчиками прилипшие к телу лохмотья с величайшей осторожностью, чтобы не содрать кусок кожи с майкой или носком, их глазам предстало живое мясо, все в трещинах и язвах. В длинных густых волосах вши кишели так, что им было тесно. Исходивший от него запах гнили был настолько невыносим, что врачам и санитарам пришлось работать в масках. Мелкая живность гнездилась на всех волосистых частях — лобковые вши в паху и под мышками, блохи на ногах, парша на торсе. Волос на лобке не осталось — их сгрызли насекомые. Его тело было одной большой язвой, кишащей червями и крошечными крабами: вся эта живая пыль покрывала его остов, создавая броуновское движение мошек, личинок и прочей гнуси. Врачи были потрясены и сделали десятки снимков, прежде чем приступить к обработке. Антонена положили на мешковину и осторожно опустили в металлическую ванну с крезолом и другими дезинфицирующими препаратами — бетадином, противогрибковыми, бактерицидными. Он отмокал в ней целый день; тем временем ему обрили голову машинкой, вызвав ливень гнид. Сотни задохшихся насекомых всплыли на поверхность, образовав живой ковер, который медики собрали в контейнеры. В этом растворе, регулярно подогреваемом, он пролежал семь часов. Потом, с бесконечными предосторожностями, его вынули и поместили в палату интенсивной терапии. Ему выбрили все тело и крошечными щипчиками извлекли яички и личинки из множества открытых ран. Его искусанная кожа напоминала терку для сыра и рвалась от малейшего прикосновения. Он едва избежал ампутации большого пальца, на котором воспалилась ранка от колючей проволоки. Он был истощен, обезвожен, страдал авитаминозом, осложненным кандидозом, кровь его кишела паразитами, в пищеводе образовался абсцесс, не говоря уже о тяжелейшей анемии. Молодость спасла его, и через месяц он встал на ноги. Хорошо, что он хотя бы не пил и избежал цирроза и гепатита С. Его поместили в общую палату на шестерых, где каждый лежал в выгороженном боксе. Выходить было запрещено, за столом не давали ни вилок, ни ножей.
Вскоре его вызвали к больничному психиатру Пьеру Криптофилосу, специалисту по православному богословию, внуку эмигрантов из Салоников. Он был не из тех озабоченных бородачей, что часто встречаются в профессии и выслушивают вас, хмуря брови, словно говоря: что бы вы ни рассказывали, я псих похлеще вас, и не пытайтесь меня впечатлить. Человек он был еще молодой, спортивный, с ирокезским гребнем на голове, и все время смеялся. Он смеялся, чтобы снять тревогу: «Вы псих? Я тоже, это не важно, поговорим на равных». Поначалу Антонен не раскрывал рта; врач предлагал ему партии в шашки, в джин-рами, пока не вытянул из него наконец несколько слов. Когда же плотину молчания прорвало, Антонен рассказал все, от происшествия в Австрии до своих поползновений к геноциду, не пропустив ни неудавшихся попыток, ни страсти к Изольде, ни ареста и лживого признания. Психиатр время от времени что-то записывал, изо всех сил стараясь не показаться ни удивленным, ни шокированным. Он кивал, будто мог все понять, все простить. Однажды вечером он встал и присел на край стола.
— Если бы я должен был объяснить ваши действия, то мог бы дать вам несколько толкований: например, ваша одержимость чистотой трансформировалась в эстетику мерзости, или же, не сумев убить клошара, вы решили убить самого себя, сделавшись для себя объектом отвращения. Но я предоставляю вам найти ответы самому. Вы познали упадок прежде славы. Не попробовать ли вам обычную жизнь?
В итоге он его попросту спровадил:
— Новому руководству надоел мизерабилистский имидж этой больницы. С него довольно голодранцев, бродяг и калек. Вы совершенно здоровы, старина. Разбирайтесь сами с вашими мелкими горестями, а на улицу выходите разве что выпить кофе или погулять. Я подам вашу кандидатуру на бесплатную квартиру на два года, пока не придете в норму.
Антонен стал любимцем центра. Теперь у него была отдельная комната, которую он убирал с маниакальной тщательностью. Он снова стал прежним пай-мальчиком. Иногда он вмешивался в конфликты, защищая самых слабых от зверств заправил, взял под опеку полного мужчину с женскими грудями, которого все звали «сисястой толстухой», оберегая его от попыток изнасилования. Он мог угомонить разгулявшегося дебила, успокоить вопящего в бреду энцефалопата. Принимал участие в психологических тренингах, стараясь своим примером помочь другим противостоять отчаянию. Каждое утро на рассвете за окном щебетал дрозд, приветствуя наступающий день долгими мелодичными трелями. В этой песне Антонену слышался призыв новой жизни и обретенного здоровья.
Ему предложили трехмесячный курс реадаптации. Устав от высоких стен Нантера, он отправился в Севран работать в муниципальном саду. Семена, растения, цветы раздавались всем соответственно вложенному труду. Затем он принял участие в проекте «Ярус», предприятии по преобразованию террас в ступенчатые сады. Его обучили техникам растительной кровли под руководством ландшафтных дизайнеров и садоводов, показали ему знаменитые вертикальные луга — передовую методику еще в состоянии испытаний, позволяющую высаживать злаки и бобовые на почти отвесных склонах. Затем, в начале лета он на три недели уехал в приют для обездоленных в Ньевре, большое хозяйство, основанное неким меценатом из бывших уголовников, разбогатевшим на ремонте мобильных телефонов. Антонен работал в огороде, в саду, на пасеке. До того дня, когда один из его собратьев в припадке безумия из-за ломки разбил улей лопатой и умер от тысячи укусов в луже меда. Антонен сам едва избежал пчелиной кары и только благодаря своему проворству унес ноги от смертоносных жал. Он второй раз спасся от смерти — это наполнило его новой жизненной силой. Здоровье его восстановилось, волосы отросли. Он побывал на самом дне, ничего хуже уже не могло с ним случиться. В конце июля он получил разрешение уйти и напутственное письмо от доктора Криптофилоса — тот был в Эпире в отпуске с семьей.
Париж летом — опустевшая театральная декорация. Если бы враг вздумал захватить столицу, ему было бы достаточно 1 августа стянуть войска к Порт-д’Орлеан и Порт-де-ла-Шапель и спокойно войти в вымерший город. Эта пустота давила на Антонена, ему нужны были люди, много людей. Получив восемьсот евро подъемных и ожидая квартиру, которую должны были предоставить ему осенью, он решил проделать свой путь на дно в обратном направлении, как бы заклиная судьбу. Он брал комнаты по очереди во всех гостиницах, в которых успел пожить, даже самых грязных, встречался с теми же группами курдов и афганцев вокруг станции метро «Сталинград», с русскими, чеченцами, сирийцами, живущими под пятой «братьев» магрибинцев, отыскал и цыган, рассыпанных по всему периметру. Париж — средоточие всех драм этого мира. У Северного вокзала он наткнулся на даму очень достойного вида, в длинном потертом пальто, несмотря на жару. Сидя на маленьком чемоданчике, она плакала и просила подаяния. Он дал ей двадцать евро, целое состояние для него, но она с обиженным видом вернула ему банкноту. Он не смог вытянуть из нее ни слова и почуял симулянтку, светскую даму из тех, что прикидываются нищенками ради острых ощущений.
Вернулся он и в «Дом ангелов», полный решимости расплатиться по счетам, с огромным букетом роз в руках. Он лично объяснит этой замечательной женщине, как она уберегла его от убийственных поползновений. Он готовил в уме тысячу речей в свою защиту, искал самые оригинальные, самые убедительные доводы. Но на месте его ждал неприятный сюрприз. Сад исчез, вилла стояла закрытая, похожая на форт в окружении армии бульдозеров, тракторов, бетономешалок, экскаваторов, ожидавшей сигнала к штурму. На стене висело разрешение на снос. Пейзаж смахивал на зону военных действий после бомбежки. Он справился в ближайшем бистро: «Дом ангелов» переехал в Курнев, в более просторное помещение. Мадам де Отлюс добилась значительных субсидий от Регионального совета. Соседи были только рады, что она убралась со своей вшивой публикой, от которой одна грязь. Точного адреса нового приюта никто не знал.
Заказав у стойки чашку черного кофе, со своим абсурдно неуместным букетом роз, Антонен узнал в зале кандидатку на последних президентских выборах, Арлетт Лагийе из троцкистской секты «Рабочая борьба», которая обедала со своими телохранителями, двумя пузатыми рокерами. Ему вспомнилось, что его отец называл ее уклонисткой, а мать защищала как мужественную женщину, способную быть выше насмешек. Он еще раз подошел к «Дому ангелов» с огромным букетом в руке, битый час проторчал у запертых ворот и, вспомнив учиненный скандал, съежился от стыда. Уже уходя, он поднял глаза на окна фасада, и ему почудилось, что на третьем этаже шевельнулась занавеска, — за тканью вырисовывался китайской тенью профиль Изольды, узнаваемый по узлу волос, сколотому шпилькой из слоновой кости. Не может быть — двери и окна были заколочены. Он снова почувствовал себя униженным, хотел было перелезть через ограду, забраться наверх, потребовать объяснения. Но он совладал с подымающимся гневом. Нет, это бред. И все же, когда он уходил, ему казалось, что глаза мадам де Отлюс впиваются в его затылок точно два крюка. Он обернулся — тень в окне исчезла. Единственный человек, от которого он ждал помощи, не протянет ему руки. Быть может, это тоже было частью лечения. Он слышал об учителях дзен, которые били своих учеников, чтобы научить их жить и обходиться без наставников. Сносом «Дома ангелов» перечеркивалась вся его история: неприятный эпизод, и только, без последствий.
Стояла середина августа, жара снедала Францию уже несколько недель. Париж заливал яркий, почти белый свет, размывавший лица. Возвращаться в убогую каморку, которую он снимал в «Верденском редуте», меблирашках возле Восточного вокзала, не хотелось, и Антонен спустился к Сене. Завтра же он начнет искать работу, все равно какую, лишь бы не сидеть сложа руки и не грустить. Почему бы не реабилитировать благородную профессию чистильщика обуви? Он возьмет напрокат двуколку с брезентовой крышей, установит для себя внутри удобный трон и начнет предлагать свои услуги прохожим, которые будут ставить ноги на деревянную подставку. Он видел за год столько стоптанных башмаков, столько нечищенных туфель: обретение достоинства начинается с ног. Он не будет звонить Ариэлю, пока не преуспеет. Дождется, когда не будет больше нуждаться в нем, тогда и объявится. Снисходительное отношение бывшего патрона год назад, когда он бедствовал, больно его задело. Есть люди, которые в него поверили, и на сей раз он не хотел их разочаровать. Он еще покажется им сияющим, излечившимся. Последний вечер он побудет бездельником и бродягой. Завтра настанет первый день его возрождения. Ему просто приснился дурной сон, теперь он здоров, он был сам себе и болезнью, и лекарством.
Он дал крупную купюру старику, который собирал окурки и продавал их поштучно, как просвиры. Купил себе булочку с шоколадом в память о полдниках своего детства и направился к сердцу столицы, вдоль канала Сен-Мартен до порта Арсенала и берегов реки. Каждый час он останавливался в кафе — жажда мучила жестоко. Из любопытства купил газету, два года он не держал в руках ни одной. Те же лица, те же конфликты, те же сто раз пережеванные идеи. Мир не изменился. Впади он в кому еще на десяток лет, все будет по-прежнему. Он перешел Аустерлицский мост, спустился к порту Сен-Бернар. Через каждые сто метров стояли на якоре маленькие кораблики. Странное зрелище ожидало его. Целый караван-сарай маргиналов расположился на набережных, под деревьями и кустами, вокруг импровизированных жаровен и костров. Кого тут только не было — малахольные и блаженные, хромые, безногие, просто шантрапа, всё дно столицы. Они дышали воздухом у реки, лежа кто на чем, расставив складные столики и стулья. В веселом хаосе резвилась падаль. Помятые физиономии поджаривались все лето, и цвет их, сизо-красный от выпивки, перешел в медно-красный от загара. Коматозники бутылки лежали на полотенцах, отсыпаясь с похмелья или переговариваясь хриплыми междометиями, выставляли напоказ костлявые ноги, тощие икры в черных пятнах. Транзистор наяривал рок, две сгорбленные старушки приплясывали в неуклюжем ригодоне. Ни дать ни взять, кермеса, праздничное гулянье, Брейгель под бормотуху и музыку техно. Голытьба кутила, готовя нехитрую еду на газовых плитках, поджаривая колбаски и сосиски на импровизированных жаровнях. Нищая братия прекрасно уживалась с гуляющими, бегунами, велосипедистами, во множестве вышедшими в этот час подышать после дневной жары. Два мира, загнивающий и здоровый, сосуществовали бок о бок. Все пили, ели, переговаривались, радуясь, что живы, в дивных сумерках, сгладивших суровость города, размывших серую громаду Министерства финансов, похожую на железнодорожный состав, разбитый надвое рекой.
Париж, на востоке, как и на западе, мнит себя американским городом, превращаясь в вертикальную утопию, в монолиты из стекла и стали. Женщина, больше похожая на борца сумо, в рыжем парике набекрень, с голыми руками и ногами, с икрами в сетке вен, толстых, как электрические провода, густо-фиолетового с черным отливом цвета, царила над всем этим хаосом. Она восседала на крошечном складном табурете, и ее огромный зад, не умещаясь, свисал с обеих сторон. Обута она была в дырявые шлепанцы, из которых высовывались громадные пальцы с покрытыми красным лаком ногтями. Она встала, чтобы поправить короткую юбчонку; грудь у нее была такая огромная, что, садясь, она обеими руками поддержала ее. При виде Антонена толстуха принялась усиленно ему подмигивать и, раздвинув огромные окорока, служившие ей ляжками, указала пальцем на вход в туннель.
— Пышка Лулу к вашим услугам, милорд…
Шокированный, он все же смутился и вдруг, повинуясь порыву, отдал ей свой букет, уже привядший, но благоухающий. Сколько времени он не прикасался к женщине? Он улыбнулся ей, успокоенный этим органическим добродушием. Другие толстухи, краснолицые, словоохотливые, хриплыми голосами приглашали его чокнуться. Все эти людишки, расхлябанные, с опухшими физиономиями, являлись оскорблением науке, гигиене, человечеству.
Антонен, однако, находил их прекрасными. Они были его братьями по уязвимости: славные малые, хоть и с мерзкими рожами. Принцы, да — высокие в своей обездоленности. Великолепно было их упорство в саморазрушении. Глядя на это недочеловечество, он вдруг содрогнулся, упал на колени и безудержно заплакал. Горько, навзрыд, как не плакал с детства, — огромное горе, камнем лежавшее у него на сердце, излилось слезами только сегодня. Он просил прощения у своих товарищей за то, что замышлял против них столько зла, просил прощения у Фредо и Марии Каллас за то, что не сумел их защитить. Он хотел примириться с самим собой и с миром. Он вернется, чтобы помогать им, бедолагам, вот только сам выберется из ямы. Толстуха в мини-юбке, увидев молодого человека, рыдающего как дитя, подошла к нему, покачивая огромным задом, прижала к себе и похлопала по спине, утешая. Придавленный ее необъятным животом, утопая в изобильной женской плоти, он плакал, пока не кончились слезы, потрясенный, опустошеный.
Эпилог Лептоспироз
Наступила ночь, лишь узкая полоска света на горизонте еще противилась тьме между пурпуром и чернотой. Удалившись от лагеря шантрапы, Антонен стал искать, где бы прилечь. Он слишком вымотался, чтобы возвращаться в гостиницу. Миновав сборный домик речной бригады с водолазами, полуголыми атлетами в темных очках и облегающих брюках, ни дать ни взять ряженые коммандос, он прошел еще минут десять по стройке, оставил позади бассейн имени Жозефины Бейкер, галионы, превращенные в бары и дискотеки. Остановился он в некоем подобии сквера: пять деревьев, посаженных в шахматном порядке, и чахлая лужайка вокруг. Природа, воссозданная трудами нашего муниципалитета. Он включил фонарик, снял куртку, чтобы подложить ее под голову. Он был точно под четырьмя башнями-книгами Национальной библиотеки, возвышавшимися, словно божества-покровители. Вдали светилась лента воздушного метро на мосту Берси, поездов он не слышал, и лишь позвякивание снастей на судах убаюкивало его.
Он задремал и проснулся пару часов спустя. Было темным-темно. Живот скрутил спазм. Он весь дрожал, нет, у него не получится. Он снова пойдет ко дну. Он сел, надел куртку, ему было холодно. Улицы опустели, прогулочные пароходики больше не сновали по реке, движение на набережной Франсуа Мориака редело. Зеваки и полуночники разошлись: Ему бы надо было остаться там, со своими собратьями по нужде, в теплой скученности людского хлева. Он вздрогнул, одеяло бы сейчас не помешало.
Белесый молочный туман поднимался от Сены, обнимая башни словно бы забинтованными пальцами, вытянутыми к небу. Водяной дух смешивался с запахами шлака и дизельного топлива. Большая белая луна куском масла висела над зданием крупного международного банка, окружая его ореолом. Даже космос служит крупному капиталу, сказал бы его отец, любитель таких метафор. Он повернулся на левый бок, чтобы снова уснуть, и почувствовал легкую вибрацию земли. Ему вспомнились индейцы из вестернов, которые определяют, далеко ли поезд, приникая ухом к рельсам. Кто-то бежал мелкой рысью по булыжнику набережной. Кто бы это мог быть в такой час? Спортсмен на тренировке?
Он почувствовал ее еще до того, как увидел, узнал ее аромат, «Ветивер» с легкой примесью пота. То была она, без сомнения, чудо этой летней ночи, дар небес.
Она все-таки пришла!
Он закрыл глаза, вдыхая знакомый запах.
В смятении он не знал, что и думать. Его била дрожь, руки и ноги заледенели.
А она уже стояла над ним, высокая, монументальная. В шортах, в облегающей футболке, взмокшая от бега, с голыми руками; на груди висели наушники.
Она опустилась на колени, нагнулась к нему, быстро поцеловала в губы. Лицо ее застыло в полуулыбке.
— Изольда…
— Тсс!
Как деликатна эта женщина, пришедшая скрепить примирение в кулисах ночи. Она простила его вдали от всего, под покровом тьмы. Перечеркнув обиды, она признала в нем большую душу. Изольда между тем была теперь позади него, и ему показалось, что она расстегивает пояс, но он не шевельнулся, оцепенев от изумления. Он снова закрыл глаза, готовый ко всему.
Да свершится воля ее.
Только ощутив резкую боль от ремня, сжавшего шею, он понял свою ошибку. Он не увидел очевидного! Алкогольный дух с примесью чего-то кислого, ацетонового, ударил в лицо. Капля пота упала с ее лба прямо ему в рот, и он с наслаждением выпил солоноватую горечь.
— Дурак, — прошептал злобный голос, — а я-то хотела работать с тобой вместе! Как низко ты пал.
Огни самолета, взлетевшего из Руасси, мигнули вдали. В глазах у него помутилось. Он уже задыхался, и тут перед его мысленным взором промелькнула та ночь со старухой в Австрии, тринадцать лет назад:
Не успев улечься рядом, она бесцеремонно засунула руку в его штаны. Ледяные пальцы пробирались все дальше, неловко тянули за волоски. Она цепко ухватила его член, прежде чем он успел что-либо понять: вспышка вожделения на краю могилы. Он вздрогнул, вскрикнул, не раздумывая, схватил подушку и крепко прижал ее к лицу похотливого Мафусаила. Это успокоило бабулю: она еще подергалась, пытаясь вытащить пальцы из его штанов и оцарапать его другой рукой. Но куда ей было против него. Он тотчас уснул. Наутро, найдя ее бездыханной, он ничего не вспомнил. На все эти годы он вычеркнул из памяти тот всплеск похоти.
У него загудело в ушах, дыхания не хватало. Лица Фредо, Марии Каллас и многих других всплыли в его памяти: он наконец все понял. Ему представилось, как благодетельница человечества вершит по ночам свою страшную жатву, бежит от одного опустившегося к другому, дарует избавление, позволяя себе глоток спиртного перед каждым «делом». Скольких же она так уничтожила? И она хотела привлечь его! Он преисполнился гордости.
Сопротивляться он и не пытался.
Изольда свое дело знала.
Даже ниткой она легко задушила бы его. Подхватив под мышки, она протащила его несколько метров — обмякшие ноги стучали по камню, — и столкнула в ледяную воду, пахнувшую гнилью. Не было ни всплеска, ни брызг. Абсурдное, сложное название болезни, присутствующей в Сене, — лептоспироз, бацилла, содержащаяся в крысиной моче и поражающая мозг и сердце, — всплыло в его памяти. Ему нравилось это труднопроизносимое слово, и он долго перекатывал его во рту. Все было хорошо. Он пошел ко дну, думая:
— Я люблю вас, я вас люблю…
Все это заняло едва ли тридцать секунд.
Черная Вдова застегнула пояс, надела наушники и, удалившись мелкой рысью, растаяла в ночи.
Благодарности
В основе этого романа лежит случай, произошедший в моей молодости на площади Контрескарп в Париже. Мы пили с друзьями, как вдруг к нам подошел клошар, требуя подаяния. Он был настойчив, стучал кулаком по столу; один из нас, ярый маоист, вскочил и толкнул его, назвав «слугой капитала, предателем рабочего класса». Пьяный бродяга рухнул мешком, ничего не поняв. Он завозился, не в состоянии подняться, беспомощно дрыгая ногами. В конце концов он уполз на четвереньках, к великому нашему стыду. Две вещи я запомнил из этого эпизода: хрупкость попрошайки — свалить его было легко, как соломинку, — и сногсшибательный аргумент агрессора — что он-де пособник буржуазии. По отношению к клошару сочувствие всегда недалеко от насилия, милосердие от ненависти. Мы не прощаем тому, кто, унижаясь, тем самым унижает нас, хуже того, тянет в грязь. Губя себя, он вызывает в нас некий священный ужас, ибо тонка грань между обыденной жизнью и падением. Он воплощает притягательность бездны.
Я возвращаюсь здесь, под другим углом, к теме, уже поднятой в 1985-м в «Парии», романе, действие которого происходит в Индии. Там рассказывается, в числе прочих, история американского агронома, который сходит с ума и, не дождавшись искоренения бедности благодаря аграрной революции, решает давить попрошаек по ночам машиной или душить. После выхода книги в Калькутте началась эпидемия убийств, идентичных тем, которые я описал. Корреспондент «Монд» в Индии в своей статье недвусмысленно усмотрел связь с романом, хотя на самом деле причинно-следственной связи не было. Книга не переводилась ни на английский, ни на индийский языки. Один или несколько неизвестных забили до смерти камнями или палками десятки лежащих на улице. Убийц так и не нашли, преступления прекратились так же необъяснимо, как и начались.
Я хочу поблагодарить Франсуа Бенга, основателя Приюта в Пантене, и Жан-Пьера Виньо, генерального директора, за их помощь и советы. Благодарю также доктора Доминика Виаллара, человека, неравнодушного к положению бездомных, которого я сопровождал однажды на «обходе». Еще мне хотелось бы вспомнить Деде, ныне покойного, нищего с улицы Монторгей, которого я нашел однажды спящим на коврике под моей дверью, забавного человечка с выразительной мимикой, рассказавшего мне свою непростую жизнь.
Это вымысел: я вольно обращаюсь с действительностью, смешиваю времена и не забочусь о достоверности. Теледебаты с певцом Боно вымышлены; цитаты из Кристофера Хитченса апокрифичны, хотя его исследование о Матери Терезе подлинно. Я таким образом отдаю должное этому британскому вольному стрелку, смутьяну от правых и левых, воинствующему атеисту, с которым я чувствую много общего. Что до выражения «Je vous salis, ma rue, pleine de crasse», оно взято из стихотворения Жака Превера, написанного в 1966-м. Эта фраза вот уже полвека красуется на многих стенах в Париже.
Примечания
1
Красавица (исп.). Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Жан Нувель — знаменитый французский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2008 года.
(обратно)3
Франсуа Пино́ — французский предприниматель, коллекционер и меценат. На 2010 г. состояние Пино оценивается в 8,7 млрд долларов, что ставит его на 77-ю строчку в списке богатейших людей планеты по версии Forbes.
(обратно)4
Газета французской компартии.
(обратно)5
По-французски звучит одинаково: же т’эм — я люблю тебя.
(обратно)6
Судороги, обусловленные нарушением обмена кальция в организме.
(обратно)7
Droit au logement (фр.) — право на жилье.
(обратно)8
В центре площади Вогезов стоит памятник королю Людовику XIII.
(обратно)9
Улица красных фонарей в Париже.
(обратно)10
Бьеф — часть реки или канала, примыкающая к гидротехническому сооружению.
(обратно)11
Секретная вооруженная организация (OAS — Organisation de l’armée secrète) — ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании в завершающий период Алжирской войны (1954–1962).
(обратно)12
Гои-мотоциклисты.
(обратно)13
Гинекей — в Древней Греции женская половина в задней части дома.
(обратно)14
Название этой главы П. Брюннер взял из стихотворения Жака Превера, о чем говорится в послесловии. Эта строка, в дословном переводе «Я пачкаю вас, моя улица, полная грязи», является анаграммой строки религиозного гимна «Je vous salue, Marie, pleine de grâce» — «Я приветствую вас, Мария, полная благодати». На русский язык, разумеется, это перевести невозможно.
(обратно)15
Перевод М. Кудинова.
(обратно)16
От фр. quenouille — веретено.
(обратно)17
Все в порядке, папа? (англ.)
(обратно)18
Только одно фото, пожалуйста… (англ.).
(обратно)19
Отлично, Джои, мы сняли тебя с типичным французским клошаром… (англ.).
(обратно)
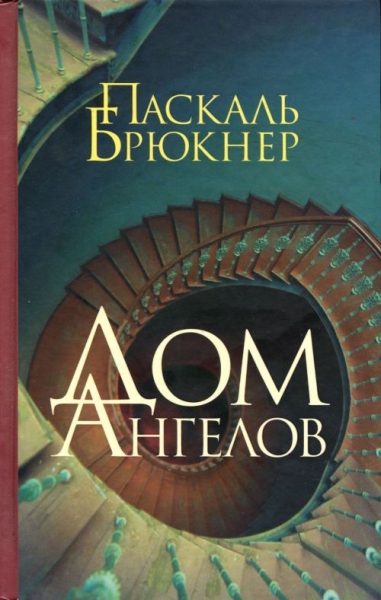










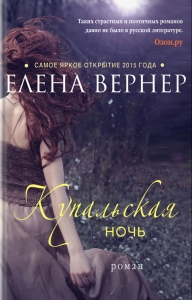
Комментарии к книге «Дом ангелов», Паскаль Брюкнер
Всего 0 комментариев