Геркус Кунчюс Прошедший многократный раз
Улица, на которой я живу, жутко воняет, словно мир умер неделю назад, и теперь клетки моего мозга разлагает, расползаясь по ним, парализующий смрад. Приятель, приютивший меня в своей квартире, все время пытается убедить меня в том, что я заблуждаюсь. Я его понимаю – неудобно передо мной из-за этой вони. Делает вид, что ее не чувствует, но не тут-то было. Мне не нужно блуждать по закоулкам, чтобы понять, откуда распространяется это апокалиптическое зловоние, так как окно квартиры выходит прямо на рыбоперерабатывающий комбинат. Даниэль делает вид, что ничего не понимает, а когда его спрашиваешь, заявляет, что мне надо сходить к врачу проверить обонятельные рецепторы. Отношусь к его предложению снисходительно, но от этого не легче – все равно воняет. Ничего не думаю, а только нюхаю, нюхаю и впитываю в себя смрад, смешанный с пылью и аномальной жарой – 38 градусов по Цельсию. Пытаюсь прижаться к стене, однако она как печка. Открываю окно – еще хуже. Закуриваю, но ощущение такое, как будто свернул сигарету из фекалий. Спасения нет. Вспоминаю написанное Зюскиндом: «В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей». Наивный автор. Он не жил на улице Кастаньяри, наверное, даже не знает, что такая есть в Париже. Воняет. Невыносимая вонь, и ничто не напоминает Парижа, виденного в рекламных буклетах.
Живу здесь уже месяц, но все не могу привыкнуть к смраду. Много к чему не могу привыкнуть. Не могу привыкнуть к постельному белью, которое Даниэль купил специально для меня. Оно по-весеннему зеленое, однако куплено в арабском квартале, поэтому красится. Утром встаю весь зеленый. Приходится умываться и добрых полчаса стирать с себя впитавшиеся в тело краски. Это неприятно, хотя с каждым утром смотрю на постель, с которой встаю, все спокойнее.
Даниэль раньше поднимался в шесть утра, но с моим приездом его распорядок дня несколько сдвинулся. Говоря «несколько», я имею в виду, что он полностью изменился. Я так утомляю его дневными и ночными монологами, что теперь этот бедняга не то чтобы встает в полдень, но, во всяком случае, давно забыл про зарядку и утренние марафоны в парках. Мне его даже немного жалко, потому что спит он как убитый, хотя в письмах жаловался на бессонницу, вспышки кошмаров в подсознании и еще черт знает на что. С другой стороны, его предупреждали. Я давно сказал, что мое пребывание для него может стать монументально дискомфортным. Пока что он меня терпит, а когда я спрашиваю, не утомляю ли его, тактично отвечает, что все хорошо, ему приятно со мной общаться. Не знаю, сколько это еще будет продолжаться, но пока продолжается.
Сплю я на его двуспальной кровати, на которой он, как сам рассказывал, когда-то развлекался с одной австриячкой, оставившей его после того, как с ним на море случился инфаркт. Даниэль уверяет, что это он ее бросил, однако я не верю: зачем австриячке нужен француз, да еще перенесший инфаркт? Словом, она убралась обратно в Вену. Это было пару лет назад. Даниэль довольно стоически перенес эту утрату. Теперь он, по собственному утверждению, находит отдохновение не в любовных утехах, а в лингвистических занятиях. Я с большим недоверием отношусь к этому его выбору, однако не возражаю, хотя для меня и странно, как можно два года выдержать без женщины. Но это его дело. Уступил он мне, значит, свою двуспальную кровать, а сам спит на полу. Каждый вечер, то есть под утро, когда мы уже заканчиваем дискуссию об Умберто Эко, он снимает со шкафа в коридоре чемодан с засунутыми туда постельными принадлежностями не зеленого цвета. Это продолжается месяц. Каждый раз, когда он снимает этот чемодан, я осведомляюсь: «Куда-нибудь уезжаешь, Даниэль?» Он отвечает, что никуда не уезжает, однако чувствуется, что такие подкалывания ему не очень по душе. И тем не менее я каждый раз спрашиваю. Не знаю, ему, может, надоело, а мне приятно, как эликсир перед сном.
Живем мы в одной комнате, здесь же и кухня. Даниэль, конечно, спит рядом с плитой, на которой готовит королевские обеды и ужины. Хоть я и пытаюсь подниматься раньше него, но, когда просыпаюсь, нахожу накрытый стол, сваренный кофе, еще теплые булочки, мед и другие сладости. Завтракаем мы медленно и все время стараемся вспомнить, на каком месте прервался вчерашний разговор. Чаще всего вспомнить не удается. Однако мы не переживаем из-за этого. Мало ли в мире других тем?!
Не очень понимаю, что я делаю у него, а тем более – в этом городе, но после завтрака, не прибегая к отговоркам, убираю со стола. Не стану утверждать, что мне это приятно, но таким образом я как бы присоединяюсь к нашему общему в это время быту. Он пытается возражать, но у меня воля сильнее, да и старше я на два года. Точно не знаю, что я здесь делаю. Вначале воображал, что приехал в Париж писать. К сожалению, то были наивные мысли, так как литература создается в других городах. С другой стороны, я рад, что не нужно ничего делать. Когда Даниэль спрашивает меня, что я сегодня буду делать, отвечаю: мыслить. Он, профессор умственного труда, меня понимает и не возражает. Конечно, можно было бы попытаться найти какую-нибудь работу, однако это утомляет. Да если бы и нашел – ничего бы не изменилось. Когда-то я читал роман, герой которого все жаловался, что ему нечего делать, однако осмысленной деятельности и не искал. Тогда меня это злило. Теперь – понимаю и одобряю. Действительно, ведь можно быть писателем и не писать книг, быть философом и не мыслить. Довольно разумное состояние. С другой стороны, когда меня спрашивают, кто я, что делаю, я прихожу в замешательство, так как действительно не знаю, что ответить. Легче всего было бы сказать, что я бизнесмен. Но опять сталкиваешься с проблемой: кем становится бизнесмен, потерявший богатство? Да еще сидящий в тюрьме! Остается ли он и дальше бизнесменом? А может, он уже только заключенный? А философ, сидящий в тюрьме? Не знаю. Поэтому, когда меня спрашивают, молчу.
Даниэль не ломает голову над моими трудами. У него есть его шумерские пиктограммы, египетские надписи, римские сентенции и т. д. Он очень терпим, хотя и его терпение порой истощается. Вчера я пытался вдеть новый браслет в позолоченные часы, но безуспешно. Я спохватился, когда было уже слишком поздно, – часы лежали на улице. «Да ладно. Все хорошо», – успокоил он меня и повернулся к своему компьютеру. В окно я видел, с какой радостью поднял часы, сначала осторожно осмотревшись по сторонам, работник рыбокомбината, воняющий, несомненно, сильнее, чем улица.
Не могу утверждать, что не переношу эту квартиру и эту улицу. Дом старый, поэтому тараканы меня не удивляют. Не удивляет и груда мусора в шахте лифта. Она видна через окно ванной. Свыкся с такими картинами, бывшими когда-то неотъемлемой частью пережитой реальности. Правда, дверь туалета не закрывается, поэтому, когда присаживаешься там, приходится изнутри подпирать ее ведром, которое желательно наполнить водой, чтобы дверь его не опрокинула. Конечно, дверь можно захлопнуть изнутри, но нет ручки. Совершенно не хочу ждать, пока меня освободит Даниэль, поэтому никогда не забываю ведро. Даниэль уже успел мне рассказать, как таиландка, в свое время жившая у него, захлопнула дверь, когда его не было дома. Она была спортивного склада, поэтому выбила окно в ванной, залезла на подоконник, перепрыгнула через шахту лифта и оказалась на другом подоконнике. Тогда уже осталась пара пустяков: выбить еще одно окно и попасть в комнату через кухню. Говорит, что соседи были очень недовольны, так как думали, что это какая-то террористическая вылазка. Акустика в шахте, надо сказать, очень хорошая. Так что всегда наполняю ведро до краев. Это очень удобно, потому что вода в туалете не спускается. Значит, убиваю двух зайцев. А убив их, чувствую, что выполнил нечто серьезное, и поднимаюсь. Правда, туалет давно не убирали, и он успел покрыться желтоватой известью. Я здесь принюхивался, когда еще не знал, откуда распространяется смрад. Нет, здесь все хорошо. Мне неприятно, что я так плохо думал о туалете. С другой стороны, я доволен, что к нам никто не заходит. Хоть я и считаю себя свободным человеком, но не имею никакого желания сидеть в туалете при полуоткрытой двери и приводить гостей в ужас своими физиологическими переживаниями.
Все равно не выдерживаю и снова открываю только что закрытое окно. Еще хуже, жарче, гнуснее. Улица вымерла. Здесь не Испания, никто не отваживается в такую жару подпирать уличные стены. Нет и Дружка Алкоголика, которого мы прозвали так потому, что мужичок не упускает случая поздороваться и при этом все сует руку. Я с ним всегда здороваюсь и подаю свою, хотя поначалу он меня немного удивлял. Дружок Алкоголик – неотъемлемый элемент этой улицы. Даниэль утверждает, что он поляк, однако, когда я заговорил с ним по-польски, он только пробормотал что-то себе под нос. Польский язык это, разумеется, и отдаленно не напоминало. Теперь мы с Даниэлем думаем, что он венгр. Даниэль пытается выведать у него правду. Даже пригласил в кафе, но ничего не добился. Тот и о жизни-то своей не рассказывал, хотя его и угостили кофе. Даниэль уверяет, что если бы Дружку негде было жить, он бы пустил его к себе. Я выслушиваю это равнодушно, так как желания делиться с ним двуспальной кроватью у меня нет. Меня удивляет только, что с полудня он уже бывает в стельку пьян. По экипировке его не скажешь, что живет на ренту, но и к клошарам его причислить было бы слишком смело. Странная личность, хотя мне всякий раз приятно с ним встречаться. Когда он здоровается со мной, я чувствую себя не таким одиноким в городе. Он поистине дружелюбен. Пытаюсь внушить Даниэлю, что все восточноевропейцы такие, но замечаю сомнение в его глазах, хотя он и не возражает.
Улица пуста. Совсем пуста, а когда я вижу проезжающий под окнами автомобиль, высыпаю ему на крышу окурки из пепельницы. Водитель даже не замечает.
Можно было бы почитать, но лень. Начал читать пьесу Борхерта, однако она о войне. Я на войне не был, поэтому переживания героя-мученика мне не очень близки. Пытаюсь разобраться в себе, но не удается. С удовольствием выпил бы, но такая жара! Такая вонь!
Пить мне здесь не с кем, потому что Даниэль наполовину абстинент, да еще и после инфаркта. Иногда уговариваю его. Он неохотно соглашается. Его вкус восхищения у меня не вызывает, так как он все еще предпочитает сладкий вермут, «Порто», который мне напоминает чернила, разные ликерчики, от которых меня тошнит, и т. д. Однако приходится приноравливаться: лучше это, чем ничего. Я хочу водки, хочу виски, хочу джина, хочу рома. Рома?
– Даниэль, что бы ты сказал, если бы мы сейчас пропустили по рюмашке рома? – соблазняю я приятеля, хотя вряд ли он согласится.
– Почему бы и нет? – к большому моему удивлению, заявляет он, а я уже стою перед ним с литровой бутылкой рома и не могу дождаться, пока он вытащит рюмки – ясное дело, я хотел бы, чтобы вытащил большие стаканы.
– Это колониальный ром, – объясняет он, оставив в покое свой компьютер, набитый всеми языками этого мира.
Даниэль коснулся моей излюбленной темы и теперь не отвертится. Будем говорить об алкоголе, потому что в такую погоду разглагольствовать о «Чуме» Камю или «Пустыне» Ле Клезио было бы величайшей бессмыслицей. И кроме того, утомительной.
Стаканчики уже на алжирском столике, который ему подарили друзья-мусульмане. Садимся на пол. На полу я сидеть не люблю, так как у меня моментально сводит мышцы. Жертвую собой. Кое-как удается устроиться. Стаканчики наполнены. Его – до половины. Мой – полный. Могу гордиться, что мне удалось научить его этому. Чокаемся. Выпиваем. Он встряхивается. Меня еще не проняло.
– Тебе не кажется, что в такую погоду надо пить крепкие напитки? – скорее утверждаю, нежели спрашиваю я.
– Возможно, но мне надо работать.
– Да, работать… Не странно ли, Даниэль, что в ваших колониях, где очень жарко, изготавливают самые крепкие напитки?
– Это не мои колонии. С колониями я не имею ничего общего, однако в Южной Франции пьют пасти, крепость которого достигает целых 45 процентов!
– Да, знаю, но его разводят. А разведенный, может, только 15 процентов достигает. Тоже бурда.
– Мне пасти нравится…
– Знаю, что нравится, но ром с этих островов просто чудо! Ты погляди – литр! Я заплатил за него всего 40 франков, а крепость – 42 процента? Хорошо?!
– Если не возражаешь, я разведу его водой.
Даниэль идет за водой, а пока ищет, я успеваю опрокинуть пару рюмашек вне очереди. Он все еще не может найти воду. Во мне поднимается желание пропустить четвертую. Устоять не могу. Жарко. Чертовски жарко. Действительно, что еще делать в такую погоду, как не пить. Что делать, когда безумно холодно? Что делать, когда ни то ни се? Мне уже получше, поэтому изучаю бронзовую поверхность столика, на которой стоит бутылка рома. Меня прошибает пот.
– Вообще-то я не пью, – говорит он, держа в руке бутылку воды.
Эта его фраза меня всегда не на шутку нервирует. Слышу ее каждый раз, когда мы усаживаемся хлебнуть. С удовольствием крикнул бы ему «А я пью!», но сдерживаюсь, так как в такую жару нет никакого желания злиться, да и злиться не из-за чего. Просто мне приятно выпить, а ему – нет. Это очень просто. Недавно он пожаловался, что, когда жил в Вене у друга-вегетарианца и занемог, тот заставлял его каждый день в течение недели выпивать по пять литров чая. Выздоровев, Даниэль вылетел из Вены как пробка из бутылки шампанского. Эту поездку в Австрию он вспоминает с нескрываемой досадой. Теперь я мог бы ему напомнить, что было время, когда он тоже пил, однако сдерживаюсь.
Ром крепкий и не очень хорошего качества. Жидкость мутновата, но это не проблема. Она действует на меня положительно, и, если бы бутылка уже была пуста, я, может быть, даже сел бы за письменный стол. Благодарение Богу, она наполовину полна, поэтому эрекция мозга мне не грозит. Теперь я наливаю.
– Было бы хорошо как-нибудь купить джина… – Я пытаюсь заманить Даниэля в ловушку.
– Можно, – без особого энтузиазма соглашается он. – Пришлось бы разводить с тоником, купить лимон.
– Можно и без тоника. И без лимона.
– Терпко.
– Это только сначала так кажется. А выпьешь половину – идет, как вода. Еще даже лучше, чем вода, потому что вода тяжестью ложится, а он, наоборот, расслабляет. Я пил джин, смешанный со спиртом. Совсем неплохо!
– Мне надо работать.
Он садится за компьютер, а я снова наливаю себе. Даниэль меня не видит. Он весь погружен в экран, на котором время от времени вспыхивают непонятные мне цифры, знаки, таблицы, графики. Когда он работает, то ничего вокруг не видит, ничего не слышит, ничего не чувствует. И это не притворная углубленность в технологический шедевр. Он теперь попросту закабален. Я мог бы делать неприличные движения. Мог бы во все горло кричать, орать, визжать, ругаться самыми непристойными словами – он бы и бровью не повел. Он работает и демонстрирует титаническую сосредоточенность и силу. Не могу надивиться. Мне немного стыдно, что я ничего не делаю. Неудобно, что пью. Действительно неудобно.
Еще только два часа дня, а я уже пьян. Мог бы выйти в город, но никто меня там не ждет, да и жара эта непереносима. Не представляю себе, что бы я мог в этом городе сегодня делать. Кладбища культуры меня не интересуют, тем более что все так называемые шедевры и без того торчат в моем сознании. Я даже хотел бы избавиться от них, поэтому не может быть и речи о Лувре, Д’Орсе и других монстрах-гигантах. Наблюдаю за работающим Даниэлем. Мне приятно видеть, как в этом помещении рождаются новые смыслы, взгляды, теории. Чувствую, что и сам приобщаюсь к лингвистической науке. Даниэль, словно сомнамбула, поднимается со стула, идет, пошатываясь, к проигрывателю и запускает на полный гром «Реквием» Верди. Возвращается назад и снова вперивает взгляд в компьютер. Меня даже не замечает. А я опять подливаю себе. Траурная музыка льется через окно на смердящую улицу. Боюсь, как бы не разбудила мороженых рыб.
Насилую свою память, чтобы вспомнить кого-нибудь, кому можно было бы сейчас позвонить, однако все претенденты наводят тоску, как бухгалтерские отчеты. Никого не хочу видеть, ни с кем не хочу встречаться, да и ради чего встречаться? Знаю, что сам ничего не могу им предложить, да и они мне ничего не предложат. Знаю еще и то, как, услышав мой голос в трубке, они насторожатся и, слишком уж быстро сориентировавшись, скажут, что как раз сейчас нечеловечески заняты, что у них проблемы, заботы, которых, вероятно, убавится в будущем месяце, а может, только через полгода. Все это я тоже знаю, знаю наизусть эти ответы. Нет, лучше уж сидеть здесь, прихлебывать ром, смотреть на работающего Даниэля и не мучиться, что попусту тратишь время. Все прекрасно. И нисколько я не волнуюсь из-за того, что почти уже пьян, весь в поту и усыпан пятнами, потому что подумал, что тоже мог бы писать. Ладно, хватит обо всем об этом. Хватит.
Пробую листать журналы, но не удается. Мода меня не интересует, коррупция тоже, неинтересна и жизнь аристократии, членами которой мы с Даниэлем отказались быть, так как «все они снобы». Такова оценка Даниэля, с которой я согласен, хотя меня нисколько не волнует, снобы они или кто еще. Это их дело. Пусть себе волнуются. Пусть обосрутся.
Да, я уже здорово пьян. Иду залезть под душ. Стою голый и пускаю на себя ледяную воду. Все еще жарко, а на голову будто спускается какой-то абажур. Ничего не вижу, забываю, что не закрыл дверь. Ладно, он все равно еще часа два будет работать. Вода освежает. Она никогда не разочаровывает. Чувствую, что качаюсь. Как маятник – маятник Фуко. Амплитуда увеличивается.
– Уже закончил, – торжествует мой друг и ученый. – Сегодня написал двадцать листов, систематизировал предыдущие данные, исправил ошибки, которые возникли, когда что-то менял, что-то дополнял. Мог бы еще поработать, но не хочу перенапрягаться.
Стою перед ним голый и без особых усилий прихожу к выводу, что мне перенапряжение не грозит. Стараюсь уменьшить амплитуду качания. Это удается, однако мои силы небеспредельны. Вылезаю из ванны, вытираюсь зеленым полотенцем и чувствую, что снова весь мокрый от пота.
– Хорошо выкупался?
– Замечательно.
Даниэль наливает ром, которого мне в этот момент хочется меньше всего. Он прямо-таки светится. Он сияет и обжигает меня своими лингвистическими знаниями. Меня это должно бы взбесить, но я не нахожу в своей душе и самой ничтожной крупинки злости. Он разминает спину и усаживается на пол у столика, на котором стоит все еще наполовину полная бутылка рома.
– Выпьем. Сегодня поработали.
– Выпьем. Я выпью половину, – говорю я, однако опрокидываю и проглатываю весь стаканчик этой жидкости.
Хуже не будет – пробегает и прячется от совести мысль.Что мне здесь не грозит, так это голод. С утра до вечера расхаживаю с вздувшимся животом. В последние дни напоминаю рахитика. Хорошо, что в этом городе нет пляжа: очень уж неудобно было бы демонстрировать эту аномальную и выродившуюся фигуру, владельцем которой я являюсь. Мой живот поистине впечатляет. Какой-нибудь остроумец мог бы назвать меня беременным мужчиной, которому через неделю подоспеет время рожать. К сожалению, рожать мне не нужно, хотя я бы с удовольствием порожал, только бы избавиться от живота – дискомфорт от него все сильнее. Нужно меньше есть и больше двигаться. Для таких деяний не нахожу в себе воли. Жаль.
Я тут объедаюсь, пережираю и все глубже погрязаю в грехе. Надо бы сходить на исповедь, да уж ладно. Стыдно было бы признаваться, что я так много ем. Вспоминаю героев, которые пять десятилетий назад разгуливали по этому городу с пустым животом и мечтали, где бы поесть. Времена меняются. Я перенасыщен всем – добром, искусством, философией.
Даниэль готовит еду. Сегодня мы будем есть алжирский кускус. Он пару лет жил в Алжире и в кухне до сих пор не может избавиться от восточных предрассудков. Мне все равно.
Накрываю на стол, расставляю тарелки, ставлю бокалы для вина. Настроение поднимается: дело в том, что я уже успел опьянеть от аперитива – выпил две рюмки текилы, которую Даниэль мне подал, насыпав туда соль и помочив в ней тряпку. Пахнет вкусно, однако мне плохо от этого вкусного запаха. Откупориваю бутылку алжирского вина. Нюхаю пробку. Прекрасно! Воняет. В этой стране все, что воняет, прекрасно и свидетельствует о высшем качестве продукта: сыры, вина, носки, улицы, счета, мысли, путешествия. Пробую вино, оно сладкое до тошноты. Меня передергивает.
– Ты любишь острое? – кричит он мне из другого конца комнаты.
– Да, очень!
Вижу, что Даниэль бросает в кастрюлю пару пригоршней перца. Делаю вывод: немного. В этот миг он в эйфории. Вспоминаю, как совсем недавно он признался мне, что все еще мечтает иметь ресторан. Языкознание – всего лишь каприз. Оно требуется ему для того, чтобы изливать энергию. Правда, зачем заниматься шумерскими пиктограммами, если в это время можно готовить еду, что доставляет не меньшее удовольствие, чем знание о том, как египтяне представляли космос и загробную жизнь? Эпоха постмодернизма много от чего отреклась, много от чего отрекается, однако не отваживается поставить под сомнение традицию еды. Она непоколебима и стабильна – последняя неоспоренная ценность. Меня радует, что я прикоснулся к ней. Отпиваю еще вина. Действительно хорошее, хоть и немного приторное, перекатывается во рту.
– В такой вечер мы можем прогуляться, – говорит он мне, когда мой живот уже упирается в пол.
Подумать не могу о прогулке, так как хочу только одного – спать. Хочу немедленно рухнуть в кровать и спать – час, два, три, четыре. До утра. Мне наплевать на этот город, ночные фонари, увеселительные заведения, концерты, кино, посиделки в кафе. Хочу только одного – сна. Я сыт, а теперь хочу спать. Стараюсь представить себе, что в эту минуту могло бы меня так заинтересовать, чтобы я вскочил со стула и стремглав полетел к мнимой цели. Не удается. Ничего не нахожу. Только сон. Сон, хотя и выпили-то всего с полбутылки вина. Хочу спать, и к тому же я толстый, так что больше мне ничего не надо. Даже Сократ не убедил бы меня в том, что мне чего-то еще не хватает.
Пока бы он объяснял, я бы спал. Платон, конечно, был бы очень недоволен. Может, даже злился бы, но мне плевать – я хочу сна. Это немного, если учесть, что миллионы людей в это мгновение хотят ставить фильмы, выигрывать на бирже, искать библейские города, делать детей в космосе.
Закуриваю и заставляю себя думать о Ренессансе: Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело, Браманте, Гирландайо, Джотто, Филиппино Липпи, Дюрер, Джорджоне, Леонардо да Винчи, Фра Анджелико, Лукас Кранах, Брунеллески и другие. Устал. Устал. О конце мира: «Пятый знак будет такой, что поднимется в Европе один король, который большие дела сделает. Сначала, постоянно воюя, укрепится в одном королевстве Западного края, людей возьмет в свою власть, а убьют того короля страшной смертью. Тот король будет без королевского венца…»
– Можем сварить кофе, – соблазняет приятель. – Очень хороший кофе. Покупаю его чуть подороже, но того стоит. Иной раз лучше дороже заплатить, зато наслаждаться качественным кофе. Понюхай.
Нюхаю подсунутый мне пакет. Кофе действительно хорошо пахнет. Его аромат на мгновение даже перебивает уличный смрад. Ненадолго. Наркотический сеанс кончается. Даже не успел опьянеть.
– Можно сварить. С удовольствием выпью, если ты сам все сделаешь.
– Да, конечно.
Мой друг до безобразия услужлив. По-прежнему сижу, даже не стараясь подняться. Пытаюсь размышлять на метафизические темы: метаязык, метатеория, метапсихоз. Вспоминаю, пифагорейцы учили, что наше нынешнее состояние души ненормально. Да, это правда. И что с того? Легче не стало. Я ненормально пережрал. Не хочу облеваться, поэтому, совершив мысленный прыжок, подступаю к культу Святой Девы. Феноменально: еврейка, чудесным образом родившая и оставшаяся девушкой. Невероятно. Отрыгиваю кускусом – пищей бедняков и пастушат. Кажется, Святая Дева мне помогла. Уже переваривается. Вроде и полегчало. Благодарение Богу, больше не надо думать. «Антропология – это теоретическая попытка человека разобраться в самом себе», – пробегает неизвестно откуда забредшая цитата.
– Раньше выпивал по пятнадцать чашек кофе каждый день, – хвалится Даниэль, когда я прошу вторую. – Потом перешел на чай. Он мне нравится. Похож на апельсиновый сок.
Молчу, потому что чай терпеть не могу. Пока он наливает, начинаю думать о сексуальной жизни горожан в Средние века. Не успеваю.
– Через месяц уезжаю в Пакистан и Китай. Полечу в Карачи. Там меня уже будут ждать друзья. Попытаемся пойти в Тибет. Если не получится, отправимся в Пекин. Мне осталось еще пять прививок. На следующей неделе обещали дать визу. Пить буду только кипяченую воду, потому что можно заразиться…
В тысячный раз слышу, что он отправляется в Азию, где надеется познакомиться с людьми, мыслящими иначе. Делаю вид, что Китай меня тоже влечет. Лгу, что в жизни мне еще не довелось встретить людей, мыслящих иначе. Ничего не хочу рассказывать. Он прочел одну книгу о Пакистане и узнал, что надо обязательно купить себе сапоги. Уверен, что гостиницы не понадобятся, так как в кодексе поведения мусульман вычитал наказ «Путнику дай ночлег». Наказом он решил воспользоваться. Исключительно для этого накупил пару дней назад мелких долларовых купюр. Ими будет благодарить хозяев и вдохновлять их на продолжение жизни в соответствии с наказами пророка Магомета. Молчу, потому что добавить мне нечего. В Пакистан меня не тянет, хоть там и очень красивые горы и гостеприимные люди.
– Налей еще кофе.
Протягиваю чашку, в которую он наливает мой любимый остывший кофе. Дневная жара спадает, а мой живот раздувается еще больше. Кажется, сейчас взорвусь, как петарда, пущенная в день взятия Бастилии. Чувство такое, словно сделан из кускуса и кофе. Тело мне больше не принадлежит. Мозг тоже.
– В Пакистане только один университет.
– Неужели? – осведомляюсь я, хоть меня и не интересует система просвещения этой страны.
– А им больше и не надо – девяносто процентов жителей Пакистана неграмотны.
– Но их премьер-министр просто очаровательна. Еще управляя страной, сумела забеременеть. Я видел, как она, беременная, читала годовой отчет. Впечатляющее зрелище. Мужчины должны были бы ей завидовать. Не каждый, управляя стомиллионной страной, находит время для удовольствий. Интересно узнать, кому в тот раз принадлежала инициатива – ей или ее партнеру?
Приятелю эта тема неинтересна. Сидит погрустневший. Он всегда начинает грустить, когда я завожу речь о сексе. Пытаюсь исправиться:
– А тебе не странно, что мутакалимы, борясь с мутазилитами, испытывали влияние их рационалистической теологии?
– Мутакалимы тоже старались рационалистично обосновать тезисы Корана. Тут ничего странного.
– Да, конечно, однако для мутазилитов Коран был не вечным, они считали его лишь одним из созданий Аллаха, которое можно объяснять аллегорически. Кроме того, они не были ортодоксами. По крайней мере, такими ортодоксами, как мутакалимы.
– Имей в виду, что в девятом веке мутазилитов преследовали как еретиков, и только позднее они возродились в ашаризме. Да и то лишь в десятом веке.
– Ты забываешь, что важнейшие их идеи до сих пор сохранились в шиизме.
– С шиитами мне не довелось столкнуться. Они обосновались в Иране, Ираке, Ливане. До Пакистана они не добрались. Не хочу утверждать категорически, однако это доказывает, что их учение не нашло подтверждения. Его исповедует лишь небольшая часть исламского мира. То же могу сказать и о мутазилитах.
Теперь он оживает. Светится, как рентгеновский аппарат, у которого вот-вот сгорит предохранитель. Мне становится безумно грустно, так как я не понимаю, ни что он говорит, ни что я сам только что сказал. Если бы пришлось повторить – умер бы.
Это все моя феноменальная память, позволяющая нон-стопом цитировать когда-то прочитанные книги, тексты, стихи. Но только один раз. Процитировав, я словно освобождаюсь ото всех этих теорий, сентенций, мыслей, фактов, которыми когда-то мне набили голову и которые якобы сделали меня культурным европейцем. Если он так хочет, я ему еще погоню…
– Ты помнишь Лейбница, объяснявшего, что мир состоит из монад, а Бог является всего лишь наиболее совершенной монадой? Помнишь? Помнишь. Ты знаешь, что монады развиваются самостоятельно в соответствии с установленной Богом внутренней закономерностью и всеобщей гармонией взаимных отношений. Это ты знаешь. Так вот, если говорить о познании, то Лейбниц обрисовал его таким образом: восприятие и все, что от него зависит, необъяснимо механическими причинами, то есть формами и движениями. Если, скажем, есть машина, строение которой позволяет ей думать, чувствовать, воспринимать, можно будет представить ее себе немного увеличенной…
– Я пойду подогрею кофе, – капитулирует мой друг, не выдержав давления немецкой философии. – Ты будешь еще?
– Да, с удовольствием выпью, – помогаю я ему и себе, так как Лейбниц – большой зануда, который сумел привести меня на грань безумия, когда я пару недель корпел над его трудами, надеясь немного больше узнать об этом мире.
Ничего от Лейбница я не узнал, ничего для себя не уяснил, а он как был, так и остался незыблемым классиком. Это недоразумение и аномалия. Подальше от него. Подальше от них всех. Первым, между прочим, сбегает Даниэль, хоть он и мечтает преподавать философию в Лилльском университете. Не знаю, где можно было бы отыскать гармонию.
Кофе на столике. Мы пьем и молчим. Со стены на нас смотрит Распятый. Он прикрыл глаза, так как знает все о познании, Лейбнице и даже студенческой революции в Париже.
Молчим втроем.
Воняет.Вечером гуляю по Монпарнасу, когда-то распускавшему легенды, в которые верил весь мир. Недоучки, невежи и аферисты сумели убедить буржуев в том, что неповторимы, гениальны, а потому за них стоит дорого платить. Золотой век Монпарнаса кончился. Теперь здесь живут кинозвезды, получающие миллионные гонорары, какие-то восточноевропейцы, которые вовремя поняли, что такое невыносимая легкость бытия. Вижу их теперешнее бытие, его весьма трудно назвать невыносимым, хотя они и пытаются всеми способами писать по-французски и, как сами говорят, одолев одно предложение, чувствуют себя так, словно взобрались на Эверест. Я им не завидую. Иду, засунув руки в карманы. Хорошо ничего не делать. Не могу налюбоваться красавицами, управляющими автомобилями. Долго стою у светофора, хоть здесь и не Германия. Надеюсь дождаться какую-нибудь еще красивее. Удается. Она ведет красный «Ягуар». Пожилая. Мне зеленый, ей красный. Не иду. Смотрю на нее. Зажигается желтый. Она замечает меня и, трогаясь, машет рукой. Для меня это как эликсир.
– У нас не принято так разглядывать женщин, – стыдит меня Даниэль, хоть и сам не без греха.
– Мне плевать, что у вас принято.
Он недоволен таким ответом, однако больше эту тему не развивает. Конечно, теперь он мог бы прочесть мне лекцию об этике в Западной Европе: как здороваться, как общаться, как подавать руку, как целоваться и т. д. Сдерживается. Сообразительный.
Бродим по узеньким, занюханным улочкам, так как мой приятель убежден, что я в жизни не видел грязи. Он медитирует перед кучами мусора и ностальгически объясняет, что каких-нибудь полсотни лет назад весь Париж был такой. Все это он вспоминает как нечто величественное и поразительное. Пораженная грибком стена дома для него словно какое-нибудь чудо света, уж никак не хуже, чем висячие сады Вавилона или египетские пирамиды. В какой-то момент, когда он останавливается перед такой стеной, мне кажется, что он растроган. Как ни стараюсь, не могу понять причин этого волнения. Мне такая ностальгия чужда.
Кажется, ни в одном городе мира собаки не срут так, как в Париже. Снова вляпываюсь в собачье говно, в эту минуту я очень недоволен собой. Говно не только вымазало мне подошву ботинка, но и попало на штанину. Нахожу среди мусора палку и начинаю скрести. Романтики ни крупинки. Даниэль радуется, что остался культурным западноевропейцем. Говно сразу не отскребается. Должно быть, бульдожье, думаю.
– Собакам в этом городе запрещено срать, – утешает меня, хоть и неудачно, Даниэль. – Если полиция застанет пса срущим, хозяину придется платить штраф.
– Да, конечно, но собаки, как и люди, все равно срут.
Мне плевать, что взимают штрафы. Теперь важно счистить это бульдожье говно, которое, кажется, просочилось сквозь подошву. Оно не только не отскребается, но и воняет.
– Однако штраф с человека за сранье в общественном месте не предусмотрен, – продолжает анализировать проблемы городской санитарии приятель. – Вот я мог бы в эту минуту на глазах у всех обосраться, посрать, однако ко мне никто бы не применил параграфа о загрязнении города. Нет такой статьи для людей. Для собак есть, а для людей нет. В таком государстве живем.
И от этого пассажа мне не легче. Говно ужасно действует на нервы. Ботинок изуродован не только со стороны подошвы, но и по бокам. Ботинки жалко. Сейчас их жалко даже больше, чем семерых астронавтов, бессмысленно погибших в атмосфере. В какой-то момент мне слышится даже, словно ботинок плачет. Нет, показалось. Все равно мне его очень жалко. Терновый венец стягивает мне сердце. Сладость прогулки по Монпарнасу горчит. Говно не поддается.
– Если бы я сейчас посрал, – наслаждается темой опоражнивания Даниэль, – полиция имела бы право меня задержать. Однако они могли бы меня обвинить только в нарушении общественного порядка или в сексуальной провокации. Насчет человеческого сранья никакой статьи нет. Как и насчет ссанья.
Соскребаю с подошвы кусок говна. Пытаюсь стряхнуть его с палки. Не получается. Тру палку о тротуар. Прохожие с немалой долей подозрительности следят за мной. Видно, думают, что я сумасшедший, в свободное время забавляющийся с говном. Никто и не подозревает, что в моем мозгу говорит Гегель: «Любовь вообще означает постижение того, что я и другой – одно, постижение того, что я не изолирован сам по себе, а осознаю себя, только отказываясь от существования в себе самом».
На мгновение прерываю умственную деятельность. Даниэль на меня и не смотрит. Запрокинув голову в небо, он философствует.
– Я даже мог бы заняться мастурбацией, и никто бы меня не обвинил в нарушении санитарной гармонии города. Это была бы только сексуальная провокация…
Не слушаю больше его рассуждений – терпение кончилось. Однако я рад, что философ спустился с парнасских высот и разбирает теперь насквозь земную тему. Не будь того говна, присоединился бы к нему, превратил бы монолог в диалог. Увы.
– Нужно найти фонтан.
Идем к воде. Нет, креститься не собираюсь. Хочу только обмыть ботинки. С другой стороны, и изговнявшись мог бы гулять по городу, как воняющий, немытый гулял в этом районе Хаим Сутин. Мог бы даже завернуть в ставшую шикарным местом «Ротонду», однако вряд ли был бы понят. Времена меняются. Нужно мыться. Прошло то время, когда ценили красоту эмигрантской души. Теперь в вымазанных говном ботинках далеко не уедешь. Ехать никуда не собираюсь, но и стоять, изговнявшись, тоже не хочу.
Оказываемся на узкой улочке недалеко от фаллоса Монпарнаса. Словно вражеская армия, со всех сторон нас окружают магазины секса и театры. Последние в меньшинстве.
– Когда-то в этом районе располагались одни публичные дома. В то время и театральная культура процветала, – объясняет мой спутник. – Девушек тут встречалось больше, чем теперь в Сен-Дени. После спектакля можно было завернуть к ним и расслабиться. Мне не пришлось этим воспользоваться.
Я все молчу, осматриваюсь по сторонам. Ветеранов в этом славном месте увидеть не надеюсь. Их и след простыл – жизнь здесь кипела с полсотни лет назад. Только и осталось каких-нибудь пять театров. Они трогательны, как и воспоминания, по сей день удостоверяющие, что было такое время, когда этот город называли столицей мира. Теперь на фасады театров наклеены плакаты, с которых смотрят дебильные морды, якобы соблазняющие зайти полюбоваться их искусством. Одни только лица вызывают у меня аллергию. Стараюсь представить их себе на сцене театра. Жуть пробирает. Никто не заставил бы меня купить билет. Никто не соблазнил бы полюбопытствовать, что же они там играют.
– Может, вернемся домой? Сварим кофе, побеседуем, – предлагаю я, когда Даниэль начинает увлеченно изучать репертуар Итальянского театра. – Можем даже в карты поиграть.
Он тоже равнодушен к сегодняшнему французскому театру. Ему неприятно, что они такие недалекие, да еще провозглашают себя пупом земли. Он отскакивает от репертуара, бросив: «Говно!»
Двигаемся к дому. Еще десять минут и опять попадем в тиски вонючей Кастаньяри.
– Смотри, Даниэль, завтра демонстрация педерастов! Мы непременно пойдем, – говорю я примолкшему другу, увидев объявление на углу улицы.
Стою один в стратегически удобном месте. Передо мной открывается перспектива улицы. За спиной вибратор Монпарнаса – мечта нимф. Мой приятель идти отказался. Боится быть замеченным студентами – бережет свою репутацию хорошего преподавателя и гетеросексуала. Старался убедить его, что такие предрассудки в конце двадцатого века просто чушь. Не помогло. Не спасло даже предположение, что, будь жив Фуко, он бы пошел вместе с нами. Пошел бы, может быть – даже в первых рядах. Ему Фуко не авторитет. Ну и ладно. Меня не волнует, что я стою один. Наоборот, поскольку не хочу выделяться, горжусь кольцами, которых нацепил на себя добрую дюжину. Одно жалко – не успел вдеть в ухо серьгу.
Сексуальные меньшинства понемногу собираются. Не могу избавиться от воспоминаний, поэтому чувствую себя так, словно поджидаю появления танков, самолетов, украшенных ядерными боеголовками ракет. К сожалению, будущее действо сулит совсем другие впечатления. Стою рядом с одной парой, решившей присоединиться к демонстрантам попозже. Они целуются. Это, конечно, всегда приятно. Он великан, а его приятель – карлик. Второй, правда, страдает болезнью Дауна. Его лицо не светится интеллектом, но и без этого свечения ему очень даже хорошо. Они любят друг друга. Вот великан почесывает его за ухом, ласкает стан. Мне опять несколько не по себе из-за того, что я один. С другой стороны, в такой день нетрудно найти себе друга, однако от страсти я не сгораю. Сгораю от любопытства, пусть и осужденного другом.
Когда я заявил Даниэлю, что пойду на демонстрацию, его эта идея не пленила. Сказал, что единственный раз участвовал в каком-либо шествии. Вместе с президентом, когда фашисты утопили в Сене божью коровку – марокканца. Так что он отказался. Эта мысль не оставляет меня в покое, однако своей озабоченности я не показываю.
Меньшинства продолжают собираться. Никого не волнует, что опаздывают уже на час. Ничего удивительного: такой праздник бывает всего раз в году – можно и подождать. Встречаются старые друзья, когда-то расставшиеся, когда-то предавшие, когда-то высказавшие все, что думали друг о друге. Воцаряется любовь и взаимное доверие. Нет, мне все же неприятно, что я один, как последний дурак, да еще и иностранец. Мысленно обзываю приятеля несколькими нецензурными словами. Безусловно, так поступать нельзя.
Улица уже полна народу. Движение остановлено. Мечутся телерепортеры, пытаясь отыскать лучшее место в мире. Жители улицы, кто полюбопытнее, уселись на крышах. Спровоцировать их не удается. И никто не приглашает репортеров к себе в дом, на балкон, в мансарду. Их в этот момент мне жаль меньше всего. Они здесь самые беспокойные, однако меньшинствам плевать на их душевное состояние. Сегодня праздник меньшинств, он бывает лишь раз в году. Примерно как у католиков Святое Рождество. У всех свои праздники, даже у японцев, которые, несомненно, лучше всего разбираются в микросхемах – параличе гуманитарных мозгов.
Музыка гремит на полную мощь. Я стою на тротуаре и не отстаю от других – покачиваюсь в такт, то есть делаю вид, что праздник мне безумно нравится. Никто и не подозревает, что я кокетливо блефую. Все доверчивые. Даже грустно, какие доверчивые. До безумия грустно и жалко. Особенно того, который так старался прижаться ко мне. Аристократическим жестом руки я отогнал его прочь, дав понять, что при других обстоятельствах, в другой день и если бы я был в другом настроении, неизвестно еще, ох неизвестно, как бы повернулась его и моя судьба. Он оказался очень сообразительным. Пошел искать счастья в другом месте. Провожая его глазами, я подумал, что и он одинок, как я или как мучающийся в Варшаве литовско-польский график.
Все еще не начинают, меня уже охватывает беспокойство. Немного устал вибрировать, словно изделие из магазина интимных принадлежностей. Нет, я не прав – такие изделия никогда не устают. Они аномально живучи, поэтому и хоронят надежды сильного пола на врожденные силы. Их можно было бы запретить…
Началось. Началось! По бульвару двинулись первые колонны. Впереди, как обычно, шагают регионы. Перед моими глазами проплывают Нормандия, Эльзас, Бретань, Лотарингия… Все с флагами, лозунгами. Да Та-а-ак, физически неполноценных людей надо уважать, поэтому за регионами следует Союз немых геев. Они безмолвны, зато их много – сотня, две сотни, три. И все немые! Прошла эта колонна тишины – двинулись лозунги, красные флаги, плакаты, гвоздики в петлицах, молоты, серпы, мушкеты и косы: Союз коммунистов-педерастов. Они настроены по-революционному и, как всегда, обещают лучшую и более разумную жизнь. Никто им давно уже не верит, однако они существуют. И все приятные, рослые, коротко стриженные, любят спортом заниматься. Этого нельзя сказать о следующем за ними Союзе троцкистов-гомосексуалистов. Последние совсем некрасивы, хотя и маскируются жутким макияжем. Здоровые и брызжущие энергией, шагают мимо педерасты-вегетарианцы, почему-то они держат в руках не овощи и фрукты, а фаллические символы, которые после мастурбации выстреливают водяными струями в тех, кто присоединяется к манифестации. На меня тоже немного попадает. Я доволен: жарко, и поэтому не вытираю рукой голову, где приютилось символическое семя вегетарианца-гомосексуалиста, наверное очень живучее и полное сперматозоидов. А вот подходит и Союз евреев-геев, на транспаранте они несут звезду Давида. Им на пятки наступают арабы-гомосексуалисты, они непривычно дружелюбны – ив голову не придет, что собираются вскоре взорвать парижское метро. Пауза. Впереди уже началась давка, поэтому я могу полюбоваться представителями Клуба педерастов-металлистов, украшенных неизменной своей атрибутикой: цепями, дубинами, кожаными куртками редкой красоты, черными блузками, утыканными металлическими заклепками. Конечно, их и сравнить нельзя с немыми – смиренными райскими овечками. Металлисты кричат, делают неприличные жесты, от которых сами еще больше возбуждаются. Окружающие меня наблюдатели равнодушны. Сразу понимаю, что им этот союз не нравится. Какой нравится? Не знаю. Проходит Клуб педерастов-рокеров. Точнее, проезжает, пролетает, проносится. С большим достоинством шагает мимо Союз педерастов-родителей. Вслед за ним – Союз лесбиянок, Ассоциация трансвеститов, Союз педерастов-студентов, педерасты-социалисты. Распевая красивую песню, проходит Смешанный хор педерастов и лесбиянок. Песня зажигает моих соседей. Они не выдерживают и присоединяются. Остается лишь думать, что они – бывшие музыканты. Необыкновенно роскошно наряженные, проходят представители Союза геев – производителей шампанского. Не новость, что все они чрезвычайно богаты. Пожалуй, богаче тех, кто называют себя членами Клуба геев – любителей собак. Не могу представить себе, что эти собаки тоже геи. Нет, скорее всего, я ошибаюсь. А может?..
Рядом со мной встает бабуся. Ошибся. Опять обманулся – старичок, наряженный в желтоватые носки, короткую юбочку, жилетик и с грудями, уход за которыми, видимо, довольно неплохой: они плотные, жесткие, соски, словно кубинские сигары. Старичок охвачен, возможно, чрезмерным восторгом. Однако я ему прощаю. Может, это его последний праздник? Даже не замечаю, из какого союза мне вручают презерватив. Я чрезвычайно люблю получать подарки, поэтому бросаюсь читать инструкцию: «Он смазан специальным составом и приспособлен даже для сосания». Это для меня неожиданность. Я несколько теряюсь. Размышляю: до или после его надо сосать? Мог бы справиться у старичка, однако он уже встретил другую «бабусю». Кажется, давно не виделись – тискают друг друга, гладят, вытирают друг другу слезы. Явно давно не виделись. Не буду мешать.
Теперь подарки на меня сыплются как из рога изобилия: получаю приглашения на дискотеки, в бары, кафе, рестораны, сауны, спортивные комплексы, тиры, манежи, специализированные магазины. И всюду бесплатно. Начинаю чувствовать себя необходимым. Сердце тает, пока я изучаю купон стоимостью десять франков, позволяющий наполовину бесплатно выпить чашечку кофе в сауне для геев. Почти соблазняюсь, потому что совсем рядом, да еще в такой день.
– Еле тебя нашел, – прерывает мои размышления и подливает ложку дегтя в бочку меда невесть откуда вынырнувший Даниэль. – Думал, что так и не увидимся.
– Значит, не выдержал?
Он останавливается на полуслове, потому что как раз в этот момент мимо нас проходит Союз педерастов-пенсионеров. Он совсем невелик – каких-то пять пенсионеров. Им трудно идти, однако держатся. Из последних. Один уже устал, поэтому другие два ведут его под локотки. Четвертый едет на моторизованной инвалидной коляске. Пятый несет транспарант. Все умиляются. Умиляюсь и я. Плачут пенсионеры, вспоминая прошедшую молодость и утраченную твердость мышц. Плачут присоединяющиеся, увидев, что их ожидает. Все начинают дружно хлопать. Аплодисменты перерастают в овации. Кто-то подбегает и вручает самым стойким пенсионерам цветы. Овации еще более бурные. Пенсионеры машут цветами. Они идут очень медленно, словно специально стараясь доставить как можно больше удовольствия наблюдающим за ними. Инвалидная коляска начинает дергаться – кончились батарейки. Помочь бросается пара лесбиянок. Оставив флирт с другой семьей, они толкают коляску ветерана – к сожалению, без медалей – в направлении Бастилии. Все с облегчением переводят дух.
– Даниэль, мы присоединимся к Лиге педерастов-анархистов и двинемся к Бастилии.
Мой друг колеблется. Теперь в нем борются профессор университета и анархист. Побеждает второй. Мы идем в сторону Бастилии. Идем туда, где когда-то де Сад трубил в трубу.На полную наслаждаюсь гениальностью Фрэнка Заппы. Его искусство исходит из самого сердца, и не только из него. Наши соседи очень терпимы, а может, и нет. Может, они тоже его любят, недавно умершего, теперь меня развлекающего, забредшего из семидесятых. Заппа шутит. Заппа ругается. Заппа плачет. Заппа жалуется. Шкала беспредельна, и я хочу, чтобы никогда не кончалась эта оргия музыки и текста.
Лежу на полу, закинув ноги на ритуальный мусульманский столик. Все еще жарко, все еще не знаю, что делать, за что взяться, каким образом, какими средствами развеселить этот город. Голова пуста, словно побежденный вирусом компьютер. Она не рождает мыслей, монографий, диссертаций, докладов. Ее опьянили эксперименты лос-анджелесского маэстро. В этот миг меня не интересуют ни прошлое, ни настоящее, ни завтрашний день, доставляющий постаревшим немало забот. Не стал бы утверждать, что это блаженное состояние. К сожалению, оказаться в другом не удается, хотя, впрочем, я этого и не хотел бы.
– Сегодня больше есть не будем, – возвращает меня из комы Даниэль. – Пойдем ужинать к моему приятелю. Он – неисправимый гурман. К нему придешь – уйти не можешь. Так, бывает, отяжелеешь.
Весьма скептически реагирую на эти его слова. Больше есть не будем. Не знаю, что значит «больше», однако он уже умял гуся с картошкой и салатом. Последние я был вынужден съесть сначала. И только после этого – гуся.
Снова обожравшись, сижу за столом, даже не помышляя о том, чтобы куда-нибудь двигаться. Зачем?! Для чего?! Почему я должен опять куда-то тащиться?! Это недоразумение. Этот его засранный приятель живет в восточной части северного Парижа. Значит, придется добрый час толкаться в метро. Ради чего?! Я поел и совершенно не хочу заводить новых знакомых, которых и так достаточно. Для чего нужны все эти знакомые, если тебе ничего от них не нужно?! Для чего они вообще существуют – те знакомые, от которых пользы как от козла молока или от коровы спермы? Их вполне успешно может пронести и без меня. Примерно как у Геббельса слово «культура», так у меня слово «знакомые» вызывает аллергию, безнадежность, бешенство и безумие. Я прекрасно без них обхожусь, а теперь еще и поел. И действительно не вижу никакой причины, которая заставила бы меня отправиться в тот северный Париж, заселенный арабами, фундаменталистами и извращенцами, притворяющимися кинопродюсерами.
– Нам обязательно нужно к нему пойти, так как он ждет.
Хотел бы сказать: пусть ждет, – однако улыбаюсь и замечаю, что очень приятно встречаться с новыми людьми, особенно такими, которые приглашают в гости на ужин. Хочу добавить, что приглашение на ужин, завтрак или второй завтрак – это наилучшая мера человечности, исходя из которой можно делать очень широкие выводы о человеке, его воззрениях, поведении, составе семьи и даже сексуальной ориентации. Сказать это не успеваю, так как должен убрать со стола и выкинуть с тарелок обглоданные и наполовину обглоданные гусиные кости.
Гусь был изумительный. Не представляю, что бы его сегодня могло превзойти. Я бы сказал, что даже провозглашение меня Великим Двигателем Вселенной не могло бы сравниться с гусем, а потому, пока Даниэль не видит, засовываю в рот кусок мяса. Вовремя успеваю стереть жир с губ, так как он уже рядом со мной – меняет Фрэнка Заппу на Игги Попа. Я так сыт, что даже не возражаю.
Мне теперь все равно, мог бы выразиться и посильнее. Сильнее не выражаюсь, беру себя в руки.
После гуся появляются и мысли. Размышляю о том, что было бы, если бы человек, съев какое-нибудь животное, стал бы испражняться его детенышами. Например, съел страуса – и высирал бы его яйца. Тюленя – выводишь через задницу тюленят. Антилопу – антилоп. Были бы тогда даже специальные службы, проверяющие, придерживается ли гражданин установленных в обществе норм и традиций, то есть разводит ли гражданин индюков, скворцов, голубей, заботится ли о вышедших с испражнениями дельфинах, моржах, пингвинах. Думаю, не всех бы тогда прельстила возможность попробовать слонов. С другой стороны было бы больно, если бы слоненок приходил в этот мир через задницу того, кто съел его родственника. От этих размышлений почувствовал себя гораздо лучше. Теперь не так уж и неприятно отправляться в гости. Ладно, пойду.
Опаздываем на добрых два часа, однако мой друг не волнуется. Меня успокаивает, что хороший тон требует опаздывать на два, четыре часа и более. Опаздываем на два с половиной, когда спускаемся в метро, чтобы отправиться в арабский квартал. Поезда, разумеется, не ходят, так как на нашей линии какой-то разочаровавшийся прыгнул под поезд и, естественно, погиб. Пока ждем, воображение рисует картины: персонал метро вытаскивает на перрон останки тела; женщины, одевшись в белые одежды, клянутся никогда больше не садиться в последний вагон; японцы собираются фотографировать трагедию, однако полиция их не пускает; матери закрывают детям глаза; более извращенные делятся с окружающими виденным неделю назад. Поезда метро по-прежнему не ходят. Значит, самоубийца был парень не промах. Не каждый, прожив даже сто лет, может гордиться, что однажды ему удалось дестабилизировать положение в столице. Так или иначе, то, что сделал самоубийца, величественно и разумно – мы опоздаем на четыре часа. Ради этого стоило жить. Он своего добился. Хороший тон действительно требует приходить с небольшим опозданием.
Когда хозяин открывает двери, его лицо радостью не светится. Он словно подавлен и недоволен. Вовсе не кажется, что нас ждали, сгорали от нетерпения, готовились. Он даже немного сердит и, кажется, негостеприимен, хотя ботинки снять и не велит. Зовут его Жан, и в какое-то мгновение мне приходит в голову, что он гений – дело в том, что не бывает и минуты, когда оба его глаза были бы одновременно открыты. Когда он открывает один глаз, то закрывает другой. Когда этот устает, открывает тот, а этот закрывает.
Словом, охвачен постоянной сменой. Предугадать ее невозможно, так как совершенно неизвестно, как долго он будет держать закрытым один глаз или открытым другой. Кстати, глаза у него, мягко говоря, выпученные. Может, он их бережет, чтобы не вылезли из орбит? Не знаю. Он играет этими глазами как мячиками, поэтому сначала я и осмелился подумать, что он гений и что такой у этого гения стиль. Опять ошибся. Он больной, однако не знаю, как называется эта болезнь, когда на мир смотришь только одним глазом, а другой закрываешь. Название должно быть. Мне очень хочется его спросить, однако он, кажется, сжился со своей бедой, а теперь думает, что это признак гениальности. Сдерживаю себя и не спрашиваю. Не могу оторвать взгляда от его глаза, глаз. Попадаю в капкан неинтересной мне игры, поэтому считаю: один, два, три, четыре, пять. Открыл. Снова считаю: один, два, три. Открыл. На него можно смотреть как на произведение искусства. Не надоедает. Я мог бы предложить экспонировать его в Центре Помпиду, однако вряд ли он согласится. Может, стоит попробовать…
– Садитесь за стол, – умоляет он, а его глаза играют, играют, играют.
Мы садимся к пустому столу, на котором стоит какой-то странный аппарат, который он получил, как рассказал Даниэль, на день рождения от друзей. Снова подумал, что друзья с ним общаются только для того, чтобы можно было насладиться непредсказуемой игрой его глаз. С другой стороны, женщин ему не нужно соблазнять. Он только взглянет, как они уж должны все понять. Женщинами в этом доме и не пахнет. Зато пахнет квартирантом, который, весьма гордо стуча шлепанцами, шествует в туалет. Ему за столом сидеть запрещено. Когда начинают доноситься звуки, я понимаю, что с пищеварением у квартиранта неважно. Лекарства предложить не осмеливаюсь.
Жан ставит на стол самую большую и ужасающую мерзость в мире – шипучее яблочное вино необычной крепости, целых три градуса! Я готов облеваться при одной мысли, что и мне придется пить, хвалить. Рюмок у него нет, поэтому наливает в чашки.
– За встречу! – произносит тост хозяин.
– За встречу! – откликаюсь я, однако едва смачиваю губы этим ядом.
Яблочный уксус придает ему сил. Теперь он вращает глазами еще быстрее. Даже достигает определенного рекорда, поскольку пару раз я не успел досчитать и до одного – с такой молниеносной скоростью меняются пространства его мировосприятия. Даниэль сидит спокойный и довольный. Он торжествует, ибо подарил мне новое знакомство. Думаю, моему приятелю эта яблочная кислота тоже по сердцу. Он просит подлить себе и очень удивляется, что моя чашка еще полна. Хотел бы сказать ему, что мы, восточноевропейцы, пьем все, однако не пьем то, что нам не нравится. Молчу, потому что я первый раз в этом доме, да и пришел без цветов.
– Будем есть, – радостно объявляет Жан. – Будем есть, – повторяет он, словно ни один из присутствующих этого не слышал. – Будем есть, – заканчивает он.
Теперь вижу, как Даниэль вытаскивает из своего рюкзака сыры десяти сортов, итальянскую ветчину, польское филе, австрийский пирог, фрукты, овощи. Глазам не могу поверить, а Жан, как и полагается, все это выкладывает на стол. Он гостеприимен, так как и мне предлагает подлить яблочного уксуса. Говорю, что с удовольствием выпью. Только попозже.
– Какой стол! Какой стол! – радуется Даниэль.
Теряю дар речи, так как не знаю, то ли я дурак, то ли он притворяется. Даниэль весьма предусмотрителен. Он захватил с собой даже сладости, пирожки, минеральную воду, соки.
– Французское гостеприимство, – характеризует ситуацию Жан, а его глаза теперь, соревнуясь друг с другом, моргают уже с бешеной скоростью.
– Научу тебя, как тут надо есть, – говорит мне Даниэль. – Вот на это блюдечко кладешь сыр, после этого засовываешь его в этот аппарат, и тогда…
– Что будет? – осведомляюсь я, так как мне интересно.
– Увидишь, увидишь, – не хочет выдавать тайну он.
– Я – бретонец, – ни с того ни с сего заявляет Жан.
Сую сыр в аппарат. Жду. Вытаскиваю – плавленый сыр. Плавленый сыр.
– О, как чудесно! – Даниэля настигает оргазм.
– Мы, бретонцы, любим поесть, – все не нарадуется своему происхождению Жан. – Потому что мы – бретонцы.
Мне насрать, бретонец он или баск. Ем плавленый сыр с ветчиной и не чувствую себя на седьмом небе.
– Может, еще вина?
– Нет, спасибо, не нужно, – отвечаю.
Не могу на себя нарадоваться. Я, такой галантный, приятный, воспитанный, приглашен в гости. Мне так хорошо, так хорошо… Особенно находиться в гостях. Только будьте любезны, не наливайте мне больше этой яблочной отравы. Три процента алкоголя, где это видано?! Не хочу и того сыра из аппарата, который Жану подарили на день рождения друзья, должно быть в надежде, что как-нибудь он их угостит.
Даниэль по-прежнему в трансе от угощения Жана. Не хватало еще, чтобы начал хвалить его кухню и кулинарную изобретательность. Жду не дождусь этого момента. Не дождусь, так как Жан тащит второй литр яблочной мерзости. Никак не пойму, зачем они пьют эту кислятину?! Во-первых, опьянеть от этого вина невозможно – оно вдвое слабее пива. Во-вторых, довольно приторное. В-третьих, газированное. Когда я однажды предложил Даниэлю попить газированнои минеральном воды, он отказался, заметив, что углекислый газ очень вреден для организма. Ничего не понимаю. Ничего! Здесь все непредсказуемо.
– Что ты делаешь? – обращаюсь, набравшись смелости, к Жану.
– Был артистом…
– Балета?
Нет, он не понимает остроты или намека. Он чист, как все цветы Индии, которыми украшают себя еще более чистые священники и монахи.
– Актером. В театре.
Мне такое не в диковинку: со своими глазами он мог бы метить и в президенты – толпу было бы не оторвать от его взгляда. Актер – это хоть актер.
– Долго был актером? – пытаюсь я продолжать интеллектуальную беседу, так как иначе он снова будет заставлять меня есть и пить.
– Восемь сезонов.
– Целых восемь…
На том беседа и заканчивается. Надо бы спросить о ролях, однако знаю заранее, что играл он недорослей, дурачков, обиженных. Режиссер был бы сумасшедшим, если бы доверил ему Ромео или Фауста. Правда, для пьес Брехта нужны разные маргиналы. Подозреваю, что о Брехте он и не слышал.
– Ты окончил театральную студию, – скорее утверждаю, чем спрашиваю я.
– Он самоучка, – встревает Даниэль, прекрасно знающий биографию Жана и тем гордящийся.
– Я и композитор.
– Неужели?! – не могу я надивиться многообразию его способностей. – Ты и композитор?!
– Да, сочиняю музыку на компьютере. Это просто.
– Сам научился?
– Да. Это несложно. Поставлю тебе произведение, на которое меня вдохновило море.
Даниэль пытается его остановить, но тщетно. Жан уже за пультом.
Шум моря вначале не новость. Теперь мне надо было бы закрыть глаза. Слушаю с открытыми глазами. Точнее, не слушаю, так как у меня море не вызывает никаких видений. Я глух. Жан, бросив есть, слушает, наполовину прикрыв глаза. Когда произведение кончается, мне остается только сказать, что очень понравилось, однако я нерешительно что-то мычу об обрушившемся деревянном мосте Тишкявичюса в Паланге и еще не построенном новом. Думаю, Жан недоволен. Мне наплевать. Не собираюсь его хвалить, так как мне ничего от него не нужно. Новых дикарей в Берлине я тоже не хвалил. Ничего не случилось.
– Могу тебе переписать, – предлагает он, не потеряв еще надежды, что я заинтересуюсь. – Есть и вторая часть.
Благодарю, однако «да» не говорю. С другой стороны, не говорю и «нет». Он сам должен сообразить, сориентироваться, решиться. Даниэль мудро, словно буддист-паромщик, молчит. У него, наверное, записано все творчество Жана. Не замечал, чтобы он его слушал. Не упоминал он в разговорах со мной и о том, что есть вот, мол, в Париже композитор-самоучка, музыка которого могла бы вывести меня из безумия и паразитической комы.
– В последнее время в основном сочиняю музыку, – расширяет повествование о себе Жан. – Правда, в нотах не разбираюсь, но зачем ноты компьютеру?!
– Действительно, зачем эти ноты?
Даниэль уже дремлет, отдав меня в когти хищника. Он пережрал, хотя дома сам настоятельно требовал не есть того гуся. Сам виноват, не нужно было столько всего накупать.
Я в самом деле не могу поддерживать разговор. Прямо даже не знаю, за какую тему приняться. Мне неинтересна его жизнь. Ему неинтересна моя, да и будить его интерес я не собираюсь. Могу сказать только, что в моей жизни этот самоучка – абсолютный нуль. Так стоит ли общаться с нулем?! Имеет ли смысл разбазаривать время, когда вместо этого можно лежать на двуспальной кровати и слушать Фрэнка Заппу. Еще одна бессмыслица. Еще одно недоразумение. Еще один жизненный парадокс. А Жан по-прежнему вращает этими своими глазами. Ловко вращает. Недаром был актером.
Он начинает действовать мне на нервы, хоть я и у него дома. С другой стороны, пусть засунет себе в задницу свой дом в арабском квартале, раз оторвал меня от размышлений о никчемности.
– А не хочешь ли бордо? – бьет Жан в мое больное место, и я чувствую, как моя ненависть стихает, стихает, стихает…– Разве что чуть-чуть, – только и говорю я в ответ, а сам не могу найти себе места: да неси, неси скорей это свое вино!
Он выходит. Слышу, как шепчется с квартирантом. Тон квартиранта не из приятных. Они не могут о чем-то договориться. Загадка разногласий меня не интересует, так как я с детства не умею ни разгадывать, ни загадывать загадки. Наконец Жан возвращается.
– Мне очень неприятно, но вина нет. Принес третью бутылку яблочного сидра. Он ведь тебе нравится, правда?
Я мог бы схватить нож, перерезать ему горло, выскрести открытый глаз, кастрировать, отрезать член и засунуть ему в зубы, однако сдерживаюсь и не делаю этого. Сдерживаюсь. Успокаиваюсь. Совсем успокаиваюсь. Абсолютно успокаиваюсь. Превращаюсь в Будду. Сижу в позе лотоса. Расцветаю в нирване. Ко мне обращается Вселенский Разум. Я ему улыбаюсь.
– Какие пустяки, – говорю, когда он откупоривает бутылку сидра, обрызгав и разбудив Даниэля. – Налей мне этого удивительного напитка, который не только проясняет, очищает и концентрирует мысль, но и омолаживает тело. Налей, охотно его выпью. С огромным удовольствием освежусь им. Да и в горле у меня уже сухо от этих разговоров.
Разбуженный новой бутылкой, Даниэль тоже подставляет стакан. Чокаемся. Мы дружелюбны, внимательны друг к другу, услужливы. Прямо вифлеемские пастушки, прямо ангелы, проводившие в рай Святого Петра.
– За здоровье! – провозглашаю торжественно.
– За знакомство!
– За все то, что доставляет удовольствие!
Не могу не изумиться, как это я не поперхнулся. Газированная жидкость опускается в мои внутренности. Желудок вроде бы сводят судороги, однако мозг успевает убедить его, что в гостях так вести себя не подобает. Желудок трус, поэтому уступает и не возражает. Он и серную кислоту переварил бы, если бы только интеллекту удалось его убедить, что это неизбежно.
От этого лимонада мои друзья уже опьянели. Я опьяняюсь перспективой возвращения домой, когда вытащу ром и смою осадок этой вечеринки. Это придает мне сил. Подкрепляюсь ветчиной, так как не знаю, возьмет ли ее Даниэль или оставит здесь. Ветчина вкусная. Итальянская. Итальянцы не только страстные любовники, но и ветчину вкусно умеют приготовить. Обувь их, как подумаю, правда, неважная, хотя попадается и неплохая.
Звонок в дверь. Жан вдыхает воздух, Даниэль его выдувает. В дверях показывается девушка.
– Я – Сесиль, – говорит она мне, а в руках у нее бутылка вина. – Простите, пожалуйста, что немного опоздала – в метро самоубийца. Раньше никак не получилось. Простите, пожалуйста.
Извинения принимаются, хотя опаздывает она на четверо суток. Меньше всего сержусь я, так как уже с порога она заявила, что это говно за шесть франков пить ни за что не будет. Внутренне я с ней совершенно согласен. Она сразу вызывает у меня симпатию: маленькая, с кривыми ногами, монументальной грудью, в короткой юбочке, с белой кожей, на которой проступают красные пятна, и длиннющими ресницами, на которых висит гной. Чокаемся и вдвоем пьем принесенное ею вино. Вечеринка продолжается. Начинается…
Бог, отдыхая в седьмой день, наверное, хотел подложить человечеству свинью. Воскресенье – нет более тоскливого и бессмысленного дня недели. Особенно летом и особенно в мегалополисах, таких, как Париж, Лондон, Берлин. Люксембург к этой группе не причисляю, так как и обычный день недели здесь такой же, как в других местах воскресенье, – тоска. Раздумываю, за что взяться в будний день, а уж в воскресенье просто впадаю в безнадежность. Мне непонятно, почему люди должны один день в неделю прятаться, торчать в своих норах и терзаться, что наступает понедельник. Не скажу, что другие дни недели в моей жизни полны смысла, деятельности, деловых встреч, но воскресенье – нет более мерзкого времени. С другой стороны, этот день такой же, как и другие, просто предрассудки сделали его невыносимым. Конечно, можно было бы пойти в церковь, помолиться, покаяться в совершенных в будни грехах, однако в моей жизни нет ни грехов, ни будних дней, ни праздников. Все идет по прямой линии, без подъемов, без спусков, без захватывающих дух историй или парадоксальных происшествий. Я не обнаруживаю в своем бытии сюжетов, которые можно было бы извлечь из биографии и издать в виде триллеров, любовных историй, детективов или психологических драм. Должно быть, поэтому все надуманное, гипертрофированное, притянутое за уши меня нервирует. Наше бытие представляется нам отрезком, начало которого – рождение, а конец – смерть. Самые разумные в этом промежутке – точки начала и конца. Сейчас я на середине этого отрезка, поэтому не думаю о том, что меня ждет, не вспоминаю того, что было. Просто скольжу по прямой, кем-то когда-то мне начертанной. Остерегаюсь всякой ненужной эксцентрики, способной прервать прямую и превратить ее в гиперболу, параболу или геометрическую фигуру. Мне нравится скользить. И нравятся истории без начала и конца, так как они отражают промежуток времени между рождением и смертью. Финал мне чужд, как чужда такая литература, в которой повествование начинается с прадедов героя и кончается рождением потомка как раз тогда, когда описанный персонаж доживает последние минуты. Я действительно не хочу, избегаю сюжетов, а к чужим равнодушен; хотя немало тех, кто, соблазнившись, описывал их, а позже получил за это премии и нишу в кладбищенской стене истории культуры. Мне достаточно фиксировать сегодняшний день, поэтому я ужасно не люблю воскресений, выбивающих меня из спокойного ритма. В воскресенье я становлюсь раздражительным, всем недовольным и несчастным. Наверное, именно в такой день я смог бы стать персонажем фильма ужасов и прервать прямую. Однако даже не пытаюсь, так как все чужое мне чуждо. Вероятно, это очень банально, однако я убежден, что и самый прозорливый балансирует на канате банальности – прямой линии, отклоняющейся то в одну, то в другую сторону, – страстно желая, однако, не потерять равновесия. Меня никто не убедит, что гении расцветают в другом измерении, где все по-другому.
В это изгаженное воскресенье я брожу все по тем же улицам, которые когда-то были новыми. Сейчас они мне кажутся потасканными, как дешевые проститутки, поджидающие священников Сен-Дени, которые заворачивают к ним после утренней мессы. Как если бы я находился в вымершем городе и сам чувствовал себя мертвым. Если бы меня в этот миг не было в этом городе, в этой системе измерений, ничего бы не изменилось. С другой стороны, и хорошо, что не изменилось бы. Брожу туда-сюда, словно желая вернуть вчерашний день, когда был моложе, добрее и не так злился на календарь, назойливо напоминающий, что с каждым днем я становлюсь все мертвее и равнодушнее к внешнему миру Еще только полдень, а я уже хочу постареть на сутки вперед. Мне неприятно думать об этом и признавать, что я все время чего-то хочу и жду. А когда я углубляюсь в себя и раскрывается суть желания и ожидания, выясняется, что цель-то – всего лишь смерть. Это ужасно, и поэтому грустные, овладевшие мною на бульваре Османа воскресные мысли я гоню из головы, когда тащусь на Монпарнасское кладбище – неизбежное место моих прогулок. Подаюсь на север, поворачиваю направо, не встретив никого из прохожих, возможно, испытывающих то же состояние, что и я сейчас. Наверняка то, что происходит сейчас в моей голове, и есть жизнь. А может, жизнь – это то, что в данный момент я ныряю на бульвар Сен-Мишель? Мне трудно определить, что является более разумным и ценным. Как гуляющий индивид – я ноль. Как думающий – тоже. Восхитительная сумма нулей, неповторимое равновесие бытия, открывающее возможности вести себя и думать так, как мне удается. И никаких обстоятельных комментариев, наводящих, кстати, на мысль, что они составлены из бесконечности арабских чисел.
Топчусь на бульваре Сен-Мишель и не могу решить, куда направиться. Северный Париж банкиров за Сеной еще тоскливее, монмартровский диснейленд противен. Можно пойти на Северный или на Восточный вокзал, однако это было бы уже акцией отчаяния, подтверждающей, что у меня совершенно нет воображения. Не хочу сдаваться, поэтому подпираю стену и думаю: назад? вперед? направо? налево? Все варианты в это воскресенье одинаково отбивают охоту. Конечно, можно было бы присесть в кафе, однако что от этого изменится – день ведь не превратится в ночь. Вспоминаю красивое название романа – «Мои ночи прекраснее ваших дней». Действительно, точно сказано. Можно добавить: и дней, и ночей, и всего.
Еще только час дня. Солнце настроилось выжечь все живое. Мне это не грозит, так как меня как бы и нет. Я – лунатик, сомнамбула, астральное тело, которое сжигает изнутри бессмысленность этого дня, заполнившая подсознание, парализовавшая волю и мышцы ног. Беру себя в руки и перемещаюсь в тень.
По Люксембургскому саду катятся комки пыли. Черные служанки буржуев пасут малолетних отпрысков, которые когда-нибудь будут заседать в Ассамблее, обещать лучшую жизнь и называть себя слугами народа в Пятой республике. Наверное, в то время будет уже Шестая республика. Никакой разницы, числа меняются, суть неизменна – слуги и дальше будут водить детей играть в Люксембургский сад, детишки будут строить замки из песка, которые позднее превратятся во дворцы, за которые никто не захочет вносить квартплату, и начнут судиться из-за неуплаченных налогов. Пока что они невинны, как ангелы. Не один, когда засияет Вифлеемская звезда, мог бы улечься в ясельки и притвориться Спасителем. Никто бы и не заметил обмана. Все сказали бы: «Ой, какое красивое дитя! Какое оно нежное! Какие чистые у него глаза!»
Ищу, где бы сесть. Все скамейки заняты, все стулья одушевленны. Здесь проходит жизнь. Кажется, весь Париж сбежался подышать пылью, покрыться ею, чтобы позже можно было стирать, стирать, стирать и снова стирать воскресную одежду, насыпав прямо-таки удивительного стирального порошка. Кое-как нахожу стул. Тащу его в тень и ставлю в вихре пыли и песка. В кармане у меня книга, однако я не вынимаю ее, потому что со всех сторон меня окружают празднующие воскресенье французы, арабы, алжирцы и даже пара русских эмигрантов. Они целуются у меня за спиной и все повторяют, чтобы не забыть: я тебя люблю, Саша, я тоже, Ольга. После каждого поцелуя они произносят эти сакральные фразы и снова погружаются в невинные любовные радости, которые по прошествии пяти лет супружеской жизни им осточертеют. Краешком глаза наблюдаю за ними, потому что мне доставляет удовольствие слышать язык Достоевского, Тургенева, Пушкина и Ломоносова, плывущий в этом адском чаду.
Пока думаю о сибирском походе Ермака, получаю удар мячом в голову. Ударившая двухметровая служанка даже не извиняется. Ее четырехлетний подопечный хватает мяч и пинает его. На этот раз он попадает в сидящего напротив меня старичка, который не возражал против Мюнхенского сговора, выдержал репрессии коллаборационистов, возможно, даже видел де Голля и, несомненно, наблюдал студенческую революцию семидесятых. Старичок в нокдауне, а я думаю: хорошо ему отплатили за обиды, нанесенные жителям Папеэте французами-колонистами. Кажется, что этот ребенок по меньшей мере сын министра, который в будущем и другими способами выразит осуждение прошлому государства. Он не успокаивается и теперь попадает мячом в неожиданно вынырнувшего мусульманина, похоже, не фундаменталиста, потому что тот, улыбнувшись, без камня за пазухой идет себе дальше. На проделки ребенка я смотрю снисходительно, а вот умственное развитие двухметровой служанки вызывает у меня беспокойство. Она снова целится в меня мячом и попадает. Засранное воскресенье. Остается только встать и идти искать место поспокойнее.
Сижу в тени у карусели, маниакально кружащей малышам головы, чтобы не думали о будущем, безработице, клошарах и трудностях ремонта старой Оперы. Для них воскресенье – праздник. Со свернутыми головами они будут жить всю неделю, до следующего воскресенья. Место, куда попал мяч, саднит. Чувствую себя нечистым, вспотевшим. Отвратительнее и быть не может. Вытаскиваю из кармана книгу и начинаю читать: «Любовь моя, очень хотел бы, чтобы ты поехала вместе со мной в Париж. Показал бы тебе свои любимые улицы, которые полвека назад исходил с пустым животом; повел бы в кафе, в которых писал книгу, позднее давшую мне свободу и независимость. Очень хотел бы, чтобы ты поехала вместе со мной в Париж. Я хочу открыть его тебе таким, каким он был когда-то. Хочу показать город, которого уже больше нет. Вот чего я больше всего хочу в эту минуту. Хочу и молю – поедем со мной».Пью кофе в студии Джима, в которой в прошлом году отирался весь месяц. До этого остановился у Вероники, однако она меня выставила, сказав, что жить вдвоем в восьмикомнатных апартаментах слишком тесно. Я не рассердился на нее, потому что она – буржуйка. Точнее, не буржуйка, а безработная. Однако ее отец – буржуй, который держит антикварный магазин за Бастилией. В прошлом году она была влюблена в Жан-Люка – на редкость мрачного персонажа, который, как в таких случаях и подобает, удовлетворив свою страсть, ее бросил. Об этом она мне писала из Нью-Йорка, куда отправилась утолять боль потери и разлуки. Нет, не сержусь на нее, так как у Джима мне было совсем неплохо.
Сейчас завернул к нему и пью кофе, хотя его и нет дома. Джим еще в Петербурге. Все это рассказывает Петер, которого в прошлом году я послал к черту, так что в этом он очень услужлив, хоть и успел уже уколоть меня, сказав, что я ничего не делаю.
Очень удобно заходить в эту студию, так как она в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от улицы Кастаньяри, на которой мне становится тесно. Приятно пройти улицей Алезья, описанной не одним бумагомарателем. Люблю ее, улицу, полную магазинов, дешевых кафе, антикварных лавок и пустых ресторанов, в которые забредает плебс этого квартала. Можно и на автобусе доехать, однако пешком лучше.
На середине улицы Алезья всегда сидит толстяк, назойливо выпрашивающий милостыню и прямо-таки хватающий прохожих за полы. Меня он уже запомнил, так как несколько раз мы с Даниэлем проходили мимо него. Даниэль хвастался, что однажды, когда этот толстяк требовал деньги, он сказал ему, мол, «ты и так толстый». С тех пор тот якобы больше к нему не цепляется. Может, и правда, потому что мне он тоже ничего не говорит, а только позвякивает вслед жестянкой, в которой, как можно заподозрить, лежат какие-нибудь пять франков.
Петер сварил кофе. Изумительный кофе. В этом деле на Петера можно положиться, хоть он и прекратил творческую дружбу с Сантаной. О нем Петер может рассказывать часами, поскольку служил у него носильщиком или каким-то осветителем, а может, и озвучивал что-то… Не знаю. Словом, его обязанность в том, чтобы варить хороший кофе и составлять иногда компьютерные программы на втором этаже студии, где обычно хранятся картины и скульптуры. Он живет в жутком бардаке, однако, когда вспоминает Амстердам, только улыбается. Петер симпатяга. Ему уже за сорок, а он все еще не состриг длинные волосы, трогательно подчеркивающие лысину. Он любит рыгать. Рыгает всегда звучно и как бы с гордостью. Никто на это не обращает внимания.
Теперь он мне рассказывает, что здешний квартирант Джек уже три месяца как в Америке. На следующей неделе должен вернуться. Джек – вторая яркая личность в этом доме. Можно сказать, что Петер – слуга Джека, а слугами Джима, хозяина дома, являются Петер и Джек. Джек – это толстяк ростом метр пятьдесят, с трудом поднимающийся с кровати. Он живет в подвале, куда ночами приводит мальчиков и угощает их кока-колой со льдом. Джек не только профессиональный повар, но и писатель. Когда-то написал книгу «Как мыть посуду», которую выпустило собственное издательство Джима. Джек нервный и довольно сердитый. Внешностью он очень напоминает французского бульдога. Жаль, что сейчас его нет дома. Мне просто приятно смотреть, с каким неистовством он готовит еду. А готовит безумно вкусно, потому что уже двадцать лет работает в воскресном ресторане Джима, в который захаживают разного сорта проходимцы, авантюристы, монополисты и еще черт знает кто.
– Значит, Джек в Америке, – говорю я Петеру, не упускающему случая напомнить, что у каждого из них своя жизнь, в которую никто не имеет права соваться, хотя они и живут вместе на протяжении двадцати лет.
– Да, он в Америке. А почему ты еще не говоришь по-английски? – кусает меня Петер.
– Не говорю потому, что мог бы договориться с тобой по-немецки.
Его удовлетворяет этот ответ, хотя он и объявляет себя гражданином мира. Я, разумеется, положил на всех граждан мира, знающих, кто они такие.
Курить выходим на улицу, так как в этом доме не курят. Курит один только Петер. Мне горько бывало смотреть, как по окончании воскресной вечеринки он собирает с земли набросанные гостями окурки. Это еще одна его обязанность, навязанная Джимом и Джеком. В таких случаях он кажется достойным сожаления.
В студии с прошлого года ничего не изменилось. Тот же беспорядок, те же ароматы, на столе те же журналы для гомосексуалистов, которые упорно выписывает Джек. Я видел, с каким нетерпением он ждет каждый номер. Все его сто пятьдесят килограммов прямо кипят. Однако несмотря на беспорядок, тараканами здесь не пахнет. Они почему-то избегают эту студию, хотя здесь идеальные условия для их деятельности.
Джим, который сейчас в России, личность исключительная не только для этой студии, но и для Парижа. Говорят, что он писатель, однако написал он только автобиографию, да выпустил пяток книг, составленных из текстов его приятелей. Уже много лет он занимается педагогикой – преподает в университете социологию секса. Писать, очевидно, ленится. Может быть, писал раньше, в молодости, когда жил в Британии и издавал первый в Европе журнал на темы секса, получивший звучное название «Еби и соси». Сейчас ему под шестьдесят, однако его половая мощь недостижима для других. Живя у него под боком, я сам мог в этом убедиться. Каждую неделю, как часы, по средам и пятницам, его навещала двадцатилетняя натурщица. Сначала он усаживал ее за стол, кормил, словно дедушка, умеренно поил вином, а потом вел на второй этаж и большую часть ночи трахал. Жил я внизу, а нора его без стен, так что я не только слышал, но и кое-что видел. Девушка наверху кричала, визжала, стонала, а дедушка и не думал отступать. Кстати, в это же время Джек в подвале доводил до кондиции какого-нибудь подростка, а у того рот тоже не был зажат. До меня доносились стереозвуки, меняющиеся, сливающиеся, переплетающиеся друг с другом. Было жаль прожившего здесь двадцать лет Петера, который наверняка мастурбировал, потому что я не представляю, как иначе можно выдерживать столько времени, ничего не делая со своими органами. После всего этого девушка проходила мимо меня помыться, поскольку я спал как раз рядом с ванной. Мылась она проворно, Джим же порой и после мытья не оставлял ее в покое. Он действительно гигант и недаром считается одним из крупнейших в мире специалистов в этой области. Думаю, немало найдется таких, кто почел бы за честь улечься под него и испытать все, что накопил и усовершенствовал этот шестидесятилетний. К сожалению, сейчас Джима нет дома, хотя я только из-за него и пришел.
С Петером беседовать тяжело, так как он молчун. С другой стороны, я уже убедился, что, и живя двадцать лет втроем, за неделю они перебрасываются от силы несколькими предложениями. Сто лет назад очень подошли бы для немого кино.
– Передал тебе Джим мой привет? – спрашиваю я Петера.
Он глядит на меня, как свинья, которой ссут в ухо, и не скрывает, что это один из самых глупых вопросов, когда-либо заданных в мире. Он просто поверить не может, что можно спрашивать о таких вещах. Мой рейтинг в его глазах падает до самой низкой отметки.
– У него же своя жизнь, а у меня своя.
Да, глупо спросил.
Нужно бы встать, однако Петер точно заметил, что ничего лучше я не найду. Ему можно поверить, потому что большую часть жизни он проводит здесь – в студии. Живя рядом, я мог видеть что он неделями не выходил за порог студии. Может быть, он нашел свой берег? Такое постоянство мне понятно. Возможно, потому я и уважаю его не меньше, чем Джека и Джима. Первый, правда, немного непоседа. Каждый вечер он исчезает и возвращается лишь за полночь, разумеется, ведомый партнером. Подозреваю, что Джек работает в каком-нибудь ресторане для геев поваром: когда я как-то спросил, давно ли он готовит, он ответил, что всю жизнь.
Когда я все-таки собираюсь уходить, в студию заглядывает с ног до головы татуированный старичок. Он в отличном настроении, так как совсем недавно получил фотографии с вечеринки. Он играл там первую скрипку. Он подсовывает мне груду фото, на которых увековечена оргия рокеров-гомосексуалистов. Наибольшее удовольствие ему доставляет фотография, на которой он запечатлен на стуле упившимся до потери пульса, а из шорт у него торчит одинокое яйцо. Петеру эта фотография тоже больше всего нравится. Он даже просит копию, чтобы повесить ее над своим компьютером. Татуированный соглашается помочь ему.
Я пересмотрел огромную кипу фотографий, поэтому теперь чувствую моральное право идти обратно на улицу Кастаньяри. Петер больше меня не удерживает, напоминает лишь, что через несколько дней возвращается Джим. Мне это и нужно было узнать.
– Загляни завтра, – говорит мне Петер, когда я уже в дверях, – все равно в этом городе нечего делать. Выпьем кофе, покурим.
Его предложение мне подходит. Выхожу на улицу Алезья и медленно-медленно двигаюсь к дому, превратившемуся в убежище.
Солнце по-прежнему безумно жарит. Хорошо, что Алезья – живительная прохлада.
Жара в этот день немного спала, поэтому полуголые, у открытого окна, мы беседуем обо всем и ни о чем. Даниэль решил не мучить больше себя и докторскую. В последнее время, когда он сидит за компьютером, с губ его то и дело срывается слово «говно». Он прямо сжился с ним, слово стало частью его беспокойной души. Даниэля гнетет эта диссертация и перспектива стать профессором не лингвистики, а философии, однако я ничем не могу помочь. Когда я вспоминаю свои письменные труды и муки, которые приходилось испытывать и терпеть, он говорит, что это все пустяки по сравнению с тем говном, которое ему второй год не дает покоя. Не лжет, потому что когда он отрывается от экрана, я вижу, какой он весь перекошенный и синий. Однако такова участь всех гениев. Недаром французское правительство вложило в них не одну сотню тысяч франков. Теперь он должен диссертацией вернуть меняющимся правительствам долги. Правительства меняются, а диссертация Даниэля все та же. Завидное постоянство. Одно только ясно: понаблюдав его в теперешнем состоянии, я никогда не буду писать диссертацию.
– Говно. Я ее напишу, защищу и выброшу, сожгу в тот же миг. Она никому не нужна. Это пыль в глаза. Это такое говно, – заводит себя Даниэль, и без того достаточно нервный.
– Может быть, тебе только так кажется. Ее будут читать, выпустят отдельной книгой, – пытаюсь я его утешить, хоть и не верю только что сказанным словам.
– Говно. И книга та никому не будет нужна, и читать ее никто не будет. Это такое говно…
Он теперь все фразы начинает с этого слова. В глубине души я рад, что разум не окончательно изменил моему другу и он может размышлять как нормальный человек. Совершенно согласен, что эта диссертация – говно и мир не обогатит. Когда представляю себе, сколько понаписано диссертаций со времени основания университетов и сколько их выброшено на помойку, мне даже страшно подумать, что все еще находятся люди, которые верят в разумность такой деятельности.
– Если тебе так тяжело, – говорю ему, – я мог бы написать тебе пару десятков страниц по-литовски. Все равно никто ничего не поймет. А пока найдут специалиста, ты уже защитишься.
– Нет. Не нужно.
Когда речь заходит о диссертации, его чувство юмора как-то улетучивается. Теперь он мне рассказывает, как его коллега защитила диссертацию, а потом выяснилось, что она списала ее с другой – не слишком известной. Ее якобы лишили научной степени, выгнали из университета и запретили писать какие бы то ни было диссертации.
– Но она может писать их для собственного удовольствия. Этого права ее никто не лишал. Она может написать хоть десять диссертаций.
– Может, но это ничего не меняет.
Академические темы угнетают и меня, и его. Даниэль еще зеленый. Мне-то что – игра, а ему… Бедняга, если бы я мог, взорвал бы все университеты, присвоившие себе право классифицировать людей в соответствии с их имманентными критериями. Хотел бы помочь, однако он отказывается от моей помощи. Это его дело.
– У меня не остается времени даже почитать, – по-прежнему негодует он.
– Когда ты пишешь, то слушаешь музыку. Музыка тоже искусство. Она не хуже, чем литература. Вспомни «Игру в бисер» Гессе и магистра музыки.
– Да обосрись ты со своей музыкой.
Да, его не изменишь. Мне не стоит его раздражать – ему и так тяжело. Пытаюсь представить себе, каким бы я стал комком нервов, если бы мне сейчас нужно было писать диссертацию, зная при этом, что защита через полмесяца. Наверняка сошел бы с ума. Сошел с ума и кого-нибудь убил бы.
– Мой коллега, мы с ним учились в школе, тоже пишет диссертацию, – не оставляет эту тему мой друг. – Однако он болен психическим заболеванием. Он гений, но болен. Тоже бывает. Его болезнь проявляется в том, что он не может писать. Не может писать. Когда я зашел к нему, он вырезал слова из газет и вклеивал их в диссертацию. Только так он может работать. У него была девушка-помощница. Она ему вырезала, но не выдержала и бросила его. Страшно. Мне так его жалко. Страшно.
– Он может взять себе секретаршу, которой будет диктовать.
– Он немой.
– Лингвист?
– А что здесь такого!
У меня вызывает интерес история о немом лингвисте, который режет газеты и рассказывает невероятные истории о языках. Он на самом деле гений. Даниэль, кстати, шепелявит, так что тоже гений. С другой стороны, ясновидящий может быть одноглазым, самое главное, чтобы хорошо и верно предсказывал будущее. Дефекты компенсируются чем-то другим, утверждает человеческий опыт. Иногда он не лжет.
Даниэль приносит из холодильника мексиканское пиво, прихлебывая которое мы смотрим на опустевшую улицу. Пиво прекрасное. Ледяное. Если бы теперь рядом была фрекен Смила [1] , она бы мне все рассказала про лед. Можно было бы справиться у нее относительно аномалии – мексиканского пива, превратившегося в лед.
– Ты знаешь, я один в семье не занимаюсь поэзией, – жалуется и гордится Даниэль. – Франсуа пишет. Дидье тоже. Кристиан пытается этим жить. Сестренка-юристка и та сочиняет сонеты. Это семейная болезнь?
– Не думаю. Я знаю много семей, в которых все вырезают, выжигают по дереву. Однако они не думают, что это болезнь.
– Даже моя мама пишет стихи. Бабушка их сочиняла, пока с ума не сошла. Потом дедушка сжег все ее рукописи, потому что думал, что это писание свело ее в могилу. Он не терпел поэзию.
– Нет, Даниэль, не думаю, что это болезнь. Скорее, разновидность извращений. Можно утешаться только, что нам она не грозит.
Теперь я встаю и приношу еще по бутылке пива. Мне кажется, даже Магомет после такой дневной жары не отказался бы от глоточка.
– Я не читаю французскую литературу, потому что она мне неинтересна, – вешает Даниэль фразу в воздухе.
– А я читаю, и мне очень нравится.
– Я читаю немцев, австрийцев. Когда жил в Вене, встретился с Петером Хандке. Он хороший писатель.
– Франсуаза Саган хорошая писательница.
– Говно! Какое говно! Какое говно! – теряет терпение Даниэль. – Это редкое говно! Говно она! Можешь засунуть себе в задницу эту твою Саган!
Поначалу мне эта реакция не нравится, однако я беру себя в руки и начинаю думать, что бы я ответил, если бы он вдруг стал хвалить какого-нибудь автора из моих соотечественников. Да, я повел бы себя точно так же. Может быть, и пострашнее – вылил бы пива ему на голову или спустил брюки и показал задницу.
– Когда в Сорбонне лекции читал Умберто Эко, даже за дверью была давка. Весь Париж шел его послушать. Правительство заявило: то, что он согласился во время отпуска читать лекции в университете, – честь для Франции.
– Ты был на его лекциях?
– Да, потому что я был обязан. Знаешь, он такой маленький, некрасивый, даже противный, я бы сказал. Однако как начнет говорить в аудитории – Бог. Настоящий Бог. Самый настоящий.
– Ты поверил в семиотику, Даниэль?
– Говно эта семиотика. Но как он говорит! Как он говорит! Поистине Бог. Если Бог есть, это Умберто Эко, читающий лекцию. Даже домохозяйки были им очарованы. Понятно, за это он получил сказочный гонорар.
– Больше, чем Баренбойм?
– Не знаю.
– Я знаю, что Баренбойм за руководство Оперой Бастилии тоже немало запросил. Коллег даже досада взяла, что их так низко ценят…
Даниэль вдруг встает, подбегает к груде бумаг и изо всех сил пинает ее. Бумаги разлетаются по комнате и застилают ковер, который мы уже порядком успели загадить крошками, спиртным, волосами.
– Ненавижу эту докторскую! Ненавижу!
– Расслабься, Даниэль, – пытаюсь я успокоить его, но тщетно.
– Все это говно, – показывает он на разбросанные бумаги, – я уже засунул в компьютер. И еще вдвое больше мне надо написать. А такое говно! Такая чушь!
Бедняга, он не может не думать об этой диссертации. Мое самолюбие снова удовлетворено – я-то ничего не должен писать. Просто блаженное состояние, когда у тебя нет никаких обязательств. Даже перед собой – никакой ответственности, никакой нервной дрожи из-за того, что нужно делать какое-то дело, которое тебе не по душе. Хорошо ничего не писать.
– Ты заметил, что я не могу больше нормально общаться? Я уже больше не человек. Превратился в машину по написанию диссертаций. Это ненормально.
– Расслабься, Даниэль. Дело не так плохо, как тебе кажется. Ты подумай, с какой радостью весной ты все это разорвешь и выбросишь. Живи эти месяцы с надеждой и утешением, что больше тебе в жизни не придется писать докторские.
– Ты так думаешь? Если до того времени я не сойду с ума, это будет чудо.
– Даниэль, ты уже давно сошел с ума. Не нужно притворяться. Это главный признак болезни, когда больной отрицает, что болен.
Поднимаюсь с подоконника. Собираю листы. Складываю их у стола в еще большую, на мой взгляд, груду. Эта груда напоминает Пизанскую башню. Она качается, однако сохраняет равновесие и не рушится. На верхнем листе вижу скрутившийся черный волос Даниэля. Мелькает мысль, что тут он может перезимовать и дождаться весны, пока вместе с рукописью будущей книги не окажется в печке или контейнере для отбросов.
– Я так ненавижу свою писанину, – все еще не может успокоиться Даниэль.– Вспомни Франца Кафку, который был несколько не прав.
– Говно. Такое говно…
Даже не знаю, чем ему еще помочь. Можно было бы предложить выпить чего-нибудь покрепче, однако, когда он в таком состоянии, это только повредит. Значительные мысли на ум не приходят.
– Посмотри на небо, – соблазняю я, так как банальности всегда помогают и утешают.
– Что?! – кричит он недовольно.
– Посмотри, Даниэль. Полнолуние. После него полегчает. В полнолуние даже больные бывают неспокойны. Оно пройдет, поверь. Полнолуние не бывает долгим.
– Точно, полнолуние. А я и не знал.
Знание всегда приносит ясность. Даже в неизбежных критических ситуациях знание того, что тебя ожидает, придает спокойствие. В этот вечер, как мы выяснили, полнолуние. На него и можно свалить всю вину. Полнолуние виновато, что пишущий диссертации так их ненавидит. Это его проделки.
Налюбовавшись полнолунием, собираемся ложиться. Мое зеленое белье уже постелено. Падаю на кровать и даже не собираюсь накрываться одеялом. Гашу свет. Слышу, как Даниэль снимает со шкафа чемодан.
– Уезжаешь куда, Даниэль?
– Пока не уезжаю, – отвечает он и ставит чемодан рядом с уже разложенным позеленевшим креслом. В этот вечер полнолуние удалось одолеть. Чувствую, как оно тает.
Лезу в метро – Мекку сумасшедших. Настроение у меня испортилось, поэтому хочу, чтобы оно стало еще хуже. Под землей душно и почти нечем дышать. Специфический запах разносится по всему Парижу. Я слышал, будто бы французы, так и не свыкнувшись с этой вонью в метро, создали специальную лабораторию. В ней будут пытаться вывести формулу нейтрализации этого смрада, до печенок пробирающего не слишком состоятельных горожан. От меня тоже уже несет, хотя я только успел зайти в туннель, по которому продвигаюсь в самую глубину шахты. Вонь специфическая, однако я быстро к этому привыкаю, так как и другие воняют так же… Да, здесь не ощутить той соблазнительно-манящей смеси ароматов, которая окутывает тебя на Елисейских Полях. Метро – антоним самой дорогой и респектабельной улицы… В него не забредают те, кто держит, словно собак, шоферов или каждый день ездит на такси. Метро – территория плебса. Да и где же ему быть, как не под землей. Можно и поглубже куда-нибудь его засунуть, чтобы не слонялся по улицам и своим существованием не порочил доброе имя города. Сотни тысяч снуют туда-сюда под землей. Парадоксально, но все они довольны, так как верят, что это очень удобно – за час можно добраться до другого конца города. Я понимаю, что это удобно, экономит дорогое время, но что с того – жизнь это не продлит. Кажется, все они приучаются к мысли, что через несколько лет или месяцев им придется улечься под травушкой-муравушкой. Они приучаются умирать, поэтому с такой готовностью и лезут под землю, где ежедневно проводят большую часть дня.
Я не страдаю клаустрофобией, однако пребывание под землей угнетает. Не отпускает мысль, что сто лет назад инженер допустил ошибку, из-за чего меня теперь может засыпать землей и я окажусь погребенным заживо. Это не моя стихия. Однако сегодня тоскливо, как никогда, вот и хочу, чтобы стало еще тоскливее. Решился себя насиловать, значит, буду ездить в этом подземелье до тех пор, пока разум не помутится.
Рассматриваю лица попутчиков. Ни одной улыбки. Глаза выдают депрессию. Руки безвольно повисли. Ничего удивительного: никто не хочет быть погребенным заживо. Такова их интуиция, однако они все равно лезут под землю и мучаются. Это словно какой-то мазохистский ритуал, который непременно надо выполнять каждый день. Я присоединяюсь к ним и осознаю, что, уступив, тут же перестаю отличаться от толпы. Выражением лица я становлюсь похожим на сфинкса, но сфинкса с признаками безумия. Глаза вылезают из орбит, вены раздуваются, пульс стучит, как автоматная очередь, ноги наливаются тяжестью, и я вместе с разноцветной толпой двигаюсь по какой-то линии туда, куда мне совсем не нужно.
Ползу лабиринтами метро и ни о чем не думаю. Здесь никто не думает. Не скажу, что думать в метро запрещено, но такова традиция. Умное лицо здесь – исключение. Даже Иммануил Кант, Мартин Хайдеггер или Деррида, спустившись в метро, превратились бы в достойных сожаления субъектов, и отдаленно не напоминающих мудрецов. Все здесь становятся одинаковыми, сливаются друг с другом и превращаются в массу, голос которой не в состоянии достигнуть поверхности земли и слуха тех, кто находится наверху. Хорошо придумано: одну треть общества засунуть под землю. Гениальное решение. Мало того, под землей уже выросло несколько поколений, которые не представляют себе жизни без метания по этим норам. Без них чего-то не хватало бы. Это как с той клубникой-мутантом, которая была выращена химическим путем и радикально изменила само представление о вкусе клубники. Наблюдая, я прихожу к выводу, что жизнь под землей корректирует мышление, поведение и систему ценностей, делая последнюю совершенно непонятной для меня, потому что я вырос не под землей. Стараюсь как-то сохранить свою индивидуальность, однако энергетическое поле подземелья настолько сильное, что все мои усилия оказываются тщетными.
Иду медленно. Кто-то бежит, кто-то несется, кто-то плачет, кто-то просит милостыню. Индейцы играют свои мелодии и стараются всучить кассеты с только что исполненной музыкой. Акустика здесь изумительная, как в церкви. А может, это церковь новых времен, куда люди приходят без приглашения, потому что не могут обойтись без нее, как не обходилось без нее общество в Средние века? Немного похоже. Разница только в том, что наверху молятся Господу, а здесь, внизу, Времени, которое так и не удается приручить. Все верят, что успеют. Я никуда не спешу, поэтому мне не нужно успевать. Я вообще не знаю, возможно ли в этой системе измерений куда-нибудь успеть. Не вижу в этом подземелье цели, ради которой стоило бы приложить усилия и поторопиться.
Время течет медленно, а я уже стою на перроне и как бы жду прибывающего поезда. Мне нравится свободное проявление чувств, неангажированное творчество, поэтому я штудирую народную мудрость на стенах. Парадоксально, но то, что запрещено наверху, здесь находит благодатную почву и никого не возмущает. Вижу нарисованные на стенах половые органы. Одни похожи на ракеты, другие – на летающие дирижабли, третьи – на ручные гранаты. Бесконечное разнообразие, позволяющее сделать вывод, что каждый, кто изображает этот мир, воспринимает его по-своему. Один фаллос нарисован идеально точно, словно рукой Леонардо да Винчи. Другой – экспрессивно. Третий – нервно. Четвертый – незаконченный, недосказанный, но эта недосказанность говорит о многом. Пятый просто вырезан на стене и очень похож на рельефы периода Амарно. Все они прекрасно сосуществуют друг с другом и не воюют из-за того, кто совершеннее, точнее, профессиональнее. Однако вытащи их наверх, начнутся свары, амбиции. Искусство, пока оно никому не нужно, – это невинный агнец, отлично уживающийся с пуританами, которые наверху не упускают случая выразить свое мнение по поводу этики и эстетики. Читаю и продукты литературного творчества, в которых доминирует тема fuck you. Сентенции различаются, однако в каждой выражено недовольство (порой и извращенными способами) другими. Литераторы из метро не любят этот мир и людей, они напоминают, что все мы – говно, всех нас надо вые…ть, а если хочешь индивидуально – позвони по телефону и получишь все, что испытываешь ежедневно, только это будет гораздо лучше, концентрированнее и болезненнее. Не знаю, соблазняется ли кто-нибудь, но опыт подсказывает: если есть спрос, находится и предложение. Иной сам просится, натрахавшись. Ему, видно, недостаточно, потому что он одарен мегасексуальностью. Может, и дождется ответа, до которого не докричался наверху, не в одном общественном туалете вырезав на стене номер телефона и свое послание.
Подходит поезд. Сажусь в последний вагон. Давка, но мне удается найти место. Рядом со мной сидит провонявшая ссаками сорокалетняя особа. Вонь от нее такая, что перебивает смрад самого метро. Теперь понимаю, почему рядом с ней было свободное место. Пассажиры не хотят смешанных запахов. Они довольствуются вонью метро. От женщины чудовищно несет, однако у меня все равно плохое настроение, так что я и не думаю отодвигаться. Мне даже было бы неудобно перед ней, если бы я вдруг взял и встал. Оглядываю соседку, чей аромат не гармонирует с ее внешностью. Конечно, она вовсю размалевана. Когда мазала губы, несколько перестаралась, поэтому напоминает клоуна из цирка. Принцессу цирка, мысленно поправляюсь я. Под ногтями у нее черно, а сами ногти были покрашены до Рождества Христова. Я понимаю, что она любит наряжаться. На пальцах кольца. На шее бусы. На запястьях дюжина браслетов. Даже на ногу один надела. А рядом – пакеты, мешочки, мешочечки, разумеется, педантично наполнявшиеся по вечерам содержимым мусорных ящиков, в которых можно найти много полезных для души и быта вещей. Она выглядит как художница и хорошо сочетается с только что покинутыми надписями и рисунками на стенах станции. Чувствую, она тоже заинтересовалась мной. Осматривает. Оценивает. Возмущается. Пленяется. Прощает. Упрекает. Соблазняет. Ее лицо отражает стремительную смену настроений. Я подозреваю, что даже нравлюсь ей, так как я единственный, кто не проявил высокомерия и сел с ней рядом. Мне-то что.
Вижу, как сидящие напротив запрокидывают головы, наивно надеясь вдохнуть воздуха почище. Мне это понятно, так как испускаемое соседкой зловоние ужасающе. Я бы ничего не имел против, если бы она вышла на Елисейских Полях, завернула бы в какой-нибудь магазин готового платья и посмотрела на себя. Жены социалистов и правых были бы неприятно удивлены, хотя утверждают, что уже и не знают, чего еще можно ожидать от жизни. Принцесса цирка гордо едет к своей цели. Может быть, до якобинской диктатуры ее мачеха была фавориткой при дворе Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты. Неизвестно. У меня уже возникает желание поболтать с ней, однако она поднимается и идет к дверям. Пассажиры уступают дорогу. Расступаются, словно было объявлено, что вскоре на трон взойдет королева.
Вонь от принцессы еще не рассеялась. Сегодня мне везет: рядом со мной усаживается разодетый, надушенный, аккуратный Чарли Чаплин, игриво помахивающий тросточкой, которой уже успел задеть сидящую напротив девушку. Чарли Чаплин не столь интересен, потому что это настоящий сумасшедший, а от сумасшедших всего можно ожидать. Он вытаскивает из кармана газету. Разворачивает ее. Ничего интересного не находит. Многие обращают на него внимание, однако делают вид, что равнодушны к чуду – гений кино воскрес из мертвых! Безмолвному киногению только того и надо. Он прекрасно чувствует все нюансы, поэтому приподнимает шляпу и здоровается, желает успеха, а детей, словно папа римский, осеняет крестным знамением. С ним я общаться не хочу, а он уже предлагает мне свою неинтересную газету. Притворяюсь глухонемым. Смотрю в окно и краем глаза наблюдаю, как ему удается всучить печатное издание девушке напротив. Она тоже не сдается, хотя воскресение Чарли Чаплина ее порядком ошарашило. Она испуганно качает головой и, кажется, вот-вот расплачется, потому что каждое чудо будоражит чувства. Всучить ей газету не удается. Однако Чаплин не желает отступать. Теперь он возвращается ко мне и начинает поддергивать складки брюк. Снова приходится притворяться. На этот раз – нечутким. Потеряв надежду, он оставляет меня. Девушка, чуть только поезд останавливается, бросается к выходу. Выходит и Чарли Чаплин. Уезжая, вижу, как он, покачиваясь, идет по перрону к эскалатору.
В этом вагоне я сижу как на представлении. Мимо скользят самые разные персонажи. Не нужно ходить в театр, покупать билеты, сидеть на плохих местах и томиться, следя за придуманными Стриндбергом семейными перипетиями. Все перенесено в подземелье. В нем работают и играют актеры, которые никогда не учились этому искусству, но так замечательно понимают психологию зрителей, так чудесно декламируют текст, что в него, глядишь, и поверят несколько пассажиров. Они вкладывают в игру всю душу, работают с полной самоотдачей, так как знают, что фальши быть не может. Они вынуждены хорошо играть, обходясь без режиссеров, которые запрашивают тысячи за свои несущественные замечания.
Она достаточно молода и отнюдь не безобразна. Я обратил на нее внимание еще в прошлом году, потому что она играет именно на этой линии метро. Только в прошлом году она говорила, что родом из Румынии, где потеряла мужа, репрессированного режимом карпатского гения. В этом году утверждает, что из Боснии, где под сербской бомбежкой погибли ее дети. Она молит о помощи, так как принадлежит к беженцам из зоны военных действий, к погорельцам, а в Париже очутилась благодаря добрым людям. Плачущим голосом просит немного: купоны в ресторан, несколько франков. Конечно, немного – по сравнению с тем, сколько пришлось бы заплатить, чтобы поднять Боснию из руин. Французы побаиваются мусульман, поэтому кладут ей в ладонь кто франк, кто пять, а кто и десятифранковую монету. Она благодарит и, все еще обиженная, переходит в другой вагон, где будет играть другую часть своего выступления. Вспоминаю мудрость: хороший актер должен уметь перевоплощаться. Святые слова, которые здесь абсолютно уместны. Она их воплотила в жизнь на все сто процентов. За такое искусство можно и заплатить. Не жалко. Правда, хоть я не скряга, денег ей все-таки не даю. Не даю не только ей, потому что если дать одному, то и другому придется. А тогда и третьему, и четвертому, и так до бесконечности. Эту философию я перенял у американских богачей, устами которых порой говорит сам Господь.
Вонь от принцессы цирка или королевы совсем развеялась. Теперь входящим и в голову не придет, какие запахи здесь царили. Ничего не подозревает и британец, бренчащий на гитаре и поющий совсем неплохую песню, за которую ему мало кто платит. Он очень тактичен, поэтому не клеймит сидящих и стоящих за то, что они так невысоко ценят его искусство. Все равно культура народа – красивая вещь. В этот момент я симпатизирую Британии, в которую года три назад меня слишком уж неохотно впустили. Я забываю эту досаду, а когда британец продвигается мимо меня к выходу, подмигиваю ему, как какой-нибудь заговорщик: пойми, я с тобой; пусть ничего и не заработаешь у этих е… парижан, которые самые большие идиоты во Вселенной, а строят из себя срущих котов, хотя сами – всего лишь обкакавшиеся до пят макаки, только и знающие, что подкладывать какую-нибудь свинью Лондону, в котором в семидесятые годы бурлила культурная жизнь, заставившая общество прислушаться и решиться наконец на реставрацию театра «Глобус», в котором писал сам Шекспир, в то время знаменитый, но по достоинству не оцененный драматург, без пьес которого невозможно теперь представить себе театральный репертуар. Британец мне улыбается, потому что мои мысли льстят его самолюбию и трону. Я не мог ошибиться, приняв его за ирландца-католика из Белфаста. Нет, не мог. И не шотландец он. Ну, кто бы ни был, он выходит.
Еду дальше, не особенно вдумываясь, под какой улицей в данный момент проезжаю. Одни люди-маски сменяют других, и мое настроение исправляется. Я доволен этим отрезком своей жизни, потому что обогатиться духовно и не надеялся. Я полон образов и не чувствую больше вони метро, должно быть, уже успел пропитаться ею до мозга костей. Все хорошо. Мир катится с горы, зато в хорошую сторону. Все хорошо: в этот миг умерли, погибли, покончили с собой, утонули, сгорели тысячи, а у меня как никогда хорошее настроение, хоть я и не знаю, где нахожусь. Все хорошо: настроение хорошее, здоровье замечательное, семья меня любит, со мной не может случиться ничего плохого, я много зарабатываю, у меня есть дом и вилла на Средиземном море, дальний родственник мне отписал наследство, мое развитие совершенно. Я прекрасно одет, зубы у меня белые и здоровые, я не пью, не курю, люблю заниматься спортом, в свободное время поигрываю в карты и всегда выигрываю, у меня чудесная собака, я часто путешествую, в конце недели ко мне приходят друзья, перед домом я развожу цветы и т. д. Все прекрасно!
Выхожу из вагона, словно заново родился. Эскалатор тащит меня на свет Божий. Смена запахов и воздуха нокаутирует. Чувствую, что из носа и ушей начинает бежать кровь. Рубашка в крови, а поток из носа льется все стремительней, я загажен уже до самых ног. Пытаюсь запрокинуть голову, но кровь продолжает течь. Из ушей хлещут фонтаны, увидеть которые можно только в королевском Версале. За такое физическое явление я мог бы брать деньги с прохожих, но те лишь останавливаются на мгновение и идут своей дорогой – многие в метро. Стою, опершись о стену, и стараюсь уговорить интеллект найти средства, чтобы остановить этот водопад. Интеллект дремлет. Истощенный метро, он теперь отдыхает и не знает, когда проснется и проснется ли вообще… Стою по-прежнему, даже отдаленно не напоминая Самсона, величественно сидящего среди жидкостей в Петродворце. Помощи нет. Ее никогда не бывает. Даже если кажется, что тебя уже спасли и положили на край пропасти. Всем наплевать, что в этот момент у моего тела и сознания менструация и они могут окончательно истечь кровью. Все смотрят на меня, как на притворяющегося актера из подземелья.
Кровь все течет и не думает свертываться. У нее, видимо, отсутствует это свойство. Пытаюсь сообразить, где я, однако главный ориентир у меня – лишь стоящий на другой стороне улицы Макдоналдс. Он мне теперь как Полярная звезда заблудившимся в океане морякам. Захожу в этот ресторан, который еще совсем недавно обзывал самыми некрасивыми и скверными словами. Беру их назад. Раскаиваюсь в ненужной злости. Был виноват. Виноват, виноват, виноват. Мог бы еще бить себя кулаком в грудь, однако руки работают, словно у немого, – пытаются остановить Ниагарский водопад крови. Это, несомненно, жест отчаяния, потому что только помешанный может решиться преградить путь этому величайшему и – красивейшему чуду природы. Таков я теперь, хотя мгновение назад был в наилучшем расположении духа.
Стою перед раковиной в туалете Макдоналдса и больше всего в мире ненавижу фотоэлементы в кранах. Я подношу руки, а вода и не собирается течь. Она флегматично ждет сигнала. А у меня в это время снова начинает брызгать кровь. Зажимаю нос, уши. Стою перед раковиной, как последний идиот. Наевшиеся гамбургеров, нассавшиеся и насравшиеся довольно подозрительно оглядывают меня. В их сознании я – наркоман. Чувствую по их взглядам. А кровь течет и не свертывается. Наконец одной рукой ухитряюсь приманить к себе воду. Она, кретинка, горячая. Пытаюсь смыть пятна с одежды, хотя знаю, что ничего хуже для выпачканной кровью ткани быть не может. По-прежнему борюсь и не сдаюсь. Не могу сдаться. А кровь все течет. Вдруг вижу свое отражение в зеркале и прихожу в ужас: выгляжу, как Дракула. Лицо бледное, хоть и окровавленное, в уголках губ начали скапливаться сгустки крови. Боюсь, не вызвали бы любители гамбургеров полицию. Проскальзываю в кабинку. Запираюсь. Вытираю туалетной бумагой окровавленный лоб, руки, лицо. Кто-то стучится и требует, чтобы я уступил место. Когда открываю, тот отскакивает. Кровь перестала течь. Справившись с кровью, выхожу из туалета. Спускаюсь по лестнице.
– Один гамбургер и пиво, – заявляю оцепеневшей продавщице, которая проворно выполняет мой заказ.В этом городе у меня есть одна страсть. Она преследует меня уже три года. Не стыжусь ее, хотя многие бы сказали: то, что я делаю, ненормально. Мне все равно. Они могут смеяться, насмехаться, показывать на меня пальцем, я все равно знаю, что никогда от нее не отрекусь. Она разрослась в моей душе, прижилась, пустила корни, и теперь я наслаждаюсь ее плодами, дарящими свежесть, удовлетворение и невыразимое удовольствие. Конечно, стражи нравственности и моралисты могут кричать во все горло, что я неисправимый извращенец, которого стоило бы изолировать. Однако я им так легко не дамся, потому что город этот велик, а человек в нем – пустое место. Я растворяюсь в городе и прячусь в тени своей страсти, становлюсь невидимым, незначительным и никому не нужным.
Моя страсть специфична. Это не удовлетворение плотских вожделений. Ее сфера – дух, который, словно ненасытное чудовище, требует: еще, еще. Я вынужден подчиняться и исполнять его желания, противоречить не решаюсь, я соглашаюсь, даже поощряю стремление их осуществить. Мне нравится быть рабом этой своей страсти. Предложи она мне свободу – не согласился бы, ибо понимаю, что потерял бы. Она и не предлагает свободу, так как сама не представляет, где могла бы найти лучшего хозяина и раба.
Не знаю, как она появилась, как расцвела и почему выбрала именно меня. В поисках ее начала, первых ростков я переношусь даже в библейские времена, что, правда, не приносит ясности. И все кажется даже сложнее и запутаннее, чем в тот момент, когда я приближаюсь к алтарю ее удовлетворения, который уже не одно десятилетие стоит на бульваре Сен-Мишель.
– Опять туда пойдешь? – с некоторым недовольством осведомляется Даниэль, который терпит то, что я делаю, но не способен одобрить это всей душой. А я и не требую.
– Да, разумеется, – отвечаю я и выпиваю последний глоток кофе перед тем, как отправиться на службу в святилище.
– Пошел бы хоть раз в библиотеку. Могу дать тебе свое удостоверение.
– Мне не нужна библиотека, – отвечаю. – Мне достаточно того, что у меня есть. Я и так не способен разобраться в себе. Библиотеки только не хватало! Она совсем вывела бы меня из равновесия.
Он смотрит на меня, как на больного, хотя сам вчера собирался выбросить компьютер в окно. Сегодня уже об этом не вспоминает. Мог бы напомнить ему, уколоть: вот, мол, до чего доводят библиотеки, каталоги, карточки, таблички, выписки, цитаты и другие вещи. Ничего не говорю, потому что он, хотя уже не раз перешагивал порог безумия, обладает феноменальной способностью возвращаться и снова мучиться из-за этой своей диссертации. По сравнению с его докторской моя страсть кажется невинным котенком рядом с хищником. Этого я, конечно, не говорю. Пусть думает что хочет.
– Но это же ненормально. У тебя, очевидно, с головой не в порядке, – не оставляет меня в покое Даниэль. – Тебе правда нужно бы сходить к психологу.
Уже месяц он усердно предлагает мне психолога. Когда я отвечаю, что психолог ничем не поможет, он сердится и объясняет, что я неисправимый нигилист, который, кроме того, еще и не верит в прогресс. Наплевать, как он меня называет. Мне хорошо, а это самое главное. Я никому не мешаю. Никому никакого зла не делаю, просто иду туда, где мне приятно быть.
– Ты мог бы хоть раз обойтись и без этого. Попробуй, – предлагает он, хоть и не верит, что я соблазнюсь.
– Но ты ведь тоже не можешь жить без своей лингвистики, философии, немецкой художественной литературы, – отвечаю я ему.
– Это совсем другое.
Это «это совсем другое» меня просто бесит. Это словосочетание – лучшее объяснение, когда ничего объяснить и доказать не можешь. Жаль, что я так редко им пользуюсь. Нужно будет запомнить и при случае, когда почувствую, что безнадежно проигрываю, ударить противника этой конструкцией. Непременно запомню.
– Мы же договорились сегодня пойти смотреть рукописи Камю, карты Птолемея, записи Сартра. Неужели не помнишь?
Все хорошо помню, однако чувствую себя недостаточно созревшим для этих вещей. Они потерпят, раз уж так долго терпели в хранилищах. Ничего с ними не случится.
– Нас должны ждать. Они будут волноваться.
– Пусть волнуются. Сегодня у меня другие планы. Я и так целую неделю там не был.
Даниэль качает головой, но ничего не может поделать. Так легко меня не одолеть, ибо моя страсть сильнее всех его аргументов. С каждым днем он все больше разочаровывается во мне, однако это мазохистское разочарование. Потому что, чем яростнее мы спорим, тем ближе становимся. Могли бы даже подраться, но это не поколебало бы наших отношений. Он уже не выбросил бы меня на улицу. А если и выбросил бы, то на какие-нибудь десять, да нет, пять минут.
Надеваю ботинки, так и не сумевшие натереть мне мозолей. Беру рюкзак и, пообещав вернуться вечером, выхожу.
На перекрестке здороваюсь с Дружком, который, как всегда, не упускает случая сказать, что сегодня очень жарко. Отвечаю теми же словами. Он доволен, что удалось побеседовать. Содержательный разговор, обменялись бесценной информацией, достойной внимания не одной разведки.
Я вижу, как Даниэль машет в окне, словно приглашая вернуться, однако поворачиваю налево и скрываюсь за углом. Иду на автобусную остановку.
Автобус везет меня через Монпарнас. Электрическое табло утверждает, что сегодня 37 градусов по Цельсию. Парижане постарше едва шевелятся. Те, кто помоложе, не расстаются с бутылками воды. Все мокрые от пота. Моя спина прилипает к сиденью. Уступаю место чуть живому старичку, который, наверное, уже лет десять не сталкивался с такой галантностью и уважением к старшим.
Еле продвигаемся, на каждой улице пробка. Места себе не нахожу: хочу как можно быстрее оказаться на бульваре Сен-Мишель, где у фонтана еще два десятилетия назад собирались хиппи. Почему-то для меня французы и хиппи никак не сочетаются между собой. Не могу представить француза-хиппи, хоть это и глупость. Какой-то архетип блокирует образ. Ищу его. Не нахожу. Оставляю эту тему в покое: если и есть что-то, что меня вовсе не интересует, так это французские хиппи. Интереснее были бы хиппи гренландские или Земли Франца Иосифа, однако все они двигались в более теплые края – в Индию, где многие из них умерли. Ну ладно. Пусть они все обосрутся и не мешают мне мечтать, как я выйду у Люксембургского сада.
В автобус входит очаровательная женщина, но интереса у меня не вызывает. Она встает совсем рядом, прямо прижимается ко мне, а я настолько равнодушен, что даже не оглядываю ее. Ее левая грудь упирается в мышцу моей руки. Сосок набухший, крутой. Ничего не чувствую. Может быть, только, что от того места, до которого она дотрагивается, начинает течь потная струйка. Кажется, она тоже ничего не чувствует. На такой жаре угасают все вожделения, которые, упади температура на двадцать градусов, проявились бы в самых бурных формах. Стоим в автобусе, равнодушные друг к другу, хотя судьба, возможно, только для того нас в этот момент и свела, чтобы доставить удовольствие. Удовольствия для нас недостижимы. Хочу как можно быстрее освободиться от соседства, так как с моей руки течет уже ручеек пота. Когда она чуть-чуть отодвигается, вижу пятно моего пота на ее белой блузке. Она этого не замечает. Тоже разомлела от жары. Эротические желания сегодня выжжены 37 градусами по Цельсию. Интересно, сколько градусов для европейца – критическая отметка? Нужно бы на досуге позаниматься этой темой. Вначале, конечно, опираясь на эмпирические данные.
Остановка «Люксембургский сад». Протискиваюсь к дверям первым, потому что если бы пришлось ехать еще хоть одну остановку, задохнулся бы и упал в обморок. Пантеон мог бы обогатиться еще одним телом в качестве экспоната.
На бульваре Сен-Мишель прохлада. Спускаюсь к реке, где и находится моя цель, которую рисовал себе в мечтах. Прохожие жмутся друг к другу и толкаются, словно им не хватает тепла. Это невыносимо.
Наконец я совсем рядом с целью – книжным магазином Жильберта и Юноны. За неделю ничего не изменилось. Любители книг роются среди разложенных на улице альбомов и энциклопедий. Они по-прежнему выбирают и не могут решить, что из этой груды им нужнее всего. Я знаю, что мне нужно. Знаю. Уже три года как знаю, и с этим знанием не хочу расставаться. Не хочу, что бы ни объяснял мне Даниэль, не представляющий себе жизни без лингвистики.
Уже стою перед разложенными книгами. Все отдаляю тот миг, когда возьму в руки самую желанную. Окружающие интересуются всем. Большинство – импрессионистами, постимпрессионистами, сюрреалистами, экспрессионистами. Альбомов изобилие. Люди откровенно изучают раскрытые репродукции. Не понимаю такого интереса, потому что, пройдя пешком десять минут, они могли бы часами наслаждаться оригиналами. Оригиналы им не нужны. В нынешние времена никому не нужны оригиналы – ведь существует такое множество вторичных и третичных продуктов, которые часто выглядят лучше оригиналов. Мне странно, с каким интересом они изучают Ван Гога, Гогена, Мане, Дали, Дега, Писарро и других.
На репродукции они смотрят с таким выражением, словно впервые узнали, что земля круглая, вращается вокруг Солнца да еще и сама – вокруг своей оси. Они действительно не совсем нормальные, хотя из многих лиц прямо-таки выпирает интеллигентность. Часть их, может быть, даже преподаватели и студенты Сорбонны, так как университет – на другой стороне улицы.
Какой-то извращенец, открыв альбом Леонардо да Винчи, уже десять минут не отрывает глаз от Джоконды. Другого чрезвычайно интересует Пуссен, хотя этого Пуссена в Лувре сколько хочешь. Третий вздыхает, наклонившись над Анри Матиссом – на недостаток его работ Франция не жалуется. Словом, все углубились в то, без чего не представляют себе своей жизни.
В этот момент я понял, что и меня интересуют только идеи, а не их материальные воплощения. Прав был Платон. Он просветил мне разум и шепнул, что я на правильном пути. Что оригиналы ничего не стоят. Стоит только углубление в идею: идею улыбки, убийства, компьютерной программы, дорожного покрытия, обелиска, крысиного яда, пепельницы, света, яблока, лифчика, скатерти, презерватива, оружия и т. д.
– Простите, я хотел бы… – обращается ко мне интеллектуал.
Подвигаюсь. Вижу, как он жадно хватает альбом с репродукциями Макса Эрнста. Пора и мне. Пора.
Шагаю к тому месту, где он. Он – это альбом «Японского эротического искусства», лежащий рядом с учебниками по кулинарии, комиксами и двухтомником Пикассо. Он все такой же – новый, неожиданный, исчерпывающий. Провоцирующий и успокаивающий.
Держу эту солидную книгу в руках и не рискую открыть в сто пятьдесят четвертый раз. Меня охватывает сладостный и ожидаемый трепет. Чувствую себя так, словно дебютирую в миланском «Ла Скала» и от этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Книга как живая. Еще неоткрытая, она уже будоражит мне душу, жаждущую снова рассмотреть ее.
Японское эротическое искусство… Неожиданные ракурсы и позы. Органы невообразимых габаритов, безболезненно засовываемые во все возможные и невозможные полости. Орнаментика кимоно. Декадентские прически. Страсть и удовлетворение. Настойчивость самураев. Покорность гейш и жен, не допускающая и подозрения, что может быть немного больно. Переворачиваю лист за листом. Возвращаюсь. Снова путешествую по лабиринтам любовного искусства Страны восходящего солнца, вырваться из которых не захотел бы даже самый большой святоша. Все здесь красиво. Все одинаково близко. Переворачиваю репродукции этих гравюр, словно листаю альбом семейных фотографий, в котором каждый зафиксированный персонаж одинаково дорог. Чувствую, как закипает кровь, потому что снова вижу: воин, поставив ее на четвереньки, вонзает двухметровое оружие, последние две трети которого вскоре тоже заберутся внутрь и пронзят ее насквозь, как стрела косулю. Она послушно ожидает этого финала, чуть прищурившись и всем своим существом показывая, что с ней такое случается не впервые. Пожираю глазами эту картину. Переселяюсь на татами, встаю рядом и смотрю, смотрю, смотрю… Больше ничего не нужно. Мир исчезает, уступает место космосу удовлетворения. Статика превращается в динамику. Все движется. Все вибрирует. Влезает. Вылезает. Сокращается. Встает. Неповторимый праздник жизни, который, кажется, никогда не кончится. Персонажи ложатся, поднимаются, прижимаются, сливаются друг с другом. Не успеваю за ними. Злюсь, что я такой флегматичный северянин, хотя северяне, говорят, лучшие летчики. К сожалению, им никогда не овладеть японскими высотами. Оружие с обнаженными головками убивает и сеет новые жизни. Никто не собирается отступать. Никому не грозит поражение. Границы между жертвами и палачами исчезают. Всем хорошо. Наверное, гораздо лучше, чем мне сейчас, когда я переворачиваю уже последние страницы альбома, решившись начать это путешествие заново. Нет сил наглядеться на эту книгу. Не могу насытиться ею.Каждый раз с новым энергетическим зарядом она нападает на мою изголодавшуюся душу, готовую приютить сотни тысяч виденных и еще не виденных образов. Все листаю и листаю. Уже не знаю, она ли ожила благодаря мне, или я должен быть ей благодарен за то, что чувствую, живу и испытываю радость полноценного бытия. Наверное, это совсем неважно, потому что гигант немедленно был впущен в узкий рот, в котором скрылась лишь его верхушка. А может, произойдет чудо и он весь найдет там убежище? Неизвестно. Интересно, что будет дальше?..
– Простите, вы уже кончили листать? – обращается ко мне очкастый конкурент и выхватывает из моих рук альбом.
Не успеваю отойти. Был застигнут так неожиданно. «Японское эротическое искусство» уже в его руках. Вижу, как он моментально погружается туда, где я был всего несколько секунд назад. Он улыбается и наслаждается. Его брови подергиваются. На шее вздувается голубая вена, по которой теперь течет в мозг поток Амазонки. Он даже улыбается – так ему славно в эту минуту. Мог бы – убил бы его сейчас. Ему или мне этот альбом больше нужен?! Мне! Только ради него я сегодня не пошел в Национальную библиотеку, где мог бы продолжать знакомиться с экзистенциалистами. Он и не думает выпускать эту книгу из рук. Не дай Бог, купит. Я знаю, что в этом магазине только один экземпляр, а в Париже всего несколько, хотя пару лет назад они были на каждом углу. Навлечет на свою голову проклятие. Стою рядом с ним совершенно сломленный, опозоренный, кастрированный, оттраханный, оплеванный, обосранный и обоссанный. Не надеюсь. Мне нанесли удар из засады. Это бессовестно. Это коварно. Это подло. Он отнял объект моей страсти, несравнимый с миллионами извращенцев, поджидавших и поджидающих клиентов в подворотнях. Он похитил у меня все. Этот очкастый дохляк, наверняка способный часами обсуждать раскол общества, его разложение и прочую ерунду. Этот! Этот подлый захватчик! Этот абсолютный ноль в моей жизни! Этот, которому нужно листать комиксы с утятами и мышатами! У меня темнеет в глазах. Злость сейчас прорвется, и я сделаю что-нибудь ужасное.
– Вы не могли бы подвинуться, – продирается мимо меня еще один и бросается к другому стеллажу.
Мое положение безнадежно. Со всех сторон меня окружают акулы, которые, почуяв кровь, проглотят и даже не вспомнят, что наелись. Они все хотят моего тела, моей души, интеллекта. Это заговор. Подлый заговор против созданного и взлелеянного мной порядка вселенной. Я-то один, а они тянутся вереницами и спорят, кому будет оказана честь меня прикончить. Нужно бы броситься бежать, но я не собираюсь сдаваться. Не сдамся этим ничтожествам. Не могу сдаться этим полным нулям и доставить им удовольствие увидеть, как мое тело будут рвать во все стороны голодные псы. Не сдамся.
– Вы закончили, – констатирую я и теперь уже сам хватаю книгу у первого попавшегося.
Противник нокаутирован. У меня в руках другой альбом. Не так уж и плохо – «Китайское эротическое искусство». Знаю его. Наверное, раз пятьдесят листал. Противник злобно оглядывает меня, однако на реванш не решается. Он проиграл. Он побежден.
Китайское эротическое искусство не такое уж и плохое. Ему не хватает одного – японских габаритов. На китайских гравюрах половые органы какие-то маленькие, неразвитые, миниатюрные. Кое-где трудно даже понять, эрекция ли это. Если хочешь смотреть этот альбом, требуется лупа, а ее я с собой не захватил. Досадно. Никогда не нужно переоценивать свои силы. Всегда надо ожидать самого плохого. Так и вышло. Гравюры пламень во мне не разжигают, однако книгу из рук я не выпускаю. Довольствуюсь тем, что имею. Китайцы всегда занимаются любовью иначе. Они рафинированны. Их женщины любят мастурбировать, но делают это как-то неубедительно, непрочувствованно, с насмешливыми улыбочками на губах, ничего общего не имеющими с тем выражением, краску которому придает оргазм. Ягодицы у китайцев тоже очень уж слабенькие. Они больше напоминают попки новорожденных, а не седалища упитанных придворных. Только по обязанности листаю этот альбом. Останавливаюсь ненадолго над репродукцией, на которой выгравирован акт на лошади. Лошадь (конем ее назвать нельзя) летит, а они что есть сил трахаются и удивительным образом удерживаются, не валятся на землю, не теряют равновесия. Это интересно, однако лишь зоологически. На другой гравюре китаянка опять засовывает палец во влагалище. Как-то нерешительно. Кажется, будто ей хочется почесать ногтем половые губы. Ее партнер одобрительно наблюдает. На его губах тоже улыбка – неотъемлемый атрибут азиата. Видно, что ему приятно смотреть на нее. Извращенец, каких не найдешь среди японцев. Китайцы совокупляются сплошь механически, без страсти. Они словно позируют граверу, приглашенному увековечить их еще не увядшую потенцию. Я автоматически листаю этот альбом, приносящий моему духу не больше миллиграмма пищи. Чувствую себя так, словно поработал на конвейере. Устал. Высох и истощен. Их искусство мне чуждо. Надежду вернуть «Эротическое искусство японцев» я потерял. Очкарик все еще поглощен им. Наверное, до вечера, пока не закроют магазин и служащие не погонят всех любителей развлечений, ежедневно приходящих сюда подкрепить силы. Ухожу прочь, альбом отдал девушке. Она, должно быть, студентка, завернувшая сюда расслабиться после лекции по герменевтике, которую читал один из европейских грандов в этой области.
Счастливым себя не ощущаю. Все равно чего-то не хватает.
– Значит, все-таки добился своего, – говорит мне Даниэль, когда я возвращаюсь домой и нахожу его снова взявшимся за автобиографический роман Гарри.
– С чего ты решил?
– По твоим глазам, – говорит он и снова углубляется в воспоминания Ажара Гарри о петербургском детстве.
Одни все ходят в китайское посольство, а другие не знают, куда себя девать. В комнате, сколько бы в ней ни было книг по лингвистике, больше нечего делать. Могу только позавидовать Анайи Нинь, написавшей в 1932 году шесть романов. Ей хватило терпения и усидчивости. Три дня высидел дома, никуда носа не высовывал, однако теперь эта статика стала невыносимой. Мне удалось даже одолеть пьесу Борхерта на немецком языке, правда, прочитав ее, мудрее не стал. Может, и наоборот.
Даниэль собирается уходить и теперь неприличными словами поминает китайское государство, которое, если его послушать, никогда в жизни не даст ему визу. Мой друг уверен, что я не являюсь резидентом китайской разведки в Париже, поэтому и ругает страну, из которой будет пытаться добраться до Тибета.
– И тебе обязательно нужно попасть в Тибет? – спрашиваю я, пока он предпринимает отчаянные попытки найти паспорт среди мусора в ящике стола.
– Без Тибета путешествие было бы бессмысленным, – отвечает он и не на шутку нервничает, потому что паспорт в это время преспокойно лежит в другом месте.
Я знаю, где его паспорт, однако не говорю. Пусть не думает, что попасть в Тибет ему будет так просто. Я хочу, чтобы с самого начала, точнее, с самой завязки путешествия он столкнулся с трудностями, которые в социалистическом раю неизбежны.
– Ты не видел мой паспорт? – спрашивает он, уже весь в поту.
– Знаю, где твоя кредитная карточка, но рядом с ней паспорта нет.
– Где бы он мог быть?
Он роется в книжном шкафу, никогда в жизни не видевшем документа гражданина Франции. Бесится. Время от времени пинает ножку стола, которая совсем не виновата в том, что он такой рассеянный.
– Какой я дурак! Какой я дурак! – словно мазохист, хлещет он себя, однако паспорт не обнаруживается.
– Наверное, ты его выбросил вместе с мусором, – пытаюсь я его успокоить.
– Чушь. Ну дурак! Ну дурак!
Он мечется по комнате, как лев по клетке. Еще немного, – и откажется от поездки не только в посольство, но и в Китай.
– А может, он среди вчерашних писем? – суфлирую я.
– Нет. Уже смотрел.
– Посмотри еще раз. Мне кажется…
– Нашел! Нашел! – вопит, уже найдя. – Вот дурак! Вот дурак!
Он не может нарадоваться на французское гражданство. Паспорт у него в руках. Восхитительный, изящный французский паспорт – мечта арабов и нелегальных иммигрантов.
– Лечу. Встретимся вечером, – говорит он и выбегает за дверь, которую я должен запереть.
Сажусь в кресло и мысленно набрасываю эскиз этого бессмысленного дня. Эскиз совершенно не художественный. Не хватает полета и творческой силы. Рву один лист бумаги и беру другой, побольше. Этот тоже не удался, хотя в нем что-то есть. Есть. Нет, рву и второй. Третий раз должно получиться. Разумеется. Да, разумеется, пойду в «American Express», а после этого к Джиму, который давно уже должен вернуться из этой своей России. Решено: в «American Express» и к Джиму. Очень изящная комбинация из двух элементов. Не могу налюбоваться, как она выглядит на листе бумаги. Решаю вставить его потом в рамку и, может быть, даже кому-нибудь подарить. Это большая ценность, с которой мне будет тяжело расстаться, однако чего не сделаешь, когда хочешь доставить удовольствие ближнему.
Пью остатки кофе. Может быть, выпить рома? Нет, не буду пить. А все-таки…
Глоток рома никогда не повредит. Хотя меня не очень-то пленяет Хемингуэй, я одобряю его литературную мысль, что каждый день просто обязательно надо заканчивать рюмкой алкоголя. Развиваю эту мысль и как следует потягиваю ром из утренней бутылки. Все какой-никакой вклад в литературу. Теперь можно причислить себя к интерпретаторам биографии этого писателя. Жаль, никто не выпишет мне удостоверения.
На улице Алезья такой чад, что мгновенно исчезает желание ехать на автобусе в «American Express». Эскиз идет прахом, и я направляюсь на улицу Томб-Исуар, на пересечении которой с Алезья так любит фотографироваться теоретик и практик секса. Едва волочу ноги, поэтому вынужден заворачивать в антикварные магазины, чтобы вернуть дар речи и силы. В антикварных прохладно. Французы роются в старье и пыли. Им все еще чего-то не хватает для счастья.
– Вы хотели бы купить это кресло? – осведомляется у меня служащий, увидев, что я с нескрываемым интересом изучаю его обтрепавшийся гобелен, наверняка сотканный не на мануфактурах Фландрии. – Чем я могу вам помочь? Может, вам что-нибудь посоветовать?
– Нет. Не нужно. Меня интересует мебель эпохи Ренессанса в форме фаллоса, покрытая голубой глазурью.
– Такой у нас нет, – отвечает он, выведенный из равновесия.
– А может, есть?
– Не знаю…
– Его можно сосать и в то же время пить из него. Такую мебель очень любили Габсбурги. Она была популярна при дворах. Ее особенно любили не отличавшиеся красотой фрейлины. Хотел бы купить такую. На следующей неделе у моей сестры день рождения. Она тоже некрасивая. Уже пятнадцать лет не удается найти мужа. Был один адвокат, однако… Дела все проигрывал. Дефект речи: заика.
Услужливый продавец антиквариата стоит, словно кол проглотив. Ясно, что о мебели в форме фаллоса он слышит первый и последний раз в жизни. Но я когда-то изучал историю искусства, поэтому и не думаю отступать. Я его так поучу, что он никогда больше не будет цепляться к зашедшим в поисках прохлады.
– Порой я размышляю о захоронениях, в которых можно найти самые разные вещи, – продолжаю я. – Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой. Она общая, и не закрывайте на нее глаза. Не делайте вид, что слышите об этих вещах впервые. Достаточно вспомнить, что древние кладбища, как когда-то в Европе и как теперь в Англии, были собственностью церкви. Это естественно. А новые кладбища принадлежат частным компаниям, как мечтали французские авторы проектов XVIII века. Однако их мечты не исполнились, так как все в то время было пропитано утопическим социализмом. Это относится не только к Сен-Симону. И что же произошло? Европейские кладбища стали муниципальными. А это означает, что они публичные и не принадлежат частному предпринимателю. Здесь нет никакой тайны. Скорее, тайной является бальзамирование, в котором есть кое-какой трудно объяснимый смысл. И не нужно тут строить никаких гримас, так как есть только три ветви дерева: Сервантес, Дефо и Достоевский. С последним нас связывает общее происхождение и страсть к рулетке. А мебель в форме фаллоса мне нужна для того, чтобы порадовать сестру по случаю дня рождения. Она такая неаккуратная, примерно как Йоко Оно в быту.
Он пятится от меня. Неблагодарный слушатель, только и умеющий задать какие-то несколько вопросов. Его потрясение меня немного пугает. Не хочу иметь дел с психиатрами, поэтому гордо покидаю антиквариат.
На улице Алезья жара не стала меньше. Листья деревьев стараются из последних сил, однако польза от тени минимальная. Мне кажется, сейчас липы хотели бы превратиться в баобабы.
Нахожу стригущего ногти Петера. Он несчастен оттого, что я нарушаю эту процедуру. Ногти он с немецкой педантичностью складывает в кучку на столе. Рядом стоит недопитый стакан кока-колы. Кучка пожелтевших ногтей впечатляет. Он, наверное, годами готовился к этому событию. Становлюсь свидетелем этой разумной деятельности. Завидую ему, что у него хватило терпения отрастить и взлелеять ногти такой невообразимой длины. Для этого требуется нечеловеческое упорство. Вспоминаю свои. Они достойны сожаления.
– Джим! – кричит Петер. – К тебе пришли!
Джим не отзывается. Тишина. Стою у плиты, а Петер даже не предлагает сесть. Я понимаю, что мешаю ему, однако не раскаиваюсь, так как не каждый день можно увидеть такую груду ногтей с человеческих ног. Ногти Петера, возможно, следовало бы увековечить. Экспонировать на какой-нибудь выставке радикального искусства. Наверняка был бы успех. Прогнившие миллионеры, может, даже заказали бы копию, чтобы пополнить ею свои коллекции.
– Джим! Пришли к тебе! – после паузы снова кричит он.
Слышу, что Джим наверху что-то бормочет. Может, спал? Нет, уже полдень, а старички рано поднимаются. Не нужно кончать вуз, чтобы знать эту истину. Начинаю в ней сомневаться.
– Он занят? – спрашиваю Петера.
– Занят? – повторяет он мой вопрос и улыбается.
Не дождавшись приглашения, присаживаюсь около ногтей Петера. Теперь они впечатляют еще больше. Едва удерживаюсь, чтобы не попросить несколько на память. Я мог бы послать их в конверте какому-нибудь другу. Вспоминаю, что когда-то каждый день посылал приятелю-концептуалисту письмо с шариком пуха, собравшегося за день в моем пупке. Послал ему не одну сотню граммов пушинок. Позднее он создал замечательное произведение, за которое в Кельне получил четырехзначную премию. Правда, со мной не поделился. Не сержусь. Мне достаточно и того, что извлеченный из моего пупка пух был показан в престижной галерее.
Петер свыкся с моим присутствием и снова углубился в стрижку ногтей. Одно неосторожное движение, и ноготь падает в кока-колу. Петер так увлечен и сосредоточен, что даже не замечает. Слежу за тем, как его ноготь ныряет в стакане. Почему-то он напоминает мне белую акулу, не нападающую на людей. Ногти – хорошие пловцы, делаю я вывод.
Наверху у Джима какое-то движение. Слышу, как с шумом падают груды журналов, доставившие мне в прошлом году немалое удовольствие. Рядом со своей кроватью Джим держал множество порнографических журналов, и я не устоял перед искушением их полистать. Спектр тем в этих журналах широк и глубок, как любовь Джима. Я даже не успел все пересмотреть, однако те, которые видел, оставили у меня неизгладимое впечатление. Особенно понравились пожелтевшие листы семидесятых годов: выцветший колорит, белые крашеные блондинки – страсть кавказцев. Их можно листать до безумия. Хорошо, я чувствовал, где предел, и, когда разум уже начинал мутиться, говорил: стоп!
Профессор секса спускается по лестнице.
– Это ты?! – приходит он в изумление.
– Да, это я.
– Как?!
– Я уже два месяца в Париже.
– Два месяца?! Два месяца?!
Его почему-то это удивляет.
– Два месяца – и только теперь пришел ко мне?!
– Но, Джим, ты ведь был в отъезде.
– Да, правда. Был в отъезде, – поникает старичок – видимо, Петербург конца двадцатого века не тот город, о котором грезит житель Запада. – Почему ты остановился не у меня?
Объясняю ему, что живу у друга совсем рядом. Он успокаивается, хотя делает вид, что самая большая мечта его жизни – приютить меня по меньшей мере на полгода.
– Ну, ты и растолстел за это время, – не может он надивиться на мою фигуру.
– Я растолстел?! – задаю риторический вопрос. – Я – растолстел!?
– Конечно, ты растолстел и полинял, – дополняет панегирик Джима кончивший стричь ногти Петер, однако его мнение никому из присутствующих неинтересно.
– Потому что все сижу, – только и отвечаю я, не имея никакого желания развивать эту тему.
Вижу, как по ступенькам из притона Джима спускается не слишком потрясающая дама. Руками она разглаживает платье. Не нужно быть очень сообразительным, чтобы понять: Джим только что ее трахнул. Румянец на ее щеках выдает недавно испытанную страсть. По выражению лица видно, что ей немного не по себе. Петер, как всегда, притворяется равнодушным. Он стряхивает состриженные ногти в ладонь. Джим улыбается.
– Познакомься, – говорит он мне и показывает на бывший объект любви.
Выглядит она жалко, потому что издатель и редактор первого в Европе журнала о сексе измучил ее до крайности. Дама протягивает мне руку, и я мгновенно понимаю, что она не француженка.
– Пиявка, – представляется она.
– Эркю, – говорю, потому что мне надоело слышать, как они коверкают мое имя, лучше уж сам фонетически его изнасилую.
Джим смотрит на нас, как заговорщик.
– Она из Словении, – говорит он довольным тоном.
Подозреваю, что в его коллекции славянки, забредшей так далеко на Запад, еще не было, и потому он такой счастливый. Рука Пиявки немного влажная. Жаль, что перед знакомством вытер ладонь о брюки.
Джим пытается что-то объяснить, однако мы не понимаем. Он упоминает благотворительность, блошиный рынок, посылки в Россию. Мы с Пиявкой переглядываемся и пожимаем плечами. Старичок непредсказуем. Всего десять минут назад он держал эту женщину в объятиях, превратившись в ее часть, а теперь несет вздор о каких-то вещах, которые обязательно надо просмотреть, иначе будет поздно.
Пиявка, еще не пришедшая в себя после любовного акта, ничего не соображает. Я, не видевший Джима год, тоже. Стоим два дебила – восточно– и среднеевропейцы.
– Вот здесь, – показывает Джим на сложенные в подъезде ящики.
– Что здесь?
– Здесь. Можете себе выбрать.
– Что? – не отстает Пиявка, не ожидавшая еще и подарков от волшебника секса с сердцем нараспашку.
– Вы можете выбрать, потому что завтра я все выброшу, – заявляет Джим. – Здесь ценные для вас вещи.
Пиявку мне жаль. Я привык к таким подаркам, потому что нахожусь на Западе чуть дольше. Пиявка, насколько я помню из географии, живет недалеко от Венеции, поэтому ей не по себе, когда она поглядывает на заплесневевшие вонючие ящики, которые нам велено просмотреть.
– Я пойду наверх, а вы тут выбирайте, – говорит Джим и исчезает за дверью.
Стоим с Пиявкой в подъезде студии. Рядом страшно воняют ящики. Пиявка – женщина, поэтому первой открывает крышку картонного ящика. Вонь усиливается. Кончиками пальцев Пиявка вытягивает пропотевшие, изношенные туфли, разодранные куртки, нестираные трусы, чулки эпохи мезолита, до невероятия безобразные пыльные шапки и другой хлам. Ее лицо искажает гримаса. После акта любви ничего отвратительнее и быть не может. Одобряю.
– Тебе это надо? – спрашивает она меня.
– Нет.
– Мне тоже.
Не скрывая разочарования и отвращения, она пытается запихнуть этот хлам назад. Не удается. Стараюсь ей помочь, но и мои усилия бесплодны.
– А может, возьмешь себе эти сапожки, – пробую я шутить, но у нее в голове не шутки. Беспокоит единственная мысль: только бы не стошнило.
В блевотине рядом с такой вонью нет ничего удивительного. Я уже почти рыгаю, но держусь. Неприлично было бы, только познакомившись, облеваться. Между нами завязывается какая-то метафизическая связь. Не говоря ни слова, оставляем ящики и выходим на свежий воздух.
Глаза у Пиявки ошалевшие. Мои, наверное, не меньше. Стоим и молчим. Отваживаюсь предложить ей сигарету. Не отказывается.
– Ты из Словении, – продолжаю начатое в студии знакомство.
– Из Любляны.
– Ах, из Любляны… – и жду, пока она меня спросит.
– А ты? – не выдерживает она, хотя сама такая сногсшибательная, что ей совершенно нет дела до того, откуда я.
– Я из Вильнюса.
– Откуда?
– Из Вильнюса. Из Литвы.
– Откуда, откуда?
Это меня, конечно, раздражает: стоило ей вдохнуть чуть-чуть свежего воздуха, как она снова почувствовала, что живет рядом с Венецией.
– Из Вильнюса.
– Ах, да. Знаю, – говорит она таким тоном, словно доставляет мне огромное удовольствие.
Такие удовольствия мне не нужны. Теперь я не жалею, что пытался всучить ей поношенные сапожки. Ей пошли бы. Ничто так не раздражает, как необоснованное превосходство. Глобус круглый, поэтому не верится, что некоторым кажется, будто географическое положение дает им право вписать тебя в конец таблицы. Она совершила непростительную ошибку, хотя мне и плевать, откуда она родом. Я не люблю тех, кто, услышав, какой твой знак Зодиака, заявляют, что знают все.
– А кто ты такая? – теперь уже не очень дружелюбно спрашиваю я, потому что мне насрать на ее происхождение и на то, чем она занимается.
Она не замечает моей злости, а может, не хочет замечать. Те, кто живут рядом с Венецией или Берлином, умеют очень хорошо владеть собой. Они могут убить своей вежливостью, под которой часто таится духовная импотенция. Не говорю, что я духовен, как культурная программа съезда Коммунистической партии. Никоим образом.
– Я директор Люблянского театра драмы, – как бы небрежно заявляет она.
– Вот как. В Вильнюсе я встретил одного типа. Он сказал, что драматург, работает кем-то в театре. В Любляне только один театр. Как его зовут? Славик? Гомик?.. Не помню.
Теперь она изображает тревогу из-за того, что Джима так долго нет. Делает кислую мину, однако жребий брошен, и отступать ей некуда. Она вынуждена вспоминать имя, которое беспокоит меня меньше всего в жизни.
– А сколько ему лет? – снисходит она до вопроса.
– Может, тридцать… А может, и меньше. Не знаю.
– Кто бы это мог быть?.. – Думает, стало быть, словно словенцы – стомиллионная нация, три четверти которой драматурги и все работают в тысячах театров. – Томаш?
– Да. Он.
На этом беседа заканчивается, так как больше нам сказать друг другу нечего. Сигареты осталось всего на несколько затяжек. Как спасение, приходит Джим.
– Выбрали? – спрашивает он нас.
– Она выбрала неплохие сапоги, – лгу я и указываю на совершенно оторопевшего директора театра.
– Так бери их и пошли есть. Я угощаю.
Директор театра, не желая разочаровать бывшего партнера по любви, берет, скрывая отвращение, сапоги.
Поделом ей. Нечего притворяться, что не знаешь, где Вильнюс. Впредь всегда буду так поступать с теми, кто в школе получал самые низкие оценки по географии, хоть мне и наплевать.
– Мы пойдем в китайский ресторан, – конкретизирует Джим.
– Джим, я не хочу есть. Вон я какой толстый, – стараюсь отказаться я от этого предложения. – Кроме того, мне нужно обменять деньги, a «American Express» скоро закроется.
– Ерунда. Отведу тебя в свой банк.
Джима не переубедишь. Я есть не хочу. Я не хочу есть! Я не хочу и не знаю, как все это ему объяснить.
– Я тебе показывал свое интервью? – спрашивает он меня, пока миниатюрная китаянка сервирует столик в ресторане.
– Нет.
Он вытаскивает из папки ксерокопии. Несколько экземпляров дает мне, другие – Пиявке, которая сидит на кушетке, положив рядом добытые сапоги. Интервью ее не интересует. Мечтает, как бы отделаться от сапог. Мне приятно, что я в какой-то степени причастен к этим мечтаниям, таким редким в ее возрасте, если учесть социальное положение и географическое происхождение.
– Это интервью показывали в прошлом месяце, – гордится Джим.
– Да? Замечательно, – говорю.
Не очень понимаю людей, якобы случайно сующих копии интервью в папки, идя обедать в ресторан, который находится на противоположной стороне улицы. Да ладно. Джим симпатяга. И щедрый – какие сапоги устроил Пиявке! Позавидовать можно.
Официантка носит и носит еду. Опять обожрусь. Опять пережру. Такая у меня судьба в этом городе – есть и встречать интересных людей. От всего этого даже плохо. Сейчас вырвет.
– Что бы ты хотел на десерт? – спрашивает меня Джим.Состояние не меняется. Мне суждено ждать у Национальной библиотеки. Три дня атаковали телефонными звонками и наконец прорвали мою оборону. Соглашаюсь пойти посмотреть эти рукописи, от которых мне никакой пользы. Теперь жду, а Сесиль опаздывает. Если она опоздает на четверо суток, я буду очень недоволен, хотя мне и не хватит смелости выразить это словами.
Проскальзываю в библиотеку. Не собираюсь торчать у ворот, словно жаждущий знаний. Прикинувшись семиотиком, попадаю в холл библиотеки. Больно видеть у входа в читальный зал толпу истосковавшихся по мудрости. Они ждут, пока другие насытятся, после чего тут же проскальзывают внутрь, получая стол и стул – неотъемлемые атрибуты знаний. Вижу, что многие лица в прыщах. В их телах бушуют гормональные бури, которые они усмиряют бесконечностями дискурсов. Это самое плохое лекарство, хотя они еще верят, что это – лучшее средство от бессмыслицы. Эта нация всегда останется культурной и образованной. Малым народам было бы завидно смотреть, с какой решительностью эти люди ждут, пока библиотекари забросят в печь их мозгов несколько книг. Верящих в науку и прогресс огромное множество. В Исландии таких наверняка всего несколько десятков. Остальные ловят рыбу. Мне тяжко в этой набухшей разумом атмосфере. Выхожу.
На улице Сесиль по-прежнему нет. Решаю ждать пять минут. Прошло три. Она появляется.
Издали Сесиль похожа на французского бульдога: маленькая, плотная, с кривыми ногами и симпатичным лицом.
– Извини, что опоздала, – бросается она ко мне.
– Пустяки, – говорю, пренебрежительно отмахиваясь.
– Прости, но я хочу еще закусить. Ужасно проголодалась.
Пока она жалуется, оглядываю ее. Гной с ресниц стерла. Хороший знак. Ляжки неестественно белые. Грудь впечатляет больше, чем когда увидел ее в первый раз. Руки синеватые. Из платья выросла. Должна была бы выглядеть весьма эротично, однако, даже сильно захотев, сексуального влечения к ней я бы не почувствовал. С другой стороны, можно ли чувствовать сексуальное влечение к французскому бульдогу? Разве что будучи зоофилом. До зоофила мне еще далеко.
– Просто умираю как хочу есть, – продолжает она делиться со мной своими заботами.
– Поешь, поешь, – подбадриваю я.
– Я сбегаю в кафе за углом и через несколько минут вернусь. Ты подождешь?
– Да, конечно, подожду.
Она бегом мчится к вожделенному куску мяса, а может, и рыбы. Груди раскачиваются в стороны. Платье взлетает, оповещая, что сегодня ее стыд скрывают голубые трусики. Во мне это не вызывает абсолютно никаких желаний. Даже обидно.
Подпираю двери Национальной библиотеки. Пожиратели знаний мною недовольны, так как я загораживаю выход. Они идут мимо меня, словно сомнамбулы. Старичок, едва волоча ноги, тащит за собой портфель, который больше него самого. Ему все мало. Прожил почти сто лет и до сих пор не понял, что мог посвятить их охоте. Горько даже подумать, что сто лет он высидел за книгами только для того, чтобы в конце жизни именоваться профессором. Циничнее войны эти академические игры. Он их жертва, однако спасаться уже слишком поздно. Кое-как ему удается спускаться по библиотечной лестнице. В этом его действии сейчас больше смысла, чем в сладости прочитанной десять минут назад книги. Если подует ветерок посильнее, он грохнется вместе со своим портфелем, содержимое которого, как он все еще надеется, может расширить знание об этом мире.
– Видишь, какая я быстрая, – говорит мне Сесиль, дожевывая булочку. – Задержалась на какие-то десять минут. Хотела быстрей, да была очередь.
– Ничего. Мне было приятно тебя ждать, – говорю ей. – Здесь столько разных персонажей мимо меня прошло. Могло быть и больше.
По-прежнему жуя булочку, она ведет меня к служебному входу.
– Можем покурить. Пьер скоро придет.
Пьер – это фотограф, которому я должен быть благодарен за знакомство с самым большим книгохранилищем Европы, иначе говоря – кладбищем книг. Сесиль щебечет без умолку.
– Вчера столько дел было, столько дел, – начинает она пытку. – Послезавтра приезжает мой друг из Марселя. Нужно собираться, а у меня еще даже документы не все. Через пару месяцев уезжаю в Россию, но до сих пор ничего не сделано. Такое дальнее путешествие, такое дальнее, такое дальнее…
Моя система звукоизоляции действует безупречно. Едва только она начала говорить, как я уже ничего не слышу. На пару лет уезжает в Сибирь, где будет учить молодых русских французскому языку. Парадоксально: в начале века русские отправлялись во Францию, а в конце – французы с огромным энтузиазмом путешествуют в Сибирь. Удивительные миграционные перемены!
– …А ему еще театральные дела надо уладить, потому что он думал, что поедем только в ноябре.
– Кто, кто? – перебиваю я.
– Он. Ему там ничего не надо будет делать. Правительство выделяет деньги только для того, чтобы осмотреться.
– Кто такой? – осведомляюсь я, хоть мне и неинтересно.
– Огюст. Ему не обязательно нужно будет ставить спектакль. Может, в другой раз.
– А ты его знаешь?
– Знаю. Вчера познакомились. Он будет искать в Сибири вдохновение.
Заботы Огюста меня не интересуют. Ясно, что он – еще один авантюрист, выклянчивший у Фонда помощи Востоку немаленькую сумму для своего вдохновения, которое неизвестно удастся ли выдохнуть.
В дверях показывается Пьер. Типичный фотограф: худой, лохматый и без фотоаппарата. Такие мне больше всего нравятся. Он не может стоять на месте и потягивается, как пантера. Его плечи поднимаются, опускаются. Пластичный, делаю я вывод. Он может работать только со штативом.
Целует Сесиль в обе щеки. Даже не завидую. Мог бы и любовью с ней заняться, а я бы тем временем стоял, как дольмен или менгир – объект неизвестного назначения. Подает и мне руку. Знакомимся – оба расширяем группу друзей, которую можно было бы и не расширять, однако эта неугомонная Сесиль… Она весело кричит и радуется нашей едва завязавшейся и еще хрупкой дружбе. Впечатление такое, словно она сводничает.
Пьер ведет нас катакомбами библиотеки и через каждые два шага останавливается, потому что ему нужно поздороваться и потрепаться с теми, кто попадается навстречу. Это беда всех фотографов: они знают весь мир и в то же время не знают никого. Видно, что это его утомляет, однако он держится героически и не выдает своего раздражения. Это еще одна характерная черта фотографов. Они всегда веселы, и им чужды депрессия художников, безнадежность писателей, сомнения режиссеров, безумие танцоров.– Что вы хотели бы посмотреть? – спрашивает меня такая же типичная библиотечная крыса, когда мы оказываемся в обитом деревом зале.
Вопрос адресован мне, а я даже не знаю, что ответить. Меня ничего не интересует, хотя я понимаю, что имею редкую возможность полистать не один вожделенный манускрипт. В моей голове вертятся фамилии, но что из того.
– Может, у вас есть рукопись «Памятников египетской религии Фиванского периода» Израиля Франк-Каменецкого? – спрашиваю я о первой пришедшей в голову личности. – Сейчас поищу, – неожиданно отвечает очкастая мышка, руководящая отделом манускриптов и якобы охраняющая то, что для Франции дороже всего.
Выигрываю несколько минут, могу отдышаться. Пьер мне улыбается. Он оценил заказ. Сесиль стоит без всякого выражения на лице. Я немного волнуюсь, так как не хочу показаться необразованным. Теперь обязан придумать другой заказ, который они не смогут выполнить. В голове пусто.
Прибегает возбужденная мышка.
– Очень жаль, однако этой рукописи у нас нет. Даже не знала, что ее нет в наших хранилищах, – словно провинившись, оправдывается она передо мной, а обещала ведь показать все, чего только жаждет мое сердце.
– Жаль, – говорю. – Очень жаль. Только из-за этой рукописи я и приехал из Восточной Европы. Очень досадно…
– Может, желаете что-нибудь, что у нас есть? – пытается спасти честь библиотеки служащая, а ее бровь уже нервно подрагивает.
– У меня есть одно желание, но не знаю…
– Мы постараемся. Постараемся. Что вам нужно?
– «Истории церкви», «Подготовки Евангелия», «Жизни императора Константина» Евсевия Памфила у вас, конечно, нет, – продолжаю я. – Не верю, что вы отыскали бы рукопись «Библии и Вавилона» Фридриха Делича… Или дайте мне, разумеется, если найдете, рукопись шестого тома «Истории происхождения христианства» Жозефа Эрнеста Ренана.
Она приходит в себя. Словно сбросив сорок лет жизни, несется в запасники.
– Тебе эта рукопись действительно нужна? – робко спрашивает меня Пьер.
– Без нее не представляю своей жизни, – отвечаю.
Долгонько ищет. Кажется, и ее нет. Времени за глаза, так что подожду. Мышка все не показывается. Теперь дело ее чести найти эту рукопись.
– Вот. Нашла. – Она с гордостью бросает ее на стол.
– Красивый почерк, – говорю. – Меня всегда интересовало, как Ренану удается так красиво выписывать букву О. Вы только посмотрите, просто совершенная окружность.
Они не перестают изумляться моему эстетическому вкусу, который действительно прекрасен. Все устремляют взоры на ренановскую букву О.
– Она замечательная, – говорит Сесиль, не светящаяся глубокой мудростью.
– Листайте рукопись, а у меня много работы, – сбегает от нас служащая, она явно боится, как бы я еще чего-нибудь не придумал.
Листаю рукопись, а они не отрывают взгляда от разных О. Мною овладевает огромное желание закрасить плоскость буквы тушью. Держусь из последних. Никто сейчас и не подозревает, какие страсти кипят во мне. Для французской культуры это был бы удар ниже пояса.
– Уже можем идти, – говорю, переворачивая последний лист рукописи. – От Ренана ничего большего и не ожидал.
Фотограф немного удивлен, однако подчиняется моему желанию. Идем из библиотеки, прямо-таки переполненные знаниями, которые брызжут из наших мозгов.
– Если тебе что-нибудь будет нужно, – говорит Пьер, – всегда можешь ко мне обратиться. Я к твоим услугам.
Сесиль в этот миг чувствует себя ненужной. Она успевает солгать, что через десять минут ее будет ждать Огюст. Разумеется, на другом конце города. Расстаемся. Мне становится легче. Я снова свободен.
Когда я уже иду к Национальному банку, меня догоняет Пьер.
– Эркю, очень извиняюсь. Может, ты не откажешься выпить со мной бокал пива? Я угощаю.
Соглашаюсь без колебаний, так как Пьер мне нравится. Мне нравится его раскованная походка, насмешливый взгляд и меткий глаз. С большим удовольствием познакомился бы с ним поближе. Он со мной, кажется, тоже.
Пьер ведет меня назад к библиотеке.
– Здесь, рядом. В этом кафе мы познакомились с Сесиль.
– Ты давно ее знаешь? – спрашиваю его.
– Может, год. Может, два. Иногда кажется, что всю жизнь, однако чаще всего…
Стоим у бара в типичном французском кафе. Набросано окурков. Все друг друга знают. Пьер представляет меня хозяевам и своим друзьям. Теперь и я свой среди них. Флаг сексуальных меньшинств над фасадом здесь не развевается. Прихлебываем пива.
– Ты должен ей помочь, – начинает разговор Пьер. – Она совершенно выбита из колеи.
Понимаю, что речь идет о Сесиль, однако при чем здесь я?! Не могу же я быть ее доверенным лицом, да и знакомы-то мы с ней всего несколько часов. Кроме того, она мое имя не может нормально выговорить. Что уж говорить о фамилии, которая в ее устах превращается в яд.
– Я?! – переспрашиваю я, состроив ничего не говорящую мину.
– Да, ты. Потому что ты можешь. По глазам вижу. Ты можешь ей помочь.
– Пьер, я даже не знаю, что с ней, чем она больна и больна ли. – Я уклоняюсь от деятельности самаритянина, которая чужда мне уже добрый десяток лет.
– В общем, она любит, – вздохнув, ставит он диагноз.
– Не меня же.
– Конечно, не тебя, однако ты можешь ей помочь.
Разговор мне перестает нравиться, а пиво горчит. Делается даже немного кислым. Начинаю подозревать, что оно еще и с осадком. Сожалею, что пью пиво и впутываюсь в банальную историю.
– Она любит его, – снова издали начинает Пьер и с досады даже закуривает. – Она любит его. Она мне призналась.
– Пьер, мне никто не признавался. Я ничего не знаю и не хочу знать, кто кого любит, а кого не любит. Я и сам не уверен, кого люблю, а кого ненавижу. Что же говорить о Сесиль, которую я не знаю.
– Не совсем так, – прерывает меня Пьер.
Такие повороты мне уже совсем не нравятся. Я не поклонник любовных романов, да и не близки мне всякие истории.
– Она ему каждый день пишет письма, но так и не дождалась ответа. Если это продлится еще хотя бы месяц, она окончательно сломается. Она такая хрупкая. Я хочу ей помочь. И ты ей должен помочь. Ты обязан.
– Хорошо, – успокаиваю я, – расскажи, в чем дело. Посмотрим.
– Она влюбилась в того саксофониста из Вильнюса. Она лишилась из-за него рассудка.
Я не говорю ему, что влюбиться в саксофониста – самое страшное дело. Любовь к этим дудилыцикам заранее обречена. Это постулат, теорема, которую девочки должны вызубрить еще на школьной скамье. Во мне уже поднимается сочувствие к Сесиль.
– Ты мог бы встретиться с ним, – продолжает Пьер, – и все ему объяснить. Ты должен его убедить, что так поступать непорядочно. Он не может разрушить ее жизнь.
– Думаешь, – говорю ему, – что я пойду к тому саксофонисту, так, ни с того ни с сего, и стану морализировать только потому, что в него влюбилась девица, которую он, может быть, и не помнит? Как ты себе это представляешь?
– Ты должен объяснить ему, рассказать, как она страдает.
Пьер хочет заманить меня в капкан маразма. Я раскусил его замысел. С каждой секундой он мне нравится все меньше и меньше, хоть и щедрый. Может быть, слишком щедрый. Фотографы чаще всего не обладают этим качеством.
– Хорошо, – говорю я, чтобы он отстал. – Пойду к тому саксофонисту и скажу, что его безумно любят. Он меня выбросит за дверь. И еще поддаст под зад. А вечером около дома меня подкараулят все эти музыканты и изобьют, чтоб не совался не в свои дела.
– Этого не будет. Не будет этого…
Пьер, кроме того, еще и наивен. Самыми наивными бывают скульпторы, однако и Пьер мог бы сыграть в этом оркестре наивцев. Возможно, даже первую скрипку.
– Ладно, – успокаиваю я его, – пойду к тому саксофонисту. Поговорю. А может, попугать его ножом?
Чувство юмора у Пьера в пятках. Он долго объясняет, что ножом саксофониста пугать не стоит. По его мнению, это было бы слишком сурово….
– А девушек соблазнять? Соблазнять их и бросать – это не сурово? – патетически спрашиваю я.
Пьер соглашается и заказывает еще по бокалу пива. У меня в горле сухо от чужих проблем и подброшенных мне новых обязанностей. Сейчас выпил бы ведро пива.
– Мы договорились? – он все еще не отстает от меня.
– Договорились, договорились, – заверяю я, хотя ни к какому саксофонисту не пойду, и разжалобить его пытаться не буду, и адскими муками пугать.
Прощаемся. Пьеру пора в лабораторию. Пожимаем руки, а я думаю, что ничего не потерял бы, если бы с ним не встретился. Он впутал меня в историю и изгадил хорошо прошедший день. Такие вещи нельзя прощать.
Отомщу.
Город вибрирует от звона. Сегодня объявлено, что все, что звенит, является музыкой. Тысячи вышли на улицы. Во дворике музея Клюни те, кому медведь на ухо наступил, затягивают средневековые песни. Зевак полно. Подающих реплики тоже. Ценители музыки нервничают, так как не предусмотрели реакции толпы. Устраиваюсь во дворике на траве. Уже через минуту ноют все кости. Не слышу средневекового мычания. Думаю лишь о том, что в этом городе и часа не бываю трезвым. Все время поддатый, хмельным взглядом оценивающий и сам оцениваемый. Вчера позвонил друг из Австрии, неизвестно каким образом узнавший номер моего телефона. Пообещал навестить. Это сообщение приятно – не придется пить одному, у меня будет собутыльник и свидетель жутких приключений. Должен приехать через месяц. Месяц пить одному трудновато, однако ждать его стоит. Стоит. Почитатели Средневековья все не кончают. Они уверены, что то, что они делают, весьма разумно. После этого выступления они, мне кажется, изменят свое мнение. Жидкие аплодисменты. Однако певцы из колеи не выбиты. Они продолжают. Вытаскиваю из-за пазухи фляжку с ромом. Отхлебываю. Становится получше. Могли бы после каждого моего глотка петь все тише и тише. И под конец – совсем замолкнуть. Увы. Этих песен они выучили, видно, с тысячу и теперь настроены спеть не меньше половины. Конечно, меня здесь никто не держит, однако в другом месте, думаю, будет не лучше. Страдаю. Мучаюсь, однако чего стоит это мое мучение рядом с переживаниями Мазоха. Сравнение придает сил, и я отхлебываю еще раз, так как хочу, чтобы и у меня сегодня был праздник. Устроить себе такой праздник – пара пустяков. Приятно знать, что не зависишь от календаря и постановлений ассамблеи. Я уже весел и за это состояние могу благодарить только самого себя.
Певцы сменяют друг друга. Этого выступления они ждали год, поэтому так легко теперь со сцены не уйдут. Мне шах. Усаженные рядом со мной дети начинают плакать. Матери стараются успокоить их, однако это им не удается. Плач детей заглушает духовные песни Средневековья. Артисты недовольны. Они с наслаждением убили бы этих детей, которые мешают их искусству идти в массы. Похоже, что реминисценции романной эпохи скрутили юным гражданам внутренности. Я не ошибся: дети уже обосрались. Матери, сбежавшие от мужей, недовольны. Начинают проверять детские задницы. Средневековые песни плывут вместе с вонью фекалий. Параллель ко времени и к месту… Средние века не были стерильными. У детей хорошая интуиция. Если бы было можно, я бы и сам от этих песен обосрался. Держусь и пытаюсь справиться. Я ведь не засунул под задницу памперсы – чудо двадцатого века, позволяющее испражняться, даже идя по улице, впитывающее мочу и кал. Хорошее дело. Подложив их, чувствуешь себя стократ свободнее и не зависишь от городских уборных.
Детское говно имеет свойство невыносимо вонять. Трудно даже представить себе, что эти ангелы могут распространять смрад невыразимой силы. Это для меня всегда оставалось тайной. Одни женщины оказались предусмотрительными – захватили памперсы, чтобы поменять. Другие рассеянные. Такие всегда забывают, что их отпрыски тоже люди. Эти рассеянные теперь – мои союзницы. Они поднимаются вместе со своими обкакавшимися детьми и пробираются к выходу. Я иду за ними, прикинувшись одним из родителей этих засранцев. Мы проталкиваемся сквозь толпу, которую раздвигают не наши тела, а распространяемая малышами вонь. Любители средневековых песен оставляют нам коридор. Выходим, как императорское семейство.
Певцы еще бросают на меня недовольный взгляд, полный укоризны за то, что я не ценю их искусство. Мне насрать на их искусство, как только что сделали мои пока несознательные соседи.
На улице с облегчением отдуваюсь, немного попеняв себе за то, что неосмотрительно сделался на полчаса почитателем Средневековья. Однако это уже прошлое. Никогда не буду вспоминать эту черную страницу моей биографии. Звуки песен достигают улицы, на которой стою. Отхлебываю ром.
Иду через Сену. Сдерживаю себя, чтобы снова не попасть в ловушку звона. На каждом углу кто-нибудь играет. Мне рассказывали, что и любовь саксофониста в прошлом году пела с какой-то рок-группой перед кафе. Однако не получилось. Говорят, у нее нет слуха. Женщины, соблазняющие песней, – это смерть. Ничего нет страшнее, чем когда тебе поют, изливают сердце, признаются в любви – и все не в тон. Это катастрофический удар по самому болезненному и чувствительному месту мужчины – потенции. Как-то я столкнулся с одной, пытавшейся попеть в церкви. Тоже была без слуха. Теперь даже здороваться с ней не хочу. Отошел я и от жены минималиста, неосторожно запевшей у костра в горах, когда мы ели мясо, пили водку и много-много говорили об искусстве. Она все мне пела, хотя муж ее и останавливал. Кажется, ничего не поняла. Не поняла даже тогда, когда муж Бенц побежал за водкой, а она навалилась мне на плечи и руками, без всякой реакции с моей стороны, стала лихорадочно рыться у меня под ширинкой. Не получилось у нее, наивненькой, и она снова жалобно запела. Мне ее было искренне жаль, хоть она и создает неплохие инсталляции, за которые время от времени отхватывает премии Британского совета.
Иду вверх по улице Оперы, единственной улице без деревьев. Жара и ром хорошенько размягчили мозги. Если бы их стали изучать лучшие патологоанатомы этого мира – ничего не узнали бы. Немного покачиваюсь, но это ерунда, потому что такой поддатый сегодня не я один. Какое-то невыразимое чувство братства связывает нас.
Так бывает во время революций. Оказываюсь в воздушном пространстве. Меня ослепляют золото и бронза. Сижу в полупустом зале. Пестрая публика шелестит программками. Я тоже хватаю одну с кресла. Читаю, хотя ничего не понимаю. Как и подобает зрителю, буду кивать и улыбаться – сам себе. Другие тоже улыбаются. Некоторые даже здороваются. Большинство – не со мной.
Около меня усаживается меломанка. Таких можно узнать по взгляду и заплаканным глазам. Все в молодости мечтали стать знаменитыми арфистками, тромбонистками или скрипачками. Без особых выкрутасов охотно рассказывают историю своей жизни: отец был почтальон, мать – домохозяйка, а она с детства играла на фортепьяно, однако… вышла замуж: дети, муж, не одобряющий ее пристрастия, а годы бегут… бегут… Теперь огромное удовольствие слушать, как играют другие, оценивать, насколько им удалось реализовать себя… Вот так.
Меломанка, словно в Библии, роется в программке. Замечаю, как ее лицо освещает улыбка – я такие видывал. Улыбается так, как и я улыбался минуту назад. Ей хорошо, а это самое главное.
– Токадо уже играла? – не вытерпев, спрашивает она меня.
– Нет, программа немного запаздывает, – успокаиваю я.
В таких заведениях я чувствую себя как рыба в воде. Все мне ясно. Все знакомо, хотя в зале на улице Оперы я первый раз. И последний – шепчет внутренний голос. На сцене фортепьяно ждет интерпретатора. Как какая-нибудь проститутка, однако такова его доля. Публика волнуется: пауза слишком уж долгая. Торчу здесь добрых двадцать минут, а никто еще не удосужился повеселить меня, успокоить и открыть новые акустические горизонты. Все чего-то ждут, затихли, на что-то надеются. Я один ни на что не надеюсь, потому что завернул сюда убить время. Никто не догадывается, каково содержимое моей фляжки, поэтому я опять потягиваю ром из горлышка. Теперь уже не так долго ждать.
Нюх меломанки не сравнить с ее слухом. Она даже не подозревает, чем я утоляю жажду в этом храме музыки. С самым дурацким выражением лица она кивает мне и пытается улыбнуться.
– Токадо точно еще не играла?
– Не играла, не играла, – отвечаю я и снова потягиваю из горлышка.
– Она хороша, – говорит меломанка и закрывает глаза.
То есть положись на нее и на ее вкус. Чушь! Я на свой-то не полагаюсь, что уж говорить про ее!
Снова жидкие аплодисменты. На сцену выходит затянутая в спортивный костюм личность, даже отдаленно не напоминающая Токадо. В глазах меломанки разочарование. Спортсменка с розой на груди садится за фортепьяно. Справиться с высотой стула она не может. Так слишком низко. Так слишком высоко. Теперь чуть-чуть далеко. Вроде и хорошо, но неровно. Снова низковато. Педаль слишком ослабла. Видимо, волос на клавиатуре – обязательно надо сдуть. Когда, кажется, уже все устроила, замечает, что стул немного качается. Только этого не хватало. Теперь она вырывает лист бумаги из папки, складывает его, подсовывает под ножку стула. Неровно. Снова вырывает, снова сгибает, снова сует. Нет, по-прежнему нехорошо. Все нехорошо и нехорошо. Понимаю, что она требовательна. Могу только позавидовать этому свойству. Закатывает рукава. Сползают. Нехорошо. И со стулом все как-то не так. Наклоняется. Мне кажется, сейчас не выдержит и пойдет за пилой. Пилы не требуется. Она справляется со сложившимся положением – ненормальными условиями творчества и интерпретации. Кладет руки на клавиатуру. Сосредоточивается. В этот момент в зале кто-то кашляет. Кашель спугивает вдохновение. Сидит недовольная, с опущенными руками. Притворяется спокойной, однако раздражение выдает нервно подергивающаяся нога. Снова кладет руки на клавиатуру. Теперь я собрался чихнуть, однако боюсь разогнать вдохновение. Она замирает. Кажется, ждет, что в зале опять кто-нибудь не выдержит и задвигается или попытается прочистить нос. К сожалению, все запуганы. Слушатели ждут от спортсменки первых звуков. Терпеливо ждут. В зал пытаются попасть опоздавшие. Она видит это и снова опускает руки. Подозреваю, что играть она и не собиралась. Кажется, никогда не начнет. Опоздавшие усаживаются. Она грозно посматривает на них. Тем не по себе: пожимают плечами, как бы прося извинения за нанесенное искусству бесчестье. Она снова кладет руки на клавиатуру. Трогает клавиши. Меломанка, все это время не дышавшая, улыбается и закрывает глаза.
Спортсменка интерпретирует Рахманинова, а я раздумываю, как бы ухитриться хлебнуть еще рома. Когда произведение достигает какой-никакой кульминации, у меня ненароком падает программка. Наклоняюсь якобы поднять ее, а сам сворачиваюсь между стульями в комок и незаметно для всех отхлебываю ром. Силы возвращаются вместе с интересом к музыке. Она молотит по фортепьяно. Теперь понимаю, для чего нужны устойчивые стулья. Действительно, трех точек опоры – мало. Ей бы нужна была плоскость минимум на шести точках. Рахманинов страдает. Спортсменка негодует. Я веселюсь. Не жалею, что пришел сюда. Меломанка уже морщится. Ей что-то не нравится. Мне нравится все. Мне абсолютно все нравится!
Овации. Спортсменка, оскорбленная неподготовленным инвентарем, даже не кланяется. Я еще не понял что к чему, а ее уже нет.
– Никакая, – морщится меломанка и надеется услышать то же самое от меня.
Я доволен, я в эйфории. Продолжаю аплодировать. Громко. Может, даже слишком громко. Да, слишком громко. Выпиваю на глазах у всех ром. Сдерживаюсь, чтобы не закричать «Браво!». Я самый пьяный на этом концерте, хотя и у других голова идет кругом. Мне бы их опьянение…
В антракте все разминают свои седалища. Кажется, все только того и ждали, только ради этого и пришли, чтобы можно было подвигаться. Слушатели качают бедрами, скрипят стульями, так как знают, что потом уже будет нельзя. Поддавшись массовому психозу, и я немного двигаюсь. К сожалению, мой стул не скрипит. Пересаживаюсь на другой. Он годится.
Пока в зале шелестят, скрипят, чихают, кашляют, крякают, входит она – Токадо. Все смолкают. Она едва видна – чуть больше метра ростом. В глазах меломанки слезы от радости встречи. Она вся дрожит. Не отличающаяся особой красотой, Токадо садится к фортепьяно. Глазом не успел моргнуть, а она уже играет. Невероятная скорость. Толком не сосредоточился, а она уже дошла до половины. Один миг – и кончит. Поспешно бросаю на пол программку, чтобы успеть выпить рома. Еле успеваю. Успокаиваюсь. Это была только первая часть. У меня еще есть немного времени.
Пока звучит музыка, в голову лезут всякие непристойные мысли. Не могу от них отделаться. Токадо так вжилась в игру, что кажется, ее груди сейчас упадут на клавиатуру. А там еще их и крышкой прихлопнет. Страшно. Прихлопнет, и брызнет молоко, зальет клавиатуру. Оно будет течь, течь и затопит весь зал…
Рядом со мной какое-то движение. Боюсь повернуть голову, однако чувствую, что инцидент произошел там, где сидит меломанка. Краешком глаза вижу, что она сидит на полу. Платье задралось, рука вывернута, колено расцарапано, лицо посинело, язык высунут. Делаю вид, что глубоко погрузился в искусство Токадо и ничего вокруг не замечаю. Другие ведут себя так же. Токадо играет вторую часть, словно ничего не случилось. Не выдерживают двое юношей. Они пробираются мимо стульев, пытаются привести меломанку в чувство, но тщетно. Токадо, кажется, прикончила ее своей музыкой. Юноши начинают поднимать меломанку, однако она, впитавшая музыку всего мира, так тяжела, что снова падает. Голова стукается об пол. Токадо сосредоточена. Мне кажется, она играла бы, даже если бы рядом с ней разорвалась атомная бомба. Юношам по-прежнему не удается поднять меломанку. Кто-то постукивает меня по плечу. Робко. Я продолжаю делать вид, что тону в музыке Брамса, без которой этот мир мне был бы не мил. Снова постукивают. Приходится обернуться. Даже вздрагиваю, словно я разбужен как раз в тот момент, когда мне снился приятный сон. Юноши просят моей помощи. Отвертеться не удастся. Поднимаюсь и помогаю поднять меломанку. Она неестественно тяжелая. Мне достаются ноги. Один берет за туловище, другой за подмышки. Токадовский Брамс все не кончается. Никто его не слушает. Все смотрят, как мы тащим из зала меломанку. Токадо демонстрирует атлантово самообладание. Ей нет дела до того, что люди, услышав ее интерпретацию, умирают, падают в эпилептических припадках и лишаются чувств. В эту минуту я жалею, что европейцы познакомили азиатов с классической музыкой.
Укладываем меломанку на скамеечку при выходе из зала. Один юноша бежит за врачом, а другой якобы незаметно снова проскальзывает в зал. Я тоже хотел бы удрать, однако мне велено ее стеречь. Меломанка начинает двигаться – жива. Самое главное, что жива. Не так уж и сильна эта музыка Токадо. Достаточно выйти из зала, и умершие воскресают. Ей еще нужно много чему учиться. Похлопываю меломанку по щекам. Не знаю, в чем смысл этого действия, однако не раз видел, что так делали другие. Она что-то бормочет. Ее замечания по поводу испытанных чувств меня не интересуют. Снова пошлепываю ее. Открывает глаза. Дежурная приносит стакан воды. Брызгаю на нее, как на рубашку, которую гладят. Она пытается подняться, однако по-прежнему ничего не понимает. Хочу ее остановить. Не слушает. Уже стоит. Объясняю, что надо сесть. Не слышит.
– Она там? – спрашивает и показывает в зал.
– Там, – подтверждаю я.
Не успеваю сообразить, как она уже снова внутри, в зале. Не следую за ней. Стою, словно колом по голове хватили. Скрытое величие музыки.
– Где больная? – спрашивает меня юноша, рядом стоит неизвестно откуда приведенный доктор, а может и знахарь.
– Она внутри, – отвечаю таким тоном, словно совершил преступление и нарушил клятву Гиппократа.
– Как?! – Оба не могут поверить.
– Вот так, – говорю и поворачиваюсь к выходу.
На величественном лестничном марше останавливаюсь и снова прихлебываю рома, которого осталось во фляжке совсем немного.
Эта меломанка мне испортила весь концерт. Злюсь, что сейчас она слушает Брамса в бессмертной интерпретации Токадо, а я стою на улице Оперы и опять не знаю, куда направиться. Пойду в Пале-Рояль.
Во дворе дворца давка. Баритон, обернувший шею белым шелковым шарфиком, поет песни Форе. Ведущий успел испугать публику, заполонившую весь двор: он сказал, что, если подует ветерок, баритон петь не будет, потому что очень уж бережет свой неповторимый голос. Эти слова вызвали волнение и недовольство. Однако ветерок не подул, и баритон поет. Его голос очень напоминает тенор. Теперь понимаю, почему он наряжается в шелковые шарфики. Наверное, в них и спит, и любовью занимается, и на рыбалку ездит.
Успех у баритона гигантский. Публика не хочет его отпускать. Ведущий напоминает, что концерт транслирует французское радио, поэтому нужно дать и другим проявить себя.
Проявить себя выходит дуэт близнецов-пианистов. Опоздавший к баритону ветер развевает их накидки, выкрашенные в цвет женского нижнего белья. Терпеливо слушают, однако не могут забыть баритона, заворожившего всех белыми шелками.
Мимо меня проходит писатель-эксгибиционист. Его мне представил Даниэль. Он старый и в плаще. Жду не дождусь, когда он распахнет плащ и покажет всем почитателям музыки, что под ним таит. Увы, увы. Писатель направляется поближе к эстраде. Он, наверное, туговат на ухо, а может, и плохо видит. Известно, что плохо. Поэтому и показывает в свободную минуту свой половой арсенал зорким ученицам, еще не знающим, что такое расстройство зрения. Провожаю писателя глазами и понимаю: время убираться, если я не хочу лишиться сегодня дара слуха, бесплатно преподнесенного Всевышним.
Глубокая ночь. Метро уже не работает. Приходится идти на улицу Кастаньяри пешком через весь город. Город ходит ходуном. Улицы запружены народом. Автомобили пытаются ехать вежливо, однако всем насрать на их вежливость. Молодежь не знает, как проявить себя, и поэтому автомобили переворачивает – праздник музыки, ничего не поделаешь. Запуганные водители не выпрыгивают, не призывают к порядку, не посылают крепкое словцо вслед буянам. Я бы с радостью к ним присоединился. Автомобили и мне действуют на нервы. Увы. Я ужасно устал. Мечтаю как можно быстрее добраться домой. Чего с меня в этот момент достаточно, так это музыки. Ею я перенасыщен.
Музыка, если можно так ее назвать, звучит на каждом шагу. Все порядком пьяны. Они догоняют и обгоняют меня. По сравнению с ними я абстинент. Последнюю капельку рома выпил, переходя улицу Сен-Жермен. Из Всемирного арабского института доносятся восточные аккорды. Нет сил идти туда. С арабами с удовольствием поцеловался бы.
Когда ступаю на Монпарнас, часы возвещают, что уже третий час ночи. Повеселившимся время блевать. Они и блюют. Музыки меньше и меньше, а блюющие размножаются в геометрической прогрессии. Блюют все: помладше, постарше, женщины, старики, подростки, лесбиянки, математики, продавцы овощей. Подумываю, не поблевать ли и мне где-нибудь. Нет, ладно. Дотерплю до дома. Они блюют и трахаются. Там, где блюют, там и трахаются. Оргия, достойная времен Римской империи. Весь город залит блевотиной и спермой. Страсть не ищет закоулков и темноты. Трахаются тут же, на улице под фонарем, напротив фонаря, в скверах, у входа в дом. Праздник продолжается. Меня предупредили, что после этой ночи забеременеет не одна француженка. Хорошо знать, что Божий наказ размножаться выполняется. Хорошо быть свидетелем осуществления Божьих планов. Хорошо.
Сатурн пожирает своего ребенка; Зевс оплодотворяет Данаю; Гермес захватывает коров Аполлона; Ахилл мирится с Агамемноном; Телемах возвращается на Итаку; Гад похищает Персефону; бог Солнца отдыхает, чтобы на следующий день снова взять невинных на небо…
Вечерний визит к Джиму. Его гостеприимство безгранично, поэтому идем к нему втроем. Даниэль со мной, а Сесиль должна ждать на автобусной остановке. Да, она уже ждет – непривычная пунктуальность. В этот вечер я гид, пообещавший показать парижанам ту городскую среду, о которой они и не слыхивали. Довольно скептически выслушав мое предложение, они все-таки согласились и теперь, хоть и морщась, идут за мной в дом гуру секса.
На улице Алезья нас обгоняет поэт. Он такой озабоченный, что даже не узнает меня, хотя в прошлом году мы не один вечер провели вместе. Он и поэт, и безумец, умеющий прекрасно это сочетать. Уже два года живет в Париже, хотя до того в Нью-Йорке ни в чем недостатка не испытывал – занимал высокие места на чемпионатах Америки по роликам. Сегодня он без своих роликов, которые (мне довелось видеть) ласкал так же любовно, как и женщин. Он летит к Джиму, потому что вечером тоже хочет поесть. Не окликаю его: если уж год без него обходился, то и дальше скучать не буду.
Вижу, что у ворот Джима толпа топчется. Они не знают кода. Мой авторитет растет, когда я нажимаю нужные кнопки и железные ворота открываются. Вваливаемся все.
Во внутреннем дворе уже есть несколько человек. Они робко подпирают стены, большинство здесь впервые. Своих спутников я приглашаю в дом. У накрытого стола с едой нам улыбается японка.
– О, привет! – кричит из туалета Джим. – Познакомьтесь, это Эркю, – говорит он немногочисленным собравшимся, не очень понимающим, зачем они сюда пришли и что здесь будет происходить дальше.
– Это мои друзья, – я пытаюсь представить хозяину Даниэля и Сесиль.
– Хорошо, хорошо, идите, поболтайте, – небрежно бросает Джим и снова исчезает за дверью туалета.
Поотиравшись немного внутри, мы выходим в открытый коридор, в котором, я знаю, немало вина и пива.
Сесиль взволнована. Даниэль ко всему равнодушен. Наливаю себе вина и им капельку. Смотрю, как во двор входят все новые и новые гости, они узнали об этой вечеринке из газет, поэтому немного напуганы.
Стоим на балконе и попиваем вино. Наблюдаю за приходящими. Некоторые глупо улыбаются, другие здороваются, третьи прикидываются миллиардерами, четвертые – дебилами, пятые – служителями духа. Они плывут, чтобы провести вечер. Приходят и мои старые знакомые. Чернокожий писатель Тед. Он меня не помнит. Не удивляюсь, так как я успешно его демаскировал. Джим писал в письмах, что приютил старенького писателя-инвалида. Когда я увидел этого инвалида вместе с двадцатилетней фотомоделью, то сообразил, что это тот самый человек, и, подойдя к нему, поинтересовался, каким чудесным образом он излечился. Тед был недоволен. Понял намек. Беловолосая белокожая красавица и сейчас с ним. Она прямо-таки прилипла к «инвалиду», которого не заподозришь в том, что когда-то его парализовало. Взявшись за ручки, они проходят внутрь. Тед шагает мимо меня как мимо столба, хотя в прошлом году на открытии выставки на улице Георга V четыре часа мучил меня рассуждениями о неумолимо меняющемся мире. Его самка в этом году красивее, чем в прошлом. Излучает сексуальность.Ее достаточно и у Теда, хотя свободная жизнь и украсила его седыми прядями. Видно, что они счастливы. Такому счастью позавидовал бы не один пенсионер.
– Есть ли на этом вечере интересные люди? – произносит рядом полька, когда-то открывшая мне, что живет по нелегальным документам, изготовленным польской мафией в Венгрии.
Эта полька тогда представилась писательницей. Я был абсолютно бестактен: осмелился спросить, что она написала. Вопрос действительно безобразный. Она что-то пробормотала и исчезла. И теперь тоже меня не помнит, хотя недружелюбный взгляд выдает, что склерозом пока не страдает. Она жаждет интересных людей. Что ж, можно будет ее порадовать, представившись клерком Миграционного совета. Должна обрадоваться.
– Сальве, – говорю, когда она пытается незаметно проскользнуть мимо. – Как дела? По-прежнему пишешь?
Такой наглости пилигримша от польской культуры не ожидала. Она застывает на месте.
– Да, да, – бросает она и стрелой влетает в дом, успевает только голову в плечи втянуть.
– У тебя здесь друзья, – заключает Даниэль.
– Да. Все здесь очень милые.
– А говорят, что люди отдалились друг от друга, – влезает Сесиль, пьющая третий бокал вина. Меткость ее замечания меня забавляет.
Поток не кончается. Все новые и новые персонажи двигаются мимо нас. Я уже успел пропустить несколько бокалов, поэтому чувствую себя свободнее. Даниэль тоже старается расслабиться. Он не очень ловко себя чувствует, когда калифорниец хлопает его по плечу, а потом по щеке.
– Дурак какой-то, – решает он, сбежав и не оценив прелести нового знакомства. – Дурак, и все, – повторяет еще раз, как будто я не услышал его замечания.
Еще в прошлом году вся эта плеяда казалась мне очаровательной. В этом году испытываю к ним сочувствие. Особенно к тем, кто называет себя постоянными посетителями. Джиму на всех на них наплевать. Ему важно, что они платят деньги за возможность побыть вместе и поделиться бреднями. Это совершенно очевидно, хотя Джим никогда публично не признается. Никто и не будет требовать от него объяснений. Он достаточно умен, умеет жить в эпоху постмодернизма.
С Сесиль завел беседу какой-то старичок, Даниэль нашел общий язык со страстным компьютерщиком, так что я пока иду закусить.
– Как тебя зовут? – спрашиваю японку, раздающую еду.
– Йоко, – смущенно признается малютка, которая, прихожу я к выводу, не такая уж чужая у Джима в доме.
– А ты скажи ему, что выучила, – провоцирует оказавшийся рядом Петер.
– Ich liebe dich [2] , – с трудом выговаривает она и накладывает мне на тарелку еду.
– Еще скажи, – не отстает от нее Петер.
– Ich will bumsen [3] , – улыбается малютка.
Это меня забавляет. Петер подмигивает мне. Йоко, олицетворенная невинность, по-прежнему улыбается мне.
– Ты?! – якобы изумленно спрашивает Петер.
Йоко кивает, однако нашу интеллектуальную перестрелку прерывает разряженная дама, и не заметить ее нельзя, так как хочет она вон то блюдо, однако без салата, а подливы чуть побольше. Йоко принимается за свою работу.
Снова оказываюсь во дворе. Заставляю себя есть, вино пью без принуждения. Оно простое и дешевое, однако и собравшиеся не лучше. Ко мне подходит Тед и пялится.
– Что скажешь? – спрашиваю его и тоже вперяю в него взгляд.
Он смотрит на меня, как теленок, и не может заговорить. Обалдевает. Не выдерживает.
– Мы с вами не встречались? – осведомляется осторожно.
– Возможно, встречались.
– Встречались… – удивленно тянет он.
– В прошлом году. У Джима.
– Так я и думал, – хлопает он себя рукой по лбу. – Так я и думал. Смотрю – знакомое лицо. Конечно, у Джима. У Джима.
И уходит своей дорогой. Не отпускает мысль: вот опять мне удалось разумно побеседовать, славно пообщаться. Запиваю эту мысль вином.
Собравшихся около ста. Курящих – меньше половины. Большинство американцы. Атмосфера накаляется. Теперь можно начинать действовать. Это знают постоянные посетители – ищут связей, возможностей, перспектив. Полька снует от одного к другому, ищет интересных людей. В прошлом году я месяц наблюдал, как она искала, но так и не нашла. Она все мечется, наверное, надеется, что найдется тот, кто за нее напишет книгу. Пока она крадется от одной группы к другой, не упускаю случая ее подразнить.
– Как приятно тебя видеть! – говорю я, не давая ей пройти в дом. – Как приятно! Как здорово! Мы так давно не виделись.
Мне приходит в голову, что в этот момент она отреклась бы от Люблинской унии, Вильнюсского края и Мицкевича, только бы не пришлось сталкиваться со мной. Ей действительно досадно, что довелось встретиться со мной в этом мире. А мне нет, мне все равно. Она стоит, загнанная в угол, и вынуждена радоваться, что спустя год мы опять встретились.
– Приятно… – интонация недвусмысленно дает понять, что я для нее – человек неинтересный.
– Как твой поддельный паспорт? – не оставляю ее в покое.
– Какой паспорт? – переспрашивает она, выпучив глаза.
– Джим сказал, что должен завернуть Мик Джаггер. У него сегодня вечером концерт в Париже.
– Когда?! – она страстно цепляется за крючок.
– После концерта. Часов в одиннадцать.
– Как хорошо, он мне так нужен. Пойду поговорю с Джимом. Извини…
Я ее пропускаю. С удовольствием понаблюдаю, как вечером она будет прятаться от меня, словно зверек от огня, как будет ждать появления Мика Джаггера, уже час назад отбывшего из Франции.
– Слушай, – бросается ко мне испуганный Даниэль, – у них у всех винтиков не хватает!
– Что случилось? Успокойся.
– Вон тот, тот, который стоит сейчас у стены, – он показывает на типа, приставшего к даме, которая не любит салат. – Когда я сказал, что я профессор университета, он бросился умолять, чтобы я походатайствовал и помог ему открыть какую-то лабораторию. Но это же абсурд! Я – лингвист. А он не отстает, начал рассказывать про какие-то исследования с грибами. Ужас! Еле сбежал. Он оставил мне свою карточку.
– А ты свою дал?
– Некуда было деваться.
– Теперь наверняка не отстанет. Готовься, Даниэль, придется открыть в Лилле лабораторию, которая будет исследовать какие-то грибы.
– Но это же абсурд! Почему я? Настоящий маразм. Он дурак!
Пытаюсь объяснить, что в этом и заключается смысл игры, что просто необходимо, чтобы один мучил другого. Если сам не прицепишься, тут же придется защищаться от других, от тех, кто более совершенно владеет искусством такого общения.
– Теперь иди и спроси его, – советую я напуганному другу, – не купит ли у тебя тот тип пять слитков золота по двадцать килограммов, извлеченных с затонувшей в Тихом океане русской подводной лодки. Предупреди, что эта сделка чистая. Никакого криминала. Успокой его.
– Эркю, это же еще больший абсурд. У меня нет никакого золота.
– Его и не надо иметь. Ты обязан ему отплатить.
Даниэль идет. Пью вино и курю. Не могу налюбоваться на жестикулирующего Даниэля: он вошел в образ, показывает величину слитков и горячо что-то объясняет, в то время как лицо основателя лаборатории все хмурится и хмурится. Та, которая не любит салат, стоит, совершенно очарованная и исполненная уважения к молодому богачу. Исследователь грибов начинает пятиться. Даниэль почувствовал вкус к игре. Не выпускает его из своих тисков. Правильно. Его надо прикончить.
Ко мне подбегает сияющая Сесиль. Она познакомилась с каким-то Нойхаузом, который пригласил ее завтра в гости. Нойхауз – семидесятилетний старик, уже успевший рассказать мне, что нашел новое направление в искусстве, о котором писал не один американский художественный журнал. Пытался показать и репродукции своих работ, однако я успел улизнуть, поскольку он не вовремя проговорился, что не возражал бы, если бы я пригласил его в Литву, где он за определенную плату готов показать свои эскизы семидесятых – восьмидесятых годов. Я понимаю: плохи дела у этого открывателя нового направления, если он хватается за соломинку – маргинальную Литву. Несообразительной Сесиль ничего не говорю. Пусть радуется, пусть празднует.
Джим управляет всеми. Стоит на балконе, как капитан «Титаника», и командует, кому с кем надо побеседовать, кому с кем обязательно познакомиться. Три четверти гостей он сам не знает. Да ему и не надо знать: у него феноменальная память на имена, поэтому свести людей в группу ему ничего не стоит.
– Познакомьтесь с Лео, – кричит он стоящим во дворе. – Да-да, тот, который там один у дерева. Он только вчера вернулся из Боснии, где фотографировал все эти ужасы. Идите к нему. Поговорите.
Несколько самых смелых направляются к Лео. Знакомятся. Лео уже не одинок.
– Эркю! – Джим хочет впутать и меня, однако я делаю вид, что не слышу, проскальзываю в коридор и начинаю наливать из бачка вино в свой бокал. Кто-то толкает меня в спину. Не выпускаю бокала. Когда он наполняется доверху, поворачиваюсь – женщина.
– Откуда ты? – спрашиваю я фамильярно.
– Из Берлина.
– О, я был в Берлине! – объявляю я радостно, переняв их стиль общения. – Замечательно! Из Берлина!
Говорю так, словно для меня огромное счастье встретить человека из Берлина. Стиль подходит. Я показал заинтересованность, теперь ее очередь обратить на меня внимание.
– А ты откуда? – спрашивает она.
– Из Вильнюса.
– О!.. Я не знаю, где это. – Смеется.
Это сообщение меня не удивляет. Я сыт, пьян, поэтому в хорошем настроении. Санкций к берлинке не применяю. Объясняю географию, напоминаю о Данциге, Кенигсберге, Канте и холокосте. Она смеется, издает радостные восклицания. Нам обоим весело.
– Чем ты занимаешься?! – продолжаю разговор.
– Пишу книги для детей.
– Замечательно!
– А ты?
– Ничем.
– Замечательно! – Теперь уже она не нарадуется на меня.
Чокаемся бокалами вина. Она мила – хотя и некрасива. Это я понимаю.
Подкрадывается Петер, подстерегавший в засаде. Я его понимаю, поэтому не сержусь, когда он уводит ее и тащит по лестнице в свое логово. Она смеется. Довольна. Еще не подозревает, что ее ждет наверху. А если и подозревает – ничего страшного: она из Берлина.
Джим хватает меня и представляет какому-то очкастому, якобы интересующемуся странами Балтии. От этого удрать не так легко, однако я извиняюсь и иду в туалет. Эта хитрость всегда действует. Любопытный собеседник остается меня ждать. Я не настроен рассказывать ему о барокко.
– Ты не мог бы взять вторую порцию еды? – по-литовски обращается ко мне какой-то субъект.
– Здесь, сейчас?!
– Я без приглашения. Джим не дает мне вторую порцию, а так есть хочется после этого вина. Может, сходишь, возьмешь, земляки же?..
– Сам иди и бери, – говорю, однако он не отстает.
– В прошлый раз, когда я взял, Джим меня выгнал. Боюсь, что опять так будет, потому что я не приглашен. Тебе же нетрудно взять. Я вижу, что он твой друг. Возьми порцию. После этого вина…
Посылаю земляка к черту. Он чувствует себя оскорбленным. Бросает мне, что в жизни не встречал столь недружеского отношения, апеллирует к моим национальным чувствам.
– Я татарин, так что можешь обосраться, – говорю и выхожу во двор.
Спиной чувствую, как он пронзает меня ненавидящим взглядом. Этого еще не хватало, носить корм зомби. Тем более неизвестным, неприглашенным и только потому, что они говорят по-литовски. Меня это бесит.
Во дворе стоим вчетвером. Даниэль опьянел. Фотограф Йоханн, из Гамбурга, но с резиденцией в Париже, трезв и горд. Беловолосая Зильке из Мюнхена весела. Я едва стою на ногах, поэтому весьма разговорчив.
– Так ты говоришь, Зильке, что твои родители из Восточной Пруссии, – обращаюсь я к красавице-историку, которая двадцать лет назад могла бы сделать замечательную карьеру в порнографических фильмах.
Она улыбается. Даниэль терпеливо слушает. Йоханн злится, так как подозревает, что я хочу отбить его девушку. Он уже готов идти домой, однако Зильке нравится болтать со мной. Может быть, она впервые в жизни видит пьяного человека. Любопытство – неисправимый порок. Она бы мне и с пороками понравилась, потому что она замечательная. Замечательнее спутницы Теда. Самая замечательная из всех, здесь присутствующих. Я, хоть и пьян, не ошибаюсь, и мои глаза не лгут.
– Нам нужно встретиться, – говорю ей. – Завтра.
– Нет, завтра я не могу, – разочаровывает она меня. – Завтра ко мне приезжает брат.
– Брат?! – встревает недовольный Йоханн. – У тебя есть брат?! Почему я о нем не знаю?!
– Ты много чего не знаешь. Тебе и не нужно знать. Я тоже о тебе ничего не знаю. И знать не хочу. Послезавтра. Послезавтра мне позвони.
Она пишет свой номер телефона, адрес, а Йоханн, если бы можно было, меня сейчас убил бы. Он видит, что его жизнь рушится, – сам хвалился мне, что завтра после обеда уезжает в Африку: получил, видишь ли, заказ сделать несколько фотографий обезьян. Даниэль доволен. Он гордится, что у него такой активный друг. Чтобы к Йоханну вернулся дар речи, говорю ему:
– Ты тоже напиши свой номер телефона. Я тебе позвоню. Когда вернешься из Африки.
Он пишет. Зильке помирает со смеху. Становится серьезной.
– Иду, – говорит она. – Пока.
– Я тебя провожу, – пытается опередить события двухметровый Йоханн. – Нам по пути.
– Веселись. До послезавтра, – и подставляет мне щечку.
– Позвоню тебе завтра, – обещаю я, целуя четыре раза.
– Тебе она нравится? – спрашиваю Даниэля, когда разлученная пара оказывается за воротами студии Джима.
– Да вроде ничего, – как бы сомневаясь, отвечает тот.
– Я тебе ее оставлю, – обещаю я, с трудом выговаривая слова, и иду в туалет помыться: чувствую себя проделавшим большую и тяжелую работу.
Шатаюсь, однако мимо Джима прохожу, держась прямо, хоть и непривычно сосредоточившись. Вода из бачка в туалете меня чудесным образом возвращает к жизни. Чувствую, как снова обретаю силы. Вижу, что Нойхауз не собирается отпускать Сесиль. Открыватель нового направления в искусстве терзает ее, как послушную овечку.
– Я хотел бы с тобой поговорить, – обращается ко мне какой-то бородач. – Джим посоветовал. У меня есть идеи.
– Замечательно! – улыбаюсь я. – Можно налить вина и поговорить – если только удастся.
Идем с новым знакомым, словно два братишки, за вином. Бак уже пуст. Пуст и второй. Переворачиваю его. Полбокала бородачу. Переворачиваю первый – мне бокал. Какие-то американцы пытаются протиснуться мимо нас.
– Ну нет… Очень жаль, – говорю, – вино уже кончилось.
– Нам сока, – признаются они смущенно.
Бородач представляется композитором. Небрежно бросаю, что тоже пишу музыку. Коллег найти нетрудно.
– Я из Вроцлава, но сейчас живу в Голливуде и пишу музыку к фильмам, – рассказывает он мне.
– Так ты не авангардист, – наношу я удар, хотя у него проблемы с чувством юмора.
Признаю, что чувство юмора у пьяного человека специфическое, однако деваться некуда, поэтому нападаю снова:
– Не авангардист ты.
– Я в Польше писал авангардистскую музыку, однако…
–.. сейчас пишешь, – перебиваю я, – к голливудским фильмам. Это очень хорошо. Тогда ты концептуалист.
– Почему?
– Потому что ты достиг высшей стадии концептуализма и продался Голливуду. Это лучшее, что может произойти с авангардистом. Продаться Голливуду… Боже, это замечательно!
– Я хотел тебя спросить: можно делать записи в Литве?
– О Боже, – ударяю я его по плечу, – ты встретил как раз того, кто этим интересуется! Могу сделать миллион записей. Когда тебе надо? – спрашиваю, как бы посерьезнев.
– Тебе можно позвонить?
– Звони когда хочешь.
Обмениваемся парижскими номерами телефонов, а я уже вижу себя разглагольствующим и обещающим записи симфонических оркестров по минимальной цене. Он доволен, что так быстро уладил дело. Я тоже.
Джим делает знаки, что засидевшимся пора убираться к черту. Даниэль меня просит (ясное дело, сейчас он уже пьяный) сказать Джиму, что он полиглот. Без особых усилий выполняю это желание, чем немного удивляю абстинента-хозяина. Джим знакомится с полиглотом, и я вижу, что это знакомство его не радует. Ему сейчас важно, чтобы все как можно скорее убрались.
Оглядевшись, обнаруживаю только Сесиль с Нойхаузом, Даниэля, бьющего кулаком в грудь Джима, и еще нескольких типов. Пора домой. Кое-как вырываю любовь саксофониста из клещей Нойхауза. Даниэль хочет еще побыть с хозяином, а тот, увидев вблизи Сесиль, не может устоять перед такими чарами: похлопывает по ее грудям. Из логова Петера спускается загостившаяся берлинка. Направляемся к выходу. Вчетвером.
Когда живительный воздух ударяет мне в голову сильнее алкоголя, я задерживаю у ворот детскую писательницу и шепчу ей в ухо:
– Ты знаешь, что ты замечательная? Если бы ты знала, какая ты замечательная! Если бы ты знала… Какая замечательная… Замечательная… Самая замечательная. Уже давно не видел такой красоты. Если бы ты знала, какая ты замечательная…
Плохо себя чувствую, поэтому сегодня лежу. Уставился на «Распятого» Грюневальда и думаю о тех, кто в моей жизни что-то значат, и о тех, кто представляют собой абсолютные нули. Нулей больше. Те, кто для меня важны, уже умерли. Парадоксально, однако с ними я провожу больше времени, чем с живыми. Ни в одном не разочаровался. Они каким-то удивительным образом умеют общаться со мной, знают, когда уступить, когда подбросить свое мнение, взгляды, правила поведения. Им я доверяю. Доверяю больше, чем живым, не упускающим случая устроить какое-нибудь свинство или подлость (как и я им). Теперь думаю о них. Стараюсь воскресить, эксгумировать из могил моей памяти, где они, пролежав много лет, спокойно отдыхали, потеряв надежду, что когда-нибудь будут воскрешены.
Думаю об Н., с которым изо дня в день встречался почти десять лет. Он был небольшого роста, крепкого здоровья и ужасно злобный. Свою злобу выливал на всех, особенно на старших. Никогда не упускал случая посмеяться над более слабым. Бросал якобы остроты, которых никто, за исключением меня, не понимал. Поэтому я каждый раз должен был объяснять их, комментировать, чтобы люди поняли хоть малую толику из того, что он хотел сказать. Меня это утомляло и нервировало, однако он был моим другом. Я терпел, а он воображал себя ужасно умным, наблюдательным, хотя, столкнувшись с более мощной силой или интеллектом, капитулировал и плакал от злости, что ничего не может сделать. Плакал истерически. Очень редко, но плакал. Никто его в этих случаях не жалел. Не жалел и я, хотя тогда он был моим лучшим другом. Странное было время. Странное и наивное, потому что считалось делом чести иметь лучшего друга. Это ненормально. Ужасно и аномально. Когда сейчас вспоминаю этот период своей жизни, меня трясет от ужаса и отвращения, так как все это было лишь иллюзией и ложью. Ничего больше не помню. Помню, что он каждый день обедал у меня и насмехался над матерью. Помню, что посиживали с ним в кафе. Помню, что тайком попивали и покуривали. Вот и все. Мне казалось, что я знаю его как облупленного. Знал, что он скажет в ответ на произнесенную мной фразу. Угадывал, как поведет себя после того или другого события. Казалось, что я все знаю о нем, а он – обо мне. Однажды даже доверил мне тайну: он нашел повесившуюся женщину. Правда, у него был брат, которого я никогда не видел. По младшему брату я не скучал, поэтому не слишком углублялся в то, кто он такой, откуда, что и как. Друг упоминал, что его брат учится в школе-интернате. Мне этого хватило. Мы были друзья, поэтому посторонние нас не волновали. Мы часами гуляли по городу. Тогда мне казалось, что разговариваем. Сейчас понимаю, что никакого разговора между нами не происходило. Даже не могу точно описать, что это было. Только неясные фразы, обрывки, которым нет названия. Однако в то время это казалось нормальным. Так было принято. Если кто-нибудь попытался бы отнять у меня ту дружбу, я бы чувствовал себя самым обиженным в этом мире. Даже странно сейчас, лежа на улице Кастаньяри, признать, что больше ничего не помню. Не знаю, я ли стер его из памяти или память, желая уберечься сама и уберечь меня, стерла все связанные с Н. события. Ничего больше не помню. Мне немного страшновато, что десять лет жизни могут так неожиданно исчезнуть из памяти. Странно. Очень странно. Странно, что один факт, который я узнал уже позже, зачеркнул длиннейший промежуток времени. Позже я узнал, что у него была и младшая сестра. Мы уже не дружили, когда раскрылась тайна: мой друг в шестилетнем возрасте застрелил сестренку из охотничьей винтовки; мать сошла с ума, родила ненормального младенца и повесилась. Целых десять лет я дружил с убийцей и не представлял себе, что может быть по-другому. Странно. Мрак.
Хочу изгнать этот факт из головы. Пытаюсь представить его незначительным, но мне это не удается. Как не удается найти и более впечатляющее событие, которое могло бы заглушить кошмар раскрытой тайны. Когда я об этом думаю, даже вонь улицы Кастаньяри кажется приятнейшим ароматом. Не могу преодолеть себя. Не могу. Жалею, что воскресил этот факт из могилы. Ужасно жалею.
Мать А. подстерегала меня в городе, припирала к стене и без стеснения говорила, что я больше всех подхожу ее дочери, так как нравлюсь ей. Мне не нравились ни дочь, ни мать. Мне никто в то время не нравился, мало кто нравится и сейчас. Однако давление было таким сильным, что на вечеринках я вспоминал данное ее матери слово и приглашал А. танцевать. Меня она ничуть не интересовала. Танцевал, только чтобы ей не так одиноко было сидеть рядом с теми, кто веселится. Она никому не нравилась. Хотя, как я вспоминаю теперь, для этого не существовало серьезных причин – она была довольно красива, разумна, все было при ней и ничего не было слишком много. Однако почему-то она никому не нравилась. Более того, большинство ее не терпело и каждую ее неудачу воспринимало как свою победу. Может быть, это было невыразимым метафизическим предчувствием? Не знаю ответа. Скорее всего, да, метафизическое предчувствие, хотя я ему и противился. Я был равнодушен к девушке, пусть мы временами и танцевали. Правда, когда я обнимал ее, ее начинали бить судороги, и это меня немного пугало. Она дергалась, билась, трепетала всем телом до окончания танца, пока я не отпускал ее. Кто танцевал с ней хоть раз, испытал то же самое. Это было неприятно. Да, очень неприятно. Такой ее трепет мы объясняли гиперсексуальностью, унаследованной, возможно, от бабушки или матери. Мы не углублялись. Вспоминаю, что, протанцевав с ней, я с облегчением переводил дух. Даже выпивал пару рюмок, хотя в те времена мы веселились умеренно – за вечер бутылка водки на одного. Она садилась, и никто больше с ней не связывался. Эта история повторялась каждый выходной, когда мы веселились в предместье. Никого она не волновала. Такое всеобщее равнодушие даже поощрялось, а тех, кто подольше с ней говорил или сам обращался с разговором, за глаза осуждали, их никто не понимал. Меня, правда, это не заботило. Потом я ее много лет не видел. Еще позже узнал, что умерла ее мать, на которую, кстати, она была очень похожа. Помню, однажды встретил ее в городе. Мы поздоровались, однако поболтать не остановились. Просто разошлись, так как прошло много лет, говорить было не о чем, а в том, чтобы переброситься несколькими вежливыми фразами, я не видел смысла. После этого у нее умер отец. Я ее совсем забыл. С другой стороны, забыть было нетрудно, так как в моей жизни она ничего не значила. А если значила, так только то, что иногда приглашал ее потанцевать. Не знаю, много ли это. Мне кажется, совсем ничего. Ей казалось несколько иначе. Я это понял, узнав, что она (я не видел ее пять лет) позвонила моей маме и призналась, что убила моего отца. Конечно, лгала. Позвонила ночью и выплеснула эту якобы правду. Это было только начало. По ночам она стала терроризировать мою мать, старалась выведать, где я живу, жаловалась, что окружающие ее травят, поэтому она ослабела, так как не может ничего есть, и т. д. и т. п. В конце концов звонки прекратились. Воцарился покой. Полгода назад я снова встретил ее в городе. Не узнал. Она меня узнала. Бросилась меня бить, колотить, крича во все горло, что я разрушил ее жизнь, виноват во всем, что с ней произошло, не имею права жить и должен умереть. Не могу сказать, что испугался. Просто было очень неприятно, хоть она и неизлечимо больна.
Трудно угадать, что она может делать в этот момент, когда я убиваю время в Париже и борюсь с вонью и жарой. Может, заперта в больнице, может, гуляет по улицам и цепляется к похожим на меня мужчинам, а может, строит план мести и ждет, когда я вернусь. Даже не знаю, почему я ее вспомнил – никогда не скучал по ней, никогда в ней не нуждался. Опять ничего не знаю.
Дом моего друга Г. (с ним я выпил первую в своей жизни бутылку вина) был завален украденными на кладбище скульптурами. Он жил среди ангелов, святых, Марий, распятых и портрета Ницше, поставленного на книжную полку. Рядом с Марией Мученицей стоял кактус. Об него Г. часто укалывал большой палец, который потом начинал гноиться. Г. всегда вспоминается мне с гноящимся пальцем, перевязанным нечистым бинтом, через который просачивается желтая жидкость. Я не углублялся, что ему нужно было от Марии Мученицы или от кактуса, однако он с мазохистским упрямством не давал ране зажить. Помню только этот его палец, распухший большой палец, с очень странным ногтем. Вся его кисть была какая-то странная – как плавник. Друзья шутили, что в будущем Г. должен стать гениальным ювелиром и рядом с его работами искусство Челлини покажется недоразумением. Однако стать ювелиром он и не помышлял. Хотел быть философом. Портрет Ницше недаром украшал комнату. Однако не стал. Не стал по одной простой причине – не пожелал быть марксистом. Я его прекрасно понимаю. Он поселился в буддистском монастыре в Монголии, однако не пробыл там и пары месяцев – сбежал. Вернувшись в Европу, изменил взгляды и решил стать врачом, так как, по его словам, врач тоже философ, только чуть более полезный обществу. Однако, уже став доктором, Г. тронулся. Когда я встретил его, он каждый день выпивал по литру собственной мочи. Теперь, говорят, пьет уже по два и обещает увеличить дозу. Не знаю, почему его вспомнил. Может быть, только потому, что когда-то он хотел стать философом, что-то уяснить, что-то узнать, что-то раскрыть. Странно, что в этот миг, когда я лежу на Кастаньяри, он подкрепляется мочой и кормит этой жидкостью свой ненасытный интеллект.
Люди, с которыми я когда-то познакомился, бегут в моих мыслях, как нескончаемые кадры киноленты. Все они ужасно далеки и почти нереальны. Кажется, их никогда и не было. А может, это я не могу превратить их в живых? Может, это только моя вина. Одно знаю: я по ним не скучаю. Их могло и не быть. Никто мне не докажет, что без них моя жизнь была бы не такой осмысленной. Никто.
– Что ты думаешь о Сизифе? – прерывает мои размышления Даниэль, вернувшийся из Сорбонны, где должен был встретиться с гением математики, который внушил себе, что у него под мышками растет по фаллосу.
– О Сизифе… Думаю, хорошо, что ему удалось обмануть Танатоса.
– Нигде не готовились роскошные похороны, не приносились жертвы богам подземного царства. Нарушился установленный на земле порядок…
– И нищие совокуплялись с женами бургомистров, сыновья с матерями, братья с братьями…
– Хватит, хватит, – останавливает меня Даниэль. – Не нужно продолжать. Я хотел только разбудить тебя, потому что ты уже целых полдня пролежал в кровати.
– Как оставляешь, так и находишь. Мир вращается, – сыплю я банальностями, которые он терпеть не может. – Как у тебя дела?
– Мне его жалко.
– Почему тебе его жалко? – спрашиваю.
– Мне жалко, а помочь не могу.
– Это все из-за тех фаллосов под мышками?
– Нет, это ерунда. Все студенты над ним смеются, хотя он гений.
По-прежнему не поднимаюсь с кровати, потому что валяться так приятно. Мне кажется, что сейчас я становлюсь греком. Сладкая метаморфоза.
– Он твой друг? – спрашиваю.
– Нет. Ты знаешь, что у меня нет друзей. Нет, есть, но они не в Париже. Я только хочу ему помочь. Хочу, но не могу. Скверное состояние. Я его терпеть не могу. Не люблю такое состояние.
– Так ты убедил его, что эти фаллосы у него под мышками все-таки не растут? А может, растут? Ты проверял?
– Не в том беда, – грустно начинает Даниэль. – Проблема – его мать. Подумай только: профессор, уже за тридцать, а не может, не спросив матери, в кино пойти. Когда мы еще были студентами, пригласили его раз в кафе, хотя никто не хотел с ним связываться. Он, к нашему удивлению, согласился.
– И?
– Что и?! Что и?! Пошел позвонить матери, предупредить, что задержится. Словом, та его не отпустила.
– Почему?
– Не отпустила, потому что уже приготовила обед, потому что он должен был идти домой обедать, да и вообще – нечего ему по кафе гулять. Он был такой грустный, такой подавленный, такой сломленный. Все над ним смеялись.
– Да. Ненормально. Может быть, поэтому у него эти фаллосы и растут под мышками?
Даниэль как никогда серьезен. Самочувствие коллеги его волнует, поэтому я перестаю насмехаться. Хорошо решать чужие проблемы, лежа на кровати.
– Он явно уже болен неврозом. Нет, скорее, всеми его самыми отвратительными формами. – Даниэль продолжает разматывать клубок бед своего коллеги. – Страшно то, что он все понимает. Сегодня, когда встретились, он сказал: «Знаю, что ты не обязан со мной встречаться и разговаривать, однако мы беседуем. Потому что больше мне не с кем». Я ему сочувствую. Сочувствую, однако, черт побери, не знаю, как ему помочь. Не знаю.
Мой друг раздосадован. Он хороший, но, наверное, первый раз в жизни столкнулся с безумием и чувствует себя безоружным.
– Может быть, ему надо убить эту свою мать? – подбрасываю я идею.
– Да ведь он любит ее. Вот что самое страшное. Не может без нее жить. Как и та без него, потому что для нее он – единственный близкий человек на свете. Он не смог бы ничего плохого матери сделать, а та его убивает. Убивает и не понимает этого.
– Вероятно, он и мастурбирует…
– Не знаю, – задумывается Даниэль. – Знаю только, что он не может привести домой девушку, потому что с матерью случился бы приступ ревности. Бедняге некуда деться. Да и вряд ли найдется девушка, которая захотела бы с ним быть. Мой профессор женился, когда ему было около шестидесяти, а ей – под тридцать. Однако он жил с матерью. Бедняжка еле выдержала полгода, хотя любила – он был ее учителем.
– В ненормальном мире живем, – говорю, желая подразнить его и закончить эту нескончаемую тему. – В ненормальном.
– Ты надо всем насмехаешься, – упрекает меня Даниэль. – Так нельзя.
Я хотел бы сказать, что не насмехаюсь. Просто не умею по-другому, так как тоже не знаю, как он мог бы помочь своему коллеге. Я не знаю, как себе помочь. Не знаю, как мог бы помочь тем, кого полчаса назад воскресил из мертвых. Не знаю. Это невыносимо, но, может быть, потому мы и существуем, что не можем им помочь. Может быть, только в этом и состоит наше предназначение здесь. Не знаю. И хватит об этом.Совсем неважно, где сидишь, – в Москве, Варшаве или Париже. Не имеет значения, в каком из этих городов ты заперся, забаррикадировался. Самое важное, что ты плохо проводишь время. Каждый прожитый час, минута, секунда состязаются друг с другом, словно стараясь доказать, что проведены еще глупее, чем предыдущие. Сначала это даже интересно. Со временем все окутывается аурой равнодушия, поэтому не хочется ничего двигать, менять. Все годится. Довольны и безразличны даже террористы, обосновавшиеся в расположенном неподалеку отеле. Несколько дней назад полиция и армия с шумом их окружала, избивала, отстреливала, хватала. Меня это не интересовало, хотя весь мир сейчас просто вопит из-за поднимающейся волны фундаментализма. Западная Европа наложила в штаны, а я даже не удосужился спуститься вниз, да что там спуститься, просто распахнуть окно и выглянуть. Такое событие, такой благодарный сюжет! Самое большее, что могу сделать, это открыть Коран и почерпнуть из него мудрости. Да, это сделать могу, потому что постоянно цитировать, как другие цитируют Священное Писание, порядком надоело. Так что открываю Коран…
Если отвергнете мое учение, утверждает мудрость этой книги, не требую от вас никакой награды, надеюсь на нее только от неба… Я выбрал тебя среди других, слушай, что скажу… Прокляты те города, которые я уничтожил, их жители уже не воскреснут… Евреи и христиане различаются своей верой, однако все вернутся ко мне… Ты умрешь, и они все умрут… О, праведные! Если вы поможете Богу в войне со злом, он тоже вам поможет и укрепит ваши труды… Даровал тебе священную победу… Читай Коран тем, кто боится моих угроз…
Читаю Коран, изменяющий мою группу крови. Магомет женится на богатой вдове. Меня не интересуют выводы, обобщения и возвышенные ситуации. К сожалению, жара по-прежнему невыносима. Стены красны. Тараканы ошалели. Паштет из гусиной печенки протух. Я не виноват, что такой, какой есть. Это их можно обвинять. Их нужно упрекать. Это они нагрешили: Де Сад и Гессе, Набоков и Бретон, Казанова и Гойя, Мазох и Миллер, дадаисты и сюрреалисты, Грасс и революционеры. Они виноваты в моем нынешнем состоянии. Они, выстроившиеся в моем сознании. Они, подстегивающие меня, нашептывают, как вести себя, как думать. Я действительно не виноват, что не выношу охранников культурных ценностей, весталок духовности, гвардейцев народности, жрецов нравственности, гусаров эстетики, дворников веры, печников любви, живодеров благотворительности. Если у кого ко мне есть претензии, пусть обращается к мертвым, не стремившимся ничего доказать.
Зной размягчает мои мозги. Эпоха их расплавила. Мне плевать, что вокруг меня ничего не происходит. Так и должно быть. Все выдумано. Даже дневник Анайи Нинь ненастоящий. Людям не хватает реальности, поэтому они очень быстро начинают верить в выдуманные вещи. Они хотят верить и верят, что на следующее утро проснутся живыми, и возражают, услышав, что половой член осла, если носить его на груди, стабилизирует потенцию. Тут они негодуют, плюются, пугают проклятиями, хотя каждый втайне верит, что будет вечен и никогда не умрет. Даже папа и тот думает, что ему не придется умирать. Это феноменально. Ничего не происходит – все мудохаются в говне и думают, что презерватив будет панацеей, которая убережет от еретиков, сектантов и сатанистов. Задыхаюсь от всего этого смрада и совершенно не хочу искать выхода. Обойдусь без рецептов, которые мне предлагают миротворческие силы и бесплатно раздаваемые в церквях брошюры. Насколько же безгранично нужно верить в свою правоту, чтобы осмелиться заявить, что ты хотел бы видеть мир совершеннее, справедливее и даже красивее! От таких заявлений меня мутит, мои половые железы обызвествляются, но так есть, потому что так должно быть. Испытываю отвращение, однако доволен, потому что никогда не хотел быть, как те, кто вначале объединяют народ, а потом бывают повешены на навозной куче за тот самый половой член, которым они пытались достучаться до всеобщего сознания.
Я ни от кого ничего не требую, однако рассчитываю на то же и со стороны окружающих. Хочу только одного: увидеть, как вчерашние мудрецы и морализаторы стреляются, пуская себе в задницу петарду, из-за утаенных налогов или какого-нибудь другого мошенничества.
Из всего человечества мне больше всего жаль Нану Золя. Судьба Янтарной комнаты меня не волнует, слово с амвона не вдохновляет. Конституций, между прочим, никто не читает. Все это миф. Одураченные не хотят признавать себя обманутыми, поэтому все еще чего-то хотят и требуют. Дадаисты ничего не требовали. Они просто объявляли, что им насрать на человечество. Всем насрать. Всем ни до чего нет дела, однако удобнее состроить ангельское личико и врать, с притворным волнением разглагольствуя о том, что во время атаки применены отравляющие газы, из музея украдена картина, а кинозвезду оставил ее неверный муж, которого она любила.
«Я люблю вас», – объявляет с эстрады кумир. «Я имею вас всех», – отзывается другой. Все довольны. Все получают то, на что надеются. Воцаряется равновесие. Еще раз убеждаюсь, что балансирую на канате. Не могу идти ни вперед, ни назад. Мне важно удержаться. Вижу, что внизу пропасть. Не слышу убеждающих идти за ними. Не слышу, хотя уши и не заткнуты. Чтобы удерживать равновесие, мои руки должны быть свободны.
Мои руки свободны, поэтому ничего не происходит. Мои ноги неподвижны, поэтому никуда не иду. Нужно продержаться, хотя это и бессмысленно. Ужасно бессмысленно.Совсем неплохо было бы сегодня заняться любовью с Айседорой Дункан, Анайи Нинь или Зильке. Увы, первая погибла, вторая умерла, а третья не поднимает трубку, хотя я уже несколько дней подряд атакую ее.
Не везет мне с Зильке. Фатально. Казалось, будет просто, а даже связаться с ней не могу. Может быть, так лучше. Лучше, потому что могу думать о ней и не бояться реальности, которая, возможно, развеет иллюзии. Они приятные. Они волнуют мою душу.
Зильке… Зильке, наследница крестоносцев, тевтонка, прадеды которой подарили язычникам веру в воскресение, первородный грех, таинства. Кожа ее тела бела, как у женщин, написанных Энгром, просвечивающая, сияющая, ослепляющая, соблазняющая и обещающая предчувствие необычных радостей. Приятно прикасаться кончиками пальцев к ее подбородку, спускаться по плечам, описывать круги вокруг грудей, по животу. Упоительно видеть ее бедра, ладонями обнимать колени, скользить по ее ногам к ступням, разгибать пальцы, стискивать их, сжимать, целовать, сосать…
Зильке лежит нагая на доверенной мне двуспальной кровати, никогда не видевшей тела такой арктической белизны. Она бесчувственна. Кажется, вырублена из мрамора. Она жива и мертва. Не слышу ее дыхания, биения сердца, ударов пульса. Ей все все равно. Она лежит, отдавшись, решившись подарить мне радость, не веря, что сама еще может ее испытать. Она не шевелится. Только лежит. Только лежит.
Провожу рукой по ее волосам, которым не нужны самые лучшие шампуни. Они воздушные, поэтому еще долго развеваются и не ложатся. Они одни шевелятся, показывая, что Зильке жива. Волосы закрывают лицо, и я еще раз прикасаюсь к ним, так как хочу увидеть ее с закрытыми глазами, слепой. Ее ресницы почти достигают щек, и во мне поднимается неодолимое желание вырвать их. Осторожно дергаю, а она и не вздрогнет. У меня на пальцах остается несколько волосков, которые я сую в рот, жую, смачиваю слюной. Целую ее под глазами, на коже остаются частички ресниц. Открываются поры, всасывают и хватают эти частички. Теперь иголочки ресниц у нее под глазами превращаются в инклюзии. Я мог бы наслаждаться одной только этой картиной, однако мои руки не успокаиваются. Чувствую, как дрожат пальцы, как они заостряются. Кажется, суставы сейчас не выдержат: пальцы тянутся к ее ушам, они хотят залезть туда и провалиться. Трогаю ушные раковины Зильке, изучаю их, словно намереваюсь написать научный труд. Она по-прежнему статична, не выдает себя – нравится ей это или нет. Мне все неважно. Играю ее телом. Каждая часть вызывает у меня бесконечную радость, упоение находкой. Зажимаю крылья ее совершенного носа. Она не дышит, а меня совсем не удивляет, что ей не нужен кислород. Мрамору не нужен кислород. Для него это медленная смерть. На лице Зильке не дрогнет ни один самый маленький мускул. Она как в маске. Мне нравится маска. Не собираюсь ее срывать. Кажется, даже если провести ей бритвой по щеке, губам, глазам, она не шевельнется и ничем не выдаст, что жива. Захватываю ртом ее нос и всей силой легких пытаюсь высосать из ее тела воздух. Мои легкие полны. Вот-вот лопнут. Я по-прежнему всасываю, надеясь, что заставлю ее открыть глаза и посмотреть на меня. Не могу больше. Задыхаюсь от воздуха. Еще бы чуть-чуть – и умер. Отпускаю нос. Осознаю, что стою на четвереньках, становлюсь собакой, гиеной, шакалом. Мну ее шею руками. Грызу подбородок, оставляя следы клыков. Не перестаю удивляться, что ей не нужен воздух.
Может быть, я его заменяю… Мои ногти вонзаются в ее плечи, совсем недавно державшие узкие бретельки. Чувствую в руках что-то похожее на яблоки, которые скоро сорву. Она не сопротивляется. Она, наверное, святая, умеющая превращать боль в удовольствие, а радость – в муку. Изо всех сил сдавливаю ей плечи и вижу, как синею. Сейчас буду похож на небо, в котором засияла звезда Давида. Не хочу этого, однако продолжаю давить. Мгновение мне кажется, что лежу с куклой, идеально нагретой и надутой. Неправда. Эта мысль исчезает, когда я вижу у нее под глазами все еще шевелящиеся инклюзии ресниц, оставленные мною. Когда уже почти отрываю от нее яблоки, силы покидают меня. Пальцы разгибаются и цепенеют. Теперь мои ладони открыты, как будто я хочу показать всему миру открывшиеся на них стигмы. Стигм нет, хотя между ладонями что-то бьется, словно желая вырваться. Это биение меня волнует. Представляю себе, что ладони вот-вот лопнут и из них вырвутся неизвестные рыбы, ящерицы, птицы. И благословляющий Христос с распростертыми руками склонится над ними. Целую шею, глаза, щеки. Трогаю ледяные губы. Они приоткрыты. Впиваюсь в них, однако меня останавливает ее каменный язык – холоднее абсолютного холода на земле. Он ударяет мне в зубы. Бьет как кувалда. Чувствую во рту обломки зубов. Ими полон мой рот. Однако ее губ не выпускаю. Торопливо проглатываю осколки зубов и продолжаю (как подобает, я думаю) целовать ее. Ее каменный язык целиком у меня во рту, заполнил всю полость и не собирается отступать. Его холод парализует тело целиком. Он прилипает к моему небу. Я хочу отодвинуться, но не могу. Он приковал меня к себе. Все пытаюсь и пытаюсь оторваться, примирившись с мыслью, что придется пожертвовать ей весь рот. Что-то бессвязно мычу, однако холод меня не отпускает. Он цепкий. Теперь чувствую себя так, словно у меня во рту выкован ледяной столб, прошедший через все тело, вонзившийся в землю и с ней меня соединивший. Пробую ладонями опереться о ее плечи, чтобы оттолкнуться и высвободиться из тисков этого убийственного поцелуя. Вдруг меня отпускает. Как будто ничего не было: зубы целы, сладко, хорошо.
Зильке лежит, как лежала. Впиваюсь в нее взглядом, не могу поверить, что только что она приковала меня к себе ледяными узами. Она такая же, как была. Спокойная, с закрытыми глазами, со сжатыми губами, не шевелится, не дышит, однако живая. Ложусь рядом. Кладу руку ей на живот. Ладонь повторяет его форму, поэтому выгибается, как матрица, с которой позже можно будет отлить много-много форм, которые будут напоминать мне, что произошло или могло произойти с Зильке.
Рука Зильке касается моей. Кажется, в том месте, где они встречаются, куча червей роет ходы сквозь мои кости. Поднимаю ее руку, однако не выдерживаю. Она свешивается и падает, неподвижная, как если бы была рукой не человека, а искусственного живого существа. Так лежат наши руки, одна рядом с другой. Моя, не потерявшая надежду воскреснуть. Ее, обреченная отдаться той, у которой есть силы превратить ее в живую и страдающую.
Лежу, прижавшись всем телом к ее телу, и не двигаюсь. Пальцы моих ног касаются ее пальцев. Ее маленькие соски вдавливаются в ямки моих. Мои кисти лежат на ее кистях. Мой подбородок упирается в ее подбородок. Мой живот прижимается к ее утробе. Ее половой орган хранит мой. Так мы лежим и не двигаемся. Понимаю, что она ничего не чувствует. Я тоже, хотя лежал бы так на ней и лежал. Не знаю, хотела бы она лежать на мне. Точно так же. Да, чтобы ее пальцы касались моих, ямки грудей прижимали соски, кисти рук лежали на кистях, подбородок опирался на подбородок, живот прижимался к моему, половой орган покоился в моем. Очень хотел бы ее об этом спросить, однако знаю, что она не ответит, не удостоит даже самым слабым звуком, способным зажечь надежду: в том, чтобы превращаться друг в друга, есть смысл. Ничего не спрашиваю, ничего не говорю. Просто лежу, и все. Сердце, кажется, выскочит из груди, из ушей брызнет кровь, вены лопнут, кожа потрескается от боли.
Ничего не происходит. Ничего.
Не чувствую, как она начинает шевелиться. Не чувствую, как она потягивается. Не чувствую, как она высвобождает свои ладони, придавленные моими. Ничего не чувствую. Просто ощущаю, как скатываются на пол только что выцарапанные ее ногтями мои глаза. Слышу, как они ударяются об пол и, подпрыгивая, катятся в угол. Это я еще успеваю услышать. Успеваю, потому что вскоре ее язык забирается в одно, потом другое мое ухо и пробивает барабанные перепонки, как девственную плеву. Ничего больше не слышу. Ничего больше не вижу. Знаю только, что острыми, как бритва, зубами она откусывает мне нос. Знаю, что жует его. Знаю, что проглатывает, потому что ее двигающиеся челюсти касаются то одной, то другой части моего лица.
Обжигающий жар. Невиданный, никогда прежде не испытанный. Он охватывает все мое тело, в котором пульсируют последние оставшиеся у меня органы чувств. Только они еще принадлежат мне. Лежу на спине. Пилы зубов Зильке режут мне шею, родничок. Она режет меня и делит на части.
От тела отделяется голова. Не жалею, так как она мне не нужна. Для страсти не нужна голова, потому что без губ, глаз, ушей можно целовать, ласкать и любить другие части тела. Они у меня еще есть. Трогаю упавшую рядом с кроватью голову. Она уже остыла. Хочу гореть, сгореть, поэтому ее прохлада ничего не значит. Хочу трогать то, откуда распространяется жар. Увы, нет сил. Могу только лежать. Не двигаясь.
Зильке режет меня бритвами зубов. Теплая липкая жидкость течет по моему телу. Не знаю, мне ли она принадлежит. Неважно. Зильке зажимает грудью мою шейную артерию. Кровь перестает течь. Она свертывается, превращая грудь Зильке в неотъемлемую часть моего тела, соединяющую ее со мной.
Ее руки мнут мою грудь, которая поднимается, словно желая разорваться. Пальцы ощупывают мышцы, ногти пытаются их разорвать. Я уже без груди. Сейчас она должна будет увидеть голые ребра. Так и есть. Она обдирает одну за другой мои кости. Она уничтожает мое тело. Уничтожает и целует, слюнявит языком каждую частичку. Боль переплетается с удовольствием. Хочу потерять всего себя, чтобы испытывать и испытывать ее мягкость, даруемую мне ни за что. Костей все меньше. Жалею, что человеческое тело такое жалкое, лишенное глубины и протяженности.
Зильке сосет мои мышцы. Сосет и глотает. Она ненасытна. Хочу руками обвить ее тело. Хочу сжать ее в своих объятиях, чтобы она еще глубже погрузилась в меня. Хочу, чтобы мои руки были сильными. Увы. Увы. Они отделены от тела. Они отделены от того, чего уже давным-давно нет. Я жалею, что у меня нет рук. Жалею, что не могу ей помочь. Жалею, что я такой бессильный – отдавшийся, ждущий и надеющийся, что у нее хватит сил уничтожить меня. Не хочу верить, что ее силы ослабевают. Не хочу знать, что ей не хватит страсти. Не хочу.
Зильке чувствует каждая моя уцелевшая клеточка. С каждой утраченной клеточкой это чувство только усиливается, так как переходит в оставшиеся. Чувствую ее, и мне не нужно разума, головы, мудрости, интеллекта, веры, покаяния, отпущения грехов, пророчеств, космоса, Марса, Сатурна, Венеры, менхиров, алжирского вина, разговоров, развития, библиотек, ближних, врагов, креста, свечей, красок, свастик, курений, лозунгов, барокко, музыки и еще много чего. Происходит чудо. Тайна, которую невозможно выразить, раскрывается.
Она целует мою печень, почки, кишки. Целует и уничтожает. Понимаю, что, когда меня уже не будет, я обрету новую жизнь в ней, а это самая большая благодать, на какую можно надеяться на этой земле. Моего туловища не осталось. Его никогда и не было. Как и головы на плечах.
Мои ноги вытянуты вверх. Пальцы, ступни спускаются по ее рту и залезают в утробу. То, что осталось от меня, ползет в ее тело. Ползет и чувствует, что здесь надежно, хорошо, приятно, уютно. Зильке, впившись ногтями в мои бедра, жует и лижет, целует и кусает. Осталось каких-то несколько клеточек. Они последние, однако в них сосредоточивается и собирается вся моя суть, разум, предназначение.
Последняя частица моего тела, души и духа. Она умирает. Она уже умерла. Мертва.
Невыразимое облегчение. Вот и все. Больше не нужно слов. Ничего не нужно. Только это стоит пережить. Все остальное ерунда.
Зильке, чудодейка из Пруссии. Зильке, святая из Мюнхена. Зильке, превратившая меня в того, кем я когда-то был, кем хотел быть, кем страстно желал стать. Зильке, вернувшая меня в первоначальное состояние. Зильке, не произнесшая ни слова. Зильке, холодная и горячая. Зильке, мраморная богиня. Зильке, рай в аду. Зильке…
Хочу, Зильке, тебе позвонить. Хочу услышать твой голос, хочу сказать тебе несколько слов, хочу поблагодарить, хочу объяснить, что я благодарен за то, что не встретил тебя. Все тебе хочу сказать. Хочу сказать даже то, чего не знаю и никогда не узнаю. Хочу, чтобы ты знала, что никогда со мной не встретишься, не познакомишься, не узнаешь меня… Страстно хочу залить тебя потоком бессмыслиц и нелепостей, в котором будет то, что мы могли бы испытать вместе, но что не было суждено. Хочу, чтобы ты познакомилась с безумцем и ужаснулась. Хочу, чтобы ты влюбилась и бросила. Я не знаю, чего хочу от тебя… Не знаю наверняка и знать не хочу. Не хочу.
– Я хотел бы поговорить с Зильке, – набрав по памяти ее номер телефона, говорю ответившему.
– С кем? – переспрашивает недовольный голос.
– С Зильке! – кричу.
– С кем, с кем?
– С Зильке! С Зильке! Я хочу с ней поговорить. Хочу поговорить с Зильке.
– Очень жаль, но она уехала в Мексику, – говорит какой-то бессердечный и кладет трубку.
Слышу только попискивание телефона…Жара спадает. Настроение плохое. Небо нахмурилось. Эти изменения вызваны множеством причин, в которые я, однако, не углубляюсь. Состояние у меня ужасное. Чувствую себя так, словно меня обгадили все млекопитающие и холоднокровные на свете.
– Ты еще не собрался, – удивляется Даниэль.
Он складывает в рюкзак еду, питье, постельное покрывало и еще неизвестно что, так как сегодня мы едем в Сен-Жермен. Мне обещан лес, хотя сейчас я меньше всего о нем мечтаю.
– Будет замечательно. Лес красивый. В лесу хорошо. В лесу чудесно. В лесу можно расслабиться, – тараторит он, перечисляя достоинства зеленых массивов.
Объяснять все это не нужно. У меня плохое настроение. Не могу простить себе, что вчера был обманут каким-то малограмотным. Меня бесит не сам обман, а то, что меня обманул тип, не умеющий даже правильно писать. Он вторгся в мою квартиру, а я, глупец, впустил его. Это была роковая ошибка. Ему только этого и нужно было. Войдя, он нашел дырку в потолке, воткнул в нее палку, и все. Посыпалась сажа, а потом он мне выписал счет на пятьсот франков. Денег у меня не было. Тогда он стал меня пугать, что вызовет полицию. С ней я совсем не хочу иметь дело, так как виза у меня давно кончилась. Он кричал, требовал платы, и я сломался. Глупец. Последний идиот. Умолял, чтобы он подождал, пока я сбегаю в банк и обменяю деньги. Уговорил. Под конец он уступил. Согласился, так сказать. Банк был закрыт. Я колотил в дверь, чтобы меня впустили. Впустили. Обменял деньги.
Прибежал домой. Он их взял и выписал другой счет, где вверху красовалось название фирмы: «Чеснок». Разумеется, это был аферист. Даниэль потом от души надо мной посмеялся. Мне было не до веселья. Денег не жаль. Злит только, что меня, который цитирует Ницше, знает все о среднеевропейском ренессансе, переписывается с самыми светлыми личностями эпохи, обманул татуированный аферист. Не мог поверить. Впервые почувствовал себя провинциалом, которого может обмануть кто угодно. Отвратительно. Нет, не обманывать отвратительно, а провинциалом почувствовать себя отвратительно. Вот что самое мучительное. Мучительно это сознавать. Настроение у меня скверное.
Как подумаю, что меня ожидает в лесу, самочувствие становится еще хуже. Я приехал в Париж не по лесам гулять, не чистым воздухом дышать. Для этого прекрасно подходит Швейцария – тюрьма Гессе. Я совсем не скучаю по Сен-Жерменскому лесу, в котором, по словам Даниэля, забуду пережитую в городе обиду.
– Нам пора идти, – говорит Даниэль.
Сегодня он хочет быть очень пунктуальным, а я наоборот.
– Надо иметь немного опоздания, – отвечаю, пользуясь его конструкцией.
– Нет, сегодня опоздания не надо иметь, они будут ждать.
Эти «они» – Сесиль, Жан и его подруга. О последней знаю только, что она беременна и ее бросил друг. Родители ее очень религиозны, и сделать аборт она не решается. Словом, пока что скрывает живот, и все. Жан пользуется благоприятными обстоятельствами и, как истинный самец, наслаждается ею, не чувствуя ответственности за последствия, которых, разумеется, и быть не может. Он уже пару недель не отстает от этой жертвы любви. Даниэль злится. Он недоволен, так как видит, что теряет дорогого друга. Между Жаном и Даниэлем возникает некоторое напряжение. Даниэль не может простить предательства, после каждого телефонного разговора бросает трубку, сказав «говно». Сегодня он хотел поправить пошатнувшиеся отношения, для того и пригласил Жана в лес. Увы, испытал разочарование, когда узнал, что тот прибудет с подругой. Только и сказал «пох…й мне». Это приятно пощекотало мое самолюбие, так как этому словосочетанию научил его я.
Однако Даниэль торопится. Он все еще верит, что дела не так плохи, как кажется. Подозреваю, что в нем теплится надежда в лесу вернуть себе друга. Мне суждено быть свидетелем этого примирения, которое, возможно, и состоится. Функция Сесиль мне пока неясна, но, может быть, и ей предназначена роль второстепенного свидетеля.
– Нам нужно было бы захватить с собой зонтик, – говорю я, глядя в окно комнаты.
В первый раз вижу в Париже пасмурное небо.
– Нет. Дождя не будет.
– Ты так думаешь?
– Уверен.
Нет сил возражать, потому что мне, как говорит теперь уже Даниэль, «пох…й». Он нагружает полный рюкзак добром и еле отрывает его от пола. Когда он забрасывает его за плечи, я говорю:
– Ты уезжаешь, Даниэль?
– Никуда я не уезжаю, – бросает он довольно сердито.
В Пакистан Даниэль улетает через пару дней. Я не жду этого момента, так как понимаю, что с отъездом приятеля лишусь чего-то важного. Не могу определить, чего лишусь, но интуиция подсказывает, что лучше мне не будет. Мог бы и не ехать. Все пытаюсь вдолбить в него эту мысль, но он отвечает, что путешествие было запланировано еще год назад. Ну и ладно. Выдержу. Не буду драматизировать события.
Едем на метро до станции «Монпарнас». Всю дорогу молчим. Молчим, как перед грозой. Иногда я ему улыбаюсь. Иногда он мне. Слов не нужно. Их стоит поберечь для исповеди. Вижу, что и у моего друга настроение не лучшее. Его лицо серого цвета.
– У тебя сердце не болит? – нарушаю я тишину.
– Нет, все хорошо.
Хорошего мало. Меня не обманешь. Опасаюсь, как бы от сильного волнения с ним не случился сердечный приступ.
– Ты правда хорошо себя чувствуешь? – справляюсь я еще раз.
– Хорошо, хорошо.
Больше я его не мучаю. Выходим на станции «Монпарнас». Спускаемся на линию пригородных поездов.
Опаздываем. На перроне уже ждут Жан и не слишком привлекательная особа. Обращаю внимание только на ее огромные груди, которые компенсируют другие недостатки внешности. Груди монументальны. Достают до живота. Понимаю, чть так влечет к ней Жана. На месте Даниэля я бы на него так не сердился.
– Адель, – представляется она и подставляет щечку.
Целую ее, а чувство – словно прикоснулся к тесту.
Лицо – не самая красивая часть Адель.
Даниэль познакомился с ней уже раньше. Вижу, как он заставляет себя тоже поцеловать ее. Радостью встречи это не назовешь. Однако Даниэль пока что держится весьма стоически. Жан улыбается дурацкой улыбкой. Его глаза крутятся, как и раньше. Отвожу взгляд, чтобы у меня самого они не начали так крутиться. Это, видимо, заразительно: чувствую, что закрыл один глаз. Быстро открываю, чтобы Жан не заметил и не оскорбился.
Сесиль все нет. Пользуюсь моментом и начинаю изучать признаки беременности Адель. Конечно, с такими грудями она и на последнем месяце сможет скрывать грех от родителей. Никак не пойму, сколько месяцев назад она как следует потрахалась. Пять? Четыре? Не знаю. Для меня это большая проблема. Очень хочу разгадать эту загадку.
Даниэль не разговаривает с Жаном. Я не разговариваю с Адель. Адель не разговаривает ни с одним из нас, хотя ее рука в ладони Жана. Эти толстяки были бы хорошей парой. Они подходят друг другу. Даниэль для Жана слишком тонкий. Надо ему это сказать. Он, конечно, будет недоволен.
Сесиль «имеет небольшое опоздание». Поезда в Сен-Жермен идут один за другим.
– Ждем еще десять минут и едем, – выносит вердикт Даниэль: он не может найти себе места, для него, видимо, стоять рядом с парой счастливых ангелов – сплошная мука.
– Мы спешим? – переспрашиваю я приятеля, не отрывая глаз от грудей Адель, которые все раздуваются и, кажется, сейчас лопнут.
– Где это видано! Она опаздывает на час! – возмущается Даниэль, однако его недовольство не находит отклика.
Жан мнет ладонь Адель. Даниэль обливается потом. Я закуриваю третью сигарету.
Когда поезду уже пора отходить, мы замечаем летящую по перрону Сесиль. Она запыхалась, поэтому спотыкается. Свалившаяся на землю женщина не вызывает у меня симпатии. Сесиль поднимается и снова бежит. Даниэль телом блокирует двери поезда. Сесиль в растерянности, потому что еще не видит нас. Машу ей рукой. Не видит. Не видит! Останавливается. Наконец замечает меня. Снова бежит. Не падает. Успевает. Слава Богу, успевает.
В вагоне Жан и Адель забираются в самый дальний угол. Даниэль сидит в одиночестве и ностальгически глядит в окно. Я сижу рядом с Сесиль, она тяжело дышит и пока что еще не может говорить. Жалко смотреть, как сжимается в спазмах и дергается ее маленькое тельце, полное любви к предателю-саксофонисту. В конце концов она обретает дар речи и без обиняков начинает:
– Этой Адель всего семнадцать. Может, и ошибаюсь, может, восемнадцать. Так или иначе, она совсем молоденькая. А тому, который заделал ребенка ей, пятнадцать или шестнадцать. Точно не помню. Теперь она не знает, что делать. Хочет испортить себе жизнь. Сказала ей, чтобы сделала аборт. Заколебалась. Целые полгода колеблется. А теперь уже поздно. Она нашла себе Жана, а этот дурак думает, что ребенок его. Я объясняла Жану, потому что он мой друг, что не надо с ней связываться. Но он, кажется, влюбился. Ты же знаешь, его никто никогда не любил. Он гадкий, у него нет друзей. Он лжец, лицемер, обманщик, завистник. Для него это первый и последний случай. Но почему она?! Некрасивых женщин полно. Он мог бы и без пуза себе найти. Я сказала ему, но он не послушал. Ну, его дело. С другой стороны, мы друзья, должны друг другу помогать…
Слух Сесиль несколько расстроен, поэтому рассказывает она очень уж громко. Я вижу, что люди, сидящие рядом, заинтересовались жизненными перипетиями Адель и Жана. Монахиня морщится. Черненькая снисходительно улыбается. Несколько парней поворачивают головы. По их взглядам видно, что с похожими заботами им тоже приходилось сталкиваться.
– …А тот шестнадцатилетний, – продолжает трещать Сесиль, – и слышать о ней не хочет. Объясняет, что был не один. Говорит, что до него и одновременно с ним у нее было еще несколько. А что теперь докажешь?! Конечно, он поступил непорядочно. Мог бы жениться. Но сбежал. Кажется, он в колонии. От кого-то я об этом слышала. А теперь жениться на ней должен Жан. Но он не такой дурак, как кажется. Зачем ему это нужно?! Прекрасно без нее может обойтись. Я ему сказала. Я ему повторяла, но он, кажется, оглох. Она мне не нравится, хоть и жалко ее. Жалко как женщину. Она не такая уж и молодая. Она, несомненно, могла заставить его надеть презерватив. Не понимаю. На таких молодых никогда нельзя полагаться. Они залезают и тут же кончают. Я знаю. Тогда и случаются несчастья. Ее родители еще ничего не знают. А как узнают… Мне жалко ее. Потому и сказала, что ей стоило сделать этот аборт. Ведь так просто. Все мои подруги по три раза сделали, и ничего. Какие-то предрассудки. Какое-то средневековье. Зачем осложнять себе жизнь, если все можно решить просто. Понятно, она молодая. Но когда будет старше, будет слишком поздно что-нибудь менять. Никто не хочет слушать мои советы. Никто. А я ведь только хорошего желаю. Мне жалко и ее, и Жана, и того ребенка, который никому не будет нужен. Они не хотят этого понять. Зачем делать ребенка, если он никому не нужен. Это преступление.
Она все не умолкает, а новые пассажиры, не в силах устоять, со все большим интересом углубляются в историю отношений Адель и Жана. К счастью, ехать не так далеко. Я не собираюсь затыкать Сесиль рот. Пусть верещит. Она разошлась и теперь просто кричит. Ей нет дела до того, что ее слова слышит Даниэль, слышат Жан и Адель, которые друг с другом не разговаривают.
Выходим со своей поклажей на станции «Сен-Жермен». Беру у Адель узел и забрасываю его на плечо. Жан идет с пустыми руками. Он распевает бретонскую народную песенку, украшая ее свистом. Неплохо у него это получается. Слух у него все еще есть.
Заворачиваем в церковь, потому что на улице льет.
– Это ненастоящий дождь, – разъясняет Даниэль. – На него не надо обращать внимания.
В церкви Жан и Сесиль затягивают средневековую песню. Акустика прекрасная, поэтому они себя чувствуют хорошими певцами. Встав на месте бывшего алтаря, тянут одну песню за другой. Даниэль изучает надписи на надгробных плитах, написанные на старофранцузском языке. Адель слушает пение, а я не знаю, куда деться. Певцы так расчувствовались, что и не собираются заканчивать. Я по-прежнему не понимаю, чего ради мы потащились в Сен-Жермен. Песни послушать? Начинаю нервничать. Нервничаю еще больше, когда вспоминаю обманувшего меня недоучку.– Может, пойдем из этой церкви, – предлагаю я Даниэлю, которому, вижу, все происходящее совершенно «Пох…й».
– Тебе здесь не нравится? – удивленно спрашивает он меня.
Ничего не отвечаю. Разумеется, мне нравится. Однако в церкви мы торчим уже добрых полчаса. Я мог бы и час, как со мной не раз бывало на обеднях. Однако здесь только часовня, в которой, за исключением нескольких надгробных плит, ничего нет.
Певцы, отпев весь свой репертуар, успокаиваются. Выходим на улицу. Не льет, хотя небо хмурится, предвещая не только дождь, но и грозу. Мои компаньоны хотят доказать, что дело обстоит как раз наоборот. Все, словно сговорившись, объясняют, что дождя не будет и мы прекрасно проведем день в лесу на траве.
Залезаем все глубже в лес. Не понимаю, почему мы идем уже целый час. Ничего не понимаю. Впереди шагает Сесиль. Я иду с Даниэлем, а Жан и Адель все отстают. Иногда они теряют нас, поэтому мы все время перекликаемся.
– Нам еще долго идти? – осведомляюсь я у Даниэля.
– Мы должны найти траву.
Травой в этом лесу и не пахнет. В таких лесах, которые, по правде говоря, просто густой кустарник, никогда не найдешь травы. Хоть я и горожанин, но это знаю.
– Даниэль, здесь не будет травы. И сейчас польет.
Он не слышит меня. Сесиль решительно бросается в глубину леса. Пробирается сквозь кусты, прокладывая нам тропинку. Ее решимость найти траву просто бесит. Я обойдусь и без травы, и без этого леса, в который меня затащил чужой каприз.
Этого и надо было ожидать – Сесиль заблудилась. Теперь она не знает, куда идти. Я доволен, что она в замешательстве.
– Можем и здесь сесть, – предлагаю я, когда все пытаются установить, где север, а где юг.
– Нет-нет, мы должны найти траву, – заявляет наш проводник и машет рукой, в какую сторону мы должны за ней следовать.
Снова идем. У меня это вызывает горечь. Тащу узел Адель, а их с Жаном все тянет и тянет в кусты. Как-то быстро им там удается обернуться. Как кроликам.
Начинает лить. Чувствую мазохистское удовлетворение, когда подтверждаются мои слова. Догоняю Сесиль и пытаюсь убедить, что самое время остановиться. Неважно где. Это не имеет значения, так как сейчас мы насквозь промокнем. А лучше всего было бы вернуться назад и ехать в Париж.
Она, видимо, тупая и упрямая. Другие – тупые и послушные. Льет вовсю.
– Вот здесь. – Она победоносно указывает на глинистую землю, где, кажется, даже в тропические времена не росла трава. – Здесь остановимся.
После часового путешествия в глубь леса мы устраиваемся так же, как могли бы устроиться и не приложив столько усилий. Молчу, потому что лес, Сесиль, плод в животе Адель, вывороченные глаза Жана и все остальное лишают меня дара речи.
Расстилаем покрывало, вытаскиваем еду. Льет. Устраиваюсь на земле, подсунув под зад полиэтиленовый пакетик. Ужасно неудобно. В мгновение ока мне сводит все мышцы. Встаю. Стоя жую бутерброд, есть который можно было бы и в более комфортабельной обстановке. Остальные тоже едят. Льет. Надо бы поторопиться, однако все делают вид, что светит солнце, зеленеет трава, а мы – пастушки, переживающие величайшую из величайших радостей жизни.
Руки у меня грязные, сальные. Ем курицу, запиваю пивом, пачкаю жиром бутылку. Салфеток нет – Адель их забыла. Мерзко. Больше всего ненавижу сальные пальцы. Страдаю. Мокро. Устраиваюсь на пне, в двадцати метрах от всей компании. Все меня осуждают, но мне нет до этого дела. Не могу сидеть на земле. Не могу! Не раз говорил это Даниэлю, однако он забыл.
Сижу на пне с сальными руками и думаю: какой черт меня сюда понес? Дождь усиливается. Моя рубашка уже почти насквозь промокла – от пота и дождя. Хуже и быть не может. А еще эти вымазанные жиром руки! Да еще этот неудобный пень, так и норовит залезть в зад! Чувствую, что не выдержу. Темнеет в глазах. Больше всего в этот момент я ненавижу Сен-Жерменский лес. Вырубил бы эти кустарники и заасфальтировал, забетонировал, наставил скамеек, наоткрывал кафе, публичных домов, казино, саун, кинотеатров.
– Может, хочешь побросать тарелку?! – зовет меня Жан.
Хоть я и поклялся никогда не играть в подвижные игры, деваться некуда. Бросать тарелку все же лучше, чем сидеть с жирными руками на пне и терпеть противную влагу на теле.
Тарелка меня не слушается. Все время летит не туда, куда надо. Жан поднимает ее то там, то сям. Мне его жалко. Он хотел поиграть, а теперь только ассистирует мне. Мои движения ужасно неизящны. Когда-то я над такими смеялся. Казалось комичным. Неважно. Важно, что не надо сидеть на пне с куриным бедрышком в руках.
Жан бросает мне тарелку. Пытаюсь поймать, но падаю, растянувшись на спине. Сжимаю руку. Ужасная боль. Нет сил подняться. Кажется, сломал.
Сижу на пне, не показывая, что со мной что-то случилось, и смотрю, как рука распухает. Она полыхает, пульсирует. Уже пора кричать от боли. Тихо охаю. Как и подобает в таких случаях, издаю неартикулированные звуки. Все сильнее. Никого это не волнует. Они сидят на земле и по-прежнему чувствуют себя голодными.
– У тебя что-то случилось? – спрашивает, подойдя, Даниэль.
Показываю руку.
– О-ля-ля… – запевает он, не особенно, однако, удивляясь. – Вон оно что. О-ля-ля…
Волоку свою руку на Сен-Жерменский вокзал и клянусь больше никогда, никогда (!) в жизни, приехав в Париж, не искать природу. Никогда!
– Славно погуляли, – говорит Даниэль, накладывая мне компресс, когда мы уже сидим дома. – Пойдем в больницу. У тебя, кажется, перелом.
Пытаюсь разложить стол. Последний раз. Мой друг уезжает. Вместе нам остался всего лишь один завтрак.
– Я тебе помогу, – предлагает он, поражаясь моей выдержке.
– Не нужно. Я должен привыкать управляться один.
Рука у меня распухла, однако кость, кажется, не сломана. Я категорически отказался идти к врачу. Не люблю врачей. Не люблю тех, кто ставит тебя на четвереньки и сует руку в задницу, устанавливает геморрой и советует лечиться холодными обливаниями по утрам. Не люблю врачей. Пусть кость сама срастается, если сломана. Страница Корана лечит рану лучше, чем все парижские врачи.
– Деньги взял? Паспорт взял? Спальный мешок положил? – засыпаю я Даниэля вопросами, когда в шесть часов утра мы пытаемся проглотить трудно усваиваемую еду.
– Все взял.
– Подумай, не забыл ли чего.
– Все взял, – смиренно повторяет он. – Все. Все взял.
Разговор не вяжется. Не знаю почему. Но в любом случае не потому, что нам нечего сказать друг другу. Мы только начали беседовать. Только начали.
– Когда приедешь в Карачи, пей только кипяченую воду, – не упускаю я случая поучить его, хотя никогда не был в Азии.
– Знаю.
– Мой друг был командиром роты в Афганистане, – почему-то вспоминаю я давно забытого русского приятеля. – В разведке в горах он бывал неделями. Чаще всего – без воды. Им давали такой порошок, который за полчаса дезинфицируют воду. Однако как только ее находили, никто не ждал эти полчаса. Никто не ждал и никто не заболевал дизентерией. Странно…
– Знаю. Буду пить только кипяченую воду.
– Хорошо. Пей только кипяченую воду.
Пытаемся есть, однако удовольствия это нам не доставляет. Даже кофе сегодня не тот. Горький, отдающий нефтью. На улице спокойно. Слышны только редкие проезжающие машины.
– А одежду ты успел купить? – снова обращаюсь я к уже задумавшемуся Даниэлю.
– Да. Как только приземлюсь в Пакистане, переоденусь. У меня есть белая одежда. Купил позавчера у пакистанцев. Не хочу выделяться.
– Может быть, вернешься в Париж, уже приняв ислам?
– Все может случиться. Опасное путешествие.
Даниэль озабочен. Не хочет подавать вида, однако по глазам вижу, что волнуется. Пакистан – это не Мексика. Хочу развеселить его, развеять, поэтому говорю, говорю, говорю:
– В Тибет идти не советую.
– Почему? Это одна из целей нашего путешествия, – не соглашается он и на миг приходит в себя.
– А что тебе в том Тибете нужно?
– Я хочу в Тибет.
– Твое желание отправиться в Тибет – попса.
– Нет.
Спорить безнадежно. Он все равно пойдет в Тибет. В конце концов, это его дело. Его и того, кто заставлял его в Вене пить по пять литров кипяченой воды.
– А как та девушка, которая с вами едет?
– Она востоковед. За нее можно не волноваться. Она пятый раз туда едет.
Понимаю, что наш разговор, как и каждый разговор перед путешествием, лишен смысла. С другой стороны, все разговоры более или менее пусты. Даже Заратустра говорил банальности. Правда, изящные.
– На следующей неделе может приехать моя сестра. Не пугайся. Ее друг – алжирец, – говорит он мне.
– Мусульманин?
– Современный.
– Значит, коврик молитвенный для него не надо добывать?
– Он возит с собой свой.
Опять тишина. Слышно только, как мы отпиваем кофе. Ничего больше.
– Приедет мой друг, – напоминаю я.
– Хорошо… – тянет он.
– Ты мне пришлешь открытку?
– Одну отправлю в Париж, а другую, точно такую же, – в Вильнюс. Потом сравним, какую получишь быстрее.
– Хорошо… – тяну теперь уже я.
Он вертит в руках стаканчик с кофе. Нервничает.
– Все будет хорошо. Расслабься.
– Знаю. Я расслабился.
Пробую его развеселить:– Agním ile puróhitam
yajñásya devám rtvíjam
hotãram ratnadhãtamam…
– He смешно, – прерывает он меня, отбивая желание цитировать «Ригведу», на родине которой он тоже побывает.
Неуютная тишина. Бросаю взгляд в зеркало. Испытываю смешанные чувства. И хочу, и нет, чтобы он скорее уехал. Обещал проводить его до станции «Монпарнас», откуда он поедет до Орли. Скоро пора будет подниматься.
– Я не смог бы жить в Пакистане, – начинаю я снова.
– Почему? – равнодушно спрашивает он.
– Там сухой закон.
– Ах, да…
Тем для разговора не хватает. Нет!
– А лекарства от сердца взял?
– Забыл!
Он бросается искать лекарства. В ящике стола их, конечно, нет. В рюкзаке тоже. Нет лекарств и в кошельке. Они исчезли.
Могли бы уже выходить, а лекарства все не отыскиваются. Опаздываем. Даниэль приходит в ярость. Кажется, злится на меня, что я напомнил о лекарствах, без которых, случись приступ, он в Азии умрет. Чувствую себя виноватым. Сижу у стола в шоке от того, что его отчаяние меня не волнует. Внешне я спокоен, как Будда. Состояние Будды, кажется, не для всех приемлемо.
– Святой Симеон Столпник, – начинаю я рассказывать, – прожил на столбе двадцать семь лет. Это столько, сколько тебе сейчас. Представляешь?! Его последователи живут на столбах десятиметровой высоты. Это дело распространено в Сирии, Палестине…
– Нашел! – радостно вскрикивает Даниэль.
Лекарства он нашел на незаконченной диссертации.
Символично. Однако я ничего не говорю, потому что пора бежать.
Молча едем в метро. Французы в эту утреннюю пору странно бодры. Конечно, не так бодры, как немцы в это же время, но их оптимизм и вера в наступающий день меня удивляют. Может быть, потому, что это не соответствует нашему состоянию. Мы мрачны. Недовольны. Мы даже злы. По-прежнему молчим, нахмурив брови, вперив бессмысленные взгляды в еще более бессмысленный туннель, по которому вскоре доберемся до станции «Монпарнас».
– Я покажу, как тебе надо будет ехать в аэропорт де Голля, – говорит мне Даниэль, хотя времени у нас совсем немного.
– Не нужно, – возражаю я, – уехать из Парижа не проблема.
– Я покажу.
Понимаю, что не переспорю его. Он ведет меня лабиринтами метро, объясняя, где, когда и как мне придется здесь блуждать.
– Опаздываем, – напоминаю я.
Он упрямый. Понимаю: хочет оттянуть время. Кажется, ему уже не очень хочется в этот Пакистан. Ищет причину, чтобы опоздать.
– Я все знаю. Мне не нужно объяснять, – останавливаю я его.
– Поеду другим, – говорит он, когда мы стоим у автобуса, идущего в Орли. – У меня еще есть время.
Я больше его не понимаю. Автобус должен отправиться через несколько минут, а он предлагает мне закурить. Курю. Начинаю нервничать, что он опоздает. Даниэль безобразно спокоен, из последних сил он старается отдалить свою встречу с Азией.
– Тебе доводилось читать «Почтовую открытку. От Сократа до Фрейда и далее» Деррида? – спрашивает он меня, когда водитель автобуса уже заводит двигатель.
Я каменею. Не потому, что не читал опус этого постструктуралиста. Все проще простого – двери автобуса уже закрыты.
– Даниэль, поезжай в Пакистан. Мы продолжим этот разговор в другое время. Поторопись. Еще успеешь.
Начинаю колотить в двери автобуса. Водитель слышит. Вталкиваю Даниэля внутрь. Он покорен. Двери закрываются. Автобус трогается. Пытаюсь махать здоровой рукой. В окне вижу его лицо. В глазах испуг. Похоже могли бы выглядеть те, кто знает, что отправляются в небытие. Он пробует улыбнуться, однако у него не получается. Машу и показываю рукой, чтобы писал мне.
Автобус исчезает. Облегчения не чувствую. Решаю идти домой пешком. Еще только семь часов утра, а дня как не было. Ноет раненая рука.
В этом городе мне не хватает духа Дады. Не знаю, где он укоренился, где скрывается и есть ли вообще. Однако ясно чувствую, что он мне нужен. Не могу объяснить свое состояние. Может быть, только метафизически. Между ним и мною существует притяжение, которое не выразить словами. Я полагаюсь на него. Слепо.
Увы, я его не встречаю. Неужели в этом городе он умер? Неужели в этом городе, где когда-то он нашел такое удачное пристанище, исчезли даже его следы? Все, что окружает меня, словно хочет доказать, что его здесь не было. Смотрю на людей, но ни в одном из них не обнаруживаю следов, признаков, отсветов Дады. Это просто безумцы. Однако с Дадой – задуманным безумием – у них нет ничего общего, плюю им в лицо, пинаю их в зад.
Вместо него везде полно Кабакова – Кабаков в Центре Помпиду, Кабаков в книжных магазинах, Кабаков на плакатах, Кабаков в общественных туалетах. Мне плохо, потому что не верю ему. Не верю точно так же, как тем, кто, прихлебывая живительные напитки, разглагольствуют о мировых несправедливостях.
«Дада не умерла», – шевелится в подсознании мысль, однако доказательств этого во внешнем мире нет. Мне они не нужны, но я не возражал бы, если бы они были, если бы преследовали меня на каждом шагу, провоцировали, дразнили, мучили.
Везде полно сексуальных маньяков, убийц и сектантов. Мир полон ими. Они гуляют, высоко подняв головы, словно они самые важные. Мне это действует на нервы и не нравится. Я ищу элегантную Даду, способную успокоить мою изголодавшуюся душу. Неужели интеллектуальное безумие переселилось в другие регионы? Неужели я с ним разминулся? Неужели?!
Все пропитано стерильностью. Правила игры ясны, но для меня неприемлемы. Я не хочу правил. Мне достаточно норм поведения в жизни, я могу обойтись без якобы универсальных ценностей. Мне они не нужны. Меня бесит, когда на Елисейских Полях попросишь пива, а тебе сухо отвечают, что ты должен купить бутерброд. Пусть они засунут себе этот бутерброд. Пусть зальются этим пивом, которое не хотят мне дать.
Я не разъярен, не зол, но не собираюсь спрашивать их мнения о себе. Мне это нисколько не интересно. Мне это не нужно. Пусть они заткнутся. Пусть лучше вытрут свои задницы – это разумнее, чем точить лясы, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Не люблю убежденных в своей правоте. Не хочу понимать их, потому что они мне неинтересны. Мне не нравятся поучения, как не нравятся цветы и запах воска. Мне нравится де Сад. Наплевать, что другие о нем думают, как его оценивают. Я заявляю, что мне нравится. Не говорю, хорошо это или плохо. Говорю только: нравится. Другим может не нравиться. Это их дело. Мне наплевать. Мне много раз наплевать.
Устаю повторять это. Мне надоело. Мне надоело напоминать, что был период Амарно. Мне надоело тыкать пальцем и показывать, что рядом с Афинами была Спарта. Я устал повторять, что Евангелий было не четыре. Все это надо было бы зарубить на лбу тем, кто по-прежнему думают, что каждое их слово важно, значительно, разумно. Все это, само собой, одна болтовня. На то, что раздражает, не нужно обращать внимания. Это старое и банальное правило. К сожалению, иногда все так тебя достает, что забываешь его и втягиваешься в бессмысленную дискуссию. Им только этого и надо. Тогда ты превращаешься в одного из них. Тогда ты становишься таким же, как они. Это отвратительно.
Город – сплошной маразм. Дебильные взгляды, и на губах – заготовленные ответы на все вопросы. Достаточно заговорить, и все узнаешь. Они больше знают обо мне, чем о себе. Это удивительный феномен. Эволюция добилась значительной победы. Всех можно поздравить. Я поздравляю себя, так как в этот миг я – часть всего этого. Поздравляю! Нет, нет, цветов не нужно.
Не знаю почему, но все возвращаюсь и возвращаюсь к Даде. Может быть, таким образом пытаюсь вернуться в себя? Может быть, таким образом стараюсь забыть то, что угнетает мое сознание? Я, правда, не знаю. Может быть, надо однажды ответить себе на эти вопросы и поставить точку?
Чувствую, что потерял объект размышлений. Когда-то мне было интересно, как падает тень от предмета, как на цвет влияет свет. Когда-то было интересно. Теперь ничто больше не интересно. Не интересен даже я сам.
С другой стороны, почему я должен быть интересен? Да пусть они все обосрутся, и я вместе с ними!
Посылаю себя к черту, однако освободиться так и не удается. Проблема еще и в том, что я не знаю, от чего освобождаться. Я уже давно освободился от воли. Ее во мне и под микроскопом не углядишь. Освободился от сантиментов. Освободился от навязанной мне культуры. От чего еще? Все равно от чего-то еще нужно освободиться. От чего?! От тела?!
Художники освобождаются от тела. Многие из них только сидят и смотрят в окно. Однако этого недостаточно. Нужно еще. Нужно еще и еще. Нужно все время бежать от себя. Нужно постоянно гнать от себя то, что, по-твоему, в этот момент тебе принадлежит. Я уже не знаю, что мне еще принадлежит. Конечно, можно было бы уничтожить органы чувств. Все какое-никакое занятие. Однако это не выход. Есть один такой, который не двигается, лежит и существует без органов чувств. Но у него есть сознание, которое подключено к аппарату, фиксирующему его мысли. Этот молодец ухитрился не только книги писать. Он даже соблазнил санитарку. Женился на ней. Может быть, даже дождется потомков, хотя у него нет ни рук, ни ног, ни…
Улицы, города, страны полны гуляющих мертвецов.
Не хочу ни видеть, ни слышать их. Мне нужно скрываться, и я скрываюсь. Торчу в логове и борюсь с самим собой. Чаще всего проигрываю. Маразм заполняет и мое сознание. Ничего не поделаешь.
Жара спадает, однако на улице по-прежнему воняет. Кажется, все на месте. Однако что-то не так. Не могу выразить это словами. Ничего больше не понимаю и не хочу понимать.
– Приезжаю через пару дней, – говорит мне голос в трубке.
– Хорошо. Приду встретить тебя на Восточный вокзал.
Кабаков расползается по Центру Помпиду. Он поставил «Город будущего», на который валят толпы. Мне плохо от его города будущего, из которого удается сбежать. Не хочу его видеть, хотя толпам это доставляет огромное удовольствие. Все это только вызывает депрессию.
– Очень жарко, – утверждает встреченный на улице Кастаньяри Дружок. Он вчера опять избил жену, которая пыталась заманить его домой.
– Очень жарко, – отвечаю и подаю ему руку.
– Очень жарко.
– Очень жарко.
– Жарко.
– Очень.
– Очень.
Беседуем, и я снова ныряю в город, в котором ничего не ищу. Увеличенные и превращенные в скульптуры персонажи картин Сальвадора Дали экспонируются на площади Согласия. Американцы в восторге от редкой возможности – они фотографируются. Бегу через эту площадь, боюсь, как бы не получить солнечный удар, хотя июнь уже кончается. Сальвадор Дали, писавший в дневнике о своей гениальности и фекалиях, не сулит мне прохлады. Еще немного, и мой мозг вытечет, как расплавились его часы, отлитые из бронзы. С меня всего этого уже хватит. Беда в том, что я не знаю, куда податься, где найти пристанище.
Вместо Дады с витрин меня приветствуют натюрморты, дерьмовая мелочь и портрет склонившейся к фортепьяно пианистки, выигравшей, как утверждает печать, какой-то малоценный приз. Меня тошнит от него. Тошнит от жары, солнца, прохлады, воды, картин, голубей, автомобилей, богачей, нищих и аферистов, пытающихся всучить приезжим с Востока краденые брюки и куртку за пятьсот франков.
– Будьте любезны ответить на вопросы анкеты, – сует мне кусок бумаги девочка-подросток, закаленная навязчивостью столетия.
– Это то или что-то другое? – спрашивает меня очкарик, показывая потную ладонь.
– Полгода назад здесь была революционная ситуация, – заявляет инвалид, еле держащийся на одной ноге.
Баста.
«Вот зимой Илья Кабаков потряс всех немцев: на веревочках, прикрепленных к потолку, он повесил пятьсот пластиковых мышей. Знаете, продаются такие искусственные мыши – для розыгрышей. Подбросить в чай и подать гостю; тот вскрикивает, испугавшись, а ему после этого объясняют, что они ненастоящие. Вот Кабаков и купил себе пятьсот таких мышей», – расходясь, начинает злиться коллега.
Плавится асфальт. Вода испаряется. Разум мутится. Кто-то кричит из прошлого, что Дада пропагандирует анархизм, нигилизм, цинизм, отрицает устоявшиеся нормы общественной жизни, этики и эстетики. Словом, хуже и быть не может.
Да куда уж хуже, если я стою, опершись о каменную ограду кладбища, и решаю дилемму: по эту или по ту сторону мне в этот момент было бы лучше?
Никакого ответа. Никаких разъяснений. Зной расплавляет вопросы. Во мне воскресает Дада. Слишком большая ответственность быть ее хранителем. Слишком большая. Выхода нет.
– Е…сь отсюда, – говорю я человеку, спросившему, сколько сейчас времени. – Двенадцать. Полдень.
Расстаемся. Он – узнав. Я – раскрыв тайну.
Меня залила волна прощаний. Все хотят пожелать мне успеха и расстаться. Может быть, даже навсегда. Не удивляюсь. Общаемся урывками – подольше, покороче. Так и должно быть. Все хорошо.
Сесиль скоро уезжает в Россию, поэтому очень хочет меня увидеть. Она уже несколько раз повторяла мне, что я нравлюсь ей. Говоря это, не забывает добавить, что нравлюсь не как мужчина, а просто как человек. Я ей советую больше не делать этого добавления, но она не слушает. Так или иначе, мне плевать.
Еду в восточный Париж, пересекая поперек его южную часть. Она живет не в самом респектабельном квартале, хотя ее отец когда-то и был генералом. Мать – аристократка, однако ей насрать на происхождение, если жизнь такая за…ная. Это не мои слова. Их каждый раз повторяет мать Сесиль, когда звонит и жалуется Даниэлю, что не может найти общий язык со своей дочерью. Даниэль объясняет, что это типичный словарь аристократической буржуазии. Может быть. Не углубляюсь. Мое самочувствие такое же, как и у матери Сесиль.
Автобус еле ползет. Опаздываю. Раньше меня бы никто не убедил, что я научусь опаздывать со спокойной совестью. Я спокоен. Не волнуюсь. Наверняка она уже около получаса ждет меня у фонтана со львами. Никогда не был в этой части города. Здесь живет разве что пара аристократов. Автобус едет по мосту Толбиака, с которого открываются нехарактерные для Парижа индустриальные пейзажи. Да, накопившие в других государствах деньжат сюда редко забредают. Возможно, я один из немногих.
Выйдя из автобуса, замечаю Сесиль, которая не может устоять на месте. Она неспокойна, хотя причин для такого состояния вроде бы и нет.
– Ты опаздываешь, – говорит она мне вместо приветствия.
– Не может быть?! – делаю вид, что ничего не понимаю.
– Почти на час. Все уже ждут.
Она ведет меня дворами в ливанский ресторан, в который наведывается уже лет десять. Точнее, бежит. Я, хоть и недоволен, бегу следом.
– Может, можно помедленнее? Мне с сердцем плохо, – пытаюсь я остановить ее святой ложью, принимая на себя бремя греха.
Она не слышит. Со стороны это выглядит, как гон самца и самки. Однако она летит слишком быстро.
Вбегаем в ресторан, в котором за длинным столом я вижу незнакомых персонажей. Не сказал бы, что при виде меня их лица озаряются сиянием.
– Познакомьтесь, – усаживая меня за стол, говорит Сесиль. – Это моя мать, это сестра, а это – мой друг, профессор университета из Марселя.
– Приятно, – говорю. – Разве в Марселе есть университет? Никогда бы не подумал.
Профессор уже недоволен, но вида не показывает. Мою реплику сочли конфузом деревенщины, которого нужно простить. Он снисходительно улыбается, однако не бросается объяснять, что в Марселе не один университет.
– Сейчас Марсель – крупнейший форпост итальянской мафии в Европе, – начинаю я с видом знатока. – Через Марсель идут наркотики. Через марсельские банки отмываются деньги. Правда, как и через Монако. Князь Монако создал на удивление благоприятные условия для такой деятельности. Особенно после смерти жены. Кроме того, у него замечательная коллекция автомобилей, он играет в гольф. В Марселе должен жить Серж Вентури. Он армянин. Может, случайно знаете? Не знаете. Жаль. А о Вадике Артумяне слышали? Не слышали. Странно… У меня очень много друзей армян. Иногда мне кажется, что я и сам армянин. Посмотрите – облик у меня смуглый. Глаза голубые. Армения меня привлекает. Однако в Марселе я не был.
Ожидавшие меня несколько ошарашены. Сесиль не ожидала такой болтливости.
Понимаю, что на сидящих за столом я произвел довольно сильное впечатление. Особенно знаниями. Они вытаращивают глаза, когда я закуриваю и продолжаю:
– В конце третьего века Григол Святой убедил короля Тиридата III, и тот провозгласил христианство государственной религией. В пятом веке армянская григорианская Церковь отделилась от римской Церкви, так как приняла монофизитство. А в начале шестого века она отделилась и от антиохийского патриарха. Интересно, правда? Однако в четырнадцатом веке была создана униатская армянско-католическая Церковь. Странно, но Рождество армяне празднуют на Трех Королей. Когда у меня гостила солистка ереванской оперы Гаянэ, она всю ночь варила блюдо хаш, редкую мерзость. Подумайте, вкусно ли хлебать отвар из свиных ног?! В шесть часов утра! Запивая водкой! Это одно из самых запомнившихся ощущений в моей жизни. Кроме того, она сломала телевизор. Причастие армяне принимают с первым крещением в виде вина. Вино их мне не доводилось пробовать, а вот коньяком баловался не раз. В изготовлении этого напитка они непревзойденные мастера. Когда откупориваешь бутылку хорошего коньяка, распространяется такой аромат, что только держись. Это неповторимо. В настоящее время эчмиадзинскому патриарху подвластны метрополии Иерусалима, Константинополя, Киликии, больше двадцати епископств в Северной Америке, епископства в Южной Америке, Европе, Азии. Во Франции до сих пор всей текстильной промышленностью владеют армяне. И это очень хорошо. Достаточно посмотреть на их изделия. Если бы так было и раньше, не произошла бы и забастовка лионских ткачей, причинившая такой большой финансовый и экономический ущерб государству. Армяне – мои друзья, а в Марселе их масса. Кстати, а вы не армянин?
Профессор из Марселя не ожидал такого зигзага в беседе, поэтому пожимает плечами, а я не даю ему заговорить и опровергнуть выдвинутую мной гипотезу:
– Армянин, – утверждаю я. – Вы настоящий армянин. Нос, глаза, пальцы, уши. Все говорит за то, что в вас есть армянская кровь. Ваша мамочка не жила в Меце? Мне кажется, что она родом оттуда. Конечно, иначе и быть не может. Мы, армяне, отличаем друг друга. Достаточно вспомнить нашу философию, историю. Никому из здесь присутствующих не нужно напоминать, что наше племя сформировалось в период древней империи Урарту. Кроме того, не надо забывать и более позднее влияние эллинизма. А что уж говорить о набегах турок-сельджуков, начавшихся с 1045 года! Правда, в этот период начинается упадок философии и культуры, однако с двенадцатого века все снова расцветает, а думали, что никогда уже больше не поднимется. Снова возникает интерес к наследию эллинизма. Снова изучается греческая литература, которую представляют Аристотель, Платон. Это очевидно. Достаточно вспомнить Иоанна Софиста, умершего в 1129 году. Это он защищал свободу мысли, ее рациональность. И только для того, чтобы человек мог выразить себя. А что уж говорить о жившем ранее Георгии Пахлавуни, который был весьма универсальным творцом. Он создавал поэзию, переводил греческие произведения на армянский язык, был математиком, писал труды по грамматике, философии. Кстати, он получил титул магистра от византийского императора. Такой оценки мало кому удавалось дождаться. А его анализ десяти категорий Аристотеля до сих пор считается лучшим. Может, доводилось его изучать?
Они сидят, проглотив язык. Повторяю вопрос профессору, доводилось ли ему изучать сделанный Георгием Пахлавуни анализ десяти аристотелевских категорий. Он делает вид, что да, и кивает. Сесиль не может скрыть, что о Пахлавуни слышит впервые. Остальные тоже. Им не по себе от того, что они так отдалились от культурного наследия племен, сформировавшихся на просторах империи Урарту. Не нужно делать кислых мин, когда приходит опоздавший человек, тогда не придется слушать непонятные и незнакомые вещи.
Профессор пробует исправить положение. Он хочет, воспользовавшись паузой, перехватить инициативу, поэтому начинает:
– Когда я был в Китае…
– А вот о Китае, – безжалостно прерываю его я, – не нужно! Не для того мы здесь собрались, чтобы говорить о последствиях культурной революции. Всем известно, какие они были, какие есть и какие будут. Только потеря времени, так как Китай слишком велик, чтобы мы могли объять его своим разумом. Особенно те, кто поражены европоцентризмом. Мы все ведь поделены на епископства и прикованы к папской власти. Все.
У мамочки и сестрицы Сесиль глаза все время вылезают из орбит. Не знаю, кто тянет меня за язык, однако жертв не отпускаю. Мне даже немного неудобно перед Сесиль, пригласившей меня на прощальный вечер. Но ничего не могу с собой поделать. Кажется, что сошел с ума. Нет, я здоров! Я в хорошем настроении! У меня есть силы делиться знаниями!
– Что хотите заказать? – вежливо осведомляется араб, подсовывая нам меню.
– Мне все равно, – сохраняя приподнятое настроение, заявляю я и уже хочу начать речь о болгарской религиозной мысли.
– Ты съешь это, это, это и это, – не дожидаясь, встревает Сесиль и тычет пальцем в меню. – И еще рекомендую это и то, другое, оно просто изумительно. Его не сравнить с этим, потому что это совсем простое, а то неповторимо. Это тоже терпимо. А это! А это! Невыразимо… Это! Это неплохо…
Теперь уже я сижу как дебил, вытаращив глаза. Не понимаю, что она предлагает и чего от меня хочет. Киваю, как и они минуту назад. Я со всем согласен. Не разбираюсь в ливанской кухне. Я пришел сюда не есть, а побыть на людях. Сейчас я мог бы напомнить ей, что всегда приятно встретиться с незнакомыми людьми, услышать их мнение о том или другом.
– Ты должен это попробовать, – не отпускает меня Сесиль. – Я каждый раз, когда прихожу сюда, его заказываю. Мустафа готовит его лучше всех ливанцев. Он еще добавляет такие штучки, которые даже не знаю из чего сделаны. Всегда всех спрашиваю, и никогда никто не угадывает. Если хочешь, можешь и ты попробовать. Оно интересное. Правда, иногда в нем чего-то не хватает, но все равно интересно. Очень интересно.– И еще предложи ему это, – влезает профессор Марсельского университета, чье имя я не способен запомнить.
– Можно и то, другое, – дополняет его мамочка Сесиль.
– Я рекомендую только это, – не упускает случая дать совет сестрица.
Сижу, забыв, что недавно хотел сказать о болгарской религиозной мысли. Они пробили мою оборону, поэтому хочу и то, и это, и еще другое. Словом, армяне, философия, история, религия, теология отдаляются, уступая место дилемме: то или это попробовать.
– Мы будем пить ливанское вино. – Сесиль полностью перехватывает инициативу вечера. – Будем пить красное ливанское вино.
– Ливанцы пьют вино и им торгуют? – успеваю я спросить.
– Они христиане.
Мне нравится, что эти ливанцы христиане. Сейчас я хотел бы уже всем им рассказать, как встретил в Дрездене ливанских христиан и одурманивал себя вместе с ними крепкими алкогольными напитками. Досадно, однако инициатива больше мне не принадлежит. Этот идиот-профессор уже рассказывает, что ему доводилось пробовать в Китае. Перепробовал он немало, поэтому без остановки называет блюда, составляющие их части. Я вынужден объявить перемирие. Надеюсь прийти в себя и взять сценарий вечера в свои руки. Рассказ его не слушаю, даю отдышаться разуму и мысли. Сознание мне благодарно. Уже чувствую свое ритмично бьющееся сердце. Перемирие приближается к концу. Оглядываю так называемый ресторан. Кажется, это не обычная забегаловка с несколькими столами. Дешевый интерьер, дешевая мебель, дешевое освещение. Все это отдает простотой, однако не бедностью. Посетителей, правда, кроме нас, больше нет. Не думаю, что сюда заворачивают целые вереницы.
Марселец все не кончает рассказ о Китае. Сейчас он, словно барбизонец, рассказывает о природе, о которой, мы знаем, можно говорить всю жизнь. Особенно когда нечего сказать. Особенно когда ничего не смыслишь в древней армянской культуре. С другой стороны, тема природы за столом универсальна. Взявшийся за нее всегда защищен от возражений и споров. Без сомнения, могут встретиться и осложнения. Например, не зная, что напротив тебя сидит садовник, начинаешь плести, мол, крокусы осенью завязывают плоды, которые потом хорошо лечат стигмы. Подобными рассуждениями садовников можно обидеть. Однако их так мало, что о природе можно говорить что угодно.
Метрового роста официант-ливанец, щеголяющий бакенбардами девятнадцатого века, ставит на стол кулинарные чудеса своей страны. Скоро я их попробую. Мне страшно хочется познакомиться с ливанской кухней… Вонзаю вилку в кусок мяса. Макаю в подливу. Кладу в рот.
Впечатление такое, словно съел блевотину. Слово «невкусно» не подходит. Слово «отвратительно» слишком мягкое. Слово «мерзко» ничего не говорит. Хочу все это выплюнуть. Хватаю бокал с вином, куда упала часть куска, пережеванного с подливой и моими слюнями. Речь о Китае прерывается. Все устремляют взгляды на меня. Инициатива перехвачена.
– Вкусно? – спрашивает меня Сесиль.
– Это специфическое блюдо, – вбивает кол мне в сердце профессор.
– Уникальная подлива, – не отстает мамочка Сесиль, пробуя другое блюдо.
Едва держусь, мне вот-вот станет плохо. За столом не блевал уже лет двадцать. Может быть, и больше. Последний раз, помню, облевался в столовой курортного города перед часами, которые предательски тикали, отсчитывая, спустя какое время я буду вынужден выгрузить съеденное. В тот раз облевал не только стол, но и сидевших рядом, которым еда казалась вполне подходящей.
– Вина! – успеваю я крикнуть, глотая поднимающуюся блевоту.
Сестра Сесиль, сидящая рядом со мной, услужливо наливает. Хватаю бокал и мгновенно осушаю его. Это, конечно, признак дурного тона. Однако сидящие не могут догадаться, что бы с ними случилось, если бы я попытался пить вино глотками.
Пока борюсь со спазмами, они уплетают за обе щеки. Выглядят довольными. Скорее всего, наказывают меня за слишком большую любовь к армянам. Их кара коварна.
Когда я уже почти одолеваю подступившую дурноту, Сесиль отваживается цинично осведомиться:
– Неужели невкусно? Ешь, остынет.
– Вкусно, вкусно, – говорю я и глотаю вино, без приглашения налив себе в бокал.
Не знаю, как избежать этого блюда. Хватаюсь за соломинку.
– Ваши прадеды не были бедуинами? – подозвав к столу метрового владельца бакенбардов, справляюсь я у него.
– Я и сейчас бедуин, – с энтузиазмом отвечает он.
Между нами завязывается беседа, поэтому я могу продолжить и увернуться от еды его собратьев.
– До Магомета на Аравийском полуострове исповедовали политеистическую религию, – говорю я ему.
– Разумеется, – отвечает сообразительный официант, который нравится мне в тысячу раз больше, чем принесенная им еда.
– А как вам Куста ибн Лука, как вы оцениваете его? – спрашиваю, потому что мне интересно его мнение.
– Как я могу плохо его оценивать?! Как я могу плохо о нем думать! – начинает наследник бедуинов. – Хоть он и был сирийцем (мы их не любим), однако я вижу в нем самую светлую личность. Вижу его на белом фоне. Но вижу и темные контуры, выплывшие из Баалабакки и пытающиеся приблизиться к нему. Я с детства сплю с его «Различиями души и тела». Это мой самый любимый трактат, вначале несправедливо приписанный перу Августина Аврелия.
– А как вам нравятся переведенные им с греческого языка комментарии к «Физике» Иоанна Филопона?
– Он и «Физику» Александра из Афродизии перевел не хуже, а также произведения Псевдоплутарха. Его арабский язык безупречен. Он совершенен. Простите, у меня много работы…
Знаток арабов удаляется. Теперь я могу больше не есть и делать вид, что обдумываю жизнь и творчество Кусты ибн Луки. Никто мне больше не мешает. Никто не пытается заставить меня есть. Наливаю вина и, прищурившись, как бы погружаюсь в девятый век, в котором засверкали способности ибн Луки к философии, математике и медицине.
Профессор жаждет по всем вопросам иметь собственное мнение. Ничего нового в этом нет. Сквозь прикрытые глаза я вижу, как светоч науки из Марселя напрягается и насилует свою память, пытаясь вспомнить хоть одну арабскую фамилию. Понимаю его. Сочувствую, потому что знаю, как это трудно. Действительно очень трудно. Очень трудно.
– Аль-Аллаф, – несмело произносит он, давным-давно забыв про расхваленную еду.
– Абу Хузайл Мухаммад ибн Аль-Аллаф, – поправляю я его и жду, что он скажет дальше.
Увы, добавить ему нечего.
– А настоящее имя Ибрагима Ан-Наззама – Ибрагим ибн Сайяр Ан-Наззам… А Аль-Джубая – Абд Аль-Ваххаб Аль-Джубай. Кроме того, настоящее и полное имя Аль-Кинди было Абу Юсуф Якуб ибн Исхак Иибн ас-Саббах Аль-Кинди. Вот так, – заканчиваю я.
Вечер кончился. Заглянуть в гости, куда идут другие его участники, отказываюсь, поэтому иду на автобусную остановку, а сопровождает меня не очень разговорчивая Сесиль.
– Спасибо за замечательный вечер, – благодарю я ее.
– Не за что. Мне тоже было приятно.
Она все-таки отличается терпимостью. Ждем автобуса. Уже за полночь.
– Я надолго уезжаю в Россию, – начинает она. – Не знаю, когда вернусь, – через год, через два? Не знаю…
– Когда-нибудь вернешься, – как бы утешаю я, однако в глазах ее читаю, что не о России она хочет со мной поговорить.
– Я хочу тебя попросить, – говорит она мне.
– Проси. Все можешь просить.
– Все мне не нужно. Мне нужна только одна вещь. Сделаешь ее? Сделаешь?..
– Сделаю. Почему не сделать?! – ободряю ее.
– Я очень хочу, чтобы ты это сделал. Очень.
– Сделаю. Скажи что.
– Сделаешь?
– Сделаю-сделаю.
– Если как-нибудь случайно, – осмелев, начинает она, – если случайно ты его встретишь. Его, ты знаешь, о ком я говорю. Знаешь? Если ты его встретишь, скажи, что ты ему даже немного завидуешь. Скажи, что ты ему завидуешь, что я его так люблю. Скажешь? Скажешь или нет?.
– Конечно. Скажу, – обещаю я и вижу, как подъезжает автобус, который разлучит нас. – Скажу, – обещаю, целуя ее в щечки и чувствуя прикосновение ее губ к своим. – Скажу…
На Восточный железнодорожный вокзал через десять минут должен прибыть Восточный экспресс. Пытаюсь вспомнить все криминальные истории, случившиеся в этом поезде, описанные и выпущенные миллионными тиражами. Ни одна не вспоминается, однако Восточный экспресс мне кажется страшным, вызывает недоверие и дрожь в теле. Поезд, как и полагается, опаздывает. Жду Марка, позвонившего мне вчера из Австрии и пообещавшего приехать в Париж этим поездом.
К встрече друга я подготовился: купил четыре бутылки вина, колониального рома, голландского сыра. Должно бы хватить. В ожидании поезда мечтаю, как откупорим бутылку и будем потягивать из нее. Хочется выпить. Хочется опьянеть. Хочется сбежать от парижского маразма, основательно подмывшего плотину моего сознания.
Ожидающих Восточный экспресс не один, не двое и не пятеро. Добрая сотня людей встречает Восточный экспресс. Маршрут популярный. Слышу, как рядом со мной разговаривают венгры, немцы, румыны. Поезд подходит.
До предела сосредоточившись, стою в хлынувшей из поезда толпе. Один за другим мимо меня проплывают чужие и незнакомые лица. Их множество. Только здесь можно увидеть такое разнообразие форм черепа. Антропологи могли бы писать на Восточном вокзале свои научные труды, эмпирически проверять теории, сортировать, классифицировать. Они еще не нашли это место. А может, забыли? Неожиданное разнообразие черепов. Мой тоже попадает в это разнообразие. Кто-то уставился на меня, но его быстро постигает разочарование. Да, не тот. Стою, прищурившись, под световым табло, изгнав из подсознания страх того, что оно сейчас может упасть на меня. Кто-то вручает цветы, кто-то начинает плакать, кто-то смеется, кто-то хлопает другого по плечу. Толпа валит по-прежнему. Марка не видно, хотя мимо меня уже тянется хвост этого каравана, такой похожий на плавник русалки.
– Привет, – слышу знакомый голос.
– Хайль Гитлер! – отвечаю автоматически.
Рядом со мной стоят Марк и девушка. Мы не виделись почти год, а много лет назад договаривались встретиться в Париже. В это мгновение исполняется наша мечта, когда-то казавшаяся абсолютно недостижимой. Обнимаемся. Девушку не знаю, но не упускаю случая поцеловать ее в щечки. Как-то и нечего сказать. Стоим и смотрим друг на друга. Толпы уже давно нет. Она молниеносно растаяла в городе, умеющем убивать самые чистые надежды.
– Как доехали? – спрашиваю, так как, встретившись по прошествии долгого времени, надо обязательно воспользоваться этим архетипом, этим штампом общения, этим универсальным инструментом беседы, как сказал бы создатель инструментализма Дьюи.
– Не спрашивай! – Перехватывает эстафету общения Марк. – Страшно. Ехали с немецкими школьниками. Они сели ночью в Штутгарте. Кричали, орали, пили. Потом облевали весь вагон. Чуть на меня не попало. Учителя сидели в уголке и даже замечания не сделали. Страшно. Кошмар. Они подрались.
– Я похоже ехал из Варшавы в Краков. Было точно так же. Они тоже блевали. Но потом я увидел, что их опекает священник, правда, тоже не сделавший ни единого, даже самого осторожного замечания. Было восхитительно.
Должны были бы идти, а мы все еще стоим на перроне Восточного вокзала. Темы для разговоров вроде бы и кончились. Беру в свои руки инициативу, тем более что чувствую себя как бы хозяином.
– Программа такая, – говорю, – сейчас едем ко мне, едим, пьем, отдыхаем, после этого в гостиницу. Хорошо?
Кое-как пробиваемся в метро. В подземных лабиринтах чувствую себя, как рыба в воде. Ненавидящие несправедливость французы проверяют наши билеты. По громкоговорителю объявляют, что на другой линии произошло самоубийство. Едем молча. Наши рты заперты. Ничто не может так совершенно парализовать их, как время.
На улице Кастаньяри меня приветствует Дружок.
– Сегодня будет жарко, – произносит он неоригинальную фразу.
– Очень жарко, – подтверждаю я не более новой фразой.
– Выпьем, – говорю я, когда мы уже дома, и те, кого я встречал, без слов разваливаются на знаменитой софе.
– Сейчас?!! – улавливаю неслыханную из уст Марка интонацию.
– Сейчас. А что тут такого?
– В девять часов утра?! Так рано?!
Его безразличие меня нокаутирует. Не могу поверить. Я два месяца ждал этого момента, а он отказывается выпить. Это бессовестно, но надежды не теряю.
– У меня есть вино, пиво, ром, – соблазняю я.
– Так еще очень рано, – вгоняет меня в безнадежность Марк.
– Тогда, может, пива? – предлагаю я в отчаянии.
– Не хочу. Чая. Лучше всего фруктового.
Понимаю, что в этот момент происходят странные вещи. Это недоразумение. Решаю: если он откажется выпить, буду пить один, но попытаюсь еще раз.
– У меня есть белое, красное вино.
Не помогает. Грею воду для чая. Я недоволен, никто меня так не нервирует, как любители чая. Я побежден, но не сдался. Капитуляция еще не подписана: Кейтель, сидя в тюремной камере, еще сомневается…
– У меня есть алжирское вино, – бросаю я последний козырь.
– С этого и надо было начинать, – приходит в себя Марк. – Алжирское не пил лет десять.
Откупориваю бутылку. Наливаю вино в еще вчера заготовленные бокалы, и такая легкость, такая доброта обнимает душу… Вино расслабляет все мышцы. С плеч спадает утренняя ноша. Нервозность и раздражительность исчезают. Кажется, у них тоже. Ясно, что тоже. Мы уже пьем по третьей, пробуем ром. Марк вытаскивает из сумок привезенное австрийское, которое велел купить своей спутнице и коллеге Римме. Все прекрасно. Мир уже вращается. Он не может вращаться без горючего. Вечного двигателя нет. Академия наук Франции уже больше ста лет не принимает проекты. С миром вращаемся и мы. Идет как по маслу. Рассказываю, как однажды, напившись водки, зашел в бар, заказал бокал горячего вина и, выпив его, сразу же протрезвел. Прихлебываем пиво, запиваем его вином, разводим ромом. Предлагаю текилу. Тоже пробуем. У меня еще есть литовская водка, однако она не выдерживает конкуренции с остатками «Порто». Еще только десять часов, а мы уже веселенькие. Особенно я. Лучше и быть не может. Такое событие необходимо отмечать. Отмечать не одно утро. Такое событие надо отмечать каждый день – утром, вечером, ночью. Мы должны пить и пить. Веселиться и веселиться, чтобы компенсировать то, что было отнято у нас в течение тридцати лет. За несколько дней, за несколько недель, за несколько месяцев мы обязаны вернуть себе все это. Мы должны быть совершенно пьяными, чтобы забыть, откуда мы, кто мы и что нас ждет. Мы должны опьянеть, забыть маразм и впасть в другой, может быть, точно такой же, но когда-то желанный. Я пьян. Пьян, но опьянение мое не такое, какое я испытывал раньше. Не депрессивное. Оптимистическое, пускающее в ход механизм мышления и речи. Это светлое опьянение, которое не могут одолеть никакие, самые разные сорта алкоголя. Все хорошо. Хмель приятный, легкий, в сон не клонит. Ради одного этого можно было бы от многого отказаться. Вращается, вращается, вращается. Алжирский столик опрокидывается, окурки выбрасываются за окно, движения некоординированные, однако они такими и должны быть, если мы сегодня вместе в Париже. Не в Риме, не в Берлине, не в Лиссабоне, а в Париже, в котором, кроме нас, больше никого нет. Мы пьянеем, трезвеем и все пьем, пьем…
– Я иду в душ, – говорит Римма.
– Я после тебя, – не возражает Марк.
Все обретает смысл и все теряет значение.
– Попьем оба в Париже, – говорю Марку. – Мы должны попить. Другого случая может больше и не представиться.
– Попьем, – одобряет он и развеивает последние сомнения относительно абстиненции.
Провожаю их в отель, названный звучным именем Паскаля. Паскаль здесь ни при чем. Ни при чем и янсенисты, с которыми он когда-то сошелся. Мы опьянели, поэтому материя, материальные блага нас не волнуют. Только с этой точки зрения мы близки к Паскалю. Может быть, ближе, чем все остальные.
– Здесь должна быть зарезервирована комната, – говорю я портье на страшном английском, кроме того, едва ворочая языком.
– Да, есть, – говорит портье, не способный оценить нашего счастья.
Лезем по скрипящим деревянным ступенькам под самую крышу отеля. Отель ахает, увидев нашу доселе невиданную компанию. Подобным образом должен был ахать и приют Оскара Уайльда, превратившийся в наше время в пристанище богачей.
– Приглашаю на обед к себе домой, – говорю им, от усталости рухнув на невообразимой ширины кровать. – Часа в четыре. Нет, приходите раньше.
Иду на улицу Кастаньяри. Дружок сегодня ошибся. Метеорологическое предчувствие его обмануло. Сегодня льет. Я опять мокрый. От слез.Вся Европа опутана фекальными трубами. Порой они лопаются. Прихожу в ярость, однако ничего не могу изменить. Джим просит помощи. Он подрывает всю мою систему. Увы, у меня не хватает сил уберечь ее, поэтому соглашаюсь и иду к нему в студию. Знаю, что придется наплевать на больную руку и готовить еду для будущих гостей. Это бесит меня еще больше, но вида не показываю. Культурный человек, говорят, должен уметь управлять своей злостью. Это мне удается с большим трудом.
– Садись и отдыхай, – говорит мне Джим, когда я уже у него дома.
– Ты же сказал, что надо будет помочь?
– Отдыхай, еще много времени.
Сажусь во дворе на стул. Тут же ко мне подсаживается Йоко. Она тоже отдыхает в ожидании дальнейших указаний.
– Ich liebe dich, – начинает она сыпать неоригинальными словами.
– Ja, ja, – отвечаю.
За окном в студии вижу красавца Джека. Он меньше и толще, чем в прошлом году. Красуется в желтой рубашке, на которой – симпатичный зайчик, возможно, символ сексуального меньшинства. Петер равнодушно листает газету. На кушетках спят две особы. Девицы. Одна, кажется, совсем неплоха. Зато другая храпит. Бойкий малый, скрывающий свой настоящий возраст, приглашает меня внутрь. Ему должно быть около пятидесяти, но выглядит, словно полгода назад кончил гимназию. Он наливает мне вино в бокал. Это действие доставляет Джеку удовлетворение. Я догадываюсь, что Джеку он весьма по душе. Недаром он фланирует, подобрав живот и подтянувшись.
– За здоровье! – говорит мне этот пожилой юнец, когда мы все сидим за столом.
Снова залпом выпиваю вино. Замечаю, что юнец уже в переднике, в который его заботливо нарядил Джек. Передник подходит. Кажется, будто он родился в нем.
– Я летчик, – плетет он мне о себе. – Сегодня прилетел из Нью-Йорка. Прилетел – и попал сюда. Сейчас готовлю еду.
– Ты здесь первый раз?
– Я ненадолго. Завтра вылетаю обратно.
Оптимизм юнца мне нравится. В Париже едва полдня, а не упускает случая помочь незнакомым. Услужливый. Трудяга. Помощник. Много слов можно было бы найти, чтобы его охарактеризовать. Он все шутит. Выносливый. Атлантика его не утомила. Хотя его и не просили, бросается к раковине и помогает проснувшимся соням мыть бокалы. Они, кстати, тоже американки, которых приютил Джим. Подозреваю, они еще не знают, какие услуги придется оказывать жителям и гостям этой студии. Петер не дремлет. Бросает газету и прижимается теперь к той, что покрасивее. Я замечаю, что у нее очень мускулистые ноги. Девушка щедрая – разрешает себя потискать. Йоко снисходительно наблюдает за этим действием. Может быть, немного и завидует, однако терпит. Вторая американка идет умыться. В ванную она не успевает, потому что летчик уже поит ее вином. Джек издает радостный крик. Только теперь вижу, что на нем широкие синие карликовые брюки, развевающиеся вокруг ног, словно паруса пятимачтового судна. Всем очень весело. Веселею и я, так как летчик меня не забывает. Наливает уже третий бокал вина. Откупоривает еще одну бутылку. Йоко снова признается в любви. На этот раз к летчику, однако тот остается равнодушным. Джек доволен. Насвистывает, изгибается, показывая неожиданную для толстяка пластику. У летчика от счастья темнеет в глазах. Петер пытается укусить девушку за палец ноги. Та ойкает, однако сует Петеру в рот другой. Лежит, пьет понемногу вино и смеется над страстью, обуявшей немца. Ее подруга вроде бы собирается всех нас оставить. Она очень хочет в ванную, а может, и в туалет. Увы, усилия бесплодны. Джим, спустившийся по ступенькам из своего логова, хватает ее в охапку и целует в невинные щечки. Ей хотелось бы убежать, но она не отваживается, так как Джим здесь хозяин, а капризы хозяина всегда святы. Джек шлепает летчика по заду. Все довольны. Все счастливы. Никто и не вспоминает, что через час сюда нагрянут сотни гостей. Без спроса наливаю себе вина. Я доволен, что они такие счастливые. Я счастлив, что могу быть свидетелем их радости. Джек смеется, как девочка. Он даже не скрывает, что в этот момент он самый счастливый человек в мире. Делится своей радостью: обнажает руку и показывает летчику, как удачно загорел в солнечной Калифорнии. Летчик не может надивиться на рыжину его кожи. Как контраст демонстрирует свой живот – белый, словно гренландский снег. Они по-прежнему не перестают любоваться друг другом. Петер не отпускает лежащую. Кажется, скоро начнет жевать ногти у нее на ногах. Йоко улыбается мудрой восточной улыбкой. Джим мнет у схваченной бедро, а она давно уже больше не хочет в ванную.
Всеобщее блаженство прерывает несмело вошедшая пара. Они тоже американцы. Вежливо осведомляются, будет ли вечер, не слишком ли рано пришли. Джим недоволен. Я вижу, что он разъяряется, однако ему нельзя подавать вида. Изящно выманивает их во двор.
– Идиоты, пришли на целый час раньше, – заявляет он, беря стулья, предназначенные для мягких мест пришедших. – Я их даже не помню. Говорят, что десять лет назад познакомились у меня, а позже поженились. Теперь пришли отпраздновать десятилетие супружеской жизни. Идиоты!
Пока Джим разговаривает с ними, в студии закипает работа. Джек что-то режет, летчик моет, Петер смешивает, американки чистят, Йоко взбивает. Я пытаюсь всего этого избежать, но безуспешно. Через мои руки проходят лук, чеснок, мясо, подливы, фрукты, сливки и другая мерзость, которой вскоре будут наслаждаться изголодавшиеся гости. Джек в бешенстве, что не успевает. Свою злость он изливает на ни в чем не повинного Петера, который, опустив голову, стоит теперь в углу, ужасно раскаиваясь. Джек кричит, завывает, но стоит ему взглянуть на летчика, и злость отступает, а лицо заливает по-прежнему соблазняющая и увлекающая улыбка. Он даже находит возможность сделать несколько пластичных движений, которые удаются ему в совершенстве. Летчику, видно, это нравится. Он все шутит. Шутит и больше не моет посуду, так как весь мир для него теперь заключен в Джеке. Петеру после устроенной Джеком бани впору плакать, но он справляется с собой. Йоко запевает национальную мелодию. Американки очень быстро начинают потеть. Запах приготовляемой еды смешивается с запахом пота. В студию возвращается выгнавший юбиляров Джим.
– Идиоты. Дураки – пришли на целый час раньше, – не может удержаться, чтобы не пожаловаться, Джим.
Волочем с Йоко котел с десертом на второй этаж. Старушка с невинным лицом открывает нам двери и показывает, куда его ставить. Возвращаемся. Оказывается, Джим забыл засыпать десерт клубникой. Снова беспокоим старушку. Снова тащим котел в студию. Нет, оказывается, все хорошо – этот десерт ни в коем случае нельзя украшать клубникой. Тащим назад. Старушка смеется над нами. Йоко повторяет, что по-прежнему меня любит. Не удается ей сказать это без акцента.
Джек обливает свои синие красавцы-брюки жиром, поэтому ругается. Кажется, ему и немного больно. Он подпрыгивает, схватившись за гениталии. Не дай Бог, еще ошпарился. Летчик тоже взволнован. Мягко гладит Джека по плечу и успокаивает. Однако страдать нет времени. Нет времени утешать. Время работать. Победивший боль Джек снова у плиты. Летчик снова при мусоре. Грустный Петер чистит морковь. Американки мокрые, как русалки. Та, что покрасивее, пытается улыбаться, обласканная Джимом таращит глаза. Вторая, похоже, переработала. Она на глазах начинает походить на мужчину. Все так заняты, что даже не видят этих феноменальных перемен. Песня Йоко очень жалобная. С каждым отрезанным куском пирога грустнее и грустнее.
Все застывают, когда снова видят в студии юбиляров. Лицо Джима искажает сатанинская усмешка. Эти юбиляры на редкость глупы. Джим опять выпроваживает их, заручившись обещанием, что они вернутся не раньше чем через час. Приунывшие герои свадебного торжества уходят. Небрежно замечаю, что их, может быть, стоило бы убить и изжарить. Йоко откликается, говоря, что человечина ей не нравится. Американкам противно. Джек снова насвистывает, так как только что к нему прижался летчик. Джим стонет, но одолевает десяти литровую канистру вина и выносит ее в коридор. Разбираю плоды авокадо. Петер режет лук и наконец начинает плакать. Никто, к сожалению, его не утешает. Летчик вспоминает еще одну веселую историю и забывает, что нужно мыть посуду, сортировать мусор. Джек доволен, хотя у него и подгорело жареное мясо. Пользуюсь случаем и выхожу во двор покурить. Спокойно. Никто не замечает моего отсутствия. Откуда ни возьмись, приходит Петер. Дрожащими руками достает сигарету. Успеваю дать прикурить. Мне его чуть-чуть жаль, хоть он и создает в свободное время компьютерные программы и знает Сантану.
– Эркю! Эркю! – окликает меня Джим. – Ты пойдешь с ней, – показывает он мне на ту, которая уже полчаса, как стала мужчиной, без грудей и с челюстями рецидивиста.
Иду с ней по улице Алезья в кулинарию, где нам велено произнести имя Джима. Только и всего. Дальше якобы все произойдет само собой.
– Джим, – хором произносим мы, обращаясь к несколько ошалевшей кулинарше.
Она что-то хрипит в ответ. Можно понять, что никакого Джима она не знает. Моя спутница повторяет то же еще раз и вонзает в нее выразительный взгляд. Тут начинается. Продавщица сладостей сует нам хлеб. Не знаю, зачем нам нужно было идти вдвоем? Может быть, Джим хотел оказать мне услугу? Спасибо, мне не нужны такие услуги.
– Я очень плохо говорю по-французски, – говорит она мне, когда мы пересекаем улицу Томб-Исуар.
– Я совсем не говорю, – отвечаю ей. – И нисколько из-за этого не переживаю.
– Я знаю всего несколько слов.
– Я тоже знаю.
– А что ты знаешь? – вроде бы с любопытством спрашивает она.
– Знаю: я хочу с тобой потрахаться.
После этого признания она успокаивается и больше вопросов не задает. Я немного ее разочаровал. Но, с другой стороны, нечего спрашивать бессмысленные вещи. Я ответил откровенно, так что нечего злиться.
Когда мы возвращаемся, первые гости уже стоят в ожидании во дворе. Они еще не отваживаются одурманивать себя вином. Джим представляет меня, однако я уворачиваюсь и заявляю, что мне пора на встречу, что мне очень жаль, но должен всех оставить. Исчезаю за воротами двора, где сталкиваюсь с топчущимися гостями – бедняжки, не запомнили код.
У церкви Святого Петра меня уже ждут. Марк и его коллега пунктуальны, как какие-нибудь австрийцы, немцы, швейцарцы или отчасти эльзасцы. Приходится извиниться, что опаздываю. Веду их к Джиму. Вижу, как по Алезья двигаются группы людей. У нас одна и та же цель. Они идут к Джиму. Когда оказываемся во дворе, вижу массу народа. Джим по-прежнему хорошо помнит имена, поэтому не перестает представлять моих друзей. Я показываю самое важное – где вино, – и ныряю в трясину разговоров.
– Познакомься! – кричит мне Джим с балкона. – Это твоя соотечественница.
Вижу особу, которая в семидесятые годы должна была бы быть хиппи. Не могу оторвать глаз от ее выкрашенных красным лаком ногтей на ногах и сандалий, скрывающих эротические ступни.
– Я пою на девяти языках, – начинает она без предисловий, не оставляя мне даже паузы, чтобы выразить удивление. – Пою на девяти языках: по-английски, по-французски, по-литовски, по-немецки, по-датски, по-эстонски, по-шведски, по-испански и на санскрите.
– Вот это да! – якобы удивляюсь я, однако лакированные ногти не позволяют мне удивляться и пленяться ее личностью.
Не знаю почему, но жалею, что начал беседовать с ней на родном языке. Пока что она мне ничего плохого не сказала. Может быть, и не скажет, однако возникает неодолимое желание как можно скорее от нее сбежать. Увы, поздно. Снова накликал на себя беду, так что придется терпеть ее общество.
– Сейчас пою на санскрите, – продолжает она легенду о себе. – Это будет уже мой второй диск.
– Ого!
– Да-да, второй. Нас девять: конголезец, два француза, баск, чилиец, индус, египтянин, еврей и я – литовка. Нас очень любят, так как мы отличаемся. Не такие, как все. Мне нравится петь на санскрите.
– Еще бы!
– Раньше я пела по-французски, по-английски, по-немецки, по-эстонски, по-датски, по-шведски, а сейчас пою на санскрите.
Я хочу наконец прервать ее, поэтому осмеливаюсь справиться, где она выучила санскрит. К сожалению, оказывается, сама, все сама, самостоятельно. И играть на гитаре тоже самостоятельно. Все самостоятельно. Мне остается только подтвердить, что она очень способная, однако это замечание застревает в горле, и я ее не хвалю. Мог бы, конечно, похвалить, но не выходит.
– Ого! На санскрите! – восхищаюсь я. – Как трудно на санскрите петь! Как трудно!
– Трудно, – соглашается она. – А что делать?! Что делать?! Нужно. Если мы не будем петь на санскрите, то кто же еще будет?!
– Верно. Кто же еще будет петь?!
– На санскрите очень хорошо петь.
– Верно.
– Нужно что-то иметь внутри. Если имеешь, тогда можно петь на санскрите. Нужно иметь.
По ногтям на ее ногах видно, что она что-то имеет. Что имеет, то имеет. Одни называют это безумием, другие – шизофренией, третьи – психопатией. Мы это называем «чем-то», то есть тем, что позволяет петь на санскрите. Хочу сбежать от нее, но это что-то тянет за язык, и я говорю:
– Мне было бы так интересно с вами поговорить, услышать, как вы поете на сансите…
– Санскрите, – поправляет она.
– Как вы поете на санскрите, – продолжаю я. – Очень хотел бы с вами встретиться, может, в другое время, в другой обстановке. Меня санскрит очень интересует. Он, будем откровенны, просто восхитителен.
Договариваемся, что я ей позвоню. Бегу от нее, как черт от креста, как вампир от чеснока. Передаю ее Марку. Уходя, слышу, как она размышляет вслух:
– Почему в Литве все такие грустные?..
Всегда спасает вино. Стою в коридоре, попиваю и вижу, как мучается Марк. Терпение у него слабое. Скоро сбежит.
– Что это за дура, с которой ты меня свел? – не перестает он потрясенно изумляться. – Она психованная.
Советую не принимать так близко к сердцу. Предлагаю вина, и мы пьем дальше. Какой-то пушистый цыпленок объясняет нам, что композицию лучше всего изучать в метрополиях, а не в колониях. Нам удается предельно быстро от него избавиться.
Йоко раздает кулинарные чудеса Джека. Все жрут. Я тоже с удовольствием поел бы, но меня очень интересует вино. Марка, правда, тоже. Он пьет и пытается понять, что плетет на диалекте американских марсиан подошедший к нему старичок.– Он спрашивает тебя, не мог бы ты ему помочь, – говорит мне выбитый из равновесия Марк.
– Всегда готов, – отвечаю я тому старичку, выражение лица которого столь же солидно, как и его костюм стоимостью в семь тысяч.
– Что вы могли бы мне сказать о сжигании мусора в Восточной Европе? – хватает он быка за рога.
– А что вас интересует?
– Меня интересуют территории, которые можно было бы купить.
– Ради Бога, их множество. Нужно только уметь выбирать.
Марк пятится к канистре с вином. Остаюсь один, но ничего не боюсь, так как мне только дай поговорить о сжигании мусора в Восточной Европе. Это моя самая любимая тема.
– Я сжигаю мусор всего Нью-Йорка. Мог бы сжигать и мусор восточноевропейский, – вызывается он.
– Это было бы большим подспорьем, – одобряю я. – Я как раз готовлю рекомендации по этому вопросу для Европейского союза.
– Да что вы!..
– Да. Вы встретили как раз того, кто знает все о сжигании мусора. По моим рекомендациям, между прочим, был осуществлен проект в Океании.
– В семьдесят девятом?
– В феврале месяце, – уточняю я.
Договариваемся встретиться и вместе поджечь тот мусор, которого в последнее время скопилась не одна тонна. Не возражаю, чтобы часть нью-йоркского мусора привозилась в Литву, где бы и сжигалась. Эта мысль ему очень нравится. Словом, ударили по рукам. Он отправился дальше устраивать свои профессиональные дела, а я – за вином.
Не знаю, какой пью бокал, однако все еще слышу и вижу – гости снуют и жужжат, как пчелиный рой. Джим без устали представляет одних другим. Марк немного захмелел. Вижу, как он по-приятельски хлопает Джима по плечу. Хотя я и сам пьян, понимаю, что Джим не испытывает удовольствия. Подзываю Марка к себе.
Покачиваясь, мы беседуем с одной старой девой. Она якобы архитектор, поэтому договариваемся встретиться. Разумеется, у нее дома. Теперь уже она сбегает от нас, неосмотрительно оставив свой номер телефона и адрес. Наливаем себе еще вина. Мимо проходит польская писательница, живущая по поддельному паспорту. Меня не узнает. У этих писателей короткая память.
Мелькают лица. Мы пьяные. Джим делает знаки, что пора выматываться. Гости расходятся. Мы еще не уходим. Марк опять не упускает случая похлопать его по плечу. Вроде бы пора идти. Пора. К сожалению, замечаю композитора-концептуалиста. Меня заливает тоска. Поэтому обнимаю его и целую в бороду. Он, привыкший к голливудской жаре, терпит и поток моих теплых чувств. Бедняга объясняет, почему мне не позвонил. Я ему прощаю. Всем все прощаю. Чувствую себя бесконечно добрым и любящим весь мир. Марк тоже полон любви. Ее не хватает только коллеге Римме, упрекающей нас, что мы напились.
– Мы пьем не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы было весело, – говорю я ей, когда идем по улице Алезья к метро.
Она не понимает. Не понимает и польский концептуалист, ведущий меня под руку. Пытаюсь петь. И допеваюсь. Неизвестно откуда рядом с нами возникает босой клошар и предлагает глотнуть его вина. Хоть мы и пьяные, но отказываемся. Продрогший концептуалист оставляет нас. Долго прощаюсь с Марком. Завтра утром снова встретимся.
Большим усилием воли мы заставляем себя выговорить по-санскритски:
– Хороший человек этот Джим.
Неприятно, но мертвых все больше. Они множатся, как те кролики в Австралии, от которых так и не могут найти защиту предприимчивые фермеры. Вся земля – одно сплошное кладбище. Воздух отдает смертью и гнилью. Конечно, можно было бы что-нибудь изменить, однако живые не находят сил, а может, им просто-напросто не хватает фантазии. Я один из живых. Пока что. Поэтому меня волнуют мертвые. Иду на кладбище. Иду туда, где сосредоточено то, чем живу. Все хвалят это кладбище. Многие им гордятся и втайне надеются быть здесь похоронены. Может быть, действительно очень важно жить надеждой, что будешь похоронен там, где хочешь лечь. Город живет на кладбище. Город его кормит. Все шлет и шлет жертвы в его ненасытную пасть, одним приготовив роскошные торжества, а других провожая несказанно равнодушно.
Все идет к черту, поэтому слоняюсь по кладбищу, ищу известные имена, читаю выбитые на памятниках банальные надписи, возвещающие, что весь мир пошел ко дну и тонет в глубокой грусти. Все надписи лживые и циничные. Должно быть, так удобнее. Не ищу причин. Они мне неинтересны, поэтому только хожу от одного памятника к другому, смотрю на даты и считаю, считаю, считаю – сколько этим счастливчикам все-таки было отпущено времени. Не знаю, счастливее ли были те, которым удалось перешагнуть порог восьмидесятилетия, или те, которые умерли, едва появившись на свет. Не знаю. Не знаю и не ищу ответа. Не ищу, так как вопрос глупый. А если кто-нибудь и ответил бы, лучше бы не было, счастливее бы я не стал. Ответы не делают человека счастливее. Скорее наоборот.
Жрицы разжигают огонь у могилы идола. Полиция пытается прогнать фанатиков, но они снова обступают могилу, и неизвестно, что они здесь ищут, неизвестно, что находят. Полицейский добросовестно выполняет доверенные ему обществом обязанности, поэтому не разрешает даже фотографировать. У него оружие. Любовь безгранична, особенно тогда, когда ничего не стоит. Мне не нравятся любители идолов. Я их не понимаю. С другой стороны, пусть они все обосрутся!
Бессмысленно бродить по кладбищу, навещать незнакомых людей, которые могли быть или были убийцами моей души. Не знаю, что меня сюда привело в этот непривычно дождливый день. Не знаю.
Крипты или их остатки усеяны любовными признаниями, клятвами верности, лозунгами, утверждающими, что вождь не умер, потому что он бессмертен. Какая-то паранойя. Окружающая атмосфера завладевает мной, поселяется во мне, и я становлюсь одним из множества бродяг.
Хочу сбежать. Хочу отделаться от этого состояния, убежать от лиц, от мертвых, от дождя, насквозь меня промочившего. Хочу сбежать от холода, от дрожи, от невыразимой мысли, заставившей меня сюда забрести. Неприятно гулять среди этого скопления камней, которое доказывает, что счастливейшие из счастливейших, знатнейшие из знатнейших всего-то и смогли выпросить у бытия по камню, придавившему их прах.
– Простите, мы правильно идем к могиле Шопена? – справляется у меня одна пара.
Они, наверное, очень любят его ноктюрны, прелюдии, концерты для фортепьяно с оркестром, раз в такой дождливый день не теряют надежды найти его могилу. Все посетители этого кладбища бесконечно любят музыку, литературу, историю, философию. Все они чувствуют жажду, поэтому и ходят сюда освежиться, вдохнуть прах бессмертия. Не знаю, чего еще они могут ожидать. Чего могут ожидать от этого кладбища дети, привезенные родителями из Америки, Океании, Новой Зеландии? Они все здесь. Все с картами. Все отчаянно пытаются сориентироваться в этом месте, где одни важны, другие не столь важны, а третьи совсем незначительны. Блиставшие когда-то остротами в салонах большинству теперь неинтересны. Аристократические фамилии никого не удивляют. Служители казны забыты. Очарование красавиц недоступно.
– Почему ты так растрачиваешь себя? – спрашиваю лежащего здесь Модильяни. – Почему? Скажи, хоть мне и неинтересно.
Он молчит. Все они молчат. Все, успевшие налгать, наболтать, заморочить головы, теперь молчат. Даже не улыбаются. Они нереальны, так как их никогда не было. Никогда не было. Вокруг одна пустота. Только я реален. Все остальное выдумано.
– Будьте любезны, посторонитесь, я хочу иметь фотографию этого надгробия. На память…
Отодвигаюсь. Отодвигаюсь и наблюдаю, как некая личность с упорством каннибала пытается всосать в фотопленку своей камеры останки умершего. Один кадр. Второй. Третий. Личность обрадует своих родных и приятелей фотопроизведениями, на которых будут видны надписи, утверждающие, что мертвый на самом деле жив. Кому сейчас это важно? Жив он. Умер. Ничего не меняется. Никакого смысла. Никакой морали. Не разберешься теперь, как все это случилось и почему. Никто не углубляется.
Все были бы потрясены, если бы кто-нибудь отнял у них кладбища. Почувствовали бы себя нечеловечески обиженными. Вероятно, даже решились бы умереть и лечь под землю, чтобы исправить тот позор, который назвали бы преступлением против человечности. Они ни секунды не смогли бы пробыть без кладбищ, без мысли, что они необходимы, как и память, отдающаяся, словно проститутка, любому капризу времени.
– Будьте так добры, снимите нас у этой могилы, – просит меня горсточка японцев, не по рассказам знающих все ужасы, вызываемые атомом.
Они выстраиваются. Встают аккуратно, чтобы были видны надгробные надписи, которые позже будут напоминать, с кем им довелось иметь дело. Их лица выдают важность события. Они возвышенны и даже немного растроганы, так как знают, что другого такого гения человечество больше не увидит. Видеолента снимает их… Если бы было можно, они выкопали бы гения и, улыбаясь, держали его на руках перед камерой. Если бы было можно…
Дождь хлещет. Гуляют цветные зонтики. Я уже больше не человек, а лишь волна воды, гонимая подсознанием в неизвестном направлении. Когда-нибудь ворота кладбищ должны бы закрыться. Когда-нибудь все должно бы кончиться. Когда-нибудь.
– Я должен ей позвонить, – не находит себе места Марк, в то время как я, промокший, сижу дома и греюсь ромом, водкой, текилой, а также джином без тоника.
– Уже не выдерживаешь, – говорю, когда он в десятый раз набирает номер телефона той, которая коварно вышла замуж.
– Было бы глупо не встретиться, если уж я в этом городе.
Это «встретиться» означает одно – трахнуть. Он не может упустить такого случая. Может быть, только ради этой «встречи» и притащился из Австрии. Увы, никто не отвечает. Точнее, автоответчик сообщает, что в данный момент никого нет дома.
– Разве может она не быть дома всю неделю? – злится Марк, ожидая моего сочувствия.
– Может, ее муж, узнав, что ты приедешь, спрятал ее? – рассуждаю я вслух, хотя это и не слова утешения.
– Не может быть! Я говорил с ней по телефону из Австрии. Она сказала, что будет, будет ждать. Ничего не понимаю.
Все понимаю, но уж объяснять ему не стану. Он тоже понимает, однако боится, а может, и не хочет сказать это вслух. Все равно он решил получить то, за чем сюда приехал. Он не успокоится. Найдет сотни причин и в конце концов добьется своего. Вопрос только – когда. Сегодня ее трахнуть ему не светит. Кажется, не светит и на следующий день. Скорее всего, и послезавтра, а через неделю уже будет поздно. Мне немного смешно видеть его муки, однако, похоже, смеяться не над чем. Он хочет ту девицу. Хочет, а не получает. Это скверное состояние. С другой стороны, у меня в доме возникает какое-никакое напряжение. Это как жизнь, из которой впоследствии можно будет выжать какой-никакой сюжет. Однако я знаю, что погрузиться в перипетии чувств другого не удастся.
– Нет, так невозможно. Ее нет дома!
Марк и не чувствует, как становится неоригинальным. Сейчас его устами говорит мужская амбиция. Не хватает еще, чтобы с тоски начал пить. Пока что держится, но вскоре, подозреваю, из эйфории впадет в безнадежность и будет тушить ее жидкостью. Такая метаморфоза меня совсем не радует. Не хочу разделять его грусть. У меня полно своей, хотя я и не звоню недосягаемой по телефону.
Перестаю согреваться. Перестаю и пьянеть. Мука приятеля, достойная страданий, вынесенных святым Себастьяном, не утихает.
– А ты с ней точно договорился? – спрашиваю я, заранее хорошо зная ответ.
– Конечно! Конечно, договорился!
Глядя на него, понимаю, что одним людям в Париже суждено умирать, другим – метаться, разжигать страсть, а потом выпускать ее через трубу.
– Попробуй еще раз. Может, не слышит? Может, у нее расстройство слуха?
– Пробовал. Сказал, где живу, но никакого ответа! Она же знает, что я приехал!
– Может, она не хочет тебя видеть? Может, лгала?
– Этого не может быть!
Действительно, не может. Должно быть, он прав. Больше ничего не говорю. Думаю о кладбище, запах которого принес на улицу Кастаньяри.
– Поеду постою под ее окнами, – говорит он, приняв радикальное решение.Все равно я никогда ничего не забываю. Всегда все помню. Помню, что было сказано мне много лет назад, не забываю, что было обещано, чем меня пугали. Может быть, это и нехорошо, но в моей памяти живет каждая деталь времени, пространства. Мадам, чьего имени не знаю… Нет, знаю. Мадам по имени Ева, которая хвалилась, что спроектировала не один парижский фаллос, неосмотрительно пригласила меня в гости. Не одного меня, с друзьями. Она, вероятно, хотела бы этот момент забыть, но я помню. Помню и набираю номер ее телефона. Не знаю, что побудило ее пригласить нас домой? Знаю лишь, что от нее, правда, как и от других, мне не нужно ни любви, столь необходимой Марку, ни денег, ни… Чего еще можно ожидать от женщины, которой уже хорошо за пятьдесят, а она по-прежнему наряжается в короткую юбочку и облегающие кофточки, подчеркивающие ее трогательные груди? Кто-нибудь более чуткий, может быть, и ответил бы на этот вопрос, но я знаю одно: мне ничего не нужно от Парижа, от цивилизации, от культуры, от политики, от сексуальных меньшинств. И все равно я ей звоню. Звоню, не зная даже, с чего начать, не приготовив слов, которые мог бы произнести, ничего не прося. Не верю, что она ждет моего звонка. К сожалению, жребий брошен, хоть она и ужасно некрасива.
– Это Эркю, – говорю отозвавшемуся голосу.
– Эркю?
Конечно, это Ева. Делает вид, что не узнает меня. В ее голос может вместиться все удивление этого мира, меня это не волнует. Я ожидал, что она так отреагирует, но отступать некуда. А почему надо отступать, тем более что она совсем некрасивая? Более того. Она просто повергает в ужас. Особенно отечное лицо, выдающее бурно проведенную молодость.
Она несколько раз повторяет мое имя, однако уже первая буква говорит ей, с кем она имеет дело.
Жду, пока ей наскучит эта игра. У каждого начала есть конец. Даже если это зависит от такой, как Ева. Наконец она замолкает. Я тоже молчу. Она сломлена.
– Ах, да… Припоминаю… Эркю. Конечно, Эркю, – говорит она.
– Да, Эркю.
– Приятно, приятно…
Теперь, разумеется, я должен напомнить, что она приглашала нас в гости, однако не делаю этого. Это означало бы напрашиваться, а напрашиваться в ее спальню не хочу ни я, ни, думаю, Марк и его коллега. Та, только недавно расставшись с мужем, узнала, что за штука гомосексуализм и любовь женщин. Ева опять ждет, пока я спрошу, можно ли ее навестить. Можно подумать, я живу только ожиданием того мгновения, когда какая-то Ева из Штутгарта пригласит поделиться горестями и радостями одиночества. Но это неправда. Все-таки она сломлена. Опять, уже второй раз сломлена. Это моя победа, достойная стратегии и тактики Наполеона.
– Мы вроде договаривались встретиться, – начинает она осторожно, надеясь, что я сломя голову брошусь уверять, будто так оно и есть. Закуриваю сигарету, забрасываю ноги на алжирский столик и пальцем соскребаю с письменного стола какое-то прилипшее говно. Жду. Отдаю инициативу в ее загорелые руки и не менее коричневые ноги. Попал. Правду говорят, что женщины, которым за пятьдесят, сами берут инициативу. У тех, кто помоложе, это часто вызывает дотоле неизведанные ощущения. Так и происходит.
– Я сейчас должна выйти, – говорит она мне, – но ненадолго. Потом можем встретиться. У меня. Хорошо?
Конечно, хорошо, однако я этого не говорю.
– Я приду не один.
– Не один?! – удивляется она, словно впервые услышала, что мы были приглашены втроем.
– Да, я приду не один. Мы придем втроем.
Она была бы очень довольна, если бы эти трое пылали к ней страстью. Увы. Нас беспокоит… Не знаю, что нас беспокоит. Не знаю. Кроме того, страстью ни один из нас не пытает, не курится и не дымится.
– Хорошо, приходите втроем, – уступает она.
Кладу трубку и изучаю карту: где она там живет в ожидании избранного из избранных. Буржуйка. Абсолютная буржуйка. Ее место жительства не только у меня вызывает тошноту. Неприлично жить в таком месте Парижа. Отвратительно, да уж чего там. Мы навестим ее. Навестим, чтобы долго помнила.
– Ты знаешь, что мы сегодня приглашены в гости? – спрашиваю я Марка, так и не дозвонившегося до своего объекта.
– Мы? – удивляется он, так как у Джима был пьянее меня.
В его глазах изумление. Не может поверить, что в этом городе его не только ждут, но и приглашают, даже, я бы сказал, жаждут видеть. Марка поражает легкий шок. Кажется, вскоре перед ним откроются неплохие перспективы эротической жизни. Он на них надеется.
– К кому же мы пойдем? – заинтересовавшись, спрашивает он.
– Пойдем к Еве.
– К Еве?! К той?!
Тень разочарования проскальзывает по его лицу. Уже хочет отступить. Если бы нашел мотив, объяснил бы, что как раз сегодня, и случись же такое, у него нет времени, договорился. Жаль, однако придумать что-нибудь умное не успевает.
– Да, разумеется. К Еве. Она нас приглашала, – встревает коллега, слабо представляющая, к каким женщинам мужчины охотно ходят в гости.
– А может, пойдем сегодня вечером в Сен-Дени? – в отчаянии хватается за соломинку Марк.
– Мы туда ходим каждый вечер. Можем сделать перерыв. Тем более что она нас будет ждать. – Я отнимаю у него спасательный круг. – Мы договорились.
– О Боже!
Пока Марк не успел прийти в себя, наливаю ему и себе выпить. Чтобы быть веселее, смелее. Сидим за столом и жрем, жрем, жрем. Опять нечеловечески обжираемся. Опять грех. Опять угроза адских мук. Опять!
Ева хмурится, когда, открыв дверь, видит нас троих. Кажется, она нас не ждала. Тем не менее мы входим в ее засранную буржуазную квартиру, где не хватает только живых павлинов. Садимся в барочные кресла. Замечаю, что Ева посматривает на нашу обувь, которую, вероятно, надо было снять. Пусть сама снимает. Мы расслабляемся.
За окном виден Отель де Билль. Жара в городе снова доконала французов и туристов – их любопытство, как только поднялся столбик термометра, спадает.
Ева вспотела. Мы тоже вспотели, но наши тела скрывают рубашки. На ней рубашки нет, поэтому пот струится по шее, открытым подмышкам, даже между пальцами ног.
Марк потягивает вино, которое мы долго выбирали в магазине и теперь поставили на стол. Это хорошее вино. Даже очень хорошее. Я хочу его.
– В такую погоду никто не пьет красное вино, – неприятным тоном заявляет Ева и исчезает.
Сидим. Молчим. Жалеем, что пришли. Видимо, удовольствия беседа не доставит. Однако не теряем надежды, раз приглашены. Ева появляется с полупустой бутылкой белого вина.
– Если хотите, пейте свое. Открывайте и пейте. Я это не пью. В такую погоду… Абсурд.
Штопор не предлагает. Наливает себе своего вина, а выпив полбокала, снисходительно осведомляется:
– Хотите?
Я понимаю, что в этом доме штопора не получу. Подставляю ей бокал, чтобы хоть белым губы смочить.
От этого вина у меня во рту горчит. Выпиваю четверть бокала – столько, сколько в нем и было вина. Больше она не предлагает.
Сидим вчетвером и продолжаем молчать. Она нам неинтересна. Мы ей – тоже. Немного неудобно, но плевать на неудобство, потому что я вижу ее, может быть, последний раз в жизни. Одно ясно: завтра утром я не буду тосковать по ней и не пойду из-за нее топиться в Сену, не прыгну с Соборной башни, не брошусь на рельсы метро.
Потеть она не перестает. Слежу за ней, накаляюсь, раскаляюсь. Солнце заливает светом комнату, в которой, кроме барочной мебели, стоят фарфоровые собачки, кошечки, солдатики и пастушки.
– Жарко, – она, наконец, снисходит до беседы.
– Очень, – говорит Марк.
– Ужасно, – добавляет Римма.
– Такого лета уже давно не было, – развиваю тему потепления климата Земли я.
– Здесь можно курить? – спрашивает Марк.
– Конечно, – ободряет Ева, – на балконе.
Выходим с Марком на балкон площадью в один квадратный метр. Закуриваем. Ева остается с Риммой.
– Бл… куда мы пришли?! – плачущим голосом произносит Марк.
– Да ну на… – только и могу я сказать.
Досадно, что сигареты короткие. Снова сидим. Снова молчим. Снова гостим в гостеприимном парижском доме, в котором нас всегда ждут. От жары у меня кружится голова. Она летит все быстрей и быстрей, расширяя орбиту полета. Вот-вот оторвется от шеи. Главное, избежать этого момента, так как надо держать себя в руках.
Марк медитирует. Сидит, закрыв глаза, и изображает равнодушие. Римма пытается улыбаться, однако ее усилия напрасны. Ева, взяв тряпку, до блеска протирает стекло буфета.
Стекло уже давно чистое, но она со швабским упорством и стремлением к стерильности продолжает наводить лоск, никак не может оторваться. На ее взгляд, стекло все еще не блестит, хотя вот-вот протрется насквозь. Вина в бутылке осталось пятнадцать миллиграммов.
– Идем обедать, – словно самой себе говорит Ева, однако мы все слышим, так как слишком долго в комнате царила красноречивая тишина, из которой, по чьим-то словам, рождается Пустяк.
– Обедать? – переспрашиваю я, хотя мой живот и так уже достает до паркета.
– Да, рядом есть очень хороший китайский ресторан.
Мы по-литовски советуемся, стоит ли с этой дурой идти в ресторан. Стоит только для того, чтобы потом расстаться и никогда в жизни больше не иметь с ней дела. После этого, конечно, купим бутылку и выпьем. Одни. Без всяких Ев. Без всяких швабов. Без всяких парижанок. Одни будем пить и напьемся.
– Вы можете забрать свою бутылку, – говорит хозяйка квартиры, когда мы выходим за дверь. – Мне она не нужна.
Теперь можно бы сказать, что мы ей эту бутылку куда-нибудь с удовольствием бы засунули, но мы молчим. Бутылку, конечно, не берем, хотя и стоило бы. Стоило бы ту бутылку забрать. Ладно, пусть подавится.
Услужливая китаянка осведомляется, чего я желаю. Меня просто тошнит от этой еды. Мне плохо. Мне нехорошо от запахов. Меня воротит от этих макарон, подлив, супов, ананасов. Я хочу как можно скорее избавиться от общества Евы. Она, кажется, решила нас всех прикончить. Прикончит. Наверняка прикончит, потому что я вижу, какая она упрямая.
– Спасибо, я закажу только одно блюдо, – говорю официантке.
– Так нельзя! – взвизгивает Ева. – Так нельзя! Ты должен есть!
Слова «должен», «обязан» вызывают у меня в утробе аллергию. Я покрываюсь пятнами.
– Я хочу заказать две бутылки красного вина, – говорит Марк.
– Так нельзя! Здесь никто не заказывает бутылками! – снова взвизгивает потерявшая терпение Ева.
– Я хочу, – повторяет Марк.
– Я тоже.
Ева недовольна. Мои аллергические пятна в сравнении с ее кажутся всего лишь маленькими точечками. Она разжевывает хваленую китайскую еду и дает понять, что доставляет нам удовольствие, терпя наше общество. Мы пьем вино, заказав по символической порции жратвы. Мне по-прежнему плохо. Сейчас стошнит. Если бы не вино…
– Здесь есть телефон? – спрашивает Марк и, не дождавшись ответа, ныряет в вестибюль ресторана.
Ева не разговаривает. Я без обиняков обращаюсь к Римме:
– Ты архитектор, а образование у тебя техническое.
Римма ни с того ни с сего разражается слезами. Одна сидит насупившись, другая плачет. Марк уже и в ресторанной кухне пытается найти любимую. Лучше и быть не может. Римма, всхлипывая, требует, чтобы я к ней больше не обращался. Затыкаюсь. Ева, углубившись в еду, не интересуется, почему плачет коллега. Она холодна, словно кариатида, хотя последняя красивее.
– Дозвонился? – спрашиваю я мрачного Марка.
– Опять автоответчик.
Обедаем, так сказать. Вино уже кончилось. Заказывать нет смысла, продолжать этот необычайно радостный обед тоже. Немки умеют мстить. Особенно некрасивые. «Гимнастки – порядочные девушки», – звучит у меня в ушах цитата, не имеющая ничего общего с происходящим.
Слезы у Риммы крупные, а кожа очень чувствительна к соли. Поэтому она сидит красная как рак. Просто не знаю, чем и почему ее обидел. Иметь техническое образование неплохо. Я сам бы хотел такое иметь и сидеть в какой-нибудь конторе или в бюро, а не в этом китайском ресторане. Эйнштейн получил техническое образование, и он из-за этого не сокрушался. Даже академик Сахаров его получил. Склодовская-Кюри – физик и химик, но у нее и в мыслях не было лить из-за этого слезы. Большая часть человечества просто срослась с техникой, но никто из-за этого с собой не кончает. Мне странно, что она плачет. Леонардо да Винчи, в конце концов, тоже был инженер, а только потом художник. Никто мне не докажет, что ночами он терзался, а днем жаловался папам, что так уж ему суждено судьбой. Я хотел бы все это изложить, однако мне велено заткнуться, вот и молчу. Никого не хочу обижать. Никого.
Когда Марк выражает желание заплатить за обед, Ева демонстративно вытаскивает чековую книжку и платит за себя. Она еще раз отвешивает нам пощечину. Она еще раз плюет в нашу восточноевропейскую душу. Кажется, тем бы все и должно кончиться, однако, выйдя из ресторана, она предлагает погулять, и мы, последние идиоты, соглашаемся.
Слоняемся по темнеющим парижским улицам. Ева впереди. Как только мы приближаемся, она прибавляет шаг. Словом, как трио баранов, идем вслед за ней. Даже между собой нам не о чем говорить. Одно недоразумение. Если в мире есть бессмыслицы, то сейчас я наблюдаю одну из них.
Мое терпение иссякает. У Марка, одержимого любовными заботами, чувства тоже обострены.
– Может, купим вина и выпьем у Сены? Скоро полночь, – говорю я Марку.
– Я поговорю с ней, – отвечает он и, ускорив шаг, приближается к Еве, которая почти растворилась в толпе бездельников.
Приходит в голову мысль, что сейчас мы могли бы потеряться. Бывает же так. Не новость, что друг друга теряют муж с женой, ребенок с матерью, разлучаются родственники. Могло бы и с нами такое случиться.
– Ты знаешь, что она мне сказала? – не справляясь со злостью, говорит вернувшийся из разведки Марк. – Сказала, что в это время вино можно достать только у арабов!
– Это хорошо. Я сам знаю.
– Она сказала, что у арабов покупать вино – дурной тон, что никогда его не пьет. Словом, отказалась. Арабы, видишь ли, ей не нравятся! Вино, которое они продают, она не пьет.
Не знаю, какая связь между вином и арабскими торговцами, однако эта идея у нас не выгорела. А она все идет впереди и покачивает этим своим дебильным задом, словно желая доказать, вот, мол, какие вы все дураки, а какая я еще красивая, – как была, и есть, и буду всю жизнь, потому что я буржуйка и сноб.
– Как я хочу пить! Как я хочу пить! – кричит нам Ева на бульваре Сен-Мишель.
Состояние у меня такое, что я уже готов объявить ей, что собираюсь поссать. Сдерживаюсь. А то мог бы утолить ее жажду. И Марк, думаю, мог бы. И Римма, которая больше не плачет, но по-прежнему злится на меня, могла бы. Втроем мы бы ее хорошо напоили.
– Я хочу в кафе! – раздраженно заявляет Ева.
Ладно, сидим в кафе. Разъяренный официант приносит мне воду. Начинает злиться еще больше, когда Марк заказывает немецкое пиво. Да-да, немецкое, именно немецкое, потому что он пьет только немецкое. Ева с хищным выражением лица объясняет, что немецкое он не имеет права заказывать, так как обязан (опять обязан!) пить «пиво дня». То, которое и она сама вот-вот начнет потягивать. Только его, а не какое другое, хоть здесь и написано, что есть разное.
Марк посылает всех к черту, но получает то, что хотел. Ева берет газету, разворачивает ее и углубляется в какую-то заинтересовавшую ее статью. Молча сидим за столом, каждый со своим излюбленным напитком. Я – с водой. Марк – с немецким пивом. Римма – за чашечкой кофе. Ева… Ева за «пивом дня». Мировой катастрофы, кажется, не случилось… А терпения больше нет.
– Я должна идти, – объявляет Ева, одолев захватывающую дыхание статью. – Всего хорошего.
Она исчезает за стеклом кафе, а мы сидим и молчим, словно нас дубиной по голове треснули. Виноватых нет. Никогда не бывает виноватых.
– Если сейчас не махну бутылку вина, умру, – говорю я Марку.
– Я тоже.
– И я бы с удовольствием выпила, – произносит Римма, на несколько часов записавшаяся в орден молчальников и только недавно его покинувшая.
Протискиваемся сквозь толпу на улице Искусств. Люди почему-то веселые в этот вечер, в приподнятом, праздничном настроении. Арабы дают нам вина. Его сколько хочешь. И всегда. Хватаем вино и идем к Сене. Спускаемся к реке по ступенькам, которые воняют мочой представителей самых разных народов и вероисповеданий. Благодаря провидению не влезаю в кучу говна. На этот раз человеческого.
Мимо плывут корабли, освещенные и вспышками фотоаппаратов освещающие нас. Нас – жадно пьющих, жадно курящих и довольных.
Все у нас есть. Вино растворило дневной осадок. Ева уже не кажется такой жадной, как раньше. Мир исправляется. Парижане добреют. Теперь они уже любезны, дружелюбны и открыты мне, нам всем, тем, которым ничего от них не нужно, не нужен даже их город со всеми «напитками дня», кулинарной культурой, недовольными выражениями лиц. Хорошо быть в этом городе. Стоит того. Особенно, когда ты совершенно пьян, еле ворочаешь языком и сказать можешь не больше, чем окружающие. Тогда все прекрасно. Все хорошо. Удивительно!
– Завтра выберем другое место. Там опять будем пить. И опять нам будет хорошо. И опять все у нас будет, – говорю я; пора подниматься, потому что скоро уйдет последний поезд метро. – Так мы и сделаем.Уже несколько дней меня атакует Жан. Телефонный провод просто раскалился от его звонков. Не понимаю, чего он хочет. Ясно одно: сгорает от желания наведаться сюда. Очень туманно объясняет, что у Даниэля лежат какие-то нужные ему бумаги. Какие могут быть нужные бумаги, если у него образования всего четыре класса провинциальной школы! Требует, чтобы я оставил ему ключи, а уж он сам знает, что и где положено. Я совсем не жажду предлагаемой им дружбы. Отговариваюсь, и пока что успешно. Говорю с ним и просто вижу, как он вращает этими своими глазами, строит гримасы, нервно барабанит пальцами.
– Я еду, – говорит он мне.
– Меня не будет дома.
– Оставь ключи у соседа.
– Уехал.
– Приеду через десять минут.
– Я выхожу через пять.
Примерно так звучит наш разговор.
Даниэль рассказывал: Жан, пока Даниэля не было дома, по полчаса разговаривал с австралийскими кенгуру и тасманскими волками и оставил астрономический счет, который позднее оплатил хозяин квартиры. Такая перспектива меня совсем не прельщает.
Жан недоволен, что я нелюбезен, но мои чувства тоже имеют пределы. Он все не отстает. Остается только включить автоответчик и не снимать больше трубку. Дверь тоже не собираюсь открывать. Ноги его здесь не будет, потому что он мне не нравится. Как человек.
Марк по-прежнему не теряет надежды трахнуть ту девицу. Он тоже звонит. Звонит и надеется, что один звонок решит все его проблемы. Он сейчас – просто ходячая эрекция. Депрессивная эрекция. Похоже должны были бы выглядеть средневековые рыцари, вздыхающие под ногами у своих дам сердца.
– Придумал, – говорит он мне.– И что же ты придумал?
– Поеду к ней домой и подсуну письмо под дверь.
Это отчаянный шаг, однако что я могу посоветовать, если он так переживает. Человек притащился из самой Австрии, и вот тебе на… Уже вижу его под окнами на улице Санкт-Петербурга. Он мог бы еще нанять музыкантов, чтобы поиграли и попели серенады. Это было бы оригинально. К сожалению, его воображение способно предложить только письмо. Конечно, тоже кое-что.
В эти дни звонят все кому не лень. Звонит даже композитор-концептуалист, вспомнивший нашу договоренность относительно оркестра. Звонит Джим, который снова просит помочь Джеку на кухне. Ему я не могу отказать. В конце концов, нужно отработать вино, запасы которого я как следует истощил за последнее время. Он это прекрасно знает, так как заставал меня все время с полным и все время с новым стаканом вина. Может быть, ему это и не нравится, но не думаю, чтобы он из-за этого очень уж сокрушался. Звонит и специалистка по санскриту, напоминая, что нам обязательно надо встретиться у нее дома. Опять дома! Могу представить, какая это будет встреча: курения, цитры, Рави Шанхар, колокольчики и все прочее. Отделаться от нее не удается. Обещаю посетить в ближайшее время.
Один телефонный звонок заставляет насторожиться. На автоответчике слышу женский голос:
– Эркю, Даниэль – говно!
Только и всего. Много раз прослушиваю эту запись. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что это голос сумасшедшей. Кто она? В Париже много сумасшедших, однако не все знают мое имя, да и не всем придет в голову мысль приравнять Даниэля к говну. Это что-то новое. Может быть, меня преследуют? Нет, этого не может быть! Может, я параноик? Кто бы мог меня здесь преследовать?..
Марк возвращается совсем поникший. Волнуюсь, как бы он не перегорел. Эта страсть весьма коварна.
– Подсунул письмо под дверь? – спрашиваю я.
Он только машет рукой, зажигает сигарету и устремляет взор в потолок. Больше спрашивать о чем-либо не имеет смысла. Ясно: он в глубокой печали. Можно предложить ему помастурбировать, однако не думаю, чтобы это принесло ему облегчение. Может быть, даже наоборот. «О! Я валяюсь в кровати. Пытаюсь сама себя поласкать, но без Фауста половина удовольствия. Кроме того, меня мучают заботы!» – вспоминаю я признание одной особы, жившей рядом с Эйфелевой башней. Разумеется, она была права. Поэтому ничего не предлагаю Марку, хотя ему это и не повредило бы.
– Я позвоню, – вдруг приходит он в себя и бросается к телефону. Хватает трубку, нервно набирает выученный наизусть восьмизначный номер.
Пауза. Он набирает другой. Пауза. Опять набирает.
– Ты не мог бы помочь расшифровать, какой номер он называет по-французски? – просит он меня.
Десять раз выслушиваю, что хрипит голос в трубке, и номер телефона у нас на столе. Марк снова бросается звонить. Привезенная им коллега тем временем сидит на кровати и, кажется, скоро задремлет.
– Я хочу с ней поговорить! – кричит он в трубку. – Хочу ее увидеть!
Меня совсем не удивляет, что субъект на другом конце провода не понимает желания Марка. Марк бросает трубку, он злится, что ему так невежливо ответили, что желанной девушки он не увидит. Он злится на французов, буржуазию, городской транспорт, почтовое ведомство, туристов, климат, даже на ассортимент вин, потому что он любит итальянское и венгерское, а их здесь не найдешь. По-моему, его злость доходит аж до времен Карла Великого, что уж говорить о французской революции, от которой все остальные беды. Гнев Марка, словно дым, обволакивает всю Францию, ее историю и настоящее. Ему очень странно, и он не понимает, почему в метро не увидишь ни одного солидно одетого человека, ни одной улыбки, ни одного дружеского взгляда! Не пытаюсь возражать, что мир не так уж плох, если даже ему и не удается наставить рога мужу. Не говорю, что из-за этого не стоит вычеркивать вклад французов в человеческую цивилизацию, культуру. Он не услышит. Для него все теперь уместилось между ног той девки, окажись он там, он бы по-другому взглянул на мир. На одну чашу весов он кладет желанное влагалище, на другую – все остальное. Влагалище перевешивает мир. К сожалению, оно недостижимо, поэтому все остальное для него сейчас – полное говно. Больше всего его оскорбило бы сейчас предложение пойти в лес послушать щебетание птиц. Он бы сошел с ума. Мужчина на грани нервного срыва. Ему действительно нужно бы расслабиться. Он очень хочет ту девку, чтобы потом мысленно можно было сказать: она испытала три оргазма. Я – семь. Было хорошо.
– Вы не пейте так много, – предлагает проснувшаяся Римма, которая, должно быть, впервые в жизни видит, как мужчина сходит с ума по девке. Для нее это новость, потому что, выходя замуж, она надеялась, что мужчина будет не кем иным, как другом.
Сидим отяжелевшие: нажрались и напились. Пора куда-нибудь двинуться, но зады просто прилипли к стульям. Ни у кого нет сил подняться. Комната полна всеобщим равнодушием. Так должны были чувствовать себя римские патриции.
Звонок. Опять! Поднимаю трубку. Представляюсь. Голос в трубке. Мужской!
– Если вы не отстанете от моей жены, – говорит он почему-то мне, – я обращусь в полицию. Это последнее предупреждение.
– Я очень извиняюсь, но я говорю по-немецки, – отвечаю я ему.
Он вторично повторяет текст по-английски и кладет трубку. Я ошеломлен, что меня так несправедливо обвинили.
– Марк, кажется, это тебе звонили.
– Мне?! – он изумляется так, как если бы был святым Франциском, отказавшимся от человеческого общества и знающимся только с птицами и зверями.
– Мне кажется, звонил ее муж. Предупредил, что обратится в полицию.
– Этого не может быть!!!
Теперь Марк кажется бескрылым ангелом, от всей души желающим семье только добра. Он не понимает. Неспособен поверить, что так безосновательно его может пугать ревнивый муж. Он – просто воплощенная добродетель. Он самый нравственный из самых нравственных, который никогда не смог бы сказать соблазняемой чужой жене: раздвинь ноги, я войду в тебя сзади. У него вообще нет таких мыслей. Он почти кастрирован. Он как евнух, который лишь хочет поговорить, выпить в кафе чашечку кофе, сходить в кино…
Мне смешно, как он хлопает глазами и удивляется.
– Буржуй, – бросает он упрек позвонившему. – Идиот! А какой ревнивый! Теперь я понимаю ее… Теперь понимаю… Как ей должно быть тяжело. Как тяжело…
Действительно тяжело, если она тоже мечтает прилечь под него, а этот муж, последний кретин, не разрешает. Бедняжки. Но почему я?! При чем тут бедный Даниэль, в квартиру которого, может быть, вот-вот нагрянет рота полиции?! Меня беспокоит только одно – полиция. Если они сюда припрутся, я не смогу объяснить, что та девка мне совсем не нужна. Разве им скажешь, что я вовсе не сгораю от желания заполучить ее? Они не поверят. И уведут с собой, потому что убеждены: как черные хотят белых женщин, так приезжие иностранцы жаждут попасть в семьи буржуев и развалить их.
– Я хотел только встретиться, поговорить, – оправдывается Марк, почему-то решивший причислить меня к стаду идиотов.
И все-таки я вижу, что суженый той курочки несколько охладил его чувства. Не знаю, на какое время, но охладил.
– Значит, мы так и будем здесь сидеть, – произносит недовольная Римма – она имеет право пожаловаться на недостаток внимания.
– Нет, сегодня вечером пойдем на Елисейские Поля, – говорю я ей.
– И вы опять будете пить, – грустно констатирует она.
Марк идет по Елисейским Полям так, словно час назад был нокаутирован Мохаммедом Али. Не в состоянии поверить, что с ним могли так поступить. Идет один, и ничего ему больше не нужно. Олицетворение грусти. Открытая рана. Залитое кровью сердце Христа и мука Марии в одно и то же время. Он – раненный стрелой голубь мира. Он – Непорочное Зачатие. Он – чистая жрица. В силу этих причин лучше к нему не обращаться.
Мы входим в музыкальный магазин.
– Здесь есть бар? – спрашивает меня жертва презренного заговора Марк.
– На последнем этаже.
Он исчезает. Углубляюсь в мир музыки. Надев наушники, слушаю все по очереди. Слегка даже подскакиваю, потому что и другие, более нетерпеливые, слушатели двигаются. Начинает болеть голова. Музыка и головная боль – неотделимы друг от друга. В голове звенит. От звуков прячутся все мысли. Они жмутся в уголках черепа и не показываются, даже искушаемые лучшими исполнителями.
– Может быть, надо его поискать, – прерывает меня Римма, испытывающая чувство коллегиальности с Марком-Страдальцем.
– Он в баре.
– Пойдем, ему надо помочь.
Не знаю, надо ли, стоит ли ему помогать, однако так болит голова, что хочется как можно скорее убраться из этого музыкального Акрополя. Голова просто разрывается. Сейчас есть только одна боль – моя. Другой нет и не может быть. Никто не поймет, как мне сейчас больно. Никто!
Марка находим сидящим у бара, совершенно пьяным и… пишущим письмо. Он с некоторых пор не чурается литературы. Еще немного, и начнет сочинять стихи. Может, уже и сейчас пишет стихами. Белыми? Ямбом? Гекзаметром? После таких приключений все может быть. После таких событий пробуждаются скрытые таланты, способности. Может, в нем дремал Байрон, Уайльд, Бодлер. Скорее всего, Бодлер. Цветы зла.
– Идем, Марк, – зовет его наивная коллега, которая не понимает, что прерывать творческий процесс непозволительно.
Марк заказывает еще. Из подсунутой барменом бумажки я понимаю, что он пьет уже четвертую или пятую дозу. Да, алкоголь спутник радости и безнадежности. Это вечная истина, которую в этот момент подтверждает Марк-Мука. Он даже немного сердит. Недоволен. Объясняет, что будет пить столько, сколько хочет, да и письмо ему еще надо закончить.
Даже не спрашиваю, кому это письмо. И так ясно.
После музыки я трезвею, а Марк в этом баре самый пьяный, хотя этого никто даже не замечает. Он хочет заказать еще одну. Ему все никак не удается закончить письмо. Не сомневаюсь, что это будет шедевр. Мог бы попросить копию, но сдерживаюсь.
Алкоголь хорошо действует на его творчество. Видно, что ему приходят все новые мысли, таить которые было бы просто безнравственно, их надо обязательно изливать и изливать на бумагу, чтобы тот, кто будет читать, понял все и до конца. В баре темновато, поэтому до меня не добирается ни одна родившаяся в голове Марка мысль. Он все не заканчивает. Если вскоре не закончит, может в какой-то момент упасть с барного стула.
– Вы идите, а я вас догоню, – удостаивает нас обнадеживающей фразой новоиспеченный писатель.
– Мы никуда не пойдем, – заявляет по-прежнему солидарная Римма.
Знаю, что пишущим одиночество необходимо, однако сижу и не двигаюсь с места. Головная боль проходит. Боюсь, как бы писатель не вытащил другой лист. Наконец он кончает, хотя по затуманившимся глазам видно, что мог бы еще писать и писать.
– Что делаем? – спрашивает мученик, словно я не просидел рядом с ним почти час.
– Я хотел бы выпить, но не здесь.
Действительно хочу выпить, так как больше здесь нечего делать. Странно, но без алкоголя и табака не представляю себе мира. Все остальное кажется одними пустяками. Может, я уже алкоголик? Нет, это мне только показалось. Ничего подобного. И приходят же иногда дурацкие мысли в голову! Должно быть, это все музыка. От нее все беды. Не надо было сюда идти. Проклятая эта музыка – классическая, современная, джаз, рок.
Тащимся до Монпарнаса. Уже темно. В кафе кипит жизнь, мне наплевать и насрать на их жизнь и кафе, как и на их бокалы, и на их чашечки кофе – веселящиеся выпивают их от силы по одной. Нам нужно больше. Гораздо больше. В миллион раз больше! Мы совсем иначе веселимся.
Накупив вина, сидим на скамейке перед кафе. На расстоянии вытянутой руки на улице расставлены столики, стулья. Нас разделяет метр. Нас разделяет, кажется, только метр, однако между нами – пропасть. Никто не собирается перепрыгивать через нее. Никто не хочет быть на другой стороне. Мы рядом и в то же время недосягаемы. Из бутылки нам в горло льется вино. Кто-то готов возмутиться, но не отваживается. Мы не нарушаем их законов. Наши бутылки вина засунуты в непрозрачные пакетики. Их и нас охраняют ангелы. Они сидят рядом за столиками и о чем-то болтают. Мы сидим на скамейке и молчим. Если мы заговорим, они заткнутся. Мы не хотим лишать их дара речи. Они не хотят, чтобы мы говорили. Молчащие и мертвые им ближе всего и не так страшны. Для нас они ничего не значат. Для нас они – абсолютные нули, как и мы, правда, для них, хотя они и терпят нас рядом с собой. Они считают, что доставляют нам удовольствие. Увы, увы. Никто не доставляет удовольствие просто так. Никто. У меня лопается ремень…
Прихожу в себя дома.
– Пел, неприлично ругался, называл фашистскими прихвостнями, орал песни вермахта, – рассказывают мне обо мне не терявшие сознания.
Мне должно быть стыдно. Не за что! У меня голова идет кругом от гостеприимства, музеев, награбленных ценностей. Чувствую, что с меня всего этого хватит. Не знаю почему, но я перенасытился – пережрал и перепил. Возвращаю себя к жизни пивом, а в голове светло-светло. Только один вопрос: что я здесь делаю?
Тишина. Ответа нет. Тишина.
– Мы завтра уезжаем, – говорит Марк.
– Да, разумеется…
Да, разумеется, больше здесь делать нечего. Нечего. Все когда-нибудь отсюда уезжают – Рильке, Хемингуэй, Миллер… Все проводят какое-то время, разочаровываются и уезжают. Потом, конечно, возвращаются. Иные даже привозят молодых любовниц, чтобы показать себя и рассказать, как славно они здесь проводили время, какие все были замечательные, интересные, неповторимые, таких теперь днем с огнем не найдешь. Всегда нужно уезжать. Нет, я пока не собираюсь. Знаю, что там, куда поеду, будет в сто раз хуже. Знаю, что, как только выйду из самолета, буду жалеть, что не остался еще на день.
– Наш Восточный экспресс отходит завтра.
Объясняю, что ехать целый день – безумие. Лучше ночью. Убеждаю. Решено: следующей ночью.
– А почему вы должны ехать ночью? Поезжайте послезавтра днем.
Они раздумывают. Колеблются. Мое предложение очень разумно. Решено: послезавтра.
– Если послезавтра, – говорю, – то оставайтесь жить у меня. Попьем. В последний раз попьем. В последний раз приготовим себе еду и обожремся. Неизвестно, повторится ли это когда-нибудь…
Они соглашаются. Живут у меня. Я даже забыл, что квартира принадлежит не мне, а путешествующему в это время по желтому Китаю Даниэлю, который совсем не хочет возвращаться в Париж. Он не тоскует по Парижу, как я не тоскую по Вильнюсу.
Воскресенье. Злосчастное воскресенье. В Восточном экспрессе ищем свободные места. Мои приятели уезжают. Поезд набит битком. Поднимаем развалившуюся на четырех сиденьях немку. Она, конечно, недовольна. Марк вытаскивает предназначенную для момента расставания бутылку бренди. Пьем по очереди из горлышка, стоя. Немке, с которой они будут ехать до Штутгарта, противно. Пускаем бутылку по второму кругу. Молчим, потому что все уже и так сказано. Сказано тысячу, миллион лет назад.
– Если как-нибудь, – говорит мне Марк, передавая бутылку, – она тебе позвонит, скажи, что я позвоню ей из Австрии.
– Хорошо, – говорю.
Он даже сейчас не теряет надежду. Я верю, что придет тот день, когда он вернет себе все с избытком.
– Было приятно, – говорит Римма.
– Никогда больше не плачь. Все – одно говно.
Голос объявляет, что провожающим пора выходить из вагона. Тянем еще бренди, меньшую часть оставляем на дорогу. Оно теплое, как и это воскресенье, от которого уже даже и не плохо.
– Позвоню, когда приедем. Ночью. Около двенадцати. Будешь дома?
Конечно, буду, куда я денусь в этом городе. Поезд трогается. Стою на перроне и слежу за ним глазами. Поезд поворачивает. Исчезает последний вагон. Как будто так и должно быть. Архетип разлуки.
Стою на бульваре Страсбур у Восточного вокзала и не знаю, в какую сторону двинуться. Если бы сказал, что мне сейчас не тоскливо, солгал бы. Город пуст. Меня, может быть, в нем тоже уже нет.
Пойду в Сен-Дени.
На бульваре Сен-Дени пожар. Все проститутки, бросив работу, любуются пламенем и смелостью пожарников. Огонь вырывается через окна. Пожарники спасают людей. Всеобщее движение и всеобщий интерес. Девушки из Сен-Дени хлопают в ладоши, когда пожарник технически безукоризненно выполняет свои обязанности – вытаскивает людей из пламени. Приятно видеть столько скопившихся в одном месте девушек. Есть куда посмотреть, однако воскресная грусть заглушает и это удовольствие.
– Явился, как договорились, – говорю открывшей двери специалистке по санскриту, у которой ногти на ногах сегодня украшены тремя литовскими цветами.
Она смотрит на меня ничего не говорящими глазами и не приглашает войти. Уже собираюсь повернуться и отправиться обратно – в Париж.
– Заходите, – говорит она мне. – Может, сумеете вырвать моему ребенку зуб. Он боится идти к врачу. А завтра уезжает в Канаду.
Вхожу. Всюду беспорядок. Она представляет мне пугливого ребенка и дает обычные клещи. Ничего не понимаю.
– Ему нужно вырвать вот этот зуб. – Она тычет пальцем в разинутый детский рот.
И не подумаю, только-только придя в дом, вытаскивать детям зубы. Конечно, если бы я был садистом, то лишь порадовался бы такому случаю, но сейчас…
– Нет, я не буду рвать, – говорю.
Разочарование в глазах у обоих. Они так надеялись.
Они питали надежду, что я вытащу с корнем здоровый зуб, который еще даже не качается. Иначе и быть не может. Оглядываюсь и улавливаю крепнущую вокруг атмосферу Твин-Пикс. Начинаю жалеть, что пришел.
– Подождите в саду, – говорит она и выставляет меня из дома.
Сижу в саду за столиком. Курю. Украшенная тремя цветами специалистка по санскриту не появляется. Не знаю, что я здесь делаю. Не знаю!
– Мой сын отдает вам свое мороженое, – говорит она таким тоном, словно я намеревался отнять у ее отпрыска жизнь.
Мне не нужна жертва. Мне ничего не нужно. Притащился сюда только затем, чтобы убить воскресенье.
– Очень жаль, но столько работы, столько работы…
Опять ничего не понимаю. Она сама вчера звонила и приглашала навестить ее. Только сейчас меня озаряет: она сумасшедшая. Она не притворяется сумасшедшей. Она настоящая сумасшедшая!!!
– Я знаю одного миллионера. Если бы мы как-нибудь приехали, он мог бы пригласить нас пообедать. Было бы славно.
Только уж не обедать. Только не обедать! Ищу предлога, чтобы скорее отсюда вырваться, так как она уже излагает, какой она гениальный литератор. Даже претендент на Нобелевскую премию восхищается ее переводами!
– У меня столько работы, столько работы, – говорю я ей и поднимаюсь.
– Как жаль, – говорит она. – Действительно очень жаль.
Один маразм вокруг меня. Какие-то бессмыслицы. Я последний дурак, последний идиот! Все еще на что-то надеюсь. Верю, что мне удастся убить этот день. Какая наивность! Какая чушь!
Можно пойти к Джиму… Представляю себе все эти морды, разговоры, и меня бросает в дрожь. Нет, только не туда! Только не туда!
В полночь раздается звонок. Марк.
– Я уже на месте, – говорит он мне.
Меня охватывает еще большая грусть. Нужно что-нибудь решить. Дальше так нельзя. Еще несколько знакомств – и мои психические предохранители не выдержат.
– Когда ты возвращаешься домой? – спрашивает он меня.
– Самым первым рейсом. Завтра, – выпаливаю я автоматически и, только сказав это, осознаю, что объявил себе приговор.
– Вот и хорошо. Нечего там делать.
Все вертится с молниеносной скоростью. Я должен торопиться, чтобы не передумать. Должен ни о чем не думать. Ни о чем!
Одежда. Книги. Записи. Чемодан. Билет. Паспорт.
В аэропорту Шарля де Голля пью последнюю каплю водки. Мой рейс. Понедельник.
Не замечаю, как оказался в самолете.
– Пристегните ремни, – требует стюардесса.
– Простите, – говорю ей, – я хотел бы выпить вина – умер мой друг.
– Только когда самолет наберет нужную высоту. Ждите.
Начинаю жалеть. Жалею, что за свою жизнь не утолил никакой жажды. Хочу назад в Париж.
Опять чего-то хочу.1995–1996 Париж – Вильнюс
Примечания
1
Фрекен Смила – героиня романа датского писателя Петера Хеэга «Чувство снега фрекен Смилы». – Примеч. пер.
2
Я люблю тебя (нем.).
3
Я хочу трахаться (нем).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



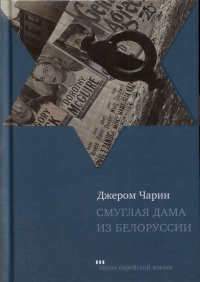

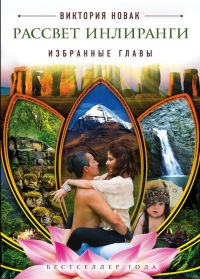



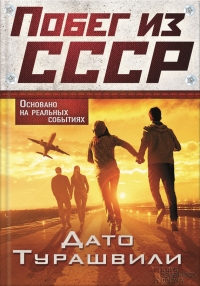


Комментарии к книге «Прошедший многократный раз», Геркус Кунчюс
Всего 0 комментариев