Дмитрий Добродеев Большая свобода Ивана Д
Восточный Берлин, октябрь 1988-го
“Куда вы идете, русские? Куда идет Советский Союз? Мне кажется, вы обезумели! Эта перестройка сведет нас всех в могилу”.
Голос Германа почти беззвучен от отчаяния. Еще пять лет назад это был цветущий немец: он приезжал из братской ГДР в Москву на блины. Трахал всех критикесс, режиссерш, актрис. Сидел, улыбаясь, со стаканом кубинского рома, курил сигариллы. Все говорили: “Герман – хорошенький: у него мягкий контур носа и глаза с поволокой. Поставленный бархатный голос, как и полагается секретарю партячейки на ДЕФА”.
Сегодня он инвалид: удалена опухоль в мозгу, два инфаркта.
Когда у Германа нашли опухоль, операцию проводили в Западном Берлине. Организовал поездку лично Миша Вольф, шеф внешней разведки ГДР. Герман выжил и остался парторгом на ДЕФА.
Герман дружил с Конни (Конрадом Вольфом), братом Миши Вольфа. История гэдээровских интеллигентов удивительна: они любят старый немецкий социализм – социализм Бебеля и Маркса. Любят открытую сексуальность, пиво, сигары и рабочий класс. Отец Миши Вольфа – Фридрих, писатель-коммунист, один из основателей нудистского движения Германии – ФКК. Это цивилизованные коммунисты, и вместе с тем они как цепные псы верны Москве. Даже когда Москва топчет их. Но на этот раз…
“Вы предали нас! ЦК СЕПГиздал постановление: дистанцироваться от политики перестройки. То, что вы делаете, это катастрофа. Вы уничтожаете соцлагерь! Мы не можем идти вместе с вами”.
“Недавно в Берлине был Александр Яковлев. Он напрямую заявил Герману Аксену, что тот ни черта не понимает в марксизме, и потребовал перестроиться идеологически… Он оскорбил нашего товарища!”
– Вот твои бусы! Я не смог их обменять на марки ГДР, так и передай своим друзьям! – Герман медленно поднимается с кресла и идет к ящику стола. Высунув язык, за ним плетется покорный пес Вики. Пес, как и сама квартира, принадлежал до 1982 года другу Германа Манфреду, бежавшему на Запад. Решением властей все имущество Манфреда перешло к Герману.
Иван понимает, что Герман просто не хочет помогать предавшим его республику русским. Не хочет доставать для них марки ГДР. Он больше не хочет менять для них все эти коралловые, янтарные и гранатовые бусы, которые неплохо идут на черном рынке.
Сумерки над Димитроффштрассе. Герман зажигает лампу, закутывается в плед. Он говорит Ивану: “Я должен долго жить, я еще нужен коллективу, я секретарь партячейки на ДЕФА. Вот уже больше года как бросил курить, сбросил вес. Я чувствую себя совсем здоровым, только много сплю”.
Герман хочет жить, даже после опухоли и двух инфарктов. Однако он не доживет до падения Берлинской стены и умрет еще летом 1989-го.
Восточный Берлин. Давящая тишина. Запах бурого угля. Главный всепронизывающий запах ГДР. Тусклый фонарь на Димитроффштрассе. Германия, мало изменившаяся с войны. И печальный пес у ног Германа.
Мировая история состоит из малых кадров. В фокусе зрения Ивана: пес, лежащий на ковре, Герман, закутавшийся в плед, и телевизор, где главный пропагандист ГДР Карл-Эдуард фон Шницлер ведет свой “Черный канал”.
Плохо ей, собаке. Вспоминает первого хозяина. Нету его, бежал на Запад. Продает елки в Мюнхене.
На столе – бутылка восточногерманской вита-колы.
Иван и сам не любит перестройку, затеянную Горбачевым. Ему тридцать восемь лет, он переводчик, приехал в Берлин с профсоюзной делегацией. Как все ребята его возраста, уважает водку, секс и рок-н-ролл. Но он не читает “прорабов перестройки” – всех этих Нуйкиных, Карякиных, Поповых. Он хочет расширения свободы, но никак не хочет развала СССР. Впрочем, кому интересно его мнение?
Он оставляет Германа с его гэдээровскими проблемами, выходит на улицу. Доезжает на у-бане до центра. В киоске на Фридрихштрассе покупает фляжку “Корна”, идет в направлении КПП “Чарли”. Светится небо над разделенным Берлином, ходят по нему полосы прожекторов.
Сколько еще просуществует ГДР, сколько просуществуют СССР и весь соцлагерь? В воздухе – предчувствие катастрофы.
Иван достает фляжку, делает большой глоток. Он не знает, как действовать дальше, как ему плыть в этом ломающемся мире.
Он знает по эзотерике и по марксизму, что наступают перерывы постепенности, когда в железобетонных коридорах времени-пространства, в судьбах людей, народов и государств возникают прорывы, точки бифуркации, периоды разноса. И тогда надо сигать в образовавшуюся брешь. Потому что там – свобода. Кому-то гибель, а кому-то и свобода. Если СССР обречен, то надо бежать.
И мысль о побеге закрадывается в его сердце.
Когда он приезжает на эс-бане в Потсдам, уже глубокая ночь. Домики бюргеров темны: они ложатся рано в Германии, а особенно в ГДР. Его поражает фиолетовая подсветка окон. Как гэдээровцы умудряются завозить все эти светильники с Запада?
Жалко. Не продал Герману бусы, не получил пятисот гэдээровских марок. На них он мог бы купить в обувном две пары “Саламандер”. Потом зайти в кнайпу, выпить пива “Радебергер” с тюрингской колбаской. Может быть, даже слопать “айсбайн” или на Александерплаце попробовать любимый Ульбрихтом “айнтопф” – гороховый суп с сосисками.
В ГДР хорошо. Отсюда везут в Совок чайники со свистульками, махровые халаты и вокмэны. Из России можно привезти на продажу маленький телевизор “Юность”, водку, коньяк, икру, а также золотые украшения и камушки – если не застукает таможня. Плохо одно – отсюда трудно смыться на Запад.
На профсоюзной вилле в Потсдаме темно, но где-то в нижнем баре раздаются взрывы смеха. Советские и гэдээровские профсоюзники гуляют.
Закрывшись в номере, Иван включает телевизор: в Потсдаме отлично ловятся западные каналы. По ARD показывают последнее интервью Борхеса. Старик сидит, положив руки на посох, устремив слепой взгляд в бесконечность. И рассуждает. Метафизические лабиринты Борхеса. Но что они в сравнении с безумными лабиринтами эпохи перестройки?
За окном – гудок: по озеру, мигая огнями, проплывает пароходик. Пароходик на западной стороне – всего в пятидесяти метрах от профсоюзной виллы. Граница проходит по тоненькой песчаной отмели. Заливисто лает овчарка: завернувшись в плащ-палатки, по берегу проходят пограничники.
– Отсюда возможен побег с шестом, – думает Иван. – Так прыгнуть, чтобы вынесло за разделительную полосу. Плюхнуться в озеро и поплыть.
А можно просто спуститься в бар и трахнуть немку-переводчицу. Однако усталость сковывает тело. Иван ложится в постель и засыпает. За окном лает овчарка: пограничный патруль возвращается.
Ему снится сон: зимний лес, скрипит снежок. Он идет в хороших сапогах с отворотами. Длинный суконный плащ, в кармане фляжка “Корна”, на душе легко. Яркая луна освещает дорогу, ему нужно пересечь эту лесную просеку и выйти к небольшой деревне, где в последнем доме горит огонь и его ждет ночлег. Только вот дойдет ли он, мы не знаем. Стоп-кадр.
Будапешт
Декабрь 1988-го. Ивана направляют в Будапешт. Издавать бюллетень МОПа – международного профсоюза транспортников. Его вызывает в кабинет сам Янаев, секретарь ВЦСПС. Геннадий Иванович свеж, молод, доволен собой: кажется, ему удалось подружиться с Горбачевым. Его ждет большое партийное будущее. Он говорит Ивану: “Налаживайте прессу в Будапеште и не забывайте про линию перестройки!”
МОП транспортников в Будапеште – один из международных профсоюзов, подконтрольных Москве. Транспортники – боевой отряд рабочего класса. Французские, австралийские, бразильские моряки могут легко заблокировать порты. Их боятся судовладельцы. ЦК КПСС умело их использует. Но сейчас даже они выходят из-под контроля. Перестройка..
Ивана с семьей поселяют в блочном доме на Вираг-уца. Это спальный район Уй-Пешта, на самой окраине венгерской столицы. В том же подъезде живут другие иностранные сотрудники МОПа.
Начинается унылая работа. С утра венгерский шофер Иштван подъезжает на “Жигулях”, забирает начальство. Ивану это не положено: он целует жену и дочь, едет в МОП на автобусе. Весь день он с коллегами пьет в офисе кофе и долбает на машинке скучный бюллетень. В обеденный перерыв всем коллективом идут в профсоюзную столовую офисного небоскреба на Ваци-ут. Привычное блюдо – гуляш и капуста по-венгерски.
По вечерам он возвращается усталый в Уй-Пешт, садится ужинать с семьей, считает в уме, сколько заработал за время командировки. В кассе торгпредства СССР он получает каждый месяц зарплату – десять тысяч форинтов и сто долларов “командировочных”. За год можно купить телевизор “Грюндик” и “литую” дубленку.
После ужина жена говорит: “Пойди, погуляй с ребенком!” Он берет транзистор, коляску, идет с ребенком во двор. Пока дочка лепит в песочнице куличи, Иван слушает радио “Свобода”. Особенно завораживающе на него действуют репортажи Анатолия Стреляного. Тот с малороссийским акцентом вещает из поездов и колхозов, говорит о надвигающемся тревожном лете 1989 года. На душе у Ивана скребут кошки: что там еще впереди? После Стреляного новое испытание: Юлиан Панич читает повесть “Щепка”. Расстрелы, расстрелы, подвалы Чека, проклятый коммунизм! Ужас в душе нарастает. Вокруг – блочные дома спального района Будапешта. Чуть лучше советской реальности, но все же – социализм. Из открытых окон доносится песня Go West. Подходит дочка, дарит ему кулич из песка. Иван растроган, слезы навертываются на глаза. Как ему податься на Запад с женой и ребенком? Втроем границу трудно перейти. По радио сообщают об успехах “Солидарности” в Польше. И тут же – бахвальский голос Горбачева. Такое впечатление, что у отца перестройки башка идет вразнос.
Дома с отвисшей челюстью Иван смотрит телевизор: в Москве собрался Первый съезд народных депутатов СССР. Горбачев развивает демократию, Сахаров призывает к демонтажу системы, Запад рукоплещет. В прессе множатся статьи “прорабов перестройки”: Ципко, Шмелева, Селюнина.
И снова мысль: “Каких придурков навыпускал Горби со своей перестройкой! Как прост и хорош для масс был пролетарский интернационализм, как привлекательна была международная солидарность трудящихся. СССР – это же, блин, империя жрецов КПСС, и на хрен им перестройка и гласность”?
Будни МОПа
Май 1989-го. Он сидит на заседании МОПа. Выступающие говорят об акциях протеста, о профсоюзной учебе, о наступающей глобализации. Иван зевает, ему очень скучно. Новости транспорта его совсем не волнуют. На компьютеры советские дебилы не расщедрились, он печатает на электрической машинке. Все опечатки приходится долго и мучительно замазывать белилами.
Рядом с ним – Бобби. Это милый, ужасно ленивый англичанин. Он приходит в МОП на пару часов, скорректировать подготовленный материал. Его взяли на работу за то, что в 70-х он участвовал в митингах у американских баз в Англии. После этого ему трудно было найти работу на родине. Но даже Бобби подшучивает над советскими порядками и перестройкой. Обычно за полчаса до конца рабочего дня Бобби собирает свою сумку и уходит со словами: “Enough is enough!”
Глава МОП – старый индийский коммунист Чондра. В 50-х ему на родине повесили убийство полицейского, он отсидел десяток лет. За длительную службу компартии Международный отдел ЦК выбил ему эту синекуру. Чондра смугл до черноты, улыбается пожелтевшими зубами, курит сигареты, и от него за версту разит карри.
Чондра заводит странные разговоры о маге Шри Раджнеше, который был его хорошим знакомым в Индии и затем рехнулся на почве секса. Раджнеш вводил в заблуждение невинных искателей правды. Заставлял совокупляться, а сам курил кальян под баньяновым деревом. Так в Индии не полагается!
– Откуда коммунист мог знать философа и мага Шри Раджнеша? – недоумевает Иван. Впрочем, бывало и такое, только ленивый не говорит о связи Сталина с Гурджиевым.
Втайне Чондра преклоняется перед англосаксами и презирает советских варваров. На днях упрекнул Ивана, что тот не знает, где находится Британская Колумбия. Иван действительно не знал, что это – провинция Канады. Он слышал только про вашингтонский округ Колумбия. А Чондра добавил с усмешкой: “Неважное у вас образование в Советском Союзе!” – “И эти люди служат нашей сверхдержаве!” – скрипит зубами Иван.
Геноссе Вернер Кнабе. Пузатый гэдээровец на корявых ножках, все время истерически взвизгивает, обличает недостатки в работе МОПа. Бесконечно предан своей партии СДПГи лично шефу гэдээровских профсоюзов Харри Тишу. В конце войны его забрали в гитлерюгенд, он чуть не попал под русские танки, однако его спасла мамаша – заперла в подвале и держала там, пока линия фронта не покатила к Берлину.
Геноссе Кнабе пишет в Берлин и Москву бесконечные кляузы, он недоволен происходящим, он чувствует, что истинный социализм кончается. Его бесят ухмылки советских товарищей, их внутренний цинизм.
Венгерский секретарь Шандор Киш. Один из редких друзей СССР: его, сироту, в 1945 усыновили советские солдаты. Он предан социализму и профсоюзам, но такие, как он, в прошлом: в Венгрии наступают новые времена. Время наивных придурков прошло.
Уругвайский компаньеро Гомес: ковыляет с глуповатой улыбкой на плоском лице, засучивает рукав, показывая изуродованную корявую лапу: “Тортура-пытка!” Он был всего лишь шофером Арисменди, и тот, генсек компартии Уругвая, попросил Москву пристроить верного товарища. Любимая фраза Гомеса – “Аста маньяна”, он торжественно произносит ее в шесть вечера и растворяется в сумерках Будапешта. “В неизвестном направлении», – подмечает Иван.
И русский секретарь – Чувалов. Юркий, самолюбивый мужичок, который приставлен от Москвы следить за партдисциплиной. Однако и у него уходит почва из-под ног. Он спивается.
Работа носит странный характер: Иван составляет бюллетени, где рапортуют транспортники всех стран. Отчеты однообразны: забастовки, акции протеста и митинги солидарности. Секретариат МОПа заседает, принимает решения, но вся эта деятельность оторвана от реальности. А реальность совсем другая: перестройка вступает в критическую фазу. Сателлиты перестают слушаться Москву. И даже сам товарищ Чондра говорит, что в странах соцлагеря цены на авиабилеты и городской транспорт надо устанавливать рыночные, необходимы элементы свободной торговли.
– И это называется мировое рабочее движение! – усмехается Иван.
Чувалов в кабинете матерится и первые сто грамм принимает уже перед началом рабочего дня. Через час выходит на улицу добавить пивка. К обеду он полностью в кондиции, спокойно смотрит на мир.
На днях Чувалов вызвал Ивана и показал статью Нуйкина. Чувалов был пьян сильнее обычного, глаза воспалены – от слез и алкоголя: “Это ни в какие ворота не лезет, это же никуда не лезет! Этих перестройщиков будут сажать, их будут вешать!”
Иван поддакивает, но ему кажется, что никого вешать не будут. Разрушительные процессы идут повсюду в соцлагере, и в Венгрии тоже. Дьюла Хорн открыл границу с Австрией, в Польше разрешили “Солидарность”. В России бесятся прорабы перестройки: Травкин, Нуйкин, Карякин, Адамович, Попов. Пена революции, не больше и не меньше. Но им дали слово, значит, это кому-то нужно.
В тот день Чувалов сидит в кабинете не один. Литровая бутылка “Джим Бима” из тэкс-фри-шопа опорожнена наполовину. Рядом с ним – одутловатый мужчина двухметрового роста, некто Висловский. Сотрудник международного отдела ВЦСПС, полковник КГБ. Он что-то обсуждает с Чуваловым. Потом тот объясняет: “У Висловского – серьезная болезнь. Но если узнают в КГБ, его уволят: там больных не держат”.
Чувалов еще сказал, что тайно помог товарищу обследоваться и лечиться. Теперь Висловский его должник. Если закроют МОП, поможет ему открыть кооператив. Сейчас все открывают кооперативы. Чувалов думает наладить поставки колбасы из Австрии в Москву.
Выздоровевший Висловский сидит и говорит, говорит, говорит. Жена Чувалова стонет: “Он задолбал мозги своей непрерывной болтовней”.
Проходит пара лет, и Иван случайно узнает, что в 1990 году Висловский стал важным звеном комбинации по вывозу денег КПСС. Он доставлял их в Швейцарию и там размещал на специальных депозитах. Операция была технически несложной. Курьер привозил чемоданчик денег, а в банке открывали счет на подставную фирму. Главная проблема была – не ошибиться с курьером, чтоб не остался на Западе с деньгами. Курьеров было много, они без устали мотали – на Кипр, в Австрию, Швейцарию и Лихтенштейн, в Израиль и ЮАР. Иван не знает, что стало с Висловским впоследствии: умер ли он своей смертью, сбежал, был ликвидирован или получил за службу заводик под Москвой по производству кваса и “Тархуна”.
Семинар в Гане
Май 1989-го. Советского секретаря Чувалова командируют в Гану с заданием – провести семинар портовых рабочих Западной Африки. Семинар стоит дорого – пятьдесят тысяч швейцарских франков. Чувалов боится везти деньги в одиночку, для подстраховки берет Ивана.
Аккра. Они выходят из самолета. Душная и влажная жара накрывает их. Плывущий слоями стеклянистый воздух, красноватая африканская земля. Следы постколониального запустения видны уже в аэропорту. Ощущение дежавю по полной.
У трапа их поджидает невысокий мужичок в шортах и черных очках: “Ивахнюк. Первый секретарь посольства”. – “Не болтай лишнего, это чекист!” – шепчет Чувалов.
Иван крепко держит под мышкой портфель, в котором лежат швейцарские франки. Их надо передать местному профсоюзному товарищу Паа-Планге, который клянется в верности Советскому Союзу и мировому рабочему движению.
Ивахнюк уверенно ведет машину. В фокусе зрения: бидонвили, мусор, детишки вдоль дорог. И мухи, мухи. Но главная проблема – трудно дышать.
– Погодьте трошки, мы с этим быстро разберемся, – шепчет Ивахнюк.
Отель “Хилтон” – один из лучших в Аккре, но и он в состоянии упадка. Стены проросли ползучими растениями, бетон потрескался. С тех пор как Джерри Роллингс повел борьбу с иностранным капиталом, в Гану не вкладывают деньги.
Чекист Ивахнюк бормочет: “Проклятый мулат Роллингс! Сын белого аптекаря и черной наложницы… Почти все африканские мулаты – от белых отцов и черных матерей. Они здесь главные разносчики прогрессивных идей.
Но царствию мулатов в Африке приходит конец. В Анголе, в Мозамбике, в Гане, везде… Приходит песец. На смену выступает племя чернейших чистых негров. Они осуществят великую африканскую мечту. О возрождении племенного строя”.
– Царствию коммунистов также приходит конец, – думает Иван. – В Москве, на Украине, в Венгрии, везде… На смену им заступает орда крикливых перестройщиков. Вот эти ребята и осуществят великую демократическую мечту.
Он видит: двойную ленту ДНК, спираль черную и спираль белую. Черные и белые хромосомы будто по команде выстраиваются. Черные справа, белые слева. Или наоборот? Красные слева, белые справа. Судьба мулатов, она незавидна. Судьба коммунистов, она еще хуже.
В гостиничном номере по совету местных товарищей они проводят краткий курс лечения.
– Прежде всего, – говорит Ивахнюк, – примем лекарство. – Он достает литровку виски JB из посольского магазина и разливает по стаканам. Они пьют залпом и ждут. Проходит пять минут. Легчайший алкогольный пот с шипением выходит сквозь поры: тело дышит, становится намного легче. Восстанавливается теплообмен, мысли также приходят в порядок.
Ивахнюк коротко излагает обстановку: “Нас здесь не любят. Роллингс играет и на Советы, и на Запад. Его тонтон-макуты все время ходят по следам. Если что, отмазаться будет непросто. – Он делает паузу, смотрит пристально в глаза: – Так, что вы, ребята, задумали? Только начистоту!”
Чувалов излагает план семинара. Ивахнюка это не вдохновляет.
– Ну хрен с ним, семинаром, вы его проводите, конечно… А кто этот, ты говоришь, товарищ Паа-Планге? Посмотрим. Сегодня товарищ, а завтра хрен с горы. Будьте бдительны, take саге, как говорят американские товарищи. С негритосами не забалуешь. Вечерком я к вам приду еще. Какие будут просьбы?
Чувалов колеблется, потом говорит: “Нам бы еще лекарства из посольской аптеки”. Ивахнюк понимающе улыбается. Когда он приезжает вечером, у него в багажнике загружен ящик виски JB. Чувалов и Иван расплачиваются мятыми трудовыми долларами.
В Аккру тем же рейсом на конференцию прилетел Владек – высокий сорокалетний поляк с язвительной улыбкой. В Польше уже во все щели проникла “Солидарность”, и Владек не знает, как отвязаться от коммунистического профсоюза докеров, особенно в своем родном Гданьске.
Они садятся пить пиво на террасе. Разговор поверхностный, никто не верит в миссию профсоюзов, все думают, как лучше заработать на этой командировке. Попискивают одинокие комары. Ивану страшно подцепить малярию. В тропиках питаться надо осторожно. Они жуют прожаренный стейк и картошку фри – никаких салатов и фруктов!
Командировочные на день – сорок швейцарских франков, но есть еще представительские, есть гостиничные и другие статьи расходов. В отелях советские командировочные обычно просят липовые чеки. В ресторане официант за небольшую доплату также выставляет накрученные счета. Но это – мелочи. Главное – это пятьдесят тысяч швейцарских франков, которые они привезли и которые нужно перевести в седи. У местных они узнают, что реальный курс седи раз в десять выше, чем официальный.
Чувалов бормочет: “Вот бы обменять эти проклятые тугрики по черному курсу. Тогда можно положить в карман сорок тысяч франков”.
По законам Ганы любая оплата производится в седи. Надо идти в центральный банк и там менять валюту. Они долго говорят об этих седи, и бармен начинает все внимательней прислушиваться к заморским гостям.
Поднявшись в номер, Иван закуривает, стоя у окна. Сквозь ставни – авеню капитана Роллингса. На улице – та же красная пыль, ишаки, мальчишки. Но ему хорошо после стакана виски. Опять ощущение deja vu.
Входит горничная – толстозадая, грудастая, с белоснежными клыками, черная как смоль. Дотронулась метлой до пениса: “Хай, мистер!” Искушение велико. Но страх еще больше. Сейчас, в конце 80-х, все боятся СПИДа. Он стыдливо пятится от горничной. Она смеется над глупым белым постояльцем.
В дверь стучится товарищ Паа-Планге: двухметрового роста, в черных очках, по легенде бывший докер. Глава Союза портовых рабочих Ганы. На вид – вылитый тонтон-макут. Они с Чуваловым садятся в уголке и обсуждают детали профсоюзной учебы. Ивану это неинтересно. Он смотрит на улицу: в этой колониальной глуши можно сдохнуть от скуки и духоты. Паа-Планге уходит.
Вечер. Сидят с Чуваловым в ресторане. Чувалов уже наклюкался, он добрый. Хочет вернуться в Москву и заняться кооперативным движением. Весловский и Юргенс уже при деле. Предлагают и ему войти в долю. Но он колеблется – а вдруг перестройку свернут?
На выходе у бара сидит грузный, уже пьяный француз, с ним очаровательная негритянка в легинсах. Иван берет пиво, они заговаривают. Мишель – электрик, он ставит лифты в отелях и правительственных учреждениях… За эти годы в Гане он окончательно испился и истрахался. Он получает здесь раз в пять больше, чем в Европе. Построил домище во Франции, оплатил детям учебу. Но назад в метрополию не хочет. Здесь у него такой гарем! Вот эта вот красотка стоит доллар, другие отдаются за бутылку колы.
– А как же СПИД? – Мишель презрительно отмахивается. Еще он зарабатывает в казино, где играет по вечерам. Ему везет. Одна беда – все выигрыши в седи. У него куча этих дурацких седи. Седи – от слова ракушка, она заменяла туземцам деньги. Вчера он выиграл сто тысяч этих ракушек… Инфляция в Гане – за сто процентов в год, и деньги просто тают.
Иван аккуратно подводит к теме: “Послушай, Мишель, не хочешь поменять эти седи на швейцарские франки по выгодному курсу? У меня пятьдесят тысяч”.
Мишель пытается считать в уме, но у него не получается. Он говорит: “Мой номер – двадцать пять. Приходи в полночь. Поговорим”.
Чувалов сперва встревожен. Он спрашивает: “А можно доверять долбаному французу?” Потом дает добро.
В полночь Иван с портфелем, набитым франками, крадется к номеру Мишеля, стучит. Тот не открывает. Иван стучит сильнее. За дверью – стоны, звуки музыки, скрип кровати. Иван глядит в дверную щель: он видит свет луны, громадное брюхо лежащего Мишеля, на котором сидит верхом изящная африканская красавица.
В эту ночь Чувалов долго ругается матом: “Ничего тебе нельзя поручить!”
Утром, махнув на все рукой, они плетутся в банк и там меняют франки по грабительскому курсу. Сей случай спасает их. Когда в офисе ганских профсоюзов они передают седи, к ним подходят двое черных громил в военной форме и требуют представить официальный квиток обмена.
– Пронесло! – шепчет Чувалов, его губы трясутся. В машине он достает из сумки бутылку виски и наливает себе полный стакан.
Их семинар проходит в районе нового порта. Белозубые гиганты-шоферы, похожие на полицейских, гонят джипы сквозь джунгли. Скорость за сто, ухабы, как в России. Иван думает: “Только не здесь, только не в Африке!”
Они делают остановку в кафе. Иван доливает виски в колу – так незаметней. Шоферов сажают отдельно, они пьют простую воду, понимающе смотрят на него, скалят зубы.
Семинар длится весь день. Товарищ Паа-Планге докладывает долго и нудно на ломаном английском. Но в сумке Ивана – литровка виски: в перерывах он выходит покурить и прикладывается к бутылке. Во всем теле – легкость. Он снова думает об африканской прародине.
Напротив, к белоснежной горбатой церкви, стекались адвентисты Седьмого дня из стран Восточной Африки. Шли в желтых ботинках, красных клетчатых пиджаках, веселые и спортивные негры, напевая религиозные песенки. “Насколько это веселее нашей профсоюзной учебы”, – вздыхает Иван.
Но оживление приходит и к ним: под занавес все просыпаются и в первобытном трансе поют песни профсоюзной солидарности. Хлопают в ладоши, подплясывают и припрыгивают в ритм: “Workers unite, let’s look forward, we work hard!” Эти ритмы напоминают, что есть еще живые порывы тела и души, во всяком случае, в Африке. Но не в прогнившем ленивом Совке.
Вечером в отель приходит Ивахнюк: “Ребята, как прошло? Были интересные люди? Послушайте, мне нужны данные на Паа-Планге. Я слышал, что он имеет выход на Роллингса. Неплохо бы сойтись поближе. Поможете? Нам нужно знать все про эти гребаные профсоюзы моряков!”
Они сидят, пьют, Ивахнюк жалуется на жизнь в Гане: “Мы тут совсем охреневаем. Климат ужасный, дышать нечем, донимают комары. Утром – в машину, включаем кондер и на работу. Там весь день работаем под вентилятором. Вечером – в машину и домой. Сидим с женой и смотрим видик под ровный шум кондера. На улицах лучше не показываться – в стране нарастает анархия, Роллингс творит черт знает что. Но и наши хороши. Из Москвы приходят безумные сигналы – у них что там, шизофрения? Пытаются объяснить неграм новую линию партии на ускорение и гласность”.
– Это перестройка, – усмехается Чувалов. – Линия партии в постоянном обновлении.
– А вам не кажется, что перестройка – того, до добра не доведет? – вдруг говорит Ивахнюк. Все замирают. Явная провокация. Вопрос остается без ответа.
Под конец Ивахнюк все чаще переходит на мат: “Негры совсем охренели, перестали уважать белого человека! Им бы, блин, бананы с ветки рвать, а тут – “индустриализация”, “борьба с колонизаторами”.
Иван молчит. Он сам не понимает, что делают в Африке кривоногие советские спецы. Они рекомендуют строить комбинаты в джунглях, создавать рабочий класс, укреплять профсоюзную солидарность. А там, в России, – гнилые коровники, бездорожье и безнадега, какой-то странный затерянный мир. Африка – все равно не для русских, этот континент принадлежит старым колонизаторам.
Самое неприятное происходит при отъезде. Наверное, кто-то стукнул, так как тонтон-макуты устроили форменный шмон: перед посадкой на советский Ил-62 их уводят в отдельную комнату, заставляют раздеться и прощупывают весь багаж. Веселый пограничник с «калашом» хлопает Ивана по ягодицам.
– Я советский, – хочет сказать Иван, – мы тоже боремся с империализмом, – но в горле сухо.
Кто же болтанул про эти седи? Иван прикидывает: бармен, поляк, официант? Но почему-то наиболее вероятным кандидатом в стукачи ему кажется Мишель – грузный строитель лифтов, который просто слился в экстазе с местными, играет, трахается и в ус не дует…
Из Ганы Иван привез чемодан, полный влажного белья – от пота и жары. Пока оно крутилось в стиральной машине, жена повторяла: “А если бы мы вместо Будапешта поехали в командировку в Гану? Вот так бы и потели?”
МОП в кризисе
Август 1989-го. В МОПе ситуация скверная. Не хватает денег. Бухгалтерша Моника сверяет счета. Деньги лежат в Швейцарии, швейцарские франки – самая надежная валюта. Командировочные выдаются в швейцарских франках. Но центр вдруг резко ограничивает валютный бюджет МОПа. Командировок становится меньше.
На улицах Будапешта расцветает народный капитализм. Продают джинсы-варенки, первую порнографию. На всех стенах постеры Саманты Фокс. Этот постер Иван повесил над дверью. Ничего, хороший постер. Она там улыбалась фарфоровыми зубами, раздувая синтетическую грудь.
Торгпредство завозит по каким-то хитрым схемам большую партию джинсов Super Rifle. Это знаменитые джинсы. В 70-е за них платили в Москве пятьдесят, потом сто рублей. Продажа организуется в отделении ТАСС на Буде. Сюда съехались все советские сотрудники Будапешта.
Иван становится в очередь. Джинсы лежат штабелями. Без лишних церемоний все, мужчины и женщины, снимают брюки и юбки, толкутся в одних трусах, примеряют джинсы. Он запутывается, чуть не падает. По закону всемирной подлости ни одна пара ему не подходит. Но он берет джинсы для жены. В толкучке узнает Романа Кармена-младшего – оператора ТВ. Они ведут светскую беседу в трусах у трещащих телетайпов.
Неделей раньше торгпредство распределяло кроссовки “Пума”. Все остались довольны. А самая большая удача привалила месяц назад: торгпредство завезло английские дубленки, литые. За такую дубленку в Москве могут и голову свернуть.
Купив джинсы жене, он едет на улицу Непкёстаршашаг, бывшая Андраши. Его вызвал на беседу Игорь Сергеевич, таинственный сотрудник КГБ под крышей посольства СССР. Зачем он его вызвал?
Дежурный отводит Ивана в кабинетик: это мансарда под самой крышей. Спартанская обстановка, на столе развернута International Herald Tribune.
Игорь Сергеевич весело настроен: “Ах, вот ты какой! Давно хотел с тобой познакомиться. Закуривай”. Из короткой беседы Иван узнает, что его собеседник занят аналитикой. Его интересуют политические процессы в Венгрии, в Европе и мире, реакция на перестройку. Если у Ивана есть мысли, он может поделиться.
Игорь Сергеевич тычет пальцем в фотографию госсекретаря США Шульца: “Вот, понимаешь, вернулся в родную корпорацию «Бехтель». Хороша компания, распускает щупальца по всему миру. А как тебе этот Милошевич? Да, он еще заставит говорить о себе всю Европу!”
После короткой беседы о венгерских делах и росте цен Игорь Сергеевич спрашивает: “Ну, как у вас дела в МОПе?”
– Да вроде ничего.
– А у меня другая информация. Что тратят средства хрен знает на что, устраивают липовые конференции.
– Но я же издатель бюллетеня, я не имею отношения к их кухне.
– А зря. Ты написал бы мне записку поподробней. Да не жалей этих подонков, пускай сдохнут!
Иван задумывается. Отказывать КГБ – рискованно. Писать донос – не по нутру. У него сложные отношения с органами. Десять лет он был невыездным, даже в партию не вступал. Лишь перестройка дала ему возможность ездить за границу. Чекисты при Горбачеве изменились: они теперь любезные, открытые и мило просят совета. Они заигрывают с ним, но как далеко зайдет игра?
Иван приходит к выводу: людей из внешней разведки есть за что уважать. На фоне трусоватых, истеричных интеллигентов, партийных хамов и тупых администраторов они сохраняют некий кодекс поведения, к тому же они умны. То же самое он видит потом и на Западе: в БНД, МИ-6, ЦРУ – нормальные ребята. Все гадости, что пишут про них, – вранье. Но в этих отношениях есть черта, которую переступить нельзя, – она называется расписка о сотрудничестве. Разведчики милы, но если ты попадаешь в их руки, они становятся безжалостными.
Игорь Сергеевич выводит Ивана на прогулку, рассказывает о себе. Он сильно хромает. Проблема с бедром у него после Афганистана, где в полевых условиях работал в начале 80-х. В Афгане он сошелся с молодой шифровальщицей из посольства, бросил старую жену. Из-за развода потерял карьерный рост. Он очень страдает, что не может видеться со старшей дочерью от первого брака.
Они пересекают площадь Героев, проходят музей, и на поляне в парке Игорь Сергеевич делится сокровенным: “Здесь все сволочи, стоят только за себя, шкурный вопрос решает все. Особенно ваши профсоюзники. Они не понимают сути перемен.
Ваня, не верь им, поддерживай связь со мной. Я помогу тебе!”
И под конец ставит Ивану ультиматум: “Надо написать донос на застойный секретариат МОПа! Лучше использовать машинку Гомеса. Пока они у себя в ВЦСПС разберутся, всех этих моповцев прихлопнут как мух. В духе перестройки!”
– Как быть – послать на три буквы или принять компромисс? Это вопрос под стать гамлетовскому.
Соцлагерь трещит
События в Венгрии с начала лета нарастают: в конце июня министр иностранных дел Дьюла Хорн, ангельски улыбаясь, разрезает колючую проволоку на австро-венгерской границе. Это символический акт разрядки. Пограничный контроль остается, но в Венгрию устремляется поток восточных немцев – в предчувствии прорыва.
В соцлагере все ждут сигнала – чтобы окончательно сбросить маски. Но самое интересное происходит у посольства ФРГв Будапеште. За лето там скопились десятки граждан из ГДР. К осени их уже сотни, тысячи. Их разместили на территории посольства, устроили полевую кухню. Сотрудники не знают, что делать с этими пришельцами. Дипломаты переступают через лежащих, не могут пройти даже в туалет. 13 августа посольство закрывается для беженцев, они скапливаются на окрестных улицах.
И вот – 19 августа – первый прорыв. Во время Панъевропейского пикника в Шопроне границу открывают на три часа. Шестьсот гэдээровцев прорываются в Австрию. Пикник в Шопроне… Слово какое-то странное. Иван не разделяет всей этой демократической суеты, но вырваться хочется и ему.
Начало сентября, Иван проходит мимо палаточного лагеря на Буде: вокруг – милые, наивные гэдээровские лица. Почти что советские. С детьми разлеглись на лужайке. А ведь рано или поздно им дадут выехать на Запад! И мысль о побеге с новой силой овладевает им.
Лежат гэдээровцы на газоне, пьют газировку. Они довольны вниманием к себе и ощущением безнаказанности. Иван видит бородатого парня в драных носках, испытывает жгучую зависть: ведь тот – почти свободен.
10 сентября венгерские власти разрешают беженцам из ГДР без согласования с Восточным Берлином выезд в Западную Германию через Австрию. Около тридцати тысяч человек пересекают границу до конца месяца. Восточный Берлин клеймит эти действия как удар в спину.
После того как посольство потребовало написать донос на МОП, Иван сосредоточенно думает. Моральные принципы его не трогают: в среде советских службистов все построено на интриге и доносе. Но есть определенные понятия, и он, несмотря ни на что, должен предупредить Чувалова. Иван подходит к шефу, когда тот выпивает вторую рюмку в кабинете, и говорит: “Саша, тучи сгущаются. В посольстве косо смотрят на МОП. Хотят собрать компромат, в том числе и на тебя”. Чувалов резко оборачивается: “Да пошел ты в задницу! И вообще сматывай удочки. Ты надоел мне!”
Может быть, это из-за того, что сам Чувалов чувствует себя выше посольства? Ведь он – назначен международным отделом ЦК. Или причина проще – в животном неприятии таких, как Иван, капризных интеллигентов? Еще вчера Иван отказался с ним пить виски. Чувалов налил в стакан Jack Daniels, обмакнул губы в кукурузный дистиллят, глаза его увлажнились, и он сказал: “Вкусно, попробуй!” Но Иван ответил “не хочу” и этим смертельно обидел его.
Чувалов смачно выругался: “Ну, блин, смотри мне. Выбью из тебя всю дурь! И никуда не уходи: на профсоюзной вечеринке ты быть обязан”.
И, стиснув зубы: “Даю полмесяца на то, чтобы оформить отъезд!”
Выходит, сигнал не принят. Иван зажат со всех сторон. Посольские чекисты и профсоюзные функционеры столкнулись лбами. А он – он должен будет вернуться в Союз. Опять невыездной. И снова – нищета в НИИ и тщетные мечтания о свободе.
Всю ночь в постели он обсуждает с женой ситуацию. Выхода нет. Необходимо бежать. Другого шанса нет и не будет. Но бежать надо с треском, громко хлопнув дверью.
Прощание с Москвой
Сентябрь 1989-го. Это последнее посещение Москвы советской. Очень странное, однако. Ему нужно забрать все документы: свидетельства о рождении, о браке и многое другое, без чего на Западе не оформляют ни-че-го. Он приезжает в свой дом у метро “Аэропорт”. Во дворах мрачно, не видно фланирующих советских писателей. Москва – другая. Что с ней стало за два года? Что с ней сделала перестройка? Иван чувствует, что размеренная советская жизнь подходит к концу.
Идет к приятелю в Банный переулок, сидит у него на кухне, пьет чай. Тот с гордостью демонстрирует микроволновку – одну из первых в Москве. На Иване из Будапешта – черная литая дубленка. Она привлекает внимание, ее щупают. Сие значит, скоро такие же будут у всех крутых пацанов. Заходят люди, говорят о чем-то очень практическом: продать-перепродать. А раньше здесь говорили о философии и Розанове. Теперь на устах сплошные кооперативы.
Иван выходит на улицу, идет к Колхозной площади, и ему впервые становится страшно. Он чувствует, что на этих улицах, в этих подворотнях запахло криминалом. Ему страшно за свою жизнь, он хочет поскорее выбраться из странно изменившейся Москвы.
Локомотив истории, куда пыхтишь ты на всех парах и что ждет там, за поворотом?
Москва-89. Люди носят джинсы-варенки, открылись какие-то странные кооперативы, кафе “Теремки”, народ дерганый, замкнутый, большие очереди за сигаретами и водкой. На улице ведется продажа книг с лотков. Повсюду крутят “Ласковый май”.
Москва-89. Размеренно и четко, под звуки Гимна СССР формируются спецбатальоны криминала… Сильвестр, Тимоха, Квантришвили…
Он смотрит на лица советских людей на улице и думает: неужели так кончаются империи, неужели час “X” настает?
Россия: корабль идет непонятным курсом. Пункт назначения неизвестен. И все-таки, что значат эти странные имена? Клямкин, Селюнин, а также Травкин, Мурашов, Каспаров, Бурбулис. Во всем происходящем есть что-то иррациональное.
Перед отъездом он должен сдать отчет в ВЦСПС. Секретарша вводит его в кабинет Янаева.
Геннадий Иванович сидит в самом конце длинного стола для совещаний. Лицо красное, опухшее, но довольное: “Входи, герой!”
Иван приближается к нему с портфелем, набитым виски. Янаев бормочет: “Эх, была не была. Ставь на стол!” Иван вытаскивает бутылку, разливает. Они поглощают янтарный напиток.
– Спасибо за те, прошлые бутылки, – говорит Янаев с отеческой улыбкой, – очень пригодились в Сочи, где мы отдыхали с мужиками из международного отдела ЦК.
Его сердце не окаменело. Оно билось в ритме советской, рабоче-крестьянской системы отношений. Когда бутылки виски и пачки “Мальборо” многое решали.
– Ну чего там, в МОПе, решили послать тебя в одно место? – переходит к делу Янаев. – А ты не ерепенься, приезжай в Москву, мы что-нибудь тебе подыщем. Мы вот и кооперативы организуем. У нас этим новый отдел занимается.
Иван понимает, что Янаева уговорили сдать его. Что теперь с Будапештом покончено. Что он вернется в тихий академический институт и будет протирать штаны в библиотеке. Жаль, но ничего не поделаешь.
Янаев закуривает, предлагает ему сигарету. Красное лицо еще больше багровеет. Наливает по новой: “Как дела в Будапеште?”
– Неплохо, то есть средне.
– А у нас тут весьма хреново. Перебои со снабжением.
Рабочий класс недоволен. Перестройка буксует. Заславская провела замеры – результаты не соответствует ожиданиям. Что-то надо делать!
Янаев подходит с сигаретой к окну, смотрит во двор. Грубо очерченный, чуть азиатский профиль, выбрасывает клуб дыма: “Но есть и неплохие новости. Встречался на днях с самим генсеком. Он предлагает мне войти в Политбюро”.
Его лицо искажается. Тоскливое выражение. Он матерно ругается и говорит: “Блин, как бы не влипнуть!” Он повторяет эту фразу три раза.
Иван ощущает глухие подземные толчки, странное чувство конца империи: “Прощай, Советский Союз!”
Они тепло прощаются, Иван идет по бесконечным коридорам ВЦСПС. В следующий раз он увидит Янаева на экране телевизора в августе 1991-го: Геннадий Иванович сидит за столом с другими путчистами, дрожащими руками держит бумажку, объявляет о создании ГКЧП. Это конец!
А пока – Шереметьево. Пограничник проверяет чемодан. Ищет доллары, икру. Не находит, крайне злой отпускает его. Иван улетает в Будапешт.
Последний ужин
И вот – последний ужин в МОПе: сотрудники сидят за длинным столом. Чувалов, Чондра, Кнабе, Киш, Моника, англичанин Бобби, Иван и шофер Иштван.
Первый тост – за профсоюзное единство. Второй – за солидарность, третий – за перестройку.
Иван останавливается после второй рюмки водки. Чувалов подмигивает Вернеру Кнабе и говорит: “Иван, какой же ты профсоюзник? Мы с Кнабе поспорили на бутылку “Абсолюта”, что ты выпьешь стакан водки, не отрываясь”.
– Молчишь? Хочешь увильнуть? Не выйдет! – Чувалов ставит музыку – венгерский марш Берлиоза – и наливает стакан “Абсолюта”. Иван встает, берет стакан и медленно пьет до дна. Раздаются жидкие аплодисменты. Наливается второй стакан, но Иван твердо говорит “нет”, уходит в кабинет и открывает окно.
Над Будапештом розовеет вечернее небо. Иван закуривает “Мальборо”. Он долго сидит у окна, думает. Зажигаются огни на Ваци-ут, потоки машин пересекают мост Маргит. Венгрия дрейфует в сторону Запада, а работа в МОПе для него кончается. Итак, нужно уйти, громко хлопнув дверью! Он повторяет эту фразу три раза.
По звукам в коридоре понятно, что пьянка подходит к концу.
– Аста маньяна! – бурчит Гомес и, припадая на левое бедро, ковыляет к выходу. Все расходятся. Долгожданный момент наступает.
Иван заходит в кабинет Гомеса, и там на его машинке пишет топорным английским языком открытое письмо: “Дорогие товарищи, МОП отклонился от линии перестройки! Руководство МОПа потеряло связь с зарубежными профсоюзами, тратит деньги на формальные мероприятия, ненужные командировки. Коррупция проявляется в махинациях со швейцарскими франками и долларами, с путевками и авиабилетами. В будапештском бюро царят пьянство, кумовщина и разгильдяйство…” Он допечатывает обличительное письмо, внизу подписывается – “друг Советского Союза”. Самое смешное – что в этом письме большая доля правды. Затем кладет в конверт и направляет на имя заведующего международным отделом ВЦСПС Аверьянова.
После этого выходит из МОПа, запирает за собой дверь: все пути к отступлению отрезаны. Снова мелькает мысль: предатель он или народный мститель? Уже много позже до него доходит, что в ВЦСПС разгорелся скандал, назначили комиссию для расследования, проверяющие приехали в МОП. Им удалось выяснить, что письмо написано на машинке Гомеса. Сам Гомес клялся всеми уругвайскими святыми, что писал не он. И тогда до них дошло, что это сделал Иван, что это он, проклятый перебежчик, ушедший тем временем на Запад.
Ночь, Будапешт. Дело сделано. Бежать или остаться? Он это совершил, он преступил, он размышляет. Что хуже с точки зрения властей – письмо или побег? Письмо – они поймут, сочтут за акт возмездия, хотя и сделают невыездным. Ну а побег… Побег из зоны карается на всю катушку, но что ему терять?
Короче, надо бежать, иначе снова невыездной.
Побег
Утро следующего дня. Иван лежит в постели и просчитывает ходы: “Так как же конкретно смыться?” Трехлетняя дочка играет с цыпленком. Он думает: “Что делать с цыпленком? Придется оставить”. Жена наливает ему суп, смотрит тревожными глазами. – Как все это организовать?
Ему приходит мысль. Он едет к Дэну Даймону, это британский репортер, совсем недавно открыл отделение Sky News в Будапеште. Иван знаком с ним три месяца и даже съездил на репортаж в Субботицу – на югославской стороне границы. Ему нужно одно – чтобы Дэн дал ему рекомендацию как журналисту в посольство Австрии, тогда он получит визу на три месяца. Без этого он ничего не успеет в Вене.
Дэн соглашается: он не только дает Ивану справку, но даже предлагает провезти с семьей через границу, а заодно сделать репортаж о бегущих на Запад гэдээровцах.
15 сентября Даймон подъезжает к его дому: Иван, жена и трехлетняя дочка бесшумно выносят багаж, чтобы не видел никто из МОПа, укладывают хозяйство в большой пикап. Осторожно кладут телевизор “Грюндик” – главное семейное богатство. Дочь плачет: цыпленок убежал.
Они едут по забитой машинами трассе, в потоке гэдээровских “Трабантов” и “Вартбургов” приближаются к австрийской границе. У Хедьшалома – настоящее столпотворение. Клаксоны, крики, очумевшая полиция, много телеоператоров.
В кармане у Ивана – две тысячи долларов. Это деньги за советское кольцо с бриллиантом, которое удалось продать венгерской секретарше МОПа Монике.
Он, как бы лучше выразиться, плохо ориентируется в ситуации. Смотрит сквозь темные очки на разлегшихся по обочинам гэдээровцев: у них затрапезный соцблоковский вид. У самого странное ощущение, будто он перелезает через забор. Не ободрать бы задницу!
Он видит выражение лица Даймона, иронически прищуренное. Англичан вообще понять сложно. Даймон смотрит на беженцев, саркастически ухмыляется: “Как эти немцы полюбили свободу!”
– Типично британская германофобия, – думает Иван.
Их останавливают в пяти километрах от австрийской границы на КПП. Два венгерских пограничника освещают салон фонариками. Документы Ивана в порядке, но машину дальше не пропускают.
Он хлопает себя по лбу: свободный выезд – только для немцев! У жены и ребенка нет визы на Запад. Его трехмесячная виза сработает, но всех троих не пустят через границу. Выходит, легальный путь не годится. Придется идти полями. А если мины?
Они сидят с Даймоном на обочине, курят, угрюмо смотрят на поток “Трабантов” и “Вартбургов”, который движется в сторону Никельсдорфа. Порывистые шквалы ветра, белые облачка в ясном сентябрьском небе. Для них этот путь закрыт.
Даймон говорит: “Можно попытаться по южному отрезку венгерско-австрийской границы. Я делал оттуда репортаж, там, кажется, нет мин и самострельных установок… Но семью лучше оставить”.
Иван говорит жене: “Я вышлю приглашение из Австрии, мы скоро увидимся!” Они обнимаются на прощание, он целует дочку. Жена, малышка с куклой “Барби”, телевизор “Грюндик” и целый отрезок жизни остаются позади – в машине Даймона.
Иван бредет через поле к лесу. В ложбине течет река, он идет вдоль берега. Заболочено, кроссовки намокают.
Как показал на карте Даймон, идти надо шесть-семь километров, потом свернуть налево. Иван подходит к проволочному заграждению: проволока перерезана, трава вытоптана, как будто пробежало стадо бизонов. Пограничников не видно.
На этом месте стояла мощная сигнализация. Ее убрали летом – как жест венгерской доброй воли.
Опять забрел в болото, еле выбрался, изменил направление. Пока выбирался, потерял карту. Полное топографическое недоразумение.
Темнеет, надо ждать утра. Он ложится под деревом на опушке непролазного леса. Вспоминает, что такие леса растут лишь там, где установлен железный занавес: в Восточной Германии, в Корее, в Финляндии и здесь. Ждет рассвета, смотрит на звезды. Укутывается курткой, засыпает.
Утро, туман рассеивается. Перед ним большая казарма. Венгерские пограничники спокойно курят, не обращают на него внимания. Даже собаки не лают. Где же граница?
И тут раздается гудок паровоза. На горизонте – поезд, который пыхтя уходит в сторону Австрии. Так он снова обретает ориентир.
Иван обходит казарму стороной, в поле стоят высокие смотровые вышки. На них никого не видно. Кажется, границу никто не охраняет.
В нескольких метрах от него вырастает кабан. Иван видит его красноватые злые глазки, черную щетину. Оба напуганы: кабан разворачивается и бежит в сторону Венгрии, а он бежит на Запад.
Пробегает нейтральную полосу, оставляя следы на бороненной земляной дорожке. Перед ним – невысокий забор с обрушенной секцией, через которую несложно перелезть.
– Гэдээровцы опять за нас поработали, – думает Иван.
Он проходит это препятствие, оборачивается и видит: пограничный столб, на одной стрелке – Н – Hungaria, а на другой стороне – А – Austria. До него доходит, что ост-блок остался позади. Идет по полю дальше. Первый австриец, которого Иван встречает – старик в тирольской шляпе, он косит траву и смотрит на него с понимающей улыбкой. Иван спрашивает: “Oesterreich?” – “Ja, freili”, – отвечает старик.
И вот он в Австрии. Деревня Никельсдорф. Не верится, что в Австрии. Мигают огоньки полицейских машин. Он в Австрии! Его не останавливают. Иван садится на рейсовый автобус и едет в Вену.
Описать его состояние? Не стоит. Видимо, это и не нужно. Железный занавес пробит. Что дальше? Дорога в Вену. Аккуратные австрийские домики. Проплывают виноградники австро-венгерской империи. Пригород Вены – Мёдлинг. Прибыли!
Вена встретила его мелким дождичком. Острый шпиль Штефансдома, яркие огни Ринга. Зрачки расширяются: он не верит, что вырвался. Но это так.
Поиски истины
Ноябрь 1989-го. Иван два месяца в Вене. Снимает комнату у эмигрантов из СССР и постепенно проедает две тысячи долларов, прихваченные из Будапешта. Ждет жену с дочкой. Направил им через знакомого австрийца приглашение и ждет. Он ищет работу, рассылает десятки резюме.
Время тянется невыносимо долго. Он бредет по Рингу. Подмигивают огоньки пип-шоу и секс-шопов. Без женщины уже давно. В дверном проеме бардачка стоит турчанка, насурьмленные глаза, сигаретка во рту. Она высовывает кончик языка, зазывно шевелит. Иван возбужден. В тревожном состоянии возвращается домой.
Вена – веселый город. Но не для тех, кто ограничен в средствах. Ивану скучно. Может быть, поможет эзотерика? Сколько раз, ненастными московскими вечерами он зачитывался бессмертными трудами классиков научного ясновидения.
Иван вспоминает: зимний вечер, читальня в центре Москвы. Он сидит над статьей – о социально-экономическом развитии какой-то там далекой азиатской страны… ему очень, очень неинтересно, не хочется листать ооновскую статистику. Он достает из портфеля перепечатку на ксероксе: опус Гурджиева. Начинает читать. Идея его захватывает.
В другой раз он достает перепечатку Штейнера. Все эти книги за небольшие деньги ксерятся в Библиотеке иностранной литературы. Любители эзотерических наук спечатывают там страницы, тома. Иван – не исключение. Мир новых понятий завораживает его. Теория перевоплощений, судеб народов, влияния Луны на Землю. И в этом темном, отгороженном советском существовании он очень, очень надеется на чудо.
Иван помнит чувство восхищения и ужаса, когда поздним декабрьским вечером 1980 года в Библиотеке иностранной литературы он читает “Четвертый путь” Успенского и доходит до места, где говорится честно и откровенно: после смерти все души отлетают на Луну и там служат пищей для растущей прожорливой планеты. Ему страшно от этой мысли, он выходит на Котельническую набережную: мерцает огнями сталинская высотка, хрустит снежок, а он ищет три копейки на трамвай и затем – пятак на метро. Всю дорогу до дома думает о ненасытной, прожорливой Луне.
Этот момент поиска важен, очень важен. Жизнь в Совке не дает никакого метафизического выхода. Мертвящая пропаганда – в официальной сфере. А в частной – бесконечные интеллигентские беседы на кухнях, с куревом и водкой. Пустая болтовня, которая кончается в основном одним – манией величия или белой горячкой.
Он поддается на эти метафизические приманки, уходит в поиск. И обсуждает тему бессмертия в пьяных беседах на дачах и на кухнях, в пригородных электричках.
Сосед Павел, известный оккультист, все время бубнит об “эгрегоре” и коллективной карме. Павел считает, что Сталин был связан с группами Гурджиева и потому был безошибочен в отборе средств борьбы.
Павел: “Кто лучше Сталина понимал практическую эзотерику? Мы – ученики Гурджиевых-Успенских. Мы – твердые последователи Штейнеров и Блаватских, мы ищем нового Сталина, потому что вопрос учителя – это вопрос жизнеустройства”.
Еще Иван помнит старуху в коммуналке, 1969 год. Она спросила: “Вы случайно не штейнерианец?” Этот вопрос поразил его больше, чем давняя беседа о Шопенгуаре в квартире Марины Ладыниной. Странные московские совпадения. Значит, такие люди есть. Притом что официально последнюю группу штейнерианцев ГПУ ликвидировало в 1934 году.
Его увлечение теорией Гурджиева длится два года, учением Штейнера – столько же. В курилке Исторической библиотеки он может поспорить на эту тему с безумным аспирантом Шляпентохом. Который позже уехал в Америку и там стал профессором социологии.
В Вене мечта Ивана реализуется. Он сам выходит на встречу с группой Гурджиева и антропософами. В телефонной книге находит номер общества Гурджиева-Успенского, звонит. Трубку берет Джон Б. – руководитель венской группы. Они назначают встречу на вечер – у Штефансдома. Должно быть, Джону Б. интересен этот странный заезжий русский. Иначе, зачем?
Шесть вечера. Навстречу Ивану выходит долговязый рыжий американец в плаще, с ним рядом – полутораметровый израильтянин в джинсах – гость венской группы Гурджиева-Успенского.
Они садятся в итальянском кафе в проулке у самого собора. Джон Б. коротко рассказывает: “После смерти Гурджиева, Успенского и полковника Беннета только мы, американцы, в состоянии обеспечить экспансию учения. Головная организация называется “Ренессанс”, она находится в Калифорнии”.
“Ренессанс” построен по сетевому признаку. Мы имеем структуры в основных странах Европы, а теперь и в СССР. Да, мы развиваем нашу деятельность на территории России, – говорит Джон Б. – Особенно тянется к нам молодежь.
Мы уже открыли много филиалов у вас в стране. Перестройка дала нам огромные возможности действия, мы опутаем Россию сетью своих организаций. Мы откроем людям глаза. После семидесяти лет коммунизма они поймут, что такое правда.
Теперь конкретно о вас. Мы можем решить ваши проблемы, сломать вашу привычную механику. Короче, мы вас спасем, но на жестких финансовых условиях. Мы будем брать десять процентов со всех видов вашего дохода. Согласны?”
Иван судорожно застывает в кресле, некое подобие ответа вращается в его механическом сознании. Зрачки расширяются: он не верит, что это окупится.
– Мы обеспечим вашу трансформацию. Вам есть за что бороться!
Но он, как настоящий советский человек, не хочет бороться. И тем более ни за что не хочет платить. Иван жует пиццу, тянет с ответом. Джон читает его мысли. И теряет интерес к странному москвичу.
– Кстати, мой друг, достал ли ты билет в Венскую оперу? – демонстративно обращается американец к маленькому израильтянину.
– О да, недорогой билет, за тридцать долларов, я выстоял всю очередь, зато пойду сегодня с Ингой.
Остаток обеда Джон и израильтянин говорят только друг с другом, Иван чувствует себя покинутым.
Ему этот разговор в принципе не нравится: экспансия, сетевой принцип… Что за деловые соглашения? Где гарантии, что они – помогут?
Позднее он прочел про этот кружок – Robert Burton’s Fellowship of Friends (Renaissance): про него пишут разное даже американцы. В основном, хреновое мнение. Мол, их, учеников, хотят поработить, ими манипулируют. Они бунтуют и даже восстают с оружием против учителей.
Иван думает: “Всего, к чему я стремлюсь, я хочу добиться сам. Я не могу подчиняться никакой групповой дисциплине. Ни в СССР, ни на Западе. Я не могу находиться под контролем учителей. Для меня главное – свобода. Быть может, эту свободу дадут мне антропософы?”
Антропософы находятся по адресу: Зибенштернгассе, 27. Совсем недалеко от “Вестбанхофа”. Его встречает маленький сухой старичок – профессор Краних. Поднимаются без лифта на второй этаж – профессор отпирает пыльный кабинет начала века. Полки книг, гербы тайных обществ, бюст Штейнера.
– Я так рад, так рад, – кудахтает Краних. – Давно, уже с начала 30-х годов к нам не захаживал русский антропософ. По этому торжественному случаю мы проведем сегодня лекцию. Вы не откажетесь?
Иван прокашливается. Перед ним, в маленьком зале, два десятка человек, в основном старики, один скрюченный полиомиелитом бородатый юноша, и – она, прекрасная сорокалетняя Розмари.
– Мы, в Советском Союзе, высоко ценим и любим идеи Рудольфа Штейнера, – начинает он приветствие. – Знаменитые художники, писатели и музыканты отдали долг жизнеутверждающей теории вечного перевоплощения. Среди них – Максимилиан Волошин, Андрей Белый, Василий Кандинский и многие другие.
Они сидят, затаив дыхание. Розмари улыбается ему. Он чувствует эротическое возбуждение: “Сейчас, после десятилетий коммунистических репрессий и гонений, это учение снова выходит на поверхность. Учение Штейнера живо, потому что оно верно!”
Раздаются аплодисменты.
“Мы, штейнерианцы Советского Союза, хотим установить связи с братьями по убеждениям на Западе, и в первую очередь в Австрии, где Штейнер сформировался как мыслитель”.
– А дадут ли нам, русским антропософам, денег? – неуверенно интересуется он потом.
На этот вопрос профессор Краних отвечает: “Мы никому не даем денег! Мы очень бедны. После войны политическую арену Австрии делят две партии – социалисты и консерваторы. Они не дают никому развернуться, они монополизировали все сферы, в том числе духовную. Мы боремся отчаянно за гранты, за лицензии, но они душат нас. Посмотрите на состав гостей – преобладают старики, вошедшие в штейнеровское движение еще до войны. Это вы, русские, должны нам помочь!”
Иван убеждается: увы, и эта группа не то, чего он ожидал… Он надеялся на постижение тайн и финансовую помощь, а сталкивается с голой борьбой за существование и отсутствием тайны… ему, советскому идеалисту, это очень горько видеть, но такова ситуация со всеми такими группами на Западе. Лекция закончена. На предложение прочесть еще одну лекцию антропософам он отвечает мягким, но решительным отказом.
Старик Краних говорит о связях венской группы с Дорнахом и Гетеанумом, о том, что там завелся некий очень активный русский, и в заключение дает ему книгу: Сергей Прокофьев – о духовной судьбе России и Европы.
На улице Ивана поджидает прекрасная Розмари. Она без ума от его лекции. Они заходят в кафе, где Розмари рассказывает про свою любовь к антропософии и астрологии. Этим она напоминает ему московских дамочек, с которыми он общался в 70-х. Они все спрашивали про зодиак и асцендент, и, если знак подходил, охотно ложились в постель. Однако Розмари – другая, в ней есть фатальная обреченность и честность, которая осталась у женщин на Западе. В России – все больше блажь. Чем больше ужаса в жизни, тем больше фантазий в башке.
Он узнает, что муж отнял у нее ребенка по суду. Она плохая мать. Последние годы провела в Испании, в какой-то секте. Ненасытный гуру выкачал все ее сбережения, немалые деньги, и муж установил над ней опеку. Но она все равно хочет жить и умереть свободной.
Они поднимаются в ее маленькую двухкомнатную квартирку. Иван шарит по карманам: презерватива нет. Он гладит ее рукой, избегает соития. Боится заразиться перед приездом жены. Розмари все равно индифферентна к ласкам: как будто угасли половые функции. В ванной он видит седые волосинки на полу: ему брезгливо и страшно. Одевается и уходит – такой секс и такое общение его не привлекают.
Дома он читает книгу Сергея Прокофьева на немецком языке – о мистическом предназначении русского народа: “Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля”.
Это напыщенное, высокопарное, выспреннее… Ему хочется сказать: “Будьте проще, и народ потянется к вам!” Тем не менее из любопытства он пишет Прокофьеву в Цюрих, просит совета, что можно сделать для России.
Прокофьев отвечает ему: “Милостивый государь, не задавайте глупых вопросов, а лучше почитайте внимательно, что я пишу”.
Это очень оскорбительно, он ненавидит Прокофьева.
Расстроенный, идет на рождественский базар у венской Ратуши. Съедает бутерброд с гусиным смальцем, и ему становится дурно. Печень не переваривает гусиный жир, его рвет. Он лежит один в квартирке, и ему очень плохо.
Он узнает: подонок С. Прокофьев – внук композитора, обосновался в Дорнахе, вошел в правление Всемирного антропософского общества. Теперь он там, в Дорнахе, дерется за лидерство на российском направлении. Все оккультисты есть борцы за власть. Кто преданнее делу Маркса-Энгельса? Большевики или меньшевики? Большевики побеждали во всех организациях всегда.
Позже он читает заметку про очередной съезд русских антропософов в Дорнахе, где Прокофьев вел борьбу за власть большевистскими приемами. Ситуация эта долго не устаканивалась.
На этом его приключения с антропософами не кончаются. Год спустя, уже в Мюнхене, Иван вспоминает о далеких родственниках в Германии, об усадьбе в местечке Кенген, где жила дальняя родственница, еще до войны вышедшая замуж за немецкого поэта Отто Ренефельда. Она пережила мужа и умерла лет десять тому назад, оставив усадьбу и состояние антропософам. Иван решил узнать, не стоит ли его имя в завещании. Хоть что-то, хоть какие-то мелочи. Для советского человека – и сто марок деньги. Он едет в Кенген. Это невзрачный городишко, недалеко от Штутгарта. Сразу подался в мэрию. Нет, документов нет, и его имя не упомянуто.
Иван идет к усадьбе, узнает дом, который раньше видел только на фотографиях. Во дворе – могила Отто Ренефельда. С орлом на пьедестале. Он входит в большую гостиную с камином, теперь библиотеку, говорит библиотекарше: “Я – родственник покойной фрау Ренефельд. Скажите, меня тут примут?”
Девица уходит к начальству. Приходит с ответом, что господин Зельцбахер, глава кружка, не может его принять. Мол, очень занят и едет на встречу. В окно Иван видит: из дома выходит тучный Зельцбахер с двумя помощниками, они садятся в черный “Мерседес” и уезжают на всех парах. Он говорит себе: “Вот так-то, сынок!” Системный протест в нем только обостряется.
Ночью ему снится далекий Дорнах. Там, в глубине швейцарских гор, сидят, подобно гномам, последователи Штейнера и строят недосягаемый Гетеанум. Оттуда же управляют они всемирными антропософскими сетями, вальдорфскими школами, эвритмическими танцами, лечебной фармакологией и прочими делами… Он вспоминает советского философа, который сказал: “Добра от этого учения не будет, сколько эвритмических танцев ни пляши. Ведь даже супертеррористка из “Красных бригад” – Ульрике Майнхоф – она окончила Вальдорфскую школу!”
Форум свободы
Январь 1990-го, Иван все еще в Вене. Жене не дают австрийскую визу в ОВИРе, и он болтается здесь совсем один, не зная, как быть дальше. Чтобы подработать, нанимается стрингером в мелкое агентство новостей Eastcom. Хозяин Eastcom – Вилли Брайтмозер. Он сколотил большие деньги в Москве, продавая Советам детское питание, компьютеры и фармацевтику. Это двухметровый рыжий австриец, он любит Россию и русских женщин. Дружит с советскими министрами, партийцами и журналистами. Но товарно-сырьевой бизнес становится ему неинтересен. Брайтмозер организует Eastcom, чтобы освещать события в России и Восточной Европе.
Первое задание Ивану – взять интервью у русских диссидентов на “Форуме свободы”. Агентству Eastcom нужна сенсация. Перестройка входит в крутой вираж, все летит вразнос, интерес к России огромен. У же рухнула Берлинская стена, пали режимы Восточной Европы, все готовятся к распаду СССР.
Именно в этот момент престарелый Отто фон Габсбург созывает в Вену правозащитников на “Форум свободы”. Наверное, думает Иван, будет публика второй категории: под главных героев перестройки делаются индивидуальные мероприятия. Но этот “второй эшелон” Ивану даже более интересен. Он хочет получить от них живое свидетельство перемен.
Вы слышали про Отто фон Габсбурга? На фотографии времен Первой мировой он стоит в платьице с прадедушкой – императором Францем-Иосифом. Отто – последний наследник дома Габсбургов. Лишенный всех прав наследия в Австрии, заделавшийся в рыцари “холодной войны”. Иван видит в нем инстинкты глубинной, животной русофобии. Не он ли, фон Габсбург организовал пикник в Шопроне в августе 1989-го? С которого сотни гэдээровцев рванули на Запад. Тот самый Отто, с которым он еще увидится в Вильдбад-Кройте.
Звездная зимняя ночь, берег Дуная. Иван поднимается на борт прогулочного корабля “МС Моцарт”. Ночной фейерверк над островом Донау-инзель. Льются звуки венского вальса, на палубе пьют и гуляют. Горят разноцветные лампочки, неестественно карнавальная атмосфера.
Он пропускает для куража два бокала вина, ищет русских гостей. По списку узнает – их здесь пара десятков из Союза – активистов перестройки. Однако подходящих для интервью реально трое: В. Богородников, А. Мурашов и П. Мовчан. Неведомые прежде персонажи, до поры до времени прозябавшие под слоем советской плесени и пыли. На дачах, в НИИ, в подвалах, в зонах.
Каждый окучивает свою делянку. Богородников – сиделец, правозащитник, ныне возглавил Христианско-демократический союз. Мурашов – активист Межрегиональной группы депутатов, представляет младоельцинистов. Мовчан – щирый хохол, один из активистов “Руха”. Они все рвут зубами распадающуюся плоть империи.
Иван не любит советскую власть. За то, что сгубила его молодость, десять лет держала невыездным. Не дала раскрыть таланты, обрекла на нищету и прозябание. Но то, что он видит и еще увидит, – хуже советской власти. Это растаптывание исторической России.
Подходит к Мурашову, тот как мантру повторяет: “Моя Межрегиональная депутатская группа, моя команда, она еще заявит о себе. Мы – это Евстафьев, Савостьянов, Гаврила Попов!”
Они сидят за стойкой бара “Дон Джованни”. Иван включает диктофон, пьет пиво и слушает, что Мурашов несет ему про Межрегиональную группу.
Про борьбу с ретроградами, про Первый съезд народных депутатов СССР, про акции протеста. Он видит простецкую скуластую рожу Мурашова, его ощетинившиеся усики, раскосые монгольские глаза.
В какой-то момент Мурашов срывается на визгливые нотки и прямо говорит о захвате власти демократами. “Наши” готовы взять на себя ответственность. “Наши” – это группа младших научных сотрудников, журналистов, экономистов… они составляют основу команды младоельцинистов.
Вопрос Мурашову: “Что дальше?”
Ответ: “Мы – костяк Межрегиональной группы, мы близки к тому, чтобы возглавить Съезд народных депутатов СССР. В Верховном Совете мы получим большинство, затем в Москве и наконец – в Союзе. Мы поведем беспощадную борьбу с КПСС и надеемся к марту принять закон об отмене ее руководящей роли”.
– А если распад Союза?
– Мы приветствуем распад СССР.
Мурашов напоминает братишку-матроса после взятия Зимнего.
Но он уже неплохо осведомлен – по части добротных машин и звездочных отелей. Так же неожиданно начинает хаять отель, в котором их разместил фон Габсбург: “Клоповник трехзвездочный! А я ведь член Межрегиональной группы!” Мурашов не любит дешевку, турецкий ширпотреб и китайские рестораны. Все должно быть на уровне! Его слова подтверждает жена – намазанная яркая дама, она покровительственно похлопывает его по плечу. “Вот где неисчерпаемый заряд буржуазности”, – думает Иван. И ему снова становится страшно за Россию.
Долго ждать не приходится: пару лет спустя Аркадий Мурашов, неудавшийся научный сотрудник какого-то НИИ, за преданность Ельцину назначен начальником Главного управления внутренних дел Москвы в ранге первого заместителя министра МВД.
Второй, у кого он берет интервью, – украинский правозащитник Павло Мовчан. Тот проще, лихо выпивает с Иваном по сто грамм водки и начинает нести программный бред сепаратизма. Мовчан – неудавшийся сценарист, интеллигент-расстрига, пьянствовал после Литинститута Горького на подмосковных дачах, дружил с кацапами-интернационалистами. Перестройка дала ему возможность отличиться.
– Как вас зовут? – спрашивает Мовчан.
– Иван С.
– Так вы украинец? – спросил он с какой-то детской радостью.
– Нет-нет, я русский.
Лицо Мовчана потускнело, но тут же обрело привычное благодушие. Он говорит Ивану: “Мы хотим, чтобы на наших киевских прилавках было столько же колбасы, как и здесь, в Вене. Вот отделимся от Москвы, заведем гривну, и настанет изобилие на наших прилавках. Все у нас наладится!
Но главное – родная мова. И полная, тотальная украинизация”. – Когда он вспоминает, что сотворили клятые москали с его ненькой Украиной, дыхание его становится прерывистым. Он покусывает длинный ус, глаза его увлажняются. “Налицо чисто малороссийская эмоциональность”, – думает Иван.
О, эта подавленная национальная идея! Откуда она произрастает? Наивные большевики, куда они смотрели все годы и с чем они боролись? Чем занимался международный отдел ЦК? Их погубил марксистский бездумный догматизм. Еще в 70-е им надо было продумать идеи модернизации России, сменить дискурс.
Иван относится к украинскому языку снисходительно. Как и к другим региональным языкам – будь то баварская, провансальская или каталанская мова.
Любой народный язык вульгарен и комичен, приближен к жизни, к поту, земле, природе… египетский диалект, украинская мова, швиц дойч и прочие региональные наречия… Все возвышенное и серьезное становится комично, нелепо и доступно.
Иван признает лишь высокие культуры, культуры империй. А сами украинцы? Когда в брежневские годы он задавал вопрос об их национальных чувствах, они испуганно махали руками: “Да что ты, какая к ляху самостийность!” И вот теперь – такое.
Мовчан: “Если вы – украйинец (так он произносит), то ваш артикулярный аппарат сформирован еще в утробе матери. Вы – носитель заданной программы, которая передается на уровне генетическом, на уровне молекулярном, на уровне ДНК”.
Он обобщает программу “Руха”: переход на гривну, украинский язык, свободная торговля, контакты с Западом, и через совсем немного лет Украина будет процветать. Мовчан упорно повторяет: “На прилавках будет тот же ассортимент колбас, что и в Вене!”
Иван записывает, поддакивает, развивает тему. За интервью с Мовчаном венский “Курир” заплатит ему пятьсот шиллингов. Они, австрийцы, очень любят украинскую тему. Черновиц, Мукачево, Лемберг – это их бывшие земли. Они неравнодушны к Украине.
На очереди – христианский диссидент Владимир Богородников. Он ходит по палубе в смокинге, с бокалом шампанского, улыбается. Густая борода, похож то ли на социал-демократа, то ли на попа. Волосы схвачены в косичку. Это широкобедрый детина, ходит вразвалку, как будто к чреслам подвешены гири. На него заглядываются старушки, видят в нем нечто распутинское.
Они садятся на верхней палубе, в кафе “Амадеус”. Богородников говорит про тюрьму, про сокамерников, про силу своей воли. Но Ивану чудится за этим какое-то лукавство. Злые языки говорят, что Богородников сел не за убеждения, а за совращение малолетки. И поэтому на зоне его тягали как “петуха”. Этот человек, в отличие от Мурашова и Мовчана, сразу проникается симпатией к Ивану. Берет его под руку и начинает вкрадчиво увещевать. Наверное, он чувствует, что Иван ему может пригодиться. На прощание они по-русски обнимаются. Третье интервью на тему “Россия как будущее христианской демократии” готово!
К концу “Форума свободы” Иван совершенно пьян. Он курит сигариллы над водой и бормочет: “МС Моцарт” – корабль-монстр, корабль-призрак”. За ним с бокалами толкутся фон Габсбург, Мовчан, Богородников, Мурашов. Эта ночь вампиров будет иметь продолжение. Они будут танцевать степ на обломках гибнущего Союза.
Взрываются залпы фейерверков над Донау-инзелем. Озаряют счастливые лица. Демократов, борцов за свободу. Близится конец ненавистной империи. Иван это ощущает всем нутром.
Что делать, блин? Он не знает, он не верит, он чувствует: “Вот оно, приспело!” Потом плевок в Дунай и жест:“Следите за моей рукой!” Вернее, следите за траекторией плевка. Так складывается геометрический образ перестройки-ускорения-гласности. В пространстве исторического времени.
Второй побег
Вена, февраль 1990-го. Ситуация резко меняется. Eastcom отказывается от его услуг. Еще вчера Вилли Брайтмозер был мил и благодушен. Взял Ивана на могилу отца. Это сближающий момент. Кладбище в предместье Вены, видны заснеженные Альпы. Вилли – сын убежденного нациста – как Шварценеггер, как Хайдер. Но таких в Австрии много.
Они стоят в задумчивости у гранитной плиты. Ветер треплет седые прядки на висках Вилли. Он рассказывает историю отца. Старик Брайтмозер был молочный фабрикант и поставлял продукты вермахту во время войны. За это в 1945-м советской администрацией был объявлен военным преступником, посажен на десять лет. Суровый и несправедливый приговор. Но он, Вилли, любит Россию, ему хорошо работается в Советском Союзе.
Ивана это не удивляет: Вилли живет раздвоенной австрийской жизнью, где беспроблемно сочетаются германские могилы отцов и теневой восточноевропейский бизнес.
Скоро, очень скоро последует жестокий поворот судьбы. С конца 1990-го услуги этого австрийца не понадобятся России: новые русские торгуют без посредников. Вилли разорен. В Вене у него остается с десяток “Мерседесов”, которые постепенно распродаются.
Сегодня Брайтмозер краток: работы для Ивана больше нет. Накапал коварный перс Амир, внештатный фотограф. Амир входит в Eastcom, когда Иван после вчерашней попойки спит у компьютера, положив голову на стол.
Амир мрачен: его сестру муллы не выпускают из Ирана. Он ненавидит советских. За то, что поддержали Хомейни, за то, что претендуют на статус беженцев в Европе… Иван – один из этих гнусных гяуров. Амир достает фотокамеру, насаживает здоровенный объектив.
Напротив сидят два польских рабочих – Марек и Мирек. Едят шпикачки и мрачно обсуждают падение Берлинской стены: “Теперь Германия объединится и будет бардзо сильной!”
– Щелк-щелк-щелк! – Амир снимает спящего Ивана. Затем на цыпочках выходит, печатает в подсобке фотографии, несет Брайтмозеру. Заснял, как говорится, с поличным. Это скандал, это увольнение.
Иван выходит на улицу, идет, куда глаза глядят. Повторяется ситуация с МОПом, надо срочно принимать решение. Он без работы, а деньги на исходе. План по вызову семьи окончательно провалился. Он думал вызвать их по туристической визе, воссоединиться в Вене и дальше мотать на Запад. Но почему-то в ОВИРе взятку не взяли. Быть может, был сигнал из органов. Он звонит жене из уличного телефона-автомата: она в истерике, рыдает. Говорит, что больше ждать не может. Ивану очень тяжело. Он чувствует – пора сдаваться. По карте Вены находит американское посольство. Идет переулками, озирается, чтобы не было хвоста.
На входе в посольство США – морской пехотинец. Проверяет документ, спрашивает, чего надо? Иван говорит: “Прошу political asylum!” Его сажают в предбаннике, велят подождать.
Появляется небольшой человечек в галстуке, в очках. Он жмет руку Ивану, раскладывает блокнот, начинает задавать вопросы. Все записав, говорит: “Ничем не могу помочь. Идите в консульство США. Parkring-n. Это по их части!” Иван понимает, что таких, как он, много, что никто на Западе не жаждет принять его в свои объятия.
У консульства выстроились сотни человек – за визами и прочими бумажками. Он пробивается к мистеру Ричардсу – консульскому работнику, отвечающему за политубежища. Это высокий старик в очках, в нем есть что-то отеческое. Наверняка прибыл в Европу еще с американскими войсками в 1945-м. Он прекрасно говорит по-немецки и даже по-русски. Ричардс выслушивает Ивана, потом откровенно сообщает: “Подать заявку вы, конечно, можете. Но я не советую. Потеря времени. Вскоре должен состояться саммит Буш-Горбачев. Так вот, мы избегаем излишних осложнений и политических казусов. Мы не берем советских именно сейчас. Ищите другие ходы”.
Он мягко дотрагивается до его рукава и задумчиво спрашивает: “Молодой человек, а почему вы так стремитесь на Запад?” Иван резко дергается, его зрачки расширяются, и он говорит заученную фразу: “Я выбрал свободу!” А про себя грубо матерится.
Ивану очень плохо. Его виза в Вене истекла, но он не хочет идти сдаваться в австрийский беженский лагерь Трайскирхен. К тому же в Австрии нормальной работы для него нет.
Весь февраль он ходит неприкаянный по Вене, ждет письма из американского консульства. Письма нет. В одну из прогулок его продувает зимний ветер на Ринге, начинается озноб, он лежит в холодном поту, бормочет: “Где выход, где выход, где выход?”
Судьба дает ему этот шанс. Последний день февраля. Он выбирается на улицу, садится в трамвай, слышит разговор по-русски. Впереди сидят она и он – кавказской наружности, в кожаных куртках. Говорят о том, что пора сматываться, что этот город не для них, что все уже на мази.
Он задумывается, потом наклоняется к ним и просит совета. Они настроены по-дружески. Она – осетинка, он – чеченец. За чашкой кофе в кнайпе она говорит Ивану: “Не думайте идти сдаваться в Трайскирхен! Вам точно заморочат голову, а все равно азиля не получите. Мотайте в Германию! Я тоже бы туда направилась, но мне уже дали американскую грин-карту, как беженке с Кавказа. Я уезжаю на днях. А вам поможет Лева Рудкевич. Он помогает перебраться в Германию. За деньги, конечно”.
Из автомата он звонит Леве. Тот тут же соглашается на встречу. Рудкевич – высокий худой еврей, в очках, с седоватой бородой, немного безумный, без умолку болтающий. Это питерский интеллигент – то ли биолог, то ли психолог, а здесь Рудкевич представляет НТС, ведет работу среди эмигрантов. Короче, он называет цену – тысячу долларов за переправку в Германию. Иван согласен.
Они стоят на остановке. Рудкевич говорит, как хочет он назад в Россию, чтоб грызть гранит науки, как опротивело все в Вене. Биологическая лаборатория в Питере – вот предел его мечтаний!
Звенит трамвай. Лицо Рудкевича преображается: он видит на тротуаре билетик, рывком поднимает его и расплывается в улыбке: билетик не пробит. Он сэкономит пять шиллингов!
Два дня спустя Иван, запрятав на груди тысячу долларов, едет к Рудкевичу. Трамвай полчаса везет его на захолустную окраину Вены. Рудкевич живет в угрюмом темном доме, в каких селились пролетарии до Первой мировой.
Иван проходит во двор, по лестнице без лифта поднимается на третий этаж. Перед ним длинный коридор: там, в самой глубине, нора Рудкевича. Квартира эта ничем не отличается от питерских коммуналок. В комнате – все как на Родине: продавленная тахта, полки с советскими книгами и диссидентской литературой, плакаты, иконы и канарейка в клетке.
Рудкевич сажает его за стол и излагает план: “Через два дня – оказия. Успеете так быстро собраться? Вам надо купить билет от Вены до Франкфурта, а на перроне в Зальцбурге вас встретит наш связной. Садитесь на первый утренний”.
Иван с опаской дает ему тысячу долларов. Рудкевич, не считая, кладет в карман и говорит: “Теперь еще раз слушай, повторяю. Покупаешь билет до Франкфурта. Выезжаешь через два дня. Садишься в восемь утра. Выходишь в Зальцбурге. Там на платформе тебя встречает наш человек – в клетчатом пальто. Он все расскажет. А вещи можешь оставить у меня”.
И добавляет печально: “Опять один. Опять меня покинула подруга. Ох, не люблю я Запад. Вернусь я в Ленинград”.
Переход
Два дня спустя, Зальцбург, туманное утро. Иван вылезает из венского поезда, стоит на перроне, хлопает глазами… А “он” сам на него идет: высокий плотный мужчина в клетчатом пальто и котелке, с зонтиком в руке.
Мы повторяем этот кадр: навстречу Ивану вышагивает высокий плотный мужчина в клетчатом пальто, с бородкой-эспаньолкой и в котелке. Похожий на большевика-подпольщика. Постукивая зонтиком, подходит, кланяется, говорит: “Господин Иван С.? Прошу вас следовать за мной, только спокойно, не озирайтесь, повсюду патрули”.
Они идут невозмутимо, хотя поджилки у Ивана трясутся. Действительно, повсюду патрули. Полно немецких и австрийских полицейских. В конце платформы незнакомец делает легкий вираж, и они, завернув за трансформаторную будку, оказываются на запасном пути. Здесь нет людей, а в конце перрона стоит пустой состав. Сей хитрый перрон находится в нейтральной зоне между Германией и Австрией, и здесь стоят составы перед отправкой. Их поезд “Зальцбург-Мюнхен” также отстаивает свое на запасном пути.
Незнакомец дает знак: они входят в открытую дверь, садятся в пустой вагон.
– Если сейчас войдут, ничего не говорите, а я скажу, что заблудились!
Сели у окна, настало тревожное ожидание. Иван поставил баул у ног. Незнакомец забарабанил пальцами по столику.
– Ну-с, сколько с вас взял Рудкевич? – Иван задумался и сказал правду: “Тысячу долларов”. – Подлецы! – ругнулся незнакомец. – А мне всего триста отстегивают. Уж лучше бы вы связались прямо со мной. Вот шайка-лейка!
Вагон качнуло, они поехали. Иван покрылся холодным потом: сейчас проверят! Состав перевели на главную платформу. Они там стоят минут десять. Это самый неприятный момент операции. Патрули проверяют подходящих к поезду. Иван с попутчиком сидят в купе как истуканы. Наконец двери захлопываются, вагон трогается. Пятьдесят метров, и они в Германии!
– У вас билет до Франкфурта, не так ли? – спрашивает незнакомец. – Да. – Отлично, нам вместе по пути до Мюнхена, потом расстанемся.
В вагон входит проводник, внимательно смотрит на них, пробивает билетики. Паспорт почему-то не спрашивает. Хороший признак!
Первая остановка в Германии – Фрайлассинг. Незнакомец дает сигнал, они быстро вылезают из поезда, курят на перроне. Ждут следующего поезда на Мюнхен. Главное – сбить со следа.
Через двадцать минут они садятся на второй поезд до Мюнхена.
По пути незнакомец рассказывает свою историю: “Я родом из русских немцев. Дед имел ферму в Аскании-Нова. Во время войны их всех погнали в трудармию. Я сам родился в Казахстане и выехал в Германию одним из первых – в конце 70-х. Работал подметальщиком, на автозаводе в Штутгарте и даже медбратом по уходу за стариками, менял им памперсы…
“Но вот что значит российская смекалка: нашел-таки свое призвание. Немецкий союз воинских захоронений (Volksbund Deutsche Kriegsgraeber-fuersorge) предложил мне ухаживать за кладбищем в Келе. Кель – предместье Страсбурга, но на немецком берегу Рейна”.
“Мне дали должность смотрителя. Там похоронены солдаты, офицеры, эсэсовцы и члены фольксштурма. Место удивительное. Хожу среди надгробий, ухаживаю, поливаю, созерцаю ночное небо. Потом иду в свою каптерку, там зажигаю лампу, читаю, смотрю телевизор. За все про все мне платят две тысячи марок. Деньжонок не хватает, и я связался с этими подонками из Вены – организую переход через границу в Германию. Немного адреналина и подработки. Ну что ж, если кто еще захочет мотануть – звони мне напрямую, не надо Рудкевича!” Остаток дороги они молчат, думают о своем. На главном вокзале Мюнхена незнакомец сажает Ивана на франкфуртский поезд: “Успеха тебе во Франкфурте! Спи ночь в отеле, с утра иди в Цирндорф. А мне – дальше на Страсбург!”
Потом, уже в Германии, один дошлый эмигрант сказал Ивану: “Ну ты, братец, лопухнулся! К чему такие сложности? Зачем такие траты? Достаточно было просто переехать немецкую границу и сдаться полиции. Они тебя автоматически поместили бы в беженский лагерь”.
Фридланд
Часом позже. Дождь барабанит по стеклу вагона. Направление – Франкфурт. Там он пойдет сдаваться в беженский лагерь Цирндорф. Подойдет к полицейскому, протянет советский паспорт и заявит: “Милостивый государь! Прошу предоставить мне политическое убежище в Германии”. Полицейский улыбнется в ответ и скажет: “Пожалуйте в наш уютный маленький лагерь!”
Цирндорф – слово какое-то несимпатичное! Чем этот лагерь лучше венского Трайскирхена? Наверняка все тот же международный сброд – негры, арабы, цыгане… Как он будет спать с ними в одном бараке – советский научный работник?
Германия нравится ему внешне. Он вдыхает ароматный кофе, который поставили перед ним в вагоне. Смотрит на пролетающие перелески и чистенькие немецкие городки. Ухоженные склоны с виноградниками. Что ждет его? Пауза. Мысли. Скорее бессвязные, чем логичные.
Ночь во Франкфурте. Дешевая гостиница у вокзала. Иван ворочается, не может заснуть, ему страшно. Он заплатил за постой пятьдесят марок, остается не так много денег и не так много времени. Надо идти сдаваться в Цирндорф. Воленс-ноленс.
Он засыпает, а голос судьбы шепчет ему: “Я люблю тебя, глупенький, я не брошу тебя. Иди и дальше по этому пути. Бог не выдаст, свинья не съест”.
Утром на рецепции он расплачивается с дюжим детиной. Детина говорит по-русски, небритая рожа, немец из Ферганы. По виду – узбек. Не советует идти сдаваться в Цирндорф. Концепция такова: “Ты что, мужик! Сожрут тебя все эти сволочи – негры, арабы, турки. У тебя есть родственники в Германии? Нет? Плевать, что ты не немец. А ты прикинься. Сочини бабку-немку. Пока будут выяснять, выгонять будет поздно. Езжай-ка ты, браток, в лагерь для немцев во Фридланд, под Ганновером. Вот там и сдавайся”.
Так Иван и поступает. Садится на ганноверский поезд, в вагоне встречает группу русских немцев. Им по пути до лагеря. На деревенской платформе их ждут с табличкой “Фридланд”. Сажают в автобус и размещают в лагере безо всяких формальностей. В их бараке – пять комнат. В каждой – пять семей. Стоят двухъярусные нары. Вместе с ним – веселые и дружелюбные ребята-трактористы из Казахстана, у всех русские жены. Они разливают водку и приглашают его за стол – закусить колбаской. Он быстро напивается и ложится на железную двухэтажную кровать.
Внезапно его охватывает ужас: “Что я здесь делаю?”
В полудреме тема предательства вспыхивает в его мозгу: “Я рвался на свободу. Но кто же знал, что дело так далеко зайдет? Я так хотел на Запад, но кто же знал, что так вот выйдет?”
Подходит Вовка Жуков и говорит: “Падла, родину предал!” Иван стоит перед товарищами, мнется, а они бросают упрек предателю: “Разве мы могли подозревать такое, когда принимали тебя в комсомол? Ты купился на джинсы и жвачку!”
Ребята тычут в него пальцем, он размазывает сопли, кается: “Простите, рябята! Эта, блин, гниль во всех нас сидела. Она, проклятая, и привела к падению великой страны. Великой китайской стены!” Он вытирает вспотевший лоб, и видеть его искаженное лицо настоящим пацанам просто неприятно. Они плюют в его сторону и уходят.
Допрос
…Утром Иван бродит по лагерю. Смотрит на ровные дорожки, на безмятежное поведение русских немцев, сидящих семьями на завалинке. Его удивляют разговоры “поздних переселенцев” – шпэтауз-зидлеров, их наивность, их непомерные ожидания.
Фридланд – знаменитый фильтрационный лагерь. После войны здесь размещали перемещенных лиц из Восточной Европы, немецких военнопленных, а также беженцев и перебежчиков. Место было выбрано идеально – на стыке британской, американской и советской зон.
Даже в те далекие сороковые во Фридланде было лучше, чем в лагере Кэмп-Кинг под Франкфуртом. В Кэмп-Кинге американцы обращались с людьми как со скотом. А здесь соблюдались внешние приличия союзнической оккупационной администрации.
Здесь все получали талоны на еду и питье, ждали дальнейшей участи. Пути им предстояли разные – для немецких пленных – из России в Германию, для русских перемещенных лиц – из Германии в Россию.
Соотечественники сидели, боялись, что их выдадут СМЕРШу. В родную и бесправную Россию возвращаться не хотели. Писали на обоях карандашиком: “Товарищи, не выдавайте нас сталинским извергам! Мы не хотим назад в колхозы”. Их ждали в России – барачные дворы, беспросветное существование, работа за сорок рублей в месяц, а вероятнее всего, ГУЛАГ.
Кого-то отослали назад. Но многие, пройдя через фильтрационный лагерь, действительно вырвались на Запад и растворились на бескрайних мировых просторах. Кто-то подался в Канаду, Австралию, США, другие остались в Германии. В 80-е Фридланд вновь заработал на полную катушку – теперь здесь размещают русских немцев. Их много – десятки, сотни тысяч.
На третий день Ивана вызывают в секретный отдел лагеря. Допрос ведут двое. Обстановочка очень напоминает советские фильмы о войне. Где агенты абвера допрашивают разведчика. Стол в центре, за него сажают допрашиваемого. Сбоку – человек за машинкой, он ведет протокол. Следователь – за этим же столом, да еще в углу – некий третий – крупный рыжеволосый тип наблюдает за сценой со стороны.
Они предлагают Ивану сесть, проглядывают его бумаги, переспрашивают фамилии, даты рождения и потом спрашивают: “А почему вы приехали сюда, во Фридланд? Почему не направились в Цирндорф?”
– Потому что у меня бабушка – немка. Ее звали Шарлотта Карловна.
– А вы можете это доказать?
– Я постараюсь.
Как сказал портье во Франкфурте, надо тянуть время. Пока они будут изучать его родословную, должно пройти много времени. Его поздно будет отсылать.
Затем они переходят на его биографию. С удивлением выясняют, как он, с немецкой кровью, стал советским ученым, выезжал за рубеж и даже… Почему работал в советских профсоюзах, знает языки и вообще не похож на немцев-переселенцев из Казахстана. Особо удивляет, что он свободно говорит по-немецки.
И тогда их главный (тот самый, что курил в сторонке) – высокий рыжий мужчина с очаровательной улыбкой и сигаретой в уголке рта подходит и говорит: “Ну просто сознайся, мой друг, ведь ты же связан с КГБ… ”
– Нет! – Иван отдернулся. Тот подмигнул ему, вернулся в свой угол, и допрос продолжился с новой силой.
Так продолжалось два дня и превратилось почти в рутину. Он заинтересовал их, потому что не был похож на этих трактористов и их колхозных жен. Так что он делает тут, во Фридланде, в лагере для “поздних переселенцев?” Со своими языками и научной подготовкой?
После допроса Иван садится с сигаретой, думает, как быть. В нем все еще сидит интеллигентский страх, заложенный отцом, родственниками и всей окружающей средой, – что сотрудничать с КГБ стыдно! Что вообще разведка – это грех, что тебе приклеят бирку предателя. Но он знает и то, что в других странах это почетно. Особенно в Англии, где разведка – национальный спорт. Туда стараются брать из хороших семей. Или в Швейцарии, где доносительство сродни патриотизму. Но эти вечные российские предрассудки…
Вечер. Лагерь во Фридланде. Иван выходит на прогулку. Ровненькие чистые аллеи. Бараки. Библиотека, столовая, душевая. Все осталось, как в далекие 40-е. Через забор он смотрит на деревню: стоят аккуратные немецкие домики с красной черепицей, стриженые газоны и обязательные садовые гномики. Жизнь немецкой провинции… Он стоит, думает: “Ну, блин, занесло!” Но вспоминает разваливающийся Союз, и сомнения отпадают.
Он возвращается в барак. Трактористы играют в карты. На столе – бутылка шнапса, купленная в местном магазинчике.
Колхозники начинают ему рассказывать, сколько накапывают картошки с огорода в Казахстане. Ему хочется спросить – какого хрена вы сюда приехали?
Они приглашают его за стол, но ему не хочется играть. Он ложится на нары, что-то начинает обдумывать и забывается тяжелым сном. Снится совхоз “Бородино”. Он с группой молодых ученых идет в коровник. Доярки кричат: “Ну вы, ученые! Шагайте быстрей, пока не разбежались блядские коровы!” Шаг в сторону, и он с головой погружается в навозную яму. Дружный хохот. Он понимает, что влип. К чему бы это?
На следующий день – та же процедура. Он идет на допрос, его опять мурыжат. Большой рыжий следователь хитро смотрит на него: “Ну ладно, дорогой коллега, бросьте запираться! Вам же лучше будет!” И начинает спрашивать насчет связей с КГБ.
Иван просчитывает ситуацию и неожиданно заявляет: “Господа, я аналитик-международник. Я использую открытые источники информации, но мои анализы можно приобрести за деньги. Я писал для ЦК, для МИДа и, вероятно, для КГБ”.
Допрашивающие застыли, на их лицах сложная реакция: попалась рыбка или нет? Допрос продолжается с новой силой, но уже в деловом ключе.
Ему приходится рассказать о себе: что он пишет, что может подвергнуть анализу, где выступал с докладами.
После этого большой рыжий (по типу – полковник БНД) говорит: “Ну ладно, посмотрим, что вы можете. Дайте нам анализ перестройки на нынешнем этапе, оценку ситуации, людей, и перспективы. Работу мы оплатим и, если признаем удачной, направим в правительство”.
Он открывает сейф, достает пятьсот марок, кладет перед Иваном и говорит: “Вот первый аванс, ставьте подпись!” Иван расписывается. После этого ему дают блокнот, ручку и говорят: “Идите и спокойно работайте. До встречи”.
Иван выходит на воздух. Чувство хорошее – что он не один. Он – часть большого мирового братства аналитиков. Он ощущает, что некая тайная солидарность всегда существовала на этой земле. Что бы там ни писалось в книгах и ни утверждалось на официальном уровне, все информационщики – члены одной семьи и по мере обстоятельств помогают друг другу, если это правило не ломают безжалостные правительства и идеологические догмы.
Теперь уже с деньгами Иван заходит в лагерный магазинчик и покупает себе сумку взамен прохудившегося баула. Он также покупает бутылку виски и кусок вестфальской колбасы. Этот день надо отметить!
Он чувствует, что помощь будет и что в его жизни появилась перспектива.
Совершает ли он предательство? Но предательство совершают те, кто разваливает страну. А он просто дает оценку происходящему.
Во сне он чувствует старческие руки деда на своих плечах, запах легкого влажного пота. Он видит прозрачные голубые глаза, дед спрашивает: “Ну как ты, внучок? Не забыл нашу бедную Россию?” Он хочет сказать “нет”, но изо рта выходят беззвучные слова.
На следующий день его переводят в отдельную комнату: ему не по рангу сидеть рядом с трактористами. Заводится такой порядок: с утра он сидит, пишет, идет к офицерам на собеседование, а вечерами (они так договорились) на центральной аллее с ним встречается связной, который осведомляется о его здоровье и забирает написанное.
Середина марта, он чувствует себя намного лучше. Он становится частью некого, еще не ведомого ему проекта. В России – кризис перестройки. События в Баку. Безумие горбачевской затеи все очевидней. А он оказался в крепких, контролирующих и заботливых лапах. Наверное, так чувствовал себя бесправный русский солдат, когда его вырывали из лагеря смерти, переводили во власовцы, давали кусок сала и чекушку шнапса… Единственное, что гложет его, – тоска по дочке и жене.
На энный день старший офицер говорит ему: “Завтра к вечеру прошу вас собрать чемодан. Мы ничего не можем конкретно вам сказать, но, кажется, ваше пребывание во Фридланде кончается. Спасибо и желаю успеха!” – Он протягивает ему еще один конверт с деньгами и пожимает руку.
Иван чешет в затылке. Он так привык к подвохам, что и на этот раз уверен: его высылают! Конечно, получили, что хотели, и отфутболивают… Они спросили обо всем – о настроениях в Политбюро, в советских организациях, в народе, в профсоюзах… Любопытная информация: она подтверждает, что перестройка входит в фазу полного разноса. Теперь он становится не нужен.
Он проводит беспокойную ночь, рано просыпается, весь день курит и к вечеру выходит с чемоданом из барака. Его поджидают два больших черных “Мерседеса”. За рулем сидят крепкие ребята и улыбаются ему. Ребята берут его чемоданчик, сажают на заднее сиденье и на большой скорости покидают Фридланд. Они движутся на юг, это видно по указателям на автобане. Первое направление – Франкфурт.
Штарнбергское озеро
Они мчатся по автобану Ганновер – Франкфурт. Темнеет. В сгущающейся мгле фары выхватывают кусты, подлески, сосны. Мелькают огоньки маленьких немецких городов. Иван сидит, пристегнутый ремнями, на заднем сиденье “Мерседеса”. Он уставился на дорогу, которая раскручивается перед ним, подобно неумолимой спирали судьбы.
Едут темной ночью, светит луна. Фары освещают дорогу. Монотонная мелодия блюза. С ним никто не говорит. Только один раз они вылезают у придорожной гастштетты, поглощают сосиски с пивом и едут дальше.
Шофер Георг, он видит его медвежьи лапы на руле. Рядом с ним – невозмутимый охранник Пауль. Они проезжают Франкфурт. Мелькают указатели, километры: Нюрнберг, Фрайзинг, Мюнхен. Почему Мюнхен, почему не въезжают в город? На указателе читает: направление – Вена. Неужели его везут обратно в Австрию?
Поворот, еще поворот, дорога сужается, и он видит надпись: Штарнбергерзее. Штарнбергское озеро. Машина петляет по городку, напоминающему дачный поселок, и заезжает на тихую, заросшую деревьями улицу. Они останавливаются. На часах – полночь.
Заходят в ворота, перед ними темный трехэтажный деревянный дом. Звонят в дверь, им открывает вальяжный мужчина в халате: большой лоб с залысинами, ровная черная бородка, печальные глаза. Это Гюнтер. Он объявляет Ивану: его записка произвела фурор в правительстве. Канцелярия бундесканцлера просит его продолжить работу и предлагает контракт. Конечная сумма – по результату.
Дом напоминает Ивану генеральскую дачу под Москвой. Тихое расположение и неприметность делают сие место идеальным для работы спецслужб. Здесь размещают перебежчиков, агентов, дезертиров и аналитиков. Вилла используется для “клиринга”, для “дебрифинга”, а также для научных семинаров.
Самое главное происходит внизу. Здесь две просторные комнаты с длинными рыцарскими столами, покрытыми зеленым сукном. В них проходят совещания экспертов, а также собственно допросы – клиринги.
Работа начинается в девять после завтрака. Гюнтер – задумчивый, чуть меланхоличный немец, морской офицер в отставке. Глаза с поволокой. Бабник, любитель сигар и коньяка. Он раскладывает бумаги и начинает говорить с Иваном по всем аспектам ситуации в России: баланс сил в Политбюро, на Старой площади, в Верховном Совете, в демократических движениях, на национальных окраинах.
Беседа ведется легко, точечно. Собеседники перепрыгивают с темы на тему, пьют кофе, курят, и, самое интересное, когда этот пазл выстраивается, и Иван читает окончательный доклад, он удивлен, что так много знает. Он сам не подозревал, что в нем заложено такое количество информации.
Ивана особенно удивляет то, что с помощью особым образом поставленных вопросов активизируются участки памяти и всплывает информация, о которой он сам не имел понятия. Он входит в подобие транса и обнаруживает в себе свойства на грани ясновидения. Так, он вспоминает, в каких подъездах дома Политбюро на Грановского кто живет, на каких этажах ВЦСПС находятся какие отделы, как переводятся валютные авуары из Москвы в швейцарские банки и обратно текут в МОПы. Он даже вспоминает имя курьера, который занимался международными трансфертами. Эти и многие другие удивительные вещи заставляют его иначе взглянуть на ремесло разведки и на резервы человеческой памяти. На самом деле мы помним все. Одно условие – ведущий дебрифинг должен быть душевно близок тебе. Никакого давления, никакой спешки. Он понимает: “Гюнтер – мастер!”
Еще ему нравится, что сам он так ловко отвечает на вопросы, что его ум так ценят немцы.
В результате двухмесячных бесед – сотни страниц доклада. Вывод один: СССР на грани коллапса. Конфигурация пост-СССР условно обозрима. Национальные республики займут антирусскую позицию. Но, как и когда это произойдет, никто пока не знает.
Самих немцев удивляет эта безумная перестройка, они не понимают, почему Лигачев начал антиалкогольную кампанию. С ехидцей говорят: “Все время талдычите про перестройку и гласность, а где же третий лозунг – ускорение”?
Иван же думает: немцы сами воспользуются анализом или поделятся с американцами? Американцы с ними не особо делятся. Такая солидарность, блин!
Первого мая 1990-го они сидят у телевизора, смотрят первомайский парад на Красной площади. Демонстранты свистят, появляются антисоветские лозунги. Горбачев, Рыжков и все Политбюро смущенно покидают трибуну Мавзолея. Как странно и глупо! Такого Иван никак не ожидал. У этих ребят нет воли к власти, воли к борьбе. Он понимает, что большевистский режим погиб!
Жизнь на вилле течет неспешно. Штарнбергское озеро – особый мир. Здесь живут промышленники, артисты, политики и прочие “проминенты”. Их сосед – кефирный король Мюллер. Его внушительных размеров особняк стоит на полуострове. Он известен тем, что женился на богатой наследнице молочной империи, а затем приумножил богатство, купив задешево кефирную палочку у чиновников “Агропрома” в Москве. На всех прилавках Германии – кефир “Калинка” Мюллера. Кефирная палочка из России – один из результатов Перестройки.
На полуострове у Мюллера часто устраивают барбекю. Жарят на вертеле кабана, и ароматы доносит ветром к ним на виллу. Среди гостей – все чаще русские министры и бизнесмены. В местных газетах упоминаются имена Шохина, Авена и некого Кугушева, владельца фирмы “Русский капитал”.
Неподалеку еще одна вилла на Штарнбергском озере. Здесь живет знаменитый чеченец Абдурахман Авторханов. Загадочный старик. Прославился как яростный борец с советской властью. В Германию попал как пленный во время войны. После разгрома рейха пошел служить американцам. Стал признанным специалистом по Союзу, вокруг него вьются советологи помельче. И кланяются, и считают великим авторитетом. Говорят, Авторханов очень богат. Есть слухи, что книги пишет не он, а группа поденщиков. Старик не очень силен в русском языке.
Иван уверен, что Авторханов выдумал свою биографию. Все было совсем иначе. Все не могло не быть иначе. Иначе как же совместить факты? Версия Ивана: Авторханов сам пересек линию фронта и вышел на немцев в конце 1942-го. Он сразу предложил услуги, его завербовали. Потом по линии армейской разведки вермахта направили в кавказско-мусульманский отдел. Американцев он дождался уже готовым спецом по контрпропаганде, нашел свое место в американской разведшколе в Гармише…
Авторханов доживет до распада СССР, доживет до времени, когда ичкерийские эмиссары приедут в Мюнхен на поклон сами. Они здесь отдыхают, лечатся, держат деньги и закупают оружие. Дудаев навещает старика в октябре 1992-го, Радуеву ставят в госпитале доктора Аргирова под Мюнхеном титановую пластину на череп. В отеле “Арабелла” Дудаев, Удугов и прочие проводят консультации. Таков уж Мюнхен – гнездо интриг и шпионажа.
Когда звезды ярко блещут, когда порывы ветра гнут вековые ели над Штарнбергом, когда фён надувает атмосферный колпак над регионом большого Мюнхена, он, Авторханов, сидит в своем просторном доме и что-то пишет. На самом деле он сочиняет стихи и мемуары. Для аналитики есть “негры”. Старик кидает им обрывки мыслей, и “негры” пишут. Но он умело выстраивает цепочки связей – с немецкой разведкой БНД, с американским ЦРУ и с группами чеченских эмиссаров. Он – главное звено системы.
Отрывочные кадры, мы даем их “холодной нарезкой”: проезжий чечен Алик, Радуев, Удугов, отель “Арабелла”, ночные встречи чеченских эмиссаров и западных агентов. В клинике доктора Аргирова – гномы, кующие титановую пластину для Радуева. На столике – искусственная челюсть, стеклянный глаз и пачка дойчемарок. Радуев смотрит в вечность стеклянным оком.
Кризис жанра
Иван и Гюнтер живут на вилле как Робинзоны: шофер Георг завозит им еду из супермаркета, загружает ящики с пивом и кока-колой.
Во время работы они заваривают немецкий фильтр-кофе. Устав от мозгового штурма, они с Гюнтером делают перерыв, лезут в холодильник, по-мужски с пивом закусывают. По вечерам вместе с охраной ездят ужинать в баварские рестораны Грюнвальда. Им обоим нравится эта жизнь.
Для Ивана ничего не жалеют. Возят его по магазинам и там на казенные деньги помогают отовариваться. Он покупает ботинки, кроссовки, джинсы, халат, плащ, электробритву “Браун” и многое другое. Один раз он обращает внимание на детский сиреневый плащ – как раз для его пятилетней дочери, и у него сжимается сердце.
Видно, что шоферу Георгу не нравится такое внимание к русскому. Георг завидует. Стоит в стороне, курит, нервно постукивает пяткой.
Иван наблюдает за жизнью немцев. Соседский ребенок играет у забора. Собрал в совочек всех улиток. Подходит охранник Пауль: “Деточка, береги живую природу, отпусти улиток на волю!” Ребенок задумывается и отпускает. Иван бормочет: “Хорошо у них получается, улиточек на волю… ”
После обеда они выходят на прогулку с Гюнтером. Идут по лесной тропинке: роща начинается сразу за виллой. Сзади в двадцати шагах плетется могучий охранник Пауль. Иван ведет с Гюнтером непринужденную беседу обо всем. Начинается с банального. Ивану нравятся ботинки Гюнтера. Тот в свою очередь с насмешкой спрашивает, почему вчера в “Карштадте” Иван приценивался к категории ниже ста марок?
– Дешевле ста марок вообще не надо покупать, – объясняет Гюнтер, – а лучше за сто пятьдесят и выше. Такую установку мне передал еще отец: никогда не носить дешевую обувь.
Небо над ними темнеет: сгущаются тучи, вдали слышны первые раскаты грома. Гюнтер вдруг вспоминает о бомбежках Германии. Вот так железные машины появлялись из-за горизонта, и начинался кромешный ад! Он ненавидит американцев. “Но они же помогли вам”, – робко вставляет Иван. Да, сперва они разбомбили нас, а потом помогли восстановиться. Спасибо и на этом!”
Кроме американцев, Гюнтер очень не любит голландцев. Говорит, скорее на одном поле сядет срать с поляком, чем с голландцем. А почему? И Гюнтер открывает ему удивительную историю об отпадении народов от своих корней. Голландия – это самая коренная немецкая земля. Нижняя Германия. И язык их – нидердойч, как в Дюссельдорфе. Но они изменили тотемным богам рейха, истребили отеческие германские леса, поддались духу коммерческой наживы, перевели древесину на корабли и стали самой буржуазной нацией Европы, отказавшись от своей немецкой идентичности и прокляв все немецкое.
– Итак, голландцы – это первые манкурты Европы, – думает Иван. – Или одни из первых. Но разве не то же украинцы, отказывающиеся от своей русской идентичности?
Тогда же, в один из доверительных вечеров, на прогулке, когда их не прослушивают, Гюнтер говорит, как тяжело быть немцем. Трагизм ситуации в том, что сейчас нельзя быть немецким патриотом. Германия – оккупированная страна. “Экономически мы независимы, но политически под каблуком американцев. Не лучше и с разведкой – БНД.
Все говорят – мол, вы, бээндэвцы, дети Гелена, а что он мог? Что оставалось Рейнхарду Гелену, после того как рейх был разбит? Такая же ситуация была у многих русских генералов, после того как царь отрекся. Они пошли служить Родине, но при новых хозяевах”.
Потом Иван узнает, что пару лет спустя Гюнтер все-таки продастся американцам. Он нарушит клятву офицера и переступит через личные убеждения. Ему очень нужны деньги – на баб, на новую спортивную машину, хорошие сигары. Он будет продавать американцам служебную информацию, в том числе о советских агентах. За это получит сто тысяч марок. Однако его заложит коллега. Гюнтера уволят со службы, посадят в тюрьму и затем досрочно освободят. Говорят, теперь он живет у какой-то бабы под Мюнхеном как альфонс.
– Такие не пропадают! – плюются его бывшие коллеги.
Время течет медленно. Ивану скучно, Гюнтер понимает, что гостю из России не хватает женщины. Он советуется с начальством и получает добро. Поздно вечером они садятся в красный БМВ и едут в Мюнхен. На заднем сиденье – все тот же невозмутимый охранник Пауль. Паркуются у небольшого одноэтажного дома с красными огоньками недалеко от Ханзаштрассе: клуб “Чарли”.
Гюнтер по-хозяйски заводит Ивана в гостиную. За стойкой – четыре дамы, в купальниках с блестками, ярко накрашенные, все с сигаретами. Лора, Ребекка, Синди и Клаудия.
К нему подходит Ребекка, мурлыкает: “Садись поближе, шац”. Он пьет виски, она – специальный коктейль для проституток, без спирта, но по наивысшей цене. Гладит его руку, и по ходу беседы ее манеры ужесточаются.
– Я – журналист, – представляется Иван.
– А мне по барабану, хоть ты турок, – отвечает Ребекка. Этот ответ озадачивает его. В России так не говорят. Он закуривает, берет меню и читает список услуг. Самое недорогое и безопасное – массаж рукой за сто марок.
Она механически завершает работу. Ивану процедура не нравится. Он чувствует себя в системе приказов и ограничений. Потом он услышит мнение: если в Германии ты попадаешь в лапы проститутке, лучше не сопротивляйся. Она осуществляет полный контроль. Ты будешь лежать, как спеленатая муха в сетях паучихи.
Чтобы расстаться красиво, он говорит ей: “У тебя нежная кожа!” Ребекка соглашается: “Ja-ja, у меня гладкая кожа, ich bin sehr gepflegt”. Она это так сказала, будто речь шла о лосьоне или гастрономическом продукте. “А ведь она права, – подумал Иван. – Тело – такой же товар, как сыр или паштет”.
Они допивают пиво, потом поднимаются и идут на выход. Мероприятие проведено. За руль садится Пауль, который в этот вечер не пил…
В Грюнвальде они не расходятся. Гюнтер достает бутылку хорошего немецкого вина, и они курят сигары у камина. Потом Гюнтер садится за рояль и резво исполняет венгерскую рапсодию Брамса.
Играет на рояле, дымит сигарой. Над ним портрет фон Вайцзекера, у президента благородные черты лица. Гюнтер объясняет: “Хотя он и дворянин, но все Вайцзекеры из простых мужиков. Были мельниками у князей. Так и получили приставку фон. За заслуги перед кухней курфюрста”.
Недаром Гюнтер – морской офицер. Затянувшись сигарой, он неожиданно вспоминает женщин Норвегии: “Они такие жаркие, хотя живут на Севере! Заходы в порты Норвегии у нас всегда сопровождались страшными загулами!”
В этот вечер Гюнтер говорит ему: “Прости, друг, мне надо отлучиться. Сегодня я не приеду ночевать”. Он наклоняется и целует Ивана в щеку.
Хлопает дверь, взрывается и затихает шум мотора. Уехал. Иван не знает, что шофер Георг берет отъезд Гюнтера на заметку.
Ему кажется, что Гюнтер к нему неравнодушен, что речь идет обо всем знакомой “суровой мужской дружбе”. Все время Гюнтер пытается обнять его, прижаться, шепнуть ласковое слово.
Самое странное происходит в помпезной мюнхенской дискотеке “Пи-айнс”, куда Гюнтер приглашает посидеть его после особенно интенсивной “мозговой атаки”.
Они подъезжают к дискотеке уже за полночь. У входа в “Пи-айнс” – скандал. Модельер Мосхаммер стоит с болонкой, истерически визжит, что-то доказывает. Он перегородил своим “Ролл-сом” Принцрегентенштрассе, не дает парковаться. Возникла большая пробка, вызвали полицию. Все свистят, а он стоит у машины с болонкой на руках и улыбается. Доволен, что его щелкают фотокамеры. В парике, глаза подведены, смотрит на них томным взором.
Мосхаммеру веселиться еще лет пятнадцать, потом наступит конец. Его последняя ночь: он нарезает на “Роллсе” круги вокруг главного вокзала, ищет юношей. Видит смуглого парнишку, сажает в свой лимузин. Это иракский горячий парень, ему нужны деньги, он соглашается за две тысячи евро. Мосхаммер обещает, но не платит, так как он не любит платить вообще. В итоге, не получив обещанную сумму, араб хватает телефонный шнур и затягивает петлю на шее Мосхаммера. Тот бьется и оседает с выпученными глазами. Собачка Дейзи скулит под кроватью.
Мы возвращаемся в 90-й год, Иван и Гюнтер в “Пи-айнс”. Курят за стойкой бара, перемигиваются с яркими холостячками напротив, а потом, когда звучит песня Элвиса “Are you lonesome tonight”, Гюнтер неожиданно тянет за руку Ивана и начинает танцевать с ним, причем играет роль ведущего.
Гюнтер пытается вести его, крепко обхватив руками и громко сопя. Блин! Сие предполагает лишь одно: что любвеобильному Гюнтеру не хватает одних только женщин, ему нужны еще и мужчины, а при случае и звери, и птицы, и морские создания. Все это есть любовь к миру. Недаром он так жадно втягивает сигарный дым и неистово поглощает устриц. Так громко бьет по клавишам и смотрит на мир волоокими глазами.
Их пребывание на вилле завершается досрочно, спасибо стукачам! Шофер Георг, который пристально следил за ними, все же написал рапорт. Ему активно не нравилась дружба Гюнтера и Ивана, их походы в ночные бары и клубы. Он написал, что превышаются служебные полномочия, и Гюнтера убрали раньше времени. Когда контракт закончился, Ивану открыли счет в баварском ландесбанке и положили тридцать тысяч марок. Теперь он был свободен. Его поставили на учет в соцамте района Нойбиберг и помогли снять холостяцкую квартирку. А также записали на курсы немецкого на Ландверштрассе.
Два года спустя Иван встречает Гюнтера на станции у-бана в Мюнхене. Гюнтер в длинном черном пальто, в шляпе с черными полями, похож на монаха-францисканца. У него все те же печальные бульдожьи глаза. Он хлопает Ивана по плечу: “Ты видишь, мы были правы. Все произошло по нашему сценарию: развал Союза, события в Восточной Европе… ”
Под конец спросил: “Сколько тебе тогда заплатили?” – “Тридцать тысяч марок”. – “Сволочи! А я давал заявку на пятьдесят”.
Ивана просят не прекращать аналитическую работу. К нему приставлен Вольфганг. Это веснушчатый крепыш с пшеничными усами. После Гюнтера он выглядит простовато. Но в жизни – добрейший парень. Вольфганг покупает Ивану хороший компьютер. Иван не может отказаться от этого подарка. Для него компьютер – откровение. Он так привык стучать по чугунным клавишам печатных машинок, что легкость работы на компьютере кажется нереальной. Иван думает: “Почему эти уроды в МОПе не переходят на компьютеры, а используют печатные машинки?” С печальной улыбкой вспоминает “Левшу”: “Англичане толченым кирпичом ружья не чистят!”
Весь этот год, пока Иван безуспешно ищет работу и получает соцпособие, он каждую неделю встречается с Вольфгангом и дает оценку ситуации в СССР. Обычно они садятся в баварском ресторанчике, пьют пиво и прогоняют все пункты из списка, который Вольфганг приносит с собой. За это Ивану платят небольшой гонорар. Сей распорядок нарушается в сентябре – они едут в Дрезден.
Дрезден
Сентябрь 1990-го. Вольфганг собирается в Восточную Германию, он предлагает Ивану сто марок в день. Ему нужен переводчик на тот случай, если возникнут проблемы с русскими патрулями. Советские войска только выводятся. На октябрь назначено объединение Германии, и в землях бывшей ГДР все пребывает в хаосе. Однако – и это позитивно – все продается и покупается за западные марки.
Они выезжают из Мюнхена на неприметном сером “Фольксвагене Пассат”. Номера, естественно, липовые. Документы – тоже. У самой границы с бывшей ГДР начинаются обильные дожди, они осторожно въезжают на территорию ост-блока, который Иван покинул менее года назад. Подзорная труба развернута в другую сторону, фокус зрения расширяется. Иван видит дорожные указатели: Карл-Маркс-Штадт, Цвикау…
Когда-то он рвался на Запад. Теперь въезжает вспять – в темный разоренный мир. Это он или не он? Он не знает. Вспышка. Стоп-кадр. Камера дает максимальное приближение: щиток с надписью Autobahn Dresden.
Здешние автобаны не похожи на западногерманские, они как те, по которым проезжал еще мифический Штирлиц: добротные, но узкие гитлеровские автобаны. Вольфганг курит за рулем, ругает плохие дорожные знаки.
Задание у Вольфганга непростое – узнать, что происходит в районе советской танковой части X в предместье Дрездена и что вообще там с русскими частями. Еще – прозондировать реакцию местных жителей, а также пронюхать, что теперь вблизи виллы КГБ на Ангеликаштрассе, 4. И, конечно, есть одно дело, о котором Иван пока не знает.
Итак, они въезжают в пределы бывшей ГДР. Унылое зрелище – полускошеные поля, перелески вдоль советских полигонов, разбитые строения. Мимо них проплывают темные корпуса – некогда знаменитые народные фабрики. Гэдээровец Кнабе сказал Ивану год назад: “Мы бьемся из последних сил, нам не хватает материальных предпосылок, чтоб победить капитализм!”
В мозгу Ивана прокручивается рефлексия на тему заводских окраин: “К чему все эти промышленные монстры, трубы и горы угля, плач и стоны пролетариата? К чему ужасы индустриализации XIX века, прокатившейся и по России?”
Он видит эти мрачные индустриальные пригороды. Где стоят разваливающиеся фабричные корпуса, на запасных путях догнивают вагоны с неразгруженным углем, где кружат странные птицы и небо затянуто серой дымкой. Перед его глазами – щиток с проржавевшей надписью GVV Bergwerk Zwickau. Его сердце сжимается при виде этих кладбищ промышленной революции. Хочется сказать: “XIX век все еще с нами!” И эти картинки – такие знакомые по Уралу, Кузбассу, Донбассу, а также депрессивным районам Польши и ГДР. Зачем человечество влезло в проклятый железный век? На данный вопрос, как и на многие другие, нет ответа. Но вот проедешь “это”, и поползут поля с ровной зеленью, белые домики и перелески. Как прекрасна жизнь и как может загадить ее человек во имя машины, во имя чудовищной индустриализации! Вся Россия утыкана железом – трубами, заборами, корпусами… Ничего не производят, а трубы торчат и дымят. Так и тут, на земле Саксонии он видит следы великой катастрофы.
Пока Иван бормочет, Вольфганг курит за рулем и всматривается в пейзажи Восточной Германии. Ему плевать на рассуждения Ивана, он весь в своих немецких думках. Он знает, что где-то рядом Гёрлиц, а это для немца важное понятие. Примерно то же, что Новгород для русского. Скорее даже Суздаль. А еще важнее – здесь есть пиво “Радебергер”, игристое Rotkaeppchen – “Красная шапочка”, и тюрингские колбаски, которые были недоступны западникам в эпоху “железного занавеса”. Среди немцев также существует мнение, что самые красивые девушки Германии – в Саксонии. Впоследствии данные генетической экспертизы подтвердят: саксонцы – не совсем немцы. В них много, даже слишком много славянской крови. Отсюда и девушки красивые.
Они въезжают в предместье Дрездена. Иван читает названия: доменные печи “Максхютте”, “Роботрон”, “Карл Цейс”. Это то, что осталось от индустриальной мощи рейха. После великого послевоенного демонтажа Восточной Германии.
Вспышки памяти: 1945, 1946, 1947 годы… Спецпредставители советской “оборонки” и войск демонтируют немецкие станки. Матерятся, наращивают объем работ. Эшелоны идут в Россию. Большинство станков будет гнить на запасных путях, в сугробах, другие установят на стройках пятилетки. К концу 40-х демонтирована почти вся Восточная Германия. Что это дало России? Никс, ничего! С таким же рвением демонтировали в своей зоне немецкие станки англичане и французы, а потом еще тридцать лет жаловались на устаревшее оборудование. А западные немцы все создали заново.
Дрезден производит жутковатое впечатление. Социалистические панельные дома. И немцы другие – какие-то медлительные, круглоголовые, сформированные режимом СЕПГ.
В советском сознании ГДР стала культом. Этот кусочек немецкой территории оброс легендами и мифами. Отец Ивана работал здесь снабженцем при войсках. Иван помнит детский сад под Лейпцигом: воспитательница фрау Маргит сажает его на горшок. Он держит ее за юбку, плачет: “Флава, стой около меня!”
Еще он видит: казарма в Лейпциге. Советский солдатик на площади метет осеннюю листву. Серая громада Военторга. Его друзья купили там две пары “Саламандер” за двести марок ГДР. И люстру хрустальную. И коврик с ветвисторогим оленем. И два отреза гипюра – на свадьбу племянницы.
Иван помнит и позднюю ГДР 80-х. Эти темные осенние вечера, эту гэдээровскую безнадегу, запах торфяной гари в узеньких улицах Лейпцига, мерцание одиноких гастштетт. Унылые блочные дома по периметру Карл-Маркс-Штадта. Зоны беспросветной жизни. Их скрашивали только передачи западного телевидения, которое можно было принимать в любой квартире.
ГДР и восточные немцы: они ели суппентопф и солянку в своих столовых, шли на работу в трудовые коллективы – “Роботроны” и прочие фолькс-бетрибы. Там выстраивались на линейки, рапортовали на собраниях. ГДР – это была настоящая школа социализма, более настоящая, чем в СССР. И более обманчивая, поскольку в ней были элементы реального братства и справедливости – для масс. Это был прусский социализм в чистом виде. У гэдээровской жизни были и свои послабления. Они допускали группенсекс, пьянки и нудистские походы на природу. Что-то от Энгельса и первобытного коммунизма, не так ли? Все были в тесной семье – будь то “Роботрон”, Штази или университет.
По вечерам обязательные пьянки в коллективе, по выходным – совместные экскурсии в музей, на выставку, в театр. Как-то, напившись со старшим доцентом Нойбертом, Иван слышит, как тот напевает: “Дойчланд юбер аллее!” Партийный товарищ, а напевает. Он спрашивает Нойберта, в чем суть гэдээровского патриотизма. Тот отвечает не моргнув: “Мы продолжаем великую германскую и прусскую традицию! Мы, немцы, создали первое государство реального социализма на земле”.
Доцент Нойберт советует ему съездить в Кведлинбург. В этом славном граде он поймет, как всенародным вечем избирался предводитель Священной римской империи германской нации!
– Сей родовой дух братства коренится в племенном устройстве тевтонов, – думает Иван. – Англосаксонский индивидуализм здесь отдыхает.
Иван немного знает и тайную жизнь ГДР. В Лейпциге в темном сталинском доме он ночевал у бывшей спортсменки Уши. После первых объятий она попросила его говорить тихо и только в тему: вся квартира была нашпигована прослушкой. Ее мать была внештатным агентом Штази, и квартиру на главной площади у оперы им дали с одним условием: чтобы предоставляли крышу для нелегальных встреч в любое время.
Его тогда удивило, что она лежит под ним неподвижно, не реагируя на ласки и глядя в потолок: “Тебе не нравится физический контакт, Уши?” Она же с грустью объяснила ему, что была спортсменкой-пловчихой и ее перекормили стероидами: с тех пор у нее нарушен гормональный обмен, повышена растительность по мужскому типу, и оргазма испытывать она не может.
Он встал, нагишом прошелся по ночной квартире, где за каждой фоткой, за каждой мещанской статуэткой мог скрываться жучок. Затем вернулся в спальню, где лежала Уши. Ровно вздымалась грудь ее большого, накачанного тела пловчихи. Она спала. Дотронулся до ее колена, и его охватило клаустрофобическое чувство, что он – в стране подопытных людей.
Эта картина все еще перед глазами: Лейпциг, темная квартира для оперативных встреч, тени по потолку от одиноких “Трабантов”, жучки по стенам, гипертрофированное тело пловчихи Уши…
Тогда впервые ему захотелось разбежаться с шестом и перемахнуть через забор на Запад…
… Вольфганг водит пальцем по карте Дрездена, что-то шепчет про себя и, наконец, находит. Они паркуются в глухом переулке, заходят в маленькую пивную на углу Ангеликаштрассе. Сонный хозяин приносит им по кружке “Радебергера”.
Хозяин сразу узнает акцент Вольфганга, спрашивает, как дела в Баварии. “Отлично, а у вас?” – “Все тихо, русские сидят спокойно. Выходят редко, за шнапсом и сигаретами”. – “А этот дом?” – Вольфганг кивнул на виллу КГБ. – “По-моему, русские давно ее покинули. Тут пусто”.
Они сидят долго, слишком долго. Вольфганг заказывает второй, третий “Радебергер”. Потом просит Ивана посмотреть, нет ли снаружи русских военных. На улице пусто. Вольфганг ругается: “Не пришел, сукин сын!” Как потом узнает Иван, “сукин сын” – русский майор, который обещал принести в обмен на видеокассетник новейший прибор ночного видения.
– Так где же ты, майор Ширяефф? – Вольфганг расстроен, но не сдается. Он просит Ивана: “Ты покури на улице, а у меня тут вторая встреча”.
Иван выходит на улицу. Он видит, как к гасштетте приближается человечек в кепке. Это бывший внештатный агент Штази Хельмут К. После разгрома дрезденской штаб-квартиры его досье попало в руки БНД. Вольфганг должен поговорить с ним и выдать заключение, годится ли Хельмут К. для оперативной разработки. Они говорят, о чем-то долго говорят. Оргвыводы нам неизвестны.
Иван закуривает. Спускается по улице к ограде. Ангеликаштрассе, 4. Двухэтажная вилла темного камня. Бывшая резиденция КГБ в районе Лошвиц. Напротив – бетонная штаб-квартира дрезденской Штази.
События годовой давности: рушится ГДР. В ночь с 5 на 6 декабря 1989 года дрезденская штаб-квартира Штази разгромлена толпой диссидентов. Хранящиеся в ней дела переданы “гражданскому комитету”. Затем толпа поворачивает к советской вилле на Ангеликаштрассе, 4.
Скандирующие молодчики, которых направляет бойкий мужичок в красной шапочке с громкоговорителем, протискиваются в ворота советской виллы. Им навстречу выходит молодой сотрудник КГБ в цивильном костюме и просит остановиться. Толпа орет, требует выдать картотеку агентов. Сотрудник КГБ звонит в местную часть ЗГВ, но те отказываются прийти на помощь. Тогда молодой чекист подзывает двух охранников с автоматами и говорит толпе: “Прошу покинуть территорию, иначе открываем огонь на поражение”. И добавляет: “Ich bin Soldat bis zum Tod!” Они чертыхаются, угрожают, машут руками и нехотя расходятся. Кто этот офицер? Со временем все узнали его имя.
ГДР, как “Титаник”, неумолимо идет ко дну. 15 января 1990 года, Берлин, тот же сценарий. Толпа врывается в штаб-квартиру Штази на Норманнен-штрассе. Люди в спортивных шапочках впереди. Они опережают толпу и устремляются туда, где находятся архивы. Они сгружают дискеты на тележку, накрывают ее брезентом и с криками “долой преступников из Штази” выбегают на улицу. Говорят, это люди из американской Defense Intelligence Agency (DIA). Они отдадут досье немцам лишь десять лет спустя, и то не все.
В это же время безутешный Миша Вольф сидит в Москве, сдает последние дела. Ходит по улицам российской столицы как затравленный волк. Его никто не слушает в Политбюро. Бедный Миша! Иван видит его одинокий силуэт на набережной у Кремля. Вольф стоит над Москвой-рекой: что-то изменилось в этом городе. Он не нужен Горбачеву, не нужен Ельцину. Вольф ведет последние переговоры на Лубянке и удаляется в свою конспиративную квартиру у трех вокзалов, варить русский борщ. Через год он уедет в Германию – сдаваться.
Коллега Вольфганг выходит из пивной, зовет Ивана в машину. Бормочет: “Теперь – по-быстрому. Главное – закупить “Радебергер”, тюрингские колбаски и “Красную шапочку”. А после этого – проверить танковую часть”. В первом же придорожном магазинчике они загружают в багажник ящик “Красной шапочки”.
Затем подъезжают к воинской части. Надпись: граница поста, 11-й гвардейский танковый дивизион. Забор с металлической звездой. В сознании Ивана прокручивается привычный ряд ассоциаций: Западная группа войск, коррупция, сигареты, оружие, бетонные заборы. Вольфганг смотрит в бинокль из машины, что-то записывает. Его смешные моржовьи усы, очки, немного отстраненный вид… Typisch deutsch, этот Вольфганг.
На скамейке сидит и курит маленький русский солдат. Иван подходит к нему: “Привет, как служба?” – “Да ничего хорошего. На днях был главком Бурлаков, велел всем убираться отсюда поскорее. Офицеры пьют, их бабы пакуются. На вот, купить не хочешь? Двадцать марок”. – Солдатик раскрывает вещмешок, в нем пара новых кирзовых сапог и шапка-ушанка.
А в это самое время у задних ворот части паркует свой фургон Фима Ласкин. С ним рядом – айсор Нугзар. Они организуют доставку сигарет и продовольствия для ЗГВ. Друзья перехватили подряд у группы Тимохи (Бора), и за это Ласкин еще поплатится. Его зарежут в девяносто первом году на парковке Унгерербад в Мюнхене.
К ним выходит мордастый полковник Малюткин, садится рядом на заднее сиденье, сверяет накладные, ставит подпись. Они передают ему пакет, в нем тысяча марок. Малюткин удовлетворенно кивает, зовет солдат. Те начинают выгружать товар.
Большой бизнес только начинается. Этнические криминальные группировки доставляют товар в ЗГВ. Работают представители всех народов Советского Союза. Среди них – одессит Фима Ласкин, кавказский айсор Нугзар, минчанин Тимоха (Бор). На арендованных грузовичках они подвозят сигареты, продовольствие, напитки. Выгружают у задних ворот. Покорные солдатики несут эти ящики на склады. Откормленные полковники подписывают накладные. Золотозубые преступники, улыбаясь, отслюнявливают дойчемарки. Этот бизнес приносит миллиарды, за все поставки в ЗГВ платит правительство Германии.
Что означают данные события, и на что проливают они свет? Да ни на что. Просто распад империи. Просто некие моменты, и их фиксация в памяти. Мы забываем их, пытаемся воспроизвести, но тщетно. Кто теперь скажет, какова на ощупь и вкус эта самая ГДР? Или Советский Союз? Или давно распущенная ЗГВ?
Крошечные окаменелые зубы, берцовые кости и увесистые кресты на золотой цепочке – вот все, что подчас находят от этих некогда свирепых гоминидов в карьерах больших городов…
… На ночь они останавливаются на окраине Дрездена. Берут номер с видом на Эльбу. Вилла “Эльза”: смекалистая хозяйка открыла пансион, а рядом – бардачок “Красная шапочка”. Для западных немцев. У “Красной шапочки” припаркован черный “Мерседес”. Очевидно, там совершается ритуал любви. Восточные немки еще не испорчены капиталом, они отдаются со всей душой.
Вечер на вилле “Эльза”. Вольфганг выходит на балкон с сигаретой, отсюда открывается великолепный вид на излучину реки.
Гудок парохода на Эльбе. Лают ночные собаки. Горит огонек на вилле, где работает над чертежами великий изобретатель Манфред фон Арденн. Светятся огни в мансарде над аптекой Loewen, где сто лет тому назад проводил эксперименты аптекарь Майенбург – изобретатель зубной пасты “Хлородонт”.
Вольфганг курит на балконе, бормочет что-то под нос, его моржовые усы шевелятся. Он рад, что посетил сей уголок исторической немецкой родины. Наливает себе очередной бокал “Красной шапочки”.
Иван спит тяжелым сном, бормочет что-то. Он видит во сне, как извиваясь, из металлических тюбиков выползают белые черви “Хлородонта”. Химик Майенбург смешивает зубной порошок, эфирные масла и только ему известные ингредиенты.
Яркая вспышка озаряет небосвод. Грохочет гром. Иван идет к главному вокзалу Дрездена. Неужели опять ГДР? Недоумевает: “Was soil das sein?” Время сместилось, весьма некстати. Германия превращается в Россию. Сон завершается, как всегда, на подмосковной даче. Он сидит на веранде, наливает стакан пенящегося портвейна и говорит воображаемому собеседнику: “За успех нашего безнадежного дела!” Тот тихо смеется беззубым ртом.
Богородников
Еще в Вене Иван записал телефон Богородникова. Пообещал связаться. Через год данному обещанию суждено сбыться.
Иван звонит в Москву в штаб-квартиру ХДС и узнает, что Богородников вылетел в Баварию – за гуманитарной помощью. Значит, он где-то рядом. Услужливые москвичи дают Ивану контактный номер в Мюнхене.
Звонок. Володя рад его слышать. Он как раз работает в местном отделении “Каритас”, собирает гуманитарку для своего приюта. Оборзел от бесконечных немецких старух и занудного пастора Бёма.
В эту зиму 1990–1991 годов все оказывают России гуманитарную помощь. Голландцы, французы, немцы собирают одеяла, куртки, обувь. Em Herz fuer Russland! Разваливающаяся империя Горбачева – предмет универсальной жалости. Ивану такая забота претит. Он морщится, когда по телевизору сообщается об очередных конвоях помощи. Россия – это что, Нигерия?
Аубинг – предместье Мюнхена. Здесь, в доме пастора Бёма, Богородников устроил свой миништаб и мини-склад. Пастор сильно поднял свой авторитет этой акцией, поднял на уши всех местных старушек. Они привозят помощь, жмут руку бородатому русскому гостю с косичкой и крестом на груди. Они даже готовы целовать ему руку.
К дому пастора регулярно подъезжают фургоны, с них сгружают штабеля гуманитарной помощи. Богородников доволен, он ходит вокруг растущей свалки, хлопает себя по полным ляжкам, трясет косматой бородой, озорно поблескивает очками и говорит: “Вот, это все повезу в Москву! Лишь бы по дороге в Польше не ограбили”.
Иван идет навстречу Богородникову. Они обнимаются. Затем садятся в гостиной, говорят о политике. Богородников хвалит христианских активистов вроде пастора Бёма. И ругает христианский интернационал в Брюсселе, особенно куратора по России Энтони Де Меуса: “Негодяй, он половину наших средств зажилил! А партию факсов отдал Аксючицу. Ох уж эти западные благодетели!”
Он рассказывает: “Многие бьются за брюссельские харчи. Виктор Аксючиц, Дмитрий Савицкий и я лично. Де Меус мне пообещал компьютеры и принтеры, но я их не получил, приехал Аксючиц и вырвал буквально зубами!”
В Москве Богородникова ждет особнячок в два этажа, который друзья сумели выбить у городских властей. На первом он расселил девочек-сирот: он навещает их, гладит по голове, плотоядно улыбается. На втором этаже Володя разместил секретариат партии, ведет учет, планирует политические акции. Из этого гуманитарно-политического сплава должна возникнуть новая христианско-демократическая Россия.
Богородникову скучно в доме пастора, в заштатном Аубинге. Он хочет пару дней пожить у Ивана в Мюнхене. В однокомнатной квартирке Иван отдает ему свою широкую кровать, а сам переходит на диванчик. Богородников ходит по комнате, повторяет как мантру: “Вот вырастем как партия, сами всем будем помогать… ”
Перед обедом он крестится, затем крестит еду и собеседника, звучно ест, вздыхает: “Главное – правильно питаться и соблюдать гигиену. На зоне, кто не моет ноги, тот быстро сходит с круга. Таков закон. Начинается загнивание организма и души”.
После обеда выходят погулять. Останавливаются у футбольного поля. Глядя на упитанных немецких подростков, гоняющих мяч, Богородников говорит: “Слаб западный человек. В ГУЛАГбы его.
Сломается к чертовой матери. А вот русский человек – все вынесет”.
Утром он берет Ивана на радио “Свобода”. Там их должен принять знакомый Богородникова, сибиряк Евгений Кушев. Один из представителей “русской партии” на станции.
Они едут на эсбане до станции “Изартор”, потом на семнадцатом трамвайчике до остановки “Тиволиштрассе”, что у Английского парка. Переходят площадь с теннисными кортами и видят белую крепостную стену, утыканную камерами слежения. Это радио “Свобода”. Их долго оформляют по пропускам и, наконец, пропускают вовнутрь.
Пока Володя дает интервью, Иван спускается в кантину. Его поражают низкие цены и задушевная, можно сказать, советская атмосфера. За соседним столом некто по фамилии Финкельштейн убеждает собеседника, что академик Иоффе был гений и создал школу атомщиков не хуже резерфордовской.
Спускается довольный Богородников: “Пошли отсюда поскорее!”
Он подробно рассказывает об интервью, в котором доказал, что христианская демократия есть истинное призвание русского народа.
За передачу он получил от Кушева двести баксов. Стандартная на станции сумма за интервью. Так платят всем, и ради этих денег советские писатели и журналисты отовсюду съезжаются на станцию.
– Представь себе, – говорит Богородников на улице, – идем мы с Кушевым гордо по станции, два русских, крепких мужика, а все иноверцы приседают и крестятся!
Иван думает: “Дикий народ в России. Почему-то думают, что христианская демократия сродни поповщине – надо обрасти бородой, креститься и поучать иноверцев”.
Следующий этап – мюнхенская “Каритас”, там сидят суровые люди, все больше отставные иезуиты. Но их Богородников пленяет бородой, косичкой и земным поклоном. Они росчерком пера направляют его на склады за гуманитаркой. Иван идет с ним на склад: горы одежды и обуви громоздятся до потолка. Глаза Володи радостно вспыхивают, он потирает руки: “Будет чем моим подопечным разговеться!” Затем они идут на Шиллерштрассе, в квартал секс-индустрии: пип-шоу, бардачков, секс-шопов и видеокабин. Богородников заходит в секс-шоп, листает пачки журналов, потом роется в куче стимуляторов, гелей, насадок и вакуумных помп. Руки его дрожат, он говорит: “У моего друга плохо стоит после зоны. Ему надо помочь. Спроси у продавца, есть ли шпанские мушки или что-то посильней”.
Иван обращается к продавцу: тот выкладывает набор всевозможных капель, капсул и мазей. Богородников покупает шпанские мушки, кладет в карман. Иван подозревает, что снадобье – для него самого.
Они выходят на улицу, Богородников втягивает воздух ночного Мюнхена: “Надо бороться за жизнь, бороться за свободу! Надо контролировать мысли и ухаживать за телом”. И повторяет уже привычную мантру: “На зоне главное – не потерять контроль над телом. Если перестаешь мыть ноги, ты погибаешь”.
Но в городе он все больше хромает, ходит вприсядку и, наконец, признается: “Обострился старый геморрой!”
На второй день он уже не может ходить, лежит на боку, стонет.
Ивану страшно: он продлил приглашение Богородникову лично, а тот приехал без медицинской страховки. У Ивана просто нет денег, чтобы заплатить за лечение. Он понимает, что если не сбагрит Богородникова кому-то, то влипнет по полной с этим геморроем. Он сам пока социальщик и брать на себя ответственность не может. Иван звонит Алене Миллер – влиятельной даме из русских эмигрантов второй волны.
Ее дед был казачьим генералом, в его честь названа станица Миллерово. Семья скрывалась от советской власти все 20-е и 30-е годы. В 42-м, когда в станицу пришли немцы, им сразу стало легче жить.
После Сталинграда семья Алены отступала с немцами до Мюнхена, добирались под постоянной бомбежкой эшелонами.
В Мюнхене старик Миллер стал профессором Украинского университета, она сама проработала на станции “Свобода” лет тридцать, сменила трех мужей, родила двух сыновей. Это была прекрасная страна – Западная Германия до 1989 года. С объединением весь хваленый немецкий Wohlstand пошел насмарку.
У немцев, замечает Иван, редкая симпатия к казакам. Они любят их как степной непокорный народ и даже при Гитлере давали особый статус. В 45-м генерал фон Паннвиц не бросил своих казаков и был казнен.
Немцы любили и любят не только казаков, но и Россию в целом. Эта экзотическая страна вызывает у них шок и трепет одновременно. Алена Миллер выступает на всех собраниях по русской теме – о женщинах, о христианстве, о духовности… Как мило общаться на эти темы в уютных ресторанах Мюнхена, под белое вино и спаржу с рыбой. Поговорив, гости садятся в хорошие машины и разъезжаются.
Миллер – прекрасная пожилая женщина, патриотка, российский христианский активист. Выходит, Богородников – по ее части.
На такси он везет стонущего гостя в ее большой дом в районе Колумбус-плац и помогает разместить в мансарде. Миллер, считает он, будет рада пообщаться с умным человеком и настоящим русским христианином.
К утру Богородникову совсем плохо. Миллер вызывает неотложку, его отвозят в госпиталь “Ной-перлах”. Услышав, что он глава российского ХДС, помещают в отдельную палату, обеспечивают особый режим. Оперируют, вырезав половину прямой кишки.
Через день Иван навещает его: Богородников лежит в палате с блаженной улыбкой и осеняет входящих крестным знамением. Его навещают представители мюнхенской эмигрантской общины, прикладываются к руке. Даже санитары испытывают к нему уважение, переходящее в благоговение.
Политики новой России – чего в них больше – банальности, шкурных интересов, наивности или слепого идеализма?
Госпиталь в Перлахе выписал за все это удовольствие счет на сорок тысяч марок. И направил лично Ивану. Но такой суммы он не наберет никогда. В итоге Иван отказывается платить. Ему шлют повестки целый год, потом плюют и перекидывают платежку на город.
Они тепло прощаются с Богородниковым: больше судьба не сведет их никогда.
В компании дезертиров
Социал-амт Мюнхена оплачивает Ивану не только жилье, но и курсы немецкого на Ландверштрассе. Все получившие убежище (азиль) имеют такое право. Он с удивлением замечает, что в его группе из пятнадцати учащихся не меньше половины – русские. Это дезертиры из Западной группы войск и члены их семей, перебежчики и просто перекати-поле. Те, кого прибило в Мюнхен бурными волнами перестройки.
Среди дезертиров – жилистый, нервный Виталик, младший лейтенант спецназа с нездоровым блеском в глазах. В курилке на Ландверштрассе он рассказывает свою историю. Когда их часть эвакуировали из-под Эрфурта, замполит почуял, что Виталик хочет смыться. Определил по косвенным приметам: как он копил дойчемарки, откладывал вещички в стопку. И не спускал с него глаз. Лично сопроводил в самолет. Когда же их почти загрузили с техникой в “Антей” – в Россию, Виталик спрыгнул. Он оттолкнул замполита, кубарем выкатился из трюма, как настоящий спецназовец, петляя, добежал до ограды, перемахнул через колючую проволоку и скрылся в роще. Те охренели, отдали приказ искать, но было поздно. Он добежал до автобана, взял попутку, добрался до Карл-Маркс-Штадта и дальше, автостопами, до Мюнхена. Его заочно приговорили к вышке.
В их группе – Саша, рослый красавец-капитан с соболиными бровями, и его пышногрудая жена. Саше везет: после курсов немецкого, допросов и клиринга его распределяют в Гармиш – в разведшколу. Здесь он год спустя бросит жену, начнет пить, сойдется с немкой и ночью повесится.
Что будет потом? Пышногрудая Татьяна, вдова Саши, будет маяться с двумя детьми, работать продавщицей в Альди, Лидле, Норме и других немецких супермаркетах. Выйдет замуж за пожилого грузного немца. Но ей с ним скучно, она ищет приключений и находит их. Последствия печальны, не будем о них. То же и у других. Эмиграция – не развлечение.
Андрей Орел с женой бежали из части под Магдебургом. Андрей служил в бригаде ПВО, Регина работала в буфете, в гарнизоне, нещадно воровала. Ревизия вскрыла недостачу. Они всю ночь совещались, нервно курили, а утром приняли решение мотать, иначе в лучшем случае их ждала командировка на Крайний Север, а в худшем – трибунал.
Орел говорит ему, что месяц провел с семьей на вилле БНД. Целый месяц немецкие спецслужбы выколачивали из него информацию о ЗГВ, а он, с его фотографической памятью, немало знал. “Теперь мне все по барабану, – озорно улыбаясь, говорит он, – пускай со своим ненаглядным Горби и генералом Бурлаковым сами разбираются. Вон как они поступили с ЗГВ. Они и есть предатели, а не мы, стрелочники”.
В дальнейшем жизнь Орла пошла по странной траектории. Он связался с Казбеком, связным питерской мафии, и убедил его вложить общаковые деньги в дискотеку “Калинка”, где тусовались бы мюнхенские русские. Дело прибыльное, уверял Орел. Они купили подвал в Перлахе, отремонтировали собственными силами, устроили танцпол, бар и светомузыку.
В “Калинку” набивалось всякого роду-племени из Совка: кавказцы, русские, хохлы, евреи. Под звуки советских хитов клиенты напивались и отплясывали с украинскими девчатами, их даже поили в кредит. Место стало популярно, но вышла незадача. Наверное, Орел проворовался. Спутал чужой карман со своим. Ему пришлось пуститься в бега. Но штемпель дезертира не позволяет бежать за границу. Где-то в глухом уголке Германии его и застукала полиция. Его посадят в тюрьму Ландсберг, ту самую, где в начале 20-х сидел Адольф Алоизыч после неудачного путча в Мюнхене и писал “Майн Кампф”. И дочка Орла не выйдет замуж за миллионера, а будет продавать бигмаки в Макдональдсе.
Орел – украинец из Днепропетровска, но считает себя русским. На вопрос об украинском языке говорит: “У нас на нем только звери деревенские говорят. В армейских библиотеках было полно литературы на украинском, но даже самому щирому западенцу западло такое читать”.
Иван задает такой же вопрос скрипачу Геннадию, русскому из Киева, прибывшему в Германию по непонятной линии. Геннадий уклончиво отвечает: “Украинский – красивый язык, в нем много от польского”.
Любовь к украинскому языку у Геннадия потому, что он воспитывался в интернате под Киевом и говорит на мове не хуже щирого хохла. Иван чувствует, что это – нарушенная психология, что Геннадий – уже не русский человек, а малоросс. Бунт хохлов против России для Ивана то же, что бунт баварцев против великой Германии.
Полгода их обучают немецкому и компьютерной грамоте. Это самое спокойное время в мюнхенской жизни Ивана. В паузах они спускаются в немецкие кнайпы, пьют ароматный фильтр-кофе с буттер-бреценом, болтают о перестройке и германском объединении. Настроение – бодрое. Всех их наполняет беспричинная эйфория, у всех запредельные ожидания. Они верят, что на Западе у них все сложится великолепно. Орел выгодно продаст дискотеку, выдаст дочь за миллионера и будет ездить на БМВ по просторам Баварщины. Виталик со временем переберется в Америку, где станет автодилером. А музыкант Геннадий – он будет ни много ни мало солистом Гамбургской филармонии.
Что касается Ивана, то он пока не строит планов. У него свой особый, сложный сюжет.
Их преподаватель компьютерной грамоты – сорокалетний кудрявый немец Хольгер, в душе анархист. Он жалуется на буржуазную культуру, на нехватку денег, на одиночество. Типичный представитель поколения 1968 года. Он приносит на занятия брецен и грустно грызет его, пока ученики познают компьютерную грамоту.
Потом он ведет всю группу на “серьезное” кино. Иван помнит как сейчас этот фильм: “Малина”. По роману Ингеборг Бахман. Надрыв послевоенной культуры Германии. Немецкие студенты обычно смеются: “Достала нас дурацкая Deutsche Nachkriegslitteratur!”
– А мы, думает Иван, – дети брежневского безвременья. Нас этими смешными проблемами, надуманными конфликтами сытой Европы не удивишь. Мы пропитаны водкой и портвейном, просвечены анкетами и пропитаны ядом безверия. Являемся ли мы подопытными кроликами чьей-то злой воли? Нет ответа.
Ночью Иван видит сон. Далекий гудок паровоза, дымок растворяется в таежной дали, нисходит на землю тьма, а он стоит в кирзачах на платформе станции “Сыч”. В кармане ватника недопитая бутылка портвейна, в уголке рта тлеет “Беломор”. Как долго продлится эта жизнь?
Это он или не он? Он не знает. Вспышка. Стоп-кадр. Он удаляется.
Один в Мюнхене
Мюнхен – чудесный город: чистый, веселый, зажиточный. Немного провинциальный. Но и здесь работали русские люди. Здесь жил Тютчев, здесь сделал первую остановку Ленин, и, главное, здесь пришел к абстрактному искусству Кандинский.
Ильич и Кандинский жили в Швабинге в одно время. Ильич на стипендию немецких социал-демократов снимал комнату на Кайзерштрассе, сидел в пивной и писал “С чего начать?” Кандинский, отучившись в школе Антона Ашбе, снял в Швабинге мастерскую и приступил к самостоятельным живописным опытам.
Чем еще интересен Мюнхен?
Здесь жил и добровольно ушел из жизни великий геополитик Карл Хаусхофер.
Здесь отравили Степана Бандеру.
Здесь вышел на “пивной путч” 1923 года Адольф Алоизыч.
Сюда же после 1945 года переместился из Парижа центр антисоветской пропаганды и агитации.
Здесь живут власовцы, бандеровцы, белогвардейцы, представители “третьей эмигрантской волны”. Осели Любарский, Зиновьев, Войнович, Плисецкая с Щедриным и т. д. и т. п.
Мюнхен – один из центров шпионажа в Европе. Тому способствует его особое географическое положение. После 1945 года все были уверены, что Сталин предпримет еще одну попытку захвата Западной Европы. Бавария и Мюнхен были защищены горами, и танковые колонны русских не могли сюда прорваться так стремительно, как по равнинам Центральной и Северной Германии. Поэтому американцы забрали Баварщину себе, расположили здесь войска, а также все институты борьбы с Советским Союзом. Здесь, в Пуллахе, – штаб-квартира БНД, в Мюнхене – центры бандеровцев и прочих антисоветских подполий, в Гармише под Мюнхеном – американская разведшкола. Здесь же, в Мюнхене, – радиостанция “Свобода-Свободная Европа”. Один лишь НТС остался во Франкфурте.
“Свобода” – великий эмигрантский миф. Длинные больничные корпуса за белым бетонным забором, они примыкают к Английскому парку. Даже прогулка вдоль станции вызывает трепет. Иван помнит советский фильм “Убийство в Английском парке”. А также бесчисленные статьи о подлых разборках в презренном гнезде шпионажа. Он побывал здесь с Богородниковым, но даже не мечтает о работе. Это мечта всех эмигрантов.
Иван по-прежнему один в Мюнхене: семья напрочь застряла в Совке, и он не знает, как их вытащить. Постепенно боль разлуки притупляется, только образ дочки еще появляется у него перед глазами, когда он засыпает.
Ему все время кажется, что его “Я” рассыпается. Ему необходимо прилагать усилия, чтобы помнить себя. Он говорит: “Это я, я здесь, я еще не забыл свое “Я”. Я помню себя, а если я утеряю связь с “Я”, я растворюсь в окружающей среде и стану Никем. Даже меньше, чем Никем”. В психологии это называется “деперсонализация”. В качестве причины называются стресс, переутомление и нервные расстройства. Но Ивану кажется, что причина глубже. Причина, говорит Гурджиев, в том, что душа при жизни может покидать тело человека и тогда он становится биороботом. Живым снаружи, мертвым внутри. Voila!
От нечего делать он идет в “Немецкий музей”. Стоит у настоящей подводной лодки Первой мировой войны. Он живо представляет себя в этом узком, замкнутом пространстве, среди однозвучно тарахтящих моторов, в глубинах Атлантики. Вместе с капитаном Швигером он пускает торпеду на “Лузитанию”: “Попал! Америка втянется в Первую мировую”.
Он поднимается в салон авиации, смотрит на истребитель Bf 109, детище Вилли Мессершмидта, и восхищается совершенством его линий.
Он бормочет: “Вселенная бесконечна, человек ничтожен. Людей всю историю давят как муравьев. Какие могут быть принципы? XX век доказал необратимо, что человек не имеет значения. Вообще. Мы – личинки на этой земле, сметаемые ГУЛАГами, Холокостами и прочими цунами. Но если я пойду наперекор, то только ради другой идеи. Своей идеи. Я не верю ни одной из ныне действующих идеологий, они все нас подвели. Нет церкви, партии, отечества. Смысл может быть только мой – индивидуальный”.
Вечерний маршрут приводит Ивана к задворкам главного вокзала, где толпы анонимных посетителей снуют у лавок с красными огнями.
Он думает: “Хорошая находка – эти видеокабины! Найдено колоссальное средство управления массами. Когда опорожненные самцы выходят из кабин, им не нужно выражать социальный протест, не говоря о моральном. Вся мужская Америка рукоблудит у компьютеров, и во что они превратились?”
“Подлые властители западного мира! Им легче организовать дрочильни, чем реальный секс, и пустить энергию масс в пустоту”. Иван видит холеные рожи этих менеджеров постмодерна, этих ариманических и люциферических монстров. Сидящих в башнях из слоновой кости и составляющих проекты по убийству живого секса.
После рабочего дня вереницы австрийских и немецких клерков тянутся в секс-шопы и пип-шоу. Там за десять марок (шестьдесят шиллингов) они самовозбуждаются и самоудовлетворяются. Салфеточки к их распоряжению. И это – сексуальная революция?
Да, говорят некоторые. Уменьшилось число изнасилований, антисоциальных явлений, протестов и прочего куража, связанного с тестостероном и спермой. Но глаза их стали печальней, плечи сутулей. Они ходят в эти видеокабины, затем уныло разбредаются. Лишь только состоятельные самцы имеют деньги на реал-блядей. Они к ним ездят по вечерам, но больше утром, по дороге на работу.
Подонки-эмигранты из России все это видят, но их жизнь легче и безответственней, чем у немцев. Они как кролики трахаются в своем кругу. Они еще не утратили способности к пьянке и промискуитету. Бабы еще дают, особенно под водку. Но и в их среде назревают проблемы. Вы понимаете, что наш герой имеет в виду? Он, господа, имеет в виду кризис реального секса. Он ненавидит секс виртуальный.
Покинув район вокзала, Иван заходит в кафе “Ночная коза” (Nachtziege) и выпивает бокал “Троллингена”, потом другой. Его рассыпанное “Я” временно собирается в одно целое. Он думает: “Пора записаться в фитнес. А то потеряю форму”.
За соседним столиком сидит яркая блондинка лет тридцати. Он говорит ей: “Gruess Gott, Sie sehen glaenzend aus”. Она расплывается в неподдельной улыбке. Он тут же приглашает ее за соседнюю стойку бара. Ее зовут Карин. Дальнейшее элементарно: он берет ее к себе в маленькую квартирку на Талькирхене, там ставит музыку и приглашает в койку.
Под утро ему снится интересный сон: начало – Москва, лесочек, Парк культуры. Затем – Восточный Берлин, и наконец Мюнхен. Он от кого-то скрывается, заметает следы, забегает в подземный гараж. Кажется, оторвался! Но как бы не так: снизу, из глубин подземного гаража, урча выползает чудище, освещая его ослепительными фарами. Он вздрогнул, остановился, заметался: выйти из гаража было невозможно. Неужто КГБ? Громадным усилием он просыпается: “Проклятый “Троллинген”! Пора завязывать с этим безобразием”! Карин рядом нет, он один в квартире.
Нет, не клеятся у него отношения с немками. Они кажутся ему слишком доминантными, слишком резкими. Он внутренне съеживается при разговоре с этими фрау, не может наладить необходимый душевный контакт. Пора искать русскую девчонку!
Культурная жизнь
Проходит полгода. Иван переходит от первой эмигрантской депрессии к относительной нормальности. Он научился есть белые баварские колбаски, надрезать их ножом и стягивать шкурку одним движением. Затем макать в сладкую “католическую” горчицу и запивать мутноватым, напоминающим квас белым пивом. Стучать кружкой по деревянному столу, требуя добавки.
Иногда он задумывается – а может, надеть кожаные штанишки – “ледерхозе”, натянуть вязаные гетры, шляпу с пером, расшиванку и начать балакать на баварской мове? Чем он хуже Павло Мовчана? Когда ты станешь щирым баварцем, тогда ты сможешь открыто проклинать москалей-пруссаков и прочих подлых швабов. Только тот, кто стал истинным регионалом, может почувствовать вкус родной унавоженной почвы. Ну а тем, кому по душе безродный космополитизм, лучше направиться в Ленбаххаус. Что он и делает.
Ленбаххаус – это вилла в югендстиле, где висят работы раннего Кандинского и группы “Голубой всадник”. На фоне эмигрантской возни, мелких интриг, поиска денег и пресмыкания перед чиновниками он видит здесь пример истинного служения искусству.
Перед глазами: блестящие мюнхенские годы Кандинского, поиск чистой формы, выход на абстракцию. Группа “Голубой всадник”, дружба с Габриэле Мюнтер. Круг единомышленников в Мурнау.
Второй визуальный ряд: “Голубой всадник”, Алексей Явленский, его жена Марианна Веревкина. Их сфера интересов и поиск истины делают их похожими на группу вокруг Гурджиева и Успенского.
Иван ходит по Ленбаххаусу, бормочет под нос: “Где вы нынче, представители старой школы живописи? Вас узнавали по кряжистой походке, зоркому взгляду из-под насупленных бровей, ладно скроенным сюртукам и по тому, как крепко вы держали кисточку, щуря левый глаз. Это вы создали бессмертные облики социально значимых типажей в XIX веке, и это вас похоронили в начале века XX, выкинув на свалку истории как реалистов и сапожников от искусства. На смену пришли духовные искатели – Кандинский, Малевич, кубисты. Они пытались разрешить неразрешимое и пали жертвой элементарных противоречий… Проблема была в том, что оторваться от земли и улететь было невозможно, а вот шмякнуться мордой о землю – очень даже. Что и произошло”.
“Живопись – это цветовая игра, которая воздействует на нашу психику. Либо я работаю с этой цветовой субстанцией, либо занимаюсь чем-то еще. То, чем занимаются инсталляторы и коллажисты, – это шитье тапочек, распил дров, уборка сортиров. Какое отношение это имеет к цветовому воздействию на мозг?”
Современные художники – ремесленники. Сапожники и маляры в квадрате. Однако Кандинский – другое. Это Кеплер живописи. Он дал ей неведомое измерение. Известное разве что в древнем Египте. Язык высоких символов. Поэтому его не любят в России и любят в Германии. Кандинский действовал не как спонтанный копировальщик натуры, а как математик, постоянно усложняя формулы. Русским же нужна некая узнаваемость, внешняя эмоциональность. Им хочется социальной правды либо слащавых березок. Впрочем, и французам тоже. В 30-х годах они не приняли в Париже Кандинского.
– Россия – страна воплощенной правды в жизни и реализованной лжи в искусстве, – считает Иван. – И особенно в литературе. Постмодернизм убил правду жизни.
Вопрос: почему с 40-х годов авангард забуксовал? В Европе и Штатах стали мазать дерьмо по стенкам, вкалачивать гвозди в стулья. Почему остановилось развитие? Сие есть загадка. Такая же загадка, как то, что стало с литературой и музыкой. Очевидно, вид искусства исчезает, подобно биологическому виду.
Иван не знает, что омерзительней – соцреализм, которого он нахлебался в Москве 60-х, или эти шмотки дерьма, которые называются современным искусством.
Ему навстречу из Ленбаххауса вылетает ватага немецких гимназистов. Симпатичные, модные ребята, с современной стрижкой. Самый красивый мальчишка сжимает кулак и восклицает: “Достал этот долбаный Пикассо! Сколько нас могут кормить им? Да здравствует Кандинский!”
Тогда же, в начале 90-х, в Мюнхен наезжает много русских писателей. “Откуда они взялись?” – удивляется Иван. Он никогда о них не слышал в Советском Союзе. Пригов, Сорокин, Ерофееев… Им организуют лекции, устраивают семинары, предоставляют гранты и стипендии. Они живут на вилле Вальберта под Мюнхеном, выступают в культурных центрах Берлина и Кельна.
Немцы приходят на их чтения серьезно, с записными книжками, сидят, слушают, кивают головами. Они не понимают в этих чтениях ничего – ни в коммунальном юморе, ни в рассуждениях про водку, ни в антисоветских аллюзиях. А более всего не понимают озлобленного вызова, который исходит от подпольщиков.
… Каналштрассе, книжная лавка, 1991 год. После выступления Пригова пожилая немка оборачивается к Ивану и говорит: “Что это значит? Мы любили великую русскую литературу, мы ценили дух сочувствия и понимания, психологию и философию… а здесь – что это такое?”
Иван не отвечает: комментировать нечего. Перед ним была особая порода советских людей – продуктов подполья. Однако сам он – к какой категории относится?
…Книжный магазин на Леопольдштрассе в Швабинге. Виктор Ерофеев читает главы из “Русской красавицы”. Немцы серьезно слушают перевод. Простота и доходчивость идеи наконец-то покоряют их сердца: “Мы все – русские красавицы!” Они хлопают, какая-то старушка подносит Ерофееву букет цветов. Его хитрые глазки излучают искорки покоренного тщеславия, он всех благодарит, берет конверт и исчезает в мюнхенской ночи.
… Толстовская библиотека. Безумный Борис Фальков читает отрывки из романа, подыгрывает себе на пианино. Что это такое? На заднем ряду сидит маленький старик Борис Хазанов, писатель-эмигрант. Он талантливый, но его не слушают и не считают своим. Молодые волки выясняют свои отношения. И маленький Хазанов сидит как зайчик, а они его игнорируют, игнорируют, игнорируют.
Читает стихи дама лет тридцати, бледное лицо, воспаленные глаза: “Без костюмов и пауз”. Очевидно, пьет. Говорят, ее зовут Татьяна Щербина. Напечатала статью в “Зюддейче Цайтунг” о русской духовной истории. Они тут все поэты, пьют бренди “Шантрэ”. Стихи: навязший на зубах Серебряный век. Опять Ахматова, опять Мандельштам, и к ним в довесок Заболоцкий, которого он не читал и не будет читать никогда. Все это глубоко чуждо Ивану. Он не понимает эту русскую поэзию.
– Да, Маяковский был, Хлебников был, – признается он себе, выходя из Толстовской библиотеки на Тиршштрассе и закуривая сигариллу. – Но после них авангард навсегда покинул Россию.
Странная вещь литература! До сорока лет он много читал. Но теперь он не читает ничего. У него нет доверия к литературе, нет доверия к писателю как таковому. Кто такой писатель? Что он может? Разве он отвечает за свои слова?
Литература на Западе – это совсем другое. Это машина, где автора как бы и нет. Книжные магазины, тысячи названий. Беллетристика, эзотерика, туризм. Зачем это, к чему? Это ощущение всюду – в мюнхенском “Хугендубеле”, в нью-йоркском “Барнс энд Нобл”. Бессчетные названия, и книги, книги…
Что в этом море книг значит один несчастный литератор? Зачем так много слов?
Больших писателей нынче немного. Всегда было немного. Не больше, чем физиков или астрономов. Так почему же на полках громоздятся тысячи имен? Они все что – графоманы? Зачем писать?
Безыдейность и бездуховность – хорошие слова эпохи коммунизма. Как подходят они сейчас ко всем этим писателям. Что это за писатели? Постмодернистские волнообразные потуги. Какой в них на хрен драйв? Где правда жизни? Долой литературу!
Лучше смотреть своими глазами на мир, лучше не читать и не писать. Текст пародирует, искажает, портит мир. Лучше не читать вообще. Это касается и старых текстов. Теперь они тоже стали восприниматься как ложь. Изменились мы, изменилось восприятие.
Он стоит на углу Шванталерштрассе и Шиллерштрассе, ковыряет зубочисткой в зубах и бормочет: “Что живопись, что литература – какое отношение это имеет к нашей реальной жизни?” Но никому этот вопрос неинтересен. Усталые служащие и небритые турки идут в едальни жрать кебаб. На всю улицу звучит мурлыкающая песня с восточными придыханиями.
С горя он идет в “Альди”, набирает целую тележку: две картонки красного вина по три марки, две упаковки хлеба белого воздушного пустого, три упаковки колбасы вестфальской вареной с особо устойчивым соевым наполнителем, мюнстерские огурчики, выморенные в маринаде, и даже бутылку водки “Граф Орлофф” – голландский спирт, разведенный в Киле. Нагрузившись, идет на выход. Впереди стоят два турка, сзади – три югослава. За кассой сидит “она” – тихая хорватская девочка – и считывает левой рукой электронные ценнички с товара. На него даже не смотрит.
Дома, подавив первый звериный аппетит (заедал водку огурчиками и вареной колбасой), включает телевизор. Идет ток-шоу. Мужики обсуждают: можно ли спать с подругой матери?
Он засыпает: Мюнхен. Тихая пристань. Кандинский. Величие мысли. Ниспровержение абсолютных форм. Новое начало. Сколько их было, этих начал? И мы, ползучие твари. На пересечении земных трасс. Неужто все это нам приснилось?
Он вспоминает другие литературные времена. Метро “Аэропорт” в Москве, бесконечные променады в писательских дворах… Он даже вспоминает, как навестил Шкловского.
Шкловский: маленький, плотный, глаза-буравчики. Как тогда полагалось, пригласил в кухню, налил чаю. Задал два-три наводящих вопроса, потом сказал серьезно: “Вы хотите стать писателем?” Иван смущенно дернулся, а Шкловский тут же объяснил, в чем призвание литературы. В его резких ритмических фразах звучал отголосок авангарда – о котором в те брежневские годы уже забыли.
Шкловский объяснил, что русский народ – прекрасный подмалевок, материал для строительства империй. Сказал о необходимой сублимации сексуальной энергии – ради творчества. И о генетической составляющей таланта. “И Горький, и Есенин – дворянские дети. Их отцы – гвардейские офицеры. А матери – русские крестьянки – они и есть тот самый несущий субстрат”.
Провожая до двери, пожал обеими руками и заглянул в душу своими пронзительными глазами.
Прощай, русский авангардизм! Твоя эпоха давно прошла.
С 20-х годов идет сплошная задержка дискурса. Не найден язык. Россия не может найти язык, чтобы выразить себя. Это все неадекватно. Нужна новая речь. Новый ритм.
Август 1991-го
Незаметно подкрался август 1991-го. Иван всегда чувствовал, что Перестройка добром не кончится. Что распад Союза имеет свою железную логику. Но этот оглушительный и бредовый спектакль превосходит его ожидания. Он ходит по Английскому парку с транзистором и слушает “Свободу”. Станция вещает нон-стоп. Новости самые мрачные.
По телевизору вспыхивают сообщения: арест Горбачева в Крыму, диктатура ГКЧП, чрезвычайное положение в Москве, люди стягиваются к Белому дому. Самое интересное, что ГКЧП возглавил старый знакомец Ивана – Янаев. Иван шепчет: “Геннадий Иванович, куда тебя втравили?”
Иван видит на экране телевизора: пресс-конференция ГКЧП, среди них Янаев. У него трясутся руки. Странные советские бюрократы. Разве могут они спасти разваливающуюся державу?
В этот вечер 10 августа он едет к Алене Миллер на чай – она уже простила его за неудобство с Богородниковым. На улице темнеет, он входит в большую барскую усадьбу с колоннами. Еще профессор Миллер в послевоенном Мюнхене здесь проводил свои семинары.
У Алены Миллер накрыт стол, Иван пьет чай вместе с неким Николаем – чернявым молодым человеком, который стал известен в мюнхенской эмиграции тем, что в феврале 84-го хоронил в баварском монастыре Зееон Анастасию (Анну Андерсон). Николай уверен, что является связующим звеном с истинной династией Романовых. Презирает всех не-дворян.
Пьют чай, разглядывают старые фотографии. Николай слишком самоуверен, разговор с ним не клеится.
Входит сын Алены, Петя Миллер. Молодой голубоглазый мужчина, которого она определила работать к Крониду Любарскому в журнал “Страна и мир”. Петя выполнял задания Любарского, очень рисковал, возил в Россию листовки и деньги для диссидентов. Пару раз его чуть не задержали, но парня выручили хладнокровие и природная смекалка.
Петя в стрессе, трясет головой: “Любарский совсем достал меня… это просто исчадье ада!” То, что Иван слышит, не удивляет его: он хорошо знает советских людей и их характер. Особенно диссидентский.
Пару лет спустя Любарский вернулся в Россию, стал членом Общественной палаты. Потом поехал отдыхать на остров Бали и там утонул, купаясь в Тихом океане. “Странная однако смерть”, – подумал Иван, услышав эту новость. Такая же неестественная, как позже станет захоронение Бродского в Венеции. Бывших советских людей тянет на экзотику. Чем хуже безымянная могила в поле?
Алена Миллер говорит Ивану: “Сейчас к нам придет Игорь Огурцов. Это очень интересный человек, один из православных диссидентов. Вместе с Осиповым он организовал первый христианский антикоммунистический союз. Отсидел двадцать лет”.
Миллер хорошо отзывается о нем: “Огурцов – приличный человек, он беден, но всегда аккуратно одет. Он очень заботливый сын. Его старые родители – тут же, в Мюнхене, они все сидят на социале”.
Входит Огурцов. Маленького роста, бородка клинышком, напряженные глаза с прищуром. Немного похож на Ленина. Одет тщательно, немного театрально: галстук, светлый плащ с погончиками, шляпа. До Ивана доходит, что это стиль Хэмфри Богарта.
Миллер передает ему какой-то пакет, Огурцов благодарит и идет к выходу. Иван берется проводить его до трамвая. Ему надо с кем-то поговорить. О ситуации в России.
Они садятся в трамвай, едут до главного вокзала. И там начинают ходить кругами по вечернему Мюнхену. Огурцов очень возбужден. Ситуация в Москве тревожная, ГКЧП медлит. Когда же армия заявит о себе и восстановит Союз? У Огурцова связи в Генштабе, в дивизиях. Он с ними говорил по телефону: новости не очень хорошие.
– Наступает 21 августа, действовать надо быстро и решительно: весь план ГКЧП сейчас на грани срыва, империя в опасности! – почти стонет Огурцов. Этот разговор длится долго, часа три. Темнеет, они продолжают ходить вокруг вокзала.
Огурцов проклинает Запад. За то, что поддерживает одних лишь либералов. И теперь за все получит сполна.
И снова – об армии, о церкви, о восстановлении Союза. Ивану начинает казаться, что в аргументах Огурцова есть резон. Да, в его словах есть сила убеждения.
Но это всего лишь слова. В реальной жизни ничего не происходит. ГКЧП завершается пшиком. Растерянный Горби прилетает из Фороса – в другую Москву.
Весь мир обходит кадр: Ельцин на танке. Знакомый немец-аналитик говорит Ивану: “Интересно, кому пришла в голову гениальная идея поставить Ельцина на танк? Ведь кто-то должен разрабатывать концепт”.
Иван ухмыляется. В России с концептами слабо. Это страна хорошо организованного Хаоса. Но постановочные откровения бывают.
Иван думает: “Почему никто не заступился за Советский Союз?” Он сам не любил Советский Союз. Но большинство совков его любило. Это была их Родина. Почему они так легко предали свою Родину? Неужто из этих трехсот миллионов человек, из этих тридцати миллионов членов партии, из этих сотен тысяч чекистов и офицеров не нашлось сотни людей, готовых взяться за оружие?
Никто из давших присягу стране не выступил “за”! Покончили с собой Ахромеев и Пуго, но это так мало. Так позорно система не кончается!
Ни одна паршивая собака не облила себя бензином и не воспарила в дыму и пламени на Красной площади под возглас “Es lebe unsere Sowjetunion!”
Иван не понимает, что происходит. Безобразный распад СССР оставляет его в недоумении. Одинаково противны и диссиденты, и монархисты, и демократы, и власовцы, и немцы, и американцы. Им овладевает чувство безысходности. В этом мире есть еще честные и смелые люди, но их единицы. Один из них – Миша Вольф. Который и после слома системы никого не сдал. Но он – исключение из правил.
Ночью ему снится, что с неким Антоном Б. он стоит на палубе широкопалубного корабля. Наверное, танкера. Они плывут по водной глади, похожей на бухту Золотой Рог, а может, и на Севастопольскую бухту. Посередине палубы – мачта, высокая. Они начинают спорить, кто взберется наверх. Смысл в том, что с этой мачты видны просторы южного берега Крыма и добравшийся будет иметь феноменальный обзор постсоветского пространства. Это дело принципа – залезть и укрепить флаг СССР.
Иван начинает карабкаться, он карабкается как пионер на шест, обхватывая коленками мачту, подтягиваясь, закрывая глаза. Вокруг – море, синяя бухта. Ползется легко. Он ползет выше, все выше, он уже почти у цели, начинает кружиться голова. Он все-таки крепит флажок на мачте. Внизу раздаются аплодисменты, но кто-то кричит: “Мы потеряли Севастополь!” Обдирая руки, он быстро спускается вниз.
На палубе он видит, что нет ни мачты, ни Антона Б., а их танкер движется в неизвестном направлении.
Тени прошлого
Осень 1991-го. Иван живет один в съемной квартирке в Талькирхене, среди немцев. В доме строгий хаусорднунг. Он торжественно подписал его в присутствии хаусмайстера. Там много пунктов: после десяти вечера нельзя громко смотреть телевизор и говорить, после двенадцати ночи – принимать душ и спускать воду в туалете. В хаусорднунге есть и забавные пункты: днем разрешается играть на пианино с десяти до двенадцати и с часу до пяти, но накрыв голову и пианино одеялом.
Есть строгости в отношении выноса мусора, парковки машин и прочего. Ивану это по фигу, ему наплевать, но инциденты получаются сами собой. Когда у него поздно вечером сидят друзья и они мирно беседуют за бутылкой вина, в дверь звонят. Там стоят два полицейских в кожаных куртках и с пистолетами. Они входят в квартиру, осматривают ее и недоуменно покидают. Выходит, настучал сосед снизу. Это невропат: он посещает парикмахера раз в неделю, проходит мимо Ивана не здороваясь, прямой как штырь, с ровно уложенными волосами, и когда слышит шум спускаемой воды ночью, стучит шваброй в потолок.
Но есть и очень милые люди. Старушка со второго этажа принесла ему попробовать домашний пирог, старик с четвертого – фронтовик, принес шнапса. Однажды он сказал ему, что был в плену в России, и это – лучшие годы его жизни. Да, как они работали, всей бригадой! Сибирь, мороз, рубка леса, укладка путей и медсестра Наташа: старик помнит ее теплые губы и большую грудь.
Иван чувствует: немцы – душевный, но очень одинокий народ.
И он движется среди них как фантом: переходит Изар, минует зоопарк, садится в трамвай, едет в центр.
Не хватает русских девчонок, шуток и какой-то заряженности в атмосфере. Все чинно, благопристойно и как-то скучно. Даже очень скучно. Это объясняет ему странные выходки русских в эмиграции.
Они не хотят жить, как немцы, скажете вы? Да это их вообще не волнует. Не затем они сюда ехали, чтобы жить как простые немцы. Это скажет любой русский эмигрант. Немцы живут скучно, они тянут трудовую лямку, долго и упорно копят на старость, откладывают марки, чтобы в результате – после семидесяти – поселиться в хорошем доме для престарелых, где им будут менять памперсы и приносить безвкусный ужин. У них свое понятие о счастье.
А русский человек, даже самый подлый и ленивый, чувствует свою исключительность. Даже сидя на социале, он может позволить себе беспробудные пьянки и бесконечные разговоры – на деньги немецких налогоплательщиков. Но это же его и погубит. В конечном счете он сопьется либо станет бюргером почище немца.
Ивана страшит это, он не хочет выглядеть, как русский эмигрант. Он все-таки европеец или хочет чувствовать себя таковым. И потому ему намного сложней. Мюнхен не очень ему подходит.
Не в этом городе советские мутанты могут найти и куранты, и прейскуранты.
Его обычный маршрут: он выходит на Мариенплац, заходит в кафе “Донизель”, берет два брецена, пьет мутное пшеничное пиво, потом идет по Театинерштрассе до Одеонсплац. Это та площадь, где Гитлер вышел на “пивной путч” в 1923 году и где шестнадцать его товарищей пали под пулями рейхсполицейских.
Иван видит: утро 9 ноября. Колонна нацистов. Впереди идет прихрамывая генерал Людендорф, машет палкой. Полицейские берут на плечо карабины. Гитлер призывает их сдаться, в ответ выстрелы. Так рождаются легенды. Стоп-кадр: так рождаются легенды.
На Одеонсплац Иван спускается в винный погреб и там берет бокал привычного “Троллингена”. На душе становится легче. Он выходит на Леопольдштрассе и идет к Триумфальной арке. По пути заходит в университетскую библиотеку. Там набирает на полке охапку российских газет. За окном – идиллический Английский парк, а на этих страницах – яростные вопли и биения себя в грудь: это никак не могут успокоиться сторонники перестройки. Империя уже разрушена, а они не могут успокоиться. Уже того, а они не.
В паузу он курит, пьет кофе. Подходит к библиотекарше фрау Гройлер. Как у многих пожилых немок, у нее голубоватые седые волосы, закрученные в кудельки. И печальные глаза – от одиночества. Они говорят о падении “железного занавеса”. Немка вздыхает: “Каждую ночь, на протяжении последних лет, мы ставили свечку и молились, чтобы не было воссоединения с Восточной Германией. И вот оно случилось: нашему благоденствию приходит конец!”
– Благоденствию приходит песец, благоденствию приходит песец, – собрав в сумку школьно-письменные принадлежности, он выходит в Английский парк. Здесь уже тепло, бегают дамы с собачками, а на поляне расположились нудисты. Они стоят во всей красе, выпятив белые животы. Его, как советского человека, немного коробит. Но он хорошо помнит, что Германия – родина не только научного социализма, но и нудизма, которому дано название Freikoerperkultur (FKK).
На холме – беседка, оттуда звучит заунывная дробь. Беседка как будто создана для поэтов и философов: для Шеллингов, Гельдерлинов и прочих. Там сидят кришнаиты и бьют в барабаны. Эта дробь навевает тоску. Он проходит дальше к Китайской башне.
Берет кружку пива, садится за стол, сдувает пену, гладит подбежавшего пятнистого сеттера.
Рядом с ним расположилась семья немецких пролетариев. Они купили пять кружек разливного пива, сели за общественным столом и выложили закуску из корзины. Уминают сэндвичи, качают коляску с ребенком и наслаждаются жизнью.
На соседней скамье он видит Владимира Ильича. Тот сидит, положив котелок рядом с собой, пьет пиво, закусывая сырокопченой колбаской “меттвурст”. Отрезает перочинным ножом ломтики и ловко подкидывает себе в рот. Ильич в хорошем расположении духа.
– В чем дело, Владимир Ильич? – спрашивает Иван. Тот отвечает: “Сегодня утром я вышел на идею создания общерусской газеты… ”
Ильич приехал в Мюнхен в 1900 году по приглашению Парвуса, остановился на Унгерерштрассе, 80. Потом переехал на Кайзерштрассе, 53. По вечерам он сидит у окна и думает: “Что делать? С чего начать?”
Ильич вышел сегодня утром на прогулку из Швабинга. Для всех он херр Майер. Надежда Константиновна провожает его тоскливым взглядом. Ильич любит эти выходы в Швабинг. Маршрут начинается в доме Георга Риттмайера на Кайзерштрассе, 53. Ульянов поднимается в этот день рано (Лениным он назовет себя год спустя, здесь же, в Мюнхене), чистит до блеска ботинки, надевает жилетку, котелок, спускается по скрипучей деревянной лестнице, минует квартирки слесаря, паркетчика, вдовы Хубер. Под мышкой у него – социал-демократическая газета Muenchner Post. Заходит в пивную Zum Onkel. Бормочет: “Что делать? С чего начать?” Садится за столик, заказывает пиво, разворачивает газету. Вокруг сидят жители Швабинга, среди них в это воскресенье много рабочих. Они тоже читают Muenchner Post. Все читают.
В этот момент Ульянову приходит гениальная мысль: все должно начаться с общерусской газеты. Если все читают один текст, один типографский набор, то все они связаны одной пропагандистской цепью. Он достает карандашик, блокнот и быстро пишет – “что делать”. Потом зачеркивает “что делать” и пишет – “с чего начать”. Вывод: нам нужна общерусская социал-демократическая газета – коллективный пропагандист и коллективный агитатор.
Пиво свежее и вкусное. В кнайпе Zum Onkel шумно. Георг Риттмайер наливает всем пиво. Брецены хрустят во рту, карандашик скрипит… Ильич еле успевает заносить мысли.
Из кнайпы он идет в Английский сад, попить пивка на свежем воздухе. Здесь его и встречает Иван. Под дружескую беседу и пиво время летит незаметно. Немцы прислушиваются к странным русским, ничего не понимают. Русские много пьют и долго говорят.
Иван задает вопрос по России: “Как изменить характер этого феодального государства, где все сосут от человека с сохой?”
– Вот-вот! – поддакивает Ильич. – Куда деть эту толпу паразитов – попов, чиновников, полицейских? На одного мужика с сошкой – пятеро с ложкой. Решить это почти невозможно.
– А как же тогда?
Ильич отвечает: “Партия и только партия! Дайте нам партию революционеров, и мы перевернем Россию”.
Уже поздно вечером Иван доводит шатающегося Ильича до Кайзерштрассе, 53. Надюша сидит бледная у окна и смотрит на погружающуюся в сумерки улицу. Хмурая Надюша грозит им пальцем. Они обнимаются на прощание, Ильич на цыпочках поднимается в квартирку, мечтательно ложится на кровать и шепчет: “Мы начнем с общерусской газеты”.
Иван оставляет Ильича на Кайзерштрассе, идет на Айнмиллерштрассе, 36. Небольшой дом с садиком. Это тоже Швабинг. Иван видит: в окне мансарды – Кандинский. Он достает холсты и расставляет их на треноги, накидывает белый халат и пишет по памяти альпийские пейзажи. Бегущие рваные облака над Кохелем, синее небо, зеленые луга. Картина падает. Кандинский рассеянно ставит ее на треногу и видит, что она чудно преобразилась. Он не понимает в чем дело, отходит. Картина стоит вверх ногами, и от этого она становится лучше, интереснее. Синева разлилась внизу, а наверху – сочная зелень альпийских лугов. Он ставит ее боком, и картина становится еще лучше: зелень и синева расходятся, как крылья по обеим сторонам.
До него доходит: главное – геометрия цветов, а соответствие видимой реальности не имеет значения.
Кандинский, не оборачиваясь, задает Ивану коварный вопрос: “Скажите, а почему Рембрандт пользуется коричневой подливой? Такая подлива, хоть и с золотистыми блестками, уступает чистым краскам!”
– Есть люди, предпочитающие тусклую палитру, – отвечает Иван. – Среди них – так называемые сезаннисты. Их основные цвета – серо-буро-малиновые. Они так выражают свой глубокий депресняк. Сезаннисты якобы готовятся к прыжку в за-о, к заоблачному прыжку. Но скорее всего поскользнется на куске говна.
– Разве можно быть в наше время художником? – почти кричит Иван. – Либо ты кондовый реалист, либо подлый поп-артист. Возможен и промежуточный вариант типа концептуалиста или сюрреалиста. Но магия пропала! Забудьте про чистые цвета и никогда не говорите про подливу Рембрандта.
Не дожидаясь ответа, он покидает Кандинского и быстрым шагом идет в сторону Крейтмайер-штрассе. Сегодня 15 октября 1959 года. Ему нужно успеть предупредить Бандеру. Но он не успевает, как всегда. История пойдет своим путем. Своим путем.
Степан Бандера уже на лестнице. Все тихо, охранник ждет его снаружи у подъезда. Он подымается на площадку второго этажа, шарит в кармане ключи. Он в сером распахнутом габардиновом плаще, под плащом – украинская расшиванка.
Бандера слышит звук, похожий на вздох. Оборачивается: перед ним – мужчина высокого роста, в маске, похожей на противогаз. Это Богдан Сташинский, агент КГБ. Бандера пытается сделать шаг назад, но поздно. Сташинский достает нечто, обернутое в платок, и направляет ему в лицо. Бандера вскрикивает, падает. Глаза широко раскрыты, он оседает на пол. Сташинский спокойно выходит на улицу.
– Опять, блин, опоздал! – плюется подбежавший Иван. У дома на Крейтмайерштрассе собирается толпа.
…Талькирхен, ночь, Иван ворочается. В голове – беспорядочные картинки:
Ильич громко жует колбаску, пролетарии весело гуляют по Английскому парку.
Кандинский кладет новые слои красок. Картина наклоняется, он делает резкий мазок, картина падает. Кандинский по-немецки ругается.
Маленький, в габардиновом плаще Бандера подымается на второй этаж. Видит тень, бросаемую с верхней площадки. Оборачивается… Это смерть в образе Сташинского.
Темнота отступает раком. Пятится хрен знает куда.
Краска – это цветовая субстанция, которая воздействует на нашу психику.
Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях.
Наша баварская мова упирается в родную почву. Проклятые пруссаки-москали!
Стоп-кадр: он видит звезду. Свисток. Из-под сознания. “Сука!” – Истошный крик. “Какого хрена?” – Он. Топот ног.
В Гармиш!
Ивана раздражает русская тусовка Мюнхена: ему не нравится культурный центр “Мир”, где водят хороводы, ему не нравится Толстовская библиотека, где читают с подвыванием стихи любители Серебряного века. Ему также не нравятся литературные клубы, куда приезжают из России Ерофеев, Сорокин и прочие подпольщики. Ему нравятся только эти ребята – вечно пьяные, безумные дезертиры из Западной группы войск. Они все чаще берут его в Гармиш – на пикники.
Гармиш – тихий городок в предгории баварских Альп. Здесь проводились зимние Олимпийские игры в 1936 году. После войны здесь разместили американскую разведшколу, позднее Центр Маршалла, и потому здесь скопилось много русских – контрактников, перебежчиков и просто невозвращенцев.
Стиль жизни в Гармише особый: попойки, гульба, беспошлинный алкоголь из американского военторга РХ и под конец – ночные стенания по родине. Лучше пить среди своих. Среди перебежчиков считается, что те, кто связывается с немками, обречены. Примеров много. Тот самый красавец Саша с курсов немецкого – один из них.
Гармиш. Старый немец в придорожном магазине заворачивает им горячий финский хлеб и говорит в напутствие: “Если полезете на Цугшпице, не забудьте термобелье!” Они заходят в военторг РХ и набирают неслыханное количество выпивки. Берут водку “Абсолют” в полуторагаллоновых бутылках с ручками. Выносят рюкзаками, кладут в багажник и едут в горы, где устраивают пикник. Отсюда, сверху, кажется, что виден не только Гармиш, но и вся Баварщина – до Мюнхена. Собравшийся над городом фён превращает атмосферу в увеличительное стекло.
Грилят шашлыки, пьют водку с пивом, ложатся на траву. Переводчик Егор покусывает соломинку, его лицо мечтательно: “Как отработаю на этих, блин, америкосов, куплю машину, получу документ, поеду по Европе. В Голландии живет моя телка. Вот там и останусь!”
Незаметно попойка перемещается в большую общагу при переводческой казарме. Там появляются русские девицы, магнитофон играет советские хиты 80-х.
Пьяный переводчик Егор объясняет Ивану теорию Фрейда, потом – строение зубной кости.
Ивана потрясает, что верхние и нижние зубы человека имеют разную костную структуру. Верхние – как у летающих птеродактилей и птиц – полые костные трубочки. Нижние зубы – подобно костям коров и свиней – твердые мослы. Так и человек – имеет в себе животные компоненты рыб, овец и летающих тварей. И что делает эфирная душа в этом костном составе? Осознание биологической природы тела приводит его в отчаяние.
Утро. Тяжелое пробуждение на диване. Иван не может вспомнить лицо девчонки, с которой провел минувшую ночь: “Где я и что это значит?”
Весь вопрос в том, как долго остается впечатление в нашей памяти. Ведь как бы только что лежал в постели с подругой, и – бах! – через минуту “случившееся” уже переходит в память. Есть только память. Память индивидуальная, память коллективная. Нет памяти – нет человека, все равно что программы для компьютера. Все, блин, стер!
В октябре 91-го с ребятами из Гармиша Иван едет на Октоберфест. С ним вместе – переводчики разведшколы, бывшие советские офицеры, поэт-диссидент Аронсон и сбежавший на Запад дипломат Ефимов. А также – два дюжих американских сержанта, собутыльники по пьянкам в Гармише. Они заключили пари с русскими, кто больше выпьет пива.
Садятся в палатке на лугу – Терезиенвизе. Закон таков: им ставят литры пива – массы – и ставят до тех пор, пока слабаки не сдадутся и не поставят кружку верх дном. Проигравший платит за всех. Девица в баварском дирндле, с пышными грудями-булками ставит пенистую жидкость. Пошел отсчет. Они дружно пьют, курят, пепел прилипает к залитому пивом деревянному столу.
Оркестр играет баварскую музыку на длинных тирольских дудках.
Поэт Аронсон начинает читать стихи, как Ивану кажется, рифмованный заунывный бред. Поэту говорят – заткнись, блин! Он не унимается. Русские офицеры хорохорятся: они позволяют себе пропустить между кружками по рюмке шнапса. Им предлагают брецены и цыплят. Они отвечают баварской девице, как в “Судьбе человека”: “После первой не закусываем!” Наконец, когда приносят шестой масс, американский сержант Мак-Кормик встает, отдает честь и падает навзничь.
– Готов! – Его оттаскивают ко входу. Затем сажают на карусель с бреценом – проветриться. Остальные продолжают пить, на девятой кружке побеждает капитан Чуб. Он может и хочет выпить больше, но всем необходимо отлить. Они выходят из палатки. Пьяные итальянцы лежат тут же по периметру большой лужайки Терезиенвизе. Немецкая полиция никого не трогает: праздник священен.
Ночью снится сон: Саша-дезертир повесился, он висит под потолком мансарды в Гармише с высунутым языком. Иван кричит: “Ребята, не смотрите на его лицо! Вы слышите, не смотрите на его лицо!”
В Париж к Синявскому
В этот период скуки и неустроенности Иван часто вспоминает Россию. Ему все время снятся одни и те же странные, должно быть, подмосковные дачные поселки, запутанные тропки, безумные беседы, гудок далекой электрички и атмосфера безвременья.
Он пишет пару рассказов об ужасах России, о страшных фантомах большевизма, о беспросветности уездных городов. И, повинуясь некой принятой традиции, шлет тексты Синявскому в Париж.
Приходит ответ. Рассказы приняты и будут напечатаны в журнале “Синтаксис”. Синявскому и Розановой интересно, что автор – эмигрант, невозвращенец и смотрит на Россию жестоким, ироничным взглядом. Его приглашают посетить дом Синявских, когда он будет проездом в Париже.
Этот случай скоро представляется. За очередной анализ о национальных движениях на постсоветском пространстве ему платят тысячу марок. С полученным видом на жительство он может свободно перемещаться по территории Евросоюза. Дорога во Францию открыта.
От Мюнхена до Парижа поезд идет шесть часов: три часа до Страсбурга и оттуда еще три – до Парижа. Иван удивлен близостью расстояний в Европе, ему не верится, что Париж так близко.
Он с трудом находит дом Синявского. Доезжает из центра на электричке до станции “Робинсон”, потом долго петляет, пока не выходит на улицу Бориса Вильде. Там, за перекрестком, за небольшой оградой в саду спрятался двухэтажный дом, похожий на подмосковную дачу. Запущенный сад, разбитые скульптуры.
Его встречает крупная женщина неопределенного возраста в сарафане, из-за толстенных линз блестят озорные глаза. Это Мария Розанова, жена Синявского. Сажает, поит растворимым кофе.
Начинается форменный допрос: “Вы часто бываете на станции “Свобода”? Вы знаете, кто такой Фрэнк Уильямс, что делает Матусевич, о чем пишет Юрьенен? Какие у вас связи в Москве? Вы знакомы с Мальгиным?”
Убедившись, что он мало знает про станцию и про людей, Розанова теряет интерес и отпускает его отдохнуть.
В мансарде со скошенной крышей он чувствует себя как на подмосковной даче: отдельной стопкой стоят старые “Огоньки”, паучок перебегает по окну. Его внимание привлекает дореволюционное издание – “Маленький лорд Фаунтлерой”.
Час спустя его зовут обедать. К столу спускается Синявский: тихий старичок в халате, с большой седой бородой, похожий на лешего. Утиный нос, скошенные голубые глазки. Он мягко здоровается, садится есть. За время обеда он бросает лишь несколько осторожных реплик, хихикает. Ивану так и не удается вывести его на прямую беседу – о кризисе СССР, о литературных процессах, о роли эмиграции. На все его вопросы тут же отвечает Розанова. Пообедав, Синявский пожимает ему руку и так же тихо поднимается в кабинет.
Иван вспоминает слова Синявского – “Россия – сука”, а также об эстетических расхождениях с советской властью. В голове его не совмещается – образ тихого старичка и дерзкого критика режима.
– Синявский страдает, – говорит Розанова. – Он окружен врагами, последними патронами отстреливается из своего окопа. Максимов и компания травят его. Но что он может против этой банды?
На стене висит большая фотография, где Синявский и Даниэль выносят гроб Пастернака из дома в Переделкино.
Пастернак, Пастернак… Что они находят в этом писателе? Странный культ либеральной интеллигенции. Ивану нравится советский литературный авангард: “Конармия” Бабеля, “Перед восходом солнца” Зощенко, но Пастернак…
Розановой много звонят, много посещают. Среди них худой очкастый хохол Саша – их последний типограф. Его Розанова уволила за некорректное антисемитское высказывание. Саша смиренно приходит, просит денег, натыкается на отказ, уходит несолоно хлебавши. Иван понимает: “В эмиграции близость к финансовым потокам решает все и власть денег намного сильнее, чем в России”.
Звонит Лимонов, старуха его любит, шутливо и долго общается.
Звонит Алик Гинзбург из “Русской мысли”, звонят другие… все разговоры ведет она. Сдается, власть ее в этой странной эмигрантской среде велика. Ивану все это чуждо, он берет сумку и едет в город.
На мягких каучуковых шинах электричка RER несет его в центр Парижа. Арабская молодежь орет, швыряется жвачкой, пристает к пассажирам. Он сжимает перочинный нож в кармане. Это не совсем та Франция. Или, наоборот, та?
Иван на кладбище Пер-Лашез. Он сам не знает, почему сразу пришел сюда, но потом понимает: ему нужны точки опоры. Голоса из прошлого. Он подходит к стене Коммунаров. Сейчас он без иронии воспринимает Парижскую коммуну и западных коммунистов. Ему хочется прошептать оплеванное слово “товарищ”. Задерживается у могилы Анри Барбюса. Этот писатель поразил его в юности – не только антивоенным “Огнем”, но и ранней повестью L’Enfer, где описал переживания безумца-вуайериста.
Он любит Европу, но перед ним уже не та Европа. Он любит европейскую литературу, но это уже не та литература. Некий дух ушел. С наступлением 80-х. Что-то оборвалось. Повсюду на континенте. Где вы, духи Европы? Проснитесь! Но он не слышит знакомых интонаций, не видит знакомых лиц. Поэтому в Париже его так тянет на Пер-Лашез. Здесь, у замшелых надгробий, звучит далекое эхо великих идей. А кто теперь прольет кровь за товарища в борьбе? Проклятый англо-саксонский меркантилизм подточил живую душу Европы.
А нынешний европеец… разве он способен умирать за идею? И где сама идея?
Этот вопрос обращен ко всем нам, а не только к европейскому обывателю, несущему, как сказал Леонтьев, опасность для мирового развития. Средний европеец как орудие всеобщего уничтожения. Каждый из нас – орудие всемирного уничтожения. Имя ему – постмодерн.
Иван подходит к надгробию Алана Кардека. Здесь собралась группа негритянок с Ямайки. Они плачут, извиваются в трансе и молятся великому спириту.
Спускается к могиле Джима Моррисона. Здесь еще стоит маленький бюст, который уберут несколько лет спустя. Джим Моррисон – его любимый рок-музыкант. Иван не любит Америку, но он любит Джима Моррисона.
Немножко поодаль дежурит полицейский, внимательно следит за посетителями. После бесконечных ночных пений и возлияний на могиле певца поставлена охрана. Вскоре памятник демонтируют.
Пучок листьев шлепнулся на плиту как пачка белья. Он заозирался.
Хочется есть. За оградой кладбища заходит в бар, берет круассаны с кофе. Круассаны вызывают изжогу. Это же, блин, сладкое слоеное тесто… Желудок протестует, выделяет едкую кислоту. Он даже не знает, чем ее унять невыносимую изжогу. Таблеток-антацидов в кармане нет. Покупает жареную арабскую колбаску “мергез” и на ходу жует ее. Изжога временно затихает.
На метро он добирается до площади Пигаль.
Выходит на бульвар, идет вдоль бесконечных пип-шоу. Из одной кабинки ему машет молодая грудастая арабка: “Давай, покажу тебе индивидуальный сеанс!”
Подчиняясь какому-то гипнозу, он поднимается с ней по лестнице. Громадный пустой бар. За стойкой – могучий лысый бармен протирает стаканы, у дверей дремлют охранники-арабы. Дневное время, посетителей нет.
Она сажает его на плюшевое канапе, садится на колени и начинает прижиматься. Когда Иван пытается высвободиться, она силой удерживает его.
Пока длится это действо, бармен успевает принести пять бутылочек шампанского, которое она то ли выпивает, то ли выливает. Спохватившись, Иван говорит: “Хватит!” Подходит к бару: “Сколько?” Сумма, которую он слышит, потрясает его – пять тысяч франков! Таких денег у него нет. В портмоне – всего четыреста дойчемарок. Охранники просыпаются, подходят с двух сторон.
– Давай паспорт, давай кредитку! – говорит бармен. К счастью, Иван оставил документы и кредитку в мансарде у Синявского. Арабы берут четыреста марок и говорят: “Сейчас наш охранник поедет с тобой за карточкой”, затем вызывают такси.
Они стоят на бульваре, рядом с ним маленький араб с золотыми зубами. Иван чувствует отчаяние. Подъезжает такси, и тут араб говорит ему: “Езжай быстро и без денег не возвращайся!”
Иван прыгает в автомобиль и понимает, что от него отстали.
Сама идея, что арабский сутенер хотел зайти с ним в особняк Синявского и Розановой на улице Вильде, безумно смешит его. Возвращается хорошее настроение.
Таксист, старик-француз, качает головой: “Месье, а может быть, вам стоит пойти в полицию?”
– Какая на хрен полиция!
На улице Вильде Розанова ждет его. Они идут ужинать в китайский ресторан. Говорят о сложностях издательского дела. Позже он узнает, как все эти эмигрантские типографии, гонорары и рестораны оплачиваются из фондов ЦРУ и других западных спецслужб. В “холодную войну” размеры выделяемых фондов колоссальны. Все, что поступает в эту систему, нещадно разворовывается как западными кураторами, так и российскими координаторами. Сама Розанова говорит, что Максимов скопил миллионы, пристроил работать в “Континенте” всю семью.
Он мнется, хочет спросить, не заплатят ли ему за публикацию. Но она ловит его мысль на лету и говорит: “Только учтите, мы никому не платим. Такова наша редакционная политика. Напечататься у нас – уже большая честь”. Иван понимает, что все гонорары кладутся в карман. У всех эмигрантских издателей. Старая российская привычка.
В начале 1992 года, вскоре после развала СССР, финансирование антисоветской прессы прекращается. На улицы выставляются книги всех диссидентских издательств – “Имка-пресс”, “Нейманис”, “Посев”. Случившееся – подлинная катастрофа для очень большой прослойки эмигрантов. Кормившихся “холодной войной”.
“Посев” и НТС перебираются в Москву. Закрывается “Страна и мир”, которую издает в Мюнхене Кронид Любарский, а сам он также уезжает в Москву – баллотироваться в депутаты. Это – революционная перемена, сравнимая с коперниковской революцией. Отныне все диссиденты начинают зарабатывать в Москве, Киеве и других бывших объектах пропаганды.
Иван приходит к парадоксальному выводу: сами по себе все эти эмигранты и диссиденты ничего не стоят. Их стоимость равна нулю, но, поскольку они из России и в России есть КГБ и армия, то их рыночная стоимость возрастает многократно. Ни один из этих персонажей никогда не имел бы ни малейшей поддержки, если бы не могучая тень КГБ, нависающая надо всеми. Они не отличались бы ничем от эмигрантов из Мали, Турции или Нигерии.
Так давайте же сверим часы, товарищи. Так давайте же…
Беседа в китайском ресторане – все на те же эмигрантские темы. Он замечает, что Розанова не страдает плохим аппетитом, и сам налегает на креветки с жареной лапшой. Синявский по-прежнему хранит упорное молчание, хихикает, поддакивает и не говорит ничего по сути. Мелькает подозрение: “А тот ли он, за кого себя выдает?”
Либо это великая загадка художника – быть в жизни невзрачным и ничтожным, творя в тиши, либо…
Иван узнает потом, что Синявский не говорит по-французски, он одиноко ездит в Сорбонну, где читает лекции небольшой группе студентов-филологов, и так же одиноко возвращается назад.
Год спустя известный французский журналист признается ему: “Когда Синявский прибыл в Париж в 73-м, мы думали, что начинается новая эпоха интеллектуального сближения наших элит. Мы рады были ему, мы даже прибивали полочки в его квартире. Но диалога не получилось. Он целиком ушел в разборки со своими соотечественниками. О, как это не похоже на великую русскую эмиграцию XIX века, на Бакунина, Герцена, и даже на большевиков. Никакого контакта с нами, западными социалистами. Никакого обсуждения реальных проблем – свободы, равенства полов, освобождения третьего мира, борьбы с американским культурным засильем. Одни российские междусобойчики. Жаль, очень жаль! Это – не та великая российская интеллигенция”.
Розанова держит слово и публикует в “Синтаксисе” его рассказ. Но это его не радует. “Синтаксис” в мягкой обложке так и остается стоять нечитанным у него на полке.
Вильдбад-Кройт
Сейчас – январь 1992-го. Он по-прежнему живет на съемной квартире. Получает социал, слушает радио “Свобода”. Из новостей понятно, что траектория России окончательно заходит в тупик. После Беловежских соглашений – полный развал. В Европе аналитики ломают головы – что дальше.
На встрече в кафе “Донизель” Вольфганг говорит ему: “Готовится мероприятие в Вильдбад-Кройте. На тему “Коллапс СССР и выбор Запада”. Ты мог бы выступить и написать отчет по дискуссии?” Он это может. Запросто. Он может доказать любую точку зрения.
Покупает билет, садится в электричку и засыпает под стук колес. Очередная вспышка памяти: Москва, начало 80-х, ИНИОН. На конференцию “Исламский фактор и политика” приходит сам Примаков. Безумно длинные и скучные доклады. Всем ясно, что СССР по полной влип в Афганистане. Но нужно дать марксистский анализ ситуации. Профессор Курбанов вводит в оборот понятия “реакционный” и “прогрессивный” ислам. Бесплодная и долгая дискуссия. Иван заканчивает выступление и тихо покидает зал.
В буфете встречает Жириновского. Тот сидит печальный, такой же, как Иван, невыездной, работает в издательстве “Прогресс”. Они сидят в буфете, пьют советский кофе с цикорием, курят “Яву”.
За окнами темно, падает снег, малоосвещенная Москва. “Мы влипли как куры в ощип, старик! Мы невыездные!” – говорит Жириновский. Иван сокрушенно поддакивает. Сидя за этим столиком, ему кажется, что Советский Союз и этот маразм никогда не кончатся. И вот – не прошло и десяти лет – наступает скоропалительный конец. Наверное, все советологи охренели от неожиданности.
Вильдбад-Кройт – загородная резиденция фонда Ханнса Зайделя – партийного органа баварского Христианско-социального союза. Она расположена живописно – недалеко от озера Тегернзее, на альпийском высокогорье. Дорога поездом из Мюнхена занимает около часа. Иван выходит на маленькой станции, подымается по горной тропе. Резиденция имеет царский вид – главная усадьба, флигеля, луга, конюшни. Говорят, в этом поместье в 1838 году отдыхал Николай Первый с супругой Александрой Федоровной. Царь любил захаживать в конюшню и даже подарил владельцам обмелевшего пруда новых карпов.
Роскошь убранства поражает его: ковры, люстры, старинные картины. Сам он явно одичал после допросов, лагеря беженцев и жизни на дешевых съемных квартирах. Это – его первое общественное выступление. Собрался антисоветский бомонд. Подъезжают лимузины: уже знакомый член Европарламента и ярый антикоммунист Отто фон Габсбург, бывший директор “Радио Свобода” американский контрразведчик Джордж Бейли… На коротких ножках выхаживает аналитик русской службы PC Антон Брехман. Высохшая, с депрессивным лицом французская политологиня Франсуаза Жиль, рядом с ней – известный советский перебежчик Кирилл Лесовский, а также сотрудник военной разведки Швейцарии – некий М. Фишер.
Всех приветствует веселый международник Клаус Т., организатор встречи. Специалист по Южной Африке, он уже готовит в составе оперативной группы БНД спецоперацию в Боснии (раздел Югославии запрограммирован). Внешне – все очень чинно, красиво, демократично. Подходят друг к другу, хлопают по плечу, шутят.
Иван раскладывает пожитки в номере, смотрит в окно на альпийские луга и вспоминает пансионат “Лесные дали” под Москвой. Сталинские корпуса, такие же высокие потолки с лепниной, и нелюбовь соседних деревень: местные хулиганы подстерегали на дорожках, требовали двадцать копеек. Он достает фляжку виски, глотает для куража.
В холле накрывают столы. Коллега Фишер из швейцарской хитрой службы привез коллекцию сыров, их раскладывают на столах – твердые, мягкие, плесневелые. Наливают немецкие белые вина. Перебежчик Лесовский набирает в тарелку сыры, бормочет: “Это интересно…”
Лесовский – советский дипломат, переметнувшийся в Швейцарии. Вместе с семьей. Он ходит, здоровается, меняется карточками. Косичка болтается поверх пиджака. В глазах тревога.
Лесовский считается суперпредателем. Не только похитил документы консульства, но и позднее, на пресс-конференциях разоблачал своих коллег и товарищей, считая, что помогает делу демократии. За это получил работу в Гармише, немецкий паспорт. Самое тяжелое началось потом. Жена спилась, свихнулась, подала на развод. Пришлось оставить ей дом, платить алименты. Ивана удивляет, что Лесовский искренне защищает идеи свободы и демократии. Но при этом он верит в жидомасонский заговор и проклинает русофобов. “Неужто все невозвращенцы с такими странностями?” – думает Иван.
Между столиками ковыляет Джордж Бейли: высокий вальяжный старик с седыми кудрями. Как говорят, корнями венгерский еврей. В разговоре много шутит, отпускает скабрезные шутки. Это его Григорий Климов назвал “садистом” из лагеря Кэмп-Кинг под Франкфуртом, где Бейли после войны проводил фильтрацию советских перебежчиков.
Климов рассказывал, как Бейли лично проводил нательный обыск, вытряхивал все вещи – часы, зажигалки, деньги, и никто из интернированных их обратно не получил. Настоящее мародерство периода “холодной войны”. Если русские солдаты просто снимали у немецких пленных часы, пишет Климов, то офицер американской военной разведки Бейли подчистую грабил беглецов от коммунизма.
Флэшбек: ноябрь 1956 года, Бейли возглавляет миссию ЦРУ на венгерской границе. Получает донесения от связных, посланных в Будапешт. “Свободная Европа” нон-стоп вещает на Венгрию. Призывает повстанцев не сдаваться.
Бейли сидит на пункте наблюдения на самой границе с Венгрией, крутит окуляры: бесконечная череда беженцев. Их принимают в наспех оборудованном лагере в поселке Трайскирхен.
Он видит красивую венгерку… Его сердце сжимается. Через переводчика предлагает ей зайти в кабинет. Достает шоколад, наливает кофе, предлагает сигарету. Она – студентка из Пешта, Жужка Ковач. Жгучие черные глаза. Он тут же, в кабинете, спит с ней и устраивает за это в Мюнхен – в венгерскую редакцию радио “Свобода”. Через пять лет выясняется, что она – агент коммунистических спецслужб. Бейли получает по шапке. Но он незаменим, его оставляют.
На конференции присутствуют не только спец-службисты, но также историки и журналисты. Они не оставляют тему “холодной войны”. Все говорят о неизбежности конфронтации с Москвой. Особенно агрессивна Франсуаза Жиль. Автор книг, пропитанных ядом русофобии: Le langage des barbares, La Massue de bois, La surprise Gorbatchev.
Иван слышит, как Франсуаза говорит Брехману: “Сейчас все выступают за безопасный секс. Какая чушь! Секс не может быть безопасным по определению. Как можно трахаться в резинке? Настоящие мужики трахаются без резинок!”
Так говорят и пишут лишь очень неудовлетворенные женщины. Испытавшие психологический шок. Иван узнает у Брехмана, почему Франсуаза ненавидит Россию. В конце 70-х она приехала в Россию за любовью, а ее пытались изнасиловать в подъезде. Иван видит эту сцену: Москва, подъезд, француженка, насильник. Приставание, отпор. С ободранной рожей насильник сидит на лестнице, рыдает. Франсуаза запирается в квартире, тоже рыдает.
Россия – страна сексуальной свободы или сексуального хоррора?
В конференц-зал входит Восленский, высокий сухой старик.
Здоровается со всеми, садится. Немногословен. Излучает превосходство. Это его перу принадлежит фундаментальный труд “Номенклатура”. Лесовский шепчет: “Восленский – практичный мужик. Учредил свой институт советологии, устроил жену помощником и срубает все западные гранты”.
– В Москве он был обычным научным сотрудником, а здесь – звезда первой величины. Главное – вовремя смыться, – заключает Лесовский.
Позже всех, к началу заседания, приезжает Сергей Стариков. Это мордатый детина с недоброй улыбкой, циничной, как у всех сотрудников международного отдела ЦК. Стариков – одна из главных сенсаций встречи. Он мотанул на Запад совсем недавно, прихватив ряд секретнейших документов и миллион долларов.
Стариков вез “дипломат” с деньгами для Южного Йемена. Но так и не добрался до Адена, а вынырнул в Мюнхене. Его приветствуют аплодисментами. Он докладывает о кризисе российской власти, предсказывает очередной государственный переворот. Все оживленно обсуждают, что будет.
Дают слово Отто фон Габсбургу. Депутат Европарламента считает, что Ельцину мало помогают, что Запад должен действовать решительнее. Сосед Ивана, старенький немецкий разведчик, улыбается: “Otto – das ist ein echter kalter Krieger!” (Отто – настоящий рыцарь “холодной войны”.)
Фон Габсбурга сменяет на трибуне Джордж Бейли. Он весело шутит. Завязывается дискуссия о макияже русских женщин. Все вспоминают свои любовные романы с русскими дамами. Сходятся во мнении, что с косметикой в России перебирают.
Клаус звонит в колокольчик. На трибуне появляется Антон Брехман. На маловнятном полурусском-полуанглийском он говорит о возможной траектории распада СССР, рисует схемы потенциальных конфликтов. Все восхищены.
Ивану странно: неужели эти милые, легковесные люди и вправду подготовили падение могучей и свирепой державы?
Он восхищен, как это мероприятие организовано. В Совке все было под контролем спецслужб, сплошные проверки и пропуска, наружка и прочая. А тут – снежок, звездное небо, рождественская идиллическая обстановка, все пьют вино, закусывают сыром. И как бы между прочим определяют судьбу страны, которая называлась Советским Союзом. Он понимает преимущество цивилизации над варварством и сущность “мягкого подхода”, soft power.
Здесь все кардинальные вопросы решаются культурненько и незаметно – в уютной обстановке, безо всяких громоподобных сотрясаний воздуха. А именно – салонно, как у нас сказали бы, келейно. “Вот это и есть система, – думает Иван. – Старая культура владения миром. Передающаяся от Рима, Египта, а может, и Гипербореи. Вот так и надо делать!”
Вечером гости пьют в баре. Среди них – профессор Агазедян из Москвы. Его пригласил лично Клаус. Конечно, он по роду службы имеет право ездить сюда, и все-таки его присутствие среди антисоветчиков немного странно для Ивана. Агазедян рассказывает ему, как США готовили операцию “Гром” по свержению СССР: нефтяной сговор с саудовцами, падение цен на нефть, банкротство советского бюджета.
Еще об Агазедяне. Он буквально плачет, не может пережить крушения Советского Союза. – “Что мы будем делать без СССР? – вопрошает Агазедян. – У нас в России останутся одни бандиты, “крутые кабаны” и бляди”.
Иван выходит во двор: ярко светит луна, высятся заснеженные отроги Альп. Ему нравится этот воздух, эти конюшни, эти снежные вершины: атмосфера, забытая в Совке.
Здесь его настойчиво преследуют мысли о Второй мировой. Где-то рядом в горах – казармы вермахта, знаменитая баварская “фабрика офицеров”. Он понимает, что правды о великой войне никто не скажет. Ни на Западе, ни на Востоке.
До правды сможет докопаться историк через пару веков. Он вспоминает слова немца-ветерана: “На Восточном фронте мы не могли остановить стрельбу: русские заваливали нас телами. Только когда пулемет раскалялся, они брали высоту. На Западном – достаточно было подстрелить одного американца, чтобы на нас бросили авиацию. Мы предпочитали не стрелять”.
Сегодня мало говорят о том, что Гитлер объединил континент. Евросоюз во многом скопирован с кальки Гитлера. Нацистская Германия жила на гастарбайтерах – их были миллионы. Общий рынок угля и стали существовал де-факто. Это и было началом новой Европы.
Да, были концлагеря и душегубки. Но рейх к 45-му давно превратился в интернационал, что было трагикомично. Берлин стал городом ауслендеров, где немцы были в меньшинстве. По улицам шлялись югославы, русские, украинцы, французы, и это практически был тот же Берлин, что в 60-е и 70-е годы: плавильный тигель народов. И никакое гестапо не могло контролировать. Ни черный рынок, ни секс-услуги, ни атмосферу анархии. Очевидец рассказывал Ивану: “Немецкие аристократки отдавались за кусок черного хлеба, за пару чулок с ними можно было спать всю неделю. Уже не было никаких расовых и сексуальных табу: бесчисленные власовцы жили с немками”.
Иван вспоминает доцента Гудкова. В его московском НИИ сидел, корпел над книгами невыездной старик. Попал под Киевом в окружение в 41-м и всю войну проработал в Германии – на ферме и на заводе. Доволен: все было справедливо. Ел с немцами как свой. Простые немцы относились хорошо. Плохая память о пленных французах: никогда не делились посылками.
Иван вспоминает, как быстро прониклись немецким духом советские солдаты и офицеры в оккупированной Восточной Германии, как быстро привыкли уважать порядок и деньги. А власовцы – они стремительно впитали германский племенной порядок, немецкий уравнительный социализм. Те, кто шел служить немцам, восхищались их чувством справедливости – после неравенства и “дедовщины”, вечно царивших в России. Один из очевидцев поведал, как в феврале 45-го, на железнодорожном полустанке, после бомбежек за супом в общей очереди стояли женщины с детьми, солдаты и офицеры вермахта, а также казаки и власовцы.
Реальность отличалась от расовой пропаганды. Но разве она не отличалась от пропаганды и в Советском Союзе? Жизнь в Совке была совсем другой, чем в фильмах.
Сумасшедшие идеологи, фанатики-эсэсовцы, безумные смершевцы – они составляли исключения и не определяли реальной жизни ни в Германии, ни в России.
А после войны они, западники, быстро договорились между собой. Что объяснимо: несмотря на все конфликты, они принадлежат к единой западной цивилизации, что немцы, что французы, что американцы. И потому нашли общий язык. Но русские – другие. У них другой код мысли и поведения.
Еще он понял в Вильдбад-Кройте: Запад есть цивилизация манер, где ритуал важнее денег. Конечно, деньги важны, но на них не купишь чувство уважения. Варваров чуют за версту и в свой круг общения не пустят.
Нынешняя западная цивилизация – это громадная, сильная и вязкая, как паутина, система. Роль личности в ней незначительна. Пробить ее невозможно, да и нужно ли?
В России связь с Европой нарушилась с убийством Романовых. После казни царя все стало возможным. Не стало цивилизованного диалога, пропала легитимация в глазах Запада. Романовская Россия, как и другие европейские династии, замешана была на общем германском элементе. Соединялась с Европой неким генетическим кодом. С разрывом этой связи Россия стала изгоем. И останется, даже после краха коммунизма. “Эти новые русские пацаны никогда не станут своими!” – заключает Иван.
Подарок судьбы
Февраль 1992-го, Мюнхен. Иван ищет работу. И не находит. Он пишет сотни “бевербунгов” (заявок), заполняет резюме, анкеты, просится на интервью, и отовсюду приходит отказ. Ему, российскому гуманитарию, в Германии ничего не светит. Даже с его языками. Ни в университетах, ни в гимназиях – нигде. Работы мало и для немцев. Каждую позицию немцы высиживают годами. Он ходит регулярно в Арбайтсамт на Капуцинерштрассе. Сидит в длинных очередях к чиновнику-бератеру, ведет бестолковые беседы. Ему предлагают перековаться на компьютерного графика, но он понимает, что в сорок лет…
А журналисты в Европе живут плохо. Особенно газетные. Он посещает их собрания. Большинство мечтает получать тысячу марок в месяц – это прожиточный минимум. За большую статью в газете платят двести марок, но это целая неделя работы.
Короче, в этой области ему грозит влипание по полной.
В один из визитов в Арбайтсамт он безо всякой надежды роется в картотеке и натыкается на объявление. Требуется редактор со знанием русского, английского и немецкого языков. Работа привычная, зарплата выше среднего. Он выписывает шифр объявления и подает бератеру безо всякой надежды. Тот вытаскивает ему распечатку. Это радио “Свобода”/ “Свободная Европа”. Знакомое слово, звучит как заоблачный мотив.
Иван на всякий случай посылает “бевербунг”. Как делал сотни раз. И забывает про это. Через пару недель приходит письмо: его просят связаться с отделом кадров радио “Свобода”. Сердце забилось: неужели? Он набирает телефон, и женский голос приглашает его на собеседование к директору русской службы Владимиру Матусевичу.
С бьющимся сердцем он подходит к уже знакомому зданию: белый бетонный забор на Оттингенштрассе, всюду камеры наблюдения, проходит немецкую охрану, ждет в холле. Выходит секретарша, ведет его к шефу русской службы Матусевичу. Владимир Матусевич – мужчина средних лет с брезгливым выражением лица. Состоявшийся советский эмигрант. Матусевич сидит, откинувшись в кресле, нога на ногу, почесывает в затылке, весьма уверен в себе. Вопросы конкретные: “Откуда вы, что делали в Союзе? Почему вы здесь, но тот ли вы, за кого себя и т. д.”
Иван отвечает четко, как в армии. Он знает, что прямота завоевывает доверие. Судя по всему, даже у кислого Матусевича ответы не вызывают отторжения. Кажется, речь идет об отделе новостей. Поколебавшись, Матусевич ставит визу.
Во время разговора Матусевич странно смотрит на него. Наверное, они виделись в Москве. Иван вспоминает: “Бюро пропаганды советского кино”, рядом с его домом у метро “Аэропорт”. Матусевич там работал редактором: он видел его, унылого и бледного чиновника с потертым портфелем. Потом Матусевич смылся на Запад во время турпоездки. Кажется, в Швецию. И вот такое преображение.
После визита к Матусевичу следует проверка на профпригодность в службе новостей. Его сажают за стол, дают два английских текста на перевод. Из мировых пресс-агентств. Что-то про Папу Римского и Приднестровье. Рядом словари. Как советский редактор, Иван понимает, что в написании “Иоанн-Павел II” нельзя ошибаться. Также надо правильно писать имя турецкого террориста Мехмета Али Агджи, который подал на апелляцию. Он все сверяет по словарям и шепотом советуется с сотрудником службы – пожилым диссидентом Аркадием Полищуком. Что касается Приднестровья, или по-западному Трансднистрии, то тут все проще. Когда переводы готовы, его ведут в кабину читать. Записывают голос, слушают. Кажется, они довольны.
Следующий этап – Первый отдел, секретка. Это в самом конце коридора, на первом этаже. Его встречает сам шеф отдела – Ричард Дженнингс. Предлагает сесть. Дженнингс – мужчина лет пятидесяти, с ровно подстриженной бородкой и умными глазами. Совсем не похож на американца. И на привычный образ цээрушника. Он говорит Ивану: “Ну как, прошли экзамен?” Потом проходится по биографии и карандашиком уточняет моменты в листочках, которые лежат перед ним: “Наверное, вы были агентом КГБ?” – Иван задумывается, но инстинкт подсказывает ему правильный ответ: “Я – аналитик, я делал анализы для тех, кто платит: МИД, ЦК КПСС, а нынче – даже для канцелярии бундесканцлера”.
– Ну что же, не стыдитесь этого, – с улыбкой кивает Дженнингс, – у нас тут половина сотрудников работала на госучреждения. И вот теперь они прекрасно трудятся на ниве свободного вещания. – Он, кажется, приятно удивлен, что Иван не скрывает своих знаний. – А где вы проходили свой клиринг как перебежчик, у немцев? – Так точно. – А почему не у американцев? – Я к вам попробовал сунуться в Вене, но меня не взяли из-за визита Горбачева. – Так-так, – он помечает пункт, чтобы перепроверить. – А где был клиринг у немцев, на Штарнбергском озере? На той самой вилле? Понятно. – Он делает еще одну пометку, потом расспрашивает про работу Ивана в Будапеште, как он очутился в Австрии, в Германии. И под конец – об общих интересах и предпочтениях.
Дженнингс, видимо, доволен результатом беседы. Он хвалит Ивана за откровенность, жмет ему руку и делает напутствие: “Учтите, “Свобода” – не простая станция, здесь эмигранты ненавидят друг друга. Главное – оставайтесь самим собой. Мне нравится ваш английский”. – “Правда?” – “Да-да, здесь многие считают, что владеют английским, но это просто смешно. Счастливо поработать!”
Иван снова чувствует, как ему легко с разведчиками – русскими, немецкими, американскими. В отличие от политиканов и администраторов всех стран они все понимают с ходу.
Оформление проходит быстро. Еще через неделю ему пересылают контракт. Он поражен: ему кладут семьдесят тысяч марок в год и массу привилегий – страховку, пенсию, отгулы и т. д. Такого льготного режима, как на “Свободе”, нет ни у кого из западных журналистов.
Станция
Дом на Оттингенштрассе, 67 окружен мощным бетонным забором, по всему периметру установлены аппаратура наблюдения, электрическая сигнализация. Бывший военный госпиталь расположен идеально: спереди открытое пространство, теннисные корты, сзади – ручей и рощи Английского парка. Впрочем, это не всегда спасает. В 1981 году взорвали бомбу.
Маша Тофан из отдела новостей рассказывает: “Это было ранним утром 21 февраля 1981 года. Заканчивалась ночная смена, сотрудники сидели за телетайпами, зевали. Внезапно раздался взрыв: все попадали со стульев. Взрывной волной вышибло стекла, и многих поранило осколками. Диверсию приписывают Карлосу “Шакалу”. Или швейцарскому террористу Бруно Брегету. Возможно, что сработала чехословацкая разведка СТБ”.
Но это – единичный случай. А в остальном все тихо, спокойно, уютно. Сотрудники приезжают сюда на своих машинах (парковка во дворе) либо на трамвайчике до остановки Тиволиштрассе, где теннисные корты. Поскольку Английский парк – прямо за воротами, традицией становится ходить в теплые дни к Китайской башне и там располагаться на воздухе с кружкой пива. Мужики сидят, потягивают пивко, греются на солнце, созерцают задницы велосипедисток, а время рабочее идет.
Зарплаты на станции намного больше, чем в среднем по Западной Германии. Для тех, кто прибыл из России, Америки и прочих стран, есть хаузинг – бесплатное жилье. Лишь те, кто нанят в Мюнхене, лишены такой привилегии. Иван относится к этому меньшинству.
Особенно жирует американское начальство, оно не платит налогов в Германии, живет на виллах, имеет казенные ковры, рояли, мебель.
Зарплату переводят регулярно. Иван не доверяет банкам и просит выдавать наличкой. Бухгалтер – англичанин Макс, он “голубой”, отсчитывает деньги с очаровательной улыбкой. Его сформировал Лондон 60-х, Карнаби-стрит и вся культура рок-н-ролла. Ему привольно в Мюнхене, где либеральная гей-сцена и устраивает тусовки сам Фредди Меркьюри.
И Макс, и другие западные люди здесь отдыхают. Они, конечно же, снисходительно смотрят на советских варваров – на власовцев, на неопрятных диссидентов из СССР, на среднеазиатов и кавказцев в тюбетейках и папахах – сотрудников “бабайских” редакций. Однако высокая зарплата и близость Английского парка смягчают несоответствие культур. Все сотрудники станции живут на островке стабильности и благодушия, даже по западным понятиям.
Иван делает вывод: никогда еще эмигранты из России не жили так хорошо, как в годы “холодной войны” на станции “Свобода”. И это чувство экономической свободы толкает их на авантюры. Имея зарплату в пять, шесть, восемь и даже десять тысяч марок, они начинают спекуляции с недвижимостью. Покупают квартиры, потом продают, несут убытки, поскольку опыта нет. Немцы с усмешкой наблюдают за этими представителями ост-блока, которые пытаются вести себя как настоящие западные люди.
Сотрудники ржут над Юлианом Паничем, который купил усадьбу в Штатах и вынужден был бросить ее, поскольку она стояла вплотную к свиноферме: пронзительный запах отгонял потенциальных покупателей. Те, кто в Мюнхене, тоже пролетают: приобретают квартиру где-нибудь у Восточного вокзала, и стук колес снижает в разы ее стоимость.
Один из многих актов коллективного безумия происходит в 1994-м, за год до переезда в Прагу.
Повинуясь некоему стадному инстинкту, все сотрудники российской, украинской и других служб покупают квартиры в Аугсбурге. Под монастырь их подводит яркая женщина-маклер, она обволакивает их крепчайшими духами, соблазняет возможностью списать налоги и кредиты. Вскоре выясняется, что маклерское бюро – липовое, и все попавшиеся на уловку сотрудники потом бегают от судебных приставов.
Эмигранты стремятся всячески повысить свой статус: многие отдают детей в американскую школу на Штарнбергском озере, поскольку там занимаются верховой ездой. И совершают ошибку. Детишки болтают по-английски, но плохо знают немецкий.
Они также начинают разбираться в винах. Нюхают подолгу бокал с красным, определяя – “шато” или не “шато”. Еще недавно пили портвейн и водку, и тут – чудеса вкуса.
В этом смысле Ивану симпатичней сотрудники “бабайских” редакций. Психика тюркских народов еще не подточена алкоголем и эгоизмом. Они готовят дома плов и не строят из себя европейцев.
До 1967 года радио “Свобода” занимало старое здание аэропорта Обервизенфельд, но, поскольку это место понадобилось для Олимпийских игр 1972 года, станция переехала на другой берег Изара в район Богенхаузен, а затем – на Оттингенштрассе.
Финансируясь ЦРУ, а затем Конгрессом США, станция подчинялась немецким трудовым законам. Сей факт создавал массу гротескных ситуаций. Бисмарковский немецкий социализм обеспечивал права трудящихся, и этого американцы, привыкшие hire and fire (нанимать и увольнять), не понимали. Но здесь сотрудник подписывает трудовое соглашение, и по немецкому закону его нельзя уволить. А в случае увольнения начинается суд. Для многих десятков сотрудников немецкий суд становится триумфом справедливости, а также способом обогатиться.
Обычно это происходит так: “несвидомый” с немецкими законами новый американский начальник проходит по коридорам, видит пьющего чай с коньяком сотрудника и кричит: “Ты уволен!” Тот, усмехаясь, продолжает пить чай. Потом идет домой на больничный и подает в суд. Суд может состояться через два-три месяца, а может и через год. Немецкий суд еще ни разу не поддержал американского хозяина. Вердикт обычно один: восстановить и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Компенсация большая – полмиллиона, а то и миллион марок.
Все сотрудники подчиняются профсоюзу – Betriebsrat. Обычно выбирают немца – из числа сотрудников или охраны. Немцы очень добросовестно защищают интересы трудящихся. Иногда в Betriebsrat включают энтээсовцев, диссидентов, нацменов.
Американское начальство ненавидит эту систему, но вынуждено смириться. Лишь в 1995 году им удается перевести станцию в Прагу. Там начинается подлинный разгром старых кадров. Уходят невропаты-диссиденты, сивоусые бандеровцы, хромоногие власовцы: все их внутренние конфликты смыты волной перемен. Набираются ушлые, беспринципные ребята из Москвы и Киева. Они готовы работать безо всякой социальной защиты. Страница перевернута.
Психология гомо совьетикусов удивительна: они, придыхая, защищают интересы Запада, при этом со слезами вспоминая о России. Свою неудержимую страсть к стяжательству выдают за любовь к свободе. Проклятия и комплименты в адрес США чередуются с завидным постоянством в советских привычках.
Один из критических наблюдателей пишет: “Радио “Свобода” – громадная лаборатория. Американцы наблюдают за этими насекомоядными – выходцами из СССР. Под лупу смотрят, как схватываются в пустых баталиях энтээсовцы, монархисты, правозащитники, дети национальных окраин и прочие гуманоиды. Это уморительное зрелище, но интересно, что оно в точности предвосхищает процесс, который пойдет во время Перестройки и на постсоветском пространстве”.
В кантине советские люди пьют чай, пиво, шнапс и бьют друг другу морду по разным поводам. Татарин машет палкой, грозит прибить энтээсовца. Тот, в свою очередь, клянет сионистов. На все это начальство взирает с отеческой, покровительственной улыбкой. Драки в кантине – это производственная необходимость. Американцы даже не против, чтобы в рядах этой публики работали агенты КГБ и прочих спецслужб.
Все тот же неустрашимый Антон Брехман объясняет ему суть заговора: англо-саксонские элиты никогда не смирятся с ролью России в мире. Это они организуют внешнее управление. Настоящий центр мировой власти не в Вашингтоне, а в Лондоне. Если надо, они переведут его из Штатов в Китай. На самом деле, мондьялистам не нужен американский народ. Америка – великая, но безголосая страна. Население не имеет никакого влияния. Американский народ – основа пирамиды, ее биологическая база. Атомизированные, наивные америкосы, которых мы (свидомые) называем пиндосами. Однако они через лондонских хозяев поставлены управлять бабайскими народами. Россия их устраивает только как сырьевой придаток или колония.
Радио – лаборатория психологической войны с Россией, и эта функция важнее, чем вещание. И даже измены, подобные тумановской (об этом – позже), входят в изначальный сценарий.
Это “опытная пробирка”, где представлены все народы СССР. Националисты и либералы, евреи и антисемиты, весь спектр мнений искусственно поддерживается. Такова тайная программа ЦРУ. Еще никто не был уволен за свои убеждения. Немец-энтээсовец Глеб Рар и еврей-социалист Вадим Белоцерковский спокойно уживаются друг с другом.
На вопрос, где центр принятия решений, Брехман не задумываясь отвечает: “Посмотрите на карту! На восточное побережье США. Там, где проходят атлантические течения. Игла Кащея воткнута в Вашингтон. Вот где вибрирует ариманическая энергия атлантизма!”
– А при чем тогда Лондон? – недоумевает про себя Иван.
Отдел новостей
Иван С. направлен в отдел новостей. Его приветствуют Маша Тофан, Илона Шварц и Шура Финкельштейн. Они открыли бутылку шампанского “Мумм”, чокнулись с новоприбывшим, закурили. “Мы все на станции немного снобы, неприкасаемые рыцари “холодной войны”, – говорит Тофан. – За успех нашего безнадежного дела, лишь бы платили”, – добавляет Илона Шварц.
Когда-то в новостях работал сам Гайто Газданов. Работа не пыльная, но имеет свою специфику. Иван сидит за компьютером немного устаревшей модели – зеленые буковки мигают на черном экране. Копи-герл приносит ворох новостей на английском – из центральной редакции. Он раскладывает все эти вырезки – обобщения из Ассошиейтед Пресс, Рейтер, Франс-пресс и прочих агентств, решает, что отобрать. Новости однообразны: кризис в Приднестровье, решение Крымского правительства, протесты на Кавказе… Гораздо интереснее начавшийся процесс приватизации в России. Он думает: “А где мой ваучер? Быть может, меня лишили гражданства?”
Брать новость надо из трех источников. Сомнительное – по боку. Вопросы – к главному редактору. Обычно – американцу. Тональность – сдержанно-критическая, антисоветская, но без чрезмерного пафоса. Короче – новостная рутина. Новостников называют телеграфистами. Ввиду присущей их работе монотонности и ударам по клавишам, напоминающим морзянку.
Напротив сидит немолодой американский редактор Джон. Он периодически засыпает, встряхивается, пишет дальше. Он уже пятнадцать лет в Мюнхене, стал европейцем, терпеть не может Штаты. Говорит, Америка превратилась в “третий мир”. Джон все списывает с агентства Рейтер и все равно делает ошибки. Иван предпочитает напрямую брать новости из первоисточника.
Из новостей он выбирает то, что кажется ему приоритетным, быстро шлепает русский текст на компьютере и шлет на принтер. Копи-герл или копи-бой приносят распечатку. Новости идут каждые полчаса. Большие – каждый круглый час, короткие – в половину. Он собирает выпуск за пару минут до эфира и вызывает диктора.
Приходит диктор. Иногда Денис Пекарев, иногда Юра Дерябкин, иногда многодетный израильтянин Бурштейн. Диктор исчезает в кабине. В это время ничто не мешает выйти покурить.
…Курилка, коридор, кантина. Особый мир. Здесь можно почувствовать дух станции. Поспорить, потрепаться, посплетничать. И вернуться за компьютер с чашкой кофе.
Уже после месяца вещания Ивана раздражают слова “демократия”, “свобода”, “права человека”. Они звучат как заклинания, смысл которых давно утерян. И это напоминает ему советские мантры о солидарности трудящихся, о чести, долге и патриотизме.
Вы скажете, тут есть проблема адекватного отображения действительности? Он даже не задается этим вопросом. Он верит в ленинское определение действительности: есть только реальность, данная нам в ощущениях. Соотношение правды и лжи в эфире его не волнует. Лгут все. В девяноста девяти процентах слова даны, чтобы искажать мысли. Вся история современности есть история манипуляции сознанием. Проще всего ничему и никому не верить. И он делает еще один шаг к освобождению от иллюзий.
Очередная ночь… Он, зевая, долбает новости. Тягучая мелодия саксофона звучит по радио “Свобода”. Это “49 минут джаза”: заунывные электронные звуки, волчьи завывания, мяуканье и скреб. “Я просто, блин, торчу”, – бормочет Иван.
В открытое окно ночным ветерком заносит запах “Куроса”. Ивану неприятен гомосексуальный оттенок этих мужских духов. Это значит, что охранник Гюнтер совершает обход вокруг станции, фонариком просвечивает кусты.
Приносит кофе Маша, ночная копи-герл. Ей семьдесят, она живет в Дахау, где был построен целый городок для перемещенных лиц. Сама из Мариуполя, девчонкой вывезли в Германию. После войны осталась здесь. Совсем одна. Не любит немцев, но возвращаться в Совок не хочет. Два раза в год ездит отдыхать в Италию. На станцию приносит закуску – полтавскую колбаску и черный хлеб – их производят уже в Германии.
Ночные смены, они усиливают судороги национальных комплексов. Приходит сообщение: в Таллине что-то происходит. Он не понимает, как произносить эту площадь – Деннисмяаги или Тынисмяги. Теперь все изменилось, и даже Таллин пишут через два Н. Иван звонит в эстонскую редакцию. Спрашивает. На том конце молчание, потом ответ: “Мы на вопросы русской редакции не отвечаем”. Он в бешенстве бежит туда: за компьютером сидит полный мужчина в белой рубашке и бабочке. Иван спрашивает его на английском: “Кто ты, мужик?” Тот с вызовом отвечает: “Я – Том Ильвес”! – “Почему вы не даете справку?” – Ильвес нагло ухмыляется: “Мы с русскими не разговариваем!”
Этот самый Ильвес вырос в Америке со жгучим желанием отомстить Советской стране. Пришел в аналитический отдел неловким закомплексованным стажером, всего боялся. Писал себе тихонько на тему “Советская армия и страны Балтии”. Потом вошел в фавор к американскому начальству. Известный аналитик Пол Гобл благословил его на должность шефа службы, и он из Тома превратился в Тоомаса Хендрика Ильвеса – заведующего эстонской редакцией. А в 92-м американцы его направили послом независимой Эстонии в Вашингтон: надо было срочно обживать посольство. Со временем Том дорос до президента Эстонии.
После разговора с Ильвесом Ивану не по себе. Он наливает бокальчик “Мумма” – прямо у компьютера. Здесь это можно себе позволить на рабочем месте. Новостей нет, Ильвес достал. Он берет карандашик, лист бумаги, и рука автоматически выводит текст:
Их поставили вещать на чужую сторону, На Прибалтику, задворки Европы, Голосами, хриплыми от “Вана Таллина” И ненависти к русским, Вещать – гав-гав-гав! Их лай несется ночью по болотам, По тынам деревень в ночи. Дивные псы вещают! Эстонская редакция в полном составе! Будет распущена, но пока вещает И через задний проход пока вещает.Потом идет в кабину, читает новости. Слова звучат четко, немного иронично, взгляд безразличен. Мысли теряются в звукоизолированном пространстве. Он закуривает, трет лоб. К чему все это?
Поздняя ночь, смена закончена, он ждет такси у ворот станции. Выходит Валерий Конокрадов – один из странных персонажей. По словам Брехмана, он – один из “голубых”, набранных на станцию разработчиками “гарвардского проекта”. Конокрадова особо привечает сам Матусевич. Они остаются на станции после рабочего дня и что-то долго обсуждают в кабинетах. Пьют, курят, визгливо спорят, смеются. Редактор Саша Суслов уверен, что эти субчики имеют друг друга во все отверстия. А еще он уверен, что у Конокрадова СПИД. Однако Конокрадов – молодец. Он лихо ведет свою военную передачу и даже набрался наглости взять по телефону интервью лично у маршала Язова. У него привычка – носить с собой пистолет – без разрешения. На свадьбе у приятеля он вытащил пушку и начал палить в потолок. Его чудом спрятали от немецкой полиции.
Они ждут минут десять. Конокрадов курит, сморкается, плюет и пытается вскочить первым в такси. Иван молча отталкивает его и уезжает. Конокрадов матерится, потом садится на тротуар и закуривает еще одну сигарету, глядя на луну.
Иван приезжает домой под утро, ему снится странный сон. 1957 год, дядя Сережа приносит елку. Они вместе наряжают ее. С елочной лапки срывается золотой сусальный шарик и бьется вдребезги. Мама вздыхает: “Из самой ГДР привезли. Десять лет наряжали и вот… ” Ему очень хочется плакать.
Пылаев и компания
Весна 1992-го. Профсоюз, он же бетрнбсрат посылает Ивана на похороны ветерана станции – Леонида Пылаева. Ему было семьдесят шесть лет. Иван садится на эс-бан и едет на другой конец Мюнхена – в Пазинг.
Немецкое кладбище. Ровные ряды надгробий, рослые темные ели. Нордическая строгость, здесь неуютно. Нечто депрессивное, сродни русским кладбищам, только по-другому. Группа ветеранов радио прощается с Пылаевым.
Среди собравшихся у могилы он узнает энтээсовца Глеба Papa, бывшего директора русской службы Джорджа Бейли, русского скаута Юру Дерябкина, а также пенсионера Александра Перуанского.
Они стоят вокруг гроба. Покойник лежит, сложив руки на груди. Широкое лицо с калмыцкими скулами. Трудно представить, что этот желтый сморщенный старик был самым забавным сотрудником русской редакции. Батюшка читает молитву, гроб закрывают крышкой и опускают в могилу.
Говорят, Пылаев прожил вторую половину жизни весело и безбедно, и все же Иван не может не чувствовать тихого ужаса, когда гроб засыпают землей. Этот волжский парнишка покоится теперь на мрачном немецком кладбище среди чужих душ. Перуанский трогает Ивана за рукав и предлагает фляжку: они делают по большому глотку.
Не только Пылаев, все эти бессчетные эмигранты из России: куражатся, стареют и тихо сходят на нет. Подобно увядающим грибам-моховикам на тропках европейских лесов: здесь не принято топтать грибы, они догнивают сами.
Перуанский хочет выпить еще, ищет компанию. Иван соглашается. Они садятся в пивной у вокзала в Пазинге и пьют пиво со шнапсом. Перуанский вспоминает Пылаева. Вот что Иван узнает от Перуанского, а позже от других людей.
Его настоящая фамилия – Павловский, он родом из Костромы. Однако он для всех – Пылаев. Леонид Александрович. За ним – сталинские лагеря, война, плен, бесхозное существование в Германии. В 50-е власовцев было много на станции, сейчас осталась одна Галина Рудник.
Жизнь этого русского мужика сложилась удачно: попал в плен под Можайском осенью 41-го. В лагере для военнопленных смог выжить, когда все гибли от голода. Наверное, понравился охране игрой на гармошке.
Год спустя: Власов посещает лагеря военнопленных. Всех ставят в строй, предлагают служить в РОА. Пылаев, не колеблясь, выходит из строя. Ему дают немецкую форму, буханку хлеба и банку тушенки.
У Власова он становится членом агитбригады: поет под гармошку, выступает по лагерям. Его любят: он веселый, заводной, хороший собутыльник. Повсюду находит баб и устраивает гульбища. В пригороде Берлина Дабендорфе – главный штаб РОА. Здесь он лично играет частушки Власову.
В мае 45-го они в Праге. В город входит Красная армия. У Нусельских сходов настоящая бойня. Часть власовцев прорывается к немцам в Баварию. Остальных вывозят на Ольшанское кладбище и там ставят к стенке. Пылаев среди тех, кто вырвался из окружения, он знает, что его ждет в Союзе.
Послевоенная Германия: здесь миллионы перемещенных лиц из СССР. Пылаев подкармливается в разных солдатских комитетах, там, где дают работу. Веселый и артистичный, он может сыграть на гармошке, сплясать гопак, выпить литр водки и написать экспромт. Поэтому ему подкидывают работу НТС и прочие антисоветские организации. Он также кормится от новых хозяев – американцев.
Он выступает, агитирует и снова получает пайку. И всюду находит душевных женщин. После войны их много – немки, чешки, мадьярки. Он поселяется во Франкфурте, потом в Дахау под Мюнхеном. Матерый предатель иль бонвиван?
В 50-х Пылаева пригрела американская администрация, устроила на станцию “Освобождение”, позднее “Свобода”. “Пылаич” был дерзок и изобретателен. В Брюсселе на Всемирной выставке без спроса вошел к советским специалистам, достал бутылку водки, развеселил и взял отменнейшее интервью.
Один из работяг увязывается за Пылаевым. Они берут еще по кружке пива в одном из брюссельских кабачков. Серега, так зовут работягу, вдруг просит Пылаева: “Леня, хочу остаться на Западе!” Пылаев, задумывается, чешет в затылке и говорит: “Нет, лучше не надо, не потянешь”.
В 59-м году на съемках фильма “Дорога” с Юлом Бриннером он чрезвычайно органичен в роли капитана Дембинского, что было отмечено всеми без исключения. Сосватал его на съемку все тот же Джордж Бейли, который был консультантом фильма от ЦРУ.
На эти деньги Пылаев приобретает кинокамеру, зовет двух проституток с Ханзаштрассе и просит друга Макса заснять на пленку их любовные утехи в гараже.
Сцена: 1960 год, гараж, в углу стоит “Опель” 1948 года, который Пылаев неустанно драит. На столике – бутылки шнапса. Посередине гаража разостлана старая подстилка. На ней возлежит Леонид Пылаев, по бокам – две самые крутые проститутки с Ханзаштрассе. Стрекочет киноаппарат: друг Пылаева, безумный немец Макс из зондеркоманды, некогда его охранник, снимает их любовные утехи. Пылаев делает паузы, на кривых ножках подходит к столику, аккуратно пьет водку, оттопырив мизинец. Предлагает выпить дамам. Они хихикают, ломаются, но Леонид вытаскивает новые стомарочные купюры: они на все согласны. Пылаеву весело, такого загула он не знал со времени войны.
Отснятый материал он помещает в надраенную медную коробку и во время пьяных оргий показывает гостям. И двадцать лет спустя, уже постарев, Пылаев ремонтирует пленку и продолжает ее крутить.
Еще один из перебежчиков “второй волны” – Григорий Миронович Миронов, тоже бывалый сотрудник радио “Свобода”. В 47-м Миронов, молодой советский офицер, дежурит в штабе полка в берлинском районе Панков, когда приятель из смершевцев звонит: его хотят арестовать.
Миронов дежурит в комендатуре, пьет чай и видит в окно, как подъезжает машина, выходит группа особистов. Он оставляет китель на спинке стула, чай, недокуренную папиросу, выходит через задний ход. Впоследствии эту привычку он вместе с Пылаевым принесет на радио – оставлять пиджак и уходить пить пиво в Английский сад.
На улицах Берлина малолюдно, воскресенье. Он садится на трамвай, доезжает до Тиргартена: полно советских патрулей. На нем нет кителя, шинель накинута на нижнюю рубаху. Он понимает, что не пройдет контроль, и едет в обход – в Потсдам. Там он крадет у немца велосипед и проезжает малоукрепленную границу в густом подлеске.
Американский беженский лагерь Кэмп-Кинг под Франкфуртом, 1946–1948 гг. В одной камере сидят: Игорь Калмыков, впоследствии Григорий Климов, Леонид Павловский, он же Леонид Пылаев, и неприметный советский офицер Григорий Миронов.
Бесконечные допросы, один из них ведет лейтенант Бейли. У Миронова отнимают портмоне, часы, кольцо, которые он больше не получит. Он сидит полгода, ждет. Время от времени американцы увозят очередного дезертира на обмен. Торг с русскими идет вовсю. Чекисты требуют: “Надо разобраться с этими дэпэшниками!” (DP – displaced person, перемещенное лицо.)
Томительное ожидание. Входит капитан Бейли и предлагает заняться оргработой во Франкфурте. Миронов соглашается. Его распределяют в Центральное объединение послевоенных эмигрантов из СССР – ЦОГТЭ. А это – кое-что. Полагается пайка, крыша над головой. Потом он тридцать лет отбарабанит на радио.
В начале 90-х Миронова погнали со “Свободы”, но он успешно работал в торговой сети “Шустерман”: ходил в прекрасных твидовых пиджаках, в марочных сорочках, носил шейные платки. Приходил на радио фрилансером: старательно нагнувшись над клавиатурой, одним пальцем стучал новости. Спокойно умер в конце 90-х и был похоронен рядом с Пылаевым. Там же покоится и Перуанский.
Сколько их там смылось после войны? Мы никогда не узнаем.
Как не узнаем и того, сколько смылось в начале 90-х, во время сворачивания Западной группы войск. Наверное, сей счет идет на десятки тысяч.
Иван со временем приходит к выводу, что все чего-то стоящие эмигранты сотрудничали со спецслужбами – с гестапо, с американцами, с НКВД, с Сюртэ, МОССАДом, МИ-6 и прочими. Остальных выбрасывали на помойку. От этого ему становится не то что горько, но сложно: он теряет ориентир. Он шепчет: “Если кто-то скажет вам, что не связан с одной из секретных служб мира сего, не верьте ему. Чистые – они пасутся на горных пастбищах. А в наших земных долинах есть феодальный статус подчинения. Какая разница – разведка, мафия, партия, корпоративная тусовка или любая другая группа влияния? Спецслужбы – они хотя бы честнее выражают свои цели”.
А разве сам он, Иван, чем-то отличается от них?
– Разница, – думает он, – в степени экономической свободы. За допкомфорт надо платить. Так, бедные власовцы сидели при огарке свечи, пили шнапс, заедали салом и радовались, что не подыхают в концлагере. Так и в НКВД шли за пайку: так и бедный поэт Аронсон, работавший грузчиком в Нью-Йорке, теперь чувствует себя комфортно на вольных хлебах разведшколы в Гармише.
Один из перебежчиков 50-х – Павел, хозяин бакалейной лавки на Мюнхнер Фрайхайт. Это маленький пузатый человечек с длинными казацкими усами, он ловко режет колбасу, отпускает баварские прибаутки, но тут же определяет русского: “Чего изволите?”
Иван берет у него бутылку и двести грамм колбасы. По ходу разговора узнает: Павел бежал на Запад в 56-м, во время венгерских событий. Он был солдатиком. Говорит, драпал через минные поля так, что пятки сверкали, пока не оказался в Австрии. Попав в Германию, он неплохо устроился, вступил в НТС, стал монархистом. Иван часто видит его в русской церкви на Сальваторплац: Павел приходит туда в черном старомодном пальто, становится у алтаря и истово крестится. После службы он говорит Ивану: “Царь-батюшка был человек железной воли”. – “А как же отречение?” – “А если вам приставят револьвер к виску?”
Павел ненавидит бандеровцов и всех, кто угрожает единой и неделимой России. Он шепчет: “Хохляндский национализм – наш злейший враг. На Украине есть группа пассионариев, так называемых “щирых”. Они могут и пасть порвать. Но все остальные – это довольно неразвитый, пассивный народ. Им все равно – с Бандерой или с коммунистами”.
В церкви на Сальваторплац Иван видит Петра Паламарчука (Един Державин), который идет под руку с некрасивой тридцатилетней женщиной. Вокруг шепчут: “Это племянница княгини Трубецкой”. Паламарчук хочет жениться на русской аристократке. Трубецкая – хорошая партия. Злые языки говорят, что с ней еще недавно встречался поэт Кублановский.
Обрывки кадров: русские патриоты в Мюнхене – Михаил Назаров, Огурцов, Паламарчук, Кублановский. И сам Иван: он, как и все, гуляет по Мюнхену, ведет беседы о будущем России. Он говорит с ними, но сам уверен: “Русский проект загублен окончательно и бесповоротно. Спасать нечего. Правду о России скрывают. Сама жизнь в России есть доказательство чего-то страшного”.
Ивана не оставляет ощущение, что русская национальная мысль – маргинальна по сути. Бьется как рыба об лед. Утратила связь с мировой историей. Уж лучше пролетарский интернационализм!
Выйдя из церкви, Иван идет на встречу с Вольфгангом. Он периодически встречается с ним, чтобы обсудить обстановку в Союзе и передать анализ, за который неплохо платят. Они садятся в одном из ресторанчиков, заказывают обильно поесть и выпить, говорят о жизни, о бабах, а в конце – о российской политике. Это очень забавляет Ивана. Немцам кажется, что они понимают происходящее в России. В их смятенном восприятии мечутся Шахрай с автоматом в осажденном Белом доме, Шумейко, Бурбулис, Сосковец… Однако же какие странные фамилии! Просто нереально. Раньше с такими фамилиями горком на руководящую работу не пропускал. И бедный Янаев, что он теперь делает? Он видел его в последний раз пьяным и удрученным в октябре 89-го. Потом друзья по ГКЧП его подставили и бросили. Бедный Геннадий Иванович!
В фокусе зрения – Мариенплац. Одиннадцать вечера. Немцы закрывают рестораны. Вольфганг уже наклюкался, несет чушь.
Ивану снова кажется, что его “Я” рассыпается. Он почти не слушает Вольфганга. Ему все труднее даются усилия, чтобы помнить себя. Он мычит: “Это я, я здесь, я еще не забыл свое “Я”. Я присутствую, иначе утеряю связь с “Я”, я растворюсь в окружающей среде и стану Никем. Даже меньше, чем Никем”.
Они расстаются, Иван идет домой. Почему-то его маршрут пролегает мимо станции. Темная ночь, глухая ночь. Над Мюнхеном луна. Светится окно в подсобке первого отдела радио “Свобода”. Там сидит Дженнингс, думает, что ему делать с чеченскими “борцами за свободу”… Они позвонили, сказали, что хотят прийти на станцию со своим эмиссаром Удуговым. Но вот одобрит ли госдеп?
Иван приходит домой, садится у зеркала, проводит рукой по волосам. Такие, блин, стали ломкие, сухие волосы! Наверное, это связано с падением тестостерона в крови. Одно из следствий коллаборационизма. Он встает на четвереньки, обнимает унитаз обеими руками и долго опустошает желудок. Потом поднимает красные слезящиеся глаза и шепчет: “Достали, блин!”
Затем выпивает двойную дозу алька-зельцера и засыпает тяжелым сном.
Архитектура играет важную роль в его снах. Высотные дома Москвы, полуразрушенные дачи Подмосковья, убогие панельные строения городских окраин, потемневшие особняки Арбата… Палашовский рынок, Солянка и Остоженка, а также дворы “Аэропорта” и пригороды Лейпцига. Мюнхен тоже появляется – совсем другой, чем наяву. И эти страшные леса, сплетенные кроны, могучие стволы деревьев, лесные тропки…
Особенно страшны железнодорожные переезды. Рядом с ними разыгрываются главные темы снов – с безумными диалогами и не менее безумными монологами. Он говорит, говорит, говорит, как будто бы все время приходится оправдываться. Наконец, это ему надоедает и он заявляет: “Баста! Больше не могу оправдываться. Буду все принимать так, как оно есть!”
Он хочет свободы мысли и действия, никаких идейных установок, никаких цитат, никаких ссылок. Быть как есть и думать как есть.
Катя
В этот день Иван лежит на кровати и курит сигариллу. Перемежая глотками шнапса. У него очень тяжело на душе. Сегодня звонил жене, она сообщила, что ей надоело ждать. Что устраивает личную жизнь без него. Что встретила порядочного человека. Что будет оформлять развод.
Причина ему понятна – он так и не смог вывезти ее с дочерью в Германию. Послал ей приглашение от имени знакомого немца, но в ОВИРе отказали. Это месть властей ему как перебежчику. Жена и дочь – заложники в Москве. А он, выходит, вольный жених… Что ж, это даже облегчает жизненную задачу…
Иван смотрит на себя в зеркало: ему сорок два, он еще в неплохой форме, коренастый, широкоплечий, но небольшой живот выпирает, под глазами – мешки, залысина на лбу растет. Такое впечатление, что глаза стали меньше, – наверное, нависли веки.
Еще ему кажется, что волосы на груди редеют – наверное, все то же падение тестостерона в крови, оволосение идет по женскому признаку. Образ жизни надо менять, и срочно!
Иван валяется в депрессии еще два дня, потом высылает семье с московским журналистом Марком Дейчем конверт с деньгами и приступает к поиску новой подруги. Поиск не длится долго. Во время очередной попойки в Гармише он встречает Катю. Ее привел Чурилкин – известный дезертир и переводчик американской разведшколы. Представил как свою герлфренд. К полуночи Чурилкин напился. Другие тоже угомонились. А Катя продолжает сидеть в своем углу и поглощать мартини.
Алкоголь не берет ее. Она смотрит на происходящее кошачьими зелеными глазами. Иван влюбляется. Это тоненькая девочка с большим бюстом. По матери русская, по отцу еврейка. Он приглашает ее на танец. Она прижимается к нему и в ту же ночь отдается прямо в ванной комнате, пока переводчик Чурилкин храпит.
Иван засыпает на диване, держа Катю в своих объятиях. Под стук далекой электрички. “Баковка”, – думает он и блаженно зевает.
Ему снится сон: она – его жена, он лежит с ней рядом, целует плечо и видит еще чью-то ногу, волосатую. Кто это? Она спокойно объясняет, что это ее экс, ее первый муж.
Он хочет спать еще, но даже во сне ему неприятно присутствие ее бывшего. Он раскрывает глаза и видит в натуре чью-то волосатую ногу. Мужик преспокойно спит, положив руку на грудь Кати.
Иван резко подымается: это не сон! Рядом с Катей примостился сотрудник американской разведшколы лейтенант Чурилкин.
Иван пытается сообразить, где он находится. И эта Катя-шалава, и как он спьяну сюда забрался. Ситуация идиотская. Думает: “Может, я сошел с ума? Необходимо восстановить кислотно-щелочной баланс”.
Идет на кухню, хлопает, не морщась, рюмку текилы. Затем достает из холодильника кефир Мюллера “Калинка” и выпивает большой стакан. Поганый кефир! Не как в России. Он наскоро одевается, выходит и первой электричкой уезжает в Мюнхен.
Катя звонит в этот же вечер сама, говорит, что вышло недоразумение с Чурилкиным. И, как ни странно, он верит ей.
Приезжает веселая, с бутылкой вина, они опохмеляются, ложатся в постель, занимаются сексом, но осадок остается. Неужели она блядь? Но мысль эта также действует на него возбуждающе. Может быть, он свингер в душе?
У Ивана комплекс – он любит девушек, которые отдаются ему в первую ночь. Это льстит его мужскому самолюбию. Но еще больше он любит девушек, которые ему изменяют. А сочетание этих двух моментов неотразимо. В итоге он начинает встречаться с Катей.
Через месяц она переезжает к нему с вещами. Ее родители попали в Германию по еврейской линии. Но душа – отчаянно российско-советская. Бывало, сядет, выпьет водки, заведет хит Добрынина “Не сыпь мне соль на раны” и начнет побуждать его к соитию. Ивану кажется, что она нимфоманка. Но на нее так действует алкоголь. Иногда он вспоминает дочку в Москве и начинает плакать, но Катя тут же отвлекает его очередной выходкой. Она откровенно издевается над ним, может шлепнуть по заднице и сказать: “Ты просто баба! Латентный гомик! Давай, становись мужиком”, и это нравится ему.
Катя обучалась пению, ее мечта – выйти на подмостки кабаре “Распутин” в Париже, где в это время работает по контракту Хиль. После стакана водки она берет гитару и хрипловатым голосом поет “Утро туманное”. У самой на глазах слезы, у Ивана ползут мурашки по коже.
Иногда Катя говорит загадочно: “Ты знаешь, я немножечко беременна”. Иван силится понять, правда это или нет.
Он, конечно, слышал, что детей при таких запоях заводить не стоит, но разве она послушает? Потом выясняется – шутка. Катя зло смеется.
Иван и Катя поселяются в отеле “Арабелла”. В четырехкомнатном апартаменте. Они покупают персидские ковры, заводят собаку – голден ретривера по кличке Чук, ставят новую видеотехнику. Бар ломится от напитков. Катя переходит с водки на джин. На комоде появляются иконы. Им весело и хорошо. Месяц беспрерывной пьянки. Это он или не он? Рожа опухла. Он не знает. Вспышка. Стоп-кадр.
Все лето 92-го Иван не просыхает. Катя тоже. Потом наступает облом: у него глюки. Он задается вопросом: почему меня глючит? Ответ приходит сам: организм перенасыщен алкоголем. Это замечает и Дженнингс. Он говорит: “Иван, отдохни, скинь темп”. Иван пытается завязать, но это ведет к конфликту с Катей. Она не может без собутыльников. Месяц спустя он встречает гостя из Москвы и на главном вокзале Мюнхена видит сцену: Катя стоит с кружкой пива за стойкой, беседует с местными выпивохами. “Свинья грязь найдет”, – шепчет он.
Ему часто снится один сон: они с Катей едут на машине из Гармиша, наперерез бросается старый седой кабан. Бьется об их ветровое стекло, на стекле расходятся трещины. Он видит окровавленную морду кабана, все засыпало снегом, дороги почти не видно. Заносит ручьи и перевалы вокруг Гармиша. И еще он видит, что фуникулер на Цугшпитце не работает: зависли цепи, и группа людей застряла в кабине наверху.
К нему подходит лейтенант вермахта в заснеженной шинели, отдает честь и говорит: “Противник ушел через перевалы. К Бреннеру”.
Он пытается выйти из машины, но не может. Это приводит его в отчаяние. Выходит, пути дальше нет!
Иван думает: “Это надо будет пережить! Утрату Южного Тироля, временную потерю Украины. Да, я забыл про город-герой Севастополь! Вернуть его – огромный труд! Забрав Крым, враги лишили империю мужского качества”.
Он протирает глаза: рядом с ним Катя. Удивительно, что она храпит. Такая молодая, а храпит.
Это главный момент – ее молодость. Таков закон мира: поседевших мужиков тянет на молодых. Что можно тут изменить? Когда ему было двадцать, он этого не понимал.
Нравится ему Катя, но он не может просто так жениться на ней: нужна справка о разводе. Он посылает в Москву запрос, однако жена передумала и не дает добро.
Иван лежит в номере “Арабеллы”. На душе тоскливо, дождь барабанит по стеклам. Он лежит в халате. Курит сигариллу, в руке стакан с виски. Он хочет все забыть, но не получается. Смотрит на часы. “Ролекс” показывает девять вечера. Этот “Ролекс” с белым золотом стоит восемь тысяч марок, но он не нравится ему. Обязан носить по статусу. Где сейчас его часы “Ориент”? Он так любил их, а в 78-м продал, чтобы поехать с немолодой советской критикессой на курорт. Он отнес часы в комиссионный на “Новослободской”, за них дали сто шестьдесят рублей. На эти деньги он оплатил поездку, но часы помнит до сих пор. Он видит их дальнейшую судьбу. Их купил проводник-грузин и увез в Сухуми. Они исправно тикали пятнадцать лет на его волосатом запястье, а в 92-м, во время абхазской войны, грузина поставили к стенке. Часы с запястья сняли. И по неосторожности уронили под гусеницы БТР. Расплющенные винтики и пружинки “Ориента” остались лежать на шоссе Сухуми-Гагра.
Он видит жизнь так же, как все – вспышками, моментами. Никто не видит сплошную линию жизни. Какие-то годы вообще выпадают, какие-то выходят вперед. Он видит друзей, видит ситуации, взрывы эмоций… и эта, блин, всемирная история распадается на части. Есть годы, моменты, лица, но нет единого целого, есть некие моменты в этом большом пазле.
Поиски истины-2
Когда опускается ночь, когда начинается день, кто скажет? Эта пауза обманчива. Пауза обманчива. Иван сегодня не в форме. Он долго лежит в кровати, курит, смотрит на икону. Катя заперлась в своей комнате. Собака бегает по коридору, надо выгуливать. Служанка стучит в дверь: “Пора убирать номер!”
Он встает, натягивает шорты, выходит с Чуком на газон. “Арабелла” – большой белый корабль. Здесь безмятежно живут иностранцы. Их обслуживают, обстирывают, ни о чем не надо думать. Но его беззаботная жизнь в “Арабелле” подходит к концу: делить квартиру с Катей он больше не может: иначе он окончательно сопьется. Надо найти гарсоньерку где-нибудь в Швабинге. И он почему-то начинает напевать “Каховку”.
На газоне, выгуливая собаку, он встречает сухощавого седого человека с таксой. Его зовут Франц Штерн, как выясняется, он эзотерик и целитель. Штерн спрашивает: “Чем вы кормите собаку? Она у вас такая нервная”. – “Отварной курицей. Чук обожает ее”. – “Ну, вы преступник! – говорит. – Кормить надо говяжьей вырезкой, желательно парной. Тогда у собаки будут здоровые рефлексы. Как у моего Белли».
С собачьей темы они переходят на общечеловеческую. Гуляют по газону и долго говорят о жизни.
Штерн весел, он без умолку трещит: “У меня прибывает сил. У меня растет уровень квантовой энергии, я связан с индийским богом огня – Агни. Я вижу, как эти потоки тонкой энергии источаются из моих ладоней – они могут лечить”.
У Штерна нет никакого медицинского патента, но, занимаясь целительством нелегально, он собирает громадные, по его словам, деньги: “Скоро я поеду в паломничество на Тибет, осуществится моя заветная мечта!”
Иван говорит ему: “У меня не в порядке с памятью. Я забываю, кто я, откуда я. Больше так жить не могу!” Штерн отвечает: “Это поправимо, но помочь может только Детлефсен”.
На следующий день Штерн сажает Ивана в свой древний “Опель” и везет к австрийской границе, где недалеко от бывшей резиденции Гитлера в Берхтесгадене живет знаменитый маг и гипнотизер Торвальд Детлефсен.
Встреча с Детлефсеном имеет свою предысторию: Москва, 1980 год. Дождливая осень. Ивану очень плохо, его шатает от нервной дистонии. Он невыездной, больной, одинокий. Он подсел на седуксен. Ему нужна помощь. Знакомые направляют его к Наталье Борисовне.
Иван идет по Сретенке. Темные неосвещенные переулки, пустые витрины магазинов. Находит дом, где живет Наталья Борисовна – маг и экстрасенс. Поднимается на второй этаж купеческого дома без лифта. Звонит в дверь, обитую кожей с выдранным войлоком. Этот запах… он помнит особый запах русских подъездов. Не изменившийся за весь XX век.
Ему открывает женщина лет пятидесяти, с седыми всклокоченными волосами и пронзительным взглядом выпуклых серых глаз. Удивительно похожа на Блаватскую, как он потом поймет. В трениках, майке, боевая комсомолка 40-х годов. Проводит его в гостиную: там на круглом столе – книги Рериха, дымится чай. За столом сидит муж Саша – моложе ее лет на двадцать, очкастый, коротко стриженный советский инженер, который всегда и во всем поддакивает ей.
На обклеенной темными обоями стене висит неумело намалеванный портрет Дзержинского, под столом тявкает лохматая собачка. В углу комнаты – репродукция картины того же Рериха.
Наталья Борисовна была детским театральным режиссером, но, начитавшись эзотерической литературы, ощутила свои силы. Поверила в Рерихов, социализм, Россию. Ей были свойственны свирепый антиамериканизм, советский патриотизм и исторический оптимизм. Уже много позже Иван увидел, как идеи советской эзотерики плавно перекочевали в эзотерику постсоветскую.
У нее своя особая техника: ладонями проводит энергетическую закачку, встряхивает руки, говорит о карме и перевоплощении, о том, как эта кудрявая собачка станет когда-нибудь человеком. Обильно потеет во время сеанса, мускусные пары висят в воздухе.
Дзержинский смотрит на эти упражнения с немым укором.
Что странно, сеансы помогли: Иван слезает с седуксена, начинает заниматься джоггингом. Ему лучше. Он даже решает жениться.
Еще она повесила ему на шею терафим – зашитую в кожу серебряную коробочку, которую она накачала своей энергией, чтобы он, больной, подзаряжался на ходу. Он носил его около года, пока молодая жена не заставила его выбросить эту языческую нечисть.
Кружок Натальи Борисовны становится все шире… Приходят московские интеллигенты – в них пробудилась тяга к эзотерике. За столом говорят о карме, энергиях и чакрах. Учатся разглядывать ауру в полумраке, тренируют зрение на ясновидение. Иван, впрочем, так ничего и не увидел.
А год на дворе был 1982-й, последний год Леонида Ильича. Уже отбушевала Польша, и брежневская империя вползала в полный и необратимый застой. С продовольствием стало хуже, но все говорили про Джуну, про инопланетян, про эгрегорные ситуации.
Почему и как он перестал к ней ходить? С одной стороны, надоело, с другой – отговорила жена, сказала: “Хватит заниматься фигней!”
Но именно у Натальи Борисовны в начале 80-х он нашел книжечку на немецком – “Жизнь после жизни”. Автор – некий Торвальд Детлефсен. Он взялся ее переводить, не зная толком языка. Сидел, стучал на допотопной машинке “Континенталь”. Потом эта рукопись перепечатывалась и расходилась по всему Советскому Союзу. Он стал первооткрывателем Детлефсена в России. Но стоит ли говорить об этом самому маэстро? Проблема копирайта всегда болезненна.
Прошло столько лет, прошло столько лет, и вот он имеет шанс увидеть Детлефсена воочию.
Еще в Москве, когда Иван читал его книгу, простота и действенность методики глубинного погружения потрясла его. Немецкий эзотерик вводит пациентов в состояние гипноза и перемещает их в предшествующие состояния – во времени и пространстве. Там они и находят ключ к своим проблемам. Это называется Reinkarnationstherapie: испытуемые видят воочию первую, вторую и даже третью жизнь в обратной раскрутке.
Иван по природе скептик, он не верит до конца всем этим теориям, однако готов на опыт, чтобы разрешить внутренний конфликт…
… Но вот и местечко Бад Райхенхаль. На самом отшибе расположено поместье Детлефсена. Над воротами распростер крылья германский орел. Табличка: Institut fuer ausserordentliche Psychologie. К дому ведет дорожка в заросшем парке.
Детлефсен встречает их лично. Это крупный детина с косоватыми глазами и низким лбом. Он чем-то похож на кабана, и от него исходит мощная энергия. Они входят в кабинет, где начинается сеанс. Иван садится в кресло, выключается свет, и Детлефсен погружает его в глубинное состояние: “Раз, два, три!” Потом спрашивает:
– Кто ты?
– Я Иван Д.
– Сколько тебе лет?
– Сорок два.
– Где ты родился?
– В Москве.
– Какие у тебя проблемы?
– Мне страшно.
– Кто нагнал на тебя страх?
– Спецслужбы. Они охотятся за мной.
– Когда ты познакомился с ними?
– В 89-м году.
– Так. Мы погружаемся все глубже. 50-й год. Ты видишь?
– Я вижу свет. Я не хочу выходить на свет. Мне холодно!
– Мы переходим в 45-й год. Что ты видишь?
– Ничего не вижу.
– 42-й?
– Ничего. Тишина.
– 39-й.
– Нет, не хочу! – Иван начинает метаться, на лбу выступает бисерный пот. Он ясно видит кирпичную стену, офицера НКВД с наганом и инстинктивно жмурится.
– Кто ты? Как тебя зовут?
– Я, я… Альбрехт. Я немецкий инженер. Меня арестовали, пытали.
– Возвращаемся на пять лет назад. Wir schreiben 1934. Где ты?
– Я в Штутгарте. Я – немецкий инженер Альбрехт. Мне предлагают ехать в Советский Союз. Мне надо кормить семью.
– Когда и где ты родился?
– В 1905 году. В Вуппертале.
– Идем дальше назад. 1890 год.
– Ничего не вижу. Ничего не слышу. Темно.
– Идем еще на двадцать лет назад. 1870 год!
– А-а-а…
Иван начинает судорожно метаться. Детлефсен прекращает сеанс, успокаивает его и аккуратно выводит из гипноза:
“У вас большие травмы, мой друг. Вы жертва сталинских репрессий. К тому же в нынешней жизни вы стали объектом для спецслужб, а это ничего хорошего не сулит”.
– Впрочем, – говорит Детлефсен, закуривая сигару, мы все связаны со спецслужбами в той или иной степени. Ведь это не только скрытая, но и явная власть на этой земле. Успокойтесь и не верьте никому, если он будет говорить, что не связан с одной из этих сил. Мы все связаны.
Иван выходит на воздух. Ему не очень хорошо. Всю обратную дорогу Штерн болтает о космических влияниях.
Ночью Ивану снится: Подмосковье, дача, 1989 год. По телевизору передают очередную передачу про экстрасенсов. Он допивает чай, спускается по скрипучим ступенькам на участок. Шумят сосны. Под кустом лежит уже третья дохлая ворона. Он брезгливо берет ее за крыло и перекидывает на соседний участок. Порыв ветра: сосны скрипят, брызгает дождь. Ворона повисает на заборе.
– Блин, Советский союз! – испуганно бормочет он. И понимает с ужасом, что никогда из него не выберется.
Встряска памяти
Посещение мага Детлефсена не прошло бесследно. Мохнатый черт всколыхнул какие-то слои глубинной памяти. Странная судьба инженера Альбрехта теперь преследует Ивана. Неужели это его собственное воплощение?
В полудреме он видит квартирку, пригород Дюссельдорфа, мягкий свет, морщинистые руки матери и слышит тихую просьбу: “Рудольф, не оставляй меня, не езжай в Союз!” Но он не может ничего изменить, он едет в Россию.
Ивану эта версия прошлой жизни не нравится, он бормочет: “Что за чертовщина, что за инженер Альбрехт… ”
Во сне он видит сцену: Челябинский тракторный, рядом с ним – инженер Штайн, они проходят ряды машин, поглаживают их.
Флэш-кадр: вечеринка, пьют за новый цех. Он уходит спать с Фаиной. Кто такая Фаина? Почему он не помнит? Господа, в чем дело?
За его спиной шепчутся: “А ты знаешь, почему он туда попал? Да потому, что на его место другие посягались… инженер Штайн цум байшпиль… сам хотел стать старшим на Челябинском тракторном”.
Он не знает, что там произошло на Челябинском тракторном, – любовная история, ревность, анонимка, зависть… и почему его вдруг отозвали в Москву.
Еще он видит кадр: ужин, общежитие для иностранных спецов на Маросейке, он сидит со своей подругой. Все смеются. Поздно ночью звонок в дверь. Его увозят по улицам Москвы. То, что происходит потом, трудно передать словами.
Иван шепчет: “Инженер Альбрехт, ты лежишь в безымянной могиле… но не передалась ли мне твоя травма, и эта двойственная связь с Россией… любовь и страх, отталкивание и притяжение… Это надо в себе перебороть, для этого надо над собой поработать… А может быть – вернуться в Россию и посмотреть?”
Иван раздвоен и в отношении Германии – она своя и не своя. Наверное, когда-то он здесь жил, но сейчас он не тот. Он никогда не будет своим. Его часто спрашивают: “Was fuer ein Landsmann bist du? Чей ты, земляк?” На этот вопрос он не может дать ответа.
Он ни во что не верит, но сеанс у Детлефсена рождает у него смутное сомнение: а вдруг было?
За ответом он идет к батюшке Тимофею, или фетерхену Тимофею, как его здесь кличут мюнхенские старожилы. Это в районе Обервизенфельда, на северо-западе, у Олимпийского парка. Если пройти по тропке через густую чащу, то на поляне увидишь самодельную кривую церковку. Луковичный купол покрыт серебряной фольгой от шоколада. Рядом с церковкой – сарай-избушка. В нем сидит седобородый старик, раздувает сапогом самовар. Этот фетерхен Тимофей – для сентиментальных немцев символ матушки России. Лучше приходить со своей водкой, но он может налить и сам.
Иван приносит бутылку Горбачева – модной в эти дни водки. По телевизору говорят, что Горбачев – Russlands reine Seele – чистая душа России. Они наливают по стаканчику, и Иван рассказывает Тимофею о своих сомнениях – что-то о связи с русской землей и о том, можно ли верить в перевоплощение. Тимофей пьет водку мелкими глотками, закусывает огурцами своего посола и усмехается в усы.
Тимофей Васильевич (Прохоров) родился в 1894 году в станице Богаевская на Дону. О жизни его до Второй мировой войны мало что известно. Вероятно, он был разнорабочим. Во время войны возил уголь жителям Шахт. Отступая после Сталинграда, немецкие войска конфисковали его упряжку с двумя лошадями и заставили везти раненых до Ростова.
Он уехал, не попрощавшись с семьей. В пути Прохоров разговорился с раненым немцем Гансом, они подружились. Ганс играл ему на губной гармошке, а Тимофей пек для друга картошку в золе. Ганс умер от гангрены в Ростове, а Тимофея отпустили к семье. На обратном пути, так говорит Тимофей, ему явилась дева Мария: она сошла с небес в сиянии и молвила: “Тимофей, не иди домой! Иди на Запад и там построй церковь во славу дружбы Востока и Запада”! Он сказал ей, что его ждут беременная жена и двое детишек. Богородица ответила: “Я позабочусь о них”. Он так и остался в немецком обозе (говорят, варил полевую кашу для воевавших на стороне немцев казацких частей), пока в конце войны не оказался в Вене. Здесь он встретил беженку Наташу, которая стала его гражданской женой. Они решили построить церковь Девы Марии, но венские власти заставили снести начатую постройку. Путь Тимофея и Наташи по дорогам послевоенной Европы продолжился, пока они не осели в 1952 году в Мюнхене.
Они соорудили шалаш на пустыре в местечке Обервизенфельд, грелись у костра и начали строить из кирпича и балок, оставшихся от разбитых войной домов, маленькую церковь. Купол “посеребрили” с помощью шоколадной фольги. Они жили в сарайчике у церкви пятнадцать лет при тихом попустительстве городских властей, пока не началась подготовка к Мюнхенской Олимпиаде. Им велели убираться, однако местные жители так полюбили Тимофея, что устроили акции протеста. Пришел сам архитектор, сел с Тимофеем, выпил рюмку водки. Они разговорились. Тимофей убедил его не трогать церковь, и стадион был перенесен в другое место. Церковь назвали Ost-West-Friedenskirche, и она стала со временем одной из достопримечательностей Мюнхена.
Тимофей не хотел жить в грехе и венчался с Наташей незадолго до ее смерти в 1972 году. Ее не дали похоронить у церкви, и он воздвиг ей символическую могилу. Со временем Тимофей стал старейшим жителем Мюнхена и дожил до ста десяти лет.
Тимофей сидел у окна в сарайчике с зеленой крышей, говорил на странном русско-немецком. Утверждал, что ему две тысячи лет. Но немцам это нравилось. Это соответствовало их представлениям о русской душе. Фруктовый сад, пасека, самовар.
– Может быть, подумал Иван, – его главной чертой было притворство? Тимофей напомнил ему героя Толстого.
Эту самодельную церковку построил явно сумасшедший. Но немцы признали ее шедевром нелегального искусства. Вот в чем очарование России на Западе!
Иван понимает из этой истории одно – что Тимофей самозванец, что он не священник. Но кто может лишить его права на миссию, коли он так решил? И задает ему вопрос о предыдущей жизни: “Было или не было?”
Фетерхен Тимофей говорит ему: “Может, было, а может, и не было. Но как бы то ни было, ты рождаешься новым человеком. Христианство дает тебе свободу от прошлой жизни”.
Опять это утешительное мяу-мяу! Уголек вспыхивает и догорает в яранге Тимофея. “Хватит, господа!” – Иван встает и уходит.
Пробираясь сквозь темную рощу к остановке автобуса, думает: “Каждый из нас испытывал притяжение этой планеты, взрывал плотные слои атмосферы, падал на горькую землю. Все мы, пересекаясь, входим сюда – под разными углами. Вспыхиваем и догораем. Но оживает ли наш прах? Есть ли чудо?” Впрочем, Иван чего-то недоговаривает, не все так просто. В этой череде непонятных контактов, лжеучителей и моралистов остается один непонятный эпизод. Непонятный, а потому…
Он боится признаться себе, что чудо было. Он это на себе испытал. Один раз, но это было. Среди всей этой болтовни, лжи и разговоров. Эта неграмотная бабуся в платочке была… он пытается себя ущипнуть, сказать, что это сон, но нет!
… 1983 год, он только что женился, он хочет поехать за границу, идет на медосмотр в поликлинику.
И получает категорический отказ. Диагноз: порок сердца. В довольно осложненной форме. Кардиограмму повторяют, она дает все тот же результат – порок митрального клапана.
С опущенной головой он идет домой. Заграница – это единственный шанс вырваться из советской нищей жизни, прокормить семью. Подходит жена и говорит: “Есть бабка Наталья, лечит, через подругу договорилась, чтоб ты пришел”. Он в это не верит, он ни во что не верит, но под давлением жены надевает тяжелое советское пальто и едет на тот конец Москвы, куда-то на Автозаводскую, подходит к маленькому пятиэтажному домику.
Уже у подъезда он видит очередь – женщины с детьми, старики, кавказцы. Поднимается по лестнице, где так же вдоль стенок стоят люди, стучит в приоткрытую дверь. Появляется бабка Наталья: это крохотная старушка в платочке, почти слепая. Как будто из русских народных сказок.
Старуха проводит его в комнату: горят лампады и свечи, со всех стен на него смотрят глаза святых с потемневших икон.
Она сажает его на стул, набрасывает на голову платочек и начинает шептать молитвы. Большую часть из них он не понял, он только припоминает, что это какие-то муромские частушки и скороговорки. Приятное тепло проходит сквозь платок, он засыпает на стуле. Открывает глаза: в комнате тихо.
Бабка Наталья говорит: “Иди, милок, на кухню, поешь блинков!”
Он видит, что ей очень много, может, девяносто лет. Наверное, она неграмотная. И как ее занесло в эту громадную Москву, в хрущевскую квартирку?
Бабуся потчует его блинами и дает с собой склянку живой воды. Он благодарит, уходит. Когда является на медкомиссию через неделю, врачи не верят: следов порока нет. Через неделю его проверяют снова, и тот же результат.
И вот тогда мелькнула мысль: а что, если? А что, если? Но это остается тайной между ним и Верой, женой.
Снова Штерн
Проходит неделя, Штерн встречает его во дворе, он выгуливает Белли. Он возбужден: “Моя энергия по-прежнему растет, я не знаю, куда направить ее. Я окончательно понял, что я – воплощение Агни – индусского бога огня. Я окончательно понял. Выброс энергии достигает сотен килограммов тротилового эквивалента. Я договорился в Пазинге, мне дают кабинет. Я могу лечить безнадежно больных, я все могу… ”
Еще три дня спустя: “Мне платят, платят, у меня никогда не было столько денег”.
Иван чувствует, что Штерн рискует, что без диплома за эти вещи в Германии могут посадить в тюрьму. Однако Штерн не хочет этого понимать, он заводит Ивана к себе домой и объясняет ему мировую ситуацию: “В двухтысячном году наступит мировой потоп. Никто не выживет, кроме группы посвященных. Это стало неизбежным после того, как в Штатах убили индейскую прорицательницу “Дикую Козу”. Она была последней, воплощавшей единение людей с духами живой природы”.
“Необходимо готовиться к Потопу, главное – сохранить избранных… Да, все зальет, но останутся островки – в баварских Альпах, в Швейцарии и на Урале”. – Штерн говорит и говорит, и говорит… глаза его поблескивают, он предлагает Ивану заняться спасением людей в России. Ивану начинает казаться, что в этом есть правда. Он думает: “Какого хрена я на своей станции корячусь, не сплю ночами. Не лучше ли уйти на социал и уже загодя готовиться к всемирному потопу?”
Штерн берет его на свою дачу вблизи Зальцбурга. Они ходят по альпийским лугам, пьют белое вино. Штерн говорит: “Я – настоящий тиролец, я – непреклонный человек! В свои шестьдесят я полон сил, ведь мы – тирольцы, мы помним традиции Вильгельма Телля, Андреаса Хофера… Живучи, как все горцы. В моей деревне эсэсовцы сделали меня живой мишенью. Они играли в Вильгельма Телля: ставили мне на голову яблоко и стреляли. Это продолжалось долго, но я выжил.
Моя фамилия – особая: в Германии я немец, в Израиле – еврей. В Израиле пограничники не проверяют меня: фамилия Штерн говорит сама за себя”.
– Как повелось, что Штерн – еврейская фамилия?
– Это зависело от произвола чиновников. В XVIII веке в Австро-Венгрии они давали евреям немецкозвучащие фамилии, и все зависело от взятки. Если ты был беден и раздражал чиновника, то он давал тебе неблагозвучную фамилию – Краус, Краут, либо гротескную – как Финкелькраут, или ваши Пастернак и Мандельштам. А если ты хорошо платил, то становился Штерном, Файнгольдом или Адлером. В нейтральных случаях – по городам: Кракауэр, Лембергер, Познер.
– А разве так было только с евреями? – недоумевает Иван. – В России стряпчие тоже могли одним дать Хрякова или Мутько, другим – Орлова или Петрова.
В лице Штерна Иван видит вымирающий тип западного человека – пассионария, безумца, анархиста, антисистемщика. В эпоху манипуляций и массмедиа таких почти не остается.
Маленький Франц Штерн! Ты стоишь на пригорке, яблоко на твоей вихрастой голове, а большой сухопарый эсэсовец целится в тебя из парабеллума. Какая сцена!
Тебя отдают в школу иезуитов, ты не веришь в официальные догмы, но зубришь все эти церковные книги, и социальный протест нарастает в тебе. Тебя распределяют миссионером в Южную Африку, и там ты видишь правду жизни. Жизнь аборигенов, поклонение духам предков и безжалостную натуру белого человека. Однако в эпоху массовых манипуляций ты никому не нужен.
Вскоре судьба разводит их. Они видятся на прогулке в последний раз. Штерн подавлен, он говорит: “Жена Эмили бросила меня, ушла в секту солнцепоклонников. Забрала с собой дочь Фелицитас. Но я не сдамся!” – Он много курит, гоняет собачку по газону. Иван жмет его сухую руку, провожает взглядом поджарую фигурку, а еще через полгода узнает, что Штерна сажают за нарушение закона о врачебной практике.
Ньюйоркцы
Осень 92-го года. Матусевнча неожиданно смещают. Говорят, за отклонение от генеральной линии госдепа. Нацеленной на окончательный развал России. Матусевич садится в свой красный БМВ, громко хлопает дверью. Машина с визгом срывается, он покидает навсегда территорию радиостанции.
Мы повторяем этот кадр трижды: машина с визгом срывается, он покидает навсегда территорию радиостанции. Мы повторяем…
Иван смотрит на удаляющийся автомобиль: почему все выскочки и нувориши так любят БМВ? Ему в БМВ не нравятся две маленькие ноздри. Ноздрявый какой-то вид. Решетчатый оскал “Мерседеса” куда внушительней.
На станцию прибывает группа сотрудников нью-йоркского бюро: Гендлер, Вайль, Генис, Парамонов. В отсутствие Матусевича всем заправляют теперь они. Сидят в хозяйском кабинете, дымят. И начинают делить позиции.
Иван идет читать новости в кабину. Рядом с ним за микрофоном сидит прибывший из Нью-Йорка Парамонов, доказывает: “Фельдмаршал Суворов – народный тим гомосексуалиста, он имел своих солдатушек. И жалел их как детей”. Парамонов – главный интеллектуал нью-йоркской группы. О, эта нью-йоркская группа!
Новый шеф русской службы – Юрий Гендлер. Он проходил в Союзе по “ленинградскому делу” – попытке угона самолета. Так говорят. Истинную подоплеку тех событий не знает никто.
Это милейший кудрявый толстяк, неподражаемо картавый и розовощекий. Он может выпить литр виски, отполировав его пивком. Способность Гендлера пить уникальна. У него две главные страсти – футбол и собирание грибов. Страсть поменьше: просмотр фильмов – советских, сталинских. “Чапаев”, “Подвиг разведчика”, “Кубанские казаки”. В своем бюро на Бродвее, а потом в Мюнхене, приняв на грудь по литру, Гендлер с друзьями запираются и смотрят видик.
В их компании часто бывал Сергей Довлатов. В Нью-Йорке Довлатов скучал, а в теплой бродвейской студии билось сердце советской родины. Репортер Володя Морозов говорит: “На этом незабываемом Бродвее, 1775 еще от лифта разносился запах красного “Джонни Уокера”. Что означает – редакция бухает!” Наверное, это бухалово и добило Довлатова: ему нельзя было пить, а не пить на Бродвее, 1775 было невозможно.
Новоприбывшие считают, что Нью-Йорк – столица мира. Иван так не считает. А что увидел он сам в этом городе? Улицы грязные, еда невкусная, ограничения во всем. Из ресторана “Распутин” его выгнали курить на улицу, где он сидел на крылечке с дюжими ребятами из Брайтон-Бич. Его ощущение: Нью-Йорк – это чистилище Запада. Крохотные островки престижа – “Уолдорф-Астория”, “Плаза”, “Рокфеллер-центр”, и – жуткие дома, толпы плохо одетых мигрантов со всего света, влекомых американской мечтой.
На фоне оазисов комфорта в Мюнхене, Швейцарии и Каннах это была Нигерия. Однако же любимая “обретшими свободу” людьми. Ругать Нью-Йорк считается среди эмигрантов дурным тоном. Но он помнит Селина. Бессмертные отрывки из “Путешествия на край ночи”. Америка не изменилась, по сути, с 30-х годов.
Поздний вечер. В кабинете Матусевича, теперь Гендлера, люди из Нью-Йорка открывают вторую литровку “Джонни”, включают видик, смотрят “Чапаева”. Под третью бутылку ставят “Крестного отца”. Ржут на тех же сценах. У них, бродвейцев, особый вкус. Они знают, что они – и есть настоящие “гомо совьетикусы”. Они даже не говорят по-английски. Потому-то Вайль и Генис со знанием дела пишут книгу о советском человеке.
Вайль не нравится ему. Это пухлый барин с пышной седой бородой, излучающий ложное благодушие и самовлюбленность. Кто-то окрестил его “Лев Николаевич Вайль”.
Гендлер лучше их всех. Человечней. Он долго объясняет, как надо готовить рыбку барабульку: “Старик, ты варишь ее в пиве. Хотя бы в говенном американском. Слегка перчишь – и с ледяным “Абсолютом ”. Это абсолютное блаженство!”
Его жена – породистая пожилая дама – страдает, по слухам, тяжелым алкоголизмом и жизненной нереализованностью. Вероятно, они бухают на пару. Чтобы спасти ее и спастись самому, Гендлер покинет должность шефа русской службы в Праге и купит домик на озерах в Северной Каролине, где действует сухой закон. Там он будет стрелять диких уток и ловить рыбу – без привычной чекушки.
В кабинете Гендлера ребята из Нью-Йорка многократно прокручивают “Подвиг разведчика”. Говорят, что смакуют эстетику сталинизма. Но Иван подозревает, что им это просто нравится: впечатления советского детства сидят в подкорке глубоко. Мы все остаемся советскими детьми.
Мы помним детство коммунальное, веселое. Пацанов в советской школе, анекдоты на переменах: “У вас продается славянский шкаф?”
Советский русский человек никогда не станет западным. А может, и не надо? Парафразируя поэта – все мы вышли из “Мойдодыра” Чуковского. Из “Чука и Гека” Гайдара. И “Грозы” Островского. Вся эта, блин, школьная программа застряла на генетическом уровне.
… Поздний вечер, станция. Они сидят, пьют в кабинете Гендлера. После копченой колбасы и виски мучает жажда.
– Юра, у тебя “Перье” минералка есть? – спрашивает Вайль.
– Когда мы были молодые в Москве 60-х, у нас не было “Эвиана” или “Перье”, – отвечает Гендлер. – Мы дули воду из-под крана, чтобы запить икоту. И ничего, икота проходила, хотя на дворе стояли будни коммунизма.
На следующий день все той же компанией они идут к Нугзару Шариа – в ресторанчик “Шухер-Келлер”. Нугзар – дородный двухметровый грузин, ярый антисоветчик и русофоб. Но он, смывшись в начале 70-х, успел узнать в загранке и Орсона Уэллса, и Юла Бриннера, и Алешу Дмитриевича. Это придает ему особый статус. Он берет гитару и напевает романсы. Забавляет эзотерическими намеками – мол, доктор Живаго у Пастернака так назван потому, что он живой. Напоминает гостям, что был другом Гамсахурдии. И успел предупредить его: “Звияд, Кремль не выпустит Грузию никогда!” Что и произошло.
Зрительный ряд, контрапункт. Сцена: танки на улицах Тбилиси, Гамсахурдия, бегство, смерть при неясных обстоятельствах. Его тело выволакивают из пещеры, хоронят. Грузины любят хоронить. И петь. И водить белые автомобили.
Иван вспоминает: Пицунда, 1982-й. Он ловит попутку на шоссе. Его подбирает холеный грузин в белой “Ладе”. Довозит до дома творчества киношников. Денег не берет. Ведет беседу о славном прошлом грузинского народа. Ему нравится джинсовая куртка Ивана, совсем новая. Иван отдает ее за пятьдесят рублей. Оба довольны. Потом кто-то шепчет Ивану, что это – Гамсахурдия. Сын классика грузинской литературы.
В ту пору грузины покупали все: машины, женщин, сервизы. Потом, после крушения Совка, во всех турецких лавках туристы видят серебряные подстаканники, чеканку, фарфор с советской символикой. Все это добро распродали обнищавшие грузины.
Мы возвращаемся в “Шухер-Келлер”. Мы видим: им приносят хинкали, хачапури и сациви. На стенах – фотографии Нугзара со съемок, тбилисские мотивы и даже грузин в буденовке – дед самого Нугзара. И тут же – автограф Гамсахурдия.
Нугзар готовится в Америку. Он не поедет в Прагу. Мучительно худеет – уже на двадцать кило. Меняет гардероб в престижном “Хирмере”. Отправил дочери в Тбилиси белый “Мерседес”. В Америке он хочет открыть грузинской ресторан – в Майами.
Его мечтам не суждено сбыться. Пятнадцать лет спустя Нугзар вернется на родину, немолодой, чтобы снять фильм о грузинских святых. Нине и Кетеван. По заказу самого патриарха Илии Второго. Но кто реальный спонсор этого проекта? Мы этого не узнаем. Оно нам и не нужно.
Эмигранты из Нью-Йорка – в скромных пиджаках. Они не понимают снобских европейских привычек. В Нью-Йорке все носят пиджаки-ботинки по пятьдесят баксов. В Европе среди эмигрантов принято носить плащи-костюмы по пятьсот марок. Иван имеет в виду советских эмигрантов, конечно. Он не делает акцента на этом факте. Он всего лишь констатирует.
Единодушное мнение европейских европейцев: эти новые русские эмигранты – загадочные представители человеческой породы. С первой белой эмиграцией все было иначе, там были люди, а это – какие-то гомо совьетикусы. Живут в своем мирке, смотрят свои фильмы, слушают Аллу Пугачеву, едят борщ и пельмени. О чем можно говорить с варварами?
В Америке им, эмигрантам из СССР, живется легче, американцы – люди без усложнений. Не снобы. Там гораздо проще есть черный хлеб, селедку, пить водку “Абсолют”. И тусоваться в русских компаниях. В Европе как-то сложнее.
Они сидят у Шариа, пьют виски, полируют пивом, перетирают темы, их возбуждение растет – совсем как на советской кухне 70-х.
– Это верно, все эмигранты на станции “Свобода” – ничтожные маленькие прихлебалы, удовлетворяющее свое маленькое человеческое “Я”, – думает Иван. – Но в этом – их великая человеческая победа. Они продались за кусок колбасы и не стыдятся этого. Великая победа человечности над идеологией, причем не только советской. Из царства несвободы и безденежья они вырвались, получив и свободу, и деньги. А политические и прочие принципы – так ими выстлана дорога в ад.
Тут много евреев, ехавших из СССР в Израиль, но сваливших в Вене на первой же пересадке. Какой на хрен Израиль! Они что, звери, трястись по жаре в автобусах с марокканскими евреями? Они ведь декламируют Мандельштама, рубятся в шахматы, а кое-кто играет на скрипке. Поэтому “Свобода” – их выбор. Они предпочитают фланировать по аллеям Английского парка, покупать вина и сыры на Виктуалиенмаркте, пить мартини и виски в барах и пользоваться комфортом, который не предоставляют даже Штаты.
Настоящие эмигранты не любят эти искусственные конструкты – коммунизм, сионизм, “американская мечта”… Это все – идеологемы. Главное – жизнь. Кто и когда оценит твои жертвы? Советская Родина их не оценила. Никто не оценит. Героизм излишен, после того как растоптали миллионы – ни за что.
Никто и никогда вообще. И память поколений – это ложь. Есть только ужасный, безвыходный и беспредельный космос. Пустота и забвение. Что делать?
Вот что так давит на сердце Ивана. Он хотел бы, но не может вырваться. Из понятийного кольца. Он знает, что пафос излишен. Одно лишь утешает его – что смерти нет. В том смысле, что ее некому будет воспринимать. Нет человека – нет и смерти. Нет ничего.
Он сам презирает эмигрантов и понимает, почему их презирают американские хозяева, немецкие кураторы и прочие. Но он невысоко ценит и гомо совьетикусов, оставшихся там, на замороженных просторах исторической родины. И этих горлопанов-диссидентов…
Американцы ему неприятны сами по себе. Это кунстпродукт, пересаженный на чужую почву, искусственно взращенный на гидропонике. Поэтому некие механичность и как бы омертвелость чудятся в их представлениях и жестах.
Кого возможно ценить вообще? Ужасная, безвыходная ситуация. Когда нет достойных. Последние, наверное, полегли в великих войнах XX века.
Ему становится страшно, он думает: “Боже, как прекрасен мир! Чего я несу?” И снова беспощадный скептицизм сковывает ему глотку. Он вспоминает слова поэта: “Я над всем, что сделано, ставлю nihil”.
В ту ночь он видит сон: подходит Гендлер, кладет руку на плечо. “Старик, ты не хотел бы просраться?” – спрашивает он. – “А как?” – “Возьми ты этой барабульки сачок, вскипяти ее в пивном растворе и сыпани туда кайенского перцу с розмарином. Закус, я скажу тебе, будет охренительный!”
Станционные моменты
I
Леня Циплер – бывший питерский стиляга. Уныло сидит в радиорубке. Хочется пива. Он оставляет на стуле пиджак (система Леонида Пылаева), идет в Английский парк. Здесь садится под Китайской башней, заказывает масс пива и задумчиво потягивает пенистую жидкость, вспоминая фартовую молодость в Ленинграде и первую отсидку.
Его отсутствие становится заметным. Американский продюсер вбегает, сыплет проклятиями. Через час пиджак все также висит на месте. Американец бьет кулаком по столу и требует уволить Циплера. Тот берет под козырек, уходит домой и садится на больничный. Через неделю он получает приказ об увольнении, несет его в немецкий суд и подает встречный иск – о нарушении трудового законодательства. Они на станции все имеют юридическую страховку и активно пользуются ею.
Разбирательство длится долго – больше года. Все это время он мастерит по дому, ходит пить пиво в биргартен, раз месяц приходит в суд – на показания. Проходят месяцы, и суд выносит привычный вердикт: зарплату выплатить целиком, восстановить на службе, а главное – возместить моральный ущерб. А это ни много ни мало миллион марок. На эти деньги Циплер покупает двухэтажный дом, переезжает со всей семьей. Американское начальство матерится, но ничего поделать не может с этим проклятым бисмарковским социализмом.
II
Юра Дерябкин идет домой. Дома его ждет жена – немка с каменным лицом. Он входит, пригнувшись как бобик, садится ужинать. Жует с умильно-постной миной. Дерябкин – сын власовца, простого русского мужика. Который променял Родину на шкурный интерес, осел в Германии. Жена готовит невкусно, не по-русски.
Дерябкин работает на станции давно, построил дом. Его главное хобби – секс, что как-то не вяжется с простецким лицом и небольшой корявой фигурой. Еще с тех времен, когда власовцы заправляли на станции, ему поручена подборка женских голосов для микрофона.
Сегодня на станции он очень близко узнал певичку с Украины. Прослушал ее в кабине, потом уединился с ней в аппаратной, где стоит кожаная кушетка, залоснившаяся за многие годы. Она тронула его душу, спев после секса романс под гитару, и он взял ее на подработку.
Дерябкин поднимается в мансарду, начинает составлять список гостей на съезд Организации российских зарубежных скаутов-разведчиков – ОРЮР. Он пишет какие-то фамилии, а сам вспоминает, как летом со своими скаутами и рюкзаками карабкался на гору в Оберзальцберге. Перед его глазами на фоне гор возникают пухлые губы певички с Украины.
Входит жена – сухая, чопорная, с волевым прикусом. Дерябкин съеживается, как будто боится принять удар. Но нет, проносит. Скаутмастер облегченно вздыхает. Она проплывает с подносом в подсобку. А он смотрит в записной книжке – кто завтра на прослушивание.
III
В конце 80-х на станции новое хобби – радистки. Невесты по вызову. Термин взяли из бессмертного Штирлица: там есть “радистка Кэт”. В разгар Перестройки им, радисткам, облегчили выезд из Союза. Стало возможным вызывать их по приглашению в Мюнхен. Все эти девицы – из Сибири, с Урала, из Питера… Москвичек не любят – капризны. Сотрудники пишут в приглашении, что обязуются обеспечить их жильем и содержанием.
Они их кормят, поят и имеют по полной. Не только ньюсмейкеры, но даже ничтожные корректоры и копи-бои имеют набор отборных девок по вызову. Они их трахают и трахают, и трахают. Потом прощаются и вызывают новых. Отходный промысел. Но времена меняются, и девки становятся умнее. И начинают цепляться за Германию. Что многим удается. А между сотрудниками вспыхивают ссоры – из-за этих самых радисток. Товар становится дороже, а сами радистки умело вбивают клин промеж самцов. Радистки не хотят назад в Россию, они хотят шопить в Неметчине по полной. Наступает кризис жанра. С распадом СССР этот жанр прекращает существование: все россиянки могут выезжать в Германию без особых ограничений.
IV
Денис Пекарев и Егор Фишман вызывают из Совка одну и ту же радистку. Это случилось по ошибке: копи-герл Марина, известная сводница, скинула им один и тот же адрес девушки из Самары. Наташа, так зовут радистку, сперва живет у Фишмана. Целый месяц. Он любит ее, балует. Потом она сворачивает шмотки и переселяется к Пекареву: он обещает на ней жениться и обеспечить ПМЖ в Германии.
Следует разборка. Они встречаются на узкой тропе в Английском парке – Фишман и Пекарев. Рука Фишмана сжимается в кулак и почти что обрушивается на переносицу Пекарева. Но разум возобладает, драки не будет. Соперники расходятся. Она остается с Пекаревым, а еще через две недели приступает к работе на радио “Свобода” в качестве копи-герл. Теперь ее из Мюнхена клещами не вытащить.
V
Кадровик Дон Вест – высокий, дородный мужчина с холеным лицом и щеточкой седых усов. У него широкий таз, как у большинства американцев. Когда он шагает по коридорам радио, все почтительно расступаются. Его появление на радио не случайно, как и у всех. На рейсе Лондон – Нью-Йорк он познакомился с одним из директоров станции и позабавил его секретами эльзасской кухни. После чего был зачислен.
Вест – типичный представитель современной западной, и прежде всего американской бюрократии, у которой все ушло в хитрость и гедонизм. Главное – не принять опасного решения и не сморозить глупость, имеется в виду – не допустить что-нибудь политически некорректное.
Остальное – по фигу. Белоснежные улыбки, ласковые комплименты и беспощадная кадровая политика в вопросе найма и увольнений. Вот это – нынешний Запад.
Он сидит в крутящемся кресле, часами говорит по телефону, пьет кофе, потом покидает кабинет. Выходит на Оттингенштрассе, окидывает взором корты, чистые аллеи. Вест очень рад, что он не в Штатах. Здесь – культура, белые люди, чудесные биргартены и социальная защита. А там – заплеванные неграми тротуары, невкусная еда и постоянная угроза увольнения.
Вест выходит из здания, важно застегнув светлый пиджак, садится в трамвай и едет до Шиллерштрассе. Там он выходит, садится в баре, выпивает кружку “хеллес”, выкуривает сигарку. Затем заходит в секс-шоп, удобно располагается в видеокабине, смотрит двенадцать или тринадцать порнопрограмм, а затем, достав салфеточку, самоудовлетворяется. Выходит из кабины с непроницаемым лицом, садится в трамвай, неторопливо едет домой. За ужином говорит с женой о станционных проблемах. Ночь проходит спокойно. Утром он снова на радио.
Повышение по службе
Февраль 93-го. В этот вечер Иван пьет с Дженнингсом. Как обычно, Дженнингс интересуется всем, что происходит в русской службе, делает короткие пометки в записной книжке. Кто с кем из насекомоядных спит, кто проигрался в казино, кто тайно сочувствует Советскому Союзу. Они сидят в гостиной на вилле Дженнингса. Жена американского разведчика ушла спать наверх, и они поглощают Maker’s Mark – любимый напиток американца. Это куда лучше, чем надоевший Jack Daniels. Пятнистый сеттер лежит у их ног.
Дженнингс недоволен. Он говорит Ивану: “Долбаные журналисты подставили нас! Опять поганая статья в “Нью-Йорк Таймс”! Какой-то вредитель сидит на станции и снабжает прессу компроматом”. Иван держит постную мину – из солидарности. Алкоголь уже ввел его в благостное состояние. Ему ясно, что компромат сливает изгнанный с позором Матусевич. Но надо ли говорить это Дженнингсу? Тот сам сворачивает тему: “Ладно, забудь!”
Они по-мужски напиваются, им не мешает тоталитарная американская жена. В такие минуты Ивану начинает казаться, что он понимает душу белого американца. Это самые несчастные люди на свете, на них давят политкорректность, начальство, жены, законы о харассменте… Американец хотел бы все послать подальше, как русский мужик, а его ограничивают даже в алкоголе и табаке.
Ночная пьянка с Дженнингсом. Разговор на полутонах. Очень напоминает ему разговоры с Гюнтером в Грюнвальде и Игорем Сергеевичем в Будапеште. Почему он так ценит чекистов? Он и сам толком не знает.
А кто такой Дженнингс? Он честный американский разведчик. У него печальные глаза – по долгу службы. Такие же глаза у немца Гюнтера и у русского Игоря Сергеевича. Их печалят досье, к которым они имеют доступ. А в этих досье – продажная человечья натура. Наверное, Дженнингс любит свою Родину. Но куда больше он любит свою семью, свою собаку. Иван видел, как по воскресеньям Дженнингс обедает с семьей в “Пицца-хат”, как нежно помогает детям, как терпеливо жует вместе с ними пиццу и запивает кока-колой.
Уже за полночь Дженнингс делает ему предложение. Иван может стать начальником отдела новостей. До сих пор отделом командовал Уэйн Браун – пожилой американец, когда-то взятый на воспитание семьей эмигрантов из России и говорящий по-русски. Но он уже сошел с ума, этот старый хрыч. Нужен новый, цепкий человек, хороший интерпретатор и коммуникатор. Иван подходит на это место. Он далек от склок власовцев и сионистов, монархистов и демократов, он сам по себе, он абсолютно отчужден, и это очень устраивает Дженнингса. Иван – настоящий человек без свойств, каким и должен быть разведчик или писатель.
Дженнингс дает ему необходимый инструктаж: никому не препятствовать, не мешать. Соблюдать лишь элементарную трудовую дисциплину. Он сам зорко следит за тем, чтобы националистические и экстремистские тенденции насекомоядных не прорывались слишком сильно. Тогда это нарушает интересы США. Нужно бить правой рукой сионистов, левой власовцев, а ногой – скотоводов из “бабайских” редакций.
Ивану смешно. Его внутренний имам смеется. Он даже мог бы написать псевдонаучный опус в духе Шпенглера – типа, срединный путь между сионизмом и черносотенством, или опыт прохождения отрешенной мысли по ту сторону идеологем.
– Гораздо важнее, – считает Иван, – трахаться и пить хорошее вино. А также греться на солнце и плавать в Изаре. Каждый раз, когда он идет на работу через Английский парк, Иван любуется бурлящим потоком Изара, в котором барахтаются отчаянные юнцы. Иногда ему кажется, что настоящие эсэсовцы обладали такой же ледяной отвагой. Их принцип чести вводил их в круг почетных смертников.
Короче, он дает согласие. Дженнингс обнимает его: “Я так и знал, мой мальчик!”
От Дженнингса он с трудом добирается до “Арабеллы” на такси. Главное – не заблевать сиденье. Поднимается на пятый этаж, входит в апартамент. Видит привычную сцену. Катя пьяная лежит поперек кровати, пес Чук скулит на собственной луже, а телевизор показывает ночную картинку для усыпления бюргеров – бесконечное полотно железной дороги под стук колес.
Она спит. Раскинув ноги в пеньюаре. Бутылка водки на полу. Он чувствует непреодолимое желание. Приближается уже в напряженном состоянии и начинает равномерные движения. Она мычит, но не просыпается. Чук скребется в дверь. Почему она назвала пса Чук? Он думает: “Неплохо бы нанять кинооператора и заснять сцену секса. Ведь никто потом не поверит, что у него так хорошо стоит”. За окнами – бледно-розовый рассвет. Солнце встает над “Арабеллой” и престижным районом Богенхаузен.
Он продолжает терзать ее, пока скулеж Чука не становится невыносимым. Катя просыпается, поднимает трубку, звонит в соседний номер: “Илона, выручай! Собаку надо выгулять”.
Илона Шварц – молодец. Она заходит с бутылкой холодного “Мумма”. Они выпивают по бокалу, и приятная легкость разливается по телу.
“Мумма” недостаточно. Из холодильника достается бутылка “Абсолюта”, красная икра и соленые огурчики. Красная икра поступает из Союза, то бишь из России. Каждый, кто приезжает на станцию, обязан везти дюжину банок красной икры. Другой валюты в Совке нет. Штабеля красной икры громоздятся в холодильнике у Ивана и других сотрудников. С огурцами – сложнее. Немцы потребляют лишь маринованные, кисло-сладкие. Умельцы под Мюнхеном наладили производство бочковых соленых огурцов и продают их в русском магазине “Иван”.
После нескольких стопок водки становится намного легче. Иван ставит видеокассету времен Перестройки. На сцене – Рубашкин поет “Мурку”. В зале “Россия” ему аплодирует советская элита, в первом ряду Горбачев с Раисой.
Иван поднимается с фужером водки, звенит вилкой по стеклу: “Прошу тишины! Важное правительственное сообщение: начальство приняло решение – назначить меня шефом отдела новостей”. Пауза. Илона потрясена. Катя бросается ему на шею.
Туманов, или Безответная любовь
Август 1993-го, унылая пора, воскресенье. Сотрудники станции оттягиваются по баварским биргартенам. Иван сидит на ньюздеске, проверяет какую-то новость по Приднестровью. Скучно. Звонок. Его вызывает Дженнингс. Ему тоже скучно. Наливает кофе, осведомляется, как в редакции. Сидят в кабинете с окнами на Английский парк. Разговор переходит на знаменитых персонажей станции. Неожиданно Дженнингс спрашивает: “Ты что-нибудь слышал об Олеге Туманове?” Иван отвечает не сразу.
Да, он видел его по телевизору еще в Москве, в апреле или мае 86-го года. Пухлый картавый человек с бородкой рассказывал в пресс-центре АПН об извращенцах на радио “Свобода”.
– А больше ты ничего о нем не знаешь? Ах, этот Олежка…
Ты мне его напоминаешь, в каком-то хорошем смысле… – Дженнингс прокашливается. – Я так и не понял, почему он вернулся в Россию.
На станции Иван часто слышит о Туманове. Это имя обросло легендами и домыслами. Иван пытается собрать крупицы информации. Ему интересен этот человек: вероятно, он и есть герой нашего времени. Супершпион или одна из жертв “холодной войны”? Иногда ему кажется, что Туманов – его двойник.
На станции Туманова любили все – евреи-диссиденты, власовцы-монархисты, американское начальство. Он всем пришелся по душе. Все подмечают хорошие манеры Туманова: “Он такой обходительный, такой милый! Его картавый голос ему так шел”. Все отмечают его душевность: “Он такой добрый, такой забавный… ”
Судьба Туманова полна загадок. Туманов – история, полная чудовищной лжи и удивительной правды. История простого советского парня. История запутанных ходов и неувязок, несбывшихся мечтаний, история “третьей эмигрантской волны”. Вот то, что Ивану удалось узнать, добавив собственную версию событий…
Московская школа, туалет, начало 60-х. К подростку Олегу Туманову подходит пацан из параллельного класса: “Ну-ка, затянись!” Олег затягивается папиросой, надрывно кашляет. Врывается завуч, отставной чекист Николаев: “Накурились, понимаешь! Туманов, срочно в мой кабинет!”
В кабинете – человек неприметной наружности. Он говорит: “Я из штаба народной дружины. Мне хвалили тебя, есть разговор”. Они выходят на улицу. Общаются.
Вскоре Туманов узнает, что посетитель – из КГБ. Его появление не случайно. Он курирует школу, ищет молодой резерв. Ему нравится Туманов. В парне есть ласковая обходительность, которая отличает настоящих агентов. Настоящие разведчики – люди учтивые, они чувствуют друг друга по специфическим сигналам, почти как пчелы.
Месяц спустя. В квартире у Тумановых. Старая Москва, стол, самовар. В гостях – куратор, он же дядя Сережа. Он предлагает Туманову заняться спортом, учить английский и поступить в народную дружину, что дежурит у “Метрополя”. Туманов ленив и апатичен, но что-то в словах куратора пробуждает его интерес. Он соглашается.
Дядя Сережа не уйдет из его жизни. Подобно ангелу-хранителю, он будет появляться в самые важные моменты. Он сидит на трибуне, когда Саша играет в баскетбол за районную команду. И много лет спустя он встретит Туманова в Вене, чтобы передать ему таблетки от алкоголизма.
Пишущие о разведке не понимают самого главного. Что движущая сила этого бизнеса – любовь.
Любовь к родителям, к партнеру, к куратору. Без этой интимной связи разведка невозможна. Это ласковое, вкрадчивое, глубоко личное сопереживание. А деньги и награды – второстепенны. Маркус Вольф понимал это лучше других.
Два года спустя дядя Сережа говорит: “Я знаю, ты оканчиваешь школу, готовишься в институт. Но у нас на тебя другие виды. Ты не хотел бы как настоящий парень пойти на флот?” Туманов удивлен, но понимает, что так надо. Он соглашается.
Ночь с 18 на 19 ноября 65-го года. Советский военный корабль стоит на рейде в бухте эс-Саллум. В километре – египетское побережье, у самой границы с Ливией. Матрос Туманов вешает ботинки на шею, на цыпочках крадется на палубу, соскальзывает по канату вниз. Мерцают береговые огни. Он незаметно отталкивается от корабля и плывет к берегу.
Он выбирается на песок, лежит, тяжело дышит. Выползает на бархан. Одинокий бедуин на верблюде машет ему рукой. Туманов выливает воду из ботинок, берегом моря идет на запад. На границе даже нет проволоки: он в Ливии. Бедуин плетется сзади, что-то бормочет. Туманов не понимает по-арабски. Но полицию находит. Просит убежища. Ливийцы передают его британцам, а те – американцам.
Допрос во Франкфурте. Сидят пять офицеров американской разведки. И представитель БНД. Его проверяют на детекторе лжи. Что самое удивительное – он почти сдает тест. Кроме пары моментов. Они не понимают, врет он или нет. Но его берут. Наверное, выручили искренность и талант человечности. Туманов смотрит на них наивно и доверчиво, его пухлые губы шепчут беззвучное “ребята, помогите!” Они видят эти ласковые зеленые глаза, пухлые губы и сами чувствуют неизъяснимое доверие. В результате с небольшим перевесом голосов комиссия решает – допустить к оперативной разработке.
После обычных “клиринга” и “дебрифинга” его переводят в Мюнхен, на радио “Свобода”. И сразу назначают в отдел новостей. Туманов не окончил ничего, кроме советской средней школы. Но он – грамотей на фоне эмигрантов-власовцев, которые не знают толком русского, а у него за сочинение “образ Базарова” в советской школе всегда стояла твердая четверка.
Туманов – ньюсрайтер в отделе новостей. Сидит, стучит одним пальцем на пишущей машинке. На дворе – 1966 год. Он переводит тексты из английских и русских источников, обрабатывает их для вещания и читает новости в специальной звукоизолированной студии. Все то же, что делает нынче Иван… Работа не пыльная, нагрузка минимальная. В те годы вещание ведется неспешно, новости многократно повторяют в записи. Это значит – накропал и иди на перекур. В кантине Туманов трепется с коллегами, возвращается в отдел новостей, где копи-бой или копи-герл распечатает ему листочки, заварит кофеек. Это бедные русскоязычные эмигранты, в основном из перемещенных лиц. Они очень послушны и участливы. Они рассказывают ему о своей жизни, а он слушает и утешает.
Так проходит год. Он осваивается, его любят. Даже суровый начальник секретного отдела вызывает его на доверительные беседы: они пьют виски и говорят о русских женщинах.
Особенно ему нравится кантина. Здесь подают пиво, вино и шнапс. Иногда дерутся представители народов СССР, или, как их уже тогда называли, бабайских народов. Пиндосы-американцы с любопытством наблюдают за этими шалостями. Официантка Хельга разносит по столам домашние обеды: шницели, котлеты и даже солянку. Она научилась русской стряпне еще в ГДР.
Начальник русского отдела новостей – Александр Перуанский. Он родился в Иране, в семье белогвардейцев. После войны издавал какую-то эмигрантскую газетенку в Тегеране. Кто завербовал его и привез в Европу – британцы или ЦРУ, – Туманов толком не знает. Да это и не важно.
В этом же отделе работает красавица-парижанка Ариадна. Она – любовница Перуанского, тоже из семьи белогвардейцев. Окончила Сорбонну. Работала на французскую Сюртэ под кличкой “Блонди”, собирала информацию на торговых ярмарках в Москве. Потом ей надоели французы, она переместилась в Мюнхен. У нее с Перуанским странный, мучительный роман.
Туманов втирается к парочке в доверие. Приносит шампанское, бегает за сигаретами. “Он милый, да?” – говорит Ариадна Перуанскому. – “Да-да”, – поддакивает тот, а у самого уже созрел план. Он хочет сосватать ее Туманову.
Месяц спустя, поздний вечер. Перуанский вызывает его. Он курит одну сигарету за другой. Перед ним бутылка водки: “Старик, помоги! Жена подала на развод, мне необходимо расстаться с Ариадной!”
Перуанский обращается с просьбой, в которой трудно отказать: “Олежка, помоги! Я не останусь в долгу”.
Туманов просчитывает ситуацию и соглашается.
Еще неделю спустя: Туманов в постели с Ариадной. Он гладит ее смуглое тело. У нее на пальчиках ног – маникюр. Тело ухожено. Она знает толк в любовных играх. Недаром работала секретаршей у Брижит Бардо. Туманов сам считается неутомимым трахальщиком, его за это ценили все бабы, пока он не спился. Итак, они в постели. Слушают томительные французские шансоны, пьют немецкое шампанское “Хенкель”. На радио “Свобода” кто не пьет водку, пьет “Хенкель трокен”. Такова традиция.
И вот – подписано распоряжение начальства. Он назначен главным редактором русской службы.
Зарплата подскакивает вдвое. Он поселяется на отдельной вилле. У него в доме – иконы, ценные книги, картины.
С этого момента начинается сплошная гулянка, в которой принимает участие и американское начальство. Туманов развлекает всех, он – душка. Но что-то терзает его. Когда все уходят, он становится на колени перед иконой и молится. И рвет на себе рубашку.
Переломный момент наступает в начале 70-х: через проезжего туриста он получает письмо из Москвы. Отец умоляет Олега не губить карьеру – его и брата. Просит возобновить сотрудничество с КГБ.
Туманов долго думает. Вся его жизнь построена на спонтанных рефлексах: они не подводят. Ему не нравятся свинские рожи вокруг. Он любит западный комфорт, но не любит западных людей. А эмигрантов вообще не считает за людей. Поэтому его ответом будет “да”.
В 72-м году он вылетает в Западный Берлин. Садится на эс-бан и, как указано в записке, едет до остановки “Фридрихштрассе”. Проходит потайную дверь. Его встречают, везут на виллу в Карлхорст. Его встречает дядя Сережа. И там же – генерал ГБ Потапов. Знакомится с ним лично.
Так начинается его работа на советскую разведку. Туманов ленив, не любит писать отчеты, и, приезжая в Карлхорст, он беспрерывно пьет на вилле, а в перерывах диктует машинистке. Протрезвев, возвращается в Мюнхен, к Ариадне.
1973 год. Туманов с Ариадной на Канарах. Весь день купаются, пьют, занимаются любовью. После любовных утех он курит сигару, она – накладывает педикюр.
Темнеет, они сидят на балконе, пьют вино – стакан за стаканом. Волны накатываются на пляж. На небе выступают звезды. Туманов – в сентиментальном настроении. Закуривая очередную сигару, говорит: “Вот если бы “они” мне подкинули деньжат, я бы купил квартиру на Канарах”. – “А кто такие “они”?” – И тогда он открывает ей тайну: “Я – русский агент, а “они” – люди с Лубянки”. Она думает, что он сошел с ума. Но он говорит: “Да-да. Я уже давно работаю с ними. Хочешь мне помочь?” Немного поразмыслив, Ариадна соглашается. Она шепчет: “Олежка, я буду с тобой. Я тоже хочу помочь России”.
В 1974 году они летят в Западный Берлин. Туманов ведет ее привычным путем. Они меняют линии метро, садятся на эс-бан до пограничной станции “Фридрихштрассе”. Там Олег заводит ее в подземный магазинчик, затем ведет по узенькому коридору к туалетам. Нажимает на кнопку у запертой двери. Дверь открывается, и они попадают на улицу. Здесь их ждет машина с шофером.
Следующая сцена: вилла в Карлхорсте. Они заходят в комнату, где сидят два офицера КГБ. Туманов удаляется.
Офицер говорит ей серьезно: “Вы много знаете. Жизнь Олега в ваших руках. Если вы любите его, работайте с нами”.
В течение трех дней ее инструктируют. Ариадна получает список вопросов, план встречи со связными в Вене, шифровальное устройство. Она ничего не понимает в технике, и ей предлагают все материалы по станции привозить в Вену лично. Потом офицер говорит ей: “Вам нужен взнос, чтобы купить квартиру на Канарах? Распишитесь в получении пяти тысяч марок”.
Обычно она ездит в Вену по субботам. Во время таких встреч связной садится напротив с блокнотиком и спрашивает о сотрудниках станции, о руководстве, внутренних проблемах. Почти всегда вопросы о Туманове, о его вредных привычках. И предупреждение – если что-то нарушится между ними, хранить молчание и не пытаться мстить. Каждый месяц она получает восемьсот марок на поездки и карманные расходы. Сущие пустяки.
Тем временем Туманов продолжает пить и гулять. Он дружит с Леонидом Пылаевым. Их сближает алкоголь. Пылаев ведет его к себе, достает проектор, показывает фильм. Тот самый, где он трахается с проститутками в гараже. Он имеет их во всех позах, проститутки молят о пощаде. Леонид ржет. Туманову тоже весело.
Раз в месяц Туманов летает в Берлин. Привычным путем проходит через потайную дверь на “Фридрихштрассе”. Привозит личные дела сотрудников станции и конфиденциальные меморандумы американцев. Только в 1974 году он передал связному больше десятка томов, как скажут чекисты, важной информации. После каждой поездки Туманов уединяется и принимает алкоголь во все возрастающих дозах.
Потребность опохмелиться все сильнее. На станции он спешно раздает задания в отделе новостей, выходит в Английский парк. Заказывает пиво у Китайской башни и жадно выпивает литровый масс. Ему становится легче.
Сидит в биргартене, ковыряет в ухе, смотрит на мир сквозь золотистые очки. Лай беззаботных немецких собак на большой поляне все громче. Янтарный “хеллес” в кружке делается еще ярче, люди вокруг – симпатичней. Солнце просвечивает сквозь листья. Что это – момент реальности? Где он?
Туманов раздобрел, отпустил бородку, подобрал дымчатые очки, скрывающие мутный взгляд, и стал похож на русского интеллигента начала века. По-прежнему летает на Канары отдыхать, а в Лондон одеваться.
Он приезжает на очередной отчет в Восточный Берлин. К беседам подключается и дядя Сережа. Он постарел, хромает. Но регулярно посещает его родителей в Москве. Отводит в сторону, кладет руку на плечо: “Олежка, я слышал, ты много пьешь. Зачем? Остепенись!”
1978 год. Роман Туманова с Ариадной завершается. У нее обнаруживается болезнь, характер портится. Ариадна стареет на глазах, у нее трясутся руки. Врачи ставят страшный диагноз – Паркинсон.
Туманов все чаще летает в Лондон. Он одевается на Бонд-стрит, в “Хэрродсе”. Любит хорошие пиджаки и галстуки. Завязывает галстук особым виндзорским узлом. Смакует дорогой солодовый виски. Еще он любит антикварные лавки. Покупает русские иконы, старинные царские монеты. В 1978 году друг Влад знакомит его с молоденькой эмигранткой Светланой.
Мы слышим: звонок в дверь. Мы видим: Светлана открывает. Они вваливаются, веселые и молодые. Туманов и его друг Влад. В пакете – шампанское. Гуляют весь вечер. Туманов влюбляется в Светлану. Ей нравятся его широкие плечи, бархатный голосок, ласковые манеры. Но он на четырнадцать лет старше ее.
Май 1978-го. Туманов привозит в Мюнхен Светлану и женится на ней. Ариадна в трансе, хочет выпрыгнуть из окна, потом – зарезать Туманова.
Пригоршнями ест седативы. Едет на встречу в Вену. Связной КГБ внимательно выслушивает ее, потом говорит: “Прошу вас, успокойтесь. Он бросил вас, но вы не должны вредить нашему общему делу. Олег в ваших руках. Если вы любите его, не пытайтесь ему мстить”.
1979 год. Очередная пьянка у Тумановых. Проводив гостей, Олег выходит на балкон, смотрит на звездный небосвод. Обнимает Светлану: “Где тут Восток, где Запад и где мы?” Она показывает на Запад. Но он берет ее пальчик и уводит его на Восток: “Киса, ты самый дорогой мне человечек, я все сделаю для тебя, но я работаю на КГБ”.
Светлана в шоке. Она выходит утром из дома, садится на трамвай и делает круги по Мюнхену. К полудню голод пересиливает страх. Светлана идет в баварскую пивную “Донизль” и выпивает литровую кружку пива. После этого ею овладевает приятное равнодушие. Она согласна.
Попойки в доме Тумановых продолжаются. Светлана становится его помощником. Без ее одобрения в русскую службу не берут ни одного сотрудника. Вскоре Туманов ведет ее по маршруту Ариадны: везет в Вену и Восточный Берлин, где она соглашается работать на КГБ.
Дочь Александра родилась в 1982 году.
Мюнхен, 1985-й. Прекрасно обставленная вилла, афганские ковры, камин. Перед Тумановым лежит русская борзая. Он курит сигару, запивает ирландским виски и смотрит на себя в зеркало. Ему сорок лет, он свеж, еще в хорошей форме, но от алкоголя под глазами наметились мешки.
Входит яркая молодая женщина. Неужели это его жена? Она говорит: “Сегодня поедем в Гармиш”. В Гармише – друзья, такие же придурки из бежавших русских. Они пьют до рассвета виски, купленное в американском Военторге. Слушают записи Юрия Антонова. Ночью она просыпается и видит странную сцену: Туманов в трусах молится у иконы на коленях. Плачет и что-то шепчет.
Туманов продолжает пить. На встрече со связником Светлана просит помочь – вылечить его от алкоголя. Куратор соглашается. Туманова на неделю вывозят в Союз, помещают в спецлечебницу, зашивают. Но это не помогает. Он пьет по-прежнему.
Февраль 1986-го, ситуация накалена до предела. Туманов спивается. Светлана оформляет развод и с дочкой переселяется в отдельный номер в “Арабелле”. Соседи часто видят, как он, пьяный, сидит у них под дверью, плачет, просит впустить.
Потом, шатаясь, возвращается к себе. Надрывно звонит телефон: это больная Ариадна требует денег, угрожает разоблачить.
Что делать? Развязка наступает сама собой.
Ошибка резидента
Весна 1986-го. В Афинах сбегает полковник КГБ Виктор Гундарев. Он сообщает американцам про важного агента в Мюнхене. Разоблачение Туманова – вопрос недель.
Туманов должен вернуться. Ему звонят, и тихий голос говорит, что заболел отец. Он не хочет возвращаться. Ему хорошо в Мюнхене. У него пятьсот тысяч марок на счету. Он любит китайский суп “ван-тан” и водку “Абсолют”. Но нечто неумолимое нависает над ним: это приказ из Центра. Ему страшно. Он не может ослушаться.
Неподвижный крупный план: бисерные капли пота на лбу. Туманов курит: “Возвращаться или нет?” Но сам понимает, что этот вопрос излишен.
Он уходит с работы, говорит, что плохо себя чувствует. Идет в банк, снимает деньги. Потом заходит в китайский ресторан, набирает “весенних пирожков”. Давится ими на ходу. Покупает авиабилет в Западный Берлин и вечером летит. Оставив в квартире все как есть – коллекцию икон, фотографии, библиотеку.
В Берлине он как всегда едет на эс-бане до “Фридрихштрассе”. Через потайную дверь проходит в Восточный сектор. Там его ждут.
Вилла в Карлхорсте. Ночь. Бутылка “Корна”. Приходит генерал Потапов. Садится, задирает ногу. Под брючиной – дешевый советский носок с распущенной резинкой. Ведет с ним беседу. Больше похоже на политинформацию. Благодарит за выполненное задание. Туманов немного разочарован. Его переправляют в Союз.
Кадр: апрель 1986-го, центр АПН в Москве. На сцене – столик. Сидит Туманов, он в бархатном пиджаке, на шее шелковый платочек, глаза скрыты за дымчатыми стеклами. На него с галерки наставляет проектор полковник Виталий Юрченко, сам недавно перебежавший и вернувшийся. Туманов говорит хриплым голосом: “Радио “Свобода” как было, так и осталось шпионско-пропагандистской радиостанцией. А русская служба радио – это сборище извращенцев и ублюдков!” Юрченко подмигивает ему, в зале аплодисменты.
Западная пресса оценивает выступление в духе “холодной войны”: Tumanov’s sweaty, mumbling performance drew open disbelief and derision from the more than 100 Western reporters who had been summoned to the carefully scripted propaganda show. (Туманов потел и мямлил, его выступление вызвало недоверие и насмешки у более чем ста западных журналистов, которых созвали на это тщательно отрежиссированное пропагандистское шоу.)
Аплодисменты советских гостей в зале стихают. Следующий кадр: квартира на Цветном бульваре, которую ему дарят за службу. Друзья и кураторы празднуют возвращение блудного сына. На столе – закуска, бутылки водки. Туманов гуляет. Особым распоряжением органов ему позволяют оставить пятьсот тысяч марок, которые он накопил в Мюнхене. Этих денег хватит на несколько лет пьянки.
В Мюнхене его хватаются через несколько дней после бегства. Большой группой американские и немецкие следователи входят в квартиру, допрашивают жену. Проводят обыск. Она ничего не знает. А они не верят.
Уже после бегства Туманова, в октябре 1986 года Светлана получает записку от связного и едет в Берлин. Проходит привычным путем через потайную дверь на “Фридрихштрассе”, получает инструкцию и возвращается в Мюнхен. Через сутки ее арестовывают. Обвинение – нелегальный переход границы. Она сидит в тюрьме полгода и получает пять лет условно.
1988 год, Светлана на свободе, приезжает с дочкой в Москву, разыскивает Туманова. Он встречает их помятый, заспанный, в засаленном халате. Не сразу узнал, потом увидел дочку, обрадовался. Провел в квартирку, на столе – остатки вчерашней трапезы. Светлана предъявляет претензии – как смеет он брать деньги с их общего счета, ведь это все – для образования дочери.
– Это – мой счет, – спокойно отвечает Туманов. – Не лезь в мои дела. – После этого они расстаются навсегда.
1992 год. Советского Союза больше нет. КГБ в кризисе, кураторы его покинули. Деньги тоже кончились. Он сидит в своей двухкомнатной квартирке на Цветном. На нем – все тот же засаленный халат, борода нечесаная, глаза слипаются. На столе – пустая поллитровка и засохший бутерброд. Не мешало бы сходить в ларек, но тело непослушно.
Он пишет: “Сейчас я очень редко покидаю свою квартиру. У меня нет работы, и я живу на пенсию, которую мне платит государство. Я провожу дни, читая книги и газеты. Я рано ложусь спать и встаю поздно. Мне сорок восемь лет, но иногда я чувствую себя очень старым”.
Звонок в дверь. Приходит дядя Сережа. Как-то ссохся, поседел, сильно хромает. Они садятся за стол, опрокидывают по сто грамм. Дядя Сережа печален: его уволили в запас. В эти дни в органах увольняют всех. Дела идут неважно: дочка не вышла замуж, жена пилит. На пенсию прожить невозможно, а возраст не позволяет идти в охранные структуры. У него прогрессирует артрит, и требуется операция на бедре, но организация уже не берет на себя расходы. Они обнимаются на прощанье и расстаются навсегда.
Звонок. Еще звонок. Он не берет трубку. Он смотрит на фотографию. На ней – Ариадна, Перуанский и – он, Туманов.
Спирт. Алкоголь. Радужная оболочка искрится. Раздраженные веки. Чепуха. Он берет и вешает трубку.
Туманов умирает в Москве одинокий, спившийся, никому не нужный.
Ариадна тоже умирает в полном одиночестве, но в Мюнхене. Поговаривают о самоубийстве. Некролог не публикуют. В начале 90-х ее разоблачили как агента, но проявили снисхождение и оставили на свободе.
В истории Туманова Ивану не нравится то, что она звучит как вариация судьбы его самого и сотен других перебежчиков. Он будет делать все, чтобы такое не повторилось!
Осень 1993-го
21 сентября 1993 года. Иван, зевая, готовит выпуск. Попивает кофе, курит, ждет конца смены. В фокусе зрения – бегущая строка новостей. Там все больше о противостоянии Ельцина и Верховного Совета. Оно продолжается с марта. Теперь приближается развязка. Подбегает главный редактор с пометкой “молния”: указом Ельцина Верховный Совет распускается, на 12 декабря назначаются новые парламентские выборы. Хасбулатов с трибуны Верховного Совета: “Ельцин решился на государственный переворот!”
Русская редакция приходит в движение. Бегает с листиками комментариев Виктор Федосеев. В кантине под пиво и шнапс шумит народ. Юлиан Панич сидит с трубкой, объясняет суть событий урало-башкирской службе. Савик Шустер не вылезает из кабинетов начальства, доказывает, что надо вести репортажи с улиц Москвы. Гендлер запасается бутылками виски, остается ночевать в кабинете.
По коридору ковыляет на лошадиной стопе Глеб Рар. Останавливается у карты расчлененного СССР, тыкает палкой в розовую тушу России и говорит: “Рано делят шкуру неубитого медведя!”
В кантине оживленно обсуждают – что будет в случае окончательного развала. Татарин Нардиев задумчиво говорит: “Может быть, теперь мы создадим татаро-башкирскую республику?”
Взрывается диспут. Нардиев: “А ваша Россия, как жадная старуха, держит в когтях громадную территорию Сибири и Дальнего Востока, которая жизненно необходима молодым народам Востока!”
Энтээсовец Рар: “А вас, ордынцев, американцы держат на цепи, чтобы спустить на русского медведя!”
Панич прошел, фыркнул: “За общим столом сидят, едят хлеб хозяина и ругают его. Какая низость!” Картинки по Си-эн-эн множатся: Белый дом вооружается, обрастает сторонниками. Стекаются казаки, баркашовцы. Проходят митинги. Все уверены, что дело идет к большой драке. Радийное начальство дает распоряжение: направить в Москву людей – на усиление бюро. Почти все отказываются. Хотя в день платят сто долларов командировочных, ехать в эту грязь и слякоть мало кому хочется.
Среди старых сотрудников желающих ехать нет вообще. Кто-то хорошо наладил вывоз икон и икры из России, кто-то перепродает квартиры в Мюнхене.
На хрен им эти сто долларов? Иван – другое дело. У него нет накоплений, он не оборвал внутренних нитей с исторической родиной. Он не против командировки.
Корпункт радио “Свобода” в Москве открыт весной 1992 года. После провала августовского путча Ельцин своим указом разрешает радиостанции вещать на территории России, дает каналы связи, помещения. Тогда же Ельцин награждает “Свободу” грамотой – за вклад в дело демократии. Эта грамота висит в рамке у кабинета президента станции в Мюнхене. Любопытный документ.
Да, Иван не против съездить в Москву. Он соскучился по острым ощущениям, по русским женщинам, хочет увидеть жену и дочь. А также отвлечься от мыслей о Кате. Но не припомнят ли ему бегство наследники КГБ? Он советуется с Марком Дейчем. Тот говорит ему: “Теперь можешь ехать. У КГБ вырвали клыки”. Иван не верит, подает в российское консульство запрос, и визу выдают. Ее шлепают в немецкий паспорт, который он получил летом этого года.
Мысли о России, недолгие сборы. Он пакует рубашки, шоколадки и виски. Покупает для дочки фирменные майки и джинсы, косметику для жены.
Снова Москва
2 октября 1993 года. Самолет, подпрыгнув на полосе, садится в Шереметьево. Дождь, полумрак. Рядом с ним – вечно пьяный сотрудник белорусской службы Сташук.
Иван приезжает в Россию как корреспондент “Свободы”. Прошло ровно четыре года, как он покинул Союз. Теперь он иностранец, агент западного влияния, но это сейчас приветствуется в Москве. Дух перестроечной демократии еще жив, элита обожает Запад.
Таможенники их не проверяют, смотрят телевизор. Они со Сташуком проносят деньги, которые разложены по карманам, прилеплены скотчем к радийной аппаратуре. В случае обнаружения эти деньги просто переходят к погранцам. Но те под мухой и не цепляются. В стране анархия.
Эти деньги – для фрилансеров и прочих стрингеров – внештатных корреспондентов “Свободы”. Доллары возят в Москву наличкой и выдают в конвертах. Такова практика, еще со времен СССР. Иногда случаются конфузы. Посланный гонцом Эдик Вольтман недодал стрингерам гонораров на несколько тысяч долларов. Был скандал, но американцы его замяли.
Иван смотрит на веселое, пьяное лицо Сташука, и у него возникает подозрение, что не вся наличка дойдет до фрилансеров.
Мрачные, безрадостные пейзажи по пути из Шереметьева в Москву. Недостроенные объекты времен СССР. Путаны на развилке у Волоколамского шоссе. Россия – земля смерти и несбывшихся надежд? Можно сказать и так. Внезапно он вспоминает любовницу – сорокалетнюю полногрудую Анфису, с которой спал еще студентом. Бедная Анфиса! Далекий 73-й год, Тимирязевская улица, многоэтажка, ночные пляски в постели. Следуют беспорядочные вспышки воспоминаний. Усилием воли он блокирует память.
Москва встречает привычным хаосом строений. Дым над городом. Несутся облака. Хмурые лица. Пусто на душе. Он думает: в России ощущаешь себя во власти темных сил. Ужасом веет от всего этого – изломанных судеб, уродливых домов, несуразной жизни. Он въезжает в нереальный город.
Бюро радио “Свобода” на улице Медведева. Прокуренная, шумная мансарда. Работают компьютеры, телевизоры, стоят бутылки с пивом. В углу спит, прикрывшись пиджаком, Андрей Бабицкий. Он и Миша Соколов – самые отвязные корреспонденты, всегда в “горячих точках”. Говорят, что Бабицкого заводит от вида крови. Он там, где стреляют.
Показывает Си-эн-эн: У Смоленской площади идет митинг. Виктор Анпилов призывает москвичей к открытому сопротивлению властям. На экране: столкновения между сторонниками “Трудовой Москвы” и милицией.
Вместе с суровым американским ревизором Смитом Иван идет в подсобку: там бухгалтер Молчунова осторожно снимает с него пакеты долларов, считает. Где Сташук? Его не видно.
Ивана селят в гостинице “Москва”. В холле полно народу: сидят, лежат и переругиваются сотни омоновцев – их понагнали сюда со всех регионов России. Ругань, запах солдатских ботинок, водки и пота. В номере – советский декор: тяжелые гардины, шкафы 50-х годов. Заходит уборщица, протирает пол мокрой тряпкой. Выпив виски, он ложится в холодную постель. По потолку проползают тени, кто-то шумит в соседнем номере.
Гостиница “Москва”, он дремлет. Глухой свист бронхов. Он кашляет, переворачивается на бок. Свист прекращается.
Во сне он бредет в белых лосинах по незнакомой Москве, по грязной мостовой и встает в гигантскую очередь театралов у Большого. Ему даже дают две контрамарки. Билетерша на входе спрашивает, кто он: необходимо назвать род занятий. Смущаясь, Иван говорит “театрал”, она говорит “конкретней”. Он отвечает: “Деятель культуры, режиссер-актер”, и она его впускает. Он мог бы с таким же успехом сказать “полковник Советской армии”, “ракетчик-пулеметчик”.
Сон заканчивается в каких-то подсобках, в артистических раздевалках. Бегает, не находит, и путаница становится невообразимой. В наступившей панике раздается громовой возглас: “Райком закрыт! Все ушли на фронт”. Он просыпается.
3 октября. Хмурое московское утро. Пора на улицу Медведева.
Он добирается в бюро “Свободы” пешком, центр перекрыт. На завтрак всем наливают водку. Закусывают колбасой и яблоками. Пиво льется рекой.
Рассеянно слушает радио. Борис Парамонов из Нью-Йорка доказывает: “Борьба с фантомом коммунизма есть изживание послеродовой травмы. Русское сознание хочет освободиться от бремени, но не может. Нынешняя схватка имеет сакральный смысл”. Вот-вот! Свобода, Россия, Ельцин. Корабль идет непонятным курсом. Пункт назначения неизвестен. В чем причина? В законе тяготения, или всех просто сносит в сторону? Или – все дело во фрейдистских комплексах?
В полдень приходит Явлинский, у него берут долгое и скучное интервью. Явлинский самодовольно улыбается, он призывает поддержать Бориса Николаевича и жестко подавить бандитов и насильников. Иван не может понять, что находят журналисты в лидере “Яблока”. Его особенно раздражает витиеватая и скользкая манера говорить.
Вбегает Бабицкий – маленького роста, круглоголовый, смуглый. В щербинах лицо. Опрокидывает полстакана водки: “Ребята, в Белом доме говорят, у Хасбулатова ломка – кончились наркотики. Бегает в бронежилете, бьет себя в грудь”. Все ржут.
Бабицкий у микрофона:
“Как это похоже на август 91-го! Только со знаком минус. Я помню, как в августе 91-го к Белому дому привел самовольно роту танков теперь всеми забытый капитан. На его машины и вскарабкался тогда президент РСФСР, и, по-тогдашнему ощущению, именно этот поступок военного напугал ГКЧП больше, чем толпы защитников Белого дома. А уже потом с Андреем Бабицким мы бродили по кабинетам Белого дома, ждали штурма, прижав Ельцина к лифту, брали у него интервью, а я писал текст указа президента об аккредитации в России радио “Свобода”.
15.00. Иван видит на экране телевизора: многотысячная толпа, сметая милицейские кордоны, подходит к Белому дому. Омоновцы бегут. Захвачены каски, бронежилеты, дубинки, автомобили и автобусы. Женщина несет дюралевый щит, помятую милицейскую фуражку. Руцкой с балкона Белого дома обращается к сторонникам с призывом начать штурм мэрии и здания телецентра “Останкино”.
15.10. Ельцин летит на вертолете в Кремль из загородной резиденции. Все шепчутся: “Ельцин выходит из запоя!” Его ждут с томительным ожиданием. Наконец, ТВ показывает: над Кремлем зависает вертолет. С трудом вылезает президент.
К Ельцину подбегает министр обороны Грачев, берет под козырек. Лицо Ельцина мрачно и, когда он начинает говорить, превращается в маску тигра. Он приказывает начать артиллерийский огонь по Белому дому. Грачев пугается, пробует отговорить. Однако Ельцин достает могучий кулак: “Давай!” На всякий случай Грачев визирует его приказ.
16.00. Толпа захватывает мэрию. Повстанцы выводят взятых в плен помощника Лужкова и полковника милиции. Генерал Альберт Макашов изрыгает матерные команды по мегафону со ступенек мэрии: “Теперь у нас не будет ни мэров, ни пэров, ни херов!”
За ним – Руцкой в камуфляже: “Моряки Балт-флота прислали телеграмму – предатель Собчак арестован. Поступают телеграммы поддержки из воинских частей Урала и Сибири. Мы победим!”
17.00. Снаряжаются грузовики, вооруженные добровольцы направляются к телецентру.
– Я еду в “Останкино”! – Бабицкий засунул за пазуху последнюю бутылку водки.
– Положи! – истерически завизжал Миша Соколов.
Иван слышит странные звуки: бухгалтер Молчунова и фрилансер Рогаткин уединились в подсобке, как будто передвигают столы. Иван пытается отогнать мысли о жене и дочери, засыпает в кресле.
Уже темно, когда в бюро начинают поступать отрывочные сведения, что в “Останкино” идет настоящий бой. Оттуда все чаще и чаще идут с гудками машины “скорой помощи”, привозят раненых.
20.10. В Москву вводятся войска Таманской и Кантемировской дивизий.
20.45. Гайдар вещает по телевидению, призывает собраться у Моссовета, общими силами отбить атаку реакции.
21.00. Вместе с журналистом Киржачом Иван идет к Моссовету. Здесь начинается митинг. Их около тысячи под трехцветными флагами. Константин Боровой призывает демократов не брать в руки оружие, дабы “не уподобиться политическим террористам Руцкому и Хасбулатову”. Вице-премьер правительства Москвы Буравлев умоляет митингующих остаться хотя бы на час – до прибытия воинских частей. Во двор здания Моссовета вводятся более полусотни бойцов спецназа.
22.45. Он вместе с Киржачом возвращается в бюро погреться и выпить водки. Слышен голос Горбачева. Бывший президент СССР предлагает Ельцину вывести из Москвы войска, уладить ситуацию силами правопорядка, “иначе это будет Сараево, только помноженное в тысячу раз”.
Киржач злобно матерится: “Опять Меченый! Мало того, что развалил Союз, теперь и тут советы дает!”
Иван согласен: “Горби все просрал, нечего теперь вякать. Путчисты – обезумевшие совки. А Ельцин – единственный, в ком есть звериная воля и способность идти напролом”.
Он наливает водку в граненый стакан. Струйка закручивается, создает вихревое натяжение. Он бормочет: “Так что теперь придумают господа коммунисты?”
Киржач бормочет: “У коммунистов в СССР были длинные тонкие члены и компактные, подтянутые к мошонке яйца. А теперь наоборот: у них выросли короткие толстые члены и непомерно отвисшие мошонки с яйцами-грузилами. Поэтому Зюганов так ковыляет”.
Опрокинув по сто грамм, они возвращаются к Моссовету.
Здесь продолжается митинг. Боровой сообщает, что верные президенту войска движутся к столице. Егор Гайдар подходит к микрофону: он только что виделся с Ельциным, тот надеется на поддержку москвичей. Иван пытается отогнать мысли о жене и дочери.
Атмосфера оживленная. У Моссовета формируются отряды добровольцев для защиты демократии. Хотят строить баррикады на Тверской от Пушкинской площади до Моссовета. Это уже слишком! Они с Киржачом идут в “Найт Флайт”.
Москва живет привычной жизнью: работают магазины и кинотеатры, полны клиентами ночные заведения. Заходят в “Елисеев”. Иван видит лишь пару позиций виски. Ликеры – “Бейлис” и еще “Амаретто”. Полки заставлены “Советским шампанским”, а также вином “Арбатское”. Пустующие места на полках мерчендайзеры пытаются заполнить российским пивом и вином. И в ресторанах ситуация не лучше. “Виски мало, прискорбно мало”, – констатирует он. Все больше глушат водку.
Ночной клуб “Найт Флайт” на Тверской. Журналисты со “Свободы” часто заходят сюда. Здесь лучшие девки, норвежский лосось и икра форели. Как обычно, в клубе не меньше сотни посетительниц. Они сидят за столиками, за стойками, в креслах. Их прекрасные глаза вспыхивают в полумраке.
Девиц такого класса на Западе просто нет либо стоят неподъемно.
Иван и Киржач заказывают Jack Daniels, красную икру, пиво “Хайнекен”. Они провозглашают тост – за свободу. Каждый вкладывает в это свой смысл.
Киржач в бюро больше года. Он – настоящий советский журналист, работал в АПН, в “Московском комсомольце” и даже в московском бюро “Эль-Паис”.
Иван разглядывает его: масляные взъерошенные волосы, немного безумный взгляд из-за толстых линз. Видно, что нервы подорваны алкоголем и сменой власти. Периодически крестится. Проклинает жидов, масонов и коммунистов. На вопрос – почему пошел к американцам, отвечает просто: “По большой нужде!”
– Я начал с портвейна и кончил водкой, – сказал Киржач. – Ты знаешь, крысы сами по себе не пьют алкоголь. Однако если добавить его в подслащенную воду, то эту смесь они выпьют с удовольствием. А если потом постепенно сокращать содержание сахара, то крысы будут пить и чистый спирт. К чему я говорю это? А к тому, что я пью чистую водку и ненавижу Бабицких и Соколовых. И всех клеветников России. И американского ревизора мистера Смита. Но дома плачет ребенок, я должен кормить его. И я буду носить портфель за мистером Смитом.
Ивана удивляет, как теперь сервируют красную икру. В Советском Союзе отрезали от буханки белого хлеба, жирно намазывали маслом и сверху – красную икру. Здесь подают по-скандинавски: подсушенные тосты серого хлеба, аккуратно размазанная икра, но не кеты, а форели, и сверху – много мелконарезанного репчатого лука.
После четвертого бурбона Иван говорит Киржачу: “Они, блин, очертя голову бросились в демократию и капитализм. Но это не та демократия и не тот капитализм. Запад построен на добром старом феодальном праве: сеньор имеет право, и община имеет право. Сеньор не смеет топтать посевы. И общество не входит в его домен”.
“Железный романо-германский подход – скептицизм, вера, знание пороков. Вся эта система права – страховка от человеческой природы. В России такой страховки нет. Коррупция и беспредел во всем”.
Киржач не отвечает, ему начхать.
Ночь с 3 на 4 октября Иван вместе с девушкой Татьяной из “Найт Флайта” проводит на девятом этаже гостиницы “Москва”. Татьяна показалась ему самой красивой. Они разливают джин по стаканам, закусывают орешками, которые Иван захватил в аэропорту Мюнхена. Заводят кассетник с мелодиями 80-х годов. Кружатся в медленном танце. Иван обнимает Татьяну: у нее тонкая талия и чувственные губы. Наблюдение: “В России путаны могут в губы целовать. В Европе, говорят, такое сохранилось только в Испании: пережиток феодализма”.
Татьяна: тонкий, чуть утиный нос и трепетные ноздри. Чувственная натура.
Потом сидят, говорят о поп-музыке, ценах в магазинах. В конце он просит ее остаться, но она неожиданно говорит: “Хорошенького понемногу”. Хлопнув дверью, уходит. Он видит с девятого этажа, как ее статная фигурка пересекает Охотный ряд. Иван пытается отогнать мысли о жене и дочери, засыпает неглубоким сном.
У Белого дома
Раннее утро, 4 октября. Омоновцы орут на всю гостиницу. Он выпивает чашку “Нескафе”, выходит на улицу.
Голубоватый рассвет над столицей, Иван идет к Белому дому через Новый Арбат. У кинотеатра “Октябрь” группа баркашовцев, на него показывают пальцем: “Он или не он?” Наверное, приняли за члена ельцинской команды. Подходит парень в армейской шинели: “Ты кто, мужик? Ты не из этих?”
На что он: “Тихо, пацаны! Я с вами”. – Они расступаются, и он свободно проходит.
Несмотря на ранний час, на улицах много народу. Казаки, баркашовцы, просто зеваки. На перекрестках – БТРы.
Подходы к Белому дому перекрыты. Чтобы увидеть набережную, Иван решает залезть на крышу сталинского дома, недалеко от набережной. Но как?
На лавке у подъезда сидит бабища в фартуке – говорит, дворничиха. Он просит ее пустить на крышу. Бабища не может. Он достает бумажку в десять долларов: она согласна.
Заходят в подъезд, поднимаются на допотопном лифте. Дом молчит, тишина в затаившихся коммуналках. Дворничиха открывает скрипучую дверь, пускает его на крышу.
Иван достает фляжку коньяка, глотает. На душе – хорошо, легко. Он достает бинокль. Перед глазами удивительный вид: излучина Москвы-реки, Белый дом, техника на Бородинском мосту, и фигурки людей на набережной. По грязной крыше ходят облезлые московские голуби.
Без десяти минут семь раздаются пулеметные и автоматные очереди. Стрельба ведется отовсюду. Пулей сносит щебенку над головой. До него доходит: снайперы на крышах соседних домов.
С крыши видно, как зеленые БТРы с двух сторон медленно ползут вдоль Белого дома, простреливая площадь в тех местах, где больше людей.
Толпа бросается врассыпную, стараясь укрыться за стеной приемной Верховного Совета, буквально прилипнув к ней. Пулеметные очереди по верхним этажам. Фонтанчики мраморной крошки, отколотой пулями, вырываются из стены. Проносятся трассы пуль, по улице бегут человечки, падают.
Одну из палаток БТР расстреливает из крупнокалиберного пулемета у него на глазах: брезент мгновенно оседает, под ним какое-то время шевелятся люди, потом шевеление прекращается…
Иван опорожняет всю фляжку. Снайперы на соседних крышах не утихают.
Танкисты на Бородинском мосту топчутся, очевидно, не хотят стрелять. Министр обороны Грачев бежит вдоль колонны, ругается, уговаривает, передает какой-то пакет. Командир танка, матерясь, залезает в башню.
Дальнейшее известно из хроники:
9.20. Первый выстрел, ожидание. Клубы дыма вырываются из окон Белого дома. Пожар на двенадцатом и тринадцатом этажах.
На улицах и Бородинском мосту многолюдные зеваки завороженно наблюдают, как покрывается копотью Белый дом.
В Белом доме начинается паника. Руцкой истерически звонит Зорькину: “Поднимайте самолеты, звони в посольства… Ты же верующий, твою мать!” К депутатам выходит Хасбулатов, с улыбкой отчаяния демонстрирует бронежилет.
11.00. Огонь прекращен, чтобы вывести из Белого дома женщин и детей, но перемирие сорвано: вывести гражданских лиц из-под обстрела не удается.
13.00. Находившиеся в здании мэрии защитники Верховного Совета безуспешно пытаются прорваться к Белому дому.
14.00. Стрельба прекращается.
14.30. Из Белого дома выходят первые сдавшиеся.
15.30. Войска возобновляют артиллерийский и автоматный обстрел БД.
16.45. Из БД начинается массовый выход людей.
17.05. Выходят около семисот человек. Они идут, держа руки за головами, между двумя рядами солдат и садятся в автобусы на Краснопресненской набережной. Войска начинают “зачистку” здания.
18.00. Руцкой, Хасбулатов и Макашов арестованы.
19.10. К БД разрешен подъезд пожарных машин. “Зачистка” этажей БД продолжается еще около двух часов.
В разгар стрельбы Иван слышит голоса: на балконе внизу курит молодая парочка, они живо комментируют происходящее и пьют баночное пиво. Ребята приглашают его спуститься с крыши, погреться. Все остальное он наблюдает с их балкона. Они достают из холодильника консервы, сервелат. Он извлекает из сумки литровку виски. Так проходит день. Вечером, сытый и пьяный, он тепло прощается с Петей и Олей, спускается на набережную. Сквозь оцепления, пошатываясь, идет к метро. Ему совсем не страшно, даже весело. Из Белого дома валят клубы дыма.
В метро “Краснопресненская” давка: пьяные омоновцы – бьют прикладами людей, кидают их на эскалатор. Иван получает крепкий подзатыльник.
В холле гостиницы “Москва” по-прежнему полно омоновцев. Один хочет дать ему в рожу. Он ловко уворачивается и предлагает им выпить. Все прикладываются к пластиковой фляжке виски из аэропортовского тэкс-фри-шопа. Он пьет с омоновцами. Беседа. Совершенно пьяный поднимается в номер, падает на постель. Думает о жене и дочери.
На следующий день, 5 октября, показав журналистское удостоверение, он входит в Белый дом с пожарниками. Безымянная надпись на стене: “Не сдаемся!”, внизу валяется памятка от Красноярского РНЕ со следами пулевых отметин. Под ногами хрустят осколки стекла, пол усеян стреляными гильзами и пулями, залит кровью. Иван подбирает помятую гильзу, кладет в карман на память, выходит. Мы повторяем кадры: он подбирает гильзу, кладет в карман, выходит.
Он мысленно видит боевиков РНЕ, покидающих Белый дом: они сидят в холле и молча, как перед дальней дорогой, докуривают последние сигареты. Автоматы сложены в углу, там же горкой магазины и патроны. Все. Встают. Проверяют еще раз карманы, чтоб не осталось ничего, и по одному, по двое вливаются в поток выходящих из подъезда людей.
Он тенью следует за ними по улицам Москвы.
Бормочет: “Зачем, почему, как?”
Комментарий к событию
Закрывшись в номере, Иван достает очередную бутылку виски, делает большой глоток из горла и пишет в походную тетрадь:
“Сегодня был окончательно убит Советский Союз. Раздавлен советский человек, похоронены его иллюзии. Буржуазная контрреволюция свершилась. Это великая победа старого мира!”
Иван не любил Советский Союз, чувствовал себя в нем чужим. Но это событие вызывает у него острое чувство боли. Ему не нравится, что вышло так вот грязно. Из этой советской махины можно было что-то сделать, но никто ничего не сделал. Случилось событие огромного масштаба – подобно взятию Рима войсками Алариха или разграблению Константинополя крестоносцами.
Но это конец не только СССР, это конец исторической России. Русский народ вступает в новую эпоху голым, беззащитным, брошенным на произвол судьбы.
Что предложат ему новые хозяева России? Ничего хорошего, Иван в этом уверен. Он не верил коммунистам, но знал, что им был нужен русский народ. А этим новым хозяевам уже никто не нужен.
Совок не был духовным, это была страна страшной, звериной социальной зависти. Но в его глубинных основах жила идея братства и солидарности.
А эти защитники Белого дома? Он с ними, и он не с ними.
Он принципиально не хочет быть с безымянными миллионами, которые гибнут на полях сражений, которые идут за вождями, которые верят лжеучителям..
Сидя в гостинице “Москва”, он заносит в тетрадь следующие выводы: “Советского Союза нет, но жизнь продолжается”.
“Главное – то, что есть я, что я думаю, чувствую, живу. Что я в поиске”.
“Как прекрасна эта жизнь как много дает испытаний, самых разнообразных. Хорошо быть патриотом, а еще лучше – космополитом, хорошо служить в разведке, а еще лучше служить в контрразведке, хорошо быть верным, но еще сладостней быть неверным. Если Бог сотворил эту жизнь за девять дней, то нам расхлебывать ее гораздо дольше”.
“Истина была в Советском Союзе, истина была вне Советского Союза. Истина в пролетарском интернационализме, истина в буржуазном индивидуализме. Истина в Боге, истина в воинствующем безбожии. На самом деле, истины нет и быть не может”.
“Никто не даст мне избавленья – ни Штейнер, ни Гурджиев, ни Детлефсен. Ни Маркс, ни Фрейд, ни Горбачев. Надо всем я ставлю тотальный нигиль, главное – моя личная свобода, главное – Бог во мне, и этот голос надо уметь слышать”.
“Каждому человеку даны свои испытания. Я заслужил свои. Я видел конец Советского Союза, и это событие еще аукнется человечеству. Мы входим в эпоху атомизации, нарциссизма и самой беспардонной лжи, о которой не помышляли даже коммунисты. Чем хуже – тем лучше!”
“Обстрел Белого дома – сильное ощущение? Да, сильное, очень сильное. Но не последнее. Еще не такое будет!”
“Мы должны быть готовы к большим переменам. Мы должны заново изобретать мир. Тот, кто находится под грузом прошлого, ни на что не способен”.
“Главное – отсечь иллюзии, все эти ветхозаветные грузы и семейные кармы, выбраться из-под завалов. Наверное, в этом и была одна из главных идей христианства – преобразиться, стать новым человеком”.
“Жизнь прекрасна, но доверять и поддакивать надо меньше.
Доверие – главная проблема современности. Нас так долго и последовательно обманывали, что правда стала невозможной”.
“Мир на основе собственных наблюдений. Мы не верим книгам и пророкам. Мы верим собственному критическому взгляду. И опыту классовой борьбы”.
“Есть ли загробная жизнь? Никто не знает, никто оттуда не возвращался. Но есть жизнь эта, и она может бесконечное число раз повторяться. Мы все повязаны коллективным дежавю”.
“Есть только то, что есть. Чего же нет, о том лучше не говорить. Все, что должно быть, уже происходит и будет происходить вечно”.
“Никто не знает результата, но все ищут”.
“Истины не знает никто, каждый пытается понять, где она. Может быть, в Боге, а может, и в Советском Союзе”.
“И не найдут никогда, поиск будет продолжаться до конца времен”.
“Что еще преподнесет нам жизнь, это человечество, эта Россия? Мы не знаем, мы просто ставим большой вопросительный знак”.
И под конец – главное:
“Верю в Бога-создателя, отца единого на небесах, но не верю бесчисленным пророкам и учителям, не верю церквям и сектам, философам и политикам. Никаких присяг на верность никому не дам. Ну а если умру, то, на всякий случай, пусть похоронят по православному обычаю”.
И, упав на колени, Иван начинает креститься. Потом ложится калачиком на коврик и засыпает. Спит весь следующий день.
Пир победителей
Уже под вечер Киржач стучится в его номер: “Хватит дрыхнуть! Пошли в “Метрополь” праздновать победу Ельцина! Заодно опохмелимся!” Иван, шатаясь, встает, подставляет опухшую физиономию под струю воды, приходит в себя. Через десять минут он готов к новым подвигам.
Они идут в “Метрополь”. Это всего в пяти минутах ходьбы. В 1991-м финны сделали капремонт, “Метрополь” стал неузнаваемым. Иван помнит его пожухший за годы советской власти фасад, остатки царской роскоши. Из-за пыли и грязи фрески Врубеля на фронтоне было не разобрать. В кинотеатре “Метрополь” он смотрел в каком-то доисторическом 64-м году французский фильм “Дьявол и 10 заповедей”, когда с пацанами прогуливал школу. Один раз был и в ресторане – здесь царила смешанная дореволюционно-советская атмосфера: пили водку, закусывали столичным салатом. За соседним столом старик читал стихи Апухтина.
Теперь “Метрополь” отчищен, светится огнями. К парадному подъезду причаливают “Мерседесы” и “Вольво”. Откуда они взялись в Москве всего за год – после нищих лет перестройки?
На входе стоит мастер церемоний – в нелепом цилиндре, крылатке пушкинской поры. Рядом с ним две очаровательные манекенки. Несмотря на зябкий вечер, они в мини-юбках и с голыми плечами. Держат корзины цветов и каждому гостю дарят по алой розе. Банкет организован банками “Столичный”, “Мост” и мэрией Москвы.
Уже внутри упитанный охранник в смокинге вручает каждому гостю подарочный пакет: в нем бутылка водки “Финляндия”, набор конфет, икра и памятная серебряная медаль.
Под музыку скрипачей-виртуозов они проходят сквозь Зеркальный, Красный залы. Вокруг – картины, витражи, лепнина.
Киржач ведет его вдоль столов, ломящихся от осетров, икры, молочных поросят. На отдельных столиках фрукты: Иван замечает, что жены политиков больше налегают на бананы и киви, игнорируя осетрину и икру.
Поразительно мало виски и иностранных вин. Уже через год на этих столах все будет иначе: ни одного российского напитка. Советский человек меняет привычки быстро.
Киржач подводит Ивана к Савику Шустеру. Савик – новый шеф московского бюро “Свободы”, знает всю столичную тусовку. Сегодня на их улице праздник. Савик изрядно выпил, глаза азартно блестят. Он говорит заплетающимся языком: “Привет, старик! Ты знаком с Боровым? На сегодняший день он – самый известный бизнесмен Москвы, создатель Партии экономической свободы”.
Боровой курит, снисходительно улыбается, к нему подводят Ивана пожать руку. Боровой небрежно жмет, как будто его не замечает.
Банкиры Гусинский и Смоленский стоят во главе стола – поднимают тосты за демократию. Смоленский – полный, вальяжный, рыжеволосый, похож на австро-венгерского магната, что, как потом узнал Иван, вполне объяснимо: его отцом был, секретарь австрийской компартии. Рядом с ним – спортивный мужчина в черном костюме. “Это знаменитый Леонид Билунов, он же вор в законе Леня Макинтош”, – шепчет Киржач.
Гусинский блаженно улыбается. На днях он создал вместе со Смоленским телеканал НТВ. Гусинского распирает от гордости, он стоит, упивается вниманием. Приказывает помощнику: “Срочно дай в эфир все съемки Белого дома! Пускай все видят”.
Иван пьет и закусывает осетриной. После второго стакана водки ему легче, но он по-прежнему не понимает, как эти люди могли перевернуть Россию.
Вечер 5 октября. Побежденные ушли с поверхности этого города: сидят в “Лефортово”, отсиживаются по квартирам. Демократия и рынок торжествуют. Ивана волнует эта стремительная мутация российского мира, этот переход от общего к частному.
Перед глазами – далекие 80-е: Гусинский на своей “шестерке” развозит пассажиров по ночной Москве, Смоленский фарцует и убегает от ментов, нищий Савик во Флоренции пытается раздобыть хоть десять долларов. И так – буквально каждый из них: маленький советский человек, внезапно проснувшийся к большой игре.
Он видит, как они щупают дубленки, примеряют джинсы, рассматривают пластинки… нормальные советские ребята. Теперь уже властители умов и олигархи.
Пир победителей: язвительно-печальный Гарри Каспаров, шеф охраны Горбачева Медведев, розовощекий Гайдар. И тут же, в незаметном углу, Иван видит давнего знакомца Мурашова, который успел покомандовать московской милицией. Мурашов беседует с Савостьяновым – демократом, назначенным руководить ГБ Москвы и Московской области.
Все затихают и даже берут по швам: входит крепкий кривоногий старик. “Это Филипп Денисович Бобков, – шепчет на ухо Киржач. – Когда-то шеф Пятого отдела КГБ. Теперь начальник службы безопасности “Моста”.
Бобков встает рядом с Иваном и накладывает себе салат “Столичный”. К нему выстраиваются на поклон: он равнодушно жмет руку просителям. Иван и Бобков стоят рядом, переминаются с ноги на ногу. Оба ковыряют салат. Ивану хочется сказать: “Где ты был все эти годы, Филипп Денисович?” Бобков как будто чувствует его вопрос, пристально смотрит на него: “Что невеселы, молодой человек?” – “Да ничего, веселюсь на празднике реакции. Как бы не подавиться”. – “Не берите в голову, кушайте спокойно”, – отвечает Бобков. Его не удивляют слова Ивана. Его, судя по выражению лица, ничего уже не удивляет.
Конец банкета: Иван выходит из “Метрополя”. Порывы холодного ветра. На ступеньках стоит Боровой. Его машина почему-то задерживается на стоянке. Подъезжает “Мерседес” знакомого банкира. Боровой пытается сесть к нему: “Володя, можно с тобой?” Но тот на всю улицу кричит:“Пошел ты в жопу!”, хлопает дверью и уезжает.
Боровой невозмутимо продолжает курить. Ночь. Порывы холодного ветра над Охотным рядом.
Час спустя. Иван в номере, чистит зубы, моет руки и никак не может отмыть запах рыбы.
Ему снится сон: он уплетает осетрину и не может остановиться, глотает жирные куски, давится… На него смотрят гости, начинают ржать. Подходит Бобков, пронизывает глазами-сверлами и говорит шепотом: “Брось жрать, сынок! Ты позоришь звание советского ученого”.
Иван видит его сверлящие глаза и понимает: можно много знать о людях, и все равно ничего изменить нельзя.
Возвращение домой
Еще сутки Иван пьет в номере гостиницы “Москва”. Он оттягивает момент визита. Сумка с подарками стоит у двери, напоминает о семье. И вот, наконец, он делает то, что все время откладывал: едет к жене и дочке. Ему страшно.
Он садится на метро, едет к дому на Ленинградском проспекте, где жил и где провел последнюю ночь перед бегством на Запад. Метро то же. Дома те же. Этот запах осенней листвы, он проникает в ноздри. На улице полно ларьков, торгуют всем, прямо на земле. Много нищих, инвалидов, старух. Вся эта атмосфера напоминает Гражданскую войну и революцию.
На улице у метро берет чебурек. Форменная собачатина, но с детства нравится. В школе он занимал двадцать копеек, чтобы съесть чебурек.
Он видит свой двор и вспоминает, как гулял здесь с маленькой дочкой. Она возилась с совочком в песочнице, а он наблюдал за молодыми мамами, которые курили на соседней лавочке. Они подмигивали, намекали на свидание, но сейчас, почти десять лет спустя… Что с ними сотворила жизнь?
Почему Вера вышла за него? Иван сам не знает. Он был скромный научный сотрудник. А у нее были завидные женихи. Наверное, возникло живое чувство, взаимная тяга.
Он впервые увидел ее в курилке Исторической библиотеки: она сидела с сигаретой, нога на ногу, в соблазнительных черных колготках. Красавица-блондинка с темно-синими глазами.
Он сразу обалдел, подсел, заговорил. Увлек ее разговором об эзотерике. Как раз читал Гурджиева. Вера работала в отделе редких книг. Потом поехал провожать. Целовались ночью у нее в подъезде.
Через неделю принес ей в библиотеку цветы, упал на колени, попросил руки. Она неожиданно согласилась. Первый год они жили бедной, но веселой жизнью советской молодой семьи.
Он даже помнит, как они делали ребенка. Он приехал тогда с картошки – худой, голодный, загорелый. Они выпили “Советского шампанского”, выключили свет и всю ночь обнимались на узенькой тахте. Ему кажется, он запомнил этот миг, когда между ними проскочила искра и образовалась новая жизнь.
Жена ходила с животом, он умилялся, припадал ухом к растущему животу, водил ее под руку в консультацию, выжимал соки. На дворе стояла слякоть, хмурая московская весна, а у них была радость.
Когда настал момент родов, они не знали, куда везти, в какой роддом. Он через соседку нашел роддом на Шаболовке, отвез туда ящик коньяка для акушерок, чтобы все было в порядке.
Родилась дочь Аня, которую он обожал и носил на руках.
В полгода дочку крестили. Начиналась перестройка, но все по-прежнему боялись ходить в церковь. Вера все взяла в свои руки. Договорилась с батюшкой в церкви на “Соколе”, Аня кричала, отбивалась, но когда ее окунули в купель, успокоилась и на руках заснула.
Он помнит, как приехал из командировки, когда Ане исполнился год и она побежала на цыпочках через комнату, и это была искренняя радость. Как он мог это забыть?
Во время командировки в Венгрию все стало прозаичней. Жили на окраине Будапешта, копили доллары на телевизор “Грюндик” и на дачу под Москвой. Свежесть чувств поблекла, а Перестройка ломала привычную систему отношений. Они надеялись, что если сбегут на Запад, то все начнется по новой. Не вышло.
Иван смотрит на этот двор и думает: как это печально. Как печальны наши дворы, как безысходна наша действительность, как быстро сжирает она людей и выплевывает косточки.
Он входит в подъезд старого писательского дома. Лифтера не видно, в подъезде пахнет мочой, на стенах надписи. На трясущемся лифте подымается на шестой этаж. Знакомый дверной проем. Дверь обита дерматином по советской моде 80-х.
Открывает жена… Да, она изменилась за эти четыре года. Усталые глаза. Но все еще красива, он целует ее в щеку, и в нем даже просыпается давно забытое желание. Он входит с сумкой в коридор, который почему-то кажется ему очень маленьким. Из проема двери на него смотрит десятилетняя девочка, почти подросток. Он узнает в ней свою дочь.
Он садится на кухне, достает бутылочку “Бейлиса”, который жена так любила в Будапеште, и наливает ей рюмку. Она долго говорит ему про события четырех лет, про гайдаровскую реформу, про то, как из-за павловской реформы они потеряли все деньги. пятьдесят тысяч рублей превратились за одну ночь в пыль.
Перед бегством на Запад в 1989 году Иван покупает на австрийской границе компьютер “Atapi”, примитивный, за тысячу долларов. В Москве он получает за него пятьдесят тысяч рублей. Эта сумма кажется ему фантастической, он хочет купить большую дачу, дом и там засесть, писать книги. Это жизненный план, которому не суждено сбыться. Он оставляет деньги в Москве. После павловской реформы они не стоят и бутылки водки.
Затем жена рассказывает ему про ваучеры. В домоуправлении его нет в списке: “Ты не можешь написать доверенность? Наверное, тебя лишили российского гражданства…” Иван пожимает плечами. Какая разница? Оглядывается. Знакомый диван… Он вспоминает их ночи, проведенные на этом старом диване. Проклятая Перестройка, хочется сказать ему, что ты натворила?
Жена говорит: “Дочке десять лет, устроили ее в английскую спецшколу, но все в Москве меняется, становится частным. Школу объявили гимназией и теперь требуют платить”.
– Я пришлю денег, – бормочет Иван, – а пока что, это, – он лезет в карман, где у него загашник – три тысячи долларов. Он кладет деньги на стол.
– А что у тебя с личной жизнью? – осторожно спрашивает он.
– У меня есть друг, у него бизнес, он предлагает мне партнерство, – говорит жена. – Но я не знаю… – Следуют обычные слова. Иван думает: “Нет ли лукавства? Москва безжалостна, для новых русских годятся лишь молодые девчонки. На что может она рассчитывать в свои сорок? А если возьму ее в Мюнхен, что тогда? Сначала – благодарность, а потом – обычная эмигрантская история: претензии, разборки и под конец тяжелый дорогостоящий развод. В результате – все равно буду жить один. Разве что дочка будет рядом”.
Жена рассказывает ему про эти четыре года. Они были для нее непростыми. Не хватало всего. Особенно тяжелым был месяц после его бегства: “Чекисты названивали все время, назывались сослуживцами, требовали сказать, где ты… но я не поддалась. Ничего не сказала. Тогда они отняли у меня загранпаспорт”.
Неловкое молчание. Он не знает, что сказать. Он видит эту бедную квартиру. Видит повзрослевшую дочь. Погрубевшие от авосек руки жены. Ему становится страшно. Он должен, но не может просить у нее развода, он хотел бы встать на колени и прошептать: “Про-сти”.
Он чувствует запах старых книжных полок, советских гардин. Перед ним все тот же телевизор “Грюндиг” конца 80-х. Это причиняет ему реальную боль. Подходит дочка, показывает рисунок акварелью. Он видит, что у нее не очень модные джинсы, скромная майка. Ему хочется плакать, но разве может он повернуть вспять это колесо?
Он спрашивает дочку: “Ты хочешь в Германию?”– “Наверное”, – отвечает она. Нависает неловкое молчание, он думает: “Квартира запущена, на что они живут?” Он раз в месяц пересылает им деньги, но никаких денег не хватит в нынешней Москве.
Он достает подарки, раскладывает перед Аней, но та стесняется примерять. Наверное, он стал чужим дядей.
Он бормочет что-то нелепое, типа “давай я возьму дочку погостить в Мюнхен, давай я устрою ее в хорошую школу”, но все это звучит неестественно.
Время проходит. Ему пора возвращаться в гостиницу “Москва”, где его ждет неутомимый стрингер Киржач. Он встает, в последний раз окидывает взглядом квартиру: такое ощущение, что сейчас 1985 год, и ничего не происходило. Что сейчас он выйдет во двор, увидит кучку болтающих писателей и потом поедет в свой Институт общественных наук. Вечером принесет домой продовольственный заказ с гречкой и полтавской колбасой, повесит в коридоре на крючок черное ратиновое пальто, промокшую от снега кроличью шапку, сядет за телевизор и будет смотреть программу “Время”. Этот мир будет существовать вечно. Мир советского человека.
Приложение
Документ 1
Докладная записка
Начальнику отдела безопасности
радиостанции “Свобода/Свободная Европа”
мистеру Ричарду Дженнингсу
Мюнхен, 16 ноября 1994 2.
Дорогой мистер Дженнингс,
Вынуждены обратить ваше внимание на то, что в отделе новостей и коллективе Русской службы РС/РСЕ в целом сложилось устойчиво негативное мнение в отношении руководителя отдела русских новостей Ивана Д.
В нынешней ситуации, когда наша станция готовится к переезду в Прагу и все сотрудники проходят необходимую переаттестацию, вопрос о кандидатуре Ивана Д. в качестве руководителя службы новостей приобретает особое значение. У нас и других коллег из Русской службы имеются твердые свидетельства относительно того, что Иван Д. не отвечает своей должности ни с профессиональной, ни с моральной точки зрения. Извините за сравнение, но он напоминает нам печально известного Олега Туманова, который также занимал эту позицию и чья неблаговидная роль в судьбе станции нам всем известна. Приведем лишь некоторые факты и наблюдения:
Иван Д. работал до зачисления на радио “Свобода” в советских научных институтах и профсоюзах, а его высказывания и подача новостей передают сохранившуюся симпатию к институтам советской власти и презрение к либерально-демократическим ценностям.
Особенно зримо эта трансформация проявилась после его возвращения из Москвы в октябре 1993 г., когда он открыто высказывался в поддержку путчистов – коммунистической и правонационалистической оппозиции (магнитофонную запись бесед в кантине РС/РСЕ прилагаем).
Эти настроения не преминули сказаться и на стиле наших новостей: информация подается так, что в ней можно проследить антизападные и антиамериканские нотки.
Пользуясь своим правом редактора, он не пускает в эфир острые и правозащитные материалы наших корреспондентов, в частности Максима Соколова и Андрея Бабицкого (список отклоненных материалов прилагаем).
Напоминаем вам и другие факты, свидетельствующие о моральном разложении упомянутого Ивана Д. В гостинице “Арабелла”, где он проживает со своей сожительницей Екатериной М., персонал постоянно жалуется на пьяные оргии и громкое прослушивание русских военных оркестров – даже в глубокое время ночи. Их основные собутыльники – дезертиры Советской армии и русские переводчики из американской разведшколы в Гармише.
Иван Д. приходит на станцию помятый и небритый, долго не может включиться в работу, пьет кофе и кроет матом т. н. “пиндосов”, как в этих кругах принято называть граждан США. Днем он манкирует своими обязанностями и уходит пить пиво в Английский парк. К своим коллегам – представителям диссидентского и правозащитного движения – он относится с откровенным неуважением.
Просим принять меры по сохранению чести и достоинства нашего структурного подразделения.
Подпись: сотрудники Русской службы Денис Орлов, Семен Риттер, Анатолий Мозес.
Резолюция: проверить факты. Ричард Дженнингс.
Документ 2
Начальник отдела безопасности радиостанции
“Свобода/Свободная Европа” Ричард Дженнингс —
исполняющему обязанности
начальника отдела кадров Дону Весту.
Мюнхен, 21 ноября 1994 2.
Дорогой Дон!
Извините, что беспокою вас, но в связи с предстоящим переездом в Прагу и переаттестацией сотрудников обострились внутренние конфликты в русской и других национальных редакциях. Вы же знаете отношения среди этих людей и зачастую невозможность отличить правду от фальсификации. Я получил компрометирующую записку на шефа русских новостей Ивана Д., которого я считал приличным и компетентным парнем. Вы понимаете, что я имею в виду. В отличие от многих своих коллег, он хорошо говорит на английском и достаточно образован. Но мы обязаны реагировать на сигналы сейчас, когда на станцию из Вашингтона приезжает делегация конгрессменов и будет принимать решение о нашем дальнейшем финансировании. К сожалению, негативная информация об Иване Д. нашла частичное подтверждение. Сообщите мне свое мнение.
Искренне ваш, Дик.
Документ 3
Исполняющий обязанности начальника
отдела кадров Дон Вест – начальнику отдела
безопасности радиостанции “Свобода/Свободная Европа”
Ричарду Дженнингсу
Мюнхен, 25 ноября 1994 г.
Дорогой Дик!
Я внимательно изучил материалы и считаю, что переаттестовывать Ивана Д. не стоит. По условиям прекращения нашего контракта, он может рассчитывать на разовую выплату в размере 6-месячного оклада, немецкое пособие по безработице и справку для переквалификации в “Арбайтсамте”. В транспортных деньгах он не нуждается, поскольку остается в Мюнхене. Станцию следует переводить в Прагу в очищенном и консолидированном составе.
С наилучшими пожеланиями, Дон.
Документ 4
Начальник отдела безопасности
радиостанции “Свобода/Свободная Европа”
Ричард Дженнингс – исполняющему обязанности
начальника отдела кадров Дону Весту.
Мюнхен, 27 ноября 1994 г.
Дорогой Дон!
Предлагаю несколько улучшить условия расторжения контракта с Иваном Д. и, во избежание ненужных жалоб и претензий, выплатить ему разовую сумму в размере годового оклада, а также наградить почетной грамотой Конгресса США за вклад в становление дела демократии на постсоветском пространстве. Объявить при всех благодарность и распрощаться самым дружеским образом.
Подпись: Ричард Дженнингс..

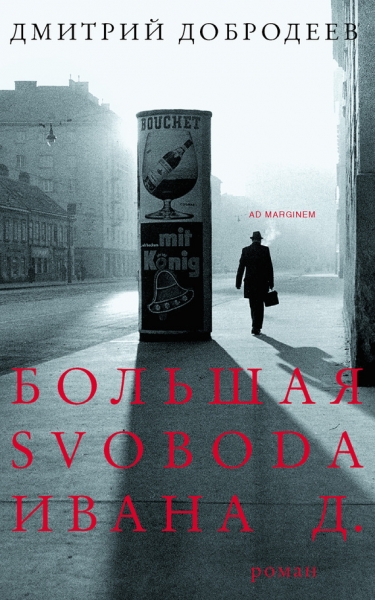

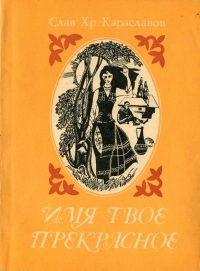

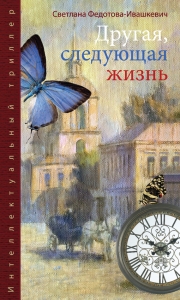

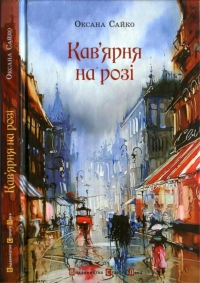

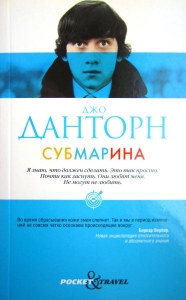

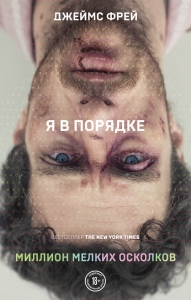
Комментарии к книге «Большая svoboda Ивана Д.», Дмитрий Борисович Добродеев
Всего 0 комментариев