Евгений Васильевич Клюев Translit: роман-петля
Всё в этом романе, кроме имени главного героя, искусно вымышлено
Livet er en Snip-snap-snurre,
Døden er dens Basselurre.
Jens Baggesen [1]…сначала приходил голос. Сна он не разрушал – скорее, вплетался в сон, становясь одним из его волокон: «Скорый поезд “Москва – Хельсинки” прибывает к первой платформе. Стоянка поезда одна минута».
Потом прибывал и сам поезд – осторожно и медленно, как прибывает вода в аквариуме, когда наполняешь его через тоненький резиновый шланг, стараясь не пугать рыбок. Наконец поезд останавливался прямо посередине сна: голубой поезд, пахнущий цветами, названий которых здесь никто не знал. Наверное, их знали в хельсинках – том загадочном месте, куда поезд направится ровно через одну минуту и чье имя одновременно напоминает песенки и лесенки… только напоминает, не будучи ни теми, ни другими, а будучи – тайной. Это там растут цветы, которыми благоухает голубой поезд, – в хельсинках, населенном пункте иной страны, где живут иностранцы .
Слово иностранцы было прохладным и пугающим. На всякий случай он долго не произносил этого слова при людях – после того как однажды в разговоре взрослых услышал про Зою с соседней улицы, 1-ой Залинейной: связалась с иностранцем, вот дура-то, не понимает, что с иностранцами запрещено! Сам он, кстати, откуда-то еще раньше знал, что запрещено, и даже стал побаиваться смотреть на Зою – нечеловечески красивую девушку с печальным лицом. Чтобы, не дай Бог, не показать ей, что он все про иностранца знает, не смутить ее. Впоследствии Зоин иностранец оказался черным великаном в белых штанах, а потом Зоя пропала: шептались, будто великан Зою в свою иностранную страну увез и там бросил , а у Зои родился черный ребенок, вот ужас-то. Страшнее черного ребенка он ничего себе представить не мог, хоть мама, когда ей рассказали о черном ребенке, и спросила: «Ну и что?»
Он испугался за маму.
Потом как-то выяснилось, что, конечно, не все иностранцы черные и что в Финляндии, столицей которой как раз и были эти хельсинки-песенки-лесенки, иностранцы даже белее нас. И что поезд не голубой, а зеленый, и никакими цветами не пахнет. Однажды они с родителями приехали из Ленинграда, от дяди Сережи, это было ночью, и скорый поезд «Москва – Хельсинки» как раз стоял на противоположной платформе. И он подошел к поезду и увидел одного пожилого мужского иностранца, который курил трубку, смотрел на него через открытое окно вагона и улыбался растерянной улыбкой. Пришлось вздрогнуть и быстро вернуться к родителям, разбиравшимся на платформе с тяжелыми сумками: сумки предстояло дальше нести на себе – правда, недалеко, десять минут пешком от вокзала.
Так что отныне, слыша сквозь сон скорый-поезд-Москва-Хельсинки-прибывает-к-первой-платформе-стоянка-поезда-одна-минута, он начинал представлять себе зеленый вагон и пожилого мужского иностранца. И запах – не безымянных цветов, другой: легкий до неуловимости запах иного. Запах белых занавесок по бокам вагонного окна, серебряного поручня от одного его конца до другого, золотой цифры на двери купе – и дыма: пожилой мужской иностранец курил трубку с черносливовым дымом.
«От тебя пахнет сухофруктами», – сказала мама, когда он, спеша, подошел к сумкам и взялся за одну из них. Семеня за мамой, обернулся: пожилой мужской иностранец чуть заметно помахал ему рукой и произнес что-то едва слышное – наверное, на своем языке. На своем иностранном языке. Видимо, что-то важное. От этого сделалось холодно в животе.
Боже мой, сколько раз он потом, уже пятнадцати-, шестнадцати·, семнадцатилетним, близко к часу ночи прибегал сюда, на первую платформу – и все пытался поймать тот черносливовый дым из какого-нибудь вагона! И глазами искал по окнам растерянную улыбку. И мечтал уехать отсюда, уехать ко всем чертям – вот, спрятаться между вагонами, а там – на какой-нибудь багажной полке, за чемоданами…
И, не будучи обнаруженным, прибыть в Хельсинки, да.
И, разумеется, начать ослепительно новую жизнь, немедленно заведя себе пожилой возраст, растерянную улыбку и черносливовую трубку.
А вот… много ли можно успеть за одну минуту?
Можно успеть сосчитать до шестидесяти.
Или можно успеть опустить стоп-кран. Тогда поезд простоит дольше, минут на пять-десять, пока стоп-кран снова не поднимут. И за эти пять-десять минут… – за эти пять-десять минут можно выпрыгнуть из поезда и убежать ко всем чертям – вот, спрятаться в темных кустах, а там… Нет, какая же все-таки чушь лезет в голову! Ни одну минуту, ни пять, ни десять не на что ему употребить: он только что, три дня назад всего, был в этом городе, был и уехал, и приедет опять – хорошо, не раньше, чем через полгода, но приедет же! А потом – опять, и опять, и опять.
Происходящее же сейчас – оно… сверхпрограммное такое происходящее, которое ни в коем случае не произошло бы, не начни далеко отсюда извергаться вулкан с бесчеловечным названием. Ему, вулкану, и надо сказать… не спасибо, конечно, сказать, другое что-нибудь… за этот вот сюрреалистический – тайный! – проезд через родной город в час ночи скорым поездом «Москва – Хельсинки».
Дело было в маме. Маме, так и живущей в десяти минутах пешком от вокзала. Маме, три дня назад отпраздновавшей свой восьмидесятилетний юбилей, но все еще бодрой и невероятно дамистой… впрочем, дело сейчас не в этом. Дело в том, что мама, узнай она о его маршруте, обязательно пришла бы к поезду. В час ночи. На одну минуту. Вынести такую встречу с мамой было бы невозможно. Как и мысли о том, что после этого мама возвращается домой. Без него. В час ночи. И плачет.
Так что проезд через Тверь задумывался именно как тайный. Маме же он, понятно, наврал. На сей раз – что едет сначала в Германию, а дальше – прямо в Копенгаген. «Через Ютландию?» – подозрительно спросила географически подкованная мама. Понятное дело, через Ютландию! Ну и… стало быть, по маминым представлениям, сын ее сидит сейчас в скором «Москва – Берлин», только что отправившемся от Белорусского вокзала, между тем как на самом-то деле уже через час сын этот будет в десяти минутах от дома. В десяти минутах ходьбы пешком. На той самой, значит, первой платформе.
Он давно уже завел себе пожилой возраст. Завел растерянную улыбку. Не завел лишь черносливовой трубки, но это, может быть, впереди. Пока он, стоя в тамбуре, курит сигареты «Принц». Датские сигареты, не из Дании, конечно, привезенные: в Москве купленные. Почему, кстати, купленные – непонятно, но определенно не потому, что «соскучился по родному». «Принц» в Дании он почти никогда не курил – и не курил, скорее всего, из протеста: не хотелось становиться датчанином уж до такой степени. Впрочем, о степени говорить было, пожалуй, поздно: даже по паспорту он теперь датчанин. А не по паспорту… не по паспорту чуть ли не того определеннее: не просто датчанин, но еще и преподаватель датского языка… м-да, датского языка в Дании. В стране, где национальным языком определяется все – весь твой статус, вся твоя история, вся твоя жизнь. Иногда даже кажется, что от тебя тут и не требуется ничего, кроме языка: выучил – и умирай себе немедленно, ничего не надо больше, жизненная задача выполнена.
Но уж если ты датский выучил и не умер, а продолжаешь жить и преподаешь его… – тогда, выходит, ты датчанин в квадрате. Посему – кури «Принц», поддерживай национальную экономику. Но, вообще-то, он и сам удивился, услышав, как говорит киоскерше: пачку «Принца», пожалуйста, красного. Странно, кстати, что он не сказал этого по-датски: с него станется!
Ну и вот… он стоял в тамбуре и курил «Принц». И смотрел в темное окно, мимо которого просвистывали станции, чьи названия он знал наизусть, причем хоть в прямом, хоть в обратном порядке… интересно, сколько раз он уже проехал по этой дороге – то электричками, то дальними поездами с остановкой в Твери? На сей раз названий, правда, увидеть не удавалось: слишком скорый поезд… кстати, из «Сапсана», который еще быстрее, наверное, даже платформ не различишь.
Однако куда бы то ни было проездом через Тверь – это в первый раз. Раньше, когда надо было в Ленинград или в Таллинн (в те времена Таллинну вполне хватало и одного «н» – теперь же кажется, что и «т» надо бы удвоить, для полной симметрии), беспечно ехал в Тверь, к родителям, проводил у них сколько-нибудь времени – билет же до Ленинграда или Таллина… пардон, Таллинна покупался уже в Твери, там с этим просто было. Но так, чтобы стоянка-поезда-одна-минута…
В купе, кроме него, ехали швед (показалось, что где-то виденный прежде) и норвежец, тоже застигнутые в пути вулканическим облаком, плюс некий странный человек восточной наружности, говоривший на чрезмерно грамматически правильном и потому тошнотворном английском. С ним ему, к счастью, пока не пришлось побеседовать (обстоятельно поздоровавшись и заняв свое место у окна, тот принялся выстукивать что-то на своем ноутбуке и до сих пор так и не оторвался от работы), а со шведом и норвежцем уже перекинулся парой слов – по-датски, понятное дело… скандинавы этим особенно не заморочиваются: каждый говорит на своем языке – и все делают вид, что прекрасно понимают друг друга.
И, в общем, понимают, чего ж.
Он ужасно не хотел заводить разговоров с соседями, но, услышав шведский и норвежский, вздохнул: не выкрутиться.
Впрочем, на время выкрутился, потому-то и стоял в тамбуре, куря уже четвертого по счету «Принца». В тамбуре ведь как: или кури – или не стой, не производи подозрительного впечатления. Правда, швед тоже был курящим: курил возле вагона перед отправлением. Так что не ровен час нагрянет – с обычным скандинавским «hvad så?», которое на русский кроме как «ну чё?» не перевести. Может, швед хотя бы мало курит… Да нет, курящие скандинавы – это он по себе знал – курят в России как… да вот хоть как эйяфьятлайокудли, причем не переставая удивляться дешевизне сигарет и стремясь, видимо, накуриться впрок. А потому – жди шведа, значит.
– Hvad så?
Шведа, конечно, звали Свен: как положено.
Они поговорили о вулканическом облаке и своих проблемах в связи с ним. Про нехорошее отношение Свена к облаку пришлось узнать всё. В ходе этого неспешного повествования, поезд, постояв на тверской платформе отведенную ему минуту, поехал дальше. Сердце мягко упало на дно живота.
До остервенения захотелось прирезать Свена, но, видит Бог, было со-вер-шен-но нечем.
Вместе, чуть ли не в обнимку, прошли в купе.
Потом удалось, конечно, выбраться назад, в пустой проход: зажмурился, ткнулся лбом в стекло. Черт, черт, черт! Как же получилось, что в Твери они так рано оказались? И который тогда теперь час… двенадцать тридцать. Конечно, все давно изменилось в расписании поездов: чай, не Советский Союз больше. А он-то размечтался: стоп-кран!..
Позвонила мама, спросила, как ему едется. Он вышел в конспиративный тамбур и оттуда ответил, что едется хорошо и что в купе одни немцы. Мама успокоилась: по ее мнению, ни воров, ни убийц среди немцев быть не могло. Он, понятно, не стал ее разубеждать, пожелал спокойной ночи. И снова стал смотреть в темноту. Названий станций по направлению к Питеру он не знал – так что и не вглядывался. Просто регистрировал: тьма – маленький светлый прогон, станция, снова тьма – маленький светлый прогон…
Мимо шел проводник в черных кудрях и золотых пуговицах – на лбу надпись: гарный хлопец. Приостановился, чтобы улыбнуться интернациональной улыбкой, так что пришлось поспешно закурить «Принца» – гарный хлопец кивнул, все понял и бесстыдно сказал хай.
Ну, нехай хай.
От переизбытка дыма уже подташнивало. Поезд замедлил ход и притормозил у какой-то безразличной станции. «Лазурная» – проехало за окном. И – ударило прямо в сердце. Даже вспомнилось откуда-то из пионерского детства: «Но сердце забьется/, Когда я увижу/ Калинин, Калинин, мой город родной». Получалось, не проехали еще! Получалось, поезд в Клину приостанавливался: там вокзал на тверской похож.
Нет, дело, конечно, не в том, что он так уж без памяти любит этот город. Отнюдь, как говорили в старые времена… – не очень, правда, понятно, что конкретно имея в виду, но слово дивное. Тоски по месту былого обитания под названием Калинин, Тверь, он никогда не испытывал, по людям, очень некоторым, – да, но по очень некоторым. Сам же город… наверное, сам город засел в нем настолько прочно, что никогда и не ощущался покинутым. Это только сегодня почему-то вдруг необходимо было увидеть вокзал, постоять на первой платформе. Причем необходимо – позарез. По-за-рез.
Поезд приближался к Твери: в окне был поселок Южный.
«Спасибо, Бог», – сказала душа.
В этом городе он прожил тридцать лет: детский сад, школа, университет… Всего этого не будет видно в окно тамбура. Но будет виден старый вокзал и дорога домой: прямо и направо. Потом, когда поезд уже снова поедет, будут видны дома улицы Центральная, а дальше – маленький переезд, через который он ходил всю свою жизнь: это называлось «в город». Над переездом с детства висели щиты со странными приказами вроде «Стой!», «Пропусти поезд!», намекавшими на возможность бессмысленного состязания в силе между человеком и железнодорожным транспортом…
Так вот, маленький переезд, в самом конце которого – улица. Если бы их дом стоял на этой улице первым, его можно было бы даже увидеть – очень постаравшись, скажем. Но первым стоял дом Кубышкиных, они давно переехали, и особнячок принадлежал другой семье. За ним – дом Марковых и Булановых (булановская часть полностью сгорела в конце восьмидесятых). А дальше, третьим по счету – так прямо и называемый «родной дом». Дом, в котором он жил с двенадцати лет и в который все они переехали из одного близлежащего переулка… это дальше, совсем в глубине привокзального поселка, не видно из поезда.
И чего-то требовало от него оно все – требовало или просило, непонятно.
Поезд – медленно, как в старом сне про аквариумный шланг – подбирался к третьей платформе, для электричек на Москву, платформа довольно быстро должна была перейти в первую.
«Скорый поезд “Москва – Хельсинки”» прибывает к первой платформе. Стоянка поезда одну минуту», – услышал он и скривился: новое время напомнило о себе простонародным винительным падежом, совершенно неуместным.
На этой платформе он – теперешний обладатель пожилого возраста, растерянной улыбки и паспорта другой страны – знал каждый сантиметр.
Ровно напротив, как и пятьдесят лет назад, стоял поезд из Ленинграда, напоминая всем вокруг о том, что существуют вещи, неотменяемые даже при смене государственных режимов, – например, расписание поездов. У одного из вагонов копошилась около сумок только что ступившая на тверскую землю семья: родители и мальчик лет шести-семи – вдруг повернувший голову в сторону скорого поезда «Москва – Хельсинки»…
Пришлось вздрогнуть и зажечь следующего «Принца». Мальчик смотрел ему прямо в глаза.
Он попытался открыть дверь тамбура – дверь подалась.
Их разделяла только ширина платформы.
– Hej med dig, – сказал он негромко на совершенно иностранном языке. Мальчик поспешно отвернулся.
А минута не кончалась.
И, значит, все еще оставалась возможность дернуть стоп-кран.
Он оглянулся: стоп-кран находился близко – слева, прямо на уровне глаз – и сделал шаг назад.
1. Кто автор романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
2. Кем написан роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
3. Чьему перу принадлежит роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
4. Под чьим именем вышел в свет роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
5. Озаглавлен ли как-нибудь роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
6. Как называется роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
7. Какое название роману Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» дал сам автор?
8. Можно ли считать название романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» его заглавием?
9. Каков жанровый подзаголовок романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
10. Какой вывод о жанре романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» дает возможность сделать жанровый подзаголовок «роман»?
11. Можно ли на основании жанрового подзаголовка «роман» к роману Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» причислить роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» к романам?
12. Как называется город Копенгаген, где опубликован роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
13. Можно ли считать Копенгаген, указанный в качестве места издания романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О», местом издания романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
14. В каком Копенгагене вышел в свет роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
15. В каком издательстве выпущен роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О», выпущенный в издательстве под названием «Специальное издательство»?
16. Как называется издательство «Специальное издательство», опубликовавшее роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О»?
17. В каком году был издан роман Вибеке Овесен «Что случилось с херром О», изданный в одна тысяча девятьсот девяносто шестом году?
18. Почему в качестве года издания романа Вибеке Овесен «Что случилось с херром О» указан одна тысяча девятьсот девяносто шестой год?
19. Что случилось с херром О? [2] {1}
30 июля 1998 года, во время второго после эмиграции (хотел он или нет, а называлось это именно так) приезда в Россию, он гулял по Маросейке.
Конечно, он не мог не прийти сюда – на улицу, которая всегда была для него как бы особенно-Москвой. Не пройти по Маросейке означало не побывать в Москве. Позже он одно время даже недолго работал здесь… вход через ближайшую подворотню после второго перекрестка, если идти от Политехнического.
Тут, в двух шагах от его давно и, помнится, не особенно щедро оплаченной работы, он и увидел посреди тротуара Стину, что-то быстро заносившую в блокнот.
До этого он видел ее всего раза три: они собирались вместе писать одну глупую книгу о смешанных браках – по не очень понятным ему причинам Стина сама нашла его, предложила соавторство, он согласился, сильно сомневаясь тогда как в своем датском, так и в своей осведомленности о смешанных браках. Они встретились около станции Нёррепорт, в кафе с довольно претенциозным названием… вроде бы, «Хромая собака» или еще какая собака, или не собака, он не помнил.
А на Маросейке, он было бросился к ней с намерением воскликнуть что-нибудь вроде привидение-скройся, да притормозил у самого блокнота и – смутился. Стина подняла глаза.
– Hvad laver du her? – спросил он ее удивленно, хоть и почти сдержанно, а она, чуть опоздав шарахнуться от него, все-таки сделала попытку шарахнуться, однако устыдилась и тряхнула кудряшками:
– Do you speak English, do you? – Он узнал голос, но вдруг не узнал язык.
– I do… sometimes, – ответил он, дурак дураком.
Потом-то они, конечно, заговорили по-русски… когда все выяснилось, хотя слово «выяснилось» едва ли годится.
Стина оказалась не Стиной, а Мариной – и была не из Копенгагена, а из Москвы. И вообще она решила, что это у него такой вот способ знакомиться с девушками: творчески отредактированный вариант общераспространенного «мы с Вами где-то встречались». Самому знакомству она, похоже, и не думала противиться.
Предположить, что девушка морочит ему голову, было невозможно: Стина – во всяком случае, два месяца назад – не говорила по-русски.
Он, разумеется, довольно скоро раскрыл карты: снип-снап-снурре, у Вас есть двойник в Копенгагене, и двойника зовут Стина.
– У каждого из нас есть двойник… не уверена, правда, что в Копенгагене, – философски отшутилась Стина… все-таки никак не получалось называть ее Мариной.
Конечно, у каждого есть двойник. И конечно, не у каждого в Копенгагене, что ж спорить. Вне всякого сомнения, он ошибся… обознаточки-перепряточки. Да и понятно: при таком-то шапочном знакомстве со Стиной он даже перед самим собой права не имел настаивать на том, что не обознался. Кажется, у Стины и глаза другого цвета… и потом, Стина выше. Выше и моложе.
– Вы разочарованы, что я не Стина?
– Да Господь с Вами, что Вы… просто я совершенно ошеломлен. Сходством. Мне даже трудно называть Вас по имени.
– А Вы не называйте, – улыбнулась Марина. – По этому имени не называйте, говорите: Стина.
– Будет совсем глючно… Стина.
В Марине его интересовало только сходство со Стиной – при том, что в самой Стине его не интересовало (прости, Стина) ни-че-го. Тип «самостоятельная женщина» – это вообще не к нему, а Стина – и, определенно, Марина – явно таковы. Увидь он хоть в Копенгагене, хоть в Москве самостоятельную женщину – прошел бы мимо, глазом не моргнув. «Обеими ногами на земле» – говорят о таких женщинах в Дании… кстати, говорят как комплимент. Странный комплимент. Но в Дании много странных комплиментов. Например, «у него большая пробивная сила» – комплимент, «он думает о карьере» – комплимент, а вот «он просто ребенок» – вообще не комплимент, наоборот… осуждение.
– Вы сильно дружны с этой Стиной?
Ну вот, теперь объясняйся, что не очень и дружен, что объединяет их некий ненужный ему проект, который, скорее всего, не состоится… не состоялся уже, ох.
– Да, – ответил он… и поди пойми зачем. Наверное, для того чтобы не расставаться со Стиной. А не расставаться – для того чтобы разобраться все-таки, как могут два человека быть настолько похожими друг на друга. И он пригласил ее в кафе.
– Расскажите мне о Стине, – попросила она, не прикасаясь к кофе.
Вот тебе и раз. Рассказать о Стине он не мог: слишком уж мало знал о ней. Она говорила, что где-то учится – кажется, в университете в Роскильде, больше таким, как она, са-мо-сто-я-тель-ным, учиться негде: там университет такой… дико свободомыслящий.
– Стина свободомыслящая… почти упрямая, – сказал он. – Студентка. Учится в университете. В Роскильде, это город такой старинный, недалеко от Копенгагена. Учится на… социолога.
В ответ улыбка:
– Я тоже на социолога.
Он затосковал. Зачем ему все это? Во-первых, то, что Стина учится на социолога, он только что придумал сам. Во-вторых, если Стина все равно не Стина, то совершенно безразлично, какие между ними еще совпадения.
– Вы-το почему на социолога? – Вопрос был почти невежливым.
– Мне… – немножко растерялась она, – мне интересно.
«Интересно»… Интересно потому, что ей интересно, или интересно потому, что она как Стина – то есть потому, что это таким интересно?
Он начинал запутываться… – может быть, покинуть уже эту речевую ситуацию под каким-нибудь – неважно даже, хорошим ли – предлогом? Все оно неловко как-то, глупо: остановил постороннего человека, запудрил мозги – зачем? Тем более что ни для кого из них ситуация больше не имеет значения. Здорово было бы вдруг встретить в Москве копенгагенскую Стину, но встретить в Москве москвичку Марину… – и что?
– Вам полагается все-таки хоть немножко рассказать о себе… просто из вежливости, – опять улыбнулась Стина.
А она милая, кем бы ни была.
И он начал рассказывать о себе – не так уж, конечно, чтобы прямо… одну из версий рассказывать начал. Версий таких у него было много – и каждый собеседник получал наиболее пригодную для соответствующих условий. Это с тех пор как в первый приезд его остановил на Пушкинской кто-то из прежних, доэмигрантских еще, знакомых: привет, как дела?
И внезапно он не смог рассказать, «как дела». Потому что с момента их последней встречи жизнь изменилась – вся.
Но сказал, что дела нормально, спасибо.
– Работаешь все там же?
Там же – это где бы… ах, неважно, где.
– Да нет. Я и живу уже в другой стране.
Заявление, ясное дело, странное – он и сам понял, что странное: внезапное такое откровение в центре Москвы, на Пушкинской.
– В какой стране?
– В Дании.
– Да ладно прикалываться-то!..
И действительно: чего он тут стоит прикалывается? В Дании живу… надо же сказануть такое. Выглядит он, видимо, как человек, который глупо и немотивированно врет. Врет с какой-то, значит, особой такой стати, другим непонятной… И тогда он почувствовал, что вдруг устал, сразу. И что нет у него сил рассказывать этому знакомому… малознакомому, как оно все странно и быстро перекроилось и опять сложилось в его жизни, да и на кой ему вообще сдался именно вот данный знакомый-малознакомый!
– Ой, извини… неудачно получилось. Шутка-малютка. – Тут он даже улыбнулся (наверное, смущенно). – Я имел в виду, что район поменял. На Ждановской теперь живу.
– Далековато. Но там, конечно, метро, так что нормально. Ты позвони как-нибудь, встретимся, посидим… Телефон у меня старый.
– Я позвоню.
И они обнялись – как делают в Дании. Знакомый-малознакомый хотел, правда, смутиться от внезапной, как беременность, близости, однако права такого не получил, был быстро и правильно прижат к груди и похлопан по спине… и это его напрягло, ну и неважно. В России, кто ж не знает, так не обнимаются. По-хорошему, и им не надо было бы, но увы: датский рефлекс. Сначала его самого тоже, кстати, шокировала эта постоянная потребность датчан заключать друг друга в объятия, да еще и хлопками по спине угощать. Он однажды спросил: по спине-το зачем, дескать… Ответили: это снимает интимность. Ну понятно, чего ж.
В общем, новая Стина тоже получила одну из версий, которая покороче и самая нейтральная: пригласили-в-гости-задержался-остался-жить… – вроде той тети из Киева. Эта версия была, так сказать, дежурная – при том, что недежурной не имелось вовсе, поскольку честно рассказать о причине его отъезда не мог бы никто – и он сам не мог бы. Не было такой причины: оно как-то взяло и… отъехалось. А когда понялось, что отъехалось, стало поздно соображать почему. Отъехалось – и все. Потом-то он, конечно, во славу дона Хуана, осуществил «перепросмотр жизни» – и нашел в ней кое-что… какие-то сигналы-кивки-экивоки: их при желании можно было бы счесть за знаки, но необязательно.
Так или иначе, Марине досталась хорошая версия – быстрая и никого ни к чему не обязывающая, в легком эстрадном жанре «всякое случается». Марина вполне и вполне удовлетворилась, но спросила вдруг:
– Вы женаты?
– Да, – соврал он. – А зачем это Вам?
– Так… просто я занимаюсь смешанными браками, тема у меня такая.
Ну и вот что было ему после этого признания делать?
Он ничего не стал делать – во всяком случае, не стал копать дальше. Аккуратно отставил лопату в сторону и в сторону же заметил:
– Нет-нет, у меня не смешанный брак. Я на русской женат. А Вам спасибо за эту встречу. Расскажу о ней Стине по приезде.
– Привет ей тогда… от одной Марины.
– Спасибо. И Вам привет от нее – досрочный.
А на другой привет и не рассчитывайте: мы вряд ли увидимся теперь со Стиной.
Так и вышло: со Стиной он больше не встречался.
– Ты не в Бресте еще?
Это мама в мобильном. Разве он должен быть в Бресте сейчас… и вообще – в Бресте?
– Когда я в Польшу ездила, помнишь, поезд в Брест рано утром прибывал, а вы, что – задерживаетесь?
– Да нет, мы в Бресте по расписанию, дай-ка посмотрю… ну вот, через два часа. Я же позднее выезжал, чем ты. – Совралось почти легко, хоть и врасплох.
Но надо помнить теперь позвонить из Бреста, через два часа.
– Соседи новые не подсели?
– Нет, и не должны были… у нас ведь купе, как это, укомплектовано, все едут до Берлина.
– Потому что ведь… мало ли что. Я по телевизору видела, как грабят в поездах. Подсаживаются милые люди, предлагают выпить, а в бокале – снотворное.
«В бокале»! Эх, мама, мама… кто ж из бокалов в поездах-то пьет?
– Ты смотри не соглашайся ни с кем выпивать.
Можно подумать, что я такой… сильно пьющий.
У мамы обо мне вообще несколько тяжеловатые, на мой вкус, представления.
– Ты деньги-то куда спрятал?
– Мам… мне всему вагону об этом рассказать? Ты уж представляй себе как-нибудь ситуацию-то, а?
– Не надо на меня сразу обрушиваться, пожалуйста. Я просто позвонила тете Лиде, они с мужем тебя встретят в Берлине, чтоб ты там один не мотался. А тебе сейчас звоню – захотелось узнать, когда прибывает поезд. Ну и… достаточно ли у тебя денег, потому что расходы-то все непредвиденные из-за вулкана этого!
– Денег достаточно, спасибо. Насчет же… когда поезд прибывает, я сказать не могу, он вне расписания следует, его именно для тех пустили, кто из-за вулкана застрял.
– Ты мне позвони, когда выяснится время прибытия, ладно?
– Конечно.
Вот тебе и раз… и другой, и третий. Интересно, что полагается делать в подобных случаях – если подобные случаи вообще бывают? Ан, похоже, не бывает подобных случаев.
За окном бесконечные ангары. Интересно, где они сейчас приблизительно? Ведь висит же тут, в вагоне, расписание какое-нибудь… кстати, вчера бы его посмотреть – хоть представлял бы себе этот маршрут, вслепую ведь едет! А между тем в Данию железнодорожным транспортом – впервые: все эти годы только самолетами и летал, два часа с небольшим хвостиком – и никаких ангаров.
В расписании значилось, что через полтора часа поезд прибывает в Выборг. В Выборг! Где Трубачевы живут… надо же было не подумать об этом, а? Трубачевы, с которыми он в последний раз виделся два года назад в Копенгагене и которые все время приглашают его в-Выборг-на-каникулы (какой Выборг, дорогие мои Трубачевы, когда у меня маршрут навеки проложен: Москва – Тверь – Москва, а шаг в сторону – расстрел!) Вот бы и увиделся с ними на вокзале – тем более что стоянка поезда больше получаса.
Iz-za vulkana vozvrashajus’ v Daniju na pojesde. Budu V Vyborge projezdom cherez poltora chasa… jesli vy, konechno, prosnetes’ k etomu vremeni. Obnimaju rukami.
Он ненавидит писать русские смс-ки латиницей, именно что не просто не любит – не-на-ви-дит! Это какое-то надругательство над обоими языками, но русской клавиатуры на его мобильном нет. Потому-то он почти никогда и не пишет смс-ок… его тошнит набирать латиницей русские слова. Нет русской клавиатуры – не переписывайся на русском. Потому что транслит – это как протез, используемый здоровым человеком, не инвалидом то есть. Идет себе человек на двух здоровых ногах и держит в руке протез – третью ногу, искусственную: пластик цвета кожного покрова, обутый в башмак.
Когда есть возможность писать тем, кто хорошо знает какой-нибудь язык с латинской графикой, он просто пишет на этом языке, английском, немецком, датском – зависит от собеседника. Русскоязычные собеседники, кстати, считают его за это (и за это!) пижоном.
Никакой ответной смс-ки не приходит: спят Трубачевы богатырскими снами, да оно и понятно, седьмой час утра.
Значит, где-то здесь Россия начинает переходить в Финляндию. Интересно – резкий переход или нет? Впрочем, Выборг – это ведь Россия еще, рано, стало быть, относиться к окрестным пейзажам как к финским… да и вспомнилось вдруг, что когда-то Выборг вовсе даже датским был – зачем вспомнилось? А в Финляндии он, значит, в двенадцать – и там его встретит одна девушка, Катя, знакомая чьей-то знакомой, чтобы доставить в порт и помочь купить билет на паром. Дальше милая – наверное – Катя предоставит его самому себе, такова, во всяком случае, договоренность: он предупредил, что хочет походить по Хельсинки один, потому как не любит смотреть новые места в компании. А Хельсинки – место новое, там он так никогда еще и не побывал.Но вот как насчет тети Лиды и ее мужа… На самом деле мама вполне приняла бы объяснение в том же духе: нет, ради Бога, никакой компании, мне приятнее одному по Берлину болтаться.
В Берлине он, кстати, бывал раза три – каждый раз с компанией. Небольшой компанией – один-два человека обычно, но этого достаточно, чтобы уже ничего не видеть. Так что хорошо бы на сей раз обойтись без тети Лиды и ее мужа… хотя о чем это он? Он вообще не будет сегодня в Берлине, он возвращается через Хельсинки! Фу, черт, как оно все запутывается-то…
В окнах – Выборг. Местами сильно похож на специально раздолбанную кем-то Данию.
В проходе вагона – собака. Овчарка.
– Сейчас травить начнут, – говорит он Свену.
Свен не понимает, о чем он.
Тогда он достает книгу Жозе Сарамаго «Двойник» (один цветок подарил перед самым отъездом, а какой цветок и почему цветок, не будем говорить, неважно это) и начинает читать описание тоскливой жизни некоего человека. Перевод, как и предупреждал цветок, плохой…
Странно, что ему подарили именно «Двойника». Именно накануне отъезда. Накануне этого отъезда.
Ммм… двойники.
Двойников обнаруживалось все больше и больше, но он, помня свой неудачный опыт со Стиной, к ним уже не подходил – просто наблюдал со стороны, пока была возможность оставаться рядом с наблюдаемыми. Почему-то двойники никогда не встречались в пределах одной страны – они возникали именно там, где их alter ego не могло и не должно было быть. Кстати, это и удерживало его от попыток вступить в контакт – самоочевидность, то есть, факта, что никакого Алексея Петровича Мезенцева не могло и не должно было быть в Брюсселе: алексеи петровичи мезенцевы – люди старой закалки и по брюсселям не ездят. А если закалке вопреки и приедут, то ведут себя в брюсселях как туристы, а не как аборигены – с сумкой, полной овощей, с велосипедом, опытной рукой ведомым за руль, и с утренней газетой подмышкой.
В двух случаях сходство было сумасшедшим, в трех-четырех мимолетным, но каким бы ни было – он всегда теперь знал, что это только сходство. Сходство – и ничего больше… у-каждого-из-нас-есть-двойник. Парочка двойников и у него самого была – ему с возбуждением рассказывали о них: нет-ты-подумай-только-один-в-один-ты-лицо-фигура-возраст-всё-манера-говорить-ходить-одеваться… А однажды предложили встретиться с таким двойником – и жил-το двойник близко, в Питере, и даже сам желание увидеться выражал. Но он, ясен пень, отказался – вот еще глупости, друг на друга смотреть да сравнивать! Тем более что Борька как-то признался, словно в грешном: ему, оказывается, такое тоже предложили… ну, пошел, встретились – и, конечно, ничего общего, даже странно, что для кого-то сходство было очевидным. Правда, Борька-то известный скептик – на самом деле люди друг на друга действительно очень похожими бывают, тут и говорить нечего. Но, понятно, строить на этом что бы то ни было – дело пустое… хотя, конечно, соблазнительно.
Он и за Алексеем Петровичем Мезенцевым – который, по совести-то говоря, при ближайшем рассмотрении не так чтобы уж очень на себя похож оказался – последил, не выдержал: как тот торговался на воскресном рыночке с зеленщиком, по-немецки, причем… смешно очень было.
– Вы разве, молодой человек, меня не помните? Я же каждое воскресенье сюда прихожу огурец у Вас покупаю… – говорил Алексей Петрович Мезенцев, приподымая шляпу.
– Конечно, помню, господин хороший, только ведь необязательно же знакомство скидку предполагает.
– Да разве в скидке дело, когда в прошлый раз я за тот же огурец на целых сорок центов меньше заплатил!
– Так и огурец в два раза короче был, я те огурцы помню, они ж крооохотные!
– Вы бы тогда мне лучше сказали, что он крохотный, я бы и брать не стал.
– Сами-το Вы разве не видели, что – крохотный?
– Видел, конечно, однако Вы настаивали, что такие огурцы крупнее не бывают – не помните?
– А вот этого – не помню, клянусь Вам, господин хороший! Из-за симпатии к Вам двадцать центов скину, зато уж больше – извините.
И, засунув в сумку чуть ли не полуметровый огурец, Алексей Петрович Мезенцев весело покатил велосипед дальше.
Перепробовав весь мед у продавцов меда, все паштеты у паштетников, все сыры у единственной, но очень полной сырницы, словно врач, закончивший обход, огляделся по сторонам и проворчал что-то вроде:
– Маленький рынок сегодня, невыразительный.
У выхода встретился с приятельницей (видимо) – фарфоровой статуэткой полупреклонного возраста, которой, кажется, отсоветовал на рынок идти: во всяком случае, тут же и пропали они в арочке… а за арочкой столики оказались бедного вида, клеенкой покрытые. Там пара и примостилась: Алексей Петрович Мезенцев – пива выпить, спутница его – соку апельсинового.
А он через столик от них присел.
Похоже, Алексей Петрович в любви признавался, между тем как спутница кокетничала – говорили по-французски, мало чего понятно. Но ощущение было – полного прелюбодеяния, и стояла перед глазами Нинель Рувимовна, вообще не фарфоровая, а ситцевая такая… ее вечные чайку-разве-не-попьете и плоские домашние печенюшки. С «нашей женой», Нинелью Рувимовной, он, собственно, не в первую очередь дружил – он в первую очередь дружил как раз с Алексеем Петровичем, патентованным изобретателем всяких глупостей и мастером на все руки. Тем более что когда-то Мезенцевы его соседями были, давно – лет семь назад на тот момент или больше.
Нинель Рувимовну – на фоне, стало быть, фарфора, тонкого и определенно весьма дорогого, особенно в интерьере с клеенками – было ужасно жалко. Фарфор пригубливал апельсинового соку, а соку в вытянутом стакане не убывало – казалось, даже, наоборот, прибывало, настолько не вязалась с этим божьим одуванчиком сама идея поглощения чего бы ни было.
Между тем Алексей Петрович Мезенцев уже вынул из нагрудного кармана мобильный телефон и начал тыкать пальцами в кнопки, объясняя, видимо, божьему одуванчику преимущества мобильной связи при отсутствии непосредственно личной. Каждое движение Алексея Петровича сопровождалось одуванчиковым легким смехом: одуванчика, кажется, ужасно веселили только появлявшиеся тогда мобильные телефоны. Впрочем, седые головы их были совсем близко, почти вплотную друг к другу, и в глазах у обоих – счастье.
А вот то, что он тогда – просто из какого-то общего протеста по отношению ко всему сразу – выхватил вдруг свой мобильный телефон и набрал московский номер Алексея Петровича Мезенцева… это, конечно, было глупо. Трубку сняла Нинель Рувимовна, сразу спросив, откуда он звонит. Когда узнала, что из Брюсселя, рассмеялась:
– А ведь Алексей Петрович где-то там близко от Вас… в Швейцарии, это ведь близко? Вдруг какое-то старое его изобретение обсуждать начали, его и пригласили. Уже неделю я без него…
Близко или не близко, но – Европа, в Европе всё ко всему близко. Причем за неделю эту вон сколько Алексей Петрович успел: и в Бельгию сиганул, и два языка выучил, и огурец полуметровый купил, а уж меду-το перепробовал… и старушке фарфоровой голову теперь кружит, хорош изобретатель! Наш Алексей Петрович ни за что бы столько всего не наворотил: медлительный больно.
Ох, сходства, сходства, сходства… шутит природа. Налепит людей одинаковых, раскидает по всему миру и забудет. Иди потом собирай после нее. Добро бы по два лепила, а то ведь – сказать смешно! – Алексея Петровича, другого уже, но даже более похожего, он ведь потом еще раз видел – в Латвии. Из автобуса, правда: шел себе будто бы Алексей Петрович по Риге и собачку постороннюю на поводке вел… беспородная собачка – «уличный перекресток», как в Дании говорят. Сам же Алексей Петрович – вылитый Алексей Петрович и есть, штаны только клетчатые… наш бы, опять же, ни в жизнь таких не надел. А этот – пожалуйста: надел и – с собачкой гуляет!
И сколько их таких алексеев Петровичей мезенцевых по свету мыкается – поди знай…
С песней одной еще забавно было – с датской. Поют, значит, песню по радио – «Габриэль» называется: «Габриэль, – поют, – настанет лето, выглянет солнце, когда ты придешь…» – и так далее, а мотив – «Пусть всегда будет солнце», он запевалой эту песню в клубном хоре пел: «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки» – вот и пойми, чья песня на самом деле! Сходства, сходства…
«И чего ты с этим носишься? – спросил как-то Торульф. – Уж насчет людей-το понятно: архетип общий. Обезьяны друг на друга все похожи – не отличишь. Неандертальцы тоже были похожи, небось. Это только потом архетип стал варьироваться, когда люди придумали разные слова для разных проявлений жизни – под слова эти и начали подстраиваться вариации: новое слово – новая вариация. Но варьирование до бесконечности, оно даже теоретически невозможно! Придумать новое слово – дело трудное».
Кому как не Торульфу в таких вещах разбираться: мистик, хоть и доморощенный, норвежский… впрочем, в Норвегии большинство мистиков доморощенные, это во-первых. Во-вторых, доморощенные мистики – они самые сильные мистики и есть.
Герцог Мальборо идет на войну, миронтон-миронтон-миронтэн, вот идет он, значит, на войну… – и незнамо когда вернется, незнамо когда вернется, незнамо когда вернется!
Ах, даст Бог, он вернется на Пасху, миронтон-миронтон-миронтэн, он, конечно, вернется на Пасху или на Тройцын день, или на Тройцын день, или на Тройцын день.
Между тем Тройцын день уже проходит, миронтон-миронтон-миронтэн – Тройцын день уже, стало быть, проходит, только герцога нет как нет.
Тут мадам поднимается на башню, миронтон-миронтон-миронтэн, тут мадам поднимается на башню, на самый-пресамый верх.
Ах, не паж ли ее скачет с известьем, миронтон-миронтон-миронтэн, да конечно, это паж ее с известьем, он весь в черном с головы до ног.
Милый паж мой, мой паж драгоценный, миронтон-миронтон-миронтэн, милый паж мой, мой паж драгоценный, что за новости ты мне везешь?
Везу новости хуже не бывает, миронтон-миронтон-миронтэн, везу новости хуже не бывает, плачьте, рыдайте, госпожа!
Не носить Вам больше алого платья, миронтон-миронтон-миронтэн, не носить Вам больше алого платья, не носить больше вышитых шелков.
Герцог Мальборо мертв и похоронен, миронтон-миронтон-миронтэн, герцог Мальборо мертв и похоронен, он в земле похоронен чужой.
Ах, я видел, как несли его к могиле, миронтон-миронтон-миронтэн, ах, я видел, как несли его к могиле – четверо офицеров несли.
И один из них нес его доспехи, миронтон-миронтон-миронтэн, и один из них нес его доспехи, а другой – его сияющий щит.
Третий нес его праведную саблю, миронтон-миронтон-миронтэн, третий нес его праведную саблю, а четвертый не нес ничего.
У могилы, госпожа, у могилы, миронтон-миронтон-миронтэн, у его осиянной могилы посадили, госпожа, розмарин.
А на самой высокой ветке, миронтон-миронтон-миронтэн, а на самой высокой ветке сладкогласный распевал соловей.
И я видел, как душа господина, миронтон-миронтон-миронтэн, и я видел, как душа господина между лавров поднялась к небесам.
Что же после… а после погребенья, миронтон-миронтон-миронтэн, госпожа моя, после погребенья все отправились, значит, на покой.
Кто с женою в постель, кто с подругой, миронтон-миронтон-миронтэн, кто с женою в постель, кто с подругой, а уж кто одинок – тот один.
И теперь, госпожа, я умолкаю, миронтон-миронтон-миронтэн, и теперь, госпожа, я умолкаю, ибо хватит и того, что сказал {2} .
– Мама, я в Бресте.
– Ну, слава Богу.
Он даже нарочно потянул время – чтобы правдоподобнее получилось: подменив таможню в Выборге брестской и ни разу при этом – Выборгом – не проговорившись. Про собаку рассказал, овчарку. Как она их купе проигнорировала – с некоторой даже надменностью мимо прошла, на дверной пролет и не взглянула: дескать, не ради вас я здесь, а вы поезжайте, куда едете – и с дружеским, так сказать, приветом. Зато у соседнего купе в стойку стала – и ни с места. Разноязыкие таможенники, понятно, шмонать принялись… разговоры по-русски, шуточки всякие, что-то нашли, увели кого-то куда-то разбираться, вернулись все вместе, таможенники шмонали дальше.
– Так ты в Берлине-то когда?
– Мам, я тебе не скажу когда. Во-первых, сначала Польшу надо проехать. А потом… вообще ни к чему, чтобы меня встречали, мне это в тягость, я лучше один по городу похожу – или… или у меня и так есть с кем встретиться, не надо тетю Лиду.
– Я, между прочим, хотела как лучше.
– Да понятно, что как лучше… кто бы сомневался. Но ты ж знаешь, я не люблю с сопровождающими, мне все такое мучительно. И, пожалуйста, не решай за меня, что мне надо, что нет, я сам как-нибудь, договорились? Потом, у меня немецкого языка полон рот, а тетя Лида с мужем… и с их общим инвалидным немецким – мне зачем?
– Как «инвалидным»? Они там столько лет прожили, в школу языковую оба ходили!
– Это тоже понятно, только… позвони ей, пожалуйста, и скажи, что меня приятели встретят.
– У тебя разве есть приятели в Берлине? И что за люди… если я могу спросить? Какой национальности?
– Да у меня везде приятели! Люди как люди, немец на немце и немцем погоняет.
Короче, с мамой разобрались. Мама, понятное дело, несколько рассердилась, но это пройдет. Он позвонит ей из Берлина, сядет вот в кафе где-нибудь на Унтер-ден-Линден, возьмет один большой кофе со сливками и два круассана, сигаретку закурит – и позвонит. Не может быть в Германии такой же дурдом с курением в общественных местах, как в Дании. Времени у него там часов семь, надо стену, ди Мауэр то есть, найти… теперь уже трудно найти, наверное, и следов, поди, не осталось, и —…что он несет? Он не будет в Берлине! Он в Хельсинки через два часа будет, чтоб ему пусто… Где некая милая Катя поможет ему выкупить билет на паром, билет уже заказан – спасибо той же Кате… правда, билет бы он и сам выкупил, по-английски-то ведь говорят они там, в Финляндии, учат же они английский, понимают, что на финском далеко не уедешь – даже за пределы страны не выедешь, так чего помогать билет-то выкупить? Впрочем, спасибо, конечно… А в Берлине он не-бу-дет!
Он уже поговорил по телефону и со своими: пятеро (трое в Москве, двое в Копенгагене) были в курсе настоящего – настоящего? – его маршрута. Остальные – как менее свои, так и вовсе не свои – знали версию «Москва– Берлин – Копенгаген», на их звонки он не отвечал. Свои нервно смеялись – то есть, московские свои, конечно: мама звонила им каждый час в надежде получить альтернативные сведения. Альтернативными сведениями могли быть сведения о том, что ее сына:
а) уже ограбили, но еще не убили,
б) уже убили, но еще не ограбили,
в) уже и убили, и ограбили.
Альтернативных сведений, впрочем, никто не поставлял – все дудели в одну дуду: едет прекрасно, время прибытия куда бы то ни было неизвестно, поезд особый, вокруг одни немцы, каждый стар и благовоспитан, в купе вслух читают Гёте и Рильке, пьют швепс и едят марципан. Дольче вита, а не… вита!
Правда, Лика, чуть не плача, только что рассказала по телефону, как у нее с языка – ну просто сам собой! – сорвался Выборг, но мама ничего не заметила. Бедная наивная Лика!.. Мама, говоря совсем между нами, замечает всё и гораздо больше. Не сомневайся, Лика: мама заметила и то, что ты проговорилась, и то, что, проговорившись, испугалась, но понадеялась, что мама ничего не заподозрит, все-то мама заметила и только, стало быть, идя навстречу твоему пожеланию, сделала вид, будто ничего не заметила… А весь ужас ситуации в том, что мама же воспитанный человек и ни в жизнь не унизится до сказать: разгадала я, дескать, все твои нехитрые стратегии, Лика, и сейчас стану тебя в лужу прямо носом тыкать – чтобы впредь неповадно! Ничего подобного мама, кстати, и по отношению к нему не делала: даже в самом раннем детстве и никогда после. Так что опасности никакой, бедная наивная Лика… просто отныне все мы под подозрением. Под ба-альшим подозрением.
Кит тоже звонила минут двадцать назад: спросить, не очень ли мучит раздвоение личности.
– Очень, – признался он ей – первой.
– А позвонить маме и рассказать всё?
– «Всё» – это… и про уже миновавшее, и про только еще предстоящее? Как насчет беспризорного дня в Хельсинки, насчет ночного парома, насчет вынужденного многочасового простоя в Стокгольме, насчет ночного же поезда до Мальмё?
– Нет, – вздохнула Кит. – Так ей и правда многовато, пожалуй, покажется. Ну, терпи тогда… потребуется помощь – обращайся!
– В смысле – за терпением?
– Можно и за ним, но лучше – за справкой, звонишь и докладываешь: земля, земля, дайте координаты, не помню, где нахожусь!
Ей бы все шуточки, а между прочим, что касается последнего Берлина, год назад, то последний Берлин он, например, уже весьма и весьма избирательно помнил. Ибо – сказать совестно (мама, заткни уши!) – был в последнем Берлине все время настолько пьян, что вопрос местонахождения почти утрачивал смысл. А почему пьян… да как тут объяснишь… дело не в том, что такая страна Германия, пиво и прочее. Кстати, пива он терпеть не мог. Просто они с Фердинандом и Фердинандовой новой тогда подружкой Амалией (имена гротескные, но ничего не поделаешь, бывают родители со странными номинативными предпочтениями), постоянно заходили греться – из-за него, гостя, между прочим, потому что это он, а не они, был в пижонском пальтишке не по возрасту (всё в нем не по возрасту, стыд и срам). Пальтишко вполне годилось в Копенгагене, не устающем убеждать себя, что на датскую погоду влияет Гольфстрим, но в Берлине, которому что Гольфстрим, что мэйнстрим – по барабану, сделалось слишком тонким, слишком коротким, слишком молодежным… на Фердинанде и Амалии, правда, и вообще только виндбрейкеры были, но им-то, каждому, чуть за двадцать, какие проблемы!
Короче, замерзал он один. Пошли было на второй день купить что-нибудь потеплее, но вместо кламоттен или в этом роде он купил на все наличные, порядка тысячи евро, три кашне от Burburry, после чего покупать кламоттен почему-то уже расхотелось. Зато он каждый день щеголял в новом кашне – оценить новинки могли бы только видевшие его ежедневные преображения Фердинанд и Амалия, но тем было плевать на Burburry.
Греться забегали куда приходилось, а приходилось в основном туда, где пиво… в общем, не очень хорошо. А вечером, конечно, кабаре – иначе Берлин не Берлин… то есть, опять же горячительное, и, в общем, к ночи он уже лыка совсем не вязал, Фердинанду же и Амалии – хоть бы что, им Берлин нипочем. Он помнил, как кричал у Бранденбургских ворот, что хочет остаться в этом городе навсегда, и как разумница-Амалия, водя пальчиком по одному из Burburry, убаюкивала – чеховской такой героинечкой – его возбуждение: «Вам нельзя здесь, Вас здесь сломают, Вы тонкий, славный, Вы лучше приезжайте чаще… и опять уезжайте, приезжайте и уезжайте, приезжайте и уезжайте…»
В одном из клубов кто-то был опять на кого-то похож – ну, девушка одна, ну, на Лену, однокурсницу его университетскую… – он тут же, спьяну, коротко поведал Фердинанду и Амалии о своих наваждениях, показал Лену. Фердинанд, душа-человек, без раздумий бросился ее очаровывать, Амалия скрестила пальчики, чтобы удалось… Потом Фердинанд вернулся с якобы Леной, звали Сара, сходства никакого – пива пить меньше надо, сказал он в сердце своем, Лену отпустили, позор.
– Не огорчайтесь, так оно и должно было кончиться, – хлюпала носом Амалия, – я сразу подумала, что Сара не может быть Ваша однокурсница, иначе ей столько лет, сколько Вам, было бы… странно ведь, если Вы старились, а она не старилась все это время!
И правда – странно. Вот об этом он, кстати, почему-то никогда не думает: его наваждения как бы не имеют отношения к времени. А ведь и впрямь люди, двойников которых он встречал то тут, то там, разумеется, должны были меняться: его сокурсница, несомненно, не могла сегодня выглядеть так же, как тридцать пять лет назад…
А Фердинанд и Амалия между тем – наверное, тоже после пива – сильно прониклись идеей двойничества.
– Конечно, – философствовала Амалия, – Ваш Торульф прав, бесконечное варьирование невозможно, особенно если учесть, что варьирование происходит вокруг одного и того же архетипа.
– Амалия, – обнимал он ее, – Вы тоже доморощенный мистик?
– Что такое «доморощенный»? – не понимала Амалия. – Мне кажется, мистика так не делится – на доморощенную и какую-то еще.
Делится, делится, милая Амалия… Есть мистические традиции, старые как мир, даже старше. Хорошо разработанные мистики, со множеством адептов, ритуалов… и адепты понимают, вокруг чего мистики построены, знают, куда они их приведут.
– Тогда это уже не мистика, тогда это уже игра…
Разумница-Амалия… знаний бы ей побольше.
– Вот Ваши двойники, тройники… – это доморощенная мистика?
Это вообще не мистика, разумница-Амалия… это так, заблуждение ума, оно пройдет, когда-нибудь пройдет, в один прекрасный день пройдет. Это из ряда фантазий моей мамы: что сына-убьют-и-ограбят, правды в маминых фантазиях не больше, чем в моих наблюдениях… все глупость и глупость. И – застрявшая строчка из Пастернака, забыл из какого стихотворения, всегда хотел уточнить, времени не было: «…на ходу на сходствах ловит улица…», два раза «на», не очень хорошо, но как точно!
Это случается только в городах: феномен двойничества такой же продукт цивилизации, как и… как и все остальное. Странно было бы ожидать подобных встреч прежде, в далеком прошлом человечества: и жили в основном по деревням, и ездили меньше и дольше – шанс увидеть себе-подобного, ему-подобного, ей-подобного невелик был. Это сегодня… цивилизация, глобализация, экстериоризация, полтора часа – и другая страна, несколько часов – другой материк. Плотнее живем, разумница-Амалия, все в куче, всё в куче – камешки общего узора, ка-лей-до-скоп. Не успел опомниться – выходи из самолета, ступай на новую землю… понятия «расстояние» нет больше, время не сильно разделяет – оно, скорее, соединяет.
В общем, пьяные одни разговоры – и с кем? Чуть ли не с тинейджерами… откуда им что знать!
А вот Берлин – Берлина он не помнил: ни где ходили, ни что видели… между тем как и ходили, и видели. Но с таким же успехом это мог бы быть Мадрид, причем Фердинанд и Амалия были бы тогда Фернандо и Амарилья, неважно.
С Манон опять тогда не встретились… жалко.
Я-сама-объявлюсь-ладно?
Ладно, Манон, ладно.
Он воспитанный человек. Он знает, что от него требуется в таких ситуациях. В таких ситуациях от него требуется «уйти под землю», так называют это датчане.
С тех самых пор он живет под землей.
«И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли».
А за окном поезда между тем определенно уже Финляндия: русский язык давно пропал со всех табличек.
Незадолго до прибытия в Хельсинки позвонил Торульфу, все рассказал.
– А чего ты взволнованный такой? – спросил тот.
– Разве взволнованный? Нет, по-моему…
– Да страшно просто взволнованный, голос дрожит, язык неточный! Казалось бы, не впервой маме наврал, насколько я тебя знаю…
– Просто мне в пути три дня быть – и врать через каждые два часа требуется, мы созваниваемся постоянно.
– Зачем?
– Маме так надо – иначе она беспокоится. Скоро, например, буду звонить ей опять. Из Берлина.
– Ты, смотри, не заиграйся там весь, – предупредил Торульф. – Опасно может быть.
– Что опасно?
– Со словами играть, чтоб тебя!.. Не нравится мне, что ты такой взволнованный. Приедешь в Хельсинки – водки выпей. Хотя там, вроде, сухой закон…
– Я в Берлине выпью, Там нет сухого закона.
– Вот я и говорю, опасно.
Торульфу он, кстати, звонит довольно часто, а вот видятся они совсем редко. При этом ближе, чем Торульф, у него почти никого и нет. У Торульфа ближе, чем он, нет совсем никого, но так или иначе, а их немыслимая близость не требует подтверждений. Они живут в разных странах, на расстоянии в пару-тройку тысяч километров – и, по совести говоря, общего у них мало. Торульфу порядком за семьдесят, и он просто старый брюзга. Старый брюзга и органист в далекой не только от всего мира, но, кажется, и от всей Норвегии церкви, на самом северо-востоке Скандинавии. Торульф ненавидит города – понятие «город» как таковое ненавидит. А любит солнце, горы, море, деревья, траву, птиц… все эти долбаные восходы-закаты, приливы-отливы, прилеты-отлеты.
Между тем как сам он любит города, любит Город – город-понятие, а то, что любит Торульф, иронично называет «родная природа» и терпеть не может.
Но Торульф имеет власть над ним. Страшную, сказать по совести, власть, причем даже неизвестно, отдает ли себе в этом отчет сам Торульф. Если завтра Торульф распорядится: «Поезжай в Зимбабве и проповедуй там вегетарианство» – придется, наверное, ехать. Правда, Торульф никогда не отдает распоряжений, даже советов – и тех не дает.
Это Торульф сказал ему: «Возраст, мой дорогой. Я часто думаю о том, что видел уже гораздо больше, чем мне предстоит увидеть, – видимо, скоро ты тоже будешь вынужден признаться себе в этом. А оно как раз и означает, что место памяти начинает занимать историческая память».
Торульф постоянно пишет книги и никогда не издает их. Он пишет книги для себя. В тетрадях, удивительным своим – тончайшим, разборчивейшим – почерком. Причем всегда – несколько книг одновременно. Одна из них называется «Историческая память».
Если бы не знать, что он пишет книги для себя, можно было бы цитировать фрагменты оттуда… А так – можно только пересказывать, но разве перескажешь?
Вот хоть и про историческую память. Именно там, в этой книге, говорится, что наиболее важное отличие людей от прочих живых существ – наличие исторической памяти, со временем, по мере всплывания на поверхность тех или иных слов, начинающей развертывать перед нами свои картины. Как будто целую жизнь мы набираем впечатления, не отдавая себе в этом отчета и не запоминая, но регистрируя все, с чем соприкасаемся… и вот, в определенном, позднем, возрасте зарегистрированное в течение многих и многих лет вдруг начинает словно бы проявляться – проступать на поверхности, все чаще напоминая о себе. Потому-то и отказывает вдруг так называемая актуальная память – память о ближайших событиях нашей жизни, которые мы уже устаем обозначать словами. Зато историческая память – она торжествует. Все, о существовании чего мы даже не подозревали, но что, тем не менее, было сохранено в нашем сознании в виде слов, внезапно словно озаряется светом – и мы начинаем припоминать : имя человека, имя ситуации, имя места… мы-с-Вами-где-то-встречались!
С другой стороны, есть, говорят, даже одно психическое расстройство, при котором человек помнит то, чего не было… жуткое такое расстройство, если, конечно, так действительно бывает. Как же не бывает: с ним уже не раз и не два случалось! Ну и… видимо, скоро он начнет подходить к посторонним и убеждать их в том, что знаком с ними. И люди станут шарахаться от него…
Кстати, однажды в Копенгагене он видел умершего на тот момент (причем тогда уже пять лет назад как умершего!) знакомого – знакомого из ближнего Подмосковья. И – всплывшего вдруг снова, в зауряднейшей ситуации покупки воскресных булочек в кондитерской на Мимерсгаде. Умерший задержал на нем взгляд – и вспомнилось… слово вспомнилось: Ро-зен-кранц. Пришлось сказать: добрый день. Привет-привет, ответил Розенкранц и смутился. И заказал шесть булочек – явно, стало быть, не только для себя. Между тем как у умершего никого больше не было . Прежде не было… а теперь – было?
Едва ли это проделки исторической памяти: с ней все, вроде бы, в порядке: историческая память рисует похороны Ро-зен-кран-ца – похороны, на которых он присутствовал.
Да нет, нет и нет… обознаточки-перепряточки! Иначе, конечно, и быть не может. Это он сам послал умершему взгляд – тот и ответил: продолжительным взглядом, взглядом в самое сердце, ах, забыть, забыть, ничего не случилось, ничего не было, у-каждого-из-нас-есть-двойник, азы даже не доморощенной, а просто бытовой мистики. Открой, вон, Сарамаго – и читай.
Сколько уже раз это случилось? Да не так уж и много раз… если учесть, что в Дании он целых четырнадцать лет прожил. Была, значит, Стина, затем был этот, как его, Ольсен… да, Арне Ольсен из одной случайной ютской компании, они еще попереписывались немножко в дальнейшем, потом – умерший знакомый с шестью булочками, потом – Алексей Петрович, дважды… правда с перерывом (в год, кажется). И еще Лизелотте – смешная толстая Лизелотте, промчавшаяся мимо него в окне такси и даже помахавшая рукой… в Ростове-на-извините-Дону, где делать ей было не-че-го! Ну и, кроме Лизелотте, еще двое… ммм, неважно кто – важно, что двое. Итого семеро. Семеро за четырнадцать лет. То есть с периодичностью раз в два года. И чего, спрашивается, тогда огород городить? Если и бред, то пока не сильно систематический!..
Да, плюс одна из его студенток, невероятно похожая на дочь Соколовых… м-да, какой та была лет двадцать назад, но другой он ее и не помнил. Студентка была из Сербии, звали Йованна.
Впрочем, это если только людей брать, потому что есть ведь еще и другое. Есть места… есть книги, есть музыка, есть какие-то – разные! – предметы. Хорошо, не будем о предметах. Достаточно вот просто мест… вот просто и Хельсинки, плывущего за окном поезда. Он, оказывается, знает этот город. Он еще не вышел на перрон, но довольно и того, что плывет за окном: плыло уже, плавало уже! Причем не в детском сне о хельсинках плыло, Бог с ним, со сном, в снах много чего плавает, за всем не уследишь… а так, перед глазами.
Катя оказалась и вправду милой – милой стеснительной девушкой, совсем молодая, хорошенькая… Вы и есть такой-то? Именно такой я и есть. Повезла его через центр – Катя, это ведь русская церковь, слева? – Откуда Вы знаете? – Да знаю откуда-то… – и дальше, к порту, к невменяемых размеров парому, уже стоявшему наготове, хотя отплытие назначено на вечер. Выкупили билет, посидели в портовом кафе, обнялись на стоянке, расстались.
Хельсинки был просто маленький Питер.
Он отправился гулять – медленно, со вкусом. Мимо питерских домов – домиков в сравнении с Питером. Не на лингвиста ему следовало в свое время учиться, а на историка архитектуры, откуда-то было в нем всегда знание этих вот балясин… аркбутанов, люнетов, закомар – того, что полагается историку архитектуры: требовалось лишь систематизировать разнообразные «балясины», распределить по ящичкам, повесить этикетки, пронумеровать. А он отправился на филфак – да на русское отделение… хоть бы тут ума хватило или, как ее, дальновидности – германское выбрать! Понятно же было, что рано или поздно жить ему предстоит в германоязычной стране – неизвестно только, в какой. Но определенно в германоязычной, хоть и необязательно в немецкоязычной – пусть немецкий язык и проснулся в нем уже годам к двенадцати полностью, во всем богатстве своей изощренно тяжеловесной грамматики.
Финский же народ по-немецки, как выяснялось, почти не умел, зато по-английски более чем охотно направлял его туда, куда ему хотелось. Английский был то легкий, у молодежи, то несколько помпезный, у людей пожилых – со всеми этими would you mind и ту pleasure, но навигировать по Хельсинки – хельсинкам… песенкам, лесенкам – оказалось легко и беззаботно. Легко и беззаботно плыл он, осторожно подталкиваемый в спину ветерком, который, хоть и не говорил по-английски, но места знал не хуже аборигенов… плыл до тех пор, пока не остановился – как в землю врос: черносливовый дым. Уже ?
Черносливовый дым словно накинул на него петлю, дыхание оборвалось: Калинин-вокзал-возвращение-от-дяди-Сережи-сумки-на-перроне-от-тебя-пахнет-сухофруктами-bye-bye-boy… наконец-то он разобрал эти слова – пятьдесят, значит, лет спустя. Песенка из хельсинок, из скорого поезда «Москва – Хельсинки», песенка, почти напугавшая не то изысканной своей фонетикой, не то безупречной ритмикой… тогда он и представить себе не мог, что песенка состояла из английских слов и что у слов был смысл… Он никогда в жизни не пытался их вспомнить и не думал, что это возможно. А вот – поди ж ты: вспомнил вдруг… в присутствии чернослива.
Bye-bye-boy.
Ему наконец снова удалось вдохнуть – даже не вдохнуть, а глотнуть воздуха: огромный глоток, в котором, слава Богу, еще оставалось немножко чернослива… теперь-то уж он не упустит этот дымок!
И он пошел за дымком, тихонько вившимся впереди, – осторожно, но чуть ускоряя шаг, как хорошая ищейка, напавшая на след. Сначала запах тянулся ленточкой, потом начал свиваться в клубок, становился все круглее, все отчетливее – клубок катился прямо и прямо, свернул в горбатый переулочек, весело побежал вниз и вдруг замер. У небольшого, красного цвета дома – вернее, у почтового ящика перед ним.
Невысокого роста старичок вынул из кармана связку ключей, нашел нужный, отворил дверцу почтового ящика и, придерживая дверцу правой рукой, попытался ухватить целую стопку цветных брошюр левой… брошюры выскользнули, попадали на землю, разлетелись во все стороны.
Он, конечно, опередил старичка и бросился собирать их, в этот же момент оказавшись у почтового ящика, но не решаясь поднять глаза. Над головой что-то говорили по-фински.
Когда он распрямился, посмотрел на говорившего, на растерянную улыбку… – нет, это, конечно же, не был мужской иностранец из его детства. Или был? Как должен был выглядеть тот иностранец, давно исчезло из памяти, но вполне возможно, что именно так: сухопарый, с короткой серебристой бородкой и тонкими роговыми очками на крупноватом носу, за которыми светились смеющиеся глаза цвета дождливого неба. Дед что-то говорил на своем изобилующем гласными языке, а голос… да и голос вполне мог быть тем же, обычный мужской голос, немножко хриплый.
Просто призраку было явно меньше ста. А как раз сто – или сколько… сто десять? – было бы на данный момент пожилому мужскому иностранцу из того поезда, потому что тогда, пятьдесят лет назад, в 1960-м году прошлого века, пожилому владельцу растерянной улыбки и черносливовой трубки было столько, сколько этому сейчас.
– Unfortunately, I don’t speak Finnish, my apologies! I am not from here, I came from… Denmark. – Он улыбнулся: в этой ситуации от него явно не требовалось автобиографии. – I came from Denmark to pick up your papers!
И глаза цвета дождливого неба расхохотались.
– This is the reason! A really serious reason to come from Denmark, I am very much obliged to you…
Пришлось отвесить дурацкий поклон, полупомахать рукой и, уже направляясь своей дорогой, сказать:
– Bye-bye!
– Bye-bye-young-man.
Песенка из хельсинок.
Спокойствие, так все прощаются. Так все кому не лень прощаются, когда по-английски, – и без паники, пожалуйста. Ни в коем случае не оборачиваться, ни в коем случае ничего не затягивать, ничего не усугублять.
Зайдя за угол, он стер со щек слезы, остановился. Откуда слезы, ему пятьдесят шесть лет! Просто только что умер человек. Только что умер пожилой мужской иностранец с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой, который до сих пор, оказывается, был жив и, несмотря на свои сто десять лет, путешествовал, путешествовал, путешествовал – этакий герой Йонаса Йонассона… вот тоже бывают имена: в глазах двоится! А выходило, что именно наличие в мире пожилого мужского иностранца с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой гарантировало миру покой и порядок. Все шло своим чередом, одно событие было следствием другого – и даже если иногда возникало впечатление, что жизнь как с цепи сорвалась, впечатление это, вне всякого сомнения, было поспешным, ибо в конце концов события так или иначе уравновешивали друг друга, выстраивались в затылок, и причиной тому всякий раз оказывался пожилой мужской иностранец с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой. А посему ничего не могло случиться с нами, ничего страшного, ничего плохого – в любом случае, ничего непоправимого.
Но вот теперь он умер, и совершенно непонятно, что будет дальше со всем миром.
Вокруг был Хельсинки. Светило солнце, горели кресты и купола, блестели окна и мостовые. И никто пока не знал о том, что всё уже не так. Что выбита из-под ног последняя опора. И что теперь может случиться всякое.
Только в Исландии извергался вулкан.
Бабушка покойной жены моей В. Ф. (рожденной княжны Масальской) Ирина Логиновна Богаевская, супруга бывшаго оберъ-секретаря правительствующего сената и извѣстнаго в свое время литератора, Ивана Ивановича Богаевского, въ самой старости своей (в 1830 году) сохраняла еще слѣды необыкновенной красоты, а въ первые годы замужества, по отзыву ея современников, могла считаться одною изъ первыхъ красавицъ въ столицѣ.
Однажды, въ царствоваше императора Павла она ехала въ карете навестить свою опасно больную прiятельницу, Полуектову, и на дороге неожиданно встретила государя, ѣхавшаго въ сопровождены Кутайсова. – По установленному въ то время обычаю, едупце въ каретахъ должны были останавливаться при встрече императора. Слуга, стоящш позади кареты, долженъ былъ немедленно соскочить съ запятокъ и отпереть дверцу кареты, и кто бы ни ѣхалъ въ ней, и какое бы ни было время, долженъ былъ выдти изъ кареты и, сбросивъ съ себя верхнюю одежду, спуститься на подножку для поклона его величеству. Дамы не были освобождены отъ этого, и молодая Богаевская должна была подчиниться уставу. Государь остановился, внимательно посмотрел на нее, и съ особенною благосклонностью отвѣчалъ на поклонъ ея. – Отъѣхавъ нисколько шаговъ, онъ послалъ Кутайсова осведомиться о фамилш повстречавшейся дамы и о месте ея жительства. Кутайсовъ стремительно подскакалъ къ стеклу кареты, снова остановилъ ее, и испуганная Богаевская, в замешательстве, на вопросъ его промолвила фамилш прiятельницы, къ которой она ехала, а на вопросъ о жительстве назвавшись ея именемъ, указала и домъ ея. Заметивъ испугъ молодой дамы, Кутайсовъ доложилъ и объ этомъ государю, а Богаевская, отложивъ посещеше больной прiятельницы, отправилась прямо домой и разсказала о всемъ мужу.
На другой же день, по повелешю государя, Кутайсовъ отправленъ былъ узнать о здоровьи Полуектовой. Каково же было удивлеше его, когда ему отвечали, что она скончалась. Это известхе еще более изумило и огорчило государя и Кутайсовъ долженъ былъ несколько разъ повторять ему, что онъ самъ видѣлъ въ домѣ печальный приготовлешя, и что покойная неузнаваема. Это навело императора на размышлешя о превратности человеческой жизни и странной игрѣ случая. Къ счастпо, что торопливый Кутайсовъ при освѣдомленш не пускался въ дальше расспросы, которые легко бы привели к разгадкѣ неожиданнаго случая. Между гѣмъ Богаевсюе, узнавъ о смерти ихъ прiятельницы и встревоженные отвѣтомъ на освѣдомлеше государя, распорядились закрыть ставни своего дома и решились немедленно отправиться въ свою деревню, гдѣ прожили два летше месяца, а возвратясь въ городъ Богаевская еще три месяца никуда не вьгѣзжала изъ дома, опасаясь последствий своей встречи и остерегалась встретиться снова съ высокимъ цѣнителемъ красоты {3} .
– Ты почему опять звонишь? – Маме трудно угодить.
– Я же обещал позвонить из Берлина, странный вопрос. Вот, Польшу проехали, ну и – звоню из Берлина… не надо было?
– Тетя Лида звонила уже, все рассказала.
– Что «все»?
– Ну, как ты выглядишь и так далее.
– И как же я выгляжу?
– Она говорит, что ты усталый и что чемодан тяжелый. Ты же обещал все в Москве оставить.
– Я и оставил… часть.
Они еще про что-то поговорили с мамой – словно по минному полю прошлись. Он не понимал вообще, куда двигаться, но мама провела его по минному полю сама: скорее всего, не видя, что вокруг минное поле.
Вот вам, стало быть, и Берлин – заказывали?
Сильно засосало под ложечкой, ощущение самотождественности пропало полностью. Он посмотрел сначала вокруг, потом на часы – зафиксировав: ощущение самотождественности полностью пропало в Хельсинки, в три часа дня… в три часа десять минут, если быть совсем точным. Странно, как это маму не удивило, что он всю Польшу за полдня промахнул и уже встречен тетей Лидой с мужем, непонятным образом высчитавшими время прибытия поезда. Его поезда! Поезда, которого – нет.
Между тем тетя Лида не тот человек, с которым играют в игры. И уж тем более не тот человек, который играет в игры. Как и муж тети Лиды: этот-то просто производил впечатление человека, навсегда наигравшегося в раннем детстве и, видимо, давным-давно забывшего даже само слово «игра». Впрочем, с мужем они за последние лет тридцать виделись всего один раз, да и с самой тетей Лидой – сколько?., раза два или три как следует и еще два или три – совсем мимоходом. Он – вообще-то – мог бы узнать ее в толпе? А она его?
Сейчас он думает не туда. Всякие недоразумения исключены. Даже если тетя Лида обозналась, то странно представить себе совершенно постороннего человека, вдруг согласившегося играть роль старого знакомца тети Лиды: не бывает таких людей, ибо от тети Лиды и от мужа ее бегут кружными путями, даже состоя с ними в нежнейшей дружбе. Нет-нет, какие недоразумения, помилуйте!..
Тем более что тетя Лида уже «все рассказала». Маме. Рассказала бы тогда и ему, что ли… – просто чтобы знать, как теперь из этого выкручиваться. Притом что и сил никаких выкручиваться – нету: он только что похоронил человека, ох, сильно дорогого ему человека… стодесятилетнего мужского иностранца с растерянной улыбкой и черносливовой трубкой, прямо в Хельсинки и похоронил, все как надо. Где ж тут Берлин-то, милые люди…
И все-таки сейчас он в Берлине, и там его – противу воли – встречают, наблюдают, расспрашивают, гуляют, кормят. Интересно, где именно? Небось, на Курфюрстендамм… там одни русские, где ж еще бывать тете Лиде с мужем! Живут в Хеллерсдорфе, променады совершают по Курфюрстендамм – схема известная. Сидим, значит, едим колбаски, запиваем хайнекеном… Тетя Лида, услышав его переброс шуточками с официанткой, говорит, что немецкий у него nicht schlecht… спасибо-тетя-Лида-за-комплимент: Вам только его немецкий и оценивать – особенно как nicht schlecht. Ох-хо-хо… Потом ему, понятно, предложат прокатиться в Шпандау – он ведь хочет посмотреть на завод BMW, на Siemens? Это уж само собой: он, как и всякий нормальный человек, без ума от Шпандау, вперед! Можно еще в зоопарк сходить: пусть будет совсем культурно…
На экране вибрирующего мобильного (звук отключен) светится имя Фердинанд. У Фердинанда, видимо, антенна во лбу. Зачем-то сообщает, что они с Хильдегард только что говорили о нем в одной таверне – кто такая Хильдегард, оказывается, неважно – жалко, что в мюнхенской таверне, потому что (эх, была не была!) он сейчас как раз в Берлине – нет, проездом – завтра в Копенгаген – вулканическое облако, понимаешь ли…
В общем, бред, бред, бред.
И он не знает, что делать.
Он даже не знает, где он.
Он даже не знает, кто он.
Прямо как в старом анекдоте: заночевавший в маленьком городе ковбой просит разбудить его в шесть – и, разбуженный, отправляется дальше, пока на пути не обозначается некий салун, пытается войти, но не пускают, тут только для белых… в растерянности смотрится в оконное стекло и обнаруживает, что он чернокожий, – вот черт, не того разбудили!
Этот анекдот он помнит со школьных времен, не потому что такой смешной, а потому что совершенно загадочный. Не менее, пожалуй, загадочный, чем Чжоу и бабочка, хотя куда уж загадочней. Правда, Чжоу и бабочка навещают его чаще, гораздо чаще. Милая такая пара сущностей, навсегда потерявшихся друг в друге…
Так как там насчет Берлина? Ах да, Фердинанд из Мюнхена звонил. Как Фердинанд мог говорить о нем с Хильдегард, когда Хильдегард его в глаза не видела, вот тоже чудак-человек-Фердинанд!
– Entschuldigung, ich kan hören, dass Sie Deutsch sprechen… wie finde ich Senatsplatz, bitte?
(Сенатская площадь… словно они в Питере! Впрочем, может, и в Питере – чем черт теперь уже не шутит.)
– Bin fremd hier… leider. Um Verzeihung!
Слава Богу, что кто-то слышал, как он говорит по-немецки: на секундочку ему показалось, будто разговор с Фердинандом происходил по-русски, чего решительно не могло быть… Фердинанд и по-немецки с трудом объясняется, тоненькая философствующая Амалия так и так была Фердинанду не по зубам, пусть лучше с Хильдегард, ну и имена ему достаются!
Грустно, что Фердинанд не в Берлине – пошатались бы вместе… уж, конечно бы, не в Шпандау! Das Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, ничего лучше нет в Берлине, ему и на сей раз никак этого кафе не миновать – да что ж это такое… на какой – на се и раз, когда нет никакого сего раза! И нет никакого Берлина, кроме того, который в мозгу – у него в мозгу и у тети Лиды с мужем, вот незадача… И у мамы. Кстати, вообще непонятно уже, кто кому голову дурит и кто с кем в сговоре. Посмотреть бы на… знать бы еще голубчика – гуляющего по Шпандау в малособлазнительном обществе тети Лиды с мужем, что за персонаж? Хотя… по случаю приобрести знакомых в Берлине – худо ли? Впрочем, полностью исключать вероятность того, что это не он сам, все-таки нельзя… oder?
Но маме-το, получается, и звонить теперь опасно? Он же не знает, каким утехам предается в теплой компании тети Лиды… знает об этом сейчас только тетя Лида! Ну и муж ее… который не в счет, муж всегда не в счет, у него даже имени нет, одна должность – муж. Очень желательно не разрушить ничего в сооружениях, возводимых бойким умом тети Лиды, так что лучше и правда не звонить маме. Пусть она сама звонит… вот и звонит уже.
– Ну как тебе Шпандау?
Мне Шпандау – никак! Я хочу в Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, я хочу разговаривать с тоненькой философствующей Амалией о различии в понятиях «мистика» и «игра», Амалия понимает про это, и что же он, дурак, не спросил ее, в чем состоит все-таки различие, догадывался же, что не навек она при Фердинанде, недолго ей при Фердинанде. Но Амалии нету больше, вместо нее теперь Хильдегард, так Фердинанду и надо… но зато есть Манон, надо найти Манон!
Иногда он с ужасом признавался себе, что любит Манон. Он не понимал, как такое могло случиться: они познакомились тогда, когда в жизни его давным-давно уже была Кит, которую он любил и которую все еще любит. Но он любил и Манон – и объяснений этому явному противоречию не находил. Одно и то же слово «любить» не могло одновременно обозначать и его отношение к Манон, и его отношение к Кит… а обозначало! При том, что отношение было разное, при том, что с Кит он видится постоянно, а с Манон встретился только один раз, во время первого своего Берлина.
И все-таки он любит Манон. Странно, что любить Манон не означает не любить Кит, в то время как любить Кит исключает любить Манон – только он опять не знает этому объяснения. Уже на второй день он рассказал Манон про Кит, но Кит так до сих пор и не знает о существовании Манон. Не потому, что Кит не сможет понять, Кит понимает всё, а потому, что его отношения с Манон никого, черт побери, не касаются. Ему часто кажется, что они не касаются даже их самих – его и Манон, но это уже полная глупость.
Единственный, кому он рассказал о Манон, – Торульф. Совсем немножко и рассказал-το, да Торульфу и немножко хватило, чтобы, барабаня пальцами по коленке, заключить: вам обоим сильно повезло, что вы так далеко друг от друга!
Он и сам знал: в этом им с Манон действительно повезло. И хоть от Копенгагена до Берлина рукой подать, разделяет их, к счастью, не только география. Если бы только география, они бы плюнули на географию и давно бы умерли в объятиях друг друга.
– Ты знаешь, что я никогда никого не любила? – сказала ему Манон (она говорила по-немецки с неидентифицируемым акцентом), выбираясь из-под простыни в придурочный халат, сплошь состоявший из разноцветных кистей, каждая из которых качалась сама по себе.
– Знаю, – сказал он. – Ты умерла бы, если бы полюбила кого-нибудь. Это применительно к тебе неблагоприятное для жизни состояние.
– Я уже умирала два раза – от другого, правда. А потом стала такая, как есть. Скала.
Он с самого начала был уверен в том, что у Манон – единственной в мире – двойника не имеется. Ибо Манон – это ошибка. Увидев ее в берлинском кабаре, он на минутку даже не понял, какого она пола. Бритое наголо существо, собранное из нескольких длинных костей, болтающихся под бескрайним балахоном Пьеро. Ко всему безразличные глаза, вообще лишенные и блеска, и, кажется, даже способности следить за перемещением предметов в пространстве. Нос-ниточка, модильяниевский, непонятно где начинающийся и кончающийся. Тонкие, почти отсутствующие губы. Дальше идет шея, шея, шея – и когда уже кажется, что больше ничего не будет, возникают и тут же пропадают два намека на плечи, после которых остается только сухая длина – верхних конечностей, долго перетекающих в нижние.
Фактически не тело. Фактически – луч.
Если бы не потрясающей одухотворенности лицо, Манон легко могла бы играть инопланетянина в американских сайенс-фикшн.
Он не переставал смотреть на нее даже после того, как кончился номер (Манон была мимом… мимессой и всегда открывала шоу маленькой грациозной пантомимой, а потом оказывалось, что дело не в пантомиме), и она пошла по рукам – это было ее собственное выражение, означавшее подсаживаться к столикам и недолго, минут по пять-десять, сидеть за каждым, не произнося ни слова. Завсегдатаи кабаре хорошо знали, что это тоже часть шоу, и даже не пытались взаимодействовать с Манон – либо вовсе, значит, игнорируя присутствие мимессы, либо дружелюбно учитывая его: тогда Манон наливали немножко вина, или пива, или минеральной воды, не озабочиваясь тем, выпьет она чего-нибудь или нет. Манон никогда не прикасалась ни к чему. Новички же, увидев, как она подсаживается к их столику, нервничали, вызывали ее на разговор, задавали вопросы, требовали ответов, безуспешно звали бармена, некоторые даже покидали кабаре – тихо или шумно, кто как. Но поведение посетителей совсем, казалось, не трогало Манон, она продолжала молча сидеть у стола в каждый раз заново выбранной позе, их у нее было миллион – и смотреть перед собой безразличными погасшими глазами. По прошествии нескольких минут Манон поднималась, бросала общий взгляд поверх голов и уже через пару секунд непонятно каким, неким метафизическим образом оказывалась у следующего, чаще отдаленного, столика, подсаживаясь к новой группе гостей.
Идея показалась ему гениальной. Бесшумное и почти перестававшее замечаться перемещение («мерцание», сказал он себе) Пьеро от столика к столику с недолгой задержкой возле каждого превращало все вокруг в серию сцен, в живые картины, в ком-по-зи-ци-и, на ходу создаваемые бредящим художником, играющим духом, шалящим медиумом, и разница между искусством и жизнью – маленькой плоской сценой кабаре, на которой то и дело что-то происходило, и собственно залом, где царила Манон, – все размывалась, размывалась, размывалась… и вдруг пропадала полностью.
Когда Манон «пошла по рукам», ему уже шепнули, что обращать на нее внимания не надо.
Но он не смог. Скорее наоборот, он был весь внимание. Он не отрывал от нее глаз. Белый призрак передвигался и перекраивал пространство: не то бесплотный архитектор, чей материал – разреженный, но поддающийся сгущению воздух, не то плотный буддийский монах, сметающий рукавом только что созданный из цветного песка узор.
Подсев к их столику, Манон обратила неподвижные свои глаза на него. В глазах ничего не было – словно Манон пребывала в состоянии медитации. Ему стало не по себе.
– Не дрейфь, – громко, не стесняясь присутствия Манон, сказал Хельмут, – она не видит тебя.
Сделалось неловко за Хельмута: видит или не видит, но обсуждать Манон так, словно ее нет (да еще и в третьем лице), некрасиво. Пусть даже Манон – часть интерьера, как обозначил ее роль в пространстве развязный Хельмут.
– Пожалуйста, извините, – сказал он Манон.
– Она всегда молчит, – опять встрял Хельмут. – Ее даже один дурак…
– …вроде тебя, – поспешил заметить он.
– …вроде меня, – охотно и добродушно присоединился Хельмут, – в прошлом году, на Сильвестр, зажигалкой поджег, балахон вспыхнул, волосы, кошмар… она и тогда ни звука не издала. Потом в больнице долго лежала, мы к ней, как на работу, ходили всем кабаком. Это с тех пор она бритая, – Хельмут склонился к сидевшей в позе мыслителя Манон и со всевозможной осторожностью поцеловал ее в макушку.
Получалось, дураком-то был он, а не Хельмут.
То, что потом он как-то оказался под одной простыней с Манон у нее дома, было и непонятно, и неважно. Он даже не помнил, что там происходило, под этой простыней, но так, как они говорили с Манон, он не говорил еще ни с кем в жизни. Они говорили вечер, ночь, день, сделали перерыв на выступление Манон в кабаре, отменили последующие выступления, вернулись к ней и говорили опять и опять… четверо суток, беспрерывно. Ели они что-нибудь, пили? Он не помнил. Они могли бы заговориться насмерть, ибо такова была их форма любви: любовь-речь.
– Давай теперь не скоро встретимся, – сказала Манон перед самым его отлетом в Копенгаген. – Не то я точно умру, а мне еще рано. Я сама объявлюсь, ладно?
Больше они не встретились никогда. Пока никогда, у «никогда» тоже есть ограничения.
Уехав из Берлина, он знал все о Манон. Все, кроме фамилии, возраста, образования, национальной принадлежности, семьи, из которой она происходила, круга друзей, заработка, распорядка жизни и номера телефона.
Он вздохнул – и позвонил Хельмуту.
Хельмут сказал, что Манон нет в Берлине, что кабаре на гастролях… эээ, чуть ли, кстати, не в Дании, а зачем тебе, ты в Берлине?
– Я не в Берлине, – через силу сказал он.
Хельмут явно не поверил: слишком под ударением оказалось «не».
Да он и сам себе не поверил. Только что, во всяком случае, он был в Берлине вместе с Манон. И, кажется, даже еще не успел вернуться.
Но надо сосредоточиться на Хельсинки: он все-таки впервые в этом городе – и не абы каком городе, а городе, с которым связано чуть ли не самое дорогое его воспоминание.
Он с удивлением обнаружил, что сидит возле кафе «Европа» – не в самом кафе, а на улице, куда для любителей воздуха, редких в это прохладное время, было вынесено всего два столика, и что перед ним – еще теплые круассаны безупречной формы и чашка кофе со сливками. Интересно, он уже заплатил за все это?
– Sorry, did I pay for… everything?
– I think so, thank you.
В крайнем случае, можно принять это за положительный ответ.
Здесь же когда-то сидел, наверное, и его старый знакомец со своей черносливовой трубкой и растерянной улыбкой: Хельсинки, небось, консервативный довольно город, в котором не часто что-нибудь меняется – включая местоположение кофеен. Старый знакомец пил кофе, дымил черносливовой трубкой, а растерянная улыбка… – ею он одаривал прохожих, ибо делать с растерянной улыбкой больше нечего. И был он всего-навсего какой-нибудь скучный пенсионер – вроде, вот, соседа справа, только что появившегося за вторым столиком, но, казалось, уже проведшего здесь весь день: жизнь почти прошла, единственная радость – выбраться в город, посидеть за некрепким кофе – латтэ, например, полистать газету, поглазеть вокруг, а там уж и обед… послеобеденный сон, вечер у телевизора, ночь… И не знал тот черносливовый господин, что сколько-то и столько-то лет назад в мгновение ока перекроил всю жизнь совершенно постороннего ребенка, и видевшего-то его одну минуту (стоянка-поезда-одна-минута)… огромная ответственность, между прочим. Ответственность, о которой не знал черносливовый господин, ибо для него проезд через ночную Тверь событием не был. Вот и сосед справа: сколько жизней задел он? Знает ли он, что когда-нибудь там, где задают последние вопросы, подведут к нему шестилетнего мальчишку с испуганными глазами, чья жизнь много-премного лет назад свернула из-за него в сторону и побежала совсем в другом направлении?
Да и сам он, своим «Hej med dig» на платформе в Твери… – какие тектонические слои тронул он? И не раздается ли уже сейчас где-нибудь поблизости шум обвала? Эх, Мальчиш-Кибальчиш, приложи ухо к земле: не слышна ли конница?
А вот улица, значит, маловыразительная… и вообще все тут, в Хельсинки – прости, дорогой ему город! – могло бы быть и поинтереснее, не то чтобы упрек, совсем не упрек, упаси Боже, но просто жившие в нем все то время Хельсинки, те Хельсинки, куда шел детский поезд, были очень сильно другие. Огромный город из раннего Средневековья, с готикой на каждом шагу, с улочками шириной в одно копье, с бесчисленными фахверками, с компактными золотыми путти на фасадах и с длинными золотыми мадоннами в нишах – и, конечно, с множеством флюгеров самой что ни на есть причудливой формы на уходящих в небо серебряных иглах. Этой картины не отменило даже впоследствии пришедшее из книг сведение о том, что в Хельсинки – ровно в той же степени и по той же причине искусственном, что и Санкт-Петербург, городе – просто не могло быть ничего старше XVIII века, когда и застраивался сей финский порт стратегического назначения, ах, наплевать, что не могло, а было! В его хельсинках – было. Тут же – нет ничего, вообще ничего. Просто маленький Питер… то есть как: если Питер – город для больших торжеств, этот – для торжеств небольших, типа семейных посиделок по случаю удачного написания контрольной по арифметике за вторую четверть третьего класса. Но тоже торжество, понятно. Вот для таких торжеств Хельсинки и предназначен. Лестница, правда, тут еще есть, при Кафедральном соборе (надо бы найти немедленно) – она, говорят колоссальная, по ней только в рай подниматься, Хельсинки-лесенки… песенки. Только кому ж такое в голову может прийти: подниматься в рай – из Хельсинки?
Ему одному и могло прийти – давно в детстве, когда казалось… ох, много чего казалось! Так и собирающимся на жительство за границу всегда много чего кажется. На то и железный занавес в свое время висел, чтобы казалось всякое, – и казалось. Странно одно: что даже сегодня кажется. Впрочем, чего ж тут странного, если издалека-то… издалека ведь не разглядишь. Там, далеко, только слухами ведь и живут: есть, говорят, молочные реки с кисельными берегами… А вот взять хоть и его Данию: не то что молочной – никакой же реки вовсе нету! На целую страну ни одной реки, и ничего не сделаешь: небесная канцелярия не выписала. Сказала: страна у вас маленькая, обойдетесь без рек. Откуда ж кисельные берега, сами-το посудите.
Так и Хельсинки, куда черносливовый господин ехал, оказывается – вот прямо в данный момент и оказывается – отнюдь не тем местом, куда черносливовые господины должны ездить. Или, может быть, сам он просто не там прогуливается? Да и по Хельсинки ли прогуливается? Сказать по совести, он последние два часа, скорее, по Берлину прогуливался, чем по Хельсинки: находился, то есть, в Хельсинки, а прогуливался – по Берлину. Да похоже, что и не пускает его в себя Хельсинки. Похоже, не открывается ему город: открылся было при Кате и – хлоп: закрылся… как ракушка.
Дело, похоже, действительно в том, что его здесь нет. Его нет в Хельсинки, спросите маму, спросите тетю Лиду с мужем, спросите кого угодно – кроме, конечно, пятерых самых своих. Любой скажет, что его здесь нет.
Какой там Кафедральный собор… ни одна из дорог не вела к Кафедральному собору. Приходилось слоняться по скучным улицам, вступающим друг с другом только и исключительно в перпендикулярные отношения… при том, что и прохожих стало вдруг совсем мало.
Самое странное, что даже к морю выйти не удавалось: море-то где? Город-порт и все такое… Да и Катя утром привезла его к самому морю – ему туда, кстати, еще возвращаться, чтобы дальше до Стокгольма паромом плыть, вот незадача! Будто штрафовал его город: за то и штрафовал, что, находясь в Хельсинки, он по Берлину прогуливался, – откуда же в Берлине море? Не будет тебе никакого моря, мил-человек.
Мимо пролетело несколько русских слов. Обернулся: совсем молодая мама с дочкой. Он так и обратился к ним:
– Мама с дочкой, а мама с дочкой… где центр города, где море?
– Так это не тут, – сказали мама с дочкой, – это далеко-о-о отсюда.
И начали так путанно все объяснять, что он тут же отключился. Выждал, поблагодарил – и принялся смс-ку в Москву латынью писать, чтобы на глазах у мамы с дочкой не пойти в направлении, противоположном указанному.
«Uzhe davno v Helsinki, – написал. – Ochen’ krasivyj gorod. Kak u tebja?»
Дождался ответа. Ответ был странный… почти глупый: «По-разному».
Ну, по-разному так по-разному… чего ж?
Следом пришла вторая смс-ка – с вопросом: «Маме так и врать дальше? Тверь-то уже проехал. Она звонит все время».
Ответил: «Маше vrat’ vsegda».
А в сердце своем добавил: «Osobenno teper’, kogda ja nekim strannym obrazom guljaju po Berlinu v obschestve teti Lidy s muzhem». Но знать об этом никому не полагалось. Кроме тети Лиды с мужем. И мамы. И Торульфа. И, может быть, Манон. Но Манон нет сейчас в Берлине.
В Берлине сейчас он сам – и, не будь тети Лиды с мужем, очень легко мог бы сойти за местного. Однако в присутствии тети Лиды с мужем он иностранец.
Когда он был школьником младших классов (да чуть ли не почти и старших, если совсем уж честно – так честно, как не надо), до крайности занимала его одна игра… сказать стыдно. Он надевал на себя что-нибудь попричудливее – не совсем, слава Богу, причудливое, а так… среди имевшихся у него брюк, например, выбирал те, что в выразительную клетку, плюс какой-нибудь из отцовских галстуков, ярких у отца, к сожалению, не водилось, но и «неброский» на девятилетием мальчишке – сенсация, для Твери, по крайней мере, ну и… рубашку с нарочно поднятым воротничком, а сама рубашка – навыпуск, и ремнем, тоже из отцовских, перепоясанная. Одевался, значит, во все такое и отправлялся «в город»… через тот самый железнодорожный переезд, где «Стой!» и «Пропусти поезд!» Пропустит, стало быть, поезд и – вперед, к центру, а уж там… Там он был – страшно произнести! – иностранцем. Проявлялось это, прежде всего, в том, что он все время вертел головой в разные стороны – якобы любуясь городской архитектурой. Надолго останавливался то у одного, то у другого здания, выбирая какие позамысловатее… вынимал записную книжку, карандаш, делал наброски «для памяти». Впрочем, самое-то оно было не в этом, а в том, что он переставал говорить по-русски и начинал говорить «на иностранном языке». На иностранном языке, который придумал сам: просто набор звуков (по определению, русских!) в непривычной последовательности. Жертву специально не выбирал – годился любой прохожий, перед которым он резко останавливался и, глядя прямо в глаза, задавал вопрос:
– Эсклоприо ранзэ футильсматтэ эрве?
Прохожий (например, идущий на заслуженный обед слесарь-инструментальщик второго разряда), как правило, столбенел и лишался дара речи. Это было хорошо.
– Прансэн дуглавр эрапринтэ сулле?
– Тебе чего, пацан?
– Йа хоттэл би знать… как пьерьехоттят на улитсу Правди, – начинал мучиться пацан.
– Больной, что ли?
– Проститтэ? – И обиженно шел восвояси.
Некоторые, из особенно доверчивых или просто сердобольных, пытались помочь, рисуя в воздухе замысловатые фигуры, обозначавшие маршрут в направлении к «улитсе Правди»: он внимательно следил за руками, благодарил – обязательно на своем языке – и, радостно улыбаясь («понял!»), начинал идти в прямо противоположном направлении.
Почему уж казалась ему такой занятной эта игра – Бог весть, но в образ иностранца он вживался чуть ли не намертво – во всяком случае, выходил из него с большим сожалением. Нет, не архитектором, и не лингвистом следовало ему стать, а все-таки актером… может, тогда все было бы в порядке в его жизни. А так все в ней было не в порядке – в беспорядке все было. В большом беспорядке.
Потом кто-то из маминых, кажется (или папиных?), знакомых донес на него родителям: ходит, дескать, ваш сын по улицам родного города и язык ломает – так в передаче доброжелателя была обозначена его игра. За обозначением этим последовал вопрос: «У него с головой-то все нормально?»
– На одни пятерки учится, – нашлась в казавшейся безвыходной ситуации мама и беспечно зашагала дальше, между тем как в сердце, сама потом рассказывала, началась смута: с головой-то у него действительно все ли нормально? Себе на этот вопрос она, к сожалению, не могла ответить: «На одни пятерки учится»… ибо чего-то в ответе таком явно не хватало. И явно не хватало чего-то в голове ее ребенка, с которым бы поговорить, конечно, по душам… да не признается ведь: врет ребенок часто, почти всегда. Откажется: дескать, не он это был – ошибся, дескать, доброжелатель… обознаточки-перепряточки.
Это-один-другой-мальчик-был-на-меня-похожий.
Так он и в детстве отвечал… даже пугало: кто ж тут краской все одеяло-то верблюжье испачкал? ты? – нет-не-я-а-один-другой-мальчик-на-меня-похожий. Мама научилась объяснять его вранье – не столько другим или себе, сколько ему самому – просто: он фантазирует, ему скучно.
И он фантазировал, повторяя вслух: «он фантазирует, ему скучно». Каждый из окружающих получал от него разные сведения о его жизни. Сведения эти настолько противоречили не просто действительности или друг другу, но и здравому смыслу, что легче было счесть мальчишку просто идиотом, как некоторые и делали. Он рассказывал тем, на чьих глазах вырос, что происходит из Персии (Бразилии, Египта, Индии…), и что грудным его подкинули маме, поскольку ее собственный ребенок родился мертвым (умер в больнице, был украден из роддома, отдан на воспитание в чужую семью…), и что скоро настанет для него срок отъезда на родину, и что он постоянно учит персидский язык (испанский, арабский, хинди…), отчего уже начинает забывать русский, отсюда акцент – в общем, приблизительно так, а иногда совсем не так.
Он жил многими жизнями одновременно, потому что если кто и верил его байкам, то прежде всего он сам. Он сам и Галя Слюсаренко, хотя именно ей он рассказывал наиболее головокружительные истории. Она смотрела на него круглыми своими глазами и у-ми-ра-ла как верила! Самому же ему было не очень важно, верят ему или нет: соображения правдоподобности не заботили его, а потому столицей Бразилии легко мог оказаться Каир… – он просто любил, когда речевая энергия уносила его далеко, далеко, далеко. Кстати, учился он действительно на одни пятерки, только никогда не понимал, как ему это удавалось. Пятерками родителям и оставалось гордиться – впрочем, кажется, он получал пятерки именно для них.
Потом он перестал придумывать иностранные языки и, выдавая себя за нездешнего, просто пользовался немецким. По-немецки его звали Роберт. Однажды он даже вписал это имя в свидетельство о рождении, поставив дефис после зарегистрированного в метрике имени… работа была грубая – и мама, через какое-то время перебирая бумаги, наткнулась на внезапно двойное имя, покачала головой и сказала: «Теперь свидетельство о рождении недействительно». Оказалось – ничего страшного: наверное, никому и в голову не приходило, что после первого имени в метрике следовало искать второе: второго просто никто не видел!
Странно, что после всего этого мама упорно продолжала ему верить – как вот сейчас, когда он в очередной раз пудрил ей мозги Берлином. Однако из Берлина все-таки постепенно было пора уезжать… через час уходил его паром на Стокгольм. Маршрута Берлин – Копенгаген он не знал, но вулканическое облако, говорят, все еще висело над Европой, так что маршрут мог быть любым. Только вот… как бы отвязаться от тети Лиды с мужем? Есть ведь у них какие-то свои дела – не вечно им его пасти…
Он решил ехать прямиком: Берлин – Гамбург – Копенгаген, но где-то надо было остановиться по пути, лучше всего в Дании – когда он уже в Дании, мама почему-то не волнуется. Значит, в Ютландии… А без остановки не получалось никак: в реальности (слово «реальность» сильно насмешило его: сейчас реальностей было как минимум две) паром прибывает в Стокгольм только завтра утром, а в Стокгольме ему предстоит провести целый день, поскольку позавчера из Москвы билеты только на вечерний поезд заказать удалось, дальше ночь в пути, ну и… в Копенгагене он – уф, сделав пересадку в Мальмё! – окажется послезавтра, в первой половине дня.
Для поезда из Берлина – в смысле чтобы без пересадок доехать до Копенгагена – двух дней, вроде как, многовато.
Впрочем, пока о маршруте маме можно не сообщать, достаточно просто позвонить сейчас и обиняками выяснить, где именно в Берлине он с тетей Лидой и мужем в данный момент находится.
Оказалось, что с тетей Лидой и мужем они уже расстались – и он даже подарил тете Лиде на прощание эмалевый кулончик с часами… ах, вот как! – интересно, откуда у него такой кулончик?
– Откуда у тебя такой кулончик?
– В Москве купил, для Кит.
– А Кит, что ж, теперь и подарка не будет?
– Кит еще другие подарки куплены.
– Тетя Лида очень довольна, кулончик у нее уже на груди тикает.
Ну-ну, пусть тикает. А милый он… этот его заместитель в Берлине: хорошие подарки делает, дорогие – причем совершенно ведь незнакомым людям.
– Эти шведы, которым тетя Лида тебя в зоопарке передала, – они кто? Тетя Лида не очень поняла по-шведски… Поняла только, что они тоже сегодня к вечеру уезжают, – вместе с тобой?
Смотри-ка, по-шведски тетя Лида не очень поняла! В целом поняла, только какие-то частности ускользнули. Ай да тетя Лида, настоящий глобализированный европеец… европейка! Не пропадет в единой Европе. Но вот что за шведы… – в зоопарке! Он вообще не знает людей, проводящих каникулы в зоопарке, – разве только кто с детьми малолетними… Ну ладно, хорошо, есть у него и шведы с детьми, не волнуйся, мама: Ансельм и Нина, у них, правда, из детей дочка пока одна, Аста.
– Это приятели мои, Ансельм и Нина, с дочерью… – сказал он, не вдаваясь в тему о языковом полифонизме тети Лиды.
– …Астой, – подхватила мама. – Очень уж она тете Лиде понравилась, такая, говорит, вдумчивая девочка! Ей ведь лет семь-восемь? На вид, во всяком случае…
Мироздание поплыло перед ним.
Наверное, это и было то, что Торульф обозначил словом «заиграться».
Однажды Манджушри стоял перед воротами, когда Будда воззвал к нему : « Манджушри, Манджушри, почему ты не входишь ?»
– Я не вижу ничего по эту сторону ворот. Зачем мне входить ? – отвечал Манджушри.
НЁГЭН: Дзэнские истории являются проблемами жизни, темами для медитации. Совсем необязательно, чтобы этот диалог происходил между Буддой и Манджушри. Предположим, что один из вас колеблется войти или не войти в этот дзэн-до, и я говорю: «Почему ты не входишь?» Если он бодрствует в этот момент, он может сказать: «Я не вижу ничего вне дзэн-до. Зачем мне входить?» Он ничего не видит, отличного от дзэн-до; «в» и «вне» только термины сравнения. В сущности, он ничего не слышит, ничего не видит, ничего не ощущает, не чувствует ни запаха, ни вкуса, и ни о чем не думает, но с благодарностью идет на свое место и садится. Что я могу сделать еще, как не воздать хвалу такому совершенно свободному человеку?
Человек еще молод и глуп. Он обучается двойственности вместо единства, о котором учит религия. Из-за своих иллюзий человек часто строит ворота, и лишь затем рассматривает, что же находится снаружи их. Он слушает, обоняет, чувствует вкус, ощущает и думает, исходя из своей эгоистической точки зрения. Он рассуждает о всемирном братстве, но не представляет себе его принципов. Миру нужен Манджушри, а не мессия или пророк. Кто же он, Манджушри?
Манджушри символизирует мудрость Будды. Верхом на льве, он на полном скаку разрушает все иллюзии и своей острой саблей сносит все преграды на пути Освобождения. Некоторые буддисты полагают, что Манджушри – это ученик Будды Шакьямуни; другие с удивительным знанием дела говорят о его прошлой и настоящей жизни. Пусть они предаются мечтам, как хотят. Изучающие дзэн должны встретить Манджушри в себе.
Аватамсака Сутра упоминает четыре мира: мир материи, мир разума, мир гармонии материи и разума и мир из гармонических элементов. Манджушри из нашей истории живет вне мира материи, в мире разума, но еще не научился достигать их гармонического сочетания.
Самантабхадра символизирует любящую доброту Будды. Он едет на слоне, терпеливо ведя его через джунгли, любя и уважая все живые существа. Он не будет провозглашать причину, но спокойно войдет в ворота. Его сердце – это сердце Будды, отвечающее, словно эхо, на призыв Будды.
Четвертый мир, упоминающийся в Аватамсака Сутре, иногда называется «Небесным Царством». Чтобы достичь этой стадии, человечество должно научиться жить в мире гармонии разума и материи, а сперва оно должно жить в мире разума. Очень важно повстречать Манджушри лицом к лицу в наши дни.
Он говорит: «Я не вижу ничего по эту сторону ворот. Зачем мне входить?»
Ну, а где же эти ворота? И где вы сами – снаружи или внутри? {4}
Уже четвертый год он виделся Манон чуть ли в каждом встречном – и, странно, у каждого встречного действительно было что-то от него. У кого – борода, строго трехдневно-небритая, у кого круглые очки, а у кого и просто шарфик… даже меньше – полоска на шарфике! Когда Манон, например, видела на ком-нибудь кожаную шляпу-боб – это была его шляпа. Даже если не кожаная и не боб, а просто шляпа – в отличие, например, от… чего бы… кепки, берета, тюбетейки! – то: как у него. Самих «жанров» было достаточно, чтобы о нем напоминать: вот шляпа, а не, как сказано, кепка, берет, тюбетейка – вот рюкзачок, а не барсетка, портфель, спортивная сумка – вот плащ, а не пальто, куртка, ветровка… А уж если дым от сигареты, причем любой (сама Манон не курила), то сразу – он.
– Тебе за себя не страшно? – спрашивала себя Манон.
И отвечала себе:
– Не страшно.
Потому что – тут она была совершенно честна перед собственной совестью – ей этого и хватало: чужой шляпы, чужого плаща, чужого рюкзачка, напоминавших – его. Углядела полоску на шарфике в метро – вот и повидались. А больше – ни-ни. Ибо должна быть дисциплина чувств: им, чувствам, только волю дай – захлестнут петлю на твоей шее, и прощай, жизнь! Ну и что с того, что он для нее главный на свете? Главный есть… главным и останется, а приближайся она к нему или нет – это роли не играет.
Они прожили вместе четыре дня – и их ей хватит на все ее будущее: дай Бог с этими четырьмя справиться… они, вон, до сих пор как нападут все вчетвером – только успевай уворачиваться. Четыре дня под простыней… – и никакой памяти о нем как мужчине: между ними вообще-то под простыней этой произошло что-нибудь или нет? А, все равно.
Насчет того, с кем спать, у Манон проблем никогда не было. И разборчивости никакой не было: подумаешь – спать… не жить ведь! Ее смешило, что к «спать» у всех остальных такое серьезное отношение: можно подумать, спать – это самое ответственное в жизни и есть… хотя, если так-то разобраться, тоже мне – прыжок в бездну! Всего и дел что встать, отряхнуться, улыбнуться – и шагай себе дальше, думай о важном.
С ним хорошо было о важном говорить. О том, что – зачем… нет, о том, всё – зачем? Вот… родились, были младенцами, были детьми, были подростками, учились, стали взрослыми, работаем, ездим туда-сюда – зачем? Он тоже не знал – зачем, но было так хорошо говорить с ним о его незнании, о ее незнании, обо всех незнании – незнании ничего. И как они радовались этому незнанию ничего – там, под простыней… как хохотали, на всю жизнь достаточно!
Хорошо бы только… помнить его более смутно: пусть немножко сотрутся в памяти и борода, строго трехдневно-небритая, и круглые очки, и даже шарфик с полоской. Стерлись бы чуть-чуть – и не щемило бы так… так, как щемит. Но надо ждать, ждать, ждать – и дождаться, пока перестанет щемить, а вот тогда уже можно и еще раз встретиться, дня на четыре опять. Только это когда-а-а еще… пока щемит почти так же, как в первый день после его отъезда. Значит, о новой встрече лучше и думать забыть.
За четыре года она дважды бывала в Копенгагене на гастролях и, приезжая туда, знала, что достаточно просто пальцем пошевельнуть – и они вместе. Но пальцем не шевелила: рано, рано. Слишком все живо еще, сильно еще. Нельзя так много значить друг для друга: это зависимость. А зависимость делает человека слабым и нежизнеспособным. Какое все-таки счастье, что у него есть Кит!
Манон боготворила женщин-спутниц. Женщин, готовых променять – и променивающих – любовь на совместную жизнь: на варить-жарить, на стирать-белье, на растить-детей… героические женщины! Ей самой постоянное пребывание рядом с тем, кого она любит, было бы ежедневной пыткой: для такой дозировки не было в ней психических ресурсов. Ее просто разорвало бы изнутри: была Манон – и нет Манон.
У тебя, что ж, даже рефлекса материнского нет – он ведь у всех женщин бывает, спрашивал ее кто-то… вроде, Финн (если его Финн звали), и она отвечала: нет.
А вот он – не удивлялся, даже наоборот: выяснилось, что и сам он никогда не хотел иметь детей – чтобы как-нибудь ненароком не обидеть, не накричать, не дернуть за ухо, не нашлепать по заднице, не наказать, без сладкого не оставить… пусть лучше не будет детей. Хотя… что это она про детей: ни для нее, ни, видимо, для него тема детей уж никак не актуальна, да и не о детях речь идет, но о зависимости и свободе.
Манон заварила себе три пакетика зеленого чаю и, глядя в гостиничное окно на Гамла Стан, засмеялась – «как дурочка», оценила она. Сказала в сторону Дании: спасибо-Вам-Кит – и вздрогнула: шляпа-боб, плащ, рюкзачок – в наборе – обозначились на противоположной стороне улицы… вылитые – он. Ей даже захотелось дождаться, когда «набор», прикурив на ветру от трепетавшей, как лань, зажигалки, поднимет глаза и в самом деле окажется – им. Тогда она распахнет окно и выбросится вниз: прямо на мостовую, к нему – и… хорошенькое будет зрелище. В жанре видишь-как-я-тебя-любила.
Здорово, что он не беспокоит ее, не приезжает искать в Берлин, не пробует узнать у… с кем же он был-το, ну да, с Хельмутом, – у Хельмута номер ее телефона, не ошарашивает своим появлением за столиком в «Парадисе». Здорово, но – странно: любой другой русский давно бы обрушил на нее всю свою необъятную загадочную душу – и под ней похоронил бы Манон навеки. Или – она не знает русских. Или – он не русский. Да и какая, в общем, разница… тем более что она и сама вне национальности. И уж определенно – вне немецкой: это ей говорит почти каждый – и слава Богу, между прочим. Ибо Манон не любит в себе… как бы ее назвать-то – немецкость. Даже столько немножко немецкости, сколько в ней есть, и то не любит. А почему – да потому.
Манон выросла в местности к югу от Филлаха – местности, всему сразу пограничной и всем одновременно принадлежащей, где никакой расовой чистоты и в помине нет: австрийскость почти кончается, а итальянскость или словенскость только начинаются – каждая в свою сторону. Так что всякий там сам решает, кем еще или кем уже себя считать.
Манон сочла себя итальянкой.
В пять лет.
Раз и навсегда.
Так и сказала маме: «Я итальянка». Причем по-итальянски сказала. А мама по-итальянски же ответила: «И что теперь делать?» Что делать, Манон не знала, но на всякий случай совсем перестала говорить по-немецки… австрийски, то есть. Мама разволновалась, а отец просто смеялся и говорил с Манон по-итальянски, ему безразлично, на каком говорить. Я, предупреждал, устроен совсем просто: раз движок переставь – австрийская программа, два раза переставь – словенская, три раза – итальянская! Так и было, между прочим, и Манон знала, где этот движок: там, где верхняя пуговица пиджака, за нее крутить надо (если достанешь, конечно), чтобы папа Хайнрих превратился в папу Энрико и начал рассказывать про дедушку Лео, которого Манон увидеть не пришлось, и она ужасно жалела об этом, потому что ох и веселым получался дедушка человеком – по рассказам папы Энрико! А вот папа Хайнрих, увы, никогда не рассказывал про дедушку Лео – словно он, ей-богу, не от дедушки Лео произошел, а от совсем другого какого-нибудь дедушки… Хотя у папы Хайнриха и папы Энрико одна и та же фамилия была, дедушкина: Линденхофер.
В школу ее, конечно, итальянскую отправили: с дитем-то чего ж сражаться? Ну, итальянка, и пусть, не все ли равно, при том, что остальные трое, две сестры старшие и брат, тоже старший, австрияки австрияками. Авось, когда-нибудь наиграется, а как наиграется – в австрийскую школу переведем, делов-то. Ан – не наигрывалась Манон, оставалась итальянкой, друзей австрийских, и тех не заводила, одни итальянцы вокруг копошились, непонятно откуда и брались… Итальянцы, а в крайнем случае – словенцы. По-словенски Манон тоже бойко говорила. Но вот австрийский немецкий захромал в конце концов, оно и понятно: в итальянском-то окружении. Ты, смотри, свой-то язык совсем не забудь, а то стыдно, просила мама, огорчаясь, что даже с сестрами и братом не было у Манон особого контакта.
Нет, свой язык Манон, конечно, не забыла, только чуть заметный итальянский акцент навсегда остался, на что, впрочем, здесь, под Филлахом, внимания не привыкли обращать: акцент – тот ли, другой ли – по большому-то счету, у всех был, эка невидаль… неслыхаль. В Италии, куда Манон еще подростком уехала учиться хореографии, и вообще неважно было, есть ли у нее в ее родном языке акцент, это потом уже, когда приятель по училищу пригласил ее в берлинскую труппу, на Манон стали посматривать с интересом: откуда ж ты, дескать, родом-то такая? В Берлине ей, кстати, даже австрийский акцент ни к чему был, не говоря уж об австро-итальянском. Из труппы потом так и так уйти пришлось, выгнали ее… за невнимательность, скажем, да и почти сразу развалилась труппа, под Филлах возвращаться не хотелось, тут «Парадис» как-то сам собой и подвернулся, забавное место… В Берлине ей очень неплохо, конечно, чего ж, только бы в немку не превратиться. Нет-нет, ничего личного: немцы – лучшая на свете нация, только кто сказал, что обязательно надо к лучшей на свете нации принадлежать? Можно ведь и к чему-нибудь похуже принадлежать… и многие принадлежат – все практически принадлежат! Ну, кроме немцев, конечно.
А жить в Берлине немцем… немкой – скучно.
Манон часто думала о том, как здорово было бы приказом по планете Земля выселить к чертовой матери из всех стран мира все коренное народонаселение и народонаселить эти страны кем-нибудь еще: Германию, к примеру, – болгарами, Болгарию – финнами, Финляндию – итальянцами. Вот тогда жизнь стала бы интересной. И не осталось бы ничего само собой разумеющегося. «Все перепуталось бы, дурочка!» – помнится, сказал он ей. И пусть перепуталось бы, давно пора. А то ведь совсем уже некуда деваться от педантичных немцев, любвеобильных французов, эмоциональных итальянцев, загадочных русских… Посмотреть бы, например, на педантичного итальянца хоть одним глазком: всем зрелищам зрелище!
Берлин Манон боготворила… странно, кстати, что Берлин на немецкой территории находится. Даже не так: что он вообще на чьей бы то ни было территории находится. На самом деле место Берлина в небе. Она знала, что Берлин в ее жизни – как и итальянство – это навсегда. Более кривого города в мире нет. Если весь мир – язык, то Берлин – его акцент. Она сказала об этом русскому, и он согласился. Он тоже был без ума от Берлина. И потому не жил в нем… дикая, дивная дикая логика: «Не приближайся к тому, что любишь!» Манон чуть не закричала тогда от радости каким-нибудь дурным голосом: это была та самая формулировка, которую она искала всю жизнь – и вот нашла наконец.
Не приближайся к тому, что любишь!
Но сама она живет в Берлине, который любит. А зато у нее акцент – и она «не отсюда».
«Очень сексуальный акцент». Когда кто-то из мужчин сказал ей это впервые, Манон усмехнулась: вот уж о чем она меньше всего думала! Потом, между труппой и «Парадисом», в неприятный один период жизни, о котором и говорить бы не стоило, кто-то из работодателей заметил, сдавая ее клиенту: «Редкий акцент дорого стоит»… акцентом и пришлось пробавляться какое-то время, плохое время.
Ну и потом Манон попала в рай – как все грешницы.
В «Парадис».
Программу она придумала себе сама, потому что слишком хорошо помнила слова Винченцо – Винченцо Сальвини, мастера – старого подагрического мастера, благодаря которому ей удалось закончить училище… кажется, это он отстоял ее, убедив прочих хореографов поставить ей из милости выпускной балл – хоть вот низший из всех возможных.
Винченцо, пахнувший вином и почему-то ванилью, подсел к ней, помнится, на выпускном вечере и забубнил в самое ухо: «Поздравляю с окончанием, поздравляю, это большое событие, главное событие в Вашей жизни, Вы были хуже всех на сцене, Вы были отвратительны, Вы испортили впечатление от всего номера, это из-за Вас оценки у Ваших сокурсников такие… скромные, и оценки их на Вашей совести, знайте об этом. Вам просто нельзя танцевать с другими… Вы только когда одна и можете, а под чужую музыку – нет, Вам даже музыка не нужна, Вы мимо музыки танцуете – мимо мелодии, такта, ритма, мимо мира. Вы забываете обо всем. Но когда Вы танцуете одна, остальное теряет смысл, потому что Вы становитесь смыслом, вот что… Когда Вы поступали, Вы соло танцевали, а я уже пять минут спустя не мог вспомнить, под какое сопровождение – Бах? Шнитке? Армстронг? Такого спектра колебания, понимаете? Танцуйте одна – или не танцуйте вообще… нет, танцуйте одна, Вы гений сольного танца!»
И в глазах у Винченцо были слезы.
Так что она сама сделала для себя программу: сначала, на пять минут, одна композиция под музыку – даже не под музыку, под несколько щипков… шлепков виолончельных, да и не танец почти: чепуха на постном масле, набор фигур, формирующих разные очертания балахона. Балахон был назначен главным, потому что под ним ничего не было, сорок два килограмма живого (живого?) веса не в счет.
А дальше начиналась живопись – то, что на самом деле она знала и любила больше всего на свете: позы, украденные у кого попало: импрессионистов, экспрессионистов, дадаистов, кубистов, модернистов и постмодернистов… да и не украденные вовсе – просто снятые, осторожно-двумя-пальчиками, с полотен и перемещенные в пространство «Парадиса». То, что видели посетители, была не Манон: это были Матисс, Сезанн, Пикассо, Миро, Клее, Климт… – и дальше, дальше, дальше. В распоряжении Манон имелось действительно много фигур, сколько – она, понятное дело, не считала.
Она и поныне до спазмов во всем теле боялась каждого предстоящего вечера. И просто не могла представить себе того момента, когда придется сойти со сцены в зал, подсесть к первому столику. И никогда не знала, что случится в следующий момент. Ей подарят цветок? Нальют вина? Схватят ее за локоть? Ударят по лицу? И ведь случалось уже такое. Да и хуже случалось, всякое случалось. Только было больше неважно тогда, когда удавалось сделать первый шаг в сторону зала. Манон словно знала: ей поручено сказать что-то людям, каждому конкретному человеку сказать, причем сказать – телом. Сказать то, что никто, кроме нее, не осмелится: вот, сказать, сие есть тело мое… – и с ним ничего не надо делать: просто дайте ему быть, не присваивайте его – ни сердцем, ни руками, ни глазами, ни мыслями, оставьте его находиться рядом с вами.
«Medium is message» – определил, помнится, русский.
Правильно определил.
Манон не знала, почему это обращение к каждому человеку имело такое значение: может быть, она вообще не знала смысла передаваемого ею сообщения, да и языка, на котором оно должно быть произнесено, не знала – ее, Манон, просто назначили емкостью для некоего смысла, сосудом, в котором некий смысл следовало перенести из одного маленького пространства в другое. В том, что это за смысл, ей каждый раз предстояло разобраться на месте, разобраться – и забыть. Забыть навсегда.
Ибо, если medium действительно is message, тогда что ж… вестник умирает, передав весть.
Она давно не сомневалась в том, что весть – благая. А по первости сильно сомневалась и в этом, все экзаменовала себя: что я сейчас показываю? А сейчас – что? Потом в Берлин приехал Винченцо и каким-то сложным путем разыскал ее, пришел на выступление… Дождался окончания, сидел один в пустом зале, опять в слезах, схватил ее за руку, говорил бессвязное: спасибо, спасибо, я теперь все понял, все знаю, мне теперь умирать не страшно, только почему здесь, Вам эта сцена мала, Вам со всем миром разговаривать надо! Выпил вина, успокоился, головой покачал: не слушайте меня, нету для Вас другой сцены на свете, тут выступайте, отсюда Вы и так со всем миром разговариваете.
И русский (он, кстати, если присмотреться, вылитый Винченцо лет двадцать назад), когда она из-за его столика встала, тоже сказал: «Спасибо». И с тех пор сразу все, как по команде, спасибо говорят – правда, только в «Парадисе», а за границей нет. Может быть, привыкнуть к ее номеру надо? Ей ведь и самой пришлось привыкать… месяцами. Сначала казалось, что люди, видевшие ее в «Парадисе», на улице пальцами показывать на нее станут: смотрите, мол, смотрите, вон она – та, которая от столика к столику, как собака бродячая! Но месяц шел за месяцем, и все было в порядке: никаких пальцев. Только однажды подошла к ней прямо возле «Парадиса» девушка лет двадцати, вся в веснушках (Манон помнила ее: она навсегда запоминала лица тех, к чьим столикам присаживалась), и, протянув букетик фрезий, тихо сказала: «Вы, Манон, спасли мне жизнь однажды вечером, три года назад… я Вам фрезии принесла, потому что сама их очень люблю». Хотела, видимо, сказать, что-то еще, махнула рукой, смутилась и, пятясь, исчезла в арке, где одни стоматологи, судя по вывескам сбоку.
Манон постояла тогда какое-то порядочное время возле стоматологов, но веснушчатая девушка так больше и не появилась. А Манон просто за фрезии поблагодарить хотела, больше ничего.
Что касается этих трех лет назад, то еще бы Манон не помнить! Веснушчатая девушка была дите дитем, только с какой-то огромной тенью за спиной, что за тень, почему – непонятно, да и не умела Манон разбираться в таких вещах. Спроси, по какой такой причине Манон, оказываясь у чьего-нибудь столика, выбирала ту или иную позу, – ведь и не ответила бы, даже думать бы не стала. Потому что поза приходила сама – словно продиктованная точкой пространства, в которой оказывалась Манон. Разумеется, она сразу же узнавала позу, но это только тогда, когда поза уже была: на сей раз – с переднего плана картины «Две женщины» Карла Шмидт-Ротлуфа, двенадцатого года, Манон видела ее в «Тэйте». Между прочим, в первый раз – эта поза, и вообще Шмидт-Ротлуф – у Манон далеко не из самых любимых – в первый раз. Положение тела – с резко вывернутой к правому плечу головой – не давало возможности видеть веснушчатую девушку, но Манон не было необходимо – видеть. Манон никогда не была глазами, Манон была телом.
Ну и вот… она провела у столика девушки минут десять, это очень много даже по меркам Манон, а потом, смертельно устав и с трудом поднявшись со стула, бросила на девушку только мимолетный взгляд: та сидела с опущенными плечами и смотрела на свои руки, лежавшие на столе… руки подростка в пятнах очень и очень взрослых уколов, Манон знала такие пятна.
Шмидт-Ротлуф дался ей трудно – и почти весь следующий день напоминал о себе болью в плечах, руках, шее, словно требуя от Манон вернуться назад, в позу двенадцатого года, и застыть так навсегда. Как обычно, Манон только усмехалась, повторяя про себя: не сейчас, еще не сейчас, потом когда-нибудь, через много лет – мооожет быть… или нет.
Потому что когда-нибудь, через много лет, все действительно так и кончится – так или наподобие: старенькая Манон присядет где-нибудь на скамеечку, да и останется сидеть – окаменев или лучше обронзовев, небольшой парковой скульптурой, каких теперь много по всем паркам Берлина. О, Манон знала их происхождение: все они когда-то были живыми людьми, как вот она сейчас, а потом стали памятниками – простая история. Сковало мышцы – и все. Есть такие позы, как бы завершающие вечно пустое пространство – ту или иную его часть. Как бы завязывающие пространство в узел – вот в этой вот точке. И больше из позы не выйти. Однажды это случится и с ней.
Но не Шмидт-Ротлуф, сказала она себе тогда. Определенно не Шмидт-Ротлуф. Пусть и не просит.
Так что там было? Ах, веснушчатая девушка… Веснушчатая девушка с фрезиями. Потом Манон засушила эти фрезии – и сухие цветки до сих пор лежат в такой мисочке-не-мисочке из какого-то редкого дерева. Манон не выбрасывала цветы, когда те засыхали, осторожно отрезала сухие венчики от стебелька и собирала во что придется. Однако квартира ее не то чтобы ломилась от этих венчиков (Манон умоляла всех, кого знала, не дарить ей живых цветов, и ей не дарили – по крайней мере, старались не дарить): когда венчиков становилось слишком много, Манон толкла их в тяжелой ступке и, ссыпав пыль в какой-нибудь мешочек, шла развеивать прах цветов над Шпрее, почему-то обязательно над Шпрее, всегда в одном и том же месте… не ваше дело, где именно. А вот веснушчатые фрезии пока еще лежали в той самой мисочке-не-мисочке, после них никто не дарил Манон живых цветов, Бог миловал.
Почему она вспомнила сейчас об этой девочке… знать бы еще! Может быть, потому, что саму Манон пора было спасать? Хотя от чего ж ее спасать… ей, вроде бы, ничего не угрожает. Ей просто вдруг стало казаться – и вот уже дня два-три кажется, – будто скоро она окаменеет. Или – лучше – обронзовеет. Будто время уже пришло – нет, будто осталось совсем немного времени: не хватит даже на то, чтобы вернуться в Берлин. Хм, будто это последняя в ее жизни поездка. Вот и вчера: вдруг позвонил Винченцо – как ты? При том, что Винченцо звонит ей совсем редко. «Я не знаю, – сказала она. – Такое ощущение, словно что-то происходит в мире. Но я не читаю газет и не слушаю новостей. Что-то происходит в мире, и это имеет отношение ко мне, Винченцо?» Винченцо ответил: «Да вроде нет. Правда, в Исландии извергается вулкан – так что назад в Берлин тебе, наверное, придется поездом. Как и мне, потому что я сейчас в Греции. В этом смысле вулкан имеет к нам отношение: и ко мне, и к тебе. А больше, кажется, ничего».
Забавно. У Манон никогда еще не было отношений с вулканом. Между тем Винченцо рассказал, что в Европе паника, многие аэропорты закрыты, билетов ни на какие другие виды транспорта нет… В общем, всем-оставаться-на-местах. Манфред, конечно, мог бы попытаться продлить гастроли, но едва ли получится: ни для кого не секрет, что у берлинского «Парадиса» тут полный провал. Ну не понимают местные самого жанра: кончилась в Скандинавии культура кабаре как таковая. Говорят, в шестидесятых кончилась или чуть позднее. Что самое странное – никто не жалеет.
Глупо было приезжать сюда…
Да и вообще: если ты артист кабаре, оставайся в Берлине. Во всяком случае – в Германии. За пределами Германии на выступления там, где едят и пьют, смотрят почему-то как на работу в сфере обслуживания. Вон даже Винченцо насилу понял, что она, выступая в «Парадисе», актриса – и именно так себя рассматривает. А сначала ведь приехал судьбу ее оплакивать: как низко, дескать, девочка, ты пала!..
Впрочем, даже в Берлине друзья-приятели то и дело вздыхают: всю жизнь, дескать, ты намерена в «Парадисе» проторчать – или как? И еще бы кем, а то – мимом… мимессой! Кому сейчас вообще мимы нужны? Ну, пришла в голову такая блажь: в кабаре устроиться, – ладно, поработай годик-другой да и сваливай оттуда на какую-нибудь площадку поприличней! Есть же предложения…
Предложения и правда есть – не очень много, но есть, и некоторые – вполне и вполне ничего себе. Например, Грит в свою группу приглашает, в Вупперталь, у Грит программа – закачаешься: «перевранная классика», называет все это Грит, так оно, по сути, и есть, поскольку Грит рамки-то классические оставляет, но в рамках этих черт знает что у нее происходит. К примеру, начинается номер как классический, однако тут же, на глазах зрителей, преображается в полную чушь, или вся группа танцует классику, а один кто-нибудь (разумеется, Манон, если она согласится!) вопреки всей композиции – модерн, там интересно все, чего ж говорить, и Манон бы в принципе очень даже не прочь, да только…
Да только не будет она уже никогда в жизни ничего исполнять, потому что прошли те времена.
– Я перестала мочь исполнять, Винченцо, не исполнитель я больше ничего!
– Только не думай, что ты когда-то прежде исполнять могла, – разорался в ответ Винченцо, – ты и со словом «дисциплина» не знакома, не говоря уже о слове «ансамбль»! Ты вообще не от искусства… все танцоры испокон веков исполнители, все певцы исполнители, все музыканты исполнители, и каждый из нас исполнитель, если по большому счету! Есть музыкальное произведение – и есть те, кто призван его реализовывать… исполнять, значит: музыкальным инструментом, голосом или ногами – все равно! И есть среди них такие, кто делает это блистательно, – Франческу видела в «Кармина бурана»? Ах, конечно-конечно, мы телевизор не смотрим, нам это скучно, нам это низко, плебейское зрелище! Да что с тобой говорить… Ты между искусством и умствованием различия не видишь, телом умствуешь, ногами, хотя все понимающие люди, философы, для умствования головой пользуются, на то голова и дана. А у нас, артистов, милочка, чем меньше головы – тем лучше. Ты или танцуй, исполняй, то есть, или умствуй – вместе не бывает!
– Как же я люблю тебя, Винченцо, – сказала она в ответ, – и если бы ты знал, как много ты мне дал, уча всему этому! Но я уже в «Парадисе», Винченцо, я уже в раю, где заданий не выполняют, где – творят. И я никогда не променяю рай на ад – это в аду делают, что приказывают: пошел в огонь, пошел к обрыву, пошел в пасть зверю! А в раю мы свободны все, Винченцо… мы делаем, что душа захочет. Когда я подхожу к чужому столику, я не знаю, что меня ждет, но я пойму это… я быстро понимаю это, я иногда включаюсь мгновенно – и тогда рассказываю: мне кажется, я рассказываю про рай… про уготованный нам всем рай – и про то, что нет вины ни на ком. Я рассказываю телом, потому что глупа я и нет у меня для этого языка. Какой я философ, Винченцо, ей-богу! И какие там умствования, когда я не ведаю, что творю… Впрочем, как и все мы.
Мимы формируют наши основные жизненные приоритеты, которые, в свою очередь, на более поверхностном уровне, влияют на наше поведение и решения. Внешне люди могут делать одно и то же, однако ими будут двигать совершенно различные мимы. Невозможно определить, какой мим в настоящий момент функционирует, только наблюдая поведение – что человек делает. Только поняв, почему человек делает или говорит определенные вещи, мы придем к миму. Недобросовестный тип может пытаться убедить вас, что он говорит, ориентируясь на очень чувствительного Зеленого мима, в основе которого – благо человека и социальные задачи, в то время как им могут двигать очень корыстные формы Оранжевого мима, который хочет заставить вас расплатиться, поддержав его «благотворительное» мероприятие. <…>
Мимы действуют подобно магнитным полям, которые связывают объекты или побуждают их отталкиваться. Расовые деления часто обуславливаются различиями мимов. Церкви раскалываются, когда в части их последователей пробуждаются новые мимы. Серьезные сдвиги мимов происходят в бизнесе, вызывая сильные пертурбации и потребность в реструктуризации. Современная эпидемия разбитых семей – в большей своей части производная смены мимов. <…>
Мимы живут независимой жизнью. Они обладают способностью устраивать религиозные гонения, изучать космическое пространство, создавать угрозу нашему месту обитания, или выступать за права человека. Никакая сила на земле не может остановить мим, чье время пришло – ни призывы прессы, ни военная сила, ни резолюции ООН. <…> Сами по себе мимы не хорошие и не плохие, не здоровые и не нездоровые, не позитивные, не негативные. Например, один и тот же мим может проявляться в виде мистических откровений, фантазий в духе Диснея или ритуалов каннибализма. Мим, который направляет воображение и преданность миллионов на благородные дела и придает одним жизням смысл и порядок, может обусловить другие рамками военного фанатичного или этнического терроризма. <…>
Мим определяет, как люди мыслят или принимают решения, в отличие от того, в чем они убеждены или что ценят. Это «схемы», в рамках которых могут находиться разные «темы». Два апологета разных религий будут иметь одни и те же мимы. Это скорее конфликт содержимого, чем глубинных образов мышления. <…>
Конфликты между мимами происходят, когда они пересекаются в ограниченном пространстве, физическом или концептуальном – с тем чтобы завоевать влияние на одних и тех же людей. Например, конфликт между Оранжевыми, светскими западными ценностями и Синими, идеологизированными восточными, противостояние технологического Оранжевого общества и Зеленого экологического движения, вторжение Оранжевой экспансивной цивилизации в Фиолетовую племенную жизнь американских индейцев. <…>
Мимы – это не какие-то жесткие, неподвижные структуры. Они могут адаптироваться, менять интенсивность, точки приложения и поля деятельности, пронизывая, иногда со скоростью лесного пожара, целые сообщества, континенты и профессии.
Вчерашний Красный рецидивист становится Синим апологетом религиозного учения. Зеленый хиппи возвращается к Оранжевым прагматическим ценностям своих родителей. На смену Синим нормам социалистической нравственности приходят Оранжевые ценности капиталистического общества {5} .
А вот Торульф боялся за него… – и, надо сказать, далеко не абстрактно боялся, но – усматривая в субчике этом странную какую-то пограничность, что ли. До него у Торульфа не было ни одного русского знакомого, да Торульф и не испытывал потребности в русском знакомом… он вообще ни в каком знакомом потребности не испытывал. Просто давным-давно уже жил себе с чем было, новых знакомств заводить не намеревался, куда они, проблемы только, и с прежними-το знакомыми встречаться не хотелось, а друзей и вовсе не осталось – когда человеку за шестьдесят, друзья настолько трудно заводятся, что… что не заводятся.
Но этот русский, он о намерениях и не спрашивал – встретился с Торульфом в кафе совершенно случайно, оказавшись там вместе с какой-то милой дамой, которая Торульфу была хоть и знакома, но тоже не нужна, и сразу – в друзья, Торульф глазом моргнуть не успел. А чем взял старика Торульфа – поди пойми! Сначала, значит, просто поглядывал на него, словно осторожно наблюдая, а когда Торульф невежливо довольно спросил: дескать, ты меня потом по памяти рисовать будешь, что так изучаешь, то ответил, улыбаясь: я могу, конечно, попробовать – нарисовать, только едва ли получится… больно уж Вы монументальный, у меня столько красок нету. Говорил он на датском для начинающих, употреблял давно отмененное по всей Скандинавии «вы», но говорил бегло – скоро уже совсем как следует заговорить должен был. Впрочем, Торульфа и на датском для начинающих устроило, его вдруг как-то и вообще устроил этот русский – даже когда сказал: очень подружиться с Вами хочется, только не знаю как… да и зачем, не знаю.
– А как ты это себе представляешь – дружить? – спросил его Торульф, когда уже простился с милой дамой и собирался прощаться с русским.
– Разговаривать.
– Разговаривай. Только на «ты», а то чересчур искусственно. – Не то чтобы Торульф всегда был так уж тяжел в общении, нет, но как-то, правда, низачем оно ему уже теперь – дружить… что бы ни вкладывать в это понятие.
– Прямо сейчас разговаривать? – уточнил русский и, на сдержанный кивок Торульфа, заразговаривал… забормотал:
– Значит, так… нет, об этом, пожалуй, рано, и об этом не буду, ни к чему… ммм, меня, знаете… знаешь, всегда вот что очень интересовало… нет, не столько искусство для искусства, сколько – как бы это обозначить-то – искусство для себя… то есть, когда человек изо всех своих человеческих сил создает что-то, а кажется, что все это вообще никому не нужно и что все это чуть ли не любой точно так же делать может, потому как неважно кто, вот Вы играете… ты играешь на органе для прихожан и ведь думаешь, наверное, иногда, что на твоем месте мог бы кто угодно быть – и тоже играть, а прихожанам без разницы, ты это или не ты, лишь бы кто-нибудь играл, и служба как-нибудь шла, вперед шла, то есть… и становится непонятным, зачем ты так стараешься, зачем именно ты так стараешься – в этой маленькой церкви, где тебя все знают и, может быть, относятся к тебе хорошо, и любое примут, потому что музыка там – сопровождение, а основное переживание, если вообще есть, – сам ритуал, то есть участие в нем… воскресная служба, надо прийти – и приходят…
И долго так еще он говорил, а Торульф даже забыл до свиданья сказать, да и поздно уже было до свиданья говорить, чего ж до свиданья говорить, когда не расстаются еще, и ходили они по копенгагенской Лангелиние (как оказались там – непонятно, да и маршрут какой-то… туристический) вперед и назад, вперед и назад, и Торульф все думал, что ж у этого русского в голове-то происходит, откуда такая потребность – чтобы услышали, поняли? Русская черта? Делиться пережитым-нажитым? Не верит себе… все видит, все слышит, все понимает – не верит. Небось, жизнь его полна чудес – и он удивляется, но верить – не верит. В многообразие жизни не верит, в то не верит, что все по-всякому бывает. Видимо, и знает, что все по-всякому бывает, но – испытывает: а так – бывает, а так… а так? А вот так уже не бывает, наверное? Голубчик, и так – бывает. Бывает даже и так, как не бывает, верь! У каждого своя мистика.
Кажется, русские, что немножко интересно, – вербальный народ. Кто-то писал – де Кюстин? – что у русских только названия для всего есть, а в действительности нету ничего. Он и в других местах читал об этом: у русских, дескать, слово – Бог. То есть не Бог вместо слова, а слово – вместо Бога, и это кра-со-та. А потому данного, конкретного, русского на слово купить – делать нечего! Словом его помани – и пошел, пошел… и ушел, и не вернется, и не пожалеет ни о чем. Оно и понятно, если слово – Бог: жалеть ли, что шел за Богом? И получается отсюда странное: что не в скептичной Европе потомки Древней Греции проживают, а в простодушной России, доверчиво идущей за священным Логосом. Русские стоики, русские неоплатоники… И даже, вот сейчас вспомнилось, теория такая была: что на русском языке, так уж специально он, дескать, устроен, ложь невозможна. Не поддерживает, дескать, этот язык предосудительных стратегий, вот прелесть-то… прямо космическая какая-то прелесть!
Есть все-таки что-то бесконечно трогательное в русских… и в этом русском тоже – пожалуй, будем разговаривать.
Пару раз Торульф наведывался в Копенгаген, пару раз русский сам приезжал к Торульфу: один раз домой, в Сандефьорд, другой – встречались в Осло. И все требовал от Торульфа слов – слов, слов, слов… как будто питался словами, впрок питался, на будущее напитывался, когда снова один окажется: этакий русский мишка, всю зиму экономно расходующий съеденное… – во сне расходующий, в берлоге!
Только самое-то поразительное ведь не в этом. А в том, что и Торульф теперь, после стольких – скольких, двенадцати, тринадцати? – лет знакомства, ужался… или расширился (тут у них мнения не совпадали) до слова. И иногда ему кажется, что нет его больше в невербальной реальности, что умер он лет двенадцать-тринадцать назад – и существует теперь только в вербальной, стало быть, памяти странного русского, который не помнит, не умеет помнить ничего, кроме слов. Прошлое существует для него как набор уже произнесенных слов, настоящее – как набор произносимых, будущее – как набор тех, которым еще суждено произнестись. Ничего не происходило в прошлом, ничего не происходит в настоящем и ничего не произойдет в будущем, ибо мир существует сам по себе, а жизнь человека – сама по себе: как не имеющий отношения к миру бесконечно самотворящийся рассказ, в котором употреблены разные формы грамматического времени.
Но что делать со звонком из предместий Хельсинки?
У Торульфа не имелось ответа на сей счет. Имелось одно-единственное опасение: не заигрался бы. Неважно, жив или умер уже Торульф и в какой из форм он сейчас существует: как бы там ни было, без этого сумасшедшего русского существование самого Торульфа не имеет смысла. Без этого сумасшедшего русского напрасно – всё. Без этого сумасшедшего русского мир просто исчезнет. И права, тысячу раз права неведомая Торульфу мама из Твери: спокойным за него можно быть только тогда, когда он в Дании!
– Алло-алло-алло, – Торульф воспользовался самым веселым из имеющихся у него голосов.
– Тооорульф… вот спасибо-то, что это ты! Я думал, мама, она меня целый день пасет. Я путаюсь все время, приходится осторожничать, так что решил ехать прямиком: Берлин – Гамбург – Копенгаген, и надо будет задержаться в Ютландии, у меня там дела нашлись. Или как бы нашлись, снип-снап-снурре – и нашлись.
На этом месте разъединился телефон… да что ж там, черт возьми, с телефоном-то происходит, где б оно ни было? «Берлин – Гамбург – Копенгаген… задержаться в Ютландии»! Заигрался, определенно заигрался. Даже и звучит теперь безмятежно совсем: чувство опасности пропало.
Ах, как хорошо Торульф знал эти игры! Страшные игры сознания. Маленькая оговорка, слово, взятое в неправильном значении – и мир сместился, его больше не вернуть на прежнее место, отныне зазор может только увеличиваться, так что завтра ты очнешься далеко от себя, будешь звать на помощь тех, кто должен приходить к тебе на помощь, кто всегда приходил… но придут другие. Потому что, милый человек, давно уже всё не так, давно уже все не там. Подобным же образом Торульф когда-то лишился семьи, дома, страны, консерваторской должности… всего – и никогда больше не нашел того, чего лишился, ибо ускользнуло оно в образовавшуюся трещину между миром и словом. И он увидел себя на вокзале в Гааге: одного, с крохотным чемоданчиком и в разбитых очках на носу.
Потом он всё искал это слово – слово, с которого начался сдвиг в сторону, на север, куда он ни за какие коврижки не хотел возвращаться, но куда вернулся и где остался на всю жизнь, даже если и трогаясь с места, то только в пределах Скандинавии… чужой своей Скандинавии.
Торульф оделся во все белое (так надо!) и вышел на улицу. Ему срочно нужно было найти два гладких камешка на побережье – черный и белый: от них теперь зависела судьба другого путешественника – под вулканическим облаком, единственного близкого Торульфу человека в этом мире. И он почти побежал в сторону побережья.
Торульф никогда не знал, откуда слова – и почему именно эти слова – приходили к нему: «камушек», «свечка», «обрывок бумаги», «пуговичка», «ленточка», вся эта мелкая вербальная дребедень, от которой вдруг начинало так много зависеть. Он и книгу об этом написал, толстую и честную, только вот один-единственный аспект – именно откуда и почему приходит слово… тут Торульф даже за объяснения не взялся: пустое дело, безнадежное. Книга теперь лежит в чемоданчике – эээ, одном из чемоданчиков – и никому не мешает: главное, что Торульфу не мешает, а раньше, пока не написанной была, сильно мешала, просто жить не давала, так что Торульфу пришлось ее написать, другого выхода не было.
Он хорошо помнил утро сильно холодного уже ноября, когда открыл толстую новенькую тетрадь, специально для этого давно купленную в Трондхейме (тетради должны были покупаться только в Трондхейме, а почему… нипочему!), и старательным, разборчивым почерком написал первую строчку будущей книги, очень и очень не первой в его жизни: «Закономерности, обнаруженные одним тобой, одному тебе и служат». Помнил, как любовался цветом темных чернил на бумаге – или что там было в этой ручке (тоже, понятное дело, специально купленной, только уж в другом магазине и даже в городе другом – Городе для Ручек), как легко вздохнул, как поставил точку и – и вдруг понял, что, собственно, всё уже и написал и что добавить к написанному нечего.
Он тогда долго еще сидел над раскрытой тетрадью, качал головой, пожимал плечами, курил… Да нет, потом-то, конечно, ему удалось сдвинуться с места, удалось порассуждать, почему дело с закономерностями, обнаруженными одним тобой, обстоит именно так, а не иначе, удалось найти хорошие, вроде, примеры и рассказать о том, какой дорогой он шел к соответствующему умозаключению. Однако первое впечатление не забылось: осеннее утро, чистая тетрадь и темная строчка на первой странице, исчерпывающая все его знание о мире.
Сама дорога к этому знанию – и та была не очень своя, да и нет ничего своего в этой области, все общее, и каждый знает, как вести себя в подобных обстоятельствах, сердце подсказывает. Вербальное задание: если-я-смогу-пройти-по-паркету-ни-разу-не-наступив-на-границу-между-двух-квадратиков… что тогда? О, тогда – тогда-тогда-тогда! – принцесса и половина королевства твои. Или другое вербальное задание: если-у-сирени-пять-лепестков. Или еще одно: если-внутри-яблока-семь-зернышек. И даже: если-сначала-придет-шестой-автобус-а-потом-второй… Мы мастера заклинать словом и устанавливать в окружающем нас мире собственные закономерности.
Вот и Торульфу, тогда подростку, обнаружившему это, предстояло отныне самому строить закономерности – так что он прилежно строил их, строил много лет, и не абы как, но основательно, приучая жизнь узнавать его закономерности по шагам. Техника была не особенно трудная – гораздо труднее было заранее решить, что поможет, а что – нет, но тут уж чистая, вербальная интуиция, редко, надо сказать, подводившая Торульфа. Откуда-то сами собой приходили слова: «веточка туи», которую перед экзаменом по истории музыки надо положить во внутренний карман пиджака, или «два бутона шиповника», которые следует просто оставить на столе перед экзаменом по композиции… Консерваторская должность в Гааге стоила, например, трех красных свечек: одна из них должна была сгореть на четверть, другая – наполовину, третья – на три четверти… а зажигать свечки следовало одновременно. Правда, последних примеров Торульф не привел в своей книге: ни при чем в той книге были его взаимоотношения с собственной судьбой!..
К середине жизни «предметов судьбы» у него уже насчитывались десятки. Дело тут оказалось в том, чтобы приучить судьбу откликаться на подаваемые ей знаки. Так, Торульф складывал шесть засушенных венчиков белых роз в небольшую металлическую пепельницу, которой никогда не пользовался, и назначал им какое-нибудь простое задание – вот хоть убрать пятно со светлых брюк. Отныне важно было не торопить событий и не инспектировать брюки по сорок раз на дню. Нет, их не то чтобы полагалось повесить в шкаф, постараться забыть о них или еще что-нибудь, – ими вполне можно было, например, пользоваться дома, даже пару раз отдать в стирку (на пятно, судя по прошлому опыту, это так и так влияния не имело)… в общем, никаких особенных действий предпринимать не требовалось – следовало просто целиком положиться на шесть засушенных венчиков белых роз. Потому что рано или поздно пятно должно было исчезнуть. И пятно исчезало. А судьба научалась понимать сигнал под названием шесть засушенных венчиков белых роз , теперь ей предстояло только запомнить его, но тут все зависело от количества повторов. Понятно, что потом уже речь, конечно, шла не о пятне на светлых брюках: пятна на светлые брюки Торульф, слава Богу, сажал не каждый день, – да и смешно было бы, если бы все оказывалось так просто! Но судьба ведь не собака-Павлова, у которой всего-то и надо что воспитать условный рефлекс, – судьба существо тонкое, эфирное… у-м-о-п-о-л-а-г-а-ю-щ-е-е. Иными словами, ей самой хорошо известно, в какой ряд должно быть встроено пятно.
Ей-το известно, а вот Торульфу, для себя, приходилось разрабатывать таксономии и регистрировать таксоны в тетради – конечно, специальной, из Трондхейма – тетради в кожаном переплете, потому как выяснилось, что даже самые естественные, лежащие на поверхности аналогии довольно быстро забываются.
Например, таксон «пятна» предполагал несколько включений, от «более темного по отношению к поверхности в целом места» – через «загрязненный участок на поверхности чего-либо», через «что-либо, позорящее одного человека в глазах другого или других» – к, скажем так, «темному следу в чьей-нибудь памяти» или наподобие. Положить в металлическую пепельницу шесть засушенных белых венчиков роз становилось знаком к совершению любого очищения – вплоть до того чтобы стереть неприятное воспоминание или предать забвению то, что не нужно помнить. Полностью забыть – это, конечно, многовато, но хотя бы не думать…
А количество таксонов росло. И росло количество аналогий в пределах каждого таксона. На первой странице тетради в кожаном переплете Торульф потом написал «Моя таксономия». Потеряй он тетрадь… – нет, даже думать об этом Торульф не хотел и потому хранил тетрадь в одном специальном таком месте, не имеет значения где, каждый день (ну, или почти каждый) проверяя состояние тайника. Ибо содержимое тетради в кожаном переплете не должно было стать известным никому на свете. За исключением, конечно, русского, который уже прочитал почти все, им написанное. Разумеется, в книгу о дрессировке судьбы ничего из «Моей таксономии» Торульф не включил: отчасти это была секретная информация, от другой же части… – не факт, что его собственные манипуляции с миром вещей гарантировали бы успех и всем остальным.
«Единственное, что Богу следовало бы нам позволить, – писал в своей книге Торульф, – это сдвигать предметы и создавать новые предметные комбинации. Но нам позволено больше: сдвигать слова и создавать новые комбинации слов. И в беспечности своей мы хватаемся за слова – так на свете начинается хаос. Где та сила, которая была бы способна запретить человеку прямой путь к слову?»
Ответа на этот вопрос Торульф не знал и сейчас. Он только видел, что на его памяти люди освоили страшную вербальную технологию: все запускается в действие словом – и потому нет гармонии в мире. Человеку, взявшему в свои руки слово, больше не нужен Бог. Скажи – и будет по слову твоему. Да только ведь надо же сперва заслужить право сказать слово! На том и стояла частная мистика Торульфа с тех пор, как он сдвинул с места слово, которого не помнил.
Его легкомысленный русский друг сделал то же: сдвинул слово… поставил «Берлин» на место «Хельсинки», и теперь только два гладких камешка – черный и белый, найденные одновременно, – могут спасти его, если еще не поздно. Хотя, конечно же, поздно – и расчет тут только на то, что судьба научилась уже реагировать на два камушка – даст Бог, не замедлит откликнуться. Потому что не знает Торульф, какие меры еще принять… а зазор между словами «Берлин» и «Хельсинки» становится все меньше – меньше, меньше и меньше, пока не пропадет совсем.
Он уже шел по побережью и смотрел под ноги. Казалось бы, простое дело – найти два гладких и приблизительно одинаковых камушка, только разного цвета: здесь-το, где, кроме камушков, ничего и нету. Но ведь вот идет и идет, а камушка подходящего – ни одного. Обычно пугают его такие вещи – когда обыденное желание становится вдруг трудновыполнимым. Как и год (год уже?) назад: отправился за разноцветными круглыми резинками, которые для одного дела срочно понадобились, и всего-то три колечка, желтое, синее и красное – ан в местном супермаркете только черные. Разговаривать с заведующим и просить цветные показалось глупо: мне, видите ли, позарез нужны цветные резинки… эстет я, видите ли, не закажете ли срочно? Так и не получилось ничего в тот день, а ведь серьезное дело было: запрограммировать покупку нот у одного столичного скряги, почувствовавшего интерес Торульфа к коллекции и уже готового заломить ненормальные совершенно деньги. Пришлось даже и не возвращаться к разговору: куда ж без разноцветных резинок-то, отвечающих за успех коммерческих предприятий в некоммерческой жизни Торульфа…
Вот и камушков – двух, гладких, черного и белого – не было на побережье: всякие камушки были, а таких, какие задуманы, не оказалось. И между тем забрел Торульф совсем далеко по побережью.
Там, куда он забрел, сидел с удочками старый Бйеркестранд, они были хорошо знакомы, так что хочешь не хочешь, а говори «добрый день», спрашивай о здоровьичке самого старого Бйеркестранда и вечно недомогающей супруги его, Ранвейг…
– Нутром Ранвейг болеет, – вздохнул старый Бйеркестранд, глядя вдоль лески. – Кашляет второй день, астма разыгралась. Умрет Ранвейг, боюсь, скоро. И я тогда умру, зачем мне одному жить?
– Обойдется, даст Бог, – сказал Торульф. – Да и насчет «одному жить»… я, видишь, живу.
– Ты другое дело. Ты самим собой сыт.
Тут можно было комично развести руками и попрощаться – и Торульф даже руками уже развел…
– Ищешь чего? – поинтересовался вдруг старый Бйеркестранд. – На берег, вижу, смотришь.
– Камушки ищу, – зачем-то отчитался Торульф.
– Какие-то особенные камушки?
– Особенные, – усмехнулся Торульф. – Небольшие, гладкие, один черный, другой белый. Но мне надо, чтобы они рядом лежали – во всяком случае, близко.
– Колдун ты, – сказал старый Бйеркестранд безразличным голосом. – Все чего-то мудришь. Вон, облако бы лучше убрал.
– Какое такое облако, Бйеркестранд? – Торульф посмотрел в небо.
– Невидимое, – буркнул старый Бйеркестранд. – Вулканическое. От которого Ранвейг кашляет.
– Она не от него кашляет, – сказал Торульф. – То облако к нам отношения не имеет.
– Еще как имеет! Вулкан же малый в Исландии извергается. Если еще и большой начнет, то уж точно пиши пропало.
– Большой не начнет, – успокоил его Торульф.
– А ты почем знаешь?
– Знаю, – сказал Торульф. – Для большого время не пришло. Всему свое время, Бйеркестранд.
Бйеркестранд впервые оторвал глаза от лески и с интересом взглянул на Торульфа.
– Может, и когда Ранвейг умрет, знаешь?
– Может, и знаю, – ответил Торульф. – Ты спроси.
Старый Бйеркестранд посмотрел на него с опаской:
– Спрошу… скажи, когда Ранвейг умрет?
Зачем тебе все это, Торульф? Понимаешь ведь ты, что не очень тебя здесь любят, только за музыку твою и держат, а то бы ведь на костре сожгли, тут народ простой, к чудесам нехорошо относится – видишь, опять в колдовстве тебя подозреваю: не ты ли и облако вулканическое наслал, от которого Ранвейг второй день кашляет?
Торульф выдержал недобрый взгляд старого Бйеркестранда.
– Видишь ли, Бйеркестранд…
Торульф знал о нем всё. И – никакой мистики: структура семьи подобного типа была ему наизусть известна. Живут рядом два старика бездетных – значит, один из них ребенок и есть. В данном случае ребенком была Ранвейг, начинавшая недомогать при первой же удобной возможности. Вот сказали по телевизору про облако пепла – тут у нее несуществующая астма возьми да и дай о себе знать. Не было бы облака – простудилась бы Ранвейг. А не простудилась бы – в спину бы вступило. Что-нибудь да случилось бы, милый старый Бйеркестранд: женщине-ребенку постоянная забота требуется.
Высокая сухопарая Ранвейг приходила в церковь в розовом… в разных оттенках розового, во всех сразу: от нежного, кораллового, до интенсивного, почти лилового. Непонятно даже, где она брала эту одежду: в местном супермаркете розовое только детских размеров продавалось, на девочек. Небось, выписывала откуда-нибудь, из самого Осло, небось… старенькая принцесса, не успевшая понять, что жизнь прошла, и чахнущая, чахнущая, чахнущая – вот уже лет шестьдесят чахнущая: как начала чахнуть от огорчения, что детство кончилось, так и чахнет с тех пор. А детство у нее между тем не проходит!
– Ранвейг не скоро умрет, – прервал свое розовое видение Торульф. – Я, конечно, с точностью не могу сказать, Бйеркестранд, но лет на пять Ранвейг тебя переживет.
Старый Бйеркестранд посмотрел на него с недоверием.
– Ей же… ей же не справиться одной! – сказал он с обидой за себя. – Она, вон, кашляет второй день, от облака.
– Облако прейдет, – голосом священника Олофа сказал Торульф, – а Ранвейг не прейдет… долго еще, во всяком случае. Ты рад?
– Я-то? Я-то, конечно, рад, – поспешно отрапортовал старый Бйеркестранд и задумался. Потом спросил: – А это… надежно, то, что ты говоришь?
– Надежно, – улыбнулся Торульф. – Так что… подумай-ка ты немножко о себе, Бйеркестранд, а то ведь смотри: Ранвейг не до тебя, но кто-то и о тебе позаботиться должен, правда ведь? Самому-то тебе, от облака, не тяжело дышать?
Бйеркестранд осторожно, но явно с удовольствием втянул воздух пухлыми ноздрями – раз, и еще раз, и еще.
– Конечно, тяжело, – признался. – Слизистая воспалилась, наверное. Зря я, небось, тут на воздухе торчу. Это Ранвейг рыбки свежей захотелось, видите ли. Хоть у нас замороженной в холодильнике на целый приход!
На том и смотал удочки. Барахлишко в рюкзак побросал, ведро с рыбой – в немалом, кстати, количестве – подхватил, Торульфу руку пожал (перчатку не снял, правда) и – домой.
Дети они. Все они тут дети. И те, которые дети, – хоть и мало их в округе осталось, уезжает в большие города молодежь, – и те, которые взрослые… Смотреть на них всех – хоть плачь от умиления. И ничегошеньки ведь не происходит в их жизни – спасибо, что хоть вулкан извергается, а то, кабы не вулкан, чем бы жить, о чем говорить? И от чего бы кашлять, опять же…
Вся беда в том, что Торульф любил их. Любил до першения в горле, до спазмов в груди, слева. И не было в этой любви жалости, и самопожертвования никакого тем более не было. «Дети, дети малые, – повторял он, стирая со щеки слезу. – Дети малые, неразумные!» Надо будет позвонить по тому телефону и все-таки выкупить у столичного скряги ноты, неважно почем, пусть слушают музыку… настоящую, неслыханную музыку, вечную музыку.
А на том месте, где сидел старый Бйеркестранд, как раз и лежали они, вмятые в песок, – два камушка.
Почти одинаковых.
Гладких.
Черный и белый.
Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова <…> соответствовали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. <…>
Наилучшей иллюстрацией этого разграничения является, видимо, то, которое предложено в работе Anscombe, 1957.
Предположим, что некий человек идет в универсам со списком, составленным его женой, где указано, что он должен купить; в этом списке содержатся слова: «бобы, масло, бекон, хлеб».
Предположим далее, что по пятам за ним, все время, пока он ходит с тележкой по магазину и выбирает указанные товары, следует сыщик, который записывает все, что он берет.
При выходе из магазина у покупателя и у сыщика будут идентичные списки. Но функции этих двух списков будут совершенно различны.
Цель того списка, который находится у покупателя, состоит в том, чтобы, так сказать, «приспособить» мир к словам; этот человек должен согласовывать свои действия со списком.
Цель списка, находящегося у сыщика, – в том, чтобы «приспособить» слова к миру: сыщик должен согласовывать список с действиями покупателя.
Это, в частности, сказывается на различной роли «ошибок» в этих двух случаях.
Если сыщик, придя домой, неожиданно осознает, что тот человек купил свиные отбивные вместо бекона, то он может просто зачеркнуть слово «бекон» и записать «свиные отбивные». А вот если покупатель придет домой, и его жена укажет ему, что он купил свиные отбивные, хотя ему нужно было купить бекон, то он не сможет исправить свою ошибку, зачеркнув «бекон» и записав вместо этого «свиные отбивные». <…>
Я предлагаю назвать этот аспект различием по направлению приспособления . Список сыщика характеризуется направлением приспособления «слова к миру» <…>, список же покупателя обладает направлением приспособления «мира к словам». Будем обозначать направление приспособления «слова – реальность» с помощью стрелки, направленной вниз (↓), а направленность приспособления «реальность – слова» – с помощью стрелки, направленной вверх (↑).<…> Было бы очень элегантно построить всю нашу таксономию целиком на основе этого различия по направлению приспособления… {6}
Одному человеку – скажу я всем присутствующим по ба-альшому секрету – в одно и то же время трудно выполнять два разных маршрута. И даже скажу почему, но тоже по ба-альшому секрету: в определенный момент маршруты схлестываются – и невозможность выбора оборачивается невозможностью сосредоточиться…
Ансельм с Ниной и Астой выбили его из ситуации полностью: необходимость учета еще и их присутствия сделала свое дело, и теперь он совсем не знал, как разбираться с жизнью, окружавшей его больно уж плотным кольцом. Интересно, что он сказал своим отъезжающим сегодня шведам – и на каком языке (это было важно из-за присутствия при разговоре тети Лиды с мужем): что он в Стокгольм едет – или в Гамбург?
Если в Стокгольм, то им по пути.
Или им по пути, если он в Гамбург?
В любом случае как-то надо от них отделываться: ммм, путешествие вчетвером – конечно, приятная перспектива… но не из самых приятных. Потеряться, что ли, в Берлине? Заглядеться на афишу, витрину, пелерину… Когда-нибудь потом он, разумеется, расскажет им, что на самом деле не был в Берлине, что все это просто недоразумение, все это для маминого спокойствия и так далее, а в действительности я-не-я-и-лошадь-не-моя. Или не морочить хоть им головы, оставить как есть, замять-для-ясности (смотри-ка, забытые выражения – из школьного тезауруса! – выплывают): ну, встретились в берлинском зоопарке, ну, тайный я любитель зверей в-клетках, бывает и такое, всякое бывает… важно просто сейчас от них там как-нибудь отстать, как-нибудь незаметно… на что бы заглядеться-то, ей-богу?
Он стоял у вокзала, прямо напротив часов: не опоздать бы на паром. Так, минуточку… паром через полчаса, из порта, но что он делает здесь – на вокзале в Берлине… да нет же, черт бы его побрал, на вокзале в Хельсинки, откуда ему никуда не надо! За полчаса, значит, до отправки парома… он, что, опоздал уже на паром-то? Туда являться самое позднее за полчаса надо, в билете написано, а ему еще вещи из киоска, который там почему-то и камера хранения, забирать! Была такая голубенькая квитанция от руки… где ж она, Гос-по-ди!
В кармане завибрировал мобильный – мама? Нет… на экране имя: Гвидо. Это еще что за новости – Гвидо?.. Но, в любом случае, Гвидо, кем бы он ни был, – первый в списке под названием «Не до тебя».
Таксист все понял в мгновение ока – прямо как родной. Вез залихватски, утешал, рассказал пару случаев-из-практики, пятнадцати минут не прошло – остановились в порту. Щедро расплачиваясь, он вдруг осознал, что всю дорогу говорил с таксистом по-датски. В голове смерклось.
– Откуда датский-то? – спросил он, уже одной ногой на тротуаре.
– Датское этническое меньшинство в Финляндии, – энциклопедически отчитался тот, и тут же вспомнилось, что меньшинство такое и правда есть в этой стране… знал ведь.
– Tusind tak så… og god arbejdslyst!
Выдохнул в крытом переходе на паром, а так все только вдыхал. У самого же входа на паром задержался на секунду, обернулся – зачем бы? Нет ли хвоста… – тети Лиды с мужем, Ансельма-Нины-Асты или кто у них там еще.
На пристани, глядя прямо в конец крытого перехода, стоял и махал рукой пожилой мужской иностранец… ни растерянной улыбки, ни черносливовой трубки не различить отсюда. Но запах – запах есть, отчетливый запах чернослива… над всем портом, над всем Хельсинки, над всей Финляндией!
Тряхнув головой, сделал шаг на паром, где в ту же секунду был подхвачен двумя интернациональными тетками, уже заглянувшими в его зажатый в руке билет:
– Вам на девятый уровень.
Легче было вам, дантовых девять…
Корабль-дом. Огромный многоэтажный дом, как то бесконечное строение во Фредериксберге, от которого становится дурно…
И – первый встречный: компьютерный восточный сосед по купе поезда «Москва – Хельсинки»:
– I am very glad to see you, how are you?
Английский бы ему попортить… – нельзя с таким совершенным английским жить, стыдно.
– Fine, thanks… what about you?
Так и пришлось – с чемоданом в руке (слава Богу, что на колесиках) – выслушать длин-н-ную историю ни о чем: как непонятно было, куда сдавать чемодан (в киоск, в киоск, дурак… спасибо, Катя!), как пришлось провести целый день за компьютером, в кафе… точнее, перед кафе «Европа»: работая и глядя на прохожих.
Чтобы поддержать разговор, сказал:
– И я в кафе «Европа» кофе пил, причем тоже снаружи.
– В котором часу?
– По-моему, в два… или вокруг.
– Но я не видел Вас там, – через паузу холодно (градусов двенадцать минус) заметил тот. И добавил – совсем уж неприлично: – Вас там не было.
– Ну-ну, – улыбнулся он и подхватил чемодан, но услышал:
– Я сидел там все время… Я сидел там именно снаружи. Я никуда не отлучался. Я видел всех, кто там пил кофе. Вы не пили кофе в кафе «Европа». Наверное, это было другое кафе, Вы ошиблись.
Тут бы и сказать, что – ошибся, что и на старуху бывает proruha… или как там оно по-английски, ан – прямо по Бабелю получилось: бес его взмыл … небось, из-за невозможности, не-воз-мож-но-сти выносить больше такой пастеризованный иностранный язык!
– Это Вы ошиблись, мой дорогой! А я – я пил кофе в кафе «Европа».
– Я сделал фотографию этого кафе. – Зануда полез за мобильным – в дипломат, разумеется. Полминуты – и он уже совал ему в нос широкий экран айфона: – Вот фотография. Убедите себя. Здесь Вы не сидели.
– Может быть, в Хельсинки два кафе «Европа»… – Он шел на компромисс, он сдавался, в животе была уже середина зимы: пятнадцатое января.
– А вот это можно проверить, если выйти на связь с Интернетом – присосался тот… пиявка, не человек. И начал быстро-быстро, пальцами, выходить на связь, и вышел, и – уже устами – подписал приговор: – К сожалению (пожалел-таки!), в Хельсинки только одно кафе «Европа», вот его адрес… – и опять экраном в нос.
– Да отстаньте же Вы от меня наконец! – Это было сказано по-русски, просто от изнеможения, но с такой вежливой улыбкой, что прозвучало более чем дружелюбно.
Что уж такого услышал прилипала в чужом для него наборе звуков, непонятно, но – удовлетворился полностью и даже пожелал счастливого пути к каюте, по-английски, разумеется. На всякий случай пришлось проверить номер каюты прилипалы и успокоиться: благосклонная судьбы развела их не только по разным каютам, но и по разным уровням.
Он чуть не обнял собеседника… так-таки и не обнявшись, они отправились в разных направлениях, слава Богу, слава Богу…
А в «Европе»-то он, получается все-таки не пил кофе: Интернет врать не станет. Это наводило на некоторые оч-чень в данный момент ненужные подозрения, даже сосредоточиваться на них не хотелось, потому что… нет, туда нельзя, там болото, там ахнуть не успеешь, как плотный призрак тети Лиды – хоть с мужем, хоть без – загородит дорогу в будущее, и нет у тебя никакого будущего, хоть, конечно, и так не было – или было, но не очень много.
Не думать про «Европу», не думать, не думать… про круассаны безупречной формы забыть, про кофе со сливками, про соседа справа – анахроническую ипостась черносливового господина, про все это забыть немедленно: мы – только те, кто в данный момент здесь, все остальные «мы» – не мы, все остальные «мы» немы, ах ты Господи, Боже ты мой! Как некстати-то всё, и прилипала этот с его подробностями – особенно некстати…
Хотя, с другой стороны, оно и понятно: если Ансельм, Нина и Аста – свидетели того, что он в Берлине, им и поверят, а ему не поверят, ему уже не верят, айфоном в нос тычут и улыбаются: да что ж, дескать, ты нам сказки дядюшки Римуса рассказываешь, знаем мы тебя как облупленного, соврешь недорого возьмешь, за тобой глаз да глаз нужен. И – мордой об стол: вот, значит, тебе адрес кафе «Европа», скушал?
«Он фантазирует, ему скучно»… Ему скучно рассказывать, как было, да и как – было? И так было, и эдак, по-всякому было, по-всякому бывает, прав Торульф, Торульф всегда прав, так и надо рассказывать. То есть, честно признаться: нет, не пил кофе в кафе «Европа», люди добрые… да и вообще в Хельсинки не был, потому что не мог же он быть и в Хельсинки, где его никто не видел… нет, Катя видела, но той Кати и след простыл, даже фамилии ее он не знает, а вот сокупешник – не видел, между тем как сокупешники народ такой, все видят, все запоминают, – ив Хельсинки, значит, и в Берлине, где его столько человек видели… целых пять человек, ну четыре: тетя-Лида-с-мужем – это, скажем, один человек, плюс Ансельм, Нина, Аста – куда ж теперь денешься? Все с фамилиями, все готовы под присягой подтвердить: видели, разговаривали… вид усталый, чемодан тяжелый. А у тети Лиды даже на случай чего вещественное доказательство есть: кулончик с часами на шее тикает, причем тикает – громко! Просто как набат бьет: собирайся, честной народ, подходи, посмотри на этого вруна, плюнь в лицо ему.
Ой-ой-ой… нехорошо все получается, не хорошо.
Кто-то звонит. Кит.
– Просто убедиться, что ты не забыл маршрут, – смеется она в трубку.
– Чуть не забыл, – признается он. – В последнюю минуту опомнился.
– Ты вот что… – Кит медлила, потом решилась. – Ты не особенно много подробностей маме рассказывай, ладно? Подробности – страшное дело, ты ведь знаешь?
– Подробности?
– Я тут сижу и думаю о… как бы это сказать, о природе лжи, видимо. – И она опять засмеялась, смутившись от чрезмерной точности формулировки. – Сказать тебе, что я думаю?
– Скажи.
Он стоял с чемоданом на палубе. Ему не особенно хотелось разговаривать сейчас с Кит – и вообще с кем бы то ни было разговаривать. Ему хотелось найти свою каюту, разложить вещи, принять душ, переодеться… или, может быть, даже прилечь на полчасика. Тяжелый был день – неважно, где именно, в Берлине ли, в Хельсинки, теперь уже это не имеет значения. Но Кит тут ни при чем: она сидит и думает о природе лжи, и это он спровоцировал ее на такие мысли. Ему и расплачиваться.
– Я коротенько, – извиняющимся голосом лепечет Кит, – я просто не могу не поделиться. Мысль тут одна такая, интересная… насчет того, что ложь может прекратить осознаваться как ложь, если добавлять и добавлять к ней новые подробности. Тогда она начинает выглядеть как правда – и легко спутать. У меня сейчас телевизор включен, немецкий канал, ZDF, ну и идет передача про Берлин… про берлинские парки, и я вдруг ловлю себя на мысли: хорошо, что он сейчас в Берлине, удивительный город… и все такое, понимаешь? Хоть я и знаю, что ты в Хельсинки! Но вот – несколько подробностей по телевизору – Тиргартен, пеший путь от Берлинского зоопарка до Бранденбургских ворот, липы… и я забываю, что ты не в Берлине. И мне уже надо убеждать себя, что ты не в Берлине. Я это к тому… ты не очень детально маме свой вымышленный маршрут рассказывай, а то ведь… – Кит замолчала.
– А то ведь – что, Кит? Хельсинки в Берлин превратится – ты это имеешь в виду?
– Знала бы я еще, что я имею в виду, – вздохнула Кит. – Нет, не это, конечно. Тут чисто теоретическая проблема такая – может быть, к тебе даже и отношения не имеющая: что ложь в некоторых случаях начинает утрачивать признаки лжи… собственно, и все.
– Ты чего-то боишься, Кит?
– Нет-нет! – с поспешностью отозвалась она. – Нет, что ты… я это все так, вообще, говорю. Мне просто сама мысль, ну про подробности, забавной показалась – если ты понял мысль.
– Угу, – сказал он, – я понял.
– Ты, может быть, занят сейчас – отрываю я тебя от чего-то?
– Да нет, я на палубе стою… с чемоданом. И думаю, в каком направлении мне к каюте моей двигаться.
– A-а, прости тогда… ну, иди ищи каюту, потом поговорим.
Вот… как-то неловко разговор закончился – словно он не понял или не хотел понять Кит. А он, между тем, еще как понял, только думал уже о другом: о том думал, что умнице-Кит прямо вот сейчас удалось поймать за хвост неуловимейшую для русского сознания немецкую пословицу о дьяволе, прячущемся в подробностях: «Der Teufel sitzt im Detail». И он усмехнулся русскости Пастернака, вспомнив: «Всесильный бог деталей…» – нет, как же все-таки он любит это стихотворение и эту вот строку! Но только русский (причем с ног до головы русский) мог увидеть в дебрях деталей – Бога… ах, Ваше Неметчество, дорогой Борис Леонидыч, и опять подвело Вас кауфманианство, получается… не в обиду, конечно, будь сказано.
«Der Teufel sitzt im Detail» он услышал давным-давно – и запомнил сразу, но как-то не воспользовался, ни к чему было, да и не очень понятно, честно говоря… но только он знал, что пословица все равно кружит где-то поблизости, дожидаясь своего часа быть понятой. И час, значит, настал, Кит взяла пословицу за руку и привела к нему.
То, что сделала Кит, требовало обстоятельного анализа, требовало длинной-предлинной прогулки с размышлениями – причем прогулки не по палубе и без чемодана, а… а в хоть и случайно выбранном, но знакомом месте: чтобы ничто новое снаружи не отвлекало внимания. Для такого анализа не было у него сейчас ни условий, ни сил, но обойтись вовсе без анализа после разговора с Кит – это, увы, невозможно.
Ибо пришло время понять, кто же все-таки – ангел или бес – путешествует вместе с ним из Москвы в Копенгаген.
Ах, он давно уже знал, что все в мире (за исключением Курта!) лгут, кто больше, кто меньше – дело не в этом, а в том, что принцип «не соврешь – не проживешь» есть не русский способ видеть мир, а общечеловеческая – подсознательная, если угодно, – стратагема. И где-то около нее крутится «ложь во спасение», известная всем языкам и народам. Так все-таки… ангел или бес?
Изначально-то, видимо, ангел: ложь во спасение – ангельская прерогатива.
Я-не-скажу-тебе-того-что-тебя-обеспокоит.
Я-не-скажу-тебе-того-что-заставит-тебя-волноваться.
Я-не-скажу-тебе-того-что-потребует-от-тебя-действий.
И сколько же – в целом – парил надо мной ангел? Полтора часа – от Москвы до Твери? Оказавшись вне досягаемости, я должен был тут же набрать телефон мамы и сказать ей: «Мама, ты только не паникуй, но я три минуты назад проехал Тверь». Сказать это в час ночи? Дескать, еще три минуты назад мы могли бы увидеться, но теперь – поздно…
Нет, так не есть правильно. Ангел все еще был со мной, по крайней мере, в начале перегона «Тверь – Хельсинки», да фактически и всю ночь, до Выборга. Вот тогда и надо было набрать телефон мамы: «Мама, ты только не паникуй, но я в Выборге». – «Господи… что ты делаешь в Выборге?» Этакий шок на рассвете, в семь ноль-ноль, когда мама еще спит или только что проснулась – вместо «доброе утро»… нет-нет, рано. Ангел продолжает парить надо мной!
Хотя ведь… подробностям, о которых говорила Кит, – этим подробностям уже много часов: Белорусский вокзал, купе с немцами и… что там еще было. Бес уже где-то поблизости – не в моем ли купе, один из немцев… Мама, ангел оставил меня, я теперь путешествую с бесом, ты-только-не-паникуй!
Дальше уже скоро Хельсинки, так ведь? Так, – отвечает ангел… неужели он все еще рядом? Он рядом, ибо «Мама, я прибыл в Хельсинки, я не хотел рассказывать тебе об остановке в Твери, чтобы нам не увидеться и ты не…» – этого даже не успел бы договорить, уже прозвучал бы встречный вопрос: «Почему ты не хотел увидеться?»
У него нет ответа на этот вопрос… прости его, ангел. Прости его – и отгони в сторону беса: не твое, дескать, время, бес!
Когда на его часах был Хельсинки, на маминых был Брест и купе в том же составе: немцы, заедающие швепс марципаном и ведущие разговоры о Рильке, и ах-как-все-хорошо, ах-как-все-по-прежнему, ничего не будет меняться еще долго, до Берлина, нет, до Гамбурга, нет, до самой датской границы, это ведь то же самое направление, поезд просто идет дальше… Ангел, ты еще тут? Да, – отвечает ангел и тяжело вздыхает – не очень, конечно, тяжело, поскольку – ангел, но, во всяком случае, так тяжело, как может.
И потом – целый день в незнакомом городе, пусть это и безопасный Хельсинки… Понимаешь ли, ангел, даже безопасный Хельсинки – все равно не купе с уже не чужими немцами, сроднились в дороге, понимаешь ли, ангел, и едем себе тихо, главное – в том же составе! – сначала по Польше, потом по Германии, вместо того, чтобы мотаться по Хельсинки и грузиться на паром… кто его знает, что за паром, водный транспорт не всегда надежен, бывают подводные рифы, отойди, бес, тут с ангелом разговаривают!
И ангел кивает, кивает, кивает, а на щеках у ангела – тихие слезы.
Нет, лучше, конечно, поезд, чем паром… а подробностей, хоть и много, да они все те же, и это важно, остальное пустяки по сравнению с «мама, я не хотел тебе говорить, но я плыву на пароме, ночью, по темному морю, берегов не видно, и у меня четырехместная каюта, полная незнакомых людей» – честно, так честно, черт побери! И, значит, как бы близко ни подобрался бес, а время все равно не его: еще не кончился праздник лжи во спасение, хоть и плачет ангел кровавыми уже слезами, оставляющими алые пятна на безупречно белом хитоне.
Ммм… и так далее. И невозможно, невозможно проститься с ангелом, невозможно обняться с бесом, какими бы подробными подробностями ни было уже изукрашено безумное его путешествие через не замеченную мамой Польшу и через отслеженную по неправильным ее часам Германию, пусть даже «Der Teufel sitzt im Detail» – о чем ты, собственно, Кит? Никогда не настает время превращения лжи в правду, как никогда не настает время превращения правды в ложь: там, наверху, пристально следят за тем, чтобы ложь оставалась ложью, а правда – правдой, за этим легко уследить, только вот за одним заблудшим, запутавшимся, плачущим ангелом – за ним не всегда уследишь… при таком-то количестве ангелов! И настолько уж добр и сердечен тот ангел, что даже бес не решается подойти близко, какое там – заявить о своих правах! Нет тут никаких прав у тебя, бес, и не твои это подробности… всесильный бог деталей обитает в этих краях, в спокойных этих краях – правда, Борис Леонидович?
И Борис Леонидович отвечает: правда, «…всесильный бог деталей, / Всесильный бог любви».
Вот и понятно, значит, бог деталей и есть бог любви, чего ж непонятного? «Не знаю, решена ль / Загадка зги загробной, / Но жизнь, как тишина / Осенняя, подробна»… так сказать. А что всякая любовь крива и неправильна – не нам с вами, дорогие мои, судить, не нам с вами.
I. Snip [sne b ] ( совр. диал. Snippe <…> мн. – per или (совр. диал.) – pe <…> (ст. датск. snip(pe) кончик, уголок, шв., норв. snipp, англ. snip, кончик, тж.: пятнышко на коне, нижне-нем. snipp, нем. Schnipf, кончик, немножечко; см., в частн., глагол snippe и англ. об отрезе, куске (ср. II. Snip) ; частично совпадающее со шв. snibb , острие, норв. диал. snibba , вершина утеса, нем. schneppe, носик, нижненем. snibbe , к люв, голл. sneb к люв, и англ. о ч.-л. остром, выдающемся вперед <…>
1) маленькая, острая частичка к.-л. предмета; к р а е ш е к, у г о л о к, т. е.: кончик, уголок к.-л. одежды <…>. 1.1) обычно большого холста, завязанного кончиками вверх ( 1819: завязанного уголками вверх) <…> || о кончике, острие паруса, флага и т. п. <…> об уголке, кончике бумаги <…> о вершине ели. 1.2) торчащая вперед или свисающая часть к.-л. одеяний (ср. краешек платья) <…> || (особ. совр. диал.) о (белом) шейном платке, галстуке и т. п. <…> о (части) женского головного платка, покрывала; особенно о свисающем вниз кончике разл. одежд простого народа . 1.3) (сапожн., особ. провинц. или диал. ) маленькая заплата на подошве башмака, особенно у носа, пальцев <…>.
2) о части тела человека или животного. 2.1) обычно о маленьком выступе или кончике <…>. 2.2) о вихрé, который торчит вперед, свисает уголком. 2.3) (диал.) о (маленьком, остром) носе <…>. 2.4) (ветерин., с/х) о метке у коня: белое пятнышко или полоска на кончике носа или (верхней) губе.
3) (спец. диал.) нечто заостренное, треугольное <…>; о верхней части конька (на доме) <…> || об остроконечном перешейке, заостренном участке земли, угловой части поля и проч. <…>.
4) (ср. англ. snip , крохотный человечек, тж. фризск. snip, чопорная, высокомерная женщина (ср. Snippe как обозначение живого существа). 4.1) как обозначение лица, имя лица <…> || особ., то как ласковое обращение к маленьким девочкам : крошка Снип! то как уничижительное: фрёкен или девица Снип! 4.2) (диал.) как имя коня, имеющего метку (2.4) <…>
II. Snip <…> [sne b ] <…> 1) ( диал. ) как субститут глагола snippe ( * совершать (быстрое) хватательное движение); спец.: очищать фитиль свечи <…> 2) ( шв. i en snip , в спешке, хвать! нем. in einem Schnipf , в к.-л. данный момент ) <…>
III. Snip , сущ. см. Snive ( *нос ) <…> {7}
А еще у него был учитель, это не у каждого… не с каждым бывает. И кое-чему такому научил его учитель, чему– он не скажет, даже если пытать будут, потому что нельзя говорить, да и слов таких не бывает, не придумали еще.
И у Эко что-то вроде: последняя тайна герметической традиции в том, что все сущее – тайна.
Но это, конечно, только про то, чему учитель научил, нельзя говорить – про остальное можно, остальное – глупости…
Например, про то можно говорить, как вокруг дома ходили… ну, не то чтоб совсем вокруг дома, а в окрестностях, хоть и близко, – далеко учитель тогда уже не мог, тяжело ему было, но туда, в Норвегию – еще мог, в Норвегию и ходили. Так одно место называлось, ими двоими называлось, а больше никем: небольшой вал рядом с парком – правда, парка не было еще тогда, пруд был, с утками. Теперь все наоборот: парк есть, зато пруда с утками – нет, и вала нет, и Норвегии, значит, нет, а была. Ма-а-аленькая такая, шагов триста туда и шагов триста обратно – вот и вся тебе Норвегия. Почему Норвегия – неважно, но Норвегия. Тем более, до настоящей Норвегии тогда все равно как до луны было, так пусть хоть ма-а-аленькая.
И там, в Норвегии, учитель сказал, что, дескать, рано или поздно, а уехать ему придется: не потому что жизнь не сложится, – сложится, не потому что невмоготу станет, – не станет, не потому что выгонят, – не выгонит никто… просто придется и все, звезды такие. Не то чтоб учитель астролог был, упаси Боже, не астролог, и про звезды – это не в прямом смысле, ну понятно, одним словом.
Он и сам с детства знал, что уехать придется, а спросили бы почему, он бы ответил: так все кроится – и уже видно, что так кроится, да и прежде видно было, с первой платформы вокзала. Только радости-то от этого – никакой: не собирался он никуда, ни тогда не собирался, ни после, когда выкройка уже готовой лежала – бери и шей. Но – уехал, ветер подул – и уехал: такой уж ветер подул и выкройку понес, понес… легкая была выкройка, бумажная, они всегда бумажные, все.
Потом, кстати, и Торульф подтвердил: не могло, сказал, быть тебя там, ты не оттуда. А откуда – этого Торульф не знал, такого никто не знает. И Манон не знает – знает только, что он не из России, сама говорила: «Ты не из России».
Странно, что Торульф в Норвегии нашелся, пусть даже сам Торульф считает, что он из Норвегии и есть. «Все норвежцы из Норвегии, они нигде, кроме как в Норвегии не могут жить».
– Почему?
– Погибают, – разводил руками Торульф. – Погибают вне Норвегии.
Но это конечно, е-рун-да: он сам видел норвежцев, которые в других странах жили – и нисколечко не погибали. Правда, Торульф, которому он сказал об этом, – сразу на попятную: ну, это я, мол, конечно, генерализирую. И поди его пойми! Норвежцев ведь и вообще не поймешь – даже и пытаться глупо: они там, в Норвегии, все на самих себя закорочены. Даже анекдот такой по Скандинавии ходит: дескать, знаете ли вы, что такое скандинавский любовный треугольник? – Ответ: это вот что… Швеция, стало быть, любит Данию, Дания любит Норвегию, а Норвегия любит только саму себя.
Между прочим, очень похоже на правду, только норвежцы сразу почему-то обижаются, стоит в их присутствии этот анекдот рассказать. Они вообще на анекдоты про себя обижаются… впрочем, иногда, конечно, и есть за что! В анекдотах норвежцы всегда какие-то, мягко говоря, странные – особенно если сравниваются вот хоть и с датчанами: идут датчанин и норвежец по берегу моря, и датчанин говорит: «Чайка мертвая, смотри…» – «Где?» – спрашивает норвежец, поднимая глаза к небу.
Ну, сами посудите, как тут не обидеться!..
А Торульф – тут дело не в том, что он из Норвегии, тут дело в том, что он из тех походов с учителем, вокруг дома. Потому как Торульф и тогда уже был, во времена походов. Только звали его тогда не Торульф, а Альф – тот Альф, с которым учитель переписывался, был из Бергена… совсем, конечно, не Торульф как Торульф, но очень близко. М-да… Торульф как Альф.
– Ты когда во всех этих местах будешь, – говорил учитель, – передавай привет.
Он всегда передавал – тем более, выяснилось, что и сам учитель из этих мест произошел, по фамилии выяснилось, уже после отъезда, правда: сперва надо было датский выучить и шведский с норвежским начать понимать, чтобы установить совершенно точно – скандинавская фамилия, никакая другая. Вот оно, оказывается, что…
А тогда-то они просто ходили – и все было как должно: учитель учил, ученик учился, только (опять напомнить надо) нельзя говорить чему, слов говорить – нельзя. Если скажешь – все знание пропадет, ничего в голове не останется.
И будет большое несчастье.
Его сколько-то мало лет назад попросили написать об учителе, и он, конечно, написал, но не то написал, а всякое… другое, причем по шухардтскому принципу – «интерпретация важнее материала» – написал: как любили они с учителем, помнится, играть этим принципом, заигрываясь настолько, что совершенно теряли из виду действительность!
Впрочем, присутствия Шухардта в написанном никто не заметил – и написанное ужасно всем понравилось… удивительное дело! Как будто непонятно было, что это все – так, пустяки, и что самая-το суть опущена. Он, кстати, когда-то так предупредить любил: «Суть я опускаю». Все очень смеялись, думали, шутит, а какие ж тут шутки, когда суть – нельзя: исчезнет. Рассказанная суть утрачивает признаки сути.
Между прочим, он и сейчас, с корабля-дома на воду глядя, привет передал: привет, дескать, от такого-то и такого-то… от учителя, значит. А вот куда именно привет передал – сказать трудно. Правда, на билете написано «Хельсинки – Стокгольм», но это еще посмотреть надо. На билете из Москвы тоже стояло «Москва – Хельсинки», да только не видел его сокупешник в Хельсинки и на том насмерть стоять будет, если его спросят. А его и спросят, потому что больше некого об этом спросить.
Он поставил чемодан в пока еще пустую каюту и с постыдной поспешностью (только бы не столкнуться с соседями!) отправился вниз, не считая уровней. Оказалось, что телефонная связь с парома ненадежная: верхняя строчка на мобильном, где оператор обозначается, пропадала все время. Номер наберешь – и ничего: ни гудка, ни гула какого-нибудь, шума… Словно и не звонишь никому.
– Вы попробуйте отойти к правой стороне, – сказала ему румяная девушка из службы информации, – оттуда иногда лучше удается, чем с левой. Выключите телефон на некоторое время, перейдите на правую сторону и там включите. У всех проблемы, не беспокойтесь!
А что – дивное утешение: у всех проблемы, не беспокойтесь… И действительно, чего ж беспокоиться, раз у всех проблемы? Утешение из эпохи глобализации: какова эпоха, таковы и утешения.
С правой стороны маме позвонить удалось.
– Ну, ты со шведами? Аста, наверное, совсем устала…
– М-да, Аста… Со шведами. Но лучше бы без них. Без них и без тети Лиды с мужем. Устроила ты мне Берлин, мягко говоря… Сплошные спутники, даже по городу не походил.
– Да ты ведь уже был там не раз, и еще будешь – по своим делам. А сегодня необязательно все это: облако, вон, до сих пор висит, никого из аэропортов не выпускают. И я вот еще о чем подумала: не лучше тебе было все-таки тут дожидаться, пока самолеты начнут летать? Поездами – страшно больно, волнуюсь я… только что телевизор посмотрела: как одного иностранца из поезда выбросили… такие попутчики попались, – и оказался он потом в незнакомом городе: без денег, без языка!
– Язык ему попутчики, что ли, отрезали?
– Тьфу… что ты говоришь такое!
Короче, в результате они поругались. Потому как… иногда терпение лопается – с характерным треском. Не мама ли все эти годы сокрушалась, что ему самолетом туда-сюда летать приходится, а не поездом ездить? Ну так вот тебе, пожалуйста, – поезд… и что же? Теперь получается, что из-за поезда она волнуется еще больше. Под конец он ей сказал: у всех проблемы, не беспокойся, но это только еще больше ее расстроило: если у всех проблемы, значит, и у него? Он что-то скрывает!
Расстались прохладно… надо будет перезвонить через полчаса – если связь совсем не рухнет: в открытом ведь море барахтаемся, берегов даже не видно.
На экране мобильного – четыре непринятых звонка. Ничего, этот потерпит, и эти двое потерпят… и тут еще Гвидо. Гвидо-Гвидо-Гвидо – бормотал он… – загадочный Гвидо!
Нет, не то чтобы Гвидо представлял собой какую-то отдельную проблему в его жизни – совсем даже наоборот: не было в его жизни вовсе никакого Гвидо, это-то и странно! Потому как имя высветилось на экране, что могло означать только одно: номер Гвидо имелся в «Контактах»… А он между тем голову мог дать на отсечение: не вносил он Гвидо в «Контакты». Уж что-что, а память на имена у него была абсолютная, так у людей от рождения бывает абсолютный музыкальный слух: от него новые студенты даже шарахались… услышит имя один раз – и в следующий раз обращается уже по имени. Какое-то, видимо, сильно особое значение в его жизни имели имена… имена собственные. Вообще – Слово, слова, но среди них – прежде всего имена собственные. Так что Гвидо… Гвидо-Гвидо-Гвидо, итальянское имя – в его мобильном телефоне… Когда он адресную книгу наизусть рассказать может и присутствующих там итальянцев по алфавиту перечислить…
Связь пока была: оператор, Telia Danmark, светился ярче не бывает – ох… Счет за телефонные разговоры, предпринятые за время его обратной поездки, и так лишит его покоя на месяцы, но – имя собственное!.. Имя собственное требовало действия – и он нажал на клавишу «Соединить».
Гвидо оказался немецкоговорящим, причем немецкий был родным.
– Добрый день, Гвидо… я увидел вот Ваше имя на моем мобильном… что Вы хотели спросить?
– С каких пор мы на «вы», Рольф?
– Ммм… мое имя не Рольф – Вы уверены, что правильно набрали номер?
– Ты совсем с ума сошел? Я не набирал никакого номера, я просто выбрал твое имя в адресной книге… как всегда!
– Это не мое имя… а откуда у Вас этот телефон в адресной книге?
– Ты так сильно обиделся, что ли? Я ж, собственно… я ж, собственно, про Лауру-то не всерьез! Это недоразумение просто. Но, если это тебя задело, ты уж прости, ради Бога…
– Кто такая Лаура?
– Нет, знаешь… я, пожалуй, в другой раз позвоню, когда у тебя настроение лучше будет. Чего-то ты сегодня совсем… плохой.
Связь прервалась на «плохой», оператор исчез с экрана. Вокруг было открытое море.
Он, конечно, для порядка заглянул в адресную книгу. Понятно, не было там никакого Гвидо… кто бы сомневался.
Постояв еще немного на палубе и поискав хоть какие-нибудь следы Гвидо и Лауры теперь уже в собственной памяти, он отправился ходить по Promenade, на шестом этаже. Пространство напоминало ГУМ: ряды пассажей, громоздящиеся друг на друга и постепенно исчезающие вверху, где стеклянный купол. А вот огни, подсветки, фонари – это как на ночном Бродвее. Ресторанчики, магазины, киоски, игровые автоматы… в общем, не скучайте в дороге. Тут соскучишься, с этими левыми звонками!
Он чувствовал, что нервы сейчас сдадут… ну, сдадут – и что? Ухмыльнулся, зашел в один из магазинов, купил баллантайнса. Сразу отметя мысль о том, чтобы хватануть полфляжки в своей четырехместной каюте, он выбрал какой-то диванчик на одном из более низких уровней, полуразлегся на нем и отпил… виски был противный, следовало бы купить чего-нибудь на закуску – конфетку-шоколадку, все равно. Вынул жвачку, закусил ею.
Жизнь пошла лепить кренделя.
За возлияниями его и застукал Свен: оказывается, плыл на том же пароме, как-то удалось купить билет, обретается на одиннадцатом уровне.
– Hvad så?
Вот так сразу и расскажи ему все! Дескать, видишь ли, Свен, свен-очей-моих, жизнь пошла лепить кренделя – и я в данный момент давлюсь этими кренделями… из ушей, извини, прет. Я полностью потерял ощущение себя, не знаю, где нахожусь, не знаю, куда еду… правда, приблизительно знаю, где я должен в конце концов оказаться, но это когдаааа еще! А пока – изоврался вконец ради того, чтобы всем было хорошо, избегался, издергался, измотался… о каждом подумал, только о себе забыл – и вот… тихонько схожу с ума, пью в одиночестве, а сейчас, наверное, выброшу тебя за борт, к чертовой матери, или себя выброшу за борт, такой вот отчет, свен-очей-моих.
– Да все в порядке, спасибо, Свен.
– Скоро на ужин можно идти будет, ты купил талон?
– Талон… нуда, талон! Купил, конечно, вместе с билетом, даже два, на вечер и утро, но вечером с восьми, вроде, еду предлагают.
– Можно и раньше, с шести. А зачем пьешь, когда там спиртное тоже бесплатно?
Ах ты, свен-очей-моих, практичный ты мой!
Пришлось идти на ужин вместе с ним.
Аккуратным челночком скользнув вдоль длинных рядов с яствами (такому ли изобилию блюд да не развеять все печали!), Свен в мгновение ока, усиленного очками, набросал на тарелку типично-шведского, не удостоив остальное даже взглядом, налил себе бадью пива – и уже сидел за столом… уже ел даже (в Скандинавии других ждать не особенно принято: получил еду – ешь), между тем как сотрапезник его все мотался от яства к яству, никак не решаясь на чем-нибудь остановиться. В результате подошел к свену-очей-своих с одинокой устрицей на тарелке – не без отвращения глядя на нее и, кажется, даже не очень понимая, что она тут делает.
– Обильный улов, – чавкнул Свен через свиную котлету и загнал ее внутрь хорошим глотком пива. – Ты не голодный, или как?
Он не знал ответа на этот вопрос. Вдруг вспомнил, что за день в Хельсинки съел всего-то навсего полтора круассана да чашку кофе выпил… но и это сомнительно, поскольку пропавший куда-то на данный момент прилипала именно сей факт и отрицал.
Поставив перед собой тарелку с устрицей, он бросил тоскливый взгляд в тарелку Свена: там было уже почти пусто.
– Я по второму разу, – отчитался Свен, и его как ветром сдуло.
Тарелку с нетронутой, разумеется, устрицей пришлось тайком от Свена отнести туда, куда складывали грязную посуду. Теперь имело смысл тоже пойти к стойкам «по второму разу».
– Я вот что хочу сказать, – сделал вступление Свен, вперив беспощадный взгляд в горку овощей на его тарелке, – вы, датчане, уделяете слишком большое внимание здоровой пище. Мужчина должен есть мясо!
– Откуда ты-то это знаешь? – спросил он Свена, задним числом отметив жуткую просто нелояльность вопроса.
– Так я ж мужчина, – весело напомнил Свен, слава Богу, не уловив модальности.
– Ну, тогда-а-а… – как бы согласился он, не собираясь однако тут же доказывать и свою принадлежность к сильному полу. Просто съел овощи, попил минеральной воды и пошел за мороженым.
Вернувшись, увидел, что Свен сидит над третьей бадьей пива и опять уже пустой тарелкой.
За пивом и мороженым снова говорили о вулканическом облаке, страстного гнева по поводу которого за минувший день в Свене, оказывается, не убавилось.
После ужина произошло просто совсем уже лишнее событие: как-то пробившись через капризы операторов, позвонил Ансельм.
– Что случилось? Ты шесть часов не подходил к телефону! Куда ты пропал в Берлине? Где ты сейчас? Аста плачет, говорит, что тебя дикие животные в зоопарке на мелкие кусочки разорвали! Поговори ты с ней, ради всего святого…
– Здравствуй, маленькая Аста… а вот плакать не надо, со мной все в порядке. Я просто не по той дорожке пошел… м-да. Потом искал вас всех, искал… но найти не смог, больно уж вы быстро ходите, и остался в Берлине еще ненадолго. Я и сейчас в Берлине, но мы скоро увидимся – обещаю тебе. Не плачь, маленькая Аста…
– Кого ж ты, интересно, так запутал-то? – сунулся не в свое дело Свен.
Нет, пора бы закончить уже этот никчемный день: есть такие дни, которые, между нами говоря, и начинать не стоило, сегодняшний – из них… Ан – не верилось, ну никак все-таки не верилось, что день, когда он впервые побывал в хельсинках, мог быть прожит напрасно! Что-то еще недопрожито, что-то еще ему предстоит понять сегодня.
– Ты не торопись, – сказал он Свену, – выпей еще пива, а мне… мне, вот, по магазинам пройтись надо.
– Зачем – по магазинам? – обалдел тот.
– Сувениров купить каких-нибудь отсюда, с парома… друзьям.
– Да тут все то же, что и везде! – воззвал к нему свен-очей-его. – То же, что и везде, но втридорога.
– Как втридорога, – попытался выкрутиться он, – когда беспошлинная ведь торговля?
– Так это только на сигареты, вино и на парфюмерию распространяется!
– Значит, – твердо сказал он, – этого и накупим: сигарет, вина и парфюмерии. Пока-пока.
Не нужно было бы, конечно, так… но уж очень надоел Свен. Найти бы на этом большом пароме какое-нибудь совсем пустынное место… есть ведь здесь такие, найти и присесть куда-нибудь – вот хоть чтоб баллантайнс допить: он до сих пор носил с собой бутылку в пластиковом пакете, в котором и получил ее.
Пустынное место довольно быстро нашлось: понятно, что на палубе, никому не нравилось стоять на ветру. Он присел на какую-то приступочку и закурил, хотя курить здесь, скорее всего, было нельзя: существовала специальная такая площадка на противоположной стороне, там все и курили. За баллантайнс приняться не успел, потому что тут же и обозначился на палубе еще один любитель северных ветров. Пришлось сказать: «Хей», – как приветствуют друг друга в Швеции.
– Хей, – широко улыбаясь, ответил ему почти молодой, чрезвычайно приятной наружности человек и остановился около него. – Не жарко, правда? – Сказано это было по-шведски, с густым русским акцентом. – Сигарету можно у тебя купить?
– Угощайтесь, – протянув пачку сигарет, предложил он по-русски, чтобы сразу уж снять все дальнейшие вопросы.
Угостившись, стрелок улыбнулся:
– Меня Сергей зовут. Никогда бы в жизни не подумал, что ты русский…
Ему не понравилось «ты», ему никогда не нравилось «ты», хоть и понятно, что пребывание на территории фамильярной Скандинавии предполагало «ты» как единственную форму обращения.
– …а у меня, – продолжал Сергей, – глаз наметанный: я русских за версту вижу.
– Голос крови… – общо высказался он, быстро перебирая в голове предлоги, под которыми обычно покидают речевые ситуации.
– Дело не в этом, – решил внести ясность Сергей. – Дело в том, что русские обычно сразу себя выдают… видом своим. У тебя вид не русский.
– Я притворяюсь, – сказал он и улыбнулся, вставая со своей приступочки.
– Хорошо притворяешься, – одобрил Сергей. – Ты откуда?
Пришлось ответить, что из Дании: сил придумать что-нибудь отпугивающее не нашлось.
– Из Дании… – разочаровался Сергей. – А я вот из Финляндии и из Швеции.
– Сразу? – спросил он, тут же и выругав себя: угодил-таки в коммуникативную ловушку. Теперь длинный задушевный разговор неизбежен.
– Сразу, – улыбнулся идеально составленным комплектом зубов Сергей, и чертовски подкупающая была улыбка, что ж тут скажешь. – Я себе такую жизнь устроил: международную. И не жалею.
– Это когда в одной стране живут, а в другой работают? – Он попытался свести ситуацию к обычной схеме, чтобы тем самым и избежать необходимость ее обсуждения.
– Да нет, – рассмеялся Сергей, причем смех тоже был обаятельным (в голове промелькнуло слово «шармёр»: в датском у этого слова значение негативное). – Когда живут в двух странах, в двух же и работают.
Объяснения, обещавшие последовать за этим, сразу же устрашили его неизбежной громоздкостью. Громоздкими они и оказались. Сергей действительно осуществлял две жизни сразу: в двух странах, с двумя семьями и с двумя местами работы. Правда, гражданство у него было только одно, финское: «Двойное никак не получится».
– А зачем это – две жизни? – заинтересовался он.
– Так прикольно же! – Ответ явно казался Сергею самоочевидным. – Как в том анекдоте про Ленина: любовнице сказал, что поехал к жене, жене – что к любовнице, а сам в библиотеку, и работать, работать, работать… знаешь такой?
– Знаю, конечно. А не утомляет это… работа, я имею в виду?
– Да какое там! – не понял сарказма собеседник. – Я ж больше на пароме катаюсь: заказы с обеих сторон выполняю… всякие. Шведская подружка уверена, что я в Финляндии работаю, финская – что в Швеции, и обе правы.
– А дети есть… где-нибудь?
– И там, и там, – с удовольствием рапортовал Сергей. – В Швеции сын и дочка, тинейджеры уже, а в Финляндии – одна дочка, восемь ей.
В ход пошли мобильные – тоже два: в одном фотографии семьи, которая в Швеции, в другом – которая в Финляндии, красота!
– Конечно, если бы не паром, – разоткровенничался Сергей, – хрен бы у меня так получилось. Тут все дело в пароме. И ты, кстати, не подумай, что я один такой: на этом пароме нас много!
«Гадость и гадость, – подумалось, – сложно скомпонованная гадость. И вполне заслуженная мной: знай, стало быть, дурачок, что это такое – две жизни».
– Зовут-то тебя, – он в первый раз, но с удовольствием произнес «тебя», – одинаково и там, и там, или по-разному?
– Так конечно, по-разному. В Швеции я Леха – на случай чего.
«Леха», значит.
– Ну, бывай, Леха. Я пойду, пожалуй. Поздно.
– Да постоял бы еще… – проскулил Леха. – У меня историй много, не соскучишься.
– Нет, правда, пойду. Покурил уже. Сигарет оставить?
– Оставь, сколько не жалко.
Не жалко оказалось целой пачки – ради такого-то дела. Оценка поведенческих признаков обмана таит в себе немало опасностей. В списке, приводимом ниже, я подытожил все меры предосторожности, которые необходимо принять, дабы снизить возможность совершения ошибок при их истолковании. Верификатору нужно постоянно оценивать вероятность того, насколько жест или выражение может говорить о лжи или правде: полная уверенность возможна очень редко. Подозреваемый обычно сознается только в том случае, когда противоречивые эмоции явно читаются на его лице (макровыражения) или часть скрываемой информации прорывается в тираде.
1. Попытайтесь точно уяснить себе основу любых ваших догадок (или интуиции) о том, лжет человек или нет. Осознав то, как вы истолковываете поведенческие признаки обмана, вы научитесь обнаруживать собственные ошибки и понимать, есть у вас возможность вынести правильное суждение или нет.
2. Помните, что при обнаружении обмана существуют две опасности: неверие правде (когда говорящего правду принимают за лжеца) и вера в ложь (когда лжеца считают говорящим правду). Полностью избежать этих ошибок невозможно, поэтому тщательно рассмотрите все последствия любой из этих ошибок.
3. Отсутствие признаков обмана еще не является доказательством правды; некоторые лжецы вообще не допускают никаких промахов. Но и наличие признаков обмана еще не свидетельствует о лжи; некоторые люди чувствуют себя не в своей тарелке или виноватыми, даже когда говорят чистую правду. Но можно снизить опасность капкана Брокау, возникающую из-за индивидуальных различий в поведении, если строить свои суждения на основе изменений в поведении подозреваемого.
4. Внимательно поразмыслите, нет ли у вас каких-нибудь предубеждений в отношении подозреваемого, и если таковые имеются, то как они могут помешать вынесению правильного суждения. Не пытайтесь судить о том, лжет человек или нет, если охвачены ревностью или подверглись вспышке ослепления. Избегайте соблазна заподозрить ложь только потому, что у вас нет никаких других приемлемых объяснений этих же событий или поступков.
5. Никогда не забывайте о возможности того, что признак эмоции – это не признак обмана, а лишь показатель того, как человек реагирует на подозрение во лжи; ни в коем случае не привыкайте считать, что эмоции есть верный признак обмана, особенно если вы не очень хорошо осведомлены о характере подозреваемого, о его ожиданиях и незнакомы с ним.
6. Имейте в виду, что многие признаки обмана строятся не на одной, а на нескольких эмоциях, и всегда стоит хорошенько подумать, прежде чем выносить суждение, особенно если одна из этих эмоций говорит о том, что подозреваемый лжет, а другая – что говорит правду.
7. Поразмышляйте и о том, знает ли человек о подозрениях в свой адрес или нет, и не забывайте, что потери и приобретения будут неизбежны в обоих случаях.
8. Если вы располагаете информацией, которая может быть доступна только действительно виновному, попытайтесь применить тест на знания виновного.
9. Никогда не делайте окончательного вывода о том, лжет человек или нет, только на основании собственной интерпретации поведенческих признаков обмана. Они должны служить лишь предупреждением о том, что необходимы более подробная информация и более глубокое расследование. Поведенческие признаки, как и показания детектора лжи, никогда не могут быть абсолютными доказательствами сами по себе.
10. Используйте контрольные вопросы из табл. 4 («Полный список вопросов верификатора») приложения, чтобы оценить ложь, лжеца и самого себя как верификатора, а также вероятность вынесения правильного суждения или совершения ошибки {8} .
При виде его тетя Лида иногда начинала остро жалеть, что у нее нет детей. Были бы – воспитала бы их прямо противоположным образом: просто выяснила бы у его матери, как та своего воспитывала, – и делала все наоборот! Причем практически любой результат годился бы – лишь бы не повторял этого… этого – она называла его немцем, вкладывая в слово «немец» всю ненависть к пригревшей ее на груди нации. Выражение «пригревшая меня на груди нация» было ее собственным выражением: либо тетя Лида не догадывалась о том, кого обычно пригревают на груди, либо… либо гордилась тем, что – змея.
Нация, вообще говоря, пригрела не столько ее, ни малейшего отношения к нации не имевшую, сколько мужа, который на старости лет неожиданно для себя оказался вдруг в каком-то там колене поволжским немцем – и, стало быть, получил право вернуться на историческую родину, которую считал исключительно родиной фашизма, и возврат туда рассматривал как наказание, хоть и приложил все усилия к тому, чтобы вернуться. Одного его тетя Лида не отпускала – и, ах… начинавшая было зарождаться в нем мечта (надо сказать, довольно абстрактная мечта: о какой-нибудь Гретхен под конец жизни) так и не зародилась как следует. Тетя Лида, сперва наотрез отказывавшаяся ехать на его историческую родину («в самое логово», говорила она тогда), внезапно, после разговора с соседками, решила, что они правы: им с мужем и правда пора было «пожить как людям».
В Германии ее намерение пожить-как-люди натолкнулось на сопротивление местных – «за человека ее не считавших», жаловалась она соседкам в редкие свои приезды на отдых от Германии. Если бы считали за человека, разве посылали бы язык учить? Разве выпихивали бы на рынок рабочей силы – ее, «всю жизнь ишачившую»? Дома у нее давно бы уже пенсия была! А тут… горе одно.
Виноватым во всем она считала мужа: если это твоя родина-мать, то делай хоть что-нибудь… хоть язык-то знай, родину не позорь – иначе какая ж она тебе мать? Самой ей немецкий даже лучше, чем ему, давался – муж был в немецком вообще ни бум-бум! Ему говорят «брётхен», а он слышит «мэдхен»… ну, не дурак ли, прости Господи?
Что же касается этого вот, находящегося проездом в Берлине конкретного немца – «данного нам в ощущении», проявила ненужную наедине с собой эрудицию тетя Лида, – то как он был лупоглазым, так и остался… что бы под словом «лупоглазый» ни понимать. В свое время она, праведница, пыталась – по соседскому делу – матери его объяснить, что чокнутый ребенок-то у нее совсем, надо другого делать («пока возраст и пол», намекнула она), но соседка без головы оказалась, стала этого дальше воспитывать… ну и что же мы на сегодня имеем? Родина его выкормила, выучила, в люди вывела, а он за границу возьми и махни. Ладно, сама она, тетя Лида, хоть вынуждена была: мужу-το не одному ведь на чужбине мыкаться, а все-таки, считай, сорок лет, от звонка до звонка, вместе прожили, да и страна, хоть фашистская, а бенелюкс… – что бы оно ни означало, только Дания-то уж определенно не бенелюкс, Данию она за страну не считает, предлагай ей Данию задаром – и задаром не возьмет. Одни свиньи животноводческие да Андерсен! Лучше страны не нашлось для соседкиного сыночка… сказать прямо стыдно: Дания! И уехал когда – не тогда, когда все приличные люди уезжали, а когда уже и не уезжал никто, не модно стало, можно было и так куда хочешь, вон… кого ни возьми на улице – все то в Турции, а то и, забирай выше, в самих эмиратах!
Всегда она знала, что из немца толку не будет: сызмальства все в галстуке ходил отцовском, придуривался, язык ломал, потом целыми днями за домом в огороде все пел – до ночи напролет: осоле, значит, осоле мимо… чистое дело, малахольный, дальше хипповать начал, вся улица животики надорвала: джинсы, пальто длиннющее по грязи волочится, волосы до плеч – в разные стороны, усики мулявинские, очки (как они назывались-το… не то монализа, не то еще хуже), гитара… сумасшедший дом, в общем! И девки при нем вечно оторви да брось: на платформах все, намазанные, юбки короткие, срам… Соседка со стыда куда деваться не знала, муж вообще не то запил, не то загулял – понятно с таким сынком-то, ну вот… а потом, чтобы сына, значит, обелить, рассказывали, что он там диссертацию защитил на стороне, а какую диссертацию – на него посмотреть достаточно, чтобы сразу все сказать! Короче, потом, говорили, в Москву уехал с глаз долой, работал там кем-то, преподавал, что ли, а время настало деньги приличные зарабатывать, как все тогда делали, – он, значит, в кусты… в Данию, в смысле, где налог – половина зарплаты, вот обхохочешься-то! Ну, стал приезжать, матери с отцом подарки всякие привозить, конечно, да только уж поздно, раньше надо было привозить, когда не было нигде ничего, а теперь бери не хочу… так что подарками нынче никого не удивишь.
Тетя Лида пару раз заходила, когда он в гости приезжал… как был, так и остался: волосы длинные, небритый, одет черт-те во что, за спиной рюкзак – вылитый как у бомжа… одно слово – Дания, аграрная страна. Даже странно, что там королева… – чего ей там, типа, делать?
Поговорить, правда, как следует не удалось: о чем ни спросишь его – все улыбается, отвечает мало, как будто вопроса не знает, чем занимается – не поймешь… вроде, снова с иностранцами крутится, опять, значит, за старое, узнают ведь – выгонят даже и из Дании, хотя дело, конечно, его.
Вот… а теперь – здрааасьте, поездом через Берлин в Данию свою едет, встречайте-ваша-крыша! Ну, встретили: мужик – посмотреть не на что. Весь в черном одет, шарфик какой-то мятый вокруг шеи, черный тоже, до земли болтается, а сам – щетиной сивой зарос, на голове волосенки вздыблены, вида – никакого, в общем… на человека не похож, призрак ходячий, хоть и не признавайся… Но тут в груди-то как защемит, как заноет – бросилась к нему, обнимаю, целую, чисто мать родная, а сама плачу да плачу.
Ну, повели его с мужем поесть – из поезда же, голодный. На Курфюрстендамме колбасок франкфуртских взяли, пива хоть упейся, по рукаву его глажу, говорю: «Ешь» – а сама все глазами смотрю на него, насмотреться не могу. Так – не ест! Колбаски не ест, пиво не пьет, гарнира пощипал… картошечки-помфрит, листиков зелени, воды минеральной попил – и сыт. Птичка, в общем, Божия… Да все по сторонам, по сторонам смотрит – словно боится кого: понятно, страна-то, Германия, большая, он там, в Дании у себя, к такому не привык – небось, границу отовсюду видать!
Короче, поводили по Берлину, достопримечательности хоть показали, а то он в Берлине был, а Шпандау не видал, только вокруг ворот Бранденбургских, рассказывал, шлялся, а чего там делать, раньше, говорят, интересно было, когда стена была, но стены нету уже, так какой теперь-то смысл…
Поговорить толком опять не поговорили… мы ему про Германию начали, а он, оказывается, там у себя в Дании телевизор немецкий часто смотрит… своего, что ли, там нету, датского? – потом все про культуру берлинских кабаре рассказывал, советовал посетить какие-то, да нам-то уж поздно по таким злачным местам шататься, и ему, небось, поздно… а похоже, он, как в Берлин приедет, по кабакам только и ходит, да на выставки какие-то странные… спрашиваешь: изобразительных искусств? – а он улыбается и отвечает: почти… странный, как был странный – так и остался.
И друзья у него, шведы эти, занюханные какие-то: в кроссовках, жена вообще босая, с рюкзаками… словно не в город приехали, а по горным тропам ходить, дочку их жалко: Аста, смышленая девочка, всех животных наизусть знает, жалеет… как прилипла к нему, так и не отлипала, – обидно, что ко мне даже не подошла, мужа вообще испугалась, а так – чудесный ребенок, не просит ничего, воспитанный, я ей мороженое купила, софт-айс, а муж колечко стеклянное, очень благодарила – по-своему, значит, шведскому, хотя язык подозрительный: некоторые слова как немецкие, только завуалированные. Словно признаться не хотят, что немецкие, а чего ж не признаться-то, когда немецкие и есть, непонятно разве? Да и вообще вся эта Скандинавия… смешно просто. Ну и присоединились бы к Германии, тут у нас какая-никакая культура, Гете, Шиллер с Гейне, Бертольт Брехт – по всему миру гремят. И много нас в Германии, в одном Берлине людей столько, сколько во всей, небось, Швеции, так чего ж ей, Швеции, за ничтожество свое так уж держаться? И Дания такая же капелюшка… народу, правда, побольше, вроде. Она-то, дура, было дело, в Данию или хоть в Швецию еще из России съездить хотела – тайком от соседки, конечно: посмотреть, как у них там и что. Только потом – плюнула, когда выяснилось, что и тура-то в эту Данию нету, есть тур по всей Скандинавии, да еще с Финляндией вместе! Получается, Дании одной, самой по себе, и на тур отдельный не хватает, смотреть потому что нечего.
А он, немец-то, вон, тете Лиде какой подарок сделал – часики в эмалевом медальоне, так очаровательно тикают… добрый он, несчастный только, приехал бы как следует – хоть одели бы его во что-нибудь повеселее, чем черное, откормили бы… уму-разуму научили, чего ж он мотается-то все время, возвращался бы к матери, одна ведь живет, а он улыбается только: у нас, дескать, договоренность, что мама то будет делать, что ей нравится, только откуда ж он знает, что ей нравится, она разве ему скажет… вот, звонит только да интересуется: как да как. А как? Никак! Да уж теперь чего ж, за пятьдесят ему, не исправишь, раньше надо было. Один, оказывается, живет, ни детишек не наплодил, ничего… внучонка даже матери не наработал, э-эх, вот все говорят: дети, дети, а дети-то у всех и неудачные, так что уж точно: нет детей – и это не ребенок!
Тут тетя Лида волевым усилием прекратила все свои быстрые мысли, потому что муж ее вдруг захрапел, как… как пять мужей, покинула ложе и пошла на кухню: корвалола восемнадцать капель выпить, надо из России в другой раз побольше привезти, а то эти дикие немцы даже корвалола выпустить не могут… бенелюкс-страна, а чего ни хватишься – нету!
Утром такое противное настроение было – хоть не вставай. Но встала, конечно, не весь же день лежать мучиться. Муж-объелся-груш спал еще: совсем обленился на исторической-то родине! Прежде, в России когда, чем свет поднимался – неважно, на работу или так… то в земле ковыряться с утра начнет, то починит чего, собственный дом заботы требует, а тут – зачем, когда на всем готовом? Вот и спит до полудня, просыпается недовольный, сразу телевизор включать да программами щелкать, ни на одной даже не задержится: туда-сюда, туда-сюда… никаких нервов не хватит! Уж хоть бы что-нибудь выбрал да смотрел, как все порядочные люди, – так нет… Раньше, пока тарелку не поставили, красота была: вообще к телевизору не подходил, раздражало его, что там все по-немецки, а теперь – с утра до ночи у ящика, причем одна Россия, будто и не уезжали никуда. Ей же стоит только немецкую программу какую включить – для языка, между прочим! – и посмотреть минуты две, не больше, как он тут же орет, хоть и в другой комнате находится: «Выключай, выключай давай уже, сколько можно!»
Она вздохнула и пошла фрюштюк готовить: хоть благоверный и не скоро, конечно, проснется, намотался накануне, а расхолаживаться нельзя. Особенно после скандала… тем более такого, как вчера: всю дорогу ее пилил и дома еще потом, зачем она согласилась чужого человека по Берлину водить! Будто у нее согласия спрашивали… да и как по соседскому-то делу откажешься?
Она, между прочим, с Константинычем его почти месяц по магазинам шлялась, да еще и жил у них Константиныч… жил и перед соседями позорил. Как человека ведь сразу попросила: ты, значит, Константиныч, по-русски только дома говори, а выйдем куда – так молчи лучше, улыбайся и все. Как же, будет он молчать, Константиныч-то! Сосед, Вернер, мимо проходит, гутен таг говорит, а Константиныч ему – как прямо дебил какой: шпрехен зи дойч? Словно не понимает, что у Вернера дойч-то родной язык и есть! Так Вернер, зараза, усмехнется, скажет свое «айн бисхен шо-о-он», а потом совсем близко к Константинычу подойдет да нарочно такое на этом самом дойч загнет, что даже и ей непонятно, не то что Константинычу! И стоит Константиныч пень пнем, а ей – хоть прямо сквозь землю со стыда провались…
Значит, как Константиныча своего поить, кормить, содержать, обстирывать – так «Лидусь-Лидусь», а как интеллигентного человека два часа по культурным местам поводить – «чем ты думала, когда соглашалась!» Можно подумать, надорвался ее благоверный от познавательной прогулки – все равно целый день бы диван у телевизора задницей давил! Так хоть по городу прошлись… а то и не помню, когда выходили в последний раз. Скоро вообще забуду, что в самом Берлине живу.
Она делала фрюштюк и думала, что с мужем ей все-таки не повезло. Единственная радость – что он к концу жизни коренным немцем оказался… хоть понятно стало, зачем сорок лет с ним промаялась! Но на немца он, между прочим, мало похож: она теперь прекратила говорить, что за немцем замужем, а то у многих при виде его сразу рожи вытягиваются: это, дескать, и есть немец? Сначала поясняла как могла: немец, коренной немец, только поволжский, но потом совсем уже и Поволжье не поминала… русский у меня муж – и точка. Или вообще промолчит.
Но что самое странное – другие ей и с таким мужем завидуют: вон у Галки, хоть и самый настоящий Фриц, а хамло хамлом… да еще и бьет ее! Попробовал бы мой хоть палец на меня поднять – я б его на месте убила: вот что было бы в руке – тем бы и… орать – это пусть сколько хошь орет, ей без разницы, орать она и сама горазда, а тем более на людях он и не орет – вообще тише воды, ниже травы. Ой, Лидочка, до чего ж у Вас муж образцовый, никогда по его виду и не скажешь…
Да, вида у него точно никакого – это точно. Пока в России-то жили, ничего еще, там все такие, но она думала: вот приедем в Германию, облагорожу я его, бородку с усами отпустить заставлю, седые, потом сразу шляпы две-три купим, трость, костюм дорогой – и давай по Берлину променады совершать! Ничему, ничему сбыться не суждено оказалось: с усами и бородкой благоверный еще неказистее стал, вылитый старичок-лесовичок… плюгавенький, приземистый – какая там шляпа, какая трость… Или, вот, костюм дорогой! Влез в треники – и никуда из них. Будто браток какой… преклонного возраста! Ну и что, говорит, все кругом так… А если бы все в Шпрее топиться пошли?
Нет, с мужем не повезло, чего говорить. Даже не потому, что он сам по себе неудачный, – просто она, это мать ей с первого дня говорила, заслуживает лучшего. И посейчас, между прочим, заслуживает, да только нечего теперь об этом. Ей в зеркале, например, до сих пор себя приятно видеть: соблазнительная такая пампушечка, жгучая брюнетка (а что крашеная, так это ж на лбу у нее не написано!), все при всем, была бы мужик – влюбилась бы. Двумя языками опять же владеет, причем русским в совершенстве, а русский – это у нас язык международного общения, не чета какому-нибудь турецкому. Она, кстати, вчера Айше соседской, которая только по-турецки и лопочет, прямо по глазам сказала – долго готовилась, все словари облазила, чтобы самые такие выражения найти: «Ты, Айша, прекрати с детьми по-турецки разговаривать. По-турецки только в Турции говорят, а по-немецки и, кстати, по-русски – во всем мире». Русский она как бы к слову приплела, но пусть Айша знает, с кем дело имеет. Мы, представители крупных наций, в конечном счете, все дела в мире решаем, одер?
Она прекратила готовить фрюштюк… благоверный, вон, спит как бревно, а она тут с фрюштюком. Обойдется без фрюштюка – что есть, то есть, вон… завтрак пускай трескает: бутерброды с сыром да чай! Натрескается – в Альди его отправлю: там ангебот сегодня какой-то совсем особенный.
Так и поступила. Благоверный, кстати, и не заметил, что у него сегодня завтрак вместо фрюштюка (а она-то, дура, напрягайся каждое утро!), потому что Маврикиевну с Никитичной по второй смотрел, потом поворчал с полчаса, но в Альди пошел, он Альди любит почему-то – Лиддл, дурак, не любит, хоть все приличные там закупаются. Сама же к телефону села: в Тверь, соседке бывшей, по карточке позвонить, а то больно коротко вчера поговорили, утешить как следует не удалось…
Только уж сегодняшний-то разговор совсем дурацкий получился.
– Ты там не мучайся, – начала она запросто, по-европейски, – доедет твой парень в целости-сохранности, Европа невелика, это только из Союза она такой большой кажется.
– Лида? – словно и так непонятно переспросили на том конце. – Доброе утро…
– Да доброе, доброе… я, вот, звоню, чтобы, значит, и сказать: не мучайся, доедет твой парень.
– Нет-нет, я не мучаюсь, ты не волнуйся, пожалуйста.
– Как же не волноваться-то, когда я ночь не спала, корвалол пила да по квартире носилась, как подстреленная… все думала: «Маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – большие бедки».
– Ты это… к чему?
– К тому! К тому, что понимаю я тебя, как никто: всю жизнь в него вложить, себя забыть, а благодарности – никакой.
– Почему же – никакой… – на той стороне замялись. – Да и при чем тут благодарность, за что?
– Как – «за что»? За все хорошее, вот за что! За то, что родила, выкормила, вырастила, в люди вывела, вот за что!
– Ты бы не нервничала так, Лид… все ведь правда в порядке. Спасибо тебе, что встретила его в Берлине, очень я тебе обязана. А насчет «родила и выкормила» – так никто же, и он в том числе, меня об этом не просил. Потом, Лид, как ты это себе представляешь – родить, но не выкармливать? Жестоко чего-то… а? Ты не волнуйся только!
– А ты не успокаивай меня! Знаю же, не сладко тебе. Сидишь там, как сиротинушка. – И не хотела она распускаться, да всхлипнула… нервы никуда просто!
Вдруг на том конце засмеялись (причем довольно беспечно, с неприязнью заметила она).
– Чему ты веселишься-то?
– Так… тому и веселюсь, что все хорошо, Лид! Жизнь прекрасна… небо ясно, то есть, небо пасмурно – небо ясно, твер-буль-буль-буль-буль-буль-буль…
– И ничего хорошего! – не дослушав, крикнула она – видит Бог, против воли крикнула: наверное, чтобы бульканье это непонятное прервать. – Маленькие детки…
– Ты уже говорила про маленьких деток. Не повторяй, я запомнила.
– Прямо и не поймешь, как общаться с тобой! – начала сердиться она. – Я ведь по-хорошему, жалеючи… позвоню, думаю, все легче ей будет!
В трубке молчали. Потом сказали:
– Ты меня пожалела, Лида?
Ей не понравилось ударение на «меня»: обидное какое-то построение фразы получилось… – получилось, что зря она, вроде, пожалела и что как будто это не соседку бывшую, а ее саму пожалеть надо.
– И пожалела, чего ж… Или тебя жалеть нельзя? – спросила она, убежденная в том, что жалеть можно и нужно всякого и что ей-το самой уж точно предоставлено право всякого жалеть. – Живешь одна, в нецивилизованной стране, социальной инфраструктуры – никакой… Вот, решила утешить тебя.
– Спасибо, Лида. Уже и утешила. Гораздо легче стало.
– Минуточку! – не дала себя прервать она. – Я что сказать-то хочу… ты не думай, что другие – вот как я, например, – очень уж счастливые. Я, вот, тоже все утро хожу да жизнь перебираю, а жизни-то и нету никакой. Одно слово – Германия, а так, веришь ли, по Твери скучаю… тут услышала пословицу одну недавно, с немецкого мне перевели: старое дерево, говорят, на новую почву не пересаживают – ты понимаешь, что я в виду имею?
– Понимаю-понимаю, – горячо ответили оттуда .
– Я по карточке звоню, это недорого, – опять отчиталась она, – так что… можем как следует поговорить, я своего в Альди послала, а-а-а, ты же не знаешь ведь Альди, супермаркет такой знаменитый…
– Ну да, как Перекресток.
– Что за перекресток такой?
– Неважно, послала ты, значит, Ивана Августовича в Альди… – и?
– И… все, а сама думаю, думаю – ты только не беспокойся, я по карточке говорю, расскажи мне, как там на родине, как улица наша, как все…
– Улица хорошая, скоро уже зеленая будет опять, собак много стало бездомных – ну, мы их тут любим, кормим, так что они ручные и нас охраняют. Все замечательно с улицей… только фонари по ночам не горят опять.
– Так надо в энергоуправление электрику нашему позвонить, чего ждать-то? Позвонить и сказать: «До каких пор это безобразие продолжаться будет? Нам – что, из-за Вас всю жизнь в темноте сидеть?» Чего ж с ними церемониться-то? По глазам им прямо, по глазам!
– Да вот… это ведь уметь надо, – улыбнулись в трубке. – Я с электриком-то разговаривала, Веденеевым, только без толку. Когда ты тут жила, во всем порядок был, а уехала…
– Ой, благоверный мой пришел, я перезвоню…
И она хлопнула трубкой о корпус телефона – да так, что телефон взвизгнул.
Никакой благоверный не пришел вовсе.
Просто слабость души вдруг случилась – и слезы прямо в горло хлынули, человеческой возможности продолжать не стало, насилу про благоверного произнести успела. А слезы чего… так как же: вот, жила там – и порядок у них во всем был, фонари по ночам горели! Теперь же, без нее – мало того что страна нецивилизованная и социальной инфраструктуры никакой, так еще и в темноте, чисто кроты! И защитить некому, а с энергоуправлением говорить не умеют…
Ой, вся в слезах сижу, как дура, мой придет – стыдно… да чего ж стыдно-то? И не стыдно совсем! Жила в Твери, все меня любили, всем нужна была, фонари на улице горели, а тут, в бенелюксе этом… никому не нужна, никто не любит – и фонари, сволочи, сами горят, никакого участия не требуют!
Она вдруг увидела их всех, оставленных ею, – в шеренге по одному: неприкаянных, бедных, си-и-ирых… каждый вечер поднимающих глаза к верхушке столба: загорится сегодня фонарь? А вдруг – загорится?
И не то чтобы встала – сорвалась с места, бросилась к шкафу, дернула на себя второй ящик сверху… все на пол посыпалось. Ну и что, что она в другой стране живет? Хоть и в другой стране живет, а за них там в ответе, потому как некому больше! С этой ответственностью своей и на тот свет пойдет, аллее клар?
Она быстро листала старую, рассыпающуюся в руках записную книжку, точно зная, на какой странице номер телефона, карандашом химическим записанный… вот он! Слезы еще бежали по лицу, по шее, по груди, но она вмиг осушила все это дело махровым полотенцем и, гневно взглянув на себя в зеркало, сказала туда: «Не распускаться!»
Никто ж не поймет, что из-за границы звонят, а дорого – так по карточке ведь! Она еще покажет им всем: ишь, порядок забыли!
– Энергоуправление… или как вы там теперь называетесь? Галочка? А кто? Светлана, значит… ты, дочка, новенькая, небось? Три года? Зеленая совсем, значит. Председатель уличкома звонит, Любке Лидия Петровна… что значит «по какому вопросу»? Ты, сопля, с ветеранами войны и труда разговаривать научись! Веденеева давай мне! По личному вопросу – нечего мне тут с тобой разговоры разговаривать, Веденеева позвала мне, говорю!
Веденеев оказался с бабьим голосом.
– Веденеев, сынок, скажи мне, у тебя совесть-то есть? Уж которую неделю улица ночью обесточена, а ты спишь спокойно! Любке я… – да не «Любка», мать твою, а Любк-е: Любке у тебя одна на вокзале, ветеран войны и труда. Свет-то когда будет, сынок?.. Ой, что ж ты говоришь-то такое, на следующей неделе нельзя! Мы тут люди все возрастные, нам без света никак, нам и жить осталось день да полтора. Так что, Веденеев, сынок, ты давай-ка самое позднее завтра приходи и чини, а то я тебя деду сдам… Узнаешь, какому деду, когда сдам! Так во сколько придешь-το? Ну, смотри, сынок, чтоб так и был, в одиннадцать. А не будешь – сам знаешь… знаешь ведь?
Она уже диктовала название улицы.
Вот и все. Делов-то воз.
И ведь придет Веденеев завтра утром.
Проявился разъ в Москвѣбогатырь; никто на бою съ нимъ сладить не могъ; только одна казачка в лавочкѣ на торгу сидѣла (сердце у ней разгорѣлось) и говоритъ: «Я съ нимъ драться пойду!» Стали ее уговаривать: «Куда тебѣ» То, другое, нетъ – пойду да пойду. Говоритъ казачка богатырю: «Хочешь со мной дo разу биться?» «Пожалуй», говоритъ. Богатырь выпилъ в кабакѣ 18 шкаликовъ, а казачка – всего 7. Вышли. Закладъ былъ положенъ за богатыря двѣсти рублей, а казачка сама за себя положила: за нее никто не клалъ. Стали конaться кому первому быть. Выпало быть богатырю-бойцу. Вотъ онъ развернулся да как ударитъ – казачка посинѣла индо вся и упала; потомъ опамятовалась, пошла выпила 18 шкаликовъ, сняла с себя всю одёжу осталась только в одной рубашкѣ в коротенькихъ рукавчикахъ и говоритъ: «Ну, теперь стой! Я ударю!» Тотъ говоритъ: «Да я тебя с ногъ сшибъ, чего же биться-то?» «Еслибъ», говоритъ, – «ты меня убилъ, тогда такъ, а я еще жива». Ну, присудили съизнова имъ стать. Вотъ казачка развернулась да какъ ударитъ въ самый хрипъ (спина) московского богатыря – такъ индо сердце на кулакѣтакъ и вынесла! «Вотъ какъ», говоритъ, – «по-нашему-то бьют!» Богатырь и не дрогнулся. Всѣдиву дались откуда у казачки сила такая; а у ней мужъ былъ. «Не стану», говорит, – «я с такой жить. Какая ты баба? Ты меня убьешь, пожалуй!» Казачка и говоритъ: «Нетъ, я противъ тебя, моего закона, ничего не сдѣлаю, все от тебя перенесу». И зажили опять, а то было мужъ бросить ее хотѣлъ {9} .
Видно, совсем с катушек слетел этот Рольф… что бы он себе ни навоображал! С каких пор у нас Лаура – запретная тема? Наверное, уже никого в городе и не осталось, кто бы не знал, что Лаура его «последняя любовь», но ведь надо быть идиотом, чтобы думать, будто и он «последняя любовь» Лауры: ей двадцать пять лет! А ему за пятьдесят… ну и – пропорции-то надо как-нибудь соблюдать?
Тем более что уж за собой-то Гвидо вообще никакой вины не чувствовал (он, надо сказать, за собой вину крайне редко чувствовал – если чувствовал вообще). Был бар, было много коктейлей, было веселье… подумаешь, пошутил не очень удачно: дескать, у «последней любви» Рольфа, слава Богу, новая любовь намечается, – тоже мне, преступление!
Лаура и правда целый вечер на Штефане провисела, хорошо, в отсутствие Рольфа, но масса же свидетелей… Так и наказывал бы Рольф того, кто ему на Гвидо настучал, – не самого же Гвидо наказывать, они все-таки с детства знакомы, лучшими друзьями были! И потом, откуда вообще такая ранимость-то? Сто лет женатый человек, куча детей, внуки, при всем при том бегает от жены к любовнице и обратно, жена – тут даже не сомневайся – в курсе, просто глаза на все давно закрыла… ну и чего щепетильничать-то?
А поди ж ты, по телефону его узнавать не хочет.
Разговор обрывает.
Впрочем, маленькая одна странность – запоздалой такой птичкой: у Рольфа откуда-то вдруг акцент взялся – не очень отчетливый, но акцент… на старости-то лет. Голоса байернских предков, что ли… – так это если б акцент был байернский, а то ведь другой, не байернский вовсе! Да и какие там голоса предков ни с того, ни с сего: за полторы недели акцент не появляется, не виделись же они ровно полторы недели, коктейли и все такое в пятницу, сегодня – вторник.
Гвидо давно уже было жаль Рольфа.
Всем сотрудникам давно уже было жаль Рольфа.
И всем было жаль его за одно и то же: за то, за что, вообще говоря, не жалеют, чему завидуют: за «последнюю любовь». Рольф был единственным, кто не видел, не знал, не хотел видеть и знать правду: Лаура – красивая вещица, но не очень редкая и даже (извините, конечно) не очень дорогая… она не стоит «последней любви». Из-за таких теряешь голову, когда тебе двадцать, но не умирать же медленной смертью у всех на глазах в пятьдесят с лишним, ты пожилой человек, Рольфи… смешной пожилой человек. Знаешь, что это – конкретно – значит? А конкретно это вот что значит, Рольфи: тебе уже не бывать в двух местах одновременно, это только в юности умеют, когда время по-другому кроится и можно оказаться и там, и здесь – просто из удали!
Но нет в тебе удали, Рольфи, тебя постоянно нужно прикрывать кому-то, подстраховывать, ты вечно путаешься, всего боишься, ты никуда не успеваешь – ив результате, вместо того чтобы быть и там, и здесь, нет тебя ни там, ни здесь. Тебя надо спасать, Рольфи, и надо радоваться, что Лаура целый вечер провисела на Штефане… я правда ведь радовался. Потому и сказал «слава Богу» – абсолютно вот это вот и имея в виду.
А ты, значит, разговор обрываешь – на полуслове практически. Дурак ты, Рольфи!
Дурака этого Гвидо знал наизусть: иногда даже казалось, что лучше себя самого знал. Когда пятилетнего Гвидо спрашивали, кем он хочет стать, он отвечал: «Рольфом». Странно, что с годами желание это никуда не девалось – просто проходило разные стадии: от беззастенчивого подражания Рольфу в подростковом возрасте до осторожной оглядки на то, «что сказал бы Рольф», в дальнейшем, когда судьба разводила их. Впрочем, надолго не разводила: самый длинный период был в студенчестве, когда Рольф техническим черчением занимался, а Гвидо – во исполнение тайной Рольфовой мечты, осуществить которую Рольф себе не позволил, – художеством всяким, живописью. Встретились в одной архитектурной конторе, куда независимо друг от друга подали заявления, – приняли обоих: Рольфа чертежником, Гвидо – по интерьерам. Привет, Гвидо – привет, Рольфи… я так и знал – и я так и знал!
Теперь Гвидо – владелец первого их места работы, той самой конторы, превратившейся в неприлично богатую фирму, а Рольф все чертит, на зарплате сидит. Конечно, на хорошей зарплате – Гвидо плохой не допустит… Ни тот, ни другой не пишут больше, хотя, если верить самому Рольфу (Гвидо не верит), – Рольф только и делает что пишет: в последнее время – в основном бескрайние какие-то пастели.
Которых не существует.
Именно в этом видит проблему Гвидо. А вот Рольф не видит проблемы – ни в этом, ни в чем бы то ни было вообще. В том, что всем вокруг известны подробности двойной его жизни, например, – тоже не видит. Но это так – к слову, речь о живописи.
«Я теперь пишу картины в голове, – всякий раз объясняет ему Рольф. – Мне больше ничего для этого не надо… кроме головы, разумеется!» И – смеется.
Иногда Гвидо кажется, что Рольф потешается над ним, иногда – что Рольф на грани помешательства, а иногда… что уже за гранью. Впрочем, только когда говорит о своих картинах, – в том смысле, что не тогда, когда на работе: чертежник он и теперь безупречный. Самое странное – обожает чертить, вот уж на что Гвидо бы не разменивался, обладай он таким талантом живописца, как Рольф. В прошлом, конечно, все более и более далеком… пока Рольф не начал еще «писать в голове».
– Рассказать тебе мои картины?
Гвидо ненавидит этот вопрос. И всякий раз отказывается, не желая увеличивать компанию сумасшедших: один-де рассказывает о несуществующем, а другой несуществующим восхищается… или даже не восхищается – все равно. Так что Гвидо ничего не знает про пастели Рольфа… черт, глупое умозаключение: как можно что-то знать или ничего не знать о не имеющем признаков существования!
Бескрайние, видите ли, пастели…
Рольф всегда опережал Гвидо – на один шаг, а опережал. И не то чтобы Гвидо опаздывал… Гвидо не опаздывал никогда, хорошо зная, сколько еще минут до дедлайна, просто Рольф всегда делал этот свой шаг – в сторону, и там, в стороне, был счастлив. Причем получалось почему-то так, что единственный этот шаг в сторону зачеркивал все достижения Гвидо. Например, Гвидо мечталось, что он и Рольф станут совладельцами фирмы и будут, значит, рассматривать фирму как стоящее дело… гордиться ею, черт возьми! Тем более, есть чем гордиться: начинали как наемная рабочая сила, но вот – шагнули, и…
Шагнули!.. В разных направлениях шагнули: Гвидо – навстречу фирме, Рольф – как всегда в сторону. Но ладно бы в живопись ушел, а то – в роман с вертихвосткой этой, Лаурой. Ушел – и нет как нет! Казалось бы, всего-то навсего роман с вертихвосткой, ан – не видать больше Рольфа, словно в небеса поднялся. Все, все под откос пустить – ради девчонки, которая слова путного не стоит! «Смело, – сказала собственная жена Гвидо. – Смело и красиво!» Посмотрел бы Гвидо на ее реакцию, если бы не Рольф, а сам он, Гвидо, от жены к Лауре бегал, небось, не сказала бы «Смело и красиво!» – но с Рольфа взятки и всегда гладки были: то, что другим в вину вменялось, Рольфу зачитывалось как подвиг. А уж когда и Рольфова жена, все про Лауру знавшая, сказала Гвидо «Рольф сейчас в мастерской, он работает», – Гвидо чуть дара речи не лишился: какая мастерская, у Рольфа нет никакой мастерской! «Почему нет? – улыбнулся тогда Рольф. – У меня в голове мастерская». Может, и правда – в голове?
«Так высоко я не летаю, – в сердце своем глумился над Рольфом Гвидо. – Каждый из нас что-то создает, и это что-то можно увидеть, услышать, потрогать… вот, стало быть, смотрите: это – результат моего труда. А о результатах труда Рольфа узнают из его же уст: что существуют, дескать, пастели, множество бескрайних пастелей, которые…» – и тут Гвидо останавливался в своих мыслях, опять и опять давая себе слово, что никогда не позволит Рольфу рассказывать о пастелях, которых – нет.
Однажды Рольф процитировал Уайльда – насчет того, что самые страшные преступления совершаются в мозгу человека. «Там же рождаются и самые великие произведения искусства, – добавил он потом и, разведя руками, улыбнулся: – Там им и место».
«Если бы и фирма моя только у меня в голове существовала, – опять же в сердце своем парировал Гвидо, – мне не на что было бы кормить семью. И Рольфу не на что было бы – свою… хотя Рольф, конечно, мог бы просто устроиться чертежником куда угодно: везде бы, между прочим, с руками оторвали».
Вот оно – то, что было вечной тайной Рольфа, то, из-за чего Гвидо никогда не мог уследить за тем, в каком направлении Рольф сделает свой следующий шаг: не-за-ви-си-мость. Он, Гвидо, зависел от всего: от своей фирмы, от своей семьи, от своего сына и даже своего внука, чтоб его, от своих сотрудников, а прежде всего – от того же Рольфа, в то время как Рольф – Рольф был свободен. Не имел ничего, даже картин – выставку устроить, а свободен – был! Наверное, Гвидо понимал это, когда был ребенком, – не потому ли и хотел он стать «Рольфом»: Рольфом, которому просто с самого детства ничего было не надо, а самое обидное – что и Гвидо было Рольфу не надо, лучшего друга, каким приходился ему Гвидо, – не надо! Не потому, что Гвидо по каким-то причинам не устраивал Рольфа или Рольф хотел в друзья кого-то другого: он никого не хотел в друзья, в том числе и Гвидо. Вот что было непереносимо.
Иногда Гвидо казалось, что Рольф – чудовище, поскольку точно так же, как ему не нужен был Гвидо, не нужна ему была и собственная семья: жена, дети… любимые, стоит заметить, жена и дети, тут никаких сомнений! Даже и тогда любимые, когда в жизни Рольфа появилась Лаура, тоже любимая. Почему-то Рольфу одному – одному на весь город, на всю страну, на весь мир! – словно бы полагалось больше, чем любому другому. Может быть, как раз потому и полагалось, что – не требовалось?
Гвидо сам принимал на работу Лауру: просто не смог не выбрать именно ее из – это-то он помнил точно! – почти тридцати соискателей маленькой технической должности в процветающей, значит, архитектурной фирме. Вместе с Гвидо в комиссии сидели еще четверо сотрудников: Ханнелоре, Эвелин, Петер и Хорст, причем ни у кого – ни у кого! – не было сомнений, что принимать надо именно ее, Лауру, а чем взяла – неизвестно. Женщин с таким обаянием, ни на чем стоящем (ну не была она ни красивой, ни даже хотя бы соблазнительной), Гвидо никогда не встречал. На первый же, тривиальнейший, вопрос: «Почему Вы считаете, что мы должны принять на работу именно Вас?» – она с улыбкой ответила: «Да упаси Боже! Мое пребывание здесь не налагает на Вас никаких обязанностей»… – развязный довольно ответ, если вдуматься, но тогда не вдумался почему-то никто – тогда ответ этот показался ну таким смешным… ну таким милым! Потом, между прочим, выяснилось, что она не умеет ничего – по сравнению если не с тридцатью, то с двадцатью, по крайней мере, соискателями, которые явно умели… Ее надо было учить и учить, простейшим причем вещам, – правда, слава Богу, училась Лаура быстро, а кроме того… кроме того, Гвидо уже понял все про Рольфа, понял – и остолбенел: неужели решится? В пятьдесят с лишним лет? Рольф – решился. «Смело и красиво», – сказала, стало быть, жена Гвидо. И все вокруг приняли это как само собой разумеющееся. Гвидо тоже принял: чего не сделаешь ради друга!
По-хорошему, надо было давно побеседовать с Лаурой: оставила бы старика в покое. И момент удобный, вроде: если у нее со Штефаном завертится, то и… будет все как бы логично. Рольфу, понятное дело, несладко придется, но он же так и так должен отдавать себе отчет в том, что остатка его жизни Лауре маловато будет, что рано или поздно суждено прекратиться этой романтической истории под названием «связался черт с младенцем», а тогда уж… рано или поздно – какая разница!
Кстати, у Гвидо есть, наконец, и должностное право вмешаться во все это. Нет, он не то чтобы личную жизнь подчиненных контролировать собирается – спокойно, дорогой профсоюз, законы знаем! – он всего-то навсего и собирается, что обратить внимание Лауры на нездоровый климат в коллективе: ему, Гвидо, дескать, не нравится Рольф в роли посмешища. Тем более что и правда ведь не нравится!
Ради такого святого дела Лауре можно даже по личному телефону в нерабочее время позвонить.
– Здравствуйте, Лаура, это Гвидо… простите, что так неурочно звоню, и вопрос не из горящих, только, видимо, на работе нам с Вами об этом все равно не поговорить. Вот я и решил позвонить: есть у Вас несколько минут?
– Конечно, господин Шмидт, пожалуйста.
– Тема, вот, несколько щекотливая, правда… ничего?
– Для Вас щекотливая или для меня? – И вроде не иронизирует: просто как бы интересуется – чтобы, предположим, подготовиться.
Гвидо рассмеялся бархатно: он умел бархатно рассмеиваться.
– Да скорее для Вас, Лаура, я тут, видит Бог, ни при чем.
– То есть, – уточняет Лаура, – это как бы не Ваше дело?
А вот это уже выпад. Выпад, который надо парировать.
– Боюсь, что отчасти, к сожалению, мое… если Вы, конечно, не забыли, что я в некотором роде ответствен за фирму.
– Так мы на производственную тему говорить будем, господин Шмидт? Уф… у меня прямо камень с души упал.
И смеется в ответ. Причем смеется как дура… дурой, однако, не будучи.
– Считайте, что на производственную…
Пора все-таки положить конец этой болтовне, уже приобретающей признаки флирта. Ох ты, черт… надо было все-таки немножко подумать, что он ей будет говорить – и, главное, в каких выражениях.
А впрочем… была не была!
– Многих в коллективе, – административно-хозяйственно продолжил он, – беспокоит положение, в котором оказался Рольф. Я успел поговорить с несколькими сотрудниками…
– Могу я узнать, с какими? – очень и очень ловко использовала нечаянную паузу Лаура.
– Нет, – с удовольствием ответил Гвидо, – не можете. Так вот, сотрудники бьют тревогу. Секундочку! Вы позволите мне досказать то, что я начал? Спасибо. Они считают, что им на рабочем месте необязательно быть свидетелями Ваших… скажем так, неформальных отношений с Рольфом, а уж тем более – свидетелями Ваших с Рольфом проблем. Рольф не появлялся на работе полторы недели, сославшись на нездоровье, но я знаю, что он здоров.
– У Рольфа давление очень скачет. У здоровых не скачет.
– У всех скачет, – обобщил Гвидо. – Но не все отсутствуют на работе по полторы недели. Так вот, у меня есть основания подозревать, что причиной являетесь Вы.
– Причиной его невыхода на работу или причиной его давления? – корректно уточняет Лаура и, в общем-то, опять не дерзит, хотя опять кажется, что дерзит.
– Вопрос о давлении затронули Вы, а я говорил только о невыходе на работу. Мне бы не хотелось, чтобы из-за Вас у Рольфа пропало желание показываться на глаза коллегам. Вы знаете, что я очень ценю его.
– Знаю. И знаю, что Рольфа ценят все, в том числе и я. Но боюсь, что я не имею отношения к этой ситуации.
– А по-моему, имеете – причем самое прямое. Я не хочу вмешиваться в личную жизнь сотрудников, но, по моим сведениям, Вы ведете себя двусмысленно… имею в виду Ваш внезапный интерес к другому лицу, Вы лучше меня знаете, к кому. Разумеется, я не вправе давать Вам советы, касающиеся частной сферы, но, поскольку все происходит не за пределами фирмы, а на глазах у остальных сотрудников…
– Простите, господин Шмидт, Вы имеете в виду вечеринку? Вечеринка – не производственная ситуация. Кроме того, у меня впечатление, что Вы как-то уж очень сильно приблизились к моей личной территории…
– Перебью Вас, – воспользовался правом начальника Гвидо. – Я имею в виду не просто вечеринку, но корпоративную вечеринку, а это другое дело. Впрочем, в любом случае, чтобы, не дай Бог, по неосторожности не пересечь сейчас границу Вашей личной территории, я хотел бы… Да, заканчивая этот разговор, я просто хотел бы попросить Вас о совершенно невинной услуге производственного характера. Пожалуйста, сделайте так – и меня не интересует способ, которым Вы так сделаете, – чтобы о Вашем новом интересе Вы поставили Рольфа в известность сами, причем как можно скорее. Мне неприятно думать, что Рольф не выходит на работу из опасений услышать правду.
Ответа не было.
– Лаура? – переспросил он. – Думаю, что просьбой своей я не превысил моих полномочий?
– Да нет. – Голос вдруг очень мягкий, почти смущенный. – Все в порядке, и Вы правы. Хотя сомнительно, что Рольф действительно может чего-нибудь опасаться со стороны коллег… во-первых, они его действительно любят, а во-вторых, Рольф, видите ли, человек отчаянный и… и независимый. Но я о другом сейчас. Я о том, что… что, кажется, действительно неправильно себя веду. Я подумаю над Вашими словами, господин Шмидт. Я подумаю и… и придумаю что-нибудь. Но, поверьте, тут все совсем не так просто. Я не стала бы говорить этого Вам – Вам как директору, но я знаю, как много для Вас значит Рольф… он много значит и для меня…
– Тут мы остановимся, – тоже насколько мог мягко сказал Гвидо. – Сколько для меня значит Рольф – выходит за рамки данного разговора. Спасибо, что выслушали. Надеюсь, Вы понимаете, что это был конфиденциальный диалог. До встречи.
Еще не хватало выступать в функции духовника – тем более ее духовника… этой, опять же повторит он, вертихвостки, до прихода которой все было в порядке. А теперь вот Рольф и узнавать его по телефону не хочет! Гвидо же только и надо было, что спросить Рольфа о том, когда его ждать на работу… – больше ничего. И Гвидо, в конце концов, имеет на это право, причем не только как друг, но и как начальник, если уж переходить в эту плоскость. И если уж оставаться в этой плоскости, то более чем допустимо ожидать, что Рольф обязан, по крайней мере, выслушать его, когда он звонит! В то время как Гвидо не обязан искать подходов к сотрудникам и учитывать их личные проблемы. У него самого личных проблем хоть отбавляй.
Эх-хе-хе… причем сразу все его проблемы происходят из одного и того же источника, и источник этот – внук, Харри. Тот самый внук, который никогда прежде не требовал никакого внимания, но вот уже целый год не давал забыть о себе ни на минуту.
Гермес – бог путешественников.
Из этого легко можно было бы заключить, что он общий бог: разве не все мы путешествуем из колыбели в могилу?
Да нет, не все. Большинство пребывает в покое. Посадили их в горшок – и не дергаются: тут и живут свою «жизнь».
Кто в глиняном горшке живет, кто – в фарфоровом, но все тихо живут: не вышибая дна, не вонзая корней в древесину подоконника. Изредка качнутся туда-сюда, но при взгляде сверху качание это – только тщетная попытка снова вернуться в состояние покоя.
Так кучеру, правящему дрожками, случается заметить в придорожной канаве золотую брошь: он не знает, что делать с ней, и цепляет к сбруе своей клячи.
Вот и они, как та кляча, бездумно несут на себе судьбу мирозданья.
Они похожи на идиотов, считающих, что путешествовать – значит видеть мир своими глазами, в то время как путешествовать – значит дать миру увидеть… себя. Они похожи на тех, для кого покорить Эверест – значит устроить закусочную на его вершине.
Мимо их окон – сопровождаемый веселыми криками детей – проходит мир: со всеми своими слонами, со всеми своими огнедышащими драконами, но они, дожидаясь, пока в чайнике закипит вода, лишь изредка бросают рассеянный взгляд в окно.
А он – тот, кто говорит: пойдем! Его путь ведет в подземный мир, и он есть смерть твоей «жизни». От него предостерегают священники и правители. Он соблазнитель, он вор, но те, кого он обокрал, становятся богаче, чем были прежде. Его называют Логосом, называют Красноречивым, но кроме того – Диактором и Провозвестником.
Его слова слаще вина и горше смерти, но провозглашает Он волю богов. Он бегун, он поймает любого, но никому не поймать Его. Его шевелюра и борода настолько густы, что птицы могут вить в них гнезда, где-то там смеется рот и сверкают глаза, в которых отражаются его странствия.
Его сандалии крылаты, его посох увит змеями.
Он любил Афродиту, Персефону, Гекату, он любил и многих смертных женщин. У него шесть тысяч детей, которые будут править миром, когда вернется Золотой век {10} .
В голове уже несколько минут вертится «La signora Fortuna»… итальянская птичка, залетевшая из школьного прошлого.
Робертино Лоретти он долго пробыл. И в приличном уже, между прочим, возрасте: в четвертый класс ходил и в пятый. А сам Робертино Лоретти почти отгремел… отзвенел тогда. Пластинки-то еще крутили, да уже оплакивая хрустальный его голос: сломался, говорили – от жестокой капиталистической эксплуатации сломался.
И не было в мире больше Робертино – и никого взамен не было. Он не то чтобы решил стать взамен, а просто… как же теперь, совсем без Робертино?
У соседей Булановых большая пластинка была, у него же – только маленькая, четыре песни всего, и он четыре эти песни уже со слуха по-итальянски (казалось ему) в тетрадь записал и пел с утра до ночи. Потом попросился к Булановым – и там у них еще девятью песнями обзавелся, некоторые – «Аве Мария», например, – очень трудные были. Он Булановым всю пластинку исцарапал, потому что останавливал после каждой строчки и записывал эту строчку в тетрадь, а дальше на то же место иглой попасть старался, чтобы следующую, значит, строку записать – и так продолжалось неделю… Потом тишайшие Булановы взревели и сказали, что хватит, но он закончил уже – и отныне выходил в сад и пел девять песен Робертино в том порядке, как они на пластинке Булановых были, потом еще четыре – с маленькой пластинки. И казалось ему, что здорово получается… что вот-вот уже скоро датчанин Вольмер-Сёренсен, проходя случайно мимо их дома, должен услышать знакомые песни, постучать в ворота и попросить его начать записываться.
Но не шел почему-то Вольмер-Сёренсен, странное дело. Если бы шел – не мог бы не услышать, как он в саду на весь привокзальный район «О мое солнце» распевает… и другое всякое: «Вернись в Сорренто», «Душу и сердце», «Уточку и мак», даже «Аве Марию», хоть она и трудная…
Мама, не сомневавшаяся в том, что петь – обязательно, спросила, обязательно ли петь так громко… соседи, сказала, жалуются, но он объяснил ей: тише – никак нельзя, поскольку и так надежда на то, что Вольмер-Сёренсен по их улице проходить будет, маленькая, а если Вольмер-Сёренсен еще и не услышит его голоса, тогда вообще все пропало. Мама, вроде, поняла.
Он выходил петь как на работу: вернется из школы, быстро поест чего-нибудь – и сразу петь, в сад. Иногда и дома пел, если погода совсем плохая, но тогда он форточку открывал, чтобы слышно было. А сколько пел… да часов пять каждый день, пока родители не придут: с двух, значит, до семи. Причем без остановки: споет одну песню – и сразу другую. А когда все тринадцать споет, начинает снова – с первой.
Ему не то чтобы казалось, что он Робертино… – ему казалось, что он как Робертино. И что пришло время. Единственная вещь, его беспокоившая, были слова по-итальянски: ему не верилось, что он их точно записал… торопился – боялся, как бы пластинку не отняли. Не зря, получилось, боялся: отняли.
Но однажды, когда по радио опять Робертино запустили, «Маму», к Восьмому марта, он услышал, что слова не очень похожи на те, которые он записал… И это его, значит, беспокоило: слова итальянские должны правильные быть, а то перед датчанином Вольмером-Сёренсеном стыдно. Но большую пластинку Робертино не достать было, так что – делать нечего, приходилось петь неправильно… по крайней мере, девять песен, слава Богу, что не все тринадцать (четыре-то, с собственной пластинки, он не торопясь записывал).
Часто, когда он пел, приходил соседский дедушка Буланов – спросить, не устал ли он еще, и он отвечал, что не устал и что сколько угодно так петь может. Дедушка Буланов вздыхал и уходил, а он продолжал петь.
Его начали дразнить: кто-то из одноклассников узнал о концертах в саду, позвал других… вставали у ворот, слушали, хихикали. Потом хихикать перестали: вдруг стало страшно… сколько же он еще так будет? Каждый ведь день… с ума, что ли, правда сошел? Стоит и орет в огороде. Именно в таком виде – «орет» – и доходили до него отчеты о его пении: стоит, значит, и орет. Почему сразу «орет», это же песни!
Когда все открылось, он решил, что терять больше нечего: надо выйти на улицу и петь, и не просто на свою улицу – там без шансов… надо в город, в центр. Стать на углу Советской и… странно, теперь он не помнил названия улицы, пересекавшей Советскую, – стать и запеть, он так решил. А дальше – будь что будет, не Вольмер-Сёренсен, так другой кто… безразлично, лишь бы услышали и обмерли, все ведь просто делается!
Он стал на углу Советской и – не смог запеть: мимо ходили люди, ехали трамваи, машины… все было серьезно, по-настоящему, большой взрослый мир, как запоешь? Так вот прямо – ни с того, ни сего: суль маре люччика лястро дордженте пьяче да ленда просперельвенте вените лелибе баркетта миа санта лючия санта лючия о дольче наполи о соль беато о ве соридоре воллеиль креато ту сей лимперо делармония санта лючия санта лючия?
И он испугался… даже весь взмок. Одно дело – в саду, за забором, немножко для себя, немножко для соседей, немножко на-кого-бог-пошлет (была такая игра в самом раннем детстве: набрать пригоршню песку и подбросить высоко вверх – на кого Бог пошлет!), и совсем другое – тут… все сразу станут смотреть, начнут шарахаться или, наоборот, близко подходить, спрашивать: мальчик, ты что? А он же ответить не может, ему петь надо, как тогда? И придет милиция, запретит петь… ты не поешь, ты орешь.
В общем, постоял сколько-то и домой, пешком, через весь город. Пару раз, правда, еще приходил – надеялся, что сможет, но не смог. А потом зима началась – и он однажды, когда замерз, в здание местного клуба зашел, греться. Клуб «Октябрь», значит… он и посейчас есть.
В клубе был огромный вестибюль с очень высоким потолком – и ни души.
Во всяком случае, здесь, в вестибюле, ни души.
И тогда он запел «О соле мио»… сначала так, совсем для себя, тихонько, а потом уже – на полную мощность. Он спел все тринадцать песен – и никто не пришел. Правда, на девятой песне просеменила от входной двери к лестнице на второй этаж резвая бабуля какая-то, бросила на него взгляд, сказала: поешь? ну пой – и исчезла на втором этаже.
А голос здесь совсем по-другому звучал, чем в саду, прямо как на пластинке звучал, отдаваясь под потолком. Очень по-настоящему получалось, как надо. Ему даже не верилось, что это его голос… чистый такой, звонкий. Начинало казаться, что он Робертино теперь и есть. Как раз тогда он и вписал в метрику «Роберт», подумав, что, если «Робертино» впишет, то выдаст себя.
Через несколько дней сверху, со второго этажа, вышел на его пение какой-то дядя – и сердце прямо упало: Вольмер-Сёренсен. Он сделал вид, что дядю не видит… продолжал петь. Дядя постоял минуты три, а потом, когда все-таки глаза поднять пришлось, дядя сказал дружелюбно:
– Так это ты сюда петь приходишь? А то мы все думаем, кто ж там у нас внизу поет…
И ушел. И ничего не сказал больше. И турне не предложил. И не спросил, как его зовут, не то бы он сказал: «Робертино».
А еще через некоторое время вышла пожилая и очень приятная на вид женщина, не спеша спустилась к нему вниз по лестнице, взяла его за руку и повела к двери. На улицу вывела и сказала: ты, мальчик, тут лучше пой, перед клубом, больше народу услышит. И, оставив его на ступеньках, ушла за дверь – и ключ в двери повернула, было слышно.
На улице он петь, конечно, не смог, хоть в этот раз и попробовал: глаза закрыл, чтобы никого не видеть, и спел три слова: «Кэ белла коза…», но дальше не пошло.
Он возвращался домой и плакал. Не от обиды, нет – от разочарования… от разочарования в себе: что не мог на улице петь. Никакой, значит, он не Робертино: Робертино – мог! Мог и пел на улице, никого не стесняясь, и поэтому Робертино был послан Вольмер-Сёренсен. А ему Вольмер-Сёренсен послан не будет никогда: тем, кто стесняется, вольмеров-сёренсенов не посылают.
Позже он пел в хоре, в том же клубе… песню «Солнечный круг». Даже запевалой был, на эгоистически заканчивавшемся припеве: «Пусть всегда буду я».
Это потом, когда все уже пропало навсегда.
Ля синьора Форту-уна-а-а…
Каким-то чудом попав в тональность, позвонил разволнованный Торульф:
– Я подозреваю, что ты пишешь. Что ты не только едешь, но и пишешь. Ты пишешь?
– В данный момент – пою. Но и пишу – тоже. Всегда.
– Петь – это пожалуйста, пой, но вот писанину останови немедленно.
– Торульф, ты же знаешь, что я не могу «остановить писанину»! А потом – поздно уже… я ведь прямо в хельсинском поезде и начал – конечно, не зная еще тогда, как и что.
– Ты в голове пишешь – или… в компьютере, или на бумаге?
– Какая разница, Торульф? Говорю ведь, поздно уже.
– Не поздно, я потому и звоню – остановить!
– Да не остановить уже ничего…
– Ей-богу, какой ты… вот просто совсем без понятия, примитивной же философией-то пользуешься, для наивных-пренаивных людей: а-ты-начни-писать-и-все-пройдет! Ничего не пройдет, тут опасность – смертельная, тебе ли не понимать, говорили ведь с тобой про все такое…
– Не шуми, Торульф, мы не про все такое, мы про другое все говорили, а я – я выдумываю, не летопись событий тут у меня, понимаешь? Ничего этого не было никогда, вранье одно – просто умелое такое вранье… с большим количеством живописных деталей.
– Никакое слово не вранье. Всякое слово – правда, так что заклинаю тебя…
Но – рухнула опять связь… да что ж это у них на пароме со связью-το все время!
Он еще немножко повключал-повыключал телефон – никаких перемен… Telia Danmark словно приказала долго жить.
Старый уже Торульф… совсем уже старый. Из сходящего на нет наивного поколения – их в этом поколении от постмодернистского скепсиса тошнит. Человек прошлого, человек эпохи той правды, которая не дискурсивная конструкция, а… правда-и-ничего-кроме-правды – и за нее жизни не жаль. В то время как за дискурсивную конструкцию – жаль, вот в чем разница, значит.
А сам он? Несмотря на то, что он считал себя человеком настоящего и поборником правды как дискурсивной конструкции, то есть правды обстоятельств, или, если хотите, многих правд, а потому – вруном, он больше всего на свете любил стариков, в сердце своем признавая: без стариков не было бы в этом мире никакой правды, изоврались бы мы все тут на корню. Ибо лживы юность и зрелость: всё тщатся, всё строят из себя не пойми что, у мамы выражение хорошее есть: чего-ты-из-себя-вырабатываешь? – так вот… тщатся, строят, вырабатывают, пестуют свое «я», а чиста только старость, ну и самое раннее детство – когда уже ничего или еще ничего не надо… слишком поздно, слишком рано, старость и детство не знают «я», потому и не врут. Врут ведь только от первого лица.
Тревожно было следить за песком в этих песочных часах: чем спокойнее становилась мама, тем больше беспокоился Торульф – и когда он все-таки доедет туда, куда едет, мама успокоится совсем, а Торульф… но тогда уже не перевернуть будет песочных часов, тяжелые станут, слишком много песка вниз просыпется. С часами песочными ведь что самое главное: их надо не забывать то и дело перевертывать, дашь какому-то количеству песка внизу собраться – тут и перевертывай часы… короче, следили бы за песочными часами, не давали бы песку в одной чаше собраться – такая бы жизнь была, загляденье! Но мы всегда забываем про песочные часы…
Сходил в каюту, посмотрел на соседей… м-да. Что-такое-не-везет-и-как-с-ним-бороться: трое молодых людей, лет по двадцать-двадцать пять, купили пива, врубили музыку, национальность не разберешь, все по-английски говорят… Поперекладывал что-то в чемодане, сказал, что идет на Promenade, там концерт, да-да, мы в курсе, мы тоже придем – в общем, слава Богу, ускользнул… похоже, что каютой-то нельзя пользоваться: пива еще много, английских слов тоже… спать, короче, здесь нельзя – пока, во всяком случае!
В конце коридора некая очень пьяная девица перегородила узенький проход своим телом: голова одну стену подпирает, ноги – другую, по телефону что-то громко рассказывает, по-французски, – работают, значит, телефоны? Посмотрел на свой – оператор не светится…
– Pardonnez-moi s’il vous plaît…
Повторил дважды, девица не шелохнулась, переступил через нее, словно через валик, – и вперед, на Promenade! А там веселье вовсю, цирк-под-сводами… Заказал себе какой-то коктейль, ткнув пальцем куда попало в рубрике меню «Коктейли со спиртным», принесли нечто зеленое, на вкус оказалось ничего, вдруг захотелось есть – попросил принести «сырную симфонию»… тут всё симфония, и сам паром «Симфония» называется. Только отрезал кусочек сыра, как услышал над собой:
– Говорил ведь: ешь как следует, проголодаешься!
Свен-очей-его. Уселся тут же, заказал пива.
Милая пара за соседним столиком, услышав, что рядом общаются не по-русски, продолжила по-русски.
– …и я тогда ему говорю: похожи Вы тут на себя или нет – это не Вам определять! Представляшь, такое говорю? Он – чуть не под потолок: как «не мне определять», когда это мое лицо! А я ему: Вы своего лица не знаете, похожи Вы или нет – это надо спрашивать у тех, кто Вас любит, вот пригласите в мастерскую кого-нибудь – и спросите… Он мне: да я Вам заплачу еще столько же, просто перерисуйте и все, а я, ты ведь знаешь, не могу слышать этого слова, «рисовать», не говоря уже о «перерисовать», тем более со всеми этими «да я заплачу»… – уперлась и баста: ни денег, говорю, не отдам, ни портрета не отдам, пока с кем-нибудь не придете. Понравится ей или ему – берите портрет, не понравится – деньги Вам верну. И тут он весь такой жалкий сделался, маленький… у меня нету, говорит, никого, кто меня любит, родители умерли, говорит, а девушка… ну нету у меня девушки. И – за плечо меня приобнимать: Вы-то, дескать, чего сегодня вечером делаете? Представляешь!
Спутник говорившей, фактурный дядька в хорошей бороде, качал головой, но не смеялся. Сказал только:
– Допрыгалась, значит… – и потом все-таки хохотнул пару раз: одиноким таким филином.
– А то!.. Я тут сразу на попятную: нет, говорю, так дело не пойдет, рисовать Вас я готова, а любить – извините, не могу, другому-отдана-и-буду-век-ему-верна… – Она прыснула, выдержала паузу. – И тут он мне говорит: «Что-то знакомое… читал» – представляешь? В общем, пришлось второй портрет писать соглашаться, за вторые деньги… во как!
– Узнал он себя на втором-то?
– Угу… сказал: ну вот, теперь это точно я. И девочку с собой привел – молодую совсем, та тоже посмотрела и говорит: как две капли воды. Но ты бы видел тот портрет: хоть бы одна черта общая!
– Не любит его девочка-то, – вздохнул бородач, – жалко…
– Houssein, Houssein, come here! – возопил вдруг Свен, словно увидел лучшего друга.
Держа подмышкой ноутбук, к ним приближался сосед по хельсинскому поезду.
Пришлось хлопнуть коктейль залпом.Лютт Маттэн, Заяц, для собственного удовольствия
решил начать учиться, чтобы овладеть искусством танца,
вот и танцевал – совершенно один, на задних лапках.
Кэйм Райнеке, Лис, подумал: «Неплохая еда!» —
и воскликнул: «Лютг Матгэн? Такой талантливый танцор?
И танцует совершенно один? И на задних лапках?
Ну-ка, давай потанцуем вместе! Я могу за даму!
А Ворон пусть играет на скрипочке, будет славно,
Ах, как все у нас будет здорово на задних лапках!»
Лютт Маттэн протянул переднюю лапку;
Лис загрыз его и уселся в тенечке поедать Лютт Маттэна.
И Вороне тоже досталась одна из задних лапок. {11}
А если бы не мобильный телефон?
Если бы не мобильный телефон, ему вот в данный момент не о чем было бы писать – в голове ли, в компьютере ли, на бумаге – какая разница… то, что у других людей называлось думать, работать, отдыхать, есть, пить, гулять, у него называлось – писать. Слово это имело предельно общее значение… да нет, пожалуй, ничего уже больше не означало и прежде всего не означало создания того или иного текста. В нем просто без конца происходило роение слов – как пчел над ульем, когда взгляду извне непонятно, чего они все тут крутятся и жужжат, в то время как в реальности каждая пчела при деле. Вот такое вот… бесполезно-полезное роение слов. Когда он прочитал, что дон Хуан называл это внутренним диалогом и что единственно правильным поведением по отношению к внутреннему диалогу было бы остановить его, то даже испугался, поняв: свой внутренний диалог ему не остановить никогда. Если же внутренний диалог вдруг остановится независимо от него… – в тот день, когда это случится, и сам он умрет. Тут опять как с пчелами: в тот день, когда прекратится жужжание над ульем, улей перестанет быть…
Впрочем, едва ли это внутренний диалог, это даже и не внутренний монолог, поскольку ни носителей, ни носителя слов не существует, – существуют только сами слова, по собственной воле взаимодействующие между собой и никому не подконтрольные. Как раз поэтому их и нельзя остановить. Попробуй останови пчел – искусают до смерти.
Мобильный телефон, придя в его жизнь, начал угрожать именно роению слов: звонок, настигавший адресата вне зависимости от того, где он находился, вторгался в роение, сбивая пчел с ритма… пчелы в недоумении зависали над ульем и, повисев секунду, гроздьями падали куда пришлось. Тогда он раз и навсегда отключил звонок и включил вибрацию: как только это было сделано, мобильный телефон стал просто еще одной пчелой, жужжание которой влилось в общий хор – иногда диссонируя, но, в целом, не слишком мешая. Он часто даже не слышал эту новую пчелу. И – ничего, жизнь шла себе по-прежнему: как десять-двенадцать лет назад, когда человеческое живое существо даже представить себе не могло, что способно вынести коммуникацию практически в любом объеме.
В конце концов мобильный телефон решил, что себе дороже, и принялся жить как мог – не столько жизнью владельца, сколько своей самостоятельной, просто рядом с ним: вне зависимости от владельца без конца принимались и отправлялись какие-то сигналы, запоминалась и сортировалась информация, выстраиваясь в столбики, раскладываясь по папкам и помечаясь всевозможными хитрыми значками. Впрочем, делая всю эту обременительную и неблагодарную работу, мобильный телефон постоянно находился в полном его распоряжении – готовый к любым услугам. Выполнять функции фотоаппарата, диктофона, будильника, записной книжки, спасать его от нежелательных собеседников (простите-мне-звонят-телефон-вибрирует), даже поддерживать его вранье, ни одним посторонним звуком не выдавая подлинного местоположения владельца: сказано, что в лесу, – в трубке птицы поют, сказано, что в городе, – машины гудят. Врать в таких условиях было сплошным удовольствием. Ты-из-дома-звонишь? – Конечно-откуда-ж-еще!.. Милые мои, наивные мои собеседники, верьте всему, верьте и знайте: я там, где вы хотите. Просто скажите, где мне быть, – там и буду, пожалуйста-без-паники.
Однако жизнь на пароме шла почти как в домобильные времена: Telia постоянно тонула в морских волнах, связи с материком не было, а если ему или к нему удавалось прорваться, то ненадолго. Писать становилось не о чем: вместе с мобильным телефоном отказывал и мир. Правда, изредка телефон начинал вдруг вибрировать на своем шнурке, но отвечать казалось бессмысленным: ни один разговор все равно не мог состояться как следует. Хотя… в этом было даже некое преимущество – например, вот и только что, когда позвонила Кит. Она обычно не тратила времени ни на приветствия, ни на прочую чепуху:
– Пишешь?
– Пишу.
– О чем сейчас?
– Сейчас о тебе.
– Так… стоп-стоп-стоп, немедленно прекращай обо мне, я не хочу быть героиней твоих романов, ты же обещал!
– Этот роман не может состояться без тебя.
– Любой роман может состояться без меня!
– Видишь ли, это даже не роман, Кит…
– Ах, – беспечно перебила она его, – у тебя всё роман. Дело ведь в чем…
На этом Telia, к вящей его радости, снова потонула в морских водах, не дав узнать, в чем же дело. Он улыбнулся: а вот интересно, договорились они с Кит до чего-нибудь или нет.
Кстати, Кит можно понять: он действительно обещал, что ее никогда не окажется в его писанине. Есть люди, говорила она, которым хочется там оказаться, – пусть, а мне не хочется и не захочется никогда, обещай мне, что так и будет.
– Так и будет, – сказал он.
Но Кит уже поселилась в романе – непонятно было, правда, останется ли она здесь… при таком-то сопротивлении.
«А если ты не начнешь искать меня еще лет тридцать?» – спросил он, помнится, Манон, и Манон ответила: «Тогда мы увидимся в каком-нибудь твоем романе, обещай мне, что так и будет!»
– Так и будет, – сказал он.
С Манон в этом романе они пока не увиделись. И было непонятно, увидятся ли.
Впрочем, конечно же, все будет не так, а так, как получится, не сердись, Кит, не сердись, Манон, это не он обещал, а один-другой-мальчик-на-него-похожий. Данный же мальчик («мальчик»!) не отвечает тут ни за что – за себя даже и то не отвечает. За него отвечают все кому не лень – и не похоже, чтобы кому-то было лень! Данный мальчик постыдно размножается тут… – размножается что твой кролик, да и нету уже, в сущности, никакого данного мальчика: данных мальчиков теперь много, мальчик на мальчике и мальчиком погоняет! Причем все похожи друг на друга, как две капли воды… Кьеркегора на них нет. Он-το уж мог бы объяснить, что всякое подобие – обман, что не существует на свете двух одинаковых людей, что каждый из нас уникален… или, на худой конец, что внешнее сходство еще ничего не означает.
Впрочем, не подтверждает действительность этой почтенной точки зрения: вот хоть и его собственная уникальность растиражирована – причем не только им самим, но и другими всеми… всеми, стало быть, кому не лень. И на данный момент он существует как минимум в трех предъявлениях: он для себя и пятерых самых-близких, он для мамы и он для тети Лиды-с-мужем, а также Ансельма, Нины и Асты. Тут пришлось усмехнуться: в трех предъявлениях… – как в трех ипостасях! Известен только один подобный случай – и то непостижимый. Эко его… повело-то.
Он вспомнил Александру Давид-Неэль – автора когда-то на всю жизнь полонившей его книги… кажется, «Мистики и маги Тибета» или что-то вроде. Там сплошь были подобные вещи: хитроумные ламы постоянно рассылали своих двойников во всех направлениях – и никаких проблем! Даже и автору книги, скромной исследовательнице Тибета, как-то удалось создать около себя ставшего впоследствии неприятным ей тучного ламу… фактически из ничего.
У самого-то у него были (по крайней мере, тогда) буквы – какая-никакая физическая субстанция: пишешь? – пишу.
Непонятно осталось не только то, как это все делалось незабвенной Александрой Давид-Неэль, но и то, верить ли незабвенной Александре Давид-Неэль или считать ее дамой не в себе… Второго не хотелось бы – да, по совести сказать, и получалось не очень, больно уж буднично она обо всем сообщала: собралась как-то, да и создала тучного ламу – сначала не вполне видимого, но потом даже слишком хорошо видимого… создала, значит, а он обнаглел, пришлось рассеять. В общем, оставалось только верить – еще и потому, что дело в Тибете происходило: всему, что происходит в Тибете, верится легко, регион такой, одни загадки, разгадок никаких, но и не требуется разгадок.
Вот и у загадки его троичности – пока троичности – разгадки нет, нет и быть не может. И не было разгадки у интереса Марины к социологии и смешанным бракам. И не было разгадки у отъезда Алексея Петровича Мезенцева в Бельгию. И не было разгадки у периодически окружающего его теперь кольца черносливового дыма… – впрочем, с этим-то мы сейчас разберемся.
Он спустился с Promenade на этаж ниже и вошел в супермаркет. Табачные изделия находились прямо справа – беспошлинно, как и обещал свен-очей-его. Значит, табак с запахом чернослива. Едва ли тут есть эксперты, знающие сорта трубочного табака, – обычного продавца, и то не видно! Впрочем, и выбор трубочных Табаков невелик… Посадив на нос непригодные для этих – и никаких других – целей очки, он начал вглядываться в крохотные буквы на обратной стороне жестянок – с ума они все посходили, это даже не шестой кегль, а четвертый-пятый, небось… Буквы прыгали перед глазами – словно не физическая субстанция, словно мираж! Хотя ведь, вроде бы, и мираж – физическая субстанция, сотканная из слоев воздуха. Ну ладно, Бог с ним, с миражом.
И он нашел табак с добавками чернослива! Табак назывался длинно: Paul Olsen, значит… My Own Blend « King Frederick Mild » – датский? Заплатив за короля Фредерика – мягкого! – ни много ни мало двадцать евро, он задумался, где бы купить трубку. В этом отделе трубок не было.
Не нашлось трубки и нигде на Promenade… всё предусмотрели паромщики, а трубок не предусмотрели. Однако нашлась бумага для самокруток – и нашлось у него соответствующее умение: во всех датчанах оно от природы заложено, каждый из них хоть раз в жизни попробовал это дело, самокрутки крутить, в целях экономии денег на курево – понятно, самокрутками дешевле обходится, он когда-то тоже пробовал… правда, не прижилось.
Вышел на палубу: ветер и дождь. В носовой части обнаружилось укрытие: небольшой салон со скамейками. Желающих посидеть тут в одиннадцатом часу вечера не оказалось, что и хорошо. Он уселся на скамейку посередине, скрутил самокрутку…
Ну вот тебе и черносливовый дым, дорогой: наконец-то добрались, стало быть, до черносливового дыма. Gott grüss’ euch Alter, schmeckt das Pfeifchen?.. Он закрыл глаза, собираясь вернуться в раннее детство, но вернулся не туда. Там, куда он вернулся, говорили по-немецки, и тоже была трубка, только дым другой, медовый.Даже почти невозможно вспомнить, как они к этому пришли… постепенно потому что пришли. Шли, шли и пришли. Сначала-το, понятно, говорили по-немецки только тогда, когда никого вокруг не было: для собственного удовольствия. Фразу-другую… потом в ход пошли стихи – из немецкого детства учителя: Mäuschen, Mäuschen, oh Weh, oh Weh!.. Было странно: чужое детство, где ты вдруг – свой. Свой, по какой-то непонятной причине не прошедший через всех этих мышек, кошечек, кроликов… проходи сейчас, если опоздал! Он прошел как делать нечего – не оступившись ни разу. Потом, понятно, Гейне. Потом, понятно, Гёте. Рильке. Брехт… Mein-Bruder-ist-ein-Traktorist и Hurra-hurra-der-Winter-ist-da из школьных учебников немецкого в ужасе разбежались в разные стороны.
Потом уже и не замечали, есть ли кто вокруг, просто говорили между собой по-немецки: привыкли. Словно два эмигранта, автоматически переходящие на родной, обращаясь друг к другу. А дальше стало невозможно по-русски: с какой это, дескать, стати вдруг по-русски, если всегда – по-немецки?
Из перспективы постороннего языка Советский Союз вдруг начинал выглядеть иначе. Смотрели на все вокруг с удивлением: ба-а-атюшки, как у вас тут интересно!.. Сначала, вроде, забава была такая – перед окружающими неловко, конечно, а позже… позже – непонятно что. Но идея говорить по-русски с немецким акцентом была его личная – учитель хохотал, как дитя малое… неразумное: откуда, откуда такой точный немецкий акцент – в русском? Да вот… понять бы еще откуда.Кстати, Хельмут говорил, что у Манон акцент тоже придуманный. Что у нее и вообще все придуманное, даже имя. На самом деле никакая она будто не Манон, а Хайди из-под Лейпцига, Kreis Kalbe, Milde. Но тут Хельмут заблуждался: Манон была не Хайди-из-под-Лейпцига, а мим… мимесса. Мимессу же не могут звать Хайди-из-под-Лейпцига, глупости какие!
Еще надо обязательно раз и навсегда уточнить, сам учитель не коверкал русского языка, ни-ни: когда они были иностранцами – это во время далеких поездок, конечно, где никто не мог разоблачить, – учитель просто «вообще не говорил по-русски». По-русски говорил – «пытался», во всяком случае… получалось, правда, паршиво! – только ученик. А затем переводил услышанное учителю на немецкий: тот сосредоточенно внимал – словно впервые. Отвечал ученику по-немецки, немецкий опять переводился на русский… на смешной, на беспомощный ученический русский – так и общались с окружающим миром, сострадательно смотревшим на случайным ветром занесенных в Союз немцев: молодой-то по-русски понимает, говорит только плохо, а пожилой – тот совсем ни пол слова… И такого о себе и немцах вообще наслушались – закачаешься: пашка-ты-вроде-немецкий-в-школе-учил-иди-сюда-тут-два-придурка-во-второй-мировой-недобитых-помощь-требуется… да-нет-не-добить-слова-объяснить!
Играли, стало быть – совсем не думая о том, что бдительных граждан много вокруг, а ну заявят куда, потом разбирайся, доказывай, что «играют»! Но Бог миловал, ни разу не попались.
– Тебе вообще не стыдно? – спрашивал учитель.
– Почему стыдно? Иностранцем быть не стыдно, иностранцем быть… – вызывающе!
Вызывающе и прохладно это – быть не собой . Или не только собой.
Вот и сейчас у него есть всего две возможности: или допустить, что его больше, чем один, – или допустить, что он одновременно может быть в нескольких местах. Три встречи с одним и тем же человеком или одна встреча с тремя разными – до чего ж он любил такие головоломки когда-то, в рааанней юности! Теперь перестал любить – теперь, скорее, боится их. Особенно сейчас, под вулканическим облаком.
Наверное, учитель любил его, раз такое с рук сходило… и раз даже сам играть с ним соглашался – в преклонном, между прочим, возрасте, когда не надо всего этого уже, ни к чему все это уже… да и неловко: седины и так далее. Но ему вообще многое с рук сходило – все сходило, а почему – неизвестно. «За чем-то ты в жизни идешь… никак не пойму, за чем, но с пути не сбиваешься», – то и дело говорил учитель.
Сам он знал, за чем шел: за дымом… дымком – сначала за черносливовым, с шести лет до шестнадцати, потом – за медовым, с шестнадцати до двадцати шести, по десять лет – за каждым. А уж потом – за обоими дымками, все думал, куда ж приведут-то… привели в Данию, еще через двадцать лет: десять плюс десять… два дымка, значит, сложились и привели.
И теперь он курит датского Пауля Ольсена на открытой палубе парома «Симфония»… Gott grüss’ euch Alter, schmeckt das Pfeifchen?
Das Pfeifchen Shmeckt, vielen Dank.
Размер : ширина – 25,5 см, длина – 17 см.
Материал: 9 мотков пряжи по 50 г (длина нити в мотке – около 80 м) выбранного вами цвета.
Спицы № 4,5 или диаметра, который позволит правильно связать образец.Средняя плотность вязания : 24 ряда по 25 петель = 10 × 10 см патентным узором. Обязательно свяжите образец!
Платочная вязка : все ряды ЛП.
Патентный узор (число петель кратно 10 плюс 9 петель):
1, 3, 7, 9 ряд ИС, 1 ЛП, 7 ИП, *3 ЛП, 7 ИП, повторять от * до последней петли, 2, 4, 8.10-й ряд ЛС: 8 ЛП, *3 ИП, 7 ЛП; повторять от * до последней петли, 1 ЛП. 5-Й ряд: 1 ЛП, 1 ИП, закрыть 5 петель, 1 ИП; повторять от * до последней петли, 1 ЛП. 6-й ряд: 2 ЛП, набрать 5 петель, 1 ЛП, * 3 ИП, 1 ЛП, набрать 5 петель; 1 ЛП; повторять от * до последней петли, 1 ЛП, 11, 13, 17.19-й ряд: 1 ЛП, 2 ИП, *3 ЛП, 7 ИП; повторять от * до последних 6 петель, 3 ЛП, 2 ИП, 1 ЛП, 12, 14, 18.20-й ряд: 3 ЛП, * 3 ИП, 7 ЛП; повторять от * до последних 6 петель, 3 ИП, 3 ЛП. 15-Й ряд: 1 ЛП, 2 ИП, * 3 ЛП, 1 ИП, закрыть 5 петель, 1 ИП; повторять от * до последних 6 петель, 3 ЛП, 2 ИП, 1 ЛП.16-Й ряд: 3 ЛП, * 3 ИП, 1 ЛП, набрать 5 петель, 1 ЛП; повторять от * до последних 6 петель, 3 ИП, 3 ЛП.
Полупатентная резинка (нечетное количество петель):
1-й ряд: КП, 1 ЛП, *1 ИП, 1 ЛП, повторять от *, КП. 2-й ряд: КП, 1 ИП, * 1 ЛП, при этом спицу вводить в нижележащую петлю (верхняя петля распускается), 1 ИП, повторять от *, КП.Чередовать 1-й и 2-й ряды до конца изделия (плотность вязания этим узором: 44 ряда по 23 петли = 10 × 10 см).
Изготовление : Набрать 59 петель, связать 7 рядов платочной вязкой, далее повторить 1-20 ряды узора 22 раза или столько, сколько вы найдете нужным. Закрыть все петли ЛП. Когда деталь будет закончена, перевернуть нижнюю часть и пришить к ЛС детали как бы наизнанку.
Сокращения :
КП – кромочная петля
ЛП – лицевая петля
ИП – изнаночная петля
ЛС – лицевая сторона
ИС – изнаночная сторона
Примечание
Модель из журнала «Vogue» можно усовершенствовать, сделав ее универсальной и межсезонной. Для этого следует связать полупатентной резинкой две описанных выше одинаковых детали: одну из шерстяной пряжи, вторую из вискозного шелка с той же длиной и толщиной нити – в тон или белого: количество мотков вам придется подобрать самостоятельно. Эта вторая деталь зимой станет подкладкой, и двустороннее изделие отлично согреет владельца или владелицу; весной и осенью в ней, второй детали, нет необходимости, а летом она, вторая деталь, будет использоваться по назначению с легкой одеждой. Обеспечить универсальность и межсезонность двусторонней «петли Мёбиуса на все сезоны» вам помогут вшитые с длинных сторон застежки-молнии, число которых зависит от размера изделия и длины самих молний и которые – как в застегнутом, так и в расстегнутом виде – послужат дополнительным и весьма актуальным украшением изделия. Вместо молний могут послужить украшением небольшого размера пуговицы (в том числе и разноцветные), пришитые так же – по длинным сторонам: естественно, напротив каждой пуговицы на второй стороне нужно сделать навесную петельку {12} .
И, между прочим, это не был каприз Кит: у Кит не было капризов. С капризами она разобралась еще в ранней юности, поняв, что легче ничего не хотеть и ничего не получать, чем хотеть всего – и всего же не получать. С тех пор Кит никогда ничего не хотела – просто пользовалась тем, что и так, само собой, было. Она даже никогда не записывала на бумажке, что купить: просто приходила в магазин и покупала то, что помнилось. Поэтому поздно вечером, когда все уже закрыто, часто выяснялось, что в доме то одного, то другого нет… например, совсем никакого хлеба. Или ничего молочного. Или – это хуже – соли, сахара… Но она и тогда ничего не хотела – стряпала что-нибудь из чего-нибудь, вот и ужин, какая разница. Она могла обойтись без всего: без любой книги (нет этой – читай другие), без любой тряпки (платяной шкаф и так трещит), или вот… без лампочки (есть же свечи!), без ручки (карандашами тоже пишут), без полотенца (все в стирке… но, слава Богу, существуют бумажные, а если недостаточно – можно, например, забраться в махровый халат).
Правда, было довольно много того, чего Кит не хотела… впрочем, если такое, тем не менее, случалось – пусть. И только в самых уж редких случаях она обозначала себя по отношению к миру не то чтобы жестко, но – определенно.
Так, Кит не хотела становиться героиней его романов – или что он там пишет, этот сумасшедший русский, на своем никому не понятном здесь языке. Кит не нравилась сама идея – быть героиней романа… то есть иметь дополнительную какую-то жизнь, ей неподконтрольную. Кит привыкла отвечать за себя, а тут поди разберись, что происходит с ней… да еще и на чужом языке! Поди разберись, что она говорит, что делает, как ведет себя в разных ситуациях – она-то понимала: и говорит, и делает, и ведет себя в романе она обязательно по-другому, обязательно не так, как здесь. Потому что не бывает абсолютных подобий. Потому что все мы бесподобны.
«Мне и одной жизни за глаза, – призналась она как-то. – Понять бы, что с этой, уже имеющейся, делать».
Но он только улыбался и редко что-нибудь говорил в ответ: он всегда улыбается и редко что-нибудь говорит в ответ. Это у него «со времен акцента». Выражение «времена акцента» было его собственным, а упаси Боже, не Кит: Кит акцент не мешал, она перестала слышать его фонетику на второй месяц знакомства, и ей казалось странным, что он так стремится избавиться от акцента. Странным и неестественным: сорокадвухлетняя жизнь в другой стране не может не оставлять следов – и не должна не оставлять следов. А потом, если ты все равно так и так до конца становиться датчанином не желаешь – для чего тебе датский без акцента?
Однажды он коротко объяснил ей: из упрямства. И добавил: стыдно быть иностранцем. Стыдно? Иностранцем быть не стыдно – иностранцем быть… смело! Вслух она, конечно, возражать не стала: глупо, если она, не-иностранка, будет ему, иностранцу, возражать… Кому из них двоих лучше знать? Конечно, ему… Сама Кит про иностранность ничего не понимала – до встречи с ним она вообще на эту тему не думала. А когда подумала, то… то и получилось, что он прав: иностранность – это язык, язык – и ничего больше. У самой Кит родных языков было два: один материнский, другой отцовский. Датский и шведский. Когда родители развелись, Кит долго после этого жила сразу в двух странах: в каждой понемножку и в каждой охотно, потому что ни у кого из родителей так никогда и не появилось новой семьи. В Дании Кит была датчанкой, в Швеции – шведкой, а иностранкой, понятно – ни там, ни там. И потом, приезжая в другие страны, иностранкой не была тоже: была датской туристкой, которая скоро уедет.
Он попытался как-то сопоставить русское слово «иностранец» с датским «udlænding», получилось интересно – Кит до сих пор помнила. Как же там у него было – что-то с направлением взгляда… У русских взгляд, дескать, направлен вовне, для них «иностранец» – тот, кто в иной стране живет, за пределами этой, а у датчан взгляд направлен внутрь: для датчан «иностранец» – тот, кто в Дании живет, из другой страны сюда – прибыв. И якобы русские все время стремятся сократить расстояние между русским и иностранцем, а датчане, наоборот – увеличить. Правда, после, когда Кит все это ему напомнила, он сказал, что ничего такого не говорил… может, и не говорил, но себя иностранцем не по-русски видел, а по-датски: я, стало быть, иностранец, живущий в Дании… не столько, значит, потому, что прибыл оттуда , сколько потому, что не уезжаю отсюда . При том, что как к иностранцу здесь к нему никто, кроме него самого, и не относился!
Первоначально, когда она еще слышала его акцент, акцент этот казался ей невероятно милым: эдакие синкопки, внезапно подчеркивающие не те слова, которые важны, а те, которых обычно и не замечаешь. Головокружительное ощущение, правда… как будто находишься не в самом высказывании, а по соседству с ним – хоть и на маленьком расстоянии, но уже становятся различимыми всякие забавные вещи… Например, сильный удар на «не», когда лучше обойтись без удара: « Не хочешь кофе?» От кофе Кит не отказывалась никогда, кто бы и где бы ни предлагал, она и по дому постоянно ходила с полунаполненной и всегда давно остывшей чашкой, но, услышав его « Не хочешь кофе?» – спешила ответить: нет-нет-спасибо-нет, со всею силою отрицая самую возможность заподозрить ее в пристрастии к кофе.
Их общие знакомые говорят сейчас, что акцент, которого давным-давно не различает Кит, у него, конечно, немножко слышен (слава Богу, думает Кит), но на фоне безукоризненной грамматики и непомерного словарного запаса создает странное впечатление: что человек просто придуривается. Причем придуривается неточно: культивируя не какой-то определенный акцент, а акцент вообще. Нераспознаваемый. Ну или иногда распознаваемый: как немецкий. Кит, конечно, никогда не передает ему оценок других, но у нее самой он то и дело спрашивает про свой акцент: вот дался же ему акцент! Какое-то просто болезненное желание потерять речевую индивидуальность, патологическое стремление к «чистому» датскому… к стерильному почти – паническая боязнь, что в нем распознают иностранца. Да никто же не слышит твоего акцента, есть он или нет, пробует увещевать она, но он только повторяет: мне, дескать, безразлично, слышат акцент или нет – мне важно, чтобы его не было . А между тем говорят, что акцент – вне зависимости от того, слышат или не слышат его Кит и другие, – останется навсегда: освоение языка в позднем возрасте, ничего не поделаешь… но ведь и незачем делать! Будь Кит иностранкой – в этой ли стране, в другой – она бы уж свой акцент берегла, никогда бы не потеряла. Одно время Кит пыталась представить себя иностранкой и начинала перед зеркалом говорить по-датски с акцентом, было здорово! Странно, что никогда раньше не догадывалась попробовать: ужасно увлекательное занятие… Потом вдруг испугалась, прекратила: показалось, что это не она, Кит, с акцентом говорит, а та, другая, в зеркале. И будто бы даже не Кит вообще, просто жуть.
Потом ей внезапно стало казаться, что акцент – у всех. В Дании это, кстати, неудивительно: тут и правда у всех акцент, выдающий происхождение. На «королевском датском» только королева и говорит – у остальных датский с призвуками… призвуками места рождения. Во-первых, датский Зеландии, датский Фюна и датский Ютландии: они, как правило, слышатся отчетливо. Сюда же – борнхольмский датский и другие островные, они все тоже различимы на слух. Дальше начинается деление на подгруппы: например, в составе ютского датского – восточно-ютский, южно-ютский… последний – так просто головоломка, Кит, например, почти не понимает южно-ютского! Но даже и в южно-ютском – свои подгруппы, или под подгруппы… южно-ютский Сёндерборга и южно-ютский Обенро – они разные весьма.
Теперь Кит постоянно инспектировала звучавший вокруг нее датский и – не слышала датского: не было датского языка как просто-датского – обязательно не просто-датский, а откуда-то-датский. Плюс, конечно, датский как иностранный: немецкий датский, английский датский, арабский датский, турецкий датский, славянский датский… и другие еще.
«Вот и люби после этого родной язык, – думала она, – родной язык, которого нет!»
Разумеется, акцент – тот ли, другой ли – был и у нее самой… родилась же она где-нибудь! Она родилась в Копенгагене. «Очень некрасивый диалект, копенгагенский», – сразу же сказал ей знакомый, спрошенный о том, слышен ли и у нее диалект. Знакомый происходил из Орхуса и был известным пижоном от языка, считавшим, что на подлинном датском только в Орхусе и говорят. Правда, на сей счет у Кит были большие сомнения – не по причине какого-то особого отношения к орхусскому датскому, а по причине особого с некоторых пор отношения к подлинности. В этой области, оказывается, подлинности не существовало… как насчет других областей?
«Я брежу», – сказала себе Кит, обнаружив вдруг акцент в лае соседской собаки, до того, вроде, лаявшей без акцента… А уж потом Кит слышала акцент у всех и всего: даже у капающей из крана воды. Подлинности же – безакцентности, то есть, – не было нигде. Вот, разве, в Орхусе… но что ей за дело до Орхуса! Да и Ютландия сама по себе – дело темное.
Думать в направлении «подлинности нет и не было нигде» оказалось не очень, мягко говоря, ободряюще. Мир не-подлинности, хайдеггеровский мир, переставал быть ей дорог, а что еще хуже – в нем и вообще не обнаруживалось места для Кит. В смысле – для внутренней Кит, ибо Кит внешняя занимала в неподлинном этом мире даже слишком много места.
Почему? Потому что с квартирой ей не повезло. Или нет, с квартирой-то как раз более чем повезло – не повезло с соседями. Хотя и с соседями повезло: сильно симпатичные люди, не надо наговаривать, а вот с чем действительно не повезло – это с профессией. Профессия была – пианистка. Из-за этой профессии ей пришлось съехать с хорошей квартиры и чуть не поссориться с хорошими соседями… квартира-то за ней, конечно, осталась, кто ж от такой отказывается: огромная, в центре и практически задаром, но пришлось, значит, все равно съехать и снять другую – маленькую и плохую, почти на чердаке. Отныне музицировать по месту жительства можно было вволю, а вот жить по месту музицирования – не очень… Но музицировать для Кит важнее, чем жить.
В хорошую свою квартиру она, конечно, тоже наведывалась: как минимум раз в неделю – цветы полить, с почтой разобраться, да и вообще… сделать вид, что она там живет. Хотя зачем уж так-то – «сделать вид»? Кит ведь жила и там: когда по два дня, когда по три, когда по целой неделе.
Впрочем, сказать честно, она не знала точно, где живет: ей казалось, будто она… да мало ли что казалось! Отпирая дверь в хорошую квартиру и отпихивая туфелькой гору реклам, нападавшую на пол прихожей через прорезь для почты в двери, Кит обычно приветствовала хозяйку: говорила что-нибудь типа здравствуй-как-живешь… и хозяйка отвечала – как. Например: хорошо живу, спасибо. Разговаривала она с хозяйкой и когда появлялась в плохой квартире – там ей тоже, конечно, отвечали. И ничего удивительного: в каждой из квартир обитало по одной штуке Кит, об этом свидетельствовали всякие личные-вещи типа мебели, книг, одежды-обуви, зубной щетки, наконец… Она наизусть знала привычки владелицы каждой квартиры – при том, что это были две разные Кит. Одна, из хорошей квартиры – лентяйка и бездельница: достаточно пальцем по любой поверхности провести… пыль, пыль, пыль. Кстати, он, иногда появляясь в этой квартире, и вместе с ней, и один, обожал рисовать по пыльным поверхностям: выберет поверхность побольше – скажем, крышку рояля – и выводит себе что-то… Кит, если успевала, фотографировала: быстрые, легкие рисунки, дунь – и нет больше! Она еще и потому не спешила вытирать пыль: пусть рисунки поживут – хоть до следующего раза… и еще до следующего, и еще. Рисунки, покрываясь новой пылью, могли бы постепенно исчезнуть и сами собой: под более толстым слоем новой пыли – словно поселок на краю пустыни, медленно заносимый песком. Но дать его рисункам исчезнуть таким образом было бы бесконечно печально, так что Кит скрепя сердце бралась за четырехцветную (красный, желтый, синий, зеленый) – только за четырехцветную и ни в коем случае не за другую – метелку, чтобы собрать под ее волоски натюрморты, пейзажи, портреты… А потом, открыв окно (ах, Кит, Кит… управдома на тебя нет!) – осторожно вытряхнуть на город пропитанные его художествами пылинки, чтобы те добавили бытия натюрмортам, пейзажам и портретам жизни.
Скоро поверхности опять покроются пылью – и он, придя к ней, снова нарисует что-нибудь точной своей, безумной своей рукой, а она тайком сфотографирует это – и сохранит.
– Ты бы хоть иногда рояль отпирала, – поддразнивал он, – не то ведь возомнит себя мольбертом, что тогда?
А она думала: хорошо бы! Хорошо бы, рояль возомнил себя мольбертом – и вообще забыл о том, что он рояль. Потому как… стоит ведь себе запертый (одно дело – крышу над головой давать кому попало, но совсем другое – давать кому попало барабанить по таким клавишам, подобного святотатства Кит не допустит) и, небось, терзается: почему же никто на мне не играет?
На самом деле у Кит просто не хватает больше духу отпереть рояль. В последний раз это случилось лет, пожалуй, десять назад – тогда она время от времени еще садилась за инструмент и что-нибудь вспоминала… сложные всякие вещи, в которых теперь нет надобности. Да и тогда уже надобности не было, но Кит сопротивлялась, держала себя в форме: а вдруг опять на сцену, пусть не прямо сейчас, пусть когда-нибудь… вдруг? Ну хорошо, необязательно соло, необязательно даже за рояль – она и сама понимала, что прошло для нее время подавать надежды, что давно пора было их оправдывать, – но ведь существует же на свете хороший какой-нибудь небольшой оркестр-не-оркестр… надежды-маленький-оркестрик, говорил он. Волшебные – жалко, что не ему самому принадлежащие – слова… принадлежащие, совсем постороннему какому-то человеку, к тому же со смертоносной для датского слуха фамилией.
В оркестрик, значит, и – па-а-аехали по всему миру играть расчудесную старенькую музыку!
Расчудесную старенькую музыку.
Старенькую музыку.
Музыку.
Кит навсегда закрыла рояль, когда ей начало казаться, что тот играет с акцентом – или нет, когда, сперва поставив себе диагноз «помешалась», она в конце концов все-таки определила настоящую причину акцента. Но сперва-то, конечно, думала, что помешалась, – не винить же было рояль во всех этих неуместных, да и вообще никчемных легато… ты-опять-залиговала-все-до-невыносимости, – обижалась Ибен, с которой Кит к рождественским праздникам согласилась тогда поиграть, стало быть, фортепианно-скрипичные дуэты. Как будто Кит не слышала этого сама! Грешила на акцент у рояля… Кстати, из поиграть-вместе так ничего и не получилось в тот раз.
Настоящая причина называлась «полиартрит», только Кит это позднее узнала, когда пришлось записаться к врачу и рассказать про боли в пальцах. Ну, и… отныне только преподавать всяким милым крошкам, жалея их до слез, но муча, ох и еще раз ох! Только не у рояля, конечно, а у пианино – тоже, кстати, неплохого… и уж, во всяком случае, не покрытого пылью, как рояль там, в хорошей ее квартире.
Впрочем, дело, конечно, было не только в пыльном рояле – в той, хорошей, квартире, вообще все было запущено: краны текли, двери не закрывались, лампочки не горели, холодильник то и дело выходил из строя, и содержимое приходилось выбрасывать в мусорный контейнер на улице. А потом… как-то все там скапливалось: свои и чужие тряпки, давно прочитанные книги и никогда не читаные газеты, коробки из-под… из-под разных разностей, пересохшие ручки и краски, сломанные карандаши, окаменевшие ластики, неосуществленные проекты, несбывшиеся мечты, неоправдавшиеся надежды – скапливалась, стало быть, вся эта милая рухлядь, на данный момент уже не имеющая смысла. И невозможно было что-нибудь упорядочить, выбросить, вычистить или хотя бы убрать с глаз долой: некуда убрать, шкафы переполнены, открой дверцу – и посыпятся на пол вот хоть и мечты, вот хоть и надежды.
Даже необязательно его с ней мечты и надежды – кого только, как сказано, не бывало в этой квартире, кто только не жил тут, причем иногда и не днями – месяцами, годами! Квартира Кит служила прибежищем для многих и многих, застигнутых судьбой на каком-нибудь опасном перекрестке жизни, когда все равно, в какую сторону идти, но лучше никуда не идти, лучше пересидеть где-нибудь, переждать незадавшийся день, вкривь и вкось пошедший месяц, сбившийся с пути год… другой, третий.
И каждый оставлял что-нибудь после себя: стайку квитанций, книгу, зонт, шарф, тапочки, пару-тройку грустных мыслей на рояле, горсть сомнений на подоконнике, одну-две слезы на туалетном столике.
Только не трогать, не трогать ничего, пусть!.. Пусть лежит где лежало: Кит-из-хорошей квартиры так и так плохая хозяйка.
А вот Кит-из-плохой-квартиры хозяйка хорошая: в плохой квартире всё на своих местах – бери и пользуйся. Причем дело даже не в чувстве порядка, якобы присущем хорошей-Кит-из-плохой-квартиры… хотя отчего же «якобы»? – дело в сугубо практической установке: не отвлекаться на бедлам, не тратить время на поиски.
В плохой квартире было чисто – не то чтобы образцово, а так, в меру, и ничего не текло, не качалось в разные стороны… даже не особенно и скрипело: половицы, там, стулья, дверцы шкафов, и в холодильнике всегда что-нибудь нашлось бы на случай приготовить ту или иную быструю чепуху вроде пиццы или лазаньи – поставить в микроволновку, вытащить да подать на стол. Даже посудомоечная машина имелась.
При всем при том он не то чтобы не любил приходить в гости к хорошей-Кит-из-плохой-квартиры… просто у них было заведено не в плохой квартире встречаться, а в хорошей, вот они и встречались в хорошей – если, конечно, не у него. Но в основном-то, ясное дело, у него, потому что жил он теперь недалеко от хорошей квартиры – даже присматривал иногда за ней хозяйским глазом… которого у него не было.
Что касается самой Кит, то какой – «самой»? Сама она странствовала из квартиры в квартиру – от одной Кит к другой, при том, что никакой третьей Кит – объединяющей двух этих чужих для нее женщин, не существовало. Выходя на улицу и отрываясь от своих жилищ, она утрачивала всякие опознавательные признаки обеих Кит, словно бы переставая быть и даже не вспоминая ни об одной из них, поскольку не было у нее общего ни с той, которая дуреха и неряха, ни с той, которая хозяюшка-хлопотушка. Обе они оставались за закрытыми дверями. Кит-из-хорошей-квартиры – до полудня разгуливать из комнаты в комнату в халате, с чашкой холодного кофе в руке, и так и не решиться в конце концов за что-нибудь взяться, а все думая, думая и думая пустые свои, легкие свои мысли, Кит-из-плохой-квартиры – суетиться с восьми утра в ожидании учеников, которые вот-вот начнут валить валом: терзать ее и без того истерзанное маленькое пианино, запинаться на каждом втором аккорде, безбожно фальшивить, просить об отсрочке с оплатой…
A-а, Бог с ним со всем: не надо никакой третьей Кит, и этих двух больше чем достаточно, свести бы их как-нибудь воедино – и забыть. Только вот свести их никогда не удастся, кому ж непонятно… Кит-из-хорошей-квартиры определенно сочтет ниже своего достоинства общаться с хозяюшкой-хлопотушкой, да и Кит-из-плохой-квартиры недорого даст за знакомство с дурехой и неряхой, непонятно на что живущей!
Она иногда говорила об этом с ним – он, как всегда, слушал вполуха, улыбался, чертил по роялю элегантные свои глупости и потом обязательно заявлял, что он ни с одной из этих двух Кит не знаком, а знаком как раз с третьей, и что черты этой третьей и, получалось, единственной для него Кит можно – если она сама в себе сомневается – увидеть хоть в каракулях на рояле, хоть в его писанине… изредка, Кит, не волнуйся! Но там-то, дескать, настоящая Кит и есть.
Тогда она снова и снова просила его не писать о ней – и он, конечно, обещал: обещать он умеет как никто другой.
Вот и только что, с парома, опять пообещал, что больше не будет, словно она не чувствовала: ничего уже не остановить.
Кит знала, что он пишет роман, в котором есть она. Ощущалось это так же, как когда смотришь в зеркало, где посторонняя женщина, один в один Кит, мучается с чужим языком, а Кит ей ничем помочь не может… вот как ощущалось, но узнавалось как – это трудно объяснить.
Вдруг возникла, например, усталость – причем ночью возникла, когда Кит спала… пришлось даже проснуться и удивиться: спать ты, что ли, устала, милочка? Поднялась с постели, походила по квартире, выпила холодного кофе, посмотрела в окно на море… опять легла, а утром проснулась и поняла, что означает выражение «проснуться разбитой» – именно такой и проснулась потому что. Сразу сказка вспомнилась, как королевская дочка ночами с чертом танцевала, а утром выглядела совсем измученной.
Неужели и она, Кит, с чертом?
Огляделась: едва ли, никаких следов оргии. Впрочем, кто ж сказал, что с чертом по месту жительства танцуют?
К середине дня большая усталость прошла, остались просто вялость, легкое ощущение бессилия и растерянность. Кит ничего вдруг найти не могла, а что находила – роняла и куда-то оно все снова пропадало, свитер наизнанку надела – только к вечеру заметила, очки почти два часа искала, не нашла, полезла на шкаф за вторыми, уронила, разбила, стала осколки подметать – нашла потерянные очки под диваном… в общем, жуть. Причем какая-то очень нехарактерная жуть – правда, вспоминающаяся вдруг, отголоском. Вот – вернулось внезапно все, точно: так было в Скагене, в детстве, Асгер на стул ее посадил, велел не двигаться, сидела, не двигалась, а Асгер портрет писал. Борода у него в разные стороны, на очках голубая краска, бормочет какие-то слова, кисти теряет… – и потом началась эта усталость не усталость, вялость не вялость… рассеянность, одним словом. Букетик, который в руках был, на пол упал, доставать не хотелось, ничего не хотелось, попробовала мизинчиком пошевелить, не смогла. Вдруг туфелька с ноги свалилась: стук. Потом вторая: стук. Назавтра опять позировать – так еще хуже, но собралась с силами и, посидев на стуле, сколько смогла, сама сползла вниз – на холст посмотреть. Асгер ругается, зачем к портрету подошла, а там краски такие яркие, что даже страшно. Подняла глаза на Асгера, сказала: «Не пишите меня больше, не надо» – и ушла. Асгер, между прочим, в пух и прах разобиделся.
С тех пор ее никто не писал.
Но сейчас ее пишут… это понятно.
Позвонила на паром – рассказать про Асгера, связь пропала.
Не судьба.
Сегодня, 21 апреля, Аэрофлот приступает к выполнению регулярных полетов по расписанию. Аэрофлот сегодня выполнит 55 рейсов из Москвы. Помимо выполнения регулярных рейсов авиакомпания Аэрофлот для вывоза пассажиров вводит дополнительный рейс в/из Лондона (SU1247/1248). В города, где наблюдается большое скопление пассажиров, Аэрофлот ставит воздушные суда большей вместимости.
Аэрофлот все эти дни был практически единственной авиакомпанией, которая продолжала осуществлять регулярные рейсы в/из Европы после закрытия воздушного пространства в этих странах.
Аэрофлот в постоянном режиме информирует своих пассажиров о статусах рейсов, изменениях в расписании.
Оперативный штаб Аэрофлота работает в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных сотрудников компании. Постоянно ведется работа в тесном взаимодействии с МИД РФ и ФПС РФ по решению вопросов о размещении безвизовых пассажиров и пассажиров с просроченными визами. Также ведется работа по размещению пассажиров в гостиницах и обеспечению питанием.
Пассажиры, которые хотят отказаться от перевозки, могут сдать билеты без штрафных санкций вне зависимости от даты возврата билета. Возврат стоимости перевозки осуществляется только по месту приобретения билета. В Аэрофлоте продолжают отслеживать ситуацию, тесно сотрудничают с метеорологической службой, а также с представителями авиакомпании в России и за рубежом {13} .
С Харри же вот что случилось: он окончательно ощутил себя чужим здесь.
Нет, не так: он ощутил себя окончательно чужим здесь.
Или даже так: он окончательно ощутил себя окончательно чужим здесь – вот это правильно.
Пора было все-таки смываться из этой колбасной державы навсегда – плевать, что он несовершеннолетний и на своих ногах стоять пока не может (так, во всяком случае, отец говорит… и говорит, и говорит!).
Землемер-Землемер-снеси-меня-домой-у-меня-ножки-болят.
Харри сказал Норберту – дорогому, между прочим, дружку, – что чувствует себя словно не в своей стране, а Норберт в ответ: с чего ты, дескать, вообще взял, что ты в своей стране, когда ты в моей стране?
И Харри внезапно понял, что не немецкое у него все, что русское у него все – от матери, а имя матери Nadjezhda.
Норберта Харри потом отлупил немножко: не сильно – просто чтоб не говорил так больше. Ну и… уже вечером все стало известно родителям – нет, ладно бы все, а то ведь только одно: что Харри Норберта отлупил, причем почему-то – что сильно отлупил. В общем, дома был скандал, Nadjezhda разоралась на своем иностранном-немецком, стало невмоготу – и Харри ушел. Не то чтоб куда-то ушел, а просто ушел: вышел из дому и отправился куда глаза глядят… но уже вечером знал, где он теперь будет жить: в одном классном совершенно подвале – случайно набрел. Оказалось, там наркоманы и всякие кривые люди живут, и никому до них дела нет. На что живут – неважно, деньги как-то появляются и как-то исчезают, но никого ничего не заставляют, можешь заработать – заработай, отдай в общую кассу, не можешь – пользуйся тем, что у всех есть.
Сперва девчонка одна, Ирма, побрила его наголо и брови в зеленый цвет покрасила, чтоб он на себя не похож стал. И татуировку, наклейки на пол-лица и пол-шеи, прилепила. Потом нашли одежонку какую-то… не Бог весть что, обноски, но чистое все, ходить можно. Посмотрел на себя в зеркало – супер: никто не узнает, даже если лицом к лицу с ним столкнется в дневное время при ярком солнце.
Его, конечно, будут искать – и найдут, его всегда находят… может быть, даже запрут куда-нибудь, но он пересидит и сбежит, а через год ему исполнится столько лет, сколько надо, – и он вернется сюда, он выбрал себе жизнь! Все чертовски легко.
Он даже удивился, как быстро – в считанные минуты! – можно поменять одну жизнь на другую: был мальчиком-паинькой из хорошей семьи, мать-отец золотые, дед-бабка серебряные, хата в хорошем районе… вилла, извините за выражение, частная школа и все такое, а стал, вот, отверженным, да что отверженным – опасным: идет с дружками по улице – кто-не-спрятался-я-не-виноват… И – все хорошо, ну как же хорошо!
Его нашли через неделю, насильно вернули, татуировку отлепили, брови отмыли, а все, что случилось, назвали недоразумением. Он сделал вид, будто согласен на недоразумение, стал снова ходить в школу… преимуществ у всего этого было два. Первое – что обращаться с ним дома стали дико осторожно, будто он стоящая на самом краю каминной полки хрустальная-ваза-память-из-России, которая может упасть от малейшего сквозняка. Второе и главное – что он теперь знал место . И, когда стража начала утрачивать бдительность, стал сперва редко, а потом все чаще и чаще наведываться к новым друзьям… классные люди, классная среда, никаких норм и правил, кроме одного: «Ты или не ори, или уйди» – вот, собственно, и все.
Тем более что он и не орал.
Через пару-тройку месяцев у него уже был послужной список – не очень длинный и не сильно выразительный, но все-таки: участие в двух-трех небольших кражах, где он играл хоть и не первую, однако вполне ответственную роль. Хорошо воспитанный и снова дорого одетый мальчик домашнего вида с родным немецким – можно ли желать лучшего? Люди верили ему с первого слова, сразу после первого слова закрывая глаза – и веря. А пока глаза у людей были закрыты, людей этих грабили, но даже и открыв потом глаза, никто из них не мог хоть в чем-нибудь заподозрить того мальчика… такие мальчики не могут быть ни в чем замешаны!Теперь у него появились деньги, на них он одел и обул Ирму во-все-во-что-надо – и Ирма стала загляденье… это чистая правда, никто даже мимо не мог пройти, не обернувшись. Дома он представил Ирму как свою подружку «из семьи художников» – знакомство прошло глаже не бывает, тем более что Ирма действительно была из семьи художников, просто художники постоянно ошивались где-то в жарких странах… писали, стало быть, а Ирма жила в родительской квартире одна – когда жила, конечно. В основном обреталась в подвале, где всем было по барабану, что у Ирмы квартира есть.
«Семью художников» сыграли чрезвычайно живописный в своих грязных хламидах (хламиды несильно постирали для такого случая) уличный попрошайка Вальтер и нервная красивая проститутка Труди – без приглашения («Извините за налет, но, кажется, нашим детям хорошо друг с другом!») нагрянув в гости к родителям Харри с дорогими экзотическими яствами… Между прочим, Труди даже отбухала губной помадой портрет Nadjezhdy на программе передач: как ни странно, получилось похоже. Потом родители были приглашены на квартиру к Ирме: Вальтер и Труди опять были в ударе (у Вальтера кисточка за ухом торчала!), хвастались перед гостями чужими полотнами, довольно профессионально ругали друг друга за концептуальную-бедность и композиционную-рыхлость, поили хорошим вином, сожгли в духовке индейку, хохотали, выбрасывая обугленную тушку в окно… – в общем, все как полагается. И дальше со всем этим было покончено. Теперь Харри мог иногда оставаться ночевать у Ирмы, а Ирма в квартире его родителей – для чего, собственно, и огород городили.
Харри с Ирмой ужасно смеялись, когда оба потеряли невинность: не потому, что потеряли, смеялись, а потому, что невинность на момент потери оказалась у обоих в наличии. Решили, раз такое дело, не расставаться теперь до смерти – и даже пожениться, если, конечно, Ирме рожать придется. Рожать Ирме, понятное дело, совсем не хотелось, но, слава Богу, и не пришлось, а потом уже они предохранялись всяко, Труди научила.
И – исчезало постепенно у Харри ощущение, что чужой он тут всем, в долбаной этой Германии, которую Харри не выбирал. Привезли шестилетним Гариком, вырвали – с кровью! – прежний язык изо рта, новый тупой иглой пришили, сказали: ты немец теперь, так и живи. И потом не спросили ни разу: хорошо ли тебе, Харри? А спросили бы – он бы сказал: нет, не хорошо, отвезите назад! Он никогда не привыкнет, пустое дело – и он делает все, чтобы не привыкать. У него есть несколько русских книжек, каждую из которых он прочитал раз по сто, но продолжает читать и читать, хоть они и детские, – тайком от всех, чтоб русский не забыть. Потому как он на материнском-то языке здесь не говорит ни с кем – с матерью и то не говорит, особенно с матерью не говорит: пусть она немецкий учит – может, хоть к старости выучит! Харри, с восьми лет начиная, ни одного слова по-русски при ней не произнес, как она на коленях ни умоляла. Незачем потому что: выбрала Германию для житья – говори по-немецки! И ни при ком больше не произнес – с тех пор как однажды кто-то из русских его сетевых друзей (после этого случая Харри перестал иметь русских сетевых друзей) ни с того ни с сего прислал ему такое стихотворение:
Приезжай в Россию, Харри,
Тут тебе дадут по харе!
Шутка юмора.
В общем, он тогда еще свой русский глубоко спрятал, никому не найти. Правда, давно уже не ищет никто: да и кому теперь может в голову прийти искать русский – хоть и поблизости от него? Смешно! Когда он всем немцам немец – за сто километров видно. Тут у нас не интеграция какая-нибудь пошлая, либэ фройндэ, – тут подымай выше: регенерация, майнэ дамэн унд хэррэн, полное перерождение организма!.. Во всяком случае, на первый взгляд, на второй, на третий и на десятый.
Но там, куда и одиннадцатый взгляд не достанет, внутри, в самой сокровенности… ох, не дай вам Бог сунуться туда, не дай Бог! Калашников заряжен уже – и дуло направлено непосредственно на вас. Потому что есть кого охранять: живет там под присмотром сердца один муравьишка. Муравьишка-который-домой-спешил. Харри – разбуди его среди ночи – эту историю слово в слово повторит и не собьется ни разу.
Вот, пожалуйста.
Залез Муравей на березу. Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден.
Муравьишка сел на листок и думает:
«Отдохну немножко – и вниз».
У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, – все домой бегут. Сядет солнце, – муравьи все ходы и выходы закроют – и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй.
Солнце уже к лесу спускалось.
Муравей сидит на листке и думает:
«Ничего, поспею: вниз ведь скорей».
А листок был плохой: желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки.
Несется листок через лес, через реку, через деревню.
Летит Муравьишка на листке, качается – чуть жив от страха.
Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок упал на камень, Муравьишка себе ноги отшиб.
Лежит и думает:
«Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы здоров – сразу бы добежал, да вот беда: ноги болят. Обидно, хоть землю кусай».
Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. Червяк-червяком, только спереди – ножки и сзади – ножки.
Муравьишка говорит Землемеру:
– Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят.
– А кусаться не будешь?
– Кусаться не буду.
– Ну садись, подвезу…
Хватит? А то ведь Харри так и будет продолжать и продолжать из своей книжки, «Виталий Бианки. Рассказы и сказки. Минск. Издательство «Народная асвета», 1978»: он знает наизусть эту книжку. Одну из пяти, тогда еще привезенных оттуда, где он с тех пор так и не был ни разу, а теперь хранящихся в специальном месте, неважно где! Остальные четыре он тоже знает наизусть – и ежедневно повторяет что-нибудь из них, словно молитву. Да это и есть молитва, одна на все времена: Боже, помоги, Боже, не допусти, чтобы я потерял русский!
Мой русский, на котором я не говорю ни с кем.
Только с Богом.
С семи до одиннадцати лет Харри то и дело убегал назад, в Москву. Однажды добрался даже до Берлина, откуда уже рукой подать, но его всегда ловили полицейские-милицейские… ух, как он ненавидел униформу! Ловили и препровождали-по-месту-жительства. А один полицейский сказал: «Дать бы тебе пинка хорошего под жопу, чтобы ты пулей в Москву свою улетел и духу твоего здесь не было!» – «Дать бы!..» – с тоской согласился тогда Харри про себя. Но такого пинка ему, увы, не давали.
Между тем он знал, что в Москве ему делать нечего. У матери, кроме тетки, которую она называла мамой и на «вы», да и тетка сколько-то лет назад умерла, не было в России родных – были друзья какие-то: к ним она вначале даже съездила пару раз, но потом они неизвестно почему исчезли и материны поездки в Россию прекратились. А его, Харри, даже и не начинались, хотя отец – так Харри пришлось научиться называть Хайни – время от времени говорил, что надо бы показать мальчику родину, да мать махала рукой: какая ему там родина, ему здесь родина! Nadjezhda за что-то – видимо, сугубо личное – терпеть не могла Россию, что, как заметил Харри, немножко раздражало Хайни, но говорить обо всем этом «в присутствии мальчика» было не принято.
Так или иначе, а его исправно ловили при любой попытке свалить в Москву. В Москву, где никого не было.
«Я все равно убегу назад, – предупреждал он, будучи водворенным в свою комнату и посаженным под домашний арест. – Меня тошнит тут от всего, и от всех вас тошнит».
Убежать он решил, когда станет совершеннолетним. Тогда он сам себе капитан.
Но тут-то, еще до наступления совершеннолетия, и появилась в его жизни Ирма, без особого даже труда примирившая Харри со страной: а что, дескать, страна как страна, не лучше и не хуже других, тебе какая разница? И действительно: какая ему разница! Хотя в России он никого грабить бы, конечно, не стал: пожалел бы… бедные они там все, да и без того последнее кому угодно отдать готовы. Капиталистов же местных – пожалуйста! Но это единственное различие, а так – чего ж… где бы ни жить – все равно. Не все равно – что любить, но об этом Харри даже Ирме не расскажет, она русского не знает, а об этом только по-русски можно.
Только с Богом.
Бог говорит по-русски. Его, Харри, Бог говорит исключительно по-русски. Его, Харри, Бог не полиглот. И когда все по воскресеньям семьями идут в Мариинскую церковь и там произносят вслух «Das Vaterunser», Харри читает «Отче наш» по-русски – одними губами теперь: скачал с какого-то религиозного сайта несколько лет назад. А одними губами почему… мать однажды расслышала и вдруг заплакала, прямо в церкви, так он теперь губами – чтоб не плакала больше, значит. Нечего плакать: никто ее не заставлял с Хайни знакомиться и сюда ехать!
Правда, тогда бы он не встретился с Ирмой, ибо встретиться с Ирмой в Москве – без шансов: таких там, небось, не делают. И тут одну только сделали… да и одна никому не нужна оказалась – кроме крохотной группки полусумасшедших людей, которые, видите же, умеют ценить штучность. А Ирма – изделие штучное, потому и приняли они ее, за то и любят. За то и я люблю ее, но вот за что она меня – загадка. Только пока это так, пока она любит меня – все хорошо.
Все хорошо и было, но тут Харри взяли с поличными… то есть с наличными – долларами, украденными им с дружками у какой-то придурочной американки из ее же машины: машина была оставлена незапертой. Потом еще два-три привода в полицию… положение становилось угрожающим. В дело включился дед, счастливым образом отмазавший Харри после двух последних ходок.
Родители Харри отдали его на воспитание Ирме, представлявшейся им таким ангелом, что… и так далее. Ирма прилежно махала крылышками и изображала из себя жертвенницу, хвостиком ходившую за Харри в педагогических целях. На весенние каникулы «семья художников» собралась отправить Ирму в Стокгольм. «Да разумеется, Ирма, – сказала Nadjezhda, когда Ирма спросила, может ли Харри поехать с ней. – Ему так и так надо почаще обстановку менять, ты же знаешь, на какой путь он только что чуть не встал».
Конечно, она знала. Еще бы не!
Из Стокгольма Ирма и Харри должны были привезти немножко наркотиков: Людвиг из подвала договорился с какими-то бравыми шведами, у которых «все было».
Деду Гвидо почему-то сразу не понравилась предстоящая «этим двум молокососам» поездка. Между прочим, Ирме давно исполнилось двадцать.
Самолеты в Стокгольм не летали из-за вулкана в Исландии.
Людвиг достал билеты на поезда, с пересадками, через Польшу.
Вероятно, многим известно, что сеянцы, выращенные из семян Антоновки простой, почти все уклоняются в сторону диких родичей лесной яблони. Напротив, Антоновка-каменичка и Антоновка полуторафунтовая дают довольно значительный процент сеянцев с ярко выраженными характерными признаки культурности, что особенно проявляется при посеве круглых семян, выбранных из плодов этих сортов.
И вот одно из таких почти совершенно круглой формы семян Антоновки полуторафунтовой дало у меня в питомнике описываемый сейчас прекрасный по вкусовым и внешним качествам своих плодов новый сорт.
Посев был произведен в январе 1893 г.; в следующее лето 1894 г. из всхода роскошно развился прекрасного вида сеянец с очень пушистыми круглой формы листьями.
Надо заметить, что явление пушистости листьев на первом году роста сеянца наблюдается крайне редко. В это же лето с целью выяснения влияния подвоя на привитой на него новый сорт в возможно ранней стадии его развития взятыми с сеянцами глазками я окулировал очень сильный дичок груши трехлетнего возраста в крону. Окулировки прекрасно принялись, и в следующие два года, с постепенным удалением частей кроны грушевого дичка, привитой сорт яблони быстро развился в очень красивую кронку.
Но, к моему удивлению, выдающаяся пушистость листьев и побегов с каждым годом сильно редела и, если бы не оставалась значительная толщина длинных побегов, можно было бы заподозрить регрессивное перерождение нового сорта.
Впоследствии, однако, оказалось, что это было бы грубой ошибкой, так как такое изменение не означало одичания сорта или проявления атавизма (возвращения к предкам), а скорее было последствием влияния грушевого подвоя на молодой привой сорта, еще не успевшего выработать достаточной устойчивости, каковое влияние и выразилось в форме смешения признаков яблони с грушей.
Далее, грушевый штамб подвоя, несмотря на сильное и здоровое развитие привитого на нем сорта яблони, с весны второго года после прививки сильно заболел. На нем появилось что-то вроде сухой гангрены, так что я вынужден был позаботиться спасти от гибели прививок нового сорта.
Не желая подвергать его еще раз влиянию яблоневого подвоя и тем потерять приобретенные от влияния грушевого подвоя изменения, я счел за лучшее пригнуть грушевый штамб к земле и окоренить прививок в месте его сращения с грушей, где, кстати сказать, был большой наплыв.
Как я и ожидал, отводок окоренился прекрасно и поразительно быстро.
При помощи постепенной обрезки ненужных разветвлений прежней кронки я легко и скоро вывел штамб.
В 1898 г. молодое деревцо принесло первые плоды (на пятом году от всхода семени). Если выключить время задержки развития растения по случаю прививки, затем окоренения, то феноменально раннее первое плодоношение, явившееся, как я предполагаю, вследствие перенесения молодым сортом пертурбаций несоответственной прививки, окоренения уже в довольно зрелом возрасте и усиленной обрезке при формировании штамба, должно обратить на себя внимание специалистов.
Затем, постепенное изменение наружного вида деревца молодого сорта во всех его частях вплоть до наступления возмужалости, сильное уклонение в форме и величине плодов в урожаях с 1898 г. и по 1906 г. дают крайне интересную для изучения картину.
Так, форма листовых пластин и их поверхность уже ко времени первого плодоношения в сравнении с тем, что было наблюдаемо в первое время роста на грушевом дичке, значительно изменилась: пластина увеличилась в размере, приняла более обычную для яблонь форму, но своим контуром лист совершенно напоминал грушевый; налет пушка на тыловой стороне погустел, побеги также покрылись опушением, и круглая, гладкая форма их поверхности заменилась граненой.
Особенно ярко выразилось изменение в плодах, которые при первом урожае в 1898 г. имели вид и форму груши.
Ножка плодов первого плодоношения была очень толстая, короткая, с боковым придаточным выступом зеленого цвета; помещалась в сильно наклонном положении не в глубокой воронке, как это имеет место у плодов яблонь, а на сильно выступающем неравнобоком зеленого цвета возвышении, как у Бергамотов. Это и послужило мне поводом дать название этому сорту Ренет бергамотный.
Повторяю, общая форма плода и вид его окраски имели более сходства с грушей, чем с яблоком.
Окраска была яркоохряно-желтая с шарлаховым румянцем с солнечной стороны. Выступающий бугорок и ближайшие к нему части плода были блестящего ярко-зеленого цвета. Мякоть была плотная, колкая, прекрасного пряно-сладкого, с легкой кислотой вкуса. Плоды сохранились до апреля. Семечки в первых плодах были круглые и крупные, но невсхожие. В последующие годы плоды несколько изменились, приблизились к обычной форме яблок {14} .
Звонку мамы каким-то чудом удалось прорваться на паром.
– Ты где сейчас?
К вопросу он готов не был – и вообще не мог представить себе более тупикового вопроса.
Честно говоря, сейчас он был в Твери, рядом с мамой же, четырнадцати-пятнадцатилетним.
– Где – это в каком смысле? – осторожно спросил он.
– В территориальном смысле, понятно, – уточнила мама. – По моим подсчетам, ты к Гамбургу приближаешься.
– К Гамбургу и приближаюсь, – сдался он.
– И тетя Лида так сказала, я говорила с ней только что.
– О чем?
– О тебе… о чем же еще?
И действительно, о чем же еще говорить с тетей Лидой, как не о нем!
– Тетя Лида мне всё про тебя рассказала, она же свежим глазом тебя видела… ну, в смысле давно не видела, а теперь вот увидела. Ты постарел.
– За последнюю неделю, что ли? – огрызнулся он. – Ты же меня сама неделю назад видела! Даже меньше чем неделю.
– Ну… я-то таких вещей не замечаю, для меня ты всегда одинаковый, – не дала себя спровоцировать мама. – А тетя Лида говорит: постарел, осунулся.
«Осунулся»… вот слово!
– Что еще говорит тетя Лида?
– Еще тетя Лида говорит, что за границей всем русским плохо. Особенно, говорит, в Дании.
– Она же никогда не была в Дании! – возопил он.
– Так по тебе ведь видно… что плохо.
– Мам, давай мы сейчас этот вопрос не будем обсуждать. Приеду домой в следующий раз – побеседуем, а то тебе дорого – на мобильный за границу звонить.
– Ничего не дорого, у меня пенсия! Ты мне просто коротко скажи: тебе там плохо?
И это – после четырнадцати лет, прожитых им в Дании! После всех его рассказов и даже – после всего его красочного вранья… которого, разумеется, могло бы и не быть, но маму ведь не устроил бы пересказ его вполне и вполне обычной, среднего достатка и разнообразия, жизни. Как не устроил бы и другой ответ – тоже честный: мама, я не знаю, хорошо мне в Дании или плохо, я просто живу в Дании, это теперь моя страна – и я нахожусь здесь, не задавая себе вопроса, как тебе в Дании? – да мне и никак, мне так же, как в России… сама подумай, многие ли вокруг тебя задают себе вопрос: «Как мне в России?» Ничего такого он маме, конечно, не говорил – зачем? – а просто врал напропалую, придумывая всякие небылицы… и на тебе! Видевшая его от силы пять часов тетя Лида за один телефонный разговор разрушила всё, что он так тщательно строил годами…
– И коротко, и длинно: мне «там» хорошо, лучше не бывает.
– А ты зачем вообще-то поехал в Данию?
Ну, совсем, что называется, полный вперед!..
Словно это у них с мамой первый разговор за четырнадцать лет! Словно и не было его сорока с лишним приездов в Россию: ты зачем вообще-то поехал в Данию?
– Да я уж и не помню зачем!
Хоть бы Telia вмешалась… прервала бы это все, не нужно это все, у мамы плохое настроение, поздно, в Твери опять час ночи, скорый поезд «Москва – Хельсинки» стоит на первой платформе, если дернуть стоп-кран, можно еще что-то успеть…
– Напрасно ты раздражаешься, я просто спрашиваю.
– Да я не раздражаюсь нисколько… я просто отвечаю!
– Ну, понятно, понятно. А почему у вас с Кит детей нету? Вы бы родили кого-нибудь и мне отдали, я бы тут воспитала… – от всех бы забот вас освободила.
– Мам, при чем тут Кит… какие дети? Мне скоро шестьдесят!
– Шестьдесят не скоро еще… Ох, Господи, как время-то идет. В купе там кто с тобой?
– Немцы, я же по Германии еду. Они спят уже все.
– А ты почему не спишь?
– Я с тобой разговариваю, из коридора.
– А я перед тем, как тебе позвонить, задремала – и вдруг мне показалось: ты входишь. Даже вздрогнула. Это сон такой был… явственный очень.
– Ты давай ложись уже, времени час ночи в Твери, до завтрашнего утра… дня, ммм, часов до… до часу-двух никаких новостей не будет. А там я через день уже в Дании, в Ютландии, так что больше можешь не беспокоиться.
– Нет уж, я только тогда перестану беспокоиться, когда ты из дома позвонишь. Ютландия тебе теперь не дом, все может случиться. Тетя Лида и вообще про Данию говорит: плохая страна, маленькая, провинция Европы… медвежий угол.
И тут он встал на защиту Дании. Он всегда вставал на защиту Дании, когда о Дании начинали говорить плохо, и на защиту России – когда о России. Разразился пламенным монологом, который, услышь Дания этот монолог, поверг бы и ее саму в благоговейный трепет. Получилась такая… бравурная колыбельная. Под нее маме, даст Бог, будет легко заснуть.
– Ну ладно, спокойной ночи тогда…
– Спокойной ночи, мамуль, не волнуйся ни о чем. Дания – лучшая страна в мире.
– Ну, слава Богу, слава Богу…
Оставалось вынуть из кармана фляжку с баллантайнсом: так ведь и сопьешься, не ровен час. Отхлебнул глоток, поморщился… гадость и гадость. Закусить пришлось опять жевательной резинкой, но это не беда, дело привычное.
Ах, мама, мама… Дания или не Дания – какая разница! Западная Европа вся одинаковая. Как говорит один из его московских знакомых, сильно продвинутый и вообще: «Ну, был я в Дании – ничего особенно, та же Голландия». И правильно, та же Голландия, ничего особенного! В Копенгагене, кстати, даже Город голландцев есть – райончик такой, один в один Амстердам, вот.
Сам он – раз и навсегда, кажется – понял Европу (правильно или неправильно понял – его личное дело) лет десять назад.
В Копенгагене, стало быть.
В июле, в воскресенье, во второй половине дня.
И с тех пор он убежден: только в июле, в воскресенье, во второй половине дня можно понять Европу, а другое время для этого не подойдет. Нет, необязательно, чтобы вокруг был именно Копенгаген – годится любая европейская столица, только важно жить в ней, а не приехать-посмотреть.
Он хорошо помнил ту июльскую прогулку по пустому городу – не то чтобы совсем в историческом центре, но поблизости: Трианглен и все такое. Понятное дело, закрыто было везде: тогда профсоюзы за этим сильно следили, не как сейчас. Единственно, кафешки всякие полузадрипанные – не в большом количестве, изредка, да и не все открыты… на открытые-то народу не набиралось: Дания не кафешная страна, цены не те. Впрочем, цены он, как всегда, игнорировал, не воспитав в себе первейшей датской добродетели, так высоко ценившейся Лютером – бережливости. И знал, что собирать состояние крона за кроной – это не к нему.
Он и тогда – в июле, в воскресенье, во второй половине дня – не пропустил ни одного кафе, хоть, как сказано, и полузадрипанного… нет, не кофе постоянно пия, а разные там, коктейли-моктейли, к которым слабость у него: намешать в высокий стакан всякой всячины, льда побольше бросить – и уже хорошо. Лишь бы много разных компонентов и много льда.
Ему всегда нравилось сидеть возле кафе, под каким-нибудь разноцветным грибком-зонтиком, имея около себя не тот, так другой коктейль, сигареты, ну кофе, если не в такую жару, а больше ничего, ибо есть он, вообще говоря, ненавидит: сам процесс приема пищи, так сказать… этот процесс неприятен ему почему-то. А вот смотреть на проходящих мимо, выдумывать им судьбы и знать, что на самом деле все у них по-другому, и хорошо, что по-другому, и слава Богу – это пожалуйста.
Особенно он любил придумывать прошлое и будущее – вылавливая из состава народонаселения стариков и детей и подолгу провожая их взглядом. То, что находилось в промежутке между прошлым и будущим, его не интересовало, да и глупое занятие – придумывать настоящее. Он потому и не любил настоящее, что придумывать его бессмысленно, оно есть такое, какое есть: мелкое, бескрылое, тоскли-и-ивое. Это прежде все было не так – и дальше все не так будет, а сейчас – увы, так и только так.
Иногда ему улыбались: когда глаза его чуть дольше задерживались на ком-нибудь из прохожих. И он улыбался в ответ прохожему: в Дании это закон. Ибо почти преступление – не улыбнуться в ответ на улыбку, и он так хорошо усвоил это, что и в России начал было улыбаться, когда кто-то останавливал на нем взгляд. Но тут как раз и совершалось по отношению к нему преступление: в ответ не улыбались. Уж чем-чем, а приветливой страной Россия так и не стала, и к улыбке, словно мы в мире животных, относится как к проявлению агрессии: эй ты, чего лыбишься?
Вы-же-звери-господа!
Он не то чтобы отвыкал от России и не то чтобы отдалялся от нее (какое там, времени тогда всего-ничего прошло!) – ему уже просто начинало не хватать сил на две страны, на две роли, требовавшие полной отдачи сил и игравшиеся поочередно, иногда по нескольку раз на дню. Время от времени он забывал, что это две разные роли, и продолжать быть русским в ситуациях, требовавших датскости, или датчанином в ситуациях, предполагавших русскость, – и от этого никому не было хорошо, в первую очередь – ему не было хорошо: что-то отказывало внутри – и все шестеренки начинали вертеться вхолостую.
Вот и на той прогулке – в июле, в воскресенье, во второй половине дня – шестеренки вертелись вхолостую, и он – русским – шел по Копенгагену, вдруг – видя Копенгаген и всю Европу из него видя.
Европа не сказать что была мертва в июле, в воскресенье, во второй половине дня – Европа, скорее, дремала. Послеполуденный отдых фавна, подумалось… так потом, кстати, и думалось – всегда: Европа-послеполуденный-отдых-фавна.
В рассеянном солнечном свете хорошо было видно, что все-то тут старенькое, бывшее (и бывшее, и бывшее) в употреблении, чиненое-перечиненое, хотели выбросить, пожалели, оставили, теперь заботятся, тряпочками вытирают, пыль сметают, а сами-το понимают уже: увы, большое человеческое увы… но особенно задумываться лень – авось, сколько-нибудь послужит еще – с нашим-то чувством порядка!
А порядок в чем… вот, расставили глупости всякие по витринам, мелочи всякие, безделушки прошлой жизни, было-время-собирали, что-то оно значило все и теперь, кажется, значит – вон как заботливо храним, вон как любим, вон как помним! Фарфоровая балеринка в поблекшей матерчатой пачке, чайничек – голубой, с отбитой эмалью, книжка желтая вся, дитенком изрисованная, свобода-равенство-братство эпохи Просвещения, демократия, потрепанная в боях за саму себя, лохмотья сплошные, идеализм – мятый, бумажный, того и гляди в прах превратится, горсти бесплодных теперь семян – ив замысловатых флакончиках, и так рассыпанных, где пришлось… красиво чтобы и близко к природе, выгоревшие на солнышке муляжи овощей и фруктов, шарфики, шляпки, перчатки, сумочки, зонтики, заколки…
Ах, Европа, Европа, бабушкин милый чулан! Только б чужие не приходили, не сдвигали ничего, не искали обветшавших ценностей, нету у нас, идите в Америку, а далеко в Америку – у нас тут и своя Америка есть, пусть маленькая: это ближе к окраинам, мы там кое-чего из стекла и бетона построили – не потому что самим надо было, а просто чтобы вас, гости дорогие, от бабушкиного милого чулана отвлечь, нечего там делать, в чулане, прошлое время там, тихой заботы требует, мягких рук да полинявшей улыбки!
Послеполуденный отдых фавна… старого чудака, которого уже на целый день и не хватит, передышки нужны – хоть вот и в хромом кресле возле кафе, за остывшей сто лет назад крохотной чашечкой кофе с птифурами – пусть и тремя штучками, да вручную испеченными, с любовью и тщанием, и все-то пропорции соблюдены: сливок полкапли да пол-ложки сахарной пудры, да маслица на кончике ножа, да ягодку посерединке – пальчики оближешь, не из супермаркета. А совсем уж разгуляться захочется – конфету купи, шоколадную, тоже домашнего приготовления: по одной ваялись, по одной и продаются, каждая в отдельной бумажке кружевной. Как – сто грамм?., у нас и весов-то таких нету, чтобы по сто грамм, тут штучное все, нельзя вместе складывать! А что маленькое – так ты ведь не есть сюда пришел, правда? Ты ведь дома поел, как мы все надеемся? Вот и правильно, потому как тут не едят у нас, не едят и не пьют – тут н-а-с-л-а-ж-д-а-ю-т-с-я. Да и денег у тебя столько нет – чтобы на сто грамм, и не потому, что бедный ты, а потому что – сильно дорогое, извини, искусство: фру Йенсен целый час предрассветный над конфеткой твоей трудилась. За одною такой конфеткою гости обычно полдня сидят, час на нее только смотрят, второй час – бумажку кружевную удаляют, а удалят – и опять любуются: что за красота! Сверху – решеточка такая марципановая, и по каждому прутику – змейка тонюсенькая, из шоколада, с глазками, ротиком и маленькой короной на голове, а спинка в чешуйках вся: чешуйка к чешуйке, тоже шоколадные. Ну не произведение ли искусств, даже откусывать жалко! Но приходится все-таки откусывать… секундочку-секундочку, не так, не по половине и не по трети – понемножку ! Да ты что, голубчик, первый раз в Европе? Оно и видно, раз всю конфетку целиком в рот засунуть норовишь!
Это кто ж закричал-το там – с ума, что ли, посходили, господа хорошие, можно ли кричать, можно ли воздух колебать, все же на липочке держится… вон бабуля с лиловым перманентом по воздуху летит от вашего крика – вон девушка тоненькая, сливки в наперстке подающая, пополам сломалась – вон у мальчишечки в полосатых чулочках лямка лопнула, штанишки свалились – а вон и гуманизм, ветхий совсем, с балкона соскользнул, да, слава Богу, за карниз зацепился, насилу держится… не шумите уж вы, пожалуйста, Европа тут, послеполуденный отдых фавна.
И – ах! – подумалось, недолго всему этому быть, на его-то век, может, и хватит, а дальше, небось, и не будет: в нехороший один день трещинка побежит – и конец всему. Хрупкое тут все, недолговечное, опасно…
А людей вокруг мало совсем было в тот день. Казалось, что и вообще больше нет: что столько и есть, сколько видно.
Может, и правда столько?
Но, Боже мой, как же он любил эту старую Европу, Боже мой, как он ее любил!
…Все терпеливо сносила любящая мать его (отец Августина скончался вскоре после отправления его в Карфаген), но ереси не могла стерпеть в нежно-любимом сыне своем: она отказалась иметь с ним всякое общение, выгнала из своего дома и проводила горькие дни в непрестанных слезах о погибели чада своего и в молитвах о его обращении.
Однажды, после обильных молитвенных слез, она заснула и во сне увидала пред собою светлый образ юноши, который с участием спрашивал о причинах такой горести ее. «Оплакиваю погибель сына моего», – отвечала она.
Юноша, желая успокоить ее, возразил, что сын ее с нею, и приказал обратиться и посмотреть ей около себя. Мать обратилась и увидела подле себя сына. Это сновидение почла она добрым пророчеством и спешила рассказать его сыну.
«Что ж, – спокойно отвечал Августин. – Это значит, что и ты скоро будешь там, где теперь я, там будешь и ты». И с той поры она опять стала разделять с ним трапезу.
Однако ж, время текло, а сын не обращался. Все, что могла, делала для него мать, делала с необыкновенным усердием и постоянством; но, казалось, ни в чем не успевала.
Наконец она решила идти к епископу и просить его о вразумлении заблудшего; но епископ не соглашался на это, говоря, что Августин, недавно приставший к еретикам, еще не способен теперь вразумиться истиною. «Оставь его, – говорил он, – со временем он сам увидит грубость своего заблуждения и отвергнет его». В доказательство епископ указывал на себя как на пример подобного обращения, ибо в молодости и он заражен был манихейством.
Когда же мать, не успокоенная таким предвещанием, со слезами приступила вновь к опытному старцу и просила его призвать к себе сына ее и мудрою беседою направить на путь истины, тогда епископ, как бы с некоторым укором, сказал ей: «Ступай, и живи, как живешь! Невозможно, чтобы чадо таких слез погибло!» {15}
Конечно, проект с Робертино рухнул, и стало казаться: так им и надо всем, не хотят – пусть не будет у них ни того, прежнего, Робертино, ни другого не будет – даже и хуже, даже и из совсем другой страны… никакого не будет, потому что никакого не заслужили, даже такого, как он, хуже и из другой страны… Да и не Робертино он вовсе: Робертино смел, а он не смеет – на улице, при всем народе… В общем, рухнул проект, кто виноват – неважно, рухнул, и когда, стало быть, проект рухнул, то сразу после скучного пения в хоре песни с эгоистическим финалом «пусть всегда буду я» возник новый с иголочки проект под названием «драматический актер». Где-то он прочитал это словосочетание «драматический актер» – и оно ему понравилось: не просто значит абы какой актер, а драматический!
В клубном кружке, который вел настоящий драматический актер – во всяком случае, актер из областного драматического театра, импозантный бодрый старикан, сильно пахнувший мятными конфетами и постоянно совавший их в рот, одну за другой, ставили «Снежную королеву» – и его тут же взяли на роль принца Клауса… так назвал принца Шварц. Ну, Клаус, так Клаус… пусть сам он и мечтал о роли Кая, которая, увы, была занята. Ему даже не так хотелось играть Кая, как просто спеть ту песенку, которую Кай и Герда распевают в начале, а дальше уже неважно, дальше можно играть Клауса.
Впрочем, скоро настоящий драматический актер ни с того ни с сего велел ему разучивать роль Кая, хотя Кай уже один был… оказалось, идея состояла в том, что он и, говорят, похожий на него Коля, первоначальный Кай, должны играть посменно: если Коля Кай, он – принц Клаус, если Коля принц Клаус, он – Кай. С Колей они, кстати, сильно подружились года на три-четыре.
Со времен Кая и навсегда потом сохранилась в нем эта песенка: ею открывался спектакль. Занавес, после ухода с авансцены Сказочника, еще полз к разным концам сцены, а песенка уже звучала. Кай и Герда, сидя на какой-то скамеечке и взяв друг друга за руку (соответствующие руки, по замыслу режиссера, должны были быть вытянуты вперед), выписывали ногами осторожные кренделя (ноги скрестить – ноги в стороны, опять скрестить – опять в стороны) и при этом пели: снип-снап-снурре, пурре-базелюрре… снип-снап-снурре, пурре-базелюрре – раз пять, кажется. Потом раздавался стук в дверь, входил Коммерции Советник, так назывался этот персонаж, не очень понятно, и все начиналось всерьез.
Но главное – песенка. Он словно откуда-то знал ее! Ну, или почти знал: она была на его языке, который он придумал еще в те времена, когда иностранцем гулял по Твери. Точно на том самом языке. Ему вполне могло бы тогда прийти в голову направиться к кому попало и спросить:
– Снип-снап-снурре? Пурре-базелюрре?
– Тебе чего, мальчик?..
Ганс-Христиан Андерсен, сочинивший «Снежную Королеву», сочинил ее как будто для него – через время послав ему намертво закодированное для всех остальных сообщение на том, на общем их языке, которые знали только они вдвоем. Остальным досталась сказка, в которой девочка искала и находила братика, что ему никогда не было особенно важно: снип-снап-снурре – вот что было важно, только оно единственно и было важно, тайный разговор, перекличка двух сердец:
– Снип-снап-снурре?
– Пурре-базелюрре!
Две малые птицы, продающиеся за ассарий.
Он, даже и став взрослым, не желал выяснять, стоял ли за этими трелями какой-то конкретный язык. Он боялся узнать, что у трелей есть общечеловеческий смысл, понятный, например, соотечественникам Андерсена… датчанам, где-то там себе живущим, в Дании. Если это понятное ему одному сообщение означает по-датски только что-нибудь вроде дети-в-школу-собирайтесь-петушок-пропел-давно… тогда, наверное, все опять кончено, все опять напрасно и жизнь ни к чему.
Пробыв в Дании всего-ничего, он вынужден был признаться себе в том, что сообщение это на датском таки. Он еще не понимал смысла сообщения, столько датского у него пока не было, но угроза понимания становилась все более очевидной. Он считал дни… сколько ему осталось: пять дней, пятнадцать, месяц? – и вылетит откуда ни возьмись сначала, скажем, «снип», за ним «снап», потом «снурре», неважно, в каком порядке… и – все! Не было, дорогой ты мой, никакого тебе привета через время, не было никакого закодированного сообщения, отойди-мальчик-не-с-тобой-разговаривают.
Он уже даже знал (слов не понимая), что русская графика точно датского произношения не передавала и что записывалась сия магическая формула так: «Snip, snap, snurre, purre basselurre». Время прозрения, стало быть, приближалось и ужасало – он еще не знал тогда, как далеко до прозрения. Да и сейчас не знает. Бродит по пустой и мокрой палубе и – не знает. Он ничего не знает – он только помнит, а это не одно и то же. Или одно и то же?
А потом на спектакль, где он пел свою песенку и был Каем, пришел важный человек, критик – и он случайно услышал, как критик после спектакля говорил настоящему драматическому актеру: «Очень удачная постановка, только одно замечание: Кай у тебя получился принцем, а принц – Каем».
Но он так никогда и не выяснил для себя, кем было лучше ему самому – Каем или принцем. И кем – Каем или принцем – он все-таки покинул драматический кружок.
Точка бифуркации.
Может быть, с этого времени все и стало запутываться в его голове – с этого времени, с этого замечания?
Глупости!
Ничего не запутывается в его голове – и не запутывалось никогда. Ему просто было лень объяснять что бы то ни было кому бы то ни было – включая себя самого: объяснений ведь можно найти сколько угодно, для всего объяснений, да только зачем? Он всегда знал, что гораздо проще объявить себя не-вполне-вменяемым: объявишь – и никто не ждет никаких объяснений. А уж с собой-то о собственной не-вполне-вменяемости договориться – и вообще пара пустяков.
Соответствующей тактике он научился гораздо позднее– во времена Кая и принца Клауса о таком и думать было нечего… впрочем, никто тогда объяснений и не требовал. Это теперь на каждом шагу требуют: почему то да почему то… почему Вы фигурку Будды с собой носите? почему Вы верите в реинкарнацию? а в параллельные миры почему верите?
Да ни во что я не верю, уйдите!
И вообще… вместо того, чтобы убеждать хоть других, хоть себя самого в том, что глупо заниматься поисками точек бифуркации в истории человечества, ибо любой момент нашей жизни, без исключений, есть точка бифуркации – так вот, вместо этого встряхнем-ка мы головой и блаженно улыбнемся… как бы мы, дескать, не в себе. И в любой, опять же, момент нашей жизни такое выкинуть можем – вся отечественная и зарубежная психиатрия по швам затрещит.
Впрочем, нет-нет, ничего буйного: мы все-таки люди воспитанные.
И поди различи: это «такое» потому выкинуто, что тут у нас – как и везде – точка бифуркации, или потому, что мы не в себе… то есть, снова не в себе.
А точки бифуркации, стало быть, действительно на каждом шагу. Входишь в ситуацию и знаешь: выйти из нее можешь кем угодно, ибо все пути открыты и каждый ведет к другому будущему. Только не оглядывайся, чтобы не увидеть себя самого, пошедшего по иному пути.
Ему не нравилось ни отстаивать эти идеи перед кем бы то ни было, ни убеждать в них себя самого, так что он предпочел казаться странным. А потом и привык казаться странным. А потом и стал странным. А потом и смирился с тем, что странный. Вполне нормальная эволюция, какие-то вопросы? Вот и хорошо, что никаких, спасибо.
Значит, все в порядке – и, как там у Мея, Райнхарда в смысле… selig sind die Verrückten. Когда-то он недели две проносил эту песню во рту – во времена Ютландии. В благословенные времена Ютландии, в сумасшедшие времена. Когда-нибудь к старости, доведись такой догнать его, он уедет туда, и снова будет ходить по берегу, устланному темными водорослями, жевать опасные для здоровья сникерсы да писать на песке бессмертные строки, у самой кромки воды – дожидаясь волны подлиннее, которая смоет все отсюда к чертовой матери… хорошо бы с ним вместе! А к вечеру возвращаться домой, поедая по пути крупную черную ежевику, которой по обеим сторонам дороги пруд пруди и которой никогда не насытишься. Одного только не будет уже никогда: не встречать ему на подходе к дому старых знакомцев, не выслушивать их тщательно артикулируемых вопросов, не улыбаться беспомощно, не кивать и не отправляться восвояси, зная, что крестьяне долго еще смотрят тебе вслед и качают головами: вот, дескать, беда-то, совсем, видать, немой – или на голову больной…
Selig sind die Verrückten!
Странно, что его, горожанина до мозга костей, могла так привязать к себе деревенская Ютландия с ее желтыми гречишными полями, навсегда замершими на месте коровами и страшно беспокойными, постоянно выяснявшими отношения курицами, с ее автобусом-призраком, курсировавшим полями, прямо между коров и куриц, два раза в час по будням и один раз по выходным, – причем привязать уже после того, как он (надо признаться, с радостью) покинул ее для новой жизни, даже как следует не простившись ни с кем и ни с чем. В сознании крестьян он, конечно, так и остался иностранцем-не-от-мира-сего – вызывающим жалость и нежность. Бывало, они приносили ему молоко и сыр, неким чудесным для него образом произведенный теми самыми замершими на месте коровами, безупречной формы яйца беспокойных куриц, хлеб собственной выпечки, а по праздникам – домашнее печенье и самодельные сладости с марципаном, курагой и изюмом. Когда не могли застать его дома, просто оставляли принесенное у двери – и он никогда не знал, кто именно и что именно принес… да и зачем принес, и кого за что благодарить – тоже не знал, так что – на всякий пожарный – благодарил всех. Только потом он понял, что, например, свежие яйца (понятие, прежде вообще отсутствовавшее в его сознании) считаются и вкуснее, и полезнее, не говоря уже о хлебе или, там, даже сладостях. Правда, вкуснее все это в те времена ему не казалось, а о полезности он и вовсе никогда не думал.
Там все говорили с ним на «пограничном немецком» – весьма беглом и почти в той же степени бедном, – дружно и охотно снисходя к его инвалидному датскому и принуждая себя к не очень, мягко говоря, почитаемому здесь языку соседей. Было трогательно… Зато впоследствии немцы иногда ловили его на датском акценте в немецком, с удивлением вспоминая, что изначально акцента у него не было. Он и сам, произнося немецкие слова, слышал Ютландию и вообще-то мог бы без труда убрать ее… а не убирал. И ничего не делал, оставлял все как есть: он полюбил Ютландию.
Так что если когда-нибудь его догонит старость…
Он стоит и врет себе. Никакой Ютландии в старости ему не видать, ибо насчет старости у него уже есть твердая договоренность: его старость пройдет в другом месте. В другой стране, где он пока еще не бывал. Там его будут ждать, там и сейчас есть для него маленькая комнатка в одном чудесном доме на границе трех стран, есть письменный стол (интересно, для чего, если он давно уже все просто в воздухе пишет), есть кровать, есть шкаф и в нем книги – много, говорят, книг. Так вот, там и будет проходить его старость – знать бы еще, когда она начнется и начнется ли когда-нибудь вообще, потому как по всем статьям пора бы ей начаться вот-вот… или даже уже быть. Если это так, почему он до сих пор здесь, а не в чудесном доме на границе трех стран? Почему возвращается в Данию, когда это совсем в другой стороне? И почему снова и снова дает Ютландии заворожить себя – что в ней такого, в этой Ютландии? Одни бескрайние просторы да здоровый образ жизни… то есть именно то, без чего он обошелся бы в первую очередь! Ан не отпускает Ютландия, и все снится ночами – не автобус, пробирающийся между коров и куриц… меньше, гораздо меньше: узор на велюровой обивке сидений, лиловые, зеленые и синие пятнышки по серому фону – хаотично разбросанные. Впрочем, он в свое время, по два раза на дню, а то и чаще в этом автобусе путешествуя, понял логику чередования лиловых, зеленых и синих пятнышек, но никому ее не расскажет. Вот пусть хоть что делают, пусть хоть пытают… есть в мире святые вещи, и одна из них – логика чередования лиловых, зеленых и синих пятнышек на сером фоне в автобусе 204-го маршрута.
И логику ту он не забудет никогда, не сомневайтесь! У него и сейчас еще это ощущение на кончике указательного пальца правой руки: жестковатый ворс велюра, чуть подающийся в стороны при легком нажатии – исследованный когда-то вдоль и поперек… А уж потом-то он, проводя указательным пальцем по спинке впередистоящего (и обычно пустого) сидения, даже с закрытыми глазами мог рассказать, где кончается серое пространство и начинается лиловое пятнышко, где кончается лиловое и начинается зеленое, а также когда настает синее… – любви глаза не нужны.
I. Snap <…> [sna b ] мн. то же ( ст. – датск. Snap , нем. schnapp (и schnappe) , англ. Snap, соотв. глаголу snappe ( совершать быстрое движение, тянуть, хватать, иногда ртом), ср. Snaps ; особ. разг., диал. или спец.) 1) (отдельное) хватательное движение (хватание) или соответств. звук <…> || <…> (ветерин.) беспорядочное движение, совершаемое лошадью, когда она, делая шаг в сторону, ( быстро и ) высоко поджимает одну из задних ног под себя <…> || <…> о (звуке, производимом при) движении ртом (клювом) ; 2) при спец. употр. 2.1) (ср. Snaps) как обозначение меры: столько, сколько берут (ухватывают) за один раз, м а л е н ь к а я п о р ц и я; н е м н о ж к о; тж. (диал.): короткий отрезок пути <…>. 2.2) <…> (спец.) приспособление для удержания (ухватывания) ч.-л. и проч. || <…> в часовом механизме .
II. snap , прилаг. [sna b ] (ст. – и др. – датск., шв., норв., диал. snapp, ср. шв. snabb); вероятно от гл. snappe (*см. выше) или (в гос. датск.) заимствование из шв. редко в гос. шв.) быстро, бодро (о движении) <…>
III. snap, причаст. от <…> snappe (* см. ) или snippe (* см. )
IV. snap, междт. в сочет . snip snap и под. {16}
Нина думала, думала, думала.
Ансельм просто читал книжку.
Аста спала или делала вид, что спит.
Поезд летел по Германии, очень скорый поезд.
И Нина думала, думала, думала.
Аста спросила ее перед сном: «Как тебе кажется, он приедет?»
Нина доподлинно знала, о ком идет речь.
– Я надеюсь, – честно сказала она Асте: такие, честные, у них были отношения.
– Он обещал, что приедет. Что скоро приедет. Он мог обмануть?
– Он не мог обмануть, – уверенно сказала Нина. – Но он может забыть… или опять потеряться, ты же знаешь, какой он нелепый.
– Знаю, – взросло вздохнула Аста. – Я хочу с ним жить и заботиться о нем, а то ему одному трудно.
– Он не один, не волнуйся, у него есть Кит, – улыбнулась Нина.
Аста снова вздохнула:
– Кит самой присмотр нужен…
– За что ж ты его так полюбила? – Нина уже, наверное, в сотый раз задавала дочери этот вопрос.
– Не знаю, – обычно вздыхала в ответ Аста. – Разве это можно знать?
И Нина думала, думала, думала.
Ты права, Аста. Этого нельзя знать. Это полная мистика – особенно со стороны. Когда он был в гостях в первый раз, и Ансельм предложил ему не ехать в отель, а переночевать у нас, тебе только что исполнилось три. Тогда ты ему ни слова не сказала, только взглянула на него пару раз и отправилась спать – сама! Сама пошла в свою комнату, сама разделась, сама легла в постель – и уже это было странно. А через год, стоило ему войти в дом, ты бросилась к нему на шею и три дня ходила за ним как зачарованная – хотя он только и делал что подтрунивал над тобой, постоянно вздрагивая и резко оборачиваясь: «Ой, по-моему, у меня хвостик оторвался!» И ты хохотала как никогда в жизни. А потом ты ждала, ждала сначала его одного, потом его и Кит – и когда он или они вместе звонили, всегда знала, что это они. Интересно, понимаешь ли ты, сокровище мое, что твоя любовь к этим двум людям не детская, она – материнская?
Вот и сегодня… Ансельм только и делал, что толкал меня в бок: смотри-ка, смотри, дескать! Аста водила своего идола за руку – не он ее за руку водил, а она его! И постоянно командовала: шарф завяжи потуже… к клетке близко не подходи – это тебе не кролик, а тигр… не кури так часто – брось сигарету, только что курил… на звонок почему не отвечаешь, не слышишь? Самое смешное было, когда его встретили в обществе дамы этой, которую, как вино, зовут, она сама сказала, – Аста, едва бросив взгляд на даму и ее мужа-призрака, по-шведски спросила: откуда у тебя такие друзья, совсем тебе не подходят?
Странно, что он исчез… – причем именно тогда, когда я Асту в туалет повела. Хорошая была по возвращении сцена: Ансельм один стоит, фазана разглядывает, а Аста озирается, озирается – просто настоящая наседка, цыпленка потерявшая, потом к отцу подходит и, качая головой, спрашивает: «Ну что, упустил?» (в подтексте: «На пять минут тебя с ребенком оставить нельзя!»)
Асте, которая потом не на шутку испугалась, что его какой-нибудь тигр к себе в клетку затащил и сожрал, он по телефону сказал, что заблудился, – как же, заблудился, а то мы его не знаем! Нина опять улыбнулась. Даже Аста потом сообразила: «Он нарочно убежал от нас, мы слишком сильно о нем заботились».
Нина его, кстати, недолюбливала, хоть виду и не подавала: больно уж Ансельм ценил его… а ведь, казалось бы, не за что, вроде. Обычный полоумный, совершенно непредсказуемый – именно в силу полоумности своей. В этом они с Кит, кстати, очень похожи: чудная пара, неадекватная. А уж чего Аста-то с ними обоими так носится – и вообще непонятно! Сегодня сказала Нине задумчиво: «Они как дети». «Ты сама ребенок», – возразила Нина. А Аста – ей: «Так в том-то и дело!» В чем, то есть, дело?
У Ансельма с ним общего – ничего (слава Богу). Если бы за Ансельмом, как за ребенком, надо было ходить, она бы, честное слово, сильно подумала, нужен ли ей Ансельм и не хватит ли одной Асты. Хотя на Ансельма он все-таки влияет – и плохо, конечно, влияет: стоит ему появиться, Нина то и дело замечает, что раздражает Ансельма… всем сразу раздражает. И хотя Ансельм обычно находит этому другие объяснения, Нине понятно: не будь у них такого друга, она, Нина, и сейчас вполне бы Ансельма устраивала – как до появления «друга», стало быть.
Нина, пожалуй, ревнует Ансельма к нему – нет, даже не столько к нему, сколько к их бесконечным разговорам: она бы и сама не прочь участвовать в этих разговорах, но не понимает, о чем они. Ей эти разговоры кажутся просто переливанием из пустого в порожнее, а вот Аста, если присутствует, сидит и слушает. Ни слова не говорит, только слушает. Нина поинтересовалась однажды: «Аста, тебе понятно, что они говорят?» – «Нет, – ответила та, – я просто слушаю. Они говорят, как будто поют». Иногда Аста засыпает у кого-нибудь из них на коленях.
Есть люди, которые не жизнь живут, а слова, объяснял Нине Ансельм. Я таких людей еще не встречал, он – первый. Ему важно только, что как называется: узнано – и пропал интерес, и больше не надо ничего.
Нина не понимала, как это – жить слова . Ей всегда казалось, что слова не могут существовать отдельно от жизни, что жизнь и есть источник всех слов. Конечно, есть такие слова, как «ведьма» или «тролль» – им ничего в жизни не отвечает, но нам хотя бы кажется, что и им что-то отвечает в жизни – пусть не ведьмы и не тролли как таковые, пусть те, кого мы принимаем за них! Нет, не может слово вовсе ничему в действительности не соответствовать…
Но Ансельм – понятно, под его влиянием, – считал теперь, что очень даже может. Более того, говорил, эти два мира и вообще существуют сами по себе – и нет между ними понятных связей. Почему дерево называется «дерево»? Что такого есть в дереве, что заставляет нас для наименования его использовать именно эти буквы – эти согласные и эти гласные? Тут Нина, конечно, терялась… ее разговор с Ансельмом начинал напоминать разговоры Ансельма с русским, который якобы только в мире слов и живет. А таких разговоров она теперь боялась: ей казалось, что они до добра не доводят… «Я боюсь», – признавалась она тогда Ансельму, но он – особенно в последнее время – тут же начинал злиться и говорить всякие обидные вещи вроде: «Не бойся, тебе-то уж, во всяком случае, ничего не грозит». И ей делалось обидно – ее унижало «тебе-то», унижало и «во всяком случае»… словно она некое совершенно тупое существо, которого никакие коллизии задеть не могут!
Тем более что боялась она как раз и не за себя – она за Асту боялась. Аста вела себя странно – не поступала странно, а говорила… странные вещи говорила. Например, подойдет ни с того ни с сего – хочешь к Нине, хочешь к Ансельму, хочешь к кому хочешь – и спросит: «Можно я тебя с сегодняшнего дня буду называть “рогалик”»? Что – «рогалик», почему – «рогалик»? Я похожа на рогалик? Ну, называй… Так и называла бы – ан нет, разрешения только спросит, а не называет. Через несколько минут подойдет – и опять: «Ничего, если я тебя теперь “королевский дворец” называть буду?» И так целыми днями… играет, а во что – непонятно!
«В номинацию она играет, – устало объяснял Ансельм. – Поняв, стало быть, что любая номинация произвольна».
А вот и не произвольна – кого угодно спроси: как это называется? как то? а как во-о-он то? И все ответят одинаковыми словами: стол, полка, машина стиральная… Откуда-то ведь мы узнали эти слова, каким-то образом поняли ведь, что стол не полка, а полка не стиральная машина! Был же, значит, какой-то у названий смысл… наверное, раньше был, просто теперь не виден!
– Аста, ты можешь называть меня как хочешь, только скажи: зачем тебе это надо?
– Мне не надо, – теряется Аста. – Мне просто интересно, если ты вдруг не мама, а пол-яблока.
Нина вспоминала себя ребенком и готова была поклясться, что ей никогда ничего такое «интересно» не было и быть не могло. Ей и сейчас это неинтересно – ей даже не смешно, когда она слышит Астино: «Пап, а можно я тебя теперь всегда буду называть “крем для рук”?» – и ответ Ансельма: «Да ради Бога, только я тогда буду называть тебя “зубочистка для ушей”!»… а они – оба – хохочут как сумасшедшие… что тут смешного?!
Аста вообще всем и всему вокруг странные какие-то имена дает: например, соседка, милая фрекен Викандер, называется у нее «фиолетовый джем», почтальон Ольссон – «рудокоп», а пес их, Пикколо, – «почтальон Ольссон»… и, главное, Пикколо отзывается!
– Почему ты всех переименовываешь, Аста?
– Потому что у меня слов полон рот.
И при этом Ансельм считает, что с ребенком все в порядке! Но ничьи дети, Нина поспрашивала вокруг, ничем подобным не занимаются.
– Мама, а давай теперь вместо «нет» всегда говорить «крокодил»?
Так, значит, и будем теперь жить – пустыми словами обмениваясь. Только словами ведь сыт не будешь, и в слова не оденешься, хоть Аста и говорит: «На мне надето слово “шляпа” – разве ты не видишь?» Ансельм отвечает: «Конечно, вижу, как же не видеть», – а Нина сопротивляется: «Нет, не вижу, слово нельзя увидеть!» Тогда Аста приносит ей какую-нибудь книжку, открывает и показывает слово – ткнув пальчиком наугад: «Видишь? Зачем же говоришь: нельзя?»
– Я никогда не встречал более не вербального человека, чем ты, – совсем недавно сказал Ансельм раздраженным голосом, причем просто так сказал, не в ответ на что-нибудь. Подумал – и исправился: – То есть, менее вербального, чем ты, человека… никогда не встречал.
Нина не очень поняла, какое из ее качеств он конкретно имел в виду, но что сказанное не комплимент – прекрасно поняла… впрочем, сделав вид, будто не поняла и этого. Ей теперь часто приходилось делать вид – чтобы хоть самой не увеличивать расстояния между ними, которое и без нее росло – не быстро, но ощутимо. Нина и Ансельм уже с трудом различали очертания друг друга, приходилось сильно вглядываться… впрочем, иногда не помогало и это: вглядываешься, вглядываешься, а на той стороне – никого. Кажется, их и вообще связывала теперь только Аста, быстрыми своими шажками в мгновение ока покрывая мили между ними и принося родителям сообщения друг от друга. Хотя время от времени и Аста могла застрять в пути: тогда Нине казалось, что Ансельм неделями не отвечает на ее вопрос – или, наоборот, Ансельму казалось, что Нина слишком долго не задает вопросов. Между тем как Аста все это время изнемогала в пути, борясь с новыми и новыми препятствиями. Пару раз ей даже пришлось вернуться назад: она уставала пробиваться на противоположную сторону и возвращалась – всегда к отцу, поскольку, давно уже пора сказать честно, папина дочка была.
Нина, конечно, знала об этом: она еще и поэтому не шла ни на какой серьезный разговор с Ансельмом. Разговор не обещал закончиться в ее пользу, ибо Аста – дойди дело до дележа – вне всякого сомнения, захотела бы остаться с отцом. Да и Ансельм не мог думать иначе: уж кто-кто, а он-то знал Асту наизусть.
Спроси Нина себя, кто во всем этом виноват… – ну хорошо, пусть не во всем, пусть во многом – она бы ответила: имярек. Он и сейчас, когда формально между Ниной и Ансельмом полный порядок, ведет себя так, будто никакой Нины не существует. Сегодня в зоопарке, оставшись вдруг с Ансельмом один на один, она даже не выдержала: «Мне вот что интересно: почему он меня за человека не считает…» Ансельм посмотрел на нее с состраданием (которое он вполне и вполне мог бы сэкономить для себя самого!) и вздохнул: ты неисправима.
– Тут ведь дело не в том, за кого он тебя считает, Нина! – Ансельм опять начинал злиться, и Нина уже сожалела, что не сдержалась. – Он просто не видит тебя, правда! Говорю ведь, он живет в мире слов, а там, в мире слов, тебя нет, ты человек действия, ты слишком отсюда, понимаешь?
«Отсюда»! Она ненавидела эти пространственные ограничители, вечно отбрасывавшие ее куда-то в сторону… хм, в сторону от основной магистрали развития человечества. А вот нет никакого «отсюда» и «оттуда» – скушали? Все эти ограничители вы сами придумали, чтобы ее из своего круга исключить! Ну, не может он не видеть Нину: отвечает же на ее вопросы, в глаза смотрит, обнимается при встрече и прощании…
– И – что, Нина? Ты тоже каждую минуту сдвигаешь с места то один, то другой предмет… вот сейчас ты ветку плечом задела, поставила об этом галочку в своем сознании или не поставила – но нет для тебя больше ветки, ты больше не вспомнишь о ней никогда. Так и ты для него… просто ветка, некое «тело», посылающее сигнал из пространства и тут же снова навсегда исчезающее в нем. Он касается тебя – и забывает о твоем существовании.
– А ты? А Аста? О вашем существовании он тоже забывает?
Ансельм виновато покачал головой.
– Видишь ли, мы… Аста и я – мы достаточно вербальны оба, мы в его мире. Много места мы, правда, не занимаем, но – вполне наблюдаемы и, думаю, присутствуем там более или менее стабильно.
– Что значит – «стабильно»?
– Ну… он, конечно, не вспоминает о нас каждую минуту, но когда вспоминает (как бы редко это ни случалось), то находит нас у себя внутри: мы часть его мира, а ты, увы, нет.
– И слава Богу!
Вот так, кстати, говорить не следовало. Потому что, говоря так, Нина добровольно отказывалась от них обоих – от Ансельма и Асты: оставайтесь, дескать, где вы есть, а я пошла! Но Нина – не вербальный человек, она не слышит, как звучит ее «слава Богу»… Впрочем, как бы ни звучало: она измучилась уже, пропадите вы там все пропадом в своем прекрасном вербальном мире, задохнитесь в своих глоссах – она, честное слово, гроша медного за них не даст. Ей бы только Асту оттуда ( оттуда ? – она уже и сама пользуется их пространственными ограничителями!) вызволить… пропадет ведь ребенок!
– Мама, знаешь, как тебя бы в Южной Америке называли? Эль-Нино! – И убегать…
– Аста, деточка, постой… Скажи мне, почему эль-Нино!
Но та убежала уже.
Она не слушается Нину – совсем. Нина для нее не авторитет. Это Ансельм может одним словом пригвоздить дочь к месту: скажет слово – и та на бегу замирает. А какое слово – да вот хоть и знаменитое свое, «волшебное»:
– Asta-la-vista!
И – все, Аста стоит как вкопанная.
Но Нина не хочет и не будет прибегать к чужим волшебным словам, а своих у нее нет. И потом… она, в конце концов, мать – значит, имеет право на то, чтобы дочь безо всяких волшебных слов относилась к ней с уважением.
Поезд качается, Аста спит, спит и Ансельм с книжкой на брюхе, название книжки – «Патологии речи»… – неуютно, но Нина снова и снова прочитывает: па-то-ло-ги-и-ре-чи, па-то-ло-ги-и-ре-чи, па-то-ло-ги-и-ре-чи на обложке, да и колеса стучат в ритме па-то-ло-ги-и-ре-чи – и Нина не спит, не спит, не спит. Потом отрывается от обложки, смотрит на спящих и любит их изо всех сил. Пусть они простят ее за то, что она такая невербальная, но если не дал Бог… что ж делать, пусть они простят ее. И пусть простят за то, что ну никак ей не удается полюбить этого чудака, в которого так влюблены и Ансельм и Аста. Ну, Аста – ладно, Аста – дитя, вырастет и разберется, но Ансельм? Хотя он, понятное дело, исследователь, психолог: наверное, этим и надо все объяснить. Правда, Нина, было дело, спросила Ансельма осторожно: «Тебя он как case интересует?» – и Ансельм ответил нет, но для Ансельма ведь так или иначе все – case. Даже я case, даже Аста, и от этого страшно. И еще страшнее от того, что Ансельм, в сущности-то, и сам не знает, что для него case… что для него все case – и, может быть, сумасшедший-то как раз Ансельм, а не исследуемый им чудак. Но Нина боится признаться себе в этом.
Ей удалось сколько-то поговорить с женщиной-вином, Лидией… странно, кстати, что пять лет в Германии и такой плохой немецкий. Муж-то вообще бессловесный, а Лидия разговорчивая – может, и хорошо, что язык не сильно знает, а то ведь такая насмерть заговорит!..
Забавно, что Лидия к чудаку тоже как мать относится: неужели он у всех женщин такое к себе отношение вызывает? Да нет, вроде, не похоже: Кит, например, ему на вид совсем не мать.
Кстати, Нина чуть не расхохоталась в голос, когда Лидия начала их всех просить «присмотреть за сынком»… интересно, как Лидия это себе представляет – присмотреть? «С ним любой случай может быть, он потерять может кошельку, в противоположного поезда сесть себя, не съесть пища, зажечь кровать от сигарета, он об этот не думает, он думает только написать что, он художественный… von dem Wort “schlecht”», – увещевала Лидия.
Как это – художественный… von dem Wort «schlecht»? Непонятно, что имеется в виду. Но понятно, что – не комплимент. Ужасный у этой Лидии все-таки немецкий. При том, что сама Лидия трогательная: получила часики в подарок, сразу к уху поднесла: тикают ли? И потом с удивлением закричала: тикают, тикают! И стала каждому присутствующему их к уху подносить, чтобы послушали и тоже сказали: тикают. Словно для часов не обычное дело – тикать!Даже неловко сделалось: как будто она человека в том подозревала, что он ей часы сломанные, которые не тикают, подарить может… И все слушала, как они тикают, и подтверждала: тикают, тикают – на лице праздник. Ей, небось, если шоколад подарить, тоже сразу откроет, откусит, начнет всем в рот совать и удивляться: сладкий, попробуйте только, сладкий!
«Забавные они, эти русские», – тихонько сказала Нина «сынку», а тот на нее взглянул и расхохотался… Ну да, понятно, он тоже себя к русским причисляет, но он же не русский, мало ли к кому мы себя причисляем! На него просто посмотреть достаточно – и сразу понятно: не русский, потому что русских таких не бывает! Вот Лидия и муж ее немецкий – они русские, тут нет сомнений. А у него и в датском немецкий акцент!
Но присмотреть-то за ним все-таки, конечно, надо было… как теперь добираться будет? Билет на этот поезд у него уже пропал, вот идиот-то, в самом деле… мечется, небось, по Берлину сломя голову! А ведь мог бы с нами спокойно ехать, недотепа… Боже мой, что я несу, или у меня тоже материнские чувства к нему?
Проснулась Аста, на губах – улыбка. Объяснила, что он ей снился: как будто они по зоопарку ходили.
– Это не сон был, Аста. Мы действительно по зоопарку вчетвером ходили… в Берлине. И он обещал скоро с тобой увидеться!
Аста вздохнула, покачала головой:
– Нет. Нам просто приснилось. А с ним я только что виделась уже: во сне.
Зальцбургский «домашний» полк – впоследствии Зальцбургский пехотный полк № 59 эрцгерцога Райнера – начинался с армейского подразделения, созданного императором Леопольдом в 1682 году, когда с юго-востока Европы в очередной раз возникла турецкая угроза и опасность второй осады турками Вены стала ощущаться как реальность.
В 1769 году полк получил номер 59.
После Венского конгресса, секуляризации земель Зальцбургского архиепископата и включения в 1816 году Зальцбурга в состав Австрийской империи в 1816 году пехотный полк № 59 был переведен из Энса в тогдашний пригород Зальцбурга, Леен, став «домашним» полком самого города Зальцбурга и прилегающих к нему земель Верхней Австрии. А в 1899 году полк был расквартирован в расположенной в крепости Хоэнзальцбург казарме.
В 1852 году полку было присвоено имя первого и последнего его шефа – эрцгерцога Райнера Фердинанда, правнука Леопольда II и внука кайзера Франца I. После смерти эрцгерцога, 27 января 1913 года, нового шефа полку не назначали: 30 января 1913 года император Франц Иосиф I издал приказ по армии о том, чтобы и во все последующие времена полк носил имя эрцгерцога Райнера. Так и закрепилось навсегда за этим подразделением официальное название «Зальцбургский пехотный полк № 59 эрцгерцога Райнера».
Во время Первой мировой войны райнеровцы храбро сражались как против царской России, так и против Королевства Италия.
Марш райнеровцев
Виват, наш полк пехотный, полк Райнера, виват!
Мы те, кто насмерть бьется, кому сам черт не брат,
Мы те, кто за отчизну всегда стоял стеной.
Виват, наш полк пехотный, наш Зальцбург, край родной!
Виват, наш полк пехотный, полк Райнера, виват!
Мы те, кто вражьей силы сильнее во сто крат.
Пусть знают, что накладно идти на нас войной,
За это платят кровью, за Зальцбург, край родной!
Земля наша – от Инна до Тауэрна – свята,
Сложи доспехи, воин, входя в эти места,
А нет – иди-ка лучше своею стороной:
Мы, райнеровцы, знаем, как любят край родной.
Равнение на мертвых!
На тех, кто пал в бою
За все, что мы любили, за родину свою,
Пятьсот бойцов погибших, чей дух необорим,
Из райнеровцев – бывших и нынешних.
Мир им! {17}
Музыка с Promenade бухала так, словно исландский вулкан извергался непосредственно под ним: судно ходуном ходило. Титаник, подумал он, и еще подумал, что каждый на пароме, несомненно, хотя бы раз так подумал… подумал и – забыл: нечего думать, плывем и плывем! Вон, вулкан извергается в Исландии – тоже не думаем, плывем и плывем…
Между прочим, слово «Титаник» русскому уху ничего особенно-то страшного и не сообщает, такова уж ирония русского языка. Суффикс – ик не сулит нам опасности, он не для этого, а для того, чтобы уменьшать и ласкать… мы, русские, ничего большого ласкать не хотим или не можем – нам, чтобы ласкать, маленькое подавай… если же подашь большое – мы сначала его уменьшим и только потом ласкать будем. Например, титана никому в голову не придет ласкать – чего ради, скажите, его ласкать, когда его бояться надо… мы вот его до титаника уменьшим, а титаника уже можно ласкать: титаник, путь и страшный на вид, а маленький, беззащитный… даже лучше, если на вид страшный, нам таких еще жальче – и мы, наоборот, их сильнее только ласкаем! Малютка Титаник… Малютка Герасим.
Он вспомнил одну из своих любимых в детстве книжек – взрослую книжку про скульптуры в Ленинграде… теперь он давно ее что-то не видел, пропала, наверное. В мягком переплете, желтый с голубым, формат небольшой и книжка не сказать чтобы толстая… поиграем в Умберто Эко, дорогой, в загадочный огонь – нет, с загадочным огнем поиграем, с загадочным огнем королевы Лоаны! И – что, почему бы не поиграть? С огнем-то? Всегда пожалуйста.
Фотографии там были не цветные, да и просто некачественные. Этакие серо-буро-малиновые тона, скульптура – самое белое на картинке, пусть и грязнобелое, зато остальное – серое разных оттенков, и оттенки грубые, плотные или, наоборот, рыхлые, белое же, просто белое, а не грязно-белое, – только бумага, которая, значит, рамка. Статуи были засняты все анфас, все немного сверху вниз, отчего не производили впечатления больших, так… мелкая пластика, в технике «Пластилин. Пальчики четырехлетнего», ну да. И ему самому-то тогда не больше четырех было – он, что, читать уже умел? Королева Лоана, умел? Можно было бы сейчас маме позвонить – сразу бы сказала, умел или нет: каждое событие в его жизни у нее точной датой датировано. Но выдается не то чтобы тут же – как будто всегда в памяти лежало, а в-с-п-о-м-и-н-а-е-т-с-я. Мам, когда это было? Погоди-ка… давно уже, лет пятьдесят с лишним назад, пятьдесят два, в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, в мае, четвертого мая, вечером, да… около десяти, без пятнадцати десять.
Но раз маме спокойной ночи пожелали уже, то попробуем сами, не маленькие, и предположим, например, что читать он умел… умел, во всяком случае, подписи к картинкам разглядывать, и некоторые были страшные, а другие, хоть и тоже страшные, но героические: например, «Малютка Герасим, удушающий змей». Тут важно бы вспомнить, умел он читать или нет, потому что «Герасим» был эволюцией «Геракла», ну да ладно… короче, Геракл этот еще ничего, видимо, не говорил сознанию, в то время как «Герасим» уже, видимо, говорил – интересно, как это он умудрился? Ни одного Герасима вокруг… «Му-му», вроде бы, еще рано, королева Лоана, ау-у! Молчит королева Лоана.
А ситуацию он, между прочим, не по маминому рассказу помнит – сам помнит. И как к выходу готовился, помнит, и как реквизит выбирал, и как выходил «на сцену», осторожно раздвинув плюшевые занавески цвета спелой вишни… он чем хотите поклясться может, что понятия не имел о том, сколько там, в «зале», народу!
Нет, никаких особых чувств он не испытывал – и сейчас не испытывает. И, кстати, как тогда даже не ставил вопроса, зачем ему оно все, так и теперь не ставит – просто помнит, помнит и ничего больше. Как вылез из постели, как снял пижаму (в голубую полоску, королева Лоана?) и сложил ее на стульчике около кровати. Потом, уже голый, открыл родительский – нет, общий, у них один и был-то – шкаф, сдернул со скобочки (справа, королева Лоана?) несколько поясов, ремней, галстуков, выбрал из них три потолще и, как мог, обмотался ими. И в таком виде – голый, обмотанный черт знает чем – отправился к «кулисам».
Родители пили чай за столом, когда он раздвинул кулисы, сделал два шага вперед, объявил: «Малютка Герасим, удушающий змей», – после чего тут же, возле кулис, в соответствующей позе и расположился.
Дальше он не помнил, но мама рассказывала, что просто тихо взяла его за руку, увела в спальню, надела на него пижаму и уложила в постель: мы даже испугались, не лунатик ли ты, но это больше не повторялось, а со временем отец даже стал тебя называть «Малютка Герасим», но я ему запретила… ну и забылось оно как-то.
Не забылось вот. Ощущение «я другой» не забылось. Ничего, что потом отвели спать, всех потом отводят спать, зато он был малюткой Герасимом и удушал змей – трех (одна была салатового цвета, мелкой вязки, так ведь, королева Лоана?), причем неважно, удушил ли, под картинкой ничего про это не говорилось, было только сказано, что малютка Герасим удушал змей, ну и он – по примеру малютки Герасима – поудушал сколько дали, а потом и на покой. Видимо, с малютки Герасима всё началось… да что же – «всё»-то?
Он просто немножко пьяный от баллантайнса-в-одиночестве. Нет, не пьяный, он вполне может сказать, что – «всё»: «всё» – это поиски себя в другом, другого в себе, дооолгие поиски… так ничем, вообще говоря, еще и не закончившиеся. Но отождествлять себя с другим, до полной потери себя в другом, или другого с собой, до полной потери его в себе – стало любимым его занятием. Только в бесконечно далеком будущем прочтет он знаменитое высказывание Станиславского насчет, да… заведи себе трубку и берет – и со временем превратишься в морского волка, но пока ему четыре года, пока он только рассматривает черно-белые картинки в желто-голубой, как шведский флаг, книжке – скульптуры Ленинграда.
«А сколько я тебя за почерк ругала!» – вмешался мамин голос, тоже вдруг очутившийся на пароме, прямо рядом с ним.
И про почерк он помнит. Помнит, что ему время от времени надоедало писать так, как он сам, и хотелось писать так, как кто-нибудь другой. «У тебя, что, индивидуальности нет? – билась с ним мама. – Я бы понимала еще, если б ты сам некрасиво писал, но ты же красиво пишешь! Зачем ты копируешь Валю Макарову?»
Он не знал, что говорить. Он ничего не говорил. Сама формулировка вопроса была неправильной, он ничего не копировал! «Копировать» означало воспроизводить образец, а у него все не так было. Он не то чтобы изучал чей-то почерк, не то чтобы буквы рассматривал, не то чтобы сравнивал свой почерк с чужим в пользу чужого… – все гораздо проще: он сосредоточивался и начинал писать как Валя Макарова . Это не требовало упражнений, не требовало тренировки – ничего такого это не требовало, нужно было сосредоточиться, только и всего. А дальше… дальше он просто приобретал желаемый почерк и пользовался им, на паях с владельцем – как правило, несколько месяцев оставаясь верным почерку, но не становясь при этом тем, чьим почерком писал: так далеко заходить было ни к чему, его интересовали лишь узоры и никогда – инструменты, лишь буквы и никогда – люди.
Но вот что́ произошло потом… – ммм, странное, – и почему оно произошло, никто не знает, Бог знает. Да только потом жизнь его сердца можно было читать по почерку, которым он писал, ибо почерк того, в кого он влюблялся, становился и его почерком – на годы. Не было, правда, вокруг детективов – к счастью. А вот насчет почерка, который сейчас, – его ли он, значит… с чем же сравнивать, дорогие мои, какой – его? Сказать по секрету, не обошлось и тут без одной влюбленности, совсем уж, правда, чудной – влюбленности в человека, никогда не виденного, но узнанного им – по почерку.
Только не найти этого человека – ни-ко-му. Следы простыли, имя простыло.Så skimrande…
А вот этого действительно уже просто мно-го-ва-то.
Så skimrande var aldrig havet.
Были вещи, от которых он легко мог взять и умереть. Например, он запросто мог умереть от этой шведской песни – от первого ее så. Уже после первого så начинало щипать глаза – и сердце, как говорят (и правильно говорят) в Дании, начинало биться в горле. Эту песню, а капелла, он услышал на одних дорогих для него шведских похоронах одного дорогого для него шведского человека. Стареющий голос в маленькой часовне выводил ее так умело, но с таким трудом, что каждый такт настигал слух по отдельности – и по отдельности слух ударял, от чего оставалась отдельная небольшая рана.
Så skimrande var aldrig havet,
och stranden aldrig så befriande.
Отсюда он обычно уже терял ощущение реальности. Вот и сейчас: незнакомый – молодой, чистый совсем – шведский голос тихонько подбрасывал откуда-то снизу (с нижней палубы, которой не было) такт за тактом на его, верхнюю, палубу, которая была, – и оставлял там. Понятно, в Швецию плывем, песни должны быть шведские, но чтобы так вот – прямо эта… да еще и с несуществующей палубы:
Så skimrande var aldrig havet,
och stranden aldrig så befriande,
fälten, ängarna og tränden aldrig så vakra…
У него, конечно, опять не хватит сердца дослушать смысл этой медленно развертывающейся, но не обещающей когда-нибудь кончиться песни – песни, с каждым новым словом не приближающейся к объяснению того, когда, когда же все-таки море бывает таким сверкающим, и пляж – таким спокойным, а поля, луга и деревья – такими прекрасными … но не надо никаких объяснений, нет тут и не может быть никаких объяснений, потому что и так понятно, когда – когда все это бывает: тогда, когда ничего еще не произошло, а теперь – поздно, теперь несколько быстро стареющих людей уже пришли в маленькую часовню, чтобы успеть сказать, нет, пропеть:
… og blommorna aldrig så ljuvligt doftande …
Кончился голос, прервался – как не было. Наверное, и не было – не то бы он уже умер. Да нет же, конечно, все это глупости, он просто немножко – прости, мама – немножко пьяный от баллантайнса-в-одиночестве, не надо пить баллантайнс-в-одиночестве, плохо пить баллантайнс-в-одиночестве. Он снова открыл все еще такую полную свою фляжку и медленно, задушевно вылил баллантайнс прямо в открытое море.
И море опьянело почти сразу.
Он же – вернулся в каюту, причем – ни в одном глазу. И почти не спал в эту ночь. Соседи, кстати, появились только под утро, когда, по его мнению, пора уже было вставать – что он и сделал: они в постель, он в душ… красота. Из душа вышел на тройной храп: интересно, знали ли они, впадая в сон, что уже меньше чем через три часа паром прибудет в Стокгольм… или куда ему положено прибыть. Впрочем, не его это все заботы: пусть спят соседи и пусть паром прибудет туда, куда прибудется… Он сходил на лукуллов завтрак и до отвала наелся арбуза – не потому, что хотелось арбуза, а потому, что хотелось понять состояние двух попавшихся ему на пути африканок, на чьих подносах были только арбузные ломтики. Их состояние он понял чуть позднее – сразу после того, как вышел на воздух… и пожалел о том, что понял. Пришлось срочно бежать в каюту, других туалетов он на пароме не обнаружил, а там, кстати, и багаж забрать, чтобы уже не возвращаться к храпящим.
Пора было позвонить маме и спросить, где он сейчас. Если, конечно, есть связь с землей.
Связь с землей была. Мама рассказала, что он на подъезде к Гамбургу, и напомнила, что он со шведами – со шведами ведь? Конечно со шведами, мам… куда ж им деться? Впрочем, и у мамы нашлось чем его обрадовать: ей только что звонила Тильда.
Русскому языку Тильду учил он сам, когда еще жил в Ютландии, но Тильда давно уже пользовалась великим-могучим по своему усмотрению. Как и несколько минут назад – чтобы позвонить маме и поздравить ее с юбилеем, который в памяти Тильды нечаянно переставился на несколько дней вперед. Ничто сейчас не могло обрадовать маму сильнее, чем эта перестановка, и она радостно сообщила: сын ее совсем скоро будет в Ютландии, где задержится на день или даже на два.
– В общем, мы договорились, что ты остановишься у Тильды. Так и тебе, и ей… да и мне спокойнее.
– Ах-как-это-мило-очень-хорошо, – пропел он в трубку. – А ты не предполагала, что я уже мог с кем-то до этого договориться или что мне по какой-нибудь причине вдруг неудобно у Тильды? Или что я, наконец, черт меня побери, мог бы в случае необходимости договориться с Тильдой без твоей помощи?
– Но она же так и так позвонила… – оправдывалась мама. – И потом… как тебе может быть неудобно у Тильды, которая тебя так любит? А кроме того, ты же ведь прямо сейчас можешь позвонить ей и отказаться, сославшись на что-нибудь… на другие планы.
– Да нет, зачем же, – откликнулся он, не понимая, что говорит. – У Тильды и остановлюсь, это я просто так шумлю, не обращай внимания…
Тем более что с Тильдой-то какие проблемы! Тильда не тетя Лида, Тильда свой человек. Ей любую сложность за полминуты объяснить можно, Тильда не подведет. Он тут же было нашел ее номер, чтобы предупредить: Тильда, не приеду, вру напропалую, маму успокаиваю, – но вот, смотри-ка, не звонит Тильде-το… и почему же это, интересно?
Да как сказать…
Ну хоть так сказать: именно с Тильдой и интересно было бы пустить все на самотек. Тете Лиде встреча с ним, значит, и без него удалась, а вот Тильде удастся? Тут дело в том, что Тильду, в отличие от тети Лиды, потом можно будет при желании с пристрастием допросить об alter ego – и таким образом установить происхождение всей этой параллельной чертовщины, которую он по мере сил отпихивает от себя – пошла, дескать, прочь до лучших времен, позже с тобой разберемся! – да только… как отпихнешь? В сердце нытье, в животе бездна, в костях – страх, страх, страх, хоть вскидывай голову в самое небо и кричи на весь крещеный мир: «Господи, что тут со мной происходит?» Но он не вскидывает, не кричит – он хорошо себя ведет, вот уже второй день браво игнорируя то, что игнорировать не-воз-мож-но и от чего холод по телу, до озноба, ибо кто-то сошел с ума, да это он сам сошел с ума и тупо передвигается по существующему только в его сознании маршруту «Москва – Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген», на самом деле добираясь до Копенгагена через Германию.
«Самое страшное для сумасшедшего, – сказал как-то Торульф, – это задуматься». И он, следуя Торульфу, не задумывается, дабы не запускать в ход всю громоздкую машинерию больного сознания, не громоздить воображаемые объяснения на воображаемую действительность, порождая, таким образом, воображаемое третьего порядка. Но на сколько его хватит? Пока-то удается еще усыплять себя всякими дурацкими доводами, вот как по пути на палубу, когда он вдруг сказал в сердце своем: можно подумать, ты помнишь все, что с тобой происходило!
Нет, он не помнил всего. Он, стыдно признаться, помнил мало. И не потому, что у него плохая память, а потому, что много не помнит никто . Самое страшное доказательство тому было получено им уже давным-давно, во второй или третий приезд эмигрантом в Россию.Они встретились с Полиной случайно, он поднимался по Кузнецкому, она – спускалась. И, в общем, все было как будто и ничего сперва… нежаркий летний вечер, какая-то водичка минеральная, вялый разговор, недраматично умирающий и вот-вот уже мертвый, когда добавляют только ну-ладно-пока-увидимся – и расстаются, чтобы наперед быть внимательнее и никогда больше не ходить по кузнецким мостам.
Но тут как раз Полину вдруг и угораздило предъявить крохотную претензию-не-претензию… да, этакой фигушкой-на-постном-масле – чтобы жизнь, значит, совсем уж раем не казалась. И – выяснилась престранная вещь: события, по поводу которого претензия предъявлена, не было в его памяти. Здесь важный момент в чем: не то чтобы событие помнилось по-другому – событие не помнилось вообще! И еще хуже: событие не то чтобы не помнилось – оно просто не происходило, в доказательство чего можно было даже отдать на отсечение голову, потому как в голове, где события располагались одно за другим плотным рядом, места для этого, нового, события попросту не имелось.
– Минуточку, – так и сказал он, – боюсь, что меня не было тогда рядом.
Согласитесь, более щадящие формулировки вряд ли и существуют.
– То есть, как это – «не было»? Ты же и устроил все это. Если бы тебя не было, то и… ничего бы не было, вокруг тебя же оно и вертелось!
Разумеется, это «оно» было названо по имени и датировано, но – речь не о нем, речь в принципе: не было !
– Еще минуточку, – сказал он, – если бы оно вокруг меня вертелось, то… обязательно должно было бы иметь последствия в моей жизни, не могло бы не иметь последствий, хоть столько-то ты понимаешь?
Полина, разумеется, и столько, и даже еще больше понимала – и, понимая, смотрела на него честными-пречестными своими глазами и помнила то, чего не было, при этом обвиняя его в том, что он не помнил того, что было… а оно, на его взгляд, гораздо меньшее, между прочим, преступление: то есть, если за забвение того, что было, надо пятнадцать суток условно давать, то за память о том, чего не было, – минимум год строгача! Если это, разумеется, не болезнь опять же.
И неважно и совсем неинтересно, как закончилась их встреча с Полиной (да хорошо закончилась, они оба люди худо-бедно воспитанные), но важно и очень интересно, что с этого дня – ах, с этого ли, правда, дня… не много ли раньше! – он знает: ничего из случающегося здесь и теперь не случается для всех присутствующих. Некоторые из них в этот момент просто смотрят в другую сторону. Вот-вот, поглядите, вот же! – Где? – Поздно, кончилось… Звезда упала.
Он вспомнил название главы в одной из книг Торульфа: «Спектакль без зрителей» – глава открывалась вопросом, почему отменяют спектакль, который никто не пришел смотреть.
Размножение домов. Дома размножаются почкованием, когда чувствуют, что настала такая необходимость (появление нового члена семьи, новой семьи, просто желание хозяина). Из маленького выроста появляется все больший – до тех пор, пока хозяин не посчитает нужным остановить рост.
Построение семей. Когда встречаются два человека и решают соединить свои судьбы, происходит слияние домов. Позже дома будут определять жизнь человека и по собственному усмотрению сливаться, а их обитателям придется жить вместе. <…>
Будущее дверей. В недалеком будущем двери будут отменены, а значит, замки и ключи будут не нужны. При желании они могут быть заменены тонкой тканью. Когда обитатель будет готов принимать гостей, он только снимет ткань, что послужит знаком того, что он находится в ожидании визита. Но это редкий случай. В основном, это не будет пользоваться популярностью. Таким образом, все станет общественным местом. Дома будут соединены между собой. Не будет необходимости пользоваться транспортом. Дороги будут заменены длинными запутанными коридорами. В связи с происходящими переменами количество домов будет также уменьшаться, а размер увеличиваться. Пространство напоминает лабиринт. Это повлияет на внутреннее строение дома: появится больше коридоров. Границы остаются, но они только внешние. Таким образом, будут появляться новые замкнутые пространства, которые будут служить комнатами отдыха от лабиринтов. Отказавшись от дверей, люди перестанут бояться окружающего мира, т. к. дом будет являться частью этого мира. Уже не будет той зависимости от дома, в котором они живут, и, следовательно, человек везде будет более самостоятельным и сильным духом. Дверь будет заменена коридором, так чтобы, проходя мимо, нельзя было увидеть происходящего в помещении, тем самым увеличится количество углов. Чтобы их уменьшить (именно там будет появляться пыль), нужно избавиться от них и придать целостность помещению (т. к. углы его разделяют на части) {18} .
Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре приказывало долго ждать, очень долго – не всплывая ни в каком датском контексте, кроме… стыдно сказать, в качестве собачьего имени: каждую третью собаку звали Снип. Нет, тени значений иногда маячили то тут, то там – правда, опять же в предельно бытовых контекстах – и представить себе, что этим значениям делать в волшебной сказке, он не мог никак. Еще труднее было представить себе, что им делать в волшебной сказке всем вместе и каким ветром их вообще прибило друг к другу. Даже Снежная Королева, повелительница ветров, не давала ответа: в оригинале сказка украшалась совсем иначе – не известным ему с детства хлопотливым набором звуков, а спокойным псалмом:Roserne vokser i dale,
Her far vi barn Jesus i tale!
И вообще Андерсен – которого в Дании только и называли Хо. Сэ. (по первым буквам имени… двух имен, Hans Christian), что иностранцы устойчиво воспринимали как «Хосе» и ломали головы, откуда у датского сказочника испанское имя – не оказывался, со всей очевидностью, игруном, а оказывался, в основном, серьезным и часто морализирующим дядей, которому никакие посторонние снип-снап-снурре, вроде бы, не полагались: «младенец Иисус» был для него как раз самое что ни на есть то, а вот снип-снап-снурре…
Это про младенца Иисуса, стало быть, и распевали воспитанные в строгом лютеранстве Кай и Герда, держась за руки и выписывая ногами кренделя по полу – и никаких тебе снип-снап-снурре, никаких закодированных сообщений, никакого привета из детства и никакого детства вообще, ничего. Но язык-то все равно был датский – вот что странно. Может быть, это старый милый Шварц перекликался с ним датскими трелями – и не из страны в страну, а из города в город? Из Петербурга – в Тверь?
– Снип-снап-снурре!
– Пурре-базелюрре…
Ах ты, Господи-Ты-Боже-мой… как же все запутано в этой жизни.
Он начинал потихоньку влюбляться в Данию: ни за что… – как мы все влюбляемся. Даже, пожалуй, не рассчитывая на взаимность… и то посудить: зачем он – Дании? Маленькой Дании, в которой по-аптекарски точно рассчитано, кого любить, кого нет, в которой любовь и к своим-то раздается по чайной ложечке в большие праздники… куда тут лишний рот? Но, слава Богу, никогда он не был человеком, требовавшим любви за любовь, так что ломать себя не приходилось. Многие из тех, кого он любил, так никогда и не узнавали об этом, и хорошо, что не узнавали: не ровен час, отвечали бы встречным чувством, а оно обязывает! Любить – не обязывает, а быть любимым еще как обязывает.
И жизнь, стало быть, шла себе вперед – потихонечку, помаленечку, опять же, как и всё в Дании: потихонечку, помаленечку, по чайной ложечке. Прочих тамошних иностранцев это бесило, а его – радовало, потому что не надо, не надо, не надо спешить. Вживаться в страну – работа, долгая, изнурительная и неблагодарная работа, так к этому и следовало относиться, так он и относился. И никуда, значит, не спешил: хватит, наспешился в России.
И чего он сейчас мучается нестыковками всего со всем, когда вот уж скоро пятнадцать лет ничтоже сумняшеся живет двумя жизнями – датской и русской… и никак ему это, похоже, не мешает. Какая к черту разница, чей он гражданин, гражданство – паспорт, бумажка со штампами, был один, стал другой, да и цвет один и тот же: спелой вишни, как занавес для малютки Герасима!
– Вы очень хорошо говорите по-русски, – сказала ему однажды милая девушка-паспортистка в аэропорту Шереметьево.
– Спасибо, – от всего сердца ответил он и долго потом радовался.
– У тебя сплошные датские кальки в русском, – говорит ему теперь цветок.
– Прости, – от всего сердца отвечает он и сокрушается: не надо бы, дескать, чтобы кальки… как бы с акцентом по-русски не заговорить!
Ибо теперь-то он знает: самое страшное – человек с акцентом. Это как человек с клеймом на лице: чужой. Ты можешь быть кем угодно, происходить откуда угодно, и в кармане твоем может лежать паспорт какой угодно страны – все это не делает тебя чужим. Чужим тебя делает акцент – этого ты хотел, глупый мальчик с отцовским галстуком поперек горла, приставая к прохожим на улицах Твери? Так получай это… коли просил: у-тебя-сплошные-датские-кальки-в-русском, у-тебя-датский-с-немецким-акцентом… У тебя только немецкий в полном порядке – да и то лишь при желании, но ты не живешь там, где это имеет значение. Глупый, глупый мальчик с отцовским галстуком поперек горла! Говорят, что итальянский – фонетически – совсем простой… спой «О соле мио!» без акцента и прекрати поиски следов снип-снап-снурре, нету следов.«Ja uzhe v Hamburg’e ili Stockholm’e», – отэсэмэсил он в Россию.
«Бедный ты…», – пришел ответ.
Бедный и есть.На стокгольмском вокзале очередь за билетами – включая заказанные: с вулканическим облаком не шутят! Люди сутками ждут возможности уехать… разноязыкие люди, чья родина Вавилон. Он получил в кассе бумажный номер – 175. На табло светится, что в данный момент обслуживают номер 12. Светится, светится – и светится: номер 12 обслуживают уже минут пятнадцать… ага, вот и номер 13 – стало быть, его очередь через 2445 минут, то есть через 41 час, столько времени нет у него здесь. У него есть только 13 часов!
Тем пятерым душам, которые были в курсе его маршрута от Москвы до Стокгольма, он тоже наврал сколько смог: в Стокгольме, сказал, его встретят, не-волнуйтесь-у-меня-там-масса-друзей-не-пропаду! И – не волнуются (наверное). Хотя друзей-το, может, в Стокгольме и масса, да никто не нужен…
– Мама, я в Гамбурге.
– Ну, слава Богу! Багаж с тобой?
Интересно, куда бы ему деться, багажу-το! А было бы здорово, если бы делся куда-нибудь… не толкаться бы сейчас у камеры хранения, где свободных ячеек, разумеется, нет. Хотя на табло над кассами, видном с любой точки, – все еще номер 13, так что спешить расставаться с багажом ни к чему.
Надо сейчас позвонить своим пятерым и сказать, что его встретили и что теперь они идут на завтрак… за-билетами-очередь-но-мы-вернемся-потом – или что-нибудь в этом роде: крупица правды должна быть в любом вранье.
Малюююсенькая крупица правды.
Все равно, на каком языке.
А Стокгольмский вокзал говорил сегодня на всех языках сразу: в этой общей суматохе такие вещи, как национальная принадлежность и даже язык как… как язык – вдруг вообще переставали существовать. Вулканическое облако отменило в первую очередь эти различия – и все враз либо сделались иностранцами, либо перестали ими быть.
Понятно, что он смотрел вокруг себя с интересом… стокгольмский вокзал напоминал обувную коробку с письмами: несколько таких коробок все еще втиснуто в ящики его письменного стола в Твери. Когда он приезжает к маме, он любит покопаться в этих ящиках, вытаскивая на свет то одно, то другое письмо или перебирая открытки-с-видами – Ansichtskarten, cartes postales, képeslapok, cartoline, widokówki, postais, pohlednice, postcards, пощенски картинки…Это было время его следующего помешательства… эпистолярная эпоха. « ГДР; Дрезден, школа № 2, класс 7 А, пятнадцатому ученику / пятнадцатой ученице по списку » – писалось (по-русски!) на конверте, были такие специальные конверты, назывались «Международное письмо», с красными и синими штрихами по краям, конверт опускался в ближайший почтовый ящик, а дальше оставалось только ждать. Чаще всего ответ так и не приходил, но иногда… ах, иногда! Так у него появились друзья в Германии (понятно, какой именно?), Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии – туда письма, стало быть, пропускались. Из «стран капитализма» не отвечали… может, конечно, письма и не доходили, но куда тогда девались? Ну-ты-наииивный…
Кто-то из польских друзей-по-переписке прислал журнал «Radar», а там целый разворот адресов тех, кто «хотел бы переписываться» – причем уже без социалистическо-капиталистических различий. Ему ответили из Франции, Италии, ФРГ. А дальше – «рискуя жизнью» – он и сам отправил свой адрес в «Radar»… и такое началось! Почтальонша жаловалась, что ей тяжело носить в сумке его переписку: в иные дни – восьмой класс или уже девятый? – приходило по двадцать-тридцать писем… о-то-всю-ду. Мама сказала: «Нам не выдержать этого материально». Тогда он оставил только самых необходимых, таковых набралось около двадцати человек. Двадцать можно было выдержать – «правда, с трудом», призналась мама впоследствии: речь ведь шла не только о письмах, но и об открытках и даже посылках – каждому ко дню рождения, каждому к Новому году, каждому ко всем советским (ну-ты-наииивный!) праздникам… Понятно, что и сам он был завален барахлом со всего мира.
К окончанию школы остались самые верные, с десяток. Их имена, даже их адреса он и сейчас может повторить наизусть – разбуди его, как у нас тут водится, среди ночи…
Конечно, в письмах он никогда не был самим собой, хотя не допускал и мысли о том, что его корреспонденты тоже могут приврать… впрочем, ах-не-все-ли-равно? Разница между жизнью и игрой, правдой и ложью для него уже тогда пропала безвозвратно. Бедные, бедные его корреспонденты, которым он пудрил мозги, вешал лапшу на уши, втирал очки, морочил голову – или какие еще морозоустойчивые обороты произрастают в этой прохладной области… Он побывал людьми всех возрастов, учащимися всех учебных заведений, представителями всех профессий, всех социальных слоев, носителями всех убеждений и заблуждений, он переинтересовался всем, чем можно и нельзя, переболел всеми существующими и несуществующими болезнями, прошел все огни, все воды и все медные трубы – свято веря при этом каждому своему слову и безошибочно помня роли. Для кого-то из корреспондентов он даже умер, за несколько минут до смерти написав несчастному прощальное письмо… Ответа, кстати, не пришло.
Тебе вообще не стыдно? – Стыдно? Иностранцем быть не стыдно, иностранцем быть… вызывающе!
Наверное, он был интересным пен-френдом… интересными пен-френдами. Множеством интересных пен-френдов. Даже странно, что сейчас ему так трудно справляться с какой-то парой-тройкой своих «воплощений»… Подумаешь, едет одновременно двумя маршрутами – всего лишь двумя! Нет, Тильде звонить ни к чему: что ему – шаг еще в одну сторону? Да по родной ютской земле, где его каждая собака знает и где ему самому ни к чему даже и находиться, чтобы там – быть… Не станем, значит, звонить Тильде.
Воспользовавшись смертельно опасным в Скандинавии русским трюком под названием «мне только спросить…» – он бесстрашно перешагнул через сто шестьдесят растерянных гостей-столицы и за полторы минуты выкупил свой билет в ближайшей к нему кассе. Сто шестьдесят растерянных гостей-столицы тремястами двадцатью растерянными глазами проводили его в направлении камер хранения, где он прямой наводкой угодил в распахнутую и пустую, как его голова, ячейку – и, не подумав, разумеется, о том, что из багажа ему могло бы пригодиться, просто запер весь свой скарб (а ручка, а блокнот, а сигареты, а свежий платок носовой… черт его возьми!) на надежный стокгольмский замок, после чего с одним бумажником шагнул навстречу ни много ни мало двенадцати часам свободного времени в городе, который знал наизусть. Город назывался Стокгольм, город назывался Гамбург. В городе шел сильный дождь. Зонт и даже кожаная шляпа-боб остались в камере хранения.
Но задачей номер один было наконец-то купить трубку: пора. Возраст и все такое обязывают. Неплохо бы еще выпить чего-нибудь горячего – хоть и вот тут… ближайшее от вокзала кафе: небось, все туристы с него начинают.
– Snälla, en stor kaffe med grädde och två croissant.
Если что-то и оставалось неизменным в его жизни, то это гастрономические пристрастия: на кофе со сливками и два круассана не влияло ни название города, где он находился, ни время суток, ни погода, ни настроение-ума… ни-че-го! Он подумал, что на надгробной его плите, если таковой когда-нибудь случится быть над ним (хотя вряд ли: он уже предупредил всех, что хочет быть похороненным в общей могиле, а это не сулило надгробной плиты), имело бы смысл высечь: «Один большой кофе со сливками и два круассана» – ибо по этому и только этому стабильному при всех обстоятельствах признаку его будут узнавать там, где все мы в конце концов окажемся… в маленькой небесной кофейне, с несколькими проворными ангелами на побегушках.
– Snälla! – сказал ангел, ставя перед ним подносик.
– Так så mycket.
Однажды в Варшаве – прямо в центре пустынной на тот момент привокзальной площади – он потерял сознание, предварительно осторожно упав на камни и даже успев сказать себе: «О, смелый сокол, пускай ты умер!» А когда очнулся (подумалось: на том свете), над ним говорили по-польски. Он никогда не предполагал, что на том свете говорят по-польски, и сказал в сердце своем: здорово, что подготовился… в смысле польский выучил.
Но – ах как хорош был тут кофе и как хороши были круассаны… м-да, как-хороши-как-свежи-были-круассаны! Циник ты старый. А вот вид из окна – неважнецкий, рано он приземлился кофе пить. Да и вообще кофе на пароме пить надо было – свена-очей-его на него нет! Вспомнив о Свене, он вспомнил и о Хуссейне – огляделся, не сидит ли и тот где-нибудь поблизости со своим компьютером, не проверяет ли его присутствия теперь в Гамбурге, или в Стокгольме, или где мы сейчас…
Кстати, в кафе говорили не меньше чем на трех языках: это те, которые он слышал. Облако ты, облако вулканическое… всю Европу перемешало! Даже в маленькой забегаловке, в одиннадцать утра, когда по забегаловкам никто не ходит – туристы, во всяком случае, не ходят, – и то три языка… что ж делается-то, а?
Он сидел и думал о том, что разные языки, сосуществующие в одном, общем, пространстве, неизбежно должны уподобляться друг другу. И потому не надо, может быть, вообще ничего делать с лингвистической картой Европы: еще одно-два таких облака – и языки начнут сливаться, перенимая друг у друга наиболее практичное… этакий естественный эсперанто, сам себе композитор.
Но немножко цеплял его немецкий-у-окна… два молодых голоса, два совсем юных голоса – собственно даже не немецкий цеплял, собственно даже тема разговора, собственно даже не тема – опорные слова: Droge, Bullen… обычный такой утренний (одиннадцать часов!) репертуар, м-да. И, похоже, скандалили детки. На следующее опорное слово, Zapfenstreich, он обернулся – встретив пару испуганных глаз: глаза вспыхнули, померкли и были тут же опущены долу… столу. Он не знал этих глаз, но глаза, похоже, знали его. Из совсем теперь уже приглушенного немецкого долетела до него одна секвенция – одна секвенция, стоившая всего приглушенного немецкого: «Das ist doch der Rolf!»
Он отнюдь и отнюдь (и отнюдь!) не был человеком, создающим себе дополнительные проблемы, – он был человеком, склонным игнорировать не только то, что не имело к нему прямого отношения, но и то, что требовало его участия, однако это вот «der Rolf», прилетевшее из телефонного разговора с непонятным в его жизни Гвидо… короче, он развернулся к немцам полностью и, получилось, пригвоздил их к стульям, с которых они уже собрались было срываться.
– Hallo, Onkel Rolf, – нарисовалось в воздухе одной парой губ.
– Darf ich… – не уточняя намерения, он резко – резковато для ситуации – встал и перешел к немецкому столику.
– Aber bitte, Onkel Rolf.
Молодой человек, совсем мальчишка, с такой же молодой подружкой.
Он спросил, как дела. Он спросил, как родители. Он спросил, какими судьбами. Он спросил обо всем, о чем знакомый может спросить знакомых, – и не знал, как быть дальше. Что-то не нравилось ему в во всем этом, очень не нравилось.
На мобильном – имя: Лика. Лике он отвечает всегда. Извинившись перед немцами, он сказал Лике – ясное дело, по-русски: я перезвоню позже, – не отрывая взгляда от совсем испуганных глаз мальчишки.
– Лаура тоже в Стокгольме? – смущаясь собственного вопроса, спросил тот вдруг тоже по-русски, когда телефон был выключен.
– Дерзим? – поинтересовался он в ответ, игнорируя пока встречный русский – просто на всякий случай игнорируя.
– Нет-нет, дядя Рольф… я же просто так… извините, я не хотел! А я ведь и не знал, что Вы русский. Никто не знал.
– Я сам не знал, – усмехнулся он: кажется, отшутиться было единственной приемлемой сейчас стратегией. – Это все вулканическое облако, оно стерло разницу между нациями.
Подружка, не говорившая, получалось, по-русски, была таким образом вырублена из разговора.
– Ну и… что же мы тут делаем-то – в таком возрасте и в таком городе? – по-русски же спросил он.
Словно кто-то вел его по этому разговору. Словно нашептывал вопросы. Словно расставлял сигнальные флажки.
– Мы, собственно… мы ничего.
– Гвидо в курсе?
Это была единственная ниточка, связывавшая его с Рольфом: почему бы, в самом деле, не потянуть именно за нее?
– Дедушка тоже разрешил, чтобы мы с Ирмой… сюда.
– Harry, ich muss auf die Toilette gehen, – сказала подружка с нажимом на каждое слово в этом и так слишком подробном для молодежного немецкого высказывании.
Мальчишку зовут Харри. И дедушка явно ничего ему не разрешил: больно мал этот Харри и подружка его больно мала. Похоже на побег из дома – или что-то вроде.
– А давай-ка мы позвоним дедушке, Харри? – Он вынул мобильный (звонок Гвидо, вне сомнения, зафиксирован в папке «Входящие»).
– Нет, не надо… или…
– Харри, что, собственно, происходит? – Он убрал телефон. – По-русски-то ты можешь мне рассказать? Ирма ведь не говорит по-русски? Из-за чего вы с ней скандалили? Droge, Bullen, Zapfenstreich… – неприятная схема разговора. Я ведь все и сам знаю, Харри… почти все.
Немецкого мальчишку на это не возьмешь. Но русского – возьмешь: одним возрастом собственным – возьмешь. Он подсел к Харри почти вплотную.
– Я не могу… не могу рассказать без Ирмы, пока Ирмы нет.
– А ты всего не рассказывай, ты начни. Ирму мы подключим, когда ее черед настанет.
И Харри, сбиваясь, заговорил.
Получалось, влипли ребятки в историю – самую худшую из историй: Droge, Bullen, Zapfenstreich оказались почти реальностью – Gott sei Dank, пока только почти реальностью, намечающейся… да нет, уже основательно маячащей совсем рядом.
О своем бешеном влиянии на молодежь он знал. Откуда влияние – неизвестно: Бог дал, но обращаться с молодежью он умел виртуозно – причем без ошибок.
Так что уже через три с половиной часа зареванные Харри с Ирмой, отказавшись от идиотского плана поисков преступных своих шведов, которые не пришли к назначенному накануне месту, с относительно спокойной совестью садились в обратный поезд в Германию – не выполнив, к счастью, страшного задания, но успев к отправлению… а дальше уже не его забота, дальше пусть сами жизнь живут, он сделал, что мог, оставьте его в покое.
Он помахал им шарфиком с перрона: ребятки уже улыбались – с явным облегчением… вот и хорошо. Да, он сдвинул тектонические слои в жизни одного постороннего мальчика, когда позавчера проезжал через Тверь, но, может быть, уже и вернул какую-то часть этих слоев на место – отправив домой, к дедушке Гвидо, двух этих молокососов… так и все мы, и все мы: сдвигаем и возвращаем, ломаем и чиним, рушим и созидаем – и мир сохраняет в себе какой-никакой порядок… дай Бог, дай Бог.
Он нашел во «Входящих» номер телефона Гвидо.
– Гвидо, это Рольф… встречай внука, Харри с Ирмой прибывают завтра…
…и он рассказал Гвидо все-как-есть, не объясняя, что он сам делает в Стокгольме, вообще не говоря о себе ни слова – да Гвидо этого и не требовалось: Гвидо просто с ума сошел, услышав об истории с Харри. И правильно, что с ума сошел, пусть берется за внука – чтоб его, этого Гвидо!
– Рольфи, а насчет Лауры… – это уже когда разговор почти окончен.
– Не надо насчет Лауры, Гвидо. У меня времени сейчас нет, потом поговорим. Пока-пока!
Пока-пока.
В его распоряжении… ммм… девять часов свободного времени. И надо наконец купить трубку: пора.
Пора, Рольфи.
Объяснить иностранцам, что такое датский толчок, – не такое уж и большое искусство. Начать объяснения можно с того, что толчок осуществляется сведением голосовых связок, однако сводят их не настолько, чтобы дать им возможность соединиться окончательно, т. е. образовать полную смычку. Такое объяснение не требует глубокого погружения в фонетику или анатомию.
Обучающий попеременно сводит указательные пальцы обеих рук то совсем вплотную – «так быть не должно», то почти вплотную, не соединяя их, и сопровождает движение соответствующим голосовым призвуком, как будто он поднимает что-нибудь тяжелое или испытывает какое-либо иное физическое напряжение.
Другое наглядное действие, к которому тоже допустимо прибегнуть, таково: держа низкий невнятный звук, нанести себе легкий удар в диафрагму. Голосовой сбой, возникающий в этом случае, фонетисты называют «the glottal stop» – перекрытие голосовой щели. Подобные звуки производит, например, блеющая коза. Можно попробовать воспроизвести эти звуки, если получится. Можно также напомнить учащимся, как звучит «ломающийся голос» подростка, и попытаться продемонстрировать его. Эти иллюстрации будут очень полезны – особенно после того, как обучающий уже объяснит различия между толчком и перекрытием голосовой щели.
Таким образом, научиться самой технике толчка не особенно трудно – труднее понять, где именно следует размещать толчок. До самого последнего времени данный вопрос как раз и считался наиболее сложным, поскольку никаких особенно ценных традиций в области обучения произношению не имелось. К упражнениям в технике толчка прибегали чрезвычайно редко, причем предполагалось, что навыки у учащихся как бы уже имеются. Между тем освоение толчка – так же, как и освоение словарного запаса или синтаксических правил, – требует бесконечного числа повторений и заставляет обучающего постоянно искать новые объяснения на протяжении всего времени преподавания языка.
Несмотря на то, что никакой исчерпывающей системы правил употребления толчка не существует, преподавателю все-таки имеет смысл опираться на кое-какие хорошие «подсказки» – ряд абсолютно жестких правил, диктующих, в каких случаях толчок не должен употребляться.
Слог может иметь толчок только в том случае, если налицо основа для толчка . Поскольку толчок есть феномен, производимый голосом, он появляется там, где присутствует какой-нибудь гласный или звонкий согласный звук: механизм толчка требует «держать» голос дольше, чем необходимо для произнесения краткого гласного.
Условием толчка является также наличие некоторого количества энергии выдыхаемого воздуха. А это, в свою очередь, связано с ударностью . Отсюда следует, что толчка не может быть в слоге со слабым ударением («нулевым ударением»).
Наличие в слоге основы для толчка означает, что в слоге присутствует либо долгий гласный, либо звонкий согласный после гласного, либо и то, и другое, а также наличествует основное или второстепенное ударение. Иначе говоря, слоги с кратким гласным, сопровождаемые глухим согласным, толчка иметь не могут.
Когда толчок приходится на долгий гласный, гласный остается долгим. Услышать это при отсутствии тренировки может быть затруднительно, но фонетические инструменты способны подтвердить, что толчковый гласный уже до момента возникновения толчка тянется дольше, чем краткий гласный, хотя толчковый гласный все же несколько короче, чем долгий гласный, не имеющий толчка.
И, наконец, необходимо иметь в виду следующее: иностранец может растеряться от того, что одно и то же слово то имеет толчок, то не имеет его {19} .
Вот… все ему не удается никак вспомнить что-то важное. То, что он должен вспомнить за время пути – видимо, затем и ниспослан ему этот путь. Ведь иначе не может быть – с такими-то трудностями… Если б не надо было вспомнить, летел бы он себе просто на самолете, как всегда. Но начал извергаться вулкан – и что-то, видимо, этим сказано… причем сказано непосредственно ему, поскольку имя вулкана (надо все-таки попытаться наконец как следует произнести его, хватит бегать от судьбы, вот… Э-й-я-ф-ь-я-т-л-а-й-о-к-у-д-л-ь) – из детского его языка.
– Эй яфьят лайо кудль?
– Чего тебе, мальчик?
Что-то должно оно значить, слово это… что-то значить непосредственно для каждого – и непосредственно для него…
«Chto znachit Eyjafjallajokudl po-islandski?» – отправил он в Москву.
«Остров горных ледников», – пришло в ответ.
Ну да… рассказывайте! Не может такого быть – при чем тут остров, когда это не остров, а отдельно взятый вулкан? Голову ему морочат, бдительность усыпляют, мешают вспомнить то, что он должен вспомнить на отрезке «Москва – Копенгаген». Ох-хо-хо…
Или Эйяфьятлайокудль для того извергается, чтобы ему по дороге спасти две заблудшие души? Дело, конечно, немалое, но подобного рода подвиги в его жизни… их, конечно, не особенно много, но есть несколько, и он не считает их подвигами: это все равно что, так и так находясь рядом, поддержать за локоть оступившегося человека. Грех переоценивать значение того, что делается попутно: попутно – оно попутно и есть… автоматически, рефлекторно, и неизвестно, стал бы он заморочиваться, если бы «подвиг» требовалось планировать, продумывать, размещать в пространстве и времени. Так что… простите, две заблудшие души, спасать вас не входило в его планы, но больно уж вы громко обсуждали свои проблемы в одном стокгольмском кафе.
И Эйяфьятлайокудль не для того извергается. А для чего?
Он плутал по крохотным улочкам: вспоминай-чтоб-тебя! Дон Хуан со своим остановить-внутренний-монолог оказался в его жизни не последним, слава Богу, авторитетом: были потом и другие, не так много, но сильные. Был, например, совершенно дивный, беспрестанно улыбающийся Пра (Вы-какой-нибудь-университет-представляете? – Я-представляю-университет-большого-молчания), которого смешило опустошение сознания в качестве конечной цели: а-потом-с-таким-пустым-и-жить? И – улыбка, божественная улыбка: всем телом. Правда, со-вер-шен-но никчемная. Это Пра, жизни которого он и застал-то всего год с небольшим, научил его практике беспорядочных воспоминаний: годилось любое – лишь бы не имело отношения к происходящему в данный момент. Вспомни-что-нибудь-случайно (приказ Пра всегда звучал как выстрел из кустов)… и до чего же оно было трудно! В голову лезло только то, что на поверку оказывалось спровоцированным текущей минутой и – даже вполне, на первый взгляд, безотносительное к ситуации – являлось в конце концов прямым ее производным. Но когда вдруг удавалось вспомнить что-нибудь другое, какие блаженные дали открывал любой пустяк, углом врезаясь в неподходящую для него картину и в мгновение ока перекраивая ее полностью… этого не рассказать.
Светлой памяти темнокожий Пра, исповедовавший догмат сбоя… «Мы сами себя уничтожаем, – и никчемная улыбка светилась на смуглом лице, – мы выпестовали понятие “relevance” и задыхаемся в его тесноте, стараясь быть прежде всего уместными, а уж потом – самими собой. Человек – существо упорядочивающее, и однажды порядок раздавит его».
Ах, как же любит он теперь это пустое дело, славное пустое дело сбоя. Не то чтоб из огня в воду – тут ассоциация по контрасту, а так… из огня в театр, из книги на окраину города… выпить кофе между первым и вторым, или, дочитав до страницы 187, вернуться на страницу 3 – как любит он теперь все такое, как умеет теперь все такое! И нет для него ничего проще, чем выскользнуть на волю, бросив событие на произвол судьбы: происходи без меня, а меня и след простыл, я давно умчался далеко – на гребне случайного воспоминания, все изменилось – и неисповедимы пути мои.
Догмат сбоя…
Сбой догмата сбоя.
Но в нас самих, думал он в отчаянии, когда Пра с никчемной улыбкой своей покинул город, планету, жизнь… в нас самих, внутри нас, не так уж много того, что можно резко изменить. Не так много – из существенного, подлинного, изначального: не изменить резко характера, не изменить резко национальности, предпочтений, вкусов… на все нужно время, иногда – долгое и очень долгое время. Можно, конечно, что-нибудь поломать, но поломать – ив этом прав был улыбающийся Пра – не означает изменить. Однако должно ведь быть что-то: должен ведь быть ключ к разгадке структуры под названием «я» – самой жесткой, самой малоподвижной структуры… ключик, м-да, ключик-замочек-шелковый-платочек – пусть хоть и шелковый платочек, что-нибудь, все равно что – открывающее доступ к этой четырехугольной коробке «я», целостность которой – наша главная забота. Только ему все не удавалось найти ключика, шелкового платочка – и того не удавалось. Пока однажды не вспомнилось… мелочь вспомнилась, скорее забавная, чем какая-нибудь еще, да и вспомнилась в нелепой одной ситуации (то есть, вообще говоря, правильно – сказал бы Пра): он ходил по Нижнему Новгороду, взяв себе в качестве задания (задание-должно-быть-всегда, просто-так-не-бороздят-мир, и-птица-не-перелетает-просто-так-с-места-на-место! – Пра, Пра…) соотношение «ребенок – старик», то есть регистрируя каждого младенца и каждого старика – вычисляя, стало быть, нижне-новгородскую пропорцию, и – вспомнилось. Вспомнилась оговорка мамина: дескать, имя его пришло к отцу в самый последний момент. Дело, оказывается, как было: насчет имени еще за месяц до рождения всё решили о-кон-ча-тель-но, то есть сына и назвали, и переназвали, и даже опять переназвали – и никаких чтобы новых предложений, а отец вдруг явился откуда-то с совсем другим именем на устах: такое будет – и баста, разговор окончен… Почему? Нипочему! Такое будет. Извержение – ни с того ни с сего – вулкана Эйяфьятлайокудль.
Теперь он шел по бесконечной и, как обычно, пустой Prästegatan – любимой своей стокгольмской улице и произносил скороговоркой: «Эйяфьятлайокудль да Эйяфьятлайокудлина с эйяфьятлайокудлятами»… Вспоминай – чтоб-тебя! Имена вспоминай – как все называлось, вспоминай… ничего нет больше в твоем мире, ничего больше нет ни в чьем мире, имена одни. Имена существительные, имена прилагательные, имена числительные… но главное – имена собственные. Свое собственное имя вспоминай!
Он только совсем потом догадался, что в себе (у себя? при себе?) можно поменять действительно резко, понял задним числом, уже осуществив замену – мановением руки – и даже не отдавая себе отчета в том, какого пласта коснулся и как негодовал бы Пра, расскажи он ему когда-нибудь о замене. Но Пра получил его с уже новым именем – и не было оснований посвящать Пра в эту историю.
«Что у тебя с именем?» – спросила мама, получив от него первое письмо из Дании: имя стояло на обороте конверта – первым в составе адреса. Тогда он объяснил маме, что теперь, значит, это его имя, так проще, да и контуры прежнего имени вполне просматриваются в новом, есть такие имена, которым безразлично языковое окружение: они на всех языках известны. И с этим ему, польстил он маме, повезло: интернациональное имя.
Мама успокоилась.
А он забеспокоился вдруг, хоть и поздновато, м-да, поздновато уже было: документы в Министерство иностранных дел Дании ушли.
Тут ведь, вообще говоря, чувствительная такая область… область, в которой не существует никаких «почти», никаких «по большому счету»: напиши свое имя арабской, например, графикой, в которой букв для гласных раз два и обчелся – и ищи-свищи тебя потом по белу свету… Да и не арабской – латиницей напиши, последствия те же. Как-твое-имя-передается-по-английски… по-немецки… по-французски… по-датски… да по-дурацки только передается, легче найти такое же, ну не совсем такое же, близкое – вот только с тобой-то как после этого быть? Как окликнуть тебя там, где нет больше ничего – одно имя и где по имени этому (не по большой же чашке кофе и двум круассанам, в самом-то деле!) ты должен быть узнан? Будешь узнан?
Что-то сместилось в нем тогда, когда со все еще ребячьей удалью (и, конечно же, вспомнив «Роберта» из собственной метрики!) впилил он в самый первый датский официальный документ не имя – подобие. Что-то сместилось в тот день… что-то щелкнуло – словно позвонок хрустнул и с места сошел, короткая совсем боль – и опять всё, вроде, на месте, как было. Так было? Да так, по-моему… А в зеркало на следующее утро посмотрел: не то. Нет, не «неправильно», не «плохо», не «искаженно» – все как будто бы и точно, чуть ли не точнее, чем прежде, но освещение, что ли, изменилось, торшер на сантиметр передвинули, лампочку иной мощности ввинтили… не то.
Это с тех самых, кстати, пор на вопрос «Как произносится твое имя?» он стал отвечать: «Как хотите». Он, может быть, и раньше бы так отвечал, когда в России, но раньше не спрашивали, так что – неизвестно. Теперь – отвечал, и имя его произносили кто как хотел: немцы на один лад, датчане на другой, англичане на третий, французы на четвертый, при том, что все они – немцы, датчане, англичане, французы – имелись в его кругу… и даже больше имелось.
Кто-то – Лоне? Маркус? другой из знакомых нумерологов? – потом втолковывал ему, что важно не только звучание, но и количество звуков… количество вибраций, сказали они. Потому что тело – его, то есть, тело и, конечно, каждое тело – реагирует на разное количество вибраций по-разному и по-разному себя строит. Что это такое – когда тело «себя строит», – он не очень понял, но вдаваться в подробности не стал. Однако вдруг начал регистрировать: здесь кольнуло, там кольнуло, а тут вот… ой-ой-ой, тут было больно, впрочем – ладно, прошло, забылось. Любимая одежда перестала вдруг годиться: рукава, скажем, то длинны, то коротки… все или тесно, или велико: как носил – загадка! И не поймешь, когда так стало… Впрочем, и мода менялась – он не то чтобы за нею шел, но – приглядывался: форма воротничков, там, погончики или нет и все такое, ну и, конечно, длина-ширина… Новое замечательно приходилось по фигуре, старое – нет. Стало обычным слышать «ты похудел», «ты пополнел», «ты постарел», «ты помолодел»… полный кавардак. В Россию приезжал – анекдот, но не всегда узнавали! Сам-το он всех узнавал – даже и больше узнавал, чем раньше знал…
Торульф, до предела напрягая свой норвежский речевой аппарат, из последних сил называл его так, как звучало по-русски… словно хотел задержать что-то, словно боялся пошатнуть, потом рассердился, плюнул, махнул рукой – и перестал называть вовсе: то есть, стал называть «эй, ты», что постепенно преобразовалось в Эйты, а еще через некоторое время – в Эйто… смешно. Но он известный затейник, Торульф.
Что касается Кит – она спросила было, как ему лучше, он сказал «все равно», и она называла так, как получалось, то есть… какая-разница-ты-же-понимаешь-что-я-к-тебе-обращаюсь – он понимал.
У педантичного Курта проблем с именем не было изначально: тут раз и навсегда был выбран – правда, и предложенный ему – немецкий вариант.
Остальные называли как Бог на душу положит.
Единственное, что он заметил сам… впрочем, так, глупость: он стал в пространстве совсем уж немного места занимать – не то чтобы, там, затерянность, но как-то пустоты больше вокруг, воздуха больше, при том, что страна – меньше. Парадокс, видите ли. Но с пространством у него и всегда нелады были – со временем не было неладов, а с пространством – были. Время-то, оно – что… течет себе незаметно, и все, вроде, сегодня: и вчера было сегодня, и позавчера – только раньше и еще раньше. А вот пространство – разрежалось, даже дышать становилось больно, как на высоте… это в плоской-то, как тарелка, стране! Давление начало зашкаливать… ерунда всякая, в общем.
Что сосредоточиться ни на чем не мог – особенно обидно. Одно дело какое-нибудь делал, а ощущение такое, что – два, три, четыре… забавное, надо сказать, ощущение. И что делал – часто забывал: проходит мимо стола – на столе листок бумаги с наброском каким: когда набросал – убей Бог, не помнил! Почерк, вроде, его, да и кому ж тут быть-то… никто уже неделю не навещал. Предметы всякие вокруг перемещались: сегодня тут – завтра там, а вроде и не прикасался. Вещи терялись – причем навсегда, чужие какие-то вдруг возникали… расчески, ручки, рубашки, там, дребедень всякая. Шарфов миллион развелось, словно они вступали друг с другом в… м-да, отношения, словно размножались: появилось некоторое количество совсем новых, частично воспроизводивших цвет и фактуру старых, чудеса в решете. Жизнь словно ускользала из-под контроля.
Ну и пусть, говорил он себе, вспоминая Маркеса, пусть: до тех пор, пока он знает имена всего вокруг, ситуация не угрожающая, разберемся. И – разбирался, конечно, но имена теперь тоже слоились… и какие-то вдруг диковинные слои проступали на свет: påmindelse… ммм, поминки – нет, напоминание! Иногда ему казалось, что мир возвращается назад, к индоевропейскому языку: причудливые корни выползали из-под земли, свивались, развивались, перекручивались намертво, снова уходили под землю, а на поверхности тишь да гладь. Немецкий вдруг легко переходил в английский – по коротенькой улочке датского, всегда вившейся между ними, и были другие улочки – шведский, норвежский, голландский, исландский… фламандский какой-нибудь, некоторые улочки даже короче датских.
Он и всегда-το любил не улицы – улочки: все эти потаенности, запутанности, сложности… даже когда толком улочек как таковых и не видел: Россия не место улочек, она место улиц. А вот – принесло его туда, где одни улочки (при том, что улиц дефицит), и все друг в друга убегают, прячутся, веселятся… дети малые! Хотелось тебе, дескать, улочек – бери сколько сможешь.
И так – во всем. «Воскресное дитя», – говорил Курт, вычислив по «вечному календарю», на какой день недели приходился день его рождения. У Курта, кстати, были основания для занятий такими вычислениями: сам он был «четверговое дитя»… середина, хуже не придумаешь, до начала недели и до конца одно и то же расстояние, полная безысходность, короче – оттого и в жизни все кое-как… нерадостно, депрессии и все такое, и на душе тяжело… Пропасть промежутка, пенсия маленькая, всю жизнь работал, а ты… тебе хорошо, ты – дитя воскресное, тебе всё задаром дается!
Может, конечно, оно по-Куртову и есть, потому что всё так и давалось ему обычно – задаром. Помнится, не мог он без трепета смотреть на всякие графические загадочности типа а с кружком наверху, перечеркнутого о, слившихся вместе а и е … å, ø, æ – он даже и не выяснял толком, откуда сии загадочности происходили, знал только, что откуда-то из Скандинавии, вот и хватит. Но с ума сводили его эти написания – скучный немецкий умляут в подметки им не годился: подумаешь, две точки над буквами… все равно что наше ё, одно название красивое – умляут. А вот о перечеркнутое – особенно о перечеркнутое – эх, совсем ведь другая жизнь!..
Он и вообще сам не свой от графики был: достаточно арабский период вспомнить – действительно же сошел с ума мил-человек… да и в пристойном ведь возрасте, за тридцать уж. А уселся учить! В Ленинке чуть ли не год – 1987-й как будто – ежедневно учебник арабского для военных училищ (других не оказалось) в читальном зале брал – и вперед. Причем графику ведь до сих пор помнит…
Но – Эйяфьятлайокудль… Эйяфьятлайокудль названием своим просто пригвоздил его к месту – и никаких тебе исландских улочек, куда-нибудь в понятное место ведущих. А ведь ему исландский понимать сам Бог велел, ибо исландский есть прадатский… он слушается Бога и исландский понимает, даже и с любым исландцем поговорить может пару минут, если не очень задумываться… только этот вот Эйяфьятлайокудль никак чего-то не дается.
Но, черт, что-то ведь должен Эйяфьятлайокудль значить: поймешь – и вспомнишь важное… может, и самое важное.
А хуже всего на свете – имена мертвых.
Нет, хуже всего на свете номера мертвых.
Шесть-семь-семь-восемь-пять, например, сидящее в нем навеки, но не значащее больше ничего: все равно как снип-снап-снурре-пурре-базелюрре… тоже, кстати, пять позиций. Набор даже не цифр – звуков, не складывающихся в слова.
Он сидит и листает адресную книгу в мобильном телефоне… нашел чем заняться. Нет, но надо же, по крайней мере, сделать вид, что занят – иначе подозрительно: уселся человек на камень посреди города и сидит. Впрочем, живые или мертвые… – все равно не к реальным, все равно к неким фантасмагорическим сущностям апеллируют цифры: даже те люди, которые под своими именами в телефоне значатся, латинизированы возможностями ввода. Кто-то из его русских знакомых в Дании все советует ему русский вшить: пусть-вошьют-и-никаких-проблем-сто-крон-возле-Нёррепорта-я-знаю-адрес, тогда-и-смски-твои-по-русски-писать-будешь-тебя-ж-тошнит-от-транслита…
Ну, тошнит… нет, даже не так – наизнанку просто выворачивает, но положение, увы, безвыходное. Датский телефон в Дании должен говорить по-датски, так Бог распорядился, а Бог не возле Нёррепорта находится – Бог на небе находится. Не предусмотрел Бог русского на твоем телефоне – значит, испытание тебе такое: истязай себя транслитом. Судьба ведь везде, милые люди! Как это – «вошьют»? Права не имеют менять ничего! Он, вон, на компьютере Ворда не ставит, с Воркс мучается, а все почему? Потому что не было у него Ворда при покупке – и пусть не будет. Нельзя менять мир по своему хотению… – по щучьему велению, может, и ладно бы, но для этого, во-первых, щуку иметь надо, а во-вторых, дураком быть, Емелей. Он щуки не имеет… так что вопрос, дурак он или нет, на фоне отсутствия щуки теряет смысл. Хотя, наверное, дурак. Только дурак без щуки, то есть совсем безнадежный: мало того, что дурак, так еще и без связей. Интересная типология: дураки делятся на две основные группы – дураки без щуки и дураки со щукой…
В общем, не трогай тут ничего… не тобой положено – не тобой и возьмется.
Он, кстати, никогда особенно не любил этот тип человека – как его… золотые руки, в общем. Человек, преобразующий мир, платоновский человек: «Соваться пришел?»… «Суешься уже?» Золотые руки были, между прочим, у его отца, но, видимо, они отцу самому были дороги, так что он, слава Богу, не передал их сыну… вот спасибо-то! Не то бы чинить сыну электропроводку, прочищать санузлы, ввинчивать лампочки, забивать гвозди, менять колеса на машине… – сколько забот-то! Он не любит, например, подстригать кустарник не потому, что ему лень (хотя и лень, конечно), а потому что какого черта ему вмешиваться в жизнь кустарника!.. Пусть произрастает себе и остается как есть. Bitte, verlassen Sie das Lokal, wie Sie es vorgefunden haben!
Короче, никогда не вошьет он русский в мобильный свой телефон. Так пусть и остаются в адресной книге тени имен, отброшенные не приспособленной для них графикой. Да дело сейчас и не в именах. Дело сейчас в номерах мертвых людей. Таких номеров хранилось в его телефоне уже несколько. Стирать их было больно. Голоса мертвых там тоже имелись – он знал это и берег такие голоса для особых случаев. Особый случай был сейчас. Он глубоко вздохнул и вызвал один голос. Голос сказал:
– Это я. Я не могу Вам дозвониться. Все ли у Вас в порядке? У меня все в порядке. Вы позвоните?
– Я звоню, – ответил он и отчитался: – Звоню, сидя на камне… ммм, камне преткновения. Идет дождь со снегом.
Не услышав никакого ответа, он сам сказал себе от имени собеседника:
– Не простудитесь.
И ответил:
– Не простужусь.
– До свиданья.
– До свиданья.
Такой вот, значит, хороший произошел разговор. Ну, слава Богу, что там все в порядке, м-да… в том голосовом пространстве все еще в порядке. А где локализовано сие голосовое пространство – не будем думать об этом, да и ответ на данный вопрос только один: если есть голос, есть и какое-то пространство, какое – без разницы.
Он настолько промок, что пора было сушить перья. Тем более, давно уже светилась поблизости от камня преткновения криволапая «М» Макдональдса – там и будем, значит, сушить перья, мы не баре.
А что возьмем… да вот первое попавшееся на глаза комплексное меню и возьмем: он принялся поклевывать картофель-фри, обмакивая ломтики в некое светло-зеленое месиво, запивая все это колой и чувствуя себя тинейджером. Окружавшим его со всех сторон подлинным тинейджерам не было до него дела: западной молодежи и вообще-то нет дела до их возрастных сограждан – даже тех, которые делят с ними трапезу в таком сугубо пубертатном заведении. А вот сам он то и дело поглядывал на них, лениво думая о том, что Запад и вообще безразличен к индивидам, достигшим, по местному определению, «четвертого времени года»: тут на пожилой возраст, растерянную улыбку и черносливовую трубку (так ведь и не купил он еще трубку-то…), увы, не то чтобы даже и с презрением смотрят – вообще не смотрят. В идеале представителям четвертого времени года лучше просто не появляться на людях и не напоминать этим самым людям о том, что каждого из нас ждет… ибо ждет каждого нас не что иное, как то же самое: пожилой возраст, растерянная улыбка и черносливовая трубка. Этот навсегда потрясший его однажды своим совершенством набор… м-да, суповой набор для домов престарелых. И его жизнь, наверное, тоже закончится когда-нибудь в доме престарелых – среди хорошо, но не очень охотно пасомых граждан, переваливших за седьмой десяток… миленькая такая перспективка, если вдуматься. Но особенно сильно вдумываться пока, слава Богу, не обязательно… можно ведь и как Торульф: играть себе на органе, ходить через силу по горным склонам и мечтать о том, что на каком-нибудь из них придет Большая Короткая Боль, после которой – только вечный покой… хм, тот самый, за который автора этих строк так страшно выругали однажды в школе (тогда им предложено было написать сочинение по картине Левитана «Над вечным покоем» – и он начал сочинение словами: «Это картина о том, что все мы уже умерли…»). Но можно и как Курт: забыть о четвертом времени года и просто разговаривать с птицами – это умеют только дети и Франциск Ассизский. Курт даже внешне похож и на Франциска Ассизского, и на детей (причем всех сразу!), когда серьезно и обстоятельно беседует с грачом на кровле соседнего дома. Да мало ли как можно…
– Ты мешаешь мне сосредоточиться, – это Торульф в телефоне. – Хватит поминать меня всуе!
У Торульфа антенна во лбу. Он, вообще-то, страшный человек: стоит только вспомнить о нем – и он тут как тут.
– А на чем ты там сосредоточиваешься?
– На смысле всего, – яростно отвечает Торульф.
– Торульф бы тебя не одобрил, – смеется он.
– Хорош раздваивать меня, – протестует Торульф. – Хватит и того, что ты сам… мультиплицируешься!
И Торульф сообщает сильно неприятную вещь.
– Кто-то звонил мне только что и делал вид, будто это ты. Может быть, с другими и прошло бы, но не со мной. Со мной, значит, не прошло. Однако, доложу я тебе, очень и очень все правдоподобно: голос, интонации, тезаурус… даже акцент, как у тебя – неуловимо чей.
– Чего хотел? – спросил он, чувствуя, как немеет рассудок.
– Да в том-то и дело, что ничего: жанр дружеского, так сказать, перезвона… щебет-лепет. Но ощущение не из приятных.
– Как ты понял, что это не я?
– Ты меня спрашиваешь? – и опять ярость в голосе.
– Да нет, не сколько тебя, сколько… никого.
– Я затем и звоню, чтобы сказать: практически любой купился бы! Чем-то ты там совсем неправильным занимаешься… Позвони маме, Христом Богом прошу, скажи, что ты в Стокгольме! А то ведь как бы поздно не было…
– Поздно – что, Торульф?
– Нет, ну ты, извини меня, прямо профан… профан! «Поздно – что, Торульф?» Я не знаю, что – поздно, у меня нет таких слов, это, может быть, вообще нельзя словами: обозначать, определять, касаться!.. Что ж ты все слов-то по любому поводу требуешь… тем более по такому? Не надо уже увеличивать массу неточных слов, точность требуется: позвони маме и скажи, где ты, это точные слова. Привет.
И в голосе, как сказано (два раза), ярость.
Он попытался вызвать мамин номер, но ответили: абонент-временно-недоступен – честное слово! А потом… потом, через несколько минут, он решил все-таки не звонить. Из чего бы ни исходил Торульф, мамино спокойствие дороже. Пусть мама думает, что все идет по плану: к этому плану она хотя бы привыкла, а к новому еще привыкать – совсем ведь издергается человек!.. Издергается, растеряется, будет звонить каждую минуту, зачем?
Так-так-так… но игнорировать сообщение Торульфа не столько нельзя, сколько невозможно: жуткое, по совести-то говоря, сообщение. Похоже, ситуация развивается без его участия… или как это теперь назвать – с несколькими его участиями?
На экране телефона – мама.
– Прости, что перезваниваю сразу же… я забыла тебя спросить, ты ведь в Санкт-Паули не собираешься?
– Не собираюсь, – автоматически сказал он, – с какой бы стати? Я… в очереди стою… за кофе, сейчас расплачиваться.
– Да-да, расплачивайся, я это одно хотела спросить, мы же только что поговорили. Не ходи в Санкт-Паули, целую.
– Не пойду. В Эппендорф только пойду – даже одной Изештрассе ограничусь! Целую.
Он не говорил с мамой «только что», только что «абонент» был недоступен! Он не говорил с мамой про Санкт-Паули, и вообще Санкт-Паули не называл ей – ни в связи с этой поездкой, ни когда бы то ни было. Да что ж такое-то, а… Ум за разум заходит!
«Я теряю контроль над ситуацией», – сказалось в нем помимо его воли. И это было оч-чень похоже на правду, потому что вывод напрашивался один: кто-то звонит его близким вместо него. Жутко, до головокружения просто жутко. Эх, обидно, что и мама, и Торульф технически такие беспомощные: у обоих дома телефоны старые, без экранов, номера не показываются… а то бы можно было узнать, с какого номера звонили. Вот у него – он открыл «Исходящие звонки» – все регистрируется.
В исходящих он увидел номера мамы и Торульфа и – не поверил своим глазам. Получалось, что оба раза звонили с его телефона. Сначала – Торульфу, который, значит, почуял неладное и тут же перезвонил (вот его звонок во «Входящих»), потом – маме, которая ничего не заподозрила и поговорила с кем-то как с ним… вот и ее ответный звонок запомнен.
Мироздание качнулось и поплыло – было только непонятно, в какую сторону.
Я настроен достаточно оптимистически и верю, что высказываемые человеком дельные мысли с течением времени получают признание; поэтому я считаю лишним прислушиваться ко всякому, кто держится другого мнения, и гнаться за его одобрением. Главное, чтобы книгу читали. Что в ней правильно – пустит корни, а ложное – которого избежать, по-видимому, невозможно – будет отмирать.
Однако дело обстоит иначе в случае, когда вещи понимаются совершенно превратно и поверхностное толкование искажает смысл книги. Тогда приходится выступать публично, потому что иначе одно ложное представление нагромождается на другое и делаешься ответственным за утверждения, с которыми у тебя нет ничего общего. Именно таково мое положение. В целом ряде последних работ по истории искусства – более или менее явно – мои «Основные понятия» оцениваются как некая опасность, угрожающая «единственно настоящей» истории искусства.
Красной тряпкой, вызывающей такое возбуждение, является, прежде всего, понятие «истории искусства без имен». Я не знаю, откуда я позаимствовал это словосочетание: оно носилось в воздухе. Оно, во всяком случае, отчетливо выражает намерение изобразить нечто, относящееся к сфере внеиндивидуального. Тут начинают громко возражать: «Самое ценное в истории искусства есть все же личность; исключение субъекта означает безотрадное обеднение; история заменяется бескровной схемой» и т. д. Более топорного понимания моих мыслей, кажется, невозможно придумать. Какой смысл в этих напыщенных восклицаниях, если никто не собирается сомневаться в ценности индивидуума? То, что я даю, вовсе не есть новая история искусства, предназначенная занять место старой: это не более чем попытка подойти к вещи с некоей новой стороны и тем самым найти для исторического построения руководящие линии, которые гарантировали бы известную достоверность суждения. Удалась попытка или нет – не мне решать этот вопрос. Я лишь стремлюсь к цели, которая должна быть важной для всякого, кто считает, что задача истории искусства не исчерпывается установлением внешних фактов. Мне никогда не приходило в голову сводить историю искусства к истории форм видения, но все же я думаю, что необходимо пытаться уяснить общую форму созерцания известной эпохи, потому что без такого уяснения художественное произведение никогда не может быть оценено правильно. Без него все сводится к блужданию в тумане. Примеров сколько угодно {20} .
То, что вот уже пятнадцать скоро лет он живет две разные жизни – одну в России, другую в Дании – ему, скорее, нравилось, чем… чем не нравилось. На две одинаковые его так и так бы не хватило, а жить просто одну – это нет, потому что возможности полностью остановить прежнюю жизнь не было: слишком много на момент отъезда там уже накопилось всего, в прежней жизни. Да и не собирался он никогда прекращать ее жить, прежнюю-то жизнь: уехать-посмотреть-и-вернуться – такая приблизительно рисовалась схема…
Про то, что и как у него в России, он в Дании почти не рассказывал: не имело это там значения… да и ничего, что могло бы быть так уж интересно его окружению, в голову не приходило – ну, работал, учил кого-то всяким глупостям, ну, писал какую-то ерунду… Окружение говорило о женах, о детях и внуках – именно это означало для окружения «жизнь», но тогда – что ж… тогда, значит, у него – по причине отсутствия жены и детей с внуками – не было жизни, а что было… да ничего не было, не приставайте к убогому! А в России, говорил, всё именно так, как вы и думаете: морозы, водка, коррупция, плохие дороги да великая русская литература и великая русская музыка… всё правильно вы думаете, так и есть.
Он и про то, как живет в Дании, никому в России не рассказывал – в первый же приезд поняв, чего от него ждут, и пойдя навстречу сразу всем пожеланиям: крохотная сказочная страна, на каждом шагу гномы, тролли, русалки, андерсены, кьеркегоры, нильсы боры, паштеты-рулеты, пиво, свиньи-коровы-овцы… хватит или что-то забыл? Работа трудная, но интересная, вот поменял, вот опять поменял, вот застрял на одном месте на восемь лет, но опять поменял, язык преподаю, какой язык, датский – какой же еще, я же в Дании живу… а русский тут не нужен, как преподаю – да как все, так и я.
И – не пересекались они, две жизни в разных странах. Это было два разных «я»: одно собственно «я», второе – «jeg»… «яй» – в общем, похожие, но с каким-то удивлением во втором случае: «я-ай?» (дескать, смотри-ка, тоже я!) Тот же цветок замечал: «У тебя голос другой, когда ты по-датски говоришь…» – может, и другой, он не знал, он не думал об этом. Вообще-то оно довольно скоро понялось, что нельзя думать о том, на каком языке в данный момент говоришь: стоит задуматься – и ты уже не говоришь ни на каком. Переключение с одного языка на другой – это как переход на другую радиоволну, кнопкой, или колесиком, или движком, все равно, одно движение – и другая станция: «Говорит Копенгаген»… по-датски говорит, разумеется. И, конечно, совсем не о том же, о чем «Говорит Москва». Все дело как раз в этом. Ибо ни одна страна не может быть переведена на язык другой: казалось бы, и точно так же всё, ан – совсем иначе.
И это было необъяснимо: начнешь объяснять – путаешься, чертыхаешься, повторяешься, сам себе противоречишь, лучше не объяснять! Та же чашка того же кофе, но и чашка не такая, и кофе не такой… и пьется – не так, потому что в ином поле находится, в измерении ином, с прочими предметами иначе соотносится, да и не чашка – кружка… хотя в России тоже теперь кружки, а все равно не такие – не там и не при тех обстоятельствах купленные, не за те деньги, не с той сдачей, не с теми словами, не для тех случаев…ох-ты-боже-ты-мой. И даже если ты оттуда сюда или отсюда туда кружку свою перевезешь и здесь или там навсегда оставишь, не бывать ей «той же», никогда «той же» не бывать! Все будут «кружки», а она – «et krus», или наоборот: все будут «krusene», а она «кружка», хоть ты что делай. Два не сливаются в одно, сколько бы ни засыпал и ни просыпался Чжоу: всегда имеются наблюдатель и наблюдаемое, субъект и объект – даже если и суждено им постоянно меняться местами.
«Я» и «jeg» наблюдают друг за другом.
– Hvordan går det, Ja?
– Спасибо, хорошо, Яй!
– Как дела, Яй?
– Mange tak, godt, Ja!
И ничто ни во что не переходит, ничто не теряется ни в чем. И сколько было всего – столько всего и останется, ибо раз и навсегда сочтено все на этом свете, и ежесекундно пересчитывается, и записывается в кондуит, и не пропадает. И если кто-то звонит по твоему телефону – деньги платить тебе.
Дания не была страной его мечты. Страной его мечты была Финляндия… даже не Финляндия, а Хельсинки… лесенки, песенки – ив стране своей мечты он еще никогда не был. Правда, у него в кармане до сих пор лежит билет «Москва – Хельсинки», но этот билет – недоразумение: он едет через Берлин, он сейчас уже в Гамбурге и, судя по всему, наведается-таки в Санкт-Паули, ибо какой же Гамбург без Санкт-Паули… смешная ты, мама! Это здесь он и вырос – среди уличных артистов, проституток и сутенеров, мошенников… где sieben Gassen hinter dem Kanal, где der Mann mit der Harmonika spielt den Tango für die Monika и все такое, как пела незабвенная Хильдегард Кнеф, что-то ведь подобное и имея себе в виду… явно Гамбург в виду имея, явно не Берлин, какой в Берлине канал и какая в Берлине Моника, вы с ума сошли!..
Мобильный был теперь отключен: нечего кому попало пользоваться! Страх, кстати, прошел совсем – осталось легкое опьянение, дурь такая с пузырьками, когда море еще не по колено, потому как не забыто, что такое море, но уже есть ощущение, что даже и моря вброд переходят. Веселая, значит, дурь… – ах да где ж наша не пропадала, при том, что везде пропадала… только потом опять находилась!
А и правда – чего волноваться-то? Ну, происходит с ним что-то… так это же не больно! Торульф говорит: опасно, – но в чем опасность? В том, что он потеряет себя… ха-ха, чтоб-тебя-на-земле-не-теряли-постарайся-себя-не-терять? Да он давно уже потерял себя – и его давно уже потеряли… нет его больше, след простыл, он в Гамбурге – и надо пойти в Санкт-Паули, туда, где он, стало быть, вырос. Как он любил эту среду, где все братья, все бражники и блудницы! Он уже не мог стать одним из них, жизнь пошла не так… и – что? Гостем-то он, во всяком случае, мог быть? Милым гостем, заранее принимающим все правила дома, все капризы хозяев, все неудобства временного положения – нет-нет, не обращайте на меня внимания, я погощу и уеду, вы меня почти и не заметите… я, может быть, забуду тапочки под диваном или зубную щетку в стаканчике – просто выбросьте их потом, у меня есть другие тапочки и другая зубная щетка!
Санкт-Паули встретил его солнцем и музыкой – der Mann mit der Harmonika, так ведь заказывали? Да, спасибо, именно так и заказывали!.. До вечера далеко, и жизнь, привыкшая бывать здесь по вечерам и особенно – ночам, – она еще не шумит… тихо сидит с чашкой кофе или бокалом сухого вина над утренней газетой, над растрепанной телефонной книгой – пока всякие неуместные люди мелькают то тут, то там, и непонятно, что они здесь делают в такое время. Вот и он мелькнул пару раз, но уже и уселся за столик под тентом – конечно, на улице Большой Свободы, ради одной большой свободы стоило прийти сюда… Ein grosser Kaffee mit Sahne und zwei Croissant, bitte, всё как всегда, всё как всегда, только не разрушать привычного хода событий, только держать в поле зрения берега – и куда-нибудь принесет нас утлый челн, или как?
Дивный кофе с пенкой-шире-горшка, дивные золотые круассаны, телефон выключен, хоть это, конечно, не значит, что именно в данный момент по нему не звонят… а-а-а, и пусть звонят, счет придет только тогда, когда он будет в Копенгагене, но там-то уж он справится, там-то уж он со всем справится.
И нечего обманывать себя: настало время прекратить обманывать себя, прекратить отказываться от очевидных вещей, которые помнит сердце. В данный момент сердце отчетливо помнит Лауру – зачем же противиться сердцу, зачем же пытаться заставить его забыть? Оно не забудет. У каждого в жизни была Лаура, вот и у него в жизни была – недолго, правда, всего один вечер, но – была. Он тогда слонялся по Ассизи, этаким неприкаянным датским туристом, не знающим, что делать в Ассизи, если не смотреть фрески, которые он уже посмотрел не раз и не два – и готов был смотреть еще и еще, только не сейчас, сейчас поздно, сейчас темно – и он не знает в этом городе ни души. Un grande caffe con panna e due croissant, per favore, такой заказ он может сделать на всех языках – выучил на случай голодной смерти… в данном случае голодной смерти в Италии. О non conosco nessuno in questa citta, – небось, это неправильно, так определенно не говорят, он сам сложил предложение из отдельных слов в разговорнике, приспособив для описания своего положения по отношению к городу какие-то полуготовые туристские фразы…
– It is not true, you know me, at least!
Он даже сначала не понял, что это на английском, на местном – певучем! – английском, в котором собрано щебетание всех птиц святого Франциска, любимого его христианского образа.
– My name is Laura…
…произносится на певучем английском – и, поскольку фраза птичьей трелью повисает в воздухе, он добавляет, словно заканчивая её:
– …of course! – и улыбается: понятно, что каждую красотку в Италии зовут Лаура. – And my name is Francesko Petrarca, – говорит он, глядя на смеющуюся уже официантку.
– Are you still alive, Sir Francesko Petrarca?
Он просидел в этом крохотном кафе до полуночи, а потом они с Лаурой гуляли по полям и лугам… чем еще занимались – он не скажет, просто для таинственности, ах, все и было таинственным той ночью: и окрестности маленького итальянского городка, и крупные звезды, и полная луна – все как нужно, все как должно, чтобы, потом вспоминая, не верить в реальность происходившего (а происшедшего?), но быть убежденным в том, что ты видел это в кино, в плохом каком-нибудь фильме, чрезмерно милосердном по отношению к жестокой нашей жизни. Окрестности маленького итальянского городка, крупные звезды, полная луна и, конечно, Лаура – как же без Лауры, куда ж без Лауры?
Он читал ей Петрарку по-русски – сколько знал, потом читал Рильке, не обозначив смены поэта, потом Ахматову, не обозначив смены пола: кажется, «Здесь все меня переживет…», он всегда читает это, когда хочет остановить мгновение, а тогда он хотел остановить мгновение, только Мефистофеля не было поблизости, да и сам он был не доктор Фауст. В общем, никакой сделки с совестью не состоялось, и он проводил Лауру домой – конечно, в маленькую глинобитную хижину, увитую виноградом: следовало соблюдать верность жанру.
Так что… у каждого в жизни была Лаура, и нечего отрекаться, голубчик, нечего делать круглые глаза, услышав это имя от Гвидо… интересно, как поживает Гвидо, – и интересно, где поживает, уж не в Гамбурге ли, но лень включать телефон и разбираться с Vorwahl… низачем ему все это – и, даст Бог, здесь, в Санкт-Паули его никто не знает.
Он часто думал о том, как безрассудно мы принимаем повторяемость имен в жизни каждого из нас… – и удивлялся. Сам он всякий раз внутренне сжимался перед тем, как ему предстояло услышать имя новой знакомой или нового знакомого: было уже, есть уже имя это в его жизни? Даже и двух человек с одинаковым именем казалось ему много… многовато, и часто он переставал поддерживать отношения с одним из них просто потому, что не вмещало сердце его сразу двух – а уж трех или четырех и подавно – носителей одного и того же имени, что-то неправильное было в этом, что-то лишнее. Он ходил по свету так, как ходят совсем маленькие дети, приставая к незнакомым людям с вопросом: «Как тебя зовут?» – словно это самое главное в жизни, притом что это и есть самое главное! И он гордился тем, что среди подружек его за всю жизнь не было и двух с повторяющимися именами: сама возможность такого повторения вгоняла его в панику – нет-нет, пожалуйста, только не еще одна Мария, пожалуйста, нет!
«У тебя штучный подход к миру, – сказала ему Манон, – и даже немножко обидно, что мое имя играет для тебя такую большую роль…» Он развел руками, потому что штучный подход к миру у него и был, его пугали подобия. Самое страшное воспоминание для него – воспоминание об одной мастерской, где он увидел штук двадцать одинаковых каменных голов: это были головы Ленина, поскольку владелец мастерской зарабатывал на жизнь идеологически верным путем. Тогда ему попросту стало дурно, что проявилось в… – неважно. И, конечно, он никогда не покупал ничего там, где виднелись следы серийного производства и было развешено по двадцать одинаковых рубашек, десять одинаковых пиджаков, пять одинаковых пальто. Он готов был дорого платить за уникальность каждого предмета, проникавшего в его жизнь – кстати, проникавшего обычно с черного хода: из каких-то мимолетом посещенных не типично-туристских стран, из левых магазинчиков на задворках Копенгагена, из крохотных лавочек в центре старого города… дело было не в изощренности его вкуса – дело было в физическом неприятии серийности. Он даже почти никогда не смотрел фильмов с продолжением, достаточно было на экране возникнуть номеру серии – тут же переключал телевизор на другой канал: знал, что может вынести максимум две серии… максимум два круассана – его, наверное, стошнило бы от вида трех.
А то, что у-каждого-из-нас-есть-двойник… – так лишь бы не в одном месте, лишь бы не предъявленные взгляду здесь и теперь! И еще… он боялся близнецов, с детства, «харрисовским страхом», говорил дон Исидоро, а уж что в виду имел – не нам знать.
Один из близнецов обязательно казался ему подделкой, куклой, не живым человеком. И он не понимал, как можно дружить с близнецами, не зная, с кем именно ты говоришь в данный момент, не зная, дурачат тебя или нет. Ну и… Бог миловал: близнецов в его кругу никогда не водилось. А вот страха перед зеркалами, наоборот, не было: странное дело, зеркало почему-то не казалось ему предметом мистическим – просто кусок стекла… или что у них там покрывают то ли амальгамой, то ли серебром.
Касательно же близнецов – тут дело в чем… тут в том дело, что любое реальное два требует различий, иначе зачем – два? Не бывает никаких одинаковых «двух»: самая возможность наличия двух – вместо одного, целостного, – означает расхождение, расподобление и потому обязательно предполагает, что одному из двух назначаются другие признаки. Скажем, если – два, и один из них белый, то второй обязательно не белый, а чуть ли не неизбежно черный – или хотя бы серый, гм… как те два веселых гуся у бабуси: один серый, другой белый, значит, и ни за что не может быть двух белых, хоть та бабуся седой головой об стенку бейся!
Да ведь и дон Исидоро, самый энциклопедический человек на свете, рассказывал ему, а не полагаться на дона Исидоро в таких вопросах было бы смешно, что человечество так к близнецам изначально и относилось: один обязательно представлял доброе начало, другой – обязательно злое («Символика дня и ночи, – разводил руками дон Исидоро, – или братья-антагонисты»), и где-то – вроде бы, в Африке, – в честь этого даже раскрашивали в разные цвета две половины лица или правую и левую стороны тела. А совсем уж ошеломительным в рассказах дона Исидоро был, помнится, тот факт, что в некоторых культурах идея двойничества совмещалась в одном образе, который, между прочим, часто был двуполым. Еще одна инкарнация не подлежащих разъятию Чжоу и бабочки, подумалось ему тогда: перед-вами-близнецы-собранные-в-одном-теле! При том, что даже сиамские близнецы – близнецы близнецов, так сказать – и те получают пару-тройку органов каждый в отдельности…
М-да, сам себе близнец, значит. Забавно, забавно. Вот тут-то уж точно – психическое расстройство: доктор-это-не-я-сейчас-с-вами-беседую-это-мой-близнец… И опять же дон Исидоро говорил, что уже в начале времен понимали: нечисто тут, – не людьми близнецов считая, а зверями, потому и отводили в лес, к зверям, или просто убивали. Там еще такая одна подробность была… совсем дикая, которую он потом уже никогда забыть не мог, как ни старался: что мать близнецов в медвежьей клетке хоронили, вот где ужас-то. Эта мать в медвежьей клетке – слава Богу, всегда чужая мать – даже снилась ему некоторое время с бесчеловечной регулярностью. И сами близнецы снились: медвежата, значит, только неприятно голые, причем в тех же позах, как на конфетах «Мишка косолапый»… Милые уродливые создания, что, по дону Исидору, и неудивительно, небось, поскольку считалось ведь близнечество уродством, недаром ведь близнецов вместе с родителями селили в специальных местах, отделяя от племени. А уж когда случилось, что близнецы из презираемых в почитаемых превратились, об этом даже сам дон Исидоро не знал, но полагал, что тогда же, когда нечистая сила перестала быть нечистой, а сделалась сверхъестественной. И близнецов – тех же Ромула и Рема – стали обожествлять.
Однако в индивидуальной своей эволюции он сам так и не сделал этого шага и до сих пор поглядывал на близнецов с гремучей смесью отвращения и восхищения. Так же, впрочем, как и на себя самого… себе самому близнеца.
А вот сколько же он не был здесь… лет пять? Раньше, из Ютландии, они без конца ездили то в Гамбург, то в Любек, то в Бремен, теперь – из Копенгагена – все это далеко… вся Германия далеко. Ходит туда, правда, аж с конца шестидесятых, какой-то паром, Рёдбю – Путтгарден, но до места отправки этого парома, острова Лолланд, из Копенгагена сто лет пешком на самолете, да и прибытие в некий Путтгарден-Северная-Германия не больно веселая перспектива!
Но Санкт-Паули наплевать, сколько он здесь не был: Санкт-Паули вообще наплевать, кто и сколько здесь не был, у Санкт-Паули, как всегда, с вечера еще голова болит… так что хорошо бы здесь и в данный момент никого не было, ближе к ночи приходите или вовсе не приходите никогда, без вас проходимцев хватает. Гуляйте по остальному Гамбургу: вон, по «Тропе Здоровья» семь километров отмахайте – и будьте, так сказать, живы и здоровы на веки вечные, привет.
Ну-ну, увещевал он, не бурчи, дорогой Святой Павел… сам ведь не без греха, прости, конечно, за напоминание, только не случайно ведь ни вокруг церкви Святого Петра, ни, скажем, Святого Георга не возник такой вот славный, такой вот преисподний городок… смотри, что с Санкт-Георгом случилось, уж до чего чинный стал район – это после всего-то! А ты бурчишь, дорогой Святой Павел… Хотя и ты, говорят, видел лучшие времена: одни свои бывали здесь, все знали друг друга – обнимали, целовали… обували, убивали, красота! Теперь многовато, конечно, лишнего – ци-ви-ли-за-ци-я, но я другого-то и не застал, дорогой Святой Павел.
Где-то тут, в «Индре» и «Кайзеркеллере», совсем рядом с Рипербаном, начинали свои выступления «Битлз»… надо сходить на «пластинку», площадь Битлз, он всегда туда заходит… all-you-need-is-love, как много для него это тогда значило!
Я узнал с небес, что у древнейших жителей земли было непосредственное откровение, ибо тогда внутренние их начала были обращены к небесам, и вследствие того Господь мог соединяться с родом человеческим, но что впоследствии такое непосредственное откровение прекратилось, а настало другое, посредственное откровение через соответствия; что из них состояло все Богослужение тогдашних жителей и что поэтому и церкви того времени были названы церквями прообразовательными, ибо тогда было известно, что такое соответствие и прообразование (repraesentativum) и что все существующее на земле соответствует чему-либо духовному на небесах и в церкви, или, что то же, прообразует это. Таким образом, внешние обряды, принадлежавшие природному Богослужению тех людей, служили им средствами для мышления духовного, т. е. согласного с ангелами. С утратой науки соответствий и прообразований было написано Слово, в котором все слова и обороты речи суть соответствия и, следовательно, заключают в себе духовный, или внутренний, смысл, постигаемый ангелами. Поэтому, когда человек читает Слово и понимает только буквальный, или внешний, смысл его, ангелы постигают его духовный, или внутренний, смысл, ибо всякая мысль ангельская духовна, а человеческая природна. Эти мысли хотя и кажутся разными, но в сущности составляют одно целое, потому что они одна другой соответствуют. Вот почему, когда человек отдалился от небес и разорвал соединявшую его с ними связь, Господом усмотрено было другое посредничество (medium) для соединения небес с человеком, т. е. Слово {21} .
Джинсов негде было взять вообще, но джинсы были нужны – иначе вся жизнь казалась неправильной. Откуда-то у него появились одни – чуть ли не купленные в обычном магазине, назывались «техасы», но напоминали джинсы… первый шаг был сделан. Длинные волосы оказались не проблемой, они росли да росли себе потихоньку – и родители не замечали, что волосы становятся все длиннее… так и выросли – докуда тогда надо было, и основными противниками не родители были, а соседи, тетя Лида с мужем и так далее. Потом, из Дании, все увиделось совсем не так, но это потом, сильно потом: вдруг понялось, что западные хиппи действительно были и нищими, и грязными, и обкуренными, что, осваивая нормы коллективного общежития в английском Вудстоке или датском Тю, они на самом деле ходили по лагерю в чем мать родила, спали с кем попало, глушили себя тяжелыми наркотиками, топтали капиталистические ценности… И что make-love-not-war было всерьез – как тогда, у Белого Дома в России, он помнит: на него ехал танк – и он, с гвоздикой в руке, не знал, чужой танк или свой, и никто не знал, и все приготовились умереть, но танки, как выяснилось, были свои… а не свои – на Садовом кольце, где действительно людей давили, но кто бы мог подумать, что главное там произойдет, а не здесь, где эпицентр! Это у Белого Дома было make-love-not-war, это там надо было быть хиппи, а не в Твери в шестидесятые, где джинсами, длинными волосами и гитарой, разбитой потом там же, на вокзале (упала на платформу), и исчерпывался весь «бунт солидарности» – солидарности с теми, кто и сам хорошо стоял за себя на далеком-Западе! А вот они, советские-хиппи, тогда уж точно за себя постоять не могли, их в КГБ таскали – из-за причесок, из-за рваных джинсов… смех. В Москве уничтожали и ссылали диссидентов, но они, советские-хиппи, почему-то не имели к диссидентам отношения, странно.
Он один из тех, кто – джинсы-длинные-волосы-гитара… зачем – спросите что полегче. Надо было! Ибо мир един – и если что-нибудь происходит там, требовалось, чтобы здесь – тоже. А что именно – потом разберемся. Но никогда потом уже не разобрались. От всего этого остались длинные волосы – на-веки-веков-аминь: поздний протест против чего-то, чего давно и след простыл. В Дании он из-за них напоминал бродягу: приличные люди здесь стриглись. В местах скопления замызганных субъектов, обычно безработных, его – случайно проходившего мимо – принимали за своего: «Эй, браток, присядь пива выпить!»… тут он солидарности, правда, не проявлял. Пару раз даже постригся у хорошего парикмахера, но выглядел после этого как яппи, так что стричься все равно перестал, хотя, стоило только волосам распуститься по воротнику, приглашения на пиво немедленно возобновились.
Но вообще говоря, хорошая пора была… пусть и странная, если посмотреть на нее глазами настоящих западных хиппи. Да и запоздала сильно – по сравнению с Западом-то… впрочем, все равно! Отца, в основном, жалко было: как-то больно уж всерьез беспокоил его внешний вид сына, знакомые опять приставали, как в период Робертино, расспрашивали, здоров ли мальчик и все такое. Напрямую с ним отец на эти разговоры, однако, не выходил – перепоручал маме, а мама – что, мама? – свой человек… Не-пора-постричься-тебе? – …постричься? ты-о-чем? – да-нет-я-так-отца-сослуживцы-затюкали-но-ты-не-переживай-я-разберусь. И – всегда разбиралась, всегда отстаивала его «идеалы»… знала бы еще, что там отстаивать нечего было! Ибо это опять – ветер-с-той-стороны, только ветер-с-той-стороны… с этой, значит, стороны, на которой он сейчас. Черносливовый ветер, круживший голову, а больше ни-че-го. От-тебя-пахнет-сухофруктами.
Они были и собой, и другими, умирая за свою инаковость и по отношению к комсомольско-партийной молодежи, и по отношению к фарце, ошивавшейся у гостиниц «Интурист»… презирая оба фланга и строго блюдя свой «центр», над которым летали и жужжали англоязычные жуки и дирижабли, им подпевали польские трубадуры и скальды, Польша, как всегда, не сдавалась – сурсум-корда-Полония!.. Они наперебой читали Норвида, Тувима и особенно Галчинского: Вы-Польши-хотели-так-вот-вам-нате-скумбрия-в-томате-лещ! А еще – «Заговоренные дрожки», в переводе, разумеется, Бродского – от «Заговоренных дрожек» он, помнится, навсегда сошел с ума… даже влюбился в некую Марию Магдалену из Кракова, с улицы Будущего, Przysziości… – Пшышлосьци, по-польски, извините, – причем, кажется, не столько даже за имя Мария Магдалена, сколько чтобы быть ближе к «Заговоренным дрожкам». Но оказалось, что от «Заговоренных дрожек» дальше Марии Магдалены просто уже совсем никого не было… жаль. Дело кончилось маминой поездкой с дружественным визитом в Польшу – бедная мама: это оттуда у нее маниакальное знание расписания поездов, отправляющихся с Белорусского вокзала… профессиональная травма.
Когда он потом, уже гораздо позднее, был в Кракове, он даже издалека не посмотрел на улицу Пшышлосьци: ни одни заговоренные дрожки не ездили в том направлении. Но Марию Магдалену все равно вспоминал с благодарностью – за сиюминутные ценности в виде настоящих джинсов и громких сабо на деревяшках (вся Тверь и даже вся Москва зачарованно смотрели ему вслед, можете не сомневаться) в обмен на вечные ценности в виде золотых персьцёнкув, до которых польские красотки охочи и которые без проблем покупались в любом ювелирном магазине Союза. Златы-персьцёнэк… на-мое-счастье-на-счастье-каждой-дивчины. Счастье Мария Магдалена нашла потом где-то в эмиратах – в правильном месте, где как раз навалом счастья и персьцёнкув.
В то время как сам он так и сидит, где сидел… вблизи от Площади Битлз – площади в виде пластинки. Он еще наведается туда – не сейчас, потому что хочется подольше побыть на Гроссе Фрайхайт – улице Большой Свободы. Он ничего на свете не любит так, как большую свободу. Эх, была не была: ein grosser Kaffee mit Sahne und zwei Croissant, bitte!
– Noch einmal? – спрашивает Святой Павел.
– Noch einmal, Danke, all-I-need-is-it.
– Not love? – уточняет Святой Павел.
– Nein, Danke!
Not love. Not now. Maybe sometime later… one day.
Он, вообще говоря, не соврал никому, сказав, что пишет: может быть, он все это действительно пишет – пишет так или иначе, неким имеющимся в его сознании, как это там… когда-то давно ему очень понравилось словосочетание «самописец осциллографа» – вот хоть и имеющимся в его сознании самописцем-осциллографа. Работает, значит, такой загадочный самописец, регистрируя отношения между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами – кажется, для того осциллографы и существуют, а вот куда сдает написанное, этого я тебе, Торульф, не скажу: не знаю, – но куда-то сдает, небось… невозможно ведь такие массивы текста в голове держать.
Конечно, он пишет, и не надо выворачивать руки ладонями вверх, показывая, что у него ни карандаша, ни записной книжки, не надо предъявлять выключенный мобильный, объясняя, что блокнот недоступен, не надо ссылаться на отсутствие компьютера… ничего ему не надо для того, чтобы писать, – ни того, на чем пишут, ни того, чем. Давно прошли времена зависимости от орудий труда, времена любви к дорогостоящим ручкам, к элегантным блокнотикам… ко всей этой ерунде, когда-то так увлекавшей его (умел, умел ты быть пижоном!), что он всерьез подумывал об открытии магазина дорогих писчебумажных принадлежностей где-нибудь в Вестербро… смешной человек! Теперь он обходится-без и пишет в сердце своем, пишет все время, ни на миг не останавливаясь… так что, Кит, глупо спрашивать: пишешь?… потому что – да, где бы он ни был и что бы ни делал, постоянно слагается и слагается в нем его текст, так было с Франциском Ассизским, всю свою жизнь писавшим одно-единственное бесконечное стихотворение, в которое заглянули и брат Солнце, и брат Ветер, а под конец жизни – и сестра Смерть… Целая жизнь, забывшая себя в стихотворении, жизнь – как стихотворение.
Так что он, конечно, пишет, чего уж…
То есть самописец осциллографа, летописец часов и дней его, знает свое дело, знает, что его дело писать, а уж кому читать и читать ли – не его дело! Ибо слова «писать» и «читать» суть другая пара, как бы ни напоминала она прочие пары – «спать» и «бодрствовать», «смеяться» и «плакать», «жить» и «умирать»… осторожнее с «читать» и «писать»! Тут ловушка: «читать» не значит «не писать», а «писать» не значит «не читать» – и нету здесь взаимоисключения значений.
Так что – вперед, самописец-осциллографа: всякий пишущий читает, а всякий читающий пишет… пишет по чужой истории свою, это и есть чтение, другого не бывает. Но о таких-то вещах что ж может знать самописец-осциллографа, колеблющийся между двумя подвижными величинами и не касаюшийся ни одной из них! В то время как и сами эти подвижные величины колеблются между Хельсинки и Берлином, Стокгольмом и Гамбургом, не пристанут никуда. И получается, что в Гамбурге все говорят по-шведски…
Правда (обещано – так обещано!), он пока больше не пишет про Кит, но смешная она, Кит, в самом деле: как будто он может контролировать, про кого пишет, про кого – нет. Как будто в его власти регулировать это постоянно происходящее в нем безорудийное письмо (самописец-осциллографа, конечно, не в счет, он метафора)… автоматическое письмо, светлой памяти Андре Бретона, как будто – не называя, например, имени Кит – он действительно тем самым не пишет про нее, не имеет ее в виду, как будто нет ничего от Кит в Манон, в Лауре… да вот хоть и в Стине, давно уже забытой где-то в самом начале! Смешная Кит… Утром он опять получил от нее смс-ку: Кит редко пишет – вот, разве, цитату какую-нибудь пришлет, из того, что читает в данный момент, его телефон полон цитатами, и он не стирает их, спасибо тебе, Nokia, за такой объем памяти – но чаще всего Кит просто присылает розу… уродливую такую, из старой версии Nokia, графическую еще – вроде облачка на стебельке: это значит, что, мол, привет тебе и все такое. Они давно договорились, что ему не нужно отвечать розой – что свою розу он может просто послать когда захочет… но он почти не посылает розу, потому как не его это идея и у каждого свои знаки, Кит, не сердись, – впрочем, она и не сердится, Кит понимает все. И он не писал бы о ней, видит Бог, но он не следит за собой, он не успевает следить за собой.
Пора бы включить телефон: кто-нибудь уже определенно честит его на чем свет стоит… какой-смысл-выключать-телефон-если-он-так-и-так-у-тебя-просто-вибрирует? А пусть не вибрирует! У человека есть право быть недоступным… абонент-недоступен, абонента-нет, абонент-умер-в-прошлом-веке. На улице Большой Свободы мобильным телефонам не место.
Впрочем, он уже не на улице Большой Свободы, он на углу Репербана, где поют Битлз, где ему восемнадцать лет и где он сожалеет о сегодня в пользу yesterday, когда все его troubles seemed so far away… помилуй Бог, какие troubles, когда тебе восемнадцать, какое yesterday? А ведь пелось с таким чувством, словно и правда ничего, кроме yesterday, не было в тогдашней его жизни! Теперь он редко поет эту песню, хотя с тех пор накопил уже такое yesterday, что оно массой своей безжалостно теснит его коротенькое tomorrow!
Tomorrow он будет уже в Ютландии, если верить маме, и в Копенгагене, если верить себе… Но когда же он верил себе!
В телефоне – ни одного входящего звонка, никто не звонил ему за два часа, а вот что касается его самого… В папке «Исходящие» четыре звонка: опять Торульфу, опять маме, дважды, и один раз – Тильде, самый ранний. Торульф и мама – это ладно, но вот интересно, о чем они поговорили с Тильдой… небось, о том, когда он прибывает, чтобы Тильда встретила его на машине, поскольку иначе до Тильды не добраться: в ее богатый пригород, где в каждой семье по несколько машин, автобусы не ходят.
А если, вот, просто взять и хватить мобильный об асфальт – о пластинку Битлз… со всего размаха? Пусть тогда они попробуют звонить с его телефона! Нет никакого телефона – разбился, как та гитара о платформу вокзала в Твери, шестиструнная гитара, на которой он играл года три, а потом даже не прикоснулся никогда – во все оставшиеся, да, почти сорок лет.
Телефон вздрогнул… не от страха, конечно, а просто смс-ка пришла.
Чертов транслит.
«Ту ne pozvonish?»
Номер отправителя был его собственный.
I. Snurre <…> [snor.] ( ранее тж. писавшееся Snorre <…> , мн. -r тж. ст. – датск. <…>, шв. snurra, нижн. – нем. snurre, выс. нем. schnurre <…> ср. snurrig). 1) ( cр. гл. Snurre 1.1) собств.: нечто, производящее стрекочущий звук, как будто быстро крутясь; тж. <…> о чем-то, что крутится или раскручивается кем-л., не производя звука; спец. в употр. 1.1) тело, которое может вращаться с большой скоростью (как бы) вокруг оси, при том, что масса тела равномерно распределена относительно оси <…>, особ. (физ.): приспособление, состоящее из тяжелого, плоского, круглого диска с длинной ручкой, проходящей осью через центр диска <…> || <…> об игрушках разл. рода, которые могут быстро крутиться, производя стрекочущий звук; напр., о в о л ч к е или в е р т у ш к е <…> или <…> п р я л к е <…> и под. 1.2) (в наст. вр. неупотребит.) приспособление, с помощью которого можно производить громкий раскатистый звук, когда его раскачивают; г р о х о т а т ь , <…> г р е м е т ь . <…> 1.3) (в наст. вр. малоупотребит.) оградительное приспособление (например, на ж/д переездах), состоящее из вертикального столба с горизонтальной крестовиной из дерева, которая может вращаться; в р а щ а ю щ а я с я к р е с т о в и н а; крестовидный шлагбаум , <…> 1.4) (устар.) вращающаяся вокруг оси большая клетка, куда для всеобщего осуждения помещали человека, приговоренного к этому наказанию <…>. 1.5) ( рыболовецк., малоупотребит.) вращающееся приспособление, которое, будучи прикрепленным к удилищу (используется особенно при ловле на наживку или блесну), заставляет вращаться и искусственную рыбку или блесну, препятствует скручиванию лески, к а т у ш к а. 2) <…> особенно во мн.ч., о неупорядоченных перекрученных линиях и под.; и з в и л и н ы. 3) в словосочет. i en snurre <…> быстро и непрерывно . {22}
В общем, пресловутое «снип-снап-снурре» в начале шварцевской «Снежной Королевы», видимо, было там не совсем на месте, да и звучало не совсем точно. И вообще, в исходном варианте – исходном датском , потому что исходный вообще был не датским, а на тот момент, во всяком случае, непонятно чьим (маячили в голове, давно уже, не то английские, не то, скорее, немецкие какие-то тени), – представляло собой это «снип-снап-снурре» устойчивую сказочную формулу, типа русской «жили-были»… только совсем наоборот: не зачин, «жили-были», а концовка, «тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец». Потому что исходный датский вариант обычно звучал, выяснялось, даже и не как снип-снап-снурре, а как снип-снап-сну(д)е: «Snip, snap, snude – sa er historien ude»… стало быть, «Снип, снап, сну(д)е – тут и истории конец»… с характерным датским «д», которое даже не «д», а призрак «д», почти отсутствующее в реальности «д». Так, значит, завершались датские народные сказки, а еще гуляла некая синтетическая формула в андерсеновской сказке «Лён» – самой любимой его сказке: о том, что ничего никогда не кончается… совершенно буддистская история, о реинкарнациях. Вообще говоря, у него было две любимых сказки Андерсена: эта и «О том, как буря перевесила вывески». Вторая потому, наверное, что очень уж она напоминала его собственную жизнь, в которой то одна, то другая буря без конца перевешивала вывески: перевесит вывески – и жизнь уже не узнать. И непонятно больше, где что… и как пользоваться жизнью теперь – тоже непонятно. Одна буря перевесила даже вывески непосредственно над ним самим, разместив на прежнем месте новые. Вывески с названием города и страны. Вывеску с номером дома. Вывеску с именем.
Бури, бури… с запахом чернослива.
Нет, не то чтобы снип-снап-снурре и так далее были совсем уж лишены смысла – каждое слово по отдельности что-то значило, даже много чего значило… даже больше, чем хотелось бы, значило! Смысла была лишена сама цепочка, и когда он пытался приделать значения одного слова к значениям других, целого не получалось – причем никакого целого, не говоря уже о целом, способном использоваться в качестве зачина сказки.
Скажем, snip – кончик! – вполне годилось как завершение сказки, но совершенно не годилось как начало: шварцевская «Снежная Королева», сразу после монолога Сказочника, открывалась, выходит что, «кончиком»… а какой же там, извините, кончик, когда сказка еще и не началась – просто Кай и Герда сидят на лавочке, держат друг друга за руки и ногами выписывают по полу кренделя! И поют, и песенка начинается словом, которое завершает, так сказать, не начатое…
Snap, оказавшееся чем-то вроде русского «хвать» – он-хвать-его-за-грудки – никак не желало монтироваться со snip, «кончиком». Между тем «кончик-хвать» – ну, или, ладно: «хвать-за-кончик» было еще полбеды, беда начиналась дальше… впереди маячили снурре и пурре-базелюрре, грозившие разрушить и без того опасно-хрупкий симбиоз.
Из всех значений существительного snurre, чаще бессовестно оказывавшегося глаголом в неопределенной форме, хоть в какой-то степени подходящим выглядел «волчок»… хотя, куда тут девать «волчок» после «кончика» и «хвать», составляло серьезную семантическую проблему: «волчок» не годился в ряд с двумя другими неизвестными – цепочка слов начинала угрожающе натягиваться и вырывалась из рук. Неопределенный этот «волчок» хотелось определенно заменить на какое-нибудь «круть» – кончик-хвать-круть, – но никакой «крути» не было в русском языке, да если бы и была – не особенно помогла бы, ибо звенья цепочки к этому моменту уже рассыпались окончательно и оставалось только собирать их по полу…
Насчет «пурре» все и вообще получалось странно: «пурре» – в силу сумасшедшей датской фонетики – оказывалось, скорее, «бурре» (и даже иногда «борре»), чем «пурре», но дело было не в этом: к беспорядочным датским оглушениям и озвончениям согласных он тогда уже привык. Дело было в семантике: это самое «пурре-бурре-борре», как выяснялось, имело отношение, прежде всего, к растительному миру…
«Базелюрре» пока приходилось отставить: его не поддерживали ни речевая практика, ни даже сказки Андерсена – за исключением один раз ни с того ни с сего мелькнувшего-таки в речи Маленькой Разбойницы из «Снежной Королевы», почти к концу истории, «снип-снап-снурре-базелюрре», но мелькнувшего неотрефлектированно – ни сама Маленькая Разбойница, ни кто-либо из присутствовавших никак не отнесся к этому крохотному фонетическому скандалу.
А «пурре», значит, было лишнее – эдакое никому не нужное пятое колесо, притом что всего в мире, тут уж никто не мог его разубедить – по четыре! Четыре колеса, четыре элемента, четыре времени года, четыре карточных масти… Олам Ацилут, Олам Бриа, Олам Йецира, Олам Ассиа – четыре мира каббалы. Четыре «я», которыми, в соответствии с кабаллой, каждый из нас обладает – гм, «четыре аспекта нормально функционирующей души»… где он это читал?
И четыре стороны света. Благословляю-вас-на-все-четыре-стороны.
Откуда же, помилуйте, «пурре»?
В любом случае сообщение, посланное ему в детстве, так и оставалось непрочитанным – и то и дело мучило его, причем тем сильнее, чем больше датского оказывалось в его распоряжении. Опрашивавшиеся им время от времени аборигены пожимали плечами и говорили: это просто набор звуков, он ничего не значит, не заморочивайся, в каждой культуре есть свои «трали-вали», чего ты привязался? А объяснить, чего он привязался, никак не получалось… не рассказывать же о том, что нет случайных слов в его жизни, не может быть… что угодно другое случайное – люди, события, обстоятельства – это пожалуйста, это сколько угодно, но не слова, ибо, если слово прозвучало, что-то оно, стало быть, для него значит, пусть даже оно ровным счетом ничего не значит для всех остальных.
А Интернета тогда еще не было… или был, но совсем мало.
Однажды Курт, видя его муки, проникся наконец состраданием и нашел в своей немецкой голове маленький клад, который был закопан лет эдак шестьдесят назад… смущаясь, Курт предъявил ему запыленный этот клад, сказав ни с того ни с сего:
– Тут, видишь ли, у меня вот что: Schnipp, Schnapp, Schnorrum, Rex Basilorum…
Так вот зачем в его жизни был Курт! Посредник. Перевозчик на ту сторону смысла… лодочник.
– Что все это значит, Курт… по-немецки что значит? Schnipp-schnapp я, правда, и сам понимаю, это… ммм… как бы чик-чик ножничками… но – Schnorrum, а особенно Rex Basilorum… последнее и вообще латынь!
– Игра такая была, – наморщив лоб, сказал Курт. – Что-то надо было делать – и это все говорить…
– Что делать, Курт?
– Я не помню…
Лодочка пошла ко дну. Rex Basilorum – Рекс Базилорум… Царь Базилорум? – оказался слишком тяжелым для утлого суденышка.
– Ты топишь меня, Курт! – с отчаянием сказал он.
– Я же тебя и спасу, – пообещал тот.
Если я говорю: «Моя метла стоит в углу», то является ли это высказыванием о рукоятке и щетке? Во всяком случае, ведь можно было бы заменить это высказывание некоторым высказыванием, сообщающим о положении рукоятки и о положении щетки. А ведь это высказывание есть лишь результат дальнейшего анализа формы первого высказывания. – Но почему я называю его результатом «дальнейшего анализа»? – Ведь если метла находится там, то это же означает, что там должны быть рукоятка и щетка, занимающие относительно друг друга определенное положение; и ранее это было как бы спрятано в смысле предложения, а в проанализированном предложении оно выражается. Тогда тот, кто говорит, что метла стоит в углу, на самом деле имеет в виду, что там находится рукоятка, и там находится щетка, и рукоятка вставлена в щетку? – Если бы мы спросили кого-нибудь, имеет ли он это в виду, он бы, скорее всего, сказал, что он не думал отдельно о рукоятке или отдельно о щетке. И это был быправильный ответ, потому что он не хотел говорить ни о рукоятке отдельно, ни о щетке отдельно. Подумай, что мы сказали кому-то вместо Принеси мне метлу! – Принеси мне рукоятку и щетку которая к ней прикреплена ! Разве ответ на это не такой: Тебе нужна метла? А почему ты так странно выражаешься ? – Поймет ли он результат дальнейшего анализа предложения? – Это предложение, можно сказать, достигает того же самого, но более подробным (обстоятельным) образом. – Представь себе языковую игру, в которой кому-то даются приказы приносить, двигать и т. п. определенные вещи, состоящие из нескольких частей. И два способа игры в нее: при способе (а) составные вещи (метлы, стулья, столы и т. д.) получают имена; <…> при другом способе (б) имена даются лишь частям, а целое описывается с их помощью. – В каком же смысле приказ во второй игре представляет собой результат аналитического разложения формы приказа в первой игре? В том ли, что первый содержится во втором и извлекается с помощью анализа? – Да, метла разлагается, если разъединить щетку и рукоятку; но разве из этого следует, что приказ принести метлу тоже состоит из соответствующих частей? {23}
Получив на мобильный розу – пусть и не такую же, как в ее телефоне, – в ответ на только что посланную свою, Кит озадачилась. Это был не его почерк. За все годы знакомства она никогда не получала от него мобильной розы в ответ … иногда – очень редко – роза могла, конечно, прийти, но не в ответ. Не в ответ, да и вообще неправильно: он не понимал, что розам положено приходить ни с того ни с сего – и сам посылал розу вместо слов. Например, вместо «доброе утро» или «спокойной ночи»… его розы всегда были с-у-б-с-т-и-т-у-т-а-м-и совершенно определенных слов, так он ей когда-то объяснил. Она смирилась: у него все было субститутами слов. Время от времени Кит с испугом думала, что и сама она для него – субститут слова «Кит» и что вся их не очень совместная, но все-таки общая жизнь – тоже субститут каких-то слов… слов, которые она даже не всегда знала. «Ты человек слова», – говорила она ему, отлично понимая, что у него нет оснований отнестись к этой характеристике как к характеристике «честный человек», но есть все основания считать себя человеком, живущим в мире слов.
Так вот, она получила розу – и озадачилась. Кит была из тех, кто сразу же посылал в ответ на розу еще одну розу, но тут… тут что-то смущало ее, останавливало ее, мешало ей нажать на «ответить». Она смотрела на эту розу и тихонько говорила себе: роза… сама по себе роза… роза как роза… и не роза вовсе… не его роза… Вот в чем, значит, дело: это не его роза. Данная роза не была субститутом – никаких слов за ней не читалось. Данная роза была просто роза, без смысла, в то время как без смысла – это могла только она, Кит, а он не мог без смысла, без проклятого своего смысла. Ей бы, вроде как, и возрадоваться: ну вот, дескать, хоть раз – без смысла, но как-то не радовалось ей, как-то ей тревожилось.
Впрочем, тут же он и сам позвонил:
– Розу получила?
– Что с тобой?
…потому что он не мог задать ей этого вопроса. Даже если допустить, что в какой-то одинокий, беспризорный момент жизни ему и пришла в голову блаженная эта мысль – ни с того, ни с сего, значит, послать розу, то уточнять, получена ли она – это уже слишком. Это выходит за рамки его личности! Это не он.
– Со мной полный порядок… – ответил абонент, – а что? Я гуляю по городу.
– Какому – теперь?
– Кит, ты… это с тобой что-то случилось, а я по Стокгольму гуляю.
Все правильно, он гуляет по Стокгольму. Но откуда в ней эта паника?
– Не путаешь? Не по Гамбургу? – с глупым смешком спросила она.
– Не путаю.
А должен путать! Он всегда все путает. Он никогда не знает, где он в данный момент, особенно сейчас, в этой поездке.
– Ты гуляешь по Стокгольму и звонишь, чтобы спросить, получила ли я розу? – уточнила Кит.
– Что-то я не узнаю тебя, Кит… ох.
Это не ты меня не узнаешь! Это я тебя не узнаю… Ты в один миг нарушил сразу два своих правила и делаешь вид, что не нарушил ни одного.
– Да нет… прости, я, правда, как-то вдруг странно реагирую на твой звонок – сама удивляюсь.
Теперь он должен сказать что-нибудь вроде: да реагируй ты как хочешь, всяко бывает, я пошел дальше гулять.
– М-да… реагируешь ты странно. Я просто хотел рассказать тебе кое-о-чем. Я просто хотел рассказать тебе о Манон.
– О Манон Леско?
– Нет, о другой, я встречался с ней в Берлине, в одну из поездок. Она артистка. А сейчас Манон в Стокгольме: я стою перед афишей. Я пойду на ее выступление.
– И – что? Пойди, конечно!
– Я встречался с ней в Берлине… понимаешь? И что-то еще было тогда – да, между Манон и мной – в Берлине, я не говорил тебе, и я хотел никогда не говорить, но теперь говорю.
– Зачем?
– Просто… лучше, чтоб ты это знала. Меня тяготило, что ты все эти годы ничего не знала. Ну и… вот.
– Тебя ничего не тяготило все эти годы. Если бы тяготило, я бы поняла: тебя что-то тяготит… Но сейчас-το ты мне всем этим хочешь сказать – что? Мне какие-нибудь выводы надо сделать?
– Нет-нет, ни в коем случае! То, что тогда было у нас с Манон, ничего для нас не значит.
– Тут какие-то два разные «нас»…
С-в-е-т-о-п-р-е-с-т-а-в-л-е-н-и-е.
Он не может так строить предложение: чтобы одно и то же слово «нас» в одном и том же высказывании относилось и к нему с Манон и к нему с Кит! Он не может быть так невнимателен… к языку.
– Но я все-таки схожу на ее выступление сегодня в восемь. Я не могу не пойти.
– Конечно, сходи, если «не можешь не». Только ты, видимо, напрасно это говоришь: я же никогда не просила тебя говорить мне правду. И у тебя это неловко получается – когда правду. Отчет – не твой жанр. Так что, если в остальном все в порядке, то и… до следующего звонка, угу?
И они распрощались.
Положив трубку, Кит закурила. Его сигареты, оставшиеся с их прошлой встречи. Она курила в совсем редких случаях, точнее сказать – никогда. Да и тут закурила просто потому, что сигареты на глаза попались. Она курила, плача от дыма, и думала.
История с Манон, какой бы ни была эта история и какой бы ни была Манон, ей безразлична. Ошеломило же Кит совсем другое: порядок действий. Речевых действий. Сначала он присылает ей розу. Пусть, как бы это ни было странно, роза – спокойный знак… так, во всяком случае, относится к отправлению и получению розы сама Кит. Потом он звонит и просит подтверждения, дошла ли роза – запрос еще более странный, но все еще в режиме спокойствия. Дальше сообщается, что он не узнает Кит… – тревожный знак, а еще дальше – что у него однажды давно был роман с некоей Манон, но что это не имеет отношения к настоящему времени, хотя он все-таки «не может не пойти» на выступление Манон в Стокгольме.
Странный набор речевых действий… совершенно случайное сцепление компонентов, вроде « snip, snap, snurre, basselurre » … его любимая поговорка, причем и в ней он все время ищет смысла, которого – нет!
Все это Кит, совсем мягко говоря, не радовало. Но еще меньше радовал тот факт, что у нее не было обычного ощущения от разговора с ним – каким бы разговор ни оказывался (а оказывался он за почти десять лет знакомства разным!): ощущения их разговора. Совершенно другое было ощущение – ощущение разговора, состоявшегося между двумя малознакомыми людьми: она не узнает его, он не узнает ее… и куда ж это все годится? Когда вот же она… Кит вскинула глаза в зеркало.
Оттуда смотрело на нее с трудом узнаваемое ею, но как будто все же ее лицо… om man må sige det på denne måde, – вслух сказала она и вдруг поняла, что произнесла это с тем самым акцентом… тем самым, в который ей сколько-то лет назад сдуру вздумалось поиграть.
Вот так так…
Наверное, вопреки обещаниям он пишет о ней. Даже эта ее – вообще говоря, довольно разрушительная по отношению ко всему вокруг – мысль показалась Кит утешительнее, чем другая… чем какая-нибудь другая, чем любая другая – при том, что никакой другой мысли Кит просто не позволяет сейчас появиться в сознании. Конечно, он пишет о ней. Потому еще, что не проходит ощущение слабости – или как бы сказать… вялости, сонности. Дядя Асгер! Пожалуйста, не рисуйте меня больше. Но дядя Асгер рисует: даже после того, как она перестала позировать ему, дядя Асгер непрерывно рисует, она же чувствует. Ему ведь надо дорисовать уже начатый портрет… дядя Асгер никогда не бросает работы на полпути. И то ужасное лето – оно так и стоит в памяти: день за днем становится все тяжелее, мама-когда-мы-уедем, но-сокровище-мое-тут-море, я-домой-хочу, да-что-ж-нам-сейчас-делать-в-Копенгагене, я-больше-не-могу-здесь-я-устала-от-этого-лета! А дядя Асгер рисует: она видит это в окно его флигеля, и у него сумасшедшие глаза и борода в разные стороны! Он похож на ястреба… Мама-когда-мы-уедем-я-боюсь-дядю-Асгера.
И после этого – то есть после того, как мама поняла, почему она так хочет уехать, – они уехали. Сразу. На следующее утро. А накануне вечером она нечаянно подслушала, как мама сказала папе: придется правда уехать, поскольку мало ли что…
Из-за этого же и он не должен писать о ней: поскольку мало ли что… Тогда все кончилось сразу по приезде домой, в Копенгаген. Хотя Кит еще долго ждала: а ну как опять возникнет эта слабость-вялость-сонность – это означало бы, что дядя Асгер все еще рисует. Но, видимо, он перестал. И, видимо, никогда уже потом не возвращался к портрету – иначе она почувствовала бы. Спасибо, спасибо, милый дядя Асгер… и – простите меня. Простите за то, что я такая… недотепа, мамина дочка. А тогда ведь в ней и не было ничего от будущей Кит: больно мала, больно любопытна. Теперь приступы слабости не такие сильные и не такие частые, но теперь – другое. Теперь она… да, это нужно произнести вслух: теперь она перестает быть собой, ибо пишет он наверняка – и там, у него, в его писанине, она такая, какая на самом деле. То есть – что же происходит: она переселяется туда, а здесь – здесь остается… Боже мой, кто же здесь-το остается? И остается ли здесь вообще кто-нибудь?
А потом – страшная (во всех отношениях страшная!) мысль: если бы он отрастил бороду подлиннее, то был бы, наверное, очень похож на покойного дядю Асгера.
Только вот… что-то надо делать сейчас.
Прямо сию секунду.
Кит садится за пианино и играет этого, как его… неважно. Потом встает и идет сварить свежего кофе, потому что, ей-богу, надоело пить вчерашний: куда она, интересно, столько кофе вчера на ночь наварила? Она варит свежий кофе и разговаривает с собой, спокойно разговаривает, поскольку трудных разговоров на дух не переносит… – и пусть никто тут не улыбается: Кит знает как минимум человек десять, обожающих трудные разговоры, и, по крайней мере, троим из них разговоры такие жизненно необходимы.
– Как дела, Кит? – спрашивает Кит.
– Дела хорошо, Кит, – отвечает Кит, – …только не очень хорошо.
– Давай осторожненько разберемся?
– Ну, давай.
Обе долго молчат.
Когда кофе готов, Кит достает из буфета две чашки – между прочим, парадные, чьей-то кропотливой ручной работы, но в буфете они последние, остальные использованы – и разливает кофе, потом смотрит на две чашки и качает головой. Впрочем, ни к одной из чашек не притрагивается, потому что какое-то ей тут сообщение… какое?
Все-таки очень много в ее жизни – его. Не будь так, она, разумеется, никогда не стала бы относиться к факту обычной рассеянности как к имеющему некое особое значение событию: это он научил ее приписывать смысл любой случайности. Сначала игра показалась ей интересной, потом стала привычной, а дальше – перестала осознаваться как игра. Так что теперь Кит только очень и очень редко вспоминает, кому она обязана этой повседневной практикой… вот только сейчас вспомнила – почему же сейчас?
Видимо, потому, что сообщение двух чашек имеет отношение к нему… правда, Кит настолько сбита с толку, что никак не может прочесть этого сообщения, не надо было курить, голова покруживается и во рту вкус противный.
Она отхлебнула кофе, поставила чашку. Отхлебнула из второй. И сообщение – прочиталось: тебе только что позвонил совсем чужой человек и рассказал о своих отношениях с женщиной по имени Манон… при том, что таких имен не бывает. А если бывают, то где-то за пределами круга знакомых Кит: безвкусно иметь знакомых с такими именами.
Кит усмехнулась, вспомнив, как веселило его по первости ее имя: в переводе с русского на датский оно, оказывается, означает «hval»… вот-ведь-не-повезло-девушке! А в ней росту метр-шестьдесят-с-кичкой.
Интересно, эта Манон – она высокая? Небось, высокая, худая и темноволосая: иначе не имеет смысла называться Манон. Кит и Манон – смешная пара… человек, обладающий хоть каким-никаким чувством языка, воздержался бы от такого соседства. Странно, что он – не воздержался. Если это, конечно, он.
Ага, две чашки, налитые для двух Кит, сообщили ей, что тут что-то лишнее… – если ее ощущение «это не он» правильное, тогда какое ей дело до того, что связывает «не его» с Манон?
Если ее ощущение «это не он» правильное.
Допустим, оно правильное, но с кем в таком случае Кит только что поговорила?
– А ты не далековато зашла, Кит? – спросила Кит и снова отхлебнула из первой чашки.
– Похоже, далековато… – вздохнула Кит и поспешила отхлебнуть из второй.
– Ты же ненавидишь все такое.
– Какое?
– Да вот… домыслы всякие. Человек – просто так, ни с того, ни с сего, то есть воспользовавшись фактически твоей моделью поведения – прислал тебе розу, скажи спасибо этому человеку! Человек перезвонил поинтересоваться, дошла ли роза, – еще раз скажи спасибо этому человеку! Человек решил покаяться и, чтобы больше не врать, рассказал тебе историю из прошлой своей жизни – заметь, Кит, своей жизни, которую он никогда не обещал посвятить тебе одной, – в третий раз скажи спасибо этому человеку. А ты… подумаешь, zaza-na-koljosikah, как любит говорить он! – не ревнуешь ли? Мы свободные люди, Кит. Но еще хуже другое… – Она отхлебнула из первой чашки, из чашки правильной-Кит и с интересом заглянула во вторую.
– Другое…
– Другое – это какое? – Тут полагалось отхлебнуть из чашки неправильной-Кит.
– Ме-та-фи-зи-че-ско-е, вот какое! Размышления на предмет «он – не он». Тебе позвонили с его телефона, проверь номер на мобильном, если так… позвонили его голосом, позвонили из Стокгольма, где он сейчас, – во что ты тут впадаешь, в какой еще тонкий анализ ситуации? Кто бы, по-твоему, это мог быть, кроме него? Даже если у него там раздвоение личности, это не повод, чтобы и тебе соглашаться с тем, что его теперь – два!
Вторая чашка не двигалась.
Потом сказала:
– Тебя и самой – две, Кит.
– Меня может быть сколько угодно: две, три, десять, – жестко ответила первая чашка, – но для себя. Когда раздваивается наблюдатель – это метафора. А вот когда наблюдаемое раздваивается – это диагноз. Смотри!
В обеих чашках осталось одинаковое количество кофе – приблизительно на треть. Кит подняла вторую чашку и, вылив из нее остаток кофе в первую, осторожно поставила вторую на стол.
– Видишь?
На столе стояли две чашки: одна пустая, другая – заполненная на две трети.
– И больше нет никаких проблем, Кит.
– Совсем никаких?
Отлично.
Тогда лучше всего сейчас же позвонить Курту – иначе она действительно сойдет с ума от полного отсутствия каких бы то ни было проблем.
Телефон ответил тремя гудками, после которых раздался подозрительно приветливый голос Курта:
– К сожалению, я не могу подойти к телефону, поскольку нахожусь в Ютландии. Перезвоните мне дня через два, спасибо. Или оставьте свое сообщение на автоответчике.
– Курт, это Кит, – сказала она. – Я знаю, что ты не находишься в Ютландии, хватит валять дурака. Мне нужно задать тебе один вопрос…
Однородное распределение вдоль линии, на плоскости или в пространстве обладает двумя очень привлекательными свойствами. Оно инвариантно при смещении и при изменении масштаба . При переходе к фракталам обе инвариантности неизбежно подвергаются модификации и/или ограничению области их действия. Следовательно, наилучшими можно считать те фракталы, которые демонстрируют максимальную инвариантность.
В случае смещения различные участки траектории броуновского движения частицы не могут быть точно совмещены друг с другом, как, например, могут быть совмещены различные участки прямой линии. Тем не менее можно считать, что эти участки совместимы в статистическом смысле. Почти все фракталы, представленные в этой книге, в той или иной степени инвариантны при смещении.
Более того, большинство этих фракталов инвариантно при некоторых преобразованиях масштаба. Назовем их масштабно-инвариантными фракталами . Фрактал, инвариантный при обычном геометрическом преобразовании подобия, называется самоподобным .
В составном термине масштабно-инвариантные фракталы прилагательное служит для смягчения существительного. Основной термин фрактал подразумевает неупорядоченность и относится к структурам ярко выраженной иррегулярности, тогда как определение масштабно-инвариантный намекает на некоторый порядок. Если же под основным термином понимать масштабную инвариантностъ, предполагающую строгий порядок, то фрактал сыграет роль модификатора, призванного исключить всякий намек на прямые и плоскости.
Не следует превратно понимать стремление допустить однородность и масштабную инвариантность. Как и в случае обыкновенной геометрии природы, все мы прекрасно осведомлены о том, что ничто в окружающем нас мире не является ни строго однородным, ни масштабно-инвариантным {24} .
– Торульф, можно с тобой поговорить? Я не мешаю?
– Говори… только я не знаю, что тебе сказать, если ты спросишь о звонках. Было еще два. У твоего alter ego всё как у тебя, но я опять знал, что это не ты. И я понял, что ты до сих пор ничего не рассказал маме. Я даже напрягся и понял, почему ты ничего не рассказал. Дело, конечно, твое, но у меня в сердце страх: я ведь осведомлен о том, что ты там натворил, – значит, и моя это ответственность тоже!
В трубке пахло сердечными каплями.
– Торульф, погоди с ответственностью. Давай отнесемся ко всему как к теоретической проблеме… ммм, интересной теоретической проблеме. У меня тут тоже забавная новость: я только что получил смс-ку, посланную мне – мной, с моего телефона. В смс-ке вопрос, транслитом: не позвоню ли я… Я не знаю, что написать в ответ – и кому.
В трубке пахло сердечными каплями.
– Эйто, ты… ты безумен! Ты играешь в жуткие игры, нельзя играть в эти игры с собой, я уже в который раз говорю тебе, но ты продолжаешь, хотя все еще можно остановить. Позвони же маме, я никогда не даю советов, и это тоже не совет – я прошу тебя: позвони маме!
– Хочешь, я скажу тебе, что это ты ведешь себя как… я ведь употреблю твое слово сейчас: как профан? Иначе ты понимал бы: отменить то, что уже сказано, разумеется, можно, но это ничего теперь не изменит, потому как… мир и слово – они ведь не связаны между собой, должен ведь ты принять это, в конце-то концов, пожилой человек Торульф! Я не только потому маме позвонить не могу, что она расстроится и растеряется, но и потому – или прежде всего потому! – что теперь уже действительно непонятно, как всё есть на самом деле. Только вопрос сейчас не в этом, вопрос в том, что – дальше?
В трубке пахло сердечными каплями.
Торульф долго молчал.
– Я бы мог сказать тебе, что дальше, если бы сам запустил в действие то, что запущено. Но это не я запустил, это ты… – у себя и спрашивай. И не думай, что я уклоняюсь от ответа, что помочь отказываюсь: ты же понимаешь, сколько ты для меня значишь, ты же понимаешь, я по первому зову… но я не знаю ! Мне вдруг стало казаться, что возрастная пропорция перевернулась, что это я сильно моложе тебя… я ребенок, который только и может канючить: позвони-маме-позвони-маме, хоть я и отдаю себе отчет в том… ты вынуждаешь меня на это признание! – в том, что, как ни веди ты себя теперь, а все бесполезно. Но меня ошеломляет твоя бесшабашность, твое отнесемся-к-этому-как-к-интересной-теоретической-проблеме… я не могу – как к теоретической.
– А если все-таки, Торульф?
– Если все-таки… тогда не отвечай на смс-ку, не выходи на контакт, черт тебя побери! Ты пожалеешь, когда увидишь второго… прости, что я это говорю, но ты пожалеешь.
– Он звонит уже и маме, и Кит… хотел я тебе сказать. И они ему, видимо, верят. Одна надежда на тебя… дай ему понять: ты не веришь, ты знаешь, что это не я.
В трубке пахло слезами: он и правда ребенок, этот Торульф.
– У меня не получится. – Голос совсем глухой. – Все еще хуже, чем ты думаешь: у меня не хватает сил… и не хватит сил сказать тебе, что это не ты ! Тебе нужен другой Торульф… более прямой! Тебе нужен не консультант по словам – тебе консультант по действиям нужен.
Кто имелся в виду, гадать не приходилось: другой Торульф, причем гораздо более прямой, – это, разумеется, не кто иной, как вечный оппонент Торульфа, Курт. М-да, нет единства среди близких ему людей… да и у него самого с ними нет единства.
Ему представился не регулируемый светофором перекресток – и он осторожно расставил всех по четырем сторонам этого перекрестка. Великое противостояние: справа Торульф, слева Курт, впереди Пра, а напротив Пра – он сам. Не-бла-го-при-ят-на-я ситуация: либо никто из них никогда не сдвинется с места, либо все они ринутся вперед в одну и ту же секунду и столкнутся лбами в центре перекрестка!
Он слышал глухое бормотание Торульфа: каковы-слова-такова-и-действительность-осторожнее-со-словами-они-всег да-выходят-победителями-подчиняя-себе-действительность.
И он слышал добродушное брюзжание Курта: какова-действительность-таковы-и-слова-острожнее-с-действительностью-потому-что-она-всегда-права-и-заставит-таки-слова-плясать-под-свою-дудочку.
А в стороне от них напевал себе под нос вечную свою пе сенку Пра: нет-ни-слов-ни-действительности-ибо-все-вокруг-только-иллюзии-острожнее-с-иллюзиями-они-умеют-притворяться-действительностью-и-прикрываться-словами.
Четвертому же – его собственному – голосу не оставалось ничего, кактолько повторять, и повторять, и повторять: есть-действительность-и-есть-слова-но-нет-между-ними-никакой-связи-ибо-скользят-они-по-касательной-друг-к-другу-и-никогда-не-покрывают-друг-друга.
Четверо на перекрестке… – каждый со своей версией по одному и тому же поводу. Да вот существует ли повод в реальности? Или в реальности существуют только наши суждения, только дискурс, в составе которого у каждого из нас – своя роль? А убери нас – исчезнет и дискурс… Не потому ли Торульф кивает на Курта – во спасение дискурса?
Курт – несомненно, из-за потрясающей своей интуиции – был мастером молниеносных решений: это Курт под личную ответственность пригласил его когда-то в Данию и пас там с самого начала, а потом привык и продолжает пасти по сей день. Но Курт – как мама или даже хуже: скажи ему о том, что в действительности происходит – и нет Курта, погиб Курт… запутанные ситуации для него смертельны. Ибо главное свойство Курта, перед которым меркнет даже его интуиция, есть честность: это не человеческая честность – это звериная честность… если согласиться с тем, что животные не умеют лгать. А они и не умеют, кому ж непонятно? Оттого, наверное, в собеседниках у Курта – почти одни птицы: на ладонь к нему, значит, слетаются… поговорить начистоту. Если же не птицы, то – другие какие представители фауны… или флоры: с растениями он тоже разговаривает, причем не «как дела», там, или еще что… – длииинные разговоры ведет!
Курт – человек факта: он любит реалистическую живопись и автобиографии: когда он смотрит на реалистическую живопись и читает автобиографии, он верит, что так оно и было. Его не убедить – хоть убей Курта! – что именно этот тип искусства как раз и представляет собой самый что ни на есть хитроумный способ лгать. И что, в сущности, любая правдивая подробность имеет лишь одну цель – увести человека от реальной действительности. М-да… и чем правдоподобнее история, чем больше у нее пересечений с реальной действительностью, тем меньше в ней правды.
Впрочем, Курт никогда не согласится даже и с тем, что словосочетание «реальная действительность» вообще имеет право на существование. «Это тавтология», – скажет Курт, у которого, что греха таить, глаз на тавтологию… и вообще на всякие погрешности языка против жизни. Курт – самый языковой человек в его окружении: с более чем десятью языками внутри, но без какого бы то ни было уважения хотя бы к одному из них.
Ибо, по Курту, сначала у нас идет действительность и только потом – язык, языки… любые, разные, но выражающие в конце концов всегда одно и то же: правду жизни.
А потому даже больше, чем реалистическую живопись и автобиографии, Курт любит газеты – и уж тут-то никому не убедить его в том, что именно газеты врут больше, чем любая другая писанина. Его спальня на втором этаже завалена газетами многолетней давности: Курт не выбрасывает их, поскольку рано или поздно должен вырезать из каждой (но никогда не вырезает) ту или иную заметку. Время от времени, наугад вытаскивая какую-нибудь из газет из какой-нибудь стопки и пытаясь найти нужную ему заметку, Курт зачитывается – и тогда воспринимает позапрошлогоднюю, давно уже позабытую новость как актуальную, бежит вниз и, волнуясь, рассказывает ему о сто лет как миновавшем событии: смотри, смотри, что происходит… надо ведь как-то реагировать, надо что-то делать! Прошлое и настоящее перепутаны в голове Курта навеки – и будущему никогда не найти туда дороги. «Это старая новость», – осторожно говорит он иногда Курту, но Курт смотрит на него с укоризной: газеты, дескать, пишут только о самом актуальном – ты что, с ума сошел?
Бедный-бедный, честный-честный немецкий человек…
Он представил себе, как погружает Курта во все происходящее и как Курт смотрит на него огромными своими голубыми глазами, не понимая ни слова, и то и дело – как всегда, некстати – произносит свое: «Такие птицы мне неизвестны»… а сам расстраивается, расстраивается, расстраивается – ив конце концов полностью выходит из строя. Так что Курта лучше не впутывать, а если впутывать, то уж, во всяком случае, не запутывать. Но спросить – вообще спросить – это можно, конечно.
– Привет, Курт, ты в порядке?
– Привет, я никогда не в порядке, я человек-который-был-четвергом. Ты где сейчас?
– Да в том-то и дело, что я, получается, сразу в двух местах. И к тебе с вопросом: что делать, когда намечается раздвоение личности?
– Ты про личность вообще – или про твою конкретно личность?
Старый лис… так я и дал тебе повод озаботиться!
– Конечно, про личность вообще, Курт, я же не сумасшедший!
– Если раздвоение… – Курт некоторое (короткое!) время пыхтит в телефон, – тогда надо дать личности возможность окончательно раздвоиться и… и разбежаться в разные стороны. Вот и все. У тебя проблемы?
– Да нет, просто чуть-чуть утомился от двойной жизни. Трудно держать в поле зрения две разные истории… но немножко осталось, завтра я уже дома.
– Даст Бог, – вздыхает Курт.
Он уже принял данную ситуацию как неизбежность: Курт – тот самый первый из датчан (вторая – Кит), кто посвящен в обстоятельства обратной поездки. А уж если Курт что-то принял, никакая сила не заставит его отказаться от принятого: он будет стоять насмерть. Хотя Курт, конечно, далеко – и ох как далеко! – не в восторге от того, что волею чужой судьбы оказался замешанным в ложь, но, небось, уже приготовил очередную (очень и очень длинную и абсолютно убедительную) лекцию о прагматической несостоятельности лжи и предосудительных речевых тактиках, совершенно отсутствующих в живой природе.
В живой природе, от которой Курт без ума.
Везет же некоторым с друзьями… если ты горожанин до мозга костей, опасность дружбы с влюбленными в живую природу будет преследовать тебя до самой смерти! Э-эх… зачем он сам-το в этой компании, спрашивается? Дружили бы себе Торульф с Куртом, как и дружат, а он бы в сторонке стоял да посмеивался…
– Так у тебя нет проблем? Ты питаешься там чем-нибудь – я имею в виду кроме одного большого кофе со сливками и двух круассанов?
– Конечно, питаюсь! Только что съел эту… как ее… утку в яблоках.
– Утка с яблоками это называется, врун. У тебя деньги-то есть еще? А то положу на твой счет, это быстро, я по телефону могу. У меня куча Clmitzer Gäld im Sack!
– Каких денег в мешке? – обалдел он.
– Clmitzer! – с удовольствием повторил Курт. – Я думаю, тут «с» неправильное… небось, «о» должно было быть, или «а», это как-то с милостыней связано: «Almisse», «Almose», но мы с Мадлен не уверены. Мне, видишь ли, только что Мадлен позвонила, швейцарская, песенкой поделиться. – Курт вздохнул и пропел:
Schnypp, schnapp, schnorum, Rex Basilorum,
Schnypp, schnapp, Schnupftabak,
I ha kei Clmitzer Gäld im Sack.
Переждав благоговейное молчание собеседника, Курт кашлянул и смущенно продолжил:
– Комментариев особых не было: Мадлен сказала только, что книжку нашла, я записал название: «Детские песни и детские игры в кантоне Берн. В устной передаче», собранные Гертрудой Цюрихер в 1902 году. И там, значит, сей шедевр. Мадлен его по моей просьбе, понятное дело, раскопала… насчет Rex Basilorum просьба была. Дает это, увы, мало что, но само по себе присутствие табака в одном контексте с Rex Basilorum… Возьми: авось, пригодится, да, – в трудную минуту.
Спасатель Курт. Хитрец Курт. Душевед Курт.
Явно не желая больше говорить на эту тему, спасатель-хитрец-душевед вернулся на прежнее место:
– Так насчет денег-το что?
– Денег навалом, не тревожься.
– Навалом у тебя быть не может. – Курт еще немножко попыхтел в трубку. – Я, кстати, и с Кит только что побеседовал. Она говорит, что ты какой-то странный… а по-моему, нормальный. Вот, врешь на каждом слове – значит, всё как обычно.
Они распрощались – и, рывком задвинув в дальний угол памяти присутствие табака в одном контексте с Rex Basilorum, он начал звонить Кит.
– Кит, почему я странный?
– Потому что я не понимаю, куда мне девать эту твою историю с Манон.
– С… Манон?
И стало совсем горячо.
Совсем и совсем горячо.
…только потом он узнал, что во всем мире это называлось one-night-stand. Узнал от Манон, рассказавшей ему, что она как раз и живет в режиме one-night-stand – совсем просто рассказавшей, словно речь шла о привычке к сладкому. То, что сам он не поведал Манон о довольно долгом и в его жизни периоде one-night-stands, было, скорее, вопросом вкуса, чем скрытности. Видимо, как раз Манон-то – единственному человеку в мире, способному понять соответствующий способ поведения, – это и стоило бы рассказать… но такой рассказ показался ему именно что безвкусным. Как если бы в ответ на чье-нибудь сообщение о редком заболевании собеседника, скажем гемофилии, вдруг огорошить его признанием: я понимаю, что это может прозвучать глупо, но я тоже болен как раз гемофилией. Что-то непристойно избыточное было в такой параллели… что-то из шовинистского для датчанина анекдота «Вы, конечно, будете очень смеяться, но Розочка тоже умерла».
И он смолчал.
Но ведь и у него никогда не было сложностей в том, что касалось случайных знакомств: видимо, он принадлежал к тому типу людей, которым не надо тратить много времени на ухаживания. Достаточно было поболтать час-полтора – и то, что другим доставалось в награду за терпение, он мог получить чуть ли не тут же, на месте. Это его, как бы половчее сказать-то, устраивало-извините-за-выражение – причем не потому, что была потребность в разнообразии (такой потребности точно не было), а потому, что была потребность – увы, опять и опять – в маскараде. Ибо никому и ни при каких обстоятельствах он не рассказывал про себя не только одной и той же, но и хоть в чем-нибудь похожей истории. Его личная жизнь унаследовала его же эпистолярные склонности – и, если бы тем, с кем он делил… что положено делить, довелось встретиться в одной и той же точке пространства для передела поделенного, то оказалось бы, что им нечего переделить – есть только чем обменяться, махнуться-не-глядя.
С годами, прошедшими после его эпистолярного периода, в нем все-таки появился какой-никакой вкус, так что совсем уж головокружительных историй о мавританском царевиче в саратовском роддоме он теперь не рассказывал… да ему этого и не требовалось. Ему отныне и вообще немного требовалось: хватало просто – спасибо, Осип Эмильевич, – оболочки чужой речи. Иногда, например, достаточно было нестабильного балтийского акцента, страшно усиливавшегося в моменты волнения, – и сама собой возникала невероятной печальности история о выросшем в Эстонии, в русскоязычной семье выходцев из Латвии, литовце-подкидыше: у бедняги совсем не было родного языка, ибо на всех четырех – русском, стало быть, литовском, латышском и эстонском – он говорил с препятствующим взаимопониманию акцентом… и знали-бы-вы-как-это-мучительно, знали-бы-вы-как-чужд-и-ненадежен-мир-вокруг!
Элемент языковой посторонности присутствовал всегда: это он запускал в ход любую историю, это ему истории были обязаны экзотическими подробностями, ароматными приправами couleur local, экскурсами в историю стран и народов. И, когда самая интересная для второй стороны и самая неинтересная для него часть встречи оставалась позади, начиналось то, ради чего все и затевалось: мифотворчество, иногда, увы, стимулировавшее вторую сторону к новым и новым грехопадениям в границах того же, разумеется сильно ограниченного, отрезка времени, подаренного обоим судьбой. И всякий раз скоро, в худшем случае завтра-рано-утром, ему ах-навсегда надо было уезжать… конечно-мы-едва-ли-встретимся-опять, но вот – временный адрес моего временного местожительства и временный номер моего временного телефона (слава тебе, домобильная эпоха!), конечно придуманные… пишите, звоните, как знать, как знать.
«Он фантазирует, ему скучно».
И кто-то-откуда-то постоянно наблюдал за ним, регулируя сей сложный трафик и не допуская встреч с теми, кто при случае мог бы и удивиться, застав его в какой-нибудь московской пельменной пожирающим двойные-пельмени-со-сметанкой-пожалуйста. Кто-то-откуда-то постоянно направлял его в краткосрочные странствия по близлежащим, но чаще, слава Богу, отдаленным городам страны, которые он, двадцати-с-гаком-летний, считал, видимо, надежно изолированными друг от друга… каковыми они по тем или иным причинам и были – или становились после его отъезда-навсегда? Впрочем, ведь и Москва сама по себе, и Питер сам по себе – очень большие города.
Однажды, когда кто-то-откуда-то на минутку отвлекся, случилось некое неприятное совпадение… неприятное настолько, что память о нем была загнана в самый дальний угол естества, а практика one-night-stand – раз и навсегда пресечена. Да она на тот момент так и так уже исчерпала себя, ибо прежней радости от новых знакомств он не испытывал. Скоро ему должно было исполниться тридцать – и все, кого он когда бы то ни было любил, не деля с ними однако того… что положено делить, постепенно исчезали из поля его зрения в бескрайних полях других зрений, пожав плечами и не поняв, чего он все-таки хотел от них – да и хотел ли. А самое, видите ли, грустное, странное, ужасное (ненужное зачеркнуть), что ничего-то он от них и не хотел, вот как.
«Ты так не любишь себя, что тебе хочется быть кем-то другим?» – этот вопрос был задан ему в момент того самого неприятного-совпадения, и он удивился, что поведение его, оказывается, со стороны могло выглядеть еще и так. Нет, дело было, конечно, не в том, что он не любил себя или так не любил себя… он и вообще не знал, как он к себе относится. Он даже не знал, существует ли он. И существует ли все вокруг – не знал. Между тем как накануне тридцати лет такие вопросы уже обычно перестают беспокоить. Но его – беспокоили. И он, по совести говоря, находил для этого объяснения… правда, объяснения получались сложными, длинными и едва ли годились для кого-то, кроме самого объясняющего.А дело тут было в свойствах призмы. Или нет, в Николае Федоровиче – главной загадке его детской жизни. Ну, «детской» – конечно, сильно сказано: речь о жизни школьной, причем о седьмом классе… какое ж это детство? Но именно в седьмом классе он и появился – сильно пожилой уже Николай Федорович в своем френче, таких френчей никто не носил тогда: воротничок-стойка и один-единственный ряд пуговиц, всегда застегнутых. Николай Федорович мог бы напоминать человека в футляре, но сильно мешало лицо – лицо невероятной тонкости. Не в смысле тонкие черты, а в смысле выражение лица – тонкое, ибо сам-το корпулентный Николай Федорович был фигурой, скорее, монументальной… Весь облик его был обликом недобитого пролетариатом по случайному стечению обстоятельств классового врага… мужской вариант его собственной бабушки по материнской линии – прозрачной на свет старушки с манерами тени.
Так вот… Николай Федорович преподавал ненавистную физику. Впрочем, если бы Николай Федорович попреподавал бы еще хоть пять минут… тогда физика могла бы стать для него всем. Но Николай Федорович даже и на пять минут не задержался: в следующем классе физику передали настолько милой даме, что в сравнении с этою милою дамой любая наука сразу же навсегда утрачивала смысл. Однако Бог с ней, с дамой.
О Николае Федоровиче ходили страшные слухи: получить пять по физике у него было невозможно, ибо – тут все цитировали самого же Николая Федоровича – на пять знал физику только Господь Бог. «Я знаю физику на четыре, – признавался Николай Федорович, – так что на пятерку пусть никто не рассчитывает».
Ему показался интересным такой поворот событий: в его дневнике никогда не бывало четверок за четверть. «У меня будет четверка по физике», – предупредил он маму в начале учебного года. «Печально, – сказала мама. – Но если нельзя иначе…»
Иначе было нельзя – и об этом ежедневно свидетельствовала грозная фигура Николая Федоровича, по роковому стечению обстоятельств оказавшегося еще и завучем. И хотя никто не рассказывал кровавых историй о его злодеяниях (четверка по физике в глазах соучеников все же не была кровавым злодеянием), школьники прилипали к стенам, как улитки к стеклу, когда он просто проходил мимо.
Пожалуй, урок о свойствах призмы был единственным уроком в его жизни, который он мог бы пересказать близко к тексту. Николай Федорович докладывал о преломлении солнечных лучей, проходящих сквозь призму, но начал с того, что живем мы не в цветном, а в бесцветном мире, ибо у окружающих нас предметов нет вовсе никакого цвета. Цвет появляется в результате отражения солнечного света поверхностью предмета. «Стало быть, на Вас, – глядя на Нину Колтырину, продолжал Николай Федорович (он был с учениками на «вы» – пожалуй, единственный, кто был на «вы»), – не коричневая кофточка, а бесцветная кофточка, в то время как на Вас, – взгляд на Колю Базанова, – рубашка не голубая, а… сами понимаете какая».
Это был удар в самое сердце. Но за ним последовал новый удар, которого сердце не выдержало и – треснуло. Трещина сохранилась навсегда.
Глядя почему-то прямо ему в сердце и забыв, видимо, что речь шла о всего-навсего призме, Николай Федорович вдруг полетел по небу и оттуда заговорил о том, что и все-то вокруг – игра света, и что нет ничего вокруг, а всё только кажется, кажется, кажется…
Тяжелый ангел в застегнутом наглухо френче.
И тут он, ученик седьмого, стало быть, класса «А» впервые в жизни потерял сознание. Потом, с промежутками в годы, это случилось еще четыре раза – и кончилось. Навсегда.
Когда он очнулся от первого своего обморока, над ним светились глаза Николая Федоровича, дикой доброты и страстности глаза, в которых так и стояло: нет ничего, мальчик, всё только игра света… И он понял, что никогда уже этого не забудет.
Если можно влюбиться в тяжелого ангела в наглухо застегнутом френче, то он влюбился тогда в Николая Федоровича.
А потом пришло время выставлять оценки за год. И Николай Федорович, прямо на уроке, сказал, глядя теми же светящимися глазами прямо ему в сердце:
– Через две недели я буду экзаменовать Вас. При всех. Одного у доски. По всему учебнику: с первой страницы до последней. Ошибка – и Вы пойдете на экзамен вместе с остальными. Там Вы сможете получить любую оценку от единицы до четырех. Ни одной ошибки – получите пять на месте.
Учитель не спросил, хочет ли этого ученик (ученик не хотел) – он просто поставил его в известность: будет так, и эта игра – не на жизнь, а на смерть. Игра с Богом, который – один – знает физику на пять.
Экзамен продолжался ровно столько, сколько нужно было, чтобы пролистать учебник физики с первой страницы до последней. Класс переворачивал страницы вместе с Николаем Федоровичем. Ни одной ошибки сделано не было. Николай Федорович глухо сказал: «Пять» – и, ни с кем не попрощавшись, вышел. Когда Николай Федорович перешагивал порог, на секунду показалось, что что-то в Николае Федоровиче сломалось, внутри, – и он испугался за Николая Федоровича.
Это была первая и последняя завучская пятерка по физике в их школе.
Через много лет он встретит Николая Федоровича гуляющим с красивой взрослой дочерью и крепкой деревянной тростью по Городскому саду в Твери. И он обнимет Николая Федоровича, и сокрушится от того, что физика ничем не стала в его жизни… простите, простите меня.
– Не на чем, – скажет Николай Федорович и опять посмотрит ему в сердце. – Вы так и так получили пятерку не за физику. На пять знает физику только Господь Бог. Это была пятерка за веру.
И он отправиться гулять дальше: с красивой взрослой дочерью и крепкой деревянной тростью.
Нет ничего, мальчик, всё только игра света…
Нет ничего.
Вот почему к тридцати годам ему так и не стало понятно, существует ли он.
Ему и сейчас это непонятно.
Ихь раухе нох ди летцте Цигаретте
(Ja vykurju jesche poslednjuju sigaretu)
Унд лег нохмаль ди альте Плятте ауф
(I snova postavlju etu staruju plastinku).
Вэр эр нох да, данн вайс ихь эс, эр хэтте
(Bud’ on jetsche sdes, ja znaju, jemu by dostalos)
Майн Хэрц гекригт им Зоммершлюсферкауф
(Mojo serdce s poslednej letnej rasprodazhi).
Эр хис нихьт фон Оэрцен
(Jego zvali ne von Oerzen),
Эр хис айнфах Том
(Jego zvali prosto Tom),
Унд альс эс им шлехьт гинг
(I, kogda dela ego stali plohi,)
Шриб ихь им: ихь ком
(Ja napisala jemu: jа jedu).
Да за ихь ди Вархайт
(Tut-to mne i otkrylas pravda),
Да хатте ихь Клярхайт
(Tut-to i stalo mne jasno),
Эр хат михь белёген
(On lgal mne),
Унд дас нихьт цу кнап
(A eto ne pustjak).
Эр шпрах фон фамилие
(On rasskazyval o semje)
Унд блауэм Блют
(I o goluboj krovi),
Эр вар айн Гановэ
(On byl moshennik),
Унд дас нихьт маль гут
(I eto sovsem ne horosho).
Ихь габ им дас Летцтес
(Ja otdala jemu posledneje),
Фраг нихьт, вэр эрзетцт эс
(Ne sprashivaj, kto vozmestit eto),
Нихьт маль фон дер Штойер
(za eto dazhe hotja by ot naloga)
Зэтц ман зо вас аб
(i to ne osbozhdajut).
Унд дас шлёс, фон дем эр шпрах
(I zámok, o kotorom on rasskazyval),
Вар айн Форхэнгешлёс
(byl navesnym zamkóm)
Ин дем Келлер, ин дем эр зихь эршос
(Ot podvala, v kotorom on zastrelilsja).
Эр хис нихьт фон Оерцен
(Jego zvali ne von Oerzen),
Дох дас вар мир гляйхь
(No mne eto bylo vsjo ravno).
Золянг ихь ин либтэ
(Poka ja ljubila jego),
Да вар ихь зо райхь
(Ja byla takoj bogatoj):
Эр хат мир им Лебен
(On dal mne v zhizni)
Зо филес гегебен
(Tak mnogo),
Дох дан кам дер гросэ
(A potom sluchilsja)
Цапфенштрайхь
(Polnyj obval). {25}
Большая страна и маленькая страна.
Может быть, дело и вообще только в этом.
– Вы из какой страны?
– Из большой, а Вы?
– Из маленькой.
– Тогда – извините. Всего доброго!
– Ничего… до свиданья!
И – в разные стороны, ибо о чем же разговаривать этим двум совершенно разным людям?
Когда он ехал в Данию, он, разумеется, знал, что едет в одну из самых маленьких стран мира, – ему казалось, что государственные границы в этой стране должны быть просто отовсюду видны. Границ оказалось две: одна пролегала по суше, с Германией, другая – по морю, со Швецией. Но ни одна, как ни странно, видна не была. Выяснилось еще, что когда едешь по Дании – часами, страна воспринимается как большая: вот же, едешь ведь… – часами!
Ощущение «большой-маленький» оказалось не пространственным ощущением. А вот каким, если не пространственным, – это хороший вопрос, как говорят в Дании о вопросе, на который трудно ответить.
Хороший такой, значит, вопрос…
То, что ответ надо искать в головах людей, а не во внешнем мире, он понял почти сразу. Скажем, в русской голове ветер гуляет и кораблик подгоняет, а в датской… в датской не гуляет и не подгоняет. И не потому, что голова меньше, а потому что места в ней – свободного – мало: не особенно разгуляешься. Да и всякий кораблик на учете. А потом… на каждом шагу – сторож какой-нибудь, с колотушкой.
Если в Москве кто-нибудь обращается к тебе с вопросом на иностранном языке, английском, допустим: а вот как бы пройти к Большому театру? – ты либо объясняешь, как пройти к Большому театру, либо отправляешь спросившего куда-нибудь… куда Макар телят не ганивал. А спроси – хоть и на том же английском – в Копенгагене, как к Королевскому театру пройти, тебе сразу – встречный вопрос: where are you from?
Так-то…
Поначалу это сильно раздражало его, но потом он привык к сторожам с колотушками. И послушно отвечал на любой встречный вопрос – правда, всегда по-разному и часто ставя спрашивающего в тупик: «Я из Мозамбика» или «Я из Китая». Спрашивающий тут же выходил из строя, словно какой-нибудь прибор, рассчитанный на напряжение в сто двадцать вольт, который подключили к двумстам двадцати. То есть, как, дескать, из Мозамбика, когда ты белый, или как из Китая, когда глаза круглые и – блондин? В ответ он просто пожимал плечами: всякое, дескать, бывает… – и уходил своей дорогой. Никогда не забывая историю с однажды отчеканенными по личному распоряжению Петра медалями, которые были украшены надписью «Небываемое бывает».
Значит, в России, во всяком случае, бывает, а насчет Дании…
Насчет Дании – его многое смущало, когда начало выясняться то одно, то другое. Не то чтобы сильно смущало – жить, там, мешало или в этом роде, а так… чуть-чуть. Смущали, например, сугубо личные вопросы, которые ставились в лоб с прямотой деревенского жителя: а чего, дескать, стесняться, все же свои! Принять в объятия такое количество «своих» – пять миллионов с хвостиком – он не был готов. Смущали и сугубо личные, причем остро непосредственные реакции на внеличные утверждения типа «Волга впадает в Каспийское море…» – «Никогда не поверю!» Смущала вообще эта безмятежная – и часто производившая впечатление чрезмерной – открытость личности навстречу обществу… опять же какого-то деревенского типа: смотрите, мол, у нас все на виду, нам скрывать нечего.
Все на виду и было.
Но в его голове, тем не менее, ветер гулял – и кораблик подгонял! И уследить за этим корабликом не мог даже самый пристальный датский взгляд: больно уж пустой была его голова, больно уж много в ней было свободного места и больно уж резвым был тот кораблик. Так что датчане только переглядывались, одни сокрушенно, приписывая его легкомысленность морозам, медведям и водке, другие с восхищением – или с завистью, не поймешь. Впрочем, понимать он и не старался: все равно, думал, не из этой он деревни, так что нечего родниться особенно – с односельчанами-то. Да по первости и смысла не было… достаточно рот раскрыть – и любому понятно: не из этой деревни.
Без акцента по-датски говорят только те, кто в этих местах родился, поскольку начинать приспосабливать речевой аппарат к будущему языку не поздно только в утробе матери. А дальше – по выходе из утробы – увы, уже ни к чему: когда ни начнешь – все равно не успеть. Как бы прилежно ты ни изучал впоследствии этот язык, который немцы называют «заболеванием горла», тебе уже никогда не натренироваться молниеносно образовывать щели той ширины, которые требуются – причем речь о сотых долях миллиметров идет – для произнесения 22 (двадцати двух!) датских гласных. Не говоря уж о том, что ты никогда не привыкнешь озвончать глухие и оглушать звонкие согласные… почему бы их просто не поменять местами? – в той степени, в которой озвончают и оглушают их аборигены-из-утробы. И уже вовсе умалчивая о толчке – типично датском явлении, не поддающемся корректному описанию ни на одном языке мира, но напоминающем – фактически – короткую смерть от удушья в ходе произнесения едва ли не каждого слова.
Он никогда прежде не думал, что настанет время – и иноземный акцент, который так завораживал его в детстве и юности, однажды превратится в постоянную (и – хуже – неискоренимую) черту его речевого портрета. Причем отнюдь и отнюдь не в украшающую его речевой портрет черту. Выучить датский язык было раз – ну два, ну три – плюнуть… проблемой оказалось произнести выученное.
Так он возненавидел акцент. Любой, а прежде любого – свой собственный. Кстати, несмотря на то возненавидел, что, кроме него самого, акцент этот не мешал никому, и в один прекрасный день Дания даже прекратила спрашивать его: where are you from? Видимо, акцент сохранился в той сильно щадящей уши собеседников степени, которую легко было игнорировать. Однако сам он слышал свой акцент каждую секунду – точно так же, как и любой другой акцент, искажавший аутентичный датский, какого бы происхождения этот акцент ни был. Теперь даже применительно к аборигенам-из-утробы он мог с точностью до области определить, из какой части Дании прибыл его собеседник, где рос и влияния каких других диалектов испытывал на себе в разные периоды жизни.
Южно-ютский датский, борнхольмский датский, копенгагенский датский и все прочие датские различались им вполуха. При желании он мог даже имитировать диалекты, но свой акцент слышал и тогда, когда говорил на диалекте… впору было, как Демосфену, класть камешки в рот, да зубов пожалел. Ибо нет таких камешков, которые датский способен был бы обтесать : датский призван дробить любой камешек в крошки!
Тут-то он и начал преподавать этот язык.
Идея была, конечно же, не его: при всем – своем? – ветре в голове (и особенно при кораблике) он не смог бы и представить себе ничего подобного. «Какое кощунство!» – сказала бы его покойная прозрачно-перламутровая бабушка по маминой линии. Скептичный же Борька, которому он сразу, понятное дело, доложил о предстоящих переменах, только поинтересовался: «А больше там у них, в Дании, некому датский преподать?»
Ему показалось, что кое-какие слова в этом вопросе могли бы быть подчеркнуты немножко менее жирно, поскольку предполагаемый род занятий и так шел наперекор чуть ли не всем сразу его собственным принципам. Не сам ли он – год за годом! – трубил на каждом перекрестке, что только и исключительно носители того или иного языка имеют право его преподавать? Вообще говоря, он имел в виду прежде всего русский, который – во всяком случае, в Дании – преподавался кем угодно, кроме русских, но, видит Бог, ему бы и в голову не пришло ограничивать сферу действия этого права каким-либо одним языком! Логика и вообще была немудреной: русский должны преподавать русские, немецкий – немцы, французский – французы… продолжать или остановиться? Существует, стало быть, «язык врожденный» (это словосочетание он всегда произносил с придыханием) и «язык выученный» (тут в его голосе обычно слышалось презрение) – всем ли понятно, какие отсюда следуют выводы?
Этот вопрос задавался им в качестве риторического: так, по крайней мере, вопрос звучал в России, где вас засмеяли бы насмерть, предложи вы в преподаватели русского языка чужеземца. Экое неловкое – да и просто неприличное, вы, конечно, извините за резкость – предложение! Надо ведь немножко головой-то думать – или не надо? О чем думать – так вот… о национальной гордости великороссов, например!
Что до датчан, то у них национальной гордости великороссов – в смысле, национальной гордости великоданов – не оказалось и в помине («большая и маленькая страна» – помните эту тему?). То есть здесь подготовка к артикуляции звуков в утробе матери давала лишь одно преимущество – преимущество быть понятым пятью миллионами человек в самой южной из северных стран Европы. Что касается преподавания датского – на сей счет у датчан не было амбиций. С той же легкостью, с которой хоть русский, хоть любой другой чужеземный язык преподавался в Дании датчанами, датский мог быть поручен здесь… ммм, почему бы и не русскому? Иначе говоря, получалось следующее: так же, как русский в Дании необязательно должны были преподавать русские, немецкий – немцы, французский – французы, датский необязательно должны были преподавать датчане.
Чуть не поперхнувшись таким большим глотком свободы и лишний раз сокрушившись по поводу собственного латентного шовинизма, он, тем не менее, все-таки счел своим долгом напомнить:
– У меня в датском акцент.
– Правда?
– Правда. Он же мне не родной.
– Конечно, он тебе не родной, – охотно согласились с ним. – Он тебе как родной.
Это-то «как» и решило дело.
Хотя на собеседование он шел все-таки без особых надежд. На месте приглашающей его стороны он бы приглашения себе не послал – просто взял бы на работу любого датчанина с улицы… с врожденным датским. Но предпочли почему-то все-таки – его, а не датчанина с улицы, из чего, в частности, следовало, что наличие или отсутствие акцента имеет принципиальное значение не для всех. Он было задумался об этом, но раздумья никуда не привели, и, вернувшись на прежнее место, он вздохнул: почему, дескать, судьба все время бросает его на тонкий лед? И с ужасом понял: потому что ему нравится ходить по тонкому льду! Он и больше понял: всю свою жизнь он только и делал, что ходил по тонкому льду, каждую секунду грозящему хрустнуть, а там… Но – странно: про «там» он никогда не думал. Может быть, потому, что прогулки по тонкому льду в конце концов стали для него привычкой.
Он и сейчас идет по тонкому льду – тонкому льду беспорядочных воспоминаний… спасибо Пра, научившему его не вспоминать одно за другим, но вспоминать то одно, то другое: только так ведь удерживают равновесие на поверхности тонкого льда. Только так ведь появляется у нас возможность вспомнить что-нибудь эдакое… хм, чего и в памяти не было!
– Зачем бояться этого? – никчемно улыбался Пра. – Никто же не обязывает тебя вспоминать события исключительно твоей жизни – может быть, тебе внезапно удастся вспомнить что-нибудь из моей… так я тебе только спасибо скажу! Субъекта и объекта не существует, они слиты – надо просто забыть эти слова, два этих лишних слова забыть – и настанет покой. Потому что во всех наших беспокойствах виноват тот, кто придумал слова «субъект» и «объект».
– А вот посмотрел бы я на тебя, преподающего язык и не пользующегося грамматическими категориями «субъект» и «объект»! Даже не столько на тебя, сколько на студентов твоих посмотрел бы.
– Почему же – «не пользующегося»? – хорохорился Пра. – Я бы пользовался! Но, пользуясь, каждую минуту помнил бы о том, что это только грамматические категории. Что их нет в мире, ибо и мира как такового – нет.
Он всегда мечтал познакомить Пра с Торульфом, да вот… не случилось.
Однажды, правда, он рассказал Пра об исторической памяти – как ее понимает Торульф. Пра внимательно слушал, кивал, но в конце концов заулыбался и заразводил руками:
– Очень европейский взгляд на вещи, – сказал. – Очень и очень европейский.
– В том смысле, что ошибочный? – поддразнил он Пра.
– А вот не надо приписывать мне того, что я не имел в виду, – был ответ. – Европейский – вовсе не значит ошибочный. Европейский – значит опирающийся на европейские представления… э-э-э… обо всем. В соответствии с которыми, например, главное свойство личности – integrity… целостность. Европейцы чрезвычайно озабочены сохранением целостности, а как раз за целостность и отвечает историческая память. Вспоминание своей жизни – шаг за шагом – стабилизирует личность, отграничивая ее от других. Такое вспоминание создает замкнутое пространство судьбы – судьбы данного конкретного индивида. И в этом, в конце концов, нет ничего плохого – просто индивид, культивирующий целостность, лишает свою память парадоксальности, а парадоксальность нашей памяти в моих глазах, глазах восточного человека, есть одно из главных ее качеств. Но у меня такое впечатление, что европейцам это качество не нужно: они боятся бесхозных воспоминаний.
– Что значит «бесхозных», Пра?
– Well… – Пра надолго задумался. – Я зайду с другой стороны. Видишь ли, европейцы уверены, что человек, взявшийся вспоминать, вспоминает лишь то, что связано с ним… вспоминает сценарий, главный герой которого – он сам. Ибо он как раз и есть субъект воспоминаний. Но нет никакого субъекта – и нет никакой целостности личности.
– Субъекта нет, а объект – есть?
– Так… откуда же взяться объекту, если нет субъекта? Тут ведь перед нами не что иное, как одна из дихотомий – философских дихотомий, которыми европейцы постоянно пользуются как подпорками, чтобы не растеряться. А жизнь не знает дихотомий – в жизни все равноценно. Стало быть, и субъекта с объектом нет… – Пра весело расхохотался. – Впрочем, ладно, считай, что они есть! Есть, но меняются местами с такой скоростью, что постоянно забывают, кто из них субъект, кто – объект. Субъект, вспоминающий себя, есть объект собственных воспоминаний, разве непонятно? Ну и зачем же тогда нам вообще нужна эта дихотомия – скажи, пожалуйста! Ситуация, в которой я – отпустив свою память на волю – могу внезапно вспомнить что-нибудь из жизни, которой никогда не жил, – как ты к этому отнесешься?
– С сомнением!
– Это потому, что ты все еще держишься за субъект! – Пра хохотал теперь в голос. – Но – напрасно держишься: ты не знаешь, где странствует твое сознание и какие жизни оно проживает, когда покидает тебя, а оно ведь тебя на каждом шагу покидает. Девяносто девять процентов того, что ты делаешь, ты делаешь автоматически – не задумываясь об этом, и как раз в это время сознание твое отсутствует. Оно гуляет по другим пространствам – и выносит из них кусочки… эпизоды, которые когда-нибудь внезапно могут вспомниться – тебе. Потому что границы личности подвижны, но как раз это и исключается европейским сознанием, запирающим личность в субъект и базирующимся на исторической, интегрирующей, памяти. Между тем как память наша – субстанция летучая. Я, например, знаю, что – спонтанно – могу вспомнить какие-то эпизоды, которые непонятно из чьей жизни и которые я не знаю, куда поместить.
– Ты хочешь сказать: можно вспомнить что-то, свидетелем чего не был?
– Разумеется, можно! Это будет всего-навсего означать, что память твоя оказывает тебе услугу, сообщая о том, где бывает твое сознание, когда оно покидает тебя. Вот зачем нам беспорядочные воспоминания: они стимулируют память к творчеству! Память Запада – фотографическая, память Востока – художественная. Так дай своей памяти шанс!
М-да, как бы убить в себе европейца? То есть, не вообще европейца, а европейца в-с-п-о-м-и-н-а-ю-щ-е-г-о…
…когда – с полным ртом датского – он в первый раз переступил порог аудитории, ощущение новизны жизни было полным. И это у него-то, который в любую аудиторию входил как домой и при виде студентов давно не испытывал никаких заслуживающих особого разговора ощущений… Ибо – ах чего он только уже не напреподавал на своем веку! Казалось, отправь его преподавать историю мавританского права – преподаст как миленький, причем не хуже других преподаст, пару дней на раскачку только попросит, а там в ритм вошел – и вперед! Ибо на самом-то деле преподаем мы не историю мавританского права, не физику, не лингвистическую стилистику, а другое… что – он не скажет, это тайна, это нельзя.
Но датский – в Дании… кажется, на сей предмет и сам учитель его смолчал бы, потому как ничего тут не скажешь, конечно. Это все равно, что вот… апельсин бы пришел преподавать – яблочность, а не апельсиновость, как все вокруг рассчитывали. Или – собака пришла бы преподавать кошачесть. Или снег – теплоту.
Чудно́.
Так что ощущение новизны жизни, как сказано, было полным: нуте-ка, Апельсин Апельсинович, доложите нам про яблочность!
В первой его группе сидело человек пятнадцать собранных со всего света студентов: тихие, обложенные тетрадями, карандашами и ластиками, глаза испуганные – вот он кааак заговорит сейчас на своем языке, совсем новом для них, страшном, они кааак ничего не поймут… и их немедленно навсегда выгонят из страны за неуспеваемость!
И тогда Апельсин Апельсинович покачал головой.
И улыбнулся самой лучшей из своих улыбок.
И подошел к окну.
Во дворе рос рододендрон и цвели розы, никак не могли разойтись два крутолобых облачка в вышине и млел на солнце красный флажок с белым крестиком.
Это была Дания.
Указательным пальцем он нарисовал в пространстве окна крохотный кружок и, посмотрев на студентов, отчетливо произнес:
– Danmark… lille Danmark.
Потом, обеими руками, нарисовал внутри класса огромный круг, в который заключил всех присутствующих сразу, и сказал:
– Verden… den store verden.
Студенты многонационально заулыбались, страх в глазах исчез: столько-то слов они, конечно, уже знали – не знали только, что тут такая пропорция… такая пропорция между внешним миром и внутренним. Хотя оно, конечно, и правильно: внешний мир – он маленький, пальчиком очертишь, зато внутренний мир – большой, на него и двух рук не хватит, и ни скольких угодно не хватит.
И – улыбались дальше…
Сильно пожилой индус в сиреневой чалме (с… бриллиантами?).
Малюсенькая китаянка без возраста – лицо, один в один, фарфоровой куколки, качающей головой, такая была у него в детстве.
Темнокожий великан – по всей вероятности, внук того, в белых штанах, который увез Зою в свою иностранную страну и бросил.
Тихий поляк в очках со стеклами минимум минус восемь.
Напоказ уверенная в себе простая-русская-девчонка.
Все улыбались: а он, дескать, Апельсин Апельсинович этот, ничего как будто… понимающий, похоже, олдинг. Пусть учит нас яблочности, хорошее дело яблочность…
Ах, неважно, что яблочности, милые мои, и яблочность, сказать по секрету, ничуть не хуже и ничуть не лучше, чем история мавританского права, которой он пока не учит… да и яблочности не будет учить, ибо учим мы, как вот только что оказалось, в том числе и не яблочности вместе с не физикой и не лингвистической стилистикой, а… но он это по секрету узнал, так что, может быть, по секрету и передаст – вот хоть кому-нибудь из них, если будет кому: фарфоровой, значит, куколке, качающей головой, или тихому поляку в очках со стеклами минимум минус восемь… как зовут-то его… Krzysztof, в журнале написано, бедный, с такими именами не приезжают за границу, тут человека родимчик хватит, прежде чем он «Кшиштоф» выговорить сможет!
– Czy pan Krzysztof trochç rozumiç po dunsku?
Вот и попался ты, пан Кшиштоф, что теперь скажешь? Всякое на свете бывает, пан Кшиштоф, jak myslisz? Да не отвечай ты, не мучься сомнениями, мы вот пока… ага, Ольга:
– Ольга, а Вы давно ли в Дании?
Вот и Ольга попалась… и все вы, милые мои, попались в лапы старой педагогической лисы, хитроумного Апельсина Апельсиновича: все-то он про вас знает, все-то понимает – и на каждого из вас хватит у него и яблочности, и кошачести, и теплоты, уж будьте спокойны.
И вместе они смотрят в окно – на маленькую Данию, случайно объединившую их… такую милую Данию, такую все-таки милую маленькую Данию! И вместе же – они заговорят когда-нибудь на ее языке: не сразу, потихонечку, слово за словом…
Число выражения характеризует главные элементы личности, ведущие черты характера и поведения.
Интересно, что числа выражения получились разными для России и для Дании. Если на первой родине ЧВ равно 8, то на второй – 6.
«Восьмерки» обладают достаточно цельным характером, обостренным чувством справедливости. Бурная энергия «восьмерок» нуждается в том, чтобы ее направляли в правильное русло, чтобы кто-то помог найти ей подходящее применение. «Восьмерки» бывают весьма требовательны, непримиримы, прямолинейны, им свойственны несговорчивость, бескомпромиссность, верность собственным принципам и полный отказ от полумер. Им необходимы постоянные усилия, они ищут деятельности, постоянно стремятся проявлять инициативу, очень плохо переносят зависимость от кого-либо или чего-либо, всегда находятся в поисках равновесия.
Планеты «восьмерок» – Марс и Сатурн, стихия – Земля.
В личных отношениях для них характерно стремление господствовать, навязывать свои пресловутые принципы, упорство, граничащее с упрямством, верность своим пристрастиям.
Вообще у «восьмерок» характер более чем определенный, никакой расплывчатости. Порой они склонны идти на риск и очень хорошо умеют противостоять соперникам. В некоторых случаях упрямство их переходит границы разумного, становится чрезмерным, они стоят на своем, не желая слушать никаких доводов, – и иногда это может вылиться в приступы внезапной агрессии.
«Шестерку» можно назвать страстной, глубокой, эмоциональной натурой. Чувства порой явно преобладают над рассудком, но «шестерка» старательно подавляет их, стремясь проявить уравновешенность, чувство ответственности (вообще чрезвычайно для нее характерное). В работе «шестеркам» присущи пунктуальность, доходящая до придирчивости – к себе ли, к другим ли. При переходе от «восьмерки» к «шестерке» обостряется интуиция, и без того хорошая. Обостряется стремление к перфекционизму, но вместе с ним – склонность чувствовать себя виноватым. Обостряется и стремление чувствовать себя в безопасности, пустить корни – укорениться. Если говорить о привязанностях и страстях, то у этого человека на первый план выходит в качестве побудительного мотива к действию желание обеспечить благополучие близких ему людей: именно для этого, а не для личного процветания он хочет добиться успеха. Ему бы хотелось иметь домашний очаг, камелек, у которого можно погреться, но некоторые из «шестерок» гонят от себя эти мысли, целиком отдаваясь работе, цель которой, как уже сказано, – скорее благополучие других, чем свое собственное.
Это число выражения символизируется планетой Венера и стихиями Земли и Воздуха.
Для «шестерок» характерен интерес к человеку, к гуманитарным наукам, искусству в целом. У них весьма развиты чувствительность и восприимчивость. Обязательность и желание взять на себя заботы других сочетаются с чрезмерными ожиданиями и надеждами на этих других. Временами проявляются ревность (даже зависть), собственнические чувства {26} .
Нет, он не будет звонить в ответ на смс-ку, написанную транслитом.
Кстати, вот тоже глупость: писать транслитом – ему! Писал бы уж сразу по-датски, чего мучиться-то, если понятно, что оба они говорят по-датски! Или тот, другой, не говорит? Так – вообще! – может быть? Особенно, с учетом странного факта, что и другой – это тоже он… К чему тогда транслит?
Тем более что транслит – его и только его личный крест, ибо все его русские знакомые – включая и немногочисленных русских знакомых в Дании – давно уже обзавелись двойной клавиатурой.
Читать транслит оказалось труднее, чем писать на нем, – даже несмотря на то, что собеседник явно пользовался теми же правилами транслитерации, что и он сам… ммм, не очень точными, мягко сказать. Настоящий транслит выглядит сильно иначе: настоящий, кажется, базируется на нормах английского правописания, в то время как сам он пользуется то английскими, то немецкими, то датскими, без системы.
«Ne pozvonish»!.. Как насчет того, чтобы самому позвонить? Все равно ведь распоряжаешься моим телефоном как хочешь, звонишь всем подряд, так что уж мне-το позвонить – святое дело: ну, здравствуй, мол… представляться друг другу будем?А вот дудки, голубчик: звонит не тот, с кем собираются говорить, а тот, кто собирается. Да и признать саму возможность этого разговора, видимо, означало бы для него… означало бы для него… означало бы для него полное помешательство, хоть и кажется, что он третий день помешан полнее не придумаешь. Только одно дело – пререкаться с собой… внутренний диалог вести, грамотно выражаясь, и совсем другое дело – говорить с собой по телефону! Тут уж полный… полное, средний род, Кащенко.
Хотя Ансельм, помнится, и рассказывал об одной своей пациентке, которая ходила с прижатой к уху ладонью, как бы постоянно ведя телефонные переговоры: она чуть слышно задавала себе вопросы и чуть слышно же отвечала на них. Это никому не мешало – и к Ансельму ее направили не с этим: пациентка страдала физическим и нервным истощением, поскольку у нее не было времени ни есть, ни спать, ей непрерывно «звонили».
– Это неизлечимо? – спросил он тогда Ансельма.
– Почему же? – пожал плечами Ансельм. – Я объяснил ей, что мобильных телефонов, не требующих зарядки, пока не изобрели и что ее модель нуждается в подпитке как минимум два раза в день… плюс все ночное время. Больше ее родные не жаловались.
А вот интересно: если он прямо сейчас позвонит Ансельму и расскажет все как есть – или хотя бы про Ne pozvonish?.. Нет, нельзя: забьет тревогу Ансельм. И правильно, между прочим, забьет тревогу: он бы и сам тревогу забил, расскажи ему кто-нибудь такое.
В общем, придется справляться без психолога, а между тем жутко оно, ясен-пень. Даже, вон, Торульфу и то жутко, даже Торульф не понимает ничего и отсылает к Курту! Потому что Курта – Курта, стало быть, Ассизского – так просто не возьмешь: дай, говорит, личности разбежаться в разные стороны – и все.
Но как же это так, дорогой мой Курт, «дай разбежаться»? Навсегда? Хотя… вот ведь и Пра, опять же, говорил: «Нету у нас никакой личности, ибо понятие “личность” границы предполагает, а мы безграничны… вспомни что-нибудь наобум, пойди за воспоминанием – и не встретишь границы на своем пути, нет границы!» – Он спросил тогда: «Границы нет, а точка сборки – есть?» – и Пра расхохотался: «Да какая ж тебе точка сборки-то, милый человек! Это у индейцев, может быть, точка сборки есть, а у нас – откуда ж? У каждого то есть, что ему требуется, – так вот, докладываю: ничего подобного нам не требуется. И нормальному уху – тут уж хоть европейскому, хоть азиатскому, лишь бы не индейскому! – слышать “точка сборки” применительно к человеку только смех один! Ты сам-το вслушайся в звучание: “точка сборки”… придуманное же понятие!»
Конечно, если точки сборки действительно нет, можно в принципе и разбежаться в разные стороны, как Курт советует. Разбежаться – и никогда потом уже больше не встретиться… ни к чему оно, хватит, побыли вместе.
Только вот как добро поделить… кому что – из нажитого? До чего же глупо все начинает выглядеть, когда пытаешься посмотреть на дело практически!.. Вот и сейчас, например: если бы не поселившийся в его костях страх (после смс-ки транслитом? нет, еще раньше)… если бы не этот страх, он, наверное, расхохотался бы, представляя себе список-отчуждаемого-имущества. Первый том «Дон Кихота» направо, второй – налево, шарфик в мелкую черно-белую клетку (х/б) налево, в мелкую черно-красную клетку (х/б) – направо…
Так он не умел. Он и из брака своего, слава Богу, давно расторгнутого, ни пол статуэтки не вынес: дорого сердцу, недорого – молчи, сердце, не заводись! Да и сроду не было в его окружении ничего памятного-из-прошлой-жизни: он настолько привык быть готовым в ближайший момент освободить жилплощадь, всегда в той или иной степени не свою (своей в окончательной степени – не заводилось), что старался не привязываться ни к чему – как раз потому и не привязываться, чтобы в любую минуту бросить через плечо пока-пока – и снова уйти с пустыми руками. Иногда это происходило настолько быстро, что ему казалось, будто он не успевал уйти весь (нет-весь-я-не-умру… ха-ха, как он знал это!) – и некая часть его продолжала жить в уже оставленной им квартире или покинутом им доме.
Значит, и в разные стороны разбежаться придется, ничего не деля: каждый останется с тем, что у него на данный момент случайно окажется в руках… правда, опыт показывает, что в руках именно в такие ответственные моменты ничего нету.
А вот и Манон: здравствуй, Манон. Он сказал это без удивления, без испуга, без радости – сказал так, словно для них в порядке вещей то и дело сталкиваться где придется.
Манон смотрела на него с афиши, между тем как он вот уже с час знал, что ни в какой она не в Дании, а вовсе в Стокгольме, где-то рядом с ним. Это рассказала ему Кит, которой рассказал о Манон, получается, он сам… тот он, которому – второй том «Дон Кихота» и шарфик в черно-красную клетку, х/б. А другой он – которому первый том «Дон Кихота» и шарфик в черно-белую клетку, х/б, – не стал, разумеется, ничего переобъяснять… да и смешно ведь переобъяснять: видишь-ли-Кит-у-меня-действительно-роман-с-Манон-но-рассказал-тебе-об-этом-не-я-хоть-все-и-выглядело-так-будто-я… кто ж такое поймет? И потом, ему ли – вруну-виртуозу – опускаться до такого грубого аматерства! Он просто сказал Кит: не знаю, зачем я посвятил тебя в это, забудь, я, небось, не в себе был, забудешь? – Забуду, пообещала Кит, это мне проще всего.
Ну как жизнь, Манон – и… что прикажешь делать? Я не искал тебя, я честно ждал, когда ты сама меня найдешь, но поверишь ли ты в это, увидев такого вот гостя за одним из столиков? Хотя… зачем усложнять? Через два часа он придет сюда к началу представления, побудет часа полтора – и на поезд до Мальмё. А поверит ему Манон или нет – не его забота.
Он поднял глаза на фасад дома, на котором висела афиша берлинского кабаре: ну и в задрипанном же ты месте выступаешь, бедняга Манон…
Однако ведь два часа надо где-нибудь провести… при том, что дождь со снегом – и на нем уже опять нитки сухой нет. Лучше бы все-таки купить зонтик, пока магазины открыты… да, и обязательно – трубку, есть же ведь они где-нибудь в продаже! С трубкой хорошо, с трубкой ничего не страшно.
Очень болела голова, уже давно болела, вот в чем дело, а то он все не понимал, что же так мешает думать… Черт, таблетки тоже в камере хранения! А если взять и вернуться на вокзал, там сухо, тепло, достать из чемодана впопыхах затолканный туда рюкзак: в нем зонтик, кожаная шляпа-боб, перчатки… конечно, так и надо сделать, сколько ж можно разгуливать по городу с пустыми руками, он сроду так не ходил! Ну и таблетки, конечно, потому что не всякие помогают, а спазмалгон помогает, хоть и через раз… Как же его все-таки угораздило отправиться на тринадцатичасовую прогулку, ни о чем – вообще! – не подумав?
Пришлось взять такси – иначе было не очень понятно, как добираться до вокзала. Он бы, конечно, разобрался и без такси, но соображать, в какую сторону идти, было лень. Молчаливый таксист – по виду араб или турок – кивнул, когда он назвал Centralstationen, и за весь путь так и не произнес ни слова. Можно было без помех думать о предстоящей встрече с Манон.
Впрочем, что же думать о предстоящей встрече с Манон, если думать о предстоящей встрече с Манон глупо: он успеет только увидеть ее выступление, в лучшем случае – молча посидеть с ней за столиком, Манон никогда не разговаривает с посетителями… остаться же в Стокгольме он не может: вулканическое облако висит над Европой, надо спешить, другого билета не будет, да и студентов его, небось, уже какой-нибудь случайный почасовик терзает…
И потом, с чего он вообще взял, будто Манон захочет, чтобы он остался?
Перед камерой хранения он долго искал запропастившуюся куда-то квитанцию: на ней был записан код… злился на себя, чертыхался, но в конце концов вспомнил код и так. Облегченно вздохнув, набрал необходимые цифры, замок щелкнул – и он открыл дверцу ячейки.
Ячейка была пустой. Чемодан отсутствовал.
Потребовалось некоторое время, чтобы осознать это. Он смотрел в продолговатое пространство ячейки прямо перед собой, борясь с желанием прикрыть дверцу и убедиться в том, что на ней известный ему номер. Хотя ведь чужая ячейка и не открылась бы.
Нет, ну до чего же все глупо…
Он знал, кто забрал его багаж. Тот же самый, кто – как две капли воды похожий на него – сегодня придет на встречу с Манон, о чем уже и сообщил Кит. Этот человек здесь, в Стокгольме, – и сегодня он увидит его!
Страшновато было представлять себе, как сам он входит в ресторанчик, где вот-вот должна выступать Манон, и видит себя сидящим за одним из столиков. Если это так, то ему – настоящему ему… если он, конечно, настоящий! – придется уйти: он не может сидеть в ресторанчике в двух экземплярах! А дальше… дальше линия с Манон будет развиваться без его участия – и… и у него отнимут Манон.
Чтобы этого не случилось, он хлопнул дверцей пустой ячейки и бросился на улицу: надо опять поймать такси и оказаться в ресторанчике до появления того… надо сесть за один из столиков – и ждать. То-то удивится его alter ego, поняв, что место занято! Тогда уйти придется не ему, а тому, второму, – интересно, кстати, куда он пойдет!..
Сев в такси и открыв рот, чтобы назвать адрес, он вдруг понял, что адреса – не знает. И что, засмотревшись на афишу с Манон, на задрипанный фасад дома, даже не прочитал названия ресторанчика… а стало быть, совершенно не представляет себе, куда ехать. Извинившись перед таксистом, он снова выбрался под дождь со снегом и побрел в том направлении, откуда, как он помнил, привез его первый таксист. Но все вокруг казалось незнакомым, не виденным им прежде. Бояться-то, конечно, нечего, он все равно найдет ресторанчик с афишей, старый город не такой большой… только надо спешить, надо успеть туда до появления там второго. Кстати, наверное, этот второй придет с его чемоданом – чтобы уж сразу после этого на вокзал. И тогда… что – тогда? Не будет же он отнимать чемодан у себя самого! Да и доказать, чей это чемодан, невозможно: оба они, по-видимому, знают, что в нем лежит… впрочем, он-то сам едва ли сможет перечислить все до мелочей. Что-то, разумеется, назовет, но вспомнит ли всё – это вопрос. Кое о чем он, кстати, и представления не имеет: например, не заглядывал в Ликины пакеты, где подарки ему и его друзьям… все это «сюрпризы», которые должны быть распакованы уже на месте.
Ах, черт бы с ним со всем. Достаточно увидеть, что чемодан в руках у того… все-таки спокойнее: не совсем, стало быть, в чужих руках! Господи, что он несет – «не совсем в чужих руках»! По какому же такому праву руки этого самозванца следует считать не чужими? К тому же… – тут он сбавил темп размышлений и потрогал правую сторону куртки – билет и деньги лежат в потайном кармане у него, так что не очень-то второму есть смысл спешить на вокзал: билетов до Мальмё – при отсутствии номера бронирования (уже, так сказать, использованного!) – сейчас не достать. Значит, второй как раз и может остаться с Манон в Стокгольме, к чему как прикажете отнестись?
Он остановился и понял, что не знает, сворачивать здесь или продолжать идти по прямой. Оказывается, он совсем не помнил дороги, потому что не следил за тем, как вез его молчаливый таксист. Обычное дело: полагаясь на других, он, увы, полностью отключается сам.
Так каков же «список отчужденного имущества»? Он начал было перечислять себе, чего лишился, и вдруг вспомнил, как часто в своих разъездах размышлял о потере багажа и что это для него могло бы значить. Вывод, к которому он обыкновенно приходил, звучал так: ах да и черт бы с ним, со всем этим багажом!.. Ибо никакой ценности содержимое его чемодана вообще не представляло – вот разве подарки, да только ведь и подарки никому не нужны, причем ни там, ни там. За последние пятнадцать лет он уже навез всего всем в Дании из России – гжелей-палехов-павлова-посада-вологды… А уж из Дании в Россию – и подавно: мотаясь в поту по магазинам за два-три дня перед отъездом, он каждый раз ругал себя за свою «советскость», проявлявшуюся в представлении о загранице как месте, откуда надо изловчиться навезти как можно больше. Свитерочки-блузочки-тапочки-сумочки… коробочки-пузыречки-баночки-пакетики! Его дежурные двадцать килограммов – грамм в грамм – для сдачи в багаж и десять килограммов – а на самом деле все пятнадцать – ручной клади без сожаления могли бы быть выброшенными в первую попавшуюся придорожную канаву… любой из тех, для кого предназначались подарки, с легкостью обошелся без чего угодно из всего этого.
Стало быть, да здравствуют путешествия налегке – тем более что значение имеет лишь факт покупки, ибо если действительно мне-не-дорог-твой-подарок-дорога-твоя-любовь… тогда факт передачи подарка становится совершенно никчемным: любовь присутствует лишь на первой стадии процедуры-в-целом – придумать подарок, найти нужный магазин, выбрать, купить, между тем как вторая часть процедуры сугубо эгоистическая – посмотреть на реакцию, выслушать благодарность… Ну, не получит Тильда лишних бус от Лики – и что? Лике было важно купить их, Тильде было важно узнать, что они куплены, сами же по себе бусы при этом уже излишни. Что касается Кит – Кит обойдется без чего угодно. А Курт – он даже лишний раз поблагодарит за то, что его и так заваленный всяким барахлом быт не будет отягощен лишней финтифлюшкой.
Самому же ему ни-че-го-шень-ки из этого чемодана не нужно, потому как уж применительно к нему-το и вообще было бы самой хорошей стратегией дарить не предметы, а обозначающие их слова. Скажем: я дарю тебе слово «зажигалка» – или я дарю тебе слова «книга Жозе Сарамаго “Двойник”». Но – увы, так правильно по отношению к нему никто из его круга себя не вел.
Похоже, он все-таки заблудился в старом городе: ничто вокруг не напоминало о виденном ранее… хоть когда-нибудь ранее – это в Стокгольме-то, где он был как дома. До начала представления оставалось сорок минут: теперь он уже, конечно, не успеет добраться первым, но речь об этом сейчас и не идет – речь сейчас идет о том, чтобы добраться вообще. А может быть, и не видел он никакой афиши, может быть, показалось ему, что это лицо Манон – у каждого из нас есть двойник? Нет, у Манон двойника нет, у нее единственной в мире нет… хоть это, конечно, и не аргумент в пользу того, что афиша не плод его воображения. И вообще… – разве увидел бы он эту афишу, не расскажи alter ego о стокгольмских гастролях Манон в несанкционированном телефонном разговоре с Кит? А если все это им же, alter ego, и подстроено? Подстроено для того, чтобы он отвлекся, поддался на провокацию с Манон и не сделал чего-то важного… что тот вознамерился сделать вместо него, пока сам он сидит в ресторанчике, пялясь на Манон. Что можно сделать за это время – за два часа до отправки поезда?
Да что угодно – и давным-давно пора признаться себе в том, что теперь уже следует быть ко всему готовым. Например, прямо сейчас его может остановить вооон тот полицейский, ибо другой-мальчик-на-меня-похожий совершил некое страшное преступление – и портрет этого другого-мальчика разослан по всем полицейским участкам Стокгольма… Швеции, Европы, мира.
Он вспомнил, как во время одного из приездов в Москву у него украли портмоне – с деньгами, паспортом и даже обратным билетом. Самым жутким во всей истории (он, правда, ни с кем не обсуждал этого ее аспекта) было то, что нелигитимный теперь обладатель паспорта получил в свое распоряжение и точные сведения о дне и часе его отлета… Оставалось немного: прибыть в Шереметьево-2 к обозначенному времени, узнать законного обладателя паспорта по фотографии и, замочив-его-в-сортире, воспользоваться новым паспортом и билетом, а уж в Дании… В общем, находясь в Шереметьеве-2, он все время озирался по сторонам и не заходил в сортир до момента перехода в нейтральную зону.
Однако даже та ситуация была пустяковой по сравнению с нынешней, где не требовалось ни паспорта, ни билета – ничего, чтобы быть им. Даже и мобильного телефона не требовалось – звонить можно было с висящего у него на груди.
Долго, однако, не вибрировал мобильный… В «Исходящих» – масса не его звонков, в частности – маме и Тильде. А в основном – на неизвестные ему номера. Есть один неизвестный и во «Входящих». Пропущенный? Нет, состоявшийся. Причем разговор длился десять минут с секундами – понятное дело, без него.
1. Определить время для проверки.
Выберите пять-десять моментов в течение дня, когда вы будете проверять свое состояние. Этим моментам должны соответствовать обстоятельства, в какой-то мере похожие на сон. Всякий раз, сталкиваясь с чем-либо, напоминающим признак сна, проверяйте свое состояние. Проверяйте его при встрече со всем поразительным или неожиданным для вас, в моменты необычно сильных эмоций или при виде чего-либо, похожего на сон. Если у вас повторяется какой-либо сюжет сна, идеальными будут любые ситуации, напоминающие его. Например, если вас постоянно беспокоят сны, в которых проявляется ваша боязнь высоты, то проверку состояния следует производить, когда вы идете по мосту или находитесь на последнем этаже высокого здания. <…>
2. Проверьте свое состояние .
Почаще задавайте себе вопрос «Сплю я или бодрствую?» (не менее пяти-десяти раз в день) в ситуациях, отобранных вами на первом этапе. Не надо задавать его автоматически и так же бездумно отвечать, иначе подобным образом вы поступите и в настоящем сне. Понаблюдайте, нет ли вокруг чего-нибудь странного, что могло бы свидетельствовать о том, что вы спите. Вспомните в обратном порядке события последних минут. Вызывает ли это у вас затруднение? Если да, то вполне возможно, что вы спите. (Заимствовано из критической техники Толи) <…>
Лично для меня наилучшим тестом является следующий. Надо попытаться прочесть какой-нибудь текст, затем отвлечься и повторить попытку, чтобы проверить, не изменился ли он. В моих осознанных сновидениях написанное всякий раз как-нибудь менялось: например, слова становились бессмысленными, буквы превращались в иероглифы или что-нибудь в этом роде.
С равным успехом можно дважды посмотреть на дисплей электронных часов, если вы их носите: во сне они никогда не будут вести себя правильно. Обычно они вообще не показывают ничего осмысленного, хотя совершенно не исключено, что они покажут точное время сновидения . К сожалению, данный тест работает только с электронными часами, но не работает с механическими, которые показывают во сне время вполне правдоподобно. <…>
Проверка состояния – способ определить истинное положение вещей в том случае, если вы подозреваете, что спите. По мере накопления опыта вы будете тратить все меньше и меньше времени на выявление признаков сна; вместо этого ваши подозрения будут превращаться в осознание факта, что вы спите. Вы поймете, что возникшая у вас потребность проверить реальность окружающего уже сама по себе является достаточным доказательством того, что вы спите : в бодрствующем состоянии у вас не возникает подобных вопросов {27} .
Что там греха таить, Манон была с-ч-а-с-т-л-и-в-а.
Все это чушь – договоренность, не договоренность… а кроме того, кому, как не ему, и было нарушать любые договоренности? Договоренность и он – вещи несовместимые.
Манон пообещала себе выступить на славу, походить между столиками с полчаса и – приземлиться к нему… если хватит выдержки, то не в объятия. В конце концов, один раз в жизни она может и заговорить с посетителем: тут не Берлин, тут никто ее амплуа не знает – и люди, кстати, совершенно иначе, чем в Берлине, на ее подсаживание реагируют… определеннее. Например, поняв, что она не собирается отвечать, просто поднимаются и уходят за другой столик. В Берлине так никто не делал, и потому здесь, в Стокгольме, когда это случилось впервые, она почувствовала себя дурой: сидит одна за столиком, перед ней тарелки с рыбьими костями, пиво недопитое… зачем сидит, чего хочет? А те, что за другой столик перешли, чуть ли не пальцем на нее показывают и хохочут, отпуская какие-то шуточки на резиновом своем языке…
В общем, учитывая все это, можно и заговорить с ним – уже в зале: пусть подумают, что она проститутка, которая выбрала клиента. А потом у них – сколько-то часов или даже дней в Стокгольме! Интересно, он надолго? Хорошо бы навсегда… Последняя мысль испугала ее по-настоящему, и Манон – молча! – принялась ругать себя последними словами, причем, кажется, по-итальянски, что было совсем плохим знаком.
И вот она уже на сцене, и вот уже в зале – медленно (все силы собраны в кулак) смещаясь по направлению к нему: он смотрит на нее с улыбкой, перед ним бокал пива…
Улыбка? Пиво?
Нет-нет, всё, конечно, в порядке – отчего бы не улыбка и не пиво, в самом деле… она просто забыла его, они долго не виделись, вот и улыбка, вот и пиво – и Манон продолжает смещаться к нему, но вдруг останавливается и без сил опускается за первый попавшийся столик, справа.
Можно закрыть глаза на всё и со всем смириться, можно забыть что угодно и даже не винить себя в забывчивости, но нельзя, никак нельзя игнорировать улыбку и пиво, потому что… потому что так, вроде бы, не меняются люди, сколько бы лет вдруг ни прошло. Он терпеть не может пива, перед ним должен стоять один большой кофе со сливками, перед ним должны лежать два круассана, а смотреть на нее он должен серьезно и почти печально… откуда эта улыбка, он сроду не улыбался функционально! И – вот тоже глупости: она не забыла его, она помнит – всё, зачем же она говорит себе, что забыла?
И что-то еще более невыносимое есть в этом зрелище, что-то совсем невыносимое… вот оно, на нем нет шарфика! Теперь Манон готова уже смириться с улыбкой, с пивом – только пусть будет шарфик, шарфик не должен был отказать… все могло отказать – шарфик не мог.
Она, конечно, добралась до его стола, приняла позу «Любительницы абсента» – не думая, не выбирая… и смотрела прямо ему в глаза. Это те же глаза, она действительно просто забыла его, они отвыкли друг от друга, но они привыкнут опять!
– Ты без шарфика, – сказала Манон, тоже попытавшись улыбнуться – неудачно. Она не знала, что сказать еще. – И ты пиво пьешь.
– Шарфик улетел, – ответил он. – А пиво вкусное.
Разговор, то есть, зашел в тупик на первом же витке.
– Как ты живешь? – спросил он, когда молчание стало угрожающим жизни.
– Мне не успеть сейчас… рассказать – чтобы в двух словах. – Манон опять попыталась улыбнуться – и опять не вышло.
– Тогда не надо. – Он, похоже, улыбался без затруднений. – Потом расскажешь.
Теперь вот это вот «потом»… откуда оно? Никто же не знает, будет ли «потом».
Манон так и сказала вслух:
– Никто же не знает, будет ли «потом».
– Будет, – отозвался он. – Я знаю.
Стоп. Происходит что-то не то. Вопиющее не то.
– А у тебя вообще с собой шарфика нет? Может быть, в кармане – тонкий… хлопчатобумажный?
Он рассмеялся и покачал головой: не то это означало, что шарфика действительно нет вообще, не то – что дурочка она, Манон.
– Дурочка я, Манон, – повторила она, а он, словно его застали врасплох, вздрогнул и сказал-лучше-б-не-говорил:
– Ну почему же…
Так-так-так-так-так… – пропело сердце Манон и спросило что-то вроде как-же-теперь-быть.
– Заткнись, – сказала сердцу Манон, – сама не знаю.
И – вмиг (как только она умела) поменяла стол.
Теперь их разделял уже не один стол, а два.
Улыбка сошла с его лица.
– Ты куда? – крикнул он ей вслед одними глазами.
– Я – дальше… – Глаза ее потемнели.
– Почему?
– Потому что шарфика нет… шарфика, видишь ли, нет – ив этом большая твоя ошибка.
– Разве шарфик – это главное?
А он еще и поглупел: такие вопросы задавать…
– Я не знаю, что главное, – в глазах слезы. – Я не разлагала мир на составные части и не сравнивала их! Ты и шарфик были неразделимы.
Теперь между ними три стола.
– Ты вернешься ко мне? – надрывались его глаза.
– Я никогда не уходила от тебя!
Вот и хватит… Манон исчезла из виду – как, опять же, только она умела и как делала совсем редко: обычно отрабатывала свои деньги столько, сколько полагалось. Полагалось – час.
За маленькой сценой ресторана было большое нелепое помещение, заваленное всяким хламом: там переодевались артисты, отдыхали музыканты, туда уходили на перекур официанты… словом, помещение использовалось всеми сразу для всего сразу. Стоя у стены, отделявшей помещение от зала ресторана, Манон через глазок, не отрываясь, смотрела на того, случайной встречи с которым ждала каждую минуту вот уже четыре года.
Когда сегодня она – против обыкновения – ответила на звонок с неизвестного ей номера и услышала его голос, ее не смутило ни то, откуда у него ее номер, ни то, что он знает о ее стокгольмских гастролях, ни то, что сам он тоже в Стокгольме. Но вот она встретилась с ним – и задним числом смутилась от всего, от чего не смутилась своевременно… только дело не в этом: нашелся вдруг и гораздо более серьезный повод для смущения. Она почти не знала этого человека. Сейчас он смотрел прямо на сцену, казалось – прямо в глазок, и был незнакомым. Не чужим… конечно, не чужим, она любила его, но он изменился за эти годы. Очень сильно похудел. Очень сильно устал. Очень сильно постарел. Черты лица, и без того тонкие, истончились еще сильнее. И эта улыбка – теперь она разглядела ее и больше не имела ничего против улыбки: улыбка была растерянной.
Манон требовалось немножко времени – несколько минут, по крайней мере, чтобы разобраться с происшедшим… хотя разве что-то произошло? Наверное, Кит не видит в нем изменений: наблюдая его день за днем, слушая его, касаясь его, Кит меняется вместе с ним и не обращает внимания на перемены, происходящие в нем, происходящие в них обоих, – за этим и нужна семья… семья, или совместная жизнь, или просто постоянные отношения! Чтобы потихоньку стареть вместе, чтобы не ужасаться, как Манон: встретившись с ним через четыре года и не будучи в состоянии справиться с новым его… новым старым его образом.
Он что-то записывает – кажется, на салфетке… он и тогда в «Парадисе» все что-то записывал на чем попало.
Конечно, дело в шарфике, но неужели отсутствие шарфика может привести к таким ощутимым метаморфозам? «Разве шарфик – это главное?» – спросил он… почему она решила, что он поглупел? Нормальный вопрос, если вторая сторона только и говорит что о шарфике! Конечно, шарфик не главное… а что – главное? Главное как раз и есть, что она дурочка, эта Манон! Дурочка, даже не допускающая мысли, что и она могла измениться за четыре года. Что ему, скорее всего, видеть ее так же странно, как и ей – его.
Она повернулась к зеркалу и попыталась увидеть себя его глазами… какие же изменения произошли?
– Никаких! – вдруг беспечно сказала она себе и улыбнулась в зеркало. – Как была урод, так и осталась.
Надо бы найти Хайни и сказать ему, что на сегодня она уже отвыступалась. А потом забрать этого чудака-без-шарфика и отправиться куда-нибудь – к нему, ко мне, какая разница? Она не удивилась бы, если бы узнала, что они три дня живут в одной и той же гостинице.
Так и сделала: нашла Хайни.
Уже через полчаса они брели по улице, сопровождаемые стрекотанием колесиков его чемодана. Оказывается, он даже не успел еще найти гостиницу, только приехал. Да впрочем, и не искал.
– Потому что не надо было искать гостиницу, – объяснила Манон. – Будем жить в моей, номер хороший, с видом на старый город, устраивает?
– Вполне.
– Сколько у тебя дней в Стокгольме?
Он посмотрел на нее с интересом – и все так же улыбаясь… нет, ему положительно идет эта постоянно живущая теперь на его лице растерянная улыбка. И еще – еще от него пахнет сухофруктами, Манон только теперь нашла название этому сладковатому и вместе горькому запаху, не то чтобы окутывавшему его, но постоянно витавшему где-то рядом.
– Я… я не знаю. Но, по-моему, сколько угодно.
– Так не бывает, – сказала Манон и, зажмурившись, вдохнула сухофрукты. – Откуда этот… совсем хороший запах?
– Я, знаешь, теперь трубку курю… недолго совсем, табак такой – с добавкой чернослива. Нравится?
– Очень, – призналась Манон и прижалась щекой к его плечу. Потом, помолчав, добавила: —Я не знаю, что делать с этим твоим сообщением… ну, что ты можешь остаться в Стокгольме на сколько угодно. Наши гастроли – гм, явно последние здесь… они, видишь ли, не удались, никто не понимает ни основных номеров, ни чего я маячу между посетителями! – в общем, гастроли кончаются через три дня, и я возвращаюсь в Берлин.
– Значит, у нас есть три дня… без вечеров, – подытожил он.
– Но с ночами, – это была ее очередь подытоживать.
В общем, он был такой же и – не такой. Шарфик улетел – счастливого пути. Зато прилетел черносливовый запах… и еще неизвестно, что лучше. А пиво… – что ж, пиво хороший напиток, множество людей пьют пиво да наслаждаются, чего она, в самом-то деле?
– Я, когда увидела тебя, сначала испугалась, – призналась она. – Мне показалось, что всё не так в тебе… не так, как было. Мне показалось, ты другой, незнакомый. А тебе? Тебе что-нибудь показалось?
– Да нет… – и обворожительная, обворожительная все-таки растерянная улыбка, очень вдруг идущая сухофруктам. – У тебя просто волосы отросли. Тогда ты была лысая. А сейчас вот – бобрик… не очень такой… впечатляющий результат за четыре-то года.
– Бобрик? – И вот тут уже расхохоталась сама Манон: как она могла забыть такое? Как она могла, час назад разглядывая себя в зеркале, не заметить этого изменения… а сама все: шарфик, шарфик! Ее путь от прежнего него к настоящему всего-то и состоял в том, чтобы перепрыгнуть шарфик да пиво… да улыбку да сухофрукты, между тем как его путь к ней – через лысину в бобрик!., сколько размышлений потребовал этот путь?
– Мне надо много рассказать тебе, – предупредила она.
– А мне тебе… – не знаю. У меня такое впечатление, что со мной все по-старому. Почти по-старому.
Он поднял руку, останавливая заблудшее какое-то такси – жест лаконичный и точный, уж в этом-то Манон разбиралась. Она снова удивилась тому, насколько все теперь иначе. Тогда, в Берлине, ожидать от него такой скорости реакции на что-нибудь вокруг – вот хоть и на случайно выползшее из темноты такси – было бы безнадежно: даже если поймать такси оказалось бы единственным, за чем они вышли на улицу, он скорее всего и не заметил бы машины. А говорит, что рассказать о себе нечего… при стольких-то переменах! Такси вот не только заметил – остановил грамотно, просто к месту пригвоздил, и уже разговаривает с таксистом, жалко – по-шведски. Таксист кивает, что-то говорит в ответ, оба смеются, глядя на Манон – впрочем, вполне добродушно.
– Садись, – говорит он, – поехали.
Приходится тронуть его за рукав, заглянуть в глаза: «Минуточку… поехали – куда?»
Он же не мог сказать таксисту адрес, он не знает адреса!
И все возвращается снова: что он улыбается, пьет пиво, курит трубку, пахнет сухофруктами, шарфика нет… и вот – пожалуйста! – адрес ее гостиницы ему откуда-то известен, между тем как не назвала она ведь еще гостиницы, не успела.
Одной ногой Манон уже в машине, но вторая пока на асфальте – сделать шаг можно в любую сторону, только Манон не знает, в какую – страшнее. А он поддерживает ее под локоть – просто поддерживает, словно давая ей время принять решение.
– Откуда ты знаешь, как называется гостиница?
Только бы он не улыбался в ответ этой новой своей, растерянной своей улыбкой, против которой Манон совсем безоружна.
Но именно новой своей, растерянной своей улыбкой он и улыбнулся. А за улыбкой последовала безмятежная стайка слов:
– Я не знаю, как называется гостиница, с чего ты взяла?
– Разве ты только что не сказал шоферу, куда ехать?
Он внимательно посмотрел на нее – словно они не были знакомы.
– Нет, я просто спросил, не самой ли судьбой он послан сюда, в старый город, куда обычно не любят ездить таксисты. Он отчитался, что самой судьбой и послан. А адрес ему сейчас скажешь ты: я только пообещал, что это недалеко… ведь недалеко?
– Недалеко, – ответила Манон и вздохнула – насколько могла облегченно.
То есть не совсем облегченно – ибо полной ясности не было в ее сердце: все мерещился подлог какой-то, все казалось, будто забыла она что-то… пустяк какой-то забыла. И перед тем, как сесть в такси, Манон – просто на всякий случай – бросила взгляд назад, на пустую и почти темную улицу. С одним-единственным прохожим вдалеке.
Итак, мы имеем на оси эдукции (Э) субъективную структуру (Сс) и объективную структуру (Ос), которые встречаются и определяют мир романа (МР). В зависимости от того, лежит ли МР ближе к Сс или к Ос, он порождает три типа наррации, в которых принимают участие различные нарративные субъекты, начиная с формы, ближайшей к Сс (тип прустовского романа), и кончая формой, ближайшей к Ос (тип объективистского романа). Таким образом, абстрактный МР, определяемый встречей Сс и Ос в трех разных точках на оси эдукции (MPI, МР2, MP3), разрешается в динамизме структуры, в нарративном продукте (Н), смысл которого неразрывно связан с МР.
Однако очевидно, что МР не растворяется в Н так, что МР=Н, ибо между МР и Н всегда проходит время, необходимое для реализации, в течение которого нарративный субъект и его языковое сообщение приспосабливаются друг к другу. Нарративный субъект (С) претерпевает этот процесс, ибо его касается новый (и/или старый) опыт, а языковое сообщение, коммуникация (К) касаются его постольку, поскольку романист не только выражает себя в языке (в той или иной степени близком к разговорному), но и размышляет о нем, то есть оценивает его выразительность, исправляя и направляя эффективность своего сообщения в пределах собственно языковой условной системы (кода).
Вертикальная дистанция между МР и Н (разделенными временем реализации) обусловливает процесс Н (подобно тому как дистанция по горизонтали между Сс и Ос помещала МР на границе с реальностью) следующим образом: непрерывность С и К, исходящих из МР, нарушается, претерпевает наложения, интерференции, что обогащает (также и в смысле риторики и стиля) продукт Н. Все это, образуя системы соответствий и создавая равновесие, формирует Н, определяет форму Н как систему трансформаций, которая, будучи регулируемой одним принципом, обогащается за счет внешних элементов, подчиненных ее правилам {28} .
Курт всегда знал, зачем он появился в жизни этого русского человека.
Чтобы спасти.
Курт был сенбернаром, собакой-спасателем… самой практичной из собак. Где-то написано, что спасать – у сенбернаров в крови: их даже никто этому не обучает. Просто возникает в большой голове сенбернара мысль: пора спасать – и сенбернар идет на запах опасности. И спасает.
Приглашая русского человека в Данию, Курт не знал, от чего именно того пора спасать… может, и не было – от чего, но мысль «пора спасать» была. А такие мысли просто так не приходят.
– От чего ты тогда спасал меня, Курт?
Этот вопрос злил Курта, как злил бы и любого сенбернара, и он, как и любой сенбернар – допустим, спрошенный о том же – только ворчал в ответ:
– От чего, от чего… от всего!
– А от чего теперь спасаешь?
– От всего!
Просто Россия – это такая… опасная страна. Жить в ней опасно – так пишут в газетах. И так все кругом говорят – кто читает газеты, конечно, а другие Курту неинтересны. Вот и речь, значит, идет о спасении жизни… а жизнь, понятное дело, от смерти спасают – наверное, и он, Курт – от смерти.
И не мешай мне, дескать, тебя спасать. Потому что у меня это в крови.
Только русскому человеку жизнь, похоже, была не дорога. А дороги ему были всякие глупости, за которые Курт гроша ломаного не дал бы. Ему дороги были какие-то идеи… в основном, так сказать, крученые. Нет, существуют на свете, конечно, и хорошие, прямые идеи: равенство, братство, счастье, свобода слова, совесть… но ему, этому русскому человеку, от них ни жарко, ни холодно: ему подавай идеи крученые, верченые… он словно в густом лесу живет – ив лес к нему, хоть умри, не продерешься… а как спасать, когда не продерешься? Но Курт, понятное дело, продирался: для сенбернаров преград нет.
Ему и по сей день удается продираться. Продерется – и сразу спасает. Причем на каждом шагу спасает. Пострадавший – или как они там называются – те, кто погибает в горах и лесах, – сопротивляется и не хочет спасаться, но Курту это все равно. Нельзя же позволить пострадавшему умереть голодной смертью! А Курт был убежден: если питаться только одним большим кофе и двумя круассанами, наступит голодная смерть. Так что иногда Курт устраивает пиры. Пострадавший капризничает, но ест. Ну и так далее…
Хуже всего, что время от времени – слава Богу, нечасто! – возникают совсем какие-то странные ситуации, когда сам пострадавший считает, что его нужно немедленно спасать, а Курт – не считает. Пострадавшего, например, вдруг потребовалось спасать, даже странно сказать от чего: от непонимания слов «Schnipp-Schnapp-Schnorrum», на которых его заклинило… тоже мне, повод. Это же как дидль-дадль-дудль… тут нет другого смысла, кроме дидль-дадль-дудль! Есть такие слова – к счастью, мало их, – которым в жизни ничего не соответствует: дидль-дадль-дудль – и всё, сказал – и забыл. Но как же они все-таки играли тогда, в немецком детстве, в эту игру, Schnipp-Schnapp-Schnorrum, вот незадача… сначала все что-то должны были делать, а кто-то один – делать что-то еще, и в результате определялся победитель, который… которому удалось… которому удалось то, что другим не удалось… вроде так.
Тут самое невыносимое – уровень ответственности… да при Куртовом-то педантизме: когда пострадавший ведет себя так, будто на карту судьбы мира поставлены, то есть не найди Курт в памяти своей хоть и вот этой вот детской игры, лет шестьдесят, небось, назад из сознания улетучившейся, – конец всему.
Вот незадача-то где.
Значит, кто там у него, в детстве…
Мадлен.
Урсула.
Мартин…
Клаус – так его звали?
Их обычная компания на заднем дворе, военные дети. У них же ничего не было, мячика и того не было, во что они – голодные, одетые черт-те как – могли тогда играть? В «Ringlein, Ringlein», вот: требовалось угадать, у кого в сомкнутых ладонях теперь Ringlein… В «Alles fliegt hoch» – эту игру он тоже помнит: надо было сначала говорить «Alles fliegt hoch», потом поднимать руки, если тут же произвольно называемый кем-нибудь предмет действительно мог летать… самолет, там, или вертолет, но если предмет летать не мог – скажем, стол или стул, а кто-то второпях все равно поднимал руки, он выбывал из игры. Курт все время, кстати сказать, выбывал, потому что для него предпосылка « Alles fliegt hoch» просто-напросто навсегда исключала наличие в мире не летающих предметов.
Да-да, вот оно: предметы… их игры чаще всего велись вокруг случайных каких-то предметов, валявшихся на заднем дворе: ничего другого в их распоряжении не имелось.
Предметы раскладывались прямо по земле… зачем? Может быть, это и было – Schnipp-Schnapp-Schnorrum?
Курт проинспектировал все свое детство, облазив такие уголки, о которых и не подозревал, и наткнувшись на такие воспоминания, что сердце чуть не остановилось. Через пару дней пришел счастливый: вспомнил!
– Значит, так, слушай: предметы раскладывались по земле… разные предметы, какие там были, а какие там были… ну, мебели старой обломки, посуда битая, алюминиевый чайник без носика… Потом один из игроков отворачивался – водил, остальные загадывали какой-нибудь предмет, а потом – молча, знаками – показывали водящему его назначение. И тому нужно было угадать – чем быстрее, тем лучше. Если водящий называл неправильный предмет, все хором кричали: «Schnipp!» – и это означало промах, ошибку, а если правильный, то кричали «Schnapp!» Побеждал тот, кому больше предметов угадать удавалось. Уф…
Реакция на откровение была пресная:
– И всё, Курт?
– И… всё.
– A Schnorrum? A Rex Basilorum?
– Такие птицы мне неизвестны.
– Но ведь Schnorrum и Rex Basilorum – они же и есть самое интересное!
Курт помнил, что даже обиделся минут на десять, – на больше он не мог. И десять минут спустя опять завел свою песню: в дидль-дадль-дудль, дескать, тоже нет никакого другого смысла – только сам дидль-дадль-дудль!
– Не дуйся, дидль-дадль-дудль, – сказал ему пострадавший. – Тем более что Schnorrum и Rex Basilorum из твоей головы прибыли – не из моей. В моей никакого шноррума и рекса базилорума сроду не водилось: там рядом со «снип-снап-снурре» только «пурре-базелюрре» лежало! Так что как Schnorrum, так и Rex Basilorum тебе в твоей собственной голове искать надо…
– Буду искать, – сдался Курт, поняв справедливость притязаний.
И стал искать.
Но никаких понятных следов ни Schnorrum, ни Rex Basilorum не было в его памяти…
Хотя Rex Basilorum – это, скорее всего про басилевса… архонта-басилевса, причем в некоем латинском падеже – родительном… множественного почему-то числа. Хотя Бог с ним, с падежом, – вспоминается, что кем-то, вроде, еще он был, этот Басилевс – раньше, в Микенскую, что ли, эпоху… грифоном он был, оберегающим золото, символом мудрости, вот кем! Не шутки, значит… Хотя при чем тут все это – Курт не постигал: не туда вела его память. Потому что никакого Rex Basilorum не могли они знать детьми: больно уж сложно… Только тогда каким же ветром занесло Басилевса в его сознание – и что он там, невостребованный, все время делал, пусть и основательно спрятавшись?
Очевидно было одно: копаться следовало не в детстве, а во всей жизни – и с учетом того, что немецкая жизнь его кончилась вскоре после недолгого периода, именуемого странным словом «отрочество».
Раскопки были долгими: пока изо всех щелей не начали ползти какие-то пугающие воображение змеи – наподобие, вот… schnippschnapppschnurr, schneppepepper, schnipfenschnap, stripstrapstrull, schlippschlappschlürr. Ничего хорошего все это не обещало, Курт убоялся такого количества змей (с рептилиями – несмотря на их причастность к живой природе – у него были натянутые отношения) и постыдно бежал из отрочества.
Потом как-то раз к нему пришел пострадавший и начал задавать просто уже немыслимо странные вопросы.
– Кто все-таки из нас немец, Курт, ты или я?
В глазах Курта вопрос этот не имел большого смысла, но Курт все-таки ответил:
– Из нас двоих немец я… но повторяю еще раз, для принца Кнуда: немецкой крови у меня полкапли.
Интересно, почему ему, Курту, всю жизнь приходится отстаивать свое скандинавское происхождение? Мало ли кто где родился и рос…
– А выглядит так, будто немец – я, а не ты!
– Так оно и для всех выглядит, – опять не солгал, помнится, Курт. – У тебя даже акцент в датском – немецкий.
Это была маленькая месть: Курт понимал, что наносит удар ниже пояса… правда, сантиметра на полтора только ниже.
– У меня из-за тебя немецкий акцент, – был, сразу очень возбужденный, ответ. – Датскому прежде всего ты меня учил, вот я твой акцент и перенял! Так что не тебе меня в этом уличать… пардон, конечно!
– Да не хорохорься ты, ладно, – пошел на мировую Курт, – это я просто к тому, что ты тоже ведь в каком-то колене немец, сам говорил… да и видно оно, в конце концов! А почему именно в данный момент стало важно, кто из нас немец?
– Потому что немецкие дети сызмальства играют в одну карточную игру… – В глазах – торжество, причем торжество над ним, бедным Куртом. – Заметь, карточную игру, а не просто игру, и называется игра – Schnipp-Schnapp-Schnurr!
– Это кто ж тебе сказал, что немецкие дети сызмальства в карты-то играют? Мы не играли… у нас и карт никаких не было. И потом, родители мои, увидь они у меня карты в руках, под домашний арест бы меня посадили: у нас в семье в карты вообще не играли… презирали карты!
Еще не договорив этого, Курт вспомнил всё. Да конечно же: Schnipp-Schnapp-Schnorrum-Rex-Basilorum – это уже на границе отрочества, это уже гимназия! Тогда-то он и услышал Rex Basilorum, который теперь, сказать по совести, один интересовал его в сем бесконечном ряду речевых несуразностей.
В общем, так: однокашники Курта, было время, то и дело дулись в эту игру, из их словаря и залетел в его сознание Rex Basilorum… только тогда Курт даже и не озаботился тем, что оно могло бы значить, потому как сам в карты в детстве и отрочестве не играл, да и потом не играл никогда. Но вспоминалось, что игра, вообще-то говоря, была страшно заразная… может быть, если положить руку на сердце – положить? – и сам он все-таки сыграл в нее пару раз, однако поручиться за это сейчас не мог бы и совершенно не помнил ни как в нее играют, ни всколькером, ни чем игра кончается – ничего!
– А какие там правила были? – сугубо из вежливости поинтересовался Курт, понимая, что это ему низачем.
– Почему же «были»-то? Еще и сейчас все в Schnipp-Schnapp-Schnurr играют… говорю тебе: популярная детская игра. Но правил я пока не выяснял.
– Ты, что же, хорошо в картах разбираешься?
– Я? Господь с тобой! Я даже названий мастей не знаю. Играл когда-то, по молодости, в дурака, но сейчас, наверное, и как в дурака играют, не вспомню.
– Ну вот, сам – и то не помнишь, а меня упрекаешь! Хотя мне-το как раз вспоминается кое-что, но что конкретно вспоминается… дурацкая это игра была и элементарная совсем. А чего ты вообще-то к картам привязался? Начиналось все, насколько я помню, вполне мирно – со сказочной формулы андерсеновской… и вдруг – на тебе: карточные игры!
– Да не пользовался Андерсен этим как сказочной формулой! Snip-snap-snurre-bassilurre только в речи Маленькой Разбойницы один раз и мелькнуло, причем, как бы это сказать… проходным совсем образом, уже чуть ли не в эпилоге «Снежной Королевы», я всего Андерсена от корки до корки пролистал. Вот snip, snap, snude, så er historien ude y Андерсена не один раз встречается, – но оно ведь не андерсеновское, оно в датском фольклоре как таковом гуляет…
– В датском фольклоре как таковом и много чего другого гуляет! Tinge-linge-later есть, kuk-kuk, kuk-kuk fallera есть… даже kom-fal-ri-de-re-de-ral-la! Надо же тебе было именно к snip-snap-snurre привязаться… что тебе в snip-snap-snurre, скажи ты мне, ради Бога, по-человечески!
– Сообщение там, Курт, я говорил… в том числе и по-человечески говорил, ты забыл просто. Со-об-ще-ни-е. Персонально мне сообщение, оно в детстве было послано, через одного актера-драматического-театра, который для того, небось, в моей жизни и возник… а что слова значат – и в детстве непонятно было, и теперь непонятно!
Курт тогда совсем глубоко вздохнул и сказал – видит Бог, через силу сказал:
– Есть психическое расстройств, я про него читал где-то и раньше помнил даже название… – когда людям кажется, что внешний мир постоянно посылает им закодированные сообщения, которые необходимо прочесть. Такие люди пробуют, например, выстраивать все газетные заголовки на одной полосе в якобы связный текст – и пытаются уловить message, направленный непосредственно в их адрес. А другие – они вывески читают как-то по-особому… задом-наперед, скажем, чтоб якобы закодированное сообщение раскодировать. Третьи разлагают слова на части и части переставляют: ищут, стало быть, в словах значения, которые словам этим не присущи и не могут быть присущи… У тебя, часом, не расстройство психическое?
Курт до сих пор помнит ответ – жуткий такой ответ, совершенно прямой. Безжалостно прямой – что так, дескать, оно все и есть, бесценный мой Курт! Мир вокруг нас действительно полон самых разнообразных сообщений – некоторые адресованы сразу всем, другие – кому-то конкретно, причем сообщение может прийти откуда угодно: из газеты (и не обязательно группировать заголовки), с вывески (и не обязательно переставлять буквы), из случайно подслушанного на улице разговора, с граффити, увиденного из окна автобуса, с надписи на пачке сигарет… И если, бесценный мой Курт, считать такую точку зрения признаком психического расстройства, тогда, например, Китай – определенно страна психов! Ибо китайцы, коли верить историкам (а ты ведь веришь историкам, бесценный мой Курт?), издавна искали гексаграммы И-Цзин вокруг себя: в рисунках на панцире черепахи, в трещинках на посуде, в кладке мостовой… и, находя, строили по гексаграммам этим жизнь, предварительно выяснив толкование штрихов. Так почему же, дескать, быть внимательным к гексаграммам вокруг – не психическое расстройство, а быть внимательным к словам – психическое расстройство? Нет вокруг нас случайных слов! Любое прозвучавшее слово уже повлияло на все будущие слова сразу, ничего не может быть произнесено без последствий, а написано – и подавно. «Wer schreibt, der bleibt».
– Это что еще за мудрость такая немецкая? – спросил тогда Курт.
– Это мама твоя мне однажды сказала… Заглянула среди ночи на кухню, где я сидел и что-то писал, вздохнула и сказала: «Schreibst du noch? Gut… wer schreibt, der bleibt».
Курт еще подумал, что надо бы поговорить с мамой: не подливала бы хоть она-то масла в огонь, – да так и не поговорил, не успел…
А признаки психического расстройства, тем не менее, оказывались налицо… по мнению самого Курта, конечно, – так что он тогда, времени не теряя, сразу завозражал, начал кипятиться, предложил к обсуждению любимую свою категорию, категорию вчитывания…
Дескать, все беды человечества – и перестань, пожалуйста, называть меня «бесценный-мой-Курт»! – суть результат именно вчитывания: сумасшедшее человечество вчитывает свои смыслы в… во все, что читает. Написано о чем-нибудь – так об этом бы и читать, ан – нет, мы ищем тайных смыслов, мы не верим тому, что под рукой лежит! Сознание наше строит энигмы из простейших высказываний типа «стоят холода»… – вот тебе и намек на политическую, дескать, стагнацию! Но, господа хорошие, «стоят холода» значит только, что температура ниже нуля, остальное вы придумали! Посмотрите-на-птиц-небесных, учил Иисус: они не сеют, не пашут… или как там, ну ладно, я не об этом, я о том, что птицы небесные не строят энигм, они поют без подтекста! Как Бог научил, так и поют, и каждая их песня есть правда, сущая правда – и ничего больше!
– Верифицируемая? – последовал неприятный вопрос.
– Ве-ри-фи-ци-ру-е-ма-я! – крикнул Курт по слогам, хоть почти никогда и не кричал, особенно – по слогам. – Мною– верифицируемая!
– …и Франциском Ассизским, – ответило эхо.
– И Франциском Ассизским! – подхватил Курт в запальчивости. – Песни, птичьи песни – это верифицируемая нами правда, ибо каждая песня сообщает ровно столько, сколько… сколько Бог на душу положил! А Бог на душу много не кладет, Бог помнит: душа дело хрупкое. Он что на душу положить может – ну… «Опасность!»… или, там, «Не приближайтесь!», или «Сиди спокойно, я вернусь» – но это максимум. А мы и в их песни свои смыслы вчитываем: послушай-послушай-это-настоящий-гимн-весне… – что за чушь собачья, в самом-то деле? Не знаешь языка птиц – не лезь, не вчитывай в песню ничего своего, она и без тебя хороша, лучше язык выучи – и понимай столько, сколько сообщено тебе! Всё от незнания языка происходит, от неумения пользоваться словами, от непонимания точных значений слов.
Тут наш русский, помнилось Курту, рассказал какой-то анекдот… русские всегда рассказывают массу идиотских анекдотов, обычно ни к селу, ни к городу – полагая себе, что анекдотами этими иллюстрируют актуальные речевые ситуации, хотя обычно связи с актуальной речевой ситуацией нету вовсе! В общем, анекдот был, как обычно, бессмысленный: про некую старушку, у которой на двери сарая написано то или иное слово из трех букв… что за слово, Курт, конечно, так и не понял, он же не говорит по-русски… между тем как в сарае вовсе даже дрова лежат.
Вот, значит.
Ну и… при чем тут это все – сарай, непонятное слово из трех букв и дрова? Сколько букв в русском слове «дрова», Курт так и так не знает, но, если слово не отсылает к тому, что лежит в сарае, это само по себе уже и доказывает: слово употреблено в неправильном значении… о чем Курт как раз и говорит, понятно ведь!
Короче, поцапались немножко… Русский кричал (он, правда, всегда кричит, так все русские разговаривают), что Курт индоктринирован – газетами своими, стало быть, индоктринирован, правдой газетной индоктринирован, которая самая настоящая ложь и есть, потому как зависимость тут только одна: чем более правдоподобно выглядит история, тем больше фальсифицированы факты. Документальные истории суть самые лживые! Каждая дата на месте, каждое имя указано, ни одна деталь не забыта, ничто не утаено – бесценный-мой-Курт, это же как раз первые признаки лжи и есть… И только такой милый, такой славный, такой чистый человек, как ты, может этого не видеть, может не понимать, что газетный текст – да и любой текст, Курт! – транслит: на поверхности одно, внутри – другое, не верь, не обманывайся, не-пей-из-лужицы-станешь-козленочком…
– Это ты про Россию, я так понимаю, – как мог на тот момент язвительно встрял он, «ax-милый, ах-славный, ах-чистый Курт!» – у нас в Дании свободная пресса!
В ответ – тихий смех, горький смех… дурацкий, черт возьми, смех!
– «Честность» и «пресса» – неважно, «у вас в Дании» или еще где-нибудь… где бы то ни было! – это антонимы, ибо противоположны по смыслу понятия, к которым они восходят: «правда» и «текст». Сама избирательность письма есть залог обмана: всех ведь подробностей никогда не опишешь, а сущность так и так ускользает – то есть на поверхности одни глупости остаются! Написать – значит обмануть.
Вот это, последнее, Курту запомнилось навсегда, и не было дня, чтобы оно не возвращалось к нему в том или ином виде – к нему, который не мог уже, не хотел уже… который не желал уже учиться чему бы то ни было, хватит, поздно: и того, что узнал, не унести с собой. Ан прозвучало «написать – значит обмануть» – и нет с тех пор ничего в голове, пустая голова, с чем приду туда… куда мы приходим?
Написать – значит обмануть.
Это было больше, чем кристальное сознание Курта, постоянно проверявшего слова жизнью, постоянно испытывавшего слова на прочность, оказывалось способным вместить.
И это было хуже, чем их с Торульфом телефонное противостояние – какая, дескать, из реальностей, вербальная или действительная, первична. Лично было ему суждено Торульфа всего раз встретить, но, похоже, не суждено уже с ним было расстаться: они звонили другу часто и с удовольствием, несмотря на то, что разговоры эти доводили обоих до белого каления. Курта, европейца до мозга костей, бесила норвежская Торульфова провинциальность, все еще помраченная поздним постмодернизмом, который, по мнению Курта, годился лишь в качестве одного из заблуждений юности, в то время как Торульфа удручал Куртов столичный позитивизм…
Ах да Бог с ним, с противостоянием… – оно ничто в сравнении с «написать значит обмануть». Ибо, каким бы отчаянным ни было его противостояние Торульфу, жили они в одном и том же мире – только по-разному заходя в него: Торульф – со стороны слова, он, Курт, – со стороны факта. А тут… тут не было одного мира, тут миров оказывалось два, причем совершенно независимых друг от друга. Двух миров, особенно – независимых друг от друга, Курту (он предполагал, что Торульфу тоже) было многовато, ибо два мира означало две правды, а правда – одна!
– Одна, Курт? Только одна?
Нет, ну зачем же так интонировать, словно Курт от рождения идиот? Впрочем, на психов не обижаются.
И Курт свернул тогда беседу… на какой-то, вроде бы, даже примирительной ноте: дескать, что газеты и вообще средства массовой информации нас индоктринируют, – этого кто ж не понимает? Любой криминальный сюжет внушает: иди и укради, иди и убей, потому что так все делают, но это влияние другого рода, это сообщение, которое на поверхности лежит… Вот с этим и станем бороться – чтобы поверхность была чистой . А вчитывать в текст свое собственное мировоззрение и потом выдавать свое собственное мировоззрение за содержание текста… будем рассматривать это как предосудительную речевую практику. Так что ты, дескать, не волнуйся, ибо ничего, ни-че-го не содержится в Schnipp-Schnapp-Schnorrum-Rex-Basilorum – ровным счетом ничего, что относилось бы лично к тебе, не содержится в Schnipp-Schnapp-Schnorrum-Rex-Basilorum… или как оно там у тебя по-русски звучит!
– Так же оно, собственно, и по-русски звучит…
– Но ведь буквы-то другие?
– Буквы, конечно, другие, только здесь это неважно, звучит так же. Почти так же. Тут тоже транслит употребляется: снип-снап-снурре-пурре-базелюрре, или вот… хоть и шнипп-шнапп-шноррум-рекс-базилорум. То есть на поверхности русский, а внутри – немецкий.
– Как у тебя, – подытожил было Курт, не разобравшись, но тут же и исправился: – Нет, у тебя наоборот.
– Наоборот, – ответило эхо.
Ответ был правильным.
Потому что время шло, потому что многое менялось, но чисто внешними оказывались изменения: вот же, стоило только Курту с этим всем-датчанам-датчанином всерьез разговориться, так, чтобы по-настоящему, на час или два, – и всем-датчанам-датчанин превратился не в иностранца даже, а в этого, как его… чужеземца, да что там чужеземца – в инопланетянина! Которого Курт даже побаивался, поскольку вдруг начинал ощущать ускользание из-под ног почвы и переставал понимать, есть ли ему, Курту, место в этом разговоре или нет уже. Казалось – что не было… встроиться не было куда: места-то много, но все вокруг чужое – и одиноко Курту.
Словно в лесу.
Глухом таком русском лесу… который называется «чаша». Нет, не «чаша» – «чашша» он называется, да и неважно, как называется! Транслит. Translit. На том и закончился тогда, много лет назад, тот незабываемый разговор.
А вот прямо сейчас – голова у Курта болела. Он уже и панодил выпил, и кодимагнил… Плюнул, налил себе кофе, белый халат накинул махровый, знобит, стал в окно смотреть: нет, ну до чего ж тут унылый вид из окна-то! Крыши домов видны, госпиталь виден – во-о-он, красный огонек мерцает, это для вертолета, если на вертолете кого-нибудь доставят: на крышу, значит, а там – на носилки, ну и вниз, в преисподнюю самого госпиталя… Веселенький ход мыслей, ничего не скажешь.
Курт вспомнил Ютландию: ах, то ли дело, господа! В окна чуть ли не рыбы хвостами били, выйдешь на балкон – весь порт как на ладони, чайки (хоть и неприятные птицы, не было у него среди них больших друзей), корабли… он постепенно научился узнавать корабли, как-то они там назывались каждый – да вот, забылось. «Бред, ни одного названия не помню!» – сказал он себе, и захотелось ему плакать, даже слезы уже выступили, но он не плакал, он смотрел в свои слезы, как в бинокль, и видел порт, чаек (Бог с ними, пусть), корабли, да… и – секундочку – различал названия, кто тут говорит, что он их забыл, ничего он не забыл!
Да, он человек-который-был-четвергом, но и по четвергам случаются дорогие воспоминания.
Зазвонил телефон: Курт-это-Кит-сними-трубку-я-знаю-что-ты-не-находишься-в-Ютландии!
Он снова посмотрел в окно и усмехнулся: как же не в Ютландии, когда в Ютландии? Во-о-он корабль – и мы с ним знакомы… это «Svea Viking»: привет-привет, «Svea Viking», давненько не видели-и-ись!
И вдруг – мысль, короткая, ясная и неуместная: Rex Basilorum – это никакой не архонт-басилевс, это Царь царей, очевидно же! Schnipp-schnapp-schnorrum-Царь-царей… вот. И – ничегошеньки не понятно.
Далеко не удивительно, что два человека – да хотя бы и сто, и тысяча человек – носят имя Карл Мюллер. Но если оба вдобавок собираются в одной и той же компании или открывают адвокатские практики в одном и том же городе, на помощь призываются римские цифры, один и два. А посадят кого-то из карлов мюллеров в тюрьму за убийство с ограблением – дюжина прочих носителей этого имени тут же спешит сделать заявление через газету: мы, дескать, не только не то же самое лицо, но даже и не родственники убийцы и грабителя, так что продолжайте и дальше доверять нам как себе, поскольку мы-το не убили ни единого человека.
Впрочем, я мог бы поделиться и случаями еще более странных совпадений – тех, с которыми встречался сам. Например, прибыв однажды в Таормину в необычное для меня время, я оказался единственным постояльцем большой гостиницы (поганое, кстати, ощущение, когда посетитель, затерянный в огромном зале ресторана, ежедневно вынужден в одиночестве заглатывать пищу и когда даже официанта приходится выколдовывать из пустоты постукиванием вилки о край тарелки), пока наконец не прибыл второй постоялец – господин моего возраста. Будучи поселенным по соседству, он должен был делить со мной просторный балкон, на который выходили двери наших номеров, но это еще не самое удивительное – самое удивительное в том, как он в первый вечер представился мне, сказав: «Моя фамилия Рот», – после чего я, уже предвкушая комичность ситуации, серьезно и сдержанно поклонился ему и тоже сказал: «Рот», – растягивая удовольствие от наслаждения предлагаемыми обстоятельствами. «Именно, Рот», – дружелюбно произнес господин, явно ничего не подозревая: он, понятно, всего лишь подтверждал тот факт, что я понял его правильно. Я дал ему время еще немножко помучиться, и в конце концов он, уже несколько раздраженный, побуквенно написал мне свою фамилию, только после этого комедия ошибок разрешилась нашим с ним смехом.
А однажды случилось мне постоять у моего собственного надгробия: жутковатое ощущение, должен сказать. Одетые в траур, мы хоронили одного из друзей и образовали очень широкий круг возле его могилы: некоторым из нас даже пришлось наступать на соседние участки. И тогда я увидел, что на могильной плите, к которой я прислонился, стояла надпись: Доктор Ойген Рот. А поскольку, если верить адресной книге, я – среди доброй сотни соотечественников, носящих фамилию Рот, – единственный доктор и единственный Ойген, это меня, мягко говоря, задело… {29}
Так чего ты боишься, Торульф?
Вопрос этот Торульф задал себе самому – напрямик, на горной тропе. И вслух ответил: я боюсь всего.
Его собственная мистика покоилась – хоть и довольно беспокойно покоилась – на том, что она не касалась преобразования людей. Она касалась преобразования слов – преобразования слов в события. В этих событиях, понятное дело, участвовали и люди, но влияние здесь шло только в одну сторону: от слова к событию, от события к человеку.
В событиях заложена логика слов, говорила его мистика. Рождение человека предполагает… значит, как это по порядку… рост человека, взросление человека, старение человека, умирание человека, новое рождение человека – и опять вперед, по цепочке слов: только вперед, никогда – вбок. Ему всегда было смешно слышать заявления вроде мы-в-ответе-за… – мы ни за что не в ответе. Есть вербальный сценарий – и есть действующие лица, каждый раз требующие исполнителей, которые могут быть либо более или менее строптивыми, либо более или менее податливыми, но ни один исполнитель не в силах изменить сценарий, ибо сценарии пишутся не здесь. И туда, где пишутся сценарии, где действующим лицам даются имена и где закладываются отношения между ними, нет доступа исполнителям. Исполнитель, задумавший сломать сценарий, ломает лишь самого себя… тогда на место соответствующего действующего лица просто назначается новый исполнитель, менее революционный и более уважительный к правилу целостности. Ибо правило целостности есть единственное правило, управляющее всем вокруг. И ни один волос не упадет с головы… – дальше понятно.
Торульф не был особенно религиозным человеком – в том смысле, что его, вообще говоря, никогда особенно не интересовал главный режиссер: не моего ума дело, – любил говорить Торульф. Его интересовал только сам сценарий, и Торульфу казалось, что постепенно он уже изучил все его перипетии и может худо-бедно ориентироваться в нем. За этим, полагал Торульф, он и жил свою жизнь: разобраться в сценарии, чтобы заранее знать содержание следующей сцены. Исполнить ее можно было по-разному, единственное, что запрещено, – это исполнить ее вопреки сценарию. То есть, одного и того же результата допустимо было добиться смехом или слезами, бунтом или покорностью, самостоятельно или с чьей-то помощью… Торульф, с почтением кивая на буддизм, считал себя кем-то вроде адептов прямого пути – человеком, принимающим вызов судьбы и не тратящим время на обременительные тактики. Он понимал, когда долгий плач имело смысл заменить коротким смешком, продолжительный приступ смеха – одной-единственной слезой, годы покорности – дерзким сиюминутным решением, многолетнюю активность – мигом кротости… Если цель каждого действующего лица – держать сценарий, тогда… тогда сценария лучше не раскачивать.
Торульф знал за собой одну большую слабость: он презирал терпение как тактику поведения. Проявление терпеливости было для него свидетельством глупости, свидетельством незнания или непонимания сценария, то есть свидетельством неподготовленности к жизни и, в конечном счете – порчи материала бытия. Он приучил себя думать, что благодеяние и грех суть равноправные тактики личности, если кратчайшим путем ведут ее к совершенству. Он приучил себя не судить о поступке ни по его моральной подоплеке, ни по описывающим этот поступок словам. Он приучил себя, наконец, понимать высокий смысл любого тактического решения, обеспечивающего соблюдение правила целостности. Несмотря на кажущуюся небезупречность этой философии – или этой мистики, – Торульф находил ей, по крайней мере, одно серьезное оправдание: данная философия, или мистика, определяла его и только его отношение к жизни и не предназначалась для пропаганды. Он понимал, что, попав в неправильные руки, система его взглядов отнюдь не обязательно дала бы положительный результат. Потому и учеников никаких сроду не заводил, а наедине с собой даже не считал возможным передачу своей мистики кому-нибудь еще, рассматривая ее как продукт сугубо индивидуального пользования. До тех пор, пока в жизни его не возник Эйто… По всем признакам, его привлекала только и исключительно Торульфова мистика.
Отвечать за кого-то было для Торульфа непривычным делом. Он старался построить свою жизнь таким образом, чтобы избежать ответственности за чужие судьбы. Музыка Торульфа, главная его страсть, проходила по касательной к словам, а стало быть, и к любой жизни, тем и была хороша. Играя на органе во время богослужений, он вполне отдавал себе отчет в том, что посредством музыки разговаривает с людьми, а музыка не предупреждает, не советует, не отрицает и уж во всяком случае, ничему не учит, а только окрыляет нас. И, окрыленные, мы взлетаем над жизнью, начиная видеть сценарий во всех его монументальных пропорциях, а какое там место найдет себе в этом сценарии каждый из нас – дело каждого из нас.
Однако Эйто не интересовался сценарием – он интересовался опытом Торульфа. На фоне этого интереса любой поступок Торульфа приобретал дополнительное – Торульфу казалось, что излишнее! – измерение, ибо старый Торульф не желал служить никому моделью и – со-про-тив-лял-ся. Только сопротивляйся или нет, а русскому, видимо, позарез был нужен опыт Торульфа… настолько позарез, что иногда Торульфу мнилась вдруг всякая ерунда вроде того, что и послан-то он в этот мир, чтобы служить передатчиком некоего сообщения – причем на языке, которого он, черт возьми, даже не знает! – одной душе, одной конкретной душе… чтоб ее, эту душу. А больше, стало быть, ни на что и не годится Торульфова жизнь. И не то чтоб он возражал… но языку-το, на котором сообщение передавать надо, его, Торульфа, могли бы, по крайней мере, научить?
Впрочем, именно сейчас Торульфа занимало другое: кажется, учеников становилось больше… Пока – на одного больше, поскольку людей, звонящих ему с того же самого номера телефона, двое, тут Торульф готов был землю есть, ибо в таких-то уж вещах он не ошибался. Звонящие были вербально похожи друг на друга как две капли воды – единственная область, в которой замечалось различие: область жизненных тактик. Первый, собственно Эйто, был носителем открытой тактики: он легко допускал существование «другого такого же». Второй, Эйто номер два, со всей очевидностью, не считал себя результатом деления образа и разговаривал с Торульфом так, словно был единственным обладателем права на целое, демонстрируя присущую большинству из смертных герметичность личности. Торульфу было жаль – первого, но он с ужасом ловил себя на мысли, что как только у того пройдет ощущение новизны ситуации и он перестанет поминать второго, различить их будет уже невозможно, ибо наши жизненные тактики отнюдь и отнюдь не всегда выходят на поверхность, становясь – словами.
Между тем, проявляя обычно не свойственную ему настойчивость (расскажи-маме-правду, расскажи-маме-правду, расскажи-маме-правду), Торульф теперь знал, что процесс, свидетелем которого его сделали, необратим. Ибо давно уже нельзя рассказать-маме-правду: у того, что все еще называет правдой он, Торульф, нет больше признаков правды и нет свидетелей. Правда не есть то, что действительно имеет место быть, – правда есть то, чему находятся свидетели.
Может быть, Эйто и в самом деле едет через Германию? Может быть, зачем-нибудь ему нужно, чтобы все – он, Торульф, Кит, Курт и… кто там еще – пребывали в заблуждении относительно подлинного его маршрута? Может быть, он и звонит только затем, чтобы повести их по ложному следу… а зачем ведут по ложному следу? Торульф остановился у нового подъема – осилит или нет? – и произнес вслух: «По ложному следу ведут затем, чтобы потом никому не найти».
И Торульф понял, что не осилит нового подъема: сердце стучало теперь почти в горле. Надо вернуться домой. Вернуться и позвонить ему… или кому-нибудь из них – чтобы, не полагаясь на слова, произносимые исполнителями и не давая сбить себя актерским мастерством, по каким-нибудь косвенным признакам попытаться осмыслить функцию действующего лица, причем осмыслить структурно, и понять суть сцены, а также ее место в составе сценария.
Его не интересовало, что здесь правда, что ложь и какая из тактик более морально-состоятельна, – его интересовало только одно: почему на сцене два состава и куда смотрит режиссер. Или, если оставить в стороне режиссера: какая из двух тем – ведущая.
И Торульф вернулся домой.
– Это Торульф. Я неспокоен. Где ты в данный момент?
– Я не знаю. И, по-моему, у меня садится телефон.
– Ты можешь позвонить мне из автомата?
– Могу, только сначала надо найти автомат. Я пока не видел ни одного.
– Тогда позвони из любого кафе, там же всегда есть телефон… был в прежние времена.
– Я попробую…
– Из первого же кафе, которое увидишь.
– Что-нибудь очень срочное? Новости?
– Нет. Скорее, размышления. Береги мобильный для мамы. Я жду твоего звонка.
«И ничего не предпринимай», – хотел сказать Торульф, но не сказал: так далеко его власть на Эйто не распространялась. Ни на одного из них.
Торульф заходил по дому. Полил цветы. Загрузил посуду в посудомоечную машину и включил машину на самую долгую программу. Собрал со стола валявшиеся там месяцами счета, сложил в стопку и отправил в ящик книжного шкафа. Включил телевизор и полистал программы. Выключил телевизор. Звонка не было.
В конце концов, звонок и не нужен. И не нужны никакие подробности. То, что его интересует, он может вычислить на имеющемся материале, уж столько-то мистического опыта у него есть, и этот опыт говорит ему, что в жизни дело никогда не в деталях. Детали – участь литературы: это там они необходимы, чтобы тексту легче было прикинуться жизнью, между тем как сама жизнь – всегда хаос. До тех пор, пока не знает, за какими из слов пойти.
Два состава на сцене могут быть только тогда, когда пьесу еще не играют. Когда идет читка – и вся труппа в сборе.
Значит, идет читка?
Идет читка. И вклад исполнителей в поведение действующего лица еще не обсуждается, обсуждается только роль и место действующего лица в составе целого. Индивидуальный рисунок роли пока не возник. Все впереди: и собственное прочтение роли, и противопоставление его другому прочтению роли… Да и публики – этого участника любого зрелища Торульф не забывает никогда! – на данный момент нет. Если не считать публикой нас… вовлеченных в подробности обратного пути Эйто. Только стоило ли городить огород из-за нас?
Но вот это вот «чтобы потом никому не найти»… – как раз оно и беспокоит тебя, Торульф! То, о чем ты обычно запрещаешь себе думать – особенно на очередном сложном участке пути, перед новым перевалом, когда Большая Короткая Боль и так далее… сценарий невозможно сломать, но возможно – покинуть. Покинуть легкомысленно, не заботясь о том, что будет с-ними-со-всеми дальше – или ответственно, с уважением к сценарию: подготовив на место того же действующего лица – другого исполнителя. Сидеть, значит, на читке, внимательно слушать, время от времени подавать уместные реплики, позднее – даже обсуждать рисунок роли с режиссером, партнерами или актером-напарником и сколько-то раз выйти на сцену… но уже – знать, уже – решить заранее: прощайте. И – исчезнуть из виду, направив всех по ложному следу.
Неужели это он, Торульф, научил его так уважать сценарий?
Теперь настало время сердечных капель.
Приняв сердечные капли, он – пора было – подошел к двум камушкам, которые пестовал со вчерашнего дня: черный и белый. Впрочем, памятуя о том, что на камушках этих вволю посидел старый Бйеркестранд, не доверял им особенно Торульф, ибо игнорировать происхождение «предметов судьбы» не привык. В свое время он основательно проштудировал книгу, содержавшую несколько сотен рецептов тибетской медицины, и с тех пор зарубил себе на носу: если пучок травы с южного и пучок травы с западного, например, склонов горы оказывают совершенно разное медицинское воздействие на организм, то и с «предметами судьбы» не может быть иначе.
Что касается данных двух камушков, то их местонахождение до того, как они стали «предметами судьбы», сильно смущало Торульфа: увы, он не подумал об этом вчера на побережье – просто обрадовался, что камушки нашлись, и только потом опомнился: нашлись-το они под задницей старого Бйеркестранда. На тот момент, впрочем, он уже назначил камушки «предметами судьбы» – делать было нечего. Оставалось только перекладывать их – так, чтобы впереди находился то один, то другой. Делать это полагалось раз в три часа, а прекратить тогда, когда последний из перекладываемых камушков окажется на самом краю каминной доски, взятой в длину. Торульфу нужно было, чтобы последним стал белый. Правда, до края каминной доски ох еще сколько места оставалось!
Торульф ничего не рассказал о камушках тому, чью судьбу они должны были выправить. И не потому, что было нельзя, было можно, – а просто… ну его: этот идиот относится к «предметам судьбы» с недостаточным уважением. Нет, Торульфу он не возражал, не то бы тот задал ему жару… – но систему Торульфа на вооружение не взял, на что Торульф, по совести сказать, все-таки немножко рассчитывал, поскольку, кроме русского, завещать эту систему (а вместе с ней и все пропитанные энергией Торульфа «предметы судьбы», от которых просто ломился небольшой, но все же весьма вместительный дом) было некому. А когда Торульф сказал ему об этом, русский ответил: «Ты, Торульф, погоди пока умирать, тебе еще дооолго жить»… – словно он Бог и сам написал общий сценарий!
Как бы там ни было, но черным и белым камушками Торульф сейчас манипулировал тайно. Ну и – чтобы теперь уже совсем покончить с этим – мешало ему не только происхождение камушков, но и осознание того, что старый Бйеркестранд оказался свидетелем его поисков. В общем, присутствие старого Бйеркестранда во всей этой истории было сильно лишним – и Торульф проклинал себя за болтливость, обычно, надо сказать, ему отнюдь и отнюдь не свойственную.
Перекладывая черный камушек из постпозиции по отношению к белому в препозицию, Торульф вздрогнул от неожиданно зазвонившего телефона и задел обшлагом домашнего халата белый камушек, протащив его по всей ширине каминной доски и оставив балансировать на самом краешке. Задержавшись там на одно мгновение, белый камушек вдруг начал падать – Торульфу показалось, что падал он несколько минут, но даже и за эти несколько минут предпринять что-нибудь парализованный на месте Торульф не успел. Белый камушек стукнулся об пол и откатился на самую середину гостиной: слава Богу, Торульфу удалось проследить траекторию движения.
Торульф, конечно, трубку не взял – он замер возле камина: строго на том же месте, где все произошло. Стоял и не знал, что теперь делать. Подобные вещи с «предметами судьбы» случались в его жизни всего два раза: это был третий. Он знал, что однажды будет третий, – не знал только, что именно сейчас. Сейчас, когда так важно было действовать особенно аккуратно.
В первый раз такое понятно, почему произошло (впоследствии он отказался от всяких эфемерностей на роли «предметов судьбы», а тогда еще пользовался любым подручным материалом – в частности, бумагой): разумеется, легкомысленно было полагаться на бумажные салфетки. Три желтых и три белых – именно этими цветами можно было, как он полагал, приманить одну поездку… поездку в Китай, на которую у Торульфа в тот момент не было ни времени, ни денег. Задача состояла в том, чтобы скрутить все шесть салфеток, начиная каждый раз с левого нижнего уголка, в тонюсенькие, очень плотные трубочки – что-то вроде сосулек. Сосульки следовало за ниточки подвесить на яблоню в саду: там они должны были провисеть неделю – и неделе, понятное дело, полагалось быть сухой. Так далеко дело, однако, не зашло: Торульфу удалось скрутить только две сосульки – третья начала расползаться в руках, а когда Торульф все-таки переупрямил рыхлую бумагу, зарядили дожди. И в Китай ему съездить так и не удалось. До сих пор.
Второй неудачный опыт был с колокольчиками: крохотными колокольчиками из тонкого металла, которые перед рождеством продавались по пятнадцать норвежских крон за десяток в любом супермаркете. Торульф купил двадцать колокольчиков, протянул из угла в угол спальни леску и стал развешивать колокольчики на разной высоте, привязывая их за ниточки. Он поставил себе задачей в течение пяти дней ни разу не забыть о колокольчиках и не задеть ни одного из них ни при свете, ни в темноте – ночью, если придется вставать. Это должно было гарантировать Торульфу возможность найти среди своих бумаг одну запись, очень и очень важную запись – мысли, пришедшей ему как-то во сне и объяснявшей причины философской бессмысленности физической категории покоя. Но, закрепляя на леске последний колокольчик, Торульф уронил его на пол… колокольчик никогда больше не обнаружился, как не обнаружилась и запись, и Торульф с того злополучного дня постоянно пребывал в отчаянии от того, что мир продолжает пользоваться физической категорией покоя, ничего не зная о философской бессмысленности этой категории.
Он стоял у камина и смотрел на белый камушек, а белый камушек смотрел на него.
– Что делать будем? – спросил Торульф. – Я, конечно, могу просто поднять Вас и вернуть туда, где Вам следовало бы сейчас находиться…
Торульф был на «Вы» со всеми вещами, хоть современный норвежский и противился.
Он нарочно не закончил предложения – ожидая, что белый камушек что-нибудь возразит, но тот молчал как убитый. Пришлось возразить себе самому:
– …однако мне кажется, что теперь это уже не имеет значения.
Камушек продолжал молчать, а Торульф продолжал не двигаться. Неподвижность объяснялась просто: Торульф не знал, насколько много он уже изменил в жизни того, кому предназначались камушки, и насколько много в этой жизни изменит следующий шаг…
При этом сигареты лежали в кармане надетого на нем злополучного халата, обшлаг которого стал виновником затруднительной ситуации, в то время как зажигалка находилась на столике, возле ножки которого остановился камушек, а закурить Торульфу было сейчас весьма и весьма желательно. Но отправиться за зажигалкой означало бы отправиться в сторону камушка, а в том, правильно ли это в данный момент, Торульф сильно сомневался. Может быть, камушек – как и Торульф – все еще пребывал в состоянии неопределенности, и, таким образом, ничто в структуре мироздания пока не было искажено.
Правда, Торульф мог бы отправиться и в другом направлении – не имеющем отношения к нынешней позиции белого камушка… И Торульф отправился на кухню – передвигаясь все-таки с осторожностью и не спуская глаз с камушка: кто его знает, что тот может учудить!
Оказавшись на кухне, вздохнул, присел на стул и закурил от одной из зажигалок, которых здесь было более чем достаточно. Теперь ему предстояло осмыслить, что произошло, и принять решение. Одно из трех: либо оставить камушек лежать там, где лежит, и забыть обо всем, либо вернуть камушек на каминную доску и продолжать церемонию, либо опять же вернуть его на каминную доску, но церемонии не продолжать – за теперь уже ненадобностью таковой.
Торульф курил и ждал какого-нибудь знака, который вполне могла послать ему судьба, коль скоро речь шла о союзничестве с ней в деле обеспечения благополучного прибытия домой одного вконец заблудившегося путешественника.
Знак, который не замедлила послать ему судьба, имел вид прехорошенькой Элизабет – двадцатилетней домработницы, выделенной Торульфу по причине его преклонного возраста отменно действующей в Норвегии властью-на-местах. На Элизабет висел громадный рюкзак, а в руках у нее имелось два чуть ли не таких же по величине пластиковых пакета – понятно, что со всякой снедью и прочим: день закупок.
– Привет, Торульф! – Элизабет придирчиво взглянула на него: всё ли в порядке. – Размышляем?
– Привет-да-нет-не-размышляем-просто-курим, – про гудел Торульф и засуетился было помогать Элизабет с сумками, но та, как всегда, помощи не приняла.
– Хороша ли жизнь? – осведомилась она, выгружая содержимое из рюкзака и пакетов.
– Ну, что хороша, не скажу, однако… ммм, отчасти даже и приемлема.
– Может, этого и хватит?
– С избытком! – рассмеялся Торульф и затушил сигарету.
– В путь? – спросила Элизабет, намекая на то, что Торульфу (такая у них имелась договоренность – между прочим, по желанию самого Торульфа, иначе без конца услужливо вмешивавшегося в процесс наведения порядка) пора выметаться. В то время как ей, Элизабет, было самое время распределять купленное по местам и приступать к тому, что в муниципальных документах обозначалось как «влажная уборка жилых помещений».
– В путь, – вздохнул Торульф и снял с себя халат, накинутый поверх толстого свитера. – Сейчас только халат в спальне повешу.
– Оставь здесь, я сама повешу. И – хорошего гуляния!
– А тебе – приятной работы. В термосе, в гостиной, кофе, и там еще коробка шоколада на столе, угощайся.
– Угощусь, не сомневайся! – подмигнула Элизабет.
Они обнялись и распрощались.
Больше разговаривать не полагалось: на все про все властью-на-местах Элизабет было отведено сорок пять минут, а за сорок пять минут предпринять «влажную уборку жилых помещений» в двухэтажном доме площадью почти сто квадратных метров – не шутка. И у Торульфа, трогательно старавшегося причинять Элизабет как можно меньше беспокойств, она не теряла ни секунды, оставляя ему все в таком образцовом состоянии, будто занималась здесь влажной уборкой часов десять. Торульф был ее любимцем, а вторую и четвертую среды каждого месяца, когда ей предстоял визит к Торульфу, – она считала самыми счастливыми рабочими днями.
Чуть притормозив у порога гостиной, но махнув рукой и даже не заглянув внутрь, Торульф прошел в прихожую, упаковался там в свой ослепительной белизны пуховик и замаршировал к морю. Торульф всегда маршировал к морю, когда выходил из дому низачем. В седой его голове – строго в ее середине – лежал белый камушек: чего-то не то просил, не то требовал. Торульф не понял и – тряхнул шевелюрой: пусть белый этот камушек делает что хочет, пусть живет как хочет! Надо было отвечать, когда Торульф с ним разговаривал, а теперь всё, теперь слишком поздно, Торульф ушел уже и вернется только часа через полтора, когда Элизабет давно закончит уборку и отправится дальше, к Мидтйордам.
Да, Торульф допустил оплошность: обшлагом халата смел белый камушек на пол – виноват, каюсь! – но зато потом он больше совсем ничего не предпринял, он к камушку даже на миллиметр не приблизился, мизинцем его не тронул… отныне полная свобода, глубокоуважаемый камушек, простите за причиненные неудобства и сами решайте, что Вам лучше, – можно ли со стороны Торульфа рассчитывать на капитуляцию полнее?
Усилием воли он запретил себе думать о камушке, заглянул в прибрежный ресторанчик, хлопнул стопку шнапса и вышел на берег: поговорить с морем.
– Ну что, Торульф? – спросило море.
– Да ничего хорошего, – честно признался он. – Кое-кому в одном деле хотел помочь, но, вот, боюсь, навредил только…
– Печально, – сказало море.
– Печально, – согласился он. – Старый я стал, руки не слушаются. В остальном все в порядке, а вот руки… видишь ли, именно руки, которыми я привык и на жизнь зарабатывать, и другим помогать, – руки не в порядке. Даже и на органе тяжеловато уже – я, понятно, не говорю никому, вообще никому… одному тебе. Такая, значит, награда за мои же, небось, слова, с которыми я всю жизнь прожил: нам не на то руки даны, чтобы – хватать. Вот и получай, значит, дорогой: не хочешь хватать – и не схватишь. Я, только ты правильно пойми, ни на что не жалуюсь… тут у меня просто человек один в затруднении, а я камушек уронил.
– М-да, – вздохнуло море. – Камушки ронять не дело.
– Не дело, – опять согласился Торульф. – Но если руки не слушаются?
– Если не слушаются, тогда – конечно, – поддержало (кажется) море.
Он шел вдоль самой кромки воды, не нарушая кромки своими сапогами сорок шестого размера, – по побережью Торульф всегда ходил только так: привычка, за которую море ему было благодарно. Сегодня благодарность выражалась в том, что оно то и дело подкидывало ему по два камушка – черный и белый, да только другие это камушки… спасибо, конечно, но поздно: ничего не исправить больше с тем камушком, уже стронутым с места.
Когда Торульф вернулся домой, Элизабет там, понятно, не было. Даже не раздевшись, он заглянул в гостиную – белого камушка не лежало на прежнем месте. «Вот и все, – сказал чей-то голос внутри Торульфа, – что ж я наделал-то, а?» Но, машинально вскинув глаза к каминной доске, он увидел их оба: белый и черный… знала, знала Элизабет толк в уборке жилых помещений!
Торульф подошел к камину.
Белый камушек был положен Элизабет слева от черного: так, наверное, представлялось ей правильным – и с какой бы стати требовать от нее проницательности, которая должна была подсказать ей, что в данный момент белому камушку полагалось лежать справа от черного: специалисты по уборке жилых помещений обычно не слишком хорошо разбираются в магии.
Так и не сняв пока белый свой пуховик, Торульф все смотрел и смотрел на запущенную в обратную сторону цепочку перемещений, боясь задать себе вопрос, произошло ли уже из-за этого что-нибудь или еще не произошло. Он видел перед собой крутящую педали своего велосипеда Элизабет, которая, конечно, и вообразить себе не могла, насколько неотменимые и, увы, больше непонятные Торульфу изменения в мироздании полчаса назад произвели ее любящие порядок руки с аккуратно подстриженными ноготками.
Когда Великая Река была еще небольшим ручьем шириной в два фертанда, родился на берегу ручья мальчик, которому дали имя Свет. С детства любил Свет играть у ручья, переправляя с одного берега на другой то листик свимунты, то обломок коры дерева итль, то цветок рантуга. Свет отталкивал их тингуланом от правого берега, а сам, разогнавшись, перепрыгивал на левый – и там ловил, осторожно подгребая к себе.
За веселый нрав его любили и на правом берегу реки, где жило племя туниови, и на левом, где жило племя кесарупи: племена говорили тогда на одном и том же языке.
Не прошло и двадцати лун, как Свету исполнилось десять двард. Ростом он был теперь четыре фертанда и мог бы совсем без труда перепрыгнуть ручей, только не было больше никакого ручья, а была речка – правда, пока не очень широкая, в сто фертандов. С одного берега на другой Свет, уже забывший детские игры, из чистого упрямства добирался теперь вплавь. Когда же миновало пятьдесят лун, и ширина реки достигла тысячи фертандов, переплывать реку стало не в пример труднее, и противоположного берега Свет достигал только к концу дня.
Племена кесарупи и туниови, разбросанные по разным сторонам Великой Реки, как называли теперь прежний ручей, перестали видеть друг друга. Каждое племя давно жило своей жизнью, говорило на своем языке, и язык этот, хоть и сохранивший прежние черты, уже отличался от языка бывших соседей. Только Свет знал и язык племени туниови, и язык племени кесарупи, поскольку по привычке продолжал ежедневно переплывать Великую Реку. Это занимало теперь еще больше времени: на другом берегу Свет оказывался уже тогда, когда было совсем поздно.
Однажды старейшины племени туниови позвали его к себе и сказали:
– Всем нам известно, что ты наведываешься на другой берег, дорогой Свет. Язык племени кесарупи становится все труднее и труднее, а Великая Река все шире и шире. Скоро даже и тебе будет не переплыть на тот берег, и тогда племя туниови окончательно потеряет связь с племенем кесарупи. Не выдолбить ли тебе из дерева итль просторную лодку, дорогой Свет? Тогда бы ты стал нашим лодочником – время от времени возил бы туниови и кесарупи в гости друг к другу и помогал племенам общаться на далеких уже языках.
– Почему же нет? – улыбнулся Свет и принялся за дело. Четыре луны ушло на то, чтобы выдолбить из дерева итль лодку в пятьдесят фертандов, но зато какая получилась лодка!
На пятой луне старейшины племени туниови отправились на другую сторону Великой Реки. Пробыв в пути целых пятьсот вздохов, они вышли на берег кесарупи. Племена обменялись прайарами и расположились у высокого натрампи для долгой задушевной беседы. Свет сидел между племенами и переводил все, что произносилось старейшинами, то с языка туниови на язык кесарупи, то с языка кесарупи на язык туниови.
Под конец старейшины племени кесарупи спросили у старейшин племени туниови:
– А кстати, что стало потом с тем мальчиком, который, как рассказывают предания, так любил в незапамятные времена играть у ручья?
– Он перед вами, – кивнули старейшины племени туниови. – Разве вы не узнаете его в переводчике? Это же наш Свет!
Кесарупи, рассмеявшись, покачали головами и ответили:
– Вы ошибаетесь, старейшины туниови. С тех далеких времен прошло слишком много лун, и мальчик, о котором мы говорим, давно уже удалился в Тотйамтури. Что касается переводчика, то он наш, родом с нашего берега. Днем его, правда, здесь не бывает, но к концу дня он всегда возвращается. На нашем языке имя его Тьма {30} .
Тильда готовилась к приему дорогого гостя.
Она очень любила эту дружбу – и гость любил, Тильда знала.
Она любила и все его окружение… всех этих милых чудаков, не похожих ни на кого в целом мире, – особенно, конечно, смешного олимпийца Курта. Олимпийцем она называла Курта, конечно, не только потому, что он занимал верхний этаж того же дома, где жил и прибывающий дорогой гость, но и потому, что… правда, богоподобный человек! Все в Курте было высоко: например, такой высокой морали она не встречала никогда прежде. Курт казался ей человеком, знающим, как именно должен быть устроен мир, а поскольку мир был устроен совершенно не так, он со своего Олимпа взирал на мир с удивлением – не понимая людей. Люди казались ему страшно наивными – и Тильда догадывалась почему: Курт, сам по себе, был наивен до слез, только говорить ему об этом не следовало – иначе он свирепел, а свирепый олимпиец – зрелище страшное.
Короче, Тильда была благодарна прибывающему дорогому гостю за серию чудесных знакомств, которым – по-другому – никогда было бы не случиться в ее жизни, в общем, далекой от чудачеств. Впрочем, дело было не столько в чудесных знакомствах, сколько в самом посреднике – неожиданно занявшем очень и очень важное место в кругу друзей Тильды. Он больше не учит ее русскому языку – или не учит систематически, но их союз крепче любого языкового сообщества, так сложилось.
Сначала Тильда всего-навсего и хотела, что немножко позаниматься русским – да и, наверное, бросить. Это была, скорее, некая формальная дань ее исторической близости к славянам: Тильда родилась и выросла в Хофе – немецком городке, который не удалось проглотить Чехии… так оно, во всяком случае, выглядело на имевшейся у нее дома географической карте, где родной город Тильды как бы балансировал на только чуть-чуть выдающемся в сторону Германии язычке – казалось бы, всего в одном шаге от самого западного из сколько-нибудь заметных здесь чешских городов – городе с неприятным названием Аш. Находиться на одной и той же территории городам с семантически столь далеко отстоящими друг от друга названиями, конечно, было бы дурновкусием. Маленькая же Тильда, разглядывая карту, придумала для себя, что Хоф испугался Аша и бежал от него в другую страну, в Германию… а Чехия хотела было Хоф слизнуть и проглотить, даже, вон, язычок уже высунула – посмотрите сами на карту и убедитесь! – но, к счастью, не достала.
В детстве люди вокруг Тильды говорили на двух языках, принадлежащих к разным языковым группам, одна из которых была славянской: немецком и чешском. У самой Тильды освоить чешский как-то не получилось… острой необходимости не было – вот и не получилось. А между тем жил и пел в ней чешский – все ее шестьдесят с лишним лет жизни жил и пел. Только тихо жил и пел – в тайне от всех, поскольку… ах, да поскольку не язык это был – так, десять слов да полтора предложения! И Тильда все ждала какого-нибудь спокойного периода в жизни своей, чтобы вот-наконец-вздохнуть и – взяться за чешский. Спокойный период, хоть и поздновато, но наступил, только чешского языка в Южной Ютландии, где она прожила почти сорок лет, было днем с огнем не найти. Случайно нашелся русский – и с этого все началось. А продолжалось совсем не по программе и закончилось той самой великолепной дружбой, которую оба они, учитель и ученица, довольно скоро стали считать одним из главных подарков, сделанных им жизнью.
И вот дорогой гость приезжал.
Тильда узнала об этом случайно: позвонила его маме, чтобы поздравить ее с днем рождения, узнала, что он из-за вулкана добирается из России на перекладных и что будет проездом в Ютландии. Он не каждый раз навещал ее, когда был проездом в Ютландии, – не каждый раз навещала его и она, оказываясь в Копенгагене, только это ровным счетом ничего не значило: и он, и она знали, что всегда – добро пожаловать. Однако пожаловать или не пожаловать – это, конечно, каждый решал сам.
Мама за них решала впервые.
Она смущенно сказала Тильде: «Вы уж последите там за ним». В ответ на это Тильда, которая время от времени наведывалась в Россию и была хорошо знакома с мамой (а стало быть, точно знала, что мама не способна вложить в слово «последить» тот смысл, который один, к сожалению, и был известен Тильде, и мог при других обстоятельствах испугать ее до смерти), сказала да-да-конечно. Причем совершенно не подумав о том, что неплохо было бы все-таки спросить самого прибывающего, является ли посещение Тильды целью его прибытия… странно, кстати: подобных промахов Тильда не делала никогда, ибо свобода самостоятельного выбора – понятие святое, кто бы спорил!
А тут – на тебе…
Заглянув в словарь уже после разговора с мамой, Тильда – не без трепета все-таки – прочитала, что «последить» по-русски действительно, слава Богу, не означаетспрятавшись-в-кустах-понаблюдать-за-чьим-либо-поведением, а означает всего-навсего «позаботиться»(!), и сразу же принялась готовиться к описываемому глаголом действию, причем готовиться усиленно, то есть не одна, а вместе с мужем, тоже весьма обрадованным предстоящей встречей: для Гюнтера это был ничуть не менее дорогой гость, и они с гостем совершенно определенно симпатизировали друг другу.
Наконец позвонил и сам гость, сразу после приветствия одним махом попытавшись снять с Тильды все приятные заботы, но Тильда была непреклонна: «Я обещала маме». Иными словами, встреча оказывалась неминуемой – к радости если и не гостя, то, во всяком случае, Тильды и Гюнтера. Осталось только уточнить по телефону время прибытия поезда: все расписания на время бесчинств вулканического облака, понятно, были отменены.
Тильда встретила его на маленьком вокзальчик Рёдекро – как в те далекие дни, когда он, уже работая в Копенгагене, все еще часто наведывался в Ютландию.
– Здравствуйте, кожа да кости! – подготовленно блеснула она устойчивым при любых, как ей показалось, обстоятельствах русским оборотом, и они перешли на общий для них немецкий.
– Ты налегке, – Тильда удивлялась отсутствию багажа. – Из Копенгагена, помню, и то обычно был с поклажей…
– Разве?
– Что значит – «разве»? Каждый раз с чемоданом, а то и с двумя! Кстати, мама сказала, что ты и сейчас с чемоданом, причем тяжелым…
– Ну, если мама сказала… – он не дал Тильде договорить, – …если сама мама сказала, тогда делать нечего, будем поддерживать для мамы эту версию: я с тяжелым чемоданом!
– А… а зачем маме такая версия? – с большим трудом вмешиваясь не в свое дело, спросила Тильда.
Он пожал плечами:
– Наверное, так ей спокойней. Но сама-το подумай: ехать на перекладных с тяжелым чемоданом… нет уж, увольте: я не самоубийца.
«Маме опять наврал, – подумала Тильда. – И опять, небось, думает, что – во спасение».
А вслух сказала:
– Ладно, будем поддерживать версию. У меня просто мелькнула мысль, что чемодан украли.
– Да кому он нужен, Тильда! Он и мне самому не нужен. Мне всего и требуется, что расческа да зубная щетка. Omnia mea…
– Ой, маме-το позвонить бы – что мы встретились и все такое, – на полпредложении перебила его Тильда, молча удивляясь тому, как много своих же собственных правил коммуникации она за такую короткую встречу уже успела нарушить.
Он, не сопротивляясь, позвонил – это и сказав: «Мама, мы с Тильдой встретились и все такое». Ну и еще что-то сказав, Тильда не вслушивалась: ее это не касалось.
Их все-таки ужасно много чего роднило. Она, например, не могла нарадоваться тому, что вот и сегодня они встретились так, как встречаются совсем близкие люди: не вываливая друг на друга последние новости, но просто – едучи и болтая… шуточками перекидываясь.
– Я ничего не узнаю, Тильда… словно не был здесь раньше.
– Ты и не был здесь раньше, – поддела его Тильда. – Ты никогда не бываешь там, где находишься.
Как будто она не знала его! Как будто ей не было известно, что в окружающей их всех действительности он регистрирует только слова… но все слова давно уже изменились – только название станции и осталось прежним. Другие вывески, другие афиши, другая реклама – при том, что он ведь только по словам и ориентируется. А тут, вон, даже вместо цирка Бальдони, обычно гастролирующего в Ютландии весной, – теперь цирк Ринальди. Хотя, небось, тот самый и есть…
– Ну не до такой же степени… – ответил он с опозданием. – Иногда я довольно наблюдательный! Есть и у меня свои хорошие мгновения…
– Вот эта вот последняя фраза… – она не немецкая, она чистая калька с датского. Кстати, в немецком ты стал озвончать начальные «с», ты знаешь об этом?
– У меня датский акцент в немецком? – чуть ли не с ужасом спросил он. – Это ты хочешь сказать?
Ужас ей пришлось игнорировать и – кротко кивнуть:
– Угу.
– Плохо-то как…
– Я уж не говорю о том, что у тебя иногда причастия не на месте… не на немецком, то есть, месте. Впрочем, в немецком датский акцент не беда: он не такой чтобы совсем агрессивный. А что датский всюду лезет – так чего ж тут ужасаться: ты ведь в последнее время никаким другим и не пользуешься в повседневности, один датский в организме – или… как?
– Я теперь и не знаю, что у меня в организме. Я теперь растерянная языковая личность. Но оно все равно печально, что в немецком датский акцент появляется… вроде бы, более поздний язык не должен оказывать влияния на более ранний. В русском бы у меня, не ровен час, датский акцент не появился…
– Как там Берлин, стоит? – Тильда гуманно свернула в сторону от эмоционально неблагоприятной темы. – Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin…
Они дуэтом запели про einen Koffer in Berlin и дуэтом вздохнули – допев.
– Второй день Хильдегард Кнеф, – сказал он. – В Гамбурге я все «Der Mann mit der Harmonika» распевал… чего-то ради!
– Так… где ж еще «Der Mann mit der Harmonika» распевать, когда это про Санкт-Паули! По Санкт-Паули гулял, искатель приключений?
– Гулял, пообещав маме, что не буду.
– Да кто б сомневался! Но забавно, знаешь: у меня тоже с утра Кнеф в голове – одна песня, я даже не подозревала, кстати, что знаю такую… ну, «знаю» – это, конечно, сильно сказано, но пару строчек, оказывается, вполне могу напевать. «Er hiess nicht von Oerzen…» – помнишь?
Он помнил, из-за вот этого: «Und das Schloss, von dem er sprach, war ein Vorhängeschloss / In dem Keller, in dem er sich erschoss…»
Тильда усмехнулась: понятное дело, из-за этого… да и пассаж веселенький.
Они спели von Oerzen’a… – доставая из рукавов все новые и новые строки.
Тильду давно уже перестало удивлять, сколько у них общего: песенки, стишки, шутки-прибаутки… словно она с ним выросла в одном дворе. Однако ее пока еще удивляло, сколько этого всего задержалось в голове у нее самой: прежде ей казалось, что она сто лет как это все растеряла, a von Oerzen’a, например, и просто выбросила из памяти, за ненадобностью. Ан – смотри-ка: пожалуйста, вот вам von Oerzen… чудеса, да и только!
В общем, так и доехали, с песнями.
Гюнтер встречал на пороге.
– Привет путешественнику!
За поздним обедом говорили о Витгенштейне. Тильда почти не участвовала, поскольку обещала маме «позаботиться», – ну и заботилась, значит, изо всех сил, непрестанно крутясь по кухне маленьким волчком: горячее сразу? десерт сразу? кофе сразу? фрукты сразу?
И на все ведь было – «да, спасибо», и на все ведь – «сразу»! Нет, она, конечно, пару раз присела к столу и сама, но за спорщиками не следила, а уж за Витгенштейном – и подавно. Что-то там опять было про числа: дорогой гость чертовски умело дразнил Гюнтера – не Гюнтера как Гюнтера, понятно, а Гюнтера как математика… все ссылался на Витгенштейна, который якобы говорил где-то о трудности и почти невозможности объяснить языковое значение чисел – конкретно числа «пять» на примере про пять красных яблок… Тильда только краем уха слушала, но, кажется, узнала пример – не то вспомнилось, не то показалось, что вспомнила.
Гостя, как всегда, поселили в детской, с традиционной шуткой «все остальные тут давно повзрослели» – он опять смеялся шутке, словно в первый раз, а потом опять не мог найти ванную комнату без провожатых… После того как гость отшумел душем, а потом прошелся по саду, Тильда отвезла его в город. Времени было семь вечера, чем заниматься в вымирающем к семи вечера Обенро – непонятно, но дело, конечно, его. Забрать его оттуда он попросил часа через три.
Гюнтера Тильда нашла на кухне – ходившим взад-вперед.
– У нас уже есть один маятник, – напомнила она мужу.
– Я не маятник, я, по-моему, с ума схожу, – без всякого юмора отозвался Гюнтер.
– И сумасшествие проявляется в…
– В déjà-vu! – Голос, между прочим, раздраженный, а это редко бывает – так редко, что, можно сказать, не бывает вовсе. – Ты разве ничего не заметила?
– Ммм… а что я должна была заметить – или что могла бы заметить? – Тильда, честно, вообще не понимала, о чем он.
– Я бы, скорее, сказал: не могла не заметить! Не могла же ты не заметить, что этот разговор – о Витгенштейне, я имею в виду, – он уже велся однажды!
– Все разговоры однажды велись, – попыталась выскользнуть из почему-то казавшейся ей опасной речевой ситуации Тильда. – А уж тем более – все разговоры о Витгенштейне!
– Но это был разговор о Витгенштейне, который я опять плавно перевел в разговор о Мандельброте!
– И… зачем ты опять это сделал?
– Нет, ты не понимаешь, Тильда. Я к тому, что… что разговор этот однажды уже имел место – год назад имел место, а теперь вот повторился, причем мало того, что повторился – слово в слово повторился…
– Как ты можешь это помнить – что слово в слово?
– Я и не помнил! Я только стал вдруг узнавать слова… И я не о том сейчас!
Гюнтер говорил теперь уже очень громко – и голос его, не привыкший к такому режиму громкости, то и дело дребезжал… подребезживал.
Тильда покачала головой и присела к столу.
– Так… Тогда скажи мне, ради Бога, но только понятно как-нибудь: ты о чем сейчас, Гюнтер?
– О-бо-всем!
Гюнтер прокричал это так, что почти проорал: он и сам испугался своего голоса, не знал за собой такого.
Тильда поежилась:
– Жутковато получилось… а, Гюнтер?
Тот развел руками и тоже присел к столу, но, просидев от силы секунд пять, вскочил и принялся расхаживать по кухне, хватая предметы, крутя их в руках и снова ставя – чаще всего куда попало.
– Тут дело вот в чем… – как могла осторожно начала Тильда, – я ведь, честно говоря, ни того, старого, разговора не помню, ни сегодняшнего толком не слышала. Но как-то тебя это все… слишком уж сильно взбудоражило, нет? А ты не ошибаешься?
Вместо того чтобы снова закричать, Гюнтер вздохнул и сказал совсем глухо:
– Я не ошибаюсь, Тильда. Я математик.
– Помню-помню, – улыбнулась Тильда. – Только при чем…
– А при том, что тут перед нами не подобие – тождество тут перед нами. Аб-со-лют-но-е тождество. Абсолютное тождество двух разговоров. В первый-το раз все было очень и очень забавно, мы потом еще – тоже забыла? – посылочками обменялись: он мне Витгенштейна по-датски прислал, а я ему – Мандельброта по-немецки. Ты ведь и тогда присутствовала: дивная получилась такая беседа за столом – из тех, что помнятся… хорошо помнятся. Но то, что сегодня происходило, – Гюнтер уже просто носился по кухне, – оно было невыносимо. Н-е-в-ы-н-о-с-и-м-о, Тильда, и – страшно. Я узнавал просто каждое его возражение, но при этом сам, как дурак, повторял свои позапрошлогодние доводы… я словно под гипнозом был и вместо того, чтобы сопротивляться – хотя бы внутренне, сам постоянно соскальзывал в прежнее русло, понимаешь?
– Нет. – Она сказала это так твердо, что Гюнтер поверил ее лжи – вопиющей, по мнению самой Тильды.
– Ну как мне еще сказать… – снова подсел к ней Гюнтер. – Ощущение было такое, что запись беседы поставили и – крутили. Нет, не так… я же ведь главное сказать забыл, самое-то сюрреалистическое в чем: он не помнил, что однажды уже говорил все это! Я помнил, а он – нет! Так что под конец я просто угадывал, какие слова – дальше, и совпадало все…
– Тебя трясет, – сказала Тильда и отодвинула друг от друга мелко позванивавшие на столе стаканы.
– Трясет, – покорно ответил Гюнтер. – А тебя?
– Нет. – И ее ответ опять сильно напоминал правду, таковою опять не будучи.
– Пойду пройдусь с Бустером, – махнул рукой Гюнтер, но уже у двери, спиной ощутив взгляд Тильды, обернулся.
Они смотрели друг на друга глазами инопланетян, способных к телепатическому общению.
За только что прошедшие два часа Бустер не дал о себе знать ни разу, это Бустер-то, который обычно был без ума от дорогого гостя: за день чувствовал его приближение, улучал момент забраться в машину и не покидал сиденья, требуя взять его с собой на вокзал, а на вокзале начинал скулить, когда о прибытии поезда еще даже не было объявлено!
Сегодня Бустер просто не вышел в прихожую – и потом, во время ужина, его не было ни видно, ни слышно… как же они не заметили, как же могли ни разу не вспомнить о нем?
Тильда и Гюнтер в один голос крикнули: «Бустер!» – и почти бегом кинулись на поиски по бескрайнему своему дому. Бустера нашли на втором этаже, в спальне. Он, похоже, был жив и здоров, только лежал на необычном месте, под кроватью.
Когда Тильда и Гюнтер вошли, Бустер зарычал.
– Ты – что, Бустер? – остановился у кровати Гюнтер.
Бустер нехотя вылез наружу и понюхал штанину Гюнтера. А потом, глядя Гюнтеру прямо в глаза, поднял ногу и вдруг начал писать на его брюки и домашние туфли…
– Да что ж ты делаешь-το, Бустер! – всплеснула руками Тильда. – Был ведь на улице перед тем, как мне ехать… Гюнтер, отойди от него, что ты стал как вкопанный!
Гюнтер, не двигаясь, переводил глаза с Тильды на Бустера, а когда Бустер закончил свое нехорошее дело и понуро сел у кровати, сказал:
– Ну вот, теперь ничего дурного с нами, даст Бог, не случится.
После этого он наклонился к съежившемуся Бустеру, потрепал по холке и спросил: «Пойдем гулять?» Бустер опасливо поднял глаза, но с места не стронулся.
– Дурного? Ты имеешь в виду конкретно…
– Я не знаю, что я имею в виду конкретно. Пока, Тильда, мы скоро придем.
Бустер, не дождавшись вполне и вполне заслуженного нагоняя и не сводя с Гюнтера глаз, полных мольбы и любви, осторожно смещался к двери.
– Ты не переоденешься? – спросила Тильда, с омерзением глядя на испорченные брюки Гюнтера и не то чтобы не понимая, но отказываясь, отказываясь, отказываясь понимать происходящее.
– Нет-нет, это нельзя, – поспешно сказал Гюнтер, – надо пока так походить, а то вдруг…
Тильда махнула рукой.
Вышла из спальни, даже не взглянув на них.
На лестнице тихо сказала себе: «Всё в порядке» – и спустилась в кухню.
В окно было видно, как Гюнтер и Бустер, медленно идя по гравию, ведут серьезный разговор, причем Бустер явно объяснял Гюнтеру что-то важное, а тот только кивал или качал головой.
Тильда отошла от окна, чтобы загрузить посуду в посудомоечную машину, но оказалась на пути в детскую: двигалась медленно, отгоняя от себя мысль… даже не столько мысль, сколько просто полуготовую фразу: не-надо-наверное-было-его-в детскую-то.
На пороге детской остановилась, словно боясь войти и увидеть что-нибудь… что-нибудь такое – она не знала что. Но увидеть оказалось нечего, сколько Тильда ни старалась: ни единого признака чьего бы то ни было присутствия. Ни какой-нибудь мелочи вроде оброненной зажигалки или смятого фантика в пепельнице, ни складки на покрывале кровати, ни стула, отодвинутого от стола – ничего, словно никто и не заходил сюда, а ведь… заходил! Заходил и оставался здесь минут двадцать-тридцать как минимум – что ж, он и не прилег с дороги? И не присел?
Не прилег. И не присел. И забирать у библиотеки – некого.
Тильда поняла это внезапно. Если бы не разговор с Гюнтером, она бы усомнилась и в том, что дорогой гость вообще был здесь. Впрочем, разговор с Гюнтером подтверждал, скорее, факт отсутствия, чем факт присутствия.
Иллюзия.
А чашки и тарелки на столе… сейчас она составит их в посудомоечную машину, закроет дверцу – и никаких следов позднего обеда.
Тильда принялась за грязную посуду.
И поймала себя на том, что опять напевает:
Da sah ich die Wahrheit,
Da hatte ich Klarheit:
Er hat mich belogen —
Und das nicht zu knapp…
Von Oerzen продолжал, стало быть, крутиться на языке… причем отдельными строчками, даже уже и не складывавшимися в строфы…»Er war ein Ganove, und das nicht mal gut», «Er hiess nicht von Oetzen, doch das war mir gleich», «Er hat mir im Leben so vieles gegeben, doch dann kam der grosse Zapfenstreich»… Откуда это все в ее голове – Хильдегард Кнеф, которую она обычно не напевает!
Что-то не так было в этом вечере… что-то не так.
Можно, конечно, еще в ванную зайти: она ведь своими ушами слышала шум душа.
Зашла в ванну, потрогала полотенце. Сухое.
А Гюнтер все не возвращался.
Играют от двух до восьми человек обычными игральными картами. Кто сдает, не имеет значения. Карты раздаются одна за другой до тех пор, пока не будут розданы все, причем неважно, поровну ли их достанется каждому игроку.
Игра заключается в том, чтобы первым сбросить все свои карты.
Первый игрок кладет перед собой одну из карт, по собственному выбору, картинкой вверх. Играют справа налево, и каждый игрок, в руках которого оказались одна или несколько карт того же достоинства, что и у карты, положенной первым игроком, должен сбросить их. Сбрасывающий первую карту говорит снип, сбрасывающий вторую – снап, а сбрасывающий третью – снурре. Сбросивший снурре , то есть четвертую карту соответствующего достоинства, продолжает игру с новой карты.
Пример : Марие, первый игрок, выкладывает восьмерку. Слева от нее сидит Оле, у которого нет восьмерок, и потому он пропускает ход. У Гуннара, сидящего слева от Оле, наоборот, на руках две восьмерки. Он сбрасывает их, произнося снип и снап. Четвертая восьмерка у Йенса, который, сбрасывая ее, говорит снурре и выкладывает пятерку, начиная новый круг игры.
Таким образом игра продолжается до тех пор, пока у кого-нибудь из игроков не останется на руках ни одной карты: он и выигрывает {31} .
Мотаясь по каким-то неузнаваемым затхлым переулкам Стокгольма (ему раньше и в голову не приходило, что этот разбросанный по островам город в сущности – всего лишь не очень удачная попытка обуздать природный хаос), он постепенно отчаивался: никогда не найти ему того ресторанчика, откуда таксист увез его на вокзал. До начала выступления Манон оставались минуты: двадцать минут, пятнадцать…
Когда до выступления осталось десять минут, а он так и не узнавал ничего вокруг себя, в сердце, как шальная, ворвалась сильно запоздавшая мысль: паспорт тоже лежал в чемодане… в кармашке сбоку, под молнией!
Так что теперь и паспорта у него нет.
Правда, ни сейчас, в Швеции, ни потом, в Дании, паспорт предъявлять не придется: в Дании, например, паспорт за пятнадцать лет не потребовался ни разу – в жизни просто отсутствовали ситуации, где наличие или отсутствие паспорта имело бы значение. И отнюдь не потому, что никогда не возникала необходимость удостоверять личность: удостоверять личность надо, увы, везде – в том числе и в Дании. Просто там эту проблему решили иначе: взяли и поголовно пронумеровали все население страны – конечно, не проставив номерки на теле и не повесив на шею каждому табличку с цифрами, упаси Господь, не лагерь же… люди свободные, цивилизованные! Собрали имена (народу-то всего ничего!), внесли в государственный регистр, распределили номера и сказали их обладателям: вот твой номер, запомни его навсегда – живи с ним, и будешь даже еще свободнее и цивилизованнее, чем прежде.
Так и стали жить: номер свой назовешь – и достаточно. Наплевать нам, что ты Йенс Йенсен, – и на паспорт твой наплевать: подумаешь, документ! Нам достаточно десять цифр в любой базе данных набрать – и вот ты: весь как на ладони… на что живешь, с кем живешь, зачем живешь и сколько еще жить будешь – и как жить, дорогой ты наш свободный и цивилизованный человек.
А когда время придет и скомандуют «по порядку номеров рас-считааайсь!» – ты рассчитаешься, и тебя отведут в сторону… в сторонку, и в сторонке скажут: видишь ли, такой вот конфуз, все десятизначные комбинации исчерпаны, в то время как с одиннадцатизначными комбинациями системы наши работать не могут, так что ты извини, конечно, но номер, как ты понимаешь – дело святое… в общем, попользовался сам – уступи другому.
И не станет тебя, потому что кому ж ты такой нужен-то – без персонального номера?
Впрочем, пока его в сторону – в сторонку – не отвели и номера не отняли, бояться нечего. Но предстоящая теперь беспаспортная жизнь его все-таки почему-то беспокоила: не то советская закалка, не то немецкая родословная… уж одна из этих двух причин – точно. Да и в целом ситуация с багажом – чего тут греха таить! – беспокоила тоже: как-то уж больно легко он поверил, что багаж его по праву унесен неким, так сказать, alter ego. Багаж ведь преспокойно мог быть и украден… причем украден кем угодно, в том числе – тем, у кого в датском государственном регистре и номера-то никакого нет!
По-хорошему надо было бы, конечно, обратиться куда следует… выяснив предварительно, куда – следует, но на это все равно сейчас нет времени… да и как он стал бы объясняться там, где находится это куда-следует? Правда, можно, в принципе, и не объясняться – можно просто сделать заявление: восемь часов назад был багаж – сейчас нет багажа, ищите… да только ведь при расследовании рано или поздно обнаружится… обнаружится, что он – всего-навсего один-из-них… или, по крайней мере, один из двоих! Не хватало ему только еще этой путаницы… ему, любимая тактика которого – махнуть рукой, не думать, оставить как есть… авось, само разрешится – неким чудесным способом. Именно так ведь он обычно поступает – вероятно, потому-то ему все и сходит с рук… сходило с рук до последней, вот, минуты. Сделай-вид-что-ничего-не-произошло, сделай-вид-что-все-в-порядке.
Вот когда его обокрали в Москве и он вдруг остался вообще безо всего в центре зала на Таганской-кольцевой, – тогда, конечно, было смертельно страшно, хотя потом оказалось, что не смертельно все-таки. Стоило только назвать в датском посольстве персональный номер (о небо, спасибо тебе за мою свободу и цивилизованность!) и некоторые подробности своей жизни, о коих спрашивавшая его дама была осведомлена не хуже его самого (адрес и домашний телефон, место работы и служебный телефон, семейное положение, марка и номер машины) – ему тут же выдали временный паспорт. Денег – даже больше, чем было в портмоне, – одолжил, ясное дело, Борька. Обратный билет без лишних вопросов восстановили в Аэрофлоте. А что самое интересное – никто даже попытки не сделал замочить его в сортире в Шереметьеве. Позднее, уже в Копенгагене, всего за восемьсот крон соорудили новый паспорт… но и по старому паспорту, небось, тоже кто-то живет не тужит – очередной какой-нибудь он: с теми же адресом и домашним телефоном, местом работы и служебным телефоном, семейным положением, маркой и номером машины… даже с персональным номером, поскольку персональный номер – вот где недосмотр-то! – указывается в паспорте. Зря, между прочим, указывается: вытатуировывали бы его на теле – ни за что не узнать бы тебе, глубокоуважаемый вор, десяти заветных цифр, ибо я и под пытками не выдал бы никому своего порядкового номера в Королевстве Дания!
Так что черт с ним со всем: с паспортом, с чемоданом, а уж тем более – с содержимым чемодана. Оно все опять появится – когда нужно будет. То есть, нет, не так: не когда нужно будет, а если нужно будет. Что, вообще говоря, вилами по воде писано.
Но – сделай-вид-что-все-в-порядке.
Он сделал вид, что все в порядке, и позвонил маме – сказать, стало быть, что все в порядке. Лишний раз обрадованная порядком и порядком обрадованная мама удовлетворилась трехминутным разговором: никаких подробностей не просила, голос звучал спокойно… слава Богу, слава Богу.
Сразу после разговора с мамой пришла смс-ка.
«Му ved’ ne vragi, pravda?»
Телефон, с которого отправлено сообщение, – его собственный, разумеется! Чей же еще…
Над вопросом следовало, между прочим, задуматься весьма и весьма основательно.
Потому как… потому как с чего он действительно взял, что тот – или те – кто в данный момент действует от его имени, непременно против него? Уроки дона Исидоро? Исторически один из двойников, мол, всегда носитель добра, в то время как второй – зла? Пра-а-авильно, но так получалось у дона Исидоро, причем ис-то-ри-че-ски, а вот достаточно ли этого, чтобы и у него самого получалось – так? Дон Исидоро ему кто? Он ему просто старый начитанный человек из университетской копенгагенской библиотеки, который подошел как-то к столу, бросил взгляд на книжки и потом, проехавшись лукавыми глазами по полоскам его шарфика, спросил: мы не знакомы, молодой человек? меня Исидоро зовут – да как же не знакомы, когда тут вылитый Сальвадор Дали: чуть ли не двухметрового роста и с теми же оптимистичными усами… конечно, знакомы!
Это он сам решил называть его дон Исидоро – отчасти по причине валенсийского происхождения Исидоро, отчасти чтобы сгладить фамильярность всегда неизбежного датского «ты».
Вот, значит, кто ему дон Исидоро… дон Исидоро ему просто старый начитанный человек – даже не специалист ни в какой области («Определенной специальности у меня нет – я просто знаю всё»… ну и заявочки, подумалось тогда), собиратель знаний и, в конце концов, блистательный верхогляд, которому самое место в программах для эрудитов – где деньги за поверхностную эрудицию лопатами гребут… Жалко, что дон Исидоро подобных программ на дух не переносит, даже и не смотрит ничего такого по телевизору, не только сам туда не просится – а то ведь был бы, чудак-человек, богатым дядей, это кому же когда мешало? «Мне бы мешало», – однажды признался, впрочем, дон Исидоро.
Ладно, хватит про дона Исидоро, даже если и полностью он прав – то есть, не он, конечно, прав, а цитируемые им источники, где про близнецов… хватит про все это, поскольку не факт, что носитель добра – именно этот вот жалкий индивид, заблудившийся в старом Стокгольме!
Может быть, из них двоих сам-το он как раз и есть «черный близнец»! Ну и, кроме того, совершенно ведь не обязательно, чтобы в данный момент он – хоть черный, хоть белый – представлял подлинного его: подлинным ведь может быть как белый, так и черный! Подлинность не в цвете, а в документации: подлинным является тот, кто может предъявить доказательства подлинности, – какие доказательства может предъявить он?
Тогда, ограбленный на Таганке, он, значит, предъявил в датском посольстве набор цифр… весьма вероятно, что того же набора цифр может хватить и теперь, – гм, если он, конечно, окажется первым там, куда едет… нет, куда прибудет, ибо на данный момент следует ни на минуту не упускать из поля зрения, что то, куда он едет, и то, куда прибудет, тоже ведь не непременно совпадут!
Но в любом случае враждовать – нелепо, а уж особенно – если задуматься о том, с чьей подачи разгуливает под вулканическим облаком его двойник… или двойники, или… ммм… тройники-четверники! Так что определенно лучше быть друзьями: ты-мой-друг-и-я-твой-друг-старый-верный-друг, ну хорошо не друг, а этот, как его… спутник, или попутчик, или одним словом (немецким словом, датским – в данном случае без разницы) – райзекамерат. Едем, значит, смс-ками перебрасываемся: у тебя как, порядок? И у меня порядок! Пока-пока.
Он снова вынул мобильный телефон: на экране оказывается, так до сих пор и висело «Му ved’ ne vragi, pravda?»
Написать, что ли, ответ?
Нет, Торульф не велит.
Зато Курт велит… говорит: разбегайся в разные стороны!
Кого слушать – непонятно: насквозь ли вербального Торульфа, страшащегося отголосков слов в реальности, или насквозь реального Курта, подчинителя-себе-слов…
Он нажал на «Svar», собираясь ответить – себе? Нет, собираясь просто-напросто окончательно развести себя и не-себя – развести… разнести по разным колонкам: неважно, кто тут черный, кто белый, только не путайтесь, стойте каждый на своем месте, если уж так случилось, что пришлось разъединиться, да, всяк-сверчок-знай-свой-шесток!
Впрочем, ответить на досадную смс-ку оказалось вдруг как-то и нечего. Даже не столько потому, что он понятия не имел, кто они друг другу, сколько потому, что… ах, да чего уж тут вертеться! – потому что не желал он узаконивать присутствия в мире самозванства, вот и все. Нет, мы не враги, но вопрос не в том, враги ли мы, – вопрос в том, существует ли вообще некое «мы» там, где два дня назад имело место лишь «я»!
И… пошел ты со своими смс-ками с моего личного номера, знаешь, куда?
Телефон вернулся было в карман куртки, но карман оказался насквозь промокшим… не загубить бы дорогостоящую технику! – и телефон проследовал в потайной, к самому сердцу. Пришлось даже усмехнуться: не опасно ли, дескать, к самому-то сердцу? Один маленький звонок в сердце – и… прости-прощай, дорогое-оригинальное-издание, настало время дешевых копий, так ведь и все в мире кончается, а?
Между тем Манон уже выступает, и вот это – проблема. Манон выступает, пока он ищет ее в этих узких улочках, которые так любит, но которые так коварны… паутинка, паутина. Если Хельсинки, мстя ему за Берлин, не пускал его в себя, то Стокгольм, тоже мстя, только за Гамбург, наоборот, засасывал: этакое болотце, безопасное на вид… лужица, а оступился – и поминай как звали, вспомнить бы еще, как – звали, потому что и звали ведь по-разному. Вот и паспорта теперь уже нет: поди докажи, что вообще хоть как-нибудь звали!
От выступления Манон прошло уже двадцать минут, и тут он наконец увидел ее.
За столиком того самого ресторана.
Стокгольм смилостивился над ним: было уже темно, когда какая-то из его таких любимых и таких коварных улочек выбросила гостя-столицы, давно уже задубевшего от дождя со снегом, прямо к нужному ему окну. Он, правда, тут же и шарахнулся от окна, но, одумавшись и немедленно взяв себя в руки, занял хороший наблюдательный пост на противоположной стороне тонюсенькой улочки.
Он стоял на посту и смотрел на Манон. Манон изменилась почти до неузнаваемости.
Вместо бритой головы теперь ежик.
Балахон уже не белый, а черный… почему, Манон?
И в глазах, даже отсюда видно, – паника… откуда, Манон?
Впервой ли тебе сидеть у чужого столика, перед – в данном случае – юной парой, не знающей, куда смотреть, и, конечно, смущенной близостью к тебе, только кто ж не смущается от близости к тебе? В первый раз и я смутился: перед неземной твоей, инопланетной твоей, исчезающей твоей сущностью – и от нечаянной близости к тебе, и от огромного твоего покоя.
Но нету в тебе больше покоя: ни в одной складке балахона твоего нету покоя, ни в одном из волосков бобрика нету… что-то случилось в твоей жизни без меня?
Он насилу удерживал себя от того, чтобы с воплем что-случилось-Манон не броситься в дверь ресторанчика, не сгрести Манон в охапку, не вынести под дождь со снегом и не утащить в свое логово… а где у него логово?
Между тем куда-то Манон время от времени поглядывает: всегда в одну и ту же сторону – и что-то происходит с ней после каждого поглядывания… словно некий маленький электрический разряд пробегает по телу, искажая точность принятой ею позы, но источник тока не виден через стекло. Хотя, если подойти к стеклянной двери, то можно увидеть и источник тока.
Он покачал головой: нет.
Ему не надо к двери…
Потому что ему не надо – внутрь.
Даже успей он вовремя, к началу представления, он (пора наконец перестать врать хотя бы себе!) все равно не отважился бы войти… у них договор. У них с Манон договор, что сам он никогда ничего не предпримет. И, значит, он не имеет права на то, чтобы так вот – вопреки договору – взять и обозначиться в жизни Манон: на случайном выступлении в Стокгольме. «А вот и я-ааааа… снип-снап-снурре!»
Потому что так не делают… не делают, когда любят. Тут – любовь, а любовь, дорогие мои, – это смирение. То есть, не борьба за обладание, как его и всех их кем-бы-они-ни-были учили в школах советского времени. Учили на разных примерах – в том числе и на примере героической датской девочки Герды, с одним снип-снап-снурре на губах отправившейся на поиски Кая – вернуть на место, наставить на путь истинный: люби-меня-как-я-тебя-и-будем-вечно-мы-друзья! Именем любви, стало быть…
Именем-любви-приговариваю-тебя-к-себе.
К себе как высшей мере наказания.
Иди сюда, малыш, я все тебе объясню!
Нет-нет, любовь – это смирение, любовь – это ступай-себе-с-Богом, любовь – это даст-Бог-свидимся, что бы там ни говорила всегда правильная Герда всегда неправильному Каю. Ибо там, где смятенный дух все-таки застигнут врасплох, хватит, конечно, и одной слезы – горячей слезы, упавшей на желательно холодную руку… и – ура: лед-тронулся-господа-присяжные-заседатели! Расплачьтесь, господа присяжные заседатели, расплачьтесь и – оправдайте заблудшего Кая на радость этой смелой девочке! Она, босая и простоволосая, стала на его пути как скала, чтобы не дать ему до конца пройти этот скорбный путь: путь, который каждый из нас должен до конца пройти сам – иначе грош нам цена. Она показала ему другой путь – путь назад. Она героиня, отдайте ей Кая в награду. Пусть Герда возьмет за руку своего маленького – на глазах становящегося все меньше и меньше – Кая и скажет ему голосом старшей – на глазах становящейся все старше и старше – наставницы: «Глупый маленький Кай, всё только соблазны дьявола с волшебным зеркалом, и нет никакой вечности, а есть только здесь и теперь – повтори!»
И Кай повторит: есть только здесь и теперь.
И, обнявшись, они покинут холодную и пустую вечность: так когда-то давным-давно покинула вечность и другая пара… пусть не холодную и не пустую вечность, но какая, собственно, разница!
«Я никогда больше не увижу тебя, Манон».
А вот эти слова – они, прошу пардону, из какой-то вообще плохой литературы.
Из той литературы, которой он почти не знает, которой он не терпит. Из той литературы, где все может быть только так, как есть… только так, как сказано – и никак иначе: хоть ты тут лоб расшиби, а выхода ни в жизни нет, ни там!
Та же литература, которую он знает и любит и которую с радостью готов терпеть до конца дней своих – в ней нет ничего окончательного, ничего раз и навсегда случившегося, ничего, что нельзя было бы отменить.
Но – «Я никогда больше не увижу тебя, Манон».
Эти слова – из какой-то вообще плохой литературы, но теперь их, тем не менее, надо как-то разместить в себе, надо найти для них приют – некий угол в бескрайнем пространстве внутреннего мира: где они могли бы отныне жить, не мешая остальному, не попадаясь на глаза, не сталкиваясь с другими – не в пример более тонкими – словами, которым они претили бы своей громоздкостью, своей грубостью… своим неблагородным происхождением. И он нашел такой угол: есть он у каждого внутри – и нечего притворяться, будто нету!
Манон исчезла из окна.
Разглядеть, где она теперь, с противоположной стороны пусть и тонюсенькой улицы было невозможно. И он просто стоял на этой противоположной – противоположной судьбе, противоположной Манон, противоположной себе самому – стороне улицы, намереваясь постоять еще сколько-нибудь… и постоял ведь уже сколько-нибудь, даже показалось, что долго, как вдруг двери ресторанчика поползли в стороны и на пороге обозначилась пара: Манон и кто-то еще – на плохо освещенной улочке он, сразу вцепившийся глазами в Манон, успел, тем не менее, увидеть и ее спутника, но увидеть уже сзади… он никогда не видел себя сзади, он раньше никогда не видел себя сзади.
Пожилой мужской иностранец.
Сутулый.
Одетый в темное… черное.
И – с чемоданом, который неохотно катится за ним вслед на колесиках, причем одно колесико – левое, понятно – прихрамывает: это еще с прошлогодней поездки в Россию. И прихрамывает, небось, за компанию, владелец чемодана – разумеется, тоже на левую ногу, ибо дьявол (все-таки дьявол?) хромает на левую ногу, откуда это… ах, ну да, «Доктор Фаустус»: дьявол хромает на левую ногу, хотя при чем тут оно, если просто колесико повреждено, китайский чемодан, ничего теперь нет не китайского, между нами, китайцами, говоря!
Так вот, значит, как все замысливалось, ну что ж, чудесно, чудесно, красивый замысел, только вот подарка для Манон нет в чемодане: как выкручиваться-то будем? Так же, как и в Берлине? Преподнесем теперь уже Манон то, что предназначено Кит: это тебе, Манон, – и глазом при этом не моргнем? И – получится? Неужели получится?
Хм… почему бы и нет.
Однако надо было следить за ними. Надо было идти за ними – осторожно, на расстоянии… жаль, что невозможно услышать, о чем они говорят и как они говорят о том, о чем говорят. Но вот Манон прижалась к его плечу, они на мгновение остановились, и слабый, еле различимый запах сухофруктов, запах чернослива коснулся лица наблюдателя… постороннего наблюдателя. И посторонний наблюдатель, кстати, ничуть не удивился. Пожилым мужским иностранцам так и полагалось – пахнуть сухофруктами, ибо для того они и существуют: смущать неопытные души и пахнуть сухофруктами!
Стало быть, посторонний наблюдатель не удивился: он просто вдохнул крохотное облачко этого запаха – и улыбнулся. Не то чтобы растерянной, нет – какою-то даже торжествующей улыбкой, а улыбнувшись ею, развернулся в противоположном направлении, спиной к себе, и зашагал по тонюсенькой улочке… коварной улочке, которая вот уже через минуту обманет его, запутает, собьет с толку – на-всег-да.
Перед тем как этому случиться, он обернулся.
Манон и хромоногий уже поймали такси и садились в машину. Они сейчас поедут в гостиницу. В гостиницу к Манон– зачем им еще одна? И останутся там на три дня: он помнил срок гастролей, обозначенный на афише. А потом они поедут в Берлин – и обоснуются там, уже навеки. В этом сумасшедше-прекрасном Берлине, где ему всегда так хотелось бы жить, но где теперь будет жить его чемодан… sein Koffer.
И когда он – спустя дни? недели? месяцы? годы? – начнет напевать «Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin», – то будет знать: это отнюдь не просто песенка, а самая что ни на есть чистая правда, ибо – действительно er hat noch einen Koffer in Berlin, er steht noch da – und das hat seinen Sinn…
Вот только какой именно Sinn, ему, видимо, так никогда и не суждено будет понять, потому что… как бы поточнее сказать: потому что эта карта разыграна.
«Я никогда больше не увижу тебя, Манон».
Вот разве в тексте…
Снип!
Как-то заскучал один охотник без товарища, а товарища взять негде: вокруг ни души не было, деревья одни. Подумал-подумал охотник, нашел бревно осиновое, да и сделал из него человека: чем не товарищ? На вид совсем как живой, и все на месте: голова, руки-ноги, туловище, только обидно, что не поговоришь с ним, немой получился, а немой товарищ охотнику зачем?
Стал охотник упрашивать осинового человека: сделай милость, оживи, скучно мне одному, говорить не с кем! Только разве бревно умилостивишь? Охотник уж и так и сяк: и уговорами, и мольбами, и угрозами, только не оживает осиновый человек – и все тут. И опечалился охотник, а сам все продолжает: оживи да оживи. Долго так он осинового человека упрашивал, пока тот не зашевелился – то-то радости охотнику! Сначала одна рука шевельнулась, потом другая, потом ноги – и поднялся осиновый человек, на охотника смотрит и удивляется: что, дескать, за дерево такое?
Долго ли, коротко ли, а начал осиновый человек на промысел с охотником ходить: чем свет в лес отправляются, охотятся вместе – охотник добычу принесет, а осиновый человек вдвое того. И зажили хорошо вдвоем: дичи вдоволь и воды в ручье достаточно. Стал осиновый человек понемногу есть и пить, потом во вкус вошел: охотник мясо на костре пожарит и поест, а осиновый человек – вдвое того. Совсем уж как живой стал, не говорит только. Но время пришло – заговорил, да так складно! Словно знает все и разумеет: любо-дорого послушать. Охотник ему слово скажет, а осиновый человек вдвое того.
Вот и перестал охотник скучать: вместе-то с товарищем как весело! Он в лес – и товарищ в лес, он в избу – и товарищ в избу, в согласии живут, значит.
Только начал охотник вдруг замечать, что своими тропами осиновый человек по лесу ходит: уйдет вперед и на охотника не оглянется. Тот зовет его, зовет, а осиновый человек чисто глухой: ни слова в ответ. И дивился охотник, что он осиновому человеку вроде как и не нужен. Что ж ты, говорил, уйдешь от меня – и за день не вспомнишь ни разу, так разве товарищи поступают? Да осиновый человек только ухмыляется, а к сердцу слов охотника не принимает – ну, охотник не в обиде, помнит, что сердца у осинового человека нету никакого.
Сердца-то нет, а перечить охотнику осиновый человек еще как научился: что охотник ни скажет – все осиновому человеку неладно, все не по нему. Ты, говорит охотник, давно ли человеком стал, а того и гляди поперек меня пойдешь! И пойду, говорит, осиновый человек, потому как надоела мне воля твоя, моя теперь воля будет. И ну охотнику приказывать: туда сходи, то принеси, это убери – никакого просто житья с ним не стало. Охотник уж и сам не рад, что осинового товарища себе завел, да куда ж денешься.
Дальше – больше: перестал осиновый человек на охоту ходить, да и к ручью лишний раз не спустится, все норовит охотника послать, а сам целый день сиднем сидит да глазами хлопает. Тогда охотник и говорит: я тебя, осиновый человек, не для того из бревна вытесывал, чтоб у тебя на побегушках быть, а для того чтобы товарищ у меня был. Только вижу я, что не товарищ ты мне, ну и прощай на этом! И хотел от осинового человека уйти, да тот с места вскочил – и вроде как за ним, за охотником: не пускает, значит. Тут охотник испугался, шагу прибавил, а потом и побежал от греха подальше, кто его, чурбан этот осиновый, знает?
Убежал, значит, и в сарае спрятался, а сарай на все задвижки да защелки запер, чтоб не вошел туда осиновый человек. Тут и ночь настала. Охотник не спит, конечно, а прислушивается. И слышит, как осиновый человек задвижки да защелки грызет – только треск по сараю. Испугался охотник и стал молиться, чтобы осиновый человек до утра в сарай не проник. Да только не помогли мольбы: под утро сгрзыз осиновый человек все задвижки да защелки, в сарай ворвался. Охотник уж и с жизнью простился, только тут петух прокричал трижды – глядь, а человек осиновый замертво упал и не шевелится.
Тут охотник недолго думая костер во дворе разжег да и спалил на нем своего осинового товарища, чтобы тот опять не ожил {32} .
Ну что ж, наконец он в Дании, получается…
Для мамы это значило, что можно переставать волноваться. Его встретила Тильда, он сделает свои дела в Ютландии – забыла спросить, какие у него могут быть дела в Ютландии, он ведь почти десять лет там не живет – и, слава Богу, вернется в Копенгаген.
Уже, то есть, завтра.
Когда он в Копенгагене, мама спокойна: почему-то Копенгаген не представляется ей опасным. Может быть, потому, что сама королева Дании живет в Копенгагене, а уж королеву-то Дании, понятно, в опасный город не поселят… значит, контролируют безопасность, следят за обстановкой. Маме даже приятно, что он живет в том же городе, в котором королева Дании, хорошее соседство.
А вот Ютландия не кажется маме приятным местом, да честно говоря, никогда и не казалась… пугала близость Германии. Конечно, не потому, что Германия какая-нибудь уж особенно беспокойная страна, ни в коем случае: Германия, может быть, даже еще лучше Дании, вот и Лида говорит… но ему, разумеется, совсем ни к чему жить в той же стране, что Лида – вот еще глупости, в одной стране с ней жить!
Кстати, если бы не такая трудная дорога назад, мама бы к Лиде и не обратилась: этот звонок ей больших сил стоил, чуть не ломать себя пришлось. Зря она вообще просить ее стала: задним-το числом ясно – не надо было, он бы и сам прекрасно справился, взрослый мальчик уже. А так – пришлось выслушивать Лидины мудрствования, от которых всегда потом тошно и полдня в себя приходить надо…
Ну да ладно, встретился он уже с Лидой и расстался – забудем, как страшный сон.
А Ютландия не потому маму не устраивала, что там именно с Германией граница, а потому, что просто – граница. Неспокойное дело – границы, сама она у границы не жила, но прекрасно все это себе представляла: перебежчики, нарушители, контрабандисты… живешь как на пороховой бочке. Поначалу-то ладно, границу еще охраняли, даже надо было паспорт при переезде показывать, иначе на другую сторону не пускали, а потом взяли и кончили охранять, бросили все, то есть, на произвол судьбы: кто хочет, тот и пересекай. Так что он целых три последних года в Ютландии у совершенно открытой границы жил, причем в сорока километрах всего, ужас. Но потом, слава Богу, в Копенгаген переехал: услышал Господь Бог мои молитвы, спасибо Ему…
Сейчас-το он в Ютландии хоть с Тильдой и с мужем ее, такие милые люди, Тильда в Твери бывала, рассказывала, что он в Дании окружен друзьями – пропасть не дадут… Хотя опять непонятно, зачем такие вещи говорить и с чего он там вдруг пропасть-то должен, взрослый ведь мальчик уже, во всем разбирается. Тильда тоже иногда скажет – не подумает.
Но по телефону хороший разговор получился, за мальчиком (пусть и взрослым, а все-таки!) последить обещали – и последят, конечно… хотя Тильда не мать ему, может и не уследить. Скорей бы уж он в Копенгаген приехал! Потому что… ну не становится легче на сердце – и все тут. Впечатление такое, что не рассказывает он ей всего до конца: звонить-то звонит, да только в основном – чтобы успокоить… а зачем ее успокаивать? Ей лучше рассказать все как есть… разве она не поймет, когда она его с полуслова понимает?
Вот и только что из машины Тильды звонил… какой-то возбужденный: мама-Тильда-меня-встретила-и-все-такое! Что – «все такое»? Какое – «все такое»? Непонятно, что имеется в виду, непонятно, откуда чего ждать… ничего непонятно.
И звонит как-то подозрительно часто: чего из Гамбурга было четыре раза звонить, когда он там всего полтора часа и пробыл? А то я не знаю, что Гамбург для него как дом родной: когда в Ютландии жил, постоянно туда ездил… Лучше бы не звонил так часто, ей от этого только беспокойнее – тем более что звонит непонятно из каких мест, телефон мобильный могут отнять, да и связь не всегда хорошая, голос даже меняется – словно не его. Поговорит-поговорит, скажет свое пока-пока, а ты стой с трубкой около уха и вспоминай: о чем разговор-то был! И ведь так и не вспомнишь… какие-то все слова, слова – без смысла.
Нет уж, лучше пусть он впредь все-таки на самолете летает, вулканическое облако или не вулканическое облако – все равно, тем более что, говорят, страхи оказались сильно преувеличенными и сквозь облако вполне можно лететь. Она даже имена записала – тех, кто говорит… так записала, на всякий случай: Хенрик Корнмолер и Толя Хеннигсен, их по телевизору назвали – два пилота датских, которые воздушное пространство над Европой проверяли. Хотя, конечно, не очень понятно, как датчанина могут «Толя» звать – и на каком основании человеку с таким русским именем позволяют что бы то ни было проверять… русские – проверяльщики плохие, ну ладно, им там, в Дании, виднее, кому проверять. И как бы там ни было, а самолетом, с одной стороны, быстрее, с другой – всем спокойнее: сразу в Копенгаген – и точка, без этих ужасных пересадок, мимо-то Копенгагена он не пролетит ведь! На самолете, оказывается, гораздо менее тревожно, чем так… извелась просто вся за эти три дня.
Что Тильда вовремя позвонила – это очень хорошо. И что встретила… и что добрались ведь они уже, наверное, это минут двадцать на машине, сказала Тильда. Тем не менее, ну нет покоя в душе… нет как нет. Словно происходит что-то не то – то, чего не должно происходить: слишком уж все, как бы это сказать, по нотам, ни малейшего сбоя, а так не бы-ва-ет. С ним так не бывает: у него обязательно возникает что-нибудь… осечка, сучок, задоринка. Это знают все, кто его знает, а уж так, как знаю его я… – другие-и-не-собирайтесь, сказала бы покойная свекровь. И чтобы вот – без осечки, без сучка, без задоринки… Москва – Берлин, Берлин – Гамбург, Гамбург – Обенро, Обенро – Копенгаген, – это очень сомнительно.
Тут-то и позвонила Тильда: насилу справляясь с русским, рассказала, что они «получили обед», после чего она «сделала ему лифт в город» и скоро «схватит его неподалеку от библиотек». Потом Тильда помолчала и добавила: «Я буду говорить также другое».
Душа ушла в пятки.
– Он не имеет чемодан, – сказала Тильда.
– Как это – «не имеет»? Где же чемодан-то?
Тильда зашуршала бумагой. Мама догадалась: искала слово в словаре. В трубке судорожно листались страницы.
– Я думаю… я полагаю, что кто-либо во-ро-вал чемодана. Но Вы молчите, пожалуйста. Он спросил мне, что я не говорю. Но я говорю, потому что я забочусь.
– Да, спасибо, я буду молчать, спасибо… Но надо же заявить куда-то, надо позвонить и сообщить! Как же без чемодана-то… ужас какой, у него ведь там все. Надо в милицию… в полицию!
– Я не думаю, он будет хотеть. Он не будет хотеть.
– Да какая разница, будет он хотеть или не будет! Звоните и все!
– Нет, – решительно ответила Тильда, – я не звоню. Я звоню только – пауза, шуршание страниц в трубке, – согласно пожеланиям клиента.
– Какого клиента? – испугалась мама.
– Клиента, – повторила Тильда.
– У Вас клиент… – резюмировала мама, не зная, что делать с этим сведением. Ей всегда не нравилось слово «клиент», а уж в этом контексте и подавно. – Пожалуйста, Тильда… когда Ваш клиент уйдет, Вы уж позвоните в полицию, ладно? Ведь даже в России сразу звонят в милицию… рассказывать-то не нужно ничего – достаточно просто поставить их в известность о самом факте кражи, при каких обстоятельствах произошла кража…
– Я не понимала последнее слово… несколько последние словы. Но я сейчас завершаю: по дороге идет Гюнтер, он не должен слушать. Всего хорошего и спасибо. До новых встреч.
– До новых… встреч.
Так она и знала!
Вот оно: осечка, сучок, задоринка.
И страшнее просто ничего уже не бывает – чемодан украли… Со всеми вещами! Даже Лида говорила: чемодан тяжелый. Как же быть-то, а? Звонить куда-то… куда? Если в поезде украли, то… а если в Гамбурге, тогда… ах да в любом случае надо в полицию звонить – неважно, в поезде или где. Звонить в полицию и – …говорить по-немецки. Лида!
Она, положив наконец захлебывавшуюся короткими гудками трубку, нашла номер телефона Лиды:
– Лида, дорогая моя, у него чемодан украли – не то в поезде из Гамбурга, не то в самом Гамбурге, надо что-то делать, куда-то звонить, я не знаю куда! Позвони в полицию, дорогая моя, очень тебя прошу, это немедленно надо сделать, у него же в этом чемодане всё, вся жизнь…
– Как – «вся жизнь»? – оторопела Лида, тут же и придавленная уровнем ответственности, возлагаемым даже не на нее целиком, а только на ее немецкий язык.
– Ну так… просто вся жизнь – и все!
– Ценности какие-то?
– Конечно, ценности… разные ценности!
– Например, какие?
– Я не знаю, Лида, Господи, не все ли тебе равно! Надо звонить скорее…
– Так ведь чтобы звонить, надо сначала выяснить, где украли… может, чемодан у него еще в Берлине украли, я ж его в поезд не сажала, не видела, был чемодан или нет! Могли и в берлинском поезде украсть, пока в Гамбург ехал…
– Что ж это за страна-то такая? Ты говорила, что Германия в сто раз лучше Дании, а такое происходит… Целыми чемоданами ведь крадут, где же совесть-то, чтобы сразу по стольку? В Дании у него никогда ничего не крали!
– А потом, – не по-женски мужественно проигнорировав выпад в адрес Германии, продолжала Лида, – надо ведь все-таки точно знать, что в чемодане было. Список вещей нужен составленный. У меня же сразу спросят!
– Списка нету – и не будет, Лида… кто ж тебе список-то составлять станет?
– Он пусть и составит, его ведь чемодан! Ты прямо как маленькая…
– Нет-нет, ему ничего нельзя говорить, ни в коем случае, Лида, дорогая моя! Я вообще не от него про кражу узнала, а от одной приятельницы его. Сам-το он, конечно, не расскажет – пусть хоть и его самого украдут… ой, типун мне на язык!
– Может, приятельница эта чемодан и… того? Приятельницы тоже разные бывают. Вон, шведы у него какие зачуханные оказались – и остальные, небось, такие же!
– Как – зачуханные? Он сказал, обычная семья…
– Обы-ы-ычная!.. Обычные семьи – немецкие обычные семьи – все-таки получше одеваются, когда за границу едут. И твой-то не шибко хорошо одет, а эти уж совсем какие-то бомжи на вид: он в кедах, она босая, да и девочка у них…
– …босая? – Сердце у мамы упало на пол.
– Почти! Я не знаю… может, так и надо, конечно, иностранцы тоже всякие бывают, но только вот немецкие иностранцы – они очень даже опрятные… На них в городе поглядеть – одно удовольствие, особенно женщины. Ну и мужчины тоже, некоторые. Дети же – они просто вообще как картинки все, а чтобы девочка была босая…
И тут мама взяла себя в руки.
Босая девочка значит босая – не Лидиного это ума дело, у девочки родители есть. И насчет того, как мой одет, не Лиде судить.
– Я, собственно, не столько затем звоню, чтобы ты ребенка моего критиковала, сколько затем, чтобы номер полиции у тебя спросить: можешь ты открыть телефонную книгу, найти слово «полиция», по-немецки это «полицай», и прочитать цифры, которые рядом с ним стоят?
– Так… а звонить ты сама, что ли, будешь? – неприличным образом удивилась пуленепробиваемая Лида. – Ты же, по-моему, и немецкого не знаешь…
– Это я не знаю? А вот: Моргэнс загт ман Гутэн Моргэн! / Хабэн зи вас цу безоргэн?.. Нет, ну ты сама-το посуди: если я не знаю, откуда тогда ребенок мой знает?
Перед логической задачей такой сложности и таким головокружительным речевым периодом, произнесенным без акцента, мозг Лиды сразу объявил пас и растекся в разные стороны – даже странно, что она с таким мозгом смогла прочитать все необходимые цифры, после чего, едва попрощавшись, быстро (очень быстро!) положила трубку – кстати, с таким звуком, словно это навсегда.
Теперь у мамы был телефон полиции… так, кто у нас знает немецкий? Знает так, чтобы связно изложить суть проблемы: есть человек с таким-то именем и отчеством и такой-то фамилией, гражданин Дании (номер его паспорта у нее где-то записан), совершающий поездку в Копенгаген, и человека этого в дороге обокрали, украден чемодан – черный, тряпичный… или, как он называется, из полиэстера… полиистерический, на колесиках, одно колесико дефектное, объявите розыск. В чемодане находятся ценные вещи. Я бы и сама ведь смогла все это сказать, только вот… решусь ли?
Господи, что ж я за дура-то такая, Лида и та умнее, чем я! Ясное ведь дело, спросят, какие ценные вещи в чемодане, иначе искать ведь невозможно! Нет, надо ему самому, конечно, в полицию звонить… Только вот Тильду бы не подвести – он ведь спросит, откуда мне про чемодан известно, и что тогда говорить… вернее, как тогда оправдываться?
Наверное, надо начать разговор так:
– Алло, у меня есть сведения, что твой чемодан украден.
Нет, это глупо: словно я собираю о нем сведения!
Лучше просто сказать:
– Алло, мне кажется, у тебя украли чемодан.
Еще глупее: я же не ясновидящая!
Измучившись вконец, мама решила провести разговор как получится.
– Алло, ты пообедал уже?
– Пообедал, а… что?
– Нет, ничего, у меня вот уже минут двадцать на сердце очень беспокойно.
– Это почему же такое? – Голос улыбался.
– Потому что… да потому что я все время боюсь, не украли бы у тебя чего-нибудь… бумажник, чемодан. Ты ведь невнимательный: задумаешься, а чемодана и нет!
– Вот уж за чемодан совсем больше не волнуйся.
Она боялась даже дыхание перевести…
– Чемодан я уже спровадил.
– Я не понимаю… что значит «спровадил» – не понимаю!
– Мам, ну скажи: зачем тебе это понимать? За-чем тебе вообще так подробно знать каждую мелочь, что это изменит в твоей жизни? Ну хорошо, чемодан отправлен вперед, устраивает тебя так? С надежными людьми, которые от Обенро едут на машине в Копенгаген! А мне без вещей – удобнее, понимаешь? Тяжело мне такой большой чемодан за собой таскать, понимаешь? Устаю я, понимаешь?
– Так сразу в нападение-то зачем?
– Да какое же «сразу», когда ты мне шагу ступить без присмотра не даешь? Вспомни, сколько мне лет…
– Я помню.
– Ну, хорошо. Рассказываю все, как на суде – на Страшном суде…
– Не надо.
– Нет надо, рассказываю! Дело, видишь ли, в том, что я вполне мог бы с этими людьми на машине поехать и доехать до самого просто Копенгагена…
– …и ах как хорошо, что не поехал, опасно на машине, я рада, что ты поездом!
– Вот! Вот оно: это самое главное – чтобы ты была рада! Для этого, видишь ли, все и делается. Я бы, между прочим, не стал встречаться с Тильдой – нет-нет, это всегда приятно, но вот именно сейчас не до того мне, не до приятного времяпрепровождения! Но ты без моего ведома взяла с ней и договорилась! Обрадовала человека моим приездом, человек готовиться начал, мне неловко было отказываться! А так я бы уже на пути в Копенгаген был.
– То есть, ты хочешь сказать, что ты из-за меня на машине не поехал. Так? Но ты ведь сам еще раньше говорил, что у тебя дела в Ютландии! Или не говорил?
– Говорил! И говорил, что в Ютландии. Но я не говорил, что у меня дела в Обенро, так ведь? В Ютландии – не значит, что в Обенро, так ведь? Ютландия большая!
– Как же большая, когда во всей стране пять миллионов? Небось, вся твоя Ютландия меньше Твери!
– При чем тут сейчас это? Я из Германии прямиком – заметь, что без пересадки! – во Фредерицию собирался, в центр учебный один – там меня сегодня ждали. А теперь мне придется как угорелому мчаться завтра с утра во Фредерицию, а во второй половине нестись дальше… опять же сломя голову.
– Почему – как угорелому и сломя голову? – Она чуть не плакала, с трудом сдерживалась уже.
– Да потому что я спешу, у меня работа в Копенгагене, у меня студенты!
– Ну, не заезжай тогда во Фредерицию…
– Я договорился уже – сто лет назад.
– А сейчас-το ты где конкретно – в смысле… в каком месте Обенро? И чем занимаешься?
– Ты же не знаешь Обенро, зачем задавать такие вопросы?
– Я знаю Обенро! Ты мне столько открыток оттуда присылал, я там каждый уголок слезами облила…
– Ой, вот только про это – не надо! Хочешь знать, где я конкретно – пожалуйста: конкретно я на Ramsherred, говорит тебе это что-нибудь? А занимаюсь чем – ничем, просто по городу гуляю, я жил тут пять лет почти, посмотреть хочу, что изменилось, – можно?
– Да можно, конечно, и я помню, сколько ты там жил… ты нервный очень. Гуляй, ради Бога, я же не против, только осторожно гуляй, вот и все.
– Большое человеческое спасибо!
Она даже обрадовалась, что на этом он прервал их перепалку… невыносимо было больше… Он и так весь издерганный, а я его еще дергаю… зачем? Ну, тут-то, положим, не моя вина, тут меня Тильда всполошила – я уже почти в полицию звонить начала! Хороша бы я была, докладывая о краже, хотя как бы я докладывала-то – по-немецки? А впрочем, впрочем, впрочем…
Она была уверена в том, что надо было бы заговорить по-немецки – заговорила бы. Во всяком случае, не хуже Лиды заговорила бы. Что ей – немецкий? Ей, на целую четверть немке, ей, говорившей на этом чертовом немецком с отцом – вплоть до того дня, когда он пропал без вести, а вместе с ним пропал из ее шестилетней жизни и немецкий язык? Тогда она поклялась себе, что забудет этот язык, что никогда, никогда, никогда не заговорит на нем снова. А потом началась война – с немцами, и, слыша немецкую речь, она затыкала уши, чтобы не понимать, о чем они… чтобы не понимать: они о том, как получше убить ее – ее и всех, кто не понимает, о чем они! Это теперь немцы говорят о другом, а тогда, в ее детстве, они говорили только об этом.
Но ради него она, конечно, заговорила бы на своем шестилетнем немецком! Моргэнс загт ман Гутэн Моргэн! / Хабэн зи вас цу безоргэн?… – она даже не смогла бы сейчас этого записать, но гортань – помнила, кровь – помнила… немецкая кровь.
Ее долго мучил один и тот же кошмар: что она рожает ребенка, и все сразу видят, что это немец. И у нее забирают ребенка…
Впрочем, кажется, так и случилось.
Надо все-таки понимать, убеждала себя она, надо понимать, что он давно, очень давно там живет, и что масса знакомых у него, за пятнадцать-то лет! За пятнадцать лет, пожалуй, со всеми пятью миллионами перезнакомишься, – ну и… что ж удивительного в том, что ему на пути постоянно попадаются знакомые – то один, то другой? Это ведь ес-тест-вен-но!
А чемодан, конечно, лучше было отдать тем, кто с машиной, чем… чем мотаться с ним по всей стране, это он правильно сделал. Но, может, ему и правда надо было на машине ехать до Копенгагена, а я ему все планы разрушила? Хотя… как же до Копенгагена, когда он во Фредериции остановиться хотел? Ох, вранье одно… большой ведь мальчик, а врет, как в детстве врал. Всю жизнь свою сочинил – и ведь продолжает сочинять! А я – разве я ему худого хочу? Ну, договорилась с Лидой, с Тильдой договорилась… так ведь и сам же он мне рассказывал про Фригг, Одина жену, как она за мальчика своего боялась – за Бальдра. И пошла, дескать, по всему миру Фригг, чтобы со всем на свете договориться, с каждой вещью… с растением каждым, камнем, металлом: не причиняй вреда мальчику моему – и каждая вещь слово ей дала, что не причинит вреда, у-мо-по-мра-чи-тель-но красивая история! Только с омелой не договорилась: проходила мимо – решила, что уж больно мало растеньице, какой от него вред? Вот от омелы и умер Бальдр, стрелой из омелы в самое сердце застреленный… ох. Так что никого пропускать нельзя: есть возможность договориться – лучше договориться, вот и она договорилась с Лидой и Тильдой… жалко, во Фредериции она не знает никого, а то бы и там договорилась: помогите мальчику моему, дайте слово! И – дали бы слово, понятно.
В ту же секунду раздался звонок: она знала, что это он.
Он и был.
– Я очень коротенько, а то телефон садится – просто сказать, чтобы ты не волновалась: мы пообедали, и Тильда только что доставила меня в Обенро, я тут похожу немножко по памятным местам всяким – и назад, Тильда меня заберет у библиотеки. Пока-пока!
– Пока-пока…
Она даже не успела опомниться после этого совершенно безмятежного звонка, непонятно как соотнесенного с только что состоявшимся между ними разговором, как телефон зазвонил опять. Она осторожно подняла трубку – ни на секунду не сомневаясь, что снова услышит его голос.
И услышала:
– Ну, ты как там, в порядке?
– В порядке…
– И я в порядке. Я только что пообедал – и сейчас Тильда повезет меня в город на часок… похожу по улицам – может, старых знакомых встречу.
У нее зазвенело в ушах.
У нее всегда начинало звенеть в ушах, когда страшно.
Или это в четвертый раз звонил телефон.
Тетрада 4… Все тетрады интеллектуальны; из них возникает порядок, они опоясывают мир, как Эмпиреи, и проходят через него. То, почему Пифагор представлял Бога как тетраду, объясняется священным рассуждением, приписываемым самому Пифагору, где Бог называется Числом Чисел. Это потому, что декада, или 10, состоит из 1, 2, 3 и 4. Число 4 является символом Бога, потому что оно символ первых четырех чисел. Больше того, тетрада есть середина недели, будучи промежуточным между 1 и 7. Тетрада есть также первое геометрическое тело.
Пифагор утверждал, что душа человека состоит из тетрады, при этом четыре силы души – это ум, наука, мнение и чувство. Тетрада связывает все вещи, числа, элементы и сезоны. Ничего не может быть поименовано, что не опирается на тетрактис. Это Причина и Делатель всех вещей, постижимый Бог, Творец небесного и чувственного добра. Плутарх интерпретирует тетрактис, который он также называет миром, как равный 36, состоящий из первых четырех нечетных чисел, сложенных с первыми четырьмя четными числами:
Ключевыми словами к тетраде являются «стремительность», «сила», «мужество», «держатель ключа к природе», потому что универсальная конституция не может существовать без тетрады. Она также называется гармонией и первейшей глубиной и важностью. Следующие боги разделяют природу тетрады: Геркулес, Меркурий, Вакх и Урания (одна из Муз).
Триада представляет главные цвета и главные планеты, в то время как тетрада представляет второстепенные цвета и малые планеты. Из первого треугольника выходят семь духов, символизируемые треугольником и квадратом. Вместе они образуют масонский фартук {33} .
Надо было бы – и пусть никто не спрашивает зачем – заглянуть туда, где он однажды жил.
Он, и Курт, и Торнбьёрн, и Расмус, и Майбрит… – и все они, девять человек, больше половины из которых нет уже в живых.
Все они жили тогда по соседству и делали одно небольшое общее дело, а что за дело – кому какое дело? Небольшое общее дело делали… есть такие небольшие общие дела.
За небольшое это общее дело им платили небольшие общие деньги – впрочем, каждому в отдельности вполне хватало на то, чтобы жить свою необременительную жизнь на юге Дании, у самой границы с Германией… жить, значит, свою необременительную жизнь сразу в двух странах, не очень даже и различая, где тут у них Дания, а где – Германия: подумаешь, сорок километров, не околица! Полчаса езды из одной страны в другую. Причем датский и немецкий – по обе стороны: на каком, значит, хочешь говорить – на том и пожалуйста.
Так вот, общее, значит, у них было дело – общее, но, в сущности, не нужное никому дело… даже странно, что на него дали грант, да еще на три года. Впрочем, не какой-нибудь особенно головокружительный грант – скромный весьма грант, только чтобы сводить концы с концами, хотя концы с концами в благословенном этом краю сводились легко, гораздо легче, чем теперь, в Копенгагене, где денег больше, но и концов, которые сводить, не в пример больше – почему-то…
Нуда Бог с ними, с концами, неважно это, а потом на то концы и существуют, чтобы их сводить.
Он вышел на маленькую площадь в центре Обенро, где когда-то любил посидеть у фонтана – вместе с другими любителями посидеть у фонтанов: любителей здесь всегда было не то чтобы много, но – имелись.
Теперь же пусто было у фонтана, куда-то делись все любители… никак, перевелись? Да и вообще много чего уже не так в этой местности, народу совсем мало, покидает народ Ютландию. Безработица, говорят, и, говорят, неперспективная географическая зона, хотя как же – неперспективная-то, когда между двумя странами, и когда Орезунд, тоже пограничный регион, перспективная: народы обоюдно мигрируют туда-сюда, живут в Дании, работают в Швеции – или наоборот, и всё хорошо, и безработица не помеха. А вот Ютландия вдруг – неперспективная географическая зона… непонятно.
И как-то действительно она подвымерла, Ютландия-то. Хотя, с другой стороны, вечер на дворе, тут вечерами и прежде мало кто на улице оставался. Закроются в полшестого магазины – и южных ютов словно метелкой с улиц смели: нечего больше делать на улицах. Только Føtex, Fakta и Netto, главные супермаркеты, до восьми, и вблизи от них еще продолжают клубиться южные юты, пока супермаркеты не закроются, а там уж – совсем никого во всем городе: шаром покати. Только глубокой ночью молодежь начинает виться у ресторанов… ресторанчиков. Но всеми глубокими ночами людям его возраста – и тогдашнего, и теперешнего… впрочем, разница не особенно велика – полагается спать и видеть сны.
Короче говоря, в данный момент у фонтана он сидел один. А может, так оно и хорошо – даже определенно хорошо! Слишком много прошло времени: старых любителей посидеть здесь ему, пожалуй, и не узнать бы теперь, а новых… – он усмехнулся: новых не должно быть, нечего им делать возле – к чему осторожничать? – чужого фонтана. Тут у нас прошлое, которое прошлым пусть и остается: чтобы все по-прежнему, чтобы не менялось ничего.
Узнаваемый, между прочим, ход мыслей. Так тутошние эмигранты уже тогда считали: мы, дескать, здесь давно, а другие иностранцы ни к чему, и без вас больно нас много, отвалите-граждане-дорогие, Европа не резиновая! Ох… если Запад действительно чем-то отличается от Востока, то, скорее всего, как раз этим: непреходящей, значит, альтруистичностью циничного западного индивидуализма в сравнении с трудно преодолимым шкурничеством человеколюбивой восточной соборности. Пару-тройку раз он даже был свидетелем – нет-нет, не участником, ни Боже упаси! – разве что не кровопролитных дискуссий между аборигенами (для обозначения каковых, заметим, в датском языке никакого слова не имелось) и гостями: для них имелось даже два слова – беженцы и эмигранты, постепенно, правда, сливавшихся в одно – беженцы-и-эмигранты… беженцыиэмигранты… беженцэмигранты… беженцемигранты.
Так вот, беженцемигранты чаще всего отстаивали противоестественную, казалось бы, для них необходимость все-же-ограничивайт-или-лучше-совсем-прекрайщайт-эррайвэль-любых-иностранцей-ф-нашей-Данимарк, между тем как лучшие представители отсутствующих на датском языке аборигенов – тоже вопреки, казалось бы, логике – считали, что ничего-ладно-пусть-приезжают-если-у-них-на-родине-жить-невозможно, раз-мы-уж-и-так-сто-тысяч-кормим-то-и-двести-прокормим, а-как-же-иначе-у-нас-ведь-тут-благосостояние-делиться-надо, – благосостояния своего, кровью нажитого, при этом чуть ли не стесняясь.
С тех пор, кстати, для него не составляет труда с полувзгляда отличить подлинного европейца, откуда бы тот ни приехал на Запад, от европейца мнимого, сколько бы этот последний ни выдавал себя за подлинного и как бы долго здесь ни прожил. Не-е-ет, шалишь, голубчик: настоящий европеец – он объятия распахнутыми держит, хоть и себе во вред, а ты у нас не европеец никакой, ты просто живешь в Европе, да только местожительство не всегда значение имеет… и вот что касается лично тебя – тут полное увы, и ты уж извини, не бывать тебе настоящим европейцем, сострадания в тебе мало, чувства вины мало, а в чем вины – тебе не объяснить.
И не то чтобы настоящие европейцы не понимали, что Европа-не-резиновая – еще как понимали, да и слышали ведь треск: по всем швам трещала Европа, откуда ж иллюзии? Но, понимая это, все-таки продолжали, дурачки, искушать судьбу: а мы еще давайте последних тысяч двадцать примем… и потом еще самых последних пять тысяч… ну и хотя бы тысячу дополнительно, жалко их, у них война в стране, только это уж последние-последние, хотя тут вот полтораста человек между двумя границами застряли, как откажешь, да и вон тех тридцать душ взять надо… плюс того, который на отшибе, он давно там стоит… – как, еще двадцать тысяч? Да ладно, пусть приезжают… но тогда уж совсем-пресовсем последние, договорились?
Договориться, конечно, договорились, а толку-то что! Еще немного лет пройдет – тридцать? пятьдесят? сто? – и пропала Европа… переоценив бескрайность небескрайних просторов своих. Своими руками приговор себе подпишет, да только уж радоваться некому будет: Европа миру нужна, пока Европа, а как только признаки Европы утратит – на что она такая? Тогда уж лучше Китай: там новее, богаче… туда и поедем жить – жить-поживать да дешевого китайского добра наживать.
Но пока все еще настежь открыты европейские объятия – и «своих» от «чужих» продолжают отличать по степени широты объятий этих: чем шире объятия – тем человек «нашее», ибо не принимает сердце жлобства, ибо… что тут греха таить! – коммунисты мы все тут в Европе, последнее с себя сорвем и с обозом гуманитарной помощи на другой конец света отправим. Ничего, что с завтрашнего дня экономить придется – на еде, на воде, на свете, на тепле, а на чем же тут еще на Западе экономить, не на тряпках же, которые никому не нужны! Начнем экономить, значит – и наэкономим сколько другим не снилось, а тут опять возок к дому подъедет: пода-а-айте жертвам наводнения!.. И подадим, чего ж? У нас тут благосостояние.
Да, да, да… европейские объятия пока распахнуты настежь – во всяком случае, сам он изо всех сил старался убеждать себя в том, что это так. И он будет убеждать себя до последнего – пока не останется единственным, кто верит в это. Ибо потерять веру – веру в просвещенную, гуманную и справедливую Европу – было бы равносильно для него потере главной его опоры, равносильно свержению в пустоту, в бездну. Он знал, что способен пережить многое, но что день, когда будет объявлено: «Нет больше Старой Европы» – окажется последним днем его жизни.
Однажды он признался в этом Курту – тот вздохнул и покачал головой: дескать, это где ж ты тут Старую Европу-то углядел!.. Или не заметил, как вот хоть и Дания за последние лет десять совсем другой страной стала: ты же и сам помнишь, в какую Данию приехал, – ну и… что? Разве такова она теперь?
Пусть! Пусть теперешняя Дания не такова – и пусть даже он видит, что она не такова, а другова: все в ней сильно съехало вправо… так бывает с людьми, перенесшими инсульт, так было с его дедом, у которого за один коротенький вечер, за одно лежание на диванчике вдруг сместилась вниз вся правая половина лица – и дальше все запуталось в дедском мире: так испокон веков называли в семье мир крайне причудливых дедовых представлений о реальности… и пропала реальность, как ветром сдуло. Датская реальность – милая реальность прежней его ютской жизни – тоже пропала, и теперь оставалось только с горечью вспоминать о том, как славно все было вот еще и десять лет назад, и как очевидно не так, как обидно не так, как постыдно не так стало теперь! Завинчено все, что только можно было завинтить… а что нельзя было завинтить, то вбито молотком по самую шляпку. Прямо в душу его вбито. И очень больно душе.
Но – Ютландия! Ютландия не Дания, Ютландия Данией никогда и не была, Ютландия всегда существовала по своим законам: это здесь впервые в Европе возникло справедливое «ютское право», Ютский Закон – самый ранний, говорят в Дании, образец европейской конституции… так что пусть сколько угодно меняется Дания, но, пока остается Ютландия, не погибнет Старая Европа: он утешал себя этим, увещевал себя, убаюкивал и – верил. Да гори оно все синим пламенем: у него есть Ютландия… та, в которую он однажды приехал и которая не имеет права меняться!
А вот ведь сидел он один у фонтана – и, эдакий жлоб соборности, всем своим видом показывал: посторонним вход воспрещен! Хотя – какие ж посторонние в Обенро-то? Небось за последние пятнадцать лет он единственным посторонним и был. Ну, почти единственным, ибо водилась здесь поблизости еще одна русская девушка-женщина, именно в Обенро устроившая брачное агентство и постоянно дававшая объявления в местную газету: дескать, молодые и красивые россиянки готовы познакомиться с датскими мужчинами (какими – не уточнялось, но понятно, что не со старыми и безобразными) для серьезных отношений (каких именно – не уточнялось тоже, но опять же понятно, что ни в коем случае не исключительно половых). Потом, уже в Копенгагене, одна молодая и красивая россиянка вдруг ни с того ни с сего разоткровенничалась: мол, в Дании она оказалась как раз при посредничестве той самой русской девушки-женщины из Обенро… «а ты думаешь, что кто-то из нас по-другому?» Да нет, он не думал – он вообще на эти темы не думал, но однажды, спустя несколько дней после этого разговора, русская девушка-женщина из Обенро приснилась ему в виде огромной свиноматки, лениво кормившей суетящихся у ее сосков молодых и красивых россиянок небольшого размера, – ужас, в общем.
Иными словами, никаких посторонних – кроме него самого да нескольких сотен неизвестно где затаившихся молодых красивых россиянок и их общей матери – в Обенро сроду не водилось.
А от фонтана, между прочим, виден был дом… м-да, еще один родной дом, с тех давних пор до вот этих вот продолжавший считаться родным: так сердцу хотелось. Именно тут поселился он, впервые приехав в Данию: трехэтажный дом с – плачь-рыдай, Антон Павлович! – мезонином… Мезонин и отвели «приезжему русскому», подходили они как-то друг другу, что ли, – тот мезонин и тот русский.
Из мезонина открывался вид на море – Балтийское. Не целиком конечно, на море, только на фьорд, но казалось – что целиком на море. Иногда сильно пахло чем-то морским… ветер то и дело приносил тошнотворный такой запах, очень сладкий. И привыкнуть к этому запаху почему-то было невозможно – возможно было только игнорировать его – что, впрочем, уже полдела. Но он пошел дальше – не только перестав замечать, но и полюбив этот тошнотворный запах: спрашивать ли с него большего? При том, что определяло его отношение к жизни именно обоняние – и не было для него ничего более невыносимого, чем дурной запах: со всем остальным он мирился, с этим – нет. За исключением, вот… запаха из порта Обенро.
Стало быть, так оно тогда и имело-место-быть: море во все окно и – редкие южные юты на набережной. Даже не столько южные юты, сколько северные немцы: это их дома тянулись вдоль набережной в том богатом месте, которое видно было из его окна, ибо южные юты не совершают променадов по набережным, занятой они народ, не праздный. Позагорать или искупаться в море – еще куда ни шло, а вот по берегу бродить – не ютское это дело, тут немецкая сентиментальность требуется.
Немецкой сентиментальностью, кстати, он в данный момент основательно и пропитан: незадолго до встречи с фонтаном пройдясь в одиночестве по набережной и поговорив (стыдно признаться, на языке Маяковского, в смысле как-я-рад-что-ты-живой… и все такое) с кораблем по имени Svea Viking, старым своим знакомым, как раз стоявшим на рейде. Корабль, между прочим, ничуть не изменился: как и в прежние времена, молчаливо нес какую-то ахинею насчет того, что все-везде-одинаково и что плавание в разные края есть просто стяжание пространства. Причем говорил корабль по-немецки: видимо, по старой памяти, не рассчитывая на то, что собеседник сладит с датским – или просто наконец уличив собеседника в упомянутой уже немецкой сентиментальности.
А вот забавно, что десять лет назад, даже и прохаживаясь по набережной немецкой походкой, он не чувствовал себя немцем – уже тогда он чувствовал себя скорее ютом, считая за счастье хоть и шапочно принадлежать к ироничной этой народности, которую на сантименты не купишь: всякого мы, дескать, на своем веку насмотрелись, и нету для нас больше в жизни интереса. Тяжелые на подъем южные юты, медлительные и… чудесные. С этакой неторжественной, непоказной сердечностью: ты только еще раздумываешь, как тебе в их плотный круг пробраться, а они тебя уже давно в тот круг приняли и забыли о тебе, живи с нами, чего ж… язык только у нас трудный – даже, вон, Копенгаген не понимает. Интересно было, помнится, с тутошними иностранцами разговаривать – особенно с африканцами: уча датский в основном на слух, иностранцы здесь усваивали диалект, не подозревая, что разговаривают на южно-ютском, а не на датском… и когда такой вот знойный человек обращался к тебе на диалекте, обильно сдобренном густым чернокожим акцентом, – ах, что за праздник это был для утонченного лингвистического слуха!
Ютландия стала для него чем-то вроде опять-родины: иногда даже неправильно казалось, что здесь он жил ребенком… – хотя ведь ребенком и жил, как же иначе: языка не знал, понятия ни о чем не имел, все приходилось постигать на собственном опыте – быстрое такое детство, года два заняло, за ним – отрочество на полгода, потом – юность, еще на полгода, а там уж и зрелость, в неполных два года длиной. Вот и вся тебе ютская жизнь… кончившаяся отъездом в столицу. И когда потом его спрашивали: «Ты откуда?» – он машинально отвечал: «Из Южной Ютландии» – после чего собеседник вздрагивал, опасаясь, что он тут же и начнет говорить на своем никому не понятном южно-ютском. Но он, конечно, такой пытке в столице никого не подвергал, да и не знал диалекта толком… с диалектами ведь как: или владей в совершенстве, или – не порть материала!
А родной дом – вот он, значит: стоит, как стоял.
Из родного дома пахло рыбой: была среда, когда традиционные южные юты кушали рыбу сознательно – потому что среда. Во все остальные дни ее тоже потребляли в больших количествах, только бессознательно: много рыбы вокруг – море. Обедали тут поздно, кто в семь, а кто и того позднее – так что вечерние наряды местных модниц по средам пахли то жареной селедкой, то копченым угрем… красота!
Из родного дома, значит, в этот поздний час все еще пахло рыбой.
Потом у родного дома появилась фру Йенсен – живая, настоящая фру Йенсен, направившаяся прямо к нему. Она улыбнулась, сказала принятое в этих местах «мойн» и – не узнала его. Десять лет прошло, он изменился и, хоть ответил ей таким же улыбчивым «мойном», не рассчитывал на то, что его узнают. Вот и не узнали.
Два «мойна», столкнувшись в вечернем обманчивом воздухе, замертво упали к его ногам.
Между тем, сама фру Йенсен, как Svea Viking, почти не изменилась. Она, правда, чуть расширилась, но одевалась, похоже, в старые свои наряды, которые опасно потрескивали на раздобревшем теле: вот-вот лопнет ткань – лопнет и откроет нелюбопытному его взору много лет успешно утаивавшиеся от мира старые, но вполне достойные еще прелести фру Йенсен. Ее саму перспектива такая, похоже, нисколько не беспокоила.
Он знал, куда направляется фру Йенсен: обычно в этот час она, вместе с фру Магнуссен, кормила золотых рыбок в крохотном пруду на территории маленького общественного садика здесь неподалеку. Около пруда была романтического вида белая беседочка, а в ней – банка с овсяными хлопьями, которыми все кому не лень то и дело пичкали этих неповоротливых рыбок, окончательно зажравшихся еще в его времена.
– Привет от меня фру Магнуссен, – отправил он вслед фру Йенсен.
Фру Йенсен остановилась, обернулась и с милой бесцеремонностью южного юта принялась разглядывать его – сперва верхнюю часть, потом, на всякий случай, нижнюю – а разглядев, просто сказала: «Это ты».
Подошла ближе, он приподнялся.
Обнялись.
– Вот… – поспешно начал он, – решил приехать посмотреть, как у вас тут дела. Ну и… привет, значит, фру Магнуссен, когда увидитесь.
– Умерла фру Магнуссен, – быстро сказала фру Йенсен. – Но привет передам… случай, надеюсь, скоро представится. – И она улыбнулась.
Он, кажется, отвык уже от южно-ютского юмора…
– К Курту зайди, – снова обернулась фру Йенсен. – Он тебя без конца вспоминает.
И упша наконец к рыбкам, последним своим советом ввергнув его в такую смуту, что он даже дышать перестал. По его весьма и весьма свежим сведениям, Курт сейчас, как и все последние много лет, находился в Копенгагене – увидеться им предстояло только послезавтра.
Фру Йенсен, стало быть, отбыла восвояси, а он поднял глаза к третьему этажу дома – родного, как сказано, дома.
Поднял и – не поверил глазам: у открытого окна, держа в руках голубую свою кружку, стоял и смотрел на фиорд Курт – сомнений в этом не имелось. На Курте был хорошо видный отсюда обычный его белый халат, из-за которого Курт выглядел небольшим заснеженным пригорком.
И – сердце перестало биться.
Он выхватил из кармана мобильный и набрал номер Курта. Один гудок, другой, третий, четвертый, пятый… да что же Курт трубку-то не берет?
Белый халат пропал из окна.
– Алло, это Курт.
– Алло… Курт, ты чем занимаешься?
– Да так, ничем… кофе, вот, пью. – Ив голосе, что примечательно, полная безмятежность, ютская.
– Кофе пьешь… где?
– Дома пью, ты же на домашний звонишь!
– И… как тебе сейчас?
– Странные вопросы ты задаешь, min herr, ей-богу. Что это значит: как мне сейчас? Мне сейчас… – мне сейчас, как и всегда: я дитя четверга. А ты где?
– Да я тут… в одном месте.
Он не смог сказать Курту, где он. Курта расстраивало любое напоминание о Южной Ютландии, которую Курт любил больше всего на свете. Однажды, после бурных тридцати лет в Копенгагене и окрестностях, Курт, почти уже шестидесятилетним, вернулся было в Южную Ютландию, чтобы остаться там навсегда и в свой час лечь в землю на маленьком кладбище вблизи от Обенро. Отправляясь в Ютландию, Курт был уверен, что отправляется в последний путь: собрав все свои – многочисленные, надо сказать, – пожитки и тщательно упаковав их во всевозможные коробки и коробочки. Вместе с мебелью коробки и коробочки в грузовом контейнере отправились на новое место жительства, а вслед за ними, на поезде, приехал и Курт, еще не знавший тогда, что мебели, а также коробкам, коробочкам и ему самому не так много лет спустя придется пускаться в обратный путь, в Копенгаген!
Ибо неисповедимы пути Господни и черт знает кого посылает нам судьба.
Например, никому не нужных здесь русских, о тщательном вживании которых в страну с последующим тщательным проживанием в ней куртам приходится вдруг заботиться до конца дней своих.
Когда, внезапно получив работу в Копенгагене, русский никак не мог найти себе жилья, помог именно Курт, всю жизнь числившийся членом какого-то жилкооператива и время от времени автоматически получавший предложения касательно то одной, то другой жилплощади в столице-и-окрестностях. Последним предложением стал не ахти какой двухэтажный домик, который Курт и разделил с этим русским-чтоб-его… и поехала назад в Копенгаген мебель, поехали коробки и коробочки, поехал сам Курт – из любимой Ютландии, где он намеревался пожить-сколько-получится-и-умереть.
С момента повторного переезда в Копенгаген перспектива эта померкла, а вскоре и исчезла совсем. Так что Курт тосковал по Южной Ютландии… тосковал каждый день, каждый час, каждую минуту – и до сих пор выписывал оттуда местную газету, из которой теперь узнавал все южно-ютские новости. Наверное, было известно ему и то, что фру Магнуссен почила в Бозе, – уж кто-кто, а Курт, осведомленный о событиях южно-ютской жизни, никогда бы не послал фру Магнуссен привет через фру Йенсен!
Между прочим, здесь, в Южной Ютландии, сплелись все корни Куртова старинного рода, а он даже не успел распутать их, дойдя в генеалогических своих розысках и всего-то до шестнадцатого века… ибо не торопился он тогда, времени впереди много было, да теперь вот… поздно, поздно, поздно: как распутаешь южно-ютские корни из Копенгагена, с расстояния в четыреста километров!
– Что значит «в одном месте»? – спросил Курт, не дождавшись пояснений. – Ты заблудился – или как?
– Нет-нет, Курт… не волнуйся.
Он не заблудился. Или – заблудился. Это в зависимости от того, где сейчас находится Курт: здесь или в Копенгагене. Потому как не может же быть двух Куртов в этом мире… – или может? Если его самого может быть и два, и три, то почему Курт должен быть только один… возрадуйся: в этом мире два Курта!
Ан не воз-ра-до-вы-ва-лось, даже наоборот: хотелось, чтобы только один Курт был в этом мире, «два Курта» пахло мошенничеством, подлогом пахло и – бедой. Даже, кажется, побольше бедой, чем когда тебя самого переизбыток.
Вот оно, значит, как… эгоист ты чертов, тебе, значит, по кайфу увеличиваться в численности: приятное такое занятие, новые пространства жизни, новые территории… колонизатор. А как другим умножаться – это нет, лучше не надо? Quod licet Jovi, non licet bovi – так, стало быть? Но тут, пардон, надо бы еще разобраться, кто Юпитер, кто бык… и потом, с чего ты взял, что у тебя вообще спросят, кому всколькером под этим небом существовать? Кроме того, откуда и когда у тебя вообще возникла такая уверенность в том, что каждого – по одному? Минус двойники, конечно… двойники не считаются, двойники – глупость, случайность, ошибка природы, игра стихий, даже и непонятно, чего мировая литература к ним привязалось, не в них дело! А в том дело, что…
…что каждого из нас пруд пруди. И нет никакой гарантии, что тот человек, который сегодня ложится спать, и тот человек, который завтра проснется в его постели, – один и тот же человек. Или что мы, скажем, вообще не рождаемся заново каждое утро: может быть, нас ровно столько, сколько в нашей жизни было утр? И – привет Пра! – к черту всякое единство личности: нету никакого единства личности там, где во сне личность, например, даже и не подозревает, что с ней происходит, ибо утром не помнит уже ничего… где тебя носило, с кем носило, а главное, в каком виде обратно доставило – не-из-вест-но.
Забавную книжку он читал в первом своем самолете, направлявшемся в Данию: не то американскую, не то английскую, сейчас уж забылось. Он и в первое утро в Дании, за одиноким кофе с круассанами (встал поздно, будущие коллеги уже ушли на работу, приняв решение его не будить), ее читал: как раз то место, где говорилось и необходимости каждую минуту экзаменовать себя на предмет сплю-я-или-бодрствую. И упражнения соответствующие приводились. Спросите, дескать, себя, узнаете ли Вы окружающую Вас обстановку (нет, отчитался он)… дальше, вроде бы, шли подробности: знаете ли Вы, к примеру, имена соседей (нет!), помните ли, что лежит в ящике письменного стола (нет!)…
И Курта больше, чем один, и Торульфа, и Кит. Жаль только, вот, что Манон одна…
Вдруг выключили фонтан, бормотание воды прекратилось – в этой внезапно возникшей тишине каждое его слово теперь станет слышнее… осторожно, могут услышать другие. Звук пришедшей смс-ки на полсекунды сбил тишину с толку – смс-ке ответил далекий грохот из порта, заткнувшийся, впрочем, тут же. Наверное, звук смс-ки имел на фоне тишины особенно важный смысл.
Он – легонько, на всякий случай, – нажал на «Læs besked».
«Я запутался в твоем маршруте. Где ты сейчас?» – стояло по-русски под Борькиным номером телефона.
Скривившись от необходимости отвечать транслитом, он, тем не менее – бодро, поскольку врать Борьке никогда не возникало необходимости, набрал «Ja v»… – и остановился.
И нажал на «Slet besked». Ему нечего было ответить Борьке: он и сам в своем маршруте запутался.
Конечно, у него не было сомнений в том, что, навсегда простившись с Манон, он в данную минуту находился в Стокгольме, на Centralstationen, в зале для особо важных персон (билет первого класса – другого не удалось заказать из России – давал право воспользоваться всеми преимуществами богатого путешественника, что он, черт возьми, и делал, поскольку обратная поездка уже сейчас стоила ему больше, чем полет в оба конца) – стало быть, он на вокзале, в ожидании ночного поезда, уже через полтора часа отправляющегося в Мальмё.
Но вокруг медленно уплотнялись южно-ютские сумерки, на балконе прежней квартиры Курта маячил белый халат – небольшой заснеженный пригорок, очень скоро обещавший раствориться во мгле, и непонятно было одно: возможно ли все это в Стокгольме… то есть, нет, не так – полностью ли все это исключено в Стокгольме или остается хоть какая-нибудь вероятность…
– Ты все еще тут? – услышал он голос фру Йенсен, необыкновенно поздно возвращавшейся с кормления рыбок.
– Я думал, все рыбки давно спят, – без особой охоты пошутил он.
– Привет тебе от фру Магнуссен, – задумчиво сказала фру Йенсен. – Так хорошо с ней поговорили… просто как никогда.
Парсонс исходит из того, что социальное действие невозможно, если Alter ставит его в зависимость от действий Ego, a Ego стремится связать свое поведение с Alter. Чистый, далее не разработанный круг самореферентного определения оставляет действие неопределенным, делает его неопределимым. Таким образом, речь идет не о голом согласовании поведения, не о координации интересов и намерений различных акторов. В гораздо большей степени речь идет об основном условии возможности социального действия как такового. Без решения проблемы двойной контингентности никакое действие не осуществляется, так как отсутствует возможность его определения. Поэтому решение этой проблемы Парсонс видит в понятии действия – обязательным отличительным признаком действия он считает нормативную ориентацию, приводящую к консенсусу. <…>Парсонс <…> усматривал решение проблемы в допущении (на самом деле весьма неявном) о ценностном консенсусе, в согласованной нормативной ориентации, в «общей символической системе» (shared symbolic system), имеющей, подобно «коду», нормативный характер. <…> В еще неясной ситуации Alter определяет свое поведение методом проб. Он начинает с приветливого взгляда, жеста, подарка – и ждет, примет ли и как примет Ego предлагаемое определение ситуации. В свете этого начала каждый последующий шаг является действием с определяющим эффектом – позитивным либо негативным, – уменьшающим контингентность. <…>
Посредством такого расширения рамок решения проблемы, лежащей в основе теории Парсонса, теория становится более открытой случайностям. Мы можем непосредственно следовать принципу «order from noise» (буквально с англ. – «порядок из шума») общей теории систем. Теперь не нужно допущения о ценностном консенсусе, проблема двойной контингентности (т. е. пустая, закрытая, неопределимая самореференция) прямо-таки всасывает случайности, она становится чувствительной к ним, и если бы ценностного консенсуса не было, то его следовало бы создать. Система возникает, etsi non daretur Deus (буквально с лат.: «Даже если бы не было Бога»).
Такая переориентация требует дальнейших корректив исходных положений теории Парсонса. Парсонс размышлял о субъектах действия (в нестрогом смысле), выступающих друг перед другом не только с естественными, но и с самостоятельно сформулированными потребностями, удовлетворение которых зависит друг от друга. Такая формулировка проблемы все-таки имеет неприкрытые фланги. Возникает вопрос, что это за субъекты действия (агенты, акторы), названные Ego и Alter, если то, что является в них «организмом» (позднее: «поведенческой системой») и «личностью», выделяется только в системе действия, а не предзадано ей. И еще: как понимать контингентность, если любой определенный порядок возникает лишь на основе проблемы двойной контингентности.
Чтобы получить ответ, мы переносим проблему двойной контингентности на более общий теоретический уровень, на котором рассматриваются конституция и непрерывный процесс осуществления смысла. Тогда об Ego и Alter, как уже отмечено в предыдущей главе, следует говорить лишь как об открытых возможностях определения смысла, которые даны переживающему их или другому всякий раз как определение горизонта. Проблема двойной контингентности существует виртуально, если дана психическая система, переживающая смысл. Она диффузно сопутствует всякому переживанию, пока не сталкивается с другой личностью или социальной системой, обладающей свободным выбором.
Тогда она актуализируется в форме проблемы согласования поведения. Повод для актуализации дают конкретные реальные психические или социальные системы или следы, оставленные ими (например, письменность). Однако голой фактичности встречи все-таки недостаточно для того, чтобы проблема двойной контингентности обострилась; эта проблема приобретает мотивирующее значение (и тем самым конституирующее значение для социальных систем) лишь в том случае, если системы переживаются и рассматриваются друг другом специфическим образом, а именно как бесконечно открытые возможности определения смысла, в своей основе недоступные постороннему вмешательству. Отсюда – специальная терминология Ego и Alter, соответственно alter Ego. Следовательно, понятия Ego и Alter должны оставлять открытым вопрос о том, идет речь о психических или о социальных системах; и о том, допускают ли они тот или иной процесс осуществления смысла.
Соответственно мы должны расширить понятие контингентности, а именно привести его к изначальной формулировке в теории модальности. Понятие образуется благодаря исключению необходимости и невозможности. Контингентное есть нечто, не являющееся ни необходимым, ни невозможным; таким образом, оно может быть таким, каково есть (было, будет), но может быть и иным. Следовательно, понятие обозначает нечто данное (испытанное, ожидаемое, помысленное, пофантазированное) в виду возможности иного бытия; оно обозначает предметы в горизонте возможных изменений. Понятие предполагает данный мир и, таким образом, обозначает не возможное вообще, а лишь то, что с точки зрения реальности возможно иначе.
В этом смысле с недавних пор говорят также о «возможных мирах» относительно реального жизненного мира… Таким образом, в понятии контингентности предполагается реальность этого мира как первое и незаменимое условие возможности бытия {34} .
На экране вибрирующего телефона светилось имя Лаура. «Да святится имя…» – вспомнил он и покачал головой: нельзя позволять себе некоторых ассоциаций.
А судьбу Рольфи все-таки основательно закоротило на этом вот телефоне… ну что ж, спасем теперь еще и Рольфи – поверим на слово незнакомому Гвидо!
– Hallo, Laura…
– Ты почему телефон не берешь? Я уже раз сто тебе звонила!
Блеф на блеф равняется блеф.
– Не преувеличивай. Я видел все твои звонки: сто раз ты не звонила.
– Видел, а трубку не брал? Странно…
Минус на минус равняется плюс.
– Видел-а-трубку-не-брал-странно.
– Что у тебя с голосом?
Плюс на плюс равняется плюс.
– Ничего с голосом. Все нормально с голосом. Тебе просто кажется, что… что ненормально.
– Ты болен?
Ноль на ноль равняется ноль.
– Да, я болен.
– Почему ты так разговариваешь?
И он рассказал ей почему.
Он рассказал ей чистую правду. Что любил ее, что любовь-еще-быть-может… и далее по Пушкину, просто по ходу дела переводя его на немецкий.
Инокультурную Лауру пушкинское признание особенно не тронуло – она только посопела в трубку секунд десять и поинтересовалась:
– «Любимой быть другим»… ты кого-то определенного в виду имеешь – под «другим»?
Свежо обидевшись за непонятого в очередной раз великого русского поэта, он ответил:
– Я много кого в виду имею. Там обобщение было, в последней строке.
– Строке? – не поняла Лаура.
– Это я так образно выразился…
– Выразись точнее, – послала косвенный упрек Пушкину инокультурная Лаура.
И он выразился – на всякий случай, совсем точно. Такая большая точность Лауре тоже не понравилась.
– Тебе не угодишь, – вздохнул он и добавил, чтобы вообще уже не было недоразумений: – Не оставить ли тебе меня в покое, Лаура? Я же оставил тебя в покое.
Лаура начала плакать в телефон, а он, слушая всхлипы, думал.
Он думал о том, на кой вообще сдался Лауре этот старый дурак Рольф и почему ей надо плакать, теряя его. Интересно, кстати, чем занимается Рольф. Небось, скучный какой-нибудь функционер – вроде свена-очей-его, – скучный функционер, каких везде навалом… Но тут приходилось вдруг представить функционером и себя – с учетом того, что они, Рольф и он – один и тот же человек.
Ай, чего ж тут особенно пижонить: были и в его жизни периоды функционерства – так, должности мелко-административного масштаба, на работе с девяти до пяти, телефонные звонки, мэйлы, личные встречи, унылые перепалки со стайкой подчиненных, не очень понимающих, почему это он отдает им распоряжения, а не наоборот. Вроде, образ, для лаур не самый привлекательный, а смотри-ка…
– Ты отчего плачешь-το, Лаура?
– Как «от чего», непонятно разве?
– Непонятно… тут, душа моя, и самой-то тебе ничего непонятно, а ты хочешь, чтобы я понимал! Вот возьми прямо сейчас и задумайся: с какой это я стати плачу? Чего мне конкретно, так сказать, жаль?
– А мне уже должно быть жаль?
– Уже должно быть. Мы расстались, Лаура. Допускаю, что ты этого пока не заметила.
– Мне жаль… мне жаль, что… – Лаура, видимо, честно старалась найти слова, – мне жаль, что меня так любили, а больше не будут.
Неплохо. Эгоистично, но неплохо, черт возьми! Может быть, она и не безнадежна? Может быть, может быть…
– Вот и нехорошо, Лаура, когда тебя «так» любят, а ты любишь не так.
– Об этом ты ничего не знаешь, – всхлипнула она. – А я знаю… – я знаю, что сначала правда любила тебя не так. Ты просто был эдакий прикольный дед, который смотрел на меня все время, а сам стыдился, когда смотрел, мне даже смешно было немножко, но почему-то все равно приятно. И когда потом, во время date в ресторане этом рыбном, куда ты меня пригласил, «Нордзее» называется, помнишь? – я чуть со смеху не померла: Вы-какую-рыбу-предпочитаете, не-хотите-ли-немного-колы, а-как-насчет-кофе… Кофе в рыбном ресторане! Странно, что ты меня там же, в рыбном ресторане, на вальс не пригласил, – ох, Рольфи, ты такой был нелепый, такой допотопный, такой… классный. The best date in my life, чем хочешь клянусь. И тогда все началось, Рольфи! Именно тогда все и началось: что жизнь вдруг стала другой совсем… я не знаю какой, но не такой, как у всех. А уже понятно было, что меня… как это… засасывает, при том, что у тебя семья, и я не должна… и разница в возрасте… такая. Я пыталась! Честное слово, я пыталась остановиться: я переспала с кем-то из сверстников, я несколько раз вдугаря напивалась, я даже гнусного какого-то папика подцепила просто на улице и к нему домой пошла… там, правда, ничего не было… но, что бы я ни делала, я рыбного твоего ресторана не могла забыть – и влюблялась в тебя все сильнее, пока совсем страшно не стало: кошмар, мания. Нет, если мы уже расстались, это ничего, это, может быть, даже и хорошо… я, может быть, когда оклемаюсь, то… Да, да, правильно все, Рольфи. Ты не думай, я же не для того говорю, чтобы тебя вернуть, а чтобы просто ты знал: я уже давно люблю тебя так – и даже больше, чем так. Чтобы ты не заблуждался и не думал: ей что-то от меня надо. Мне от тебя не надо ничего, да у тебя и нет ничего, кроме картин твоих… мне, кстати, непонятных, ты прости, да и в самом тебе нет ничего, почти ничего, есть только истории немножко – твоей, там, личной или общей, не знаю, но этот кусочек времени, минувшего времени, который есть в тебе, он теплый, и его нет ни у кого из моих знакомых… я так люблю тебя, Рольфи! Нет-нет, я понимаю, что уже потеряла тебя, но я так боюсь тебя потерять!
И она замолчала.
Теперь еле сдерживал слезы он. Он не имел права этого заканчивать. Этого никто не имел права заканчивать. И неважно, что будет, да будь что будет – все равно.
На том конце ждали. Приговора.
– Деточка, – сказал он и поморщился от этого слова, – ты только не всхлипывай так горестно, не надо. И… и прости меня, дурака старого: ну, что я позволил тебе так ко мне привыкнуть, что ты даже решила, будто любишь меня… хорошо-хорошо, не «решила», ты действительно меня любишь, только ведь дело тут совсем не во мне. И не в семье моей, кстати… потому что ни по какому нельзя жить с кем бы то ни было из жалости, это для всех унизительно, а я из жалости с ними живу. Дело в тебе… зачем же тебе строить судьбу с прицелом на меня? Прицел не тот, и я тебе, так сказать, не спутник… Но даже если сейчас и спутник, то потом – как? Тут все неправильно, Лаура… прежде всего для тебя неправильно. Ты не бойся, я помогу тебе. Я помогу тебе медленно отвыкнуть от меня, сколько бы времени на это ни потребовалось – и ты отвыкнешь. Я подарю тебе кусочек истории, про который ты говоришь, и ты возьмешь его с собой, да… в другую, в новую твою жизнь, без меня. У тебя должна быть хорошая жизнь без меня, я все сделаю очень осторожно, ты даже не будешь замечать, что я исчезаю… м-да, как запах кофе. А пока… пока мы будем продолжать любить друг друга и встречаться, встречаться, встречаться – вот уже, например, завтра. Завтра… ммм…
в рыбном ресторане, в р-р-роковом этом рыбном ресторане, ты ведь придешь? Вечером, в семь?
– Спасибо, – совсем тихо отозвалась Лаура. – Я приду. Я пойду туда прямо сейчас и буду ждать тебя: всю ночь, все утро, весь день. Спасибо.
Он даже не успел больше ничего сказать: имя Лауры исчезло с экрана – словно и не было там никогда. Он посмотрел во «Входящие»: белым по синему – Laura Mariendorff. Пошел в «Адреса»… понятное дело, никакой Лауры: его телефон определял любые номера, даже не занесенные в адресную книгу!
Но вот как теперь раздобыть телефон Рольфа… можно, конечно, позвонить Гвидо… – и что сказать? Что он забыл свой собственный номер? Попросить продиктовать? Гвидо-я-впадаю-в-маразм? Ну, положим, даст Гвидо телефон… тогда-то что? Сверить номер со своим, убедиться, что никакой разницы, позвонить самому себе и сообщить себе же о завтрашней встрече в рыбном ресторане?
«Ты чертов придурок, – обратился он к себе самому. – Чертов придурок, который вечно ставит себя в безвыходное положение».
И услышал в ответ:
– Сам ты придурок.
Ответ показался ему интересным.
Вспомнился Пра: зачем ты все время с собой враждуешь? Тогда он сказал Пра: я западный человек, Пра, и как всякий западный человек – главный свой оппонент. На том стоит демократия – понимаешь ли ты, что такое демократия, Пра?
И что-то говорил ему Пра в ответ… Сейчас очень важно было поточнее вспомнить, что говорил ему Пра. Не про демократию, нет, Бог с ней сейчас, с демократией… про другое, про что-то совсем другое.
Про воспринимающего и воспринимаемое, вот про что! Воспринимающий и воспринимаемое суть европейские выдумки, говорил Пра и улыбался никчемной улыбкой. Афоризма Ницше, говорил Пра, насчет бездны, которая начинает всматриваться в тебя, если ты слишком долго всматриваешься в нее, индийское сознание просто не слышит, ибо не слышишь того, что хорошо знаешь. А Индия, говорил Пра, знала это тысячелетиями. Даже не то чтобы знала… – афоризм этот всегда был одним из столпов индийского способа мышления. Ибо нет ведь в реальности, говорил Пра, ни воспринимающего, ни воспринимаемого – и даже самого восприятия нет: точно так же, как ты смотришь на дерево, дерево смотрит на тебя – вот и все, а больше – ничего: никакой тонкости, никакой глубины, никакой философии, ни-че-го. Невозможно возвести философское сооружение на пустом месте или, если хочешь, – на очевидности факта.
– И потому лучшая на свете философия – это философия абсурда, – блеснул он, помнится, демонстрируя Пра один из своих свежих тогда еще заскоков. – Ибо как раз философия абсурда отрицает очевидность факта. И, между прочим, Витгенштейн…
– Абсурд – это вообще не философия, – нахально перебил Витгенштейна непочтительный Пра. И – поднял руку навстречу уже летящему в него аргументу, посланному сразить его насмерть и улететь в небеса. – Абсурд не философия, абсурд – это просто правда.
Ах, Пра, Пра, и угораздило же тебя на тот свет! Такая голова пропала…
– Ты бы не умирал пока, Пра, – все канючил он незадолго до ужасного этого события. – Поехал бы куда-нибудь за новыми впечатлениями, вон хоть… в Тироль, ты ведь мало где был, а есть красивые места!
Пра качал головой и улыбался своей никчемной улыбкой:
– Нет движения и нет покоя, нет новых впечатлений и нет старых впечатлений, нет красивых мест и нет некрасивых мест, ибо нет двойственности. Двойственность – китайский наркотик, контрабандно ввезенный в Европу по Большому Шелковому Пути. Без китайцев тут у вас не было бы прекрасного и безобразного, светлого и темного, жизни и смерти. Без китайцев была бы легкая материя бытия…
– Ну уж, положим! – автоматически обиделся он за европейскую цивилизацию. – Антонимы в любом языке есть, а значит, двойственность и до китайцев зарегистрировали уже, иначе как могли возникнуть антонимы?
– Да и антонимов нет никаких, – улыбался Пра. – Есть слова, которым людьми назначены функции антонимов! На месте этих слов легко могли оказаться другие слова, а могло бы и не оказаться никаких: ведь разницы между названным и неназванным тоже нет.
– Постой, Пра, – упорствовал он, – тогда для чего же вообще слова?
– Только для того, чтобы порождать другие слова, – терпеливо разглагольствовал Пра. – А для чего порождать другие слова? Чтобы ими подтверждать уже имеющиеся слова и чтобы отрицать ими уже имеющиеся слова. Это не мы с тобой ведем сейчас диалог – это слова ведут его между собой, и диалог сей не остановим, ибо последние слова произнесены никогда не будут. Некоторые из слов могут оказаться последними, но никто из нас не знает, какие именно, ибо любые слова способны стать последними. Последними для тебя. Я научу тебя умирать.
Так или приблизительно так говорил Пра. И сейчас из этого почему-то следовало, что не надо искать телефон Рольфа, не надо звонить Гвидо, не надо говорить самому с собой… ничего не надо. Поскольку нет никаких сомнений в том, что Рольф придет завтра в рыбный ресторан, ибо не кто иной, как Рольф, и договорился с Лаурой о встрече.
А вот, черт возьми, интересно, похожа ли Рольфова Лаура на его – Ассизскую.
Тут-то и вмешалось некое возражение: что он никогда не был в Италии – какая ж Лаура?
Если нет двойственности, то нет и двойников.
Даже и подобий, может быть, нет – это если к вопросу о его Лауре, Лауре Ассизской, ибо пора, наконец, признаться себе в том, что не был он никогда в Ассизи, а воспоминание об Ассизи – ммм, не его оно, воспоминание это. Оно неизвестно чье, оно чужое – одно из тех воспоминаний, о которых так любил распространяться Пра: начнешь, дескать, вспоминать и довспоминаешься… до того довспоминаешься, что кусок чужой жизни вспомнишь – как будто своей. Вот и он вспомнил – никогда не имевшую места в его жизни поездку в Ассизи и никогда не имевшую места в его жизни Лауру… С чего он тогда начал? Теперь уже и не вернешься туда… впрочем, вот: у каждого в жизни была Лаура! Ну конечно, это и есть та ловушка – вечная его ловушка, которой он к почтенному своему возрасту так и не научился избегать: ловушка имени Сёрена Кьеркегора. Он улыбнулся: Stadier paa Livets Vej… именно здесь Кьеркегор настаивал на необходимости различать термины «воспоминание» и «память». И, разумеется, все это проделки воспоминаний, сбивающие память с толку, ибо вспоминаем мы не что иное, как идею – общую идею, имеющую корни в судьбе всего человечества, под которую и подстраивается бедная наша память, глупая наша память! «У каждого в жизни была Лаура» – только идея и ничего больше: ничья… или Божья. Он просто увлекся Божьей идеей, парящей над миром, витавшей в облаках, – и послушная память оживила ее, превратив в одну из стадий-жизненного-пути, всего-то навсего!
Ну и сколько же у него наберется таких не своих воспоминаний?
Малютку Герасима, например, взять – это точно его воспоминание? Или, вот, пожар… пожар и вообще мамино воспоминание: ему же самому полтора года тогда было, никто не помнит своей жизни в полтора года!
А уж что касается пения-под-Робертино… – и чтобы целыми днями, несколько лет? Да быть такого не может! Он, конечно, странным мальчиком рос, но не до такой ведь патологической степени – чтобы целыми днями и несколько лет… Это все моторика письма, дорогой, моторика письма и ничего больше: берется некое событие, неважно, имевшее место или нет, и – коготок увяз, теперь уже всей птичке пропасть, ибо дальше все само собой происходит, дальше не ты уже ведешь, дальше тебя уже ведут, немножко оттуда по пути ухватишь, немножко отсюда, поди разберись, что было, чего не было, а главное – что с тобой было, что не с тобой!
Так зачем рассказывать сказку об Ассизи, если ты на юг Европы дальше Мюнхена ведь и не заезжал никогда? Во всяком случае, тот ты, который сейчас находится… находится – где? Ах, Боже мой, да какая же разница! Мир ведь и сотворен всего пять минут назад – не так ли, старый скептик Рассел? А до этого ничего не было!
Он осмотрелся по сторонам: всего, что он видел, не было здесь пять минут назад – пять минут назад земля была безвидна и пуста… и Дух Божий носился над водою. А сейчас – стокгольмский вокзал, готовящийся к ночи. Бездомные пассажиры, захваченные врасплох чудом сотворения мира.
На этой мысли в помещение вошел – вот уж действительно важной персоной – его вечный, теперь уже получалось, спутник… или вечный его страж: восточный человек с компьютером. А ему-το казалось, что и след стража давно простыл… он ведь так и не спросил, каков конечный пункт назначения занятого этого восточного человека. Вечный спутник остановился непосредственно около него, уселся, рассеянно взглянув ему прямо в глаза, за соседний столик, включил компьютер – и давай опять барабанить по клавишам. Время от времени взгляды их встречались, но словно бы не узнавал его старый знакомец, словно бы впервые в жизни видел. Сделалось не по себе. Опять обознаточки-перепряточки? Да быть такого не может. Улыбнуться, спросить, как дела? Напомнить, что вместе ехали в поезде, вместе на пароме плыли?
С подошедшей официанткой забывчивый спутник говорил на том самом грамматически стерильном английском, который, вот уж точно, ни с чем не спутаешь! Would-you-mind-madam… и все такое. Так – улыбнуться? Да на черта он ему сдался! Не узнаёт или не хочет узнавать – и слава Тебе, Господи. Он и сам бы поспешил на другую сторону улицы, встреться они, не дай Бог, где-нибудь в Стокгольме!
В общем, сунул телефон в карман (пока, Гвидо!) и налил себе кофе. В зале для пассажиров бизнес-класса угощали бесплатно. Тут вообще все было бесплатно, включая Wi-Fi, которым, вообще говоря, имело бы смысл воспользоваться: он не видел своего почтового ящика почти две недели. Бесстрашно поднялся и, даже не взглянув на соседа, направился к противоположной стене: там стояли компьютеры.
И ящик оказался-таки полон мэйлов, судя по черноте строк – новых. Новых на первой странице, на второй… на третьей, да сколько же их, новых-то? За пять минут после сотворения мира? Три с половиной страницы… он никогда не переписывался с таким количеством людей – ив растерянности смотрел на имена, в большинстве своем ничего ему не говорившие. Это было похоже на атаку спама. Открыв один из мэйлов наугад, прочитал: «Tut obeshannyje mnoj linki k teoriji igr, celuju, Lika». Лика у него была только одна: никогда не обещавшая ему линков к теории игр, никогда не имевшая электронного адреса и никогда бы не ставшая писать транслитом. Плюс тот факт, что линками к теории игр он до сих пор не интересовался.
Потом он открыл – один за другим – мэйлы от цветка: их оказалось около десяти. Углубляться не решился, но уже по тому, что увидел, понял: цветок тоже сошел с ума, ибо содержались в мэйлах какие-то не имеющие отношения к нему вещи – например, длинные перечни лекарств от болезней, у него отсутствующих, подробные тесты на определение уровня либидо, серия рисунков неизвестного ему двенадцатилетнего ребенка из Непала, обильные фотографии сада при доме в каком-то городе на севере России, устрашающие длиною строк линки к нескольким средневековым мелодиям на YouTube, безумные игрушки типа сколько-вращающихся-шестеренок-вращаются-вправо… одним словом, все то, что «пригодится в пути».
Пара мэйлов была от людей, которых он в разное время попросил не писать ему, а те все равно писали как ни в чем не бывало, еще несколько – с адресов, просто ему неизвестных. В один такой мэйл – с темой «Увидимся на казахской земле» – он заглянул: обращались по имени-отчеству, по его имени-отчеству, упоминали неизвестные ему события, в которых он якобы участвовал… забавность ситуации состояла в том, что в Казахстане он никогда не был, а события помнил как случившиеся в Питере лет десять назад – при том, что в Питере он не бывал двадцать с лишним лет. Впрочем, какие там двадцать с лишним лет, когда миру вокруг него – пять минут?
Он осторожно ушел из почты, боясь заглянуть еще в какой-нибудь мэйл… Отхлебнул чуть уже теплого кофе и сказал себе норвежским голосом – понятное дело, Торульфа: «Det er deg, som har åpnet denne døra». А значит… что ж, добро пожаловать в жизнь мою – в эту жизнь мою, в эти жизни мои! Он ведь и так давно уже знал: не случится в будущем никаких реинкарнаций, ибо все реинкарнации происходят синхронно, и все они уже здесь. Жизнь – как датский язык – не знает сослагательного наклонения: любое движение интеллекта и воли реализуется мгновенно – мгновенно, но невидимо, поскольку миры не пересекаются.
Они не пересекаются до тех пор, пока ты не открыл дверь. И когда он уже собрался покидать зал ожидания для особо важных персон, так и не взглянув больше на старого знакомца, зазвонил непонятным звонком («Dancing Queen») телефон… и зачем только он нажал на «соединить»!
– Ты где? – спросил голос Манон.
Ответить – не хватило духу.
– …я просто только что выяснила: пиццу можно прямо в номер заказать – и через пятнадцать минут она здесь. Так что кончай там свои поиски: не умрем голодной смертью!
– Иду-иду, – сказал он, боясь разрушить чужое сооружение жизни. – Иду-иду…Мне говорят, он был при ней,
Назвав меня тебе;
Она, ценя меня сильней,
Сказала: «Слаб в стрельбе».
Он сообщил им обо мне,
Что жив (простим его),
Но если верить ей вполне,
То вам-το что с того?
Я дал им раз, они вам два,
Он дал нам три с лихвой,
Но к ней вернулась вся лихва,
Хотя почин был мой.
И, если я или она
Вовлечены в бедлам,
Клянется он, что вам дана
Свобода, как и нам.
Вы были главной из причин
(Пока мы тут грешим)
Помехи, что вошла, как клин,
Меж мной, «оно» и им.
А то, что он был ей их друг,
Оставим про запас
В секрете ото всех вокруг —
Меж мною и меж вас. {35}
Лет сорок-сорок пять – не с детства ли? – он постоянно носил с собой разные блокноты, но не потому, что очень уж часто записывал туда всякие нужные вещи, а так… пусть, дескать, под рукой будут. Ситуации «не на чем записать» боялся как огня. Словно все время ждал некоего сообщения – получить, занести в блокнот и действовать по обстоятельствам.
Сообщения не приходило – или, может быть, он снова и снова пропускал его – а блокноты… от них в конце концов оставались только обложки, поскольку уже довольно рано обнаружилась у него скверная привычка: сделав ту или иную запись, вырывать из блокнота листок и совать в карман. Будто пугали его переплеты – или… м-да, собранность всех вещественных доказательств мышления в одном месте.
Вырванные из блокнотов листки потом обязательно разносило по свету.
Пустые обложки, разумеется, выбрасывались – ив конце концов от него, который только и делал, что осуществлял процесс письма, не оставалось не только блокнота – обложки, и той не оставалось… смешно.
Он перестал носить с собой блокноты лишь после того, как умер Пра, незадолго перед этим произнеся одну из замечательных своих максим: «Забавный ты… со своими блокнотиками, ручками, карандашиками – словно первобытный человек, повсюду ходивший с дубиной на случай пригвоздить кого-нибудь к месту! Как будто те или другие слова могут иметь особую ценность и должны быть пригвождены…»
С Пра они познакомились, когда тот занимался самым грустным на свете занятием: с сосредоточенным лицом сметал небольшой метелкой узоры огромного ковра, только что им же самим и другими монахами выложенного из цветного песка на одной из площадей Копенгагена. Потом, когда ковер был уничтожен, Пра, словно очнувшись, посмотрел вокруг – и глаза их встретились.
– It’s sad, – сказал он Пра.
– No, it is not, – ответил Пра и подарил ему ослепительную улыбку – даже более ослепительную, чем лысина, куда уж ослепительнее сверкавшая на солнце. – You are always welcome to make it again.
Пришлось подружиться.
Пра жил при небольшом буддистском центре в пригороде Копенгагена. Он приехал в Данию лет за пять до их знакомства и умудрился не выучить ни слова по-датски.
«Я уже знаю английский» – с удивлением ответил Пра на его предложение помощи в освоении датского. – Разве не все равно, на каком языке говорить?»
Английский у Пра, кстати, был беглым… вполне и вполне допустимо обойтись, какие проблемы! Вот уж кто-то, а сам он никогда не был культуртрегером: обходится человек без датского – и, слава Богу, одним мучеником меньше. Да Пра много и не разговаривал.
А лет Пра было, видимо, сколько-нибудь за шестьдесят, хотя выглядел он старше. Когда они вместе гуляли по Копенгагену, прохожие суетились уступить Пра дорогу, принимая его – одетого в лиловый хитон с широким оранжевым кантом – за патриарха, хоть и был он, по его словам, простым монахом. Верилось в это, правда, с трудом, тем более если Пра оказывался в обществе других простых монахов, терявших в его присутствии голову и чуть ли не готовых валиться на колени, но – «это просто мой возраст», объяснял Пра и улыбался, хотя сколько-нибудь за шестьдесят… какой уж такой особенный возраст?
«Я научу тебя умирать».
Сначала его испугало это обещание Пра, но время шло, а уроки не начинались – и как-то забылось обещанное. Обычно они просто ходили по парку вокруг Розенборга, изредка перекидываясь словом-другим, но в основном молча. Поняв, что ему никогда не вывести Пра ни на какой основательный разговор, он довольно быстро сдался – и ждал, когда Пра что-нибудь скажет сам. Тогда можно было подхватить несколько слов в полете и приделать к ним два-три своих: если повезет, с этого могла начаться беседа, правда, всегда короткая. Но и короткая беседа – беседа.
Несмотря на застарелый свой интерес к буддизму, он не расспрашивал Пра о буддистском центре: в конце концов, можно было и самому прийти туда или в любой другой подобный центр и на все посмотреть, никакого посредничества не требовалось, каждый буддистский сайт приглашал всех желающих. Только в данном случае дело было не в буддизме, дело было в Пра: понять, для чего Пра послан в его жизнь – причем уже в датскую жизнь, большого отношения к буддизму не имевшую. Неужели и правда – «научить умирать»? Так рано умирать? А Пра, улыбаясь, говорил, что какое там «послан» – вовсе, дескать, и не послан, да и вообще это сплошное заблуждение: «В реальности меня просто нету – я кажусь тебе».
Может, и правда казался… – теперь, после смерти Пра, в это как-то особенно сильно хотелось верить.
День своего ухода из жизни Пра выбирал сам, а выбрав, поставил кружочек в календаре и написал: «День моей смерти». Смерть должна была произойти в мае, 23-го. Готовиться начал месяца за два, хоть и усмехался: зачем мне, мол, готовиться? Имущества нет, архива нет, семьи и наследников – тем более нет, а братьев и тебя я уже предупредил… так что остались одни формальности: объяснить организму, что скоро от него ничего больше не потребуется. Да и организму особенно долго объяснять не придется – достаточно просто назначить дату.
– Это будет… самоубийство? – собрав себя в кулак, спросил он Пра еще в марте.
– Да нет же, – расхохотался Пра, – зачем мне самоубийство? Только самоубийства и не хватало.
И надолго замолчал, время от времени освещаясь тихой своей никчемной улыбкой. Потом, видимо, сжалившись, подмигнул ему и сказал:
– Это будет глубокая медитация, из которой я не стану возвращаться. Я, видишь ли, и так давно уже с трудом возвращаюсь из медитаций.
– Из глубокой медитации о чем? О смерти? – спросил он, зная, что нелепый… ох, нелепый вопрос.– От медитаций о чем бы то ни было, – терпеливо улыбнулся Пра, – я лет эдак… много назад отказался. Мои медитации – это остановка ментальной функции. А 23 мая я просто остановлю и другие функции.
– Это случится в Дании?
– Скорее всего, да. Я никуда не собираюсь до 23 мая.
– Это случится у тебя в комнате, в центре твоем?
– Да, господин следователь. Думаю, что у меня в комнате, в моем центре. Еще вопросы?
– Так… когда же ты будешь учить меня умирать? – уцепился он за последнюю соломинку.
– Ты уже научен, – серьезно ответил Пра. – Только ты пока не знаешь, что научен. Но в данный момент тебе и ни к чему это знать. Узнаешь, когда время придет.
– А когда придет время?
– Это не ко мне, – сказал Пра.
22 мая он устроил для Пра завтрак в Риц-Раце. Приглашать Пра на ужин, чтобы хоть так побыть с ним подольше накануне… получалось, что накануне смерти – было нельзя: буддистские монахи едят только по утрам, самое позднее – в полдень.
Он представил гостя Патриции – была у него тут такая юная совсем подружка, за которой он безобразно и демонстративно приударял на глазах всех официантов, включая и Эсбена, мужа Патриции, причем все вовлеченные в это дело стороны испытывали от игры большую глупую радость.
Патриция, приветствуя Пра, соединила ладошки лодочкой на груди – молодец, подготовилась к встрече! – и обслужила их по первому разряду: это в Риц-Раце-то, где испокон веку принято обслуживать себя самому… Но ни о чем таком Пра, конечно, не ведал, поскольку в Риц-Раце прежде не бывал.
Он так и отчитался:
– Это мой первый и последний завтрак в Риц-Раце. Спасибо за приглашение, тут все очень вкусно. Патриция чудо как хороша и сердечна, ты прав. Эсбен, кстати, тоже симпатяга, хорошая пара.
– Эсбена-то ты где углядел?
Не поворачивая головы, Пра сказал:
– Прямо перед тобой занавеска, видишь? Вот из-за нее Эсбен с Патрицией за нами и наблюдают, сейчас прямо наблюдают, ты не смотри только в упор!
Смотреть он вообще не стал, так поверил.
Потом прошлись пешком до станции Нёррепорт. Молчали. У входа в метро он начал было поскуливать, но Пра вдруг жестко и как никогда никчемно улыбнулся:
– Вот что, мы давай уж не заострять внимания на… на всем этом: лучше прощаться буднично… see you.
И – исчез в толпе, как не было.
Светило солнце.
23 мая Пра умер, о чем стало известно из его письма, пришедшего в день смерти и написанного, видимо, по возвращении из Риц-Раца: Пра знал, что на датскую почту всегда можно рассчитывать.
В письме было написано: «Today I died. Sincerely yours, Phra».
A 24 мая последний блокнот был выброшен в попавшийся на пути мусорный контейнер. По дороге, стало быть, из буддистского центра, зайти в который показалось обязательным. И хорошо, что показалось: после посещения центра стало не в пример светлее. Монахи, встретив его широкими, как веера, улыбками, сообщили, что вчера у них никто, к сожалению, не умер и что они понятия не имеют, о каком именно Пра он их спрашивает, ибо почти каждого тут зовут Пра.
Он хотел было полезть на небольшой – видит Бог, на совсем небольшой, практически не заметный невооруженному глазу – рожон, начав по порядку перечислять присутствовавшим, чем отличался его Пра от любого другого Пра… но как-то и не нашел вдруг никаких отличий, кроме возрастных: на каждом из присутствующих были лилово-оранжевая хламида и сандалии, каждый был брит наголо и лысиною излучал более или менее ослепительное сияние, каждый улыбался – причем улыбался ни к селу ни к городу, и перед каждым, за исключением двух-трех совсем уж молодых монашков, немножко хотелось пасть ниц.
Монахи смотрели на него счастливыми – во всяком случае, совершенно беззаботными – глазами, даже как будто и не пытаясь понять, чего на непонятном своем языке добивается от них этот датчанин, и тогда он сказал:
– I have his letter – here!
И предъявил собранию письмо: «Today I died. Sincerely yours, Phra».
Коллективно прочитав написанное, монахи переглянулись, после чего – показалось, что теперь навсегда, – остановили на нем приветливые взгляды.
– And so what, sir? – решился спросить правый-крайний.
– So…
Продолжить вдруг не получилось, потому как… действительно, а что он здесь делает, в буддистском монастыре? Он пришел попрощаться с Пра!
Так и сказал:
– Я пришел попрощаться с Пра.
– Тут ведь написано, что он умер, – заулыбался на весь свет правый-крайний, – о каком же Пра идет речь, дорогой? Вы ведь должны, вроде как, сами понимать.
– Пра был мне очень дорог, – попытался оправдаться он, – поэтому я пришел сюда… ну, где он жил. Чтобы узнать последние подробности его жизни.
Монахи посовещались.
– Самая последняя подробность жизни – смерть.
И на их лицах надолго воцарилась безмятежная улыбка.
Переждав ее, как блеск солнца из-за горы, он осторожно спросил:
– А я не мог бы посмотреть его… келью?
– Милости просим, – радушно зараздвигали руки монахи, а правый-крайний продолжил: – Вы можете посмотреть любую «келью», только, к сожалению, вчера у нас действительно никто не умирал. Мы бы, конечно, Вам сказали, если бы кто-нибудь умер! Но никто, извините, не умер. А «кельи» посторонним людям показывать – это, господин, наше любимое занятие.
Может быть, Пра и в самом деле не умер… может быть, он уехал? Просто сказал мне, что умер, – а сам взял и уехал?
– Скажите, кто-нибудь уехал вчера из центра?
– Нет-нет, – заулыбались монахи, теперь уже каждый по отдельности, отметил он для себя, – никто не уезжал вчера из центра… да и вообще ничего примечательного вчера не случилось: обычные радостные, видите ли, будни, всё как всегда, господин.
– Так он вообще-то жил здесь – или не жил?
– Кто?
– Говорю же: Пра!.. Вот тут, на конверте, смотрите, адрес его – это ведь ваш адрес!
– Да адрес-то, конечно, наш, никто не спорит! Только… все равно не очень понятно, какого именно Пра Вы имеете в виду, господин, потому что тут каждый второй, если не каждый первый – в той или иной степени Пра…
– Это, может быть, титул такой – «Пра»?
– Пожалуй, – кивнул правый-крайний и вслед за ним охотно закивали остальные. – И титул, и имя, и… всё. А «кельи», как Вы их называете, будете смотреть?
– Пожалуй, нет… спасибо. Я лучше пойду. Простите за беспокойство.
– Так мы и не беспокоились совсем, мы никогда ни о чем не беспокоимся, – затараторили монахи. – И Вы не беспокойтесь, даже если Ваш друг вчера и умер… каким-нибудь образом.
Монашеское «каким-нибудь образом» вдруг примирило его с реальностью. Когда он, так ничего и не поняв про смерть Пра, снова вышел на улицу, тело сделалось совсем легким – и непременный блокнот-в-кармане начал ощущаться как обуза. Блокнот он, стало быть, тут же и выбросил, а больше из карманов выбросить оказалось нечего – выбрасывать сигареты и зажигалку он все-таки не решился.
С тех пор он писал не в блокнотах. С тех пор он писал в сердце своем. Иногда – кровью.
Если это вообще он писал, потому что вопрос о том, «кто писал» выглядел отнюдь и отнюдь не более простым, чем вопрос «кто умер». Правда, на вопрос «кто умер» ему тогда фактически ответили, что никто не умер. Ответ, получалось, был правильным: «В реальности меня просто нету – я кажусь тебе», – ветерком свистел у него в ушной раковине тихий голос Пра.
Кстати, в тот день, сразу после посещения буддистского центра, он прямиком направился в Риц-Рац, к Патриции. Не чтобы поесть, конечно, поговорить надо было… только Патриции вдруг не оказалось на месте – и даже непонятно было, работала она сегодня или нет, но, слава Богу, нашелся в конце концов Эсбен.
– Так for sidst, – традиционно сказал он Эсбену, имея в виду их с Пра визит сюда накануне.
– Привет, – заорал Эсбен, едва увидев его. – Хорошенькое «for sidst»… сто лет не виделись!
Насчет ста лет – с учетом вчерашней встречи – он не понял: почему – сто лет? Хотел спросить, да вдруг испугался… а ну как Эсбен скажет: не было вчера здесь, дескать, ни тебя отдельно, ни тебя с кем-нибудь еще – что тогда? И так уже монахи совсем его запутали… Пришлось свернуть разговор куда попало («попало» – в сторону вегетарианства, о чем же еще говорить в Риц-Раце!), а потом по-быстрому набросать каких-то зеленых чепуховин на тарелку, съесть их не глядя, расплатиться с лихвой и уйти, ни словом не обмолвившись о вчерашнем дне – со всей очевидностью, пропавшем из сознания современников.
Так, стало быть, и разрешился или не разрешился запутанный этот вопрос – насчет «кто умер».
«Никто не умер», – сказал он себе вечером 24 мая одного теперь уже далекого года: никто не умер, и никогда не было в его жизни никакого Пра.
А вот насчет «кто писал»…
Тут одно очевидно: процесс письма происходил непрерывно – и как бы ему ни хотелось, одной-единственной любимой его отговоркой (скороговоркой) насчет са-мо-пис-ца-ос-цил-ло-гра-фа было не отделаться. Ибо, так или иначе, но кто-то должен был запускать даже и са-мо-пи-сец-ос-цил-ло-гра-фа, чтобы дальше тот мог совершать свои – пусть сколько угодно самостоятельные! – колебания.
И дело тут вот в чем… сдавалось ему все чаще, что не он запускал самописец. Словосочетание «я пишу» отсылало к некоему «я», которое никогда не было его собственным « я » – более того: его собственное « я » всегда находилось по отношению к тому «я» в позиции критической… это если очень мягко выразиться. Года два назад он нашел, например, среди старых своих бумаг в Твери опус, документально это подтверждающий. Стихи, написанные, вроде бы, им, причем в совсем никаком возрасте – и заканчивавшиеся приблизительно так: я-побегу-дождя-не-переждя-сказать-что-я-люблю-того-дождя, а под стихами – несомненно, его же почерком – оскорбительную приписку: «Ну и дурак ты после этого».
Так с тех пор, значит, и пошло у них: один писал – другой глумился, один утверждал – другой отрицал, один создавал – другой разрушал.
А потом появились и остальные – третий, четвертый… он, в сущности, представления не имел о том, кто все они такие – понимал только умом, что все четверо, вроде как, пишут: кто-то – всевозможные газетные глупости, кто-то – сухие, как прошлогодняя листва, научные статьи, кто-то – постоянно мокрые от слез стихи, кто-то – прозу, причем разностильную… По счастью, они никогда не собирались вместе: не то не выносили друг друга, не то что… Время от времени, правда, возникало впечатление, будто один или другой имеет к нему отношение и даже говорит от его имени, но всякий раз впечатление такое, слава Богу, оказывалось ложным и рано или поздно проходило. Во всяком случае, идентифицировать себя с кем-то из них окончательно ему никак не хотелось.
– Это нормально, – резюмировал Ансельм, когда он все-таки решился рассказать о своих ощущениях. – Потому что любые рассуждения о цельности человеческой натуры суть сказки-народов-мира. Нет никакой цельности – иначе каждого из нас просто разнесло бы в щепки. В том-то и состоит защитная функция человеческого мозга: не обременять живой организм необходимостью существовать в качестве системы неразрешимых противоречий. Ну и… одна из наших личностей просто заменяется другой нашей личностью – чтобы эта другая личность могла непротиворечиво расположиться в новой системе координат, а когда система координат опять трансформируется, мозг создает еще одну нашу личность… и так до бесконечности. Я уверен, уже очень скоро психология вынуждена будет признать: то, что веками считалось патологией, есть норма, и на самом деле человек как таковой представляет собой не монолитное нечто, а подвижную совокупность разнообразных личностей. Кстати, социология это уже признала – Бонни Нортон Пирс почитай, о самоидентичности. Не хочешь Бонни Нортон Пирс – посмотри, как люди меняют облики в Интернете, приобретая – в зависимости от сетевых обстоятельств – то одну, то другую индивидуальность. Здесь он добряк и душка, там монстр и злодей, здесь бунтарь и анархист, там узколобый консерватор, здесь человек с улицы, там наследный принц… В моей практике даже есть случаи, когда интернет-пользователь в одном блоге мужчина, в другом – женщина, в одном тинейджер, в другом – пенсионер… и никаких противоречий! Настолько далеко ты еще со своими играми не зашел, так что у тебя едва ли есть основания считать себя человеком будущего. Вот пациенты мои – дело другое: они определенно люди будущего.
– Да понятно, что другое дело… они же как-никак сумасшедшие, а я пока еще нет, – ответил он, поглубже запихивая в себя воспоминание о том, как он под разными личинами переписывался в детстве со всем миром.
Тут Ансельм уже просто расхохотался.
– Господь с тобой, почему ж сумасшедшие-то? Просто эволюция человечества не требует от человека цельности… даже и сосредоточенности не требует: вспомни, как все мы, держа в руке телевизионный пульт, скачем с программы на программу, успевая отъесть по кусочку от каждого пирога! Цельный человек с ума бы от этого сошел, а человек современный – он именно таким образом сохраняет свое ментальное здоровье. Он, скорее, сошел бы с ума, вынуди его быть цельным!
Жаль, кстати, что вчера в зоопарке не удалось хотя бы на минутку остаться с Ансельмом наедине – поделиться впечатлениями о двух поездках одного и того же индивида (но, по терминологии Ансельма, – двух, видимо, личностей!) разными маршрутами одновременно: уж кто-кто, а Ансельм бы не мог не оценить этих впечатлений по достоинству. Но – увы, рядом постоянно были Нина и Аста… особенно, конечно, Аста, прямо-таки не выпускавшая его руки из своей – словно чувствовала, что он вот-вот растает в воздухе… да, ужасно жаль, неудачно все сложилось: Ансельма бы наверняка сильно повеселила его история про то, как из пункта А в пункт Б… – и так далее, далее, далее.
Впрочем, в данный момент дело было, конечно, не в этом – дело было в становящемся все более и более насущным вопросе: кто тут у нас все-таки пишет? И – чего уж греха таить – велико было искушение, вспомнив никогда не существовавшего Пра и заключение по поводу его смерти «никто не умер», ответить в том же духе и на сей насущный вопрос: «Никто не пишет». Только ведь если никаких следов Пра вокруг действительно не наблюдалось (из чего именно и следовало, что никто не умер), то текстовая-то масса – она постоянно увеличивалась, и игнорировать сей факт было, увы, невозможно… или, во всяком случае, – трудно.
Так что кто-то, значит, все-таки писал – под общий шумок, тайком, иногда озираясь по сторонам, словно крал… теперь уже и без блокнота, теперь уже и без письменных принадлежностей, а просто даже непонятно каким образом. Пишешь? – Пишу. – Ну, пиши: wer schreibt, der bleibt.
Wer – schreibt?
Ав-то-ра!
Но это не я, не я, не я – упаси Бог.
Вольно́ им всем. Вольно Торульфу взывать: останови письмо, вольно Кит требовать: не пиши обо мне, вольно Манон говорить: встретимся в новом романе… но как быть, если он, допустим, не отвечает ни за написанное, ни за сам процесс письма? Нет, не так: если отвечает за все это не он ?
Например, когда мама звонит во всех направлениях, Кит предается бесконечным и подробным воспоминаниям, Торульф разговаривает сам с собой, а Курт, глядя на фиорд, думает свои обременительные думы, где тогда находится он? Его явно нет поблизости – хотя бы потому, что он, и так разрываясь на части, едет двумя или сколькими теперь непересекающимися путями и с одной-единственной мыслью: не забыть, по крайней мере, куда именно он направляется! Стало быть, его самого нет поблизости, между тем как ни мама, ни Кит, ни Торульф, ни Курт не пишут или, во всяком случае, такого не пишут – откуда же берется текст: в частности, данный, но в принципе – любой?
Ав-то-ра!
Никто не выходит из кулис.
1. Географическая карта региона Трентино – Альто-Адидже/Южный Тироль. Год выпуска 1899, место выпуска – Инсбрук, Типография Э. Клопф. В удовлетворительном состоянии, небольшие потертости по сгибам, но тексты легко читаются. По карте красным карандашом проложен путь следования Зальцбургского пехотного полка № 59 эрцгерцога Райнера по территории Северо-Восточной Италии (Южный фронт): Левико – Тренто – Изонцо – Сугана – Салурн. На обороте карты – надпись, сделанная расплывшимся химическим карандашом: Лео Линденхофер.
2. Библия, или полное Священное Писание. Ветхий и Новый Завет в немецком переводе Д. Мартина Лютера. Подарочное издание для конфирманта. С 12 литографиями и 1 картой Палестины. Бильдбургхаусен и Нью-Йорк. Напечатано и издано Библиографическим институтом, 1830–1831. Книга в черном кожаном переплете с тиснением, золотой рамкой по краям обложки и золотым обрезом. Форзацы – картон с имитацией шагрени. Состояние хорошее. На полях Нового Завета многочисленные карандашные пометы по-немецки. Список помет прилагается.
3. Рыночный сувенир: резной деревянный кораблик, запечатанный в бутылку ручного литья. Размер бутылки 17×8×6. Кораблик двухмачтовый, с шестью парусами из белой ткани. По левому борту – красная надпись: «Portofïno». Бутылка приклеена к деревянному бруску, покрытому прозрачным лаком. На нижней плоскости бруска выжжено число 109 и инициалы «АТН».
4. Темно-коричневый, со стершимся золотым тиснением (символика неразборчива), дорогой бювар из тонкой телячьей кожи, в который вложены:
а) 4 письма из Зальцбурга, адресованные Лео [Линденхоферу]. Письма датированы (Зальцбург, 2 марта 1917 г.; Зальцбург, 30 июля 1917 г.; Зальцбург, 6 сентября 1917 г.; Зальцбург, 19 декабря 1817 г.), каждое начинается с обращения «Мой дорогой Лео». Бумага почтовая, глянцеватая, каждый лист сложен вчетверо. Цвет чернил – густо-фиолетовый. К одному из писем, на обороте листа почтовой бумаги, приклеен засушенный цветок анютины глазки. Тексты писем см. в приложении 1.
б) Сложенный вдвое лист бумаги высокого качества с описанием на итальянском языке правил карточной игры под названием «Slipe, slape, snorio, basilorio». Запись сделана, вероятно, самим Леопольдом Линденхофером (почерк похож на тот, что на обороте географической карты), для чего также использован химический карандаш. Из-за частого контакта бумаги с влагой примерно две трети слов с трудом различимы. Копию документа см. в приложении 2.
в) Сложенный вчетверо дамский носовой платок белого цвета. Из тонкого шелка, с кружевом ручной работы по краям. На одном из углов платка – вручную же вышитая монограмма «ML» {36} .
Непонятно почему поезду Стокгольм – Мальмё требовалось столько времени – почти 10 часов, – чтобы пересечь Швецию. Там и езды-το часа четыре от силы. Впрочем, поезд назывался «ночной», так что его, наверное, полагалось считать просто спальней на колесах. А спальни не передвигаются со скоростью света… даже и на колесах.
Он ожидал, что на перроне – опять же по случаю вулканического облака – столпотворение будет побольше, чем в билетных кассах. Ничего подобного! Перрон оказался совершенно пустым: ожидавший его поезд был холодный и молчаливый, пассажиров, кроме него, – ни одного. Перед посадкой следовало, впрочем, предъявиться дежурному по платформе: так объяснили ему у входа на платформу, где пришлось показать билет и узнать, что ресторана в поезде нет и что обещанный ему на сегодня ужин отменяется, зато завтра он сможет бесплатно позавтракать или пообедать в ресторане при любом «Рэдиссоне». Ибо на поезд, в котором ему предстоит ехать, распространяется набор услуг, оказываемых пассажирам авиакомпании SAS.
Ему показалось, что объясняющий сам не понял того, что сказал. Приставать к объясняющему, он, однако, не стал и отправился на платформу.
В центре платформы, толстенным стеклянным колпаком изолированная от всего мира, смотрела в никуда окаменелым взором Спящей Царевны в хрустальном гробу сухая, и, может быть, даже мертвая уже бабка.
– Привет, – на всякий случай сказал он бабке, не ожидая, впрочем, что та очнется от приветствия, и обдумывая возможность, а также необходимость привести ее в чувство пламенным поцелуем-принца.
– Привет, – тут же сама собой оживилась бабка, причем оживилась так, словно ее залпом поцеловало штук пятьдесят принцев. – Добро пожаловать!
Он не очень понял, куда пожаловать, и протянул билет.
– Вы, значит, к нам, – глядя в билет, догадалась проницательная бабка, со всей очевидностью не успевшая за последние пятьдесят лет перейти от пустого «вы» к сердечному «ты». – Номер Вашего вагона – двенадцать. Но до отправления поезда еще около часа.
– Мне что сейчас делать? – Он не понял, высказано ею замечание по поводу его слишком раннего прихода или предупреждение о необходимости какое-то время подождать на перроне.
– Заходите в вагон и располагайтесь, – заулыбалась во весь свой фарфоровый рот бабка. – Вот пластиковая карточка для входа в купе. Приятного путешествия.
Он медленно брел по пустому перрону, раздумывая о том, поедет ли в этом поезде кто-нибудь кроме него. Если ему суждено ехать одному, то… то поезда этого, скорее всего, не существует. И платформы не существует, и бабки. А сам он просто спит в зале для особо важных пассажиров под присмотром своего притворяющегося посторонним знакомца – и видит, стало быть, сон.
Обернулся на стеклянный колпак: бабка опять утратила признаки жизни и впала в хрустальное оцепенение, между тем как на перроне возникла вдруг человеческая фигура – неизвестно откуда взявшаяся… Хотя зачем преувеличивать, взявшаяся оттуда же, откуда и он – из подземного перехода с вокзала на перрон: видимо, по тем же, что и он сам, ступенькам поднялась.
Все-мы-тут-прямо-как-из-земли-вырастаем.
Оказалось – женщина средних лет, почти без ширины, дощечка такая… да, шведскоговорящая дощечка: когда вас на огромном перроне, у холодного и молчаливого поезда без проводников, только двое – разговор неизбежен.
– Ты на этом поезде поедешь? – спросила, значит, дощечка (тут-то и выяснилось, что по-шведски).
– Угу, – любезно, как ему показалось, отозвался он, но встречного вопроса не задал.
– Датчанин?
– Угу.
– Сразу видно!
– Это по чему же видно-то?
– Да по всему… типичный датчанин: волосы льняные, глаза голубые…
Хм, ну и ладно, пусть волосы льняные, пусть глаза голубые: тут у нас ночь, освещение на перроне не очень хорошее, да и какая разница, если им так и так вместе детей не крестить и, даст Бог, в разных вагонах ехать, а если и в одном, то уж точно не в общем купе, потому что никаких общих купе в его вагоне нет – скушала, голубушка?
– …одет кое-как или с претензией на кое-как, худой, длинный, – заканчивала перечень национальных примет дощечка, – короче… самый что ни на есть натуральный датчанин и есть, вы, датчане, с роду века такие.
– Ты этнолог? – спросил он скучным голосом.
– Нет, – простодушно откликнулась дощечка, – я уборщица вокзальная, меня Ванесса зовут, я вот из этой будочки синенькой, слева, видишь? – И она сразу показалась ему невероятно милой.
Он тоже представился и, не теряя ни секунды, ни с того ни с сего вдруг взял да и изложил ей конспективно историю своих – своих? – перемещений под вулканическим облаком. Ванесса закурила половинку сигареты, аккуратно сберегавшуюся за обшлагом драповой курточки, и серьезно сказала, когда он закончил:
– Это камино.
– Камино, – эхом отозвался он, уставившись на Ванессу так, словно перед ним сам Святой Якоб.
– Не возбуждайся, – улыбнулась она, – я на историка культуры в университете учусь. Год остался.
– Извини, – совсем смутился он и вздохнул. – Может, и камино. Только вот… маршрут у меня для камино неподходящий.
– Почему же неподходящий-то – потому что не Иерусалим, не Рим и не Сантьяго-де-Компостела? Глупости, у каждого свой камино, не знаешь? Это даже дети знают.
– Да знаю, – опять вздохнул он.
Дон Исидоро был перед ним. Дон Исидоро в образе шведской дощечки: с теми же огоньками в глазах – дале-е-екими огоньками такими, сразу и не разглядишь… огоньками доброй надежды.
– Пойду я, – сказала Ванесса, докурив. – А тебе – счастливо добраться до… дотуда-куда-тебе. Помнишь: нельзя сосредоточиваться на цели? Buon Camino!
И они обнялись… весьма нежно, кстати.
Как же это он ни разу за все это время не подумал о камино? Пришлось снова закуривать и – думать, тем более что до отправки поезда было еще сорок минут.
Конечно, камино… рог mi culpa, рог mi gran culpa. В средние века преступивших закон наказывали, назначая им в качестве кары пешее паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Он где-то слышал, что так делают еще и сегодня – и что люди возвращаются назад совершенно другими. С печатью о каждой стоянке в памяти… ну и в паспорте, конечно: паспорте паломника.
Спиритуальный акт, путешествие в себя, метафора жизни.
Не торопись, говорил ему дон Исидоро, вернувшись с края света, с Коста-да-Морте: теперь, говорил, я знаю, что камино найдет тебя, найдет каждого из нас, и совсем не обязательно отправляться в сознательное паломничество. А он тогда был обижен на дона Исидоро, не взявшего его с собой в Сантьяго-де-Компостела – еще и кричавшего чуть ли не при всех: «Так не делают! Так камино не совершают!»
– Да как – «так», дон Исидоро?
– А вот так: за компанию! Дедушка-возьми-меня-с-собой!
Ну и он, значит, решил тогда обидеться на дона Исидоро, и обиделся, хоть и временно, конечно: он знал, что совсем без дона Исидоро жизнь вряд ли бы ему понравилась, он давно уже привык к тому, что, где бы ни находился, дон Исидоро то и дело оказывался поблизости – проездом… Обиделся же почему – потому что он ведь еще и помочь дону Исидоро хотел: совершать камино одному в семьдесят лет – предприятие опасное.
И вообще нечего кричать было… крикун старый!
Значит, ему самому, оказывается, вот только сейчас суждено пройти камино – когда и дона Исидоро давно уже нет на свете? Причем для его камино потребовалось, чтобы начал извергаться вулкан… ээх, все-то у него не как у людей. Да и не узнал он своего камино – надо было, чтобы совершенно посторонняя Ванесса – на вокзале, видите ли, в Стокгольме! – диагноз поставила: это камино. А ведь знай он заранее…
Вернуться, что ли, назад – прямо отсюда? Вернуться и все сознательно перепройти – хорошо, пусть не Хельсинки перепройти, пусть хотя бы только Стокгольм перепройти… впрочем, как быть тогда с Берлином, как быть с Гамбургом, как, в конце концов, быть с Обенро – из которого он пока так и не уехал? И потом… «сознательно перепройти» – это как? Еще более сознательно?
Да нет же… не надо ничего перепроходить, потому как не перепроходят камино! Слишком уж много всего и для одного похода требуется. И еще вдруг вспомнилось – кто это ему сказал… вроде, не дон Исидоро? – что некоторые, совершая камино, теряли рассудок. От одиночества – или… или не выдерживая встречи с собой? Или это вообще одно и то же: одиночество и встреча с собой? Сам-το он рассудок на пути из Москвы, кажется, так и так потерял… Ну ладно, ладно, не пугайтесь: он никому не сообщит об этом.
А про что дон Исидоро точно рассказывал – так это про постоянный разговор, происходящий на всем протяжении камино: идешь, значит, один и – разговариваешь… ммм, с кем же это? Ясно, не с попутчиками: на камино мы встречаемся лишь на минутку, чтобы улыбнуться, сказать buon camino и разойтись, так уж ведется… значит, не с попутчиками. С самим собой – тоже едва ли, потому как по-настоящему тебе еще только предстоит с собой встретиться: там, дальше… на Коста-да-Морте.
Так… с-кем-я-говорю-простите?
Короткие гудки.
А в общем, по всем статьям получается, что – с Богом. Кстати, многие паломники, он слышал, в этом уверены: Бог, дескать, всегда рядом с идущим в Сантьяго-де-Компостела и рано или поздно обязательно покажется – не в собственном облике, это редко, а в облике кого-нибудь… кого-нибудь-хорошего. Или необязательно – хорошего?
Интересно, на его камино уже показался Бог? Пора бы ведь: хоть путь и не закончен, но Бог же необязательно в самом конце объявляется, не Греция ведь тут у нас античная! А если уже был Бог, то – кто именно? При том, что он вообще ведь совсем мало с кем разговаривал в пути. Больше всего со свеном-очей-своих, но этот определенно не Бог – при пиве-το и жареных колбасках! Прилипала с компьютером – нет-нет-пожалуйста, таких богов нам не надо. Тот, скорее всего, страж. Как там было у дона Исидоро, вспомнить бы: стражи, помощники, вредители, свидетели, просветители… всю эту смешную, с одной стороны, и жуткую, с другой, дон-Исидоровскую таксономию камино, м-да, каминомию ! Значит, прилипала был страж, свен-очей – скорее всего, свидетель, тетя Лида с мужем – вредители, в то время как Ансельм, Нина и Аста – помощники, что касается Гвидо… минуточку, никакого Гвидо не было вовсе! Хотя как это – «не было вовсе»… тогда не было вовсе и тети Лиды с мужем, не было Ансельма, Нины и Асты, а если их не было, то и его, получается, не было?
Впрочем, он спросит об этом у Бога, когда они встретятся. После камино. На Коста-да-Морте.
Ах, как много всего понятно, если Ванесса права и это – его камино. Понятно, во всяком случае, почему его так занимает сама дорога и совсем не занимает пункт назначения: так и так все-мы-увидимся-в-Сантьяго-де-Компостела! А пока – дорожные глупые мелочи, дорожные маленькие мысли, становящиеся смыслом движения, смыслом существования. Путешествие важнее цели, и ты движешься внутри себя, движешься в своей голове, а все, кого ты встречаешь в пути, суть символы, только символы, лишенные признаков бытия. И найдешь ты лишь то, чего не ищешь. Причем найдешь в аду: ты ведь в ад направляешься? Как не в ад, если дорога именно туда благими намерениями вымощена?
Сам же ты и мостил… мостишь.
Он подошел к двенадцатому вагону, попробовал повернуть ручку двери – ручка подалась. Поднялся по трем ступенечкам, вошел. Длинный полутемный коридор, хоть бы одна живая душа! А вот и его купе – рядом с замком узкая щель для карточки, где она еще, эта дурацкая карточка, которую дала ему Спящая Царевна, вот она, слава Богу, карточка легко входит в щель – ррраз… только вот дверь купе не открывается все равно!
Вторая попытка, третья, четвертая… седьмая.
Он стоял у купе и думал, предпринять ему восьмую попытку или вернуться к Спящей Царевне и спросить ее, в чем дело. Он заплатил за это купе две с лишним тысячи крон – все должно работать!.. Совсем уже собрался вернуться, да недалеко от него нарисовался вдруг еще один пассажир бизнес-класса – на полсекунды задержался у двери и исчез в купе, неслышно закрыв дверь за собой: опыт… Оно и понятно: пассажир по всем признакам был «свой» – костюм, белая рубашка, галстук в полоску, на руке – темное пальто, в руке – саквояж, так и должен выглядеть пассажир бизнес-класса. А вот он не пассажир бизнес-класса, он самозванец: ни тебе галстука в полоску, ни пальто, ни саквояжа, ни даже хотя бы паспорта. Сенсор в двери такие вещи, небось, за версту чует…
Снова осторожно погрузил карточку в щель: дверь не открылась.
Есть такие унизительные ситуации – ситуации, в которых просто не надо оказываться. Потому что лучше не искушать судьбу, лучше не появляться там, где ты чужой… о, как он знает это! Ибо никто и нигде не опознаёт его больше как своего и ни в одной из сред не может он затеряться в толпе-себе-подобных. Если же пытается (а он только и делает, что пытается) – разоблачают мгновенно и каждый раз одинаково: «Ты откуда – такой?» Знать бы еще – откуда и какой. То и дело ему кажется, будто у него на самом видном месте клеймо: именно оно, значит, и не дает ему остаться незаметным, слиться с другими. Те немногие в жизни, кого он знал совсем близко, соглашаются: да, есть на тебе что-то вроде клейма – по нему, дескать, мы тебя и узнали. Только ведь и на тех немногих в жизни, кого он знал совсем близко, тоже как будто клейма: из-за клейм этих он и выбирал их – что уж греха таить! Только с ними он и был своим, но мало их. А так, куда ни придет – чужой. Может быть, он насовсем в другую страну и уехал, чтобы там, в другой стране, стать уже наконец совсем чужим – чужим по праву?
В очередной раз не открыв дверь в купе, он вздохнул и отправился назад по коридору: к настоящему бизнес-классу на поклон. Тихонько постучал – коротким стуком, самим за себя извиняющимся.
– Кто там? – спросил по-шведски настоящий бизнес-класс.
– Сосед, – нашелся он.
– Какой такой сосед? – спросила дверь.
– Датчанин, – апеллировал он к скандинавскому братству, но, на всякий случай, объяснился точнее: – По стране, так сказать, сосед, я имею в виду.
– Чего тебе, сосед? – Дверь звучала настороженно.
– Просто я увидел, что тебе удалось в твое купе проникнуть, а мне вот в свое не удается никак… м-да, проникнуть. Не поможешь?
– Проникнуть?
Дверь помолчала. Помолчав, как ему показалось, неприлично долго – ответила:
– У тебя же карточка должна быть – разве нет?
– Карточка есть, но она почему-то не действует. Я уже раз двадцать пробовал.
Дверь снова замолчала – и молчала на этот раз уже просто вечность… с копейками. Потом раздался приговор:
– Такого не может быть.
Сказать на это было нечего, и он вернулся к своему купе. Действительно – чего приставать к человеку? Из того, что человек умеет пользоваться пластиковыми карточками, вовсе не следует, что он должен научить этому и тебя. Так, если кто-то умеет играть на скрипке, глупо обращаться к нему с просьбой научить и тебя на скрипке играть… глупо же! Наши умения суть наши умения – и мы не обязаны делиться ими с другими.
Он топтался у двери, погружая карточку в щель и доставая карточку из щели, погружая и доставая, погружая и доставая… словно ослик Иа в истории про Винни-Пуха, пока, стало быть, не послышался щелчок двери справа.
– Ну что, так и не открыл?
На настоящем бизнес-классе был шелковый халат с кистями – поверх, видимо, голого тела. Лет бизнес-классу на вид оказалось немало – вокруг семидесяти, но бодрых таких семидесяти. А пахло от бизнес-класса, понятно, «Gucci» – да… и не просто «Gucci», a «Gucci by Gucci»: на запахи у него была абсолютная память.
– Gucci by Gucci, – сказал он… знать бы еще, зачем сказал!
– На работу пойдешь ко мне? – был еще более бессмысленный вопрос.
Они стояли у запертой двери.
– Не пойду, конечно, – улыбнулся он. – А кем?
– Экспертом. – Бизнес-класс легко открыл его дверь его же карточкой. – Только не по пластиковым карточкам экспертом – по запахам.
– А зачем тебе такой эксперт?
– Прямо тут, в коридоре, отвечать? Ты или меня к себе пригласи, или… – нет, вот что, пошли ко мне, а то у тебя с собой, я вижу, и нет ничего. Никогда не умел так ездить – чтобы вот совсем с пустыми руками… гениально!
– А у тебя что с собой есть?
– Еда. Вино. Тут ведь не кормят и не поят. Велят терпеть до утра… порядочки!
Еда и вина оказалось не ахти какими, но в количестве, явно превышающем естественные потребности индивидуума.
– Вредные привычки одинокого человека. Все вокзальные харчевни обошел и скупил. – Бизнес-класс протянул руку: – Гуннар.
Представился и он, с удовольствием отметив, что одинокого, стало быть, человека зовут не Свен и что это первый Гуннар в его жизни… интересно, какие они, гуннары.
За едой и вином выяснилось, что Гуннар отнюдь и отнюдь не шутил насчет эксперта.
– Я, видишь ли, человек с носом. И мне еще один человек с носом нужен: эксперт в лабораторию. Везде ищу. Приходят, рассказывают о себе чудеса всякие, но не так чтобы в четверть секунды Gucci, причем Gucci by Gucci, десятичасовой давности, определить. Если это, конечно, не тот сент, которым ты сам постоянно пользуешься.
– Никогда не пользуюсь. Но, пожалуй, я тоже с носом. А что за лаборатория?
– При фабрике парфюмерной, в Швеции. Условия хорошие, зарплата – закачаешься. Но все равно ведь не пойдешь! Художник, небось, судя по… хм, живописности?
– Время от времени.
– Датчанин, говоришь?
– А то! Волосы льняные, глаза голубые – сам видишь.
Гуннар не поправил и не откомментировал шутки – никак. Зато потянул носом воздух и сказал:
– Пахнет от тебя хорошо, но запах – едва ли твой.
– Я внушаемый, – вздохнув, опять отшутился он. – Внушаемый и общительный.
– Да нет, – серьезно взглянул на него Гуннар. – Ты не внушаемый и не общительный.
– А еще не какой? – спросил он с вызовом: терпеть не мог психотерапевтических тактик.
– Сейчас скажу, – спокойно продолжал Гуннар. – Не сговорчивый. Не ищущий знакомств. Не претендующий ни на что. Но при этом – неуверенный в себе.
– Danke schön, herr Freud.
– Нет-нет, Боже упаси, – засмеялся Гуннар. – Я только по запахам сужу.
– Понятно. Это, значит, какой я не есть. А какой – есть? – спросил он, отменив агрессивность.
– Тут – увы, – Гуннар, подняв бокал в его сторону, медленно, но не отрываясь, выпил стакан вина и налил себе еще один. – Какой есть… – хм, такой и есть! Этот вопрос не по мне.
– В смысле – не нравится?
– В смысле – не справиться.
– А попробуй, – поощрил он, уже сильно заинтересованный. – Попробуй, Гуннар!
Опять выпив полный стакан вина, Гуннар без энтузиазма напомнил: – Вино-то пей: хорошее. А насчет остального… нет уж, пардон – как-то теряюсь я. Давай не будем: я же в шутку все это – правда!
Разговор вдруг перестал клеиться – сам собой.
Доужинали и расстались – ясно, что, друзьями. Гуннар был навеселе… правда, на странном каком-то – горьком – веселе, ну да Бог с ним, шведы-народ-загадочный. Да и пить им – лучше не.
Дверь в свое купе он отпер легко – все той же, недавно такой капризной, пластиковой карточкой.
Купе было – как у Гуннара: узенькая келейка с избыточными удобствами. Зажег свет, осмотрелся. Открыл дверь в душ: поглядеть, каков – ба-а-атюшки, ну и компактный же душ-то! Включил маленький светильник сбоку, машинально бросил взгляд в зеркало – и как-то вдруг не понял увиденного: не то чтобы что-то не в порядке, всё, вроде, в порядке – да нет, не в порядке… волосы, вот, льняные и глаза – голубые. Шарахнулся от зеркала как от чумы, не решаясь заглянуть туда еще раз – тем более, телефон зазвонил: мама.
– Ты уже дома? – Голос у мамы виноватый.
Знать бы еще, что она имеет в виду, говоря «дома»!
– «Дома» – это где? – осторожно спрашивает он, осторожно же закрывая дверь в душ и гася там свет.
– Ну… – теряется мама, – у Тильды, я имею в виду! Или она не собиралась забирать тебя у библиотеки?
– Собиралась, собиралась, – утешает он маму.
– Ты же пять минут сказал, что вы вернулись!
– Так если сказал, чего ж тогда перезванивать?
– Я волнуюсь.
И тут он слышит, как мама стучит зубами в трубке. Слышит – и ужасается.
– Ты… ты себя хорошо чувствуешь? – вкрадчиво спрашивает он и ждет, ждет, ждет ответа, за время своего ожидания понимая, что правы были все – все, кроме него, все пятеро… советуя ему, прося его, взывая к нему: сказать маме правду. Потому что на данный момент совершенно очевидно: своим враньем он вывел маму из строя – и мама напугана так, как, может быть, никогда.
– Я хорошо себя чувствую, – мужественно отвечает она наконец. – Я просто не очень понимаю, что с тобой, а хотелось бы понимать… ты расскажешь?
Ужас в том, что теперь ничего не только не раскрутить назад, но и не объяснить, ибо не перескочить уже через тетю-Лиду-с-мужем, Ансельма-Нину-Асту, Тильду-и-Гюнтера – свидетелей более надежных, чем он сам! Сам же он… сам он не в порядке – и, похоже, с каждой минутой это становится маме все понятнее. Знать бы еще, что говорит ей тот, кто звонит… или те, кто звонят – от его имени.
– А почему ты считаешь, что со мной… что со мной что-то не так?
– Я, если не возражаешь, мать твоя. То есть кое-что почувствовать вполне в состоянии.
– И… что ты чувствуешь?
Ах, с какой бы радостью он прямо сейчас прекратил эту бесчеловечную игру!
– Мне трудно сказать… или… я боюсь сказать. – И голос у мамы – хуже не бывает.
– Скажи, не бойся.
– Когда… когда ты теперь звонишь мне, я говорю про все твои последние звонки – ты повторяешься, ты повторяешь то, что уже говорил, и мне кажется, что ты нетрезв, или даже… или даже, что ты… под действием наркотиков.
Ну вот она и сказала наконец то, что хотела. Наверное, теперь ей легче.
Нетрезв? Наркотики? Господи, до чего же мама все-таки идеализирует своего сына! Она, ей-богу, представляет себе скучную его жизнь гораздо красочнее, чем есть на самом деле. И поди объясни ей… впрочем, какой смысл объяснять: маме точно спокойнее с собственными объяснениями, и эти, ее, объяснения гораздо более пригодны, чем его. Ими нужно просто воспользоваться, и ими же, значит, оправдать всё – сразу, за один раз, чтобы больше не виться ужом.
И он слышит собственный голос, который говорит:
– Да ничего особенного, мам, просто немножко гашиша. Я ведь вообще-то не курю гашиш, так что несколько… несколько дурновато с непривычки.
Вздох облегчения в телефоне. «Ну, слава Богу! – слышится во вздохе. – С этим я справлюсь».
И мама начинает справляться сразу:
– Выброси немедленно косяк!
Упс… мама, оказывается, и с терминологией лучше его самого знакома.
– Вот просто сейчас, пока мы разговариваем, – платино-иридиевым голосом продолжает мама, – иначе я не положу трубку и вся моя пенсия уйдет на этот разговор.
Шантаж… может, правда «выбросить косяк»?
– Там, где ты сейчас… ты не у Тильды, я по твоему звонку поняла – там урна есть поблизости? Я надеюсь… я уверена, что ты ведь не будешь потом косяк доставать из урны – куда люди плюют?
Личная гигиена прежде всего. Но надо все-таки подпустить правдоподобности: поизворачиваться какое-то время.
– Мам, у меня нет с собой косяка. В чемодане косяк, дома.
– Ты же сказал, что чемодан уже в Копенгаген с кем-то уехал!
– Вот он и уехал, м-да. Вместе с гашишем.
– Сколько там гашиша?
Знать бы еще, сколько его бывает!
– Грамм… сто? – пытается угадать мама.
И вот тут он расхохотался. Видит Бог, невозможно было сдержаться! Сто граммов гашиша… мама думает, что он миллионер.
– Мамуль, за сто грамм я бы уже пожизненно срок отбывал, гашиш такими порциями не покупают. У меня и было-то граммов… пять от силы, а осталось… три, наверное. И они уехали в Копенгаген.
– Мне кажется, это неправда. Мне кажется, они, эти три грамма, в кармане у тебя лежат. Лежат ведь?
Ну и… пора уже: надо дать маме возможность быть правой. Надо позволить ей пережить успех хорошего педагога. Надо помочь ей успокоиться… хотя теперь она, странным образом, гораздо спокойнее, чем в начале разговора.
– Лежат. В потайном кармане лежат. Давай, знаешь, я выброшу – и сам тебе перезвоню? Я точно перезвоню, не беспокойся, а то ты, правда, все деньги на этот звонок истратишь… я перезваниваю, ладно?
И он разъединился.
Может, и в самом деле купить сейчас сколько-нибудь гашиша и выбросить? Бред! Но он знает один квартальчик здесь, в Обенро… вот, прямо совсем близко к фиорду, на пути в «Нетто», такая улица, где всякие веселые девочки оказывают всякие веселые услуги, он не то чтобы пользовался – да не пользовался, мама, не пользовался! У него никогда просто не было необходимости, потому что вокруг то и дело оказывались вполне и вполне бесплатные милые подружки, которым он почему-то оказывался симпатичен… не проси у меня отгадки этой загадки, мама, я бы, может быть, даже и обошелся бы без половины подружек, особенно здесь, в Дании, где никто не считает таким уж криминалом грехопадение по взаимному согласию!
Столбик зарядки на телефоне, как в плохом кино, – близко к нулю: оно и понятно, последний раз утром на пароме телефон заряжался.
Минуточку, на каком пароме?
Вокруг Обенро.
На улицах ни души. И он бежит к тому месту, где, как помнится, был телефон-автомат – лет двенадцать назад, во всяком случае, точно еще был. Бежит, в панике нажимая на попискивающие клавиши своего почти уже мертвого телефона, – ну, слава Богу, мамин голос: алло-алло!
– Мама, у меня телефон садится, я автомат ищу, и я уже выбросил гашиш…
– Это неправда, ты говоришь неправду, ты просто собираешься…
И связь прерывается.
А автомата на прежнем месте, конечно, нет.
Мобильные времена.
Ну, что ж… так – значит так. Не его, в конце концов, вина, что отказал телефон. Он, правда, снова попробовал нажать на «оп» – телефон вдруг включился, но надолго ли? Так вот, не его вина, что телефон отказал! Если бы по этому телефону звонил он один, а то ведь звонят все, кому не лень! Вот и сейчас… причем опять, конечно, мама.
Он нажимает на кнопку и слышит голос Курта:
– Куда ты убежал от самого дома? Я только что видел тебя внизу с фру Йенсен… Там телефон наверху надрывается: я подумал, вдруг мама?
И он бросился назад – на родной голос Курта… на зов Ютландии: домой. Потому что дом его – здесь: вон в том мезонине, где он, уходя, опять забыл потушить свет. Что касается Копенгагена, то туда и без него есть кому вернуться – пока есть кому.
Наш-пострел-везде-поспел.
Курт машет рукой с балкона.
Снап!
Исходный принцип репрезентации – равноценность знака и реальности (даже если эта равноценность – полная утопия, она все же базовая аксиома). Наоборот, симуляция исходит из утопичности принципа равноценности, из радикального отрицания знака как ценности; симуляция видит в знаке переворот значения и смертный приговор референту. Если репрезентация пытается поглотить симуляцию, относясь к ней как к ложной репрезентации, то симуляция обволакивает все здание репрезентации, видя в нем самом только внешнее подобие. Образ проходит следующую последовательность фаз:
1. Он отражает реальную действительность.
2. Он маскирует и искажает реальную действительность.
3. Он маскирует отсутствие действительности.
4. Он не имеет никакого отношения к действительности: он превращается в собственное подобие.
В первом случае образ выглядит как благо: у репрезентации характер причастия. Во втором – образ предстает как зло: у него характер злодеяния. В третьем случае он только притворяется, что обладает обликом: характер колдовства. В четвертом вообще нельзя говорить об облике, поскольку образ приобретает характер симуляции.
Переход от знаков, которые маскируют нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними ничего нет, – это решающий поворот. Первые подразумевают теологию истины и тайны (к которой относится и понятие идеологии). Вторые открывают эру подобий и симуляций, в которой больше не осталось ни Бога, ни Страшного суда для отделения правды от лжи, действительности от ее искусственного воскрешения, потому что все уже умерло и уже воскресло {37} .
Вообще говоря, Твери лучше всего было стать в свое время столицей, как оно и предполагалось. Тот факт, что в силу всем известных обстоятельств столицей Тверь не стала, и на судьбе государства Российского, и на ее собственной судьбе отразился весьма и весьма печально. Государство Российское отныне вынуждено было метаться между двумя столицами – Москвой и Петербургом, сама же Тверь навеки оказалась в положении «между», и даже неважно, между двух ли огней, между молотом ли и наковальней, между городом ли и деревней, ибо всякое «между» есть прежде всего между, а уж потом – между чем и чем.
Эта вот промежуточность и составляет сущность Твери – изначально, стало быть, обреченной на отсутствие определенности, законченности, цельности, то есть на полную невозможность когда-нибудь состояться. Тверь – город-маятник, испокон веков качающийся между столицами и не касающийся ни одной, ни другой, ибо, как всякий маятник, зачарована лишь самим колебанием, нарезанием треугольников.
Те, кто живут в Твери, живут, собственно, не в Твери – или живут в ней лишь номинально, мыслями своими находясь при этом либо к северо-западу, либо к юго-востоку от Твери: соответственно, в одной из столиц. И происходит это вовсе не из нелюбви к Твери как таковой (Твери как таковой нет и никогда не было) или, наоборот, из любви к одной из столиц (двух столиц у одного государства нет и быть не может) – происходит это только и исключительно из-за присущей любому тутошнему аборигену страсти к самоопределению. Кто же я, значит, все-таки – с кем я: с утонченным чахоточным Петербургом или с вульгарной жовиальной Москвой?
Каждое тверское дитя отродясь знает, что в Твери вообще-то не живут, а только временно находятся, и что задерживаться в Твери особенно нечего. Если же кто задерживается – все равно, значит, не живет, а только коптит… так и Фамусов сказал: и будь не я, сказал (как отрезал), коптел бы ты, Молчалин, в Твери. Короче, коли созрел – убывай отсюдова: хочешь, на северо-запад, если ты утонченный и чахоточный, хочешь, на юго-восток – если вульгарный и жовиальный. А маятник-Тверь так и будет качаться из стороны в сторону, так и будет нарезать треугольники – не касаясь ни одной из двух столиц.
Стало быть, промежуточность, смежность, пограничность – как постоянную готовность в любую минуту сигануть на северо-запад или на юго-восток – тут ощущают в себе с детства: будто ты, дитя, пока не взаправду живешь, а только еще к жизни готовишься, на себя ее примеряешь, дескать, так – хорошо? или так – лучше? или так? Словно взаправдашняя жизнь еще где-нибудь впереди – и вот там-то уже все по-настоящему, там все всерьез, там, значит, у нас настоящий спектакль, в то время как тут – прогон: родственники одни смотреть пришли… хочется, конечно, хорошо показаться, но особенно выкладываться ни к чему, будет еще время.
Со своим «будет еще время» тверич и идет вперед, в одном из вышеуказанных направлений, но, дойдя до Петербурга или Москвы, это великовозрастное уже дитя жить, однако, не начинает и там, а все еще предвкушает – теперь по инерции, по инертности тверской, – что вот-вот, дескать, кончится детство и начнется оно, самое главное. Уже завтра начнется, уже послезавтра – ну, или чуть позже: объявят день премьеры, билеты продадут, зрителей соберут и – здравствуй, самое главное!
А самое главное все не начинается…
Самое главное не начинается никогда, между тем как вот же они – столицы, под рукой… одна из столиц, во всяком случае! Может, неправильно выбрана столица? Ах, черт, черт, черт, надо было не сюда, на юго-восток, в эту вульгарную жовиальную Москву – надо было туда, на северо-запад, в утонченный чахоточный Петербург, или наоборот: не сюда, на северо-запад, в этот утонченный чахоточный Петербург, а туда, в вульгарную жовиальную Москву – там, в другой столице, самое главное давно бы уже началось и кипело ключом! А здесь самое главное, понятное дело, не живет – и духу его никогда здесь не было… надо же так глупо, так обидно, так не-об-ра-ти-мо просчитаться! И вернулся бы назад, в Тверь, да нет на свете никакой Твери – есть одно заунывное качание маятника вокруг воображаемой оси, которая Тверь и которой – нет. Это просто слово такое, причем датское, tvær, означающее «поперечный»: датчане, небось, Тверь и придумали у себя в голове, когда еще викингами здесь гуляли – в незапамятные одни времена.
«Поперечный», значит, или еще – «упрямый», «строптивый».
Впрочем, чего же о тех-то столицах, когда другая уже – вовсе даже третья – вокруг него столица теперь… пусть и «на широте Москвы», так почему-то всегда говорила ему загадочная Вера Николаевна, Главный Астролог его жизни. А когда Вера Николаевна улетела к своим звездам, астрологии в жизни его не стало совсем – вот разве что таинственное «на широте Москвы», непонятным образом все еще имевшее для него значение, но только какое… – нет, это не к нему, это к Вере Николаевне, если доберетесь до Веры Николаевны! Ему самому не добраться, да и не надо: Вера Николаевна улыбается оттуда, со звезд, усталой своей улыбкой, стоит ему только поднять глаза к ночному небу.
Так вот, третья, получается, столица – Копенгаген… Кёбенхаун. Непостижимо, кстати, откуда у людей во всем мире патологическая эта потребность – искажать имена друг друга. Как будто нельзя сказать так, как сами местные говорят, хотя бы из уважения к ближним и дальним: Польска, допустим, или Данмарк… разве трудно? Или вот… зачем датчанам – и, между прочим, не только им, а много кому – называть Россию «Русланд»? Россия же на это имя не отзывается и не отзовется никогда, даже просто из принципа не отзовется! А эти все… как их, швеция-греция-турция – где они в реальности? Наплодили, видите ли, двойников – и непонятно, какой из них настоящий, даже путешествовать страшно: направлялся в Данию – прибыл в Данмарк, направлялся в Германию, а прибыл – хоть стой, хоть падай – в Дойчланд… это ж вдуматься надо: ужас ведь происходит, и никаких гарантий, что ты именно там, где ты должен быть! В Гаагу, да хоть и в Гаааагу съездить – просто навсегда забудь, до них тебе ни в жизни не добраться, хоть лоб, значит, расколи, вот «Ден Хааг» – это хоть сейчас пожалуйста… если устроит, конечно! Что касается «Лейпцига», «Веймара» или вот того же «Гамбурга» – ну нету в Германии городов с такими названиями, сами можете проверить и убедиться! Так что куда вы все попадаете, когда попадаете туда, – Бог вас знает.
С ним в этом отношении проблем не было: он никогда не жил в Копенгагене – просто сразу в Кёбенхаун и прилетел… над головой еще, помнится, начертано (предначертано!) было: KØBENHAVN – это чтобы ни у кого никаких сомнений. И он сразу понял: тут дело серьезное, запомни и произноси так, как начертано, иначе (см. выше) – никаких гарантий, что ты там, где ты есть. Он, кстати, наблюдал потом – да и до сих пор наблюдает – всех этих русских-девчушек-из-Копена, так они Кёбенхаун, значит, сообща перекрестили… и что же? Из Копена девчушки, стало быть, и есть – на поверхности лица у них тушью для ресниц написано, что из Копена они, что им на Кёбенхаун плевать, а также что они его в гробу видели, он эти надписи сам читал, просто так все и есть: «Мы сами из Копена, а Кёбенхаун ваш в гробу видели!» Вот как бывает, значит…
Ну да ладно, не в девчушках дело, где бы они ни обретались, – дело в принципе. Кёбенхаун – хорошо, пусть Копенгаген, чтобы никого особенно не дразнить, – он полюбил с первого взгляда: стоило только тому улыбнуться мартовской улыбкой и, протянув руку, сказать: «Kom nu, kom tættere på» – и он пошел на зов и подошел совсем близко. Любовь к Копенгагену была не такой, как любовь к Обенро. В Обенро он вживался годами: смирялся, привыкал, научался узнавать по шагам, по запаху. Обенро стал для него датской Тверью, в то время как Копенгаген… да, чем стал Копенгаген? Датской Москвой? Датским Петербургом? Нет, третьей точкой колебания маятника – точкой, о которой мало кто из наблюдателей знает, только сам маятник знает: это к ней, наверх, вечно устремляется маятник. Размахнется было в одну или в другую сторону, но, истратив на подъем последние силы, камнем падает в бездну – все время в одну и ту же бездну.
Копенгаген стал его последней любовью – причем любовью взаимной, желать ли большего? И до чего было умильно следить, как Копенгаген цацкается с ним, не знает куда посадить, чем угостить, предупреждает каждое желание, подбрасывает одну возможность за другой: налево, дескать, пойдешь – сперва коня найдешь, потом жизнь, направо пойдешь – жизнь найдешь, но и коня, не волнуйся, только после… а вот если прямо пойдешь – получишь то и другое од-но-вре-мен-но.
И был ему – конь, всегда тот или другой, чаще всего – конь Абсалона, и была – жизнь, либо его собственная, либо чья-нибудь, без разницы: вот-моя-жизнь-возьми-и-делай-что-хочешь, и все ему было по обещанию Копенгагена. Он выучил город наизусть – так, как он знал Копенгаген, он не знал ни один город в мире. «Теперь сюда, – говорил Копенгаген, – запомни вот эту булочную, вон тот погребок и еще, глаза подними, флюгерок, видишь? Они твои, я дарю их тебе – можешь всегда приходить и владеть».
– А раньше-то кто ими владел? – ошарашенный такой щедростью, спрашивал он.
– Раньше – никто, никто, – торопливо врал Копенгаген, – ты первый, тебе одному все вокруг принадлежит, жизнью клянусь!
Так постепенно и получил он во владение ни много ни мало миллионный этот город – и теперь заходил как свой в любую дверь, и везде улыбались навстречу, везде шутили, везде… да что там, чуть ли не узнавали в лицо: дескать, где пропадал-то последние день-два, мы скучали по тебе – все девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек населения! И было похоже на правду, все выглядело так, будто каждый прохожий, едва заприметив его, знал: вот идет тот, кому принадлежит Копенгаген. Только вслух об этом, конечно, не говорили – зачем?
А сам он как будто всегда понимал, что именно сюда ему было и надо: в эту безалаберность, в ноншалантность эту, в полный и окончательный пофигизм – шла ли речь о стиле (да ладно вам… чем вот это-то вот, что вы видите, не стиль?), о чистоте (пропади она пропадом, эта чистота, завтра так и так убираться!), о возрасте-поле-национальности (это, простите великодушно, что еще за звери такие?), о ценах (ну, высокие цены, самые высокие в Европе – и что теперь? не в деньгах же счастье)… ах, о чем угодно! Более не-самотождественного города он не знал тогда и не узнал никогда потом: Копенгаген отказывался от индивидуальности, он хотел быть сразу всем, он не желал, чтобы его узнавали на улице. «Идем, идем, – шептал Копенгаген на ухо, – я давно хотел показать тебе кое-что, так, ерунда, но забавно, забавно… знаешь, магазинчик “Икстлан”, тут недалеко, идем-идем!» И он шел – шел с радостью, почти бежал, и видел на бегу, как город преображается: молодеет или стареет, меняет одежду и привычки, оборачивается то человеком, то зверем, то птицей…
В конце концов все подобные вылазки обязательно выходили ему боком, но он никогда не жалел об этом. Ибо, как Копенгаген, не заводил его ни один город на свете – ни один город не был в состоянии так морочить, так кружить голову, ни один не умел так обманывать, так обольщать, так бросать на произвол судьбы – и так попирать его достоинство, да и свое собственное достоинство тоже… м-да, дорогим ботинком ручной работы, наспех надетым на босу ногу! Неверный город, капризный город, ненадежный город – весело подхватывавший его под руку и, шепнув: «Я люблю тебя» – запутывавший в очередную сумасшедшую историю.
О-бо-жа-е-мый город.
Он всегда скучал по Копенгагену, хоть никому и не признавался в этом – включая себя самого. Во всяком случае, публично признаться в любви к Копенгагену его не заставила бы никакая вражья сила. По отношению к городу он вел себя так же, как город вел себя по отношению к нему: они любили друг друга любовью-изменой, любовью-предательством, и когда его спрашивали а-красивый-Копенгаген? – он обычно пожимал плечами и не столько отвечал, сколько ронял ответ, словно на секунду забыв, что ответ этот уже на губах: ничего-особенного-город-как-город – и сердце сжималось. Так любовники ревниво охраняют от всего мира территории друг друга.
Он, видимо, теперь не мог бы жить без Копенгагена, вне Копенгагена. Уже завтра он поедет в центр, выпьет кофейку, полистает книги в «Палудане», а может, и купит какую-нибудь – в честь возвращения.
С зеркалом в купе, кстати, все оказалось не так плохо: на самом деле волосы были, конечно, не льняными, откуда у него льняным взяться… обычные его волосы, ну, светлее чуть-чуть, ну, гораздо светлее, но не настолько, чтобы ужасаться, а глаза – ах, да и черт бы с ним со всем, не в том он возрасте, чтобы так пристально в зеркале себя разглядывать! Голубые глаза – так голубые, даже лучше… ммм, для Копенгагена. Кёбенхауна. Они, небось, голубыми и были всегда.
Преимущества одноместного купе он использовал на полную катушку: прежде всего, разложил вещи – предельно немногочисленные, правда, но намеренно широко, ибо все пространство целиком было его: «уплочено», мои дорогие! Потом очень долго принимал душ, едва поворачиваясь в нем и размышляя о том, каково тут должно быть толстякам. Ничего своего у него не было – так что в ход пошли все до одного (!) крохотные пакетики дорожного мыла и шампуня, услужливо разложенные невидимыми проводниками возле раковины, и вытирался он всеми тремя(!) полотенцами – вип я или не вип, черт побери? Жалко, что халата, как у Гуннара (или просто любого халата), невидимыми проводниками предусмотрено не было – пришлось опять влезать в то, в чем был: пижама осталась в ухромавшем вслед за Манон чемодане.
Он почти готов был спросить: Манон… – это какая же Манон? Нет-нет, он, конечно, помнит – и, более того: воспоминание все еще мучительно, но вдруг и Манон вовсе не его воспоминание? Так же, как Лаура? Вполне и вполне возможно, что не свои воспоминания и есть самые яркие – и, скажем, самые мучительные. Потому что свои собственные воспоминания… – или это только у него так? – свои собственные воспоминания страшно бессвязны, и невозможно заставить себя вспомнить какую-нибудь историю подробно, эпизод за эпизодом: в памяти, цепляясь друг за друга, постоянно всплывает множество других историй – так что скоро становится непонятно, какую именно ты вспоминаешь…
– Kom indenfor, – машинально сказал он, забыв, что купе заперто изнутри.
И вот интересно было: кого же это он приглашал войти в такой час – на экране телефона сколько у нас… ноль пятьдесят восемь!
Ничего не говорят снаружи, но стук в дверь повторяется. И становится не то чтобы жутко… просто он ведь, похоже, почти один в этом вагоне, есть еще Гуннар, но Гуннар не по соседству, а в вагон с перрона может кто угодно войти! Или Спящая Царевна не пропустит? Как затрубит, допустим, в… рог! Вот еще глупости, какой рог у Спящей Царевны?
– Hvem er der?
Голос его звучал раздраженно, и это ему понравилось.
– Mig, Gunnar.
Разговаривать с Гуннаром прямо сейчас, ей-богу, не хотелось ни секунды. И он извинился, крикнув через дверь, что принимает душ и минут через десять зайдет сам.
Совершенно непонятно было, зачем он опять понадобился Гуннару: вроде как, распрощались до завтра – тем более что и разговор сам собой увял, не на корню увял, но это неважно – на корню или не на корню.
Он пойдет к Гуннару, когда они начнут ехать. Подняв штору на окне, он увидел только темный неподвижный поезд на противоположной стороне перрона. И – никакой информации на электронном табло. Может, имело бы смысл выйти и покурить еще раз? Целая ночь впереди – при том, что курение в поезде запрещено: не Россия. А никоретта в кармане – помощь небольшая… кто понимает, конечно, хотя кто ж не понимает!
Накинув куртку и накрутив на шею шарф, он чуть ли не на цыпочках проследовал мимо двери купе Гуннара к выходу– будучи, впрочем, уверен, что нигде с Гуннаром не столкнется: випы теперь не курят, берегут здоровье, молодцы.
На перроне, хоть и пустом, было вполне ничего себе: рассеянный такой свет, пара каких-то живых огонечков впереди, слабые звуки ночного Стокгольма…
Но в проеме двери возник ведь все-таки Гуннар – в халате на голое тело и шлепанцах:
– Ты чего тут делаешь? – причем вид у Гуннара озабоченный.
– Да вот… курю напоследок.
– Ну и я постою с тобой. Ты кури, кури.
– Тебе – пардон, конечно, – ничего так… в халате на перроне? – спросил он Гуннара, невольно покачав головой.
– В каком смысле?
Нет, иногда его все-таки раздражала эта знаменитая скандинавская простота. А ведь, казалось бы, свобода… свобода самопроявления – чего ж раздражаться? Свобода и есть игнорирование обстоятельств: мне удобно, а если другим не нравится – это их проблема.
Гуннару удобно в халате на перроне.
Между тем гуннаровский вопрос «в каком смысле?» продолжал висеть-где-повешен – и надо было как-то отвечать.
– Со стороны, небось, забавно, – напряженно отшутился он, – двое на платформе разговаривают, причем один из них в верхней одежде, второй – в халате на голое тело.
– Мне не холодно, – все якобы поняв, отчитался Гуннар. – Не беспокойся.
Вот еще, беспокоиться.
Поднимаясь в вагон, он недоумевал, почему Гуннар так мешкает на каждой ступеньке. Словно – дурацкое предположение! – не хочет пускать его назад.
– Так о чем говорить будем? – с трудом преодолевая не то неловкость, не то глупость ситуации, спросил он, когда оба они мелкими шажками все-таки оказались на пороге гуннаровского купе.
– Да пустяки, – махнул рукой Гуннар. – Просто мысль одна в голову пришла, но теперь ушла уже, неважно, да и не мое это дело. Спокойной ночи.
– Ты вот что, Гуннар… скажи все-таки свою мысль, – он протиснулся в купе, – зачем душить порыв?
– Вино кончилось, – с тоской заметил тот. – Вино, видишь ли, кончилось, а мысль была насчет… но это, повторяю, не мое дело, зря я вообще-то… просто очень странно, что ты с пустыми руками в путешествие, так не бывает.
– А тебе обязательно таким наблюдательным быть?
– Нет-нет, – засуетился Гуннар, – я как раз и говорю, что необязательно и что… что спокойной ночи. Но так, правда, не бывает.
– Ну, хорошо, не бывает, только ты это к чему?
Гуннар молчал, набычившись.
– Спокойной ночи, Гуннар, – решительно сказал он и поднялся идти, внезапно устав от всего этого.
Но, уже взявшись за ручку двери, услышал глухое:
– Так не бывает!
– Ты, может быть, немножко того, Гуннар?
– Нисколько, – все так же глухо продолжал швед, – но я человек с носом, и… и пахнет неправильно, так пахнут проблемы. По-хорошему, тебе стоило бы опасаться и, может быть, не ехать дальше. Ты не готов к этой поездке, ты, вот, с пустыми руками…
Ему всегда везло на сумасшедших!
– Что значит – «неправильно пахнет», Гуннар, и как это связано с пустыми руками?
– Неправильно – это… это… сухофруктами… черносливом… – был ответ, видно, что мучительный.
И тут он обернулся – уточнить:
– Почему же это неправильно – когда черносливом?
Гуннар посмотрел на него почти с упреком: дескать, ух, непрофессиональный какой вопрос – для человека-то с обонянием!
– Сернистый ангидрид, SO2, продукт сгорания серы, используется при окуривании чернослива… технологическая подробность, прости. Да и ни при чем тут ты вообще, у нас вся Европа пропахла, провоняла, понимаешь ли… Эйяфьятлайокудль, понимаешь ли, а диоксид серы – он в состав вулканических газов входит, так что ничего удивительного… завтра увидимся, ладно?
– Я насчет технологических подробностей…
– Больше ничего интересного, клянусь, остальное к делу не относится… ну, убивает SO2 бактерии, свойствами отбеливающими обладает, критическая температура 157 градусов, но это все лишнее, – Гуннар чуть ли не испуганно выталкивал его из купе.
Между тем как они ехали уже.
– Гуннар, мне теперь все равно не успеть выйти из поезда, – сказал он в сходящую на нет дверную щель.
– Не успеть, – согласился Гуннар и добавил скороговоркой: – Опоздал-ты-и-попутчика-плохого-выбрал.
– Попутчика… в смысле тебя?
– Не меня, при чем тут я, я серой не пахну, – возразил Гуннар, после чего осторожно закрыл дверь и повернул ручку изнутри.
Пришлось отправиться в свое купе.
Он не то чтобы не понимал про серу – кто ж не понимает про серу! Просто… ну совсем никакого места не было сере в этой истории, о другом была история, да и вообще – легче была история, наивнее: шестилетний мальчик возвращается с родителями домой из Ленинграда и на перроне в Твери видит поезд из Хельсинки – какая ж тут сера, помилуйте, откуда сера? Чернослив – это было, а серы – не было! И всю жизнь тоненькой струйкой тянулся за ним запах чернослива…
Он явно не готов к этому новому повороту, превращающему историю в классическую и – пошлую: о борьбе добра со злом… фэнтези, он терпеть не может фэнтези с их черно-белым миром, с их примитивным противопоставлением двух начал! А потом, Гуннар ведь и сам предположил: Эйяфьятлайокудль один виноват, вулканическое облако висит над Европой, вулканические газы в воздухе скопились, отсюда и вся эта химия – сера и так далее… Да и не выбирал он себе никакого попутчика, он один шел, всю жизнь один, это камино – и однажды он встретит Бога, и все будет хорошо.
Только знал он уже: страшная ему предстоит ночь – последний перегон, дальше-то он справится, от Мальмё до Копенгагена рукой подать, только-бы-нам-ночь-простоять – ему снова пять лет, мама читает Мальчиша-Кибальчиша, и все так понятно в мире… про нашу конницу и буржуинские полчища! Хотя ведь и Мальчиш-Кибальчиш – тоже только фэнтези, грубое фэнтези советских времен!
Он запер за собой дверь, включил свет в душе и разглядывал свои посветлевшие волосы… «SO2 обладает отбеливающими свойствами, критическая температура 157 градусов» – как получилось, что номер его дома – 157?
Это дьявол курил трубку с черносливом, это дьявол спел ему песенку bye-bye-boy и заманил сюда, это все дьявол.
Хотя ведь… есть у него (у него, у которого ничего уже, кажется, нет!) кое-что с собой. Последний подарок спасателя Курта – возьми-авось-пригодится-в-трудную-минуту… а сейчас трудная минута как раз:
Schnypp, schnapp, schnorum, Rex Basilorum,
Schnypp, schnapp, Schnupftabak,
I ha kei Clmitzer Gäld im Sack.
Песенка Курта. Песенка, где в одном контексте – табак и Rex Basilorum! Не дьявол, значит – с какой же стати дьявол? Гуннар просто дурак. Спасибо, Курт… как бы еще разобраться с этим твоим «одним контекстом»!
Надо все-таки, наверное, назад: вернуться, перепрожить жизнь заново. Кстати, его с детства волновал этот мотив – когда предлагали жизнь перепрожить: такая очевидно заманчивая перспектива – и ни одного желающего! Во всех притчах и сказках, которые он помнил на эту тему, герой, получив соответствующее предложение, поначалу, вроде, радовался, однако в самый последний момент почему-то непременно отказывался – приведя в свое оправдание тот или иной хилый аргумент типа я-свою-жизнь-достойно-прожил-а-другой-не-надо… прямо какой-то повальный общечеловеческий буддизм: боязнь новых реинкарнаций!
А вот он бы, наверное, все-таки принял предложение. Вопрос только в том, сохранилась ли бы у него в новой жизни память о старой, потому что, если нет, тогда действительно – какой смысл? Новая жизнь затем нужна, чтобы старую не повторять, но если ты не помнишь, какая была старая, то просто опять живешь словно впервые, и никакой твой предшествующий опыт не нужен. Да и само слово «реинкарнация» ни к чему, когда нет памяти об «инкарнации»! И, между прочим, новую жизнь тоже ведь, скорее всего, не Бог предлагает – тоже ведь, скорее всего, дьявол.
Впрочем, сидеть вот так и предаваться размышлениям о дьяволе… несколько оно пубертатно. Пу-бер-тат-но-ва-то. Хотя он и подростком-то – так чтобы по-настоящему – не особенно озабочивался ролью дьявола в нашей жизни: отсутствовал как-то дьявол в его расчетах… да и вообще (если уж совсем положа руку на сердце) был для него фигурой, скорее, театральной, почти раешной: борода клинышком, черная накидка, копыто, красный дым, мерцание света… запах серы, кстати, отсюда же – ну и, дескать, простите-бога-ради-но-ужасно-смешно. Так что, отрекомендуйся ему кто-нибудь дьяволом, он, наверное, прежде всего спросил бы: «Вы, простите, это серьезно?»
Телефон прозвенел один раз и смолк, однако экран, засветившись в момент звонка, так и продолжал светиться. «Торульф» – прочитал он на экране и нажал на «Ответить», сообразив, что функция звонка, наверное, отказала. Сказать ничего не успел – сразу же попав в уже ведущийся диалог:
– Ну, слава Богу, слава Богу, – бормотал Торульф, – я прямо поблагодарить тебя за это готов! Как она реагировала?
Второй голос был незнакомым:
– Нормально, Торульф, спокойно реагировала – сказала просто: я знаю, что от тебя правды не дождешься, и еще сказала, что у нее и у самой были кое-какие подозрения…
– Ну, слава Богу, слава Богу, – повторил Торульф. – И в твоей жизни, небось, покой настал?
– Настал, и я к Копенгагену приближаюсь.
– Ого, – озадачился Торульф, – надо же, как ты продвинулся… а всего-то полдня не говорили… Я хотел завтра утром позвонить, но, вот, не удержался, прости.
– Я ведь никогда в это время не ложусь, Торульф! А скажи… тебе тот, alter ego, не звонил больше?
– Да нет, Бог миловал. Наверное, понял, что кого-кого, но уж Торульфа-старика вокруг пальца так просто не обведешь.
– Это точно, – во втором голосе была улыбка. – И я еще что забыл тебе сказать: Манон в Стокгольме выступает, я афишу видел.
– А саму Манон?
– Саму Манон – нет.
– И ты хочешь, чтобы я поверил?
– Поверишь, когда узнаешь почему! Я ведь на ресторанчик, где она выступает, случайно набрел – решил, что приду на само представление, а ресторанчика потом найти не удалось… я в промежутке на такси на вокзал отправился, вещи кое-какие из чемодана забрать, ну и… в общем, искал ресторанчик до последнего момента, когда уже уезжать, – как в воду ресторанчик канул.
– А может, и не было ресторанчика-то?
– Ужас, Торульф, я ведь о том же подумал: может, и не было.
Всё.
Больше не было сил слушать.
Он осторожно положил телефон поверх одеяла и просто смотрел на серо-синий экран, не сосредоточиваясь на смысле все еще доносившихся до него слов. Он с радостью бросился бы вон из купе, но – не бросался, чтобы звуком открывающейся двери не выдать своего присутствия.
Переждав телефонный разговор и отметив, что экран погас, он отключил телефон, спрятал в карман и вышел в коридор. Тут-то, в коридоре, его и затрясло: дрожь была такая крупная, что напоминала судороги. Когда она немножко унялась, он двинулся в сторону Гуннаровского купе: плевать на все приличия, он просто скажет Гуннару, что страшно ему одному, наврет, что с ним так часто бывает, Гуннар поймет… скорее всего.
На стук его – сначала осторожный, потом все более настойчивый и наконец просто барабанный – Гуннар не отозвался. Не отозвался и никто из соседей, хотя уж барабанный-το стук – бой! – должен был привлечь внимание всего вагона… или они такие воспитанные люди, эти випы: не моя, дескать, проблема – не ко мне стучат?
Минут через пять от этой версии пришлось отказаться: он успел уже и постучать и даже побарабанить во все двери, – теперь, стоя у последней и глядя в даль коридора, он твердо знал, что в этом, по крайней мере, вагоне больше никого нет. И нервный Гуннар, скорее всего, тоже перебрался в другой вагон.
Если, конечно, в этом поезде существует другой вагон.
Бальзак в новелле «Сарразин» пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств» {38} . Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литературные» представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо – та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего.
Невинность лжи в том, что рано или поздно всякая правда утрачивает актуальность. И – как в рассказе Борхеса – Авель и Каин идут рука об руку и не могут вспомнить, кто из них кого из них убил. Но Борхес всегда прав только наполовину – наполовину Борхеса, ибо Борхесов, кто же не знает – два. На одного из них и прав Борхес, потому что ведь время идет дальше. И когда оно проходит, Авель и Каин сливаются в одном человеке – имя его, допустим, Авин, и этот Авин – напоминаю, когда время проходит – уже не убит, но в преклонном возрасте умирает своей смертью в окружении детей и внуков. А время идет дальше, дальше и дальше – пока Авин не исчезает из памяти, и тогда его дети и внуки оказываются вовсе не его детьми и внуками, но детьми и внуками Бога.
Он знал, что у его лжи будет короткая жизнь, ибо правда не нужна будет тогда, когда он окажется в Копенгагене и когда уже перестанет иметь значение, как он добирался и как он добрался туда. Он позвонит и скажет мама-я-в-Копенгагене – и мама полностью успокоится: она всегда спокойна, когда он в Копенгагене.
Час приближался. Он приближался уже два дня и вот-вот должен был приблизиться совсем. Но до этого все-таки надо было много чего понять и еще кое на чем поставить точку. За свой переезд он уже поставил сколько-то точек, м-да… скажем, точку на Манон. Если бы ему день назад сказали, что однажды – не сейчас, а вот… через много-много-много-лет! – он будет вынужден поставить точку на Манон, он улыбнулся бы: есть у него одна такая специальная улыбка – испытующе-уничтожающая, она предполагает еще совсем особенный взгляд, поверх очков.
Улыбка и взгляд доктора: ну-ка, ну-ка, ну-ка… какой интересный сумасшедший!
Еще день тому назад он знал, что мог потерять Манон – не будем вдаваться в безжалостный смысл слова «потерять», но, даже потеряв Манон, он не мог бы поставить на ней точку, ибо поставить точку значит преодолеть в себе, а он не собирался преодолевать в себе Манон! Или, если и собирался бы, то, во всяком случае, не раньше, чем поймет: зачем была Манон в этой жизни, в этом романе…
И какие-то совсем чужие голоса все шептали и шептали в самое ухо, что так-де мужчины себя не ведут, что он должен был вступить-в-поединок, что он должен был бороться-за-свое-счастье, что не дело сдаваться-без-боя, уступая Манон первому встречному. Но он никому не уступал Манон: Манон сама выбрала другое его «я», Манон покинула его – слово «предала» было бы, наверное, слишком сильным, хотя и слово «покинула» – чересчур, надо найти другое, помягче, вот: Манон «ошиблась»… нет, «обозналась». Обознаточки-перепряточки. Если бы ему пришлось выбирать между Манон и… квази-Манон, уж он-то бы ни за что не обознался, не предпочел подделку оригиналу, сколько бы подделка эта ни выдавала себя за Манон. Ибо у Манон, как сказано, не может быть двойников: Манон в мире одна. Так что его, дорогие мои, на мякине не проведешь.
Торульфа тоже было не провести на мякине.
Но обознался и Торульф.
Даже в сравнении с Манон это было непостижимо… Торульф, стреляный норвежский волк, помнивший по имени каждый капкан и каждую западню – по фамилии, Торульф, обещавший узнавать только его – этот самый Торульф безмятежно болтал с… черт знает с кем и, что самое паскудное, считал подлинного его не кем иным, как alter ego этого самозванца!
Он не знал, был ли теперь у него Торульф. И – нет-нет! – дело тут не в обиде, какое там, дело тут просто в том, что надо пощадить Торульфа, как он и Манон пощадил. Преступно запутывать их еще больше, преступно ставить их перед необходимостью нового выбора. Хотя можно, конечно, позвонить: Торульф-тот-с-кем-ты-только-что-говорил-не-я-Торульф-я-это-тот-с-кем-ты-сейчас-говоришь…
Но Торульфу много лет – и у Торульфа сердце.
А сердце-надо-беречь.
Значит, оставаться на месте, на своем месте – ни в коем случае не сходя с него и не устремляясь вслед за двойниками. Оставаться на месте и надеяться, что если тебя будут искать, то придут именно сюда – где тебя оставили. Где тебя оставила Манон, где тебя оставил Торульф… может быть, поняв роковую свою ошибку, они еще вернутся забрать тебя.
Остающийся-на-своем-месте-остается-собой.
Что ж, значит, у него теперь нет и Торульфа.
Курта, пожалуй, нет тоже: Курт теперь в Южной Ютландии, которую любит больше всего на свете. Пусть, надо пощадить и Курта, надо дать и ему то, без чего он тоскует. Ибо коемужды – по любви его… по любви, не по делам – при чем тут «дела»! Хотели – получите и распишитесь! Курт получил назад свою Южную Ютландию, а также (если верить этому всему) – прежнего беспокойного соседа над головой… вот, и волки сыты, и овцы целы.
А в Копенгагене, куда он возвращается, нету никакого Курта – или есть другой Курт… впрочем, он-то сразу распознает подмену—…tjaaa, распознает?
Что касается мамы – мамы, теперь знающей правду не от него, но полагающей, что от него…
«Если не спишь, позвони. Мама» – смс-ка высветилась на экране.
Мама?.. Ха-ха! Мама не умеет писать смс-ок, скушали? Уж насчет мамы-то ему сказок рассказывать не надо: маму он наизусть знает. Кстати, который сейчас час в Твери? Три часа ночи, господа хорошие, мама уже третий – или второй… «третий» тут стилистически плохо! – сон видит. Если, конечно, она не шлет смс-ок во сне – он почти уже готов поверить во что угодно.
«S kakih eto рог ty umejesh pisat’ sms-ki?» – спрашивает он злорадным своим транслитом и немедленно получает ответ:
«Это не я, это Шурочка».
И вот тут надо взять тайм-аут.
Так «мама» (под первой смс-кой подпись «мама») – или «Шурочка»? Ну, ладно, допустим, Шурочка-умеющая-писать-смс-ки – за маму-не-умеющую-писать-смс-ок… Но откуда у мамы «Шурочка» в три часа ночи? И, главное, кто такая «Шурочка»?
Тайм-аут оказался совсем коротким: мама, поняв, что он не спит (спящие все-таки не шлют смс-сок), уже названивает ему, на экране «Маша» – и он, торопясь, жмет на «ответить»: не потерять бы еще и маму – как он, по неосторожности, только что потерял Торульфа!
А вдруг они там – мама и… и еще кто-нибудь – уже разговаривают? Без него?
– Алла-алло-алло, мама, мама, я слушаю тебя!
– Что ж ты кричишь-το так, Тильду разбудишь! – строго говорит определенно-мама и строго же констатирует: – Не спишь, значит.
«Тильду разбудишь»! Значит, не было, проницательный мой Торульф, того звонка, о котором тебе сообщил alter ego… был бы звонок – знала бы мама, где он. А знала бы – кричала еще громче, чем он.
Он пытается продолжать разговор, но – замирает на мгновение, внезапно поняв, что «Маша» и «Мама» далеко не обязательно одно и то же, даже если в твоем телефоне и отсутствует русская графика. Хотя ведь как бы там ни было, именно с «Маш»’ой он разговаривал все время – когда с мобильного… или с кем? И с кем он разговаривал, когда на экране светилось «Zvetok», или «Lika», или «Bobis», при том, что в реальности у каждого из них мало того что русское, но и просто совсем другое имя? С мамой-то еще ничего: разница в одной букве, так уж совсем много эта единственная буква не может значить.
– Я-то понятно, почему не сплю, а вот ты почему не спишь?
– У меня Шурочка в гостях, – говорит Маша так, словно в-Москве-полдень (откуда это… «в Москве полдень»? – ах да, из радио советских времен, деловым таким, бодрым женским голосом: «В Москве – полдень»… чтоб, мол, другим неповадно!)
– Поздняя гостья, – осторожно реагирует он, и Маша смеется, непонятно что таким образом отвечая. – А Шурочка – это кто?
– Шурочка? – удивленно переспрашивает Маша. – Ты ведь знаком с Шурочкой, из Ленинграда.
Ни с какой Шурочкой из Ленинграда он не знаком, но разбираться в этом ему сейчас, вроде как, ни к чему.
– Шурочка проездом, – объясняет мама. – Позвонила мне с вокзала, не может билет на близкий поезд купить, ну, я и уговорила ее у меня переночевать. А билет она на завтра взяла.
Ему показалось, что объяснений – многовато.
– И вот, – продолжала объяснять Маша, – она набрала смс-ку тебе на моем телефоне. Лишний раз поговорим, потому что неспокойно мне… Ты ведь у Тильды уже?
– Да, я у Тильды, но они с Гюнтером давно спят. Почему тебе неспокойно?
– По разным причинам… но в основном потому, что звонков от тебя слишком много.
– Тебе прямо не угодишь, мам: то мало, то много.
– Я о другом, – не дала себя перебить Маша. – Я тут много думала до прихода Шурочки, и хочу тебе одну вещь сказать… важную: я тебя очень люблю, я тебя одного люблю. Ты просто это знай и помни, ладно?
– Я знаю и помню. И я тоже тебя очень люблю, но ты почему сейчас – вдруг – о любви?
– Просто на всякий случай – если понадобится. Когда бы ни понадобилось – вспомни это, хорошо?
И тут Маша распрощалась с ним: понятно, из-за Шурочки. А у него от всего разговора осталось в памяти «я тебя одного люблю» – с сильным ударением на «одного», хоть и диссонировавшим с настоящим положением дел, но придававшим высказыванию законченность и крепость. «Ты у меня тоже одна», – в сердце своем сказал он маме и прямо тут же, в коридоре вагона, понял, как обмануть судьбу: пошел в «Настройки телефона» и записал слово «МАМА» заглавными буквами, объединив оба языка в одном и прекратив, во всяком случае, это двоение объекта.
Теперь надо было наконец разобраться с поездом, то есть установить окончательно, что же это у нас за поезд такой: «Стокгольм – Мальмё». Настроение вдруг отчего-то сделалось сильно дурашливым, какое бывает только у необратимо отчаявшихся: глупый смех и кривляние перед самим собой.
– Посмотрим-посмотрим, – на весь пустой коридор произнес он, – есть ли у тебя внутри, дорогой поезд «Стокгольм – Мальмё», что-нибудь кроме меня.
Сказав так, он почувствовал себя Ионой, поглощенным китом, и решительно отправился по китовым внутренностям – хоть и с намерением встретить других проглоченных, но в глубине души (практически на самом ее дне) отдавая себе отчет в том, что других проглоченных не имеется.
От кого он вообще узнал об этом поезде?
Про то, как добираться из Москвы до Хельсинки и из Хельсинки до Стокгольма, рассказала ему телефонистка справочной Ленинградского вокзала, после чего он сказал большое спасибо и с облегчением повесил трубку. Как добираются от Стокгольма до Копенгагена, он знал без телефонистки и позвонил на центральный вокзал Стокгольма, чтобы узнать о вариантах дальнейшего передвижения. Ему не повезло в первую же секунду: шведский, на котором к нему обратились, был худшим из возможных. Ибо существуют и разные шведские: от очень напоминающего датский до сильно смахивающего на суахили. Суахили и был предложен – причем не сказать чтобы достаточно громкий… как с другого берега реки.
И поведали ему на суахили, что никаких вариантов нет у него, ибо ездят из Стокгольма в Мальмё только одним-единственным поездом – с отправлением близко к полуночи.
– Не может быть, чтобы один только поезд, – попытался и он на суахили.
– Не может быть, а есть, – резюмировали из Стокгольма.
Дальше – хуже: мало того, что в его распоряжении имелся только один поезд, на поезд этот имелся и только один билет, выкупить который следовало немедленно.
Сухо поблагодарив на суахили, он прекратил разговор и позвонил Курту.
– Курт, дорогой, или я совсем разучился понимать шведский, или из Стокгольма в Мальмё ходит лишь один поезд, причем глубокой ночью, и, к тому же, билет на него стоит столько, сколько поездка из Дании в Россию и обратно…
– Я перезвоню через пять минут, – пообещал проницательный Курт и повесил трубку.
Через пять минут Курт рассказывал:
– Увы, ты не разучился понимать шведский. Поезд, что действительно странно, только один и билет на него, что еще более странно, тоже только один – тот самый… Прислать тебе денег?
– Да деньги есть, спасибо… нет желания отваливать такую сумму за трехчасовую поездку.
– А вот тут ты заблуждаешься, – вздохнул Курт. – Это не трех-, а семичасовая поездка… Дли-и-инное такое удовольствие – с многочисленными удобствами и обильным ужином в купе. В общем, билет я уже заказал, так что раскаиваться поздно. Один раз в жизни поедешь как человек… так сказать.
Вспомнив все эти перипетии, он покачал головой: эх, Курт, Курт! Будь я на твоем (а не на своем, сильно беспокойном уже тогда!) месте, я-то, не сомневайся, отметил бы совершенно противоестественную р-о-к-о-в-о-с-т-ь предлагаемых обстоятельств: единственный билет на единственный поезд, которого еще и дожидаться в Стокгольме 12 (двенадцать!) часов. Уж я-то понял бы, что тут ловушка.
И, тряхнув головой, он – увы, отнюдь не бесстрашно – отправился в соседний вагон. Поезд, и без того почти не двигавшийся, любезно остановился – словно предоставляя ему возможность перемещаться без затруднений.
Соседний вагон чуть отличался от его, расположение дверей было другим – и уже это одно делало планировку более демократичной: вагон явно не предназначался только и исключительно для випов.
Он осторожно, поскольку в поезде, лишенном стука колес, становится особенно тихо, поскребся в первую дверь, с ужасом думая о том, что сказать, если откроют. Он попросит прощения и смущенно поинтересуется, не знают ли обитатели купе, в каком вагоне находится проводник?.. Нет, это глупо. Он, конечно, попросит прощения, но вместо того чтобы задавать какие бы то ни было вопросы, просто скажет, что ошибся дверью. Совсем необязательно вступать в разговор – достаточно убедиться, что в этом поезде он не один.
Теперь уже он лупил в дверь с той же силой, с какой только что намеревался пробиться к випам. Дверь не реагировала. Не реагировала и ни одна из остальных дверей в одиннадцатом вагоне. В ярости он запел «Лили Марлен»: «Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Lanterne stehen, Mit di-i-ir, Lili Marlen.!» – громко как мог. Никто, понятное дело, не вышел и на песню, но сам он вдруг – на секунду – призадумался о том, насколько неслучайно все… И эта песня – тоже: песня о Лили Марлен, о Лили и Марлен – двух, как он недавно узнал, девушках, в которых был влюблен почти забытый теперь немецкий учитель, сочинивший текст этой песни и соединивший в нем имена тех, кого он любил, в одно имя.
Пролетев на немыслимой скорости не то три, не то четыре – он не заметил – вагона, сердце сказало: стоп, все-понятно, дальше-не-имеет-смысла, поезд-пуст. Сказав так, оно принялось ныть – и ныло, ныло, ныло… пришлось сесть на первую попавшуюся откидную скамеечку и сделать вид, что задумался. «Сделать вид!..» – он расхохотался оглушительным просто смехом: выражение «сделать вид» при полном отсутствии наблюдателей было как нельзя более подходящим.
Итак, сердце ныло, причем ныло все сильней.
Ему показалось, что если бы поезд был в движении, боль, заглушаемая стуком колес, переносилась бы легче. При том, что вокруг было не просто тихо – вокруг было то, что называют мертвой тишиной: вакуум. И в вакууме этом боль приобретала такую отчетливость, что он мог бы, например, нарисовать ее портрет… и подписать: «Портрет Одной Боли» – неплохо бы, между прочим, сделать серию портретов, а потом можно открыть Галерею Боли… нонсенс!
Ну-с, что там у нас дальше на повестке ночи… дальше – вопрос: теперь тебе понятно, почему билет на этот поезд был таким дорогим? Теперь понятно. Этот поезд пустили специально для него, для него одного. Так что в стоимость билета входила, в первую очередь, эксплуатация локомотива и вагонов – неважно, какого количества… скажем, достаточного количества, достаточного, чтобы поезд мог называться «поезд»: например, локомотив плюс один или даже два вагона – не поезд, а локомотив плюс три вагона – кажется, уже поезд… или еще нет? Во-вторых, затраты на электричество, в-третьих – на оплату труда водителя (он, вроде бы, называется машинист, и без него никак – хоть сейчас поезд и не едет, но ехал же и поедет ведь когда-нибудь), в-четвертых… ммм… в общем, тут много денег требовалось. Да, кстати, оплата услуг Гуннара! Гуннар, небось, входил в смету под названием «интересный случайный попутчик» – или нет: Гуннар, скорее всего, был тем, кто обеспечивает «обильный ужин в купе» – любой другой сценарий (к примеру, девушка в крахмальной наколке и с веселой тележкой, ломящейся от не слишком изобретательных, но тяжелых блюд-шведской-кухни) обошелся бы дороже. Тогда, между прочим, понятно, куда девался Гуннар: отработал – и домой пошел.
Жалко, что в смету, со всей очевидностью, не включены медицинские услуги. Впрочем, кто же знал, что у него так сильно заболит сердце, а вся его аптечка останется при этом в Стокгольме, у второго «я»… Да, и вот что еще интересно: сохраняют ли все эти отпочковывающиеся от него организмы старые болячки? Например, болит ли сердце у возлюбленного Манон? Или у него нет сердца? Наверное, нет – вот повезло человеку, на фиг кому такое сердце, которое болит уже просто невыносимо… что ж делать-то, а? Хоть бы поезд тронулся с места – все веселее! Ведь еще же назад возвращаться – но только зачем назад? У него ведь нет ничего в купе – так что и возвращаться необязательно, тем более что весь поезд – его! Вот-тебе-деточка-паровозик-поиграть.
Он попытался открыть окно – окно, конечно, не открывалось: кондиционер в поезде, идиот, – сказал он себе и вышел в тамбур. Открыть дверь, как ни странно, не составило никакого труда. Тамбур наполнился холодной темнотой: поезд стоял, как бы это поточнее выразиться, в чистом поле.
«Ми-ро-зда-ни-е», – отскандировал он, хватая ртом черный влажный кислород. Если бы не так болело сердце, можно было бы, держась за поручни, посмотреть, например, вперед – или на худой конец назад… посмотреть – и что-нибудь увидеть: огонек, скажем. Хотя – вооон там, почти у горизонта – там огонек… или это звезда? Если поезд так никогда и не сдвинется с места, можно будет пойти на этот огонек, на звезду эту: он ведь всегда мечтал – ну, не мечтал, конечно, просто думал об этом… и не всегда, а иногда – когда оказывался в тамбуре, неважно, поезда или электрички во время стоянки… вот сделать сейчас отсюда шаг, один только шаг на платформу – и прежней жизни как не бывало! В электричке он, правда, быстро опоминался: едва ли выход на платформу, например, «Радищево» сулил ему какую-то уж совсем новую жизнь, не то – с поездами. Однажды он таким образом чуть не вышел на платформу в Ганновере, оставив в шестиместном купе, к чертовой матери, все свои вещи. Почему в Ганновере, который всегда был ему безразличен – знать бы еще!
Сердце вроде как отпустило чуть-чуть – и он, воспользовавшись ступенечками, которые при открывании двери сами выползали откуда-то сбоку, осторожно спустился на землю. Вот здесь остаться – это дело: единственное, что он знает об этом месте: оно недалеко от Стокгольма… в часе, вроде бы, медленной езды на запад, к Мальмё. Тут он может объявить себя кем угодно. Хоть Гантенбайном – когда-то эта маска очень его интересовала. Но теперь его не интересуют маски, теперь он, может быть, сам – маска, ибо нет никакой гарантии того, что именно он, стоящий возле неподвижного стокгольмского поезда, и есть подлинный он. Может быть, все как раз наоборот? Может быть, он подлинный сейчас в объятиях Манон? Или он подлинный сидит в мезонине в Обенро и смотрит на ночной фиорд? Или он подлинный встречается завтра с Лаурой в рыбном ресторане?
Ему вообще важно – быть подлинным? Истинно-значимостные лакуны как результат логической несостоятельности автореференции, Крипке… он когда-то довольно долго пытался понять все эти философские премудрости, пока не махнул на них рукой, прочитав у старика Августина, что всякое тождество самому себе порочно.
Но в данный момент ему было безразлично, порочно оно или нет – в данный момент он хотел одного: быть тождественным самому себе. Его подлинность, по крайней мере, для него самого, не должна – не может! – находиться под вопросом. Ибо поставить под вопрос собственную подлинность значит совершить преступление против Бога, кем-то назначившего его в этом мире. Пусть он не знает – кем. Но он знает, что не имеет права отказаться от себя, сдаться, остаться здесь, в часе медленной езды от Стокгольма и назвать себя Гантенбайном.
Почему?
Потому что он не Гантенбайн!
Когда он поднялся по ступенькам в тамбур и закрыл за собой дверь, поезд, словно только того и ждал, тронулся с места: очень медленно, без малейшего рывка – как перышко.
Если он – это действительно он, ему не нужно никого искать в этом поезде, ему нужно просто вернуться в свое купе. Наша самоидентичность задана извне и только извне – набором координат, в которых мы находимся. Там нас и должно застать провидение. Его координаты – двенадцатый вагон, седьмое купе. Это не то три, не то четыре вагона назад.
И он пошел навстречу провидению.
Поезд набирал скорость.
Асколи возводит встречающиеся в венецианской карточной игре выражения slipe, slape, snorio, basilorio к έξέλλείπων, έζελλείπων или έχλείπων, συνωρίχός, basilicus. Такая деривация по различным причинам невозможна. Переносы из игры в кости в карточную игру отнюдь не исключены, однако временная пропасть между этими, латинскими и греческими, и соответствующими итальянскими обозначениями слишком глубока. Фонетическому сознанию, по крайней мере, непостижимо, как итальянские sl-, sn– могли произойти из греческого έζελ-(έχλ-), συν. Кроме того, предложенная формула странным образом допускает, будто из slipe посредством преобразования звуков может получиться slape (Асколи оставляет это совершенно в стороне). Меня удивляет, что начальные звуки sl-, sn– не навели ученого миланца на предположения о германских источниках, если ему даже и была неизвестна повсеместно распространенная в Германии игра schnippschnappschnurr. <…>
Райнхольд Кёлер из Ваймара предложил мне нижеследующие хорошие доказательства. Бременско-нижнесаксонский словарь, IV, 881: «snip-snap-snur, известная карточная игра. Она называется так потому, что игрок быстро сбрасывает карты и партнер забирает сбрасываемое в прикуп». Миллер и Вайц в «Аахенском наречии» (1836), с. 218: «schnipp-schnapp-schnorum, карточная игра. Самая нижняя карта или карта наименьшей ценности называется schnipp, следующая schnapp, а последняя schnorum». Хоффманн из Фаллерслебена («Наречие в Фаллерслебене и вокруг него») во Фромманновских «Немецких наречиях» (V, 294 и далее): «snip (7 и валет), snap (8 и дама), snur (9 и король), baselorum (10 и туз) – карточная игра. Каждому игроку выдается одинаковое количество карт, после чего каждый по очереди в обязательном порядке кроет одной картой последнюю играемую. Того, у кого остается последний baselorum, штрафуют: надевают ему на нос прищепку до конца следующей игры». Даннайль в «Словаре альтмарк-нижненемецкого наречия» (1839): «snip-snap-snur, карточная игра». В Вайгандовском словаре, II, 620: «Das schnippschnappschnurr, вид карточной игры, в которой, когда разыгрываются семерки, должны сбрасываться восьмерки, девятки и десятки определенной масти, в то время как при разыгрывании валетов – дама, король и туз той же масти. Проигрывает тот, кому во время последнего сбрасывания приходится расставаться с картами самого высокого достоинства (десятки, тузы). Нижненем. snipp-snapp-snurr. – императивы от snippen, snappen и snurren – находятся в полном соответствии с быстрым сбрасыванием и покрыванием карт: если первая играемая карта называется snipp, то вторая, сбрасываемая, называется snapp, третья – snurr, в то время как четвертая – apostolorum. В одном фарсе 15 в. Schnip и Schnapp оказываются именами комических персонажей («Фастнахтшпиль», I, 337, 21)». Х.Б. Уитли в «Словаре двойных слов» (1866), с. 84: «snip-snap-snorum, игра в карты; нечто вроде Pope Joan» (из «Суффолкского наречия» Мура).
Все это, конечно, старые варианты, однако повсеместно распространенные и общеизвестные выражения из этой карточной игры – schnipp, schnapp, schnurr – со всей очевидностью, представляют собой выражения исконные. Объяснения им дает Вайганд. В качестве примеров троекратной переогласовки они приведены в грамматике Гримма, I, 562; ср. там же stripstrapstrull и schlippschlappschlürr (Ежегодник Сандерса, II, 947 с). Мне вспоминаются еще средневеков. snipfensnapf и англ. snipsnap. Обычай сопровождать сброс каждой карты выкриком есть обычай странный и, при том, что никому, насколько мне известно, не полагается никакого наказания, весьма ребячливый.
Объяснение этому можно усмотреть в наклонности многих и многих карточных игроков символизировать сдачу ряда карт высокого достоинства или получение особенно богатой или неожиданной взятки всякими звуками наподобие schrum и т. д. <…>
К schnipp, schnapp, schnurr примыкает еще и apostolorum, по поводу которого я предпочту вообще не высказываться, нежели допущу невероятные предположения [3] . Apostolorum был низведен к bastelorum, basilorum; schnurr претерпел ассимиляцию: snorum; итальянск. snorio, basilorio. Следы стоящего за basilorum басилевса обнаруживаются в программе школьного образования; schneppepper, buff, burr суть вербальные междометия, причем первое отсылает к schnipp schnapp, а последнее рифмуется со schnurr {39} .
Тюрингское обозначение с помощью schnurps игры в «Шестьдесят шесть» оказывается, таким образом, не безосновательным в своей предпосылке. Это просто к слову.
И стало вдруг совсем непонятно, действительно Курт уехал в Ютландию или просто так говорит. Глупо, конечно, было предполагать, что он просто не брал трубку: Курт-неберущий-трубку есть нонсенс. Это сама Кит никогда почти не брала трубку – исходя из того простого соображения, что любой хороший человек, звонящий по неотложному делу (а других людей и других звонков Кит себе не представляла), способен оставить сообщение и дождаться, пока Кит перезвонит сама.
Тем более что Кит действительно же ведь перезванивала… иногда.
Она даже выучила по-русски фразу: «Я не собака Павлова» – и с гордостью произносила ее, будучи уличенной в игнорировании очередного звонка, причем произносила по-русски (так ей самой, во всяком случае, казалось), не принимая во внимание отсутствия у собеседников каких бы то ни было представлений о русском языке. Я-не-собака-Павлова – и все тут. И что тут такого непонятного? У собаки Павлова можно воспитать рефлекс на звонок, а она, Кит, не-собака-Павлова, и у нее, Кит, рефлекса на звонок воспитать нельзя, вот… и нечего рассчитывать на то, что она высунув язык будет бросаться к телефону!
В этом смысле Курт был, конечно, собакой Павлова, причем даже не простой собакой Павлова – одной, так сказать, из собак, но образцовой собакой Павлова. Не подойти к телефону, находясь поблизости, он считал непристойным. Назначение купленного для него сто лет назад и так же давно установленного автоответчика Курт понимал исключительно примитивно: хранить в себе сведения о звонках, поступивших в отсутствие Курта. Возвращаясь откуда-нибудь (например, из ближайшего супермаркета), он обязательно нажимал на правую кнопку автоответчика, чтобы проверить, не звонил ли кто. И если звонили, Курт перезванивал тут же: даже не поставив сумку… так, с сумкой в руке, и разговаривал.
Понять, что автоответчик на самом деле нужен для того, чтобы «фильтровать» звонки, то есть сначала послушать, кто тебе звонит, а уже потом – в зависимости от обстоятельств или настроения – брать или не брать трубку, Курту так никогда и не удалось. Кстати, не было и ничего страшнее, чем сказать ему: «Ты вчера не брал трубку» – Кит пару раз попробовала, последствия были ужасны. Что-значит-не-брал-трубку, как-тебе-удаются-такие-бессовестные-формулировки, если-не-брал-трубку-значит-дома-не-было… и так далее.
Нарываться еще раз не хотелось, но Кит кое-чего в последнем своем сообщении себе напозволяла – насчет я-знаю-что-ты-не-в-Ютландии… это было зря. Теперь придется каяться, поскольку в чем-то она опять промахнулась: не то Курт на самом деле так не вовремя уехал в Ютландию, не то надулся и решил уже никогда больше не разговаривать с нею (решение такое он принимал как минимум дважды в неделю).
Ни звонить еще раз, ни гадать дальше Кит не стала – на ночь глядя отправилась в гости, наспех поборов в себе жуткую усталость последних двух суток. На минуточку ей показалось странным, что, кроме нее, в автобусе не было ни одного пассажира: время, конечно, сильно позднее, но чтобы уж совсем никому не надо в Копенгаген… непонятно… впрочем, она тут же забыла об этом и доехала до станции «Главный вокзал» одна.
Делая пересадку, Кит купила в ночном киоске свежих венских булочек, которые Курт любил, но упаковали булочки глупо, возложив их на продольную картонку и обернув все это дело бумагой: теперь ей приходилось, согнув руку в локте, нести шаткое сооружение на ладони, на уровне груди. Так ехала в метро – с сооружением перед собой, так и к дому подошла. На звонок в дверь никто не откликнулся. Ключ у Кит имелся свой – и недолго думая она им воспользовалась.
В доме – по крайней мере, на первом этаже – было нехорошо пусто. Подниматься на второй, к Курту, она не решилась… даже в отсутствие Курта не решилась: тот, делая исключение только для своего соседа с первого этажа, терпеть не мог, когда к нему вламывались без приглашения.
Понять, как и почему исчез Курт, здесь, на первом этаже, однако не удавалось: в прихожей не оказалось вообще никаких следов срочного отъезда – вроде забытых на случайных местах вещей, а в кухне не было даже кружки с недопитым кофе, которая была – всегда, поскольку Курт, как и сама Кит, постоянно носил с собой кружку, периодически делая глоток-другой и в конце концов забывая свой кофе на подлокотнике, например, кресла. Вся посуда на кухне оказалась вымытой, посудомоечная машина – разгруженной… казалось, Курт, расправившись с повседневными обязанностями, просто вышел ненадолго – например, пройтись перед сном, что ему, вообще говоря, было совсем не свойственно.
Кит нажала на правую кнопку автоответчика и услышала:
– Курт, это Кит. Я знаю, что ты не находишься в Ютландии, хватит валять дурака. Мне нужно задать тебе один вопрос…
Это сообщение оказалось единственным.
Кит стерла его: не было, стало быть, сообщения, дорогой Курт, нечего мне, как сказано, нарываться… Не было сообщения – и вопроса не было. А если и был вопрос, то ответ на него Кит знала – ответ Курта знала (Курт ведь всерьез никогда ее не принимал, что ему и этот вопрос?):
– Ах, Кит, довольно мне голову морочить: у меня уже один такой… морочильщик на первом этаже – под боком! – живет.
Дальше Кит действовала так, словно все происходило во сне. Она пошла на кухню и сварила кофе. Развернула пакет с венскими булочками и положила по одной на каждую тарелку. Тарелки поставила на маленький стол в гостиной. Перелила кофе в кофейник и водрузила кофейник между тарелками. Принесла салфетки, положила по одной справа от каждой тарелки. Вспомнила, что забыла сливки (Курт всегда пьет кофе со сливками, брррр!), нашла их в холодильнике, налила в сливочник – у Курта, в отличие от нее самой, все было: сливочник для сливок, молочник для молока, яйцерезка для вареных вкрутую яиц, чеснокодробилка для чеснока… и даже этот, как его… пет-руш-ко-из-мель-чи-тель, странный прибор, напоминавший миниатюрную мясорубку с неким ежиком внутри, ежик этот (ежика этого) надо было, стало быть, вертеть – тогда-то петрушка и из-мель-ча-лась. Ну, ладно… поместив сливочник в центр стола, Кит села с ногами в кресло и стала ждать. Она не знала, чего ждала, кого – что-нибудь должно было случиться, кто-нибудь должен был прийти, не век же ей тут сидеть одной в чужом доме, зачем-то ведь она сюда приехала!
Телефон стоял рядом с креслом – и Кит все боялась, что он внезапно зазвонит… Чтобы этого не случилось, она еще раз прокрутила запись голоса Курта на автоответчике: «К сожалению, я не могу подойти к телефону, поскольку нахожусь в Ютландии. Перезвоните мне дня через два, спасибо. Или оставьте свое сообщение на автоответчике». Подумала, подумала – да и позвонила Курту на мобильный.
– А-а-а, Кит… что-нибудь срочное?
– Да нет, в общем…
– Давай позже поговорим, можно? А то у него там, в мезонине, я слышу, телефон надрывается…
– Можно и позже, – без боя сдалась Кит, даже не сказав, откуда звонит.
И тут на втором этаже, где обычно находился Курт, раздался звук открывающейся двери.
– Курт? – оторопев, крикнула Кит в пространство, чувствуя, как во рту мгновенно высохло.
– Какой Курт! – ворчливо отозвался сверху Курт. – Я же в Ютландии, только что с тобой из Обенро разговаривал!
– Да почему в Ютландии-то, как в Ютландии-то? – внутренне отменяя несуразность диалога, спросила Кит.
– Вот тоже… инспектор полиции! Спасать я его уехал, понимаешь? Спасать!
– Но ты же сейчас здесь! – не выдержала Кит.
– Не сходи с ума, – обычнейшим образом ответил Курт. – Никакого «сейчас» больше нет. И никакого «здесь» тоже нет. Кончились все «сейчас» и «здесь», кон-чи-лись!
И дверь на втором этаже захлопнулась.
Откинувшись в кресле, Кит прикрыла глаза и твердо решила больше не бояться, а придумать всему происходящему правдоподобное объяснение. Объяснение не замедлило придуматься: это не жизнь, это… это дядя Асгер продолжает писать! И – ах, на фоне зловещего, не прекращающегося письма дяди Асгера невероятно наивным кажется древний Уайльд со своим портретом-дориана-грея: неправда, неправда, неправда, мистер Уайльд, искусство не дарит нам молодость, искусство ничего нам не дарит – оно только забирает и забирает нашу жизнь! Оно питается нашей жизнью, питается нами, высасывая кровь по капельке, – и когда портрет написан, художник и его модель падают мертвыми. Теперь будет жить лишь искусство – вечно юное, лживое… наглое, это оно по ночам станет сбегать с портрета легкими шагами и, дурача всех вокруг, прикидываться жизнью, кутить в портовых тавернах, блудить в грязных борделях, убивать и грабить – чтобы наутро снова как ни в чем не бывало возвращаться в раму и с торжествующей – не-вин-ней-шей! – улыбкой смотреть на нас сверху вниз: вечно юное, лживое, наглое.
И Кит вдруг поняла, что больше не боится дяди Асгера: дядя Асгер несчастный, бедный, глупый, да и все настоящие художники несчастные, бедные, глупые… пишут, пишут, а сами не знают, что умирают и вот-вот умрут.
Пусть дядя Асгер продолжает писать. Пусть сорока с лишним лет жизни как не бывало, а дядя Асгер все продолжает и продолжает… может быть, знает откуда-нибудь все-таки, что и он, художник, и она, его модель, будут жить ровно столько, сколько длится процесс письма? Знает и – нарочно тянет время? Готов ли портрет, дескать? – Увы, портрет пока не готов. – А теперь готов портрет? – Да нет, и теперь не готов. – Но уж теперь-то готов, наверное? – Что ж Вы так нетерпеливы… говорю ведь «не готов» – значит не готов!
И пока не готов портрет (а дай Бог дяде Асгеру сил и времени!), много всего будет происходить с Кит – и, пожалуйста, не вертитесь, lille De, Вы художнику мешаете. А устали – терпите: оно и понятно, что сил искусство никому не прибавляет, если мы с Вами о настоящем искусстве, lille De: изнурительный, доложу я Вам, труд, письмо – поизнурительнее Вашего позирования.
Много всего происходить будет, значит. Вон уже сколько всего напроисходило за последние минут тридцать-сорок… она даже упустила что-то существенное, а что именно – никак не вспомнит, жалко. Ах, да вот же:
– Ку-урт, – довольно ему, в конце концов, в игры играть, не заигрался бы совсем! – ты что имел в виду, когда про мезонин говорил, откуда опять тема мезонина? Ку-урт?
А ответа сверху и не было.
И Кит разозлилась – насколько сумела, конечно. Потому что всякой глупости есть границы! И Курт не может сидеть просто так у себя наверху, время от времени себя тем или иным образом проявляя, – сидеть, значит, наверху и требовать от нее, чтобы она считала, будто он в Ютландии – что за домашний театр, ей-богу?
В гневе она просто взлетела на антресоль и требовательно постучала в дверь Курта.
– Курт, эта игра, которую ты придумал, она идиотская, я там, внизу, кофе сварила – да, на ночь, но ни тебе, ни мне не заснуть все равно…
А ответа все не было.
Кит осторожно приоткрыла дверь, приоткрыла чуть пошире и чуть пошире еще…
На втором этаже Курта не было. И ничто не говорило о его недавнем присутствии. « Никакого “ сейчас ” больше нет. И никакого “здесь” тоже нет », – тихонько повторила Кит и очень, очень, очень медленными шагами отправилась вниз. Внезапно опомнившись, она, вышла в прихожую и заперла-таки входную дверь изнутри – не от дяди Асгера, конечно: дядя Асгер, главный ужас ее жизни, теперь у нее в союзниках, а – так… мало ли кто, мало ли что. Тем более – все возможно, там все возможно – там-где-Курт и там-где-он, где бы они ни были. И – где бы они ни были – помоги им, Господи! При этом даже совершенно неважно, где находится она, хоть и по данному поводу никакой ясности нету в голове Кит. Однако собственное местоположение больше совсем ее не тревожит.
Но вот перед дядей Асгером стыдно – продолжает быть стыдно… маленькая Кит, семилетняя дрянь, ему всю жизнь поломала. Они потом дома с родителями о дяде Асгере словом не обмолвились – и никогда уже дядя Асгер не появлялся больше у них, да и на север Ютландии родители ездить перестали: так и не пришлось Кит еще хотя бы раз побывать в легендарном Скагене. Даже все картины дяди Асгера из дома исчезли, а на любое упоминание о дяде Асгере было наложено табу – и до определенного возраста Кит это даже нравилось, а в определенном возрасте – ужаснуло, поскольку… бедный дядя Асгер, что же о нем все подумали-то и как же он со всем этим справился?
Чувство стыда было тогда настолько острым, что Кит и помыслить не могла навестить еще живого в те времена дядю Асгера, она просто начала писать ему письмо, и все писала и писала это письмо, несколько лет писала, всю жизнь писала – бесконечно длинное письмо, в котором пыталась оправдаться, объяснить, рассказать… Только письмо так и не было ни отправлено, ни даже дописано.
Дорогой мой, любимый мой дядя Асгер, стояло в письме, я уверена в том, что ты хорошо меня помнишь, но лучше бы забыл, хотя, понимаю, это едва ли возможно. А я не хочу забывать тебя, да если бы и хотела – не забыла бы: ты – самое сильное впечатление моего детства, и иногда я думаю, что это ты научил меня всему за одно короткое лето… за пятнадцать сеансов работы натурщицей.
Я знаю наверное, что невольно испортила тебе жизнь, и потому чувствую себя невыносимо виноватой перед тобой. Но пишу – не чтобы вымолить себе прощение, которого, скорее всего, не будет – и правильно, а чтобы вернуться в то короткое лето и рассказать тебе там, почему все было, как было.
Мне тогда только исполнилось семь лет… что взять с семилетней? С девочки из хорошей семьи, скучавшей на взморье: одна, без подруг и товарищей – на тот момент мы ведь никого, кроме тебя, не знали в Скагене, к тебе и приехали… первый и последний приезд, дядя Асгер! И больше всего на свете интересовали меня в тот приезд не взморье, не известняковые скалы, не гуляющие вдоль набережной, а три всегда распахнутых настежь окна твоей мастерской – в них и сосредоточилась моя семилетняя жизнь.
Помню, в гости к тебе приходили женщины, много красивых женщин – всегда по одной – и оставались у тебя кто на час, кто на два, а кто и на целый вечер (если не на целую ночь – о чем я, по младости лет, не ведала). Ты мог заставить гостью стоять, мог посадить ее на стул или в кресло, мог положить на софу – одетой, полуодетой или даже полностью раздетой… о последних я думала: «Вот эти – настоящие натурщицы».
И ты писал их, а я подсматривала. Подсматривала и мечтала, что однажды ты будешь писать меня. Поэтому, когда ты не работал, я постоянно крутилась поблизости, время от времени принимая те позы, которые подсмотрела через окно. Я не знаю, что это было, дядя Асгер… может быть, первая влюбленность, отрицать не стану! Правда, мысленно я называла тебя Синяя Борода – и не потому, что сказка эта так уж много для меня тогда значила или была какой-то особенно понятной, а потому, что белая твоя борода постоянно была выпачкана голубым… все время только голубым, словно ты не пользовался другими красками.
А потом – ты знаешь. Не дождавшись внимания к себе, я постучала ранним утром в дверь твоей мастерской и спросила, когда ты начнешь меня рисовать. Ты был в пижаме, из-за плеча твоего выглядывала темноволосая красавица, и ты засмеялся, и велел мне приходить в два часа дня, поскольку назначенная на два часа дня модель «закапризничала», я хорошо запомнила это слово и поняла, что капризничать нельзя. За завтраком я объявила родителям, что весь день занята, потому что дядя Асгер будет писать «мою обнаженную натуру». Мама с папой просмеялись весь завтрак, а я в конце концов обиделась, ушла на пляж и просидела в беседке у моря до полудня. По дороге с пляжа я насобирала цветов и пришла с ними к тебе, и тогда ты сказал, что будешь рисовать девочку с цветами, и я сразу начала раздеваться, но ты меня остановил и сказал, что на портрете я буду в платье, потому как обнаженная девочка с цветами – это глупость. И тут я поняла, что настоящей натурщицей ты меня пока не считаешь.
Дальше ты начал рассказывать мне, как сидеть, а я, дура, с гордостью сообщила тебе, что тысячам художников в Копенгагене позировала обнаженной, и потому, дескать, ни к чему рассказывать мне, как сидеть. Но тебе это все сразу надоело – и ты заявил, что если я хочу свой портрет, то должна беспрекословно тебе подчиняться. И еще я должна понимать, что работа натурщицы – очень тяжелая и неблагодарная.
Родителям я, конечно, сказала: отныне я беспрекословно подчиняюсь дяде Асгеру, сегодня два часа позировала ему обнаженной, было очень тяжело – и никакой благодарности. Родители, помню, переглянулись, а мама спросила, в какой позе, и я ответила, что лежа на софе.
Правдой из всего этого было то, что позировать оказалось и впрямь тяжело. Ты посадил меня на высокий стул (ноги до пола не доставали, а спина до спинки стула!), велел держать букет на коленях и сидеть-как-вкопанной… последнее я, видимо, поняла совсем буквально – и минут, наверное, через тридцать-сорок все тело словно парализовало. Да и ты, к тому же, беспрестанно меня нахваливал: какая, мол, замечательная натурщица и как, мол, профессионально сидит. Ой, да, ты еще сказал, что я должна смотреть на тебя неотрывно – и я даже моргнуть боялась. В общем, я действительно пришла домой совсем не по-детски усталой, даже уснула в кресле на веранде.
Наверное, я в конце концов научилась бы расслабляться и не тратить на позирование прямо уж все силы до капельки, если бы не подслушала, стоя под твоим окном, как ты в тот же вечер сказал своей темноволосой красавице, что влюблен в свою новую маленькую натурщицу и целое лето будешь писать только ее одну, тем более что ребенок этот умеет сидеть так, как ни одной профессиональной натурщице и не снилось. На следующее утро темноволосая красавица вдруг уехала из Скагена, и я поняла, что ее, во всяком случае, я победила. Другие натурщицы тоже стали приходить гораздо реже – и уже дней через десять после нашего приезда ты был в полном моем распоряжении, дядя Асгер!
Но тут-то все и началось…
С того началось, что ты, беспрерывно говоривший с самим собой, словно меня там и не было, как-то целых полдня бубнил одно и то же: ну не могу я, дескать, не только уловить, но и понять вот этого вот… да-да, задержись так! – выражения лица… ты прямо не малолетняя Кит, а взрослая Мона Лиза Джоконда какая-то (дома я, конечно, рассказала, что дядя Асгер называет меня красивейшей женщиной в мире… тучи сгущались)… И я начала сдуру думать, будто это моя вина – что ты не можешь выражения лица уловить… и просто из кожи вон лезла, пытаясь чуть ли не физически переселиться в портрет, – ты ведь помнишь, как однажды у меня голова закружилась, и я упала со стула?
Это тогда… это, видимо, в тот момент что-то случилось – мистическое или не знаю какое… так или иначе, я, позируя, начала чувствовать себя плохо – маленькая была совсем, а ощущала, что портрет силы мои забирает. Пошла к родителям, плакать начала… жуть: сама ведь все завертела, а туда же – родителям жаловаться!
В общем, впервые в жизни пришло тогда ко мне ощущение это – расслоение личности, так я тогда его не называла, конечно, но…
И – зазвонил телефон: письмо к дяде Асгеру, вечное ее письмо, опять осталось недописанным.
Не дожидаясь, пока включится автоответчик, Кит подняла трубку и почти шепотом сказала:
– Алло, это Кит.
– Торульф, – представилась трубка задыхаясь. – Почему ты к телефону подходишь?
– Я не знаю, Торульф.
– А где Курт? Что ж сам-το трубку не берет?
– Кажется, он в Ютландии… но я не знаю, Торульф.
– Немного ты знаешь сегодня… – дыхание начало выравниваться.
– Я просто ни-че-го сегодня не знаю, – уточнила Кит. – Я только что старое письмо одному давно мертвому человеку в голове дописывала, да… чтобы в который раз рассказать ему о том, что ему и без меня было известно! Так-то вот, Торульф… и со мной сейчас говорить – время даром тратить.
– Говорить и вообще, с кем бы то ни было, – время даром тратить. Со мной ли, с тобой ли, с Куртом ли! Я чего звоню… да просто так… нет, конечно, не просто так, а… а сказать что запутался весь, нужна тебе такая информация? Я подумал, что Курту, может быть, нужна.
– Мы все запутались… нас всех запутали то есть. Один человек запутал.
– Один ? – трагически хохотнул Торульф. – Если бы только один! Если бы только один, или даже два… – я бы разобрался, уж будь покойна. Но тут я пас, Кит: имя ему легион! Мне мерещится, будто я сам делиться начинаю. В моем возрасте это «маразм» называется.
– А в моем как? Потому что я-то с семи лет делиться начала – благодаря некоему дяде Асгеру. Завершил же процесс деления – или как раз завершает! – тот самый человек-легион.
– В твоем – не знаю, но едва ли маразм, – коротко реагировала трубка.
– Это ведь опасно совсем уже выглядит, а, Торульф? И – не знаю даже, какие тут слова употребить! – понемножку перестает быть понятно, где кто… да и есть ли тут вообще кто-нибудь. Фильм ужасов такой американский, там всегда героинька – хру-у-упкая, вроде меня, – вопрошает пространство: «Anybody here?» И тогда они начинают выползать все…
– Это потому что Элизабет камушки перепутала, – с живостью произнесла трубка. – Только не спрашивай, какая Элизабет и какие камушки.
– Я не спрашиваю, – поспешно ответила умница-Кит. – Мне даже лучше этого не знать – лучше просто пользоваться объяснением «Элизабет-камушки-перепутала», и все! Почему, дескать, жизнь так неправильно устроена: и уцепиться-то не за что, и пожаловаться-то некому, и переделать-то ничего нельзя? – да потому что «Элизабет камушки перепутала»! Гениально, Торульф. Почему я, идиотка, сижу здесь и умираю от каждого шороха – а потому что «Элизабет камушки перепутала!»
– Так ты, значит, одна там?
– Одна… вроде. Не будем об этом, а? Торульф, милый, тут ведь у нас правда черт знает что происходит – незаурядные такие… вещи. Тут каждую минуту может… нет, я не буду продолжать, я не знаю, ничего не знаю. И я боюсь. Честно сказать, очень боюсь.
– Я прилететь могу, Кит, – у нас утренний рейс в Копенгаген точно есть…
– Ой, Торульф, только не из-за меня, умоляю… и – я справляюсь со всем, ты не думай! Не барышня же я припадочная, которой кавалеры водой на лицо то и дело брызгать должны – я кремень вообще-то, если что…
– Ты? Вне всяких сомнений! – опять хохотнул Торульф. – Я бы даже сказал: скала… нет, гора.
– Так что, – пропуская иронию мимо ушей, подытожила Кит, – сиди-ка ты себе дома, Торульф…
– Погоди-погоди, Кит, я не из-за тебя…или, как это, не только из-за тебя, а… («Интересно, куда он вырулит, старая лиса!» – подумала Кит)… а просто забавно будет посмотреть, кто же все-таки приедет. Который из них.
И вот тут, когда Торульф взял и напрямую обозначил тему разговора, Кит вдруг вздохнула облегченно и предварительно улыбнувшимся голосом сказала:
– Ах, Торульф, Торульф… естествоиспытатель ты мой дорогой, – хотела этим и ограничиться, но услышала, как беспечный голос ее бесконтрольно заканчивает: – а действительно, приезжай, а? Так уже сильно хочется обнять тебя – я на табуреточку стану.
– Придется, – в тон отозвался Торульф. – У меня, знаешь, какой размер на сегодняшний день? Четыре креста эль.
– Четыре креста! – засмеялась Кит. – Четыре икс-эль это называется.
– Ну, пусть четыре икс-эль. Чего-то развеселились мы с тобой… не к добру, – буркнул Торульф. – Но я, знаешь, сейчас вот прямо позвоню билет заказать на завтра – так что часов в десять жди меня. Он-το когда прибывает… если это, конечно, он? При том…
– Около двенадцати должен, – не дослушав вопроса, ответила Кит и поежилась, потому что начинала бояться опять.
– …при том, что теперь это уже вроде как и не имеет значения: он или не он. Он обманул нас, Кит. Ему только кажется, что он сказал нам правду, но он обманул нас. Он и себя обманул.
– Если он вообще существует. – Кит опять сжалась в комочек. – За пределами своих слов существует, я имею в виду.
– Или – если мы все вообще существуем… за пределами его слов, – беспощадно заметил Торульф. – Я вот только за Курта боюсь: для него-то, нашего честного Курта, за пределами слов действительно ничего не существует.
Кит хотела смолчать, но – не смолчала:
– За Курта не бойся, Торульф: Курт со всем этим лучше нас справится – и справился уже… частично уехав в Ютландию.
– «Частично» – это как?
– А вот об этом не спрашивай, Торульф, приезжай лучше – сам поймешь. Приезжай… пожалуйста, приедешь?
– Приеду, – твердо пообещал Торульф.
Царь Царей и Господь Господ,
небо и земля и всякое свидетельство божественности Твоей
славят Тебя,
милостив Ты,
так услышь и нас, так внемли нам днесь,
дай нам деянием нашим восславить Тебя!
Взором, исполненным благословенья, найди нас внизу,
о Отец наш Небесный!
Позволь нам всем сердцем восстать на борьбу
против скверны,
в поисках мира
идти по стопам
Твоего Единородного Сына,
чтоб нам к Тебе как к Отцу обратиться без страха!
Позволь снизойти на нас Духу с высот осиянных!
Да станет пустыня зеленою и плодоносною нива!
И сердце, и дух
с Тобой связаны нитью святою,
чтоб, вечно внимая Тебе, за Тобой устремляться!
Всему, что начнется Тобой и Тобой завершится, – удачи,
а все, чего Ты не сажал, то мы вырвем с корнями,
так сей семена Свои – правду, покой, справедливость!
И благословенна страна, где взойдут эти всходы. {40}
Пришла смс-ка от одного из старых ютских друзей, Фредерика: «Между семью и восемью тебя видели на Рамсхерред – ты в Обенро? Обязательно позвони или зайди». Он ответил: «Те, кто видели, обознались. Я вовсе даже в Стокгольме» – но ответ ни в какую не хотел отправляться, а спустя пару минут на экране засветилась вторая смс-ка от Фредерика. В ней значилось: «Тогда завтра увидимся – давай в пять возле рыбок?»
«Вот и видьтесь!» – буркнул он и стер свою смс-ку, так и продолжавшую уходить, и уходить, и уходить – не уходя никуда.
А ему сейчас хотелось только в Копенгаген – странное, почти новое ощущение. Обычно, сидя в Шереметьеве (а во все на свете аэропорты он всегда приезжал торжественно-заранее и любил иметь в своем распоряжении часа два на… что бы? на дольче фар ньенте, вот вам!) и дожидаясь своего рейса, он обязательно хотел совсем не в Копенгаген, а – в любое другое место. В Рим, Париж, Варшаву, Мадрид, Осло… да, еще в Прагу – Прагу он просто до спазмов в животе любил… Не чтобы в этом любом-другом-месте жить, упаси Боже, но чтобы н-а-п-р-а-в-л-я-т-ь-с-я туда. Вы куда, дескать, направляетесь? – Да вот (голос – сама беспечность!), видите ли, на сей раз в Прагу.
Никаких на сей раз у него не было. Направлений – вообще – имелось только два: на Москву и на Копенгаген. И не потому, что он больше никуда не ездил… но разве это поездки! По делам, изредка, на пару-тройку дней – весь в мыле по волшебному какому-нибудь городу, пытаясь на ходу урвать вот этот карнизик, и вот эту пилястрочку – и еще вот этот люнетик… и, во-о-он горшочек с амариллисом на окне, эх, жизнь, жизнь! А так, основательно, чтобы недели на две-три – это только Москва и Копенгаген. Когда он понял, что уже не уедет из Европы, он сразу же и размечтался: отныне, дескать, – при паспорте гражданина Европейского Союза, не требующем вообще никаких штампов, – он будет только и делать, что колесить по всему миру… куда там! Каждый отпуск, какой бы длины ни был, полагался – маме, дело святое, а остальное время… то есть десять месяцев в году – тут не до поездок, тут любимая, без насмешек, работа. Так что насчет колесить по всему миру – извините-погорячились. Да и кто мы – миру?
Короче, сказать, что он даже по Европе вдоволь наездился, было бы ну очень большим преувеличением. И каждый раз, глядя на табло в Шереметьеве, он вздыхал, поглядывая в сторону спешивших на другие самолеты: совсем уже скоро эти счастливцы будут в Вене, в Милане, в Андорре… где только не будут и сколько всего увидят и, конечно же, у каждого времени – вагон, ходи наслаждайся каждым зданием, каждой завитушечкой, каждой колонной… хоть ионической, хоть коринфской, а хоть и дисками дорическими – тебе решать, и никто не сможет отнять у тебя этой радости, радости полного растворения в Городе.
Но сейчас ему хотелось только в Копенгаген. В любимый – возлюбленный! – Копенгаген, лучший город на этом свете (как бы ни выглядели другие виденные – а хоть и не виденные им – города на этом же свете), на какую-нибудь Канникестрэде, зачем именно туда – Бог весть, нет, затем, чтоб за ним перестали гнаться, а кто гонится – неважно это, много кто гонится, за всеми не уследишь! Исчезнуть из виду в старом городе – пара пустяков для него, и никто никогда не найдет, потому что не выдадут ни единая арочка, ни единый тупичок, ни окошко единое: свой он тут, скушали? Но как далеко еще до Копенгагена… времени четыре часа ночи, так что сперва Лунд, потом Мальмё, а уж только пото-о-ом – Копенгаген.
После своего возвращения из рейда по пустому поезду он опустил толстое полотно на окне своего купе, запер окно, а потом и дверь, и в коридор носа не казал, что бы оттуда ни доносилось. Доносилось же – всякое: и грохот, и вой, и крики «на помощь»… и ломились в купе к нему, и по двери когтями скребли, и стучали требовательно: дескать, проводник-откройте-немедленно – да только знаем мы таких «проводников»! У проводников – у них по сто ключей и отмычек штук по двести от одной его двери, захотят войти – никого не спросят. Но вам, темным силам, всего этого, конечно, взять неоткуда – так что и не открыть вам дверь его купе, не проникнуть к нему. А другим силам – не темным – неоткуда быть: он сам почти весь поезд проверил, нет никого, один он, один – на своем камино.
Нет, не один: телефонный звонок… кто бы еще – в такое время? Четыре двадцать, ночь! Разве только мама.
Номер, высветившийся на экране, не сопровождался никаким именем: таких звонков он в жизни не принимал. Не принял и сейчас – просто смотрел и смотрел на экран, пока звонки не прекратились. Подождал, оставят ли сообщение, – сообщения не оставили: значит, будут звонить еще.
Номер телефона – он снова вызвал его на экран – был датский. Копенгагенский. Знакомый. И – минуточку… – его собственный. Ага, вот, значит, как у нас теперь все, – сказало сердце, падая в пропасть. И добавило: ну, ладно.
Сразу вспомнилось, что первым, кому он позвонил по телефону, появившемуся у его бабушки, когда ему было, кажется, около семи, была сама бабушка. Он задумал ее удивить таким вот сложным образом: «Бабуля, а это я. Откуда? – с твоего телефона!» Но бабушкин телефон оказался занят, и он сначала удивился, что занят, а потом понял: конечно, занят, он же с него и звонит… куда проще! Это и пришло сейчас на память: невозможно позвонить со своего телефона – на свой же.
Но ему позвонили. И звонок был гораздо, гораздо хуже, чем смс-ка: послать себе смс-ку он пробовал тоже, когда смс-ки только еще начинали входить в оборот… hej, дескать, hvordan går det, дескать, – и все такое. Смс-ка пришла тут же – как, кстати сказать, и мэйл, который он отправил на собственный электронный адрес в незапамятные времена – в первый день появления у него электронной почты. В обоих случаях, кстати, ему пришлось преодолеть в себе искушение ответить – настолько чужими выглядели послания.
Поезд внезапно остановился – очень резко.
Он тряхнул головой и набрал свой номер. И с ужасом услышал длинные гудки: не занято, придется говорить. Ну… вперед тогда.
– Hallo-hallo-o-u…
Ошибиться было невозможно – кроме него, так на звонки не отвечал никто: там, где он жил, при соединении с абонентом полагалось просто назвать свое имя – и никаких hallo-hallo-o-u.
А тут, значит – и тут, значит: hallo-hallo-o-u.
Голос был не то чтобы знакомый… впрочем, кто ж узнает свой собственный голос… да дело и не в голосе: hallo-hallo-o-u сказало всё.
– Jeg skulle bare spørge… hvad det handlede om.
Он не позволил себе ни имени, ни личного местоимения, ни даже родного языка: ни к чему тут все это. Если ему навязали игру, это еще не значит, что он обязан играть по правилам.
– Skal vi tale dansk?
Вопрос был наглым. Его вполне можно было избежать и воспользоваться тем языком, на котором и обратились, не подчеркивая – так жирно – ничего.
– Det er lige meget.
– Også hvad mig angår.
Собеседник правильно располагал себя в речевом акте: да, первый звонок был от него, но на первый звонок не ответили. А данный звонок не от него – стало быть, жди, что скажут. Но и перезвонивший не лыком шит: да, на сей раз звонит он, но не по своей воле, а в ответ на неотвеченный звонок, то есть поинтересоваться, зачем звонили.
И играть в эту игру можно было долго: так называемый непрозрачный речевой акт и прочие шалости лингвистической прагматики – разумеется (а как же иначе!), хорошо знакомой им обоим.
– Так в чем дело? И, если можно, не очень длинно.
– Я это «не очень длинно» пропущу мимо ушей: оно… оно литературное больно. А дело в чем… дело давно уже в другом. Да и вообще у меня только сообщение небольшое: через час я в Копенгагене, друзья на машине довезли.
– Мои друзья?
– И это литературно очень. Неважно, чьи друзья. Но я уже позвонил Кит, так что она ждет… м-да, с кофе и венскими булочками. Сказала, кстати, что утром Торульф прилетит.
– А… Курт?
– Забавный вопрос. Ну да ладно: Курт в Ютландии, он уже получил то, что хотел. Тут каждый получает то, что хотел.
– Ммм… я только не уверен, что тут каждый знает, чего хочет.
– В конце концов знает каждый. Но это действительно только в конце концов.
– И у нас сейчас – конец концов?
– Думаю, что да – или, во всяком случае, близко к тому. Сколько же можно?
– Да уж. И… вот, у слова «тут» странное значение.
– У каждого слова странное значение, но глупо это сейчас обсуждать… нам.
– Нет-нет, я не к тому, чтобы обсуждать. Да. Я просто думаю, что… когда я приеду в Копенгаген…
– Тебе нет смысла приезжать в Копенгаген. Копенгаген теперь мой.
– Хм… и Копенгаген – тоже?
– «Тоже»?
– Ну, как Берлин, как Обенро!
– Насчет Берлина и Обенро я – пас. Не ко мне вопросы.
– Угу. Понятно. Как насчет линейности и необратимости?
– А это – ни к кому вопросы. Просто совсем пустые вопросы. На них и будем начинать заканчивать: разговор заказан – короткий. Пока-пока. Сноррум.
– Сноррум?..
– Ах да… – в голосе была безмятежная улыбка, – ты ведь так далеко не доисследовался. Это я – доисследовался. Шухардт помог – как и следовало ожидать: «Интерпретация важнее материала».
– До чего же ты доисследовался?
– До понимания того, что, вот… мотаешься, значит, себе туда-сюда в поисках непонятно каких радостей, все хочешь услышать голос Бога, но голоса Бога никогда не слышишь – слышишь только голоса четырех Его апостолов, давно непонятными словами рассказывающих одну и ту же историю как четыре разных. А в свободное время – играющих в карты, в простенькую детскую игру… Четырех, значит, апостолов – транслитерирующих Бога. Превращающих Слово в слова и рассеивающих слова по свету, где истине предстоит размножиться и стать просто набором слов: Снип-снап-сноррум? – Рекс базилорум!.. Набором слов, за которыми просто ничего нет.
– Мне не нравится эта точка зрения.
– Странно! Она, вообще говоря, – твоя. Пока-пока.
Вот и допрыгались. Допрыгались же? Или еще – нет?
Все до сих пор поправимо, ведь поправимо? Никто так и не прибыл в Копенгаген!
Но этот поезд – стоит. Стоит крепко и немо – и неизвестно, пойдет ли. Чтобы узнать, пойдет ли, а если пойдет, то куда, надо выйти из купе: в коридор, из которого еще совсем недавно слышался грохот, вой и крики «на помощь». Или, по крайней мере, поднять полотно на окне – с той стороны ничего не слышалось, хотя… как знать? Как знать, с какой стороны слышалось? Отовсюду – слышалось!
И очень интересно, при чем тут четыре апостола… произносящие давно непонятные слова. Какие, прошу прощения, тут слова все еще непонятны?
Похоже, выпало некое звено. И, похоже, что – самое главное… но сейчас дело не в этом. Сейчас дело в том, что никто пока не приехал в Копенгаген и что заявление «Копенгаген теперь мой» – на данный момент, скорее, пожелание, чем реальность. И что можно, наверное, постараться и выпрыгнуть из этих обстоятельств – так, как усилием воли прекращают, например, кошмар: иногда ему удавалось прекратить кошмар усилием воли. Впрочем, таких кошмаров у него пока не было.
Можно-то можно, только как? Поезд стоит крепко и немо. И сам он не знает, что там – за пределами его купе.
И мужества выйти из купе – посмотреть, есть ли что или нет ничего… с этим как-то не очень. Всё сильно всерьез теперь, насмерть всерьез.
Но хочешь или не хочешь, а на данный момент получается, что у него отнято все… пусть даже кое-кто и полагает, будто «тут» каждый получает то, что хотел. Сам он пока только отдает – ничего не получая, и это – справедливый расклад? Более того, ему – ему самому (самому!) – фактически нет места в данной системе координат. Фактически он данной системе координат и не нужен, при том, что за пределами этой системы… ммм, за пределами купе – или нет: за пределами слов действительно ничего нет.
И его, стало быть, нету. Был да кончился. Вот он, прагматический парадокс я не существую : так, значит, выглядит этот парадокс в реальности. Путешествия в себя плохи тем, что когда ты совершаешь их, ты находишь в себе гораздо больше, чем одного себя – ты находишь там, например, четырех себя… м-да, как он говорил? – четырех апостолов! Каждый из которых пишет о Боге, но в конце концов – о себе. Нет, он не так говорил…
Да как бы ни говорил – всё еще можно вернуть одним звонком! Хорошо, не все, но, черт побери, можно еще вернуть Копенгаген – Копенгаген, пока принадлежащий ему по праву! Позвонить маме, вот… и – переполошить ее совершенно ненужным ей теперь признанием?
Он ненавидел раскаяние – раскаяние как жанр: во-первых, он вообще терпеть не мог пафоса, а раскаяние без пафоса не раскаяние, во-вторых… во-вторых – раскаяние есть отмена прошлого, которое – неотменимо.
Прошлое уже сидит в нас, уже впиталось в каждую клетку организма, уже обусловило все, что полагалось обусловить… раскаяние есть самообман. Грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться – причем каяться так же искренне, как грешить! Потому-то первая половина 90-х запомнилась ему как этически наиболее неприемлемый для него период новой российской истории. Тогда, уже вволю накаявшись и омывшись слезами, народ преобразился на глазах – и выяснилось, что на самом деле на протяжении последних шестидесяти с гаком лет все вокруг думали иначе, чем это выглядело со стороны. Что на самом деле никто и не был коммунистом, а если случайно был, то – вступив в КПСС под пытками. Что на самом деле каждый советский гражданин верил в Бога, а если не верил, то все равно тайком ходил к пасхальной заутрене, только гримируясь и переодеваясь какой-нибудь бабой-грушей. Что на самом деле любой гражданин Страны Советов происходил не из рабочих и крестьян, а из того или иного поросшего к тому времени мхом дворянского рода, и если уж не Захарьиных, то как минимум – Воронцовых или Шереметевых.
И много-много-много других, столь же головокружительных, «на самом деле».
В мгновение ока его страна, преступная, изолгавшаяся, порочная и – трагическая, превратилась в другую страну: законопослушную, честную, святую и даже не комическую – фарсовую. Вот тогда-то он, выросший среди преступлений, лжи и порока, но худо-бедно научившийся хотя бы тому, чтобы совершать свои преступления, лгать и предаваться пороку без пафоса, чуть ли не в первый раз осознал: ему действительно стыдно. Причем стыдно не за тогда уже казавшиеся далекими шестьдесят с лишним лет внутренней борьбы, а за эти последние четыре-пять, когда и само понятие «внутренняя борьба» оказалось отменено приказом-по-государству, и всем было разрешено без колебаний стать новыми людьми. И все – стали: выяснилось, что это элементарно просто.
Он ходил среди красивых, умных и добрых новых-людей и пристально всматривался в них, стараясь разглядеть хотя бы бледную тень вчерашнего дня, но красивые, умные и добрые новые-люди были плоскими и теней не отбрасывали. Как в тогдашнем же двухмерном кино, где действующие-лица-и-исполнители казались наклеенными на экран этикетками: если и способными упасть в бездну, то не в бездну с той стороны – бездну искусства, а в бездну с этой стороны – бездну зрительного зала, бездну жизни.
Страна стала вдруг этикеткой: оторви этикетку – и нет страны, ибо дальше – все привозное.
Согласиться с тем, что видел, он никак не мог. Он и раньше этого не мог – все стараясь разглядеть в зловещих очертаниях социалистического уродства намек на другое, на высокое… на то самое светлое-завтра, которое должно угадываться в перспективе! Хорошо, пусть пока не угадывается, но пройдут еще год-два страшной этой, бесчеловечной этой жизни (мы потерпим, мы уже долго терпели!) – и все начнет рас-цве-тать, и то, чего все так долго и в таких страданиях ждали, примется проступать на поверхность, как разноцветное донышко переводной картинки, а вот тогдааа…
Принять же за правду то, что было развернуто перед ним в первой половине девяностых, он не столько не хотел (и-рад-бы-в-рай-да-грехи-не-пускают), сколько – не решался. Ибо если вот это вот было правдой, тогда не настанет не то что светлого – не настанет вообще никакого завтра, а так все дальше и будет: одно безумное, на сотни лет растянувшееся, но изначально окончательное сегодня с его домиками из картона и пирожками из человечины.
И он шел, а сам все оглядывался и оглядывался назад (конфузно: хоть и не близкие люди, но ведь даже и попрощаться не успели!..) – и дергал за руку второго себя, плетущегося следом: чтобы тот не совсем уж отстал, не потерялся в прошлом… с кем воссоединяться-то потом будем – с Пушкиным? Тогда раздвоение стало ощутимым физически – правда, думалось, что это ненадолго, что пройдет, ан… оказалось навсегда.
И, помнится, один из них уехал в Данию – ма-а-аленькую страну со сто раз по пальцам сосчитанным и пересчитанным населением: тут не забалуешься, не задвоишься!
Так как же все-таки – каемся или нет?
Улыбаясь, он взял в руки мобильный телефон и нажал на зеленую кнопку.
Темным был экран телефона. Темным и мертвым.
Он знал это: чего же иначе улыбался? К тому ведь все и шло – к детской-предетской сказке одной, раз и навсегда напугавшей его своим началом и своей серединой, а конец он скоро забыл… мелькали только какие-то клочки-по-заулочкам, но что делать с ними, он никогда не знал, а сказка – это только вот теперь вспоминается – про то, значит, как у Лисы была избушка ледяная, а у Зайца – лубяная (слова «лубяная» он тогда не понимал, сколько мама ни объясняла, а она раз сто объясняла). И ледяная избушка, вспоминайте-вспоминайте… правильно, раста-а-а-яла, и Лисе стало негде жить. Тогда Лиса пришла – к кому? правильно, к За-а-айцу – и стала проситься на ночлег, жалобно причем: дескать, я только хвостик на порожек положу, я только носочек на подоконничек… и прочие всякие незначительности-жизни, но тут-то и выяснялось, что Лиса-то уже вся в избушке-лубяной, а Зайчика-το там и нету больше: ни хвостика на порожке, ни носочка на подоконничке – и мерзнет наш Зайчик на улице, того и гляди замерзнет до смерти!
Дальше он слушать маму не мог – и начинал реветь-как-резаный (цитата), ибо мера несправедливости уже прямо тут превышала объем сразу обоих желудочков его сердца, и ничего просто не оставалось – только реветь-как-резаному (опять цитата, та же самая).
И впоследствии – теперь-то он понимал! – страшная эта сказка постоянно сбывалась, в чем была особая какая-то, космическая какая-то подлость: ни одна другая сказка – не сбывалась, а эта – сбывалась на каждом шагу. Всё вытесняло всё, все вытесняли всех. И обязательно – сначала хвостик на порожек, потом носочек на подоконничек, а потом уж… потом уж дело понятное.
Такое же понятное, как с телефоном его: в один прекрасный момент и телефон, последнее имущество бедного Зайчика, должен был перейти во владение какой-нибудь Лисы… какой-нибудь из лис, шнырявших вокруг него. Он просто из любопытства понажимал на кнопку сверху, но это так… не чтобы включить телефон, а чтобы полностью осознать: больше у меня действительно ничего нет.
Стоп – будем по порядку исчезновения… или не будем. Когда нет ничего, смешно составлять реестр отсутствующего – только трогательные немцы способны педантично перечислять, чего именно нет у милого-Августина… Тут он вспомнил читанную лет десять назад статью об этой образцовой нищете: статья принадлежала некоему чудаку, который, видимо, был трогательнее всех вместе взятых немцев, ибо вслед за ними трогательно перечислял (тем самым как бы удваивая реестр и чуть ли не наслаждаясь масштабом утрат!) то, что уже перечислено ими:
Rock ist weg, Stock ist weg,
Tuch ist weg, Buch ist weg,
Knopf ist weg, Topf ist weg,
Kamm ist weg, Schwamm ist weg,
Sack is weg, Frack ist weg,
Haus ist weg, Maus ist weg,
Schuh ist weg, Ruh’ ist weg,
Hut ist weg, Mut ist weg,
Stift ist weg, Schrift ist weg,
Wein ist weg, Bein ist weg,
Zopf ist weg, Kopf ist weg,
Strumpf ist weg, Rumpf ist weg,
Pferd ist weg, Erd’ ist weg,
Traum ist weg, Raum ist weg,
Ach du lieber Augustin,
Alles ist weg!
А что… прямо как про него сказано! Персонаж, дезинтегрирующийся на глазах.
Неожиданно для себя он ни с того, ни с сего взялся за кольца серого полотна на окне – и полотно, чуть слышно скользнув вдоль стекла, спряталось где-то наверху.
Никто не бросился к стеклу снаружи: спокойно было за окном. Хоть и не совсем темно: огоньки-то все-таки поблескивали, поезд явно стоял не в чистом поле – на какой-то станции стоял, как поездам, значит, и полагается. На это, видимо, время всякие беспорядки в коридоре были прекращены.
Жаль, что окно нельзя открыть: наверное, випам у открытых окон стоять не полагается. Вдруг укокошат какого випа снаружи – греха не оберешься! А вот если бы окно открывалось, можно было бы набраться нахальства и покурить прямо в купе. Впрочем, в коридоре тихо: авось, без проблем удастся добраться до тамбура, пока поезд стоит.
Он опять надел куртку и осмотрелся: купе производило впечатление нежилого – только бездействующий телефон лежал на столике, словно забытый в спешке неким пассажиром. А больше никаких признаков жизни.
Осторожно повернув замок, он, перед тем как выйти, еще раз заглянул в зеркало: а что… неплохо. Пожалуй, даже лучше, чем раньше. Пожалуй, даже гораздо лучше: в Скандинавии, во всяком случае, с такой внешностью жить и полагается. Как это… бе-ло-ку-ра-я бес-ти-я… несколько возрастная, правда, но возраст дело такое, не изменишь. А в общем и целом здорово – мать-родная-не-узнает, как говорится. Впрочем, и это, наверное, только говорится так – все в мире просто так говорится.
И он – на прощание? – тихонько сказал своему отражению в зеркале: «Alle Dinge, an die ich mich gebe, werden reich und geben mich aus»… странно, ему казалось, что он уже давно забыл это.
В занавешенном серыми полотнами коридоре было пусто и, что самое интересное, – никаких следов недавних беспорядков. Ах, нет ничего, мой-милый-Августин, все кажется только, мерещится, мнится. И – тронулся поезд, опять незаметно: пушинка, на которую осторожно дунули.
Он заспешил в тамбур: если это станция, то хорошо бы успеть прочитать название, потому что нет ничего в мире главнее – главнее названия.
Как открывать дверь, он после первой своей вылазки знал. Так и открыл – как знал. И что-то такое в меру величественное проплыло мимо двери: освещенная слабым светом бронзовая фигура сидящего старикана, всесоюзного старосты… было время, когда старикан этот стоял над нами во всей своей бронзовой силе, но потом, говорят, устал и даже начал разваливаться – тогда его решили усадить на скамью. Трудно было теперь вспомнить, когда именно это случилось… кажется, в восьмидесятых. А в девяностых городу отказали в старикановом имени: выяснилось, что оно никогда никому не нравилось.
Он оглянулся: стоп-кран находился близко – слева, прямо на уровне глаз – и попятился было назад. Но махнул рукой, усмехнулся, шагнул в проем двери и полетел навстречу щиту со странным названием «Пропусти поезд!», намекавшим на возможность бессмы́сленного состязания в силе между человеком и железнодорожным транспортом…
Bye-bye-boy.
Rex Basilorum!
Примечания
1
Жизнь – одно лишь Снип-снап-снурре,
Смерть – его же Базелюрре.
Йенс Баггесен.
2
Полные названия источников и соответсвующих русскоязычных изданий даются в конце романа. – Примеч. ред.
3
Вышедший уже после опубликования этой статьи замечательный диалектологический словарь области Курхессен, составленный Вильмаром, подводит наконец достойную черту под apostolorum и т. п. (с.363). После описания игры, минимальное число игроков которой – четверо , и замечания, согласно которому apostolurum известен еще и в формах bostelorum, bastelorum, Вильмар говорит: «из-за этого непонятного baselorum игра приобрела оттенок предосудительности; первоначально же имел место намек на то, что в игру эту играли друг с другом четыре апостола: это был schnipp schnapp schnurr апостолов – апостольский schnipp schnapp schnurr» ( примеч. ред. ).
Комментарии
1
Spørgsmål til romanen «Hvad skete der med hr. Å?» – Vibeke Ovesen. Hvad skete der med hr. Å? København, Specialt forlag, 1996.
Вопросы к роману «Что случилось с херром О?». – В кн.: Вибеке Овесен. Что случилось с херром О? Копенгаген, Специальное издательство, 1996.
2
Chanson populaire française sur Duc de Marlborough (début du 18e siècle) – Chants et chansons populaires françaises. Moscou, Huguenot, 2001.
Французская народная песенка о герцоге Мальборо (начало XVIII в.). – В кн.: Французские народные пес– ни и песенки. Москва, Гугенот, 2001.
3
Разсказъ изъ временъ императора Павла (Сообщ. Б. М. Федоровъ). // Русская старина, 1871, Т. IV, № 9.
4
Манджушри входит в ворота. Первый из ста коанов книги Гэнро «Тэттэки Тосуи, или Игра на сплошной железной флейте, перевернутой другим концом» (1783). – В кн.: Железная флейта. 100 коанов Дзэн. М.: Единство, 1993.
5
Beck, D. E. & Cowan, C. C., Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change. – Exploring the New Science of Memetics. Oxford, Blackwell, 2006.
Д. Бек, К. Кован. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями. М.: Открытый мир, BestBusinessBooks, 2010.
6
J. R. Searle. A taxonomy of illocutionary acts. – In: Minnesota Studies in the Philosophy of Science. University of Minneapolis, 1975.
Дж. Р. Серль. Классификация иллокутивных актов. – В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. М, Прогресс, 1986.
7
Ordbog over det danske sprog udgivet af Det Danske Sprog оg Litteraturselskab. København, Gyldendal, 1995, 20. Bind.
Словарь датского языка, изданный Датским обществом языка и литературы. Копенгаген, Гюлендаль, 1995, т. 20.
8
Paul Ekman. Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage. New York, Norton, 2001.
Пол Экман. Психология лжи. СПб, Питер, 2010.
9
Бой казачки с богатыремъ. – В кн.: Сказки и преданія Самарскаго края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковымъ. С.-Петербургъ, 1884.
10
Hermes – Aschehougs biografiske leksikon. 339 kendte personer der aldrig har levet. Aschehoug, 1998.
Гермес. – В кн.: Биографический словарь Ашехауга. 339 известных личностей, которые никогда не жили на свете. Ашехауг, 1998.
11
Lütt Matten, die Has. – Liederbuch für Schleswig-Holstein. Herausgegeben vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, 1956.
Лютт Маттэн, Заяц. Старинная песенка на плятдойч. Подстрочник по: Книга песен Шлезвиг-Гольштейна, изд. Отечественным Союзом Шлезвиг-Гольштейна, 1956.
12
Н. Корнбломст. Петля Мёбиуса на все сезоны (описание модели) // Философия и вязание, зима 2010. М., Изд. дом Корнбломста.
13
Информация о рейсах, выполняемых Аэрофлотом, на 21 апреля 2010 года. // Аэрофлот – Компания – Новости, 21 апреля 2010 года, Москва, 13:15.
14
Ренет бергамотный. – В кн.: И. В. Мичурин. Итоги шестидесятилетних работ, 1855—1935. Москва, ОГИЗ, 1949.
15
Блаженный Августин, епископ иппонийский. – В кн.: Георгий Орлов. Церковь Христова. Рассказы из истории христианской Церкви. СПб, Сатисъ, 1996.
16
Ordbog over det danske sprog udgivet af Det Danske Sprog оg Litteraturselskab. København, Gyldendal, 1995, 20. Bind.
Словарь датского языка, изданный Датским обществом языка и литературы. Копенгаген, Гюлендаль, 1995, т. 20.
17
Das Salzburger Hausregiment Erzherzog Rainer Nr. 59. – Der Erste Weltkrieg auf Österreichischem Territorium. Salzburg, Parallele, 1971.
Зальцбургский пехотный полк № 59 эрцгерцога Райнера. – В кн.: Первая мировая война на территории Австрии. Зальцбург, Параллель, 1971.
18
А. Пирогова. Жилище. – B кн.: Краткая иллюстрированная история будущего. М., 2004.
19
Dansk stød. – Hans Haagensen. Dansk udtale. Vokaler m.m. Forlaget Duplikon, 1985.
Датский толчок. – B кн.: Ханс Хогенсен. Датское произношение. Гласные и проч. Дупликон, 1985.
20
Heinrich Wölfflin. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. München, Bruckmann, 1922.
Генрих Вёльфлин. Основные понятия теории искусств. Academia, 1930.
21
Emanuel Swedenborg. Om himmelen och dess underbara ting och om helvetet på grund af hvad som blifvit hördt och sedt. Ett verk af Emanuel Swedenborg. Stockholm, Nykyrkliga Bokförlaget, 1911.
Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. СПб: Амфора, 2006.
22
Ordbog over det danske sprog udgivet af Det Danske Sprog оg Litteraturselskab. København, Gyldendal, 1995, 20. Bind.
Словарь датского языка, изданный Датским обществом языка и литературы. Копенгаген, Гюлендаль, 1995, т. 20.
23
Ludwig Wittgenstein. Philosophische Untersuchungen. Oxford, Blackwell, 1956.
Людвиг Витгенштейн. Философские исследования. – В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М, Прогресс, 1985.
24
Benoit B. Mandelbrot. The Fractal Geometry of Nature. New York and Oxford, W.H. Freeman & Co, 1982.
Бенуа Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. М., Институт компьютерных исследований, 2002.
25
Charly Niessen. Er hiess nicht von Oertzen. – LP «Hildegard Knef. Die grossen Erfolge», 1969.
Ч. Ниссен. Эр хис нихьт фон Оерцен. – Текст с пласт. Хильдегард Кнеф «Большие успехи», 1969.
26
Число выражения. Цит. по: Нумерологический анализ личности. Из частной переписки (2003).
27
Stephen LaBerge, Howard Rheingold. Exploring the World of Lucid Dreaming. New York, Ballantine Books, 1990. Стивен Лаберж, Ховард Рейнголд.
Исследование мира осознанных сновидений. Москва, Издательство Трансперсонального Института, 1995.
28
Antonio Prieto. Morfologia de la novela. Barcelona, Editorial Planeta, 1975.
Антонио Прието. Морфология романа. – В кн.: Семиотика, т. 2. БГК им. И.А. Бодуэна де Куртэне, 1998.
29
Eugen Roth. So ist das Leben. – Eugen Roth. Verse und Prosa. München, DTV, 2001.
Ойген Рот. Такова жизнь. – В кн.: Ойген Рот. Стихи и проза. Мюнхен, DTV, 2001.
30
Свет и Тьма. Йопурийская народная сказка (пер. с йопури). – В кн.: Сказки. М., Детгиз, 1967.
31
Snip-snap-snurre. – Spillefuglen. København, Politikens forlag, 1964.
Снип-снап-снурре. – B кн.: Картежник. Копенгаген, Политикен, 1964.
32
Осиновый человек (коми-пермяцкое сказание). – По кн.: С.И. Тетерин. Двойняшки: Пермский оракул для гадания и привлечения личной удачи. М., София, 2000.
33
Being an Interpretation of the Secret Teaching concealed within the Rituals, Allegories and Misteries of all Ages by Manly P. Hall. San Francisco, H.S. Crocker Co, Inc., MCM XXVII.
Интерпретация секретных учений, скрытых за ритуалами, аллегориями и мистериями всех времен Мэнли П. Холла. ВО «Наука», Новосибирск, 1992.
34
Niklas Luhmann. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.
Н. Луман, Социальные системы. Очерк общей теории. СПб: Наука, 2007.
35
Lewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland. London, Folio Society, 1961.
Перевод стихотворения в кн.: Renyxa. М., ЛУЧ, 2004.
36
Verzeichnis der Gegenstände des Leopold Lindenhofer, Oberleutnant des Salzburger Hausregiments Erzherzog Rainer Nr.59, nach seiner Heimkehr von der Front im Jahre 1918. Aus der Bestandsaufnahme Nr. 123/6-1918 im Reiner-Regiment-Museum auf der Festung Hohensalzburg.
Список имущества Леопольда Линденхофера, старшего лейтенанта Зальцбургского пехотного полка № 59 эрцгерцога Райнера, по возвращении с фронта в 1918 г. Из описи № 123/6-1918 Военного музея в крепости Хоэнзальцбург.
37
Jean Baudrilliard. Simulacres et simulation. Éditions Galilée, Paris, 1981.
Жан Бодрийяр. Симуляция и симулякры. – B кн.: Современная литературная теория. Антология. М.: Флинта: Наука, 2004.
38
Roland Barthes. La mort de l’Auteur. – R. Barthes. Le Bruissement de la langue: Essais critiques IV, Éditions du Seuil, Paris, 1984.
Смерть автора. – B кн.: Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика и поэтика. М.: Прогресс, 1989.
39
Hugo Schuchardt. Slipe, slape, snorio, basilorio // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen, 17. Bd., 5. H., 1868.
Хуго Шухардт. Slipe, slape, snorio, basilorio. // Журнал сравнительного исследования языка в областях немецкого, греческого и латинского, 17, т. 5, Н., 1868.
40
Frederik Schmidt. Kongernes Konge og Herrernes Herre. – Den Danske Salmebog. København, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 1994.
Фредерик Шмидт. Царь Царей и Господь Господ. – Датская книга псалмов. Копенгаген, Королевское издательство «Вайсенхус», 1994.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


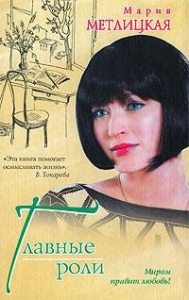
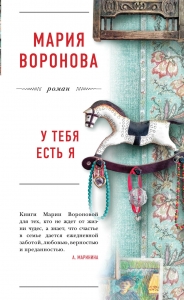
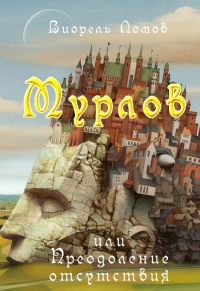
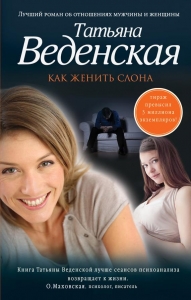

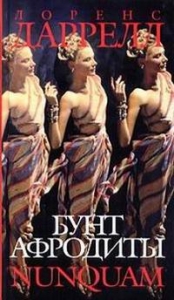



Комментарии к книге «Translit», Евгений Васильевич Клюев
Всего 0 комментариев