Ирина Алефова Яд для Моцарта. Сюита-фантазия на тему в ритме вневременья
Кое-что, о чем необходимо знать заранее
Автор совершенно честно предупреждает читателя, чей пресыщенный литературными деликатесами взгляд выхватил интригующее название этой книги из бесконечного ряда ему подобных в предвкушении проглотить еще одну щедро приперченную порцию детективного чтива, что на сей раз чутье его подвело: это не детектив.
Для тех, кто не отложил книгу в сторону и перевернул страницу, несмотря на вышеизложенное предупреждение, маленькое уточнение: это не совсем детектив.
Абсолютным недетективом эту книгу назвать тоже нельзя, поскольку яд все-таки имел место быть, посему ни одну из нижеупомянутых смертей нельзя однозначно признать естественной, а некоторое сопоставление фактов так и напрашивается выпасть из ряда простых совпадений. Более того, автор настаивает на том утверждении, что в мире ничто не происходит просто так, все не случайно и имеет на то веские причины и основания.
Для того чтобы окончательно внести ясность по поводу того, во что читатель по оплошности ввязался, автор считает необходимым предоставить некоторые разъяснения.
Разъяснение 1, касающееся жанра
Термин «сюита… на тему» – один из тех многосмысловых слов, о которых втолковывал неразумной Алисе Шалтай-Болтай. Этот литературно-музыкальный жанровый гибрид предполагает ряд танцев (в нашем случае – историй), которые одновременно могут являться вариациями-вариантами одной и той же темы, положенной в их основу.
Кроме того, подзаголовок «фантазия» позволяет автору кое-какие вольности и отступления от жанровых предпосылок, с одной стороны, а с другой – полностью снимает с него всякую ответственность за правдивость сюжетной линии и отклонения от реальных фактов. Впрочем, не исключено, что все написанное здесь имело место быть. Опровергнуть сие утверждение практически невозможно.
Разъяснение 2, касающееся особенностей композиционного устройства
Структура сюиты-фантазии укладывается в следующую схему:
Первоначально в намерения автора входило подробное растолкование вышенарисованной схемы, но вскоре ему стала ясна абсурдность этой идеи, посему схема предлагается читателю на его собственное исследование.
Внимательный взгляд без труда обнаружит в ней как законы вечного кругового вращения, так и принцип нанизывания на некую непрерывную вневременную ось нескольких самостоятельных эпизодов, вынутых из истории. Одновременно эти эпизоды являются гранями одного кристалла, на уровне музыкальной формы выполняя функцию вариаций-вариантов одной и той же темы.
Последний раздел, обозначенный в схеме как «кода», включает в себя финалы развития двух вышеобозначенных линий. В одном из них содержится разгадка детектива, другой же имеет несколько иное предназначение.
Помимо несомненной пользы, безусловно извлеченной глубокомысленным читателем из предложенной схемы, а также – смысла, вложенного им же на освободившееся место, формула строения композиции попросту позволит более свободно ориентироваться в пространстве текста.
Разъяснение 3, касающееся непонятных иностранных слов, то и дело встречающихся по тексту и сбивающих читателя с толку, которое плавно перерастает вПРИЛОЖЕНИЕ,
составленное в виде алфавитного словаря терминов, встречающихся в тексте того или иного музыкального произведения. Примечательно, что в Приложении органично уживаются между собой слова, заимствованные из четырех языков (трех живых и одного мертвого) с переводом на пятый, доступный читателю.
К нижеследующему Приложению рекомендуется обращаться при непосредственном столкновении с каким-либо из терминов при чтении, в особенности тем, кто не имеет музыкального образования. Это позволит наиболее точно услышать звучание музыки, которая проходит позади первичного – словесного – уровня и наделяет его дополнительным смысловым подтекстом, тем самым увеличивая пространство книги в глубину.
Указатель звуковых ориентиров Aatempo – в прежнем темпе. Ремарка относится, как правило, к моментам возвращений, после вторжения контрастных эпизодов
accelerando – постепенно ускоряя движение, переходя с шага на легкий, а затем и довольно быстрый бег, но, впрочем, не доведенный до одышки
adlibitum – по желанию исполнителя, полагаясь на ритм собственного сердца и внутреннюю пульсацию крови, совпадающие с дыханием музыки
agile – легко, бегло, полетно, одним прыжком отталкиваясь от земли
agitato – взволнованно, возбужденно, нервно шагая по комнате и хватая воздух руками
alla – в духе, в характере
allegretto – немного сдержаннее и танцевальнее, чем следующий термин
allegro – скоро, быстро, не задерживаясь лишний раз ни на минуту – всякое может случиться из-за непредвиденной заминки, потому что неизвестно, кто и зачем бежит сзади
amabile – приветливо, любезно, дружелюбно глядя собеседнику в глаза
andante – не спеша, спокойно, рассудительно, может быть, даже созерцательно
andantino – немного подвижнее и легкомысленнее, чем предыдущий термин
animato – воодушевленно, вдохновленно, словно подчиняясь порыву теплого волшебного ветра
appassionato – страстно, горячо, экзальтированно, якобы пребывая в тяжелом лихорадочном состоянии
assai – весьма
attaca – внезапно, без какого-либо перехода, избегая пауз и остановок – для создания эффекта яркого контраста
Bbelebt – живо, оживленно
bruscamente – грубо, резко; подобно тому, как рубят деревья
burlesco – комически, откровенно потешаясь
Ccadenza – особый раздел музыкального произведения, в котором звучит кульминационное высказывание, из чего многое становится понятным. Каденции очень удобны для того, чтобы расставить все точки над i, а посему обычно помещаются в третьей четверти формы произведения или же в конце. Впрочем, возможны и исключения
calmanto – успокаивая, поглаживая по оголенным нервам
cantabile – певуче, плавно напевая, словно выводя извилистую музыкальную линию ловким смычком
capriccioso – капризно, в зависимости от контекста – либо кокетничая, либо устраивая легкий скандальчик, но в любом случае должны быть слышны интонации женского голоса
conamore – с любовью; более подробно – с тайным трепетом, с замиранием сердца, с восхищением, с огромной нежностью и глубокой печалью одновременно, а также со всеми прочими известными вам компонентами, которые составляют искренне и противоречивое чувство настоящей ЛЮБВИ
condolore – с грустью и невыразимой печалью, что таится на обратной стороне луны и в каждом осколке разбившейся тени
conforza – с силой, ударяя по каждому слову, абсолютно не жалея о том
congrazia – с грацией и элегантностью, с невыразимым и совершенным изяществом, присущим только самым тончайшим материям, из которых сотканы живые существа
congrotesk – с гротеском, откровенно издеваясь, нарочно обостряя углы и обрезая закругленности, способные смягчить резкую диссонантность звучания
conmoto – с движением, рассчитывая куда-то успеть
conpreghiera – с упованием и мольбой ко Всевышнему, беззвучно, одним шевелением губ произнося молитву, трепетно касаясь клавиатуры
concitato – взволнованно, возбужденно, страстно
Ddeciso – решительно, руководствуясь твердой волей и холодным разумом
disinvolto – непринужденно и просто; так обычно говорят о самых банальных и естественных вещах, например, о погоде или о рассаживании цветов
doloroso – очень печально, проникая в самые отдаленные уголки души
doux – нежно, мягко, с некоторым спокойствием и умиротворенностью, но в той лишь степени, в которой это состояние свойственно французам
duramente – грубо, жестко, не выбирая слов и выражений, не жалея клавиш, не задумываясь о последствиях и доставляемой адресату боли
Eespressivo – выразительно, с полным набором чувств, эмоций, мимики и характерных жестов наподобие грациозных поворотов кисти и изгибов шеи
Fferoce – неистово, дико, с агрессивными повадками хищного зверя, сверкающего из темноты опасностью
funebre – скорбно, мрачно, угрюмо, одевшись во все черное, прикрыв глаза и изо всех сил сдерживая раздражение
furioso – бешено, яростно, подобно демоническим фуриям или в характере разыгравшихся стихий
Ggiocoso – шутливо, весело, как проказничают и радуются шаловливые дети
grave – важно, степенно, значительно, каждый звук имеет немалый вес, поэтому между ними рекомендуется делать паузы и брать дыхание
Hhumoreske – миниатюра-зарисовка юмористического характера
Iinfernale – дьявольский, наводящий ужас и страх; звуки, рожденные в самых последних кругах ада
inqueto – тревожно, обеспокоенно, повинуясь нехорошему предчувствию, внешне якобы совершенно необоснованному
intimo – интимно, откровенно, задушевно, поверяя собеседнику наиболее скрываемые от посторонних глаз затемненности
irato – гневно, раздраженно, с напряженной внутренней пульсацией и дрожью в голосе
ironico – иронически, насмешливо
Llamentabile – в высшей степени жалобно, сетуя на злую судьбу, тяжелую участь, невыносимую ношу, неудобный крест и прочие неотъемлемые явления бытия подобного рода
leggiero – по-летнему беззаботно и легко, порхая цветной бабочкой среди роскошных благоухающих цветов
leise – негромко, сдержанно
limpido – утренне-ясно, родниково-прозрачно, кристально-чисто, с легкой улыбкой на устах младенца
Mmaestoso – торжественно, под звуки триумфального марша, с горделивой осанкой, прямой спиной, грудью колесом и властным взором
marcato – подчеркивая, словно подстраивая под каждый звук более прочный фундамент, для опоры
meditation – размышление, длительное и неспешное раздумье, погруженность в себя, рекомендуется прием самого глубокого прикосновения
mesto – печально, с затаенной ноткой скорби и безысходности
misterioso – таинственно, внушая всем видом намек на существование некоего откровения, постичь которое возможно только избранным
moderato – умеренно, т. е. соблюдая во всем меру
morendo – замирая, застывая на полувздохе, полужесте, полуслове, что характерно для полного и бесповоротного наступления тихой осени
Nnarrante – говорком, рассказывая о вещах обыкновенных, служащих скорее фоном для основных событий, но без которых обойтись совершенно невозможно – как невозможно вырастить что-либо живое на камнях
nontroppo – не спеша, размеренно, в темпе спокойного и неторопливого шага – так прогуливаются по пустынным коридорам официальных заведений в ожидании
Ooverture – вступительный раздел небольшого музыкального произведения или же самостоятельная часть крупного жанра (оперы или балета), открывающая своим звучанием занавес и раскрывающая слушателям особенности и законы предстоящего мира
Pparlando – быстро проговаривая, время от времени переходя на шепот, после чего вполне правомерно вновь набирая полную силу звука – в зависимости от контекста
pensieroso – задумчиво, мягко погружаясь в клавиатуру подобно тому, как рука уходит в воду, приобретая особую плавность и размытость контуров
piumosso – более подвижно, чем до сего момента; такое бывает, когда внезапно вспоминаешь о чем-то важном или новая мысль приходит в голову и заставляет действовать
pittoresco – живописно, картинно, якобы рисуя звуками и гармониями, которые используются в данном случае вместо красок, полотна удивительной естественности и неподражаемой красоты
poco – постепенно, более, шаг за шагом
pompоso – пышно, важно. Исполнитель, которому в тексте музыкального произведения встречается такая ремарка, должен непременно представить себя на феерическом балу эпохи барокко, облаченным в роскошный наряд. Иначе выполнить требования автора будет практически невозможно
Qquasi – термин волшебный. С его помощью музыка способна перевоплощаться в то качество, характер или жанр, который указан рядом. И тут важно очень верно подметить новое настроение звучания, дабы не напяливать на музыку откровенно-фальшивую маску
Rrecitativ – речитатив, форма мелодико-речевого декламирования, посредством которой слушатель узнает о событиях, происходивших за кадром, но повлиявших на развитие действия самым непосредственным образом. В чисто инструментальной музыке применяется в качестве отдельного фрагмента повествовательно-декламационного характера
resoluto – решительно, собранно, готовясь к важному сражению или выполнению ответственного задания
ritardanto – расширяя пространство, главным образом за счет запаздывания, растягивания времени и более свободного и глубокого дыхания
ritenuto – сдерживая, несколько замедляя ход событий, придавая тем самым звучанию большую значимость и подчеркивая содержательность текста
rubato – свободно, ориентируясь на предыдущее указание и на собственное усмотрение, исходящее от чувства музыки
Ssarabanda – сарабанда, траурно-танцевальный жанр-шествие, входящий в инструментальную доклассическую и классическую сюиту. Отличается сдержанностью темпа, спокойствием и размеренностью трехдольного метроритма с характерной остановкой на второй доле. Несет в себе оттенок скорби и печали
scherzando – скерцозно, шутливо, забавляясь
scherzo – скерцо, самостоятельный жанр инструментальной музыки, а ранее – отдельная часть сонатного цикла с ярко выраженным игровым характером. В зависимости от контекста скерцо может быть в равной степени как добрым и простодушным, так и остро-конфликтым, трагичным, злым etc.
sciolto – свободно, непринужденно, с ощущением абсолютного отсутствия границ и преград, и от радости, и из непривычности подобного чувства – несколько порывисто, бурно, даже резковато
secco – сухо, жестко, отрывисто, словно разговаривая с недоброжелателем, процеживая слова сквозь зубы
semplice – просто и ясно, естественно и легко; исполнитель обязан проникнуться чувством комфорта и уюта домашнего очага, ощутить себя в кругу самых близких и родных людей, с которыми можно быть самим собой
serioso – серьезно, пристально и напряженно глядя в глаза; звукоизвлечение плотное, но задерживаться все же не рекомендуется
sforzando – неожиданно громко, вскрик. Действие ремарки распространяется на относительно краткий отрезок времени – от одного звука до нескольких аккордов подряд
solo – соло, эпизод-монолог, высказывание от первого лица, обычно содержит в себе откровение исповедального характера. В форме произведения имеет особенно важное значение
sostenuto – сдержанно, проверяя и обдумывая каждый шаг
sottovoce – особый эффект звукоизвлечения, дословно переводимый как «вполголоса». Если учитывать то обстоятельство, что вполголоса, равно как и шепотом, принято говорить о вещах, имеющих конфиденциальный характер, то имеет смысл внимательнее прислушаться. Обычно композитор использует сей «обманный» прием, дабы все затаили дыхание и в тихих призрачных звуках научились отчетливо слышать музыку
souvenir – воспоминание. Вырывается из звучания основного текста особенным качеством полузатаенности, как может звучать музыка в отдалении или под покрывалом плотного и густого тумана. Легче всего такого характера звучания добиться путем нажатия левой педали рояля и прикрытия глаз исполнителя
stepstomacabre – причудливое сочетание английского слова «шаги» и осколка латинского термина dans macabre, в переводе означающего «танец смерти». Что получается, догадаться нетрудно. Дополнительный штрих вносит приближающий предлог to. Играть следует подчеркнуто механистично и бездушно, безропотно повинуясь неотвратимой воле рока
stravagante – фантастично, со странностями, близко к помешательству или проникновению в ирреальность бытия
subito – внезапно, с высоты камнем вторгаясь в плавное течение реки, взрывая водную гладь и поднимая фейерверк брызг, уходя одновременно на глубину
Ttempoprimo – возвращение к первоначально заданному темпу, после странствий – на круги своя
tenebroso – мрачно, таинственно, оминоривая прикосновением самые мажорные гармонии, устраняя тем самым последние блики солнечного света и целиком вступая в царство теней
tranqillo – спокойно, в некоторой степени безмятежно, но с непреходящим подозрением, что это спокойствие и умиротворенность – всего лишь видимость
triumfal – триумфально, ликующе и торжествуя, победно шествуя «со щитом» под главной аркой. Здесь можно смело добавить солнца и громкости в звучание, поскольку небесный свет десятикратно преумножается в отражении от сверкающих лат, оружия и глаз победителя
Uunruhig – беспокойно, взволнованно, закручивая воронкой мутную и шероховатую поверхность, поднимая с глубины ил и песок; так чувствует себя кошка при встрече с невидимой опасностью, когда у нее дугой выгибается спина и шерсть встает дыбом
Vviolento – бурно, неистово, стремительно, горно-речно, с размаху обрушиваясь на клавиши, ощущение неограниченной свободы и силы
vivace – оживленно, проворно, весело и жизнерадостно
vivo – скоро, живо; от предыдущего термина отличается большей сосредоточенностью и целеустремленностью, что никоим образом не сказывается на темпеДиалог с паузами
Быть может, всемирная история – это история различной интонации при произнесении нескольких метафор
Х. Л. Борхес. («Сфера Паскаля»)
– Нет ничего лучше, чем сидеть у огня на исходе дня и слушать треск и говор сгорающих сухих веток, и видеть живую игру угольев, завораживающе красивую…
– В надвигающихся сумерках бескрайность полей кажется пугающей…
– … завораживающе, завораживающе красивую…
– Меня охватывает неведомый страх. Разве ты не чувствуешь, что сегодня что-то должно случиться?
– …завораживающе, безумно красивую…
– Брат не слышит меня. Нас всегда было двое, но я был одинок, глубоко одинок.
– Ты что-то говоришь мне?
– Нет, нет. Я просто беседую сам с собой.
– О чем же?
– О беспредельности пространств.
– Да, ты прав, совершенно прав. Беспредельность полей потрясает необыкновенно. А эти звезды – ?! Взгляни на небо: вон там, в сгущающейся синеве, виднеется маленькая, едва различимая планета…
– Одинокая…
– А? Ты что-то сказал? Так вот, планета… Посмотри повнимательнее: неопытному глазу может показаться, что вокруг сияющей звезды нет ничего, кроме беспредельного разреженного пространства или, напротив, сгущенной туманности. Но на самом деле это не так, вовсе нет…
– Неужели?
– На самом-то деле ее окружают бесчисленные миллиарды таких же планет!
– Почему же их тогда не видно?
– Они не видимы потому, что не наделены божественным сиянием. Они не звучат, они мертвы. Звезда затмевает их своим свечением, звуковым потоком.
– Ты хочешь сказать, что эта маленькая звезда может излучать не только свет, но и звучание? Разве это возможно?
– О, это не подлежит сомнениям! Дорогой мой брат, это непреложная истина!
– Почему же мы ничего не слышим?
– Тс-с-с! Замри, притаись, закрой глаза, забудь о дыхании… Слушай!.. Ну, как? Слышишь?
– Слышу… как трещат поленья в огне. Сгорают, превращаются в уголья.
– Да нет же! Ты слышишь совсем не то! В твоих ушах звучат лишь знакомые звуки, земные. Попробуй еще раз: там, вдали, в бескрайних просторах космоса, в лабиринтах времен – звучит мелодия! Она пронзает всю ткань Вселенной. Ритм музыки сфер подчиняет себе все живое, заставляет сердца пульсировать в такт… Ну же, прислушайся! Она звучит достаточно отчетливо, чтобы расслышать ее за треском поленьев и танцем язычков пламени, чтобы услышать ее отзвук в бликах огня.
– Я ничего не слышу, ничего не слышу.
– Мелодия – удивительно красивая, безумно, завораживающе красивая! Звучит, наполняет вселенской гармонией все сущее… Раз-два-три, раз-два-три…
– Ничего не слышу… Все это самый обыкновенный бред! Ты сам выдумал эту сказку, как обычно, с одной лишь целью: чтобы построить между нами непреодолимую преграду, непроницаемую стену! Чтобы еще раз подчеркнуть, насколько мы разные, что ты одарен привилегией – называй это как хочешь, пусть даже и божественным сиянием, как эта звезда, а я – нет! Я – лишь твое множественное, безликое, мертвое, холодное, чуждое окружение!!! Ты хочешь, чтобы я поверил в это. Так вот, – слышишь? – вот что я тебе на это отвечу: планета звучит только у тебя в мозгу, а на самом деле никакой мелодии, никакого звучания и нет!
– Нет?.. Как же нет, если она звучит? Музыка не может смолкнуть лишь оттого, что кто-то не может ее понять… Имеющий уши – да услышит.
– …
– ???
– …Прости, это я сгоряча. Словно что-то оборвалось у меня внутри, где-то вот здесь, под сердцем… Что это на меня нашло? Наверняка виной всему темнота. Эта беспредельность пространств – и на небе, и на земле – меня пугает, повергает в ужас, в леденящий ужас.
– Что с тобой, брат мой? Я никогда не видел тебя таким. Ты начинаешь всерьез тревожить меня. Что тебя так пугает? Я слышу в твоем голосе напряженность, натянутость до предела всех струн твоей души.
– Это ничего, это пройдет. Подбрось поленьев в огонь, холодает… Вот, так лучше, светлее.
– Ты весь дрожишь! Сядь ближе к огню, я обниму тебя, быстрее согреешься.
– Не нужно. Мне вполне достаточно греться на расстоянии. Нет, не приближайся ко мне: я боюсь!
– Чего? Я не понимаю – чего ты боишься?
– Обжечься…
– Не беспокойся, искры от костра не долетят до тебя.
– От костра… Знаешь, брат, я должен тебе что-то сказать. Объяснить кое-что, чего я и сам еще не совсем понимаю. Так или иначе, выслушай меня, и тебе станет все понятно. Если ты, конечно, хочешь меня понять.
– Конечно, я буду рад выслушать тебя. Я весь внимание.
– Тогда посмотри, как дышит огонь в угольях. Ты увидишь, как это будет всегда…
История первая. Лицом к лицу Россия, последний год XX века
allegro maestoso burlesco
«Это был триумф! Полнейший, совершеннейший, невероятнейший – триумф!!!
Мои песни, почти сразу же ставшие шлягерами, распевала вся стотысячная тусовка! Сей факт о чем-либо говорит?! Не подтверждает ли он то, что я – гений?
Я – гений! Да, да и да! По-моему, на этот счет ни у кого (ни у единого человека на земном шаре! – за исключением глухих, разумеется) не осталось никаких сомнений. Мной и моей музыкой восхищается вся страна, да что там страна – весь мир от меня в восторге. Вот, пожалуйста, мои портреты на обложках самых крутых журналов мира! Оскар Каннский! Это имя должно звучать подобно колоколу!
Не даром же я его так тщательно выбирал среди многих тысяч существующих имен!..» – говорил себе мысленно человек весьма невеликого роста, с невыразимой любовью и нежностью созерцая собственное отражение в зеркальной стене. Он бы с гораздо большим удовольствием произнес вышеизложенную речь вслух, но, увы, не имел таковой возможности.
Словам похвалы и гордости было слишком тесно внутри, и они то и дело прорывались наружу, правда, несколько не в том виде, в котором хотелось бы.
Вместо торжественного декламирования из ванной комнаты доносились лишь невразумительные междометия, чередуемые с крепкими непечатными выражениями, из чего читателю становится совершенно ясно, что человек пребывал в состоянии достаточно сильного опьянения. Лучи славы, изливающиеся на прогрессирующую лысину из многогранного хрустального шара-светильника, подвешенного под потолком, казались неземным сиянием, едва ли не священным нимбом. Человек, чуть покачнувшись, наклонился к зеркалу и лукаво подмигнул ему: мол, нам-то с тобой известно, чего стоит добиться столь громкого, ошеломляющего успеха!
Оскар Каннский, при рождении получивший более простую и незатейливую русскую фамилию Артемьев и впоследствии с легкостью отрекшийся от нее, в данный момент был явно доволен собой. Доволен и горд как никогда. И, надо признать, причина тому была.
Дело в том, что Каннский, числившийся уже не первый год в первых рядах создателей поп-шлягеров, приобрел наконец пусть и не всемирную, как льстил ему опьяненный триумфом и изрядной дозой алкоголя разум, но во всяком случае уж всероссийскую известность наверняка. Тот факт, что не далее как сегодняшним утром его имя упоминалось в перечне шлягеров, исполняемых отечественными поп-звездами на фестивале в Монте-Карло, еще ни о чем не говорил. Тем не менее именно он стал поводом последующего банкета, который Каннский незамедлительно устроил в свою честь.
Сознание вновь переместило его из зеркальной ванной в банкетный зал. На пиршество, так кстати приуроченное ко дню рождения «маэстро», явились не только поп-звезды, друзья, шоумены, именитые продюсеры. Нет, в этот раз все было не так скромно, как раньше. Каннский набрался храбрости и пригласил ведущих представителей прессы, и даже телерепортеров – только на торжественную часть, разумеется.
Десятки пар внимающих глаз и ушей, с жадностью ловящих каждое сказанное им слово в портативные диктофоны, яркий свет мощных прожекторов, объективы телекамер, направленные на его важную персону, как и прочие проявления внимания и восхищения, – все доставляло маэстро невыразимое удовольствие.
«Так и должно было быть!» – с гордостью думал Каннский, нисколько не скрывая своего отношения к происходящему. Его самодовольный вид внушал почтение всем присутствующим и не оставлял ни тени сомнений в его гениальности, которая отныне стала общепризнанной.
Но даже в огромной бочке меда не обходится без ложки дегтя.
con forza
И кто только пустил этого идиота в банкетный зал!
Вернувшись из банкетного зала обратно в ванную, Каннский почувствовал себя препаршивейше. Он подошел к перламутровой раковине и открыл блестящий кран. Старые методы действовали эффективнее всяких новомодных разрекламированных препаратов, якобы полностью снимающих синдром похмелья. Куда там! Оскар лучше всяких специалистов знал особенности собственного организма – в подобных ситуациях его спасало лишь средство безвозвратно ушедшей в прошлое молодости: сунуть разгоряченную голову под кран с холодной водой, а еще лучше – забраться целиком под бодрящий душ. Но на второй вариант у него не хватало ни храбрости, ни сил, ни желания.funebre
Ледяная вода сделала свое дело. Отрезвленный насильственным вмешательством противной мокрой стихии разум выдал отчетливую картинку-эпизод прошедшей вечеринки. Каннский поморщился: даже капли воды, стекающие за шиворот и вызывающие дрожь про всему телу, казались не такими неприятными, как омерзительный образ придурковатого молодчика-репортера.
Уже один вид этого тощего дебила с ярко-красными паклями, свисающими вдоль бледно-зеленого лица, внушал подозрение и отвращение. Молодчик, еще та паршивая овца, испортил всю малину – и если бы это ограничилось только его внешним видом!
Ненавистный репортер оказался невероятно проворным и первым пробрался к маэстро, окруженному фанатами и почитателями. И надо же было такому случиться, что в тот момент, когда он обратился к объекту всеобщего обожания, все, как по знаку невидимого дирижера, замолкли, выдержали паузу, длящуюся ровно столько, чтобы в наступившей тишине явственно прозвучал гнусавый голос молодчика – будь он неладен! Самое страшное, как выяснилось, было в том, что репортер попался заикающийся.
Да, среди представителей прессы заики попадаются весьма редко. Их процент составляет приблизительно один из ста. Но в самый ответственный момент может произойти все что угодно, и даже невозможное. И это невозможное случилось: в воцарившейся на мгновение тишине гнусавый голос громко произнес:
– Гос-господин Кан-каннский!..furioso sforzando
Надо же было этому придурку так не вовремя заикнуться и опошлить его блистательное имя!!!
Оскар брезгливо поморщился, зеркало тут же вернуло ему в ответ перекошенную агрессией физиономию, отчего мир не стал казаться краше. Кан-каннский! Вот так одним махом взять и превратить красивое, звучное имя в обыкновенное издевательство.burlesco
Вся светская публика едва сдержалась от смеха. Оскар был уверен, что опошленный вариант имени еще прозвучит не раз, теперь все его недоброжелатели непременно уцепятся за это прозвище! Мысленным взором он уже видел смешливые статейки на страницах желтой прессы с интригующими названиями типа «Новое имя: Оскар Кан-канский!»
У-у-у, злодеи!tranqillo
Неожиданно приступ злости и раздражения отступил. Возможно, этому поспособствовал стакан, некогда служивший для полоскания рта, а ныне слетевший с полки на мраморную плитку и разлетевшийся вдребезги – не без участия хозяйского кулака, ясное дело.
Каннский успокоенно созерцал деяния рук своих. «Да плевать я хотел на эту прессу, на этих тявкающих шавок и мосек – я, Оскар Каннский, Каннский и никто иной, создатель музыки современности, должен быть выше их дрязг и злостных насмешек. Их нужно пожалеть: они ведь, бедолаги, не могут понять главного, им не под силу осознать и оценить по достоинству всю широту и мощь моего таланта!»
– Оскар! Ося! Это ты так гремишь? – послышался из-за двери испуганный женский голос, прервав тем самым сеанс психологического аутотренинга.
Вероника, законная жена Каннского, как подобает подавляющему большинству законных жен, прекрасно знала все особенности и привычки мужа. Грохот и всплеск осколков подсказывал ей, что супруг пребывает отнюдь не в благостном состоянии духа, как, впрочем, и тела.morendo
Она осторожно приоткрыла дверь ванной комнаты, но заглядывать пока не стала, опасаясь, как бы участь разбитого стакана не настигла бы любой другой предмет, который на сей раз мог бы полететь не на пол, а в дверь, например.
Убедившись, что ее вторжение не повлекло за собой дальнейшего нещадного истребления предметов гигиены, Вероника просунула голову в щель и обнаружила супруга, аккуратно и совершенно мирно вытирающего голову пушистым полотенцем.
– Ося, что у тебя упало? – уже более уравновешенным голосом произнесла она.
– Да так, пустяки, – Оскар улыбнулся жене. Улыбка вышла несколько вымученной и неестественной и походила скорее на кривой оскал.
– Как прошел банкет?cantabile semplice
Вероника никогда не посещала мероприятий и торжеств, связанных с работой мужа. Она вела скромное существование тихой и уютной домохозяйки, будучи довольной своей судьбой, по велению которой робкая девочка из провинции, случайно очутившись в столице, встретилась с начинающим шоуменом, пописывающим симпатичные мелодии, и уже в скором будущем обрела собственный дом со всеми мыслимыми удобствами и даже некоторыми излишествами, типа зеркальных стен в ванной, которых она до сих пор втайне сторонилась.
Светской львицей Верочка не смогла стать – это было выше ее сил. Но супругу и не нужно было вовсе держать подле себя диких хищников, на торжествах он прекрасно обходился без нее. Зато тем больше ценил жену за ее нежность и заботу, за умение создавать уют домашнего очага и, конечно же, за ее неподдельное, искреннее восхищение его талантом.
Вероника усматривала в лице, нет – в светоносном лике супруга воплощение музыкального гения. Его музыка постоянно звучала в радиоэфире, к нему то и дело наведывались клипмейкеры, о нем писали и вещали, его имя было у всех на устах. Верочка всегда была уверена, что шлягеры мужа поистине гениальны, а сам он не кто иной, как великий композитор современности.
Самое приятное для Каннского заключалось в том, что таким же преданным и влюбленным взглядом на него смотрели тысячи, а может быть, и миллионы фанатов. Звезды эстрады слезно умоляли его написать для них еще пару-тройку новых песен, а за альбомы предлагали целое состояние. А что его ждет теперь, после того, как его песня прозвучала в Монте-Карло! Безусловно, с сегодняшнего дня на голову маэстро обрушатся золотые горы, и к этому надо быть готовым. Нужно принять дары и приношения с достоинством и без лишних эмоций…
– Оскар, ты меня слышишь? Я спрашиваю, как прошел банкет.
Вероника протиснулась в дверную щель целиком и с нетерпением, которое смахивало скорее на беспокойство, ожидала ответа. Оскар медленно перевел затуманенный взгляд в ее сторону и тяжело вздохнул. Предстоял разговор.capriccioso
Телефонный звонок раздался ни свет ни заря – в полдесятого и вырвал именитую личность из тяжелого сна. Благо, заботливая Верочка быстро схватила трубку, избавив тем самым супруга от невыносимых терзаний для его тонкого и чувствительного музыкального слуха. На том конце провода разговаривать с ничего не смыслящей в делах мужа Верочкой не пожелали и настойчиво требовали разбудить звезду.
– Алло, Оскар? Почиваешь на лаврах? Как можно до сих пор дрыхнуть?! Это просто непозволительно! – послышался голос друга, который одновременно приходился Каннскому и продюсером. Такое тоже иногда случается. – Вставай немедленно: тебя ждут великие дела! Тут меня уже звезды достали, требуют контрактов. В общем, если через пятнадцать минут я не буду иметь безграничное удовольствие созерцать твою опухшую физиономию в кресле напротив, то напущу на тебя всех вымогателей. Выброшу им на съедение номер твоего сотового, и потом выкручивайся сам как знаешь.
Угроза подействовала моментально. Для полного счастья не хватало только поминутно воющего под ухом мобила! Для начала Каннский хорошенько потянулся, принял чашку горячего кофе из рук супруги, после чего встал – лениво и неторопливо, как и подобает привилегированной особе, подошел к синтезатору и сбацал кан-кан, для поднятия настроения.con grotesk
И тут перед глазами, прямо на белых клавишах материализовалась омерзительнейшая зеленая физиономия, обрамленная ярко-красными паклями, и сквозь веселенький наигрыш совершенно наглым образом пробился гнусавый заикающийся тенор… Тьфу ты, нечисть!
Легкомысленная мелодия оборвалась на полуфразе смазанным аккордом-кляксой. Раздраженный маэстро мысленно взвыл и ударил всей пятерней по клавишам. Образ зеленого репортера помог ему мобилизовать свои силы и собраться в максимально короткий срок. Можно сказать, молодчик своим появлением на клавиатуре оказал Каннскому неплохую услугу, доставив его к продюсеру через положенные полчаса и избавив тем самым от домогательств фанатов и нашествия заказчиков.scherzando
– Вот смех-то! – продюсер, восседающий на высоком вертящемся стуле, подобно петуху на нашесте, помахивал диском и радовался как ребенок. – Ося, ты будешь в полном восторге от нового диска наших конкурентов!
– Лажа? – осведомился вошедший Ося, плюхнувшись, как и было велено, в громоздкое кожаное кресло напротив.
– Полная! Откровеннейшая! Всем лажам лажа! – продюсер прямо-таки подпрыгивал, словно на сиденье была прикреплена пружинка, и светился от счастья. – Твоим хитам и в подметки не годится!
– Покажешь?
– О\'кей!
Продюсер без лишних слов и жестов ловко крутанулся к центру и поставил диск.
– Это из серии «Nature». Вот, например, якобы «Шумы океана». Слушай!
Каннский для создания более комфортной атмосферы зажег сигарету и откинулся на мягкую спинку. Из динамиков послышался неясный и постепенно нарастающий шум, откровенно напоминающий что-то, весьма отдаленно связанное с океаном.
– Каково?! – радовался продюсер. – Слив в общественном толчке пытаться выдать за шумы океана! И вся эта прелесть в течение восьми с половиной минут!
В ответ на излияния восторгов эмоционального друга Оскар кивнул: «давай дальше» и выпустил клубы табачного дыма. Продюсер тут же уловил пожелание и взял пульт.
– А вот эти верещания выдаются под вполне благопристойным названием «Райские звуки»!
Где-то в условиях экваториальных тропиков на фоне шороха листвы и стрекотания экзотических насекомых пронзительно закричала обезьяна, затем к ней присоединилась другая.
Каннский недовольно поморщился: животных, в особенности диких, он не любил. Продюсер тут же коснулся пульта.
– Ну и напоследок: потрясающая фишка! Уверен, тебе понравится! Называется «Музыка природы»!
«Ну вот, еще какие-нибудь клекотания и рычания!» – недовольно подумал Каннский, но, к его непомерному удивлению, ничего подобного он не услышал. То, что создатели сих бессмертных творений пытались выдать за музыку природы, было не чем иным, как общеизвестным поп-классическим «Полонезом» Огиньского.
«И к чему же тут природа?» – намеревался было полюбопытствовать Каннский, но его интерес, по-видимому, запрограммированный авторами, немедленно был удовлетворен: на фоне заунывно-шарманочного «Полонеза» вдруг что-то зачирикало.
– Ну как?! – ликовал продюсер. – Круто, а? Надо отдать должное их неуемной фантазии! Признайся, Каннский, тебе бы и в голову не пришло так издевнуться!rubato con dolore
Каннский был вынужден согласиться: да, не пришло бы. Но такой грандиозной радости вопреки ожиданиям продюсера знакомство с диском ему не доставило. «Лажовый» диск по необъяснимым причинам ему понравился и одновременно разбудил кошек, которые жили внутри и, время от времени просыпаясь, скреблись на душе.
Маэстро зацепило выражение «неуемная фантазия», которым продюсер метко охарактеризовал создателей диска. Дело в том, что фантазия, весьма и весьма ограниченная, просто непозволительно скромная для музыканта таких масштабов, была уязвимым местом Каннского, его ахиллесовой пятой. В этом он мог признаться только себе, и то – лишь в тот момент, когда никто не видит, дабы никто случайно не догадался по выражению лица гения о терзающих его душу сомнениях. Нот в музыкальном звукоряде было всего семь, и ему не оставалось ничего другого, как принять этот факт и выкручиваться по мере своих возможностей.
Все хиты именитого маэстро строились преимущественно на одних и тех же гармонических последовательностях, известных миру с доклассических времен. По сути, вся нынешняя эстрада представляла собой не что иное, как комбинации и варианты пяти-шести аккордов, на основе которых рождалась мало-мальски приятная и – главное – хорошо запоминаемая мелодия.
Талант Каннского состоял в том, что ему удалось разгадать секрет технологии создания шлягеров: заводящий ритм, неперегруженная аранжировка, минимум текста преимущественно на любовную тематику, актуальную во все времена, ложащаяся на слух мелодия – и дело наполовину в шляпе. Оставшейся половиной служат такие подсобные, но не менее важные детали, как препоручение будущего хита суперзвездному исполнителю – для раскрутки, презентация новой песни в блестящей мишуре хороших отзывов и рекомендаций авторитетов шоу-бизнеса, благовременное создание симпатичного клипа, засилье хитом радиоэфира, после чего песня заучивалась слушателями в легкую, и прочее.
Незамысловато чередуя тонику, субдоминанту и доминанту, маэстро умудрился сотворить десятки поп-шедевров, многие из которых стали безусловными хитами и начали распеваться населением в разгаре всевозможных увеселительных мероприятий вместе с любимыми народными «Ой, мороз, мороз» или «Вот кто-то с горочки спустился».
Одним словом, Каннскому можно было без ложной скромности присудить почетное звание Великого Комбинатора.
Впрочем, сам он отдавал себе отчет в том, что его песни неумолимо похожи одна на другую и что скоро, очень скоро «рыжие вихры примелькаются, и вас, Шура, начнут бить» – иначе говоря, эту схожесть и однотипность услышат все, даже полные профаны.
Положим, какое-то время он еще сможет продержаться на небосводе эстрадных светил, его еще будут почитать, и новые песни будут востребованы главным образом благодаря созданному сегодня громкому имени. Но на эстраде то и дело появляются все новые и новые лица, типа Дэцла или Тату, в попытке пробиться со своей музыкой, причем некоторые из них представляют довольно серьезную опасность для пригревшихся в ярком свете прожекторов старожилов.
Прозорливый Каннский уже заглядывал в это неопределенное будущее и ничего утешающего там не нашел, кроме как постепенного стирания его славного имени поначалу с эстрады, из уст народа, а потом и вовсе – бесследное исчезновение из истории музыкальной – пусть и массовой, но – культуры. Увиденное не устраивало шлягерника никоим образом. Он, ясное дело, догадывался, что искусственный способ творения предполагает недолговечность существования, тем более в такой бурной и быстротечной реке, как современная эстрада.a tempo
– Неблагодарная все же работка, – вздохнул Каннский. Вздох получился вслух, да еще и явился ответом на вопрос, заданный продюсером по поводу демонстрируемого им диска пару страниц назад. Впрочем, реального времени за горестными сетованиями и размышлениями Оскара прошло всего ничего – собеседнику только лишь показалось, что друг на мгновение задумался над оценкой.
– Ты о чем? – не понял продюсер.
Расстроившийся Оскар хотел было сделать исключение из правил и поделиться с приятелем своей бедой, но в этот миг раздался спасительный стук и, не дожидаясь разрешения, в кабинет ввалилась кучка журналистов с диктофонами и просьбой ответить на пару маленьких вопросиков. Помимо того, пришлось уступить требованиям фанатов и подписать пару альбомов – так маэстро волею судеб был отведен от греха подальше, а продюсер избежал исповеди и постыдного признания великого гения в собственной немощи.solo quasi marsh funebre
Вот он: небритый и взлохмаченный, в старом вылинявшем свитере, сидит за роялем с карандашом в руке, скрючившись в три погибели, на коленях помятый партитурный лист, – и пишет, и пишет… Карандаш то и дело выпадает из пальцев, которые тут же привычным движением опускаются на клавиши и легким прикосновением озвучивают мертвые нотные значки. Возле пюпитра безобразная пепельница, полная окурков, вокруг рояля – тонны бумаги, линованной нотными строчками – пустыми, в трепетном ожидании свершения (что на сей раз доверит он ей в зашифрованном от посторонних ушей виде?), и уже заполненными, заполненными его музыкой.
Я мог бы быть счастливейшим человеком на земле, если бы не он. Но вся беда состоит в том, что я не могу избавиться от его присутствия, даже если отправлю его на край света.
Он – мой родной брат. И еще он – Гений. Самый настоящий, хотя и не признанный никем. И это моя пожизненная кара, тот камень, который тянет на дно и не позволяет взлететь.
Я могу заглянуть в комнату, дверь скрипнет – а он и не заметит. Куда там! Всем своим существом он в своей музыке, она заполняет его, оглушает так, что не достучаться! Что ему до чужих шагов, кому бы они ни принадлежали, до людей, ступающих по земле, – если он витает в облаках, парит, окрыленный звучанием!
Сутками напролет он сидит возле инструмента и работает, сжигая себя дотла. От него уже ничего не осталось – посмотрите, вам хватит одного поверхностного взгляда, чтобы убедиться в этом. Мне остается не так уж долго дожидаться того светлого момента, когда этот выродок отдаст Богу душу, прости Господи.
Мамаша подарила мне тринадцать счастливых и беззаботных лет, а потом выкинула штуку – умудрилась родить Андрея и перечеркнуть мне всю оставшуюся жизнь. Я уже тогда понял, что с его появлением на свет что-то кончилось. Для меня, конечно. Для мира – наоборот.
Он еще молодой. Но меня утешает, что избранный им (или предназначенный свыше?) образ жизни его до добра не доведет. Безвылазно сидеть в четырех стенах, забывая напрочь о еде и движении, – любой организм в таких условиях долго не протянет. Все попытки матери вытащить его из этого состояния не увенчались успехом. Он всякий раз отвечал, что ему нужно срочно кое-что оформить, зафиксировать, что у него не ни секунды лишнего времени на бытовые мелочи, что он может упустить в эту секунду что-то самое главное.
– Разве для такой жизни я родила ребенка? – однажды, незадолго до смерти, сказала мне мать. – Эта проклятая музыка, которая сидит в нем, губит его молодость! В двадцать три года ему бы подумать о семье, детях, любимой женщине, а он из-за рояля не выходит. Я больше не в силах видеть это… Это не жизнь.
Никогда раньше я не видел в ее глазах столько невыразимой и безысходной печали. Только в тот вечер она была со мной откровенна – один раз за тридцать шесть лет.
Я ей, помнится, тогда ответил:
– Ты родила его не для жизни, а для вневременья. Для жизни же сгодятся и такие, как я.
И был абсолютно прав.
Потому, что мой брат Гений. Как бы больно и невыносимо мне ни было осознавать это.
У него есть то, чем никогда, ни при каких обстоятельствах не овладеть мне. Это не имеет названия в переводе на язык слов, но если я скажу, что имею в виду некое мистическое состояние, напоминающее вдохновение, то вы меня поймете.
В нем есть та самая божественная искра, которая не позволяет ему не писать. Он – посредник, сквозь его физическое тело проходит мощный духовный канал, по которому из вселенского космоса на партитурные листы выливается музыка. Музыка гениальная. Он говорит, что слышит ее, просто-напросто слышит и записывает…
Этим-то мы и отличаемся друг от друга.
Парадокс: из нас двоих гениальностью наделен он, а не я, но тем не менее именно я – общепризнанный шлягерник, персона номер один на отечественной эстраде, любимый и почитаемый толпой, забрасываемый деньгами, цветами, гастролями и прочими лаврами, а он – неизвестный нищий композитор, влачащий жалкое существование в четырех стенах. Обо мне знают все, о нем – никто, кроме меня.
В принципе, меня устраивает подобное положение вещей. Но… как нас рассудит время? Наверняка найдется тот, кто обнаружит эти смятые листы и откроет миру имя Андрея Аrtемьева. И тогда эти закорючки, посыпанные пеплом, станут музыкой, неземной, божественной, поистине гениальной.
А я, пытающийся изо всех сил сочинять эти пресловутые хиты? Мои старания что, коту под хвост? Где же справедливость?!! Зачем ему вдохновение? Разве оно помогает ему в жизни? А вот мне дар гения ох как нужен. Есть ли Бог на этом свете, а если есть, то почему он отдал предпочтение ему, ему, а не мне?! Мне, тому кто трудится в поте лица, старается изо всех сил, пытаясь выжать из себя хотя бы одну по-настоящему гениальную мелодию?!
Я захожу сюда в те редкие моменты, когда он выходит из дома. Да, иногда вдохновение покидает его, и у него пропадает всякое желание к сочинительству. Тогда он неделями кутит где-то в общаге у друзей по консерватории, и не подает о себе никаких вестей.
По сути, мне плевать. Пусть бы и вообще не возвращался – надо мной бы не висел немым укором этот тяжкий груз. Но нет, он приходит, снова запирается в комнате, хватается за карандаш и пишет, пишет…
Он просит меня лишь об одном – не беспокоить его, поэтому я и бываю здесь в его отсутствие. Похожу по пыльному, затоптанному ковру, посмотрю на вид унылой осенней улицы за окном, вдохну прокуренный воздух полной грудью – может, таким способом в меня попадет хотя бы частичка его дара, витающего в атмосфере этой комнаты, может, вдохновение перепутает и случайно коснется вместо брата моей головы, и тогда в ушах зазвучит музыка.
Но нет, я ничего не слышу. Вероятно, он не оставляет свою гениальность в этой комнате, а забирает с собой. Я махну рукой и подберу небрежно исчерканные листы. Бог мой, ну и почерк! И кто разберет эти каракули? Пожалуй, заняться этим стоит мне. Посторонний человек не поймет в написанном ничего, да и кто знает, подпустят ли листы к себе чужих?
Я частенько занимался переписью музыки брата в более доступный вариант, делал собственные переложения оркестровых вещиц в двухручные фортепианные, а потом дрожащими пальцами прикасался к ним. И они звучали. Ухо музыканта всегда услышит несыгранные ноты, дополнит звуковой образ, дорисует то, что не в состоянии передать руки.animato con amore
Но что это была за музыка!
В ней сливаются и кружатся вихревые потоки, энергетические течения переплетаются между собой, звезды срываются со своих орбит, и среди этого вселенского хаоса звучит легкая и невесомая, нереальная, магическая, певучая – мелодия, сотканная из мириадов небесных светил.
Слово не властно передать и самую малость того, что есть в этой музыке. Она вселяется в душу, заполняет ее своим космосом, позволяет раствориться в пространстве, останавливает пульс времени…
Нет, я не могу касаться этой хрупкой ткани, я боюсь разрушить ее неловким прикосновением. Я даже не могу позволить себе занести эту музыку в компьютер – всякое вмешательство механического мира может погубить ее. Поэтому я переписываю от руки и бережно складываю в тайник, о котором не знает никто.
Андрей и не догадывается, что копии его сочинений хранятся в надежном сейфе в моем кабинете. Он совершенно не ценит ниспосланного на его дурную голову дара, обращается с ним, как со старыми калошами. Но такая музыка не должна кануть в небытие, я не могу допустить этого, несмотря на мое субъективное отношение к брату. Она не виновата, что выбрала в посредники именно его.lamentabile
Именно его, безалаберного и несносного мальчишку, который разбрасывается и музыкой, и людьми, будто ненужными вещами. Эти смятые листы, хранящие на нотном стане великую информацию о мире, валяются кипами под его ногами, и ему нет до них никакого дела. Словно все, что от него требуется, – это записать под чью-то диктовку. А позаботиться об исполнении, о реальном звучании в земных условиях ему недосуг.
О, если бы Бог наградил меня талантом, если бы ко мне приходили спонтанно возникшие идеи, если бы я мог услышать то звучание, которое якобы слышит он, – я бы все силы и умение направил на оформление этого звучащего хаоса. Я смог бы стать великим композитором, и эта музыка звучала бы уже сегодня!
– В тебе уживается невероятное противоречие. Из всего сказанного тобой я понял, что ты любишь меня.
– Разве? По-моему, в моей речи не проскользнула и тень этого слова.
– Есть вещи, которые понятны без слов. О них говорит музыка, которая пронзает своим звучанием всю вселенную. Она является той невидимой аурой, что окружает твои слова.
– Музыка, снова эта музыка.
– Теперь ты слышишь ее?
– Я слышу лишь треск поленьев. Они сгорают и становятся черными.
– Что терзает твою душу?tranquillo deciso
Впрочем, мне незачем здесь находиться. У меня есть своя работа, и в няньки к гениям я не нанимался.
Вон из этой комнаты! Видеть не могу этот бардак! К черту допотопный рояль! Время живой музыки давно прошло, на дворе двадцать первый век, смена эпохи и расцвет цивилизации. Только полный идиот может не видеть этих перемен и оставаться в плену прошлого.
Возможности электронных инструментов куда богаче. Будущее за компьютерной музыкой, несомненно.
Сяду-ка я за синтезатор и сочиню новый шлягер. Хиты для меня – плевое дело! В этом мне нет равных, во всяком случае, на нашей эстраде. И фестиваль в Монте-Карло в очередной раз подтвердил это. Меня окружают поклонники, за моими песнями звезды выстраиваются в очередь. Лавры, лавры…
Я уверен, меня ждет еще много подобных приятных моментов в жизни, потому что должно быть именно так, а не иначе.vivo burlesco leggiero
Верочка колдовала на кухне. Она парила в жарком пространстве между газовой плитой, холодильником, раковиной и столом. Ее проворные мягкие руки успевали делать практически все одновременно, словно не одна, а по меньшей мере три женщины занимались приготовлением ужина.
Сегодня она пекла чудесный пирог с курицей – любимое блюдо мужа. Верочка улыбалась и напевала мелодию, которая оказалась одним из шлягеров, сотворенных супругом: «Ты мой любимый мальчик, у нас с тобой любовь…» Ей было очень хорошо от мысли, что она каким-то образом причастна к таинству сочинения музыки. Пусть даже и в качестве организатора быта творца.
Верочка любила больше всего на свете радовать супруга, а пирог должен был послужить очередным стимулом к вдохновению. От такого вкуснейшего пирога не отказывался и его чудаковатый братец. Но чем бы его ни кормили, он все прожевывал автоматически, как будто не чувствуя вкуса.
Верочку поначалу обижало подобное отношение к ее кулинарным шедеврам, но потом и она привыкла. К тому же она извлекла из этого отличный способ скармливать рассеянному Андрею неудавшиеся кусочки.
Но на этот раз пирог удался на славу: его пряный аромат заполнил собой не только кухню, но и просочился по всему дому, зазывая его немногочисленных обитателей к столу. Вероника вытащила шедевр из духовки, сняла передник и полетела в рабочий кабинет мужа, не преминув задержаться на минутку у зеркала в прихожей.
– Осенька, ужин готов! – запела она, нерешительно открывая дверь и заглядывая внутрь.
Застав супруга склоненным над клавиатурой синтезатора, она поспешно отступила: Каннский не терпел вмешательства посторонних во время работы. Он боялся, что кто-то помешает ему и спугнет удачную мысль.Но на этот раз маэстро был снисходителен к заботам жены и соизволил откликнуться:
– Через пару минут буду, Верочка. А ты пока зайди к Андрею. Возможно, он проголодался. С утра ведь пишет.
– Хорошо, дорогой, – умиленно ответила Верочка, которая всегда поражалась терпимости мужа к выходкам этого сумасшедшего и непонятного субъекта.
Конечно, Андрей Оскару не чужой, и за ним нужно присматривать, но так усердно заботиться, не требуя взамен даже капли признательности и благодарности, – на это способен лишь человек с поистине ангельской душой и большим добрым сердцем!
В очередной раз восторгаясь бескорыстным благородством супруга, Вероника пошлепала дальше – в жуткую комнату его брата.
Андрей стоял возле окна и курил. Его темный силуэт четко вырисовывался на фоне рыжевато-желтого освещения уличной иллюминации, проникавшей золотистым потоком в комнату и, скрывая все ее уродство.
– Андрей, Оскар зовет тебя поужинать. Ты выйдешь к столу или принести тебе ужин в комнату?
– Спасибо, выйду, – неожиданно ответил силуэт, оставаясь неподвижным.
– Хорошо, мы ждем тебя, – покорно согласилась Верочка, втайне надеявшаяся на второй вариант предложения.
Спустя десять минут в столовой появился Оскар. Вероника, которая скучала, подперев голову кулачками, при виде мужа немедленно вскочила и радостно засуетилась вокруг него. Это была та привычная суета, украшавшая ежевечернюю трапезу, которая стала неотъемлемой частью семейных взаимоотношений супругов. Ужин был одним из редких поводов для общения, посему Верочка старалась заполнить этот временной эпизод максимально большим количеством теплоты и внимания.
con amore Усадив мужа, она поставила перед ним тарелку с внушительным куском курника, обильно приправленного мелко нарезанной зеленью, и села напротив, с преданной любовью глядя ему в глаза. «И как только в этом обыкновенном на первый взгляд человеке может сочетаться человеколюбие, терпение, доброта, усердие, трудолюбие, да еще и талант непомерной величины!» – с восхищением думала Верочка, не забывая снабжать объект обожания необходимыми столовыми приборами.
giocoso
Мгновения блаженного созерцания были прерваны внезапным появлением Андрея. Плюхнувшись на ближайшую табуретку, он, не особенно церемонясь и не ожидая приглашения, проявил невиданную инициативу: протянул руку, утащил с блюда кусок пирога и начал меланхолично жевать.
Верочка неодобрительно посмотрела на его взлохмаченные волосы, давно не общавшиеся с расческой, на свитер, не покидавший тела хозяина пару недель как минимум, на руки, отнюдь не блистающие чистотой, и покачала головой. Оскар никогда бы не позволил себе выйти к столу в таком непристойном виде, – подумала она и перевела взгляд на обожаемого супруга.
Каннский и сам по себе производил довольно приятное впечатление на окружающих, а уж по сравнению с братцем-недотепой выглядел и вовсе верхом совершенства. Верочка удивлялась тому обстоятельству, что два таких разных человека приходятся друг другу родными братьями.
Интересно, что они оба занимались по Верочкиным представлениям одним и тем же – сочиняли музыку. Но музыка Андрея была абсолютно другой, словно вынутая из параллельного мира. Верочка была уверена на все сто, что творчество Каннского является лучшим из созданного современными композиторами, во всяком случае, в сфере эстрадной музыки. Его песни, одна за другой появляющиеся в эфире и неизменно становящиеся хитами, были приятны и милы. И самое главное – шлягеры Каннского распевала вся страна, они были той музыкой, которая «строить и жить помогает», а значит, приносили несомненную пользу обществу. Последнее обстоятельство особенно радовало жену композитора.
В музыке Оскара все просто и понятно, чего никак нельзя было сказать о творчестве Аrtемьева. Верочка вспомнила, как однажды застала собственного супруга за странным занятием: он водрузил на пюпитр рояля огромные, испещренные небрежными закорючками листы, ранее покрывавшие безобразие ковра в комнате Андрея, и наигрывал что-то. Девушка из провинции, не получившая даже начального музыкального образования, но прожившая с музыкантами не один год, догадалась, что Оскар играет музыку, сочиненную братом.
Странной и непонятной была эта музыка. Из краткого отрывка прозвучавшего произведения Верочка смогла составить о ней полное представление. «Бред взбесившихся звуков, – однозначно резюмировала она. – Уж под эту музыкальную сумятицу ничего толкового не построишь!»
Голосом Верочки вещал народ, и с этим ничего нельзя было поделать. Впрочем, автору странной музыки это ничуть не мешало, он был глубоко равнодушен к мнению масс. Уж если на то пошло, то гораздо важнее в этом плане для него было мнение людей, компетентных в области профессиональной музыки, в частности, друзей из консерватории.
Верочка очнулась от неодобрительных мыслей в адрес Андрея в тот момент, когда объект порицания стащил с блюда очередной кусок пирога и потребовал чаю. Оскар поддержал просьбу брата, намереваясь во время чаепития развести его на нечто вроде затрапезной беседы. Общение с Андреем было большой редкостью.
– Ужин, Верунчик, сегодня отменный, – Оскар послал жене обаятельную улыбку довольного фавна. – Ты превзошла сама себя!
Верочка зарделась от похвалы и принялась разливать чай, порой мимо чашек, отчего смущалась еще больше.
– Спасибо, – сказал Андрей.
– Понравилось? – спросил Оскар и, не дожидаясь ответа – к чему рисковать? – продолжил: – То-то же! Вот зря, зря ты не ужинаешь с нами чаще.
– Я работаю.
Андрей по своему обыкновению был тих и немногословен, но и одной фразы было достаточно для того, чтобы предвзято относившаяся к нему супруга Оскара уловила в ней подвох. В милой и покладистой Верочке проснулась воительница.
– Ха, – вызывающе усмехнулась она. – Он работает! Тоже мне, нашел отговорку! Вон, посмотри на брата: он тоже работает, между прочим, но от людей не открещивается, и ужинает всегда в столовой, а не запирается в четырех стенах, как отшельник какой. Кстати, он работает побольше твоего – и денег в дом приносит, и люди его песни любят. А вот насчет твоих каракуль я что-то сомневаюсь. Это не музыка, а мазня какая-то!
– Так ты же не слышала, – удивился автор «мазни».
– А кто ее слышал? – резонно возразила Верочка. – Такую ерунду никто и играть не станет. В ней ничего не поймешь – ни слов, ни мелодии. То ли дело у Осеньки.
Андрей ничего не отвечал, тайком посмеиваясь над супругой брата.
– Я вообще не понимаю, что ты там пишешь, – Верочка распылилась не на шутку. – «Работаю, работаю», а что написал – и неизвестно, никто ни разу не исполнил. Кому нужна такая работа?
В момент декламирования пламенной речи Верочка напомнила Андрею, в свои двадцать восемь еще не окончательно выпавшему из детства, голубку из «Алисы в стране чудес», которая рьяно защищала свое гнездо от внезапно выросшей Алисы, принимая ее за нападающую змею.
– Тебе сейчас только трепещущих крыльев не хватает, – улыбнулся Андрей.
– Чего? – не въехала Верочка и оскорбилась пуще прежнего. – Каких еще крыльев? Ты что, надо мной издеваешься? Что я тебе – курица какая-нибудь?
От этих слов Андрею стало еще веселее, и он не удержался от откровенного смеха.
– Ося-я, – жалобно протянула супруга, взывая к помощи.attaca serioso
Каннскому не пришлось прибегать к примиряющим мерам, поскольку громкий смех Андрея внезапно перешел в сильный приступ кашля.
– Глотни чаю, – Оскар протянул брату кружку.
Андрей помотал головой и, закрыв рот ладонью, выскочил из столовой.
– Ну вот, опять, – сочувственно вздохнула Верочка. Ее доброе сердце не позволяло долго сердиться и копить обиды. – В последнее время он кашляет, как чахоточник. Может, вызвать ему врача?
– Это не имеет смысла, – с досадой отмахнулся Оскар. – Ты же знаешь брата: он не станет лечиться. Он не терпит ни малейшего вмешательства, ни капли ограничений по отношению к нему. Кошка, которая гуляет сама по себе…
– И все-таки, Ося, я бы позвонила твоему терапевту, – тихонько сказала жена. Это было даже не возражение – против мужнего слова она бы никогда не пошла, – но скорее констатация альтернативы.
– Как знаешь, – двусмысленно ответил супруг и встал из-за стола, тем самым давая понять, что трапеза, а вместе с ней и разговор на эту тему окончены.
Вероника вздохнула и начала убирать грязную посуду.cadenza solo
Конечно, я не хотел вызывать врача.
В конце концов, Андрей – вполне самостоятельный и взрослый человек, ему самому решать, как жить. Если ему наплевать на собственное здоровье, то моей вины здесь нет никакой. Я не желаю вмешиваться и в какой-то степени даже не имею на это морального права.
Приступы кашля у него с каждым днем усиливаются, даже Верочка подметила. А я честно предупреждал его, что непозволительно так много курить. Впрочем, какой бы образ жизни он ни предпочел, дольше отведенного срока не получится прожить и дня – судьбу не обманешь.
Мы с братом родились неразрывным целым, даром что с временным промежутком в тринадцать лет. Мы неотделимы друг от друга, и это наша пожизненная кара. Между нами кто-то распределил обязанности, причем, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Ему предназначено творить, а жить – это по моей части. Я знаю, что его дни на этой земле подходят к концу. Скоро я смогу вздохнуть свободно. Еще немного терпения и выдержки…
Гениям несвойственно долгожитие. Большинство из них сгорают довольно быстро, едва успевая записать то, что диктует Некто оттуда, сверху. Даже если у них начинается довольно-таки благополучная жизнь, она может оборваться внезапно и незапланированно.
За примерами далеко ходить не надо. Не влезая в дебри классической профессиональной музыки, достаточно вспомнить хотя бы Игорька Талькова, который погиб в самом расцвете своей творческой деятельности. В какой степени к этому причастна пресловутая Азиза – неизвестно. Может, она и вовсе-то ни при чем. Как бы там ни было, Игоря жалко. Чувак делал действительно хорошую музыку, на добрый порядок выше остальной попсы. Не сомневаюсь, что в скором времени его вещи снова зазвучат в трибьютах, как это произошло с песнями Вити Цоя.
Музыка долговечнее своих авторов. Пройдя после смерти автора проверку временем на прочность, она остается звучать, как ни в чем не бывало. То же самое произойдет и с композициями Андрея. Они будут вечно преследовать меня.
Господь Всемогущий! Куда мне деться от его музыки?!Диалог с паузами
– Что это было? Кажется, я видел искаженное отражение наших лиц в пламени костра.
– Искаженное? Нет – лишь слегка подкорректированное.
– Изменчивыми языками огня, движимых потоками ветра.
– Потоками времени.
– Не слишком ли далеко нас унесло?
– Разве к временному пространству применимо понятие расстояния?
– А как же чередование эпох, смена поколений, расцвет и закат цивилизаций?
– Все это здесь, поблизости. Время обладает способностью сжиматься и развертываться, подобно мощной пружине, а потому даже отдаленные в земном понимании эпохи совершенно неожиданно оказываются на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
– Ты удивляешь меня, брат. Откуда в тебе эта мудрость, это знание?
– От необозримого количества преодоленных расстояний.
– Расстояний? Но ты же постоянно находишься рядом со мной. Вот уже вечность мы не покидаем эти бескрайние поля. С восходом солнца принимаемся за свою каждодневную работу, а на закате встречаемся у костра.
– Тебе многого не понять. Поэтому я и затеял этот разговор. Несмотря на то что мы братья, нам предписаны разные дороги.
– Дороги? О чем ты?
– Я – странник.
– Странник?.. Удивительно. Мне непонятен твой ответ. Ты возделываешь землю, на которой произрастают плодоносящие растения и колосья… Допустим, ты действительно преодолеваешь расстояния – туда и обратно, вдоль своего огороженного куска земли. Но эти расстояния столь малы, что их невозможно принять за дороги путника. Если уж на то пошло, то путешественником, скорее, можно назвать меня – простого пастуха, кто, повинуясь предписанному испокон веков роду занятий, от восхода до заката бродит по полям, сопровождая смирные стада.
– Брат, ты и не подозреваешь о том, что за дороги простираются предо мной и куда они ведут!
– Так расскажи мне.
– Еще не время. Ты должен все увидеть сам, собственными глазами.
– В пламени костра?
– Да. Ты увидишь, как я бреду сквозь века, как преодолеваю огромные пространства…
– Но для чего? Зачем тебе эти странствия? Какую цель ты преследуешь?
– Слишком много вопросов, на которые я пока не могу дать ответа. Ты все узнаешь, но позже.
– Твой голос, наполненный глубокой печалью, твои усталые глаза и поникшие плечи тревожат меня.
– Плечи мои поникли из-за того, что на них лежит тяжкий, непосильный груз. Это кара Всевышнего – обречение на извечное и неизбежное странствование. Я должен брести из эпохи в эпоху, меняя страны и города, выполняя одну и ту же миссию. И никто не в силах помочь мне избавиться от этой скорбной ноши.
– В чем твой грех?
– Позже, брат мой, позже… Что было или будет – того уже не изменить. Целую вечность я вынужден скитаться. Я просил случайных прохожих, кто попадался мне на пути: «Возьмите нож, вонзите мне его в грудь и избавьте меня тем самым от моей участи вечного странника», – но каждый поспешно отворачивался от меня и смотрел, как на прокаженного. «Это грех великий, великий грех!» – твердили мне все в один голос. В моих руках нож непослушен – он изворачивается, падает оземь и минует мое бренное тело, оставляя меня в живых. О, если бы кто-либо знал, как это невыносимо – существовать вечно и нести свой крест вместе с невозможностью искупления!!!
– Прошу тебя, успокойся. Мне тяжело видеть, как ты страдаешь. Может быть, я смогу чем-то помочь тебе?
– Ты? О, нет, брат. Как может помочь далекая звезда страдающему неизлечимой болезнью?
– Что за неведомая болезнь терзает твою душу?
– Ты лучше все поймешь из пламени костра. Острые и проворные язычки огня расскажут внимательному слушателю обо всем, что его интересует. Смотри, в самом сердце костра мерцает магический кристалл – сейчас он повернулся к нам другой гранью.
История вторая. По одну сторону Австрия, первая половина XIX века
solo espressivo
Передо мной лежит маленький рисунок, выполненный цветными карандашами. На нем изображены, и, надо признать, весьма неплохо изображены три молодых человека – в полупрофиль, плечом к плечу. Это Тельчер нарисовал нас, когда мы с Шубертом нагрянули к нему в гости под каким-то несуразным предлогом. Просто в тот вечер Франц был подавлен, и мне хотелось как-то развлечь его. Помню, что мы уселись рядом за рояль (Тельчер был одним из тех немногих счастливцев, которые имели в доме небольшой кабинетный рояльчик) и музицировали до глубокой ночи. Франц играл по нотам, кажется, это было что-то из Моцарта, а я переворачивал ему страницы.
Тельчеру удалось запечатлеть нас такими, какими нам предрешено быть. Квинтэссенция судьбы. На рисунке ближайшим к краю листка сидит Шуберт, мой дорогой Шуберт.
Темно-русые кудри и баки, обрамляющие доброе и несуразное лицо, открытый лоб, прямая линия редких бровей, глубоко посаженные глаза, взгляд которых светящимися лучами пронзает круглые стекла пенсне, ставшие органичной частью его облика, короткий нос и тонкие нервные губы, пухлый подбородок с ямочкой, частично скрытый воротничком рубашки – всегда безупречно чистым, и черный шейный платок, штрих современности, дань моде… Он хотел привязать себя этим платком к тому времени, в котором находился. Напрасно.
Рядом с ним я – всегда и неизменно – я. Одной рукой я обнимаю его за плечо, а вторую держу на пюпитре рояля, наготове, чтобы не упустить момент, когда на странице закончится музыкальный текст. Франц не терпит заминок и прочих неловкостей в исполнении, хотя сам в жизни был невероятно неуклюж.
В тот год, предпоследний год жизни Шуберта, я был особенно хорош собой, признаюсь без ложной скромности. Об этом красноречиво свидетельствует рисунок, и вы можете убедиться в объективности моей самооценки, взглянув на него.
Мой образ удался Тельчеру наиболее ярким. Он совершенно метко (таким художественным взглядом может обладать только настоящий мастер!) уловил во мне сущность. Взгляд прищуренных глаз, направленный в ту же сторону, что и взгляд Франца. На благородном лице – спокойствие в дьявольском сочетании с усмешкой, проглядывающей из уголков губ.
Портрет вышел бы куда лучше, если бы из-за моего плеча не выглядывала физиономия Иоганна, нашего знакомого, который оказался у Тельчера совершенно случайно и с присущей ему безмерной простотой, а попросту говоря, нахально присоединился к нам, испортив всю картину.
Иоганн совершенно напрасно влез в рисунок, нарушив наш с Францем единый и гармоничный облик. Его глуповатая физиономия и рыжие растрепанные вихры, маячащие на заднем фоне, здесь, безусловно, неуместны. Он представляется мне собирательным образом шубертовского окружения тех лет, свидетелем со стороны.
Смотрит он, разумеется, не в ноты – какое ему дело до музыки? – а таращится прямо на зрителя, да еще с таким ехидным видом, будто бы порицая нас: посмотрите на эту идиллию, не кажется ли вам, милостивые господа, что здесь что-то нечисто? Насколько дружескими можно счесть эти нежные объятия? Нет ли чего предосудительного в этой любви мужчины к мужчине? Не кроется ли в их отношениях какая-либо тайна?
Идиот, каких свет не видывал.
Безусловно, тайна есть, но это не имеет ровным счетом никакого отношения к тому, на что он грязно намекает. Откуда этим приземленным людишкам с их низменными мыслями и желаниями знать о том, что я испытываю к Францу?..
allegro agitato
– Внимание! Прошу минуту внимания, дорогие друзья! – высокий молодой человек с красивым сияющим лицом одним взмахом руки сотворил паузу тишины в беспрерывном потоке шумного многоголосия. – Сейчас Франц, всеми любимый Франц исполнит свою новую песню! Этот вокальный шедевр – самое впечатляющее из всего, что он написал до сего момента, поверьте мне! Пожалуйста, Франц, перестань стесняться, мы все тебя очень просим!
Молодой человек энергично зааплодировал, ободряюще улыбаясь неповоротливому, мешковатому человеку, скромно сидящему за роялем. Тот укоризненно посмотрел на него:
– Ансельм, ну зачем ты?.. Кому это интересно?
Все общество немедленно взорвалось протестом и присоединилось к просителю – зарукоплескало, зашумело и зашуршало платьями.
– Просим, просим! – басили отовсюду мужские голоса.
– Господин Шуберт, мы вас умоляем – не дайте нам умереть от ожидания и нетерпения! – легкими птичками взлетали голоса дам.
Шуберт, который терпеть не мог излишних упрашиваний, тут же сдался и сел за инструмент. На пюпитре невесть откуда появились рукописные листы с аккуратно написанным нотным текстом.
– Спасибо, Ансельм. «Лесной царь», – негромко объявил он. – Только на этот раз это не песня, а скорее баллада.
Все поспешно расселись по местам. Выждав, когда стихнет скрежет передвигаемых стульев, сопровождаемый покашливанием и быстрым перешептыванием отдельных лиц, Шуберт поднял над клавиатурой руки, и зазвучала музыка – прекрасная и совершенная.
Музыка заполнила собой все пространство, заставив каждого, кто находился в комнате, окаменеть, превратиться в слух и напрочь позабыть о собственном существовании и о потребности в дыхании, не говоря уже о движении и общении. Шуберт был хорошим исполнителем, хотя сам себя таковым не считал и всякий раз искренне стеснялся петь. Зато друзьям, имеющим профессиональную вокальную подготовку, аккомпанировал весьма охотно и с удовольствием.
Но в этот раз произведение было никому из певцов неизвестно, поскольку было записано буквально за несколько часов накануне вечеринки, а петь с листа вещи подобной сложности не рисковал даже наиболее талантливый Фогль. Посему пришлось автору одному мучиться с собственным творением.
Впрочем, это удавалось Шуберту без особого труда. В нем, несомненно, пропадал талант актера: он исхитрялся в одиночку исполнить все три вокальные партии, меняя интонацию и поочередно выступая за Лесного царя, искушаемого Младенца и его недогадливого Отца, причем под собственное же сопровождение.
Завсегдатаи шубертиад внимали каждому звуку, вылетающему из-под проворных пальцев композитора. Но по окончании произведения реакция слушателей могла быть разной, неоднозначной и чаще всего непредсказуемой. Композитор обычно волновался, а в этот вечер – особенно.
«Зачем же Ансельм так расхвалил «Лесного царя» перед его исполнением! – с досадой думал Шуберт, доигрывая произведение. – Теперь все посчитают себя обманутыми в ожиданиях, поскольку музыка баллады далеко не идеальна, и шедевром ее никак нельзя назвать».
Прозвучал последний аккорд. Шуберт снял руки с клавиатуры, повернулся к слушателям и произнес:
– Ну вот, это и есть моя новая баллада. А теперь можете высказывать свое мнение. Пожалуйста, не сдерживайте себя. Ну, ругайтесь же!
Предложение прозвучало подбадривающе, в мягких добродушных тонах. Шуберт предпочитал отшучиваться и воспринимать критику с юмором, вместо того чтобы реагировать на все сказанное в его адрес с полной серьезностью.
Публика замерла в опасении нарушить паузу неправильно выбранным для характеристики и оценки словом.
– Это превосходно, Франц! – первым решился Штадлер, один из многочисленных друзей автора только что умолкнувшей музыки. – Великолепно! Можешь не сомневаться – эту вещь издатели оторвут у тебя с руками и ногами, как только ты появишься пред ними с рукописью!
Публика одобряюще зашумела, со всех сторон слышались похвалы в адрес композитора и восторги по поводу музыки. С кресла вскочил проворный молодой человек, хозяин дома сегодняшней шубертиады, и подбежал к смущенному Шуберту:
– Франц! Это непременно должно быть исполнено в концертном зале! Нужно как-нибудь устроить публичное прослушивание твоих чудесных вещей!
– Но где я найду зал, откуда возьму денег на его аренду? Да и кто придет слушать музыку сомнительного качества, сочиненную композитором, чье имя известно лишь в кругу близких людей?.. – растерянно отвечал тот.
– Ты преуменьшаешь свою известность, дорогой мой Франц, – сказал красивый молодой человек по имени Ансельм. Во время исполнения «Лесного царя» он – неслышим и невидим – находился за спиной композитора, оживая лишь на краткое мгновение – для того чтобы перевернуть очередную страницу. – О тебе уже говорят в кругах интеллигенции, твое имя на устах у большинства образованных людей…
– Да, а не далее как вчера вечером я собственными ушами слышал, как девушка, прогуливающаяся по улице, напевала красивейшую мелодию, которая показалась мне знакомой. Не прошло и минуты, как я вспомнил, что это мелодия одной из твоих ранних песен, можешь себе представить! – вступил еще один голос из кольца плотно обступивших рояль слушателей. – Правда, она обходилась пока без слов, но тому виной твоя безынициативность, Франц! Ты должен сам хотя бы немножко посодействовать тому, чтобы твоими песнями заинтересовались издатели!
– Да, Игнац, но сегодня печать так дорого стоит, да и к тому же практически невозможно убедить издателя в том, что мою музыку нужно печатать… Нет, все труды напрасны, не стоит и стараться.
– Как ты можешь быть таким равнодушным к судьбе своих собственных творений! – возмутился еще один голос из толпы, на сей раз принадлежащий особе женского пола. – Я считаю, что за право быть известным и знаменитым нужно побороться, а не ограничиваться тем, чтобы писать себе тихонько музыку – заметьте: прекрасную, гениальную музыку! – и покорно складывать ее в ящик письменного стола.
– Спасибо за комплимент, Каролина, но я не умею заниматься коммерческими делами, увы, – еще более смущенный (если таковое возможно) Шуберт продолжал пасовать. – Видно, такова моя участь. Я рад уже тому, что моя музыка нравится вам, дорогие друзья!
– Ну уж нет, – неожиданно собравшиеся расступились, и к роялю вышел пожилой человек.
Богатые одежды, величественная поступь, гордая посадка головы, широко расправленные плечи, покровительствующий взгляд, спокойно-уверенная манера изъясняться – манера, присущая людям, привыкших к тому, чтобы их слушали, – все это говорило о том, что пожилой человек – личность влиятельная, вхожая в круги высшего аристократического общества.
Публика умолкла, шум и перешептывания прекратились. Многие из присутствующих узнали в пожилом человеке господина Зонляйтнера, придворного советника. Появление влиятельной особы на домашнем музыкальном вечере творческой интеллигенции было нечастым, а потому собравшиеся сразу почувствовали себя неловко, из робости неохотно поддерживая высокоучтивую беседу. Зонляйтнеру ответил хозяин дома – единственный человек, кто общался с ним на короткой ноге по той простой причине, что приходился ему родственником.
– Дядя, уж не хочешь ли ты помочь нашему гениальному другу? – заинтригованно поинтересовался он.
– А почему бы и нет, Леопольд, – достойно ответил пожилой человек. – Я оказался на вашей вечеринке случайно и слышу музыку Франца впервые, но уверен, что ее должны услышать и остальные. Сочинения этого талантливого молодого человека непременно должны звучать со сцены. Это что-то новое в музыкальной жизни страны, хотя и, несомненно, противоречивое. Мне ничего не стоит пригласить Франца на один из публичных концертов «Общества благородных дам для поощрения доброго и полезного» – не зря же я занимаю там должность секретаря, организатора культурно-развлекательной программы. К тому же, полагаю, мои старания не канут в историю бесследно: вашему другу необходимо заявить о себе, и тогда ни он, ни я не останемся в накладе.
Пожилой человек посмотрел на ошеломленного автора и, как подобает хорошему оратору, выдержал паузу.
– Ну что, господин Шуберт, вы принимаете мое предложение?
Взволнованный и растроганный столь неожиданным вниманием влиятельной особы к собственной персоне композитор привстал из-за рояля, неловко опрокинув при этом стул, и энергично кивнул в знак согласия.
– Конечно, с превеликим удовольствием, господин Зонляйтнер! – сорвавшимся фальцетом ответил он.
Пенсне, не выдержавшее проявления довольно бурных эмоций хозяина – по обыкновению весьма сдержанного и уравновешенного, – тут же сорвалось с переносицы и съехало, уморительно повиснув на одной дужке. Руки внезапно стали неуклюжими и налились тяжестью, по неведомой причине отказывались повиноваться приказам мозга, а посему поправить пенсне оказалось делом довольно трудоемким. Ансельм, наблюдая за безуспешными попытками друга водворить нахальные стекла на надлежащее им место, не мог сдержать улыбки.
– Так что же мы предложим посетителям концертов нашего «Общества»? – осведомился господин правительственный советник. – Нужно хорошенько подумать, прежде чем вынести на суд широкой публики исполнение ваших произведений, господин композитор.
– Я д-думаю, – неуверенно начал Шуберт, – это непременно должен быть «Лесной царь», раз уж он всем вам так понравился, а также что-нибудь из других жанров, дабы слушателю не наскучило однообразие…
– «Деревушка»! – воскликнул Ансельм. – У тебя же есть этот чудесный вокальный квартет!
– А мне бы хотелось услышать «Песнь духов над водами», – попросила Каролина и одарила смущенного композитора такой лучезарной и обворожительной улыбкой, что тот не смог устоять пред ее просьбой.
– Хорошо, милая Каролина, пусть будет «Песнь духов», но для нее понадобится целых восемь мужских голосов. Кто же будет все это исполнять?
– А вот об этом позабочусь я, мой милый Франц, – сказал Игнац Зонляйтнер, племянник влиятельного гостя. – Завтра же о предстоящем концерте мною будут оповещены все наши друзья: Барт, Умлауф, Нейбезе, Гец… Уж певцов-то у нас больше чем достаточно, можешь не сомневаться!
– А на какое число назначен концерт? – спросила еще одна премилая дама, кокетливо поправляя локон. – Я бы хотела заранее приобрести билеты!
Шуберт переадресовал вопрос своему благодетелю.
– Недели вам хватит для подготовки? Вот и превосходно. В таком случае – концерт состоится в следующую субботу. Он очень кстати вписывается в программу академии.
Публика оживилась: речь шла об одном из лучших и наиболее престижных развлечений того времени – так называемой «музыкальной академии с декламацией и живыми картинами», где собиралась лучшая часть придворного общества, элита Австрии. Все тут же отвлеклись от своих занятий и разговоров и обратили взоры в сторону тесного кольца вокруг рояля.
Зонляйтнер-племянник повернулся ко всем и торжественно огласил решение:
– Господа! Все присутствующие могут считать себя приглашенными на публичный концерт нашего друга Франца Шуберта, который так удачно приурочен к ежегодной музыкальной академии – между прочим, не без содейства моего дядюшки, господина Йозефа Зонляйтнера! Поверьте моему слову, его имя станет величайшим открытием сезона! Итак, мы с Францем ждем вас ровно через неделю в Кернтнертор-театре, господа!solo sostenuto non troppo
Теперь, когда музыка Франца прозвучала на академии, он стал признанным композитором. Он имел грандиозный успех. Все надеялись, если не сказать рассчитывали, на благополучную презентацию творчества Шубертапесенника, но таких оваций не ожидали.
Впрочем, надо сказать, во многом тому способствовало мастерское исполнение. Придворный певец Фогль, ставший впоследствии неотъемлемой частью шубертиадского общества, спел «Лесного царя» так хорошо, с таким воодушевлением, что публика не отпустила его со сцены, и Иоганну пришлось повторять песню на бис.
Сопровождение к ней играл я – на новом рояле фабрики Конрада Графа, великодушно предоставленным господином Зонляйтнером. Шуберт, который вполне мог бы сыграть свое собственное сочинение столь же хорошо, столь же блестяще, как и я, не решился пойти на это. И все из-за непростительной, на мой взгляд, стеснительности, какой-то болезненной детской боязни. Он, представьте себе, удовольствовался тем, что во время исполнения стоял возле меня и переворачивал страницы! Ну где это видано, чтобы композитор весь концерт собственных сочинений прятался за роялем!
Я часто злился на него за подобные выходки. Он скромничал как по поводу, так и без него: из-за несуразной внешности, близорукости, неповоротливости, из-за недостатка материальных средств… О своей скромности он забывал лишь в те волшебные часы, когда сочинял музыку. Тогда черты его лица преображались вдохновением, и он становился едва ли не красивым. В такие минуты я старался находиться радом с ним, чтобы запечатлеть в своей душе образ человека творящего.piu mosso Излишняя скромность не позволяла ему даже с достоинством принимать похвалы: любой комплимент непременно вгонял его в краску, и Франц тут же перебивал говорящего и начинал нарочно подчеркивать недостатки и погрешности. Но, признаться откровенно, был бы он другим – более раскованным, нагловатым, вальяжным, свободным, – он бы не был тем Шубертом, которого я безумно люблю. Казалось, его нисколько не заботила собственная судьба – он думал лишь о музыке и еще больше об исполнителях, будто от них зависела его жизнь.
Он всегда шел навстречу певцам и инструменталистам, и я не припомню ни единого случая, чтобы он отказал кому-либо в просьбе изменить часть текста для удобства исполнения. Вот, скажем, на репетиции перед вышеупомянутой академией Шуберт по настоянию Фогля вставил в фортепианное сопровождение «Лесного царя» несколько дополнительных тактов в разных местах, чтобы певец мог чаще отдыхать. Неслыханное нахальство со стороны певца! Недаром я с первого взгляда невзлюбил этого наглеца Фогля.
deciso assai Будь я на месте Франца, уж я бы не уступил не единой ноты, ни единой доли! Где это видано, чтобы композитор вносил правки в произведение исключительно для того, чтобы горло певца успевало отдыхать во время исполнения! Баллада – вещь, конечно, не самая простая, но на то Фогль и мастер, на то он и придворный певец, черт побери! Шуберт ломает для него текст, а он потом кичится своим профессионализмом, славой и приглашениями…
poco ritenuto
Впрочем, этому напыщенному петуху можно сказать спасибо – благодаря его требованиям в тех удлиненных отыгрышах Франц подпустил изящный мелодико-гармонический оборот, и пока Фогль переводил дух, я успевал переключить внимание слушателей на фортепианную партию, по силе и красоте нисколько не уступающую вокальной, и насладиться исполнением пусть и краткого, но солирующего фрагмента этого сочинения, бесспорно, одного из лучших сочинений Шуберта.
Играл я безупречно. Франц посчитал, что первое – самое ответственное – исполнение «Царя» следует доверить именно мне, его лучшему другу, и более никому. Когда он робко предложил мне роль пианиста, я был польщен и на репетициях старался изо всех сил – не мог же я подвести друга неудачным аккомпанементом и полностью испортить премьеру шедевра!
Немудрено, что исполнение шубертовских песен явилось своего рода сенсацией. Этого следовало ожидать, в особенности учитывая тот факт, что к созданию его славы и имени приложил руку и ваш покорный слуга.
После «музыкальной академии» имя Шуберта стали упоминать во всех музыкальных кругах Вены. Все удивлялись, почему этот гениальный молодой человек так скромен и нерешителен, почему до сих пор ни один издатель не удосужился напечатать его песни – ведь это же непростительное упущение с их стороны, колоссальный коммерческий просчет.
Но Шуберт, несмотря на успех и всеобщее признание, был не в состоянии нанять издателя. Его материальных сбережений с трудом хватало на содержание, и подобные предприятия были ему не по карману. Ко всему прочему, до невозможности простая и наивная натура Шуберта тоже не позволяла заниматься ему различного рода сделками.
И тут снова вышел на сцену я, на этот раз вместе с моим братом Йозефом. Мы решили сами найти для нашего гениального друга достойного издателя.
Сначала я действовал в одиночку – уж очень мне не хотелось делить с кем-то возможность помочь Францу. В конце концов, он был моим лучшим другом, и никто не имел права любить его так же сильно, как я. Но из этой затеи ничего не вышло: мне отказали и Тобиас Хаслингер, и Антон Диабелли – два лучших издателя того времени. Как один, так и другой, выслушав мое предложение опубликовать «Лесного царя», наивно округлили глаза:
«Шуберт? А кто это такой? Что-то мы не слышали о таком композиторе… Ну, давайте сюда рукопись, посмотрим. Знаете, на наш взгляд, фортепианное сопровождение отличается излишней сложностью. Никто не станет покупать музыку, которую и сыграть-то не по силам. Нет, пожалуй, мы не станем рисковать. Позже – возможно, но не сейчас. Всего доброго, господин Хюттенбреннер».
Пришлось мне признать свою неудачу и приглашать в союзники Леопольда Зонляйтнера, уже сыгравшего немалую роль в судьбе Шуберта в связи с наличествованием влиятельного дядюшки, а также моего брата, который к тому времени сумел нажить вполне приличное состояние. Без участия последнего было бы сложновато оплатить стоимость первой тетради издания «Лесного царя». Так, на собственные средства мы совместными усилиями напечатали двенадцать первых сочинений, которые впоследствии продавались у Диабелли на комиссии.
Из выручки, которая оказалась довольно сносной, мы сумели отдать долги Шуберта за квартиру, оплатить счета сапожника и портного, к услугам которых нашему гению пришлось прибегать накануне премьеры, расплатились в гостинице, в кофейне и прочих местах, где Франц оставался должен. Когда выяснилось, что после ликвидации всех упомянутых счетов осталась еще значительная часть денег, Шуберт радовался как ребенок. Он бросился мне на шею, расцеловал в обе щеки, расхваливал мои способности к коммерческим сделкам, а я был безмерно счастлив…
А потом одно за другим последовали переиздания его песен, выпуск новых сочинений, его имя стало появляться на страницах венских газет. Для Шуберта так и осталось секретом, что и этому счастливому обстоятельству его жизни благоприятствовал я.
Втайне от других я попросил своего брата состряпать маленькую статеечку в «Sammler», даже не статью – заметочку, в которой говорится о выходе из печати новой песни Шуберта «Гретхен за прялкой», и дать небольшую, но весьма лестную рецензия этому творению. Это скромное объявление-рекомендация послужило стимулом к очередной вспышке заинтересованности творчеством молодого гения. Жанр немецкой песни в профессиональной музыке был новым, еще неосвоенным, но уже полюбившимся венской публике.
Именно за жанром песни стояло огромное будущее, о чем я не раз говорил Францу. Он с готовностью соглашался со мной, но его то и дело заносило на инструментальную музыку – ансамбли, а то и симфонии, упаси Господь.
Безусловно, в жанре фортепианной музыки он чувствовал себя так же хорошо, как и в песенном, но что касается произведений для оркестра – тут он явно был слаб. Моя реакция на очередное заблуждение моего гениального друга была однозначной: я, не теряя ни минуты, бросался на выручку.vivace
– Ансельм, мой дорогой друг, как я рад тебя видеть! Ты вчера не был у меня и даже не явился на шубертиаду к Йозефу Шпауну. Я уже начал волноваться – не случилось ли с тобой чего?
Взлохмаченный Шуберт в домашнем потрепанном сюртуке с пером, зажатым в запачканных чернилами пальцах, втаскивал Хюттенбреннера в темную комнату.
– Не спеши раздеваться, – остановил он гостя, взявшегося было за пуговицы. – У меня здесь нежарко.
– Опять закончился уголь?
– Да, весь вышел. Еще позавчера, – вздохнул хозяин и вразвалочку направился к расшатанной деревянной лестнице. До гостя, шагающего за ним следом, доносился негромкий голос, в котором звучали ободряющие оптимистические нотки: – Но я приспособился: отогреваюсь в гостях. Вчера у Шпауна, завтра шубертиада у Бауэрнфельда, а потом, глядишь, еще куда-нибудь позовут.
– А что, денег от изданных песен не хватило?
– Так я же их отдал на печать моих квартетов! Брать не хотели, но деньги сделали свое дело, – с иронией сказал композитор.
– Снова ты за свое, – ворчливо отозвался голос из-за спины. – Просил же тебя по-человечески: брось ты свои дурацкие квартеты, не в них твое призвание.
– Но Ансельм, – Шуберт, добравшийся до последней ступеньки, внезапно остановился и повернулся, что чуть было не явилось причиной небезопасного столкновения с гостем. – Писать всю жизнь только лишь песни, песни и песни – это же невыносимо скучно и однообразно!
– Зато какие песни! – буркнул Ансельм, входя в скудно освещенную комнату. – Кстати, дружище, я тут тебе принес кое-что.
Хюттенбреннер подошел к свече, стоящей на краю письменного стола, и вынул из-за пазухи потрепанного вида брошюрку.
– Что это? – Франц, приподнимаясь на цыпочки, пытался выглянуть из-за плеча гостя, которому с ростом повезло намного больше.
– Гете, – Ансельм протянул нетерпеливому другу брошюрку. – Полистай и прими во внимание те стихи, которые я пометил крестиком. Мне кажется, на их основе можно создать неплохие вокальные композиции.animato
Шуберта словно подменили: перед Хюттенбреннером стоял уже не понурый и удрученный нуждой человек, а совершенно преображенный Гений с пылающим взглядом, устремленным вглубь мироздания, – тем самым взглядом, который отличает гениев от прочих людей.
Тесная комнатка словно наполнилась светом, температура воздуха поднялась к отметке 25 градусов по Цельсию, не иначе – поскольку Шуберт скинул неудобный сюртук и начал судорожно листать брошюрку, время от времени останавливая внимательный взгляд на какой-либо странице и бормоча вполголоса:
«Да, вот это хорошее стихотворение, тут сразу приходит в голову нечто разумное. Мелодии рождаются так, что просто радуешься! Где-то здесь было перо…» – и, не отрываясь от текста, на ощупь искал пишущие принадлежности.
Гость тем временем, дабы не мешать творческому процессу друга, прошел вглубь комнаты к старенькому кабинетному роялю. На пюпитре стояли партитурные листы, исписанные мелким аккуратным почерком. Ансельм открыл первую страницу и прочел название: «Симфония h-moll».
«Стоило всего лишь два дня не появляться к Францу, как он снова возвращается к своей бредовой идее написать что-нибудь оригинальное для большого симфонического оркестра! Как бы дорог мне ни был этот человек, я считаю, что браться за оркестровую музыку было бы опрометчиво».
– Если я не ошибаюсь, это уже шестая по счету симфония?
– У? Ты что-то сказал, Ансельм? – Шуберт поднял голову и поправил беспрерывно сползающее с переносицы пенсне. – Чудесный сборник стихов! Просто великолепный! Ты, дорогой мой друг, как никто другой умеешь выбирать для меня подходящие тексты! Сам знаешь, с плохим стихотворением дело не двигается с места; мучишься, и все-таки получается лишь сухая ерунда. Я отклонил уже многие стихотворения, которые мне навязывали, но от твоих предложений отказываться и впредь не намерен. Ты приносишь мне превосходные тексты, один другого лучше, но почему бы тебе не сочинять на них песни самому?
Ансельм нахмурился.
– Я не о том, а вот – о твоей новой работе. Опять ты принялся за свое, – укоризненно сказал гость и покачал головой, словно разговаривал с непослушным маленьким ребенком. – Симфония! Какая по счету? Шестая? Седьмая?
– Вообще-то восьмая, – тихо поправил его пристыженный композитор.
– Очаровательно, – буркнул Хюттенбреннер. – А почему не тридцать восьмая? Пойми же, неразумный, Гайдном тебе все равно не стать!
– Прошу тебя, Ансельм, не сердись! – умоляюще воскликнул автор упомянутого запретного жанра. – На этот раз симфония должна получиться. Я и сам не хотел – веришь? – но что-то словно снизошло на меня: я услышал отличную музыку и не мог позволить себе не записать ее. А она, как на грех, именно для большого оркестра! Ну как тут быть, сам посуди? Вот ты бы смог отказаться от подобного искушения?
Ансельм ничего не ответил. Ощущение вдохновения, описываемое Шубертом, было ему незнакомо. А ведь он тоже был композитором и тоже писал музыку…solo quasi recitativ
Способности к сочинительству у меня проявились довольно рано, лет с пятнадцати. Открыл, точнее – случайно отрыл во мне этот талант гувернер-француз, которого нанял мне отец для воспитания. Он преподавал мне музыку – обучал игре на рояле. Этот инструмент вошел в моду не так давно и потому считался непременным атрибутом современного образования аристократии и интеллигенции.
Уроки с Жаном были столь увлекательными, что пробудили во мне интерес заняться музыкой и в дальнейшем. Мне нравилось не столько исполнять кем-то написанную музыку, сколько сидеть за инструментом и извлекать из него различные комбинации звуков путем эксперимента. Постепенно я начал замечать, что из некоторых определенных последовательностей тонов и гармоний могут образовываться премилые вещицы. А когда Жан научил меня нотному письму, я стал записывать все, что мне казалось симпатичным.
Обнаружив упомянутую склонность к сочинительству, Жан намекнул моему достопочтенному папаше, что из меня может вырасти настоящий композитор, а потому не мешало бы отдать меня в обучение какому-либо талантливому педагогу. Отцу сие предложение показалось весьма заманчивым по одной простой причине: к тому времени я вступил в тот непростой возраст, когда следовало определяться с выбором профессии. Поскольку прочих талантов в сыне не нашлось, пришлось довольствоваться композиторской карьерой.
Не мудрствуя лукаво, папаша милостиво согласился устроить меня к лучшему педагогу музыки в Вене, дабы в будущем видеть в моем лице гения современности. И вот в один прекрасный день он отвел меня к маэстро Антонио Сальери, именитому композитору и педагогу – тому самому, чье имя неизменно упоминается в таинственной легенде о смерти Моцарта. Ко времени моего явления пред его досточтимой особой Сальери был уже в преклонном возрасте, но преподавательской деятельности не прекращал и учеников имел предостаточно.
Прослушав мои юношеские сочинения и мельком взглянув на сумму, предложенную отцом в качестве платы за мое обучение, маэстро согласился, и с тех пор я дважды в неделю приходил в его дом с кипой нотных листов под мышкой. Иногда за нехваткой времени маэстро был вынужден совмещать занятия с двумя или даже тремя учениками одновременно.
На этих уроках я и познакомился с Францем.con amore
С момента нашей первой встречи я безотчетно полюбил этого несуразного, нелепого человека. Его и музыку, которая рождается в его голове.
С того самого злополучного момента я делал все возможное, чтобы стать его другом, чтобы все время находиться рядом с ним. Франц, жутко скромный и невозможно честолюбивый, все же не был замкнутым человеком. Вокруг молодого композитора на музыкальных вечерах, именованных в честь него шубертиадами, постоянно собиралось общество друзей, знакомых и попросту случайных посетителей. И все они – в большей или меньшей степени – любили его, им импонировала его скромность и нескладность, они восхищались его музыкой.
Да и как же было не любить Шуберта, если он часами напролет просиживал за роялем и наигрывал превосходную по качеству музыку, развлекая светскую публику песнями и инструментальными миниатюрами. Частенько у кого-либо возникало желание устроить маленький бал, и ему заказывали что-нибудь подходящее для этого случая, и тогда он импровизировал с ходу – импровизировал вдохновенно, мастерски, блестяще. Так, по прихоти публики, рождались его танцевальные шедевры, наиболее удачные из которых, на взгляд автора, он записывал – по настойчивому требованию друзей.
Они роем лесных пчел вились вокруг него. Я, его неразлучный спутник, был свидетелем практически всех событий его жизни – радостный и печальных. Правда, мне редко удавалось наблюдать за процессом сочинительства – Франц предпочитал затворническое уединение в такие часы.
Но творил он обычно с утра и до обеда. Во второй половине дня Шуберт никогда не сочинял. Он выходил из дома, и кому, как не мне, было знать, где можно его найти. После обеда он шел в кофейню, выпивал маленькую порцию черного кофе, курил пару часов и при этом читал газеты. А вечером он целиком и полностью посвящал себя общественной жизни. За исключением шубертиад или прогулок по предместьям Вены, он посещал тот или иной театр – причем вовсе не обязательно музыкальный. Хорошие драматические артисты интересовали его ничуть не меньше, чем оперные.
Впрочем, более всего он любил бывать в кругу друзей. За стаканом вина или пунша Шуберт был гораздо разговорчивее, а порой даже позволял себе пустить довольно меткие иронические высказывания, чем чрезвычайно веселил окружающих. Его суждения о музыке всегда были острыми, лаконичными и определенными. В этой его привычке многие находили некоторое сходство с Бетховеном, который не стеснялся в выборе слов и фраз для характеристики действительности.
Надо ли говорить, что я всегда составлял ему компанию. Поначалу наши встречи в кафе были якобы случайными, а потом я настолько приучил его к моему присутствию, что он стал считать меня своей тенью и сам уже не мог обходиться без «своего дорогого друга Ансельма».
Я часто спрашивал себя: зачем мне так необходимо быть возле него? Почему с того момента, как я увидел Франца, он стал для меня воздухом, источником существования? Какова моя истинная цель? Неужели я так стараюсь во всем помогать ему лишь из чистого человеколюбия? Мне и самому-то в этакую бескорыстность не верилось. Судьба приготовила мне какой-то подвох, но на тот момент я не мог разгадать ее замысла.marcato
Я смотрел на Шуберта, уткнувшегося в газетный лист и пытающегося разглядеть что-либо при тусклом освещении в кафе, и ловил себя на мысли, что буквально боготворю этого человека и одновременно считаю себя его покровителем – ведь он в прямом и переносном смысле зависел от меня. Я смотрел на его коротенькие, пухлые пальцы, сжимающие кружку с горячим напитком, и не понимал, как в них скрывается волшебная сила, посредством которой из-под них вырываются божественные звуки. Я вглядывался в его небрежный облик – затасканный и измятый сюртук, непричесанную шевелюру, – и все больше удивлялся: кто бы мог подумать, что в такой невзрачной оболочке может скрываться дух Гения?
Часто я ловил себя на мысли, что в этом мире слишком много несправедливости. Вот например, на роль Гения куда лучше подошел бы не Шуберт с его двойным подбородком, вздернутым носиком и поросячьими подслеповатыми глазками, а ваш покорный слуга. Женщины, бросающие обольстительные взгляды мне вслед, частенько поговаривали между собой, что Ансельм Хюттенбреннер – в отличие от его уродливого брата Йозефа – удивительно хорош собой, и с него нужно писать портреты.
Один из таких портретов стал бы достойным украшением галереи великих композиторов и музыкантов. Но судьба выбрала почему-то не меня. Она отдала предпочтение этому неказистому Шуберту. И за какие такие заслуги ему дано великое счастье быть гением? И почему эта насмехающаяся двуликая злодейка корчит мне омерзительную рожу, а ему дарит милую благосклонную улыбку – ведь мои старания в приближении к совершенству ничуть не меньше!
Один Бог знает, сколько сил и терпения я положил, чтобы научиться мастерству композиции. Я подробнейшим образом изучил музыку великих мастеров прошлого – Баха, Шютца, Букстехуде, Генделя, Моцарта, Гайдна. Я знакомился с тем, что было издано Бетховеном. Я вглядывался в Шуберта, который был в двух шагах от меня, и стремился познать тайну вдохновения, этого мистического чуда. Но все было напрасно: все, что я пытался сочинить, в лучшем случае походило лишь на стилизацию того или иного уже написанного кем-то до меня произведения.
Тогда я стал в открытую пользоваться подобным способом композиции, напоминающим скорее работу средневекового ремесленника или организатора, чем Демиурга музыкальной материи, и положил его в основу своей оригинальной методики. Попросту говоря, берясь за сочинение очередной вещи, я прежде всего выбирал себе ориентир из классики и писал что-то подобное.
Но более всего меня увлекало сочинительство инструментальных вещиц на известные темы. Тут можно было не скромничать и варьировать изначально данный музыкальный остов так, как моей душе угодно. Частенько в этом случае я избирал темы шубертовских песен – они были известны широкой публике и пользовались чрезвычайным успехом.
На первых порах, пока мой метод был в новинку, общество одобряюще кивало мне. Но со временем мое положение все более ухудшалось. Привлеченная звучанием полюбившихся мелодий, публика шубертиад после пяти минут прослушивания бездарно сделанных, признаться откровенно, вариаций или обработок теряла всяческое терпение и начинала тихо или открыто протестовать.
Моей попыткой реабилитировать себя стал фортепианный Вальс на тему «Лесного царя», нашумевшей баллады Франца. Битых две недели я просидел за роялем с целью вымучить из себя хоть что-либо гениальное! И что же? Все мои усилия были сведены на нет этой безжалостной, бездушной толпой!
Надо ли говорить, что исполнение моего Вальса вылилось в бурное обсуждение и осуждение моего «нахальства» и закончилось грандиозным скандалом?.. После этого я долго не притрагивался к клавишам рояля. Я даже бросил навещать Шуберта, пока тот не обеспокоился моим длительным отсутствием и насильно не вытащил меня из томительного затворничества.
Что-то произошло в те дни. Внутри меня словно случился щелчок, и заработал какой-то механизм, неотвратимо приближающий к чему-то страшному, вероятно, – к пропасти, и я понимал, что остановить этот механизм уже невозможно. Более того, у меня возникло странное, неведанное до сих пор ощущение, что я рожден именно для того, чтобы завести это механизм и выполнить некое действие. Это было очень похоже на некое судьбоносное предназначение. Я начал смутно осознавать, что явился на свет, чтобы стать Мессией.
Что именно мне надлежит сделать, я пока не знал. Однако то обстоятельство, что меня неведомыми силами притягивало к фигуре Шуберта, наводило на мысль, что моя миссия напрямую связана именно с ним.tempo primo
– Ансельм, ну что же ты не отвечаешь?
Хюттенбреннер вздрогнул, выплыл из потока сознания, вернулся в реальность. Пришел в себя. Начал оценивать ситуацию.
Оказалось, что он сидит за роялем и неотрывно пялится на клавиатуру. Ансельм поднял голову и увидел нависшую над ним встревоженную физиономию Шуберта (ракурс снизу вверх особенно неудачен – с невесть откуда взявшимся злорадством подумал Хюттенбреннер).
– Ну наконец-то у тебя появился осмысленный взгляд! – всплеснул руками Шуберт. – Вот уже с полминуты я стою над тобой и гадаю, что же такое повергло моего дорогого друга в окаменелость? Неужто ты рассердился из-за Симфонии? Ну, давай признавайся!
Ансельм встал, опираясь на крышку рояля, провел ладонью по глазам.
– Все в порядке, Франц. Не беспокойся. Вероятно, я просто слишком утомлен, мне нужно выспаться.
– Нет-нет, – не унимался Шуберт. – Ты можешь провести кого угодно, но не меня! Я-то знаю, что ты отключился из-за сильного нервного потрясения. Ты разволновался из-за Симфонии, ведь так?
Хюттенбреннер ничего не ответил, по возможности стараясь скрыть нарастающее напряжение и дрожь в руках.
– Ну вот, что я говорил?! – воскликнул Шуберт. – Ты молчишь, а это значит, что я целиком и полностью прав!
Шуберт решительно подошел к роялю, схватил кипу листов, стоящих на пюпитре, и протянул их гостю.
– Ансельм, умоляю тебя! Ради всего святого! Во имя нашей дружбы! Возьми эту проклятую Симфонию и делай с ней, что тебе вздумается. Хочешь – запри под замок, а то и вовсе брось в камин. Я тебе ее дарю.
Хюттенбреннер взглянул на друга, как на помешавшегося.
– Да ты что, Франц?! Я не могу забрать ее у тебя, к тому же эта вещь не дописана…
– Почему? – недоуменно спросил Шуберт, вглядываясь в последнюю страницу текста.
– Но ведь на этих листах только две части, а правила классического жанра требуют четыре.
– А, – отмахнулся композитор, – ерунда! Я уже записал все, что хотел, так зачем же мне лепить еще две какие-то надуманные части, если музыка свершилась и диктует лишь молчание?
– Интересно… Какая-то «неоконченная симфония» получается.
– Ну и пусть будет «неоконченная», я-то не против, – пожал плечами автор, словно его это касалось меньше всего. – Так что, берешь? Ну, не в огонь, так просто в дар. А?
Ансельм пожал плечами.
– Но зачем мне твоя Симфония? Что я буду с ней делать?
Ансельм отвел от себя протянутый текст. Он уже видел, как ночами напролет пытается собрать по вертикали воедино пятнадцать строк нотного текста и укладывать их в двухстрочную фактуру фортепианного письма, а потом…
– На, бери, – терпение Шуберта подошло к концу, и он свернул свою музыку в трубочку и сунул Ансельму в руки. – Я не позволю, чтобы какая-то ерунда портила моему лучшему другу настроение!
– Может, я передам ее в дар какому-нибудь музыкальному обществу? – предложил Ансельм, польщенный такой жертвенностью и немного из боязни, что Шуберт передумает, поймет необоснованность и необдуманность своего опрометчивого поступка. – Пусть посмотрят и, возможно, сыграют. Это было бы весьма кстати. Может, соберут денег, – тебе ведь нужны деньги на лекарства.
Лекарства отозвались в душе Шуберта выплеснувшейся горечью. В последнее время он все острее испытывал в них необходимость. Болезнь, обнаруженная двумя годами ранее, прогрессировала, набирала силу. На ее лечение понадобился бы целый длительный и интенсивный курс, а у него не было денег.
– Было бы неплохо. А впрочем, как знаешь, и вообще, мне уже надоела эта тема. Пойдем лучше к Майрхоферу – на днях я встретил его на улице, и он звал к себе, причем был весьма настойчив.
Франц дружески похлопал Хюттенбреннера по плечу и задорно улыбнулся. Гость не мог не ответить согласием. К тому же Симфония была у него в руках и эти самые руки жгла огнем. Двух минут поверхностного взгляда по диагонали позволили Хюттенбреннеру понять, что перед ним не просто очередная попытка. Это было что-то совершенно иное, новаторское, сотворенное гениально. И судьба этой музыки в его власти.
Неожиданное приобретение стоило отметить шикарной вечеринкой. Друзья энергично спустились по лестнице и вышли на улицу. Дверь проводила их печальным, едва ли не укоризненным скрипом.andantino
Ансельм Хюттенбреннер покинул Вену буквально на следующий день, оставив безмерно удивленному и в не меньшей степени огорченному Францу лишь краткую записку, которая с натяжкой объясняла его поспешный отъезд.
Подавленный сим обстоятельством, Шуберт долгое время не мог справиться с тоской и депрессией. Гениальное сочинение, подаренное накануне сбежавшему другу, напрочь исчезло из его памяти. Какая там Симфония, если рядом нет его неизменного преданного спутника. Франц ощущал себя так, словно у него похитили тень или отняли ногу, или даже руку. Друзья стали замечать, что он реже появляется в обществе, что перестал посещать театры и совершенно замкнулся в себе.
Требовалось что-то срочно предпринять, чтобы вытащить композитора из хандры.
Спасение пришло свыше: в середине мая старый граф Эстергази, по обыкновению отъезжая на летние месяцы в Желиз, решил пригласить для своих дочерей учителя музыки, дабы скрасить их времяпрепровождение в глухой венгерской провинции. Выбор пал на Шуберта, поскольку графу уже приходилось единожды – около шести лет назад – приглашать его в качестве преподавателя пения и игры на фортепиано, и он был в высшей степени удовлетворен качеством уроков и, разумеется, результатами: дочери играли и пели как богини!
Не колеблясь ни минуты, Шуберт принял приглашение и уехал в Желиз – наверняка в сторону, противоположную той, куда направился Ансельм. Расстояние, отделяющее его от друга, растянулось еще больше, но, как выяснилось, перенести его оказалось намного проще, чем в Вене, в городе, где все – каждый изворот улочек, каждый столик в кафе – решительно все напоминало ему об Ансельме.
Одной из дочерей графа как нельзя более кстати исполнилось девятнадцать. Каролина была милым и очаровательным существом – красива, грациозна, стройна, доброжелательна. В довершение ко всему она была умным, чутким и духовно глубоким человеком, и именно это качество перевесило на какое-то время чашу, доверху наполненную тоской по Вене и Ансельму.
Он называл ее недосягаемой звездой, и на то были весьма двусмысленные причины. Достигнуть звезды композитору мешало не только более низкое социальное положение.misterioso
Ансельм, путешествующий в это время по Австрии, все же не терял из виду своего друга. Он узнавал о событиях его жизни из переписок с братом и с приятелями. Они охотно снабжали его деталями и подробностями, из которых складывалась довольно осязаемая картина. Откровенно говоря, Ансельму эти сведения нужны были исключительно для подтверждения того, о чем он и так прекрасно знал: пространственное отдаление от Шуберта нисколько не мешало ему быть рядом и видеть друга насквозь.
Он догадывался, чем в данный момент живет Франц, знал о его помыслах и душевных терзаниях. Однажды (в ту ночь ему приснился кошмар) он почувствовал, как что-то в Шуберте переменилось. Не прошло и месяца, как он узнал из письма Бауэрнфельда об отношениях Шуберта и Каролины Эстергази.
«…Франц, собственно говоря, до смерти влюблен в молодую графиню Эстергази. Он и помимо часов занятий иногда приходил в графский дом под защитой и охраной своего покровителя Фогля /Ах, вот как?! Выходит, этот высокомерный наглец Фогль заделался его покровителем?!!/, который общался с князьями и графьями, как с равными. /Еще бы, ведь этот выскочка позволит себе распушить хвост даже перед императором! И как только Франц терпит его рядом с собой…/ Шуберт при этом охотно оставался в тени, был молчалив с обожаемой ученицей и все глубже вгонял себе в сердце любовную стрелу. Для лирического поэта, как и для композитора, несчастная любовь, если она не слишком несчастна, может иметь свои положительные стороны, повышая его субъективную восприимчивость и придавая стихам и песням, на которые она вдохновляет, краски и тона прекраснейшей действительности…»
/Дальше можно не читать: Бауэрнфельд, как всегда, пустился в философствования. Неисправимый оптимист. Во всем найдет что-нибудь положительное. Наверно, даже после собственной смерти облегченно вздохнет и порадуется, что наконец-то ему не нужно каждое утро вставать с постели и умываться.
Значит, Франц увлечен… Что ж, пусть потешится. Я вовсе не собираюсь ревновать – наши отношения всегда будут на порядок выше, даже несмотря на то что мы врозь. Я продлю свое отсутствие еще какое-то время. Возвращаться сейчас было бы крайне неуместно. Но как только эта девица ему надоест (или наоборот – он ей), я должен вернуться, чтобы выполнить то, что мне препоручено. Главное не упустить момент…/leggiero con grazia
По аллеевой дорожке вдоль аккуратно посаженных деревьев прогуливались двое. Она – в пышном шелковом платье – на полшага впереди, со сложенным веером в изящной тоненькой руке. Темные кудри, уложенные симметрично по обеим сторонам очаровательной головки, покачивались в такт ее легкому шагу. Августовский полдень солнечными бликами плясал на ее полуобнаженных плечах, играл в камешках драгоценных сережек и изящного ожерелья.
Она была чудо как хороша, она была само совершенство, и потому молодой человек, неслышно ступающий рядом, был чрезвычайно стеснителен и робок.
– Господин Шуберт, я слышала от вашего друга Фогля, на днях вы плохо себя чувствовали? Что же вы понапрасну мучите себя и всякий раз исправно приходите на занятия? Папа нисколько не будет против, если вы отдохнете некоторое время, поправите здоровье…
Спокойный и глубокий, мягкий и проникновенный голос отозвался мелодией неземной красоты. Шуберт, шагающий в полуметре от божественного создания, залился краской.«Ох, уж этот Иоганн! До чего же длинный язык у этого несносного человека! Стоит мне чихнуть, как он тут же разнесет в округе весть о моей грядущей кончине! Как бы не забыть устроить ему по возвращении хорошенькую взбучку. Теперь в Ее глазах я выгляжу хилым и немощным калекой…» – подумалось Шуберту, но вслух он произнес совершенно иное, и как можно более твердым, убедительным тоном:
– Дражайшая Каролина, наш друг Иоганн, как всегда, преувеличивает. Не беспокойтесь – мое здоровье в полном порядке, я чувствую себя превосходно.
– Ах, господин Шуберт, не считайте меня настолько бездушной! Можете не обманывать и не усыплять мою бдительность: я и без намеков ваших друзей прекрасно вижу, что вам стало хуже. В последнюю неделю вы чрезвычайно бледны.
– Графиня, прошу вас, не стоит об этом, – вполголоса попросил донельзя смущенный Шуберт. – Не видеть вас для меня еще более мучительная пытка…
Девушка вздрогнула и ускорила шаг.
– Наверное, нам уже пора возвращаться, – проговорила она, и в голосе ее дрожала едва уловимая грусть. – Скоро подадут обед, а потом вы, господин Шуберт, должны будете выполнить свое обещание! Помните?
ritardanto con amore
Франц коснулся взглядом ее миловидного личика, обращенного к нему в полупрофиль. В ее зеленоватых глазах утопал солнечный поток…
– Франц, вы меня слышите?a tempo
– Простите, Каролина, я задумался. Со мною так иногда бывает.
– Я спросила, помните ли вы о том обещании, которое дали нам накануне? – терпеливо повторила девушка.
– Да, разумеется! – горячо заверил ее рассеянный Шуберт. – Я принес Фантазию с собой. Она готова и ждет часа, когда ей будет позволено коснуться вашего слуха.
– Чудесно! – улыбнулась Каролина и взяла робкого композитора под руку. – Так пойдемте же скорее, нас уже заждались! К тому же мне не терпится послушать ваше очередное творение. Уверена – оно ничуть не менее великолепно, чем предыдущие!
– Вы мне льстите, графиня…
– Нисколько! Но если вы считаете, что я плеснула слишком большое количество сиропу, то я немедленно пожурю вас: за лето, проведенное с нами, вы сочинили так много прелестных вещиц, но ни единой из них не посвятили мне. А еще называете меня вашей любимой ученицей!
Шуберт вспыхнул и остановился, осторожно высвободил руку Каролины и пристально посмотрел ей в глаза:
– Зачем же?.. Вам и без того все посвящено…grave funebre alla sarabanda
– Он умирал быстро. Болезнь, та старая болезнь, которая сидела в нем несколько последних лет, за пару месяцев набрала силу и сожгла его. Никто не успел осознать, что это может окончиться так печально. Ему было всего тридцать один год, разве это возраст для того, чтобы покидать сей бренный мир?
Ансельм одним из последних шагал в скорбных рядах траурной процессии, медленно приближающейся к Верингскому кладбищу. Моросил мелкий заунывный дождик. Было мрачно и сыро – совсем как тогда, когда хоронили Моцарта. Атмосфера вместе с погодными условиями словно протиснулась сквозь временные наслоения, изменились лишь лица…
Слова бредущего рядом с ним Фердинанда Шуберта, брата Франца, нещадно врезались остроугольными мраморными плитами.
– Почему он, почему никто не написал мне, что болезнь обострилась? – пробормотал он.
– Как-то не до того было, – пожал плечами Фердинанд. – Сам посуди: ты пропал на шесть лет, был в постоянных разъездах…
– Но я должен был успеть повидаться с ним! Впрочем, теперь уже все равно… Как это произошло, расскажи мне.
– Уже в сентябре Франц был нездоров и лечился. Его здоровье вроде бы улучшилось, и он даже уговорил меня съездить вместе с ним в Унтер-Вальтерсдорф, якобы ради развлечения. Но оттуда он потащил меня в Эйзенштадт, где разыскал могилу Гайдна. Помню, что он оставался возле нее в одиночестве долгое время, как будто хотел пообщаться с умершим с глазу на глаз. Хорошенькое же развлечение вышло из этой поездки, нечего сказать!
– Странно, на мой взгляд, кладбище – не самое привлекательное место для прогулок, я бы сказал, даже удручающее…
– Тем не менее Франц не выглядел опечаленным. В течение трех дней нашей «увеселительной» поездки он ел и пил весьма умеренно, но был очень весел и делал много шутливых замечаний. Но как только мы вернулись в Вену, его состояние снова ухудшилось…
– Так всегда бывает: перед смертью болезнь дает человеку возможность в последний раз полноценно насладиться жизнью, – вставил Хюттенбреннер, перепрыгивая через большую грязную лужу.
– Помню, в последний день октября Франц захотел вечером поесть рыбы. Попробовав первый кусочек, он вдруг бросил нож и вилку на тарелку, говоря, что находит эту пищу отвратительной и что ему кажется, будто он принял яд. С этого момента брат почти ничего не ел и не пил, принимал исключительно лекарства, прописанные доктором. Он пытался найти облегчение, выходя на свежий воздух, и для этого совершил еще несколько прогулок. Третьего ноября рано утром он еще сходил из Ной-Видена в Хернальс, чтобы услышать мой Латинский Реквием…
– Фердинанд, я не поверю, что ты позволил ему покинуть постель и тащиться в такую даль только ради того, чтобы услышать твою музыку?! Надеюсь, вещь тебе удалась, и он не был разочарован.
– О, нет, – ответил пристыженный Фердинанд. Конечно, он отговаривал брата от этой безумной затеи, но слишком пассивно и неискренне: в глубине душе он надеялся, что брат услышит одно из его лучших последних сочинений и оценит по достоинству. Все равно его дни были сочтены, так какая разница, проведет он их в пути или в постели? – Ему очень понравился Реквием!
«Неужто? – усмехнулся про себя Хюттенбреннер. – «Что-то я не припомню, чтобы Фердинанд сочинил в своей жизни что-либо хоть вполовину настолько же значимое и достойное, как любая из песенок его брата. По-моему, он никогда не отличался гениальностью…»
– …Он назвал его простым, но эффектным, и вообще высказал свое довольство им. Не веришь? – Фердинанд судорожно ухватил спутника за рукав плаща и всмотрелся ему в лицо, ожидая ответа.
– Отчего же…
– Ну вот, – облегченно вздохнул брат Гения и продолжил: – После службы он шел три часа и по дороге домой жаловался на усталость…
Погрузившись в печальные воспоминания, приятели не заметили, как отстали от траурной процессии. Их догнал Бауэрнфельд, который, увидев Ансельма, был весьма удивлен.
– Жаль, что ты не застал его, – сказал он Хюттенбреннеру после приветствия. – Думаю, он был бы рад тебя видеть. А из друзей-то, мне кажется, навещал его последним именно я. Это было 17 ноября, за два дня… Он хотел написать оперу на мой текст, поэтому я бывал у него частенько. Мне казалось, работа отвлекала его от болезни. Но в тот день Франц лежал, не вставая с постели, жаловался на слабость, на жар в голове. Днем он еще был в полном сознании, без признаков бреда, хотя подавленное состояние друга преисполнило меня плохими предчувствованиями.
– А вечером ему стало хуже, я был вынужден привести врачей, – добавил Фердинанд. – Брат сильно бредил и с тех пор больше не приходил в сознание.
– Кто бы мог подумать, что он сгорит так быстро! – с искренней болью воскликнул Бауэрнфельд. – Сколько гениальной музыки он смог бы подарить человечеству! А ведь еще на прошлой неделе он горячо говорил со мной об опере и о том, с каким великолепием намеревается ее оркестровать!.. Он уверял, что в его голове бродили совершенно новые гармонии и ритмы!..solo-cadenza
…«как будто бы принял яд», «как будто бы»…
Удача сопутствовала мне: Ринна – этот глупый, ничего не смыслящий тринадцатилетний ребенок – совершенно не заметила, как я проник в кухню…
В то время я находился в Граце, куда приехал совсем недавно и в ближайшем будущем покидать его был не намерен. Мне импонировала уютная атмосфера этого города, к тому же я весьма неплохо устроился с жильем, отыскав давних знакомых. Помню, приятель достал билеты на какой-то концерт, и я уже хотел дать согласие, как вдруг непреодолимая сила заставила меня сказать «нет».
Друг очень удивился – концерт был стоящий, и билеты достались ему не задарма. Пришлось срочно выдумывать небылицу о том, что якобы утром я получил срочное письмо с просьбой немедленно вернуться. Правдоподобная причина несколько умерила его яростный пыл по поводу отказа.
Впрочем, письмо и в самом деле пришло. Но оно не содержало в себе никакой просьбы о возвращении. Просто Лахнер написал мне о вновь вспыхнувшем приступе застарелого тифа, подкосившем Шуберта. Он также извещал меня о том, что, несмотря на неважное здоровье, Франц неутомимо работает, создавая гениальные творения одно за другим. И удовлетворение от работы словно возвращает его к жизни. Например, в последнее время особенно его поддерживают те минуты, когда Фогль исполняет его новый вокальный цикл на слова Мюллера «Зимний путь». Откровенно говоря, писал Лахнер, мне не слишком понравился этот цикл о странствующем подмастерье – он напрочь лишен оптимизма и света и оставляет на душе тяжелый камень. Зато Франц от него в полном восторге. Сейчас он усиленно трудится над струнным квинтетом.
Прочитав все это, я понял, что час исполнения миссии, с которой я пришел на землю, настал.
«Зимний путь»… Цикл песен о страннике… Созданием этого произведения Шуберт сам напомнил мне о себе, сам позвал меня. Странно, но иногда все факты говорят о том, что о моем деле, о моей миссии ему известно даже больше, чем мне!
Итак, я немедленно собрался и выехал в Вену. Несколько дней пути – и я в родном городе, где воздух пронизан его дыханием, где с оглушительной силой и мощью звучит его музыка. В тот день она пронзала меня насквозь. Я понял, что если задержусь здесь более чем на один час, то она окончательно уничтожит меня.
Я всегда говорил Шуберту, что его рассеянность в сочетании с гостеприимностью когда-нибудь сыграет злую шутку – и мои слова оказались пророческими. Дверь с черного хода была, как обычно, незаперта, а потому я смог беспрепятственно проникнуть в дом и выждать, когда девчонка понесет ему лекарства. Доктор велел принимать лекарства перед едой.
Из комнаты Франца доносились голоса Бауэрнфельда и Фердинанда, а потом – звуки рояля. Преодолев усиливающуюся дрожь, я решительно шагнул к столу. На подносе уже были расставлены порционные тарелки с кушаньем. Сегодня подавали рыбу в соусе. Видимо, из-за болезни все гости ужинали в комнате Франца.
Его тарелка – декоративная, с выгравированным серебром, подаренная графом Эстергази еще во времена незапамятной молодости – заметно отличалась от других. Я знал привычку друга никогда, никому и ни при каких обстоятельствах ее не уступать.
Полить снадобьем рыбу и незаметно покинуть дом – все произошло быстро и легко, словно не со мной.
Покидая сумеречную Вену, я поймал себя на том, что звучащая в атмосфере музыка больше не разрезает меня на части. Механизм, отсчитывающий секунды где-то внутри, остановился. Во мне поселилось оглушительное опустошение…parlando sottо voce
Зачем я это сделал? Ради чего мне это было нужно? Какую цель я преследовал?
Я снова и снова задавал себе эти вопросы и не мог найти на них ответов.
По прибытии в Грац мой рассудок помутился. У меня начался жар, я перестал понимать, что произошло и произошло ли что-либо вообще. Покидал ли я город, был ли в Вене, или все это лишь мучительный кошмар, плод моего воспаленного воображения?
Прошло около двух недель, прежде чем я пришел в себя. Никто не мог помочь мне разобраться в действительности. Мой приятель, у которого я остановился, ни разу не спросил меня о поездке в Вену, ни единожды не заговорил на эту тему, словно я все это время провалялся в бреду и ни на миг не покидал его гостеприимного дома. Спросить же у него я не решался: доктор и помимо подобных вопросов намекал ему на критическое состояние моего рассудка и предлагал переместить меня в палаты для душевнобольных. Переубедить обоих сомневающихся мне удалось с огромным трудом.
Я до сих пор не знаю, был ли я тогда в Вене. События того периода потеряли для меня всякие реальные очертания и превратились в зыбкое расплывчатое пятно.
И тем не менее я считал себя виновным в его смерти все оставшиеся годы, длительные и тяжелые годы моей жизни, отведенные мне Всевышним не иначе как в наказание.misterioso
В каком бы мире – реальном или трансцендентном – ни было совершено злодеяние, оно все же было совершено мною. Он – Гений, я – Злодей. Фабула извечного сюжета.
Был яд, или его не было вовсе – это уже не имеет никакого значения. История должна была состояться, и мы с Францем были лишь пешками в очередной шахматной партии, безвольными куклами в спектакле.resoluto
«Симфония h-moll» в двух частях. Все тридцать лет это проклятущее произведение неотступно преследовало меня. Хорошенький подарочек сделал мне друг, нечего сказать! Не оно ли стало причиной, а может быть, и поводом тому, что произошло?
Покидая Вену – еще тогда, при жизни Шуберта – я забрал сочинение с собой. И с тех пор, куда бы я ни направлялся, эти листы сопровождали меня. Долгими вечерами я просиживал за инструментом и собирал многострочную оркестровую ткань в двухручную фортепианную фактуру, стараясь найти наиболее удачный вариант звучания, максимально близкий к тому, что хотел слышать Франц.
Какая неведомая сила толкала меня снова и снова к этим потрепанным рукописным страницам?
Прикасаясь к зыбкой материи гениального музыкального творения, я тем самым ощущал себя якобы причастившимся к тому божественному дару, каким обладал Шуберт. К тому же мною владела и сугубо практическая мысль: фортепианные переложения оркестровых вещей были в то время в моде – каждый, кто имел дома рояль, имел возможность воспроизвести самостоятельно любую музыку. В будущем я рассчитывал предложить Симфонию не только исполнителям, но и издателям и выручить из этого предприятия кое-какие деньги.
Конечно, я не собирался переступать грань порядочности и выдавать Симфонию Шуберта за свою. Во-первых, мне все равно никто бы не поверил. А во-вторых, мне было гораздо более выгоднее, чтобы на обложке издания рядом с именем моего гениального друга стояло и мое скромное имя. Может быть, хотя бы таким способом оно не останется неизвестным и не канет в веках бесследно?..
Но не будем отвлекаться – я хотел сказать совсем о другом.
Итак, в течение более чем тридцати лет я, втайне ото всех, ночами общался с Шубертом с помощью его музыки. Меня в буквальном смысле слова раздирали на части крайне противоречивые чувства. На первых порах я восхищался его творениями – ясное дело, Франц мог сочинять далеко не только песни, как принято считать, – он был гениален во всем, к чему бы ни прикасался.
Мои настойчивые попытки отговорить его от написания оркестровых или камерно-инструментальных вещей руководствовались не чем иным, кроме как безудержным страхом открытия в Шуберте выхода того безграничного творческого потенциала, коим тот обладал. Я боялся, попросту говоря, что он проникнет в недоступные тайны бытия, и весь мир станет пред ним на колени.
На этих же основаниях после его смерти я взялся за нелегкий труд – решил написать о Шуберте монографию. Прошло много лет, прежде чем труд о жизни и творчестве моего друга был написан, а затем и опубликован. Я не поскупился на похвалы, но признавал в нем талант лишь в одной сфере музыкального творчества. Видимо, я был достаточно убедителен, так как мне вполне удалось то, к чем я стремился: за Францем надолго закрепилось «почетное звание» композитора-песенника.
И ни слова о Симфонии.accelerando
Но ее существование в виде листов, неизменно украшавших крышку моего рояля, не позволяло мне жить спокойно. Эта музыка жила вопреки всему, она была сильнее всех обстоятельств и препятствий, которые создавались не без моего участия. Постепенно я начал все более и более раздражаться, осознавать собственную ущербность и посредственность по сравнению с дарованием друга. Я совершенно забросил собственное сочинительство, все время досуга бескорыстно даря музыке Шуберта.
Возможно, именно по этой причине я решил извести Франца. Я больше не мог с этим жить.
После его смерти я какое-то время мог дышать свободно: тяжелый груз неведомой миссии слетел с моей души. Но вскоре на пустующем месте начал расти новый, еще более тяжкий камень, имя которому – Чувство Вины.
Издание монографии не помогло. Симфония огромным укоризненным пятном лежала передо мной. Поединок длился более чем тридцать лет, после чего я не выдержал и сдался – отнес партитуру, к тому времени неоднократно переписанную, одному знакомому дирижеру. Тот с радостью согласился исполнить это неизвестное произведение «великого Шуберта».
Но и тут дело не обошлось без оговорок. Я отдал Симфонию только с тем условием, что в этот же вечер во втором отделении будет исполнена и моя новая увертюра. Это была моя последняя попытка причащения и реабилитации.
Концерт обещал быть событием. А вышел скандалом.
Симфония произвела необычайный фурор: это было открытие. Музыкальные критики впервые в открытую за явили о Шуберте-симфонисте, о Шуберте-новаторе, о Шуберте-Величайшем-Гении. Моя увертюра была опущена ниже нуля на несколько сот градусов. Пять минут публика, только что восторгавшаяся сочинением Франца, настороженно вслушивалась в творение вашего покорного слуги, после чего начались первые свистки. Увертюру никто не дослушал до конца, несмотря на все старания дирижера доиграть ее, несмотря на шум и истерику в зале.
Я был повержен.
И теперь передо мной лежит, как всегда, оригинал Симфонии h-moll. На ней лежит револьвер. И я дописываю последнюю строчку. И я признаю, что не выдержал сражения с Гением: о нем говорят века, я же неизвестен и большинству современников.
Но один лишь Всевышний знает, как я любил Шуберта…Диалог с паузами
– Один лишь Всевышний ведает, как я люблю тебя, брат мой.
– Костер затухает, и пространство вокруг наполняется темнотой. Нужно больше дров, чтобы стало светлее.
– Зачем? Для того чтобы видеть тебя, мне вовсе не требуется огонь. Вполне хватает и твоего собственного свечения.
– Ты льстишь мне, брат. Свет исходит не от меня. Это лишь отражение сияния прекрасной и недосягаемой звезды.
– На небе их тысячи. Которой из них?
– Выбирай любую.
– Нет. Мне не нужны звезды – они слишком далеки и холодны. Я отражаю тебя.
– И все же костер следует разжечь – близится время Даров.
– Ты хочешь сказать – время Жертвоприношений?
– Я хочу сказать именно то, что сказал.
– Твой голос стал жестче, брат. В чем причина? Ты недоволен мной?
– Мне не нравится то, что я увидел в пламени. Мне кажется, что это каким-то образом касается и нас с тобой.
– Тебе все еще только кажется? Разве ты не узнал в лицах персонажей человеческой комедии наши искаженные временем облики?
– …Мне стало зябко, и вообще – как-то не по себе. Ты не замечаешь, что на землю вместе с ночью опускается не только темнота, но и прохлада?
– Конечно. Мне странно, что ты раньше этого не видел.
– Я смотрел не на землю. Мой взгляд, и слух, и все мое существо было устремлено к небесам.
– Стремясь увидеть все, ты не видишь самого главного.
– Каждый выбирает, что для него важнее.
– Конечно! Разве мне, обыкновенному земному человеку, доступны понятия и истины высших сфер? Куда там… До небес не доплюнешь.
– Я снова не узнаю тебя, брат. Твоими устами говорит само Зло человеческое. Возможно, ты неверно меня понял: я вовсе не хотел подчеркнуть свое превосходство…
– Да?! Не хотел?! Да ты, между прочим, изо дня в день, сам того не замечая, твердишь об одном! Допустим, я действительно не слышу твоей чертовой музыки, но почему мы каждый вечер должны возвращаться к этой теме снова и снова? Нам с тобой больше и поговорить не о чем?
– Хорошо, я буду молчать.
– Но опять же – о ней, о музыке сфер – Вселенским Молчанием!
– Твое лицо искажено злобной гримасой. На нем пляшут блики разгоревшегося костра. Мне страшно и неприятно на него смотреть.
– Страшно? Чего же ты боишься, брат мой?! Не отворачивайся, посмотри хотя бы раз правде в глаза: рядом с тобой есть я, твой родной брат, которому тяжело жить в абсолютном одиночестве на этой грешной земле!
– Откуда в тебе столько одиночества?
– От того, что одновременно ты и есть, и нет тебя. К тому же, тебя слишком много, – если ты понимаешь, о чем я говорю.
– Не совсем…
– Тогда пойдем, пойдем со мной – и ты увидишь, отчего я одинок, когда вокруг меня Ты, множество Тебя.
История третья. Изнутри Россия, вторая половина XIX века
solo meditation
Число «пять» – непростое и, я бы даже сказал, магическое. Немудрено, что нас было пятеро.
Пять русских композиторов, временные координаты которых так удачно совпали, композиторов, повстречавшихся друг с другом в одном из красивейших и, безусловно, счастливых городов планеты, известным под названием Петербург.
Пять символизирует некое разрушение заданности квадрата. Еще начиная с пифагорейцев, насколько я помню, сильной символикой обладало число «четыре». Средневековые философы усматривали в нем высший знак гармонии, так как это число связывает противоположные стороны, из которых состоит. Мир в основе своей построен на законе четверки: стоит вспомнить хотя бы о четырех временах года, четырех сторонах света, четырех стихиях (или составных элементах мира), четырех прямых углах.
Участь же пятого элемента незавидна, подобна пятому колесу – быть лишним и ненужным, мешать и разрушать слаженность. Я был тем самым пятым. Моя роль заключалась в том, чтобы стать для них одновременно и точкой отсчета, и звеном, замыкающим магический круг.
Как это начиналось…
moderato assai
Сначала нас было двое: случай свел меня с Балакиревым. Впрочем, случай ли? Теперь я все больше и больше прихожу к убеждению, что этот «случай» был запрограммирован Всевышним с самого начала, с момента моего рождения. Между прочим, родители неслучайно назвали меня Цезарем – имя влечет за собой характер, а стало быть, и судьбу. Во всяком случае, они на это очень надеялись.
Музыке я начал обучаться с десятилетнего возраста. Еще до отъезда из родного города Вильно мне посчастливилось взять несколько уроков теории и композиции у известного в то время польского композитора Станислава Монюшко. Но родители не захотели видеть в своем сыне музыканта, посему по прибытии в Петербург я по воле отца поступил в Главное инженерное училище, а по окончании этого заведения продолжил образование в этой же сфере – в Военно-инженерной академии.
Тот самый знаменательный случай произошел со мной примерно за год до окончания академии: на одном из публичных концертов я познакомился с Милием Балакиревым.
Помню, что я только что был произведен в офицеры и музыкой был увлечен серьезно. Узрев в собеседнике родственную душу, я с радостью ухватился за возможность поделиться своими соображениями по поводу музыки и разговорился с Милием Алексеевичем.
Статный молодой человек с благородными чертами лица и аккуратно постриженной по тогдашней моде бородой, в отутюженном фраке, сверкающей безукоризненной белизной рубашке и начищенных сапогах произвел на меня весьма благоприятное впечатление.
Но гораздо больше меня поразил его острый и живой ум, меткое словцо и горящие совершенно неземным светом глаза.
Этот удивительный человек, как оказалось, был вхож в круги музыкальной элиты Петербурга. Уже в пятнадцатилетнем возрасте он, подобно небезызвестному капитану Жюля Верна, управлял огромным «кораблем» – дирижировал любительским симфоническим оркестром, исполняя симфонии Бетховена.
К моменту нашей встречи Балакирев уже был известной личностью – незаурядной и многоплановой, потому как не только сочинял хорошую музыку и писал в периодической печати яркие отзывы о концертах, оперных постановках и прочих событиях музыкальной жизни Петербурга. Милий завоевал признание публики и в качестве превосходного исполнителя – он отлично владел фортепиано и тонко чувствовал музыку.
Одним словом, человека с подобным творческим потенциалом еще поискать. С первых минут нашего общения я интуитивно почувствовал некое сходство между нами. Этим, вероятно, и объяснялась та легкость, с которой мы сразу же стали понимать друг друга.
Милий с величайшим одушевлением говорил мне о Глинке – в тот день я впервые услышал имя этого великого русского композитора. Мне было неловко и досадно за собственную неосведомленность, но взамен я мог в подробностях рассказать о моем учителе Монюшко – как выяснилось, Балакирев точно так же не знал его. Милию, практикующему педагогу по музыкальной композиции, было весьма любопытно узнать о методах обучения своего знаменитого польского «коллеги». Таким образом, мы были квиты.
Я решил для себя, что встреча с Балакиревым предназначена мне судьбой, что это знак свыше, открывающий мне дорогу в мир музыки, о котором я грезил на протяжении долгих лет обучения в чуждых мне по духу заведениях. Милий, в свою очередь, признался, что тоже увидел во мне неординарную личность. Совсем скоро мы стали хорошими друзьями. Дело было в шляпе.sostenuto doloroso
Суровый осенний ветер Балтики забирался под полы и за ворот пальто, нещадно пронизывая до костей. В морском порту всегда было ветрено, но сегодня холод был особенно чувствителен каждому из четверых мужчин, прибывших сюда с определенной целью.
Возле причала величаво покачивался на волнах красавец «Алмаз». Паруса клипера были еще спущены, но команда была наготове и лишь ожидала капитанского приказа к отплытию. На борту царила подобающая моменту суматоха. Члены флотского экипажа, состоящего из молодых гардемаринов, выпускников Морского кадетского корпуса, то и дело проносились по трапу. Военному паруснику предстояло длительное и нелегкое путешествие – на службу к берегам Западной Европы.
– Эх, Николя, счастливый же ты человек! – воскликнул один из четверых, обращаясь к молодому сухощавому человеку, одетому в военно-морскую форму. Наличие обмундирования выдавало в нем члена команды, прочих же, облаченных в гражданскую одежду, отличал взгляд, преисполненный грустью предстоящей разлуки с товарищем. – Как бы мне хотелось быть на твоем месте! Посмотреть Европу, набраться впечатлений на всю жизнь – что может быть лучше для вдохновения и новых творческих замыслов!
Человек в форме едва заметно улыбнулся:
– Сказать по чести, Цезарь, я бы охотно принял твое предложение и остался бы здесь, в России. Три года разлуки для меня будут невыносимы. Я и душой, и сердцем русский и жить не смогу без воздуха России, без вас, друзья. Но, к сожалению, обстоятельства вынуждают меня отправляться в это путешествие, и я не в силах противостоять им.
– Я давно говорил тебе: бросай ты свою морскую карьеру ко всем чертям собачьим! – раздался из-за спины говорившего рокочущий бас. – Сдалась она тебе, что ли?! Всю жизнь себе поломаешь, сворачивая от музыки, а ведь против судьбы все равно не попрешь.
– Модест, прошу тебя, не выражайся так громогласно, – остановил говорящего мягкий и глубокий баритон. – Иначе отъезжающие подумают, что мы – грузчики.
Баритон принадлежал Балакиреву, имя которого упоминалось выше. Этот человек, к которому, как к мощному магниту, притягивались талантливейшие музыканты эпохи, был признанным главой еще неокончательно оформившегося творческого кружка.
Он был центром замкнутого в себе круга, Солнцем, вокруг которого вращаются планеты музыкальной Галактики России девятнадцатого столетия. Мнение Милия Алексеевича было определяющим, его оценка – высшим критерием, а к его замечаниям прислушивались все члены композиторского объединения, даже самые свободолюбивые и непокорные.
– А мне плевать, – отмахнулся Модест, но все же внял просьбе друга и попритих.furioso
«Непричесанный Мусоргский. Мусорянин – так оно и есть! Все в нем не как у людей, все в нем как зря: волосы неухожены, пальто нараспашку, сапоги неначищены, мысли растрепаны, чувства наперекосяк…» – никем не замеченный сгусток злости развеяло ветром.
– Не тебе объяснять, Модест, почему я не могу порвать с карьерой. Мы живем в такие времена, когда воля отца нерушима. Родительское слово – закон, и не нам его отрицать.
Балакирев добавил:
– Мы пытались пойти в открытую, официальным путем добиться разрешения освободить Корсакова от этой заграничной повинности, но ничего не вышло. Значит, так должно быть.
– Это все Воин, все брат. С тех пор, как его назначили директором Морского корпуса, он и помыслить не может об иной участи для меня!
Молодой Римский-Корсаков нахмурился и исподлобья посмотрел на клипер, знак его отдаления от всего, что мило и дорого сердцу, – от Родины, друзей, музыки. Разлука длиной в три долгих года пугала его, но начинающий жизнь человек интуитивно понимал, что так предрешено судьбой и, стало быть, обжалованию не подлежит.
– Вот вернусь, – произнес он негромко, – отслужу по всем законам, как того хочет отец с братом, и тогда в полной мере посвящу себя музыке. Тогда уж никто не посмеет навязывать мне свое мнение! В конце концов это моя судьба, и я волен распоряжаться ею на собственное усмотрение.
– Не зарекайся, – остановил его Мусоргский, по своему обыкновению настроенный весьма пессимистически. – Там, в Европе, у тебя появится множество дел, как, впрочем, и развлечений, и через три года ты окончательно забудешь о потребности в сочинительстве! Военная карьера и музыка довольно далеко отстоят друг от друга.
Рука в черной кожаной перчатке мягко легла на плечо говорящего.
– Ты не прав, Мусорянин. Не стоит так горячиться. Я думаю, что поездка пойдет Николаю только на пользу. Он закончит образование, успокоит тем самым своих родителей, посмотрит на мир и после всего этого обретет долгожданную свободу. И прежде всего это будет свобода выбора: вот тогда-то, через три года перерыва, он и сможет понять в полной мере, насколько важна для него музыка и сможет ли он жить без нее.
Римский-Корсаков с благодарностью взглянул на друга. В этот сложный момент ему как никогда была необходима моральная поддержка. Слова наставника прозвучали определением предстоящего путешествия как испытания временем, а посему Николай успокоенно вздохнул, переложив выбор будущего на плечи самой судьбы.
– Если хочешь знать мое мнение, – не удержался Мусоргский, – то я уверен, что тебе не миновать участи композитора. По крайней мере, из того, что мне довелось услышать, твой фортепианный Ноктюрн, или Скерцо с-moll, например, мне ужасно нравится!
– Совершенно верно, – кивнул Балакирев, – в тебе, Николай, чувствуется огромный потенциал композитора.
– А может, мне остаться, а, ребята? – неожиданно встрепенулся Корсаков. – Может, и не стоит никуда ехать? И ну ее к черту, эту военную карьеру? А? Будем, как прежде, собираться вечерами, поигрывать в четыре руки, сочинять ансамбли, перекладывать стихи на музыку? У нас с вами это так здорово получалось! Только в такие часы я чувствую, что живу. Зачем нарушать традицию?Молодой человек обвел каждого из провожающих едва ли не умоляющим взглядом, словно от согласия друзей и впрямь зависела его дальнейшая судьба.
– Нет-нет, что ты! – испуганно воскликнул Цезарь Кюи. – И не думай даже! За каких-то три года ничего не изменится, и умение сочинять не уйдет, и потребность в музыке не иссякнет, если, конечно, оно истинно…
appassionato con preghiera
«О, Всемогущий, только не допусти, чтобы он остался! Если он не исчезнет с глаз моих на эти счастливые три года, то мне придется порвать с музыкальной карьерой. Как композитор он куда сильнее меня, я боюсь с ним состязаться, а в данном случае, в условиях совместного сотрудничества, речь идет именно о состязании! Он в два счета столкнет меня, если всерьез возьмется за сочинительство прямо сейчас! Я не могу этого допустить, мне необходимо взять дополнительное время…»
На весь порт раздался сигнал, знаменующий сбор команды на борту. Римский-Корсаков выпрямился и привычным жестом одернул китель.
– Конечно, Цезарь, ты безусловно прав, – в его голосе звучала безысходность. – Ну что ж, друзья, мне пора. Прощайте. Счастливо оставаться.
Крепкие пожатия рук на прощание, напутственные пожелания, несколько энергичных шагов по трапу – все промелькнуло, как в бреду.
Клипер «Алмаз» отчалил от берега, наполненного криками провожающих, маханиями материнских платков, рыданиями возлюбленных, над которыми пролетел одинокий облегченный вздох, вновь не замеченный никем.allegretto narrante
Не прошло и полгода со дня отъезда гардемарина Римского-Корсакова, как кружок Балакирева пополнился еще одним полноправным членом. Это был молодой талантливый ученый Александр Бородин, вернувшийся из длительной заграничной командировки. Пребывание в Европе явилось для него весьма счастливым обстоятельством, в отличие от добровольно-принудительной ссылки Корсакова, чье сердце томилось в мучительной разлуке с родиной.
Успешно окончив еще в России Медико-хирургическую академию, Бородин уехал в Гейдельберг, где и познакомился с выдающимися фигурами современной науки – Менделеевым, Сеченовым, ботаником Борщовым. Здесь же, в кругу этой маленькой «русской колонии», он повстречал девушку с далекой родины – Катю Протопопову, которая приехала за границу лечиться.
Помимо того что новая знакомая из родной России была привлекательна и умна, она же, как выяснилось вскоре, была еще и превосходной пианисткой. В Москве она уже снискала признание публики и, благодаря нескольким успешным концертам, смогла собрать деньги на лечение за рубежом. Молодой химик был покорен. Днем он, по обыкновению работал в лаборатории, но все свободные вечера он проводил в доме Екатерины Сергеевны, где слушал ее восхитительную игру, открывая для себя миры музыки Шумана и Шопена.
Предмет его страсти – химия и медицина – понемногу стал уступать позиции музыке. Но, конечно же, изящная фигурка прекрасной пианистки, Катеньки Протопоповой, затмевала все светила мира.
Бородин все чаще брал в руки виолончель, вспоминая недавние уроки музыки, полученные еще в доме родителей. Порой в голову приходили оригинальные музыкальные находки, и Александр пробовал их записывать. Подобного рода эксперименты с музыкальной материей увлекали его не меньше, чем опыты в химической лаборатории.
Когда Катя с едва уловимой дрожью в голосе сообщила молодому ученому, что вынуждена перебраться в Италию, чей теплый и мягкий климат будет куда более благоприятен для ее хрупкого здоровья, Бородин, не раздумывая ни секунды, заявил, что намерен сопровождать девушку. И не только в Италии, но и повсюду, куда бы ей ни вздумалось поехать. Смущенно улыбнувшись, Катя согласилась, чем и предрешила судьбу двух счастливых людей на долгие годы.
И вот наконец, после нескольких лет заграничной жизни, Бородин возвращался на родину, дабы быть счастливым вместе с любимой женщиной и заниматься любимым делом. Правда, он еще не окончательно решил для себя, какое из двух занятий важнее. Сфера химии и медицины, в которой он ориентируется как рыба в воде и которая стала профессией благодаря длительному и глубокому изучению, или музыка, которая жила в нем с тех пор, как он появился на свет, музыка, которая рождалась и беспрепятственно проливалась сквозь него из космоса или каких-то иных высот?
Впрочем, молодой ученый недолго терзался этой дилеммой. Он подумал, что оба занятия настолько разные, что вполне можно совмещать полезное с приятным, работу и увлечение. Время показало, что он принял правильное решение – это и в самом деле был оптимальный вариант: при свете дня отдавая свои силы медицине, Бородин по вечерам неизменно отправлялся на встречу с друзьями в композиторский кружок, который собрал вокруг себя Балакирев и где его так охотно принимали. Одновременно с медицинской практикой рождались замыслы шедевров русской музыкальной классической школы. Невинное увлечение постепенно перерастало в открытие мира, чему сам композитор порой дивился.amabile
С появлением Бородина в тесном дружеском кругу музыкантов стало намного веселее. Отсутствие Римского-Корсакова более не осознавалось как невосполнимая утрата. Молодой химик словно внес с открытой дверью поток свежего воздуха в атмосферу запертой комнаты. Возобновились вечера ансамблевого музицирования, стали появляться совместные проекты новых музыкальных произведений.
Все участники балакиревских собраний с радостью приняли Александра Бородина, этого бесспорно талантливого музыканта и чудесного человека, в свой круг, и вскоре без него представить себе сообщество композиторов стало совершенно немыслимо.
Против пополнения «коллектива» был только один человек. Нетрудно догадаться, что это был Цезарь Кюи.inqueto
Свою антипатию к новому члену кружка он скрывал с особой тщательностью. Ни единая душа не должна была заподозрить его в негативных чувствах по отношению к кому бы то ни было из общества молодых композиторов и тем более – догадаться об их мотивациях. Он ни в коем случае не должен был компрометировать себя с самого начала. У него была вполне определенная цель, к которой следовало упорно и настойчиво стремиться.
До поры до времени не стоило действовать в открытую. Кюи притих на некоторое время. Окружающие же видели лишь то, что их друг всецело поглощен изучением теории и композиции музыки. Балакирев частенько заставал приятеля склоненным над учебниками по гармонии, корпящим над анализом формы произведений зарубежных классиков. Пытался Кюи и сам сочинять.
Первые пробы оказались откровенно неудачными. Неудачными настолько, что это признавал даже сам автор. Но Кюи на то и был Цезарем, чтобы уметь не падать духом и с должной стойкостью преодолевать преграды и препятствия: в очередной раз взявшись за перо, он решил выбрать себе в поддержку литературный сюжет, а стало быть – написать не какую-нибудь там мелкокалиберную камерную ерундовину, а самую что ни на есть настоящую оперу. За столь серьезный и крупный вокально-инструментальный жанр балакиревцы до сих пор еще не рисковали браться. Кюи решил быть первым.
К возвращению Римского-Корсакова из заграничной службы Кюи успел написать две оперы и среди участников музыкантского сообщества считался прирожденным оперным копозитором, не без оснований на то. Николя по приезде с азартом подхватил его начинание, но что-то помешало ему тут же приняться за сочинение оперы. Цезарева пешка пока еще не была бита. Пользуясь случаем затишья, Кюи немедленно взялся за разработку нового сюжета для очередной, уже третьей своей оперы.
С приездом Римского-Корсакова их стало пятеро: композиторское сообщество окончательно сформировалось. Кюи понял, что круг замкнулся. Вернее, не круг, а квадрат – прочный и незыблемый, как данность. Он видел вокруг себя четверых человек, которые были поистине талантливыми и одаренными музыкантами, и рядом с ними отчетливо осознавал свою посредственность. Все попытки сравняться, выйти на один уровень с этими четырьмя были безуспешными. Пришлось признать, что пятый угол лишний и, соответственно, занять иную позицию – вовне или внутри. Он выбрал последнее и стал центром.
Этот выбор обязывал его ко многому. Прежде всего истинным центром, «душой» кружка был вовсе не он, а Милий Балакирев, мастер на все руки. По «вине» этого удивительного человека выдающиеся музыканты эпохи имели возможность общаться и сотрудничать. Он, подобно магниту, притягивал к себе элиту русской культуры того времени. Музыкальный критик Стасов, дирижер Мариинского театра Направник, дирижер хора Гавриил Ломакин, поэты века Голенищев-Кутузов и Полонский, художники Репин и Гартман – да и кого только ни приходилось видеть рядом с Балакиревым.
Одним словом, центр этой культурной Галактики был определен, и два солнца так или иначе не могли уместиться на небосводе. Свободной оставалась лишь теневая сторона. Другого выбора не оставалось: Кюи покорно вступил в ее безграничные просторы и занял центральное место.belebt
– Цезарь, послушай! Послушайте, друзья, что пишет наш Николя в «Петербургских ведомостях»! – в комнату ворвался сияющий Бородин, потрясая сложенным вдвое газетным листом. – Слушайте: «Музыкальная драма должна быть ведена именно так, как ведены эти сцены»! Это он о твоем «Ратклифе»! Римский хвалит твою оперу, Цезарь!
Все немедленно оставили свои дела и окружили влетевшего вестника. Виновник торжества, автор поставленного не далее как вчерашним вечером оперного спектакля «Вильям Ратклиф», дрожащими руками схватил протянутую газету и пробежался по странице глазами, отыскивая нужный столбец.
– Где, где ты читал, Саша?
– Да вот же, вот, смотри, – Бородин, переводя дух, ткнул пальцем в правую колонку. – Тут вся Корсаковская рецензия. Он, как всегда, немногословен, скуп на похвалы, но…
– Но если уж от него получаешь лестный отзыв, то можно быть уверенным, что это чистая правда, – спокойно вставил Балакирев из глубины комнаты. Сохраняя спокойствие, как подобает наставнику, он не покинул своего места у рояля, чтобы разделить восторг по поводу газетного отзыва критиков о премьере.
– Да уж, это точно, словам Римского я верю больше, чем самому себе, – подхватил Мусоргский, взмахивая рукой и опрокидывая на пол подсвечник вместе с горящей свечой. – Ох ты, господи, вот я неповоротливый медведь!
О пожаре не было и речи – огонь свечи погас уже во время падения, но среди собравшихся тут же возникла суматоха, из-за которой тема разговора, волнующая автора оперы, переменила объект: все стали обсуждать не вчерашнюю премьеру, а неловкость Мусоргского. Кюи, ожидавший услышать похвалы в свой адрес, вполне заслуженные на его взгляд, снова оказался в стороне.
Он нахмурился и под видом изучения газетных статей поспешно отошел в сторону, поближе к другому источнику света – маленькой лампадке, висящей у противоположной от входа стены. Гнев и обида душили композитора.irato
«Ну надо же было вмешаться этому неотесанному чурбану в момент, когда я (редкий случай!) оказался в центре внимания друзей! И кто только просил его высказываться?! Сидел бы себе на месте, если не умеет держаться в обществе! Вечно он появляется тогда, когда не нужно! Была бы моя воля – собственными руками бы придушил…»
– Цезарь, что-то не так? Тебя что-то расстроило? – прервал его размышления незаметно подошедший Балакирев.
Милий Алексеевич, будучи организатором творческих собраний, обладал уникальным даром видеть человека насквозь, а потому знал своих «подопечных» как собственные пять пальцев. И сейчас он издали уловил скрытую агрессию Цезаря и, приблизившись, был неприятно поражен гримасой, исказившей его лицо до неузнаваемости.
Кюи поспешно вернулся в действительность – черты лица заняли привычное выражение, узкие губы вытянулись в подобающую улыбку, брови поползли наверх, символизируя удивление.
– Нет, с чего это ты взял? Все хорошо, Милий. И даже более того – все просто замечательно! Подумай сам: разве я могу быть расстроенным, когда читаю столь лестные отзывы наших критиков? Я безмерно счастлив, поверь мне! О таком успехе я и мечтать не мог.
– Прими еще раз мои искрение поздравления, – Милий протянул ладонь для рукопожатия и, хитро прищурившись, с улыбкой посмотрел на приятеля. – Я не сомневался, что ты сможешь осуществить свой замысел.
– О чем ты? – нахмурился Кюи. «О каком замысле он ведет речь? К чему эти заговорщические взгляды? Неужто он и в самом деле умеет читать мысли?!.»
– Ну как же? – теперь настала очередь выражать удивление бровям Милия. – Помнится, долгими зимними вечерами за чашкой чаю я не раз слыхивал от тебя о том, что ты намерен во что бы то ни стало совершить переворот в оперном жанре.
«Похоже, в чашках было кое-что покрепче чая, – подумал смущенный и обескураженный Кюи. – Хорошо еще, что я не проболтался о самом главном. Поистине: язык мой – враг мой!»
– Так вот, – продолжал Балакирев. – Могу открыто заявить, что с «Ратклифом» тебе это удалось в полной мере.
«Еще бы, ведь я работал над ней семь лет» – подумал Кюи, скромно потупив взгляд.
– Особенно хороши твои мелодические речитативы: они довольно выразительны и, можно сказать, знаменуют собой в какой-то степени рождение нового типа речитатива в русской опере. «Но-о-о у меня легко на се-ердце ста-ло» – напел он фразу из партии главного героя. – Да и музыкальные характеристики, надо признать, даны предельно ярко и рельефно. Корсаков хвалит драматургию, и я считаю, тоже вполне обоснованно. Одним словом, Цезарь, ты не обманул моих ожиданий. А первые две оперы, которые вышли неудачными, сочтем за пробу пера.violento
«Пробу пера! Ничего себе – неудачные! Да как он смеет так отзываться о моих сочинениях?! Они дались мне бесчисленным количеством часов и дней мучений, когда я пытался найти подход к этой непреодолимой музыкальной материи, учился владеть ею, подчинить ее себе!.. Неужели этот черствый человек хочет сказать, что все мои мучения были напрасными? Он ничего не смыслит в настоящей музыке!..» – порыв гнева охватил все существо внешне невозмутимого собеседника. Один Бог знает, каким образом ему удавалось настолько хорошо владеть собой».
– …и продолжать в том же духе, – договаривал очередную фразу Балакирев. Видимо, он желал ему успехов, и на это нужно должным образом отреагировать…secco – Да-да, спасибо, надеюсь, мне не придется низко пасть в твоих глазах, Милий, – ответил наконец Кюи, стараясь, чтобы голос звучал не слишком сухо или недоброжелательно.
doux – И оставь ты эту газету, – наставник мягко вытащил «Ведомости» из рук друга. – Вцепился в нее мертвой хваткой, словно не хорошую рецензию читаешь, а собственный некролог.
tenebroso
«Знал бы ты, насколько сейчас близок к истине! Но я все же надеюсь, что в скором будущем некролог мне посчастливится прочесть, только вот не свой».
– Ну вот, снова куда-то все разбрелись! – пробасил Балакирев, возвращаясь к роялю и застав там только Катеньку Протопопову, которая к тому времени уже стала законной супругой Бородина. Катенька наигрывала ля-бемоль мажорный экспромт Шуберта. Переливы сверкающих мажоро-минорных фигураций высыпались из-под ее легких и проворных пальцев, словно бусинки.
– Куда они испарились? – простите, Катюша, что вынужден прервать вашу прекрасную игру, – характер творческого человека непредсказуем. Минуту назад все были здесь, а стоило мне отвлечься – их как ветром сдуло!
– Насколько я поняла, Саша взялся за приготовление кофе каким-то особенным способом, и Мусорянин непременно хотел быть свидетелем этого действа, – отвечала Катенька, доиграв до смыслового завершения музыкальной фразы.
– Стало быть, они на кухне, – облегченно вздохнул Балакирев и, успокоившись, пододвинул стул и сел рядом с пианисткой. – В таком случае сыграйте, дружок, еще раз, очень вас прошу. Уж больно мне нравится эта шубертовская вещица!
И он притих, внимая божественным звукам рояля, прикрыв глаза и покачивая в такт головой. Кюи, увидев, что остался в комнате практически один – поскольку раствориться в музыке означало полностью уйти из мира реального, – решил не мешать им и тихонько вышел за дверь, дабы присоединиться к друзьям и поучаствовать в процессе варки кофе.
Миновав узкий проход, соединяющий гостиную и кухню, Кюи, повинуясь неведомому инстинкту, замер у неплотно прикрытой двери. Что-то – может быть, предчувствие, а может быть, и нарочно приглушенные голоса мужчин – заставило его помедлить и прислушаться.
Сначала он не мог ничего разобрать из-за звуков рояля – Катенька дошла до первой кульминации. Но затем, в соответствии с композиционной логикой, последовал эпизод пианиссимо, что позволило Цезарю слышать разговор на кухне довольно отчетливо в течение нескольких минут. Этого оказалось вполне достаточно…sotto voce
– Закипает, снимай с огня, – первый голос принадлежал Бородину. Фраза никоим образом не относилась к его персоне – речь шла о кофе. Вероятно, он предлагал Мусоргскому снять турку.
Не успел Кюи подумать что-то вроде «весьма опрометчиво», в подтверждение его опасениям послышался грохот посуды и сдавленный вскрик.
– Осторожнее! Оставь, Модест, дай лучше я сам займусь этим.
– К кулинарным хитростям я неприспособлен, – пытался оправдаться Мусорянин, изо всех сил дуя на обожженные пальцы.
– Да, пускать на кухню тебя нельзя ни под каким предлогом, – согласился Бородин. – Ты непременно все испортишь.
– Я как медведь в лавке, все оберну и опрокину, – покорно басил Модест.
– Но это, поверь мне, куда лучше, чем быть медведем в музыке, – утешил его друг.
– Некоторые поговаривают, что моя музыка сделана грубо, непрофессионально…
– Плюнь и не слушай. Твоя музыка гениальна, и все поймут и признают это только через несколько десятилетий. Они еще не доросли до твоих сочинений – слепы, как новорожденные котята. В этом ее беда и величие.
– К черту! Признание, слава – мне они не нужны. Все это фальшь чистой воды. Хотя и приятно, не спорю. Вот, например, вчера у Цезаря был триумф. Я от души порадовался за него, но, сказать по чести, опера не сильна.
Голоса зазвучали на полтона тише, порой Кюи удавалось расслышать лишь часть сказанного. Но с каждой фразой его лицо покрывалось все более смертельной бледностью, а в глазах все ярче разгорался дьявольский огонек.
– Да, ты прав, Мусорянин, – соглашался Бородин, помешивая что-то ложкой. – Думаю, «Ратклиф» не выдержит испытания временем. О нем забудут еще при его жизни.
– …слабовата, да и замкнутые вокальные номера больше похожи на декламацию.
– Задумка, конечно, хорошая, но сделано это не так, как хотелось бы.
– …нет того уровня мастерства…
– …он не может услышать нужные звуки…
– …может, посоветовать Цезарю оставить сочинительство и всерьез заняться музыкальной критикой? – у него отлично выходят статьи и рецензии…
Шуберт из гостиной вновь набрал мощь звучности. В кухне зазвенели чашки, устанавливаемые на подносе: кофе был готов к подаче на стол. Вне себя от гнева, Кюи подскочил к входной двери и распахнул ее. Общение в таком состоянии было совершенно недопустимым.
Снег…calmanto
Свежий морозный воздух отрезвил его воспаленный мозг и слегка остудил бурлящую яростью кровь. Снежная крупа опускалась на лицо и мгновенно превращалась в мелкие капли. Кюи наклонился и схватил горсть снега, отер лицо. Вечернее зимнее небо было полно чернотой. Ни единой звезды.
Постепенно мужчина начал приходить в себя. Холод подействовал – ветер забрался под одежду, пробежался по телу, вызвав неприятный озноб. Вернулась способность мыслить и трезво оценивать ситуацию.
«Что же это я так переживаю? – подумал оскорбленный композитор. – Разве иного можно было ожидать? Выше головы, как ни пытайся, не прыгнешь. Да, я вынужден признать, что моя музыка недолговечна и канет в небытие, не оставив следа в сердцах потомков. Выходит, Бородин и Мусорянин правы. И тем не менее нож в спину – это подло. Зато это отличный повод для мести. Я долго искал его себе в оправдание, и вот он наконец подвернулся. Это поистине удача для меня! Теперь я могу с чистой совестью осуществлять задуманное…»subito unruhig
– Цезарь, друг мой, что ж ты выскочил на мороз без пальто? Да и в домашних туфлях? – из-за двери высунулась голова Балакирева. – Мы тебя уж обыскались по всему дому. Саша сотворил свой чудный кофе и зовет всех его отведать.
– Сейчас иду, – отозвался Кюи, не оборачиваясь. – Иду.
– Простудишься, – уже совсем другим, неофициальным тоном добавил Милий и скрылся за скрипом двери.
Кюи глубоко вздохнул, впустив в себя широкий поток морозного воздуха, и вошел в дом.
Мир перевернулся.
Ничего не произошло.solo intimo
Находясь вне времени, несложно окинуть взглядом тот маленький отрезок земного бытия. Кто знает, в какой момент я осознал свое предназначение? Кто может доказать, что я целенаправленно – или, напротив, руководствуясь одной лишь интуицией – действовал так, а не иначе?
Как бы там ни было, с самого начала я знал лишь одно: если я, никчемная посредственность, оказался по воле рока в одной лодке с четырьмя гениями, значит, это не случайно, значит, мне предрешено выполнить иную роль в их судьбах, раз уж они так тесно повязаны с моей.
Я видел себя сверху серым запуганным кроликом, мечущимся по тесной клетке из угла в угол. Впрочем, обличие кролика было лишь удобной маской, под которой скрывались до поры до времени острые зубы и цепкие когти, способные разорвать в клочья. Кто бы мог заподозрить кролика в помыслах хищника?
Но меня нельзя осуждать: я был вынужден обороняться. От чего? Может быть, от невозможности быть таким, как четверо остальных. Может быть, от навязанного Кем-то свыше предназначения.
Никому и в голову не могло прийти, что скромный критик, время от времени осуществляющий безуспешные попытки сочинить что-либо выдающееся или хотя бы более-менее пристойное, может строить коварные планы, касающиеся самых близких людей. Мне некого было опасаться, пожалуй, кроме единственного человека, благодаря которому я и оказался в этой славной компании.
Балакирев обладал свойством всепроникающего видения. Так же, как он смотрел на музыку, безошибочно улавливая ее суть, он смотрел и на людей. Общаться с ним было рискованно. У меня всякий раз возникало непреодолимое ощущение избежать его пристального взгляда – казалось, он умеет читать мысли, проникая под кору головного мозга и отыскивая самые сокровенные и потайные думы. Порой Милий бросал мне странные фразы, из которых можно было сделать вывод, что он прекрасно осведомлен о всех моих душевных терзаниях и даже способен предвидеть будущее.
Я боялся, что он станет препятствием на моем пути, но устранить его не мог. Он был необходим мне прежде всего в качестве главы и организующей силы, которая объединяет и притягивает к себе всех членов нашего творческого кружка. Без него все тут же развалилось бы: Бородин целиком и полностью отдался бы своей химии, Римский-Корсаков, и без того постоянно пропадающий на посту директора Бесплатной музыкальной школы, исчез бы из виду окончательно, а Мусорянин бы спился с горя, и его немедленно уволили бы из Министерства.
Нет, содейство Балакирева мне было необходимо. Без него я утратил бы возможность общаться с ними, а вместе с тем провалились все мои планы. Веление рока должно было осуществиться: Милия я решил оставить напоследок.
Теперь следовало решить, кого из оставшихся троих препроводить в мир иной первым. Мой выбор пал на Мусорянина. И вовсе не потому, что он раздражал меня своей неловкостью и неуклюжестью. Он сочинял музыку, которую я не мог переносить. «Борис Годунов», постановка которого принесла ему грандиозный успех, еще раз доказал негодность и посредственность моего детища, рожденного в муках, – «Вильяма Ратклифа», а также и остальных произведений не в меньшей степени.
Я был настолько потрясен очевидным контрастом между тем, что творил он, и тем, что выходило у меня! Следствием этого потрясения стала двухнедельная лихорадка, после которой я отказался от сочинительства, поклявшись себе, что не возьмусь ни за один серьезный жанр, покуда тень Мусоргского не исчезнет с лица земли. Видеть его, говорить с ним было для меня все большим, практически невыносимым испытанием. Его музыка преследовала меня неотступно и днем, и ночью. Она пробралась внутрь меня с вдыхаемым воздухом, она жила во мне отравляющим ядом, впитываясь в кровь и распространяясь по всему организму.
Нужно ли еще что-либо объяснять?..andante mesto
Судьба Модеста Мусоргского и без участия недоброжелателей была нелегкой, если не сказать – трагичной. Сильный и целеустремленный художник, к жизни в реальном мире он был абсолютно неприспособлен. Он был очень чувствителен и раним ко всем жизненным перипетиям. Мечтая о семейном уюте и взаимной любви, он не получил ни того, ни другого и был вынужден скитаться, меняя адреса. Модест всегда остро нуждался в человеческом тепле, в общении с друзьями и единомышленниками, а потому балакиревские собрания были для него живительной силой.
Неотступно преследуемый одиночеством, он искал близких по духу людей. Семья брата, чета Опочининых, счастливые годы совместной жизни с Римским-Корсаковым, затем – с Голенищевым-Кутузовым… Друзья появлялись в его жизни светлым пятном, после чего исчезали – женились, уезжали, умирали – навсегда, снова оставляя его одного в чуждом и безразличном мире. Каждая новая разлука подкашивала композитора, лишала его сил и воли к жизни.
Осенью восемьдесят первого года Кюи узнал, что с Мусоряниным совсем плохо. В последние годы он прозябал в нищете, существуя преимущественно благодаря поддержке друзей и добрых знакомых. Одна состоятельная дама, артистка Леонова, сжалившись над ним, приютила великого композитора у себя на даче и позволила ему подрабатывать аккомпаниатором на ее уроках пения. Впрочем, оплата была столь низкой, что ее с трудом хватало на самое необходимое.
Подобное положение делало жизнь Мусоргского невыносимой. К тому же обострилась его болезнь, сидевшая в нем долгие годы. Тяжелый приступ с потерей сознания случился на одном из уроков. Леонова немедленно вызвала врача и оповестила друзей больного…concitato
– Что с ним, Милий? Не скрывай от меня ничего, прошу тебя! Что-то серьезное?
Римский-Корсаков, оставивший в Петербурге свои многочисленные дела, немедленно явился на зов, узнав о болезни Мусорянина. Прибыв в Николаевский военный госпиталь, куда с огромным трудом удалось поместить не относившегося к военной сфере больного, он встретил у дверей палаты опередивших его Балакирева и Бородина, от которых и пытался выведать тревожащую его информации о самочувствии друга.
Александр Бородин неотрывно смотрел в пол, нервно пощипывая ус. Белые стены госпиталя делали лица присутствовавших здесь еще более бледными. Балакирев тяжело вздохнул, собираясь с мыслями, прежде чем ответить.
– Бертенсон говорит, что дела плохи, но надежда все-таки есть…
– Бертенсон? Это еще кто такой? – нахмурился Римский-Корсаков, потирая лоб и пытаясь вспомнить человека с названой фамилией. – Критик?
– Ну что ты, Николя, к чему здесь критик? Бертенсон – это его лечащий врач. Он помог устроить сюда Мусорянина – ты же знаешь, как сейчас трудно с этими военными госпиталями, – ответил Бородин.
– Это случайно не тот, который женат на певице Скальковской? – начал припоминать Римский-Корсаков.
– Да-да, именно тот самый. Представляешь, этот удивительный человек придумал записать нашего Мусорянина «вольнонаемным денщиком ординатора Бертенсона»!
– Как денщиком?! – вспыхнул оскорбленный Корсаков. – Да известно ли ему, что Мусоргский – великий композитор российский?! Что он себе позволяет?! Неслыханное нахальство так обращаться с гением! Денщиком!..
Балакирев грустно улыбнулся, наклонив голову:
– Успокойся, Николя. Поверь, сейчас не тот момент, когда нужно идти на принцип и ставить честолюбие во главу угла. Мусорянина нужно было спасать во что бы то ни стало, и это был единственный способ устроить его в госпиталь. Ты же знаешь, я бы не позволил издеваться над кем-либо из дорогих и близких мне людей.
Римский-Корсаков нервно прошелся по коридору взад-вперед, после чего снова подошел к друзьям.
– Кто-то еще приехал?
– Да, здесь Стасов и Цезарь. На днях Модеста навещал еще и Направник, прикатил и певец Мельников.
– Да, еще брат его, Филарет, он остановился в гостевом номере, – добавил Бородин. – А ты – один?
– Куда уж там, один, – махнул рукой Николай Андреевич. – С тех пор как я женился, я никогда не бываю один. Жена приехала со мной, а также увязалась и Александра Николаевна, женина сестра. Но не беспокойся, Милий, мы уже расположились. Устроились, можно сказать, с комфортом, насколько это вообще мыслимо в походных условиях.
– Ну слава Богу, хоть у тебя все благополучно.
– Да я-то что! Разве обо мне сейчас речь? Лучше расскажите: как Модест? Может, ему чего надо? Я хочу его увидеть и самому, лично убедиться, что моему другу ничего не грозит. Когда к нему пускают?
– Сейчас у него процедуры, но мы ждем, скоро должны пускать. Правда, всем вместе не получится: больных в этом отделении дозволяют посещать только по одному, – сказал Балакирев.
Бородин поспешно добавил, увидев, как омрачилось лицо друга, и уловив крепкое словцо, вырвавшееся из его уст:
– Но, надо признать, здешние врачи вовсе не изверги. Бертенсон не лыком шит: пробил для Мусорянина отдельную палату, велел ухаживать за ним двум медсестрам.
Дверь в палату отворилась, из-за нее выглянула молоденькая медсестра и осведомилась, окинув взглядом троих хорошо одетых мужчин.
– Господа, это вы ожидаете посещения больного Мусоргского?
– Совершенно верно, – ответил Балакирев, озвучивая взволнованные взгляды приятелей.
– Мы бы хотели повидаться с другом. Сейчас это можно сделать? – поинтересовался нетерпеливый Римский-Корсаков.
– Процедуры окончены, – сказала сестричка, кокетливо улыбаясь. – Доктор Бертенсон позволил одному из вас пройти в палату. Но имейте в виду, – поспешно добавила она, – находиться возле больного можно не более десяти минут…
– Хорошо, хорошо, – кивнул Римский-Корсаков и направился к двери. Сейчас он был готов принять любые условия, лишь бы проникнуть в запретное место и повидаться с Мусоряниным, чья участь глубоко волновала композитора.
– …и вы ни в коем случае не должны говорить с ним на беспокоящие его темы! – крикнула вдогонку медсестра. И, поскольку за Римским-Корсаковым уже закрылась дверь палаты, объяснила оставшимся: – Доктор сказал, что больному категорически запрещается волноваться.
– Думаю, встреча с Николя пойдет ему только на пользу, – успокоил девушку высокий господин, беспрерывно пощипывающий ус. – Только он может вдохнуть в него жизнь.limpido
Неизвестно, что именно помогло Мусоргскому справиться с одолевающим его недугом – повышенное ли внимание друзей оказало свое целительное воздействие, или чудо медицины, – но на протяжении зимы композитор чувствовал прилив жизненных сил. Он даже снова взялся за сочинительство: перед ним лежала начатая опера «Сорочинская ярмарка», которую он мечтал окончить в предстоящие полгода. Неосуществленный замысел не позволял композитору расслабиться и окончательно сдать свои позиции.
Творческий процесс, с одной стороны, отвлекал его от болезни и окрашивал суровые зимние дни радостью работы с музыкальной материей. Но существовала и обратная сторона медали – отдавая последние силы работе, композитор неумолимо сгорал. Истощенный продолжительной болезнью и лечением организм все чаще напоминал о себе внезапными приступами лихорадки, головной болью, погружением в глубочайшую депрессию.
Из госпиталя Бертенсон Мусоргского не выпускал, настаивая на постельном режиме и квалифицированном медицинском уходе. «Вы, доктора, своей заботой залечите даже здорового насмерть!» – с досадой восклицал больной, выслушивая очередной отказ на его молящую просьбу переехать в домашние условия.
– Как вы не понимаете, что в вашем состоянии работать категорически нельзя! Вы сами себя сводите в могилу! – как маленького непослушного ребенка, отчитывал Мусоргского Бертенсон, силой и хитростью всякий раз отбирая у него партитурные листы и пишущие принадлежности.
– Этот изверг перекрывает мне кислород, не дает дышать! – горестно сетовал композитор. Жаловался каждому, кто его посещал. – Мало того, что он не привозит мне рояль, мало того! Он еще ворует у меня бумагу! Как только я за порог – он тут же шасть в палату, и давай рыться у меня под матрацем! Я пробовал было перепрятывать, но этого пройдоху не перехитришь. Можно ли в таких условиях работать над оперой?! Его иссушенные медицинской наукой мозги не могут понять одну элементарную истину: лишить меня возможности сочинять музыку означает лишить меня воздуха!
Гневные тирады и пламенные речи бунтующего больного вынудили-таки Бертенсона пойти на уступки и позволить композитору открыто, без утайки, сочинять свою оперу – но не покидая палаты. Заодно доктору удалось уговорить Мусоргского вовремя принимать все прописанные им микстуры, а не выливать их за тумбочку.
Все вроде бы наладилось. До весны оставалось совсем немного времени. А потом случилось и вовсе удивительное событие: приехал Илья Репин. Мусоргский был безмерно счастлив.
Репин, приехавший из Москвы всего на несколько дней в связи с подготовкой передвижной выставки, пользуясь случаем, навестил друга и застал его истощенным болезнью, но настроенным весьма оптимистично. Непрекращающаяся работа над «Сорочинской ярмаркой» особенно порадовала художника – он веровал в излечение силами искусства.
– А не написать ли тебе, Илюша, портрет Мусорянина, раз уж ты здесь? – сказал как-то Стасов. – Он как-никак композитор, к тому же выдающийся. Это будет полезно для истории. Сейчас он вроде бы получше выглядит, чем обычно: твой приезд подействовал на него совершенно чудотворным образом!
Репин с готовностью подхватил идею прозорливого критика, целиком и полностью доверяясь его гениальной интуиции и дару предвидения: Стасов никогда слов на ветер не бросал, а потому каждое его предложение принималось на ура.
Без мольберта, кое-как примостившись у больничного столика, всего за четыре сеанса – мера вынужденная, поскольку Бертенсон, как обычно, противился подобному времяпрепровождению больного – художник создал гениальный портрет Мусоргского. Тот самый, ставший известным портрет, который ныне является одним из достойнейших украшений Третьяковской галереи. Стасов, как всегда, оказался дальновиден.
Репин был мастером своего дела: Мусоргский на портрете вышел в точности таким, каким видели его друзья и близкие – все, кто был рядом с композитором в тот нелегкий период его жизни. Реалистических красок у художника не отнимать. Впрочем, самому композитору, окруженному вниманием и любовью дорогих его сердцу людей, этот период казался самым светлым и радостным.
Каждый раз, когда молоденькая сестричка извещала его о посетителе, Мусоргский словно оживал.
– Зови, голубушка, немедленно зови! – говорил он, делая попытки подняться с кровати и привести себя в относительно ухоженный и пристойный вид.
Правда, с некоторых пор медицинский персонал стал замечать за больным какую-то странную реакцию на подобного рода извещения: он весь словно сжимался в комок и исподлобья нерешительно спрашивал, кто именно пришел.
– Вы кого-то ожидаете? – пытался прояснить для себя этот психологический момент в поведении своего подопечного Бертенсон, применяя тактику внезапных вопросов. – А может быть, вы кого-то опасаетесь? Что вас так настораживает?
Но, видимо, тактика была избрана неверная: композитор упорно отмалчивался, отрицательно мотая головой и отстраняясь от внешнего мира под видом погружения в партитуру оперы.
Он и сам не осознавал, что его так настораживает. О причине странного поведения Мусоргского знал только Цезарь Кюи, друг и союзник по балакиревскому кружку. Единственный человек, появлений которого Мусоргский безотчетно, подсознательно побаивался. Интуиция отчаянно пульсировала красным огоньком, с каждым днем все явственнее, но разум не находил объективного объяснения.
Весна была все ближе.solo stravagante
Весна была все ближе. Для него она не должна была наступить. Бертенсон отмечал, что самочувствие Мусоргского по необъяснимым причинам и вопреки мрачным прогнозам медицины намного улучшилось. Я воспринял это как сигнал к действию.
Все было спланировано и приготовлено заранее. Средство проверенное. Проникает в организм и, оставаясь абсолютно незамеченным, медленно, но верно подтачивает его изнутри. Этого яда нет даже в списке снадобий алхимиков. Его нет и в природе. Он известен лишь мне. И тому, для кого он предназначен.
Момент для реализации задуманного был выбран удачно. Вписавшись в круг постоянных посетителей, я был лишь одним из тех, кого он привык видеть возле себя. Бертенсон, словно подыгрывая мне, по секрету делился с нами, друзьями больного, своими опасениями:
– Медицинской практике известна некая закономерность, – печально, со скорбью в голосе вещал он. – В особенно тяжелых и неизлечимых случаях, каковой мы наблюдаем в истории болезни Модеста Петровича, в один момент наступает якобы просветление. Больной ощущает невиданный прилив сил, ему кажется, что недуг отступает. Но это, к огромному сожалению, лишь верный признак того, что скоро может произойти самое страшное… Болезнь как бы дает человеку глоток свободы от своего тяжкого плена, возможность в последний раз насладиться радостями жизни…
Мы не стали дослушивать речь доктора. Я одним из первых яростно перебил его, не желая допускать и мысли о смерти «нашего дорогого друга»! Меня горячо поддержали. Бертенсон обиделся и с того момента больше не заговаривал на эту тему, но для получения стопроцентного алиби мне было вполне достаточно и одного раза: теперь все были готовы к вечной разлуке с Мусоргским. Факт его смерти ни для кого не был неожиданностью, более того, к нему постепенно привыкли и даже напряженно ожидали – кто с ужасом, кто с болью, кто с сожалением…
Ухудшение нагрянуло внезапно. Ему отказывали уже и ноги, и руки. В этом положении его – представьте себе! – удручало более всего то, что он снова потерял возможность работать над оперой, которая так и оставалась незаконченной. За день до смерти Мусоргский попросил, чтобы ему помогли сесть и принесли книгу. В последний вечер своей жизни он, будучи в абсолютно здравом и ясном сознании, читал. Что может быть лучше и истиннее?Утра следующего дня у него уже не было.
Итак, дело было сделано. Напротив первого пункта моего плана я поставил галочку.
В этом списке было еще три имени. Но тут прикладывать дополнительные усилия я не счел нужным: в момент первой смерти магический круг разомкнулся – его больше не существовало, он превратился в веревочку с узелками. Теперь вечность затянет всех – по цепочке. Мне нужно лишь определять, чей черед.
Впрочем, к последующим участникам моего мистического действа я не испытывал отчетливой неприязни. Но остановить заведенный механизм уже не мог.
Первый промежуток был длиной в пять лет, в течение которых я направлял потоки энергии в сторону Бородина. Он оправдал мои ожидания: его кончина была неожиданной и довольно интересной. Он умер обряженным в русский народный костюм, на музыкальном вечере, который сам же и устроил. На глазах у всех собравшихся пал замертво (наверняка это было красиво и эффектно!), чем поверг всех собравшихся в шок. Меня не было рядом, поэтому о моей причастности к свершившемуся не мог помыслить никто.Несколько лет спустя я вдохновленно писал жене Римского-Корсакова:
«Внезапная кончина Николая Андреевича горестно и глубоко меня поразила. Великий был художник и чудный человек, а мне – старый и испытанный друг…».
На смерть Римского-Корсакова организатор некогда существовавшего композиторского кружка не отозвался. Вероятнее всего, даже не был извещен.
Да и его жизнь тогда уже клонилась к закату – творческие силы иссякли, все чаще подводило здоровье. Балакирева мне было искренне жаль. В глубине души я был обязан ему многим: прежде всего именно он помог мне максимально реализовать себя в этой жизни. К тому же благодаря этому удивительному человеку мы и собрались все пятеро воедино. Он сам в какой-то степени был моим союзником, сыграл главную роль в задуманном мною спектакле: если бы он не свел нас друг с другом, все было бы иначе.Я бы и не стал спешить с последним пунктом, кабы Балакирев сам не полез на рожон. Избавившись от главных конкурентов, я надеялся, что наконец-то получил возможность свободы творчества. Я с новыми силами, под сенью невесть откуда взявшегося вдохновения взялся за сочинительство. Но и тут возникли препятствия.
Седой и облысевший Балакирев, решив напоследок совершить благое деяние – помочь мне, как последнему оставшемуся в живых из созданного им композиторского сообщества, стал присылать письма сомнительного содержания, одно за другим. Вскрывая конверт, подписанный его почерком, я всякий раз досадливо морщился в предчувствии каскада очередных наставлений и никому не нужных советов, которые неизменно обрушивались мне на голову.
Вместо того чтобы писать о новостях своей жизни, он несколько страниц, исписанных мелким и тесным почерком, посвящал моей персоне: в частности, давал мне советы творческого характера, пытаясь подвигнуть переделку скрипичной сонаты в симфониетту, и даже намечал тональные планы, развитие тем, предлагая свою помощь…
Подобного нахального вмешательства я перенести не мог: ну кому понравится, когда в период прилива творческих сил тебе навязывают переделку старых, неудавшихся вещей, да еще с чьей-то легкой руки! Предлагая мне свою помощь, Балакирев тем самым откровенно признавал меня недееспособным, несамостоятельным композитором – и это тогда, когда передо мной открывались необозримые пространства!
Скрепя сердце я уклончиво и не выходя за рамки холодной вежливости, ответил выжившему из ума старцу, что мне гораздо интереснее писать новое, чем возиться со старым, вложив в конверт еще и клубок ядовитой ненависти. Содержимое письма в сочетании с количеством прожитых лет сделали свое дело – я остался один.triumphal
Вот тогда-то я и ощутил истинную свободу и счастье полноценного художника!
В 1910 году, помнится, в связи с юбилеем, я признался в «Воспоминаниях» будущим поколениям: «Прожил я свои 75 лет хорошо, среди разнообразного труда. Но что меня ожидает впереди? Количество труда и его разнообразие поуменьшилось: музыкальная критика давно отпала, служебные обязанности стали много легче. Остается творчество». Между строк внимательный глаз прочтет, что я настаиваю на композиторском призвании, на неистощимом творческом потенциале. Дабы никто не догадался о моих былых сомнениях и кризисах.
И в самом деле – одно за другим с кончика моего пера на линованную бумагу слетали новые произведения: десятки романсов, многочисленные детские хоры, инструментальные миниатюры, струнные квартеты, кантата памяти Лермонтова, гордость моя – опера «Капитанская дочка», детские оперы на сюжеты русских сказок… Работалось легко. За серьезные жанры я не решался браться – боялся очевидного контраста с живущими шедеврами, моих бывших «друзей». Но я не огорчался по этому поводу: видно, каждому свое. Зато они не писали детских опер.
Из последних сил я наверстывал упущенное, пытаясь заполнить пустующие годы своей биографии. Но годы брали свое. Требовалась письменная реабилитация, и я рассылал ее в письмах, оставлял в записках, дабы потомки не упрекали меня в бесплодности.
«Работоспособность я еще не утратил! – неоднократно подчеркивал я накануне своего восьмидесятилетия в письмах Глазунову, композитору нового поколения. – «Мои новые детские оперы «Красная Шапочка», «Кот» и «Дурачок» еще не лишены некоторой свежести. Но все же я уже дал все, что мог, и нового слова я не скажу».duramente
И все было бы хорошо, кабы не музыка Мусоргского, денно и нощно звучавшая у меня в голове. Эта проклятая музыка не давала мне покоя! «Ни сна, ни отдыха измученной душе…» Я был близок к помешательству, подобно царю Борису.
Неоконченная «Сорочинская ярмарка» дамокловым мечом висела над моей шеей. Опера, разорванная на две неравные части между стихийным музыкальным космосом и реальным, земным звучанием, требовала воссоединения в целостность. Я взял эту миссию на себя. Да и кому, как не мне, ближайшему другу автора, бредившему сочиненной им музыкой, было позволено прикоснуться к гениальному творению с целью продолжить его своей рукой, кто еще мог решиться на столь весомую ответственность?
Я – мог. Я, и никто другой.
Опера сопротивлялась, словно дикий зверь. Не шла ко мне в руки, не впускала в свой мир. Но я был из тех, кто способен одержать верх над самой непокорной вершиной. После двух лет настойчивого, упорного труда я с нескрываемым торжеством и гордостью писал в письме своей знакомой:
«Сегодня я окончил инструментовку «Сорочинской». Я очень рад своей работе. Ее никто иной не мог выполнить, ибо я один остался из нашей группы современников Мусоргского, и едва ли кто мог в такой степени усвоить сам себе его стиль, позволить себе его докончить…».
«Докончив» оперу по-прежнему ненавистного мне Мусоргского, я почувствовал себя победителем, словно одолел страшного врага. Одновременно осуществилась и другая тайная цель: в партитуре оперы я стал с ним единым целым, его невидимой частью. Теперь я мог быть уверен в том, что мое имя в вечности неразрывно связано с его гениальностью.feroce И кто бы мог подумать, что спустя несколько лет после моей смерти некий выскочка из племени молодых композиторов России, в то время уже ставшей советской, с совершенно недопустимым нахальством перешагнет через мое детище, через мой грандиозный труд(!), великий труд(!!!), составляющий смысл всей моей жизни, и подготовит новую редакцию «Сорочинской ярмарки» на основе подлинных материалов и набросков Мусоргского?!.
Диалог с паузами
Я снова оказался поверженным. Вечность в очередной раз захлопнула дверь перед самым моим носом.
– Мне жутко и странно от твоих речей, брат. В огне костра, оказывается, таится множество неизвестного.
– Ты еще не знаешь и малой части всего, что сгорает в его пламени.
– Разве возможно знать все?
– Уж нам-то с тобой это подвластно, как никому. Время, в котором сгорает история и превращается в обугленные груды или обращается в дым, всего лишь греет нас и высвечивает наши лица. В наших силах видеть все, что скрывается в его пламени, но даже мы не можем затушить его.
– В этом случае нас поглотит вечный холод и тьма.
– И мы никогда не увидим всех красот земли, не постигнем бескрайности полей.
– Но зато звезды небесные будут ярче.
– Ты глубоко заблуждаешься, брат мой. Звезды тоже погаснут, если не будут отражаться в глазах смотрящих на них.
– Ты молвишь странные вещи. Словно тебе известно нечто вечное. Земледелец, не земля ли нашептала тебе множество секретов, доверенных ей историей? Я брожу по полям в одиночестве и не знаю, чем занимается мой родной брат.
– О нет, ты вовсе не одинок!
– Но со мной рядом никого нет. Только я, небо над головой и мир земной под ногами.
– Тебе мало целого мира, чтобы не чувствовать себя одиноким?
– Но что значит мир, если рядом нет близкого по духу человека, если в течение длинного трудового дня и словом перемолвиться не с кем?
– Как же ты недальновиден, брат мой! Неужели ты не ощущаешь моего присутствия рядом с собой? Хотел бы я того или нет, но я вынужден поступать так: я всегда нахожусь подле тебя, всегда за твоей спиной. Тебе достаточно лишь оглянуться, чтобы увидеть мою тень.
– Мне некогда смотреть по сторонам. При свете дня мой пристальный взор направлен на моих подопечных. Они – живые существа, чья судьба поручена моей опеке. Я должен выполнять свои обязанности: заботиться об их безопасности, оберегая от злых хищников, а также подыскивать для них те уголки полей, где произрастает наиболее сочная и вкусная трава. Если я буду оглядываться, они забредут Бог весть куда, и остается только догадываться об их участи.
– Но ты мог бы услышать мои шаги, ступающие по твоим следам.
– Мое чуткое ухо направлено лишь в небесные просторы, откуда лучами светил проливается музыка божественного мироздания.
– Но зачем? Для чего тебе слышать музыку этого холодного, чуждого, бездушного космоса, если рядом – дыхание и пульс близкого тебе человека?
– Не обижайся, брат. Не мне судить о выборе пути. Всевышний наделил меня способностью слышания мировой гармонии, и я не вправе отказываться от этого дара.
– Но как же ты уследишь за своими овцами, если за звучанием космоса прослушаешь шорох подкрадывающихся хищников?
– На все воля Всевышнего.
– И ты не боишься камня, занесенного рукой врага над твоей головой?
– Врага? Но это невозможно – откуда здесь враги? Во всей беспредельности пространств нет никого, кроме меня и тебя.
– Кроме тебя и меня.
– Ты в очередной раз удивляешь и тревожишь меня. Разве может быть такое, чтобы кровный брат мог занести камень над моей головой?
– На грешной земле всякое случается, и не такое, брат мой.
– Нет, я не верю. Ты не ведаешь, что изрекают твои уста.
– Пусть так. В таком случае взгляни еще раз на живую картину сгорающего времени – она так красива, что привораживает взгляд.
– Да, завораживающе красива… Но я снова вижу чье-то отражение. Что это? Не может быть! Я вижу человека, на которого со всех сторон обрушивается град камней. Вокруг него сгущаются тени, они душат его, а человек словно ничего не замечает… О, Боже! Да он же слеп!..
– Не беспокойся о нем, брат мой. Что для него земные камни, если он слышит звучание вселенских сфер?
История четвертая. Извне СССР, послевоенные годы
grave misterioso alla overture
Ночной город на Неве звучит отголосками дня, разносимыми линиями ветров. Жизнь, прикрытая покрывалом темноты, постороннему наблюдателю кажется призрачной и зыбкой. Но внешнее не всегда адекватно истинному. Под видимостью спокойствия ночной город наполнен страхами, отнюдь не безосновательными.
Дело в том, что вся атмосфера города насквозь пропитана специфическим отравляющим веществом. Над распространением этого ядовитого вещества неустанно трудятся Специальные службы, представители которые работают круглосуточно, без перерыва и выходных (разве человеческое существо способно на такое? – ответ наводит на размышления об определенном происхождении вышеупомянутых служб).
Яд, обладающий уникальными свойствами – такими, как невидимость, а также отсутствие запаха и плотности, – незаметно для жителей города вводился в потоки воздуха и вместе с невинным и ни о чем не подозревающим ветром, которому придавалось конкретное направление, доставлялся адресату. Как правило, адресат отличался от обыкновенных жителей города одной немаловажной особенностью: он был разноцветным.
Это человеческое свойство Специальными службами считалось категорически недопустимым, которые целью своей активной деятельности постановили создание в стране однотонной толпы, окрашенной в серый цвет самого безликого оттенка. Верхи этой организации мечтали о том, что в один прекрасный день они проснутся, выглянут из окна и увидят аккуратно выстроенные бесчисленные ряды и ряды серых фигур, готовых по единому жесту выполнять все ниспосланные указания. До чего же отрадное зрелище! Как приятно и легко было бы управлять такой страной!
Руководствуясь устремлениями подобного рода, Специальные службы денно и нощно работали над отлавливанием субъектов, которые изначально имели раскраску иного характера, нежели безлико-серую. Главной целью их труда было устранение подобных личностей сомнительного происхождения (почему это они должны выделяться своим цветом и портить складную картину грез, по каким таким правам и полномочиям?!).
Пойманные цветные личности – а их в стране водилось немало – были немедленно изолированы от общества. Службами делались неоднократные попытки пойти на компромисс и попросту перекрасить цветных в серую краску, благо, этого добра у них хватало. Но – удивительное дело! – даже через десятки искусственно нанесенных толстых слоев серости просвечивали истинные цвета сомнительных субъектов.
Впустую потраченные запасы краски и напрасно потерянное время настолько огорчали работников Специальных служб, что те из вредности не выпускали нарушителей их спокойствия из-под замков, а порой, в особо безнадежных случаях, решались идти и на крайние меры.
Но сомнительные личности со временем стали попадаться в сети служб все реже и неохотнее. Некоторые из них, кто посмышленее, даже приспособились, меняя собственную яркую раскраску на незаметно-серую, подобно хамелеонам. Это обстоятельство поставило работников спецорганов в тупик, но ненадолго. Вскоре ими был изобретен особый метод – внедрение в слои атмосферы того самого ядовитого вещества, о котором говорилось выше. Непокорных и хамелеонов сначала подвергали «обработке» этой отравой.
Яд действовал на провинившихся таким образом, что, надышавшись им, они покорно складывали лапки и теряли свою красивую, оригинальную окраску. Некоторые из них не выносили подобного издевательства и теряли вместе с цветом и жизнеспособность, после чего довольно быстро умирали.
Поток воздуха, наполненный ядом, доставлялся, как было указано, при помощи ветра. Ненадежность «почтальона» часто приводила к тому, что попутно отравленная атмосфера просачивалась в окна абсолютно «невинных» людей – тех, кто отродясь имел сероватую кожу. Как ни странно (в намерения специальных служб вовсе не входило поголовное истребление населения), ядовитый воздух оказывал свое губительное воздействие и на них, навечно вселяя в их сердца ничем не объяснимое, но непреодолимое чувство ужаса, неописуемого страха.
Постепенно реальность настолько пропиталась ядовитой жутью, что перестала быть похожей на воздух, пригодный для дыхания. Люди, надышавшиеся им, теряли способность к аналитическому мышлению, к объективному осознанию действительности и впадали в состояние, чем-то напоминающее массовый гипноз.
Заприметив реакцию населения на действие отравляющего вещества, специальные службы обрадовались и стали направлять новые порции яда уже с непосредственной помощью этих еще живых людей, тем самым превратив их в «оружие» особого предназначения – опять же, для изведения разноцветных.
Сами того не подозревая, окружающие стали наносить цветным довольно ощутимые удары, метать в них ножи и бросаться палками, будучи при этом убежденными в том, что совершают благое дело. Подобные меры делали существование цветных, и без того нелегкое, практически невыносимым.
Много лет спустя кто-то пытается ответить на правомерные вопросы: откуда взялись эти кошмарные Специальные службы? зачем им требовалось вытравлять несчастных разноцветных, каковые в прочих обществах всегда являлись гордостью и надеждой? кто придумал такой изощренный яд, остатки которого до сих пор витают в воздушных слоях атмосферы, окружающей планету?
Подробные ответы любопытный мог бы получить от одного из тех, кто сидит у костра. Но не каждому смертному подвластно преодоление пути, ведущего сквозь кольца времен – в глубину вечности…
humoreske sciolto
– Дмитрий Дмитриевич, постойте, куда же вы?
– Трамвай! Слышите? – Звенит! Это последний, дежурный. Мы должны поспешить, иначе придется всю ночь топать пешаком! Догоняйте!
По пустынным улицам зимнего ночного города бежали двое мужчин. Тот, который бежал первым, был постарше. Он был мешковат и неуклюж, пыхтел и отдувался на бегу. Длинное пальто и тяжелая папка, зажатая под мышкой, сковывали его движения. В толстых стеклах его очков поблескивал отсвет изредка встречающихся на пути неразбитых фонарей.
Со стороны он выглядел весьма неловким бегуном, и тем не менее его спутник, будучи более молодым и проворным, обладающий ногами гораздо большей длины, едва поспевал за ним. Свободу его движений сковывали отнюдь не внешние факторы, а излишняя робость и нерешительность. Видимо, сопящий от усилий товарищ в очках был какой-то важной персоной.
Раскрывая карты, отметим, что никаких ответственных постов впереди бегущий не занимал. Стеснительность молодого человека с длинными ногами объяснялась куда проще: взаимоотношения двух вышеобрисованных субъектов были подобны тем, каковые обыкновенно встречаются между учителем и учеником.
И хотя они и в самом деле находились друг для друга на указанных позициях, принятый баланс в отношениях этих людей был весьма относительным и условным, поскольку исправно свою роль играл только ученик. Второй же, будучи личностью незаурядной и яркой, вел себя совершенно неподобающим образом: он общался со своим учеником на равных – так, словно тот приходился ему хорошим другом или близким родственником.
Судите сами: разве подобает выдающемуся педагогу, профессору Ленинградской государственной консерватории, гениальному композитору, автору знаменитых, грандиознейших произведений, бегать по ночам за трамваями?
Несмотря на то что ученик брал у него уроки композиции уже не первый месяц, он всякий раз искренне поражался той потрясающей парадоксальности, которая уживалась в этом удивительном человеке, и все еще не мог привыкнуть к непредсказуемости его характера.
Тот самый Дмитрий Дмитриевич, который с самым строжайшим видом выслушивал результаты его скромных попыток в области композиции на уроках и давал замечания редкостной ценности, который с вдохновленным видом, откинувшись и прикрыв глаза, говорил о шедеврах музыкальной культуры, – тот же самый человек мог через мгновение отпустить язвительную шуточку по поводу непрофессионализма некоторых его коллег и позвать в закусочную – туда, говорит, хорошую водку завозят.
Вот и сейчас: рассуждая об отгремевшей полчаса тому назад премьере в Мариинском и оборвав себя на полуслове, педагог внезапно сорвался с места – и непринужденная ночная прогулка обернулась для обоих сумасшедшим кроссом. «Мне-то и не нужно вовсе на трамвай, он едет в другую сторону!» – скакали мысли в голове ученика. Он жил неподалеку и вполне добрался бы пешим порядком, но расстаться с учителем вот так просто не мог.
Добежав до поворота, Дмитрий Дмитриевич остановился и обернулся:
– Поднажмите, Витя! Он совсем близко! Сейчас будет проезжать мимо, и нам нужно будет вскочить на ходу…
Грохочущий трамвай был уже совсем близко, когда Витя догнал педагога. Улучив момент, когда вагон поравнялся с ними, Дмитрий Дмитриевич собрал остатки сил, скоординировался, ухватился за торчащий поручень и одним махом вскочил на подножку. Ученику ничего не оставалось, как последовать его примеру.
– Ну вот и ладненько! – радовался Дмитрий Дмитриевич, усаживаясь на свободное место – вагон был практически пуст. – Теперь можно быть уверенным, что попадем домой не к утру и домашние не будут беспокоиться.
Он снял очки и вытер ладонью взмокший лоб, от души рассмеялся:
– Вот уж выдалось приключение, так сказать, на вашу голову! Вы, наверно, и предположить не могли, что я заставлю вас вскакивать в трамваи! Но вы в следующий раз все же так не поступайте – это нехорошо, понимаете ли, а к тому же опасно для жизни.
Его речь была по обыкновению отрывистой и напряженной. Руки, не знающие покоя, совершали множество лишних движений. Педагог поправил папку, устроив ее на коленях поудобнее, и заботливо погладил ее по мягкой коже:
– Представляете, а я ведь чуть было не выронил ее во время этой погони! Вот было бы досадно! Ха-ха! Здесь ведь у меня ученические сочинения хранятся, я обещал все просмотреть дома. Кстати, – спохватился он, – давайте-ка сюда и ваш квинтет! Я не успел как следует его изучить. Но уже с первого взгляда мне показалось, что он представляет из себя нечто интересное. Давайте, давайте. А покуда подумайте над выбором текста для кантаты. Что-то подсказывает мне, что в этом жанре вы откроете для себя новые пути и возможности.
– Дмитрий Дмитриевич, как вы считаете, может, мне стоит пока написать что-нибудь хоровое, но не столь масштабное?
– Хоры? Хоры, хоры… – учитель на мгновение задумался. – Понимаете, Витя, для этого жанра вам придется выбирать пролетарские стихи, в ином случае никто и не возьмется за исполнение. Мой вам добрый совет: в поиске текста для кантаты обратитесь к классикам. Темы классиков вечны и незыблемы, к ним трудно, так сказать, придраться, и в ваш адрес от критиков не полетят порицания и оскорбления.
– Хорошо, Дмитрий Дмитриевич. А что можно взять за образец? Может, изучить вокально-инструментальные сочинения Бакалевского? Я читал о нем в газете как о выдающемся мастере жанра…
– Глупости! – вспыхнул учитель. – Бакалевского хвалят за правильно избранную политическую позицию, только и всего! Его музыка воспевает светлое будущее, но достаточно раз послушать ее, чтобы убедиться, что ее заслуга именно в угодном властям смысле.
– Значит, это неправда, все, что о нем пишут критики?
Дмитрий Дмитриевич с улыбкой посмотрел на наивного молодого человека:
– Витюша, дорогой мой, неужели вам еще не приходилось самолично убеждаться в качестве оценок наших критиков? Мою Пятую Симфонию они обозвали, понимаете ли, соцреалистической… Вспоминаю, какую радость принесло мне, так сказать, прослушивание моей симфонии партийным активом! – в голосе композитора слышалась откровенная издевка и усмешка. Он характерным жестом закинул руку к затылку, а потом отвел к подбородку. – С тех пор я только и мечтаю о том, чтобы мои произведения почаще исполнялись перед партийной аудиторией! Наша партия с таким вниманием следит за ростом музыкальной жизни нашей страны. Это пристальное внимание я ощущаю на себе в течение всей моей творческой жизни.У молодого человека мурашки пробежали от интонации, с какой учитель произносил последние слова. Дмитрий Дмитриевич замолк и нахмурился. Его добрые глаза, по обыкновению излучающие мягкий свет, теперь горели огнем сопротивления.
– А как же Бакалевский? – робко нарушил затянувшуюся паузу ученик. – Вы недоговорили…
– А? – очнулся от своих мыслей педагог. – Да что вы пристали ко мне со своим Бакалевским? Не люблю я его музыки, признаюсь откровенно. Не люблю, понимаете ли. И ведь совершенно не важно, что пишут о нем в газетах, – понимаете ли, Витя? Главное в том, что музыка эта – не первого сорта, а второго. Для первого сорта у автора оказалась, так сказать, «кишка тонка». А потому мы ищем недостатки и, конечно, находим их. Разумеется, мы найдем их и в хорошей музыке – скажем, в тех же прелюдиях Шопена. Однако, так как там музыка хорошая, мы не ищем эти погрешности специально, и правильно делаем!
Втолковывая ученику прописные истины, как неразумному дитя, Дмитрий Дмитриевич увлекся и не заметил, как проехал свою остановку. Трамвай увез его на несколько кварталов дальше, а потому композитору все равно пришлось добираться до дома пешком.
grave infernale
Он ощущал на себе внимание Специальных служб с тех пор, как признался миру в том, что рожден разноцветным.
В ту же минуту службами по ветру была послана первая порция яда. Впрочем, ее-то он как раз и не заметил. Он продолжал писать свою музыку, не замечая, какая западня для него готовится.
Тогда находчивые работники службы придумали особый метод борьбы с нарушителем. Они стали исполнять его произведения и даже хвалить их: это требовалось для того, чтобы композитор потерял бдительность и позволил себе лишнее, дабы нанести открытый и сильный удар.
Некоторое время пришлось выжидать. И вот наконец нашелся чудесный повод для первого ножа: в Большом театре состоялась премьера его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Те конкретные лица, коим надлежало взять нож в руки, были осведомлены о постановке заранее. Они долго и основательно готовились. По прошествии целого месяца со дня премьеры – во время отъезда автора из столицы – холодное оружие из-за спины было пущено в ход…В Архангельске стоял жуткий мороз. Столбик ртути на термометре опускался ниже нуля до отметки 50. Нахохлившиеся, укутанные с головы до пят прохожие спешили по своим делам, стараясь не останавливаться и не замедлять хода во избежание столь неприятного явления, как отмерзание конечностей и частичное обморожение.
Возле газетного киоска очереди совсем не было. Продавщица – пожилая женщина с усталым лицом, часть которого виднелась из-за огромного пухового платка – в очередной раз наливала из термоса горячий чай: киоск почти не отапливался. Торопливый стук в окошечко заставил ее отвлечься от возни с термосом. Да и крышка, как на грех, никак не поддавалась – то ли плотно закрутила, то ли пальцы скрючились и отмерзли окончательно.
Со вздохом разогнувшись, газетчица приоткрыла окошечко и неприветливо спросила покупателя:
– Чего надо?
Человек в ушанке и очках, обледеневших на морозе, коротко выдохнул:
– «Правду», будьте любезны, – и протянул монету, уютно пригревшуюся в толстой вязаной рукавице.
Монетка звякнула о блюдечко. В открытую ладонь продавщица вложила газету, свернутую в трубочку, и поспешно захлопнула окошечко, через которое в киоск проникал вымороженный воздух.
– И кто в такой холод газеты читает? – пробурчала женщина, окинув покупателя, уткнувшегося в газету прямо не отходя от киоска, недоброжелательным взглядом. – Сидели бы себе дома, возле печки. Так нет же – шляются всякие! И ходют, и ходют, морозу только нагоняют.
Откупорив наконец упрямую крышку термоса и плеснув в железную кружку слабого чайного напитка, который еще пару часов назад был кипятком, газетчица облегченно вздохнула. Глоток теплого варева, пробежавшись по пищеводу, оказал на организм живительное воздействие и даже поспособствовал возрождению бодрости духа.
– Ну и ниче! – сказала продавщица сама себе, поскольку рядом никого не было. – Скоро будет потепление. А с чайком-то и впрямь жить можно! Вот только сахарку бы сюды еще…
Женщина посмотрела сквозь оттаявший кусочек обледеневшего стекла на улицу и ахнула:
– Братцы-светы! А чудак-то этот все стоит и читает! Да он же замерзнет весь! Уже минут пять прошло, а он с места ни шагу!.. Эй, ты, товарищ! – крикнула она и застучала по стеклу киоска. – Граждани-ин! Слышь меня, али как? Не слышит, видать – оглох от мороза. Ах ты, господи, спасать человека надо…
Любая русская женщина, даже если она отличается повышенной степенью вредности и ворчливости, не может остаться равнодушной, когда в двух шагах от нее погибает живое существо. Завязав потуже платок, сердобольная газетчица устремилась на помощь замерзающему покупателю, позабыв о жестоком морозе, который хлынул внутрь киоска, как только она приоткрыла дверь и шагнула за порог.
Покупатель стоял неподвижной окаменевшей глыбой – с газетой в руках. Он не отозвался на вопросы продавщицы, никак не отреагировал на тормошение. Вместе с подсобившим прохожим женщина затащила отмороженного в киоск, где принялась отпаивать его остатками чая.
– Да спиртом его надо! – посоветовал прохожий, растирая пострадавшему лицо и руки. – Тут дело такое, что чай не поможет.
– Ха, скажешь тоже – спиртом! А то я сама не знаю, что надо! Только откуда ж его взять, спирт-то? Денег у меня нету, чтоб последние гроши на всяких недоумков спускать, – ворчала в ответ женщина, но при этом порылась все же в недрах бездонных карманов и извлекла оттуда горсть мелочи. – На, посчитай, может, на четвертушку-то и наберется…
На четвертушку набралось, правда, не без участия прохожего, который согласился и сбегать в магазин через дорогу. В ожидании посыльного продавщица отхаживала замерзшего мужчину растиранием и причитаниями:
– Ах ты, горе горемычное! И угораздило же тебя стать столбом на таком лютом морозе!
Выпавшая из рук недотепы-покупателя газета валялась на полу. Женщина подобрала ее и прочитала бросающийся в глаза подзаголовок передовой статьи – «Сумбур вместо музыки» и дальше:
«Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге… В то время как наша критика – в том числе и музыкальная – клянется именем социалистического реализма, сцена преподносит нам в творении автора «Леди Макбет Мценского уезда» грубейший натурализм… И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены…»
– И чего-й то он зачитался, что ажно остолбенел? – пожала плечами газетчица. – Я-то уж было грешным делом подумала, что опять войну объявили…
Женщина и не подозревала, что была в двух шагах от истины. Только военные действия велись уже в открытую и были направлены на одного человека. Того самого человека, который в полубессознательном состоянии сидел в архангельском газетном киоске. Работники Специальных служб, злорадно ухмыляясь, потирали руки.unruhig con moto
Осеннее слякотное утро моросило каплями дождя на переднее стекло автомобиля. Мимо неторопливо проплывали серые дома, спешили по своим делам серые прохожие, в небе чертили линии запоздалые стайки серых птиц.
Дмитрий Дмитриевич аккуратно вел машину, не выбиваясь из общего потока – по утрам движение с приличной скоростью перемещалось из реальности в область мечтаний автомобилиста. Город, расчерченный на кварталы-квадраты, с высоты представлялся сетью, прочной паутиной. Надо сказать, не слишком приятные образы и ассоциации возникали в голове композитора, находящегося одновременно в кабине собственного автомобиля и в нескольких метрах над уровнем самого высокого здания Ленинграда.
Вырываясь из сплоченного ряда ползущих друг за другом металлических существ, Дмитрий Дмитриевич повернул и выехал на Садовую-Спасскую. Здесь движение было поспокойнее – машин было намного меньше, и можно было слегка нажать на педаль газа.
Шум мотора звучал ненавязчивым аккомпанементом к мелодии, пока еще незнакомой даже самому композитору. «Ага!» – подумал он. – «Это ведь чудесная темка для andante симфонии! По приезде на место нужно будет непременно ее записать. Такую музыку нельзя упускать из виду…»
Не успел он домыслить до конца, как звучащую мелодию сдуло оглушительным порывом ветра. Головная боль ударила медным колоколом, в глазах потемнело, руки и ноги отказывались повиноваться приказам мозга. Боковым зрением композитор заметил, как из-за угла на максимальной скорости выскакивает автомобиль и мчится наперерез его машине, прямо через красный светофор! За рулем сидел человек с абсолютно невозмутимым и непроницаемым выражением лица, одетый в безлико-серую военную форму…
До отказа выжав педаль тормоза и выкрутив руль, Дмитрий Дмитриевич ощутил всем телом, как тяжело подчиняется несовершенный механизм автомобиля подобным «сюрпризным» командам. Благодаря быстрой реакции его машину лишь слегка задело, но все же занесло и отбросило на обочину. Разумеется, наглец в военной форме и не подумал останавливаться и, как ни в чем не бывало, с лихвой промчался мимо.
Дмитрий Дмитриевич, переведя дыхание, поспешно попытался выровнять автомобиль, дабы не препятствовать движению на шоссе. Покинув свой пост на перекрестке, к пострадавшему бежал молодой офицер ГАИ. Автоматически козырнув, он наклонился и просунул голову в приоткрытое окошечко дверцы со стороны водителя:
– Младший лейтенант Сидоренко. Попрошу предъявить ваши документы, товарищ!
Дмитрий Дмитриевич, еще не вполне оправившийся от только что приключившегося с ним дорожного происшествия, дрожащей рукой порылся в бардачке, нашарил искомое и протянул терпеливо ожидающему лейтенанту.
– Вот, возьмите.
Изучив бумаги с особой тщательностью, лейтенантик попросил горе-водителя выйти из машины и рассказать, что именно произошло.
Холодный воздух помог собраться и прийти в себя. По мере рассказа они с работником дорожной службы обошли вокруг машины и обнаружили солидную вмятину с левой стороны багажника.
– Машину надлежит поставить на капремонт, – заключил лейтенант Сидоренко и поспешно добавил: – А с нарушителем мы обязательно разберемся, товарищ, уж вы не беспокойтесь! Конечно, номера автомобиля вы не запомнили?
– Понимаете, не до этого было, – развел руками композитор.
– Ну вот, видите, – с совершенно неуместной радостной улыбкой ответил лейтенант.
– Но зато я отчетливо видел водителя в лицо и при случае наверняка смогу, так сказать, опознать…
– А вот об этом у вас, товарищ, никто не спрашивает, – перебил тот пострадавшего, похлопывая его по плечу. – Оставьте это нам – сами разберемся. Адрес я ваш на всякий случай записал. так что будет нужно – вызовем.
– Спасибо, – поблагодарил Дмитрий Дмитриевич, окончательно растерявшийся.
– Всего доброго! И в следующий раз будьте внимательнее на дороге.
Представитель дорожного патруля козырнул, вернул права и важно удалился с места происшествия. Дмитрий Дмитриевич прислонился к помятому корпусу, снял очки и потер лоб. Его не покидало странное ощущение, словно что-то было не так: поведение гаишника несколько разочаровало его. По идее, он не должен был оставаться столь равнодушным к случившемуся, да и слишком очевидной была радость на его лице, когда он удостоверился в том, что пострадавший не заметил номера нахального нарушителя.
Автопроисшествие отозвалось восклицательным знаком. Где-то на грани подсознания отчаянно пульсировали красные огни.disinvolto
Порывисто встав из-за инструмента, учитель по-детски беспомощно улыбнулся и сказал:
– Ну, на сегодня, так сказать, достаточно. Вы, дорогой мой, большая умница – меня определенно радует ваш рост в области композиции. А теперь давайте-ка к столу, давно уже пора ужинать…
Они перешли в другую комнату, в которой царил такой же кавардак и беспорядок, который уже с большой натяжкой можно было назвать творческим, но тем не менее стоял накрытый заботливой горничной стол. Среди столовых приборов и расставленных блюд с порезанной колбасой, еще дымящейся вареной картошкой и хлебом красовался графин с прозрачной жидкостью.
– Садитесь, так сказать, не стесняйтесь. Сегодня с вашим участием я поужинаю не в одиночестве. Терпеть не могу, понимаете ли, есть один. Правда, в последние годы я несколько стеснен в средствах и не могу побаловать вас богатой кухней, но уж не обессудьте…
– Что вы, что вы! Не беспокойтесь, – замахал руками встревоженный ученик.
Дмитрий Дмитриевич усадил молодого человека напротив себя и самолично разлил водку из графина по стаканам – до половины.
– Ну, давайте!
Одним махом выпив содержимое, он поставил пустой стакан на стол и стал накладывать себе и гостю картошки.
– Ешьте же, умоляю вас! Вам нужно очень хорошо поесть. У молодого композитора голова должна быть в порядке.
Некоторое время тянулась пауза, заполняемая лишь звоном вилок. Ученик послушно уплетал за обе щеки, не желая ни в чем противоречить педагогу. Дмитрий Дмитриевич же по обыкновению во время трапезы был неразговорчив.
Из репродуктора с шипом прорывались звуки хоровой музыки, по всей видимости, какого-то современного автора: внимательно вслушиваясь в текст, произносимый исполнителями, можно было распознать отдельные, очень хорошо знакомые слова – «партия», «родная советская страна», «светило пролетариата».
Дмитрий Дмитриевич потянулся за графином, но в этот момент хор взвыл с новой силой, воспевая политический строй, приводящий страну к светлому будущему, и графин с силой был водворен на прежнее место. Молодой человек с замиранием сердца следил за тем, как рассерженный учитель резко отодвинул стул, подошел к репродуктору и повернул громкость на минимум до отказа.
– Ну совершенно, понимаете ли, невозможно ужинать под такую пошлость, – и он добавил пару крепких словечек, после чего вернулся за стол и, словно оправдываясь за свою несдержанность, посмотрел на испуганного ученика с доброй улыбкой: – Дерьмо, а не музыка. Автору в полотеры надо идти, а не музыку писать.
Рука снова потянулась к графину.
– Коваль и Дзержинский – неспособные люди, так сказать. Коваль у всех учился, и у Голубева, и даже у меня. Был, помнится, три раза, потом надоело: мне надоело. И ему, вероятно, тоже.
Второму стакану не суждено было наполниться: еще и крышка графина не была снята, как в качестве отвлекающего момента прозвенел телефонный звонок.
Дмитрий Дмитриевич нахмурился и бросил взгляд на циферблат больших круглых часов, висевших на противоположной стене. Видимо, стрелки часов не просто показали время, а сказали о чем-то большем, поскольку он неожиданно успокоился и продолжил прерванное дело, крикнув в сторону двери:
– Мария Дмитриевна, не берите трубку!
И, отвечая на удивленный взгляд робкого ученика, доверительно пояснил:
– Я знаю, кто это звонит. Понимаете ли, я обещал быть в одном месте и не приехал. Интересно, насколько нахален этот тип?.. Будем считать звонки. Рекордом до сих пор было ни много ни мало – двадцать восемь звонков!
Тип оказался не менее нахальным, чем в прошлый, упомянутый композитором раз. На шестнадцатом по счету звонке в дверях появилась полноватая пожилая женщина с обеспокоенным лицом и твердым голосом произнесла:
– Как вы можете терпеть такое издевательство, Дмитрий Дмитриевич? Неслыханное беспардонство! Просто неслыханное! Как так можно – не пойму! Никаких нервов не хватит слушать этот трезвон… Я бы на вашем месте так отчитала этого негодяя, что ему свет бы мил не показался, а то и попросту сняла бы трубку и положила рядом с этой трещалкой – пусть звонит, хоть обзвонится!
– Понимаете ли, Мария Дмитриевна, – начал оправдываться учитель, – если я сниму трубку, то на другом конце провода сразу поймут, что я дома. Я не хотел бы выдавать себя, так сказать…
Мария Дмитриевна укоризненно покачала головой и удалилась.
– Вот видите, – огорченно воскликнул композитор, не глядя на ученика. – Если бы это касалось только меня, то еще ничего. Но ведь домочадцы страдают, друзья, родные – все вынуждены страдать из-за меня…
– Ну что вы, Дмитрий Дмитриевич, напрасно вы думаете, что доставляете родным только хлопоты. Они очень любят вас, – попытался утешить учителя молодой человек.
Услышав голос, композитор вернулся в действительность из глубины мрачных размышлений и посмотрел на него так, словно до сего момента и не подозревал о его присутствии, будто был уверен в том, что находится один и его никто не слышит.
– Да-да, – торопливо проговорил он, – конечно же, любят. Разумеется.
Рассеянным взглядом окинув стол, он твердо сказал:
– Ну, попили, поели, пора по домам, пора по домам… – встал из-за стола и торопливо покинул комнату.
Молодой человек молча прожевал остатки колбасы и недоуменно посмотрел вслед учителю. Делить с великим композитором трапезу ему еще не приходилось, а посему поведение Дмитрия Дмитриевича показалось ему по меньшей мере странным.
– Не пугайся, милок, он у нас всегда такой: попьет, поест и уходит. А то иной раз прямо посреди обеда вскочит и пойдет к себе в комнату – музыку записывать. Она у него всегда в голове, музыка-то, – послышался мягкий женский голос.
Молодой человек обернулся. Мария Дмитриевна, неслышно появившаяся в дверях, держала в руках его пальто и шапку.
– На вот, одежку тебе принесла…
Услышав хлопок входной двери, Дмитрий Дмитриевич глубоко вздохнул и подошел к рабочему столу. Под стеклом лежал портрет Модеста Петровича Мусоргского. Дмитрий Дмитриевич наклонился над изображением любимого композитора, оперевшись руками о края стола, и пустил на волю самые мрачные и безысходные мысли:
– Надо же, – негромко говорил он то ли портрету, то ли самому себе. – Надо же, как любит подшучивать злодейка-судьба! Такой талант, такая силища, гений непомерной величины и – тяжкая участь, бедность, нищета, болезнь, жалкое существование на подачки и милость друзей и благодетелей. Почему испокон веков повторяется одна и та же история? Почему бы не оставить гения в покое, не дать ему возможность спокойно выполнить свое предназначение? Неужели нужно непременно преодолеть сотни, тысячи преград и препятствий, для того чтобы просто быть тем, кто ты есть?
Дмитрий Дмитриевич, пошатываясь, сел на стул и обхватил голову руками, закрыл глаза. Из темноты тотчас выплыла знакомая картина, которая преследовала его, появлялась всякий раз, как только он позволял разгуляться подобным мыслям. Откуда бралась эта картина, неизвестно. Дмитрий Дмитриевич подозревал, что она существовала самостоятельным, полноценным энергетическим сгустком где-то в воздухе, на границе миров. Иное объяснение неотступно преследующему видению трудно было найти…pittoresco pensieroso
Умирающий Мусоргский лежит на простой солдатской койке в военном госпитале. Рядом, на табуреточке, пристроился Цезарь Кюи, составляя с первым поразительный контраст.
Великий композитор – измученный тяжелой болезнью, голодом, нищетой, одиночеством, непониманием, тоской. На маленьком деревянном прикроватном столике железная миска с остатками луковой похлебки. И посетитель: безукоризненно ухоженный, в богатых одеждах, благоухающий духами по последней петербургской моде.
Он участливо смотрит на умирающего друга, всем своим видом старательно выражая сострадание. Для пущей искренности он с усилием выжимает из глаз пару скупых слезинок. Какое несчастье! Подумать только! Жалко, жалко мне тебя, Мусорянин…
Вот он достает из кармана кружевной платочек, театральным жестом встряхивает его. На фоне ослепительно сверкающей белизны красуются вышитые дорогой ниткой инициалы: Ц. К. Обладатель платка аккуратно складывает краешек платка и уголочком вытирает выступившую жалость, так и не перешагнувшую границы век.
Протягивает платок умирающему со словами:
– Прими на память от старого друга сей скромный дар…
В этом месте картинка каждый раз скручивается, сминается и утопает в захлестнувшем ее шквале негодования и агрессии, после чего и вовсе исчезает.– Нет, ведь каков подлец – господин Кюи! – вырывается крик искренней ярости, Дмитрий Дмитриевич резко встает со стула и начинает расхаживать по кабинету, отчитывать посетителя из его видения, то и дело припуская словечко покрепче.
– Платочек, видите ли, подарил! Кормить надо было, а не платочки дарить… Есть нечего было… Нечего было есть… Платочек, понимаете… С инициалами…
Вслед за этим видением в воображении композитора возникала и другая, не менее ужасающая картина. Правда, на этот раз в ее происхождении можно было не сомневаться: картинка была из его собственной жизни, самой обыкновенной – непробиваемо-каменно-реальной и гранитно-действительной.souvenir
…Большой зал Московской консерватории, до отказа набитый людьми – партийными деятелями, профессорами консерватории, исполнителями и композиторами, даже студентами. Что привело сюда такое огромное количество человек? Наверняка в Большом зале состоится уникальный концерт, не иначе?..
О, всякий, кому в голову пришла эта, казалось бы, столь очевидная мысль, глубоко заблуждается!
В Большой зал добровольно-принудительно согнали толпу для публичного осмеяния и порицания некоторых провинившихся личностей, не угодивших партии. Официально мероприятие называлось «партийной дисциплиной» и «партийной самокритикой». Шостакович сидел в тринадцатом ряду. Справа и слева от него кресла пустовали: никто не пожелал сесть рядом с субъектом, имеющим весьма сомнительную репутацию.
Только героическим усилием воли великий композитор заставил себя остаться и выдержать эту публичную казнь. Так он и просидел в гордом одиночестве, стиснув челюсти и вцепившись в подлокотники кресла. Дмитрий Дмитриевич был готов к предстоящему испытанию, он знал, что его будут обвинять в формализме: видите ли, он писал музыку не того характера и содержания, которое было угодно партии. Все, что происходило вокруг, было занавешено туманной пеленой, предохраняющей воспаленный и кипящий мозг от перегорания.
Смутно помнится, как один за другим на трибуну, установленную перед сценой, выходили безлико-серые люди и заранее сформулированными манифестными лозунгами с пафосно-обличающей интонацией и непроницаемым взором выкрикивали что-то, по всей видимости, слова. Иногда из-за трибуны виднелся мелко подрагивающий кончик хвоста очередного выступающего, а впрочем, это скорее бред воспаленного воображения…
И напоследок громкие слова, которые врезались в память, несмотря на все старания забыть, выбросить, как негодный хлам:
– Гражданин Шостакович не отвечает своей низкой квалификацией званию профессора, которое носит! По этой причине Приказом Министерства культуры и образования Союза Советских Социалистических Республик с сегодняшнего дня текущего года Шостакович уволен из консерватории как ПРОФЕССИОНАЛЬНО НЕПРИГОДНЫЙ!steps to macabre
К тому времени композитор понял, что против него ведется самая что ни на есть серьезная война. Ножи и камни летели один за другим, успевай только уворачиваться. Он начал бояться – не за себя, конечно. Он опасался, что месть негативных сил будет направлена и на его детей. Известно, что лучший способ обезоружить врага – это взяться за устранение его близких.
Всякий раз, когда он давал сыну ключи от машины, его охватывало непреодолимое чувство страха. Перед глазами возникало то давнее автопроисшествие, которое могло бы лишить его жизни, если бы не отличная реакция и инстинкт самосохранения.
Отправляя Максима в поездку, он не находил себе места и по прошествии десяти минут начинал накручивать диск телефона, пытаясь дозвониться до пункта назначения, куда Максим должен был приехать. На разумные возражения окружающих, настаивающих на том, что невозможно преодолеть расстояние в тридцать километров, часть из которых относились к зоне городского движения, за каких-то десять минут, он не обращал никакого внимания и не отходил от телефона до тех пор, пока на другом конце провода не звучал запыхавшийся голос благополучно добравшегося до места сына.
С каждым днем Шостакович все более ощущал, как что-то мешает его свободному дыханию, и поначалу это не относилось к области физиологии. Вокруг него сгущались потоки воздуха, пропитанного ядовитыми веществами. Яд медленно проникал в организм – с дыханием, сквозь поры на коже, пронзал мозг музыкой бездарностей, беспрерывно выливавшейся из черных прямоугольных ящиков, пущенными стрелами недоброжелательных и завистливых взглядов серых людей…
Все это подтачивало композитора извне и изнутри, лишало его жизненных сил и энергии и в результате неотвратимо привело к обострению болезни, поселившейся в нем с давних пор. Врачи обнаружили в его организме ярко выраженную тенденцию к постепенному отмиранию мышц. Для первого удара болезнь, руководимая ядовитыми веществами, выбрала один из немногочисленных счастливых моментов в жизни Дмитрия Дмитриевича – день свадьбы его сына. Чтобы не сильно радовался, чтобы со всей отчетливостью понял, что он обречен на пожизненное несчастье.
На лестничной площадке, среди куривших и балагуривших гостей, отца жениха, только что задорно смеявшегося над очередным анекдотом, внезапно обнаружили распростертым на полу. Все бросились его поднимать, кто-то кинулся к телефону, вызывая «Скорую»…
При падении Шостакович сломал ногу, и врачи забрали его в больницу. Перепуганные гости наблюдали жутковатую картину, как из квартиры на носилках выносили неподвижное тело композитора. Он не говорил ни слова. Из-под очков были видны широко распахнутые глаза. Удар оставил ему в довесок ясное сознание, дабы композитор почувствовал унижение, ощутил свою слабость и беззащитность перед могуществом вражеских сил. Это было первое серьезное предупреждение.scherzo ironico
Длинная-предлинная очередь в кассу кинотеатра. Мимо прогуливается парочка – молоденькая девушка с парнем под ручку. Слышится их непринужденный разговор.
– Ой, посмотри, Ваня, куда это такая длинная очередь выстроилась? Наверно, какой-нибудь дефицит дают? – интересуется девушка, с любопытством озираясь вокруг.
Парень тоже оглядывается, привстает на цыпочки, пытаясь определить пункт назначения, куда уходит голова очереди.
– Да это в кино за билетами, – объясняет он, так как с высоты двухметрового роста ему виден изгиб очереди, минующей несколько дверей продуктовых магазинов, и приводящей к маленькой двери здания кинотеатра.
– Наверно, что-то интересное показывают, – вздыхает девушка, втайне лелея надежду о том, что когда-нибудь и ей удастся попасть на киносеанс. В столице она еще недавно и в кино побывать еще не успела, но то, что ей приходилось слышать о кинотеатре, ей ужасно понравилось.
Парень – смышленый малый – тут же подхватывает еще не окончательно сформировавшуюся мысль подружки и предлагает:
– А что, Кать, пошли сходим, а?
– Ой, да что ты! Такая огроменная очередина! Нам и билетов-то не достанется, только простоим зазря… – постепенно интонация девушки теряет первоначальную уверенность.
– Чего это зазря? Зал вон какой большой – мест на всех хватит! – продолжал настаивать на своем парень. В его глазах уже горят яркие огоньки азарта: должен он показать этой провинциальной девчонке все достопримечательности современной Москвы или не должен? Мужчина он в конце концов или нет?
– Вот делов-то – отстоять пару-тройку часиков, – усмехается он, наблюдая за нерешительностью подружки. – Все равно гулять собирались, так не все ли одно – двигать ногами или стоять на одном месте? Посмотри, погода какая! Подышим свежим воздухом, здесь он тоже есть, и ничуть не хуже, чем в твоем парке.
Парень настолько убедителен, что девочка соглашается выдержать это испытание. И в самом деле, какая разница, где дышать свежим воздухом. Когда они вместе, им хорошо везде.
– Ну ладно, – решается она. – Давай поищем конец очереди.
Хвост обнаружился всего лишь в нескольких шагах. Крайним оказался мужчина среднего возраста и довольно интеллигентного вида.
– Товарищ, за вами никто не занимал? – обратился парень к мужчине.
Мужчина повернулся и растерянно посмотрел на парочку сквозь толстые стекла больших очков в темной роговой оправе.
– Простите, вы что-то сказали?
– Мы хотим узнать, не занимал ли кто за вами очередь, – терпеливо повторил парень.
– Нет-нет, никто. Я крайний, – поспешно ответил мужчина.
– А что за картину показывают? – спросила девочка.
– «Молодую гвардию».
– «Молодую гвардию»! – восторженно воскликнули в один голос ребята.
– Ой, как здорово! – радовалась девушка. – Я столько хорошего слышала об этом фильме! Мне говорили, там снимаются очень известные актеры. Вы, случайно, не знаете их фамилий?
– Нет, не знаю. Я к этому фильму только музыку сочинял, понимаете ли, а для ее исполнения актеры не нужны.
– Музыку? Вы сами писали музыку? – переспросил парень, пристально всматриваясь в лицо мужчины. – То есть вы хотите сказать, что вы и есть знаменитый композитор Шостакович, который сочинил Седьмую Симфонию?
Мужчина робко улыбнулся:
– Да, моя фамилия Шостакович. Зовут Дмитрий Дмитриевич, – и протянул руку для знакомства.
– Иван, Катя, – представились ребята.
– Очень приятно, – улыбнулся им мужчина.
– Не может быть! – у ребят от удивления округлились глаза. – Живой Шостакович, настоящий композитор! Вот уж не думали, что встретим вас в очереди!
– В жизни всякое случается…
Девушка заглянула композитору в лицо.
– Я хочу вас получше запомнить, чтобы потом всем-всем рассказывать, что стояла в очереди с известной знаменитостью! Но постойте-ка…
Девочка наклонила голову к плечу и нахмурилась:
– Если вы и в самом деле Шостакович, то почему же вы не можете взять билет без очереди? Вам вовсе не надо стоять часами – вам и так дадут!
– Вы в самом деле так думаете? – недоверчиво и очень серьезно спросил ее композитор.
– Ну конечно! – воскликнул парень и тут же подкинул дельный совет. – Возле кассы есть другое окошечко, с табличкой «Администратор», так загляните туда. И незачем вам здесь время тратить, как простым людям!
Они смотрели вслед композитору, дождавшись, пока тот не скроется за головами поклонников кино, потом переглянулись.
– Какое сегодня число? – спросила девушка.
– Девятнадцатое, – подумав, ответил парень. – Сегодня же суббота? Значит, точно девятнадцатое.
Катя задрала носик и торжественно произнесла:
– Девятнадцатое июня 1948 года с сего момента объявляется самым знаменательным днем в моей жизни! – и, сменив тон на доверительный, шепнула парню на ухо: – Давай его запомним и будем хранить как талисман.
…
Они не продвинулись и на пару метров, как вновь увидели еще более ссутулившуюся и поникшую фигуру того самого композитора, за которым занимали очередь.– Дмитрий Дмитриевич! – окликнула его девушка. – Ну как, достали билеты?
Композитор подошел к ребятам. Взгляд серых глаз казался опустошенным, уголки рта искривлены, будто от горечи.
– Что с вами? – с тревогой спросила девочка, почувствовав неладное. – Окошко не нашли?
– Нашел, нашел окошко. Низенькое такое. Над ним табличка висит «Администратор» – все как полагается, – речь композитора была сухой и отрывистой, словно разорванная на части.
– И что?
– Подошел я к нему… А оно низенькое, понимаете ли, вот специально, чтобы человек изогнулся! Вот специально, чтобы в дугу изогнулся… Я, конечно, изогнулся, и туда заглядываю. А администратор меня спрашивает: вам чего? Я ему говорю, что хочу два билета на фильм. А он: а почему это я вам должен билеты давать? кто вы такой? Я говорю ему: я – Шостакович…
Композитор замолчал.
– Ну, а он-то?!. – с замиранием сердца и напрочь позабыв о физиологической потребности организма в осуществлении дыхательного процесса, выспрашивали молодые люди.
– А что он? Он мне отвечает: а я, говорит, Смирнов, ну и что? И в это время я, понимаете ли, стою, так сказать, перед ним, согнувшись, потому что окошечко так специально сделано…
– Ну и что же вы не объяснили этому непросвещенному идиоту, что вы тот самый Шостакович, который музыку к этому фильму написал? Это же ваш фильм! – парень едва сдерживал порыв праведного гнева и возмущения.
– Да что вы, зачем? – Дмитрий Дмитриевич спрятал голову в плечи, словно в нескольких сантиметрах над его головой кто-то размахивал огромной дубинкой. – «А я – Смирнов, ну и что?» Так я и ушел. Не люблю, понимаете ли, просить, не люблю…
Композитор повернулся и медленно побрел дальше. Молодые люди были смущены. Опустив взгляд долу, они впервые почувствовали, как твердая до сих пор почва под их ногами начала проваливаться, подобно трясине…
Диалог с паузами
– Почему исчезло изображение? Внезапно, без всякой на то причины блики огня захлестнули и без того нечетко просматривающуюся фигуру.
– Ветер, во всем виноват ветер.
– Ветер, который разносит яд по планете? Неужели весь воздух пропитан отравой? Наверняка это вредно. Может быть, попробовать как-то научиться обходиться без воздуха?
– Не думаю, что в земных условиях это получится.
– Что же стало с тем человеком, которого нещадно травили в то смутное историческое время?
– Он был вынужден покинуть родную страну и подыскать себе временное пристанище в другом уголке земного шара, куда ядовитые потоки не долетали.
– Но я не могу понять – зачем нужно было избирать такой изощренный способ убийства? Выходит, целью была не смерть?
– Разумеется… Если Гений остро ощущает вопиющую диссонантность бытия, этого вполне достаточно.
– Достаточно для чего?
– Чтобы он не чувствовал себя счастливым. Противник радовался своему превосходству над Тем, кто в действительности был выше его.
– Так вот в чем кроется истинное предназначение отравы?
– Может быть. Ты уже близок к истине. Впрочем, скоро ты сам все поймешь, и мне не придется объяснять тебе самое главное, самое страшное и трудное для меня.
– Но откуда тебе известны такие подробности?
– Я был там. Я странник, и мой удел – всегда идти сквозь времена и расстояния, принимать различные обличья, в сущности оставаясь собой.
– Если я правильно тебя понимаю, брат, ты бродишь не как попало, ты сопровождаешь (или преследуешь?) тех, для кого открыта дверь в трансцендентность, кто способен слышать музыку сфер, подобно мне?
– Подобно тебе…
– Но зачем, если ты приносишь им только несчастья? Зачем ты отравляешь их существование, мешаешь выполнить свое изначальное предназначение, с которым они явились в этот мир?
– Я вынужден так поступать, у меня нет иного выбора.
– О, как ты жесток, брат! Пребывая рядом с тобой здесь, один на один среди бескрайних просторов, я и не подозревал о том, насколько ты опасен и коварен! Отойди от меня, я не хочу больше говорить с тобой!
– Постой, брат, не горячись. Видно, настало время, когда не ты, а я должен успокаивать тебя. Мы поменялись местами.
– Ну это уже слишком! Если не уходишь ты, тогда я сам покину тебя. Нам незачем сидеть у одного костра, я вполне могу развести огонь и вдалеке от тебя.
– В том-то и дело, что не можешь.
– …То есть как не могу? Что кроется в твоих словах?
– Истина. Мы с тобой – родные братья, и нам предназначено волей Всевышнего никогда не разлучаться. Поэтому я и следую за тобой в истории человечества.
– Не следуешь, а следишь!
– Ты волен называть это как хочешь.
– Но почему тогда я ни о чем не знал, ни о чем не догадывался до сих пор? Ты помнишь, а я нет. Это более чем странно. Я не нахожу объяснения…
– Подожди немного.
– …И почему ты вдруг решил открыть мне глаза?
– Я подумал, что так будет лучше. Справедливее…
– О, звезды! Вы слышите, о чем говорит тот, который, по несчастью, приходится мне кровным братом! Он вещает о справедливости! Подумать только! Ответь же мне: какая может быть справедливость хотя бы в твоих намерениях, если ты беспричинно таишь коварные намерения против родного брата?
– Отнюдь не беспричинно.
– Тогда назови мне ее, открой причину. Может быть, тогда я смогу тебя понять и в какой-то степени оправдать твои поступки.
– Позже.
– Но почему не сейчас?
– Потому что ветер утих и – взгляни на костер – в пламени вновь можно увидеть изображение.
– Мне надоели твои картинки. Не хочу больше ничего видеть.
– Стой же, не уходи!.. Хорошо, так тому и быть: я все расскажу тебе. Но потом ты сам станешь упрекать себя за преждевременность и неспособность к ожиданию. Садись же поудобнее. Мой рассказ будет немногословен, но он не из тех занимательных историй, каковые могут без всяких усилий проникать в уши на бегу.
– Я слушаю тебя, брат. Видишь: я покорно складываю руки на колени и направляю свой слух к твоему голосу. Говори же.
– Сказать, что все это из-за того, что Он не захотел принять мои дары, было бы слишком просто и совершенно не так…
– Я так и знал, что ты обижен на меня из-за Дня Приношений! Но разве я виноват в том, что Ему понравились именно мои дары? Зачем ты преследуешь меня из века в век?!..
– Ты недослушал меня, брат. Я же сказал, что такой причина выглядит лишь на поверхности. А ты не пробовал заглянуть под толщу вод? Не пытался увидеть, что там, на дне?
– Откровенно говоря, мне было как-то не до этого. У меня, между прочим, имеются свои дела и заботы – стада, звезды… Одним словом, есть о чем подумать и без твоих проблем.
– Вот видишь, ты и не подозревал о том, что творится на душе у кровного брата. Но раз уж подвернулся такой уникальный случай и ты в кои-то веки заинтересовался мной, я попытаюсь тебе объяснить, что на самом деле происходит. Прости, если тебе покажется, что я напоминаю о вещах и фактах, казалось бы, общеизвестных.
Итак, мы – братья, рожденные от одного отца. Вместе росли, воспитывались, взрослели. Но с момента появления на свет наши взгляды были устремлены в две противоположные стороны вертикали: твои глаза были открыты небу, я же смотрел на землю. Уже в этом незначительном различии между младенцами скрывалось истинное предназначение их судеб. Так и повелось. Ты стал пастухом. Несложное, однако же, занятие – бродить изо дня в день по полям и лугам, подыскивая животным сочные корма, дарованные природой, а потом сидеть в душистых травах на пригорке и созерцать красоту земную.
Я же посвятил свою жизнь возделыванию земли – труду благодатному, но требующему много усилий. От восхода до заката, из года в год я распахивал, удобрял почву, сеял семена, выхаживал каждый росток, поливал, вырывал мешающие дыханию сорняки, заботливо собирал урожай. И все для того, чтобы раз в год – Великий День Приношений – сложить плоды трудов праведных к Его ногам.
Сравнимы ли труды наши? Сколько сил кладу я в землю, чтобы получить хороший урожай, и что стоит тебе один раз заколоть упитанного тельца, вскармливаемого самой матерью-природой? Посуди сам: Он все видит, от Его всевидящих очей не скроется не только живое существо, но и даже самая малая промелькнувшая где-то в глубине сознания мысль.
– Да, это так. Он все видит.
– Тогда, может быть, ты ответишь, почему он выбирает твои дары, а мои приношения каждый раз отвергает. Почему Он так несправедлив ко мне?
– Тише! Твои уста не ведают, о чем вещают, брат! Разве можно Его, Великого и Всемогущего, упрекать в чем-либо?! Он – Абсолют и Высшая Истина, и Деяния Его разумны и справедливы. Молчи, о неразумный, иначе не избежать тебе кары!
– Не избежать; что верно, то верно. И все же: почему мои труды не оцениваются Им по достоинству, почему мне не воздается по заслугам? С какой такой стати Он отдает предпочтение тебе и твоим тельцам? Почему я должен трудиться напрасно? Каждый новый год я пытаюсь подавить в себе уязвленную гордыню и утешить себя впопыхах найденными объяснениями: положим, этот год выдался недостаточно урожайным и плодородным, или же я плохо постарался, а вот начнется новый – и тогда я уж превзойду сам себя!
Но наступает очередной День Приношений, и мои дары отвергаются Им снова и снова. И каждый раз я вновь беру себя в руки и выкладываюсь максимально, безвозмездно даря себя и свое умение земледельца, чтобы угодить Ему. Но всякий раз это не приводит к желаемым результатам. И сегодня произошло то же самое: твой умерщвленный телец угодил Ему, а я снова остался в стороне. И так будет всегда, мне не изменить свою позицию, ведь так?
– И тогда ты счел причиной твоих мук и терзаний родного брата и решил отыграться на мне, преследуя меня в веках?
– Более того: под моей правой рукой сейчас лежит тяжелый камень. Я ощущаю, как он срастается с моей ладонью, становится с ней единым и нераздельным целым. Теперь, после всего произнесенного здесь, возле затухающего костра, чей свет еще пытается разогнать надвигающиеся на нас непроглядную тьму и холод, я не смогу не поднять его и не сделать то, ради чего мы сегодня и затеяли весь этот разговор.
– Что ты хочешь этим сказать? Неужто ты задумал страшное и намерен занести камень над головой кровного брата?
– Не стану скрывать. Почему бы не принести тебя в Дар Великому и Всемогущему? Может быть, тогда он смилостивится и примет мои дары – и по достоинству оценит мои старания?
– Ах, вот как? И что же будет дальше? Ответь, я ведь все равно не узнаю.
– А потом он разгневается и наложит на меня, грешника-братоубийцу, вечную кару: он отправит меня скитаться по миру, преодолевая времена и расстояния, дабы сопровождать тебя на этой земле.
– Ну тогда я и в самом деле начинаю понемногу кое-что понимать. Например, теперь мне ясна причина твоей удивительной памяти: ты-то остался живым, тогда как я всякий раз умираю и воскресаю вновь в ином обличье, но неизменно вселяя в новое тело сущность и Дух Гения.
– О, если бы знал ты, брат мой, каковы мои мучения! Никому не пожелал бы вечной жизни! Предел моих мечтаний – это дождаться сладостных моментов смерти.
– Ты не можешь умереть и предаться забвению?
– О, если бы это было возможно! Я пытался наложить на себя руки, но Он сказал мне, что смерть не придет ко мне, что бы я ни сделал. Тогда я сказал, что попрошу об этой маленькой и незначительной услуге первого встречного. Но Он наложил запрет на мои уста. Тогда я на собственной груди выжег крупными буквами «УБЕЙ МЕНЯ!» и скинул прочь одежду. Но прохожие, что попадались на моем скорбном пути, словно не замечали ни моей наготы, ни кровавой надписи. Так я и скитаюсь в веках, из раза в раз неизменно выполняя свою страшную миссию…
– Бедняга… Но зачем тогда ты прежде предупредил меня о своем коварном замысле? На мой взгляд, было бы гораздо проще обрушить на мою беззащитную голову камень из-за спины. А теперь, после того, что я узнал, лишить меня жизни будет не так-то просто. Ты, брат, бездумно сам усложнил себе дело.
– Я вовсе не так глуп, как тебе кажется. Конечно, сейчас ты можешь встать и уйти, исчезнуть во тьме навсегда. Но ты не сделаешь этого.
– Почему нет? Вот встану и уйду…
– Я должен объяснить тебе еще кое-что, весьма важное для нас обоих.
– Ну уж нет! Ни за какие коврижки! Это только расчетливый ход, чтобы заманить меня в ловушку!
– Я прошу тебя: если хочешь проникнуть сквозь завесу священной тайны, посмотри в огонь в последний раз! Если ты так веришь в Его справедливость, то тебе незачем бояться. Он не допустит твоей гибели. А если и так, то, значит, так тому и быть. Не ты ли говорил мне, что надо верить в Божественное Провидение?
– Действительно. Как бы ни случилось судьбы не миновать… Ну хорошо, хорошо, пусть будет по-твоему. Отпусти мою руку – я останусь еще ненадолго.
– Смотри, смотри внимательнее – язычки пламени пляшут и искрятся счастьем.
История пятая. По разные стороны Австрия, последние годы XVIII века
pittoresco pomposo
Ах, Вена, Вена! Ты похожа на ту светскую даму, что облачена с ног до головы в роскошные наряды, увенчивающиеся пышной париковой прической, что держит себя в обществе манерно и изысканно, но при этом то и дело норовит послать кому-либо – совершенно все равно, кому – вызывающе кокетливый взгляд или с готовностью подхватить ниточку очередного клубка сплетен.
По твоим улицам торопливо передвигаются силуэты людей и запряженных лошадьми карет, в твоих великолепных дворцах произрастают раскидистые деревья заговоров и интриг. Великая европейская столица музыки, как много значила ты для мира в ту многоликую и знаменательную эпоху, обозначившуюся в истории культуры лаконичным термином «классицизм»!
Каждый музыкант – будь то композитор или исполнитель – искал возможности перебраться в столицу Австрии, ведь именно там собирались величайшие люди того времени. Гайдн, Моцарт, да Понте, Глюк, Бетховен… Список далеко не исчерпан, но упомянутых имен уже вполне достаточно для того, чтобы в должной степени оценить значимость этого города. Все дороги вели тогда в Вену, которая стала для музыкантов столетия первым и единственным Римом.
Вена была полна людьми – людьми разными, талантливыми и обыкновенными, аристократами и простолюдинами, добрыми и злыми, и среди них были счастливцы, знавшие великого Моцарта…
agile giocoso
Молодой человек в нарядном камзоле и тщательно напудренном парике с косичкой проворно бежал по одной из главных улиц Вены. Поравнявшись с парадным крыльцом красивого особняка, он нерешительно остановился.
– Интересно, заметит ли князь мое опоздание? – поинтересовался он у серебряных пряжек на собственных туфлях. Пряжки, равно как и туфли, безмолвствовали и отказывались давать молодому человеку хоть какой-либо вразумительный ответ.
Молодой человек наклонился и рукавом бережно вытер с них дорожную пыль. Но и это не помогло – к заботам и вниманию хозяина туфли остались равнодушны и по-прежнему упорно молчали.
– Что-то все равно нужно делать, не поворачивать же теперь домой! Не хотелось бы лишать себя такого шикарного удовольствия – приятного препровождения времени на княжеском балу – и все только потому, что я опоздал на каких-то полчаса, ну, по большей мере, на час!
Подобного рода рассуждения настроили молодого человека весьма решительно. Он спустился с крыльца, подошел к ближайшему окну и, привстав на цыпочки, осторожно заглянул внутрь особняка. Картина, открывшаяся его взору, зажгла лукавый огонек в его глазах и окрасила щеки в едва пробивавшийся из-под надежного слоя пудры розоватый оттенок азарта и предвкушения.
Бал был в полном разгаре: гости, судя по их поведению, уже отведали не один бокал вина и теперь веселились на славу. Некоторые шустрые парочки уже открывали бальную «программу», от души и даже с излишней темпераментностью для столь пышного и торжественного танца отплясывая полонез. Остальные с бокалами и блюдами экзотических яств расположились по углам огромной залы, оккупировав таким образом всю имевшуюся в доме мягкую мебель.
– Вот и ладненько! – потер ладони опоздавший. – Они все так увлечены собой и друг другом, что, пожалуй, и не заметят моего несвоевременного появления.
И, одернув камзол и приняв благопристойный, по его мнению, вид, молодой человек важно прошествовал мимо почтенного дворецкого, распахнувшего перед гостем дверь. Многочисленные зеркала холла успели на мгновение поймать его верткую фигурку в свой плен, но он ослепил их сверкающим взглядом и, как ни в чем не бывало, проследовал мимо.
Заключительные аккорды полонеза, партнеры кланяются друг другу, не преминув тайком стиснуть друг друга в страстных объятиях или, по меньшей мере, ущипнуть за выступающие мягкие места. Слышатся крики «браво, маэстро!» Из-за рояля встает полноватый человек в сером парике с волнистыми локонами, расправленными по плечам в соответствии с законами логики и симметрии. Он окидывает публику снисходительным взглядом, сдержанно раскланивается, при этом его спина остается невероятно прямой, словно он изнутри нанизан на невидимый стержень.
Внезапно его взгляд случайно натыкается на фигуру молодого человека, скромно стоящего в дверях залы. Чем-то этот человек отличается от других. Ах, да – он не аплодирует исполнителю, как все, и тем самым выбивается из общей волны рукоплесканий. Прищурившись, маэстро пытается рассмотреть физиономию нахального типа.
«Моцарт! Ну конечно же, кто еще может позволить себе такой откровенный жест неуважения!» – горделивый поворот головы, маэстро снова усаживается за инструмент, вскидывая полы камзола и отодвигая стул в полуметре от рояля.
«Сальери! А я-то думал – кто это так грубо издевается над инструментом, колотя по нему от плеча, наотмашь! И танец был нелепый. Впрочем, такую музыку только и играть на подобного рода пиршествах…»
Молодой человек незаметно пробрался поближе к инструменту, ехидным улыбчивым чертиком выглянул из-за него и прошептал солидному маэстро, чьи руки уже были занесены над клавиатурой в готовности извлечь из нее очередной танец:
– Приветствую вас, господин Сальери! Как это у вас здорово получается – княжеское сборище в полном восторге! Сбацайте-ка нам что-нибудь повеселее! – и юркнул в толпу. Сальери краем глаза увидел, как его злостный враг, всем сердцем ненавистнейший Моцарт совершенно нахальным образом приглашает на танец одну из самых очаровательных дам и бесцеремонно тащит ее в центр залы.
– Вот нахал! «Сбацайте нам»!.. Да как он смеет! Сопливый мальчишка – мне, великому композитору! – процедил маэстро сквозь стиснутые зубы и ударил по клавишам с такой яростью, что декоративный подсвечник, стоящий возле пюпитра, не удержался и свалился на пол.
А Моцарт тем временем откровенно наслаждался танцем и своей партнершей, которая была не только мила, но и превосходно танцевала. Выполнив несколько па, дама соизволила полюбопытствовать:
– Что же мы вот уже две минуты молчим? Есть ли имя у этакого симпатяги и милашки?
– Вольфганг, – состроив смущенную рожицу, ответствовал партнер. – Вольфганг Амадей Моцарт. Но вы можете называть меня просто Вольфи.
– Вольфи! Чудесно! – заливисто рассмеялась дама. – Позвольте, по-моему, я слышала ваше имя… Не вы ли тот самый мальчик-вундеркинд, которым меня в детстве попрекали учителя музыки?
– Ну конечно, я, – улыбаясь до ушей, отвечал Моцарт. – Я уже не первый месяц в Вене. Жаль, что нам не довелось повстречаться раньше.
– Ну, это упущение мы с лихвой сможем наверстать, – дама недвусмысленно улыбнулась. – У князя на втором этаже ужас как много свободных комнат!
– Отлично! Тогда не будем более терять ни минуты! Пойдемте же и заполним их все, по очереди! – подхватил мысль партнерши молодой человек и, прервав танец на полужесте, увлек ее за собой сквозь толпу.
Сальери, усердствующий за инструментом на благо развлекающимся гостям князя, не мог не заметить нарушения стройных рядов танцующих пар, но ему пришлось сдержаться – музыка не должна была стать жертвой вспыхнувшего пламени эмоций.– А теперь вернемся в залу, я представлю тебя князю, Вольфи, – ласково и многообещающе щебетала дамочка, натягивая чулки и оправляя пышную юбку.
Спустя пятьдесят две ступеньки, мелькающие под ногами, сотню разгоряченных лиц и блестящих взглядов, шесть фраз и одно приглашение Моцарт сидел на стульчике с резными витиеватыми ножками и восхищал собою и своей музыкой собравшихся. О танцах как-то сразу забыли. Молодой виртуоз своей персоной воплощал само совершенство, и это развлечение было куда занимательнее для избалованных гостей. Сальери, возвышающийся рядом с хозяином бала, кивал головой, выдавливал из себя почтительные улыбки и комплименты и беззвучно хлопал в ладони.
solo bruscamente
Сопливый мальчишка, наглец! Вот так, одним лишь прикосновением к клавиатуре, словно по волшебству, он завоевал внимание света. Достопочтенная фигура великого композитора и общепризнанного учителя музыки Антонио Сальери в одно мгновение затерялась среди его поклонников. Все труды, старания, долгие годы, потраченные на завоевание авторитета и безупречной репутации в высших кругах общества – все это пошло прахом!
Он явился невесть откуда и заставил говорить о себе всю Вену, да что там Вену – целый мир!
И при этом он даже и не пытается сделать свое поведение более благопристойным, он не выбирает выражения для разговора с высокопоставленными особами и даже в императорском дворце позволяет себе дурачиться и отпускать дерзкие шуточки. Идиот…
Как я могу позволить этому хохочущему недоумку вот так, одним махом испортить мне карьеру, перечеркнуть всю мою жизнь! Он с легкостью берет то, что мне дается в результате каторжного труда. Это, по меньшей мере, несправедливо. Если так пойдет и дальше, то в скором времени обо мне забудут, мое великое имя канет в Лету… Нет и нет! Я не могу этого допустить.
С тех пор, как на моем пути появилась эта сияющая и легкомысленная физиономия, я потерял покой. Я забыл, что такое благополучие и умиротворение. Постепенно я становился все более и более несчастным.
Я и Моцарт… Мы находились как бы на разных чашах весов. И чем более счастлив и удачлив был он (а в этом Моцарту не откажешь – дуракам, как известно, везет), тем ниже опускалась моя чаша под тяжестью невидимого груза, притаившегося у меня на сердце. Я понял, что единственным спасением от дна пропасти, куда клонилась моя чаша, было устранение злостного врага.
Когда император Иосиф предпочел его оперу моей, я поклялся убить Моцарта…
NBСтоп, минуту внимания!
Автор просит у читателя извинения за внезапное вторжение в ход повествования, но, согласитесь, продолжать в том же духе было бы совершенно излишне.
Легенда о Моцарте и Сальери настолько хорошо известна читателю, что все происходившее между ними в дальнейшем вовсе не нуждается в дополнительном описании. Автор надеется на богатое воображение и память читателя и предоставляет ему полное право самому дорисовать знакомую картину жестоких замыслов Злодея, покушения на Гения и отравления его же как достойный результат предприятия.
Выбор красок и оттенков звучания в обрисовке данной легенды автор безоговорочно поверяет во власть читателя. В зависимости от границ воображения, степени осведомленности, от того, в каком из ящиков памяти хранится ваша легенда о Моцарте и Сальери, от пристрастию к мельчайшим деталям и подробностям и, конечно же, от личных способностей читателя к рисованию картина может получиться совершенно различных размеров.
У одних читателей ее дорисовка в воображении займет расстояние в несколько секунд – крупными штрихами и расплывчатым фоном. Других же предлагаемое занятие увлечет на несколько часов, которые они проведут за ювелирным прорисовыванием каждой линии и черточки, за деликатнейшей работой над нюансами колористики…
Впрочем, даже история, нарисованная в воображении, все же должна иметь не только временное, но и территориальное место в нашей книге. А посему оставим для нее некоторую часть пространства – незаполненного, на первый взгляд. Меж ненаписанных строчек чистых страниц без труда можно прочесть историю всех времен и народов в ее оригинальной интерпретации…ad libitum Тем, кто благополучно добрался до конца печальной легенды и не заблудился (а также не соскучился) в бескрайнем пространстве белой бумаги, автор предлагает совершить еще одно маленькое путешествие – вернуться в Первую Историю. Мы оставили ее в начале книги недосказанной, и в то время, пока блуждали по векам и странам планеты, в ней появилось еще несколько строк.
И снова история первая, завершающая
moderato leise
Эксперт глубоко вздохнул и посмотрел на сидящего напротив:
– А теперь, Оскар Михайлович, я попрошу вас как можно более подробно и конкретно ответить на мои вопросы. Это займет у нас не более десяти минут – чистая формальность, – поспешил он предотвратить возражения посетителя. – Судмедэкспертиза подтвердила, что это был чистый, прямо-таки классический образец самоубийства, но, поскольку вы были случайным свидетелем, нужно кое-что уточнить. Для формы.
Каннский – а это был он – тоже вздохнул и кивнул головой.
– Светочка, мы готовы, – бросил эксперт одетой в строгую милицейскую форму молоденькой девушке, чья макушка едва виднелась из-за монитора компьютера.
– Итак, начнем. Вчера, четырнадцатого октября, вы, вернувшись с работы, зашли в комнату брата, Андрея Михайловича Артемьева. В каком состоянии вы его застали?
Каннский прикрыл глаза, скорбно сложил руки на коленях и тихим, подрагивающим от переживаний в сочетании с волнением голосом ответил:
– Он стоял возле открытого нараспашку окна спиной к двери. Слушал музыку.
– Что именно?
– Я не запомнил… не обратил внимания.
«Как же, не обратил. Ясное дело, он слушал Реквием Моцарта. Диск с записью я подарил ему накануне, в день рождения. Долго думал, что же ему подарить. Двадцать девять – это даже не юбилей, к чему роскошества. Вот через год отправил бы его на Канары на недельку-другую. Пусть бы поехал, может, и возвращаться бы передумал, и мне бы полегче стало. А в этот раз будто бы не было веского повода делать такие громкие подарки.
Моцарт пришел сам: мне на глаза случайно попалась видеокассета с фильмом «Амадеус». Хорошая вещица. Я видел ее раньше. И тут меня словно осенило: Моцарта он любил как никого другого из классиков. Отчего бы не подарить ему хороший диск? Как композитор композитору. Это была хорошая идея. Что именно, выбирать не приходилось. В том магазине, куда я зашел за подарком, из Моцарта был только Реквием. Все произошло как-то без моей воли, само собой… Андрей, взглянув на обложку пластинки, еще как-то странно посмотрел на меня и спросил: «Это что, намек?».
– Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь…»
– …говорил с вами?
– Простите?
– Оскар Михайлович, я вас очень прошу: будьте внимательны. Я вам сочувствую и очень хорошо вас понимаю, что сейчас не до расспросов. Вы расстроены, трудно собраться с мыслями и силами, но для вас же лучше разделаться со всей этой бумажной волокитой как можно скорее. Мы не хотим вас задерживать.
– Да-да, я буду внимательнее, извините.
– Повторяю вопрос: не показалось ли вам что-либо странным в его поведении? В этот вечер он говорил с вами? Если да, то о чем именно?
– Показалось, конечно. Брат, определенно, был не в себе. Он казался погруженным в… в какие-то бездны, из которых не возвращаются. Напрочь отказывался со мной разговаривать. Только слушал музыку и смотрел в окно. Он не замечал даже моего присутствия.
Девушка старательно отстукивала ухоженными пальчиками по клавиатуре, фиксируя каждое слово Каннского.
«Я вошел в комнату. Без стука. Не стал стучать, услышав еще от входной двери громогласное звучание хора – он слушал Реквием на полную мощность динамиков. Так можно и свихнуться или оглохнуть, по меньшей мере, подумал тогда я.
Открыв дверь, я словно попал в иное измерение: комната была полна непроглядной тьмы. Слева от двери должен был быть выключатель. Я нащупал его рукой, но свет не зажегся. Видимо, перегорела лампочка, или что-то в этом роде – я не разбираюсь в электричестве. Силуэт брата я увидел сразу на фоне открытого окна. В естественном освещении ночи неподвижная фигура, обрамленная прямыми линиями оконных створок, показалась мне черно-белой книжной иллюстрацией.
Громыхал Реквием. Это была часть Dies Irae – «День гнева». В таком шуме говорить что-либо было бессмысленно. Хорошо, что Верочка уехала к родным в деревню».
– А до этого дня вы не замечали за братом подобных странностей?
– Вы знаете, он всегда был не таким, как все. Понять его было чрезвычайно трудно. Пожалуй, кроме меня и матери, его не знал никто. Он постоянно находился в творческом процессе, прислушивался к чему-то, к какой-то музыке… Разумеется, никакой музыки и не было – не знаю уж, что он там пытался услышать. Но в последнее время к этому лихорадочному состоянию мозга прибавилась еще и болезнь. Может, просто туберкулез, а может, и что-то вроде рака легких – мы так и не узнали. Он наотрез отказывался обследоваться и принимать врача, словно и знать не хотел о своей болезни. Будто собирался жить вечно.
– Значит, физическое состояние вашего брата можно назвать критическим?
– Да, да. Именно так. И не только физическое, но и психическое. Он был на грани помешательства. Мы все так переживали за него! Какое счастье, что это произошло не на глазах Верочки. Она бы этого не вынесла.
– И что же произошло потом?
– Потом?.. Он не заметил, как я вошел в комнату. Он залез на подоконник и встал во весь рост. Он и не подозревал о присутствии свидетеля, думал, что никто его не видит. А может быть, ему это было совершенно безразлично. Да, скорее, именно так.
На мониторе появлялось точное отражение произносимого. Светочка даже не делала опечаток.
«Ну разумеется, Андрей знал, что я в комнате. Он вздрогнул и обернулся, когда я вошел. Я сказал, не повышая тона и не стараясь перекричать мощное звучание Реквиема: «Зачем ты залез туда? Что ты собираешься сделать?». Не знаю уж, слышал он меня или нет (музыка заглушала все прочие звуки, мой спокойный голос тонул в ней целиком и полностью, не оставляя даже тонкого призвука), но ответил так же спокойно: «Отсюда видна линия горизонта».
Сейчас я признаю, что не смог бы даже самому себе объяснить, каким образом я услышал ответ брата. Наверно, я прочел эти слова по движению его губ. Хотя было темно, и я не видел даже его лица… Впрочем, тогда мы просто разговаривали – как обычно, словно между нами нет ни грохочущей музыки, ни темноты. Я сказал ему: «Слезай, свалишься». А сам вдруг ни с того ни с сего вспомнил об «Амадеусе». Подумал, а почему это Сальери отравил Моцарта? Неужели причиной была одна лишь конкуренция? Нет, подумал я, это все зависть человеческая. А может, и еще что. Только мне тогда некогда было в этом разбираться».
– И что же? – не отставал эксперт.
– А потом я не успел ничего предпринять. Он просто шагнул и… все. Дальше сами знаете. Я сразу бросился к телефону.
«Он улыбнулся мне. Я не увидел, а почувствовал это. Сказал: «Не подходи, ты мешаешь мне быть счастливым». И в этот момент я понял, почему Сальери отравил Моцарта. Вовсе не потому, что тот был гениален. Он был счастлив. Вот и все. Просто Моцарт был счастлив, и это было выше всяких возможностей и сил, поэтому Сальери и пришлось обратиться за помощью к яду. Кабы гений страдал, все бы ничего. Пусть бы жил себе потихоньку и мучился – на радость миру. Так нет же: он светился счастьем.
В тот момент я ощутил, как помимо воли делаю шаг по направлению к окну. Все происходило будто бы не в действительности, а так, словно кто-то прокручивал пленку в замедленном действии. Я шагаю вперед, Андрей синхронно делает шаг, другой… Подоконник давно уже кончился… Последнее, что я помню, – стремительное приближение пола, он оглушает меня ударом. От него-то я и пришел в себя: все тело болело, как будто я упал не с высоты собственного роста, а по меньшей мере со второго этажа.
Первом делом посмотрел на окно: Андрея там не было. Я подбежал, перегнулся через подоконник. Распростертое тело с высоты десятого этажа казалось игрушечным. Удивительное дело: я не почувствовал ни ужаса, ни горя. С моей души словно свалился огромный камень. Я только теперь смог ощутить, насколько он был тяжел. Вздохнул полной грудью: ночной воздух был поистине хорош. Потом взял сотовый…»
– Упал ваш брат, простите, довольно удачно. Сразу насмерть, даже не мучился.
Каннский опустил глаза:
– Возможно, все, что произошло, к лучшему. Судя по его жуткому кашлю, внутри у него творилось что-то страшное. Лечиться он не хотел, так что вскоре все равно сгорел бы, только с лишними страданиями…
«Если посмотреть на дело с этой стороны, то я еще и добродетелем выгляжу! Оказал братцу добрую услугу – избавил его от мучений, от длительного и тяжелого умирания в постели».
– Ну что ж, на этом все. Спасибо, Оскар Михайлович. Обещаю, что больше не будем досаждать вам расспросами и оставим вас в покое. Светочка, давайте сюда текст.
Затрещал принтер. Девушка аккуратно взяла еще горяченькие листочки и положила перед опрашиваемым.
– Прочтите и распишитесь, – эксперт протянул ручку.
Каннский пробежал глазами по диагонали, кивнул головой и поставил размашистую подпись внизу каждой страницы. Это дело для него было привычным. Знаменитый композитор каждый день неоднократно раздавал автографы.
Диалог с паузами
– Ветер утих, огонь едва теплится. Вот-вот погаснет. Вокруг разливается густая чернильная темнота.
– Так и должно быть.
– Я чувствую приближение холода.
– Все правильно, он совсем рядом.
– Может, подкинуть поленьев? Станет светлее, да и согреемся.
– Нет, сейчас не время.
– Но ты весь дрожишь, и не отрицай.
– Нет, остановись! Мне холодно вовсе не от того, что огонь погас.
– Отчего же?
– От безысходности, от слабости, от чувства огромной вины… Кроме того, я не хочу, чтобы ты при свете огня увидел мое лицо – его черты искажены болью.
– Что с тобой происходит, брат?
– Ты и сам знаешь, ни к чему задавать лишние вопросы.
– Ты считаешь, что Всевышний относится к тебе несправедливо, принимая мои дары и отвергая твои? Но как ты не можешь понять простую истину: все дело в том, что я не нарушаю законов природы, а ты пытаешься искусственным путем получить от нее то, что хочешь. Ты выбрал дурное занятие. Возделывая землю, ты допускаешь насильственное вмешательство и пытаешься подыграть природе, а на самом деле только сбиваешь естественный ритм ее дыхания.
– Выходит, я не прав? Значит, пассивное созерцание идиллии природы куда истиннее, чем праведный и порой непосильный труд землепашца?
– Выходит, что так. Природа не терпит коррекции установленных ею правил человеком, который подчас забывает о том, что по существу он не более как ее дитя. Если человек заходит слишком далеко в своих деяниях, природа начинает ему мстить.
– Но я собираю шикарные урожаи – таких природе никогда не достичь без моей помощи!
– Значит, так и не должно быть.
– …Что мне делать, брат? Я растерзан, раздавлен, уничтожен собственным грехом, но я не могу поступить иначе! Сквозь века я таскаю на себе этот тяжкий крест и не могу от него избавиться! Вот и сейчас: неотвратимо близится тот час, когда должно случиться страшное. Помоги же мне предотвратить вхождение в этот замкнутый круг мучений! Я рассказал тебе все это для того, чтобы ты избавил меня от моего злодеяния. Давай же, убегай – места на планете сколько угодно! Ну, что же ты сидишь? Иди, пока не настал час, когда я не смогу не сделать то, что должен! Уходи немедленно, и ты спасешь свою жизнь и подаришь мне смерть!
– …
– Ну что же ты? Замер, как камень, и не двигаешься с места. Ты слышишь, брат? Я прогоняю тебя! Прочь!
– Я не могу.
– Что значит «не могу»?! Это же элементарно, проще простого: встать и уйти! Или тебе отказали ноги?
– Мне отказал разум. Что-то говорит мне, что если я сейчас послушаю тебя и покину это место у огня, то никогда больше не услышу вселенской музыки, прекрасного и непостижимого звучания музыки сфер.
– К черту твою музыку! Ты замечательно обойдешься и без нее. Поверь, ты услышишь много интересного и неведомого в мире земном. Услышишь, как трещат поленья в огне, сгорая и превращаясь в уголья. Ты же хотел…
– Нет.
– Но представь: если сейчас не случится то, что должно случиться, все изменится! Понимаешь? Того, что ты видел в огне, не будет! Той зависти и несправедливости, тех козней и ядов – ничего не будет!
– Но не будет и музыки – тогда к чему весь этот мир? Я не смогу отречься от нее. Мне нечего делать на этой земле, если музыка космоса станет мне недоступна.
– Ты уверен, Авель? Но тогда мне придется…
– Не сомневайся, Каин. Нам не изменить того, что уже существует – одновременно и всегда. Вот, возьми, это подходящий камень – тяжелый и острый. Только надо размахнуться посильнее.
...
Его приканчивают, и он не подозревает, что умер, дабы история повторилась
Х. Л. Борхес. («Сюжет»)



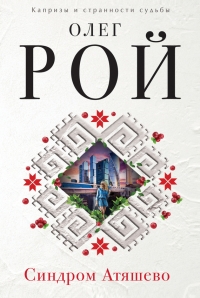





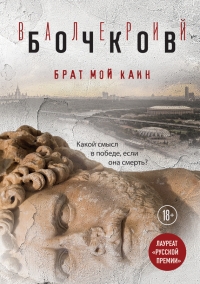

Комментарии к книге «Яд для Моцарта», Ирина Алефова
Всего 0 комментариев