Дмитрий Ненадович Бестолковые рассказы о бестолковости
Другу моему, Михаилу Ильину,
которого с нами нет уже,
посвящается
Краткое вступление
Почему все-таки краткое? Зачем здесь, так вот прямо сразу и в галоп? Зачем нужны вот такие, вот прямо с начала с самого такие вот резкие в бескомпромиссности своей и ненужные никому оговорки? Какая-то сразу категоричная такая детализация? Наверное, все-таки, это для чего-то необходимо. Да, да, и видимо это все потому, что рассказы эти о профессиональных военных и для профессиональных военных, к тому же, написаны они бывшим профессиональным военным, а бывших, как известно, не бывает. Значит, написана книжонка эта вовсе даже никаким совсем и не писателем. Военный же, он же ведь не может быть писателем по определению. В лучшем случае он, конечно же, может попробовать свои псевдотворческие силы в самом лживом направлении в псевдолитературе и стать мемуаристом. Посиживающим, эдак, покряхтывая и попукивая у весело потрескивающего камина, и что-нибудь там во врожденной неграмотности своей черкающим на выцветшей от времени и когда-то принадлежавшей казне бумаге. Или же, что для него было бы гораздо комфортнее, несвязно изрекающим что-нибудь усиленно строчащему в углу корыстному и насквозь продажному журналюге: «А вот помню в таком-то годе, после героического форсирования речки Переплюйки (это, что близ овеянного боевыми победами славного города Безнадежнинска), повстречался я как-то с великим нашим поэтом Пушкиным. Да, да, если не ошибаюсь, кажется Александром Сергеевичем его звали. Давно, знаете ли, это все было… Приятный, знаете ли, во всех отношениях мужичок был… Только уж больно на эфиопа чем-то смахивал. Кудрявый уж больно был. А так, когда матерком по самодержавию пройдется… А после шнапсу еще и врагов земли русской по-своему, по высоколитературному помянет… В общем, по-простому так со всеми поговорит. По нашенскому, знатчица, то вроде бы и ничего… Чувствуется, что наш этот вроде бы, это эфиоп… А уж как возьмется стишки свои читать…».
Но подобного рода мемуары — это удел лиц когда-то уж очень высоконачальствующих. Здесь же, в этой книжонке, случай несколько другой — ни мерцающего инфракрасным излучением камина, ни скурвившихся на деньгах в порочной алчности своей журналюг с университетским филологическим образованием. Тут все, как говорится, сам, все своими обуглившимися от тяжкого труда руками. И без отрыва от основного, так сказать, бездушно-капиталистического производства. В свободное, если так можно выразиться, от этого сумасшедшего в своем прагматизме производства время. И, что самое главное, все это при полном отсутствии сознания, должного излученно струиться из места, где в момент рождения располагалась голова. А рожденье-то ведь оно давно было-то. Хотя помнится еще хорошо. Вот момент зачатья — это уже смутно. А рождение… Ну как же… Это как будто вчера все было. А на самом деле уже достаточно давно. И теперь, конечно, откуда ж теперь взяться этому самому излучению. Откуда теперь чему-нибудь струиться? Научно доказано: кость не излучает. Ни в каком участке частотного спектра. Поэтому и говорят часто военные хитрящим по какому-либо поводу гражданам: «Я человек прямой, у меня этих ваших извилин нет». И правда ведь нет. Даже той, которая должна остаться от фуражки. Рассосалась со временем. Что теперь можно поделать? Ничего теперь уже не поможет. А все потому, что сами виноваты. Раньше не расставались с фуражкой этой круглосуточно и все было нормально — хоть одна извилина, но точно была… А теперь все более менее внешне осмысленные поступки только на фоне периферийной нервной системы. Все теперь только на уровне давно искривленного в сколиозе позвоночника. И потому здесь, в рассказиках этих, все только по-честному — обезличенные мемуары-быль в форме абсолютно достоверных анекдотов. А больше ничего и не могло родиться из-под бездарных клавиш этой поганой, опостылевшей давно клавиатуры. И клавиатура еще вдобавок китайская, не говоря уже о полуобморочном рабочем состоянии самого автора. Но суть вовсе не в этом. (Все время ведь одергивают: хватит трепаться, где же тут суть? А там, где прихватит, там же обычно и «ссуть»!) Но, если серьезно, суть как раз в том, что военные, они очень ведь не любят всякой заковыристости и никому не нужной сложности, потому как любили они всегда и любят до сих пор простые такие анекдоты (а чтобы не думать лишний раз, не напрягать позвоночник вопросом: когда же можно, наконец, начинать смеяться? И чтобы внезапно вырвавшийся смешок не выглядел неуклюжей бестактностью). Надо отметить, что все без исключения военные очень даже хорошо эти анекдоты всегда понимают. А уж когда слушают они, анекдоты эти незамысловатые, то всегда весело так, заливисто и чистосердечно смеются. А в цирке — нет, почему-то давно уже военные в цирке не смеются. Как-то там они озабочено и сосредоточено так, по-особому просто хмурятся и ежатся. Видимо, что-то вспоминают они. До боли знакомое и повседневное. Ну а уж когда заслышат военные свои любимые анекдоты — просто хлебом можно не кормить их достаточно долгое время. А зачем? Давно известно, что излишнее потребление хлеба приводит к нездоровой полноте. Военным же всякое нездоровье претит. Им ведь, случись что, Родину ведь как-то защищать надо. А поэтому можно в очередной раз на них, на незадачливых военных-то на этих, в смысле на непонятном их веселье и нездоровом их оптимизме взять и здорово так, по-рыночному истинно, и попросту сэкономить. Рассказать, например, какой-нибудь дежурный анекдот целому строю военных — и трава не расти. Пусть себе до поры до времени повеселятся. Лишь бы казне нашей многострадальной было хоть небольшое облегчение… Хоть на один несъеденный в ходе военного веселья кусочек. Глядишь, и олигархам нашим от этой экономии кой-чего обломилось бы из дырявого в профицитности своей государственного нашего бюджета. Ну хотя бы на заточку зубца якоря для очередной океанской яхты перепало бы им сердешным. А то еще унесет их неумолимая океанская волна куда-нибудь не туда. Ищи потом этих беззаветных альтруистов, меценатов и спонсоров. Без них ведь нынче нельзя никак. Без военных, без них в мирное-то время вполне ведь можно обойтись. На хрена они, военные эти, когда кругом всегда мирно созидающие что-то вероятные друзья? Это раньше были вероятные противники, а сейчас все сплошь вероятные друзья. Друзья, строящие у наших границ базы отдыха для своих уставших на гремящих где-то вдалеке войнах миротворцев и всегда готовые помочь сбросить излишнее давление в нашей экспортной газовой трубе. А как же? С давлением шутки плохи. Может ведь, в конце-концов, и рвануть. Если вовремя не стравливать… Друзья, конечно же, гораздо лучше всегда познаются в беде, но лучше бы беды никогда не было. Друзья это понимают. Понимают и стараются изо всех сил. Чтобы без бед все происходило и с давлением всегда было все в порядке. А поэтому-то без военных вполне можно сейчас обойтись, а вот без спонсоров и меценатов — ни в коем случае. Пропадем мы без них все зазря. Бездарно передохнем. И ничего ведь в этой ситуации не поделаешь. Словом, незачем сейчас помогать военным — бюджет надо экономить.
Сразу хочется предупредить о том, что в рассказах этих содержатся существенные отклонения от норм и правил великого и могучего нашего языка. А по другому-то ведь никак и нельзя, иначе невозможно описать весь колорит той сказочной атмосферы, которой дышат военные. Кроме того, в рассказах содержится очень много оговорок и уточнений. Военным, им ведь всегда нужна определенность, краткость и точность, и все непонятное для них надо тут же отдельно оговорить, и то и другое, и затем всё вместе и сразу. Вот написал: «Краткое предисловие» — значит, пора закругляться. Краткое так краткое. Затянул что-нибудь — и всё, читать не будут, даже предисловие никогда не прочтут. Даже за большие деньги. Не поступятся ни за что своими принципами.
А все ж таки, не только, наверное, для военных эти рассказы. Есть у нас еще некоторые любопытствующие читатели. Любят они «военных — красивых, здоровенных». Любят, и так и норовят заглянуть в неисследованные до сих пор объемы нашего мироздания, прозондировать, так сказать, вполне определенный ареал обитания неких особей. Военные — это и есть особая ветвь человеческого развития. И, значит, отдельная частичка мироздания, имеющая свой, строго определенный и необычный ареал обитания и свое биологическое, научно-латинское название — хомо милитер.
Кто знает, может, кому-нибудь, проковырявшему известковую твердость улитки мира военных, захочется целиком в него погрузиться, в мир этот сказочный? Окунуться целиком, добровольно (с вызовом глядя в мутные от слез умиления глаза еще минуту назад сурового военкома) и без остатка? Захочется вдруг беззаветно послужить отечеству своему абсолютно бескорыстно? Побыть немного альтруистом? Изрядно потеющим альтруистом? Или же захочется вдруг лишний раз похаркать темными липкими соплями, совершая кругосветный марш-бросок к побережью Индийского океана в полном, так сказать, вооружении и снаряжении? Почему в полном? А как еще иначе можно выглядеть на берегу полного опасностей океана? Когда кругом враги и бесстрастные убийцы-акулы? Когда кругом тебе все, кроме акул, завидуют? Но — это ведь мечта каждого уважающего себя параноика: помыть сапоги в Индийском океане. А сапоги — обязательный атрибут полного снаряжения. Поэтому только в ходе всех этих увеселительных мероприятий можно в полной мере осознать до конца и оценить по всей строгости творящуюся вокруг несуразность, гневно возмутиться, действенно вмешаться и искоренить, наконец-таки, многочисленные в повсеместности своей и запредельные в непредсказуемости, иногда просто даже сказочные проявления армейской бестолковости. А может быть появится у читателя совершенно обратное желание? К примеру — бежать от этого сказочного мирка, как черт от дымящегося ладана? Развитие событий по второму варианту было бы более прискорбным и настораживающим. Если некая сущность бежит без оглядки от заманчивой чистоты строгого мира военных, значит, превалирует в сущности этой бесовское начало. Надо бы этой сущности вовремя остановиться и задуматься о сущности бытия. Ведь мир военных чист, как антарктический лед, недаром по уровню восторженности восприятия мира сего военные совсем недалеко ушли от здоровых детей, произрастающих у благочинных родителей. А Господь когда-то сказал приблизительно следующее: «Будьте как дети, и войдете тогда во врата рая».
Кто же на самом деле эти военные? — задаются вопросом некоторые пустопраздные любопытствующие. Кто эти важные, строгие, облаченные нынче в форму своих бывших потенциальных врагов люди, иногда попадающиеся им на улицах, в транспорте и совершенно других местах, но попадающиеся им все реже и реже. Вопросы эти, как и большинство, так легко и с ходу задаваемых вопросов, которые кажутся, на первый взгляд, праздными и внешне простыми, имеют далеко не тривиальные ответы.
Справедливости ради надо отметить, что далеко не всегда военные так униженно обезьяничали, ходили в чужой форме своих новых «вероятных друзей» и радостно жили в соответствии с их прагматическими жизненными принципами (и все это на фоне значительных расхождений с «друзьями» в денежной оценке их ратного труда). А насколько труд нынешних жизнерадостных военных можно назвать ратным? Ратность, она ведь никак не определяется свежепобеленным бордюрчиком (или поребриком — это как кому нравится) вокруг никому не нужного строевого плаца или свежепокрашенной зеленью листвы увядающих в гарнизонной осени деревьев. Поэтому может и денежная оценка вполне справедлива? Вопросов много, поэтому и надо бы попытаться ответить на кое-какие из них, особенно касающееся современного военного бытия с точки зрения осознания очень недавнего прошлого. При ответе надо бы, конечно же, удержаться и не встать в обычную позу военного пенсионера: «Да, были люди в наше время. Богатыри — не вы!», но, скорее всего, не получится: старость всегда бурчлива и хвастлива. Ничего не поделаешь — такова уж у старости этой гнусная природа. А против природы, как известно, не попрешь так огульно, что называется, буром. Вот и приходится природе в конце-концов покоряться. Но, с другой стороны, надо же попытаться расшевелить того, все еще праздного вялолюбопытствующего, который, возможно, посиживает сейчас на хилеющей в сколиозе спине перед плоским источником телепошлятины, продавливая подаренный родителями на совершеннолетие диванчик, потягивая пивко или еще какой другой энергетически притягательный напиток. Расшевелить того, кто пялится и тащится. Он ведь «Ночной дозор», наверное, сейчас смотрит. Есть такой документальный кинофильм о ночной Москве. И вскоре ощущение домашне-бытовой безопасности вкупе с градусами потребляемых напитков создадут ему иллюзию собственной неуязвимости. Непробиваемой такой собственно-величавой крутизны. Ненадолго все это. Герои блокбастеров вскоре покажутся покрутевшему герою расшалившимися в песочнице детьми, когда вдруг из ослабевших рук его с пугающим грохотом выпадет давно опустошенная тара и на короткое время вернет праздного ленивца к неутешительной для него действительности.
Но надо всегда помнить о том, что завтра от этой циничной праздности и пенности диванного бытия может не остаться и следа. Просто вот так вот, вдруг, ну и совершенно неожиданно — вжик, прыг, милиция, военкомат, призыв и беззащитная, в безволосье своем, бедовая, бледно-синяя, покрытая неизвестными доселе шишками, голова. Что-что? Давно уже не бреют? Нет, конечно же, насильно никто никого не бреет. Бреют только исключительно испросив перед этим актом у призванного на службу гражданина его волеизъявления. К нам уже ведь давно пришла демократия. К тому же она уже успела стать какой-то суверенной. Только вот борьбу со вшами-то еще ведь никто не отменял. Как, их давно уже нет? Кто вам такое сказал? Это у вас там, на пропитанном пивным потом диванчике, может, их и нет, не выдержали чистолюбивые вошики такого безобразия и, обидевшись, молча ушли к соседям. Хотя и это надо бы еще проверить: все ли ушли? Наслать на вас бригаду из санэпидемстанции в полном составе. С мешком дуста и хитроумными приборами. А к военным эти пакостные насекомые всегда были неравнодушны. Читайте классику и заканчивайте свою псевдодемократическую демагогию, а дальше — вперед, под бритву. И чтобы до первородной синевы! До подаренной природой шишковатости!
И ни спрятаться, ни откупиться от всего этого, может, уже и не удастся — пора прекращать уже прятаться в мягкой шерсти родителей. Она, шерсть эта, тоже имеет свойство с годами редеть и тогда-то как раз обнажаются все недостатки в воспитании подрастающего поколения. Поэтому не надо никогда и ничего бояться. Тем более, что результат-то выглядит вполне оптимистичным — в муках матери-отчизны и вторичных, близких к родовым, мукам родной физической матери и далеко не вдруг (просто-таки со страшным скрипом) но все же появляется на свет новый защитник отечества своего: «Прямо на границу. Так же, как все, как все…». А поэтому, будь готов, всяк в стране Руси живущий и хоть как-то обязанный ей рождением своим, защищать ее, голубушку, невзирая ни на что и не принимая во внимание никаких, даже абсолютно недружественных обстоятельств — как сказано в одном священном для всех военных писании: «…даже если жизни его (военного то есть) будет угрожать опасность».
О специфике молодости у военных
На дворе стояли отвратительные застойные времена. Над просторами все еще великой державы громовыми раскатами проносилось отвратительное чавканье проедаемых стратегических запасов. Зияли пустыми глазницами хранилища нефтедолларов. Дурно пахло предательством арабского мира, науськиваемого многочисленными друзьями и зло мстящего за миролюбивый ввод ограниченного кем-то контингента в отчаянно вопиющий о помощи Афганистан.
А бездумная молодость не желала замечать признаки приближающейся стагнации существующего строя. Молодость пребывала в состояниях постоянной в кого-либо влюбленности и, слегка приглушенной этой самой влюбленностью, пытливой тяги к всевозможным познаниям. Верилось — все и всегда будет хорошо. Впереди военные подвиги, взывающие о пощаде прощальные крики врагов нашей великой Родины, всенародное почитание, звания и награды. Это все, конечно же, впереди, а сейчас, вот только сдадим очередной зачет, получим пособие по выживанию и…
Особенность отдельно взятых молодостей состояла в том, что протекала она в строгих условиях высшего военного учебного заведения. Сильно мешали этим желающим бурь молодостям отцы-командиры, они же — начальствующие, высоконачальствующие и особо высоконачальствующие. Были они в этой области, в смысле области противодействия правам и свободам только что зародившихся молодостей, просто какими-то кудесниками! Можно даже сказать, заплечных дел мастерами были они в этой криминальной области!
Вот, к примеру, только было соберется какая-нибудь молодость выбраться на свободу легальными путями, как из недр мрачного металлического сейфа немедленно изымаются на свет белый некие порочащие эту самую молодость подлейшие по своему содержанию писюльки, и непосредственно соприкасающееся с молодостью пространство начинает сотрясать сам не верящий в свою праведность, но весьма обличительный визг: «Какое вам, подлец вы эдакий, еще увольнение?!!! Очередное???!!! Редкостный вы, батенька, нахалюга! Где вы видели эту очередь? У командира в блокнотике подсмотрели?! Да вы что? Забыли?! У вас до сих пор не сдан еще зачет по XXXXX. Извольте-ка, разлюбезный наш нахалюга, теперь хоть немного потрудиться и попердеть погромче в выходные (для других) дни в стенах такого для нас для всех родного Ленинградского высшего военного инженерного…». Слабые попытки молодости сопоставить возраст извлеченных на освещенную поверхность писюлек с возрастом свитков, не так давно найденных археологами на берегу Мертвого моря, довольно грубо и бесцеремонно пресекаются. Еще что-то долго говорится в пустоту о свойственной всякой молодости наглости и о том, что кто-то кого-то научит эту самую свободу как-то по особенному любить.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Выход есть всегда. Вступив в кратковременный преступный сговор с продажной (за бутылку) дежурной службой (причем, если в начале военной карьеры для дачи взятки вполне могла быть использована элементарная бутылка молока, то в дальнейшем крепость напитка имела тенденцию к быстрому росту), молодость взмывает ввысь над забором (над участком его наименее просматриваемым) и попадает тут же по своей еще неопытности, просто всем трепетным существом своим сразу же попадает в рачительные лапы представителя еще одного из подвидов изощренных душителей свободы — лица военнокомендантствующего в ближайшей округе. Мерзкое это лицо никогда и ни при каких обстоятельствах не ленилось. Очень уж оно было всегда работоспособным. Вот и сейчас терпеливо отлежало оно в засаде полноценную заводскую смену, спрятавшись за стоявшим сразу за забором мусорным баком и предварительно укрывшись найденным где-то неподалеку (по видимому — в соседнем же баке) старым грязным матрацем. На этом матраце-труженике в свое время, по видимому, было зачато не одно поколение защитников отечества, поэтому он тянулся ко всему военному и терпеливо сносил все издевательства со стороны лица военнокомендантствующего. По всем правилам военной маскировки этого бедолагу-матраца (который тоже не любил лениться) в зависимости от времени года все время чем-нибудь посыпали: то золотой осенней листвой, а то не всегда белым городским снегом. В весенне-летний период, пролеживающее на матраце туловище лица военнокомендантствующего от пытливого постороннего взгляда скрывала обычная армейская плащ-накидка. При этом на накидке, обычно служившей военным быстропромокающим плащом, как правило укладывался свежеснятый в соседнем Таврическом саду дерн. Так и валялось это замаскированное военно-комендантствующее лицо почти всю свою непростую и полную опасностей службу за забором этого строгого военного заведения. Справедливости ради надо отметить, что не в одном строго определенном месте зазаборного пространства любило оно леживать. Сильно не тупило оно. Занималось кое-какой аналитикой. И вычисляя изменения караванных путей миграции свободолюбивых обучаемых военных, иногда довольно удачно меняло это коварное военнокомендантствующее лицо места своей терпеливой лежки. Мужественно переносило лицо зной и холод. С достоинством выдерживало оно поразительную неаккуратность граждан, не утруждающих себя порой точными попаданиями отходами своей жизнедеятельности в гостеприимный створ мусорного бака. Молча утиралось оно, но не покидало никогда засадного места. И судьба временами награждала-таки военнокомендантствующего тушками захваченных врасплох неопытных первогодков. А уж когда наступал этот счастливый для каждого охотника миг! Из под мирно покоящегося в загаженной своей мусорности мятого жизнью бачка вдруг раздавались воинствующие гортанные крики. Неопытная жертва, как правило, застывала от неожиданности. А лапы лица военнокомендантствующего уже совершали свои мерзкие хватательно-задержательные движения, и начинался скандал. Когда же душераздирающие и вместе с тем радостные вопли удачливого охотника постепенно стихали, свободолюбивая молодость обычно подвергалась проникающе-содержательныму допросу с почти отеческой укоризной: «Вы, молдчелоек, в армии или кто? Вы вообще-то военный или где? Это при таком-то вот отвратительном поведении вы еще хочете стать офицером?!».
И в этот раз все происходит по приблизительно такому же сценарию. Дальнейшие события тоже не радуют разнообразием. Как всегда из молодости, и без того уже поруганной в своем стремлении к попранной свободе, тут же гнусно пытаются сформировать эталонный отрицательный пример для воспитания окружающих. Дабы неповадно им было. Окружающим этим. Обстановка вокруг молодости непрерывно накаляется. Вот уже и от дружественного вчера еще окружения тоже начинает веять могильным холодком неподдельной укоризны. Один за другим следуют внеочередные наряды на службу. Организуются дружественные в задушевности своей беседы в ходе наспех собранных комсомольских собраний. Сквозь приоткрытые двери собрания часто доносятся по-комсомольски строгие междометия: «Я, как и все мои товарищи!», «Заклеймить позором!», «В то время когда американский империализм стягивает кольцо своих баз…!», «Самовольная отлучка из расположения…», «Угроза обороноспособности страны…», «Предлагаю объявить строгий выговор!», «Единогласно!» Ну, в общем, непутевой этой молодостью вовсю начинает заниматься обычная военная «чрезвычайщина».
Здесь для непосвященного в дебри военных терминов читателя требуется дать необходимые пояснения. Вот, например, попадался уже нам такой термин специфический военный термин, как «наряд на службу». И многие, наверное, думают, что термин этот означает наряд на выполнение работ, как, например, на стройке. Наряд, который оформляется, положим, неким степенным и рассудительным бригадиром. Тот сядет себе на ступеньку строительного вагончика-бытовки, степенно почесывая под вспотевшей в труде подмышкой, покумекает и разложит все по полочкам: где цементу украсть, чем Петровича озадачить, чтобы к вечеру с тоски не напился, наказать ли Сидорова рублем за очередное его головотяпство (а чего его наказывать? Головотяпства от этого у Сидорова не убудет, а семейный бюджет пострадает — наказанными, в конце концов, окажутся еще не смышленые сидоровы дети) и всякое разное другое — много всяких разных проблем у бригадира на стройке. Поэтому подумает бригадир подумает, а затем, не покидая этого состояния, пересядет он за столик строительной своей душегубки и письменно так, обстоятельно, не на коленке как-нибудь, про все обо всем и всем расскажет. Расскажет о том, где и что завтра надо будет выкопать, столько выкопать и за какое время. Напишет бригадир и о том, что за десять минут до обеда Петровича необходимо приковать цепью к арматуре, торчащей из земли недалеко от пятого цеха и т. д. Это и есть настоящий наряд на работу. Не ленится бригадир думать и писать, несмотря на то, что и так много у него других проблем на этой хлопотной стройке.
Военноначальствующие же не любили никогда праздно умничать и заниматься всяческой бюрократией. С давних пор они привыкли делать все очень быстро, молниеносно просто, ну уж когда совсем, ну всякие вязко-склизкие препятствия перед ними возникают, тогда уж ладно, чуть замедлятся они и будут делать все просто стремглав. Стремглав для военноначальствующих — это уже просто отстой. Это как в анекдоте про черепаху, которую решившие выпить звери послали за водкой. Черепахи долго не было, а выпить зверям, видимо, очень сильно хотелось. Вот и стали звери в нетерпении своем нелестно о черепахе этой отзываться. А возмущенная черепаха пробираясь сквозь растущие неподалеку от зверского собрания кусты, злобно прошипела им: «А будете п…еть, вообще никуда не пойду!» Вот этого-то и старались никогда не допускать военноначальствующие. А поэтому-то содержание понятия «наряд на службу» очень сильно отличается от понятия «наряд на работу». И не только из-за высокой скорости принятия ими решений, а еще из-за их глубокой ненависти к бюрократии.
Трудов М. Вебера военноначальствующие, конечно же, не читали никогда. Они и не знали, например, что от бюрократии не один только вред всегда исходит. Не знали они в невежестве своем, что из бюрократии тоже можно выжать иногда какую-нибудь пользу. Ведь бюрократия предполагает изрядную долю бумаготворчества, а прежде чем что-нибудь написать (даже такую чушь, которую читатель сейчас пытается прочесть) необходимо хоть немножечко подумать, хотя бы совсем чуть-чуть. Но начальствующим военным, как правило, все это обычно очень чуждо. Даже когда надо совсем-то чуть-чуть. Нет, они уже давно убедились что это действо в большинстве случаев мешает их карьере. Поэтому это «чуть-чуть» им совершенно ни к чему. Ну просто как корове седло им это.
(Да, между нами, сообщу вам под очень большим секретом: не только М. Вебера не читали многие начальствующие военные. Только об этом — никому. Тс-с. Очень обижаются.
И как тут (потихоньку) не вспомнить старый анекдот:
Идет как-то один начальствующий военный и держит в руке книгу. Навстречу ему попадается другой начальствующий военный, и между ними завязывается следующий диалог:
— Что это ты такое несешь? Очертания какие-то знакомые…
— Да вот, решил книгу прикупить.
— Это зачем же ты такое придумал? К чему все это? — искренне удивился вопрошавший начальствующий военный. — У тебя ведь одна уже есть!)
Но вот, к примеру, ежели представить себе такую гипотетическую ситуацию: начальствующий военный решил наказать неначальствующего военного и пытается письменно сформулировать причины наказания, составить, так сказать, некое подобие обвинительного заключения. Вот сидит этот начальствующий, согнувшись, задумчиво грызет карандаш, затем вдруг вскидывается, по телу его проскакивает электрический заряд, он решительно подносит карандаш к листку бумаги, и… рука его в бессильной импотенции плавно опускается на стол, позвоночник принимает привычную сколиозную форму. Сидит он час, другой, а в голове его бродят одни и те же мысли или тех же мыслей жалкое подобие: «Так за что же я хотел наказать этого военного? А-а-а, он же чистил сапожищи свои вонючие в необорудованном для этого месте! Так, а почему же он так грубо попирал нашу строгую армейскую дисциплину? Не такой же он наглец-то на самом деле. Не успел еще им стать. Только ведь присягу принял. Радостный такой был. Видимо, все же куда-то он не успевал. Куда же мог не успевать он? Ах да! Построение же я тогда сдуру объявил дополнительное! А почему сдуру? Потому что шестое за день? Ну и что, этих военных надо ведь почаще собирать в организованную кучу. Собирать, чтобы непрерывно пересчитывать их и при этом непрерывно поучать этих обалдуев. Жизни совсем еще не знают они, сосунки эти. Вот такая у меня от этого тяжелая служба получается. А то ведь расползутся, сволочи, ужами по углам, кого же тогда поучать, на ком, спрашивается, оттачивать свое ораторское искусство? Погоди-ка, когда же я объявил это злополучное построение? По-моему, в 19.00. Да, точно, этот военный как раз из наряда по свиноферме пришел в грязных своих сапожищах. А тут — построение. А в строй в грязных сапогах нельзя. А место для чистки сапожищ на первом этаже. Так, а мы-то на пятом! Безвыходная ситуация сложилась для этого военного: в строй встанет в грязных сапогах — накажут, сбегает на первый этаж — опоздает на построение, все равно накажут. Вывернуться захотел. Уйти от наказания. Не тут-то было! Двадцать лет служу уже. У меня не проскочишь! Постой-ка, а что нам собственно мешает оборудовать места для чистки сапожищ на каждом этаже? Да вроде бы ничего. Но это ведь надо потрудиться, попотеть, так сказать: то выписать, это организовать, здесь проконтролировать. Ну а почему бы и нет? А оно мне надо? Мне что, за это звезду дадут? Вот, правду говорили ведь мне старшие о вреде всяческих никому не нужных раздумий в армии. Стоп, стоп, стоп. Даже интересно стало. Это же что уже в итоге получается? Что же это в конце-концов вырисовывается-то? Что я же, оказывается, еще и виноват в том, что эта сволочь не там свои облитые помоями сапоги почистила? Все, оказывается, в итоге из-за лени моей произошло?! А пошло оно все на…! До чего ведь додумался! К черту все эти дурные мысли! Пусть бегают и строятся. Здоровей будут. Тоже мне, умник нашелся. Вот ужо я накажу этого урода. Непременно накажу. И без всяких казенных бумажек. Нет, это просто возмутительно, куда этого военного ни попытаешься поцеловать, у него везде оказывается жопа. Вот и сейчас, казалось бы, нет его рядом, сволочи этой. А все равно ведь ввел, поганец, в душевное расстройство командира своего».
(Ну как тут не вспомнить еще один старый военный анекдот — сказку со следующими действующими лицами:
Медведь — высоковоенноначальствующий.
Волк — просто военноначальствующий.
Заяц — военный.
Суть анекдота заключалась в следующем:
Волк постоянно придирался к зайцу и оскорблял его действием. К примеру, вызовет зайца в канцелярию. Заяц заходит без шапки, а волк ему: «Почему без шапки?!» И в табло его заячье лапой своей волчьей. Другой раз вызовет — заяц заходит уже в шапке. Волк: «Почему в шапке?!» И опять в табло. Надоело это все зайцу. Пожаловался он медведю, так, мол, и так — и так нехорошо, и эдак. Медведь вызвал волка и строго поговорил с ним: «Ты что же, волчья твоя морда, вытворяешь?! Ты хоть понимаешь, дубина ты неотесанная, что позволяешь себе издеваться над подчиненными? У тебя что, пластинка что ли заела — „в шапке“, „без шапки“? Разнообразить надо бы как-то воспитательную работу с подчиненными. Например, вызвал бы ты этого зайца и попросил бы его купить тебе сигареты. Он бы сходил, принес бы тебе сигареты с фильтром, а ты бы ему: „Почему с фильтром?!“. И в репу. А если принесет без фильтра: „Почему без фильтра?!“ И в пятак. Учись, волчара, пока я жив».
Волк так и сделал. Вызывает зайца и небрежно так говорит ему: «Слушай, косой, будь другом, сходи за сигаретами». Заяц, наученный горьким своим заячьим опытом: «Господин-товарищ волк, а вам сигареты с фильтром купить или без?» Волк, как-то сразу пришедший в невероятную ярость: «Почему, подлец, без шапки?!» И, само собой — оскорбление действием.
Вот такой вот, приблизительно, ход рассуждений, единожды предпринятый и приведший к таким же неутешительным выводам и заставляет начальствующих военных поступать просто, незамысловато так, а самое главное — как всегда, стремительно: вытаскивают они из общего строя провинившегося военного, а то и сразу двух-трех провинившихся военных, поворачивают его (их) лицом к этому строю (чтобы вот так, что бы все по-честному, чтобы в глаза прямо, в глаза якобы негодующих сотоварищей) и вот так, с размаху, как гетманской булавой по виноватому военному затылку, не подумавши абсолютно при этом ни о чем, просто — бряк:
— Объявляю вам пять нарядов на службу вне очереди! И через день!
Гордо так — «Объявляю…». Да если каждый пук или бряк считать объявлением… Но у военных все, что сорвалось с перекошенных злобой губ военноначальственных, все почему-то и всегда засчитывается. И, заслышав подобное «объявление», сержантский состав военных, работающий в военных структурах в основном по линии учета и своевременного доклада лицу действительно военноначальствующему, как всегда оживляется и шелестит заветно-учетными блокнотиками, проставляя свои паскудные циферки напротив фамилий проштрафившихся военных. Несказанное удовольствие при этом проникает в сердца многих из них, сладостно млеют при этом их души. В странное положение была поставлена эта категория военных: были они вроде бы такими же военными, как и подавляющее большинство, но в то же время назывались они почему-то младшими командирами и чистоту их погон нарушали какие-то дополнительные ленточки, называемые в народе «лычками». В действительности командиров среди них было мало: не спешили истинные военноначальствующие делиться с ними какой-либо властью, даже, как сейчас говорят «в рамках действующего законодательства», но вот функции учета, контроля и своевременного доклада им доверялись весьма охотно. Так и метались они вечно между двух огней: доложить — не доложить? Доложишь — ночью в сапог чернил нальют (а то еще и уриной побалуются) или же вынесут вместе с кроватью потихонечку в туалет и оставят там до утра. Не доложишь — могут доложить внештатные «докладчики», и тогда уже на голову начнет извергаться гнев действительно военноначальствующих. В общем, за редким исключением несерьезная эта была категория военноначальствующих. Поэтому будем в дальнейшем для простоты изложения величать ее «якобы военноначальствующие».
Здесь необходимо заострить внимание читателя на том, что чирканье якобы начальствующих в своих блокнотиках — это такое короткое и нигде далее не встречающееся бюрократическое действо, что не стоит на нем останавливаться, дабы не испортить общей картины борьбы военных с проволочками и бумагомарательством.
Ярким примером этой борьбы как раз и является короткий ритуал выдачи наряда военному. Ритуал, как вы уже заметили, состоит всего-то лишь в таком вот устном, залихватском и не бюрократическом абсолютно «объявлении» и без каких-либо дополнительных указаний на то, какие действия виновным надо будет предпринимать в ближайшее время («И через день!»). А зачем давать какие-то дополнительные указания, когда эти военные и так все про судьбу свою на ближайшие десять дней уже знают?
Вот так вот. Не успели отшелестеть еще блокнотики, а уже не только оштрафованные, а абсолютно все присутствующие при аутодафе военные уже все знают. Что же они конкретно знают?
А знают они то, что у подвергшихся только что обструкции военных есть два варианта поведения в ближайшей перспективе. И каждый вариант будет однообразно повторяться через день. Была бы воля военноначальствующих, все повторялось бы, конечно же, ежедневно, но военное законодательство этого не допускало. Так что же это за варианты?
Вариант 1. Военный заступает в наряд по курсу (роте) и становится так называемым дневальным. Читателя это слово, созвучное со словом «день», может ввести в заблуждение. Ничего общего с этим светлым словом дневальный не имеет. Дежурная должность «дневальный» должна быть в ближайшее время немедленно переименована и носить название «суточный» (к щам это никакого отношения не имеет). Потому как так называемый «дневальный» целые сутки, не покладая рук и не протягивая ног, работает ежечасно, исключительно из любви к разнообразию меняя рабочие свои специальности.
Первая его специальность — глашатай-наблюдатель — состоит в стоянии «на тумбочке», оборудованной телефонным аппаратом (точнее, в стоянии рядом с тумбочкой, набитой всякого рода служебной документацией — никому не нужной макулатурой, содержащей принципиально невыполнимые для военного предписания) и поминутном выкрикивании каких-нибудь оповещающих команд. Помимо выкриков, глашатай-наблюдатель ведет непрерывное наблюдение за окружающей его обстановкой и изредка соскакивает с «тумбочки» для какого-нибудь доклада какому-нибудь из заглянувших в расположение курса военноначальствующих. Усиленную бдительность должен проявлять глашатай-наблюдатель при получении распоряжений по телефонному аппарату. Были зарегистрированы случаи вопиющей дезинформации. Так, например, один изнывающий «на тумбочке» от скуки дневальный обзвонил как-то других изнывающих и строгим голосом самого старшего из всех дежурных приказал все имеющиеся на курсах гири собрать и срочно доставить к нему в дежурку для проведения инвентаризации вкупе с метрологической поверкой. И потянулись к настоящему самому старшему из дежурных, только что прилегшему на топчан после бессонной ночи в надежде выхватить свои законные «не более четырех часов, не снимая снаряжения», караваны военных, навьюченные увесистыми чугунными гирями. Караваны плавно подплывали и с грохотом сваливали нелегкий свой груз у ног полусонного самого старшего из всех дежурных. Старшие погонщики докладывали о выполнении приказа, приводя самого старшего из всех дежурных в неописуемый восторг. По третьему каравану самый старший из всех дежурных уже был готов открыть огонь на поражение из имеющегося у него табельного оружия, но вовремя взял себя в руки и решил изобличить-таки лже-дежурного. Принеся в жертву остатки своего сонного времени, он дождался-таки прибытия всех караванов и методом исключения определил подразделение военных, из которого караван так и не добрался до точки назначения. А дальше, как говорится, дело техники. «Вычисленный» шутник, впоследствии в одиночку доставивший к ночи все гири на свои прежние места, перестал улыбаться вообще. Не улыбался он даже в день выдачи так называемого у военных «денежного вознаграждения». Хотя в такие дни было трудно удержаться даже от веселого смеха — денежное вознаграждение зашкаливало в район первого десятка рублей. А шутник — нет. Камень. Не улыбался больше никогда даже кончиками всегда поджатых губ.
Вторая специальность дневального — широкопрофильного уборщика-терщика — состоит в постоянном чего-нибудь убирании и чего-либо натирании. От хлорировано-карболистых туалетов до широкоплощадных паркетных коридоров. (Туалеты туалетами — вещь интимная и вонючая, нет никакого желания описывать процессы их уборки. А вот в коридорах широкоплощадных дневальный получал доступ к «Машке» — утяжеленному устройству-держателю щеток для натирки паркетных полов. А получив доступ уж он то, дневальный этот, мог с ней, с «Машкой», всю ночь … и в каждой точке широкоплощадных паркетных коридоров…).
Третья специальность дневального — кем ни попадя посылаемый по дивно-пикантным разным поручениям. И если первые две специальности являются рутинно освоенными и ничего нового в себе не содержат, то третья специальность требует определенной смекалки. Вот, к примеру, послали вас куда-то, вы идете себе, а одиночное хождение военных запрещено. Военных, их когда заметят шествующими не в строю, все время так подзывают: «Эй вы, трое! Оба — ко мне!» и каждый раз спрашивают: «Вы с какого факультета? А-а-а. Серьезный факультет. Ну если вы такие умные, то почему строем не ходите?» Вот и сейчас, никто ведь из патрулей каких-нибудь или лиц начальствующих, праздно болтающихся в районе вашего передвижения, даже и не догадывается о том, что вы сегодня суточно-дневальный и идете по дивно-важному такому поручению — ну нет у кем ни попадя посылаемых особых внешних отличий. Вы все продолжаете идти, а вам навстречу или из-за угла:
— Почему в одиночку? Почему вне строя?!
— Разрешите доложить, одиночное движение — это частный случай организации строя «в колонну по одному».
И пока вопрошающий пребывает в ступоре от математически остроумного ответа, надо быстро так, бочком, по-крабьи — шнырь, и продолжать свое небезопасное движение навстречу выполнению важного поручения. И надо бы побыстрее передвигаться, потому как в спину от вышедшего наконец из ступора уже несется гневное: «А почему тогда без флажков?» Справедливый вопрос. Ведь военный, если же он, конечно, не одиночный, он ведь всегда должен с красным флажком передвигаться. Даже если это такой математически обоснованный частный случай. Но где ж его взять-то? Флажок этот красный? Поэтому нельзя ни в коем случае останавливаться и отвечать на глупые вопросы. Только вперед. Потому как — поручение.
Вариант 2. Военный заступает в наряд по кухне не со своим подразделением. Почему не со своим? Потому что со своим — это уже наряд по очереди получается, очередной, значит. А опальным военным-то, им ведь как было объявлено: «…вне очереди! И через день!». А раз не со своим подразделением, значит, военному будет определено весьма непрестижное место в составе «кухонного» расчета. Ни чадящего духотой полусъедобной пищи варочного цеха, ни мятых и засаленных бачков (средств подобных «Fairy» не было еще в застойно-липкие те времена, мыло было, а мылом попробуйте-ка) в вечно парящей «мойке» не видать военному изгою как своих ушей. Осужденный военный будет отправлен на «парашу». Сутки напролет он будет наполнять гигантские зловонные чаны с гниющими остатками изначально порочной пищи, курсируя между «мойкой» и собственно «парашей» — постоянно ломающейся холодильной камерой, внутри которой эти чаны и хранятся. Когда просто стоят, наполняются зловонием и зловоние хранят — это еще полбеды. Беда подкрадывается к осужденному военному выползком из какого-нибудь военного совхоза. В совхозе этом должны были выращивать по-социалистически откормленных свиней, мясо которых должно было незамедлительно поступать на стол обучаемых военных. Но никто из этой категории военных мяса никогда в глаза не видывал. До стола этих уязвленных военных доходили безглазые ошметки старого желтого жира, в лучшем случае слегка обжаренного.
Так куда же девалось это свинячье мясо, выращенное согласно строгим социалистическим планам исключительно для военных? Может, оно как-то распределялось в соответствии с военной иерархией? Как-то: сверху вниз? И по пути движения свиной туши на каждой иерархической ступеньке происходит покусочное ее расчленение и незаконное умыкание? Не доказано, но в результате на нижнюю иерархическую ступеньку вымученным шлепком вываливался аппетитный (уже успевший пожелтеть от пота) заветный кусочек свинячьего жира.
А возможно, его, мяса, и не было вовсе. Вероятно, у свинок, вкушающих остатки военной пищи, постепенно атрофировались мышцы, затем у них начинали разрушаться и рассасываться кости, и все эти процессы протекали на фоне ускоренного старения свинячьего организма. Вот и получился в результате аппетитный такой свиной мешочек старого жира, который затем можно разрезать на не менее аппетитные дольки и подать военному на тщательно отсервированный стол. А лучше все-таки перед подачей обжарить. Тогда хоть корку военный сможет заглотить. Заглотить без предательских спазм желудочно-кишечного тракта.
Совхозно-свинячий выползок представляет собой смердящее детище отечественного автопрома, марку которого уже невозможно определить из-за засохших по всей его поверхности помоев. Военные, которым сегодня определили место у «параши», не интересуются марками автомобилей. Их волнуют подходы к большому загаженному снаружи и изнутри баку, кое-как пришпандоренному к грязному выползку. Задача нетривиальная. Необходимо как-то исхитриться, подобраться к разверстой хищной горловине бака по неровной склизкой поверхности выползка и выплеснуть в нее содержимое чана. Не всегда в этой жизни получается так, как кому-то хочется. Осужденные военные временами соскальзывают с тела выползка и больно соприкасаются с землей. Иногда жесткое соприкосновение осуществляется вместе с крепко сжимаемой в руках военного полной чашей благоухающей жижи. В этом случае окружающей среде наносится непоправимый ущерб. «А осужденному военному разве не наносится?» — может спросить растроганный в сентиментальности своей читатель. Отвечаю — нет, не наносится. Во-первых, то агрессивное вещество, в которое соскользнувший военный только сейчас окунулся, входит в его дневной рацион. Во-вторых, военного, пусть даже и осужденного, отмыть гораздо легче, чем окружающую его среду. Только сделать это надо сразу же. А где можно сразу? Да на той же кухне. Соскользнувший военный выныривает среди созданного им обширного зловония и уверенно, классическим вольным стилем достигает границы зоны загрязнения. Далее, не останавливаясь, трусцой в «мойку» и нырь в специальную ванночку, дабы продолжить свои плавательные упражнения между склизкими бачками-кастрюльками, потому как бачково-кастрюлечная ванночка — это единственное место, где почти всегда можно обнаружить горячую воду в приемлемом для плавания количестве. На остальную территорию компактного проживания военных горячая вода подается только в выходные и праздничные дни. Однако подается эта редкая гостья, эта дышащая вожделенным теплом водичка в непригодные для стильного плавания военных узкие металлические раковины — использование душевых установок на территории компактного проживания военных было в те далекие времена строго запрещено.
Но еще прискорбней для нашалившего военного было попасть в наряд по столовой на всегда вакантную, а если даже и занятую, то очень легко всегда уступаемую, расстрельную должность сервировщика. Эта должность была придумана особо продвинутыми в своих фантазиях военноначальствующими с целью привития военным устойчивых навыков культурного поглощения так называемой пищи. Для достижения этой внешне благородной цели так называемый сервировщик обязан был выполнять функции некоего военного официанта. Рожденный в любви к банальной показухе, свойственной большинству военноначальствующих, сервировщик обязан был тщательно отсервировать столы, топорщащиеся белыми накрахмаленными салфетками, экзотическими ресторанными приборами, изготовленными исключительно из нержавеющей стали, и стремиться выполнять все пожелания военных в ходе поглощения ими несовместимой с органами пищеварения эрзац-еды (в среднем около 90 % обучаемых военных за пять лет обучения приобретало хоть какое-нибудь, но обязательно хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта). Но военноначальствующих никогда такие мелкие в интимности своей подробности не интересовали. Им всегда было совершенно безразлично, что же там плещется в бачках-кастрюлях, принесенных военным все тем же сервировщиком и что же это принесено военным в этих красиво разрисованных гжельскими мастерами тарелочках. Глаз военноначальствующих всегда радовался безупречному равнению бачков-кастрюлек друг на друга и строгому порядку размещения отливающих серебром приборов на поверхности столов.
Первоначально предполагалось, что военный официант будет во всем подражать обычному, ресторанному. Будет он бегать между столов весь такой из себя чистенький, обходительный такой и культурно обслуживать военных в период принятия ими так называемой пищи. Без бабочки, правда, будет бегать, но зато в безупречно белоснежном передничке.
Но реалии строгого военного быта быстро расставили все по местам. И вот военный официант уже не бегает, а, освоив секреты левитации, вертляво парит птицей колибри над столами в грязном своем переднике, уворачиваясь от бросаемых в него предметов. А попробуйте-ка не взлететь и не повертеться! Вот, к примеру, сколько обычный официант обслуживает одновременно столиков в ресторане? Ну, от силы пять-шесть. При этом люди, сидящие за столиком, как правило, никуда не торопятся. Они приходят в разное, не зависящее друг от друга время. Приходят поесть, отдохнуть в меру своей испорченности, послушать какую-нибудь музыку — неважно, самое главное — они никуда особо не торопятся. Однако профессиональные официанты, получающие зарплату и регулярно стимулируемые чаевыми, все равно порой не успевают обслуживать своих клиентов, а если и успевают, то не всегда так, как этим клиентам хотелось бы. Но клиенты пришли отдыхать, а не скандалить, и они милостиво, в большинстве случаев, прощают официантам допущенные огрехи.
В случае же с сервировщиками все обстоит несколько иначе. Ну, во-первых, на каждого из сервировщиков приходится по 40–50 столов, а во-вторых, им приходится иметь дело не с обходительными, в разное время зашедшими покушать людьми, а с толпой потных и возбужденных своей ратной службой военных, пришедших на так называемый прием так называемой пищи, о-д-н-о-в-р-е-м-е-н-н-о!
В принципе, военные должны быть агрессивными по своей сути, и своим злобным поведением вселять ужас своим потенциальным врагам, но голодные военные — агрессивны вдвойне (это замечательное качество военных было использовано многими успешными военноначальниками в разные трудные для страны времена). Агрессия военных еще более прогрессирует, когда и без того уже непритязательные их ожидания не совпадают с наблюдаемой на столе реальностью. Агрессия ищет выхода и в силу отсутствия в пределах видимости явного вражины поначалу не находит его. Но когда вражины нет где-нибудь поблизости, он обязательно должен быть придуман. Иначе возбужденных военных агрессия попросту может разорвать на куски. Этого допускать было никак нельзя, и тогда тяжелый ком суммарного военного негатива начинал нависать над крепкими головами отчаянных сервировщиков с ежесекундной угрозой катастрофического на них обрушения.
То и дело из разных концов обеденного зала начинают раздаваться негодующие вопли грубых в невоспитанности своей и сильно раздраженных военных:
— Сервировщик! Почему чайник холодный (горячий)! Поменяй (остуди)! Мерзавец!
(В чайниках подавался не только чаек, изготовленный экономными поварами из жженого сахара, но и несладкий (из чего же тогда делать чай?) сухофруктистый компот, пахнущий свежеотжатой полуистлевшей половой тряпкой — шедевр военного десерта).
— Сервировщик! Ложки склизкие! Стаканы залапанные! Меняй все тут же, сволочь!
— Сервировщик! Нож неси! Эту кашу-шрапнель никак ложкой не отковырнуть! Уродец!
— Сервировщик! Ты что, еще и в супе тряпку выжимал, что ли? Чмо!
— Сервировщик! Жрать нечего — все несъедобное. Хлеб хоть остался у тебя, жлобина стоеросовая?
И расширять список претензий, формулируемых военными, можно до бесконечности. Некоторые особо чувственные натуры из состава сервировщиков, а то и целые составы, не выдерживали подобного прессинга, сильно обижались на сидящих за столами военных и просто-таки покидали обеденный зал, в котором неожиданно воцарилась злоба. А самые чувствительные и набравшие уже достаточно большое количество негативных эмоций сервировщики частенько покидали недружественный зал, едва завидев первого входящего в него голодного военного. Покидали и скрывались от растекающегося по столам праведного гнева, тщательно заперев за собой двери в туалетах, кухонных цехах и т. д. Ну а что тут криминального? Бачки с тарелками выровнены? Столы отсервированы? А значит, все — мы свои задачи выполнили. Называемся-то мы все ж-таки сервировщиками. Отсервировать мы отсервировали, а далее — звыняйтэ, дядьки, чем государство сочло нужным вас облагодетельствовать, и что не успели растащить по углам вороватые повара, вот тем и довольствуйтесь.
Самое интересное это то, что негодующие военные сами периодически заступают в различного вида наряды и прекрасно знают, что и откуда берется и неожиданно так исчезает. Знают они и о том, что сервировщик никакого отношения к качеству кулинарных изделий, претендующих хотя бы на такие названия, как пища или еда, не имеет. Знают они, что дело заключается в негласном преступном сговоре между государством и работниками советской торговли и советского же общепита. Суть сговора состояла в том, что государство изначально назначало работникам этих сфер такой уровень заработной платы, на который прожить, особенно человеку семейному, было невозможно и тем самым подталкивало работников к банальному воровству на своем рабочем месте. Почему же государство вело себя подобным образом? А потому, что было оно прозорливым относительно сущности человеческой — все равно ведь что-нибудь сопрут, а если при этом еще платить хорошую зарплату — обуржуазятся. А буржуазия в те времена являлась заклятым врагом социалистического государства. Вот такое вот смешение причинно-следственных связей. Как в анекдоте:
— Девушка, а почему вы такая прыщавая?
— Да ведь не пользует никто.
— А почему не пользуют-то?
— Да прыщавая потому что.
Вот и получалось, например, что простые советские мясники с окладом в 70 рублей совершенно спокойно, без каких либо финансовых напряжений покупали себе квартиры в жилищных кооперативах, машины, дачи, импортные тряпки и т. д. Правда, не всегда могли купить престижное по тем временам средство передвижения — автомобиль «Волга» (ГАЗ-24), так как при покупке автоматически попадали в сферу оперативной заинтересованности ОБХСС (для тех, кто никогда не попадал — структура, пытавшаяся бороться с многомиллионной армией расхитителей социалистической собственности). Как же тогда все-таки покупали? Так и покупали. Находили людей, выигравших этот шедевр советского автомобилестроения в лотерею и выкупали у них лотерейный билет по цене, в несколько раз превышающей стоимость самого автомобиля. В завершение этого отступления, вдруг в тему вспоминается еще один анекдот, усиливающий сказанное национальным оттенком.
Одна из кавказских республик. Присланный на работу в республику по распределению русский инженер наконец-то накопил денег на золотую коронку для разрушающегося в глубине полости рта зуба. Поставили ему эту коронку. И он, гордый тем, что во рту у него содержится приблизительно пять его зарплат, величественной походкой вплывает в мясной магазин. Выгибая губу таким образом, чтобы коронка была видна, инженер спрашивает продавца:
— Баранина есть?
Продавец демонстрирует ему в широте своей самодовольной улыбки полный рот золотых зубов:
— Нэт, дарагой, по такому цену, который ты можешь купыт — нэту.
(Необходимо пояснить, что культ золота на Кавказе настолько силен, что в то время, когда индустрия зубопротезирования в стране советов только начинала набирать обороты, всякий уважающий себя и стремившийся возбудить к себе уважение окружающих абориген, при наличии у него такой возможности, ставил золотые коронки даже на здоровые зубы.)
Но вернемся к нашим поварам, готовящим исключительно для военных — кривобоким Марьям Иваннам и помогающим им в корысти мешковатым мясникам, менявшимся почти каждый месяц. Почему так часто? Да потому, что качество продуктов, которыми, по негласному договору с государством, хотелось бы поживиться, оставляет желать лучшего — ни продать, ни самому не съесть. Но месяц продержаться можно, прибирая к алчным рукам абсолютно все, что почему-то не испортилось на продовольственных складах и по пути к ним. Продержаться можно, но только без каких-либо стыдливо-ложных отламываний чего-либо более менее съедобного в скорбный котел для страждущих военных — не умрут они, поди, за месяц-то, на войне ведь еще хуже бывает. Тылы-то всегда почему-то отстают. Так что месяц эти военные как-нибудь продержатся, а там — трава не расти. И так вот от месяца к месяцу все и повторяется — отрезается и уносится, отсыпается и опять уносится, отливается и, в который раз уже, снова уносится. А то, что осталось, все ворьем этим небрежно сваливается в кучу, тщательно перемешивается, не всегда солится и кое как варится. Затем все это неряшливо разливается, и с пылу с жару прямо на тщательно отсервированный нержавеющими приборами стол с размаху плюхается. И все. А что там дальше будет — это уже пусть сервировщик нерадивый расхлебывает. Раз назначили его, вот пусть он и терпит. А на кого военным можно еще поорать? На государство? Нет-нет! Государство военные должны любить и защищать, присяга, знаете ли. На Марь Иванн и мясников орать собираетесь? Вы что, в своем ли вы уме! — они и так у нас не задерживаются. Кто же военным за такую же зарплату да так еще и приготовит? И чего, спрашивается, было военным бояться? Вот именно так, им приготовили бы очень многие другие и без всякой даже зарплаты — просто так, безвозмездно, значит, как в известном мультфильме про Винни-Пуха. Ну, в смысле, «очень многие другие» — это те, кто военных очень сильно не любил. А такие были всегда. Вот этих и надо было набирать. А военные бы орали на них и периодически их же лупцевали. И это было бы справедливо. Эти «нелюбящие» сделали бы очередную гадость и получили бы при этом очередное же удовольствие. А за удовольствия надо бы заплатить. Пожалуйста, форма оплаты — орущие и больно дерущиеся военные. А для военных такая форма оплаты послужила бы хорошей психологической разгрузкой. Было бы тогда куда деваться их агрессии. И не огорчали бы они тогда чувствительных к несправедливости сервировщиков. В общем, такой подход устроил бы многих, но военноначальствующие были всегда против. Военноначальствующие всегда были против всего нового и передового. Потому как были они все ретроградами. И это очень сильно всегда отражалось на всех военных, а не только на тех, которые временно были сервировщиками.
Надо отметить, что регулярно подвергающиеся укоризне сервировщики в большинстве своем не унывали — они ведь тоже были военными и грешным делом подумывали: «Ничего, ничего — вот сутки как-нибудь дотянем, а потом и сами орать начнем. Ужо и мы оторвемся!» Между тем, когда сервировщикам приходилось совсем туго, за них вступались военноначальствующие, иногда даже особовоенноначальствующие. Так один из них, после разразившейся в столовой драки между мирно летающими сервировщиками и особо буйными военными, восседавшими за особо обиженным скорбной снедью столом, держал как-то приблизительно такую речь перед военным строем:
— Сидять, неодяи, разложилися, жруть и оруть! Чая неодяям этим, видите ли, сволоте этой подзаборной, не хватило. Я вас теперь накормлю! Лично! Всю дальнейшую неодяйскую жизнь свою просираться будете! Все на кровавый понос изойдете! Так или нет?!
(«Поди так», — удрученно кивали головами недавние буяны, внимая справедливым словам своего строгого командира).
Вот такая вот неожиданная помощь снисходила временами на военных официантов. Однако основное неудобство военно-официантской деятельности составляла материальная ответственность: почти после каждого наряда обнаруживалась недостача злополучных предметов из нержавейки. (Некоторые жуликоватые военные регулярно высылали на родину малой скоростью увесистые посылки с пронумерованными ложками и вилками — спасали, должно быть, далекую родню от неминуемого голода.) Недостачу обязывали покрывать военных официантов. Из каких же таких средств? Чаевых не дают, все больше нагрубить норовят. Молчать! Изыскать! И изыскивали, производя натуральный обмен партии новых, но уже занесенных в графу «бой», стаканов на вожделенные нержавеющие предметы в окрестных магазинах.
А еще военные ходили иногда в караулы. Это тоже такой вид нарядов. Но в эти наряды военных никогда не отправляли с целью наказания. Потому как наказанный военный — очень злой военный. А в карауле военным давали на сутки подержать боевое оружие с настоящими боевыми патронами и военноначальствующие очень сильно по поводу злости военных в такие минуты переживали. Переживали и старались не злить военных без надобности. Прескучнейшее это было занятие — караулы. Очень монотонное. Бодрствующая смена — зубрежка никому не нужных перлов из военной библии (ОВУ), потому как все нужное военные уже изучили ранее: «Услышав лай караульной собаки, немедленно сообщить в караульное помещение…». А военные ее никогда не видели. Собаку эту. Но, находясь на посту, всегда пристально вслушивались в ночь: а вдруг залает? Ага, залаяла. А как узнать караульная она или нет? Может, это собака британских лордов Баскервилей? Это не важно, военным ведь нетрудно было никогда о чем-либо и куда-нибудь срочно доложить. И они докладывали: «Военный такой-то. Так, мол, и так, слышу подозрительный лай. Возможно, это собака Баскервилей. Прошу принять меры». За бодрствующей сменой наступает отдыхающая — пару часов призрачного сна в наглухо застегнутом обмундировании с расстегнутым верхним крючком, а далее пробуждение с картинками в глазах в стиле фэнтэзи и зазубренные наизусть слова: «Оружие заряжено, поставлено на предохранитель». И все — на пост. И впереди два часа вычеркнутого из жизни в ночь глядения. И так целые сутки. Скука — неимоверная. Но военные, не будь они таковыми, если бы с этой скукой всячески не боролись. То возьмут, бывалыча, и устроят соревнование по скоростной разборке-сборке боевого своего оружия. А в конце этого упражнения к оружию положено присоединить рожок магазина, передернуть затвор и нажать на спусковой крючок. Это упражнение ведь известно военным еще со школы, только вот патронов в школьном рожке никогда не было. А в карауле они почему-то всегда были, а военные про это частенько забывали. «Ба-бах!» — раздается в тревожной ночной тиши, и караул поднимается «в ружье», отрабатывая вводную «Нападение на караульное помещение». Те военные, которые накоротке отдыхали «не снимая с себя снаряжения» с удивлением обнаруживают почти на уровне недавно преклоненных в дремоте своих голов большущую дырку в стене и разбитое кем-то окно напротив. «Вот оно, настоящее нападение! Наконец-то! Конец скуке! Вот ужо мы таперича попалим!» — думают очнувшиеся от полной видений дремоты военные и разбегаются по точкам отражения атаки, расхватав оружие и на ходу досылая патроны в патронники. Ан нет. Только было разместились грозные военные поудобнее на своих скрытых от вражеского глаза позициях и даже наметили себе подлежащие огневому поражению цели, как уже звучит обидный для военных «отбой вводной» с одновременным им предложением построиться. Тут сбегаются невесть откуда взявшиеся ночью военноначальствующие. Военных начинают строить, считать и тщательно осматривать. Жертв и разрушений не наблюдается. Но это всего лишь ночной обман. С первыми лучиками хилого питерского солнышка вдруг обнаруживается простреленный глаз одного из вождей мирового пролетариата, громадный портрет которого висел напротив окон караульного помещения. Этот портрет, призванный, видимо, воодушевить томящихся в карауле военных и поэтому всегда строго-назидательно смотревший на них, вдруг превратился в надорванный кусок развевавшейся на ветру кумачовой тряпки с едва проглядывающимся на ней небритым изображением одноглазого пирата «Билли Бонса». Поначалу дело тут же принимает политический характер, но потом почему-то опять все списывается на обычное военное разгильдяйство. А зря! Вождь с простреленным глазом — это вам не шуточки! И патрон тогда тоже списали на разгильдяйство. Ну а самих военных наказали по полной программе… Отправили их в сервировщики. На целых пять раз и «через день». Зря… Нельзя так издеваться над людьми. (Да, да военные, хоть и «милитер», но все ж таки «хомо»! И иногда тоже нуждаются в гуманизме). Лучше бы этих военных тогда взяли и попросту расстреляли. Но, видимо, лень было военноначальствующим оформлять бумаги для списания патронов. А будь их воля, эти ленивцы ничтоже сумняшеся тут же определили бы стрелков-военных в сервировщиков на пять дней подряд. Но делать этого было нельзя. Запрещало это гнусное действие строгая военная «библия». Правда, некоторые из особо рассердившихся на военных военноначальствующих поступали порой весьма изощренным образом. Эти как-то по особому рассердившиеся военноначальствующие снимали отбывающих срок военных с наряда за пять минут до его окончания как недостойных выполнять такую почетную обязанность, а через пять минут достоинство военных весьма заметно для окружающих подрастало и они тут же заступали в новый для себя наряд на следующие сутки. А тот наряд, который был предыдущим и без пяти, оставшихся до его окончания минут завершенным, в официальную статистику не попадал и не шел в зачет опальным военным. И это было вполне справедливо. А потому как не надо никогда попусту умничать и гневить начальство! И вид пред лицом его надо иметь всегда «лихой и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Ну, или что-то вроде этого… Еще царь Петр этому учил в стародавние времена, но так и не дошло чего-то до сих пор до некоторых военных. А может быть, все же дошло, но за давностью лет как-то уже забылось? Это, в конце концов, не важно. Важен результат. А результат порой оказывался для военных весьма даже печальным. И во всем виновата она, эта изъеденная в детстве глистами и проклятая такая память!
А вот некоторые военные исхитрялись так выспаться в карауле, что не могли потом уснуть всю последующую за ним неделю. Эти военные охраняли Боевое знамя, стоя на высоком постаменте, оборудованном специальной сигнализацией. Сигнализация срабатывала при отсутствии давления на крышку постамента и издавала истошные вопли, сопровождаемые частыми миганиями большого количества красных лампочек на пульте у самого старшего из дежурных, приводя его в сильное беспокойство о своей дальнейшей судьбе. Подводя сигнализацию к постаменту, наивные военноначальствующие думали, наверное, таким вот простейшим способом исключить вольные расхаживания часовых по прилегающей к знамени территории в ночное время. Ведь днем часовому и так было не разгуляться — вокруг знамени непрерывно сновали деловитые военноначальствующие разных рангов и каждый при этом стремился строго заглянуть в глаза часовому, делая вид, что отдает он свою честь Боевому знамени в полном соответствии с военной «библией». А вот ночью, когда большинство деловитых военноначальствующих отдыхает, сомкнув веки над строгими даже во сне глазами, тут и наступает для почетного часового полное раздолье. Полная, так сказать, «разлимонация». Вот с ней-то, с «разлимонацией» этой, и решили побороться военноначальствующие. Дудки. Едва взгромоздившись на свой постамент, часовой сразу же втаскивает на него стоящий неподалеку тяжеленный огнетушитель (согласно военной «библии» — это обязательный атрибут любого поста) и, не делая резких движений, аккуратно покидает постамент. Сигнализация безмолвствует. Почетный часовой удобно размещается на стоящих неподалеку мягких стульчиках и безмятежно засыпает (так и хотелось написать «безмятежно засыпает, дожидаясь смены», но это было бы неправдой: никого этот часовой не дожидался, он просто спал как сурок и все тут. Можно даже утверждать обратное, часовой всегда мечтал о том, чтобы эта смена во главе с завидующим ему разводящим не приходила бы до самого утра и оставила бы его в покое на всю эту караульную ночь, но такого никогда не случалось. Смена почему-то всегда приходила спустя каких-то два часа. И это — правильно. А потому как — не все коту масленица. Хотя выспаться перед дневным, непрерывно по стойке «смирно» стоянием, хотелось каждому из самых почетных часовых. А те военные, которые охраняли специальные, напичканные боеприпасами боксы в автопарке, поступали еще проще. Они сразу же после заступления на свой ответственный пост отыскивали себе автомобильчик поудобнее и, уютно расположившись на мягких сидениях кабины, тут же погружались в свои сладкие, наполненные разнообразными картинками всевозможных женских прелестей, платонические дремы, крепко сжимая при этом в своих надежных руках доверенное им всей страной на сегодня оружие (опытные военные давно уже поняли, что главное в карауле — это не лишиться собственного оружия, а все остальное — полная фигня. От всего остального всегда можно просто-напросто отбрехаться: «Пломба на дверях сорвана?! Это, наверное, вороны! Любят они все, что блестит. Не могу же я из боевого оружия по воронам палить. А вы в следующий раз не забудьте себе какие-нибудь тусклые пломбочки заказать. И не надо больше выпендриваться. А то щас разозлюсь и стрельну куда-нибудь. Я когда злюсь, всегда так поступаю. Так что идите отсюдова, от греха, как говорится, подальше. Грех — это я»).
Но была в этой суровой автопарковой службе одна пикантная особенность: уснуть надо было в такой позе, чтобы в бдительном своем сне ненароком не зацепить кнопку автомобильного сигнала. Некоторые неопытные военные на этом иногда прокалывались. Упадет такой горе-часовой головой в глубоком забытьи на эту громкую кнопку и долго не меняет своей удобной позы, а боевой автомобиль орет тем временем нечеловеческим голосом в неясной контурами ленинградской ночи и привлекает к себе нездоровое внимание всех мучающихся бессонницей. А замученных учебой и службой часовых бессонница никогда не мучала, поэтому они и не думали никогда просыпаться. В итоге в дико ревущий автопарк сбегается вся окрестная дежурная служба и констатирует факт преступного сна, допущенного на боевом посту незадачливым военным. И все. Военного отлучают навсегда от караула и становится он опять же вечным сервировщиком или разнорабочим на кухне. Ну что же, такая, видимо, у него судьба. И это тоже справедливо: военным ведь надо с самого измальства прививать особую привычку. Привычку не нажимать ни при каких условиях на не соответствующие ситуации кнопки. А то ведь он, неподготовленный этот военный, такого ведь впоследствии может натворить, на такие ведь с перепугу может надавить он кнопки! Мало не покажется никому. Даже, казалось бы, такому внешне неуязвимому в своей удаленности чванливому дядюшке Сэму…
Но особенно почетной службой у военноначальствующих считался гарнизонный караул. Военные к такому почету никогда не стремились и всегда старались под любым предлогом этой службы избежать. А когда это не удавалось, военным приходилось целые сутки пребывать в роли тюремщиков, охраняющих заключенных на гарнизонной гаупвахте. Периодически военные сами попадали на гаупвахту в качестве заключенных и их тоже очень тщательно охраняли. Сердца военных в такие периоды переполнялись особой гордостью. В такие минуты они чувствовали себя настоящими военными, ибо сказано было кем-то из великих полководцев: «Плох тот военный, который ни разу не побывал на гаупвахте». Кроме того, в периоды «отсидки» военных тщательнейшим образом охраняли. И это было знаком уважения. Это сейчас существует множество ЧОПов, и все в стране друг от друга хотя бы что-нибудь да охраняют. Многочисленная армия бодигардов стережет тела вороватых алигархов, особо продвинутых в разбое бизнесменов и прочей различной сволочи, а в те далекие времена охраняли только особо уважаемых людей. Членов Политбюро ЦК КПСС, например. И содержащиеся под арестом военные эту охрану очень даже ценили.
Но самой любимой службой у военных считалась служба в патруле. Выдержав неприятную процедуру развода в комендатуре, заключающуюся в тщательном осмотре их образцового внешнего вида беспросветно тупыми военноначальствующими из комендатуры, они получали счастливую возможность целый день бесцельно шататься по городу за военноначальствующим-начальником патруля и периодически посещать питерские кабаки и кинотеатры. В кабаках военные изображали строгих ревнителей трезвого образа жизни в военной среде и не упускали случая порадовать свой организм цивильной пищей, отпущенной им по льготной цене. А в кинотеатрах военные изображали из себя гарантов правопорядка в среде военных кинолюбов, но на самом деле наглейшим образом просматривали все идущие в кинотеатрах фильмы исключительно, как говориться, «на халяву». Иногда военноначальствующим-начальникам патруля было абсолютно недосуг выгуливать военных по городу в течение всего дня. У них были какие-то свои особо важные дела, не связанные со службой. И тогда начальники суровых военных патрулей изымали у патрульных военных, что называется, от греха подальше, болтающиеся на их ремнях штык-ножи и отправляли их восвояси, предварительно взяв с них честное военное слово много не выпивать, сильно нигде не бузить и к одиннадцати часам вечера явиться в комендатуру. Военные всегда с готовностью отдавали военноначальствующим-начальникам патруля свое нехитрое вооружение и самые честные свои слова. Отдавали и тут же пускались наутек, пока решение не было изменено. На «утеке» каждый из военных занимался своим делом. Кто-то удовлетворял свои низменные инстинкты, а кое-кто тихо веселился в каком-нибудь давно облюбованном кабачке. Были и те, кто посещал музеи и театры. А некоторые особо талантливые военные, успевали сделать и первое, и второе, и третье. Сделать и к одиннадцати часам утомленно явиться в комендатуру. Но это всегда было очень сложно для почувствовавших свободу военных и требовало от них колоссального напряжения сил. Особенно от тех, кто не любил посещать музеи и театры.
Но веселая служба в патруле военным выпадала очень редко. Тяжелая и рутинная служба выпадала на их долю гораздо чаще. Тем не менее, несмотря на такие вот всесторонние и разнообразные формы осуждения и добровольно-принудительного в почетности своей назначения, молодость продолжала длиться, надеяться на удачу и удача, наконец, снисходила к ней. Приходу удачи, как правило, предшествовал этап неистового самосовершенствования в ходе очистки от специализированных воинских грехов (просьба не путать с общечеловеческими). Самосовершенствование происходило порой на грани самоуничтожения и включало: досрочную сдачу всяческих зачетов, ускоренного прохождения всевозможных коллоквиумов, судорожное спихивание отчетов по лабораторным работам, проявление особого рвения при несении службы (тяжесть содеянного определяла количество направлений, в которых надо было достичь существенных высот, и в очередной раз, воспользовавшись методами левитации, существенно подняться над истинной низменностью своей греховной сущности).
И вот. И наконец-то. Наступает долгожданный миг! Вроде бы попала молодость в заветные списки временно увольняемых. Но вопрос: «А достоин ли ты?» с повестки еще не снят. Тщательный осмотр внешнего вида. Контроль параллельности стрелок на брюках (вольности геометрии по Лобачевскому в армии недопустимы), тщательные измерения расстояний от различных знаков воинской доблести до характерных выпуклостей туловища военных, плохо скрываемые угрозы, яростное устранение тщательно изысканных недостатков. И вроде бы уже все! Вроде бы уже чего-то достоин! Нет-нет, а что у нас там с незащищенными одеждой участками туловищ у военных?
— Ага-а-а. А откуда у вас вдруг взялись усы?!
— Выросли из губы, товарищ майор.
— Немедленно сбрить.
— Разрешите узнать, на каком основании?
— Устав гласит — военнослужащий должен быть аккуратно постриженным и тщательно выбритым.
— В таком случае, товарищ майор, как прикажете поступить с бровями?
— А-а-а, так вы ко всей своей волосатости еще и умный?! Шагом марш в расположение подразделения. Умным и волосатым выход в город категорически запрещен!
Далее все просто, судорожное пересечение лысыми и тупыми (то есть не изгнанными с позором из строя увольняемых) счастливчиками границы контрольно-пропускного пункта и четыре часа свободы. На свободе бушевала дискотека 80-х: громко зарождавшаяся «попса», невинные винные коктейли, табачный дым, запах разгоряченных молодых женских тел и армейского гуталина, инстинкты, инстинкты, инстинкты, подавление инстинктов, стремительный побег (осталось тридцать минут до угрозы впадения в новый специализированный военный грех, а молодость еще топорщится на другом конце на реке Неве стоящего города).
Праздник пива
А иногда отдыхали военные и в отсутствие особей женского пола. Устраивали себе отдых от беспорядочной половой жизни. Временно исключали, так сказать, всевозможные неразборчивые и случайные связи. Они просто отдыхали и пили пиво. В широких военных кругах было известно, что пиво и женщины — это два практически несовместимых напитка. Но для того, чтобы просто попить пиво в каком-нибудь профильном учреждении града Петрова во времена процветания самого ненавязчивого сервиса в мире, необходимо было тщательно спланировать и провести боевую операцию захвата сразу нескольких столов (военные ведь любят, когда все сообща и всего и всех много) в какой-нибудь «Висле», «Старой заставе», «Белой лошади» и т. д. На самом деле пивных заведений, где военным можно было организовать, как говорили классики кинематографа, «культурный мероприятий» было не так много и в выходные дни в них всегда стояли длиннющие очереди страждущего и чрезвычайно нервного гражданского населения. Ну были, конечно же, всевозможные пивные залы и ларьки с заведомо разбавленным и пахнущим мочой пенным напитком, в которых этот самый напиток зимой по желанию любого, пусть даже самого сизоносого в Питере клиента, могли даже подогреть (вот ведь как, а вы говорите, что совсем не было тогда никакого сервиса!), чтобы клиент этот, чего доброго, не простудил бы тщательно проспиртованное свое горло. Но все это отнюдь не для уважающих себя военных. Военные такие заведения посещали очень редко. Только в периоды совсем уж крайнего своего обнищания.
Как же удавалось военным культурно-пенно-массово отдохнуть в такой вот никак не способствующей, а часто противодействующей этому отдыху, можно даже сказать, агрессивно сопротивляющейся этому отдыху среде? Да очень просто. У военных ведь, у них всегда все просто. Накануне, например, в пятницу всеобщим тайным голосованием из среды желающих отдохнуть военных избиралась очередная жертва. Жертвенный военный должен был в субботу убедить какого-нибудь оставшегося ответственным военноначальствующего в необходимости ухода в город сразу после занятий. Это была одна из самых сложных задач грядущего мероприятия. Здесь военноначальствующего нужно было сначала удивить. Придумать что-нибудь ему доселе неведомое, а он уже столько всяких обоснований в течение службы наслушался: от внезапного в своей катастрофичности разлива сибирских рек в середине зимы до массового падежа скота от налетевшего на планету метеоритного дождя. И все это происходило, как правило, очень далеко, где-то на малой родине военного. И все напасти эти сваливались на «край родной навек любимый» исключительно по субботам и воскресеньям. А военные по этому поводу всегда сильно переживали. Переживали они всегда за попавших в беду родственников. И поэтому им надо было срочно попасть за забор своего строгого заведения. Зачем же это? Чем могли помочь они, находясь на таком удалении от тех неудачливых мест? Преимущественно словом. Тогда ведь нельзя было сказать это утешительное слово по мобильному телефону, никуда при этом не выходя. Не было их, мобильников в смысле, тогда еще и в помине. Нет, были и тогда, конечно же, разные такие средства мобильной связи, но в лучшем случае были они устройствами ранцевого типа. И несмотря на столь внушительные размеры до мест свершения катастроф эти тяжелые ранцы никак не доставали. Поэтому и не было тогда у военных экстренной связи с малой своей родиной. А поэтому очень надо было им обязательно выйти за опостылевший забор и добраться до специального междугородного пункта телефонной связи. И сказать там свои теплые в утешении слова. Но для этого прежде всего надо было чем-то удивить скептически настроенного военноначальствующего. Не дать ему шансов вскричать в своем гневном скепсисе что-нибудь типа: «Вы уже когда-то отпрашивались спасать девочку из огня, а потом неделю лежали с триппером в санчасти!». А методов удивления военноначальствующих всегда было непаханое в творчестве поле. И тут уж каждый военный как может, так и изгаляется на свой лад. Главное здесь — это отсутствие однообразия. Стандартным нытьем и частым всхлипыванием лицо военноначальствующее уже не проймешь. Военноначальствующему должен быть представлен хоть какой-нибудь, но — документ. И документы все время представлялись.
«Ну какие там могут быть документы, — спросит ехидный читатель — уж не из вожделенного ли для каждого военного пивного заведения? Так, мол, и так, в связи с юбилеем нашего пивняка приглашаем ваших особо одаренных военных в количестве … в такое-то время…, далее — подписи, сургучные печати». Да конечно же, не так все это происходило. Несколько по-другому. И вот как. Военный, узнав о своей жертвенной судьбе, немедленно телефонирует на свою малую родину какому-нибудь другу детства текст необходимого ему документа.
Далее весь процесс предельно упрощается. Сидит себе военный на какой-нибудь лекции, поклевывая во сне носом, во сне родной дом вспоминает, а тут, откуда ни возьмись, посылаемый дневально-суточный. Вежливо так, по-военному испрашивает пардону у лектора, размахивая при этом телеграммой с пометкой «Срочно» и, видимо, для пущей убедительности, некультурно так тычет пальцем в направлении вдруг переставшего клевать и насторожившегося военного. Сон в руку! Материализация чувственных идей! Военный, вежливо простившись с лектором и дав ему соответствующие случаю обещания «отработать пропущенный материал» и «ничего не запускать», срочно покидает пределы аудитории и военно-учебного заведения в целом.
Военный убывает на вокзал для встречи неожиданно приезжающих (щей) (щего) (щих) матери, отца, родителей и т. д. Добросовестно прибыв на вокзал к означенному в телеграмме времени, военный, огорченный в сыновних чувствах, никого из ожидаемых прибытием на пероне почему-то не обнаруживает. Он раздраженно беседует с проводниками, проявляя элементы своего врожденного бескультурья, огорченно тычет пальцем в текст телеграммы. Тщетно. Никто не приехал. И гостинцев ему никаких в этот раз не привез.
Скупая мужская слеза уже готова сорваться на щеку военного в такие нелегкие для него минуты. И тут в одно мгновение прошибает его окостеневший мозг молния смутного воспоминания. Точно! Проведя ведь такую непростую работу по обоснованию необходимости своего временного условно-досрочного освобождения он, военный, ведь так уже вжился в образ, так вдохновенно врал военноначальствующему, повизгивая от восторга скорой встречи с родственниками, что совершенно забыл о первоначальных целях секретного военного замысла.
Ну что же. Бывает. Не случайно ведь существует в народном быту анекдот про тупого отца и еще более тупого сына. А анекдоты — они никогда не возникают просто так и на пустом месте. Анекдот — это несколько приукрашенный рассказ о вызывающих смех реальных событиях, реально протекающих в реальной жизни.
(Напомним для тех, кто никогда этот тупой анекдот не слышал. В этом анекдоте повествуется о том, что сидели как-то за столом отец и сын. Оба они были страшно тупые. Яблоко-то ведь от яблони, как известно, недалеко падает-то. Отец читает сыну какое-то очередное, интеллектуальное свое нравоучение. Сын старается внять глубокому смыслу отцовской проповеди, но в итоге так ничего до него и не доходит. Отец в раздражении кричит на сына: «Какая же ты все-таки дубина! Ну просто законченный идиот! Д-е-р-е-в-о!» И для придания созданному образу большей убедительности стучит по крышке стола кулаком. Сын, приподнимаясь со стула: «Ой, кто-то пришел! Слышал? В дверь постучали». Отец, усаживая сына на место: «Да сиди ты, дурак! Я сам открою!». И не шутит ведь этот отец. Он действительно идет открывать!)
Мироощущение жертвенного военного под воздействием внезапного воспоминания мгновенно преображается. Он немедленно прибывает в культурно-питейное заведение и резервирует пару-тройку длинных деревянных столов. Резервирование заключается в объединении разрозненных поверхностей крышек столов в одну общую поверхность и усеивании этой поверхности желтыми зернами пивных кружек. Далее для жертвенного военного начинается полоса испытаний. Снаружи пивного заведения образуется очередь. Персонал пивного заведения проявляет озабоченность, персонал работает в условиях планового народного хозяйства. Стремясь обеспечить выполнение плана, жертвенный военный глотает пенистый напиток непривычными для себя глотками умирающего от жажды бедуина. Он прыгает вокруг поверхности стола, изображая присутствие большого коллектива военных, и изредка повествует стесненным и поэтому с недовольством поглядывающим на пустующие столы присутствующим, указывая на обилие початых кружек, о том, что ребята военные были, пили пиво и временно вышли в туалет. Почему так долго не приходят? Да вы посмотрите, сколько пива-то выпили! Весь стол был кружками заставлен. Официант-торопыга подсуетился и пустые кружки убрал. А новые что-то никак не принесет. А потому-то военные пока и не выходят. Куда им торопиться? Пиво же еще не принесли…
К моменту прихода основной группы жаждущих пивного отдыха военных, жертвенный военный приходит в мертвецки пьяное состояние. Молодой и не измученный еще нарзаном организм перестает понимать жертвенного военного и переходит в режим временной консервации. Жертва последними усилиями воли сдает пост военным, прорвавшимся сквозь сложившиеся на входе заслоны, и медленно сползает на пол. Военные заботливо укладывают своего боевого товарища на отбитую в бою у посетителей скамейку, изначально входившую в комплект сдвинутых для них столов.
Наконец все успокаиваются и начинается долгожданное пивное действо. Взглядам изумленных посетителей предстает следующая картина: за огромным столом восседают развеселые военные, поющие разные новомодные песни («Вот, новый поворот. И мотор ревет, что он нам несет: пропасть или взлет…»), а между большим столом и барной стойкой то и дело снуют усталые официанты с ведрами пива. А чего ради мелочиться? Если носить пиво этим ненасытным военным какими-то кружечками, официантов надолго не хватит, через каких-то полчаса их будет очень трудно где-либо обнаружить. Они же не прошли школы военных сервировщиков! А где их потом брать? Кто будет таскать пиво празднующим военным? Не на улице же потом ловить совсем уж неподготовленных к военно-пивным праздникам прохожих с настойчивыми предложениями немножко подзаработать?
Военные поют сначала слаженно и хором, тщательно выводя куплет за куплетом («Я пью до дна за тех кто в море…»). Зал почему-то начинает потихонечку пустеть. И очереди у дверей уже никакой нет. Ведь только недавно совсем еще вот здесь стояла длиннющая такая и возмущенная. Даже и не знаешь, что бы такое предположить по этому поводу. Наверное, шел мимо очереди какой-нибудь подвыпивший гражданин. Посмотрел удивленно на очередь и молвил что-нибудь о том, что совсем недалеко отсюда и именно сегодня открылось довольно приличное пивное заведение, а поскольку об этом событии еще мало кто знает, народу там собралось очень немного, по крайней мере, очереди там нет. И, видимо, услышав этот рассказ подвыпившего гражданина, ликующая очередь мигом сорвалась и галопом, стремясь любой ценой опередить друг друга, переместилась на новое место. А что, такое в молчаливые те времена вполне могло быть. Тогда ведь рекламы-то никакой не было. Не было, например, такого: «Мы — открылись!»
Тем временем военные, покончив с размеренным хоровым пением, переходят на индивидуальную разноголосицу и затем пускаются в неистовый пляс. К этому времени двери заведения уже давно закрыты. Граждане, видимо, не привыкли плясать и петь в пивных барах. Чужих в пивном заведении уже давно нет. А персонал? Да это родные уже совсем люди! Благодаря военному празднику они давно уже перевыполнили плановые показатели на несколько недель вперед и теперь благодушно и учтиво беседуют с военными на различные темы, угощая их дефицитной по тем временам сушеной рыбкой.
Праздник подходит к концу. Опустели и без того худые кошельки военных. Танцевали, веселились. Подсчитали — прослезились. Ну и ладно. Такое бывает совсем даже не часто. И поход «на пиво» являлся действительно праздником для военных. У студентов он был гораздо чаще. Но все же не таким частым, как у студентов нынешних. У нынешних праздник, похоже, никогда не прекращается и давно уже выродился в скучную обыденность. Особенно это заметно в теплое время года. С первыми майскими лучиками расползаются они в перерыве между занятиями от обучающих их заведений по близлежащим скверикам и газончикам. В их тонких ручках всегда зажаты разнокалиберные бутылочки, полные всегда желаемого ими напитка. Напиток, не спеша так, томно попивается и, наконец, выпивается полностью. После чего студенты как ни в чем не бывало возвращаются к прерванным занятиям. А как же грядущий пивной алкоголизм?! Да что вы, мы же всего-то по паре бутылочек. И то больше из соображений экономии… А вы что не знаете? Нынче пиво гораздо дешевле минеральной воды!
Но это когда мы до этого еще доживем. А нынче у военных опять побег. Доплясались! Снова витает над загулявшими военными реальная угроза впадения в очередной военный грех. На этот раз этот грех называется: «подвыпивший военный опаздывает из увольнения». Такого греха допускать никак нельзя. Слишком тяжелы будут последствия. Поэтому десять крепких военных тел быстро упаковываются специальным образом в тесное чрево такси: «Шеф, поторопись, не обидим!» Визг тормозов. Приехали наконец. Выпадение спрессованных тел из покореженного чрева автомобиля по специально отработанному алгоритму. Пересчитывающий денежные знаки «шеф» внешне не обижен. Он глубоко удручен. «Шеф» мучительно считает убытки на восстановление подвески своего железного коня, только что высекавшего искры из неровного питерского асфальта. Но военных это уже не интересует. Им этот «шеф», как в песне поется: «и не друг, и не родственник. Он им заклятый враг — очкастый частный собственник…». Ну и так далее… У военных уже другие заботы. Тело жертвенного военного требует особого к себе отношения. Тело мешком перекидывается (подальше от ищущих глаз самого старшего из дежурных) через высокий забор с одной стороны и бережно подхватывается крепкими руками товарищей с другой. Тело уносится, слегка реанимируется и бережно укладывается на кровать. В этот раз поступление тела не надо нигде регистрировать. Оно ведь отпущено до вечера следующего дня для задушевных бесед с так и не приехавшей мамой. Поэтому, если подходить к ситуации формально, то никакого пьяного тела на строгой территории компактного проживания военных и не было вовсе. А все-таки жаль, что мама тела все-таки не приехала. Ну и что, что не получала она телеграммы. Могла бы догадаться и приехать к неправильно рассчитавшему предельною дозу принятого внутрь зелья телу сына. По молодости-то с кем ведь такого не бывает? Тем более, что тело это пострадало за коллектив. А коллектив для военного — это дело святое. Вот приехала бы и полечила сынка-героя. А за одно и понаставляла бы его на путь истинный. Чтобы не пил он никогда лишку. Но нет, почему-то не приехала. Захлопоталась, видимо, по дому. И, наверное, это правильно. Ведь если бы к каждому перебравшему по какого-нибудь случаю военному стали бы ездить мамы…
Ну а дальше все уже гораздо проще. Главное, это то, что не подающее признаков жизни тело устроено. А дальше дело техники. Пропитанные пивом и активные тела военных приступают к регистрации факта своего возвращения. Бодрые доклады с выбросом запаха заблаговременно припасенного лаврового листа (в застойно-болотистые те времена по идеологическим ли или же по причинам какого другого характера (с кислотно-щелочным балансом у советского народа проблем никогда не было), средств типа «Орбит» в широкую продажу еще не поступало), одобрение самого старший из дежурных, внимательно отслеживающего движение секундной стрелки (на физиономии его правильно вырубленного лица как будто застывает почти классическое для всех дежурных двухсмысленное выражение — глумливое от учуянных в подозрительной мнительности своей запахов и одновременно служебно-деловитое — в нежелании навлекать на себя лишние проблемы). А далее следуют счастливый «отбой», короткий, увядающий растущей сонливостью, обмен впечатлениями и, изредка нарушаемая чьими-то всхрапами, всегда относительная, казарменная тишина. Относительность казарменной тишины чаще всего объясняется обычной ночной суетой, создаваемой непозволительными сексуальными отношениями суточных дневальных со своими «Машками», да еще частыми приходами различных «проверяющих». И вновь: брезжащее рассветом утро, быстрый подъем, нудная зарядка и нескончаемая череда военно-учебных буден. Так и минуло пять лет этой молодости. Не у всех она проходила именно так — каждого военного всегда ведь преследовали своей судьбы веселые нюансы. Ну а если проходила эта молодость совсем не так, то тогда это не здесь было. И было это вовсе даже не с военными, а с какими-то совершенно другими ветвями развития рода человеческого, да еще в какое-то совершенно другое время.
Лиха беда — начало
В училище для военных Серега Просвиров приехал поступать из столицы солнечного Азербайджана, города-«героя» Баку (бакинцы сами присвоили своему городу статус героя после исчезновения в конце 70-х с прилавков государственных магазинов почти всех вредных холестериносодержащих продуктов). Приезд состоялся как-то быстро. Казалось, вот только что были бурные проводы в кругу друзей, теплая водка, сорокаградусная жара, трудное утро, пахнущий теплой нефтью аэропорт «Бина». Друзья с помятыми лицами, носившие его еле живое тело по залу аэровокзала, то и дело затягивая веселую песню на мотив похоронного марша: «Ту-104, са-а-мый лучший самолет. Ту-104 ни-и-когда не упадет. (И протяжно, навзрыд) За-па-сай-сь гробами…». Закончилось все, конечно же, отделением милиции, в котором весельчаки коротали время до момента посадки самолета с оживающим Серегиным телом в Пулково. По приблизительно такому же сценарию происходило прибытие в Питер и других тел будущих обучаемых военных. И вот, наконец: «Не Афины, прохладно…», лес, палаточный лагерь, грибы под кроватью, трубчатый умывальник под открытым небом, наполняемый торфяно-коричневой озерной водой, первые радости в приобретении навыков хождения строем, судорожные попытки что-либо вспомнить перед надвигающимися экзаменами.
Экзамены — дело серьезное. Конкурс 7,58 человек на место (профессия защитника Родины, в неправильные те времена, пользовалась-таки популярностью) и конкурентом Сереге был даже этот 0,58, которого никто никогда не видел, его даже было трудно себе представить, однако присутствие его ощущалось вплоть до объявления результатов первого экзамена. Собственно, объявления как такового и не было. Был подъем в обычное время, неожиданное объявление об отмене утренней зарядки, перечисление фамилий, которым (так было и сказано: «Перечисленные фамилии должны…») необходимо сегодня пройти медкомиссию (третью по счету в общем процессе поступления).
На комиссию повезли почему-то в город. Пощупать и простукать будущих военных можно было бы и в чаще леса. Тогда ведь не было всяческих проникающих УЗИ и сканирующих томографов. Ну повезли так повезли. Одичавшим в лесу будущим военным было это даже в радость. Взгляду вернувшихся предстала печальная картина опустевшего лагеря. Оказывается, всех, кого «случайно забыли» пригласить на процедуру разгуливания по широким коридорам поликлиники в костюме человека, не устоявшего перед соблазном первородного греха (он, видите ли, раз всего-то повеселился, а Господь из-за него на нас на всех т-а-а-к рассерчал…), уже отправили по домам. Очень просто с ними поступили, по-военному просто, как в ставшей известной позже песне: «Гранату отняли — послали домой».
Кому пришло в голову устроить этот блиц, осталось загадкой. Осталось загадкой еще и то, что при таком вот массовом и быстром исходе у оставшихся не пропало ни одной личной вещи. Хотя какие там были вещи? Мыльно-брильно-зубочистящие принадлежности с хитовой пастой «Поморин» да смена нижнего белья. Но все ж таки ребятам как-то надо было еще и до дома добраться. Не каждому это было по карману, несмотря даже на бесплатный проездной в общий вагон пассажирского поезда. (Ездили когда-нибудь в таком? Если нет — рекомендую. Масса незабываемых впечатлений! Особенно жарким летом.) Кроме того, «провалившиеся» были крайне раздражены. Но не прихватили ничего чужого они с собой. А ведь было, наверное, искушение позаимствовать чего на время, продать и с комфортом доехать. Чтобы не в общем вагоне да еще пассажирского поезда. Лето ведь как раз тогда было.
А вот среди тех, которые все же остались и впоследствии в училище поступили, вещи периодически пропадали. Все пять лет обучения пропадали! Видно, не тех все же тогда домой отправили. Нет, с «крысами», конечно же, боролись. Их периодически отлавливали и отчисляли. Но так до конца и не вытравили. Каким-то загадочным образом смогли эти «крысы» все же затесаться в праведные офицерские ряды. Впрочем, загадки тогда только еще начинались. В дальнейшем, по мере постижения особенностей военного мышления (не знаю как сейчас, а в те времена даже издавался всесоюзный журнал — «Военная мысль», что лишний раз подчеркивало существенную особенность военной мысли относительно мысли вообще), составляющего основу военных методов восприятия и преобразования окружающей действительности, загадки постепенно сходили на нет — маразм становился предсказуемым и даже частично управляемым.
Специалистам кафедры Военной геронтологии, не так давно образованной в Военно-медицинской академии, хотелось бы посоветовать начать изучение особенностей военного маразма не в тиши родных аудиторий и специализированных библиотек, а в местах обитания большого количества военных, проживающих компактно на ограниченной территории. Чтобы собрать эмпирический материал на пару докторских диссертаций вам, господа-товарищи военные медики, необходимо поменять медицинскую символику на петлицах и шевронах на символику любого другого вида или рода войск (для чистоты эксперимента, а то ведь к медикам в частях отношение особое, бережно-справко-заискивающее) и куда-нибудь в затерянный полчок ваней-взводным, хотя бы на год, больше нецелесообразно — рискуете стать счастливым обладателем изучаемого диагноза. Но на год — это обязательно, со всеми его временами и сопутствующими этим временам обострениями.
Простите за отступление. Вспылил. Итак, лагерь опустел. Конкурс упал до целых 3,0 человек, но все равно на то же одинокое место. Как получилась такая цифра, тоже пока оставалось загадкой. Либо догадались наконец округлить итоги своих сложнейших расчетов, либо из лагеря был с позором изгнан пресловутый 0,58. Более правдоподобной выглядит версия об изгнании. В пользу этой версии говорит и факт встречи нашего абитурьента и загадочного «пифагорийца» двадцать четыре года спустя. Об этом мы когда-нибудь тоже расскажем.
Перераспределив оставшихся абитуриентов по ближним к первой лагерной линейке палаткам, лишние палатки убирать не стали — в них очень хорошо росли подберезовики и военноначальствующие, распределив палатки между собой, периодически захаживали туда для сбора урожая.
Даже после короткого общения с новыми соседями Сергею стало понятно, что уехали в основном романтики военной службы. Это были простые, открытые в общении юноши, восторженные и переполненные готовностью взвалить на себя уже прямо сейчас, до присяги еще, сразу все «тяготы и лишения военной службы». Они с радостью ходили в наряды по охране территории лагеря вместо своих менее восторженных и гораздо более прагматичных товарищей. Однако у большей части этих романтиков отсутствовали необходимые для поступления знания, да и тяги к ним у них, как правило, никак не проявлялось.
Тем временем стала намечаться тенденция роста (от экзамена к экзамену) процентного содержания зреющих прагматиков в общей массе так называемой «абитуры». Для большинства из них период раннего юношеского романтизма только-только закончился и начинался этап мучительного осознания грубой материи реальной жизни, которая (как потом выяснилось при изучении философии) дана нам в ощущениях (при этом марксистско-ленинская философия предпочитала оставлять без ответа риторический вопрос: а кем же дана-то нам материя эта?). Впрочем, несмотря на некоторую недозрелость движения, был у новоявленных прагматиков уже и свой авангард — личности, уже где-то и сколько-нибудь послужившие или успевшие поработать на «гражданке». Конечно, они уже чем-то отличались от вчерашних школьников, но размеры спеси, зародившейся в период осознания собственной отличности, принимали порой весьма гипертрофированный характер. Именно эти личности составили основу будущего сержантского (Помните? Якобы начальствующих?) состава подразделения военных. Единицы из них были действительными (в современной терминологии — легитимными) лидерами официально возглавляемых ими небольших коллективов. Основную же часть авангарда составляли прагматики, вовремя понявшие и взявшие на вооружение методы быстрого «доступа к телу» какого-либо старшего военноначальствующего. Доступ давал возможность получения множества привилегий, от «командирского балла» на экзаменах до права выбора места службы при распределении. При этом отчетливо прослеживалась прямо пропорциональная зависимость объема привилегий от степени близости к телу. Зависимость эта часто носила ярко выраженный нелинейный характер и являлась причиной жесткой внутриавангардной конкуренции за каждый сантиметр интимного пространства, принадлежащего телу лица военноначальствующего.
Обособленную часть авангарда составляли личности, которых по различным причинам никак нельзя было наделить административным ресурсом. Тернистый путь их состоял в непрерывном добывании информации. Делать это было нетрудно, для этого не надо было под артиллерийским огнем пересекать линию фронта. Повседневная жизнь военного коллектива состоит в ежесекундном взаимном созерцании и периодическом друг друга заслушивании. По мере накопления информация претерпевала (нужные военному агенту) преобразования и в определенный (нужный военному агенту) момент представлялась начальствующему взору, либо слуху, в зависимости от степени развитости того или иного рецептора у организма, принадлежащего тому или иному военноначальствующему лицу. Информация представлялась в том виде, который мог бы способствовать более быстрому росту рейтинга не покладающего ушей своих страдника. (Как-то в порыве очередного негодования один из назначаемых военным отцов-командиров, вскричал: «Ведь есть же на нашем курсе хорошие и полезные люди!!! Но никак не пойму, почему же все остальные их стукачами называют?!»).
Относил себя к прагматикам и Серега. Он успел год поработать на оборонном предприятии, не набрав нужного количества баллов на интересовавший его факультет одного из престижных столичных ВУЗов и гордо отклонивший предложения, поступившие с других факультетов (следствие остаточных явлений юношеского романтизма). Однако сферу приложения развивающемуся рационализму еще предстояло выбрать — подобострастное вползание в чье-либо интимное пространство вступало в противоречие одновременно со всеми его жизненными принципами. Проведя импровизированный, как бы сейчас сказали, СВОТ-анализ, Серега понял, что находится в окружении множества угроз, норовящих использовать имеющееся у него уязвимости. Основная его уязвимость состояла в желании заниматься только тем, что хоть как-то способствует его эмбриональному развитию. Развитию военизированного эмбриона могли способствовать учеба и спорт. Углубленно учиться, обложившись томами обязательной и дополнительной литературы, военному просто никогда не позволят («Не делайте умное лицо, вы же военный человек как-никак!») — это стало понятно еще на «абитуре». А вот спорт у военных всегда в почете. Причем незамысловатый такой, чтобы военному в этом спорте ничего дополнительного не понадобилось, ни одного спортивного снаряда или приспособления какого. Что же это за спорт такой? Понятное дело, что это бег и то только в форме кросса по пересеченной местности. Пересеченная местность была тогда народная и потому бесплатная. А раз бесплатная, то вдоволь пропиталась она потом военных спортсменов.
Бег Серега не любил в любом его проявлении. Хотя спортивный задел у него был достаточно солидный, в детстве попробывал себя и в гимнастике, и в плавании. В бокс пришел поздновато, но свой первый разряд заработал потом и кровью. Заработал и титул кандидата в мастера спорта, но официально не присвоили, видите ли, в составе рефери выигранного турнира не хватило судьи всесоюзной категории (при чем здесь, интересно, квалификация бокового судьи, когда все бои были остановлены досрочно за явным преимуществом и остановлены рефери на ринге?). Ну да ладно, дело прошлое, да и бокс здесь, как он узнал, явно не в почете (это же надо на перчатки хотя бы потратиться). Развитие эмбриона опять оказалось под угрозой.
Однако воистину — ищущий да обрящет. Опрос старших товарищей привел к получению новых знаний о военном спорте. Оказывается, есть такой вид спорта как офицерское многоборье. Это бег 3000 м, спортивная гимнастика (перекладина, брусья, опорный прыжок), стрельба (с 25-ти метров из ПМ по спортивной мишени), плаванье (100 метров вольным) и вождение легкового автомобиля.
Вообще-то для военных это нонсенс, столько дополнительных условий! Это и стадион (бег предусматривался в спортивной обуви по резинобитумному покрытию) и бассейн, и стрельбище. А что касается гимнастики — тут уже не обойдешься ржавой перекладиной во дворе, предназначенной, максимум, для выполнения любимого всеми начальствующими особо интеллектуального упражнения — подъем переворотом. И коня колченогого уже тут военному не подсунешь, прыжки уж больно серьезные, получит, не дай Бог, военный травму, а начальствующему придется по объему письменных объяснений догонять объемы произведений Дюма-отца. Ну и брусья нужны качественные, само собой разумеется. А вождение? Специально оборудованная площадка, автомобиль, бензин, масло! В общем, баловство это для военного. И впоследствии дошло это до умов совсем уже высоконачальствующих. Сначала, еще до Серегиного пришествия в многоборье, убрали вождение автомобиля, затем, уже после Серегиного исхода из этого вида спорта, убрали гимнастику. Продолжение тенденции неостановимо. В ближайшее время уберут плавание (военный — это вам не дерьмо, какое-нибудь, чтобы где-то там плавать), а потом и стрельбу (современный военный должон стрелять мозгами). И что же останется? Ну конечно, самый дешевый и к тому же любимый всеми военными бег. Бег нужен любому военному для привития ему твердых навыков в изматывании наступающего на него противника на пересеченной местности. Поэтому бег должен производиться не в кроссовочках по стадиончику (в условиях наступившего капитализма это стало совсем невозможно для военных: «Хочете, господа-товарищи военные, пробежаться по стадиончику? Извольте-ка перевести деньги на счет ООО «База отдыха ЛЮБЕР-ОПГ»), а в тяжеленных сапожищах по сильно пересеченной местности где-то на границе субъектов федерации. И то при условии, что не доползла до этой границы гадюкой чья-нибудь частная собственность.
Но это когда еще будет, а сейчас офицерское многоборье процветает и манит многообразием своим, возможностью реализовать дерзновенные планы физического развития воинствующих эмбрионов.
«Да, четыре в одном — это сильно, — думал Серега. — Ну ладно, гимнастику и плаванье подниму с колен продолжительного перерыва, стрелять научат, а вот с бегом… Ну что же, придется попотеть основательно». В то время он еще не представлял, насколько придется «основательно» и не только в беге, но решение созрело и скоро стало реализовываться. Дальнейшее развитие событий показало действенность принятого решения — физически Сереге и его многочисленным товарищам по «несчастью» было тяжеловато все годы тренировок (две тренировки в день — обычное дело, а уж когда начинаются предсоревновательные сборы…).
Однако помимо неоценимой жизненной устойчивости, которую серьезные занятия спортом помогают приобрести на долгие-долгие годы вперед (с поправкой на неизбежные травмы), спорт давал еще и ощутимые преимущества в ходе учебы. Спорт предоставлял, например, недоступную многим военным свободу. Не надо было ни у кого и ничто у кого-то лизать, чтобы выйти в город. Увольнительная записка всегда в кармане, т. к. бассейна и тира на территории военно-учебного заведения, слава Богу, не было, а тренировки были ежедневными без выходных и праздничных дней. Кроме того, появилась возможность самостоятельно планировать свое учебное время. Например, не посещать бесполезные занятия, вроде занятий по сугубо военным кафедрам (зачем, спрашивается, будущему лейтенанту-инженеру знать состав мотострелковой дивизии с точностью до количества шанцевого инструмента в минометном взводе?), а использовать это время для получения профильных инженерных знаний. Заметим, некоторые из сугубо военных кафедр представляли из себя заповедник старых и не очень старых маразматиков, которые были переведены из войск на преподавательские должности, как говорится, от греха подальше, пребывание их в войсках уже было не просто бесполезным для обороноспособности страны, а становилось для обороноспособности этой уже попросту опасным. Особенно заслуженные сугубо военные преподаватели могли в ходе лекции на полном серьезе поделиться с обучаемыми особого рода сокровениями приблизительно следующего содержания: «Ядерная бомба — она всегда почему-то попадает в эпицентр ядерного взрыва. Вот куда ни брось ее, заразу, а она, сволочь такая — хлоп, и опять в эпицентр. Ну ладно, попала себе и попала. Затем облако в виде прямоугольного овайла…» и т. д., и т. п… Или же горе-лектор вдруг впадал в следующие отвлеченные рассуждения: «Вот, предположим, над горизонтом появилось N самолетов противника… нет N для нас будет слишком много, лучше пусть будет — M» и стирал рукавом с доски не понравившееся ему обозначение).
Но это все еще будет впоследствии. А тем временем процесс поступления все еще длился и длился. Отцы же командиры, видимо, во грехе пребывая, кощунственно нашептывали: «Не забывайте, при поступлении надо любой ценой избавляться от конкурентов, должен действовать великий принцип „ЧЧВ“ («человек человеку волк»). Да, кстати, вы случайно не можете пояснить, откуда образовался синяк под глазом у абитуриента Зузина? Жаль, что не знаете. А то, глядишь, и лишний балл мы где-нибудь вам приплюсовали. В следующий раз надо бы вам повнимательнее быть. Что-нибудь такое вовремя подметить и сразу же нам обо всем подробненько взять так и доложить. Нет-нет, не заложить. Где вы только слово-то такое мерзкое взяли. Тьфу на вас. В армии это называется — доложить! Отвыкайте от гражданского лексикона». Часто цитировали военноначальствующие, во грехе своем пребывая, стилизованную ими под библейскую поганенькую такую фразочку. Смысловое содержание фразочки, однако, очень сильно контрастировало с основными положениями Святого писания и звучала (в нормативной транскрипции) следующим образом: «Нае… Тьфу. Обмани ближнего своего, либо он нае… (еще раз: тьфу, тьфу) обманет тебя и возрадуется».
Присяга
Наконец поступление завершено. Первое за месяц посещение бани (грязность и вонючесть — один из тестов на предмет определения потенциальной способности абитуриента всю оставшуюся жизнь терпеть тяжести и лишения). Недолгий праздник чистоты молодого тела и, наконец-то, курс молодого бойца.
Курс молодого бойца — исколотые швейной иглой руки (нет предела совершенству в пришивании к военной форме каких-либо украшений — погон, петлиц, шевронов и т. д.). Мгновенно чернеющие, только что подшитые белоснежные подворотнички. Портянки, сапоги, мозоли и нескончаемая шагистика: «Строевым шагом, от меня и до следующего столба, шагом марш!». А что? Некоторым военным это пока даже очень нравится. Строй ведь облагораживает военного. Облагораживает и каким-то образом даже дисциплинирует.
Но вот досада-то! Облагораживающее хождение часто прерывается зубрежкой основных уставных положений. Хотя любой военный (если вы у него, конечно же, спросите) тут же вам с готовностью пояснит, что даже если неглубоко, поверхностно так, вникнуть в содержание уставных дисциплинарных положений, можно всю богатую, разностороннюю суть их свести к двум коротким статьям:
Статья 1. Командир всегда прав.
Статья 2. Если командир не прав — смотри Статью 1.
Вообще-то, этот курс не имеет никакого отношения к молодым бойцам. Молодой боец, должен по окончании курсов иметь хотя бы минимальные навыки участия в том самом бою. К примеру, решили враги приурочить нападение на нашу могучую Родину ко дню окончания курсов каким-нибудь нашим молодым еще бойцом. Милости просим, господин супостат! На этот раз вы крупно просчитались. Надо было раньше нападать, когда молодой боец не мог в считанные минуты окопаться. Не мог пусть не очень метко, но уверенно стрелять в сторону врага. Не мог уверенно метать в приближающихся врагов определенного типа гранаты, не впадая в ступор при снятии чеки. Не мог уверенно наступать. Наступать, не бравурно развернув свою еще впалую грудь и четко чеканя шаг, зафиксировав на морде своего лица выражение идиотического восторга, как это часто показывается в героически-лживых кинофильмах, а наступать в некрасивом полуприсяде, втянув голову в плечи, часто и значительно меняя направление своего настырного и неотвратимого продвижения. Надо было совершать, господа нехорошие, свое вероломное нападение, когда молодой боец еще не мог споро преодолевать проволочные заграждения и форсировать (хотя бы небольшие) водные преграды. А сейчас он все это может, не говоря уже о художественном шитье. Поэтому дудки вам, господа захватчики — крысиное племя, веками охочее до земли русской. Теперя фокус не пройдет! Теперя нам с вами и воевать-то уже неинтересно.
Вот таков-то и должен быть образ настоящего молодого бойца, закончившего настоящие курсы. А у поступивших военных вся подготовка сильно напоминает курсы молодого портного, по совместительству разнашивающего барину сапоги, наматывая километры своего строевого передвижения. А когда в монотонной шагистике вдруг образуется пауза, «молодые бойцы» с головой погружаются в чтение очень специфической литературы неизвестного автора, пытаясь найти там что-нибудь для себя полезное Ну, например, то, что «необходимо на войне». Никак. Статья 1, меняется Статьей 2. (Между прочим, на многих экземплярах бесчисленных томов этой литературы есть такая пометочка: «Настоящее издание общевоинских уставов предназначается для вневойсковой подготовки…». Ну конечно! Какая у начинающего военного портного может быть войсковая подготовка?)
И что в итоге получается? В конце этих отстойных курсов? Ну, к примеру, если какое вдруг очередное вероломное нападение неожиданно случится? Что предстанет, в конце-концов, пред кровожадным взором увешанного всевозможным оружием коварного «вероломца»?
А недоуменному взору этого супостата предстанет уныло бредущая куда-то колонна понурых и хромающих инвалидов, наспех наряженных в военную форму с аккуратно пришитыми на нее шевронами и ослепительно белыми подворотничками. Стертые ноги военных инвалидов облачены в резиновые советские кеды, за спинами бредущих болтаются непристрелянные АКМы с пустыми магазинами, а на боку каждого из них топорщится противогазная сумка с противогазной же маской без фильтра (фильтр сильно затрудняет дыхание в противогазе и поэтому является для военных не только лишним, но еще и очень вредным элементом). Завершающим штрихом этой удручающей картины является свернутая скаткой шинель, тяжелым лошадиным хомутом пригибающая каждого военного инвалида к земле.
Враг будет обескуражен. Он не станет стрелять в инвалидов. Враг очень расчетлив: зачем ему без толку тратить патроны? Затаив корыстную надежду на извлечение хоть какой-то для себя выгоды, враг, наверное, все же возьмет инвалидов в плен с целью выпытать у них хоть какую-нибудь военную тайну: «Как боэвой порядк наступлэн мотстрелок батален? Отвэчат, русиш швайн!» «Май нихт ферштейн, — будет, наверное, лепетать очередной допрашиваемый инвалид, — этого я вообще не знаю, могу вам доложить только обязанности военного в строю!» «Тьфу-тьфу, майн гот!» — в отчаянии тогда схватятся за голову захватчики и спешно покинут территорию страны. Эту страну ведь невозможно победить. Потому как некого. Не с кем тут пока сражаться. Но это — пока. У военных, ставших теперь обучаемыми военными, все еще впереди.
Тем временем небольшая часть созревающих в непрерывно куда-то топающем строю прагматиков начинает осознавать свои перспективы на ближайшие пять лет. Большая часть из осознавших без видимого сожаления о напрасно потраченном времени, но с явными признаками возрастающей любви к приобретаемой свободе, пишет рапорта и в спешном порядке покидает территорию лагеря (до принятия Присяги этот разумно-трусливый жест не возбранялся — крышка мышеловки захлопывалась после произнесения священных слов при большом стечении народа). Ну что же, как было написано на дверях одного строгого учреждения: «Каждому — свое».
Оставшиеся в скором времени тоже покидают лагерь и переселяются на так называемые «зимние квартиры», служившие когда-то казармами солдатам Преображенского полка гвардии его Императорского Величества.
Близится принятие присяги.
— Вы должны знать текст присяги наизусть.
— Разве при принятии присяги тексты нам не будут выдаваться?
— Тексты обязательно будут выдаваться, кроме того, чтение присяги по памяти во время проведения официальной церемонии строго запрещено.
— Так зачем же…
— Не рас-суж-дать…
— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик…»
Наконец слова присяги произнесены официально при большом стечении народа, подписи поставлены, знамя поцеловано, гимн выслушан, командирское «добро» на поход в первое увольнение получено. Здесь необходимо пояснить, что армейское понимание слова «увольнение» опять же очень сильно отличается по своему смысловому содержанию от общепринятого. Если в общепринятом смысле в слове «увольнение» изначально содержится какой-то негатив, даже если это «увольнение по собственному желанию», в армейском смысле это слово всегда настраивает военнослужащего на получение целого комплекса удовольствий. От различных вспомогательных слов, употребляемых вместе со словом «увольнение», зависит лишь длительность процесса получения удовольствий. Например, сочетание «увольнение в запас» сулит военному долговременный комплекс удовольствий, изредка прерываемый какими-нибудь сборами, а сочетание слов «увольнение в отставку» переводит военного в разряд неприкасаемых. Жаль, что длится это состояние, как правило, не так долго, как хотелось бы, и протекает на фоне приобретенных за время службы многочисленных заболеваний. В рассматриваемом случае под увольнением понимается четырех-пятичасовое счастье отсутствия на тщательно огороженной и кое-как охраняемой территории, на которой властвуют никому не нужные строгости.
Невский проспект наводнен новоиспеченными военными и патрулями. Патрули сегодня не зверствуют, а в весьма неприсущих им интеллигентных выражениях корректируют диковатое поведение легко узнаваемых первокурсников. А узнавались новоявленные обучаемые военные действительно легко: были они какие-то поразительно новые, суетливые в выполнении обряда воинского приветствия (в быту этот обряд двусмысленно именуется отданием чести), с сиротливой прямой нашивкой-первокурсницей на рукаве, из-за которой в народе эту категорию военных нарекли «минусами».
Далее, как в песне: «…попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино». Но это только первые увольнения. Дальнейшая жизнь внесла дополнительное понимание относительности утверждения «никуда не торопясь». Здесь авторы этого часто исполняемого в те приснопамятные годы военно-строевого хита сильно погорячились. В отличие от «гражданской сволочи»-студента, время у обучаемого военного отмасштабировано совершенно иным способом. Возьмем, к примеру, любовь. Если студент может себе позволить затратить целый месяц на период вегетативного развития глубокого чувства с последующим его переходом к реализации основного инстинкта, то обучаемому военному (особенно в начале обучения) на все эти мероприятия часто отводится не более четырех часов. И он успевает! Успевает еще и батонов со сгущенным молоком закупить для восстановления подорванного диким темпом здоровья. И вот так, с батонами наперевес и торчащими из карманов банками, с выражением лица неподдельно счастливым, успевает предстать с докладом о своем благополучном возвращении за считанные секунды до окончания срока дарованной ему свободы.
В баню…!!!
Хитро переплетаясь, текли учебные и военные будни. От бани и до бани протекали они. А почему «от бани и до бани»? — спросите вы. Да потому, что баня для военного это праздник, а мы как-то привыкли ставить себе некие светящиеся бакены в безликом и равнодушном течении реки жизни в виде хоть каких-нибудь праздников. «В чем же тут может состоять праздник? — не унимается неискушенный читатель. — Ну пошел себе и никуда не торопясь помылся с мылом, почувствовал приятную свежесть тела, попил пивка, расслабился, посидел себе, отдохнул. Так можно поступать каждые выходные. Обыденно это все — не празднично как-то». Да, большой скептик попался мне в читатели, придется остановиться на специфике помывки военного в бане.
Как вы думаете, когда можно помыть военного в городской бане, не смущая при этом гражданское население? (Встречаются такие случаи, когда на территории компактного проживания военных баню почему-то забывают построить). Правильно, в этом случае военного можно помыть — либо ранним утром, либо поздним вечером. Когда трудовой народ либо еще спит, готовясь что-то выдать на гора или что-то отложить в закрома текущей пятилетки, либо этот народ уже спит (предварительно помытый), освобождаясь от последствий раскрепощенного социалистического труда. А военный — это ведь существо не только бесполезное, но и большей частью еще и вредное: мало того что на гора он ничего не выдает, так еще и норовит умыкнуть, поганец, из этих самых закромов что-нибудь эдакое… якобы на поддержание собственной, так сказать, боеготовности. Сильно помогал в свое время выживать военному звериный лик империализма, в дикой злобе взирающий на мирный гражданский люд с плакатов советской наглядной агитации. Если бы не этот зверский лик, военного давно бы уже просто и быстро уничтожили как класс. В последствии, наступившем сразу же за советскими временами, так все и получилось. Как только в нежданно наступившую эпоху «нового мышленья и плюрализма» началась трансформация стран нашего «вероятного противника» в страны наших «вероятных друзей», сразу начал устойчиво хиреть наш военный. Постепенно перестала разрабатываться и поступать в войска новая техника, ощутимо сократилось реальное денежное содержание военного, а потом ему перестали платить вовсе. Правда, не платили временно, месяца по три-четыре. В общем, месяцами не платили военным и все время предлагали немного потерпеть. Помедитировать. На три-четыре месяца уйти в какую-нибудь нирвану, впасть в состояние цзэн или еще куда-нибудь впасть военным предлагали. Так или иначе, в конце-концов, предлагалось каждому военному куда-нибудь свалить вместе со всем своим семейством и сопутствующим семейству проблемами, в какие-нибудь бесплотные и потусторонние сферы. Временно, конечно. Будь спок, военный, не переживай, когда-нибудь все нормализуется. А пока — отвали, не до тебя сейчас.
Но при этом предполагалось, что физическая оболочка военного должна всегда находиться на службе и держать себя на службе в прежней строгости:
— Никаких подработок, вы должны всего себя посвящать военной службе. Всего, понимаете? Без остатка!!!!
— А деньги? В смысле денежное содержание? У меня семья, понимаете ли… Содержать бы надо…
— Семья у него. Деньги ему вдруг понадобились! Экий же вы, батенька, меркантильный! А о Родине вы уже, конечно, забыли?! О защите ее протяженных рубежей?!
— Нет-нет, я-то помню, конечно же, но очень уж кушать хочется. Я то еще как-нибудь потерплю. Перебьюсь как-нибудь. Мы же помним: присяга там, тяготы, лишения и все такое… Только вот семья… А содержания все нет и нет…
— Нет и нет. Семью свою прожорливую могли бы уже и к теще давно отправить. Теща-то, небось, пенсию уже получает? И что, не может прокормить семью военного? Ох уж эти тещи! Ну ладно, а вы что, не можете ни у кого занять?!!! Это же ненадолго все. Зато как свалится потом на вас многомиллионное состояние…
— Блажен, кто верует. А у кого же сейчас занять-то? Олигархи с банкирами не дают. Не из жадности. Они вообще-то очень добрые по своей сути ребята. Просто очень сильно заняты они сейчас приватизацией отечества. А отечество у нас большое. Ну, в общем, не до нас им пока. Сами понимаете. Вот закончат дележ и, может, тогда что-нибудь и дадут нам. Взаймы. С последующей отработкой в форме защиты обширных завоеваний их тяжелого капиталистического труда.
— Какой вы, право, говорливый и нерешительный какой-то. Олигархи ему, видите ли, в долг не дают. Олигархи не дают — займите у сослуживцев, в конце-то концов! Делов-то… Головой надо думать. Займите, а сами на службу!
— Так ведь у сослуживцев-то, у них ведь…
— Мол-ча-а-а-ть! Слу-жи-и-и-ть!
И военные по этой команде вновь становились в позу, хорошо знакомую дрессированным служебным собакам. И продолжали в ней (в позе, в смысле) служить дальше за миску овощного супа.
Так вот, о бане и сопутствующей ей воинской экстравагантности. Представьте себе такую картину. Темное зимнее раннее утро (где-то около — 5.00), колонна, состоящая из сотен военных, попахивая по ходу своего движения приятной смесью запахов немытых тел, кирзы и гуталина бодро марширует по сонным ленинградским улицам, лавируя между вечно дымящимися канализационными люками старой части города.
Надо отметить, что в непритязательные те времена народ сильно полюбил этот запах марширующих куда-то военных колонн. Этот запах внушал народу непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. И когда военные колонны почему-то никуда не шли, а уверенность народа была чем-то поколеблена, в ход пускался шедевр парфюмерной продукции того болотистого в своем застое и отстойного такого времени — одеколон с поэтическим названием «Вот солдаты идут…».
Но сегодня военные колонны куда-то двигались, и одеколона народу не требовалось. На одеколоне сегодня можно было здорово сэкономить. Идущих куда-то военных этот факт всегда радовал. Глубокая, плохо скрываемая радость переполняла марширующих. Им хотелось петь, но почему-то не разрешают этого делать военным. «Что такое? Почему нельзя?» Молчат, сурово поджав губы, командующие строями военноначальствующие. Опять, наверное, виноват этот, язви его в душу, чуткий отдых гражданского населения.
А как было бы весело и даже, можно сказать, экстравагантно, когда во всю мощь молодых, не единожды прорентгененных с положительным заключением, легких можно было бы взять и грянуть в утреннем экстазе: «Щорс идет под знаменем, красный командир! Э-эээ-эх, красный командир!». Народ бы в радости кинулся открывать окна. Народ с увлечением подпевал бы! Но куда там, народу-то. Все эти немощные подпевки сразу безнадежно утонули бы в мощном и раскатистом прославлении истекающего кровью за трудовой народ бесстрашного командира! Восторг народа еще более усиливался бы от радостного осознания того, что военных наконец-то мыться повели! Народ внутренне преисполнялся бы тихой гордостью за нашу потенциальную непобедимость: попробовал бы кто-нибудь поднять в четыре утра изнеженного американского рейнжера и предложить ему помыться! А наши ничего, с желанием встали и идут себе, светятся от бодрости и что-то спеть хотят они на радостях.
Даже проживающий тогда приблизительно в тех же местах и без того вечно брюзжащий, а теперь еще и не вовремя разбуженный старик Козлодоев (старик только было забылся в своем коротком и призрачно-похотливом сне), воспетый впоследствии Б. Гребенщиковым, благодушно так, без злобы просто усмехнулся бы, прошаркивая в мокрых брюках во всегда вожделенный им сортир. Но, увы, военным отдан приказ: петь сегодня нельзя, пусть даже и такая вот буйная радость раннего утреннего пробуждения переполняет их незатейливые, простые такие и вместе с тем полные благородства сердца.
Ну вот и баня. Оказывается, военных тут и не ждали. И не ждали каждый понедельник. Знали ведь, что военные каждый понедельник… В строго определенное время… Но почему-то каждый понедельник в это время военных и не ждали здесь никогда… То ли военных ждали в какой-то другой день и другое время, то ли все-таки военных ждали именно в понедельник, но они, военные эти, всегда умудрялись неожиданно так прокрасться и нагрянуть в одно и тоже время, чтобы использовать фактор внезапности. Зачем тут нужен-то был этот фактор? Это же не боевые действия? Извините, это уже такая у военных выработалась привычка. Такая у них уже появилась, как говорится, вторая натура. Вот и доигрались они в очередной раз со своими дурацкими привычками. Ну и что? Чего, в конце-концов, добились они? Только ошарашили они в очередной раз безобидных и скромных в нерадивости своей работников этой отстойной тогда сферы. Ошарашенные лентяи сферы виртуальных бытовых услуг суетливо растерялись. И тут вдруг выяснилось, что котлы с водой еще под прогрев они не ставили, но готовы сразу же исправиться. Сейчас они обязательно что-то там зальют, подожгут и что-то наконец включат. Включат, и уже через каких-то полчаса будет уже аж +C. А через эти полчаса колонна военных уже должна двигаться в обратном направлении Выполнение распорядка дня — это ведь самое святое дело абсолютно для каждого военного. Ну да ладно, зачем военным эти пижонские +C, чай не буржуи они недобитые какие. К тому же закаляться надо смолоду и всеми силами стремиться к результатам покойного ныне дедушки Порфирия Иванова. И вот уже липнут ступни к стылому кафельному полу, иней серебрит полки парного отделения, тоненькой струйкой набирается в скорбный тазик прохладненькая, приятно бодрящая и освежающая организм, мягкая такая, истинно питерская водичка. Но ведь даже по бездушной дедушкиной методике время закаливания должно быть строго ограничено. Военные методик никогда не читают, но уже чувствуют — дед был прав. Движения военных начинают приобретать судорожный характер и паралитически учащаются. Скорей, скорей облиться, теперь растереться и наконец одеться. Одеться не со стыдливо-ложной целью прикрытия безоружной своей наготы, а дабы преградить пути утечки остатков жизненного тепла из постепенно синеющего и покрывающегося озабоченно-глубокими морщинами тела.
Но вот как раз этого-то спасительно быстрого одевания может и не получиться у военных. Во всяком случае получалось оно у них далеко не всегда. И вовсе даже не потому, что это были какие-нибудь особо медлительные военные. Все дело в том, что ношенное неделю нижнее белье изымается у каждого военного еще на входе в помывочно-морозильное отделение. Изымается строгим каптерщиком (лицо материально ответственное и морально всегда озабоченное). Изъятие происходит после тщательной проверки белья на комплектность (а не загнал ли этот военный свои потертые на коленях трусы куда-нибудь налево с целью, так сказать, своего личного обогащения?). Если каптерщик комплектностью удовлетворен, белье кидается в общую кучу. Причем каждый предмет белья имеет свою общую кучу, и общее количество куч различных предметов нижнего белья военного может приближаться к цифре пять.
И вот тут-то, в этот самый момент, раскидав белье по кучкам и выполнив полный комплекс закаливающих процедур, военный может легко попасть впросак. А просак заключался в следующем. Закончивший все помывочные тайнодейства военный тут же может прослушать информацию о том, что чистое белье еще не подвезли, т. к. какой-то прапорщик неожиданно ушел в запой и не вовремя подал куда-то заявку (подал неправильно оформленную заявку в тот орган, подал правильно оформленную заявку, но не в тот орган, подал не в тот орган неправильно оформленную заявку и т. д.), но это ведь не беда, и не следует вовсе беспокоиться, не следует вовсе даже паниковать и очень сильно по этому поводу переживать. Белье вот-вот подвезут и все пойдет по утвержденному свыше распорядку. Далее поток негативной информации непрерывно растет и наконец заканчивается безапеляционным уведомлением об отсутствии чистого белья на окружных складах мирного времени, а чтобы воспользоваться запасами, отложенными на черную годину времени военного, надо срочно объявить кому-нибудь войну (ну хотя бы на часик, хотя бы соседней Финляндии, а пока горячие и быстрые умом финские парни будут въезжать в смысл ультиматума, умыкнуть бельишко из этих специальных хранилищ. Умыкнуть и взять свои слова обратно, мол, погорячились, премного извиняемся, мол, успели было мы позабыть уроки генерала Маннергейма, а сейчас неожиданно вспомнили и просим у вас глубочайшего пардону). Но эскалацией международной напряженности из-за каких-то голожопых военных, быстро снующих по стылой бане, в надежде не околеть окончательно, естественно, заниматься сейчас никто не будет. Не будет никто из-за них собирать внеочередной пленум Политбюро ЦК КПСС. А посему военным тут же предлагается альтернативный вариант, подкупающий своей новизной. Военным предлагается пренебречь условностями, изгнать из себя ложную брезгливость и временно облачиться в то, что так живописно разбросано по грязному полу. Предлагается сделать все это очень быстро, так как военным уже давно пора продолжать свое неукротимое движение к определяемым для них распорядком дня жизненным целям.
Попытки использования математических знаний для определения вероятности отыскания именно своей детали туалета в каждой из пяти куч, сваленных табуном из сотни жеребцов, приводят военных к удручающим результатам. Вероятность оказывается ничтожно малой. Ею даже можно пренебречь. Но холод — не тетка. С матерком и взаимными подначками, облачившись в то, что хотя бы приблизительно подходит по размеру, военные дружно высыпают из промерзшей бани на когда-то мерзлую улицу. На раскаленной зноем улице военных ожидала награда: первая партия батонов, выпеченная ночной сменой хлебозаводов, развозится по ленинградским булочным и, не достигая прилавков, расхватывается любителями раннего мытья.
И домой! Строем! Опять без песен. Но с батонами! Условно чистые. В чужом грязном белье!
Ох, хорошо, что молоды тогда были эти военные. И СПИДа не было в те далекие и проклятущие времена. Вернее, СПИД к тому времени уже существовал. Но не в этой стране. Его только-только «на свежачка» занесли неизвестно какими путями на процветающее-загнивающий Запад голодные и поэтому очень мстительные африканские обезьяны (?). Ну а далее, уже попав на благодатно разлагающуюся почву, СПИД начал свое быстрое и повсеместное распространение. А у нас в стране развитого социализма СПИДа тогда еще и в помине не было. Не поминался он абсолютно нигде. Ни в одном источнике СМИ. А у нас ведь как тогда было? Если СМИ о чем-то не упоминают, значит, этого «о чем-то» просто не существует Ну иногда, конечно же, что-то сознательно умалчивали эти обычно правдивые СМИ (например, в стране вовсю тогда уже свирепствовал секс и в условиях выпуска Баковским заводом большого количества бракованных резиновых изделий неуклонно росла рождаемость, а советские СМИ про секс ничего тогда не писали, не рассказывали и даже не показывали его по телевизору), но это совершенно другой случай. СПИДа тогда в стране не было. По крайней мере, в отдельно взятом Питере его точно не было — проверено многочисленными поколениями питерских кадетов.
Уроки отцов-командиров
Надо сказать, что офицерский состав «альма-матер» обучаемых военных делился, по большому счету, на два неагрессивно враждующих лагеря — лагерь профессорско-преподавательского состава и лагерь командного состава. Почему все же враждующих? Дело-то вроде как делали они одно. Дело одно, а причины взаимного недолюбливания было две.
Причина первая — профессионально-психологическая. Командный состав, состоящий преимущественно из лиц военноначальствующих, реально воплощал в жизнь тезис о ненормированном рабочем дне как норме военной жизни. Выходные дни военноначальствующие часто проводили в заботах о беспокойной своей пастве, состоящей из обучаемых военных. Ну, во-первых, их довольно часто принуждали организовывать культурный досуг будущей элиты вооруженных сил. В основном культурный досуг состоял из так называемых культпоходов, которые, как правило, начинались словами: «Желающих идти в культпоход я назначу сам» и обычно заканчивались с окончанием многочасового созерцания какого-нибудь заведомо провального и потому бесплатного для военных и детей действа: хор ветеранов Ленинградского военного округа, зажигательные нанайские песни, веселые ненецкие танцы и т. д… Если случалось так, что не было в Ленинграде (?!) в выходные дни ни одного мероприятия, достойного элитарного взгляда и слуха, тогда для военноначальствующих начиналось «во-вторых». Неожиданно вдруг выяснялось, что на одной из овощебаз великого города гниют плоды тяжкого труда советских колхозников. И военных тут же подряжали на самые черные и бесплатные работы в эти терпящие бедствия базы под руководством, естественно, тех же военноначальствующих. Прибывая в эти «зоны бедствия» военные, как правило, лицезрели одну и ту же картину: дурнопахнущие, покосившиеся бараки хранилищ с праздно шатающимися средь них штатных сотрудников этих самых баз. Праздношатающиеся обычно очень упитаны и непрерывно жуют украденные у страны овощи. От одежды бездельников всегда пахнет сгнившими фруктами. Завидев военных, они все время радуются, поминутно порыгивая плодово-выгодной бормотухой. Радуются и, не прекращая жевать, тут же определяют военным так называемый «фронт работ». Чаще всего «фронт» предусматривает разгрузку или же погрузку чего-нибудь и куда-нибудь. «Чего-нибудь», как правило, несъедобно в сыром виде, а то и вообще уже принципиально не съедобно. Ужасно ведь хитры были эти скучающе-жующе-отрыгивающие! Отъявленными они были бездельниками. А будучи людьми еще к тому же и очень вредными, делали все они, чтобы военные что-нибудь не отъели от закромов родины в ходе выполнения этих зловонных в склизкости своей и неблагодарных таких «фронтов». Военным это очень не нравилось, и они временами пытались в поисках вознаграждения за свою черную и неблагодарную работу проникнуть в какие-нибудь закрома с продукцией посъедобней. Ну, например, в закрома каких-нибудь фруктов. Но тут сытые бездельники были всегда настороже и тут же принимались кляузничать присутствующим на базе военноначальствующим, всячески ублажая их пакетиками с чем-нибудь съедобно-дефицитным. Военноначальствующие, отрабатывая полученные пакетики, тут же театрально принимали сторону проходимцев-взяткодателей, деланно ругались на мародерствующих военных и демонстративно что-то чиркали в своих блокнотиках. Но, как правило, без последствий все эти чирканья проходили для начинающих мародеров. Военноначальствующим тоже было не по душе торчать все выходные в этом зловонном отстое и лицезреть там сытые рожи полупьяных бездельников.
Случались иногда и более достойные предложения по проведению военноначальствующими своих выходных и праздничных дней. Например, как-то раз абсолютно всех военноначальствующих одновременно принудили надолго прикоснуться к самому важному для нас искусству — кинематографу. Вместе с военноначальствующими к этому искусству, естественно, прикоснулись и обучаемые военные. По полной программе, как говорится, прикоснулись. Но об этом несколько позже. Сейчас речь идет только о превратностях судьбы военноначальствующих, в течение месяца деятельно участвовавших в массовке фильма «Красные колокола». За время своего деятельного участия военноначальствующие были апробированы в различных характерных ролях — от неформальных лидеров Петроградских окраин образца семнадцатого года прошлого столетия до лидеров белого сопротивления среднего звена. И все это в ходе осуществления непрерывного управления группами деградирующих военных и одновременно совершенствующихся массовиков-затейников. Это далеко не полный перечень «тягот и лишений», выпадавших на плечи временно назначенных отцов обучаемых военных. Хотя в дальнейшем многими обучаемыми военными было осознано, что служба эта была раем в сравнению со службой «в местах не столь отдаленных», в частях, пытавшихся «учить тому, что необходимо на войне».
И вот на этом напряженном для военноначальствующих фоне представитель профессорско-преподавательского состава, закончив проведение занятий, мог ничтоже сумняшись написать на классной доске, висящей в каждой преподавательской: «Работаю дома». И написав эту кощунственную для военноначальствующих фразу «препод» имел полное право благополучно покинуть пределы военно-учебного заведения. И все это при том, что денежное содержание простого преподавателя могло превышать совокупный доход самого старшего воинского начальника на факультете.
Вторая причина вялотекущей вражды двух лагерей состояла в различии решаемых ими задач.
Военноначальствующих постоянно преследовали цветные сновиденья — многосерийные широкоформатные фильмы ужасов: «Военный спит в карауле (наряде по столовой, наряде по КПП и т. д.», «Военный не уложился в норматив», «Военный опоздал (вернулся нетрезвым, не вернулся и т. п.) из увольнения», «У военного обнаружено кожно-венерическое заболевание» и много-много других.
В промежутках между ужастиками любили военноначальствующие, ну просто патологически любили чистоту и обеспечивали ее усилиями военных ежедневно и еженощно. А еще любили они порядок в прикроватных тумбочках. И осуществляли постоянный тотальный контроль содержимого этой военной мебели. Всеми уровнями факультетской военноначальствующей иерархии сразу. И чем выше был этот уровень, тем внезапнее была проверка. А потом наступал тщательный разбор ее результатов перед многосотенным строем понурившихся военных. Разборы обычно изобиловали абсолютно всей палитрой красок и многообразием действующих лиц:
— Это что же такое творится на факультете?!!! Пробегаю под кроватями — пыль столбом! Захожу в каждую тумбочку — бардак! А в тумбочке курсанта Громова нахожу голую бабу!!! Еле отодрал ее и с трудом выбросил ее на помойку. Старшина, выдать Громову лопату, пусть роет трехметровую яму. На той же помойке. Немедленно закопать эту бесстыдную бабу, пока замполит ее еще не углядел. А то еще только политических дел мне на факультете не хватало помимо всего этого бардака! Закопать бабу немедля! И доложить!
А как любили красить военноначальствующие! Как только появлялись деньги на какой-нибудь хозяйственной статье, военноначальствующими немедленно отдавалась команда о закупке краски. Краска должна была быть закуплена обязательно зеленая, ну, на худой конец, коричневая. И для всех военных начинались особые развлечения. Над каждым красящим военным нависало обычно по три руководителя:
— Да не так, товарищ военный, надо не справа налево, а слева направо!
— Да, да и не снизу вверх, а сверху вниз.
— Разлить ее всю на хрен. И растереть. Только быстро.
Удушающая вонь, мутные слезы из опухших красных глаз, утренние трудности головопохмелья. И так все продолжается, пока не кончится наконец эта отстойная военная краска. Один старшина, как-то особенно надышавшись (хоть и служил перед учебой в химических войсках, закалка не всегда помогала), для ускорения процесса приказал ухнуть всю эту гадость на пол цокольного этажа и быстренько размазать. А на входной двери собственноручно табличку повесил с надписью в стихах, что-то вроде: «Труд военного уважай, через порог пока не переступай». Тот еще романтик. Мимо шло лицо высоковоенноначальствующее. Остановилось. Почитало. Сказало: «Старшина, что за хрень ты тут написал? Если человек умный — он и так все поймет. Во-первых, краска сильно блестит, во-вторых, воняет, к тому же очень сильно воняет — значит, не засохла. А если человек дурак — ты ему хоть триста табличек повесь». Договорив, лицо переступило через порог и засеменило, пошажно прилипая и оставляя громадные следы, в противоположный конец цокольного этажа. Понадобилось срочно проверить, значитца, высоковоенноначальствующему порядок в шкафчиках с обмундированием для военных.
А еще любили военноначальствующие что-нибудь выращивать. И, видимо, не было в военном бюджете такой строки — «Пополнение зернового фонда для озеленения территорий военных объектов МО», или же: «Эстетическое воспитание военного на основе созерцания зеленых насаждений несельскохозяйственного назначения». Потому как все сельскохозяйственные экзерсизы венноначальствующих, чаще всего, ограничивались требованием банального поливания травы на закрепленной за подразделением территории. По нескольку раз в день. Невзирая на только что прошедший проливной дождь. Были даже поэты этого дела, которые будто бы слышали даже как она, трава эта, растет, впитывая пролитую на нее воду. Один из них, как-то взирая в глубокой задумчивости на таскающих лейки военных, вдруг изрек непривычно тихим и глубоким для себя, просто утробным таким в проникновенности своей голосом: «Поливать надо обильно. Потом оно вопьется — зато птички не склюют». Повернулся и тихо так пошел, не выходя из состояния крайней своей задумчивости. Долго ломало потом головы сообщество назначенных «зеленых» над по-восточному спрятанной мудростью услышанного — бесполезно, восток оказался для них делом слишком тонким (пока слишком, а впоследствии придется этим же сейчас еще «зеленым» военным решать многие тонкие вопросы примитивного в жестокости своей востока).
Чрезвычайно образным было военное мышление этого эстетствующего венноначальствующего и, по военному же, был он предельно краток. До такой же степени чрезвычайности краток он был в речах своих, как и в образности мышления своего. При этом напрочь не выносил венноначальствующий никаких ненужных ему в словах окончаний. Мог сказать, например: «После обед строится на территорию». Это должно было означать, что после окончания обеденного времени (не путать с временем непосредственного поглощения пищи) надо построиться и в составе строя убыть для уборки закрепленной за подразделением территории. Видите, насколько сократил всего военноначальствующий?! И добавлял после небольшой паузы: «С вениками я уже договорился». И военным было абсолютно несложно представить, как он договаривается со строптивыми, видимо не желающими выходить сегодня на работу вениками. А вот еще по поводу краткости. Обращается, например, военноначальствующий к марширующему куда-то строю: «Отмашка р-р-рук! И чтоб я не видел!» Вы что подумали? Поясняем, здесь имелось в виду то, что не хотел он видеть кого-либо отмашку эту руками своими ленивыми не выполняющего. Или же еще, на учениях в болотистом лесу: «Как только выходим на сушу, сразу переходим на строевой шаг!» Ну просто всем военным морской дядька-Черномор! А допросчиком был ну просто замечательным. Подзывает, например, к себе военного и с ходу: «Объясните мне, почему вы…?» Военный только откроет рот: «Да я, мол…» И тут же слышит: «Не надо мне ничего объяснять! Вы лучше ответьте мне на прямо поставленный вопрос…» Обескураженный военный снова начинает свой краткий ответ, но тут же слышит: «Да не надо мне ничего объяснять! Вы лучше скажите…» И так могло продолжаться очень долго. Много-много циклов. А заканчивалось всегда одним и тем же. Очередным объявлением о грядущем наказании военного и о способах будущего глумления над ним. Тяжесть глумления, оказывается, будет усилена из-за того, что военный еще и пререкался с военноначальствующим! «Пререкался?! Да вы же сами просили ответить…» — лепетал неопытный военный и тут же предавался дальнейшему поруганию с использованием ненормативной лексики.
Впрочем, с ними, военноначальствующими, часто такое бывало: звезданет что-нибудь абсолютно не связанное ни с происходящим в данный момент событием, ни с окружающими его предметами, и быстрыми шагами куда-нибудь уйдет. А вы стойте потом и думайте, что же это все могло бы означать? Только быстро думайте. А то он сейчас вернется такими же быстрыми нервными шагами и начнет вопить о том, что до сих пор не выполнены его четко сформулированные указания.
— Творошков, впредь курс в главный корпус водить только по-за спортзалом.
— Товарищ полковник, так перед спортзалом или за ним?..
Но его уже нет. Ушел он. У него другие дела. Сейчас ему уже точно некогда. Но когда он срочно дела эти завершит, он придет и проконтролирует — идут ли по-за спортзалом? И будет язвительно вопить при этом издалека (лексика изменена на нормативную):
— Творошков, ну куда же вы курс повели? Я так и знал. Первый раз вижу такого долбаковского военноначальствующего! Я же ясно сказал — по-за спорт-за-лом!!!
Все-таки однажды мирная система озеленения дала сбой. Вернее, она была нарушена одним ретивым военноначальствующим, имеющим родственников, выезжающих за границу (не зря политически бдительные военноначальствующие относились к подобного рода личностям очень насторожено). Ретивый военноначальствующий решил выделиться на фоне растительной жизни своих косных коллег. По его самоличному заказу привез как-то «заграничный» родственник семена бамбука из далекой африканской страны. Засеян был весь участок вдоль дороги, ведущей в главный корпус альма-матер обучаемых военных. До революции в этом здании располагалась Академия Генерального штаба Российской империи. Перед зданием вольготно возлежала скульптура гривастого льва. Видимо, этот дремлющий на клумбе царь зверей и навеял на ретивого военноначальствующего африканские настроения.
С первых дней посадки бамбук стал проявлять чрезвычайную агрессию. Активно размножаясь и захватывая все новые и новые территории, бамбук подобрался наконец к дороге и продемонстрировал, что асфальт — это вовсе для него никакая и не помеха. Что видал он, дескать, препятствия и посерьезнее. В результате дорога вскоре превратилась в некий фрагмент африканской саванны. Экзотический вид стройной бамбуковой рощи поверг лиц еще более военноначальствующих в состояние крайнего раздражения, вот-вот грозящегося сорваться в состояние прогрессирующего возбуждения. А высоконачальственное возбуждение — это я вам доложу… Потрясающая мимика. Чем больше ее наблюдаешь, тем более привлекательным кажется облик доктора Крюгера, который в сравнении с искаженной прогрессирующим возбуждением физиономией лица высоконачальствующего все больше и больше напоминает рекламного младенца, объевшегося молочной смеси и излучающего умиротворение. А слова, какие слова формируются на выходах высоконачальствующих речевых аппаратов… Слова, казалось бы, перемежающиеся в хаотическом порядке, иногда вдруг складываются в емкие, образные фразы. Фразы, прослушав которые, военный сразу может догадаться о том, что ждет его в ближайшем будущем и какие действия ему прямо сейчас надлежит предпринимать. Вот, к примеру, самые интеллигентные или хотя бы поддающиеся нормативному толкованию фразы:
— Отдельные думают остаться сухими из воды! Не на того напали, ублюдки! Я с этим делом буду долго и тщательно разбираться! И в конце концов накажу первого попавшегося!
— Да я вас сейчас сгною, с говном смешаю. Смешаю и сожру! (То есть говна, уже присутствующего в организме военного, лицу высоконачальственному, находящемуся в состоянии крайнего возбуждения, было явно недостаточно, требовалось еще где-то найти говно дополнительное. Некую добавку для более тщательного перемешивания).
— Всех (далее о различных видах совокупления)! Никому не спущу!!! (Видимо запас банка спермы у лица высоконачальственного был весьма ограничен).
— Эй вы, с усами, быстро ко мне! Бояться! Дрожать! Кал метать на землю! Вижу! Почему не дымится?! Я же сказал — бо-ять-ся-я-я!
Ну да ладно, вернемся к окружающей нас флоре. Нельзя сказать, что заросшая бамбуком дорога была парадной, высоких гостей встречали в живописном полукруглом скверике, охраняемом лениво дремлющим каменным львом. Однако нередко среди высоких тех гостей попадались лица особо любопытные. Как правило, были эти люди чего-нибудь проверяющие. И надо сказать, были они неленивыми и неизбалованными. Ну, по крайней мере, «волг» к подъезду не требовали. Выйдут, бывалыча, себе потихоньку из главного корпуса и пешочком так, по той самой дорожке, с кожаной папочкой под мышкой — полюбопытствовать, как там учебный процесс налажен, или же узнать: «А оборудована ли уборная писсуаром и кабиной с унитазом, таким образом, чтобы ими могли воспользоваться 10–12 военных одновременно (здоровые воинские коллективы передвигаются строями и делают исключительно все по команде, поэтому случаи, когда потребность в этих благах цивилизации равномерно распределена по времени между этими виртуальными «10–12», достаточно редки — но что поделаешь, вся страна стояла тогда в очередях кто за чем, а военные — в большинстве случаев именно за этим).
И вот крадется очередной любопытствующий в самом благодушнейшем своем расположении духа, и что же предстает его удивленному взору — непроходимая бамбуковая роща в центре Питера?! «Львы, бамбуковые рощи, — недоумевает проверяющий, — они что, издеваются надо мной, что ли?» Обидится проверяющий и не станет ничего проверять. Напишет препохабнейший актец и уедет. А военноначальствующим потом отмывайся. Правда, отмываться-то они все равно кровью обучаемых военных будут. Но ведь из обучаемых военных попробуй еще чего-то выдави. Попотеть еще надо бы. Потеть военноначальствующим никогда не хотелось. Но приходилось.
На борьбу с бамбуком были брошены великие силы. Его выкорчевывали, жгли, поливали боевыми отравляющими веществами. Безрезультатно. Ранним утром, следующим за днем очередной экзекуции, бамбук снова прорастал, приводя военноначальствующих в совершенное неистовство, порой очень слабо граничащее с бесноватостью. А бамбук тем временем тянулся к блеклому питерскому солнышку всей сочной зеленью молодых африканских побегов и не обращал на гневливость военноначальствующих абсолютно никакого внимания. Проблему удалось решить лишь снятием двухметрового слоя грунта на площади в несколько гектаров и поспешным его вывозом в неизвестном направлении. Интересно, по какой бухгалтерской статье были выполнены эти масштабные работы? Предположительно — «Устранение последствий стихийного бедствия, повлекшего за собой загрязнение почвы». А куда, интересно, эту почву все же вывезли? Принимая во внимание тот удачный для нас факт, что живем мы до сих пор не в зарослях бамбука, можно предположить, что грунт был вывезен самолетами или морским путем в район Новой Земли. У военных в то время было много самолетов и керосина для них (например, за однокурсником Сереги, следующим, так сказать, в отпуск, папа, командир полка транспортной авиации, присылал из Иркутска маленький такой легкомоторный самолетик ИЛ-76, чтобы попросторней, стало быть, было следовать в такую-то даль уставшему от учения сынишке). И кораблей у военных тогда тоже было много. И все продукты дурной своей жизнедеятельности они шкодливо свозили на многострадальный остров и воровато там закапывали. А то и просто выбрасывали по дороге. Но это все предположения. Действительный наблюдаемый итог этой истории состоял всего лишь в приостановке карьерного роста ретивого военноначальствующего: в гордом звании «капитан» он проходит еще пять лет, а поскольку военноначальствующим он к тому времени прослужил уже пятнадцать лет, то все остальные военноначальствующие прозвали его «пятнадцатилетним капитаном».
Лишь в период, предшествующий сессии (ах да, военные же еще и учатся), в военноначальствующем лексиконе изредка начинали появляться озабоченные фразы: «средний балл», «отчетность», «задолженность». В период сессии озабоченность достигала своего апогея и находила свое выражение в весьма ограниченном наборе словесно-кодовых конструкций, к примеру, следующего содержания:
— Вы свой отпуск, товарищ военный, уже прожрали и просрали!!!
— Пока отдельные будут вкушать прелести «гражданской» жизни, вы, сволочи, весь отпуск будете сидеть здесь. В казарме. Со мной. Гнить и разлагаться. Непрерывно и заживо!!!
— В отпуск к женам двоечников поедут отличники! А с двоечниками буду жить я сам. С каждым индивидуально и со всеми сразу. Я вам устрою этот, как его, про-ми-ску-етет. Во как!!!
Вот, собственно, и все, что составляло основу деятельности и образа мышления военноначальствующих. Деятельность профессорско-преподавательского состава сводилась к основной, часто забываемой отцами командирами, цели — донесения до обучаемых военных некой суммы знаний, необходимой для запугивания издали многоголовой гидры империализма. Некоторым особо талантливым «преподам» удавалось не только снабдить военных некой «суммой», но при этом еще и «зажечь» их тупеющие от службы головы. Ибо правы были древние, сравнивая голову настоящего обучаемого с факелом, пламенеющим знаниями и здоровым любопытством, а не со скучным кувшином, хранящим в себе лежащую на дне «сумму». Некоторые головы так «разгорелись», что впоследствии принялись за написание всяческих диссертаций на всевозможные темы. Государство тогда это поддерживало: пишешь диссертацию, а зарплату тебе платят такую, как будто несешь ты боевое дежурство в глубоком подземелье или командуешь полком в Заполярье. И называлась вся эта военнонаучная деятельность не иначе как «удовлетворение собственного любопытства за государственный счет».
Была, правда, у «преподов», у ученых сих мужей, другая, казалось бы, бесчеловечная крайность: их совершенно не интересовало, что обучаемые военные либо не спали ночь, разгружая сухогрузы в порту (из речей политических военноначальствующих: «Товарищи военные, горком партии призывает вас к сознательности и обращается с просьбой о помощи. Запасы картофеля (какао-бобов, сахара и т. д.) на городских овощехранилищах (складах, базах и т. п.) подошли к концу. Идут сухогрузы с братской помощью из ГДР (Кубы, Анголы и т. д.»), либо военные пришли на занятия после десятикилометрового марш-броска в полном снаряжении и многочисленном вооружении и т. п., и т. д. — предмет должен знать, во всех точках контроля должен отчитаться «даже если жизни его (он — это военный) угрожает опасность» (ОВУ ВС СССР).
Особой «бесчеловечностью» отличались штатские преподаватели. Серега Просвиров однажды стал свидетелем душещипательного эпизода. Шла первая зимняя сессия. Основная масса экзаменующихся никогда за свои 17 лет так долго не отсутствовала в родительских гнездах и потому грезила предстоящим отпуском. Необходимыми и достаточными условиями отпускной поездки домой были положительные результаты сдачи всех без исключения экзаменов. Пусть все на «удовлетворительно» — это ведь означает, что государство удовлетворено и удовлетворено именно военным (уникальное состояние — во всех остальных случаях, все происходит с точностью до наоборот. Во всех остальных случаях, пользуясь терминами «Камасутры»: государство всегда сверху, военные снизу, государство обнимает военных и любит, любит, любит…). Поэтому девизом сессии был слоган, который в нормативной транскрипции звучал приблизительно так: «Зачем нам нужен лишний балл (?!), нам — лишь бы отпуск не пропал».
Так вот, полным ходом шел экзамен по физике и только было подготовился Серега отвечать на вопросы подаренного судьбой билета — заминка. Непосредственно перед ним совершал попытку удовлетворить государство один из немногих поступивших «романтиков». По всему было видно, что дела у «романтика» шли отвратительно. Цвет лица его менялся периодически — с багряно-пунцового на что-то бледно-раннетоматное, при этом нервно подергивалась голова, наблюдалось судорожное вращение зрачками и частое-частое смыкание век. Если описать эту сцену с привязкой ко времени, выглядело это следующим образом: в ходе устного изложения преподавателем вопроса по лицу «романтика» можно было изучать динамику вегетативного развития помидора. Как только преподаватель горестно замолкал, дополнительно включались механизмы подергивания головой и ускоренного неизвестно кому подмаргивания веками обоих глаз одновременно (в моменты наибольшего раскрытия век можно было наблюдать вращательное движение зрачков). По-видимому, «романтик» именно так представлял себе творческие муки Резерфорда. Отдельно стоит остановиться на конвульсивных движениях головой. Здесь есть один нюанс. Все дело в том, что некоторые из особо талантливых «романтиков» умели так разжалобить преподавателей (внезапная смерть от неизвестного науке заболевания сразу нескольких родственников, разрушение беспощадной стихией родного дома в городе Киев, засуха в Ленинградской области и т. д.), обосновывая необходимость своей поездки домой именно в этот отпуск и соответствующей необходимости получения им заветной «тройки», что преподаватели иной раз строили процесс извлечения знаний следующим образом. Сердобольные преподаватели формулировали вопрос и затем сами же на него отвечали, иногда внося в ответ заведомо ложные утверждения, попутно осведомляясь у экзаменуемых, согласны ли те с их ответами. Экзаменуемым романтикам оставалось только важно утвердительно кивать головой. Если кивок совпадал с заведомо ложным утверждением, экзаменуемому объяснялось суть его заблуждений и экзамен продолжался. Некоторые экзаменуемые и здесь достигли определенного мастерства: научились кивать таким образом, что со стороны было непонятно, согласен ли экзаменуемый с ответом экзаменатора, и этим радостно пользовались самые сердобольные из преподавателей: «Вот и я бы на вашем месте не согласился (согласился) с данным утверждением!!!». Организованный таким образом процесс экзаменации выглядел достаточно убедительно и заканчивался благодушным друг к другу отношением обеих сторон. Но такое случалось достаточно редко и получалось у особо одаренных. В рассматриваемом случае что-то не срабатывало — кивки не удавались. Осознав это, «романтик», ища спасительную соломинку, скроговоркой «зашептал» на всю аудиторию: «А еще, Галина Иосифовна, дядька Петро в прошлом месяце помер…» По лицу Галины Иосифовны уже давно текли слезы, но рука при этом твердо выводила вердикт «неудовлетворительно» в экзаменационной ведомости.
Однако именно благодаря этой неистовой «бесчеловечности» военные в большинстве своем стали специалистами вопреки ухищрениям лиц военноначальствующих. Благодаря отцам-командирам военные приобрели другие качества, которые, безусловно, пригодились в последующей офицерской службе. Взять хотя бы такое качество, как изворотливость. Очень многогранное качество, являющееся не чем иным, как проявлением инстинкта самосохранения, первоначально дарованным свыше и подлежащим непрерывному развитию в процессе жизни индивидуума, а особенно в процессе службы этого индивидуума. Вот, к примеру, вызывает вас высокое командование на командный пункт, брызгает слюной, машет телефонной трубкой засекреченной связи: «Где связь, капитан, до „первого“ не могу дозвониться и войска уже д-е-ся-ть минут без управления! Без управления М-н-о-й!!! Вы хоть на что-нибудь способны, капитан? Кстати, как ваша фамилия?» Какой-нибудь штатский инженеришка был бы тут же с позором раздавлен, размазан, истерт ногами, вроде бы обыкновенными конечностями, но прикрытыми штанами с лампасами, и поэтому чрезвычайно значительными. А вы? Сначала вы громко и четко называете свое воинское звание (тут уже никуда не денешься, звание надо называть четко — в званиях генерал разбирается, а они, звания эти, предательски обозначаются на погонах специальными условными знаками и являются как бы приставкой к фамилии военного на всем протяжении его службы), но перед тем как называть фамилию вам надо обязательно представить во рту горячий клубень картошки и только затем громко гаркнуть свою фамилию. Например: «Капитан Пр-о-а-р-и-ов (Просвиров), товарищ генерал!» И пока он не успел произнести что-нибудь наподобие: «Как, как?» берете инициативу в свою руки: «Разрешите мне самому проверить, товарищ генерал, тут что-то не так, я только что из аппаратной — средства связи функционируют исправно». Это при том, что у вас в важнейшем направлении рухнул целый радиорелейный участок, который уже полчаса как восстанавливают и неизвестно когда восстановят. Надо как-то выкручиваться, максимально отдалить мгновение начала глумления над своей судьбой, а там глядишь все засинхронизируется и заработает. Поэтому вы перехватываете из рук начальственных особую телефонную трубку, убеждаетесь в полной ее безжизненности, со значением дуете в нее, а затем придаете лицу своему выражение еще более озабоченное и строгое: «„Фигура“ — „Браслету“ ответьте. Але, але, „Фигура“, слышу вас! Что у вас там такое случилось? Был кратковременный сбой синхронизации? А-а-а, понятно. Ну, давайте проверим связь с „Гетманом“ (назывался позывной еще большего начальника). Да, да товарищ генерал-полковник, капитан Пр-о-а-р-и-ов, проверка связи. Григорий Петрович никак до вас не может дозвониться. Передаю ему трубку. Что? Понял, передам товарищ генерал-полковник». И хлоп трубку на аппарат перед носом озадаченного высоковоенноначальствующего, с четким докладом: «Товарищ генерал, „первый“ просил передать, что решил принять руководство учениями на себя и просил его и войска в течение двух часов не беспокоить». Лицо генерала начинает искажать понимающая улыбка, в глазах появляются оттенки сыновнего почитания: «А-а-а, опять подкинул вводную в войска — якобы убили меня. Это он, старый пень, любит — войсками порулить, молодость вспомнить. Идите, капитан. Хоть отдохну пару часиков». И уже никакой он не высоковоенноначальствующий, а добрый такой дедушка. И вами доволен. Угроза нависшая над вами миновала. А за два-то часа военные если даже «релейку» не осилят, то уж провода-то через непроходимые болота точно протащат, успеют они все вовремя.
И, как правило, вопиющая эта изворотливость остается безнаказной. Войско действует по своему усмотрению, а значит, вполне осмысленно, никто ему не докучает глупыми вводными, а генералы, надеясь на полководческие таланты друг друга, благочинно отдыхают. Вот такая вот прохиндиада. Особая, по-военному циничная и изощренная. Зато вы по-прежнему живы и даже ползете себе тихой сапой по карьерной своей лестнице. Ползете все выше и выше, отвоевывая для себя любимого ступеньку за ступенькой.
А зачатки развития этого чудного качества прививались следующим образом. Рассмотрим только один из методов (на самом деле их было великое множество). Один из военноначальствующих имел, например, такую привычку-метод: проходя мимо подчиненного военного, любил он огорошить его каким-нибудь неожиданным вопросом. Если военный замешкался, не нашелся сразу с ответом или начинал что-то вяло мямлить — стоп, начиналось копание в душе военного, вспоминалось сразу все негативное из недавнего его прошлого. И ежели этого оказывалось недостаточно для формирования полного комплекса вины военного перед отчизной, то из карманов извлекались особые записи и анализировалось поведение военного за предыдущую пятилетку. Кончалось это всегда каким-нибудь взысканием. Те, кто уже понял эту начальственную особенность, вел себя адекватно и в немилость в таких ситуациях никогда не впадал. Приведем пример. Шел как-то темным зимним утром Серега в составе группы на уборку территории от нападавшего за ночь снега. Вдруг прямо по ходу движения начали прорисовываться знакомые очертания военноначальственной фигуры и вскоре раздался родной такой рык: «Просвиров, почему шинель без хлястика?» Вот так. В темноте. Спереди! Заметить отсутствие хлястика?! (Хлястик, для непосвященных, это особая деталь воинского туалета. Крепится она сзади к одетой на военнослужащего шинели и ограничивает величину ее (шинели) заднего просвета. Подчеркивает талию военнослужащего, не опоясанного ремнем. Поддерживает ремень опоясанного военнослужащего).
— Так ведь холодно, товарищ подполковник! — мгновенно и громко отреагировал Серега.
— Понял, — изрек военноначальствующий в походном выдохе и, не снижая темпа своего встречного передвижения, вскоре исчез из видимости.
В общем, вот такая была школа. Но иногда учителя расслаблялись и сами становились жертвами воплощения принципов и методов, которые они же усердно культивировали. Приведем один такой пример. Пример, в котором опять фигурирует хлястик. (Так ведь всегда бывает. Только начни сыпать разнообразными примерами — появится необходимость разъяснять пытливому читателю глубокий смысл специфических военных терминов. Хорошо, что относительно хлястика читателю все уже известно).
Так вот, в первые годы обучения хлястики-шинельные были объектами товарного обмена, наподобие каких-нибудь цветных камешков правильной формы у дикарей затерянного в джунглях племени, имевшего непродолжительный контакт с цивилизацией. На хлястик-шинельный можно было выменять бутылку молока, на два — бутылку молока с пресловутым батоном и т. д. А механизм превращения хлястика-шинельного в дефицит был чрезвычайно прост — достаточно хотя бы одному военному его где-нибудь потерять. Какие шаги предпримет военный, чтобы найти хлястик-шинельный? Да никаких. Воспитанный в лучших традициях, он, улучив момент, осуществит съем сразу двух (а то и трех!) хлястиков-шинельных с шинелей своих товарищей, висящих (имеются в виду шинели) в специальных, содержащих множество бирок, шкафах, благо военноначальствующие всегда трепетно отслеживали, чтобы шинель висела в этом шкафу под индивидуальной биркой, содержащей исчерпывающую информацию об индивидууме-владельце, обязательно экипированная хлястиком-шинельным (так прямо и заявлялось: «Шинели без хлястиков в увольнение отпущены не будут!»). И как только первый несанкционированный съем хлястика-шинельного осуществлен — все, можно считать, что лавинообразный процесс запущен. Вскоре хлястики-шинельные исчезают с шинелей, хранящихся на складах, а потом и с прилавков военторга. И, наконец, превращаются в объект натурального обмена. Об этом мы уже упоминали.
Вот теперь, когда даны все необходимые пояснения, можно наконец и рассказать о потерях военноначальствующих, понесенных ими от своих же методов. Собрались как-то военные на зимние учения в лагеря. Вечером перед неожиданной тревогой (назначенной на шесть часов утра) с последующим полевым выходом военноначальствующие как всегда приступили к идеологической обработке военных. Военноначальствующие взывали к реанимации совести военных, призывали «поскрести по сусекам» и вывесить объекты стратегического резервирования на шинели, а шинели вывесить на ночь в специальные шкафы под его, мол, военноначальствующие гарантии. Гарантии состояли в обещании выставить на ночь дополнительный пост охраны хлястиков-шинельных.
Утро. Неожиданный тревожный подъем в заблаговременно объявленное время. Получение оружия. Построение, проверка экипировки. На лицах военноначальствующих проступает неподдельный ужас с налетом удивления — на шинелях военнослужащих отсутствуют хлястики!!! Не на всех, конечно, но на большей части их общего количества.
Далее следует оживленный диалог многих лиц. Военноначальствующие — дневальному:
— Да как же это такое-то вот? Как же так могло произойти? Ты же стоял, скотина?!!!
Дневальный (рослый нескладный парень, рост — 2,02 м, благодаря которому и носил кличку «Агдам», по названию популярного в пьяные те времена винного напитка, стоящего 2,02 руб.) — начальству, заикаясь и разводя руками-лопастями ветряной мельницы:
— Ст-оять-то я ст-т-оял! А х-х-у, тьфу, а ч-т-то тто-л-ку-то!
Военноначальствующий — строю (нормативная транскрипция):
— Первый раз вижу такой долбаковский курс! Два года уже служат, а такого при-ми-тив-не-йше-го вопроса, как обеспечение собственного туловища элементарным хлястиком, решить до сих пор не могут. Старшина, мы уже не укладываемся в нормативы, выводите этих бестолковых военных на улицу в чем мать родила (имелось в виду — без хлястиков-шинельных).
Военные уже начали сбегать по лестнице на улицу, когда из канцелярии курса, служившей убежищем военноначальствующему брату, раздался пронзительный в безысходности своей рык раненного в живот мамонта. Затем из канцелярии медленно выпало содрогающееся в экстазе тело самого военноначальствующего, при этом перекошенный рот головы его тела в бессильной злобе глотал насыщенный недавно прошедшей ночью казарменный воздух, а в руке военноначальствующего обреченно извивалась его шинель — без хлястика-шинельного!!!!!!!!!!
Вот так. Вот такие вот иногда возвращались бумеранги. А все же зря военноначальствующие завидовали преподавателям. Внешне работа выглядит, конечно же, «непыльной». И опять же это заветное: «Работаю дома».
Превратности преподавательской судьбы Серега впоследствии ощутил на себе в полном объеме ближе к закату своей военной карьеры. Ощутил эту переполняющую радость — петь соловьем по восемь учебных часов в день. Но соловью-то, ему что? Он весь во власти инстинкта — трелирует себе самозабвенно о том, что в данный момент в голову его птичью придет. Однако все равно восемь часов подряд не может, даже свою божественную чушь — проверено и отхронометрировано.
Особенность же преподавательского «пения» состоит в том, что «петь» приходится по делу и порой действительно все восемь часов. А для этого дело надо делать хорошо и много. Дело может состоять в необходимости приобретения и постоянного совершенствования глубоких знаний, например, обширных разделов современной математики, математической физики, микро- и нанотехнологий и т. д. И внимают твоему пению, в большинстве своем, не балбесы, грезящие о тисненной корочке липового диплома, добываемого в течение пяти лет множеством методов и уловок, обобщенно звучащих: «ну как-нибудь», «дяденька, поставьте троечку»… А внимают строгим речам твоим индивидуумы, наделенные пытливыми умами, уже какими-то своими представлениями и, самое главное, желанием стать действительно «классными специалистами». Радует, что пытливые эти особи не переводятся в родной природе, несмотря ни на какие смены общественно-экономических формаций. Только вот обидно, что в нынешнее время эти пытливые особи, вдосталь напитавшись, быстренько «сваливают» за пределы родной отчизны. Ждут их за этими пределами особые стимулы.
А в неправильную эту советскую эпоху ведь какие особые стимулы-то были? Ну конечно, профсоюзные путевки от Тихого океана до берега Черного моря в зависимости от глубины трудового вклада были почти всегда. А так, активным людом в основном двигал карьеризм, например, работа в знаменитом ОКБ, где продвижение вверх по иерархической лестнице хотя бы на одну ступеньку в десятилетие уже считалось достижением. Несмотря на то, что каждая ступенька добавляла какой-нибудь десяток рублей к зарплате и пару сотен к геморрою. Ну и что, тогда ведь разница в оплате труда квалифицированного рабочего и директора предприятия не носила многопорядкового характера. И не надо забывать про рост административного ресурса по мере карьеро-восходящего движения. А административный ресурс у нас всегда о-го-го как ценится. Будет у вас этот ресурс, вам, к примеру, тут же предложат государственную дачу, а может даже и не одну. Чтобы, значит, для разных сезонов служили они вам, всячески способствуя поддержанию вашего драгоценного административного здоровья.
В правильные сегодняшние времена внешне все в принципе осталось по-прежнему. С небольшими нюансами, с такими, например, что доходы топ-менеджера крупной компании могут в десятки раз превышать зарплату рядового сотрудника той же компании. Резко возросло благосостояние специалистов в области информационных технологий (поневоле поверишь в сказку о пришествии к нам постиндустриальной эпохи). Многие из этих тружеников не испытывают никакого денежного дискомфорта, находясь вне резервуаров административного ресурса, ежедневно работая в удобное для себя время над ростом своей уникальности. А уж если уникальности удается удачно «свалить за бугор»…
Вот и приходится преподавателю в разные времена носить с собой на занятия очень много «лишних» знаний в расчете и тайной надежде на встречу с пытливым обучаемым. Практика показывает, что излишество это может порой доходить до 70 % от общей суммы необходимых преподавателю знаний и все равно нельзя останавливаться. Все это надо непрерывно обновлять, а это и есть запас профессиональной прочности. Вот поэтому и надо отдавать себе отчет, господа-товарищи военноначальствующие, что работой «препода» способен заниматься далеко не каждый. И учитывать это при расстановке кадров в интересах хоть какого-то роста так называемой боеготовности. Пока же учет интеллекта нередко производится следующим образом:
— Зачем вам понадобился здесь шлагбаум? Вы все умничаете? Поставили бы на дороге толкового майора и дело с концом. Вон он идет, толковый этот, недавно из академии к нам прибыл. Вот и поставьте его вместо шлагбаума. Пусть вначале проявит себя, а потом уже кичится своим академическим образованием.
А насчет «Работаю дома», — нормальный «препод» там действительно работает. И дома, и в библиотеке, и везде, где есть возможность присосаться к нужному информационному ресурсу. Только это очень уж специфичная работа и одних познаний в арифметике, пусть даже очень хороших познаний, может оказаться недостаточно.
Парад праздников
Как много в жизни военной случается праздников! А все потому, что праздники военного абсолютно не совпадают с официальными государственными праздниками, придуманными официальными лицами для гражданского населения. А поскольку праздников для гражданского населения придумано не так много, все оставшиеся дни в году — это праздничные дни, предназначенные исключительно для военных.
Причины подобной инверсии состоят в следующем. Подготовка военного к официальному празднику гражданского населения начинается загодя. Его учат правильно стоять в оцеплении, обеспечивая упорядоченное шествие граждан. Поза фигуры его должна демонстрировать мощь наших вооруженных сил, но при этом в ней, в позе, ни в коем случае не должно просматриваться и тени какой-либо агрессии. Идет процесс обогащения примитивного лексикона военного такими словами, которые позволяют ему быть правильно понятым гражданским населением, доступным военному для общения только по праздникам. Военного долго учат быстро находить нужного цвета флажок и таким образом позиционировать его, чтобы радостному взгляду гражданского населения, взирающего на трибуну явилась вдруг какая-нибудь картинка (дань моде, порожденной московской олимпиадой). Веселых картинок запланировано много и флажков у военного много и еще ему надо помнить все команды и уметь привязывать их смысловую часть к конкретным физическим действиям на уровне рефлексов (как в опытах профессора Павлова — если красная лампочка зажглась, то в руке у военного должен появиться зеленый флажок. И наоборот. Дабы не было в жизни военного никакого упрощенчества и примитивизма). А чего ему еще делать-то? Военному-то? Он ведь и предназначен для того, чтобы всю жизнь пытаться что-то правильное сделать по неправильно отданной команде. Сегодня, положим, нужный флажок доставать, а уже завтра наносить прицельные ракетно-бомбовые удары по мировому империализму. Это для военного задачи приблизительно одинакового уровня сложности. А еще, к примеру, военноначальствующие могут на время праздников быстренько переделать военного в некоего праздничного спортсмена. Праздничный спортсмен — это такой рослый, плечистый и жизнеутверждающий идиот. В канун праздника военному в срочном порядке выдают синее советское спортивное трико с отвисающими коленками, шапочку, издалека похожую на спортивную, резиновые тапочки (типа — кеды) и большущих размеров флаг. Тщательно облачившись во все выданное и взяв в свои крепкие руки флаг, военный изображает на морде своего лица предельно счастливую улыбку. Всем своим видом, в составе группы, таких же как и он жизнерадостных идиотов, военный должен символизировать счастливую судьбу, выпавшую на долю советской молодежи и нарастающую мощь советского спорта. Ну и, естественно, всякая символизация, если она желает выглядеть достоверно, требует от военного тщательной подготовки в длительное время. И военный все это отдает. А куда деваться, если требует? И все в ущерб своему обучению «тому, что необходимо…». И за бесплатно все. Справедливости ради надо отметить, что когда действо это заканчивалось, праздничные спортсмены, и без того одаренные рукоплесканиями партийно-хозяйственных элиты города, непременно награждались: в собственность им доставались резиновые тапочки с коленчатым трико. Партийно-хозяйственноой элите ведь ничего не было жалко для этих молодых удальцов. В счет будущих поколений военных клоунов отбирается только флаг и уже приобретшая вполне спортивный вид шапочка. Но если шапочка все же приобретает совсем уже непрезентабельный вид и сильно воняла потом, специально выделенный для ее экспроприации эксперт, может милостиво эту шапочку клоуну даже и оставить: «Носи, военный! Нам на оборону ничего ведь не жалко!»
Вот и съеживается душой военный перед праздниками в ожидании очередной, затеянной против него пакости. И она приходит! Если не извне, так изнутри — это уж неизбежно. Ближе к празднику военноначальствующих начинает ломать в лихорадочной истоме:
— Неужели нет разнарядки на спортсменов?
— Ох, нет!
— Может тогда сами чего-нибудь замутим? Ну, к примеру, где-нибудь какое оцепление выставим?
— Надо бы, да боюсь, не поймут.
— Может хоть на базу куда маханем?
— Да ты что? Там же хоть и всегда пьяные, но вполне нормальные советские люди — у них праздники с выходными совпадают.
— Ладно, придумаем что-нибудь у себя внутри.
И надо сказать «придумки» эти разнообразием не отличались. Если еще точнее — разнообразия не было и в помине. А откуда ему взяться? Армия — это заповедник однообразия. Никакой мимикрии. Есть даже труды философствующих военных, воспевающих красоту однообразия. В рассматриваемом случае эстетическая категория красоты однообразия включала в себя подъем на час позже обычного при полном отсутствии физической зарядки, два яйца на завтрак, построение в парадной форме на плацу, вынос знамени, оркестр, барабаны, поздравления из уст начальственных, восторженные крики «У-рр-а» и многочисленные конкурсы. Конкурс на наилучшее прохождение строевым маршем в глубоком молчании. Конкурс на наилучшее прохождение строевым маршем с громким пением первой песни. Конкурс на наилучшее прохождение строевым маршем с еще более громким пением второй песни. И так далее до предтечи обеда. Предтеча обеда заполняется шоу подсчета балов и очков военноначальствующими арбитрами. За ними было забавно наблюдать еще во время маршей и хорового пения. Они по очереди скатывались с трибуны при прохождении «своего» строя, отчаянно жестикулировали, что-то взволнованно кричали, пританцовывая вдоль колоны равнодушно-тупо марширующих военных. Цирк! Вот и сейчас военноначальствующие так же эмоционально делят баллы, размахивая руками и дергая головами в своем «узком круге ограниченных людей», толпившемся на трибуне. И были военноначальствующие действительно искренними в своих переживаниях. У здравомыслящей части военных подобная эмоциональность всегда вызывала удивление, ну еще понятно когда эта какая-то суперпроверка, от результатов которой зависит судьба отдельно взятого военноначальствующего. Тут-то что? Обычные, садо-мазохические праздничные мероприятия для военных, которые завтра всеми будут забыты и ни в какой отчетности никогда не всплывут.
— «Нет, это какие-то клинические случаи, думали про себя здравомыслящие военные (были тогда и такие, но по мере продвижения их по служебной лестнице, ряды их очень резко редели), наблюдая абсолютно счастливую физиономию лица пятидесятилетнего полковника, подразделение которого набрало на два балла больше чем другие — может быть, мы, конечно, чего-то не понимаем, молодые ведь еще… Ну а когда постареем и поймем, наверное, тогда уже и надобно будет в клинику собираться».
Слава Богу, что впоследствии хотя бы некоторые из когда-то здравомыслящих военных так и не прониклись этими нечаянными радостями бесноватых военноначальствующих. Не стали им близки эти радости. А потому и в клинику эти многие не попали. Но некоторые все же прониклись радостями и попали в соответствующие приобретенным заболеваниям клинники. Ну что ж, это еще раз доказывает, что случаи эти были сугубо медицинскими. С точки зрения технического рационализма их было никак не объяснить. Но наблюдать и лечить эти болезни нужно обязательно. Если не лечиться, то в периоды сезонных обострений в голове военноначальствующего может произойти подмена понятий и сбой в системе целеопределения. Военные очень часто наблюдали, например, когда какой-нибудь военноначальствующий в период весеннего обострения вдруг начинает убеждать и себя, и других, что доселе главные задачи, стоящие перед коллективом стали вдруг второстепенными, а второстепенные в одночасье превратились в главные.
Так, уже в почти в самом конце своей военной службы, Сергею пришлось стать свидетелем следующих событий. Проходило обычное собрание одной из кафедр в одной из военных академий. Начальник, отчитав какое-то очередное заунывное послание кафедре, перешел к вопросу о предстоящем весеннем кроссе и задачах кафедры, неразрывно связанных с таким эпохальным, особенно для профессорско-преподавательского состава, мероприятием. Чувствовалось, что начальником была проделана серьезная многодневная информационно-аналитическая работа: задачи ставились индивидуально из расчета того, что в итоге кафедра, наконец-то, должна занять третью строчку в общеакадемическом рейтинге спортивных достижений. Дошла очередь и до пожилого (по военным меркам) профессора, лауреата всевозможных премий и очень уважаемого в научных кругах человека:
— Григорий Степанович, кафедре нужно, что бы вы завтра на кроссе уложились в требуемый норматив.
— Позвольте, я только после болезни и у меня есть официальное освобождение от этого мероприятия.
— Григорий Степанович, это нужно кафедре.
— Какой такой кафедре, позвольте спросить? Вот, к примеру, Сергей Борисович, вам нужно чтобы я завтра усираясь и разбрасывая сопли по трассе бежал навстречу своему инфаркту. Не нужно? Я так и думал. А вам, Валерий Остоевич? Тоже не нужно? (Далее по списку кафедры). Так какой же кафедре это нужно, позвольте спросить?
Но все же дожал его бесноватый начальник. Побежал профессор. Догнал-таки свой инфаркт. Слава Богу, выжил и возобновил полезную свою научно-педагогическую деятельность. Но в результате — в течение года безмолвствовало целое научное направление, пришлось полностью менять расписание занятий, адьюнктам менять научных руководителей, выпускникам — дипломных. Но поскольку профессор выполнил свое основное предназначение — до финиша все же дотянул и в норматив даже уложился, кафедра переместилась с пятого места аж на самое что ни на есть четвертое. А почему не на вожделенное призовое-третье? Да потому что начальник забыл вписать самого себя в протокол. По вполне уважительной причине. По причине весеннего обострения. Вот так, один, которому этот рейтинг как капусте курага, добросовестно упирается не жалея живота своего, а другой, которому по причине обострения высокое место в спортивном рейтинге стало просто жизненно необходимо, так же просто чего-то там забыл и цена профессорского инфаркта оказалось резко заниженной. Военноначальствующему и бежать-то никуда не надо было — впиши себя в протокол и гуляй себе с умным видом в районе старта. Услужливые люди в среде военных ведь всегда найдутся. Найдутся, подсуетятся и с готовностью заполнят соответствующие графы спортивной ведомости рекордными достижениями лиц военноначальствующих. А он, военноначальствующий забыл, видите ли, даже записаться в этот особый список. Понятное дело. Обострение, однако. И получилось, что не было его вообще на кроссе, хотя его многие видели: ходил в районе старта, с некоторыми даже за руку здоровался, приветливо улыбался и заливисто, озорно так смеялся. А раз не было, значит уклонился. А раз уклонился — баллы сняли, вернее, их просто не прибавили. Вот поэтому-то и только четвертое. Очень сильно переживал это забывчивый в обострении военноначальствующий. И получил-таки в переживаниях свой первый инфаркт! А поскольку никакими больше достоинствами, кроме обострений военноначальствующий этот по сути дела не обладал, то и уволили его срочно на пенсию по состоянию здоровья. И остался он вообще без какой-либо должности. Потому как на «гражданке» тоже, конечно же, есть начальствующие люди с обострениями, но встречаются они гораздо реже, нежели чем в военной среде. Поэтому-то уволенный военноначальствующий не выдержал дальнейшей конкуренции и остался не у дел. А оставшись не у дел, немедленно спился. Превратился в хронического алкоголика. Вот ведь до чего может довести следование всяческим обострениям. Вот что значит сложить лапки и не бороться. А другой начальник кафедры, которая уже десятый год пребывала на десятом спортивном месте, очень даже распрекрасно себя чувствовал. Потому как, не подвержен он был никаким обострениям. Ну, конечно, раз в год предпринимались попытки его за этот самый рейтинг укорить на каком-нибудь высоком совещании. И ровно раз в год он, разводя руками, говорил одну и ту же фразу:
— Ну не спортивная у меня кафедра, одни хлюпики собрались яйцеголовые. Заморыши. Только наука их интересует. Никак не приучу их круги по «сосновке» наматывать.
Но это он так, что называется, только для отвода глаз. А хлюпики и заморыши у него были ого-го. Вполне здоровыми и подвижными были эти яйцеголовые. И учебный процесс налажено у них струился, а кандидатов с докторами кафедра «выпекала», как блины. Поэтому и не поминали этого начальника лихом никогда боле, только раз в год «ставили на вид» и «настойчиво рекомендовали». Но и то больше для вида. На какой-нибудь результат никто из «ставящих» и «рекомендующих» уже давно не надеялся.
Ну да ладно, вернемся к нашему развеселому военному празднику. Особенность праздничного обеда военных состояла в добавлении к традиционному первому блюду с плавающими по поверхности ржавыми кругами комбижира и кусковому варианту слипшейся перловки с пережаренным куском старого сала, составляющими блюдо № 2, какого-нибудь экзотического для северо-западного региона фрукта-десерта. По одному — на нос. Например, каждому носу полагалось по сморщенному в тоске своей яблоку. Тоска напала на яблоко из-за длительного срока хранения. Ведь летом, когда яблочко было свежим и румяным, никаких праздников не было и в помине. А к Великому октябрю-ноябрю яблочко уже успело порядком пригорюнится на отстойной овощебазе какого-нибудь забытого всеми военного округа. И поскольку процесс в тоске увядания принял уже ярко выраженный характер с угрозой мгновенного перехода в фазу наглого гниения, возникла вдруг острая необходимость наградить этим фруктом военного. Но нельзя же просто так награждать! Награждать военных можно ведь только по случаю какого-нибудь праздника. Поэтому надо еще подождать. Выдержать паузу перед награждением. А наградив военного можно будет уже с облегчением отчитаться. Прямо так и написать в отчете: «В связи с надвигающимся праздником Великого октября-ноября в в/ч ххххх отправлено три тонны яблок нового урожая согласно нормам обеспечения пищевым довольствием военных в праздничные дни». И неважно, что во время «выдерживания паузы» треть отправленного уже сгнило. Кто там будет считать? Скажите спасибо, что мы вообще что-то прислали вам. Хоть чем-то наградили мы вас. От других-то вообще ничего не дождешься.
Иногда неожиданные пищевые подарки случались и в периоды официальной повседневности, как мы уже отметили, являющейся праздником для военных. Как-то с настораживающим постоянством на столах стала вдруг появляться настоящая баранина со специфическим своим запахом и быстро остывающим жиром. Был у этой баранины один недостаток, все попытки прожевать ее до того состояния, когда становится возможным счастливый миг ее падения на дно организма, заканчивались безнадежным выплевыванием каучукообразной массы обратно в тарелку (и это при наличии полного комплекта еще акульих зубов). Но ведь суррогаты запаха и вкуса во время пережевывания, безусловно, присутствовали!
Секрет такой невиданной доселе щедрости открылся военным в первом же после наступления чуда наряде по столовой. На темной бараньей туше, доставленной группой военных из холодильника в мясной цех, стоял штамп, свидетельствующий о забитии несчастного животного в Новой Зеландии в 1951 году от рождества Христова. То есть ровно за десять лет до рождения большинства из присутствовавших военных. И, наверняка, в момент своего умерщвления было это животное уже далеко не молодо, спряталось где-нибудь в хлеву в надежде тихо вспомнить события минувшей жизни и спокойненько так самой по себе тихо издохнуть. Не тут то было! Нашел таки старушку злобный новозеландский скотник и забил в неистовом капиталистическом порыве получения прибыли любой ценой. А потом темнеющую тушу купило наше заботливое государство, поставило на нее синюю печать и бережно поместило ее в стратегические свои запасы — будет таперича чем полакомиться в тяжкую годину ядерной зимы.
Но наступает момент, когда сроки хранения стратегических запасов начинают превышать все возможные неразумные и невозможные разумные пределы. Надо что-то срочно предпринимать. Да и новозеландские фермеры начинают проявляют беспокойство — мол, некуда им стало ветеранов овечих своих отар девать, покупайте, мол, по дешевке. Да мы давно уже готовы прикупить у вас этих старичков, но куда же девать старые запасы? Неужели выбрасывать? Ведь они еще даже не начали разлагаться! Вернее разлагаться начали уже давно, но ведь еще даже не смердят как следует. Ща-а-з, выбрасывать! Вы что забыли?! У нас же есть военные! Их ведь тоже кормить чем-то надо…
Ну вот, праздничный обед удачно завершен. Теперь у военного есть уставные сорок минут, в течение которых его не имеют права существенно беспокоить. А через сорок минут наступает радостное действо всеучилищного спортивного праздника, посвященного празднику официальному, то бишь, государственному. Во время проведения этого праздника военные непрерывно бегают и прыгают, равномерно распределившись по всей территории военно-учебного заведения. Иногда так разойдутся, что собственной территории уже начинает не хватать и спортивное действо распространяется на окрестные парки и скверы. Там у военных появляются зрители, причем не всегда доброжелательные. И недоброжелательных вполне можно понять. К примеру, представьте себе такую картину — прогуливается молодая мамаша по тихой аллейке Таврического сада с малолетним своим чадом, а тут навстречу из-за поворота вываливается в несокрушимом беге, грохочущая тяжелыми сапогами толпа потных военных с перекошенными борьбой суровыми лицами. Мамаша в испуге австралийского кенгуру отпрыгивает в кусты, попутно подцепив свое чадо. Военные продолжают, спортивно празднуя приближаться к финишу. Силы военных на исходе. Военные глубоко сожалеют о том, что не умерли в детстве от кори. Приближение финиша катастрофически замедляются. Военные уже глубоко сожалеют о самом факте своего рождения. Сердца военных замирают и готовятся к остановке. Вместо дыхания из груди военных вырываются предсмертные всхлипы. За финишной чертой издевательским конканом гремит оркестр. Военные глубоко ненавидят оркестр, конкан и всю Францию. Ненависть помогает им пережить последние метры дистанции. Финиш. Медленно восстанавливается дыхание. Появляется надежда на лучшее. Лица военных постепенно становятся похожими на человеческие, но мамаша с ребенком еще не рискуют покинуть спасительные кусты. Наконец, чадо, преодолевая свой кратковременный, но всеж-таки глубокий испуг выглядывает из густой растительности и с любопытством обозревает акваторию парка, наводненную праздничными военными. По своему осмыслив происходящее, юное дарование вдруг изрекает: «Мам, смотли-ка сольдатов седня больсе, чем людей!»
Кульминация праздника заполняется выполнением особого, судьбоносного для всех военных упражнения на перекладине. Упражнение носило название, в котором раскрывались одновременно как требуемое от военного действие («подъем»), так и способ выполнения действия («переворотом»). Подъем переворотом был любимым упражнением всех военноначальствующих от мала до велика. За большое количество подъемов, выполненных переворотом, можно было выторговать у какого-нибудь военноначальствующего, в зависимости от его ранга, от одного увольнения до семи суток, добавляемых к отпуску. Поднаторев в спортивной гимнастике, Серега немедленно воспользовался необьяснимой начальственной страстью к столь интеллектуальному упражнению, состоявшему из двух этапов — подтягиванию (подбородок выше перекладины) и забрасыванию задницы за перекладину (приблизительно в то место, где только что была голова), символизирующее, собственно, переворот. В общем, словесное описание этого интеллектуального упражнения напоминало команду «Кругом!» в современной украинской армии: «Там дэ було рыло, нэхай будэ пердило! Круть-верть!»
Смех-смехом, а как-то, выполнив к 110-ой годовщине самого величайшего вождя пролетариата аналогичное количество и подъемов и переворотов, Серега был весьма ощутимо награжден продлением на несколько суток вожделенного для всех военных краткосрочного отпуска с выездом на малую родину.
— Вот ведь как! — думал он с удивлением. — То, что в стойку на этой же перекладине вымахиваю и большие обороты кручу, это — так, для кратковременных аплодисментов отдельных, близких к военно-спортивным кругам военноначальствующих, но не более того. Никаких наград и поздравлений. А вот много-много одних и тех же тупых подъемов переворотами это у них в цене. Этому всегда они радуются. Ну, что же, как говорится: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы нам на пользу.
Все, наконец-то, праздник завершается. Обессиленные военные толпятся в комнатах для умывания. В честь праздника из городской системы водоснабжения военным в дополнение к утреннему яйцу и обеденному фрукту-диссертному, выдавливается лимитированное количество горячей воды. Странное получалось провозглашаемое в те незабвенные времена единение армии и народа. Гражданское, в среднем меньше потеющее население, имело круглосуточный ежесекундный доступ к горячей воде, будь это дома или в кузнице коммунистического труда (исключение составлял какой-либо летний месяц, служивший данью некой национальной традиции, которой продолжают следовать и поныне). А военному, не выполняющему (в данный момент времени) по каким-либо причинам боевую задачу в полевых условиях, но ведущему достаточно подвижный и психологически напряженный образ жизни в одном ареале с пресловутым гражданским населением, милостиво позволяется побрызгаться теплой водичкой исключительно в выходные и праздничные дни. И то, только из под расположенного почти у пола крана — душевые кабины в зонах компактного проживания военных были тогда строго запрещены. Душевые кабины были атрибутами западного образа жизни и могли сильно пошатнуть идеологическую устойчивость военных. Вот поэтому их и не было. Отстойных этих кабинок. И военные, благодаря этому, идеологически никогда не раскачивались. Они лишь иногда тихонько колебались, но всегда только вместе с линией партии.
Наконец, слегка обмытые, валящиеся с ног военные расползаются по кубрикам (неизвестно как прилипший к суше морской термин) и сидят на табуретках в ожидании праздничного ужина, ничем впрочем не отличающимся от ужина повседневности. Почему военный в изнеможении не валится на пружинящую койку, а сидит, тупо хлопая воспаленными веками, на неудобной деревянной табуретке? Нельзя, на койку военный может просочиться только по команде: «Приготовится к отбою». Закон такой. Команда последует через долгих три часа. Только не подумайте, что при поступлении команды «Отбой» военному действительно что-то отбивают. Это команда является сигналом военному о том, что пора отбить сознание от жаждущего отдыха бренного тела, и выпустить его погулять по ночным крышам со строгим указанием о немедленном возвращении при поступлении такой долгожданной для всех военных команды, как команда «Подъем». Бывали случаи зацепов сознаний отдельных военных за какие-либо препятствия при возращении. Таких военных при подъеме всегда отличало бессвязное бормотание, бессмысленные невпопад перемещения и судорожная жестикуляция. При этом внешняя оценка состояния таких военных характеризовалась одной фразой — поднять-то их подняли, а вот разбудить почему-то забыли. Но все заканчивалось, в большинстве случаев, благополучно: слегка поцарапанное ржавой кровлей сознание, наконец, настигало марширующую куда-то физическую оболочку неразбуженного военного, упруго втискивалось в нее и действия «зомби» вновь приобретали оттенок осмысленности. А военному для повседневной деятельности ведь больше ничего и не нужно. Военному всегда достаточно было и слабого оттенка.
О радости пробуждения пока не хочется даже думать. Как хорошо, что до первой утренней, радостно поднимающей и жизнеутверждающей команды еще целая вечность крепкого бессознательного сна. Ну что же, праздник, наконец, завершен и, по-видимому, в очередной раз удался. По крайней мере, военноначальствующие довольны. Потирают они попеременно ладошки, в канцеляриях своих сидючи: «Как мы их, а? Ни одна сволочь об увольнении даже не заикнулась». В общем, все как в старом анекдоте, в котором военноначальствующий дает военному лом и говорит: «Вот, товарищ военный, вам лом. Идите и подметите плац». «Так, может лучше веником? — неуверенно спрашивает военный. — Веником-то, поудобнее, немного будет». На что военноначальствующий грубо отвечает военному: «Мне глубоко наплевать на то, военный, как тебе будет удобно. Для меня главное это то, чтобы ты скорее зае…ся! Устал, в смысле».
Да, воистину права солдатская поговорка повествующая, о том, что для военного праздник — это что-то вроде, как для лошади свадьба — голова в цветах, а задница в мыле.
Праздник парада
Военные традиции бывают очень сильны. Хорошо когда сильны святые традиции, ну, к примеру, традиции воздания почестей памяти павших в боях за Родину. Но есть удивительно живучие в своем идиотизме традиции, одна из них — проведение военных парадов в том виде, в котором они до сих пор проводятся. И, к сожалению, парад в Великий день Победы не является исключением. Не туда мы деньги тратим. Надо бы сэкономить нам на этих бессмысленных парадах и глядишь хватило бы денежек, чтобы запустить, наконец, куда надо эту отстойную ракету типа «Булава». А то ведь сколько уже пытаемся, на смех всему миру, и ничего до сих пор путного не получается. Военные с промышленностью уже и так и сяк, поначалу вообще никак не удавалось ее запустить. Что делать? А давайте Президента нашего на очередную попытку пригласим, он у нас удачливый! Может полетит все же, эта сволочь, в высочайшем-то присутствии? Может испугается все же, зараза такая? Пригласить-то пригласили, но ведь чуть не убили своего Верховного Главнокомандующего эти военные! Слава Богу, все тогда обошлось. А военные тут же придумали сказочку о том, что вовсе не хотели и пускать-то они ничего. Оказывается, это был всего-то-навсего условный пуск???!!! Что это такое в армии никто не знает. Что такое условный обед или условное денежное содержание это всем военным давно знакомо, а вот пуск? Впоследствии, все же «Булаву» эту куда-то запустили, но опять же не из подводного положения как планировалось. Откуда это известно? Да ведь по телевизору же показали пуск с момента включения маршевых двигателей после минометного старта! Поверхность океана при этом совершенно случайно в объектив не попала. А раз случайно не попала, значит лодка неслучайно перед пуском всплыла. Все ведь очень просто. Иначе обязательно бы показали бурно вспененную морскую поверхность. Да, ладно, суть ведь не в этом. С поверхности так с поверхности. Но ведь через раз летает-то «Булава»-то эта. И всякий раз не туда куда ее запускают. Так и норовит она улизнуть с заданной для нее траектории. Военные ее, бывалыча, ждут-ждут на Камчатке, уже все глаза проглядели в свои бинокли, а она, негодница, все почему-то не прилетает. А значит уже залетела она куда-то еще. Где никто ее не ждал и не таращил в небо свои слезящиеся от нетерпения глаза. Больно уж своенравная она какая-то получилась. Казалось бы, давно уже миновала заря ракетостроения — время проб, ошибок, обилия неудачных стартов. Ан, нет. Похоже, заря наступила снова. А может шпионы похитили конструкторскую документацию на все наши предыдущие твердотопливные ракеты? Или документация эта сгорела во время пожара, как кинопленки с записями высадки американских астронавтов на Луну? Может наши конструкторы вновь создают все с нуля? В общем, много тут разных вопросов на которые пока нет вразумительных ответов. А может не надо ломать себе голову по поводу этих пусков? Оставить эту «Булаву» исключительно для парадов? И таскать ее туда-сюда по Красной площади во время праздников? Не пропадать же добру, в конце-то концов.
Конечно, никто же ничего не говорит — пуски ракет это сложное и опасное дело, а вот лихо отстучать сапогами-берцами по брусчатке, равняя сомкнутые ряды — это мы при любой ситуации в стране «смогем» запросто. «Смогем» то «смогем», но вот какой же ценой? И как на самом деле выглядит это «запросто»? Обывателю (а по совместительству еще и налогоплательщику), наблюдающему за сей торжественной церемонией, и в голову не приходит — во что обходится казне государевой (пополняемой, в том числе и за счет обывателя-наблюдателя) это абсолютно бесполезное, глупое и затратное мероприятие. Тем, кто всю эту вредную для страны показуху устраивает все ведь в обратном свете, повидимому, представляется. По крайней мере, очень хотелось бы в это поверить. Они-то там наверху думают, наверное, что парад это такая абсолютно не затратная и даже очень своеобразная форма отчетности перед налогоплательщиками. Как бы не так! Конечно, откуда там наверху могут знать всю подноготную этих дурацких парадов. Подлинный идиотизм этого действа пока недоступен для понимания лица, эти парады принимающего. А откуда оно может наступить это понимание? Вот представьте себе, сидел человек долгое время в большом своем кабинете и руководил мебельной фабрикой. Наверное, хорошо руководил. Наверное, именно по этому его вдруг заметило руководство страны и сразу поставило «рулить» министерством обороны. А какая собственно разница? Что мебель, что военные? Исходный материал-то один. Есть, конечно же, определенные нюансы, но это давно уже никого не интересует. Главное — это ведь знать общие принципы менеджмента. А толковые менеджеры нужны везде и в состоянии сделать успешным любое порученное им дело. Современная действительность постоянно подтверждает это. Действительность даже не так давно родила анекдот про великого менеджера всех времен и народов, знаменитого нашего приватизатора всея Руси — Чубайса (Кстати, а может это он украл секретные чертежи твердотопливных наших ракет? А что? Совершенно недавно в печать просочились сведения о том, что в состав возглавляемой им комиссии по приватизации всея Руси входили два действующих сотрудника ЦРУ!!!). Согласно анекдоту Чубайс молча садится утром в свою машину и на вопрос водителя: «Куда везти?», ничтоже сумняшись, отвечает: «Какая разница, я ведь везде нужен». Существует еще очень много примеров правильности такого подхода. Так у нас до недавнего времени крупнейшим в мире отечественным оператором сотовой связи руководил врач-ортопед, с отличием закончивший когда-то курсы менеджеров. И надо сказать, неплохо так руководил он этой абсолютно незнакомой для себя отраслью. Повысил он, говорят, даже капитализацию компании. И даже в разы повысил он ее. А это еще раз подчеркивает правильность непреложной капиталистической мысли о безусловной вредности знаний своей предметной области (объекта управления) для менеджеров верхнего (как-то, язык не поворачивается назвать это звено высшим) звена. И это давно уже ни у кого не вызывает никаких абсолютно сомнений. И все же… По поводу парадов. Давайте-ка рассмотрим этот вопрос немножечко поподробней.
Парад издревле рассматривался, как самая простая форма демонстрации боевой мощи вооруженных сил какого-либо племени, этноса или государства. Вот какую мощь имеет племя, этнос или государство, такую и демонстрирует, в устрашение соседям и для успокоения собственных соплеменников, соэтноситов или сограждан. С парадом племен и этносов более или менее все понятно. Парады у них проходят, чаще всего, в виде воинственно-устрашающих танцев вокруг костра. Перед началом парада на тела его участников наносится кроваво-красная боевая раскраска. На головы участников одеваются чучела голов злобно оскаленных хищников. Во время проведения парада его участники танцуют, потрясая режущим и колющим оружием, демонстрируют боевые выпады, войдя в экстаз они дико завывают, непрерывно испускают они воинственные крики и другие громкие звуки. На их мускулистых, бронзовых и покрытых рисунками злобных духов телах дрожат воинственно-багровые блики высоченного костра. Жуть! Враги наблюдают все это действо, выглядывая из далеко расположенных от парада кустов и нервно дрожат от нарастающего страха: «Н-н-н-ет, мы с этими уродами во-во-евать н-не бу-бу-д-дем. З-з-замочат ведь и-рр-ро-ды и не-с-с-с-просят как наш-ше п-п-ле-мм-мя называл-л-лось. Н-н-н-а-д-до держаться от них подальше…». И враги парадников немедленно исчезают из данной местности, оставляя неосвоенные ресурсы флоры и фауны на милость танцующих у костра. Вот вам, пожалуйста — вполне конкретная выгода от проведенного парада, при минимальных на него затратах.
А какую цель преследуют наши военные, громко топая ногами по брусчаткам и асфальтовым площадям? Чем наш современный парад отличается от парадов петровских времен? Только тем, что мушкеты стали немного посовершенней? Или топать стали громче? А как же техника? — спросит въедливый читатель. В этом то все и дело. На современном параде и должна демонстрироваться только-то управляемая минимальным количеством людей боевая техника. А в канун праздника или утром праздничного дня произвести пуски одной-двух баллистических ракет по специально оборудованным полигонам. Чуть-чуть потратиться на оборудование полигона, превратив камчатские болота в макет какого-нибудь американского города. Например, создать на полигоне точную копию города Вашингтон с Капитолийским холмом и торчащим из него Белым домом. Немного придется потратиться, конечно же, на подобное макетирование. А вот особых затрат на пуски не предвидится. Отдельные ракеты-то, они ведь все равно в течение определенного периода должны быть отстреляны с целью подтверждения надежностных характеристик всей поставленной партии. Они и отстреливаются. Но отстреливаются почему-то втихаря. Предупреждается об отстреле только узкий круг компетентных организаций, дается в особой прессе маленькая заметочка о том, что в такой-то период всем корабликам в такие-то райончики Тихого океана лучше бы не заходить. Мало ли что. Вдруг все же долетит? А затем тихонько так берется и производится запуск. Нет, на старте-то конечно все ревет и факелит реактивными струями, но в мире ничего не слышно. А почему так скромно-то? Почему гордо не объявить всему миру о предстоящем пуске в широкой печати? Пуск приурочить к какому-нибудь признаваемому большинством членов мирового сообщества празднику, например, ко дню Победы. И сделать пуск ракеты стратегического назначения неотъемлемой частью военного парада на Красной площади. Сделать пуск и показать по телевидению всему миру кадры с разделением боевых блоков (без ядерной начинки, разумеется) в районе нанесения удара и развороченный вдоль и поперек макет города Вашингтона. И этим действом, как бы немо спросить у всего мира: «Вы представляете, что могло бы быть с этой холмистой местностью, если бы мы к нашим ракетам сегодня перед стартом настоящие «ядреные» головки бы прицепили? Ну, к примеру, перепутали бы что-то спьяну? Вы же нас самыми главными на земле алкоголиками считаете? Вот и представьте тогда, что бы тут было, если бы мы вам взяли и тупо так подыграли. Запустили бы ракеты с «ядреными» головками, да не по учебному плану, а по боевому. А потом сокрушенно, как бы с великого бодуна, потирали бы разом вспотевшие лбы пред глазами уцелевшей мировой общественности и недоуменно разводили бы руками: «Как? Неужели Америки уже нет? Очень мы сожалеем об этом… Кто бы мог подумать, что так просто и быстро для нее все произойдет. А как же их противоракетный щит? Где их хваленые космические „зонтики“? Впрочем, не важно… Мы этого не хотели… Случайно как-то получилось. Ну выпили вчера малость… Семен у нас майора получил… Не знаете Семена? Напрасно вы так о Семене-то… Легендарная он у нас личность… Он этого майора шесть лет ждал! Ну и как тут было не выпить? В общем, выпили… Ну, а когда уж выпили мы… («Ну и что? И мы не хуже многих… И мы тоже можем много выпивать…» (В. Высоцкий), тогда и произошли эти досадные «глюки» с нашей памятью. Забыли мы все как-то разом и головки, и полетные задания поменять… Покорно просим нас извинить… И на старуху, как говорится, бывает проруха».
Вот как могло бы быть на самом деле. Хорошо, что этого не произошло. Но, вот ракетно-ядерный парад провести обязательно надо. Провести и спросить: «Ну а теперь-то вы отдаете себе отчет, господа стародавние капиталисты, кого вы все время упрекаете в ущемлении демократических прав и свобод? Вот и не суйте свой склизкий нос в нашу суверенную демократию!» Думается после такого вопроса, заданного прямо в лицо дерзновенным буржуинам было бы гораздо легче подписывать с ними договора об экономическом и научно-техническом сотрудничестве! А как иначе-то? После такого вот парада! Вот тут бы выгода сразу же дала бы о себе знать. И покруче, пожалуй, была бы эта выгода, чем от парада проведенного туземцами у доисторического костра!
Но нет, у нас все почему-то делается втихаря. И налицо — упущенная выгода. А все почему? Да потому что нет никакой уверенности, что ракета эта взлетит, а если взлетит, то нет никакой уверенности, что произойдет включение маршевых движков, которые должны вытащить этот аппарат на заданную для него траекторию. А где уверенность в том, что разделение произойдет в заданной точке и блоки потом попадают согласно полетному заданию? Нет ее, уверенности этой. А значит может получится мировой конфуз. В прессе, к примеру, по всему миру раструбим мы: «Щ-а-а-з, как ба-а-бахнем!», а на камчатский полигон-макет вдруг никто не прилетит. И что тогда? Как будет тогда с выгодными контрактами? Поэтому пока все пуски — все «по-тихонькому», без лишнего, так сказать, «шуму и копоти». Потому как нет уверенности. Зато у руководителей всегда присутствует очень большая уверенность в том, что военным все же удастся как-то пройти не упав, а если совсем повезет, то еще и красивым таким строем пройти, равняя дружные свои ряды по широкой площади мимо усыпальницы ныне опального вождя.
Так что же мы этой топающей ходьбой, собственно, демонстрируем? И кому? Не так давно ведь стало всем известно, что боевая мощь современной армии все больше и больше определяется не оголтелыми военными тяжело марширующими по вспаханному полю со штыками наперевес под ураганным огнем на, окутанные колючей проволокой окопы противника, а сложными стреляющими механизмами, начиненными компьютерными мозгами и обученными, человеческими мозгами управляемыми. И чем больше этих хитрых механизмов будет хитрыми зигзагами ползать по полю боя и над ним летать, непрерывно и точно постреливая, изрыгая из своего бронированного чрева губительный для врага огонь, чем быстрее и обученей у этих механизмов будут электронные и живые мозги, тем и будет большей эта самая боевая мощь. Некоторые классики когда-то утверждали, что все воинские успехи определяются, в основном, состоянием воинского духа, находящихся на поле боя военных. И эти классики были правы, но правы только для своего времени. Для времени, когда пуля еще была законченной дурой, а штык был все еще бравым молодцом. Сейчас акценты несколько сместились и воинский дух потерял свое первостепенное значение. Нет, он, конечно же, обязательно должен у военного присутствовать, но от него, от этого воинского духа, очень мало, что зависит, когда военных, к примеру, банально уничтожают в чистом поле из установки типа «Град». В таких случаях, дух очень быстро отказывается понимать, разрываемое в считанные секунды на куски бренное тело военного и мгновенно покидает его.
Вот поэтому-то, если мы все же что-то пытаемся во время наших парадов продемонстрировать, то ни одного пешемарширующего на площади быть не должно. К великому удивлению иностранных наблюдателей по площади должна проползти новейшая боевая техника, имеющаяся у нас, как правило, в одном экземпляре. При этом ползти она должна не безвольно. Не должны, например, демонстрироваться ракетные комплексы при импотентном расположении на них ракет. В ходе своего продвижения по площади ракеты должны приводиться в стартовое положение и угрожающе крутить головками самонаведения. Жерла танковых пушек должны непрерывно искать трибуны иностранных военных атташе и вести по ним огонь холостыми снарядами. А в это время на громадном плазменном экране должны демонстрироваться кадры боевого применения комплексов ПВО и установок залпового огня. В этих кадрах должны подробнейшим образом смаковаться последствия применения этого оружия: пачками падающие с небес «Фантомы», «Стэлсы», «Миражи» и прочая нечисть. При этом кадры должны содержать массовое падение вражеской авиации на землю, густо усеянную бесчисленными трупами жертв применения нашего сухопутного оружия. Трупы жертв должны быть беспорядочно разбросаны ровным слоем по многочисленным следам разрушений дорог, мостов и небоскребов. Лица трупов должны показываться крупным планом. На лицах трупов должен застыть в прощальной маске неподдельный, нечеловеческий такой ужас. Вот это парад! Вот это мы понимаем! А потом, чтобы хоть как-то вывести из трусливого оцепенения представителей иностранных делегаций пусть погремит, наконец, оркестр веселым маршем и пусть он помарширует еще вдобавок. Пусть придаст он процессу демонстрации нашей военной мощи праздничный характер. Мол, не от злости мы все это придумали, а исключительно от нашей общенациональной доброты. И любим мы посмотреть на все эти добрые наши дела исключительно в праздники. («Майн, гот! Что же они смотрят по будням?»).
И заметьте, такой парад требует минимальных затрат. Потому как в нем задействовано минимальное количество военных: только неполные экипажи боевых машин и оркестр. Но оркестр это ведь органичная составная часть парада, он ведь не оторван от основной работы. Это его основная работа и есть. Но таких парадов почему-то не устраивают. Все время пытаются загнать на эти бездарные парады как можно больше воинского люду. Думают, наверное, что так им все дешевле обойдется. Давайте разберемся: так ли это? А для начала рассмотрим: кто они, эти браво марширующие участники нынешних парадов?
Да, кстати, кто же это такие — участники? Чем они должны и чем будут вынуждены долгое время заниматься? Начнем рассмотрение этого вопроса по порядку. Вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: кто же составляет большинство парадно марширующих войск? Внимательный наблюдающий сразу ответит — курсанты военных училищ и слушатели военных академий. Если говорить о слушателях, то это та категория военных, которая не исполняет функциональных обязанностей, соответствующих офицерскому званию (при поступлении в академию военные сразу предупреждаются новым начальством в форме дружеского совета: «Настойчиво рекомендую вам забыть, какими вы, еще совсем недавно, были крутыми воинскими начальниками. Вы, теперь — рядовые офицеры»). Эта категория военных повышает уровень своего профессионально образования, а государство платит этой категории так, как будто она мужественно тащит службу в войсках. Т. е. платит вдвойне: за фактически невыполняемые должностные обязанности, соответствующие офицерскому званию, и за удовлетворение собственного любопытства. А чем же фактически занимаются эти слушатели во время подготовки к параду? Далее будет видно, что отнюдь не тем, за что им платят.
Менее затратной категорией обучаемых военных выглядит такая категория, как курсанты ВВУЗов. Потому как эта категория хоть как-то пытается сама себя обслужить. Хотя бы помет за собой все время стремится убрать и помыть за собой грязную посуду. Однако же и тут государство непрерывно надувает щеки и пытается сделать вид, что оно эту категорию как-то кормит (категория это «как-то» старается не есть), наряжает эту категорию в форму от модельера Зайцева и пусть худо-бедно, но все же пытается эту категорию чему-то научить. И на все эти попытки государство все равно тратит деньги. Пусть не такие большие, как требуются, но траты-то все равно ведь есть. А чем же фактически занимаются эти курсанты во время подготовки к параду? Далее будет видно, что отнюдь не тем, чтобы эти траты оправдывать. И происходит это вовсе не потому, что они какие-нибудь там бездельники. Отнюдь. Их принуждает к этому то же не рачительное государство.
Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей подготовки военных к своим пеше-марширующим парадам совершим небольшой сравнительный экскурс в недавнюю нашу историю. Так, конечно же, все будет подольше, но все-таки станет гораздо всем понятней. Начнем с того, что с самого начала 90-х годов прошлого века государство решило вдруг очень сильно сэкономить на военных. Нельзя сказать, что до этого, злополучного для всей страны периода, военных купали в изобилии. Этого военным, как подвиду гомо сапиенс, может где-то в глубине души и хотелось, но понимание не реальности изобилия во время службы всегда у военных присутствовало. А реальным был комплекс гарантированных благ в виде отдельного жилья (может не сразу, может сразу, но недостаточно — в зависимости, в основном, от степени удаленности от столицы и областных центров), относительно достойного денежного содержания (денежное содержание выпускников военных ВУЗов и зарплата выпускников гражданских ВУЗов в среднем отличались на 100 руб., в пользу военных. Ни много, ни мало, а 100 советских рублей: это половина черно-белого телевизора) и возможность один раз в год воспользоваться полностью оплачиваемым отпуском (с оплатой стоимости дороги в оба конца самому военному и членам прилипшей к нему семьи, при этом время, проведенное в пути отпуском не считалось).
Вот и весь комплекс военных удовольствий. И его вполне хватало для того, чтобы так заинтересовать военного, чтобы он согласился терпеть различные тяготы и лишения военной службы: чуть ли не через день заступать и нести различные виды боевых дежурств, будучи спрятанным в глубокое подземелье с отвратительным температурно-влажестным режимом и существенными ограничениями в подаче воздуха, раз в два-три года перетаскивать нехитрый скарб свой из одного конца страны в другой и т. д. (перечень тягот и лишений военной службы настолько широк, разнообразен и специфичен для каждого места службы, что не может быть здесь представлен полностью. Работа над составлением списка может явиться ядром полноценного военно-научного исследования, посвященного истокам формирования военного маразма).
А на каких условиях служите вы, господа товарищи нынешние военные? В условиях катастрофического расслоения общества? Известно многим, что платят вам ныне явно недостаточно. Впрочем, смотря для чего недостаточно. Для того, чтобы как-то питаться — достаточно, образно говоря, достаточно на хлеб. Но военному иногда хочется еще и масла. За это самое масло военный по ночам что-то разгружает, что-то охраняет, днем с трудом доживает до вечера, чтобы отоспаться и следующую ночь опять решать проблему добывания масла, а днем имитировать выполнение служебных обязанностей. Вот такая у современного военного повседневная деятельность, полностью исключающая боевую подготовку. Напомню, что боевая подготовка — это тот вид деятельности, которым военные должны денно и нощно заниматься в мирное время. Военный может больше ничем не заниматься, кроме как боевой подготовкой и только тогда он будет иметь право называться военным. Если ряженный в военную форму не занимается боевой подготовкой, он может называться как угодно: грузчиком, носящим военную форму одежды, охранником ЧОП, переодетым в военную форму одежды, строителем дачных домиков, замаскированным под военного и т. д., но никак не военным. А может ее, подготовку эту, уже нет никакой возможности проводить? Старая техника развалилась, новая не поступает. Это ведь у нас просто происходит: техника выслужила свой установленный срок, отработала определенные ей при разработке часы, проехала свои километры, а тут один из самых высоковоенноначальствующих вдруг издает приказ о продлении сроков ее эксплуатации. А ей, технике, глубоко наплевать на высочайшие приказы этих старых маразматиков, она берет и банальнейшим образом выходит из строя, попадая в разряд нарушителя высочайших указаний И никто не вправе технику за эти нарушения попрекнуть, она ведь разрабатывалась, исходя из вполне конкретных требований по надежности и долговечности. Правда в силу своей военности имеет все равно она всегда небольшой запас, но все же не такой, какой требуют от нее порой застывшие в маразме высоковоенноначальствующие. Им высоким и застывшим все еще до сих пор хочется, чтобы было как в анекдоте:
— Петров, вы почему прекратили огонь.
— Так, ведь, патроны закончились.
— Но вы ведь, Петров, коммунист.
И пулемет застрочил снова.
Откровением для заинтересованного в укреплении обороноспособности страны части народа явилось интервью еще с одним из застывших в своем величии «кремлевских небожителей». Этот «небожитель» когда-то был самым главным из высоковоенноначальствующих, но любил всегда запросто поговорить с народом в лице журналистов. Иной раз, как с ребенком, говорил он с ним вкрадчивым своим голоском: «Здравствуй дружок! Садись поудобней. Я сейчас расскажу тебе сказочку…». Вот и во время этого интервью, в простой и доступной для интересующегося народа форме, пользуясь исключительно одними только арифметическими знаниями, объяснил «небожитель», что ему, народу то есть, это ведь только кажется, что великая наша страны купила в этом году для не менее великой своей армии только четыре боевых вертолета новейшей разработки (продав при этом десятки аналогичных машин очередному потенциальному другу). На самом же деле, объяснял высоковоенноначальствующий, ничтоже сумняшись, если учесть, что огневая мощь нового вертолета в два раза превосходит огневую мощь вертолета предыдущего поколения, то получается что закуплено не четыре, а целых восемь вертолетов! Во как! Хвала великому арифметическому уму этого продвинутого высоковоенноначальствующего!!!
Еще одним из позорнейших фактов современной военной действительности является отсутствие керосина в авиационных, наших военных частях, призванных защищать воздушные рубежи страны с недрами, нашприцованными природой нефтью, и, имеющей единственное в мире правительство, угнетенное самим фактом и обилием свалившихся на него нефтедолларов. И что же получаем мы в этих условиях? Вроде бы есть авиационный полк, но летает в этом полку три человека. В результате, по боевой эффективности вместо полка мы имеем звено, а по затратам — полк, за вычетом стоимости непоставляемого керосина. Особо затратным является такой полк потому, что военными-то он укомплектован, военные регулярно ходят на службу, дисциплинированно просиживают на ней, скучая от звонка до звонка, и получают за это свое пусть небольшое, но денежное вознаграждение. А летает всего три человека! А чем занимается остальной летный состав? Дергает за ручки в лучшем случае работающих тренажеров? Поговаривают уже и о том, что и курсантов военных авиационных училищ давно лишили радости прохождения курса «взлет-посадка». Говорят, что тоже давно уже крутят они штурвалы своих тренажеров, голосом воспроизводя рев турбин грозных боевых машин. А вот попробуйте сразу после упражнений даже на исправном тренажере автомобиля, взять так просто сесть за руль и выехать на оживленную городскую магистраль. Вам смешно? А вот на магистрали вам уже точно будет не до смеха. Но это ведь всего-навсего автомобиль! Он ведь по плоскости ездит! И как бы вы не тянули руль на себя, увеличивая еще при этом обороты двигателя своего железного коня, взлететь вам все равно не удастся. А если бы все же удалось? Представляете себе объемную городскую магистраль, при движении по которой все участники активно перестраиваются (мигая сигнальными огнями) не только слева направо и справа налево, а еще и сверху вниз и снизу вверх? И все это на скорости, в десять раз превышающей скорость автомобиля. Я думаю, что вы все это уже представили и накатила на вас уже соответствующая этой ситуации тихая такая грусть. И надо ведь еще учитывать, что в этом бешеном потоке, в большинстве своем, вас окружают мирные и вполне добропорядочные граждане, спешащие по своим неотложным делам. А теперь представьте себе, что добросовестно позанимавшись на тренажере боевого самолета, вы садитесь в кабину самолета боевого же и вам надо срочно взлететь, навязать кружащимся в воздухе и бомбящим вас самолетам противника воздушный бой, выиграть его и после этого благополучно приземлиться. Может, конечно же, у вас с дикого перепугу все и получиться. Хотелось бы в это верить и пожелать вам удачи. Но в одно поверить очень сложно. Это в вашу благополучную посадку после победы в воздушном бою. Этот элемент надо было бы вам, все ж-таки, отработать с инструктором. Загодя отработать. А вы не отработали. Давили вы загодя лишь на педали тренажеров. Вот и превратились в камикадзе. И факт вашего превращения подтверждает множество реальных авиапроишествий. Авиапроишествия эти возникали тогда, когда в недалеком своем прошлом летчики первого класса, которым впервые за два прошедших года милостиво разрешили поднять боевую машину в воздух, не могли впоследствии побороть в себе страх и совершить посадку. Раз за разом заходили они на посадку, целясь в подсвеченную букву «Т». В центрах управления полетами слышались их бодрые, скрывающие надвигающийся на пилотов предгибельный ужас, доклады: «Шасси, закрылки выпустил, зеленые — горят!» И вроде бы, еще чуть-чуть и сядет сейчас! Ан, нет! Вжик и на следующий круг! И так пока горючее не закончится. А тогда и выбор не велик. Какая теперь разница: стать безработным инвалидом после катапультирования или же стать им после неудачной посадки? Вот тогда-то страхи и отступали. Вот только в этих случаях бывшие летчики сажали, наконец, свои еще краснозвездные машины! И было этих авиапрошествий в современной истории наших доблестных ВВС предостаточно. Так это все ж-таки происходило с людьми хоть и потерявшими соответствующие навыки, но все же, с людьми опытными! А что следует ожидать от ежегодно поступающих в войска молодых летчиков, никогда ни на чем самостоятельно не летавших? Или же налетавших только треть, от необходимого для формирования требуемых навыков времени? Хочется пожелать спокойствия нашим воздушным рубежам! Хорошо, что хоть стратегическая авиация летать начала. Просто слезы наворачиваются, глядючи на пытающегося заправиться в воздухе нашего турбовинтового старичка Ту-95МС. Старичок долго и изо всех сил тянется, содрогаясь всем своим туловищем-фюзеляжем и стараясь достать такой вожделенный и питающий его шумные двигатели болтающийся в небе шланг. В его упорстве чувствуется старая школа летной подготовки. И вот, наконец, несмотря на всю каверзную непредсказуемость воздушных течений, старичок, отчаянно скрипя и болтаясь все же достигает поставленной цели и, через некоторое время, удовлетворившись отсосанной порцией горючего, расслабленно отваливается. Все наблюдающие этот процесс сразу облегченно вздыхают. Облегченно вздыхают и пилоты-шпионы натовской авиации, всегда с заинтересованным опасением наблюдающие за процессами совокупления-дозаправки наших грозных ядерных стратегических ракетоносцев. В начале совокупления они с обычной западной насмешливостью всегда пытаются подхихикивать над нашей дерзновенной старостью. Но впоследствии, замечая рост напряженного раздражения наших «старичков» вдруг испуганно замолкают. Ведь хрен его знает, что там подвешено на беззастенчиво оттопыренные пилоны этих воздушных «маразматиков»? Ладно, давайте не будем о грустном. В конце-то концов, старикам должен же у нас наступить когда-нибудь, наконец, хоть какой-нибудь почет? Давайте лучше вспомним о том, как реактивные красавцы летали недавно для устрашения бесчинствующего дяди Сэма в Венесуэлу! Просто белые лебеди эти наши Ту-160! Тоже старые уже, но выглядят-то еще ого-го! Вот только жаль, что их, как и принято в семьях у этих белых лебедей, всего два, наверное, и имеется-то у нас всего-навсего. Впрочем, это никому, кроме НАТО, неизвестно, это для нас, налогоплательщиков — это строжайшая военная тайна. А может, есть еще где-то в запасе третий «лебедь», но на него не хватило керосину? Этого нам неизвестно. Нам про это знать не положено.
Рассматривая особенности современного уклада воинской жизни, следует отметить зарождение в недрах нашей армии некого нового подкласса военных, так называемых нью-военных. Представители этого новоржденного подкласса давно уже вступили в преступный сговор с некоторыми, особо корыстными лицами из числа военноначальствующих и повсеместно умудряются устраиваться на нормально оплачиваемую работу в какую-нибудь коммерческую фирму, формально числясь на суровой и полной опасностей военной службе. А на службе эти нью-военные появляются раз в месяц, только лишь для того, чтобы принести в благодарном клювике скромное вознаграждение полагающееся подлому должностному лицу преступного военноначальствующего за ежедневное его вранье-прикрытие, этого нью-военного, выгораживающее. Милостиво вознаграждает он иногда, в минуты снисходящего на падшую душу его благодушного состояния, даже тех военных, которые вроде бы бескорыстно, но все ж таки с тайной надеждой в глубине себя, несли за нью-военного службу в нарядах или же выполняли за «предпринимателя в погонах», его военную работу. А куда было деваться? Нью-военному, ему ведь некогда всякой ерундой заниматься. Ему все время надо куда-нибудь спешить. Вот поэтому-то нью-военные, милостиво пообщавшись сквозь зубы минуту другую с бывшими товарищами-военными о несовершенстве творящегося вокруг бытия, всегда внезапно и спешно-озабоченно куда-то удалялись («Бизнес, знаете ли. Время-деньги, а волка-ноги»), непрерывно звоня кому-то по сотовому телефону: «Что-что? Я уже отправил сегодня две «фуры» на Сахалин… Еще хочете? Говно вопрос. Завтра отпралю». При этом, на лицах нью-военных все время фиксировались, непроизвольно появляющиеся выражения приобретенной горделивой важности и, плохо скрываемого в успешности своей недостижимого уже превосходства.
Так что, по всему видать, что далеко все не гладко было в этом военном королевстве. К сожалению, это не «было» — это еще никуда не прошло. И невооруженным глазом видно, господа-товарищи нынешние военные, что государство держит вас, по прежнему в условиях «недостаточности финансирования» вашего скорбного ныне вооружения и гармоничного вашего личного же развития, а так же развития этих, не понятно откуда взявшихся на вашу бедовую голову, прилипал, состоящих исключительно из членов ваших семей. А почему бы и нет? Почему бы государству и не воспользоваться благоприятной для себя ситуацией? Почему бы не подержать на полуголодном пайке людей, которые в принципе согласны служить в разнообразных климатических и морально-бытовых условиях и за такие вот небольшие совсем денежки? Ведь эти-то господа-товарищи военные, только когда выпьют начинают на что-то роптать. При этом на что-то невнятное ропщут. А поэтому и не надо бы им пить вовсе. Раз не умеют держать себя в руках, после того как выпьют. Так что приучайте и дальше держать себя в руках господа-товарищи военные. А то еще и выпить вам будет не на что. И нечего никогда скулить. Не нравится вам чевой-то в вашей жизни — увольняйтесь. А раз не увольняетесь вы — значит, вам все нравится. Значит, вас все устраивает. А раз все нравится и все всех устраивает — служите себе спокойненько дальше. Видимо это ваш удел. Судьба, наверное, это ваша. Тем более, вам ведь, совершенно недавно, в очередной раз пообещали в скором времени чего-то там добавить. Чегой-то выдавить опять обещали вам. Ведь давно уже вся эта воинская служба напоминает тревожно-выжидательное сидение у жопы с ложкой. Но на этот раз, будем надеяться, чего-нибудь посущественней вам выдавят — только успевай ложкой орудовать. Намерения, по крайней мере, серьезные. А раз такие намерения, то значит чего-то действительно существенное, доселе на Руси ни кем не виданное, выдавит вам скоро один из успешных в прошлом мебельных руководителей! Так, что следует вам, наверное, для поднятия боевого духа быстренько поверить в то, что вскоре наш простой российский капитан будет получать больше пентагоновского генерала. Может так и будет. Кто бы сомневался? Только перед этим праздником, господа-товарищи военные, вас в очередной раз разгонят. Выкинут, как нашкодивших котов на помойку. После того, как вы окажетесь на помойке, в армии как раз и останется пять особо отличившихся где-то капитанов. Вот им-то, особо отличившимся, и будут, наверное, платить пентагоновскую зарплату. Назовут их для маскировки как-нибудь построже, например: «офицеры постоянной готовности» и будут им хорошо платить. А куда же денут всех остальных? Никто пока точно сказать не может, но один добрейшего вида сенатор (можно даже сказать, самый главный из всех сенаторов), седой весь такой (до самых кончиков усов просто седой от выпавших на него переживаний) государственный муж, сразу же предложил вам свою протекцию по устройству на работу по разгрузке вагонов. Да и еще говорил он что-то про ваше возможное участие в будущем строительстве платных автомобильных дорог. (Господа-товарищи военные следите, пожалуйста, за периодической печатью и новостными телевизионными блоками по телеканалу «Звезда», так и бьющим по вам новостями!). Сразу видно, очень мудр он есть, этот седой от постоянных переживаний за страну сенатор. Ведь после того как господа-товарищи военные вам не останется ничего больше чем разгрузка вагонов и укладка быстро остывающего на морозе асфальта, можно будет в очередной раз очень удивить и без того всегда недоумевающий по поводу нашей беспримерно-расточительной щедрости Запад. Можно уже тогда будет, например, на каком-нибудь проходящем за границей международном саммите, посвященном развитию образования кого-нибудь особо отсталого земного населения, вскользь так и деланно нехотя бросить что-нибудь эдакое пренебрежительное в присутствии большого количества жадных до сенсаций журналистов. Швырнуть что-нибудь наподобие того, что Россия это отдельно взятая страна победившего высшего образования: «Та че у вас тут за проблемы, в натуре? Неудобно обсуждать. Даже. У нас ведь давно уже все грузчики и дорожные рабочие с высшим образованием. С «высшим» и за копейки у нас работают. Со «средним»-то давно уже только в водители гужевого транспорта принимают. И то не всех принимают. Очень большой конкурс!» И, конечно же, престиж страны от этих небрежно брошенных фраз очень резко возрастет. Возрастет и ее рейтинг, а вместе с рейтингом резко возрастет наша страновая привлекательность. Ну а где привлекательность, там и инвестиции. Ну и, наконец, там где появились инвестиции, там должно резко обострится развитие. А развитие, оно ведь в большинстве случаев ведет к процветанию. В рассматриваемом случае — к процветанию всей нашей великой страны! Великая страна вдруг начинает, непривычно для себя благоденствовать и в наступивших удовольствиях, уже было начинает забывать, с чего все это благоденствие-то, собственно, и началось. Но скрупулезные историки не забывают ничего, эти педанты поднимают сокровенные записи в своих затертых в повседневном труде блокнотиках и: «Ба! А началось-то, оказывается, ведь все с этих непритязательных офицеров-грузчиков и бескорыстных же офицеров-асфальтоукладчиков! Вот ведь как! Недаром-то ведь их, сердешных, целых пять лет перед этими интеллектуальными работами всяческим хитрым наукам всесторонне обучали. Недаром, знатчица, были потрачены государевы деньги на обучение этих незадачливых по своей сути военных. И абсолютно нечего возразить здесь даже нашим самым отчаянным скептикам. Воистину мудрые мысли появляются в головах у наших сенаторов. А в особенности в голове у того, который про меж них, сенаторов, сейчас самый главный. А все потому, что «малый он вовсе не дурак, но и…». В общем, тоже «не малый». И глаза у него очень добрые, ну просто до идиотизма… Ну а уж возглавляемая им партия… Очень всегда справедливо себя ведет эта партия по отношению к народу. Вот, к примеру, понадобилась народу зачем-то срочно многопартийная политическая система. Ну, просто до зарезу вдруг понадобилась. Вынь, как говорится, да положь ее пред строгим ликом народным. А все потому, что с некоторых пор, народу надоел яблочный привкус словесных коктейлей велеречивых демагогов, да и либералов с коммунистами народ уже давно прекратил замечать. Крутолобый («хоть котят бей») орловский крестьянин никогда народ не вдохновлял, а известный, но не умелый драчун, клоун и «сын юриста» уже давно народу приелся. Раньше хотя бы дрался он неумело… По женски как-то дрался он на экранах телевизоров… Не по мужски брызгая слюнями и заходясь в истерике… А все это потому так получалось, что только с женщинами предпочитал подраться, время от времени, этот беззаветный слуга народа. А с оппонентами мужеского пола он предпочитал иметь дело дистанционно. Он только плескал издалека в своих оппонентов различными красящими напитками, и трусливо прятался за спинами охранников. Но это было хоть каким-то проявлением демократической борьбы… А потом клоун постарел и перестал бить женщин в телеэфире и плескаться из граненных стаканов тоже перестал. Почувствовав, что теряет популярность, «сын юриста» тут же предпринял попытки к вокальному пению абсолютно дурным своим, с позволения сказать, голосом. Вот такой вот неожиданный ход: всячески пытался петь он и даже диски умудрялся записывать. Народ вначале покупал эти диски «чисто прикола ради», но потом надоела ему и эта шизофреническая выходка несостоявшегося актера. И в итоге осталась только одна партия, да и то только та, которая оказывала народу исключительно только медвежьи услуги. А свергнуть эту партию было нельзя: больно уж высок был у нее административный ресурс. На самом высоком троне сиживал он, ресурс, в смысле. Но народ, невзирая на высоту трона и силу исходящего от него света, все равно уже готов был, хотя бы тихо, но же как-то возмутился (где-нибудь перед утыканном хабариками экраном телевизора на тщательно зашторенной кухне), однако самый главный из сенаторов в эту судьбоносную минуту не растерялся. Сверкнув идиотическими искорками бесконечно добрых своих глаз, он тут же организовал новую партию. И, несмотря на то, что от новой партии исходил устойчивый запах, сопутствующий запущенному медвежьему заболеванию, народ обрел, наконец, вожделенную многопартийную систему и, вместе с ней, истинно демократическое спокойствие. Это спокойствие ежегодно подкреплялось декларацией о доходах самого главного из сенаторов. А в ежегодно публикуемой в средствах массовой информации декларировалась маломерная (по сенаторским меркам) квартирка и еще (страшно даже подумать!) автомобильный прицеп. Машины у главного сенатора не было ни одной, а вот прицеп был. И народ очень хорошо понимал своего сенатора: нельзя же все сразу… Ну и что, что у тебя есть прицеп… Прицеп — это, конечно же, достижение… Но на машину-то ведь надо тоже еще накопить! А для этого время надобно и упорство… Вот тогда-то и успокоился народ: копит наш сенатор, копит, родимый. Так же как и все мы. Откладывает с каждой своей, тяжким трудом заработанной сенаторской получки исправно выплачивая долги по ЖКХ. Словом, как в известной, ставшей уже народной, песне: «Так же, как все, как все, как все…». А вот «как все» — это уже и есть в народном понимании справедливость. Пусть хреново, но зато «как все»… Справедлив, стало быть, главный сенатор. И партия у него справедливая, а на запахи…, стоит ли вообще обращать на них внимание? Запахи — это ведь никому не нужные и сентиментальные нюансы. Главное — это чтобы не было никаких летальных исходов от аллергического удушья. Но, такого пока нигде не наблюдалось. Не мрет пока никто от этого специфического запаха медвежьего нездоровья. А значит прав во всем величайший из наших сенаторов. Но идеи его, сами по себе, не новы. Вспомним хотя бы известные слова римского императора Веспасиана…
Впрочем, речь сейчас не о политиках, а о простых военных и их нуждах. Но, военные, они все ж таки, люди государственные. Вот и попробуем взглянуть на их нужды по государственному. А для этого и продолжим тему праздничных парадов.
Заметим, что для качественной экспресс-оценки затрат государевых на организацию идиотического действа, называемого праздничным парадом, необходимо учесть, что во время подготовки к действу обучаемые военные фактически не учатся вообще. Ни слушатели, ни курсанты. Военноначальствующие стремятся хоть как-то обозначить, конечно же, какую-то непрерывность процесса обучения военных. Но тщетно, де факто — обучаемый из этого процесса временно исключен. И значит, двойные траты государевы в период проведения парадов можно с полной уверенностью считать вылетевшими «в трубу». В эту же «трубу» вылетают и затраты, понесенные государством непосредственно на организацию этого глупого действа. И на этом список бесполезных государственных трат не является исчерпанным. Следует, наверное, еще учесть и будущий ущерб от недополученных знаний, но это очень уж субъективно и потому сложно.
Считать убытки — задача экономистов. Задачи военных — эти убытки создавать. Рассмотрим сам процесс их создания, дабы у обывателя-налогоплательщика не сложилось впечатления, что подготовка к параду — это, когда ребята-военные вдруг встали пораньше в праздничное утро, договорились об очередности топанья строев вдоль трибун, пять минут протопали, разогрелись и, получив высочайшее разрешение, разошлись по домам для продолжения празднованья.
На самом же деле все происходит приблизительно так (допускаются небольшие отклонения-нюансы, присущие отдельным коллективам военных и военноначальствующим умам): за два месяца до ожидаемого торжества военные ранжируются по росту, разбиваются по шеренгам будущей парадной коробки (военный синоним понятия парадный строй) и начинают совершенствовать индивидуальную строевую подготовку. Подготовка вроде бы индивидуальная, но производится в составе шеренги. При этом военные, составляющие шеренгу, уныло ходят друг за другом по обозначенному квадрату под заунывный бой барабана, высоко задирая ноги, гордо вздымая подбородок, втягивая в себя то место, из которого, по прошествии ряда лет, у каждого военного вырастет живот, и изо всех сил выпячивая то место, где всегда у военного была грудь (вообще, грудь военного понятие универсальное: у военного любого возраста, звания и комплекции грудь, это все то, что ниже его подбородка).
Отдельно стоит остановиться на вопросе оптимальной высоты задирания конечностей военными. Дело в том, что в действующие тогда «Общевоинские уставы вооруженных сил СССР», представлявшие свод документов, определяющих военным правила и нормы их поведения в любых условиях окружающей действительности, вкрались как минимум две ошибки.
Первая ошибка заключалась в неизвестно откуда и как просочившейся в этот свод нормативно-директивных предписаний фразе о том, что военнослужащим рекомендуется-де воздерживаться от курения на ходу. Заметьте, не запрещается, а только рекомендуется. Военным это непонятно, военные так не привыкли и, используя демократичную суть фразы, они понимают ее в выгодном для себя смысле и начинают повсеместно и массово курить в ходе передвижения. Разумеется, вне расположения частей и подразделений, на территории которых тот же документ предписывал курение только в особо отведенных и оборудованных для этого местах — «курилках» (правда и здесь можно использовать дарованный глоток свободы и курить, быстро передвигаясь по отведенному и специально оборудованному для этого месту). Сложнее всего было курить на ходу вне расположения этих частей и подразделений. На этой недружественной территории всюду шастали, а иногда еще и шныряли всегда раздражительные воинские патрули. Вид нервно покуривающих в спешке военных почему-то раздражал эти патрули пуще всего. Особенно раздражало патрули то, как некоторые военные выполняют правила воинского приветствия (в народе называемого отданием чести). Идет, к примеру, военный и нервно курит, держа сигарету, как правило, в правой руке. Вдруг, навстречу, как всегда неожиданно, выныривает патруль. Кто-нибудь бы там растерялся. Военный не имеет права теряться. Он быстро перекладывает сигарету в рот, выпуская при этом большое облако табачного дыма, и, приложив в воинском приветствии руку к правому виску, смело ныряет в спасительное облако. А когда дым рассеивается — военного уже нет. Он исчезает, грамотно использовав созданную табачно-дымовую завесу и естественные складки местности. Все как учили. Но не все так просто. В состав военного патруля, как правило, тоже входят военные. Самый военный среди них — начальник патруля. Агрессивность его поведения зависит от многих факторов: курящий он или нет, морской он или сухопутный (ни один сухопутный не пройдет бездеятельно мимо морского и наоборот), старший он начальствующий или младший и т. д. И если совокупность раздражающих факторов превышает некий индивидуальный порог этого начальника, то он может лихо сигануть в табачное облако и выудить из него не успевшего скрыться военного. А это конфликт. Фамилия военного попадает во всевозможные рапорта и отчеты. О нем много говорят. А написали бы в соответствии с общеуставным духом жестко: «Военному запрещается курение на ходу». Глядишь избавился бы сразу военный от всяческих сомнений и жизнь его, хоть и немного, но стала бы полегче.
Вторая ошибка, вкравшаяся в «Общевоинские уставы вооруженных сил СССР», состояла опять же в нечеткости, размытости в задании параметров строевого шага. Там было сказано, что нога военного, если вдруг он решил походить строевым шагом, должна подниматься над поверхностью земного шара на 15–20 сантиметров. И это склизкое определение всегда вызывало множество кривотолков и переживаний в кругах начальствующих (с основами теории нечетких множеств этих истинных военных никто никогда не знакомил, да и вряд ли это было бы возможно в принципе).
Наконец, было принято самое простое военное решение. Со свойственным всем военным максимализмом (лучше перебдить, чем недобдить) было определено: строевой шаг во время парада должен производиться попеременным подъемом конечностей на высоту двадцати сантиметров (ровно). Тут же силами местных умельцев были сооружены специальные устройства, помогающие военному ориентироваться в пространстве при постоянном контроле требуемого дорожного просвета между подошвой его тяжеленного ялового сапога и поверхностью земного нашего шарика.
Устройство представляло собой сколоченные наспех из досок параллелепипеды с высотой в те же заветные 20 см. И теперь военные ходили по периметру параллелепипедов, а младшие из начальствующих лежали сбоку в произвольных позах на специальных подстилках и осуществляли контроль выполнения требуемой величины просвета. В выполнении подобной контрольной функции младшие из начальствующих довольно быстро поднаторели, то и дело равномерный стук барабана нарушался их корректирующими выкриками: «Коротеев, три с половиной сантиметра вверх!» или «Нарышкин, три миллиметра вниз!»
Ходят военные долго, часов по шесть в день. В течение трех недель, включая выходные и пресловутые праздничные дни, ходят они друг за другом вдоль параллелепипедов по квадратам. Тупо ходят они, в основном, в счет подготовки к грядущим занятиям.
— Рр-аз, ррр-аз, раз, два, три, — не дают им забыть основы арифметики горластые военноначальствующие.
Абсолютно однообразное, отупляющее и физически выматывающее пустое времяпровождение!
— Да ладно вам, — отмахиваются, от озабоченных военных военноначальствующие, — до сессии еще далеко, ну почитайте чего-нибудь там перед отбоем.
Военные, они, конечно же, всегда чего-то там почитают, тут, как говорится, вопросов нет! Только ведь не гуманитарные науки-то приходится изучать военным. Не науки, которыми можно хоть в какой-то степени овладеть, что-то там лениво почитав на сон грядущий! Это ведь только при ответе на какой-нибудь пространный вопрос по какой-либо гуманитарной науке всегда можно что-то такое сдуру внешне правильное сказануть, и, как ни странно, это «что-то» всегда может оказаться действительно правильным, сказанным уместно, пусть даже и для каких-то особых, никогда не встречающихся в родной природе условий. У гуманитариев, у них ведь главное не молчать никогда. Допустим, даже и не знаете вы правильного ответа — говорите всегда какими-нибудь заведомо округлыми в своем идиотизме фразами: «А вот если бы этот факт имел бы место, то с достаточной долей уверенности можно было бы утверждать и нечто обратное ранее сказанному», «Вместе с тем хотелось бы отметить, что данное утверждение имеет право на существование, но мы с ним не вполне согласны, а это достаточно корректно согласуется с мнением большинства классиков утопического социализма, утверждавшими приоритеты нравственности над сомнительной моралью и ложным человеколюбием…». Или еще и так: «Вот что касается — то все, безусловно, может быть верно. И это вовсе даже не потому, что так вообще можно о чем-либо сказать. А стоит только взять любой пример — и вот вам конкретное подтверждение! Вот вам и все то, пожалуй, что в конце-концов, собственно говоря, и требовалось с самого начала доказать, но в силу причин гносеологического характера ранее сказанное вполне справедливо подвергалось сомнению…». И сразу складывается впечатление, что испытуемый, безусловно, в теме, просто иногда немного чего-то не договаривает. И при этом подразумевается, что это «чего-то» все присутствующие без всяких дополнительных объяснений и так должны знать. Иначе все происходящее действо становится попросту неприличным для собравшихся здесь вполне серьезных людей. А если в дополнение к такому-то вот словоблудию ввернуть еще и какую-нибудь один раз заученную хитовую цитатку из выступления одного из престарелых Генеральных секретарей на очередном съезде партии — то все, финиш. Оценку ниже «хорошо» никто военному гуманитарию уже никогда не решится поставить.
В области технической инженерии такие фокусы не пройдут. Есть большое множество конкретных «кирпичиков», из которых строится радиоэлектронная аппаратура, каждый «кирпичик» выполняет свою задачу на основе реализации специфических физических процессов. Каждый «кирпичик» описывается своей математической моделью и имеет множество вариантов построения, каждый из которых имеет свои внешние и внутренние особенности. Из всего этого многообразия разработчик должен выбрать необходимые для решения конкретных задач «кирпичики» (а ежели их не хватает — разработать новые, какие-то свои) и заставить их согласованно работать в составе законченного функционального устройства. И здесь никакие уговоры и округлые словеса не помогут, недоучили вы там чего иль чего-то недопоняли, а может что-то и недоучли — все равно рискуете получить вместо соборного органа маленькую пастушескую дудку. А дудкой потом будут размахивать перед уныло повисшим вашим носом и настойчиво рекомендовать ее срочно куда-нибудь определить. Количество рекомендуемых мест сохранения дудки, как правило, не отличается разнообразием.
А тем временем мечтающие о параде военные все продолжают куда-то громко топать. Топают уже в составе отдельных шеренг парадной коробки. Армии империалистических государств, по видимому, слышали этот топот и все время в ужасе дрожали. Это отсюда, наверное: «Русские идут!» А русские никуда далеко не отходят, дойдут шеренгой до конца плаца, перестроятся в колонну по одному и гуськом так, восстанавливаясь, на исходные позиции для нового прохождения в строгом шереножном равнении.
И у шереножного времяпровождения много своих особенностей, одна из основных — равняясь направо, необходимо увидеть грудь четвертого военного. Увидеть, не взирая ни на что, иначе равнение в шеренге будет нарушено. А вот как увидеть, если у четвертого военного грудь оказалась впалой? Особенность у него такая: высокий, плечистый такой, парень, но вот ведь незадача какая. Но военный по этому поводу абсолютно не комплексует: «Ну и что, что грудь у меня впалая — зато спина всегда колесом».
Ну ладно, впалая грудь — это полбеды, по крайней мере, можно ведь включить воображение и дорисовать ее в сознании (тут важно не ошибиться и дорисовать именно правильную военную грудь, а не ту, которая и без того всегда в сознании военного присутствует). Как только военная грудь окончательно прорисовалась в сознании, на нее необходимо тут же выравняться и продолжать свое топающее движение.
А вот как быть военному, который поставлен третьим справа в шеренге? У этого невезучего военного физический носитель четвертой груди отсутствует по определению. И на проклятое место это, в шеренгу, надо ставить военного с еще более богатым воображением. И роста он должен быть соответствующего — шеренга ранжируется с права на лево по принципу: «От более рослого военного к менее рослому военному». То есть здесь уже требуется совмещение двух параметров: военный должен быть чуть менее рослым и при этом иметь богатое воображение. Но два параметра для любого военноначальствующего это уже очень много. Военноначальствующие начинают медленно закипать: «Где ж найти нам этого сложного двухпараметрического военного?» Долго ищут, но потом где-то все-таки находят. На самых младших курсах, наверное. Там где это воображение еще у кого-то каким-то образом несмотря ни на что осталось. Находят и вкрапливают это инородное тело вместе с его оставшимся воображением в уже сложившийся шереножный коллектив.
Позади пять недель содержательной, заметно обогатившей душу и тело военного интеллектуальной такой работы. Военные во многом уже преуспели и приступили, наконец, к своему любимому топанью уже в составе праздничной коробки-строя. И тут вдруг во всей своей красе обнажается порочность военного максимализма и извечного стремления к упрощенчеству. Во время первого же прохождения коробки был выявлен странный эффект, сильно потрясший всех окружающих строй-коробку военноначальствующих. Эффект выражался в расслоении строя по мере его поступательного продвижения вперед. То есть, когда первая шеренга уже готова была завершить свое первое юбилейное прохождение, громыхая где-то в конце плаца — последние шеренги еще топтались в его средине, в районе трибуны с которой удивленными гроздьями свешивались недоуменные военноначальствующие. Попытки повторялись одна за другой, а эффект так и не думал никуда исчезать. А военно-начальствующие все удивлялись и удивлялись. А чего тут было удивляться? Все дело-то было в огульном навязывании злополучных 20-ти сантиметров дорожного просвета всем шеренгам без исключения. Никак не сообразить было военноначальствующим (а ведь им подсказывали), что не может быть одинаковой длина шага у военного имеющего рост туловища в 1 метр и 95 сантиметров и у военного сумевшего за всю свою предшествующую жизнь дотянуться лишь до отметки в 1 метр 70 сантиметров, Еще более низкорослых военных найти было очень трудно, а если таковых все же где-то находили, то к участию в параде не привлекали (как говориться, не родись красивым). Вот и получалось, что частота строевого шага для всех одинакова (задается боем барабана), требуемый и уже натренированный просвет тоже одинаков, а длина шага от шеренги к шеренге меняется. В результате — одинаковое расстояние между шеренгами мирно жующего строя нарушается уже с первым шагом коробки. Ошибка начинает нарастать по мере движения и вот, только что слитная, монолитная воинская строевая коробка в мгновенье ока расслаивается, движения ее начинают напоминать конвульсии деревенской гармошки в руках выпившего «лишку» сельского механизатора.
Как же теперь все это исправить? До генеральных репетиций остается-то всего-навсего две недели. Начальствующие, в панике орут на высоких военных, требуя уменьшить просвет до пятнадцати сантиметров. Тщетно. Чего орать? Вы пять недель вдалбливали в военного эти 20 сантиметров, он, военный, добросовестно гарцевал вокруг придуманных вами ящиков, затем закреплял эти 20 сантиметров в мышечной своей памяти, топая в составе шеренги. И закрепил, довел до уровня врожденного рефлекса. А вы хотите теперь так, что-то там крикнуть, как-то оскорбить военного и рефлекс пропадет. Не получится, придется немного поработать самим, последствия собственной же дури и устраняя.
Теперь военноначальствующие попеременно ходили впереди коробки, стараясь задать приемлемую (для сохранения монолитности строя) скорость коллективного продвижения. При этом они часто и нервно оборачивались, оценивания интервал между собой и самыми высокими из собравшихся военных. Иногда военноначальствующие, обернувшись, вопили истошными голосами: «Ко мне ближе трех метров не приближаться! Первая шеренга — гаси шаг!». (Видимо очень опасались они этого приближения. Напрасно. Особей с такими размерами детородных органов среди военных не наблюдалось).
Наконец, коробка военных вступила в фазу контрольных прохождений. К оценочной деятельности подключаются лица еще более военноначальствующие. Диапазон едких замечаний существенно расширяется. Приведем, как всегда, самые образные и нормативные:
— Равняйсь! Смирно! (По последней команде военный должен зафиксировать все свои суставы и сочленения, временно заглушив протекающие в организме биологические процессы).
Еще более начальствующий ходит вдоль коробки, оценивая качество равнения шеренг и степень оцепенения каждого военного. И вдруг: «Третий справа в четвертой шеренге. Вы что качаетесь, как танк на заборе? А-а-а, да вы еще и улыбаетесь как проститутка? Где начальник курса? Научите к завтрашнему дню своих разгильдяев в строю не качаться, и еще научите его при этом мужественно улыбаться. Доложить. Лично сам проверю. В 5.00. Не качаться и правильно улыбаться».
— Сапоги у идущего на парад военного должны быть начищены так, чтобы даже после прохождения торжественным маршем, военный, отпущенный в увольнение, по отражению в них (сапогах) мог бы контролировать все происходящее под юбкой подруги.
Вот так вот длинно, но образно, местами в стихах. Чем военноначальствующий больше, тем длиннее и образней он изъясняется. Так всегда происходит с высоко военноначальствующими, по мере их отдаления от низменности мелких земно-портяночных проблем остальных военных и погружения в сферы философско-теологические.
По этому поводу, наверное, уместным будет вспомнить следующий анекдот. Встречаются как-то на отдыхе у морского побережья после двадцати лет службы три однокашника, не встречавшиеся друг с другом с самого выпуска из оконченной ими бурсы. Один из них дослужился до генерала, второй до подполковника, а третий только до капитана. Прогуливаются они как-то вдоль морского побережья, неспешно беседуют, друзей вспоминают, молодые свои годы. Несколько выпадает из этой идиллии капитан. Время от времени капитан начинает разговоры о несовершенстве окружающего мира и армейских порядков в частности (кстати, очень не по доброму поминает он парады). Капитан с горечью повествует своим однокашникам о том, что вот он, мол, очень талантлив, во всем давно уже разобрался и тащит свою ратную службу за всех и за вся. Он тащит-тащит, а его словно не замечают, и все время наглейшим образом обходят чинами. А иногда даже, наконец, заметив, сразу задвигают его служить в самые дальние гарнизоны. Слушая эти обычные для неудачника стенания, генерал задумчиво поднимает с берега ракушку и прикладывает ее к уху. По лицу генерала растекается мечтательная улыбка: «Какой насыщенный шум прибоя. Кажется, что эта ракушка впитала в себя всю звуковую гамму морской пучины! Я даже слышу шорохи акул, задевающих плавниками коралловые рифы». «Позвольте-ка, полюбопытствовал подполковник и, приложив ракушку к уху, радостно и подобострастно закивал головой — как вы правы, удивительные звуки, отродясь ничего подобного не слыхивал. Как они все-таки грациозны — эти акулы».
«А ну-ко дайте, — потянул ракушку к своему уху капитан и минуту сосредоточенно слушал, — полная чушь, точно так же шумит и обычная пустая банка из-под огурцов».
«Да-а-а, — задумчиво протянул генерал, — теперь мне понятно, почему мы за двадцать лет дослужились до таких разных званий».
Перенесемся теперь с романтического морского побережья на скучный строевой плац. Здесь уже намечаются перемены и наконец наступает долгожданный период ночных тренировок на широкой площади. Военных перед таким ответственным делом тщательно, как лошадей, подковывают для создания ими большего грохота и раздают им праздничные аксельбанты — хитрое сплетение посеребренных нитей с увесистым, смотрящим вниз, медным таким предметом, по форме напоминающим штекерный разъем. Аксельбанты служат для украшения военных, и благодаря серебрению, стоят довольно дорого.
(После окончания парада его участники по традиции отпускаются в увольнение, исключительно украшенные аксельбантами. И кругом звучат инструктажи начальствующих, приблизительно следующего содержания (здесь почти дословно): «Водку в аксельбантах не пить. В аксельбантах — только чай, ну или лимонад там какой-нибудь не просроченный. А если чувствуешь, что не удержишься и все равно напьешься, сволота, сними перед этим аксельбант и обвяжись им по поясу под нижним бельем. А то так: пьяный «парадник», похрюкивая, лежить на тротуаре. К нему, сволоте, тихо подползает хитрая гражданская сволочь, срывает аксельбант и исчезает в надежде обогатиться. Так или нет?»
— Так точно, — гудят военные и одобрительно кивают головами в надежде на скорейшее завершение инструктажа.
Подготовка продолжается, вступая в завершающую свою фазу. Ночью военные топают по Дворцовой, потрясая аксельбантами, коротко спят, затем опять топают по плацу, готовясь к ночным своим прохождениям, а ночью опять на Дворцовую. И так всю оставшуюся перед парадом неделю.
«Почему ночью-то!» — возможно воскликнет не отвыкший еще удивляться читатель.
Вот-вот, удивленный мой читатель, теперь-то можно сделать вывод: вам не понять, вы, читатель, не служили. Давно известно, что тот, кто служил, в цирке уже никогда не рассмеется. А почему все же ночью? Попытаюсь ответить. Скорее всего, это делается, исходя из интересов сохранения новизны восприятия праздничного действа гражданским населением. Артисты ведь не репетируют премьеры, за редкими исключениями, перед большим количеством потенциальных зрителей. Зрители ведь могут потом на премьеру не прийти, сборы упадут. А военные это ведь те же артисты. Все отрепетировано, вплоть до непобедимых «гагаринских» улыбок. Правда вот со сборами, наверное, все же не получится — некому ничего собирать и бегать с пахнущей потом шапкой по брезгливым зрителям, все ведь при деле, все громко-подкованно топают. Звеня просто топают и при этом еще и медно дудят. Ночью, отметим, не дудят вообще никак. Не говоря уже даже о медности. Ночью военных с медными дудками могут неправильно понять. Вот поэтому и не дуют никуда военные — не хотят они создавать дополнительных недопониманий в отношениях с трудовым народом.
Есть, правда, относительно ночного образа жизни, еще одно смелое предположение. А что если совсем уж высоко военноначальствующие все же опасаются, что в ярком свете дня коварный враг вдруг возьмет да и умыкнет у нас секретную методику подготовки к таким вот мощным и радостным перемещениям больших групп, почти не дышащих в строю, но при этом высоко подбрасывающих (обутые в тяжелые сапоги) ноги, военных на значительные расстояния. Ведь ясным днем каждому секретному агенту очень легко ведь затеряться в толпе праздно шатающихся по Дворцовой площади туристов и аборигенов-маргиналов. А ночью каждый человек на улице города трех революций весьма заметен и уже только этим вызывает законное подозрение. В этом случае, можно даже попросить милицию: пусть походят, поспрашивают: «Ваши документы? Объясните цель вашего нынешнего местонахождения?» А если обнаглевшее шпионство приобретет оттенок профессионального нахальства («А какой ваш собачь дел?»), да еще с демонстрацией знания законов общего обустройства демократического государства («Ви нарушайт правил свободный перемещений личность!»), вот тогда уже надо подтянуть ребят из всесильного тогда КГБ. Они, эти интеллигентные ребята, умеют ведь с этой буржуазной сволочью как-то по особенному общаться. Без правового нигилизма. Очень вежливо. Но шпионы при этом как-то сразу сникают и очень быстро исчезают, как правило, по одному и тому же адресу исчезают они. Предположительно, где-то в районе Литейного проспекта. Исчезают и некоторое время наслаждаются видами заснеженной Колымы не покидая подвалов этого самого высокого дома города на Неве. Вот такие вот метаморфозы случались иногда с этими агентами буржуазии в этом революционном городе.
И вот они, наконец-то, наступили, последние минуты духовного соития в экстазе движения большой группы военных. Два месяца непрерывной муштры. И, наконец: «Счет! И-и-и раз!». Сотня голов в едином порыве с остеохондрозным хрустом скручиваются в сторону трибун. Счет пошел. Две с половиной минуты жизни вышколенной коробки (приблизительно за такое время парадный строй преодолевает отмеченное ему расстояние) и все. И кому все это было надо? Два месяца муштры из-за каких-то двух минут удовольствия, доставленного праздно стоящим на трибуне! Да, парадные военные научились лучше чувствовать манеру шага друг друга, научились в движении взаимно подстраиваться. Однако больше военные точно таким же коллективом и в точно таком же строю ходить никогда уже не будут. И для чего все это было? Два месяца бесполезно потраченного времени многими тысячами военных по троекратным выброшенным в «трубу» тарифам. И ведь все это дорогостоящее непотребство кому-то и для чего-то нужно до сих пор! Увидеть бы военным этого «кому-то». Поговорить бы им с ним обо всем без протокола. Глядишь, и отпала бы у этого «кому-то» эта мерзкая потребность. Всякая ведь мерзкая потребность может привести к извращениям. А за извращениями может наступить маниакальность. А это уже статья. Надо бы срочно остановить маньяка. Но нет. Недоступен этот маньяк «кому-то» для военных по-прежнему. И военные продолжают с упоением и затратно-громко так топать в праздничные для страны дни по широким ее площадям.
Помимо накопившегося отставания в учебе, ликвидируемого впоследствии ценой опять же собственного сна и здоровья, многие парадные военные приобрели еще и проблемы со здоровьем ножных суставов. Дело в том, что движение строевым шагом не является естественным для человека, пусть даже для военного. Ну не мог Создатель при ваянии гомо сапиенс предусмотреть, что человек в процессе эволюции может именно таким образом отклониться от генеральной линии божественного замысла. Можно ли себе представить ситуацию, когда, например, осторожно передвигаясь в поисках пропитания по кишащему опасным зверьем лесу человек вдруг ни с того ни с сего начнет с дуру подбрасывать высоко ноги и с силой опускать их всей ступней сразу на неухоженную доисторическую почву?
Скорее всего, нет, такого нельзя предположить, даже будучи божественно одаренным. А отдельно проектировать особую конструкцию ноги военной — вряд ли целесообразно. Все проблемы провоцируются военной головой. Особым способом мышления. Создатель давно эти особенности понял. Понял, наверное, что гомо милитер — это тупиковая ветвь человеческого развития. Вот и не утруждает себя, ждет, видимо, удобного случая для начала положительного эволюционного разворота тупиковой пока еще ветви. Но случай этот что-то никак не наступает. И, судя по всему, вряд ли когда-нибудь наступит.
Наших бьют!
А как обучаемые военные отдыхают? Первые три семестра вообще никак. Вернее, конечно, если они случайно не попали в какой-нибудь наряд или там иное, какое мероприятие, субботними и воскресными вечерами военные смотрят фильмы. Увлекательнейшими, как бы сейчас сказали, блокбастерами, таких известных мастеров экрана, как Эйзенштейн, Пырьев и др., потчуют все время военных. Частому просмотру военными подлежат такие шедевры как, например, «Броненосец «Потемкин», или скажем там «Ленин в Октябре», «Чапаев» и т. д. Фильмы нравственно заряжают военных на последующую неделю, вселяют в души их просветление. Ежели кто желает просветлеть иным способом, ну, к примеру, что-нибудь почитать — всегда пожалуйста, наша армия всегда была образцом демократических организаций социалистического толка. Собери группу альтернативщиков, составь их список, утверди список у старшины с назначением им старшего среди вашего брата-альтернативщика, отдай первый экземпляр старшему, второй — дежурному по курсу и читай себе в ленинской комнате хоть, до самого что ни на есть, отбоя.
Предвижу саркастические ухмылочки читателя при нахождении им слова «армия» и словосочетания «демократическая организация» в непосредственной близости друг от друга и отсутствии каких-либо отрицательных частиц. Конечно, армия не могла быть демократичной по определению, хотя бы потому, что в ней реализован принцип единоначалия. Но все же были в суровой военной действительности некие пикантные детали, неизвестно кем придуманные и непонятно как в военной среде прижившиеся. Например, получив предписание на убытие к новому месту службы военный мог прочитать примерно следующее: «Предлагаю вам убыть для дальнейшего продолжения службы в в/ч XXXXХ, Тмутараканская обл., г. Безнадежнинск, ул. Забудьвозвратобратнова и т. д.». Замечаете как демократично? — «Предлагаю». Никаких приказов. Но попробуйте повестись на эти демократические оттенки, на эти пикантные детали и от предложения отказаться. Или заявить, например, о том, что предложение вами принимается и что вы, безусловно, готовы служить Родине в любой точке Советского Союза, но с одним лишь маленьким нюансиком: эта благословенная точка Советского Союза, должна быть оборудована метрополитеном. Тут такое с вами начнется! Я вам не завидую. Вам скажут такие слова… Адольф Гитлер будет выглядеть в сравнении с вами мелким и шкодливым базарным аферистом.
Но постепенно с увеличением количества удачно пережитых семестров отдых обучаемых военных упорядочивается. Они все чаще покидают стены родных учебных заведений и уже не только в выходные дни.
А поскольку отдыхать в одиночку военные уже не могут, то отдыхают в составе специализированных групп. Группы рождаются стихийно на основе общности интересов отдельных военных индивидов. По большому счету, у военных наблюдается три сферы интересов: женщины, горячительные напитки, музеи и театры Ленинграда. Очевидно, что первые две сферы всегда находятся в глубоком диалектическом взаимодействии. Третья сфера интересов вроде как стоит особняком относительно первых двух, особенно относительно второй. Ну вроде бы никак третья со второй не могут полноценно сочетаться, за исключением, разве что шампанского там, или соточки граммов коньяка в театральном буфете. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько примеров смешения интересов и принципов нашими разудалыми военными.
Одна из развеселых военных групп получила как-то незапланированный доступ к свободе. Неожиданно вынырнул какой-то неучтенный праздник и поскольку он оказался неожиданным даже для военноначальствующих — военных просто не успели вовлечь в какое-нибудь трудо-патриотическое мероприятие и пришлось их премировать (праздник как никак) дополнительным кусочком свободы.
Сфера интересов этой развеселой группы постоянно металась между первым и вторым классификационными признаками. Иногда, правда, застревала на границе между ними. Но к третьему признаку никогда даже и не приближалось. Даже по инерции, при пролете от первого ко второму.
Поскольку четкого плана, как мы уже отмечали, у группы не было, она спонтанно сублимируется в заведении-образце советской розничной торговли с надписью: «ВИНО». Почему именно вино? Заведение-образец содержало в себе все виды разъедающей печень продукции, от копеечной «плодово-выгодной» (от официального — «Вино плодово-ягодное. Солнцедар») бормотухи до вполне приличного коньяка, привезенного из солнечной Армении. Была там и водка. Очень много водки. И иногда водки было гораздо больше, чем вина. Но заведение-образец, почему-то, никогда не переименовывалось. Так все время и называлось «Вино». Видимо, по официальной версии советской идеологии в области гастрономии у наших трудящихся водка не пользовалась никогда популярностью. Видимо советские идеологи думали, что советские же трудящиеся пьют исключительно хорошее вино. Приходит обычный советский труженик домой после тяжелой заводской смены, поставит рашпиль у стены, достанет из холодильника-бара бутылочку хорошего молдавского вина, нальет себе бокал, и медленно цедит его весь вечер, наслаждаясь букетом его вкусов. А насладившись, непременно посмотрит программу «Время» и уснет, вдохновленный успехами советской экономики и озабоченный ростом производственных показателей родного цеха.
А тем временем в группе военных находящихся внутри заведения «Вино» возникли некоторые рабочие противоречия, закипели, так сказать, творческие диспуты. Одна часть военных считала, что на весьма ограниченное количество денежных средств, имеющихся у военных, необходимо произвести закупку трех бутылок водки и пяти шоколадных конфет (по количеству участников). Другая же часть группы предлагала остановиться на двух бутылках и небольшом количестве самой дешевой колбасы. Наконец, здравый смысл побеждает вместе со вторым вариантом. Водка закуплена, группа перемещается в заведение-образец советской розничной торговли с надписью: «ГАСТРОНОМ» в поисках доступной для военных колбасы. Какая же колбаса для них доступна? Конечно же, знаменитая — ливерная, изготовленная исключительно из пропитанных здоровьем внутренних органов лучших экземпляров продукции отечественного животноводства. Внешний вид, правда, у нее не очень. На что-то подобное порой натыкаешься в местах выгула домашних животных. Но для военного главным всегда было содержание.
Остаток денежных средств обменивается на чек. Производится взвешивание продукта. При этом часть его падает на затоптанный пол под прилавок. Продавщица, ничтоже сумняшись, поднимает упавшую часть продукта и, как ни в чем не бывало, упаковывает покупку целиком. Военные возмущены. Брови продавщицы удивленно подпрыгивают: «Вашей собачке все равно же с пола придется есть!» Военные раздавлены. Но не на долго. Водка быстро впитывается в здоровые организмы, гулко проваливается в них, шлепаясь о дно желудка, фаршеобразная ливерная колбаса. Военные вновь активизируются. В них вновь просыпаются и рвутся наружу низменные их инстинкты. Планы рождаются с немыслимой быстротой. Наконец военные принимают коллективное решение и перемещаются на дискотеку в ДК «Одного из предприятий города на Неве».
В ДК любят отдыхать представители рабочей молодежи. В большинстве своем это учащиеся или выпускники ГПТУ (Господь Позволил-таки Тупым Учиться) и в том же большинстве поразительные отморозки с необезображенными интеллектом лицами, хранящими следы непрерывного употребления плодово-выгодных напитков, синяков, порезов и укусов. Наверное, это были худшие представители советской рабочей молодежи. Глядя на них, изучающие труды классиков коммунизма военные, всегда невольно думали: «И чего это, разлюбезные наши классики марксизма-ленинизма так любили этот пролетариат? Так надеялись на него? Мол, самый сознательный и передовой и организованный — могильщик-де буржуазии. И если будущие и настоящие могильщики выглядят именно так, то буржуазия, это не так-то, наверное, и плохо». Многие из этих молодых пролетариев за всю жизнь не прочли не одной книги или прочли только одну. По признаниям большинства из них это была сказка о мальчише-кибальчише и поскольку у этой сказки был очень грустный финал молодые пролетарии навсегда разочаровались в литературе.
Военные давно осознали всю тщетность интеллектуальных полемик с представителями младопролетариата и деятельно полемизировали с ними исключительно по банально-быто-половым вопросам. Только, как говориться, «из-за бабы». При этом, долго не дискутируют они никогда Конфликт душится в самом его зародыше. Еще не оформленная окончательно претензия вот-вот готова сорваться с синюшных губ младопролетария, а военные уже бьют по ним. По губам. Военные бьют сразу и молча. Иногда и в нос. Такая у них тактика борьбы с пролетариатом. При этом младопролетарий вдруг сразу грустнеет, сникает как-то, съежившись на полу, не может вспомнить сути так и не оформленной окончательно претензии, слабым голосом просит обеспечить ускоренную подачу свежего воздуха. И опять же врут классики. Не самые они, пролетарии, организованные. Военные гораздо организованней. По особому сигналу быстро сосредотачиваются в зоне так и не родившегося конфликта и предотвращают возможные массовые волнения и беспорядки.
Но сегодня военных в ДК мало. А пролетарские массы пришли в сильное волнение по причине наступления временной нетрудоспособности двух особо пылких своих представителей, в очередной раз попытавшихся ущемить права военных. Права военных предполагалось ущемить путем ограничения их доступа к некоторым разгоряченным в танце женским телам. Военные применили тактику. Но пролетариев оказалось в несколько раз больше. Военные приводят в действие заранее предусмотренный для таких случаев план под кодовым названием: «Наших бьют!»
Реализация плана состоит в организации военными круговой обороны, отвлечения пролетарского внимания методом резкого выбрасывания кулаков и обеспечении, тем самым, незаметного исчезновении с места происшествия самого быстрого из военных. Самый быстрый из военных, проявляя смекалку и изворотливость, доводит сигналы оповещения до мест массового скопления военных. Далее, в зависимости от времени суток и степени пролетарского гнева, возможны различные варианты развития событий.
На дворе стоял белый и праздничный день. В такие дни наткнуться на скопление праздничных военных где-то на улице было маловероятно даже для самого быстрого из военных — в такие дни военные обычно разбиваются на группы, а группы рассасываются по территории мегаполиса и прилегающей к нему области. Самое значительное скопление военных можно было найти только в казарме. В казарме, в такие дни, оставались самые ярые нарушители военной дисциплины и злостные двоечники. Временами наблюдалось еще и пересечение этих множеств, но чаще всего это было одно и то же множество веселых и неунывающих никогда военных, всегда смотревших на жизнь очень просто. Походы в город, будучи официально для этой миссии оформленными и соответствующими инстанциями зарегистрированными, не представляли для них никакого интереса. А вот сбежать ночью, лихо перемахнув через забор к девкам-медсестрам из расположенного по близости военного госпиталя — это подлинное наслаждение, сопровождаемое выбросом в кровь адреналина и продолжением этого драйва на следующий день уже в глубоком сне под задней партой большой лекционной аудитории. Сон у веселых военных был настолько глубок, что лекции усваивлись ими всегда с большим трудом. Потому-то и страдали вечно, у этих веселых военных зловредные показатели успеваемости. Где же взять им было столько здоровья, чтобы совладать ночью с медсестрой, привыкшей к напряженным ночным сменам, а днем с теорией электрических цепей?
Ну что же, как раз от таких простых и веселых военных толку в ситуациях, когда «Наших бьют» всегда гораздо больше, нежели от трусоватых отличников. Гонец, наконец, достигает места расположения веселых военных и произносит, известную военным, кодовую фразу одновременно с целеуказанием: «Наших бьют в ДК «…». Гонец, выполнив свою задачу, в изнеможении падает на руки товарищей подобно первому на земле марафонцу. Но, в отличие от марафонца, самый быстрый из военных не испускает окончательно свой, пропитанный легким перегаром дух, а только некоторое время его переводит. Тот древний марафонец имел моральное право так вот взять и скоропостижно помереть, весть-то он донес, до правителей своих, явно положительную, мы, мол, победили и проблем у нас в ближайшее время не предвидится. А раз проблем нет, можно, наверное, и почить на век-другой. В нашем случае все обстоит несколько иначе — на счету каждый боевой кулак. Кулак, как потенциальный работодатель врачей-кудесников челюстно-лицевой хирургии.
Услышав кодовую фразу, дежурная служба военных объявляет общий сбор и уточняет общее количество простых и веселых, а потому не отпущенных в город военных, коротающих время на разных курсах факультета. Выявляется самый старший из собравшихся военных, по должности, военному званию, либо просто по добытому в боях авторитету. Самый старший анализирует информацию, доставленную самым быстрым, разбивает военных на группы, назначает старших в каждой из групп и осуществляет постановку задач каждому из старших. Старшие ставят задачи группам уже в ходе движения. Все это занимает от силы пять-десять минут.
Как-то самым старшим из военных оказался целый старшина одного из курсов. Бедняга, видимо, решил воспользоваться неожиданным праздником и просто отоспаться, закрывшись у себя в каптерке. А тут такое дело…
Самое сложное в осуществлении военного плана — перемещение большой группы военных за территорию училища. Старшина принимает гениальное решение — быстро, под копирку заполняется «Список военных, следующих в народный театр при ДК им. Н. К. Крупской». Почему именно этот ДК? Да потому, что у старшины там сестра работала и это обстоятельство тоже было учтено гением его замысла.
Организуется строй военных, оборудованный для безопасного перемещения по городу флажковыми. Флажковый — это такой представитель подвида военных, военный-самоубийца. В его обязанности входит перекрытие интенсивного движения на автомагистралях города для беспрепятственного передвижения колон, состоящих исключительно из военных. При этом флажковый со строгим лицом должен гордо прошествовать в центр проезжей части какой-либо магистрали, при этом стараясь не замечать несущихся на него многотонных махин, яростно визжащих тормозами и изрыгающими из своих недр потоки ненормативной лексики. Если торжественное шествие по проезжей части завершается для флажкового удачно, он приступает к манипуляциям с флажками, предписывающим — всем стоять, военным — двигаться.
Строй останавливается на КПП, старшина бодро докладывает удивленному самому старшему из дежурных («У меня этого мероприятия в плане нет!») с какой-то «политической» кафедры. («Политическая» принадлежность дежурного была установлена заранее). Старшина протягивает ему второй экземпляр «Списка…» и приводит примерно такие аргументы:
«В план не успели включить. Это мероприятие посвящено революционной деятельности В. И. Ленина в период, предшествующий февральской революции, и организуется по Директиве Главного политического управления ВС СССР. Директива пришла накануне вечером».
Сознание «политического» самого старшего из дежурных, начинает туманиться под воздействием святых таких для каждого «политического», слов и словосочетаний — «революционная деятельность», «Ленин», «Главное политическое управление», и медленно выключается. Ему уже не кажется странным, что Директива пришла именно этому старшине, миновав при этом всю военно-политическую иерархию. Самый старший из дежурных некоторое время еще нерешительно мнется, время от времени он подносит к подслеповатым глазам «Список…», нервно комкает его в потной руке и, вдруг (видимо сознание завершило процесс выключения), отпускающе прикладывает руку к правому виску, демонстрируя воинское приветствие. В этом случае приветствие означает одобрение дальнейших действий военных.
Благословленный таким образом строй военных продолжает свое возмездно-поступательное движение. Покинув пределы зрительной досягаемости дежурной службы, строй переходит на бег с выполнением специальных разминочно-ударных упражнений. Здание ДК быстро берется в оцепление, блокируются все входы и выходы из него. Внутри здания военные блокируют туалеты, в том числе и дамские — самые трусливые из пролетариев пытаются покинуть ристалище и переждать гнев военных, сидючи в специфических женских кабинках и визгливо имитируя возмущенные женские голоса.
Военные бьют в соответствии с классикой: аккуратно, но сильно. Неблагодарные пролетарии тихо скулят. Битие, оно, конечно, определяет пролетарское сознание, но самоцелью для военного не является. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию самых гневных в непонятливости своей несознательных пролетариев. Несознательным пролетариям в очередной раз объясняется, что неуважительное отношение к защитникам отечества, коими, собственно, и являются прибывшие в ДК военные, ведет к общему снижению обороноспособности нашей великой Родины. Снижение обороноспособности, в свою очередь, неизбежно приводит к ослаблению позиций нашего государства в многоукладной мировой экономике. А такое ослабление позиций нашего государства может нанести ощутимый удар по карману всех без исключения пролетариев. Как же ослабленное государство будет втюхивать его, пролетария, говенную продукцию в мировую экономику? Ну пусть не во всю экономику — общемировая экономика такого глумления над собой не потерпит, но вот в экономику «братских» государств соцлагеря — это ведь вполне реально. А если вдруг внешняя интервенция? Да никакой интервент не потерпит такого качества результатов пролетарского труда (это ведь только наш великотерпеливый народ, защищаемый теми же справедливыми военными, исхитряется пользоваться кривобокой, шершавой, ломкой и травмоопасной продукцией этого отстойного пролетариата). Вышвырнет интервент такого пролетария на улицу, и не заинтересует его даже непомерная дешевизна рабоче-пролетарской силы.
Пролетарии проникаются. Пролетарии удивлены тем, что раньше они о таких сермяжных вещах даже и не задумывались. Их заплывшие нахальством глаза вдруг прояснивают, головы сотрясаются от пронизывающего процесса понимания, слегка травмированные конечности демонстрируют искреннее раскаяние и растущее дружелюбие. При виде раскаяния гнев из душ военных постепенно выдавливается врожденным гуманизмом. Военные организовано и неспешно покидают ДК, стремясь сделать это еще до приезда вызванного по ошибке каким-то непроникшимся пролетарием, наряда доблестной советской милиции. Милиция в таких случаях не спешит, пусть военные немного вместо нее потрудятся. Милицию тоже давно уже достали эти беспокойные люмпенпролетарии.
Военные, те временем, группируются в заранее оговоренном, тихом и скрытом от глаз широкой общественности месте. Группируются с захваченными по обоюдному согласию трофеями — лучшими представительницами женского пола, оказавшимися в тот день в пролетарском ДК. Они ждут возвращения посыльного из народного театра при ДК им. Н. К. Крупской. Посыльный возвращается с благодарственным письмом от дирекции и коллектива ДК за деятельное участие в подготовке и проведении экспериментального революционно-патриотического спектакля «Сердца вождей революции», такого-то числа, такого-то месяца. Благодарность выражалась всему «Списку военных, следующих в народный театр при ДК им. Н. К. Крупской». Серпасто-молоткастые печати. Витиеватые подписи. Сестренка старшины оказалась дамой на удивление смекалистой.
Военные обмениваются с дамами контактной информацией (особенно шустрые и веселые из них уже даже договорились о встрече сегодняшней ночью и запланировали себе очередной «самоход»). Затем военные галантно прощаются с дамами и, огороженным флажками строем возвращаются в пределы расположения родных подразделений.
Утром следующего дня в рядах военноначальственных царит замешательство — все утро звонят из отделения милиции. Звонят с какими-то гнусными обвинениями в адрес военных, якобы устроивших массовые беспорядки с избиением гражданской молодежи.
— Да Бог, с вами. Какие массовые беспорядки? Какие избиения? В Советском союзе не может быть ни первого, ни второго! Это вам не Бангладеш, какая-нибудь!
— Но есть, пострадавшие и свидетели.
— Пострадавшие, вы сами говорили, ничего не помнят. Амнезия у них. Лопочут что-то о росте востребованности своей продукции в странах Варшавского договора. Кстати, а кто это такие, эти свидетели?
— Это те, которые успели убежать, когда подошел строй военных.
— Ну, тогда это точно не мои. От моих бы не убежали. Позвольте, вы сказали строй?! Может еще и барабаны были?
— Барабанов вроде бы не было, а вот флаги были.
— Какие флаги? Уж, не с развернутым ли Боевым знаменем части они к вам пришествовали?
— Да нет, флажки такие, ну размером чуть побольше детских.
— Вот всегда вы пытаетесь военных с детьми сравнить. А я вам докладываю, что у меня за территорию училища вчера выходил только один строй. Да, в ДК выходил. Но в ДК не вашего занюханного заводика, а в ДК имени Надежды Константиновны Крупской. Если вы не знаете — супруги вождя мирового пролетариата. Мирового! Понимаете?! В том числе и вашего — обосранного и избитого. И принес этот строй поименную благодарность от руководства и коллектива этого ДК. За помощь в организации театральной постановки, посвященной деятельности вождя в период подготовки Октябрьской Социалистической Революции!!!
На том конце телефонного соединения подавленно молчат и затем с горестными вздохами кладут трубку. Против благодарности чуть ли ни от самого вождя мирового пролетариата, либо там от супруги его, не поняли на том конце до конца, но это и не важно — в любом случае не попрешь. Надо проявлять гибкость и потихоньку спускать дело на тормозах. Ну там, что-нибудь отписать, например, о том, что в тот день в ДК заходила Аннушка и случайно разлила масло. Какая еще Аннушка и почему она поперлась с маслом на дискотеку? Уважаемые младопролетарии, читайте классику, пока еще не поздно. Отложите вы свои легко понятные, и поэтому любимые сказки про мальчишей-плохишей, они уже не актуальны. Всего десяток лет спустя, Главный буржуин, видимо сумевший договориться с непобедимой Красной Армией, все равно наводнит страну своими выдвиженцами-плохишами, они хоть и некомпетентные, но зато легко управляемые (помните: «А пряник, даш?»). Выдвиженцы-плохиши будут пытаться научить военных жить по поганым своим буржуазным законам. А в классике, кроме того, отдельно отмечено, что просто так, (в смысле случайно) кирпичи на голову не падают. Распаленные танцами пролетарии пролитого масла сразу-то и не заметили. Только когда уже все попадали они, тогда и заметили это масло. Но уже поздно было что-либо предпринимать. Ведь порасшибли уже все в неуклюжих своих падениях И главным образом, трвмировали головы свои и конечности. Скорую помощь надо было вызывать, а кто-то тупой не разобрался и вызвал зачем-то милицию.
А военные? Какие военные? Целый строй военных?! Ну а что тут, собственно, удивительного? Праздник ведь был. Мимо проходил строй военных. Военные ведь не любят по праздникам ходить отдельно. А вот строем любят. Военным походить в праздник по городу строем — хлебом не корми. Так вот и шли они — удовольствие получали. Праздник ведь. А за подобные удовольствия не наказывают. Тем более — в праздники. И никто не вправе лишить военных этого удовольствия. А раз не вправе — придется вам, товарищи милиционеры, извиниться перед военными (ну, конечно же, не перед всеми, хотя бы перед самыми военноначальствующими из них). Строем празднично походить — это военные завсегда горазды. Но чтобы драться? Да еще по праздникам? Это уж увольте. Видели ли марширующие военные какое-нибудь мордобитие? Нет, конечно! Некоторые из особо наблюдательных военных заметили нескольких упавших пролетариев, от которых сильно и издалека пахло подсолнечным маслом. Так эти наблюдательные военные даже выскакивали из строя, предварительно испросив разрешения у старшего, и прямиком мчались к уличному таксофону, стало быть «скорую» пролетариям заказывали, переживали за них. А тут такие обидные и ехидные получаются подозрения. Так что дело надо закрыть поскорее. Закрыть и крепко так тесемочки на папочке затянуть. И спрятать его куда-нибудь подальше. На самую дальнюю и верхнюю полку пыльного архива.
Вот и слились все ипостаси отдыха обучаемых военных воедино. Водка была? Была водка, и не только пилась, но еще ливером была заедена. А дамы присутствовали ли? Присутствовали, для некоторых даже ночное продолжение было, а некоторым из числа этих некоторых, впоследствии, некоторые дамы достались на всю жизнь.
А как же театр? Ведь присутствие его в отдыхе военных выглядело как-то виртуально? То есть как это виртуально? Есть официальные документы, заверенные печатями и подписями. Документы, подтверждающие активное присутствие военных в одном из храмов сценического искусства. Так что останавливайте проявление правового своего нигилизма. Документам надо верить. А то ведь можно до того дойти, что глядя в вашу паспортину, усомниться, что вы — это действительно вы. Можно даже набраться наглости и пуститься в рассуждения о вашей виртуальности и платить вам виртуальную зарплату. Тем более, что в застоявшиеся те времена не было еще в бытовом обиходе ни персональных компьютеров, ни сканеров, ни принтеров, способных обрабатывать и воспроизводить графическую информацию в реальном цветовом диапазоне. Это к настоящему времени мутные волны научно-технического прогресса дотолкали и прибили к нашим диким, не готовым противостоять злу берегам, разнообразные информационные технологии. И, пожалуйста, изготовляй себе любые документы, а еще лучше — инвалютные денежные знаки. При этом не надо утруждать себя созданием каких-нибудь спецлабораторий — все прямо на дому и в перерыве между перекурами.
Так что, подлинность документов не должна вызывать ни у кого никаких сомнений. А раз так, значит военные в театре были. Были они там слегка пьяными и пахло от них ливерной колбасой. А сопровождали военных в театре исключительно привлекательные дамы, которых этот запах ничуточку не смущал. А значит, жизнь обучаемых военных в те застывшие годы даром все-таки не пропадала.
Фильм, Фильм, Фильм…!
Как известно было до недавнего времени, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это сейчас уже стало многим непонятно: что же в конце-концов для многих является в этой жизни прямо таки действительно важным.
И какое именно искусство? Осталось ли оно где-нибудь вообще, не захлебнулось ли в густом тумане, окутавшего страну неистового и всепроникающего чеса? А если осталось, то где, когда и в какой форме можно к нему приобщиться? Сплошные сомнения и раздумья. А тогда классик сказал, как отрезал — кино и все тут. Ну а раз кино, значит должны быть киноактеры.
И было бы странным, если бы военных здесь вдруг не заметили. Быть военным и не быть актером просто невозможно. А актер — это, пожалуй, поширше понятие будет, нежели какой-то там киноактер. Вопросы собственной киногеничности настоящего актера, читай настоящего военного, не должны волновать ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, военный должен подпадать под определение: артист театра и кино.
Нет, бывают, конечно же, для военных определенные исключения, если же там, решил он, к примеру, только до майора, тогда и без живого артистизма еще можно будет как-то протянуть, на чистом энтузиазме, помноженном на альтруизм, и то, с большим трудом. Но продвигаться по скользкой служебной лестнице от ступеньки «майор» куда-нибудь выше, не будучи признанным актером, хотя бы среди окружающих вас военных, нет, это просто невозможно. Это больше напоминает какую-то оригинальную форму самоубийства.
Вот представьте себе зону компактного проживания военных разных воинских званий и биологических возрастов, постоянно снующих по территории зоны, выполняя очень похожие, но всегда противоречащие друг другу, задачи. При этом в ходе броуновского своего движения военные непрерывно сталкиваются, некоторое время взаимодействуют, обмениваясь различными видами энергий, а по результатам обмена либо взаимно сближаются, либо взаимоотталкиваются.
Взаимодействие происходит пусть не всегда в строгом (в плане нарушения нормативной лексики), но все же соответствии с уставными положениями. И если на всей остальной территории защищаемой отчизны строгость законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения, в зоне компактного проживания военных всегда стремились «букву» Устава соблюсти (во всяком случае, в монументально застывшие те времена, соблюсти стремились). А «букв» там столько, что если все, что они за собой предполагают хотя бы в течение одного дня строго выполнять — летальный исход в лучах пламенеющего заката военному обеспечен.
Выручает военных врожденный инстинкт самосохранения. Несмотря на многочисленные военные упражнения, по подавлению всяческих отвлекающих от доблести службы инстинктов, инстинкт самосохранения является наиболее живучей деталью духовной сущности военного. И живучий инстинкт этот сопровождает военного всю его жизнь.
Вот казалось бы, угасли уже совсем еще недавно казавшиеся очень важными, инстинкты. Выдали военному вместе с удостоверением «Ветеран военной службы» справку, позволяющую беспрепятственное посещение женского отделения общественной бани. Ну, например, в мужское отделение большая очередь, а заслуженный военный шаркающей походкой шнырь в отделение для помывки прекрасного пола. Как! Мужчина, куда вы?! В своем ли вы уме?! А военный хоп, и предъявляет справочку. Извольте ознакомиться. Как мужчина я уже никакой. Стерилен и потому абсолютно для женского пола безвредно-бесполезен. Может там, внутри заветного помывочного отделения кто-то все же на что-то с дури и понадеется. Предупреждаем сразу — бесполезно. Всем обучаемым военным на протяжении длительного времени в преддверии выходных дней в пищу подсыпают бром. Притупляют, так сказать, низменные их инстинкты. Но качественного, быстродействующего брома на военных как всегда не хватает, и поэтому действие его начинает проявляться ближе к военно-ветеранскому возрасту. Постепенно, но все с учащающейся частотой. А потом вдруг, как-то все равно неожиданно: раз — и все. Половина шестого.
А на вопрос женской очереди относительно того, что в своем ли военный пребывает уме, тоже имеется соответствующая справочка. От специального военного врача, приснопамятного читателю военного герантолога. Спецврач свидетельствует всуе, что военный ветеран давно уже находится в состоянии глубокого профессионального маразма, устойчивого в своей специфичности. А специфичность, опять же, обусловлена тем же живучим инстинктом самосохранения: военного постоянно преследует чувство опасности, даже при нахождении его в стерильно-безвредном никому не нужном состоянии. На все он смотрит недоверчиво и оценивающе. Оценивает, стало быть, как его всю жизнь учили, угрозы и уязвимости. Но к общественно опасным деяниям склонностей не имеет. Пока. Пока пенсионное его обеспечение не упадет до уровня прожиточного минимума.
Ну так вот, руководствуясь живучим своим инстинктом военный постоянно что-то недовыполняет. А потому он постоянно в чем-то виноват. Начальствующему какой-либо величины можно наказывать любого своего подчиненного военного, даже не имея визуального или еще какого контакта с ним. Вот так просто в канцелярии сидючи представил себе военного, который, к примеру, обратился к своему сотоварищу на «ты» и, тут же — раз и наказал его. А потому, что все военные по служебным вопросам должны обращаться друг к другу исключительно на «вы». А поскольку вопросов, совершенно никак не относящихся к службе, у военных практически не бывает, значит все они виноваты просто по определению. И правильно их наказывают. До чего дошли, хамье трамвайное, они, видете ли, поправ устав друг другу тыкают!
Или же еще один пример. Одна из статей успевшего уже читателю надоесть Устава повествовала о том, что все военные обязаны при встрече (обгоне) отдавать друг другу честь, строго соблюдая правила этого мероприятия. А правила предписывали отдачу чести выполнять четко и молодцевато (военному воображению совершенно нетрудно воспроизвести себе процедуру потери невинности, сопровождаемую четкостью и молодцеватостью), при этом правая рука прикладывается к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижней части головного убора, а локоть был на линии и высоте плеча. У-у-ф-ф!
И это еще не все. Есть еще и другие описания порядка лишения военного чести. Да-да, именно лишения. Он же, согласно Уставу, должен ее отдать, следовательно, должен ее тут же и лишиться. Справедливости ради надо отметить, что, как правило, лишение происходит ненадолго, ведь тот, кому военный честь свою только что, походя так, даровал, обязан тут же кусочек ее вернуть обратно, демонстрируя ответное приветствие, а обесчещенный военный обязан этот кусочек поймать, как можно удачней разместить его внутри себя и тут же приступить к его бережному и быстрому выращиванию. Почему быстрому? Так ведь скоро же опять всю отнимут, а вернут лишь кусочек-рассаду. Но это еще ничего, это еще нормальная ситуация. А вот если, к примеру, тот военный, которому честь была отдана оказался недобросовестным? Или же невнимательным просто? Пожадничал, к примеру, этот военный семенным кусочком? Тогда все гораздо сложнее, все придется с нуля начинать.
Другие описания способов лишения военного чести касаются случаев, когда головной убор у военного по каким-либо причинам отсутствует либо когда руки военного заняты тяжелой поклажей.
Имеются так же описания порядка почти добровольного отдания чести военным на месте и в движении. Особенно интересно выглядит это в движении. В этом случае военный должен, находясь в состоянии полуобморочного экстаза, злобно хлопнуть всей ступней своей о ничем не повинный участок земной поверхности, в момент шлепка резко боднуть головой в сторону искусителя и, пожирая его полными оргазма глазами, одновременно примкнуть правую руку к головному убору, а левую судорожно прижать к бедру. Камасутра отдыхает!
Представили, как это все будет выглядеть в исполнении военного артиста, выступающего в одиночном разряде? А теперь представьте, что творилось бы в компактной зоне беспрерывного хаотического туда-сюда шныряния большого количества разновеликих военных артистов, если бы они все это одновременно все вместе начали исполнять.
Представьте, к примеру, радостную процедуру массового освобождения от оков давно надоевшего сна, когда двести внезапно разбуженных военных начинают ломиться в места общего пользования (в соответствии с Уставом: уборную, оборудованную «одной кабиной с унитазом (очком) и одним писсуаром на 10–12 человек», или умывальную: «устанавливаются из расчета один кран (сосок) на пять-семь человек…»), беспрерывно топая полными ступнями и бодаясь головами, в исполнении утренних воинских приветствий и при этом еще обращаются военные друг к другу исключительно на «вы».
Но ведь этого требует Устав! А военные его с утра до ночи нарушают. Не успели, как следует, проснуться, а уже получите: полный букет всевозможных нарушений. Устав этот, видимо, и задумывался авторами, как некий свод потенциально достижимых, пограничных каких-то задач. Выполнение этих задач видимо предполагалось в каких-то особо радужных, совершенно неожиданно и как-то благостно сложившихся условиях и предусматривало какую-то строгую очередность и периодичность, например по одной задаче в день. В один день военные обращаются друг к другу на «вы», в другой лишаются чести без головных уборов, а на следующий день головные уборы одевают и опять лишаются, днем позже лишаются, но уже в движении и т. д., до бесконечности. Но последовательно.
Но у военных так никогда не получится, у них не принято обращать внимание на какие-то там условия и соблюдать какую-то там последовательность. Вот поэтому они и находятся в состоянии ежедневного всего и вся нарушении и перманентной виноватости. И регулярно подвергаются различного характера наказаниям. А процесс наказания военного есть процесс демонстрации высочайшего актерского мастерства.
Как вы думаете, какова высочайшая задача наказующего? Правильно — это максимально испугать наказуемого военного. А какова задача наказуемого военного в момент наказания? То же правильно, создать видимость глубочайшего раскаяния и полуобморчного испуга.
Вот стоит, к примеру, гневный такой военноначальствующий, демонстрируя готовность к началу процесса наказания перед съежившимся, но еще бодрящимся военным. Щеки и ноздри военноначальствующего непрерывно и нервно раздуваются. Подергивания желваков ощущаются даже при приведении щек его в состояние крайнего вздутия. Все эти действия сопровождает непрерывное шумное сопение, вырывающееся из ноздрей вместе с частичками естественных органических выделений. И ничего более. Военноначальствующий профессионально держит паузу.
Военный, тем временем, с каждой секундой паузы все больше и больше теряет остатки бодрости. По морде лица его то и дело пробегают гримасы сначала легкого, а затем и полного отчаяния. Далее начинают проявляться признаки отчаянной безнадежности. Отчаянная безнадежность начинает было меняется на гримасу полнейшего равнодушия, но вдруг наступает некий всплеск и уже на почти равнодушном лице военного прорисовывается смесь совершенного в искренности своей раскаяния и глубочайшего первобытного испуга. Лицо военного бледнеет и покрывается испариной, зрачки глаз его начинают испуганно метаться из стороны в сторону, ресницы часто и удивленно смыкаются. Губы военного начинают синеть и, мелко подрагивая, придают морде лица его полуплаксивое выражение. Вот такое вот выражение морды лица военного и является для военноначальствующего сигналом к окончанию подготовительной фазы театрального действия и необходимости введения его в стадию решающую.
Военноначальствующий бросается в атаку. Сохраняя на морде своего огорченного лица прежнюю мимику, военноначальствующий еще сильней багровеет и заходится в истошном крике. Он долго кричит о недостойном поведении военного, о его вопиющей неблагодарности, о желании проявления крайнего состояния любви к его матери. Затем, охрипнув, постепенно сбавляет обороты и переходит к вопросной части своей сценической деятельности. Вопрос, по сути дела один, и заключается в выяснении наличия желания у военного и дальше реализовывать почетные свои обязанности (почетные права военный уже успел реализовать накануне). При этом военноначальствующий сильно блефует и демонстрирует свою готовность лишить военного последней радости в этой жизни.
Военный, в свою очередь, с выражением животного страха на морде лица своего, демонстрирует веру в справедливость основных положений слегка эмоционального спича военноначальствующего, сдавленно, но уже вполне различимо, произносит сокровенное: «Виноват, исправлюсь, молодой, желанье есть».
И все, фальшиво-демонстративный гнев военноначальствующего уже практически сведен на нет. Но последнее слово все равно должно остаться за ним. Он становится в раскачку с пяток на носки, совершая жующие движения одними губами и цедит: «Виноват он! Советую вам перед словом «виноват» всегда добавлять букву «с». Свиноват! Вот как это должно звучать! Это и есть нынешнее состояние Вашей воинской воспитанности». И гордый такой уходит с капища в состоянии счастливой завершенности только что артистически продемонстрированного педагогического акта. Уходит, не потеряв при этом ни единой нервной клетки. Потому что это давно уже сложившийся артист антрепризы. Если бы пропустил он через душу свою хотя бы сотую часть того, что отражалось на морде его огорченного лица, инсульт помноженный на инфаркт, был бы ему обеспечен. Наверное, даже больше: его просто разнесло бы в клочья. Крупные части разметало бы, наверное, по границам капища, а мелкие же детали организма военноначальствующего можно было бы найти и далеко за его пределами, где-нибудь в предгорьях Боливии, например. А почему артист именно антрепризы? Да потому что именно такого рода артист занимается, как сейчас принято выражаться, «чосом», играет, в отличие от артиста репертуарного театра, по нескольку спектаклей в день, большие деньги зарабатывает. Как же это возможно, предаваться истинным проживаниям роли по несколько раз в день? Скопытиться можно быстро, свернуть, так сказать, ласты. И деньги сразу превратятся в скучные и ненужные такие бумажки. Во всяком случае, ему, почившему в бозе, не нужные. А безутешные родственники потом из-за этих скучнейших бумажек передерутся все, станут навек врагами, да еще его же, усопшего, во всем и обвинят. Дескать, мало оставил, сквалыга. Все, видимо, понимает этот артист антрепризного розлива. Поэтому и протекает игра его без внутренних переживаний, все больше на прежней раскрученности держится он, изредка проявляя действительное мастерство.
А что же военный? Он, конечно же, в основном гримасничал, потакая военноначальствующему. Но при этом все же слегка побаивался военноначальствующего и, в какие-то моменты даже переживал за судьбу свою, за почетные, так сказать, свои обязанности. Очень хотел он чтобы их все же оставили ему. Ну а как не переживать? Понятное дело, артист-то ведь только начинающий. Но каждому военному необходимо взрослеть и матереть в своем артистизме. Иначе — хана! Либо сожрут его военноначальствующие волки, либо инфаркт миокарда с большущим таким рубцом. Третьего, как говориться, тут военному не дано.
Поэтому и начинали прививать военным артистические навыки практически сызмальства. Для начала их определяли в артисты кино. И не важно, что в начинаниях своих становились они абсолютно бесплатными участниками массовых сцен, именуемых в мире кино массовками, за участие в которых, к примеру, «гражданская сволочь» — студент получала три рубля за съемочный день. Но деньги никогда не являлись для военных определяющим жизненным ориентиром (достаточно вспомнить знаменитое: «Гусары денег не берут!»). Военные были счастливы тем, что в ходе приобщения к великому искусству с них ничего при этом не взыскивают. Не взимают, так сказать, плату за дополнительное обучение. Ведь работа в кинематографе открывала военным путь на большую сцену театрально-военной деятельности, сокращенно — ТВД. И неважно, был ли это Восточный ТВД или Западный: настоящий военный везде вынужден был быть артистом с большой буквы.
А кино было задумано масштабное. Название его отливало традиционно красным, для того времени, цветом. Тогда ведь много было всего красного. Предприятия советские носили названия, преимущественно связанные с красным цветом: «Красная заря», «Красный пролетарий», «Красный пекарь» и т. д. И трудились на этих предприятиях красные ткачи, красные токари, красные кондитеры и т. д. (Отчего же они всегда так краснели? Неужели от беспробудного пьянства? Да нет, вроде, дисциплина на таких больших предприятиях поддерживалась в строгости. Может отрывались во внерабочее время? Да, наблюдалось такое явление, но ведь красными работники были только в рабочее время. Неужели меняли окрас синего лица своего, на результаты собственного труда глядючи? Это уже ближе к истине. А значит, совесть-то все-таки была в тягучие те времена). Даже праздник Великого октября-ноября был красным. Ну а уж фильму, повествующему сразу о двух революциях, как говорится, сам Он повелел. Хотя Он, наверное, с самого начала хотел совсем другого. Гложет какая-то, непонятно откуда взявшаяся убежденность — не нужны Ему были изначально ни революции, ни гражданские войны. Но, что уж сделано, то сделано — бес попутал пролетариев. Принялись они за разрушение святых обителей, путая веру с деяниями отступивших от нее продавцов «опиума для народа». И устроил Он тогда глобальную очистительную клизму для всего бесчинствующего населения. А фильму, в конце концов, было присвоено название: «Красные колокола». Колоколам не было ни за что стыдно. Они красны были раскаленностью своей. Шибко бил в них, прокравшийся украдкой краснощекий лукавый, скликая на Русь смерть и разорение.
Съемки были доверены признанному мастеру батальных сцен С. Бондарчуку. Первая часть снималась в Мексике, но военных туда почему-то не пригласили. Поберегли, должно быть, для съемки решающих сцен на территории революционного Петрограда. В Мексике так ведь ничего и не получилось. А у нас-то — о-го-го! Опять лезут в голову, казалось бы, неуместные здесь анекдоты. Нет, все же не удержусь и один из них приведу.
Идет урок в грузинской школе. Учитель задает классу вопрос:
— Вот, скажытэ мне, дэти, кто у нас в стране был и есть лучший джигыт?
— Батонэ, это наверное Гиви из села Гурии.
— А пачему ты думаешь так?
— У нэго самая быстрый в Грузия кон!
— Нэт, генацвали, нэ так это.
— Ну тогда это Михо из Кутаиси.
— А пачему ты так думаешь?
— У нэго самый крэпкий и ловкий в Грузия сабел!
— Нэт, генацвали. Нэ правильно. Запомните, дэти, самый главный джигит у нас в стране — был, есть и будет, вэчно жывой наш, дэдушка — Владымир Илич Лэнин!
— Вах! Нэужэли у него был самый быстрая кон и крэпкий сабел?
— Нэт, дэти, просто они у нэго брата убили, а он им т-а-к отомстыл!
(И на экране замелькали художественные и документальные кадры гражданской войны: рубка белой и красной конниц, массовый расстрел белогвардейцев, расстрел царской семьи, подавление мятежа на тамбовщине и многое-многое другое).
Так вот о наших бесплатных киноартистах. Учебный процесс был очередной раз попран, осмеян, раздавлен и в таком вот отвратительном виде принесен в жертву прожорливому киноискусству. Всякое искусство, как известно, требует жертв. А уж самое для нас важное…
Целый месяц скрещивал военных в шутовских баталиях признанный во всем мире мастер этих самых батальных сцен. На тот же месяц великий мастер вернул великому городу на Неве промежуточное его название — «Петроград» и на этот же период принял лик самого главного военноначальствующего для всех временно необучаемых военных промежуточного города Петрограда.
А еще был великий мастер большим любителем всевозможных дублей. Чертить замысловатые схемы шутовских баталий, включать при этом живое воображение видно стало ему уже недосуг. Притомился, видимо, еще во время съемок «Войны и мира». Поэтому поступал великий мастер предельно просто. Стоя на высоких подмостках, он что-то неторопливо объяснял помрежу, спокойно отходил в сторону и погружался в великие свои думы. Помреж некоторое время растерянно смотрел на колеблющееся перед ним море военных артистов и начинал визжать, отдавая абсолютно бестолковые команды, явно желая выстроить некую, задуманную великим мастером статическую сцену, но не имея никакого представления о том, как это нужно делать и какие слова при этом необходимо говорить военным артистам.
Если бы военные выполняли все эти шедевры команд буквально, фильм бы снимался и по сей день. Но это в планы военных никак не входило и, проявляя сообразительность и высочайшую тактичность, они занимали-таки места, соответствующие замыслу большого мастера. Большой мастер задумчиво осматривал сцену и что-то опять тихо говорил помрежу, и все повторялось вновь. Перестроения длились до высочайшего утверждения мастером статического расположения военных артистов по всей территории площади-сцены.
Мастер, уподобившись малому детяти, просто играл в кубики. Построит одну фигурку, глядь слева — вроде ничего, глядь справа — отвратительно. И все поломает. И построит вновь. Только кубиками мастеру служили многолюдные колонны военных артистов. А что начиналось, когда сцене пытались придать динамический характер… Слов нет, на языке одни дубли.
И во что военных артистов только ни рядили, и кого они только не играли! Сначала переодели в некое подобие телогреек с торчащей из многочисленных швов ватой и потертые засаленные картузы. Военные убедительно играли обиженных судьбой пролетариев Путиловского завода — передового отряда могильщиков капитализма (так именовал пролетариат один из его вождей в многотомных своих теоретических трудах). Они выстраивались в многочисленные колонны и кричали: «Долой!». Они так вжились в эпоху, что им уже тоже не нравилась помесь разрушающегося самодержавия с нарождающимся капитализмом. Не нравилось получать среднепролетарскую питерскую зарплату, на которую можно было купить полноценную корову с отвисающим до земли, полным молока выменем. На фиг сдалась пролетариям эта корова! Ее мирное пожевывание могло остудить накал революционной борьбы. И не хлебом единым жив был в ту эпоху пролетарий. Поэтому: «Долой!» и «Даешь!» «Долой» — это, в основном, про самодержавие. «Даешь» — это, как правило, про заводы и фабрики. Многочисленные демонстрации и митинги, митинги, митинги, во время которых звучат шедевры демагогического трепа, настоянного на немногочисленных ингредиентах революционной фразеологии. Вот и весь пролетариат. Даже оружие себе выбрали под стать своему интеллекту — булыжник. Однако после революции 1905 года и этим оружием пролетариату пользоваться стало лень. Отбили, видать, охоту.
Ну, все-таки удалили самодержавие для пролетариев зараженные вирусом революции матросы и военные. Они же удовлетворили пролетарский «Даешь» по поводу фабрик и заводов. И что в итоге? В итоге, чтобы не пасть жертвой освобожденного пролетарского труда, революционному руководству пришлось срочно вводить НЭП.
Неудачные какие-то у прежней России все-таки были пролетарии. Болтливые какие-то и криворукие. Правда, в то далекое время пролетарии в России только-только успели зародиться и, видимо, не успели еще как следует развиться. Потом пролетарии спохватились и попытались ускорить темпы развития своего в рамках социалистического хозяйства. Что-то получалось, особенно на уровне единичных опытных образцов пролетарской продукции.
Но капитализм неожиданно для всех вернулся и практически похоронил своего теоретического могильщика. Уничтожил и гнездовья его, многочисленные ГПТУ. В этот раз не заступились за пролетариат ни военные, ни матросы. А почему не заступились? Да потому что капитализм, пользуясь предательским попустительством продажных и стремящихся к единовластию правителей (суверенитет, однако!), просто взял и помножил их на ноль. Обычно эта операция производится без остатка. В этом случае остаток вопреки законам математики все же каким-то чудом сохранился. Хилый-прехилый такой. Но временами дерзкий, грозит периодически северо-атлантическому союзу, уверенно продвигающемуся на восток. Видимо, когда выпьет лишку тогда и грозит. А как протрезвеет, так сразу слова свои назад забирает. Мол, погорячился. Извынайте, мол, дядько Сэм. Нэ хватае кэросыну.
Но это все еще в будущем. А сейчас военным артистам приходится вживаться в совсем непривлекательные для себя роли. Абсолютно бесплатно.
В очередном своем превращении принимают военные облик дезертировавшей с фронта первой мировой трусливой солдатни. Они правдиво изображали деклассированных трусливых дегенератов в военной форме, но без оружия, в перерывах между запоями выкрикивающих на митингах лозунги пацифистского характера, но с тем же смыслом: «Долой!» и «Даешь!». «Долой» — это про войну. «Даешь» — это про водку и жратву. Ведь чем жив был революционный дезертир? Попрошайничеством, разумеется, и воровством. Воевать, отстаивая интересы России в очередном переделе мира, просто стало недосуг. Работать от гудка до гудка — просто «в лом». А вот так что-то там у кого-то спереть, а потом продать — глядишь на стакан уже хватает. А в кабаке после принятого на грудь стакана разыграется вдруг буйная такая фантазия: притащить языка из-за линии фронта или между делом пленить самого императора Вильгельма — не вопрос! А герою все подливают. С каждым выпитым стаканом герой все более и более бронзовеет, но к утру он вновь приобретает привычный синий цвет, и все повторяется вновь.
Очень жаль, но сыграть правдиво роль дезертира военным никто не даст.
Во-первых, понадобится очень много натуральных горячительных напитков, не предусмотренных бюджетом фильма. Дело в том, что военные, в своей искренней борьбе с фальшью в искусстве категорически не переносят никакой бутафории и все время настаивают на многочисленных дублях.
Во-вторых: что это за облик такой? Обычный дезертир — это, конечно же трус, вор, лентяй и пьяница. Но тут-то имеется в виду дезертир революционный. Это, в принципе, тот же трус, вор, лентяй и пьяница, но хорошо освоивший азы революционной фразеологии. Как, к примеру, только ни называет войну широко подкованный революционный дезертир: и империалистической, и антинародной, и хищнической, и захватнической, и братоубийственной. Что только ни наговорит, лишь бы не назад в окопы.
Как же в этом случае поступить военным артистам? На какую сделку с совестью попросят их в очередной раз пойти? Как сыграть эту замаскированную словесами сволочь, не оскорбляя всей глубины его поверхностной революционности? Ну да ладно, решили пойти на компромисс и сыграть неких не совсем трезвых и избирательных в своем пацифизме дезертиров, сбежавших с фронта, исключительно из-за неприятия войны, развязанной ненавистным царизмом, а вовсе даже не из стремления к конформизму.
Иногда военным артистам выпадала честь играть ухоженных красногвардейцев из бывших царских военных с революционными красными бантами на неистертых еще мундирах. Охраняли красногвардейцы Смольный, а в Смольном самого дедушку Ленина. Военные артисты всю ночь жгли костры, потеряв счет многочисленным дублям. Протуберанцы военных костров оживляли грозные тени революционных винтовок-трехлинеек, составленных в пирамиды, и хищных броневиков, окружающих здание, принадлежавшее когда-то Институту благородных девиц. А под протуберанцами пеклась простая советская картошка. Кормить военных во время съемок не любили, а в нелюбви своей все время забывали.
Так уж повелось издревле: каких успехов бы ни достигали цивилизации, а тела военных по-прежнему, согревали доисторические костры. Но только один свет по настоящему согревал их чистые непритязательные такие души. Свет, струившийся из окна кабинета, в котором, не покладая рук и не преклоняя головы, работал на благо революции неугомонный Ильич. Злые языки ныне утверждают, что его во время революции и вовсе в Петрограде не было, мол, захватом почт, мостов и телеграфов руководил некто Троцкий.
Полная чушь! Спросите у любого военного артиста, дожившего до нашего времени. И он, любой этот из доживших, вам с готовностью начнет перечислять что и когда Ильич говорил, куда бежал своей нервной походкой, куда направлял своими энергичными жестами народные массы, в том числе и Троцкого. А иногда именно Троцкого, так сказать, персонально.
Да вы и сами посудите, мог ли человек, не разглядевший своего потенциального убийцу в садовнике (которого он сам же нанял и впоследствии долго к нему присматривался), руководить таким крупнейшим вооруженным восстанием? Конечно же, нет. Потому что взгляд у пролетарских вождей должен быть гораздо проницательней рентгена. Этот взгляд должен пробивать не только бренную физическую оболочку, но и пронизывать трепещущие фибры падких на соблазн душ человеческих.
Глянул вождь на дрогнувшую в испуге соприкосновения душу, сразу все определил и сходу: «Расстрелять эту чуждую нам буржуазную сволочь! Именем Революции!». И все. Сказал — как отрезал. Теперь точно расстреляют. Сто процентов. Прямо на месте. Расстреляют, правда, не именем революции, а из банального нагана. «Именем революции!» — это заклинание такое. Если не сказал его вождь сразу, у врага есть еще шансы воскреснуть на силе ненависти к этой же самой революции. А как только произнес — все. Хана. Железно. Вечный труп. Воскрешению не подлежит. Вот такая жестокая революционная действительность. И никуда не денешься.
Так что с Ильичом в те октябрьско-ноябрьские дни все было нормально. Он и отправил военных артистов на последний решающий революционный штурм. Штурм Зимнего дворца.
Злые языки современности все не унимаются. Все и вся пытаются подвергнуть сомнению. То возьмутся оспаривать наличие в истории человечества первого тысячелетия после рождества Христова, то опять доберутся до Великой нашей октябрьско-ноябрьской революции.
Не было, говорят, вовсе никакой революции. И штурма Зимнего, говорят, тоже не было. Был-де какой-то там переворотик, устроенный жалкой кучкой немногочисленных большевиков. Ну, у Зимнего попалили слегка в воздух и перепугали насмерть прячущийся в подвалах дворца женский батальон.
А некоторые пытаются даже шутить и выдвигать свои версии происходившего. Например, известная телепередача «Городок» не так давно представила выпуск со следующей версией штурма Зимнего дворца.
Мечутся по осеннему Петрограду стайки революционных матросов, пребывающих в засушливом состоянии крайне неприятного «бодуна». Подбегают к одному пивному ларьку — пива нет. К другому — результат тот же. Один из отчаявшихся матросов спрашивает продавщицу сиплым от засухи голосом: «Мамаша, а пиво-то в революционном нашем Питере есть хоть где-нибудь?» Продавщица: «А пиво-то, сынок, таперича в Зимнем только-то и можно сыскать!»
И далее дается панорамная картина бегущих со всех концов города на Дворцовую площадь матросов, измученных похмельным синдромом и пытающихся с ходу осуществить штурм Зимнего дворца с целью революционной экспроприации пивных запасов Временного правительства.
Бред это все! Военные все видели своими глазами. И были прямыми участниками героических тех событий. Они захватывали объекты связи, разводили мосты, толкали вплавь ржавое корыто революционного крейсера (исторический выстрел должен был обязательно воспроизведен). А затем Ильич отправил военных на штурм Зимнего дворца. Жестом. Жест этот впоследствии был канонизирован во многих скульптурах — выброшенная вперед и вправо, указующая в светлый путь рука вождя.
Именно таким широким жестом благословил Ильич военных на штурм, энергично выбросив этак длань, указующую в сторону Зимнего, хранящего еще холодное пиво в своих глубоких подвалах. И военные, как всегда, дружно побежали, суетливо впихиваясь в узкую горловину арки Генерального штаба, разбивая створками тяжелых чугунных ворот толстые кирпичные стены.
До сих пор непонятно, зачем нужно было испытывать такие вот дискомфортные стеснения? Всякий штурм должен быть комфортным для военного. Военный должен испытывать высочайшее от штурма блаженство. Но все идет как-то не так. Чуть левее арки широченный выход на Дворцовую площадь, а не ищущие легких путей военные порционно и судорожно самовыдавливаются на площадь и затем с дикими криками, с трехлинейками наперевес растекаются по всей ее шири. Ничего не поделаешь. Таков замысел великого мастера-режиссера. А может, это все же был замысел Ильича? Ильич ведь тоже пиво уважал… Пишут, что не вылезал из одного Цюрихского пивняка, читая подрывную европейскую прессу. Ожидал, видимо, когда напишут: «Сенсация: в России верхи уже ничего не могут, а низы уже давно ничего не хотят». И. видимо, когда-то такое напечатали… После чего Ильич стремглав впрыгнул в опломбированный германским правительством вагон и стремительно покатил в Питер, строча знаменитые «Апрельские тезисы». Покатил, дабы лазить по изразцовым балконам особняков знаменитых балерин-фавориток Его Величества Всея Великая и Малыя и Белыя… Ну, а так же не забывая про пыльные, от надвигающейся революционной бури, серые броневики производства Балтийского завода.
Ну нет, скорее всего дело не в пиве… Скорее всего, это был замысел режиссера. Ильич он ведь наверняка книжек про революцию в России не читал никогда. А режиссер… шибко грамотным и любопытным был он, и прежде чем браться за съемку, наверняка долго сиживал он в архивах и воспоминания очевидцев, наверняка, читал, а может даже и с кем-то из них лично беседовал. В далеком детстве. В коротких штанишках у костра пионерского лагеря «Артек».
А раз так — быстро побежали куда-то военные. Стоп, стоп, стоп. Дубль второй. И второй раз побежали военные. Но опять уже привычное: «Стоп, стоп, стоп. Дубль третий». Побежали военные и в третий раз. «Стоп, стоп, стоп. Снято!» Как так? Всего-то три дубля? Чуть позже становится известно, что дублей, наверняка, должно было быть больше, но при очередном порционном выдавливании один из революционных артистичных военных впал в состояние крайнего раздражения по поводу неумелого государственного менеджмента, осуществляемого Временным правительством, так торопился сказать бездарному правительству этому, что-то вроде: «Эй, которые временные, слазь!», что потерял над собой контроль и по неосторожности вонзил штык трехлинейки в спину впереди бегущего революционного своего товарища.
Почувствовал, видно, великий мастер, что ситуация начинает выходить из-под контроля и решил прекратить череду героических штурмов. Тем более, что списывать боевые потери официально было не на что. Обучаемые военные — это ведь артисты-то неофициальные. Официально они сидят за партами или там за различными, возможно ими же самими и собранными лабораторными установками. А тут, раз — и уже трясутся с колотыми штыковыми и огнестрельными ранениями в каретах скорой помощи, утыканные со всех сторон спасительными трубочками. Все это уже начинает попахивать махровой уголовщиной. Куда же делась оплата их «массовочного» труда? Где эти по «три рубля в сутки»? Да еще помноженное на такое количествовоенных? Видимо, лишние разбирательства великому мастеру кинематографа были не к лицу. А посему съемки быстро прекратились. От греха, как говорится, подальше.
И, слава Ему, прекратили! Теперь скорей, скорей наверстывать упущенное в учебе, в том, что все-таки, наверное, будет необходимо на войне. Военный для нее ведь, для войны предназначен, а не для экономии фондов Союза кинематографистов и набивания карманов его великих мастеров. На войне ведь не удивишь противника, например, приобретенным сценическим мастерством, там, наверняка, потребуются удивления совершенно другого рода.
Но, опять же, все погони за упущенными знаниями проистекают на фоне всевозможных нарядов и работ на различных овощных базах, в морских и речных портах и даже хлебозаводах славного города Ленинграда (текущее название было немедленно возвращено городу сразу после завершения съемок злополучного фильма).
А какова, собственно, судьба самого фильма? Занял ли он какое-нибудь высокое место на престижном каком-нибудь фестивале? Многие из военных киноактеров его так ни разу и не посмотрели. Не удосужился великий мастер устроить бесплатный показ своего очередного шедевра для своих бесплатных актеров. А тем бесплатным, которым все же удалось посмотреть фильм за свои кровные, стало грустно вдвойне: «За что?» — возмущались они и плевали на ни в чем не повинную питерскую землю.
Конечно же, по прошествии ряда лет все это воспринимается уже не так озабоченно. Можно сказать, вспоминается с теплой улыбкой на сморщенных старостью губах. Есть ведь что вспомнить. Боевая революционная молодость, понимаете ли… Главное — в это до конца не поверить. А то все может закончится официальным обращением в органы государственной власти на предмет выдачи специального удостоверения: «Удостоверение участника штурма Зимнего дворца» и, в дальнейшем, предоставления целого комплекса специальных льгот. А этот случай уже может быть расценен, как сугубо клинический. Остерегайтесь. И берегите себя.
Ученье свет, а неученых тьма…
А когда же, позвольте спросить, учились-то эти неугомонные и несгибаемые военные? — может задастся вопросом любопытствующий и упорный читатель, с трудом, но все же одолевший несколько предыдущих повествований о многочисленных препятствиях, встающих скалистыми горами на многотрудном пути обучаемых военных.
Отвечаю любопытствующему и терпеливому — в промежутках.
«Да в каких таких промежутках? — не унимается читатель. — Я вроде бы все внимательно до сих пор читал. Не было никаких промежутков. То они, военные эти, долго топают какими-то противоестественными шагами. Затем с идиотически счастливыми улыбками размахивают большими флажками на широких площадях, пропагандируя спортивные достижения советской молодежи. Или же шляются в поисках пищи по овощным базам и портам. А то возьмутся водку пить, а глаза залив, массово дерутся, пролетариев обижают. Не дают пролетариям с дамами покуролесить. Пользуются тем, что дамы им за что-то благоволят, невзирая на ливерные запахи. А громко петь и плясать в пивняках? Просто возмутительно! Люди пришли спокойно пивка попить, а они… Ведрами! Или же еще выкупаются в каких-нибудь зловонных помоях, слегка обмоются прохладненькой водичкой и сразу в артисты норовят. А когда военным этим все надоест, ну решительно все, они встают в пять утра и идут в баню с песнями про старика Козлодоева, в бане почему-то не моются, а только меняются между собой ношенным нижним бельем. Полнейший беспредел, разврат и антисанитарию учиняют везде эти военные. Везде, где бы они только не появились! Вот и все, что я из прочитанного понял. И никаких промежутков не обнаружил!»
Не хочу обижать вас, о внимательнейший из читателей, и пересказывать пошлый анекдот про гинеколога, который тоже никак не мог обнаружить промежутка и все время попадал не туда. А когда обнаруживал свой очередной промах все время недоумевал: «Как? Не может быть! Промежуток должен быть!» И прошу поверить на слово: промежутки действительно были.
Промежутки иногда совпадали со специальными временными отрезками, называемыми в распорядке дня обучаемых военных предельно коротко — самоподготовка. Правда, размерами промежутки обладали теми же, гинекологическими. Но военные все же как-то умудрялись в них попадать. А попав, каким-то чудом научились разбираться в электрических принципиальных схемах (на них, на схемах, значит, прямо так и было написано: «Схема электрическая, принципиальная», и принципиальность ее состояла в яростном неприятии всяческого недомыслия о многочисленных ее достоинствах) и в механизмах распространения радиоволн, и в программировании на языках высокого уровня, и во многом-многом другом, составляющем теоретическую базу того, что пригодилось бы военному на войне, если бы она неожиданно вдруг началась.
Только бы замыслил чего неладное коварный и беспардонный дядюшка Сэм в те далекие годы холодной такой войны, военные тут как тут — оба-на, из широких карманов сразу все уравнения Максвелла и по голове ему сначала ротором — «Бац!». А потом, вдобавок еще и дивергенцией по кумполу — «Хрясь!». «Ого!» — удивился бы дядя Сэм, отступая и потирая ушибленную излучением голову. Некоторое время он еще бы поартачился (А как же? Больно спесив он от рождения…), но, пропустив множество по-военному жестких ударов, пришлось бы ему в конце-концов быстро исчезнуть за океаном, роняя в темно-бирюзовую морскую глубину ядовитую смесь мутных слез и густых зеленых соплей. Вовремя бы вспоминил этот гнусный дядька, что у нас в то глубоко штильное время много всего интересного было помимо ротора и дивергенции. И даже керосин был. Сейчас куда-то, правда, все это подевалось. Износилось. Морально и физически состарилось. Коррозия и старение металлов, понимаете ли. Скрипит, бывалыча, ракета надрывно и с места не может стронуться. Горит турбонаддувно на старте — просто водопад огня, или минометно подпрыгивает, но не летит никуда, беспорядочно падает неподалеку. А все из-за проклятой закупорки сосудов головного мозга. Разруха, как известно из классики, она же в головах, прежде всего. Но ротор с дивергенцией еще остались. Правда, многие из тех, кто о них когда-либо задумывался, давно уже за границу подались. Там теперь и задумываются. Озаботились, так сказать, нуждами когда-то вражеской, а теперь своей уже родной, обороноспособности.
А обучаемые военные про ротор и дивергенцию и про многие другие умные слова узнавали только благодаря неумолимым своим и неистовым в своей неумолимости хитроумным «преподам». Большинство из них с гордостью носило советские, не упрощенные еще, ученые степени и научные звания и искренне удивлялось, например, когда военные после двухгодичного курса высшей математики ни улавливали разницу между интегрированием по Риману или, например, по Лебегу. А когда военные начинали слабо возражать, говорить какие-то слова о недавно обнаруженной ими определенной несовместимости интегрального исчисления с суровостью военной жизни, «преподы» радостно соглашались с ними и даже сами рассказывали интересные истории, подтверждающие правильность этой догадки, а затем, вступая в противоречие с собой же, совершали некоторые циничные акты, направленные на полную дискредитацию замечательной такой догадки вдруг озарившей обучаемых военных.
Например, один из них, услышав о несовместимости, сразу весь как-то оживился и поведал историю встречи с интегралом в суровых условиях военной действительности (молния попала в приемную антенну и придала ей знакомый змеинно-извилистый вид). По окончании короткого своего повествования «препод» обычно равнодушно писал на первом листе выстраданного военным курсового проекта: «Пока — «неудовлетворительно», напутственно ставя тем самым «пока-неудачника» на широкую дорогу дальнейших творческих дерзаний. Далее обычно следовало короткое, но поразительно емкое устное напутствие. Напутствие, несмотря на свою лаконичность, придавало «пока-неудачнику» довольно ощутимое начальное ускорение, обеспечивающее перегрузку где-то на уровне 5g. При этом действие перегрузки существенно усугублялось увесистым списком дополнительной литературы.
Но тяготы военного обучения переносились существенно легче, когда процесс обучения сопровождался изрядной долей преподавательской веселости.
Один из юмористов, мрачноватого вида полковник, носивший черную форму сухопутного морского офицера (в миру — «черный полковник») и такие же черные, под цвет формы, очки, начинал вводные лекции по теории электромагнитного поля примерно со следующих высказываний: «Сегодня мы приступаем с вами к изучению науки, в которой так до сих пор никто до конца и не разобрался. В том числе и ваш покорный слуга». Его так впоследствии и звали в среде многих поколений обучаемых военных — «наш покорный слуга черный полковник». А покорный слуга военных, дочитав курс лекций и изнасиловав обучаемых в ходе выполнения лабораторных работ и защиты их результатов, а так же во время сдачи многочисленных, им самим придуманным в инициативном порядке зачетов, на последней консультации перед экзаменом держал примерно такую речь перед трепещущей аудиторией: «Да вы не бойтесь. Я — дядя добрый. Но не до-брень-кий!». Далее следовал знаменитый, фантомасовский, безэмоциональный такой, но не предвещающий ничего хорошего, смешок одними только губами, пульсирующими под черными очками: «Ха-ха-ха».
Смысл этого зловещего «Ха-ха-ха» в исполнении «покорного слуги» сразу всех обучаемых военных окончательно прояснился после завершения экзамена. Двадцать семь экзаменующихся военных — двадцать семь двоек. Хотел, правда, слуга поставить тройку будущему медалисту, но тот упросил его этого не делать. «Но почему же, — искренне недоумевал „черный полковник“, — вы же на тройку-то кое-как, правда, но все же вытянули?» И потянулась томительная череда пересдач. На завершающих пересдачах «покорный слуга» всех обучаемых военных вдруг начинал разговаривать на иностранных языках. Спросит, правда, для начала, про между прочим так: «Парле ву франце?» или «Ду ю спик инглиш?», а то еще и «Шпрехен зи дойч?» и, получив положительный ответ на один из вопросов, переходил на соответствующий язык. Очень удивлялся, когда военные большей частью его не понимали: «Ну и что, что разговорному вас почти не учат? А сами-то вы на что? Покупайте самоучители и общайтесь друг с другом. Военный инженер должен владеть хотя бы тремя языками — официальными языками каких-либо экономически развитых стран».
По сути, прав был покорный слуга всех обучаемых военных. Но военным, как говорится, не до жиру. Завершающая переэкзаменовка прошла в литературных дебатах: «А сколько романов написано О. Генри и каковы их названия?», вопрошал покорный слуга и опять возмущался: «Военный инженер должен быть разносторонне развитым человеком!» Да-да, кивали головами удрученные военные, мы подтянемся, вот только экзамен сдадим и сразу начнем разносторонне развиваться.
Но в основном, старались веселые «преподы» «избиение младенцев» на экзаменах не устраивать. Старались вычистить сор из голов обучаемых военных в течение семестра. В этот же период старались что-нибудь им в эти головы просунуть. Для этого не считались особенно с личным своим временем, сокращали пребывание в состоянии «работаю дома» до минимума и устраивали обучаемым военным многочисленные брифинги.
«Присаживайтесь рядком, поговорим ладком», — говаривал один из них, и начинал задушевные свои беседы с простейших вопросов: «А почему гауссовский шум называется иногда еще и белым? А что необходимо сделать, чтобы его слегка подкрасить?»
Заканчивался брифинг, как правило, еще более жизнеутверждающими вопросами: «А какие методы вероятностного осреднения стохастического гамильтониана вы знаете? Что, причем здесь интеграл Ито? Запомните, о том, как правильно взять этот интеграл, знал только один человек на этом свете. Этим человеком был сам Ито. Идите и поищите другие методы. Не найдете — разрабатывайте сами».
Следующий весельчак из «преподов» любил бороться с различными военными хитростями и проявлениями юношеского максимализма, неистовствующего в своем беспредельном волюнтаризме. Любил он во всем точность и кристальную такую ясность. Суть его многочисленных диалогов с обучаемыми военными в ходе сдачи какого-нибудь промежуточного зачета состояла примерно в следующем:
— Так-так, товарищ военный. Какие дивные эпюры вы мне тут нарисовали. Ну что ж, довольно похоже на то, что должно быть в действительности. Из книжки, похоже, срисовали. Д-а-а, довольно добросовестно срисовали. Из Маленина-Буренина с картинками. Не по-нашенски, не по инженерному это как-то. А вот если, к примеру, убрать из этой схемы вот этот резистор, а вот сюда вставить емкость в 30 нФ, куда сместится полученная вами кривая?
— Очевидно, сместится вправо.
— Да? Ну раз вам, прямо-таки совершенно здесь все очевидно, берите в руки ручечку и пишите прямо вот тут на вашей же бумажечке: «Вправо» и не забудьте поставить рядом подпись, сегодняшнее число и фамилию свою напишите.
— Ой, как же я сразу не сообразил! Кривая сместится влево!
— И это, стало быть, тоже для вас совершенно очевидно? Озарило вас вдруг? Что-то, стало быть, быстренько на вас снизошло. Ну хорошо, пишите: «Влево» и прилагайте ваши реквизиты. Так-так. Платон, как говорится, мне друг, но истина, знаете ли, все же мне как-то дороже. На самом деле кривая сместится вверх и вот почему… (далее следует рассказ, изобилующий многообразными скучными терминами и определениями). Так что на сегодня случился у нас с вами «незачет». Идите-ка и подумайте, куда сместится классическая кривая, если вот на этой вот самой схемочке мы вот отсюда возьмем так и стыдливо изымем индуктивность, а сюда, вот прямо сюда, соберемся с духом и принципиально так, я даже сказал бы — решительно, добавим резистор с сопротивлением в 30 кОм.
Были у обучаемых военных и чрезвычайно агрессивные в своем веселье преподаватели. Сообщество обучаемых военных считало их «злобствующими». Они же считали себя просто очень строгими и разумно принципиальными.
Одному из особо талантливых «злобствующих» удавалось, например, за считанные минуты так накалить обстановку в аудитории, что у обучаемых военных тут же начинали наблюдаться явные признаки необратимых физиологических изменений, попросту говоря, признаки физиологической мутации. Сначала все они подозревались в симуляции мутации генной. Но потом успокоили врачи: «Нет, нет! Только физиологическая. И то, только внешняя! И вовсе даже не необратимая! Если, конечно, не заиграться».
Сидят, к примеру, военные в аудитории на рядовом групповом каком-нибудь занятии с чистыми, девственными такими головами. Сидят, никому не мешают. Не трогают никого. Сидят в полном непонимании сути вокруг них происходящего. А вокруг них развешено много-много плакатов с изображением каких-то схем, каких-то графиков, стоит какая-то незнакомая аппаратура.
Все дело в том, что весь предшествующий злополучным занятиям вечер и даже кусочек ночи, вместо плановой самоподготовки занимались обучаемые военные привычным для себя делом — разгрузкой какао-бобов, прибывших сухогрузом откуда-то из далекой Африки. Несмотря на ночное докерство, сидят военные довольно бодро, носом не клюют, потому как посасывают, втихаря, изъятые в порту для научных исследований кусочки горько-возбуждающих экзотических бобов. Исследования пока проходят успешно и приближаются к завершению с положительными результатами.
Вот только «злобствующий» преподаватель активно противодействует плавному ходу событий. Он сухо и коротко, демонстрируя психологический нажим в скрипучем своем голосе, зачем-то напоминает военным о том, что вчера на самоподготовке они проработали такую-то тему и при этом, военные, конечно же, обратили особое внимание на целый ряд интересных вопросов.
Ну а далее «злобствующий» доверительно посвящает военных в свои ближайшие намерения. А намеревается он немедленно приступить к постановке некоторых интересных, по его мнению, вопросов перед обучаемыми военными. Мало того, он даже готов тут же выслушать содержательных ответы на интересные эти вопросы.
При этом он, опять же очень доверительно, сообщает военным о том, что он хоть и считается в широких военных кругах «злобствующим», но на самом деле, где-то глубоко в душе, является он самым, что ни на есть, убежденным демократом. И именно поэтому он вовсе не собирается призывать военных к ответу по банальному списку в скучном журнале и готов выслушать сначала всех желающих выступить, причем абсолютно всех, без всяких абсолютно ограничений, а затем перейти, если останется у него на это хоть немного времени, к короткому выборочному опросу остальных военных. Тотальный контроль усвояемости, понимаете ли.
При этом для желающих выступить он вовсе даже не собирается устанавливать каких-либо временных лимитов, т. е. сколько времени выступающим понадобится для содержательных и исчерпывающих их ответов, столько он и готов предоставить. Ну, конечно же, в рамках, очерченных этому занятию Его Величеством Расписанием!
А если все же случится так, что суммарное время выступлений все же превысит допустимые пределы, то он, вовсе даже никакой не «злобствующий», а самый что ни на есть истый демократ, готов продолжать заслушивать военных во внеучебное время (?!).
В аудитории наступает оглушающе-гнетущая тишина. «Демократ» в начале просительно призывает военных к сознательности, к открытости, так сказать. Заискивающе говорит о вреде утаивания глубинных своих знаний отдельными продвинутыми индивидуумами от сероватых своих сотоварищей. Утверждает, что это нехарактерно для нашего социалистического общества. Впрочем, ему, собственно, как давно состоявшейся уже личности, эти выступления вовсе даже ни к чему, до лампочки, если можно так выразиться. Ну просто — тьфу на них. Все и так давно уже ему известно, просто хотелось бы, чтобы отстающие товарищи послушали.
Тишина в аудитории еще более сгущается, головы военных с каждым новым тезисом «демократа» все глубже и глубже втягиваются в плечи и становятся с трудом различимыми на фоне застывшей в испуге осанки. Тем временем речь псевдодемократа становится все громче. В голосе начинают проскальзывать ожесточенные нотки. Искусственная шелуха демократии начинает потихоньку отслаиваться, обнажая злобную суть оратора.
Наконец, с демократическими принципами окончательно покончено. Неистовый «злобный» приступает к самостоятельному выбору желающей выступить жертвы. Он некоторое время, еще, видимо, тая призрачную надежду, нервными шажками, обиженно сопя, расхаживает по аудитории. Долгое время очень угрожающе молчит. Затем, наконец, окончательно теряет терпение: «А на этот вопрос нам ответит…». И искательно так, по-мушкетерски водит по аудитории указкой. Головы военных окончательно проваливаются внутрь осанки, болезненно соприкасаясь с неждавшими шершавых гостей внутренними органами. А садюга опять за свое, побегает-побегает и: «На этот вопрос нам ответит…». Долговременное противоестественное положение военных голов становится угрожающим. Еще совсем чуть-чуть и состояние может приобрести необратимый характер. А это просто катастрофа для военного. Как, интересно, он будет, к примеру, принимать пищу, если голова его в таком вот проваленном состоянии, как будет чести лишаться, к чему, например, будет прикладывать во время этого акта правую руку или же чем при этом демонстрировать бодливо-приветственные движения?
Наконец, звенящая, готовая взорваться от ничтожнейшей подвижки спертого воздуха тишина с апокалипсическим треском лопается: «Военный Минин!!!» И резкий выпад указкой в сторону жертвы. По всем правилам фехтовального искусства выпад. Одна рука за спиной, вторая в яростном выпаде укола, сопровождаемом широким скользящим движением нижней конечности.
Голова жертвы, сопровождаемая сначала звонким звуком: «Чпок!», а затем и утробными звуками вырывающихся при метеоризме газов, с шумом лишается контакта с внутренними органами и, слегка повлажневшая и раскрасневшаяся, возвращается на привычное место. Аналогичным образом, освобожденно и вразнобой выплевываются головы остальных обучаемых военных. Тем временем осанка избранной жертвы судорожно выпрямляется в полный рост, веки глаз некоторое время испуганно и шумно соприкасаются друг с другом и активизируют речевой акустический аппарат жертвенного военного. Аппарат натужно мычит, мычание периодически срывается на блеяние из-за досадных сбоев в подсистемах, отвечающих за чистоту звучания. Наконец, прорывается членораздельное: «Военный Минин ответ закончил!».
Абсолютно любой сложности фразу, содержащую суть какого-либо доклада, каждый уважающий себя военный может четко и весело произнести, находясь в любом состоянии и вне зависимости от степени стрессовости окружающей его обстановки. Даже находясь в центре ядерного взрыва он сначала грамотно упадет, пропуская ударную волну над собой. А затем встанет, тщательно отряхнет с себя радиоактивную пыль и четко по всей форме доложит, если это кому-то в центре взрыва еще потребуется: «Военный такой-то дезактивацию закончил!», затем четко повернется и пойдет в спасительную даль, подальше, так сказать, от неуютного эпицентра.
Тем временем «злобствующий», едва пришедший в себя от удручающих звуков возвращения голов и выслушавший пленительную звуковую гамму, извлекаемую акустическим речевым аппаратом, впадал в состояние глубочайшего душевного расстройства и разочарования. Он сидел, устало опустив плечи за своим преподавательским столом, и удрученно причитал: «И зачем же это я вас, Минин, вздумал спросить? Зачем я сделал это? Не жилось ведь почему-то мне спокойно. Какой же черт меня так попутал?»
Ненадолго выйдя из состояния глубокого ступора, злобствующий «препод» снова временно преображался в демократа и опять начинал заискивающе сюсюкать: «Ну вспомните, ответ на этот вопрос содержится в синенькой такой книжечке. Вы же знаете, что по нашему курсу написано две книжечки. Одна из них такая красненькая, а другая синенькая…». В этот момент откуда-то из последних рядов раздается громкий, возбужденный какао бобами, панический шепот: «Мужики, по-моему, нас хотят окончательно завалить!»
У злобствующего в своем фальшивом демократизме «препода» случайно перехватившего эту полную безнадежности фразу, язык вдруг судорожно прилипает к небу. Он успевает еще произнести что-то вроде: «Ну фтос, офтается только фавелеть!» и временно выключается. Он остается безучастно сидеть за столом, даже когда военные сообщают ему об окончании занятий и о своем желании немедленно уйти.
Так и не получив благословления, военные в непривычном для себя беспорядке шумно покидают пыточную. И еще долго-долго переполняет их чувство громадного такого облегчения. Это просто громадное, трудно описуемое такое чувство. Чтобы ощутить его, надо либо побывать у «злобствующего» на занятиях. При этом постараться прийти к нему абсолютно неподготовленным. Либо не ходить никуда, а просто съесть, например, килограмма эдак три горячего бараньего плова и запить все это ледяной водой из зараженного колодца. Соизмеримые могут получиться в непродолжительном последствии ощущения. Но так, или иначе долгожданное облегчение все-таки когда-нибудь наступит. Ну да ладно, шут с ними, с облегчениями этими. Пронесло, так пронесло. Чудом просто как-то в этот раз пронесло. Можно только порадоваться в этот раз за военных.
Была еще одна категория «преподов». Это были «преподы», ну просто воинствующие оптимисты какие-то. Один из них перед началом каждой лекции коротко напоминал военным о негативных процессах, протекающих в загнивающем капиталистическом мире. Иногда, правда, оговаривался. Мог сказануть что-нибудь эдакое, например: «Гниет ведь, сволочь, а как при этом сладко пахнет!» Или же: «Да, капитализм стоит, раскачиваясь всей своей нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне, на самом краю зияющей пропасти и смотрит, как мы там… на ее дне… В общем, чего-то там строим…».
Но не всегда он так оговаривался. Обрисует сложную обстановку в мире, раздразнит военных описаниями звериных нравов, царящих внутри этого сладко загнивающего в процессе раскачивания над бездонной пропастью империализма. Разозлит, стало быть, впечатлительных военных, чтобы, значит, злее были и учили лучше матчасть. И анекдот может рассказать про эту матчасть. Например, о том, как сбили над Китаем наш новейший суперсекретный, неизвестно как залетевший на сопредельную территорию, истребитель. И вот подводят любознательные китайцы катапультировавшегося летчика к довольно хорошо сохранившимся обломкам истребителя и любопытствуют, показывая на какую-нибудь деталь: «Это сьйто такой?». А летчик еще ведь не успел ничего выучить, истребитель-то новейший, да еще суперсекретный. Не было, видать, времени у летчика на изучение матчасти, да и допуска соответствующего на изучение суперсекретной документации, наверняка, у него не было. Очень долго его оформлять. Ну и не мог он ответить ничего не в меру любопытным китайцам. А те все тыкают в различные детальки: «сьто такой» да «сьто такой» и, не услышав ответа, бьют нунчаками по гениталиям, показания, значит выбивают. Наконец, подняли скандал в высоких дипломатических кругах и вызволили летчика из плена. Сослуживцы набежали: «Что ты, Вася? Как ты? Как здоровье-то твое? Как там поднебесная?» А Вася им: «Мужики, бросайте все и изучайте всеми силами своими новейшую нашу матчасть! Ох, и сильно бьют же за нее узкоглазые!» И извинясь так, с грустной такой улыбкой на губах смотрит на подскочившую было к нему в радости, соскучившуюся по нему жену.
Вот так, закончит оптимист тематический свой рассказ в анекдотической форме, а затем и огорошит обучаемых матчасти военных неутешительными результатами последней контрольной. Оказывается, военные глубоко заблуждались и при расчете оптимальной длины какого-нибудь СВЧ-волновода спутали какие-то узлы с какими-то пучностями. И получился у них не то чайник, не то кружка, а у некоторых образовалась еще и неведома зверушка. Но никак не оптимальный волновод с радостно распространяющимися по его металлическим стенкам H и E волнами.
А огорошив, взглянет на уже совсем озабоченные лица военных полным оптимизма взглядом и подведет короткий, полный оптимизма итог: «На самом деле ничего страшного не произошло, товарищи военные, не переживайте, несмотря ни на что жизнь продолжается. И запомните — безвыходных ситуаций не бывает!» Полон он оптимизма и в ходе многочисленных попыток сдачи экзаменов обучаемыми военными: «Ха-ха-ха, вы же не знаете ничего! Хе-хе-хе, ну абсолютно! Хо-хо-хо! Два балла! Ху-ху-ху!»
Но со временем обучаемые военные научились адаптироваться и к покорным свои слугам, и к «злобствующим», и к оптимистам, и к педантам и ко многим-многим другим.
Был, к примеру, в преподавательской среде один такой достойный отдельного рассмотрения индивидуум. Всем индивидуумам он был индивидуум: рост за два метра, косая сажень в плечах и умные, слегка выпуклые глаза. Потрясающее, редко совместимое сочетание внешних данных и ума. Но природа требовала свое — внешние данные и мозги нуждались в постоянной подпитке. Поэтому ел он практически непрерывно и был постоянно голоден. Начнет, к примеру, экзамен принимать, поест перед этим и поначалу вроде бы все ничего. Жестковато, правда, но объективно, по крайней мере. А чуть подальше — проголодается, рассвирепеет, и пошло-поехало. Военные быстро эту физиологическую особенность просекли. Подсуетились, достали дефицитную, по безхолестериновым тем временам, копченую колбасу и ломтиками ее аккуратненько так на бутербродики и полсотни бутербродиков на большую такую тарелочку и прямиком на преподавательский столик. А еще туда же и «Пепси-колы» ящичек небольшой, ростовского розлива. (Напомним, что это было начало колАнизации великой страны, «Пепси-кола» только начала появляться на витринах советских магазинов и тоже была страшно дефицитным товаром. Было бы, наверное, лучше, если бы она таковым по сей день и оставалась. Есть, опять же, такое непонятно откуда взявшееся ощущение, что развал великой державы начался с нее, с колы этой, будь она неладна).
А тем временем процесс оценки неудовлетворительных знаний исключительно на «хорошо» и «отлично» постепенно налаживался. Налаживался по мере уменьшения высоты пирамиды дефицитных бутербродов и неуклонного роста высоты пирамиды пустых пепсикольных бутылок, выросшей в некогда пустынной урне, заботливо размещенной в непосредственной близости от жаждущего. Наконец жаждущий в непродолжительной своей сытости, ярко выраженный индивидуум достигает крайней степени благодушного своего состояния и предлагает военным перейти к самооценке. Т. е. военным предлагается тихо входить, тянуть билеты, письменно отвечать на вопросы и тут же свои ответы оценивать. Ну конечно же, строго и объективно. Далее оценки надо проставить в зачетку и подать на утверждение жующе-запивающему. Он потом распишется. Немного попозже. А объективные военные никуда и не торопятся. Они так строго к себе прицениваются, впендюривают себе объективную оценку и выходят в коридор. Тактичность проявляют. Не хотят смущать благодушного жующе-запивающего индивидуума бесполезным присутствием своим.
Постепенно совершенствовались обучаемые военные в нелегком своем ремесле. Принялись они как-то с целью повышения среднего бала безнадежной своей успеваемости изготовлять так называемые «бомбы». «Бомба» — это, не подумайте ничего плохого, внешне вполне безобидный предмет, ничего общего с народовольческим движением не имеющий. Если быть немножечко точнее, то и не предмет это даже вовсе — это такой листок бумаги. Листок бумаги формата А4, на который заносится подробный ответ на какой-либо экзаменационно-каверзный вопрос.
Непосредственно перед экзаменом определенному замкнутому множеству особо продвинутых в учебе военных эти листочки раздаются (иногда листочки несут на себе следы специальных штампиков, временно похищенных из лаборатории экзаменующей кафедры).
Военные, являющиеся элементами замкнутого множества, наносят на листочки эти всю необходимую для успешного ответа на вопрос информацию. Листочки затем собираются в общую кипу, разбиваются на десятки и укладываются в специально сшитый мешочек с кармашками. Количество кармашков должно соответствовать количеству десятков информационных листков-«бомб». Десятки «бомб» рассортировываются затем по карманчикам (дабы не запутаться и опять же легче доставать будет эти «бомбы» в суровых экзаменационных условиях). Мешочек крепится на специальных резиночках к туловищу «бомбардировщика» — подготовленного специальным образом военного, заходящего в аудиторию, оборудованную для сдачи экзамена, в числе первых. Военные ведь сдают экзамены порционно, как правило, по пять человек.
Далее, дело техники. Процедура «бомбометания» сильно осложняется секретностью состава вопросов, попадающих в тот или иной билет. То есть содержание вопросов военным известно заранее, именно по этому содержанию они часто пытаются к этим самым экзаменам подготовиться. Но вот какие вопросы действительно попадут в экзаменационные билеты, в каком сочетании попадут и в какой последовательности — хранящаяся за семью печатями военно-преподавательская тайна.
Поэтому каждый военный, зашедший на экзамен и вытянувший, содрогнувшись в ужасе, счастливый свой билет, должен был громко и четко произнести вслух название выпавших ему вопросов. «Бомбардировщик», плотно прижимая ухо к двери экзаменационной аудитории, должен был услышать название вопросов пометить их в своем специальном списке и соответствующим образом приготовиться к «бомбометанию». Далее, зайдя в аудиторию, осуществить передачу спасительных листочков терпящим бедствие адресатам.
Как ведь легко бывает порой просто сказать, ничего при этом не делая, просто так, «ля-ля», и пошел себе дальше. А вот если вдуматься: что значит «осуществляет передачу»? Это ведь найти его еще надо, именно тот, спасительный только для конкретного адресата листок, нащупать спасительного мерзавца в шершавом кармашке специального нательного мешочка. Затем незаметно как-то изъять его, из этого оглушительно шуршащего карманчика, прячущегося под кителем «бомбардировщика», не совершая при этом никаких противоестественных движений, способствующих привлечению и без того беспокойно-неусыпного преподавательского взгляда. А то и двух преподавательских взглядов. Бывало и такое, парами приходили и каждый со своим недремлющим оком, а то еще и сразу с двумя, по паре, значит, на каждого.
Кроме того, надо еще и незаметно как-то передать спасительную «бомбочку» адресату, похрустывающую на непонятно откуда взявшемся сквозняке, и, все это по прежнему, находясь вперекрестье подозрительных в напряженности своей стерегущих взглядов. Но как уже неоднократно упоминалось, «бомбардировщик» — это тот же военный. А значит артист, к тому же особо подготовленный.
Иногда военные в изуверской своей хитрости сильно промахивались. Промахивались чаще всего индивидуально, но иногда случались и более досадные промашки, промашки коллективные.
Но обо всем по порядку. Начнем с наиболее яркого примера ошибок индивидуальных. Как-то попал в очередной раз Серега Просвиров на одном из экзаменов под горячую профессорскую руку и едва устоял под ее разящими ударами.
Отчего же рука профессорская так вдруг разгорячилась? Превратилась вдруг из прохладно-созидательной в горяче-разящую? Прямо таки разрушающую какую-то?
А дело было в следующем. Были в среде военных некоторые личности, которых угораздило родиться в семьях, в роли глав которых выступали ну очень уж высоконачальствующие отцы. Способностями в учебе «сыны», как правило, не отличались. Избалованные с детства, жизнь вели они яркую и разудалую. И никто не мог им в этом как-то серьезно помешать.
Напротив, все просто так военноначальствующие старались им во всем помочь, везде прикрыть — не дай Бог прогневать высоконачальствующего папу. Нет, справедливости ради надо отметить, что поведенческие границы для «сынов», безусловно, существовали, но были границы эти очень подвижными. А на многочисленные следы, оставленные на контрольно-следовой полосе зыбкой такой границы, старались военноначальствующие попросту не обращать внимания, стыдливо так отворачиваться, предварительно зажмурив глаза. В общем, сквозь пальцы поглядывали на «сыновние» шалости и, как могли, помогали им преодолеть обязательность учебной отчетности, таща за уши все годы их так называемого обучения. Тащили, оставляя на наждаке безжалостной учебной отчетности куски толстой «сыновней» кожи. Иногда таскание это принимало относительно мягкие формы в виде освобождения от различных ненужных таких и, к тому же, таящих в себе немалую опасность экзаменов, «курсовиков», зачетов там каких-то и т. д. Освобождение через выполнение какой-либо трудовой повинности. Плакатик какой-нибудь там намалевать с преподавательского макета, наглядное, так сказать, учебное пособие изготовить. А если нет и таких способностей, то можно, к примеру, носить столы со стульями на экзаменующих кафедрах. На протяжении всей сессии. Сегодня, например, необходимо перенести мебель из аудитории № 113 в аудиторию № 116. А завтра уже становится совершенно ясным, что необходимо уже как раз-таки наоборот: из № 116 в № 113. А можно еще, правильно и очень кстати вспомнили, можно же еще чего-нибудь и как-нибудь красить. В любом случае — работа кипит. «Сыны» вроде бы при деле, не безобразничают, не шалят по обыкновению А в зачетках их, тем временем, в зависимости от степени отцовской крутизны, чудесным образом нарисовывались различные, но неизменно положительные оценки результатов тяжких в интеллектуальности своей «сыновних» трудов…
Но чаще всего таскание за уши сводилось к танцам на ушах преподавателей, к изматыванию их нервной системы прямыми угрозами за отказ в проставлении подопечному положительных оценок. И в конце-концов, преподаватель, носивший погоны, бесславно уступал. Ну не хотел он из-за какого-то моложавого придурка уезжать из Ленинграда в пресловутый Безнадежнинск. Крякнув и перевернув вовнутрь угнетенного организма стаканчик с водочкой, ставил бескомпромиссный, в большинстве случаев, «препод» нужную оценку, сплевывая на сторону и предварительно закрыв полные стыда глаза. А очередной «сын», бодро сглотнув слюну, перешагивал очередной рубеж на пути к получению диплома самого что ни на есть общесоюзного образца.
Осложнения у «сынов» случались при возникновении на пути их бравурного по жизни шествия «преподов», которые погон вообще никогда не носили, или носили когда-то давно, так давно, что и сами-то они уже про это позабыли и давно перестали чего-либо военного бояться. В том числе и высоконачальствующих отцов.
Вот здесь и случилось как раз такое вот досадное для одного из «сынов» пересечение. Пришел как-то принимать экзамен вот такой вот старенький уже, и поэтому бесстрашный в седине своей, классический профессор. Нет, конечно же, оборотов, наподобие: «Милостивый государь» или, к примеру: «Сударь», уже, конечно, не было, это был профессор сложившейся советской научной школы. Но необходимо учесть, что это был профессор в третьем поколении, и порода, безусловно, чувствовалась.
Настроен был дедушка чрезвычайно миролюбиво. Он сходу проинформировал военных о том, что двоек он ставить сегодня не будет: «Раз уж вы допущены до экзаменов, значит, наверняка, чего-то знаете. А посему, если кого-то устраивает оценка «удовлетворительно», можно подойти с зачетной книжкой и далее чувствовать себя относительно свободным. Ну насколько свободными, насколько это возможно в условиях суровой вашей военной службы».
Заслышав это объявление, «сыны» моментально обступают профессора, держа в вытянутых, слегка подрагивающих от радости руках сплошь «удовлетворительные» свои «зачетки». Неожиданно свалившаяся на «сынов» радость беззастенчиво проступает на их слегка задетых пороком лицах. Они уже физически ощущают скудность относительности абсолютной своей свободы и, поправ основополагающие военно-уставные нормы мгновенно исчезают из пределов видимости экзаменующихся военных и личных своих опекунов.
Но один из сынов остается, решил, видать, попытать счастья на профессорском благодушии. И, как назло, Серега оказался следом за «сыном» в прореженной экзаменационной очереди. Нет худа без добра, пострадал немного впоследствии, но зато стал свидетелем довольно забавного действа.
А действо разворачивалось следующим образом. Дерзновенный сын высоконачальственного родителя, разместившись для ответа перед столом экзаменующего, незатейливо, молча так и, в то же время, торжественно подложил пред профессорские светлые очи лучшие образчики пресловутых «бомбочек», испещренных схемами сложных соединений различных хитрых таких устройств. Различных там мультивибраторов, триггеров всяких, разнообразных счетчиков и т. д.
Профессор долго рассматривал псевдо-«сыновние» записи, при этом очки его медленно скользили вверх — сначала по переносице, затем по выпуклому его лбу и когда они остановились, окончательно запутавшись в седых его волосах, профессор удовлетворенно откинулся на спинку стула и дрожащим от умиления голосом произнес:
— Поразительно, с ответом такой точности и глубины мне еще на экзаменах не приходилось сталкиваться! Ну я еще понимаю на защите дипломного проекта! Но что бы так вот, на промежуточном каком-то экзамене? Нет, решительно не доводилось! Не зря, стало быть, целых два семестра трудились мы с вами в лабораториях и аудиториях, не покладая, пропотевших ладонями рук и не поднимая, сморщенных лбами голов своих!
«Сын» сидел, скромно потупив глаза и, закинув ногу на ногу, суетно покачивал свободной нижней конечностью. Сидел и всем видом своим показывал, что вовсе он не разделяет такого вот пафосного профессорского, восторга. Ну да, есть у нас определенные таланты, что же тут такого удивительного? Мы ведь кем рожденные-то? Вы что, забыли? То-то же. Мы ведь просто обречены на успех. Успех это ведь три процента таланта и девяносто семь процентов труда. И то, и другое у нас присутствует. Так что извольте товарищ, профессор прекращать ваши бесполезные, нематериальные какие-то восторги, а берите вы лучше в ручки свои изнеженные трудовую мою «зачетку» и какую-нибудь пишущую принадлежность не забудьте. И давайте, выставляйте поскорей отличную оценку, у меня, знаете ли, много неотложных дел. К тому же папа рад будет несказанно и так же несказанно будет папа удивлен.
Профессор, видимо внемля красноречивой позе «сына», прерывает цепь восторженно-патетических восклицаний и робко так, извинительно произносит:
— Вы меня извините, пожалуйста, товарищ военный, но правила приема экзаменов обязывают меня задавать дополнительные вопросы. И для того чтобы, как говорится, форму соблюсти, я, если не возражаете, задам вам формальный такой вопросик. Ответить на него вам абсолютно никакого труда не составит. А мне, старику, некое, знаете ли, душевное спокойствие этот извечный акт формализма может и привнесет. Привычка, знаете ли.
«Сынко», не выходя из роли, позволяет себе разрешительный жест рукой: «Мол, давай, профессор, валяй. Задавай свои никчемные вопросы. Удовлетворяй потребности в застарелом своем формализме».
Оба-на! И понеслось. На формальный профессорский вопрос «сынко», конечно же, не ответил. Абсолютно катастрофически не ответил. То есть он даже не понял, о чем его спрашивали. Не ответил и на целый ряд других вопросов, выстроенных с убыванием степени сложности.
Серега, углубившись в подготовку своего ответа, не вдавался в подробности профессорско-«сыновних» перепитий, но когда он, наконец, закончил, взгляду его предстала следующая удручающая картина.
Физиономия «сына» напоминала рекламу невиданных размеров грейпфрута со струящимися по его поверхности ручейками тропической влаги. Очки профессора в обратном движении достигли своего первоначального положения, а на морщинистом лбу его уже успела сформироваться скорбная складка. Блеск профессорских глаз не предвещал «грейпфруту» ничего хорошего. С трудом сдерживаясь, тщательно подавляя наследственной интеллигентностью состояние крайнего своего народного раздражения, он формулировал завершающий свой вопрос нерадивому «сыну»:
— Товарищ военный. Есть ли у вас, хотя бы какие-нибудь подозрения, или бы я даже сказал, догадки по поводу того, как функционирует конденсатор в составе электрических цепей? Это ведь знает каждый школьник! А вы без пяти минут инженер! Ин-же-нер, понимаете ли вы что это такое?! Вот посмотрите на представленную вами схему. Найдите на ней конденсатор. Да вот же он. Видите две такие пластиночки. Да-да, это он. Так вот, значит, две пластиночки и между ними диэлектрическая среда. Вы же знаете, я надеюсь, но уже не уверен, что вы это знаете. Знаете ли вы, черт вас побери, что такое диэлектрик? Да нет же. Это вовсе не два электрика сразу. Где вы видели два электрика сразу. Вот вы домой себе электрика вызывали? И что оба сразу приходили? То-то же. Диэлектрик, чтобы вам было понятно, ну по простому так, это вещество, которое просто патологически не любит проводить через себя электрический ток и всячески, так сказать, этому прохождению сопротивляется. Ну, чтобы совсем вам стало понятно — это кладбище очень мертвых таких электронов. Мертвее просто в электронном этом мире не бывает. Понятно? Ну так вот, что же в конце концов мы имеем? А имеем мы две пластины, на которые подается, опять же электрическое такое, напряжение. А между пластинами кладбище безнадежно мертвых электронов. Попрятались по своим потенциальным ямам и лежат там тихо в надежде на туннельный эффект. Как же тогда быть с электрическим током? Как ему, подсказываю, обойти бесперспективное кладбище?
«Грейпфрут» «сына» подавленно молчит. Профессорское нетерпение нарастает. Надвигается катастрофа. Она в конце концов наступает. Но катализатором ее приближения является неожиданная активность экзаменуемого. Плотная кожа «грейпфрута» лопается в догадливой улыбке:
— А-а-а, я, кажется, понял!!! На самом-то деле между железненькими такими пластиночками, прямиком через ваше кладбище, проложена тоненькая-претоненькая такая медная проволочка! Проволочка настолько тоненькая, что в масштаб схемы не укладывается и поэтому на схеме этой не изображается!!!
Все. Терпению профессора наступает конец, по давно уже багровому лицу его волнами прокатываются судороги: «Вон отсюда! Неуч! Бездарь! Больше никогда сюда не приходите! И что бы мне больше на глаза не попадаться! Обходить меня за километр! Поняли вы меня?! За километр! В-о-н!»
И куда только делась хвалено-врожденная интеллигентность? Он так разошелся, что даже хотел совсем уйти. Не только с экзамена. С экзамена само собой. Хотел бросить любимую свою профессию. Сильно в ней на тот момент разочаровался. Но потом уговорили остаться, да и, опять же, время подлечило.
Впоследствии, если вдруг случались неприятные воспоминания о злополучном экзамене, он не переставал удивляться: «Поразительная все-таки бездарь. Да еще, наглая такая, тройки сразу ему, видите ли, не хватило! Но зато, какая память! Запомнить такие схемы, длиннющие такие формулы, абсолютно не представляя физики протекающих в цепях процессов?! Невероятно! Но факт». И разводил в удивлении руками. Он ведь про «бомбы» ничего не знал. Они его никогда не интересовали. Ни в прямом ни в переносном смысле.
Ну а тройку «сынке» все же принудили поставить другого преподавателя. Преподавателя, носившего еще военные погоны и упорно не желающего менять местожительство. Но он воспользовался рассмотренной выше методикой и благополучно все пережил.
Но все это было потом. А вот как Серега сдавал экзамен пребывающему во гневе профессору — это была настоящая коррида. Вместо красных тряпок профессор доставал из запасников своей профессорской памяти изуверски каверзные вопросы, пытался проткнуть Серегу пикой заведомо ложных утверждений и убедить его с ними согласиться, чтобы потом, впоследствии значит, саркастически-радостно потирая ручки, изречь что-нибудь наподобие: «Вот и ну! Вот и договорились вы, товарищ военный! Это же надо было вслух такое произнести! Не даете вы и в могиле покоя старикам Булю и Шредингеру!».
Но Серега такого удовольствия ему не доставил. Не то чтобы хотел огорчить старика, просто очень в отпуск хотелось. С большим трудом, но удалось тогда устоять и ответами своими слегка успокоить неистового профессора.
А вот лучше было бы как-нибудь по военному схитрить. Отпроситься, к примеру, в туалет. Схватиться за живот, выпучив глаза от внезапно навалившейся нужды, и прыг-прыг так, сдавленно мыча, куда-нибудь в сторону заветной двери в спасительную уборную. Отсидеться там некоторое время, переждать профессорский гнев. А потом на приливной волне профессорского успокоения вплыть в аудиторию, изображая на морде лица своего остатки внезапного нездоровья и извольте, мол, выслушать содержательный ответ. Он, конечно же, мог бы быть гораздо содержательней, но внезапная хворь, понимаете ли, временно одолела. И в итоге, в спасительной уборной не просто какая-то банальная, известно чего куча образовалась бы. А куча самых настоящих, сэкономленных для дальнейшей жизни нервных клеток. Но молодость, как известно, всегда расточительна.
Но и в уборной, оборудованной для военных множеством уставных «очек», тоже надо быть настороже. Особенно во время сдачи экзаменов. Некоторые военные установили себе традицию, предписывающую перед экзаменом обязательное посещение уборной. Чтобы не заболеть, значит, в ходе экзамена медвежьим заболеванием. Вот разместились они каждый в своем очке, сидят, сосредотачиваются. Вдруг один спрашивает другого: «Слышь, военный, а тебе лысый хрен моржовый с политической кафедры зачет, в, конце концов-то, поставил?» Второй военный: «От этого урода дождешься. На прошлой неделе даже реферат написал этому плешивому козлу, после этого он еще час промучил меня, но зачет, зараза, так и не поставил!» Вдруг над третьим очком неожиданно всплывает потрясенная в возмущении своем, покрытая крупными красными пятнами голова «плешивого» и начинает по поросячи, на высоких нотах визжать: «И не поставлю! Слышите вы, идиоты, никогда не поставлю! Вы ведь так и не поняли, недоношенные, политику партии в области свиноводства!» (И не прав ведь был этот «плешивый». Военные всегда интересовались удоями, поголовьем скота и центнерами с гектара. Просмотр программы «Время» был включен в их обязательный вечерний ритуал. Но ведь сейчас-то была сессия…).
Вот такие вот казусы возникали иногда в военных местах общего пользования. И не случайно военные часто оборудовали стенки очков знаменитыми плакатами: «Болтун — находка для шпиона!», или: «Не болтай!» с суровыми предупредительными ликами, взирающими на готовых было расслабиться военных.
А групповая промашка с реализацией изуверской военной тактики нанесения бомбовых ударов произошла из-за фатальной ошибки одного из «бомбардировщиков». Забыл он, видите ли, передать «бомбовую нагрузку» следующему специально подготовленному военному перед тем, как выйти к аудиторной доске для ответа. Да еще и китель расстегнул, все-таки на дворе как-никак июль стоял. А тут вошел в испуге следующий желающий проэкзаменоваться военный, вернее даже не зашел еще, а только дверь открыл. И сразу же возник мощнейший в своей турбулентности воздушно-сквозняковый поток. Поток распахнул полы кителя горе-«бомбардировщика» и выдул оттуда всю «бомбовую нагрузку». «Бомбы» некоторое время весело кружили по всему объему аудитории, а затем плавно пошли на посадку. Самые предательские из них совершили приземление на стол экзаменующего и предстали в полнейшей беззащитности своей пред проницательно-оценивающим его взглядом. Экзаменующий сразу, как сейчас принято выражаться, въехал в тему и чрезвычайно расстроился. Глядя на него, расстроились и военные. Очень уж уважаемый человек был этот экзаменатор. И в научном плане, и в человеческом. Экзамен, конечно, продолжился, но в глаза друг другу уже как-то не смотрелось. Переоценили обучаемые военные с этого момента свое пагубное стремление к росту показателей безнадежной своей успеваемости. И больше к «бомбометанию» никогда не возвращались.
А еще средь военных иногда готовили «национальные кадры» — представителей каких-нибудь закавказских или среднеазиатских республик. Эти «национальные кадры», как правило, до попадания в военно-учебную среду русским языком владели на уровне «моя твоя нэ понымат», но при этом как-то умудрялись все же сдавать вступительные и последующие экзамены с положительными результатами. Видимо, по какой-то специальной «национальной» квоте. К третьему году обучения с «национальными кадрами» уже можно было вполне свободно изъясняться без языка жестов, но военные продолжали их ласково называть между собой «чертями нерусскими». Что такое «черт нерусский» «национальные кадры», видимо так и не поняли до конца обучения и сами использовали этот термин применительно к каким-либо субъектам, почему-то им не понравившимся. Вываливается, к примеру, один из «национальных кадров» из аудитории, где проходит защита курсовых проектов и толпящиеся у дверей военные интересуются у него: «Как дела, Райбулах? Защитился?» «Да, нэт, сыдыт там такой черт нэ русски, говорыт че все правылный, толко расчет нэ правылный!» — отвечает «национальный кадр».
Иногда случалось и так, что в военно-учебную среду попадали представители из глухих российских деревень, переполненных гражданами в разное время «откинувшимися» из зоны и в школах которых отсутствовали учителя по половине обязательных в то время предметов. Тяжело им приходилось. Некоторые из них начинали изучать иностранные языки, что называется, «с нуля». А некоторым приходилось заново учиться говорить по-русски, потому как то наречие, на котором они пытались общаться с окружающими обращало последних в легкий шок. «Скотиныч, пошли скореича на колоквим в удиторию. Ты чо, быстреича не могеш? Че, судьбой недоволен? Изломаю», — мог запросто обратиться «дремучий» к другому военному, а то еще и к какому-нибудь военноначальствующему.
А еще военных иногда пытались научить вождению автомобилей. Выделяли на все это сложное дело часов по пять ездового времени. Нет, по плану, конечно же, было часов по пятьдесят. Но реально получалось в десять раз меньше. А потому как не фига просто так тратить государственный бензин. Ежели каждый военный начнет по пятьдесят часов разъезжать на автомобиле по городу, то не хватит у страны никаких нефтяных запасов. Поэтому обучение происходило всегда очень просто. Вначале военных заставляли выучить наизусть назначение руля, педалей и торчащего из коробки передач рычага, а затем сразу сажали на водительское место и приказывали слегка проехаться по какому-нибудь питерскому проспекту. Военные добросовестно выполняли приказы. При этом их автомобили вначале судорожно подергивались на месте, затем козлами скакали по оживленным улицам и проспектам, распугивая встречный и попутный автотранспорт, приводя в неописуемый ужас окружающих пешеходов. Автомобили военных были увешаны специальными красными треугольничками с буквами «У» посредине. Это означало то, что автомобили были учебными. Но народ, расшифровывал смысл этого знака по красовавшейся на нем букве, не иначе как «За рулем «У» бийца» и старался хотя бы за километр обойти или же объехать эти нервные механизмы. Благодаря этой осмотрительности летальных исходов среди лиц местного населения по причине возникновения конфликтов с военно-учебными автомобилями не наблюдалось. А вот случаев порчи автомобилей граждан было предостаточно. А что? А как еще учиться?
Так что вот так вот, уважаемый мной читатель — все, оказывается, было. И сами промежутки были, и события в них реальные происходили (и, пожалуйста, не надо цепляться больше к ливерной колбасе!). События эти порой очень сильно напоминали настоящую учебу. Поэтому и получались из большинства обучаемых военных специалисты, которых буквально расхватывали по всем родам и видам могучих вооруженных сил великой тогда еще державы. А представляете, что бы было, если бы учеба была действительно настоящей, а не только местами совпадающей с ней и поэтому плохой копией?
Происшествия
А еще, частенько, попадали обучаемые военные в различного рода происшествия. То, куда они попадали, случалось с ними регулярно, но почему-то каждый раз считалось происшествием. У нас в стране всегда такие странные термины непонятно откуда возникают и живут потом целые столетия.
Вот, к примеру, такой термин, как «дорожно-транспортное происшествие». Под ним понимаются любые неприятности, возникающие на наших, специальным образом обозначенных направлениях автомобильного движения, официально именуемых почему-то автомобильными дорогами (опять неувязочка вышла, как только окунешься в терминологические дебри, так там сразу и увязнешь). И причем здесь, спрашивается, собственно слово «происшествие»? Происшествие — это что-то событийно-экстраординарное, ну хотя бы пусть не совсем прямо так уж и экстраординарное, но, во всяком случае, необычное какое-то событие.
И как тогда можно применить термин «дорожно-транспортное происшествие» к тому, что творится у нас на специальным образом обозначенных направлениях автомобильного движения? Если вспомнить про нашу никогда не врущую статистику, то окажется, что ежедневно, в среднем, на наших так называемых «дорогах», а на самом деле специальным образом обозначенных направлениях автомобильного движения погибает до 130 человек. Вот так, день прошел, получите 130 свеженьких трупов. Как так, сегодня же только 129 было? Но ведь 130 это в среднем. Впрочем, секундочку подождите, еще ведь только 23 ч. 59 мин. Ба-ба-бах! Ага, вон вашего 130-го понесли, с головой укрытого. Статистика, брат ты мой, дело серьезное.
И так каждый день. К 24 часам на обочине специальным образом обозначенных направлений автомобильного движения темнеет ряд аккуратно уложенных трупов дорогих наших сограждан. Причем надо учесть, что трупы эти (вот еще вчера только!) были не какими-то там спившимися и потерявшими интерес к жизни маргиналами, а были они, в большинстве своем, социально-производственно-репродуктивно-активными гражданами развивающейся капиталистически и терпящей демографическое бедствие страны. А стране этой от трупов остались семьи с недовыращенными, недовоспитанными детьми и безутешные родители.
Но вспомним, что «дорожно-транспортные происшествия» — это не только трупы, это еще и ранения, сотрясения, вмятины, царапины и т. д. А уж этого «добра» ежедневно на специальным образом обозначенных направлениях автомобильного движения встречается в десятки раз больше, чем достойных глубокой скорби трупов.
Так в чем же, спрашивается, состоят тогда эти происшествия? Не состоят ни в чем. Это скучная цепь ежедневно происходящих в большом количестве одних и тех же событий. Нет ничего нового, отличного от предыдущего. А значит и нет никаких происшествий. Только термин такой остался «дорожно-транспортные происшествия». А с терминами ведь и бороться-то не нужно. О них, о терминах, как известно, умные люди не спорят — о них они, умные в смысле, договариваются. Вот так вот. Не спорят. Не борются. Только договариваются. Все без исключения «умные» друг с другом договариваются. А гора трупов все растет и растет. Иногда на нее падают остывшие тела самых неудачливых из умных. Но это ведь только с неудачливыми такая вот незадача может приключиться. А «умные» — они же всегда еще и удачливые в основном. Да, да. Вот так им и везет всегда по жизни.
Вот и с военными приблизительно так же. Следует череда скучных однообразных событий, а военноначальствующие начинают снова все передергивать, ставить все просто с ног на голову и говорить о каких-то происшествиях. Они порой просто начинают терминологически бесчинствовать, учинять, прямо-таки терминологические беспределы какие-то. Это же надо додуматься было до того, чтобы взять и просто так называть какие-нибудь рядовые совершенно события «залетами». Как будто военные — это какие-нибудь легкомысленные дамы, которые сначала куда-то там известным всем образом «залетают», а потом оказываются в интересном положении.
Ну подумаешь не рассчитал, допустим, военный сил своего организма, брошенных на нейтрализацию попавшего случайно внутрь него алкоголя. Ну ладно, не случайно, конечно же. Вовсе даже детерминировано — к нему с малой родины приехал друг его безоблачного детства. Случайным оказалось количество этого ненавистного для всех военных алкоголя.
Да, наверное, и количество нельзя назвать абсолютно случайным. Давно известно всем военным, чем отличаются планы на проведение учений и планы на употребление горячительных напитков. На учения планируется много-много всего для укрепления обороноспособности полезного, а удается сделать всего-то ничего. Запланировали, например, уничтожить столько-то огневых точек условного противника, затем совершить 500-от километровый марш и, развернув с ходу боевые порядки, продвинуться вглубь территории того же условного противника еще километриков так на сто, круша в экстазе наступления тыловые коммуникации. В реалиях же все может закончиться незатейливым совершением коротенького такого стокилометровенького марша, сидючи внутри моторизованных штатных средств передвижения. А может вообще получиться марш до первого удобного для тяжелой военной техники разворота.
Вот так, к примеру, только отъехали полные злобной решимости и ненависти к врагу от так называемого места постоянной дислокации. Бах! Взмывает в небо яркая в сигнальности своей ракета — «Делай, как я!». Военные — они ведь любят в небо всякую горючую дрянь пулять. Нет бы наладить нормальную связь в совершающей марш колонне. А потом уже и ехать себе спокойно в тревожно зовущую даль. Ехать и подавать различные отрывисто-управляющие, специфические такие военные команды. Например, снять так в ходе движения очень похожую на обычную, но на самом деле сугубо военную телефонную трубку, специальным образом притороченную к портативной радиостанции и отдать короткую в лаконичности своей команду: «Всем военным вертаца взад!» И все, проще ведь не бывает. Все военные сразу начинают искать удобный разворот-повод в осознанном порыве тут же нащупать пути наискорейшего взад попадания.
Но у военных должно быть все сложным по определению. Какие-то эти военные все насквозь парадоксальные — все время стремятся ко всего и вся упрощению, а в итоге это все гипертрофированно усложняется. Иногда едут ведь за сотни верст с одной лишь только целью: чтобы, значит, связь установить на многие тысячи километров, и не простенькую какую-нибудь, а какую-нибудь многоканальную, засекреченную даже связь. А в колонне, на десяток каких-то несчастных километров ну никак у них не получается. Эффект «вреднейшего из всех вредных» уважаемого старикашки Доплера, видимо, сильно препятствует им в установлении нужной такой телекоммуникации. На страшных-то их скоростях наступательного военного порыва. А без связи этой, пусть такой, на первый взгляд, примитивненькой вечно блудят эти военные по разветвленной паутине специальным образом обозначенных направлений автомобильного движения, и ищут друг друга. В народе уже давно появилась такая примета: «Вон, военные остановились, — говорят аборигены мест, в которых в очередной раз эти военные заблудились, — ага, большую карту достали, все понятно — значит сейчас прибегут и будут про дорогу спрашивать!»
Вот и мучаются вечно эти военные сами, да еще и природу окрестную угнетают. «Делай, как я!» И бывшее, казалось бы, только вот сейчас головным, грозное такое моторизованное штатное средство передвижения проносится мимо вас в обратном направлении. Вжик! Все, конец учениям! Делаем, как Он. Домой! Топливо надо экономить, а потом писать всякие бумаги о героических своих подвигах в глубоком тылу напрочь деморализованного противника. Всякий военный может вам подтвердить справедливость многократно проверенного военной жизнью правила: «Сделал — отпиши! Не сделал — два раза отпиши!» А как только фантастические военно-приключенческие рассказы закончены, можно приступать к прагматичному списанию топлива. А чего, собственно, списывать-то? Топлива-то нет уже давно. Истрачено оно на рейды по глубоким тылам. А как же трофеи? Да откуда им взяться, трофеям-то этим, противник ведь пошел какой-то странный — условным прикидывается. И у него, условно поверженного этого, тоже своя отчетность имеется. И нет в отчетности этой сухой такой финансовой строчки: «Подкуп победителя с целью пробуждения в нем снисходительного отношения к побежденному». Поэтому часть несуществующего топлива остается про запас, на всякий непредвиденный для всех военных случай. Другая же часть сначала совершенно естественным способом испаряется, а затем, так же естественно, конденсируется в баках личных автомобилей особо заслуженных военных. Да-да, именно тех военных, которые особым образом отличились в недавно закончившихся безоговорочной победой боях. В качестве компенсации, так сказать, за неполученные, в результате бюрократических проволочек, заслуженные в боях трофеи.
Вот такие порой грандиозные верстались военные планы и нередко именно так вот они и выполнялись, в сокращенном таком варианте. А вот относительно планов на употребление горячительных напитков дела обстоят совершенно иначе. Задумывается, как правило, совсем немного. Совсем «по чуть-чуть». К примеру, один военный говорит другому: «Слышь, военный. Пойдем-ка, маханем по сотенке и по домам!» А получается, что возвращаются по найденным где-то по пути и не важно уже каким домам только под утро и предельно утомленные борьбой с зеленым змием. А на завтра как ни в чем не бывало выходят они на свою трудную службу. Выходят вместе с остаточными явлениями предельной усталости. Но усталости этой никто не должен заметить. Поэтому весь день деловито ходят они туда-сюда до синевы выбритые на скрипящих зубами волевых усилиях и даже выдавливают из себя какие-то краткие команды. Руководят они войсками, силами и оружием. При этом отдача команд происходит преимущественно на вдохе (никто не должен ничего учуять). Постоянно сдерживают они себя в такие дни от внезапных приступов желания куда-нибудь и чем-нибудь стрельнуть. Здесь главное не беспредельничать и уметь вовремя остановиться. А то можно ведь так пульнуть… Не тем чем-нибудь, да еще куда-нибудь совсем не туда… Недаром же когда-то один наш фруктовый политик говорил про одного нашего не просыхающего от глубокого пьянства президента: «Совершенно не важно, какие президент принимает решения, важно в каком состоянии он их принимает!» Поэтому военные перед принятием особо важных решений никогда не выпивают. С выпивкой у военных всегда очень строго. Все под контролем.
Военных ведь, когда их принимают в военные, все время спрашивают, прямо вот так, сразу по-военному, в лоб: «Вы водку пьете?» Не умеющие еще врать будущие военные отвечают: «Пью, конечно. Но всегда с отвращением!» И размещают на мордах своих лиц правдоподобную гримасу отвращения. Принимающие военные сразу понимают: «Наш человек!» и торжественно принимают правильного ответчика в военные. А если ответ звучит как-то иначе, то ответчика просто игнорируют, ему очень вежливо так говорят: «Спасибо, были очень рады познакомиться с вами. Мы вам обязательно позвоним». А сами, даже и не думают никуда звонить. И это правильно. А потому как не фиг таким субчикам делать в суровой военной среде. Потому неправильный этот субчик либо патологический лжец по природе своей либо абсолютный трезвенник. А не один ни другой военных не устраивает. Потому что изначальный лжец, попав в военную среду, может так сильно спрогрессировать в этом направлении, такого натворить, что через некоторое время другим, нормальным военным мало не покажется. А абсолютных трезвенников военные просто панически бояться и поэтому тоже всячески игнорируют.
Так вот, встретился военный, значит, со старинным своим другом. Другом такого далекого уже детства. Посидели, поговорили, вспомнили босоногое сибирское детство свое. Вспомнили, как, уже будучи юношами, охотились в тайге на белок и били их из дробовиков прямо в глаз, чтобы, значит, шкурку не попортить. Ну и всякое такое. Друзьям всегда есть о чем поговорить. А когда военному настала пора уходить, он вдруг понял, что сделать это без посторонней помощи ему вряд ли сегодня удастся. Но причем здесь посторонние? Рядом же друг. Друг оказался менее восприимчивым к алкоголю и благополучно доставил военного прямо до впускающих пока еще стандартных врат со звездами.
Остатки сознания военного, зафиксировав знакомые пятиконечные знаки, начинают протестовать. Остатки рисуют яркую картину лаконичного военного доклада о прибытии самому старшему из дежурных. Остатки призывают отказаться от формализма и указывают на высокий забор.
Помог друг и на этот раз, привлек проходившую мимо общественность, и вялое тело военного с соблюдением правил и мер безопасности было водружено на край забора и затем мягко соскользнуло вниз. Соскользнуло прямехонько на голову одного из военноначальствующих, оставленного ответственным по факультету и любившего час от часу прогуляться вдоль периметра забора, оберегавшего военных от тлетворного влияния окружающей действительности, от, так сказать, греховных ее соблазнов. Пока военноначальствующий приходил в себя от увесистого подарка небес, все те же остатки сознания подхватили пластилиновое, пропитанное алкоголем, тело военного и переместили на недалеко расположенную помойку. А где же еще можно было укрыться военному на всегда и всеми хорошо просматриваемой территории компактного проживания всех военных сразу? Кроме того, почти по всей площади этой территории постоянно сновали военноначальствующие, находящиеся в режиме постоянного территориального мониторинга. Исключение составлял как раз этот небольшой, стыдливо огороженный, кусочек общей территории. Туда военноначальствующие заходить не любили. Все время проходили мимо, брезгливо морща могучие свои носы. Иногда, правда, по долгу, так сказать, военной службы, им это все же делать приходилось. Ну, например, когда какой-нибудь еще более военноначальствующий вдруг озаботится состоянием дел на этой самой помойке, или же, когда, например, исходящий от нее смрад достигнет такой концентрации, что начинает угнетать находящегося на значительном от помойки удалении скучающее в своем объемном кабинете лицо еще более военноначальствующее. Шумно вдохнув окружающее зловоние и сформировав вслух оценочное суждение о его концентрации, лицо, наконец-то, решительно снимает телефонную трубку и вежливо так интересуется: «Вы что там, сволочи, совсем о…ли что ли? Вы что ждете, что я, целый я, приду к вам, возьму лопату и начну ваше говно разгребать?! Я, конечно, не поленюсь и сейчас приду! И всех вас, б…ей, в вашем же говне и утоплю! Всех, без исключения! Если бы вы знали, как вы мне все ос… ли, педерасты ленивые!» Хлоп трубку на место. И расслабленно прикуривая откидывается на спинку любимого кресла. Он ведь сам никуда, хитрюга и опытный ленивец, никогда уже не пойдет. Потому что, если теперь прийти, надо будет выполнить свое обещание. А если его выполнить, то кто же тогда будет с удушливым зловонием воевать? Знает он, что в силу достигнутой великости его, на том конце телефонного соединения и так уже все трусливо забегали в поисках необходимых лопат, а найдя их суетливо упаковывают дискомфортное зловоние в относительно герметичную тару…
Только вот такие проникновенные телефонные звонки могли подвигнуть всегда мгновенно лояльных военноначальствующих на высочайшие подвиги личного руководства уборкой зловонно-помоечно-скользкой территории. При этом старались они вглубь, далеко так не заходить. Встанут у въездных ворот и выкрикивают какие-нибудь команды с французским прононсом зажатых прищепками носов. А если вдруг по делам все той же военной службы им все же приходится немного углубится внутрь зловонно-нелюбимого участка относительной суши, ну, допустим, тупые до нельзя военные попались — не в тот бачок задуманное им зловоние вдруг по дури своей загрузили. В этом случае, военноначальствующий брезгливо перемещается, высоко задирая согнутые в коленях нижние свои конечности и аккуратно в боязливости своей, ставит ступни бестолково натруженных конечностей в места относительной суши. Ну, просто ни дать, ни взять, как в народе говорится, вылитые цапли на болоте, а отнюдь не мужественно исполняющие свой долг без страха и упрека лояльные военноначальствующие.
Так что остатки военного сознания действовали очень даже грамотно: выбрав самое безопасное на территории место они аккуратно разместили безжизненное тело военного между зловонных мусорных бачков и заботливо присыпали его маскирующе-целительным мусором.
Тем временем, пришедший в себя военноначальствующий вначале бросается было в погоню, но, понимая, что драгоценное время упущено и раскрыть преступление по горячим следам уже не удастся, приступает к опросу местного населения. Он поэтажно и настойчиво строит местное население военных и тщательно их пересчитывает. Наконец фамилия небесного подарка устанавливается, и начинаются его активные поиски.
Поиски не дают абсолютно никаких результатов и повергают военноначальствующего в глубокое уныние. Лишь утром он выходит из этого греховного для всех христиан состояния. Ему докладывают, что в шесть часов утра водителем мусорной машины на военной помойке было обнаружено тело неизвестного доселе военного. В момент обнаружения тела в непосредственной близости от тела находилась больших размеров, наглейшего вида ворона и пыталась это тело клевать. Целила в глаз. В неравной схватке с водителем мусоровоза ворона отступила, но место происшествия не покинула, заняв наблюдательную позицию на заборе. Произведя внешний осмотр тела, водитель обнаружил признаки летального исхода — глаза головы тела открыты, зрачки глаз головы тела закатились, язык выпал из полости рта головы тела и имеет характерный для всех трупов сине-черный цвет, верхние и нижние конечности поражены несгибаемым трупным окоченением. О факте обнаружения тела и о наблюдающихся на нем признаках отсутствия жизни водитель немедленно сообщил самому старшему из дежурных.
Прибывший на место происшествия самый старший из дежурных по фрагментам военной одежды определяет фамилию безвременно усопшего военного и устанавливает ее идентичность с фамилией без вести пропавшего накануне военного. Подоспевшая к месту происшествия дежурная медсестра приступает к детальному осмотру тела: пульс на запястьях — не прощупывается, пульс в области шеи — не прощупывается, пульс в области паха —?! Сестра в испуге отдергивает руку, наткнувшись на жесткую эрекцию крайней плоти трупа военного. Нет-нет, она не то что боялась этого вообще, она это как раз все время это качество в военных приветствовала и безотказно поощряла. Просто для трупов, согласитесь, это как-то не совсем обычно, нехарактерно это как-то для безвременно усопших. А с другой стороны, напротив как-то особо даже эротично, возбуждающе даже. Видно сестра все-таки задела какие-то чувствительные струнки души псевдоусопшего военного, и он начал свое активное возвращение к жизни. (Впоследствии товарищи псевдотрупа вспоминали, что незадолго до случившегося он как-то вслух пожаловался: «Какая-то слабость, в последнее время по утрам нападает — член даже двумя руками согнуть не удается!» А ведь как раз то и было самое что ни на есть утро…).
Через десять минут усопший было военный уже что-то шептал сухими своими губами, растрескавшимися от неугасимого внутреннего жара и великой суши, охватившей некогда влажные и подвижные внутренние органы. Шептал о чем-то далеком, уже почти забытом, детском таком: «Тетинька, рассольчику бы… Ох-ох-ох… Милая… Рас-со-лу… У-у-у…».
Ну и что же здесь необычного такого? Какое такое собственно произошло происшествие? Ну полежал горемыка три дня в санчасти, болел он, и диагноз поставили ему вполне приличный, что-то вроде — острая интоксикация организма неустановленным в лабораторных условиях веществом.
А вечно жаждущие экстрима военноначальствующие конечно же врачам не поверили и поставили свой диагноз. Им ведь необходимо именно происшествие. А одиночное отравление военного не является происшествием, вот если бы массовое, тогда — да, с врачами можно было бы согласиться. А так — никакая это не интоксикация, а обычный алкоголизм и разгильдяйство, а вещество это давно, мол, уже им известно, с детства самого, без всяких там лабораторных исследований. И вновь устроили военноначальствующие сами себе происшествие. Чтобы, значит, расследование какое-нибудь там назначить, всякие там объяснительные рапорта собрать, опросы свидетелей провести и всякое такое другое, что-нибудь такое значительное и детективное.
Но вместо значительного и детективного все равно у них всегда получается детский фарс какой-то в виде очередного военного спектакля. Вот и в этот раз. Как только выписали беглеца из санчасти, сразу собрали побольше военных вместе и пригласили на военный спектакль. Построили их для начала. Военные спектакли всегда просматриваются упорядоченно стоя. Спектакль назывался: «Результаты расследования происшествия». Действующие лица: обвиняемый военный, высоко военноначальствующий и его политический воспитательный помощник. Декорации и бутафория отсутствуют. На сцене только действующие лица и реальные материалы трехдневного следствия (3 полноценных стандартно-канцелярских тома, т. е. в день по одному тому?!). Сценой служит небольшой участок суши перед строем военных. Исходное расположение действующих лиц (перед поднятием занавеса): обвиняемый военный стоит лицом к зрителям, высоко военноначальствующий и его политический воспитательный помощник стоят за спиной обвиняемого военного и тоже лицом к зрителям.
На напряженно вытянутых руках политического воспитательного помощника торжественно высятся полноценные стандартно-канцелярские тома. Занавес поднимается. Некоторое время исходное расположение действующих лиц сохраняется. Первым приходит в движение высоко военноначальствующий. Он делает несколько разбежных шагов в сторону обвиняемого и останавливается, как вкопанный, поравнявшись с ним:
— Ну что, товарищи военные, все вы видите эту сволоту (при произнесении этого слова ударение высоко военноначальствующий делал исключительно на второй слог), — совершает рукой нижнее полукруговое движение и указывает на потупившегося обвиняемого, — это не простая вам какая-нибудь сволота, это уже законченный алкоголик. Ну, я понимаю, к примеру, ну выпил ты в праздник триста грамм…
— Что вы такое говорите, — громко шепчет политический воспитательный помощник, — сто грамм, не больше!
— Да-а-а? — задумчиво произносит высоковоенноначальствующий и с недоумением некоторое время зло смотрит на политического воспитательного помощника, видимо, представляет как жена убирает со стола бутылку после выпитых им праздничных ста грамм. — Ну, ладно, ну выпил ты, к примеру, еще сто грамм. Но будь же ты при этом человеком! А то так, товарищи военные, лежит эта свинотная сволота в куче блевотного мусора, его ворона в глаз клюет, а он даже «Кыш!» сказать не может! И что ведь пишет в свое оправдание, мерзавец, вы только послушайте.
— Это во втором томе, — услужливо подсказывает политический воспитательный помощник и подает один из полноценных стандартно-канцелярских томов высоко военноначальствующему, — страница номер сто тридцать два.
— Так, так. Ага, вот. Ну сволота, ну неодяй, — высоко военноначальствующий сокрушенно качает головой. — Вот, послушайте, что пишет, подлец: «Приехал ко мне друг из Сибири и привез бутылку пива». Друг к этой сволоте, видите ли, приехал, пивка этому мерзавцу привез, целую бутылку аж из самой Сибири вез, на оленях добирался. Так или нет? То-то же. Снарядил, значит, промежду прочим так, возок целый, прицепил к нему оленя и бутылку туда шмяк в возок этот, для этой сволоты. И прямиком в Питер, скок-скок, и так целый месяц. Так или нет? То-то же. В Питере ведь пива не делают, только в Сибири, а эта сволота без пива ведь уже не может. Учиться не учится только писульками почты заваливает: «Дорогой друг! Привези мне пивка! Погибаю я без него в этом Питере!» Так или нет? То-то же. Друг еще, как на зло, отзывчивый попался. Такой же, видать, алкоголик. У них же, у алкоголиков этих, такое братство, такая взаимовыручка понимаете ли… Так или нет? То-то же. Ну ладно, смотрим на эту писанину далее: «Мы с другом эту бутылку выпили, и наступил провал в сознании. Что было далее, не помню. Подозреваю, что в пиво была подмешена отрава». Чувствуете, как юлит, неодяй! От бутылки пива он сознание потерял! От половины даже! Друг то тоже, видите ли, причастился. Так или нет? То-то же. Вез, вез, привез и половину выпил. Мог бы сразу в Сибири выпить, всеж-таки везти было бы легче, не мучил бы оленя. Так или нет? То-то же. А может он так и сделал? Открыл бутылку еще в Сибири, отпил из горла прямо, они же, хроники эти, никакого представления о культуре не имеют, напускал туда слюней зловонных, а оно, пиво это, возьми и протухни в пути. Привез отзывчивый друг тухлого пива этой сволоте. А ей, сволоте этой, уже все равно, что пить, лишь бы сразу с катушек. В амнезию, так сказать, сразу погрузиться. Так или нет? То-то же. А может у друга этого неодяйского слюни ядовитые? Может он какой-нибудь змей-горыныч? Так или нет? То-то же. Отловить бы заразу эту и направить куда-нибудь на экспертизу! На Скворцова-Степанова куда-нибудь, годика на три. Ладно, еще чего не хватало, друга этого неодяйского пусть в Сибири воспитывают. Всей Сибирью сразу. Пусть он там снег убирает всю зиму. Вы, товарищ военный, так и напишите туда в очередной своей писульке. В Сибирь, мать вашу. А мы тут вами будем сами заниматься, коль вы уж сюда добрались и здесь пристроились нам на горе, и не думаете ведь пока никуда от нас уезжать. Так или нет? То-то же. И нечего нам здесь очки втирать. Знаем мы ваше отравленное пиво. А то так. С начала пиво пьют-пьют, а потом берут и нажираются водки! Пиво без водки — деньги на ветер. Какие деньги? У вас же алкоголиков как? На водку деньги есть всегда, даже когда их действительно нет. Вы же ужом так, жалостливо друг к другу: «Дай рублик! Выпить хотца!» А вот на закуску у вас неодяев никогда денег нет. А потому и так — пьють-пьють, сволоты брык с копыт и глубокая амнезия. Так или нет? То-то же. Насмотрелись индийских фильмов. «Кто мама с папой? — Не помню. Назовите фамилию! Забыл, надо посмотреть документы». Ничего, ничего, неодяи — выпуск не за горами. А тебя, сволота, я лично пристрою. Будешь в бескрайних казахских степях тушканчиков по выходным ловить. Это для тех мест самое увлекательное занятие. Там вас никто пивком не отравит Его там просто нет. Не варят его там и не привозят ниоткуда. Отправлю эту сволоту и буду лично контролировать, чтобы ее оттуда не вздумали куда-нибудь перевести. Ближайшие лет десять. Так или нет? То-то же. А сейчас, отправляйтесь-ка прямым ходом на гауптвахту. Десять суток вам, надеюсь, хватит? Так или нет? То-то же. Везите, старшина, этого неодяя, место я ему забронировал в «чкаловской» камере. Вон Валерий Палыч посидел чуток, помыслил немного и махнул через полюс. Может и из этого неодяя что-то в конце-концов получится. Махнет, может он куда-нибудь на Луну, да и останется там — глаза бы мои его не видели. Так или нет? То-то же.
Вот примерно такие спектакли и ставились на военной сцене по поводу так называемых происшествий. Для полноты сценической картины остается только добавить, что, когда высоко военноначальствующий как бы промежуточно так вопрошал: «Так или нет?», политический воспитательный помощник и новоиспеченный военный алкоголик, не глядя друг на друга умудрялись услужливо кивать головами точно в такт: «Поди так, поди так!» Видимо до такой степени одинаково одобряли проникновенные слова его. Высоко военноначальствующий дожидался окончательного затухания кивательных движений и выносил вердикт: «То-то же!» И так в течение всего спектакля. А все военные спектакли всегда проходили по одному и тому же сценарию. Менялось только звуковое наполнение речи высоко военноначальствующего. Менялось в зависимости от характера придуманного им происшествия. Так, если военный вдруг заболевал какой-нибудь интимной болезнью, высоко военноначальствующий мог выступить при большом стечении военных зрителей с частой сменой поз, живописующих поведение героев пьесы, и приблизительно со следующим текстом (самая нормативная из возможных транскрипций):
— Весна — щепка на щепку лезет. В бестолковые военные головы настойчиво стучатся сперматозоиды. Военный должен показать им кулак. И за учебу. А то так. Только эта сволота-сперматозоид постучится, военный тут же бежит звонить самой доступной в Питере мокрощелке по телефону: «Тю-тю-тю, как дела?». А она ему: «Подмылась уже, дорогой мой, и ожидаю тебя. Трясуся вся. Скулы сводит. Когда же? О-о-о! А-а-а!» Все, крыша военная просто сносится ураганом. Летить неодяй через забор. Прибегает неодяй, а она уже вот так лежит: «А-а-а-а, о-о-о! А он ей с ходу — раз! И брызги в потолок! А она визжит, то так, то эдак поворачивается. А он, сволота, ей — два! И пальцы у ней на ногах в разные стороны, а он ей — три! Потом соскочит, конец наскоро заправит и бежить назад, сволота. Глаза свои неодяйские вылупит и не видит ничего вокруг. А тут патруль за цегундер его — хвать!. И на кукен факен его — раз! И извольте, товарищ военноначальствующий, получить общегарнизонное нарушение воинской дисциплины. Так или нет? А через пару дней у этого неодяя еще и с конца — кап, кап! И яйца размером с тупую военную голову! Ой-ей-ей, дяденька, больно! Отлить не могу! Щас лопну! Сделайте укольчик! Я тебе сделаю укольчик, неодяй! Я тебе такой укольчик сделаю! Трехведерный! Всю жизнь будешь тонким голосом про цветы рассказывать. Так или нет? И, вот вам пожалуйста, сразу два воинских происшествия за один час. Часу даже не прошло и, пожалуйста, получите, товарищ военноначальник — самоход и триппер. Гусарский насморк, ети его! Ты бы, мерзота, лучше про триггер что-нибудь бы прочитал. Теперь поздно, теперь будешь, сволота, всю неделю триппер исследовать. Свой же. Статью потом отправишь в медицинский журнал с картинками и описаниями. Может они там такого не видали еще. Надо же — яйца с голову! Так или нет? А как закончишь исследования, сразу в камеру, на недельку. Так или нет? Сразу хотел устроить неодяя, но таких сопливых и вонючих туда не поселяют, только по окончании исследований. Так или нет? С этого дня для всех спермонеустойчивых военных устанавливается следующий режим. Чувствуешь, неодяй, крыша едет — сперматозоиды последнюю извилину выпрямляют. Не доводи до греха — сразу ко мне. Форма доклада: «Военный такой-то. Подмылась и ждет!» Немедленно выдаю увольнительную. А по прибытии сразу в камеру. Так будет одним грехом меньше. Хотя бы самоходов не будет. Так или нет?
Так-то оно, наверное, так. Но самоходы все равно случались. И случались каждый день. Поэтому были они для военных, в отличие от военноначальствующих, банальной повседневностью. Почему же так все получалось? С такими вот ежедневными нарушениями военной дисциплины?
Все очень просто. Ежедневность вообще присуща всем физиологическим процессам, протекающим внутри военных организмов. Не будем рассматривать какие-то специфические или интимные какие-нибудь процессы. Возьмем простую такую потребность, как удовлетворение чувства голода. Пришел военный, к примеру, на ужин, глянул на то, чем государство в этот раз хотело его накормить и выбрал из незатейливого военного меню хлеб и эрзац-чай (слава Богу с сахаром). Желудочно-кишечный тракт стартует и начинает свою работу в стремлении компенсировать энергетические затраты молодого здорового организма. Через некоторое время военных укладывают спать, и они засыпают. А желудочно-кишечный тракт военных продолжает свою работу по переработке топлива в энергию, но скудное топливо быстро заканчивается, не пополнив и трети энергетических затрат. Наконец, работа тракта останавливается, и формируется тревожный сигнал. Военные просыпаются. Военные всегда просыпаются при получении сигнала тревоги. Они понимают, что возникла какая-то угроза. Проснувшись и оценив угрозу, военные начинают на нее реагировать и стремятся ее нейтрализовать. В рассматриваемом случае они понимают, что в сложившейся обстановке (ночь и один ночной ресторан на весь город, в котором на военные деньги можно заказать себе разве что бульон от сваренных всмятку яиц и кусок черного, недоеденного VIP-клиентами хлеба), их может выручить только старый, родной такой и, что немаловажно для ночных походов, находящийся совсем неподалеку трамвайный парк («трампарк», по военному, военные ведь всегда стремятся к различного рода упрощениям, а значит и сокращениям).
В «трампарке» круглосуточно работала столовая, и цены предоставлявшихся в ней услуг вполне соответствовали кошелькам проснувшихся от голода военных. Военных принимают в «трампарке», как родных, но исключительно в ночное время. В дневное время военных тоже принимают, но уже не, как родных. Днем здесь слишком много трамвайного начальства, а проявлять родственные чувства в присутствии начальства как-то не принято.
Военные уютно располагаются, поглощая горячие сосиски со свиными сардельками и попивая свежезаваренный специально для них чай, общаются с развеселыми девушками-трамвайщицами. Девушки эти были еще теми провокаторшами и в стремлении своем к продолжению знакомства во всех доступных для порядочных людей формах часто подбивают военных к распитию запрещенных для них напитков.
— Да вы что? — возмущаются сначала военные. — Второй час ночи!
— А ничего, — отвечают развеселые девчата, — мы место знаем на проспекте Карла Маркса. Там сторож в винном магазине по ночам приторговывает. Недорого берет.
— Так это же далековато будет, — еще колеблются соблазняемые военные. — Чем бы туда добраться?
— Как чем? У нас же полный парк трамваев!
И вот так вот. Глубокой ночью. На персональном трамвайчике. Не останавливаясь на остановках. Сквозь белые питерские ночи мимо мигающих желтизной светофоров ездили военные за благородными винными напитками и не паленой, тогда еще, изготовляемой строго по ГОСТу водкой. И продолжали знакомство с развеселыми и простыми такими девчатами по всей территории гостеприимного «трампарка». В том числе на дерматиновых трамвайных пассажирских сидениях. Ближе к утру довольные друг другом знакомцы расходились. Развеселые девчата, устранив сопровождающие всякие порядочные знакомства беспорядки в дамских своих туалетах (не путать с уборными), преспокойненько начинали готовить к утренним рейсам стальные свои агрегаты, а военные тепло с ними прощались и шли изображать каких-то других, дисциплинированных в регламентированном сне своем военных. Знамо дело — артисты. Никто их на старших курсах по головам уже ночью не считал, но команду «Подъем» каждый уважающий себя военный должен был встретить в своей койке. Вот такая значит очередная была военная традиция. Вот такой вот был военный этикет.
Но если бы об этом узнали военноначальствующие, это тут же, безусловно, было бы названо происшествием. Сразу бы родились тома различных бумажек с описанием фантастических военноначальствующих предположений о том, кто мог первым проснуться, кто мог предложить куда-то на ночь глядя идти, кто с кем и в какой форме знакомился, как был похищен трамвай и т. д. Военноначальствующие, они ведь всегда стремились все опошлить и найти виновного, а когда виновных оказывалось много, очень всегда хотелось военноначальствующим найти хоть какого-нибудь зачинщика.
Наблюдались изредка в военноначальствующей любви к происшествиям некоторые исключения. Одни из них обусловливались выполнением обязательств опекунства над «сынами», другие были связаны с угрозами для их карьерных устремлений.
Вот подкараулило военных как-то ночью в трампарке лицо военнокомендантствующее (про него военные сочинили в свое время загадку: «Лысый череп, взгляд тупой, кто стоит на проходной?»). Лицо это было неисправимым карьеристом и мечтало к пятидесяти годам своим наконец-то получить высокое воинское звание, майором называемое. Подкараулил карьерист военных, всех переписал (это у военных один из самых устрашающих актов — перепись нарушающих дисциплину фамилий по всегда имеющимся у военных документам) и потребовал немедленно прибыть на вверенную ему для охраны военного порядка территорию. И немедленно растиражировал свой охотничий успех всем высоко военноначальствующим настойчиво требуя при этом публичных наказаний. Спектакля ему, видите ли, захотелось. Тот еще был театрал.
А застигнутые врасплох военные оказались самыми что ни на есть махровыми «сынами», один из них при этом оказался даже делегатом какого-то съезда ВЛКСМ. Была такая веселая молодежная организация в резерве серьезной коммунистической партии. Впоследствии резерв этот разогнал со всех постов своих старших некогда товарищей и по непроверенным слухам даже приватизировал партийный общак.
Но это когда еще будет. А сейчас родная наша КПСС еще в великой своей силе. И, что? У этой силищи в резерве одни ночные безобразники, скрывающиеся под личиной обучаемых военных? А делегат этот что, днем на съезды ходит, заседает там, в высшем органе управления комсомольским движением, реализует, так сказать, принципы демократического централизма, а ночью в каком-то трампарке водку пьет и растлением рабочей молодежи занимается? Да в своем ли вы уме? Идите и подумайте.
Нечем было думать военнокомендантствующему. Так и остался этот военнокомендантствующий капитаном до окончания дней своих, во всяком случае, служилых своих дней (все дело в том, что некоторые из особо продвинутых военноначальствующих, закончив службу продолжали получать очередные воинские звания и даже награды. При этом эти исключительные военные никогда и никому не показывали никаких подтверждающих звания и награды документов. Видимо, документы эти были секретными. И была у секретных званий и наград одна общая характерная особенность — были они тем выше, чем полнее был налит стакан у повествующего о своих подвигах военноначальствующего в запасе, либо в отставке пребывающего. А виной тому, что порой награды и звания находили своих героев только после окончания службы была излишняя военная принципиальность, часто наблюдаемая у особо продвинутых военноначальствующих. Сильно мешает порой эта принципиальность крутизне военной карьеры. Но, так уж получалось. Натуру, да еще такую продвинутую, ее ведь с бухты-барахты не переделаешь.
А во втором случае так называемых «происшествий» фигурировали уже совсем другие военные. Шли они ночью из законного на сутки увольнения. Шли, уставшие сильно. И подвела их чисто военная страсть ко всему блестящему и, в частности, к значкам. Военные любят ведь, чтобы все блестело, и очень уважают различного рода значки. Для военных ведь что особенно всегда важно — это когда в радостные минуты праздника захотят им вдруг сделать что-то такое действительно приятное (конечно же, для того, чтобы сделать военным что-либо действительно приятное, их необходимо для этого предварительно построить), военным необходимо так все обустроить, чтобы выводили их в торжественной очередности из празднично блестящего строя и прямо так каждому следующему очереднику-счастливцу и говорили: «Служил, дескать, дурачок — ну получи же ты, наконец, за это от нас ну хоть какой-нибудь значок!» и прикалывали к каждой широкой груди военной какую-нибудь блестящую в бесполезности своей фитюльку.
А впоследствии, некоторые из прикалывающих ничего не стоящие фитюльки циников набирались наглости еще и стишки писать издевательского такого характера о детских, чистых в непорочных слабостях своих, доблестных таких военных:
И на груди его могучей, Сияя, в несколько рядов, Одна медаль висела кучей И то, за выслугу годов.Так вот, шли-шли усталые эти военные и набрели на какой-то из многочисленных ларьков «Союзпечати», в которых в те приснопамятные времена осуществлялась советская торговля различными правдивыми газетами (приторговывали в ларьках этих несколькими видами различной «правды»: просто «Правдой» (партийной правдой от самого ЦК КПСС) и далее по нисходящей — «Комсомольской правдой», «Пионерской правдой», «Биробиджанской правдой» и т. д., в общем, у каждого издательства она была своя). И мелочевкой всякой тоже торговали, в том числе и злополучными значками. Ночью, конечно, не торговали, но и окна не зашторивали, чтобы ночные прохожие тоже могли на какую-нибудь «правду» посмотреть, каждый на свою.
Уставших военных «правда» вовсе не интересовала, ее с избытком хватало им на различных политических занятиях, но, увидев большое количество всевозможных значков с изображением сразу всех вождей лидеров международного коммунистического движения, военные пришли в сильное волнение. Не замечая в молитвенном экстазе естественных преград, тянулись они к священным своим реликвиям, овладевали ими в больших количествах и заполняли ими большущие свои военные карманы. А когда на витрине не осталось не одной блестящей реликвии, вдруг овладело военными чувство глубокой апатии, плавно перешедшей в глубокий сон. А что тут удивительного? У военных часто так бывает. Нападает после экстаза на них апатия. Это ведь не только у военных так происходит. В народе ведь какое определение апатии дают? Апатия — это отношение к сношению после сношения. А народ зря говорить не будет. Народ, он ведь не врет никогда. Большей частью почему-то безмолвствует. Но чтобы врать — никогда.
Вот и уснули уставшие военные, покачиваемые волнами окутавшей их апатии в этом злополучно-искусительном ларьке. Как назло, кому-то из проживающих неподалеку граждан срочно понадобился утренний глоток свежей, бодрящей такой, утренней правды. Этому гражданину пройти бы к какому-нибудь другому ларьку за глотком этим. Ан нет, зануда утренняя пошаркал к ларьку, охраняемому спящими военными. Пришаркал, раскричался, целительный глоток требуя, получил в глаз от так и не проснувшегося военного, почему-то обиделся и вызвал зачем-то милицию. Недопрочухавшиеся до конца от усталости и не вовремя разбуженные военные приняли милицию за обычных ночных воришек, покушающихся на святые лики вождей пролетариата на значках начертанные. Не имевшим при себе оружия военным ничего больше не оставалось, как бить нападавших по лицу. Ночные «воришки» временно отступили и вызвали подкрепление. В последующей неравной битве военные были взяты в плен. Начались разбирательства.
Оскорбленная действием милиция попыталась представить все произошедшее в более для нее привычном, мелкоуголовном аспекте. Но с милицией не согласились высоко военноначальствующие, быстро придав делу политическую окраску: «Какая-такая мелкая уголовщина? Это не знающую препятствий любовь к нарисованным на значках вождям вы называете мелкой уголовщиной?!»
В общем, вопрос был поставлен очень правильно. И поэтому сразу все уладили. Потому как, если бы не уладили, крепко не поздоровилось бы высоко военноначальствующим. Спросили бы их тогда еще более высоковоенноначальствующие с присущим им пафосом: «Мы зачем вас на должности такие поставили? Чтобы высокообразованных и несокрушимо идейных защитников Отечества готовить или пьянствующих ларечных воришек плодить?» Сначала бы только спросили пафосно, по-столичному так спросили бы, через надутую губу. А затем обязательно приехала бы какая-нибудь высокая комиссия и комплексно в объективности своей все тщательно проверила — всю, без исключения, военную жизнедеятельность. Особо скрупулезно бы высокая комиссия остановилась на изучении продуктов военной жизнедеятельности. А там столько всего интересного! И все это интересное обязательно будет внесено в завершающий акт. Просто размазано будет все это интересное по завершающему акту. И такой сразу шлейф пойдет по всей округе!
А дальше все просто, по налаженной годами схеме: «Предупреждаю вас, товарищ высоковоенноначальствующий о неполном вашем соответствии занимаемой вами должности», и нате вам еще вдогонку строгий выговор от родной нашей коммунистической партии Советского Союза. А с таким вот комплектом частных определений ожидала высоковоенноначальствующего в самом ближайшем будущем дальняя, унылая такая дорога в нелюбимый всеми военными, ставший даже нарицательным для них — дорога в безнадежный Безнадежнинск. Навсегда. Правда, весьма возможно, что на более высокую должность. Но навсегда.
Вот поэтому все так быстренько и уладили. Всегда бы так воспринимали военноначальствующие неприятности, изредка случавшиеся у военных. Всегда бы воспринимали бы так — как свои личные неприятности. Тогда бы было все правильно. По справедливости было бы. А то чуть что — сразу происшествие им подавай.
Ночные диалоги
А еще очень любили военные затевать между собой различного толка диалоги, диалоги вообще и диалоги вполне конкретного толка, в частности. Многие и смысла не понимали слов, вокруг них летающих, но все равно, им было все про все и всегда интересно. А все потому, что лишали их в рутинной военной обыденности этого незамысловато-развивающего действа. Все больше стремились приучить военных к прослушиванию странных и однообразно тупящих их монологов.
Сильно перебарщивали в этом стремлении различного рода военноначальствующие лица, сильно злоупотребляли они вниманием еще не испорченных до конца, и поэтому все еще пытливых военных. Совершенствуясь в своем артистизме, военноначальствующие часто устраивали уличные спектакли для военных. Продолжая совершенствоваться в искусстве ораторском, произносили они длинные и громкие, не всегда понятные речи. Временами возникало подозрение о том, что речистый рот большинства военноначальствующих всегда был набит цицероновскими каменьями. Камни эти, видимо, сильно докучали этим особо речистым военноначальствующим и они вынуждены были их постоянно перекатывать с места на место в ходе своих спонтанно рождающихся спитчей.
Военным же оставалось только стоять и слушать, реже — сидеть и слушать, еще значительно реже — лежать и слушать. Нет, поначалу им это было даже очень интересно все, смешно даже как-то было, но когда это изо дня в день и все друг на друга так похоже — речь на речь, спектакль на спектакль, и все такое одинаково-обыденное и серое… Словом, надоело это все военным до чертиков.
Нет, иногда военным, конечно же, разрешали самовыразиться. Например, песню какую-нибудь спеть во время вечерней их прогулки. Военных, их ведь, как особо любимых гражданами домашних животных, надо было всегда выгуливать вечерами. Чтобы ночью, значит, чего непотребного не натворили они. Не удумали сдуру чего-нибудь пакостного. Ну а коль уж вывели их погулять, пусть уж, так и быть, попоют. Но не то попоют, что взбредет им в недомыслящую еще их голову, а только проверенные временем песни из заранее составленного и высочайше утвержденного репертуара.
Да нет, ну что там душой кривить, дают ведь периодически военным ответить выступающему перед военным строем особовоенноначальствующему, например: «Зрав-гав жел-гав тов-гав воен-гав-но-гав-на-гав-чаль-ству-ющий!» Или же, к примеру: «Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!» Военные так всегда ура-радуются, услышав теплые не по-военному слова, с чем-нибудь поздравления от военноначальствующих (да-да бывает и такое!). Военноначальствующий вроде бы ничего особенного такого не сказал… Ну, произнес что-то там такое иронически-саркастическое. Сказал так, мол, и так, поздравляю вас, товарищи военные, с таким-то неожиданно наступившим праздником, хоть вы и не очень-то и достойны его великого значения… Да еще при этом не пожелал здоровья ни самим военным, ни их близким родственникам… Не пожелал им даже благополучия и согласия в семье. В общем, по существу ничего особенно хорошего военным не сказал военноначальствующий. А военные вдруг приходят в неописуемый восторг и заходятся в истошном крике: «Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!»
(Это еще что… В рассматриваемом случае, происходящее еще хоть как-то можно объяснить. В этом случае можно хотя бы предположить, что военные так обрадовались особо военноначальствующему, потому как они его давно не видели и успели сильно по нему соскучиться. Немного натянутое объяснение, конечно же, но это можно хотя бы предположить. Находясь в глубоком бреду, например… А вот современные военные могут прийти в дикий восторг, заприметив вдруг, что на высокую, громоздящуюся над ними трибуну, кто-то осмелился все же взобратся. Пусть даже этим смельчаком будет бывший директор мебельной фабрики. Уволили, к примеру, директора по какой-то причине со старой работы. Идет он к себе домой окольными путями, всячески оттягивая нерадостную встречу с семьей, глядь — какая-то лестница. «Дай, — думает уволенный, — заберусь. Посмотрю кто там молчит внизу. Еще побольше оттяну время своего горестного возвращения». Бывший директор неуверенно забирается по качающейся лестнице и неожиданно для себя оказывается на трибуне окруженной безмолвствующими военными. Гнетущая тишина, исходящая от военных не на шутку пугает бывшего директора. Он к такому не привык. Уволенный сразу вспоминает привычный гвалт, сопровождающий собрания трудового коллектива. Военные по-прежнему безмолвствуют. «Не к добру это, — с нарастающим волнением думает уволенный директор, — того и гляди еще и по трибуне сдуру палить начнут. Надо что-то срочно предпринять. Для начала надо хотя бы поздороваться, а потом и поздравить этих зловещих молчунов с какими-нибудь праздниками». Руководствующийся сигналами инстинкта самосохранения бывший директор тут же поступает в соответствии со своими мыслями. «Здравствуйте, товарищи военные», — неуверенно произносит вниз уволенный мебельщик. «Зав-здрав-тов-дир! Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!» — в экстазе вопят современные военные бывшему директору мебельной фабрики. Вот это мы вообще отказываемся комментировать и хотя бы как-то пытаться объяснить).
Но, конечно, такого вот фрагментарного самовыражения военным было явно недостаточно. И поэтому вступали они периодически между собой в диалоги. Вступали, в большинстве своем, после благостной для всех военных команды: «Отбой!» Вспомним, что, несмотря на внешне зловещий смысл этого слова, ничего опасного для военных оно само по себе не содержит. По этой команде ничего военным не отбивают. Военным просто подают сигнал на начало медитации и инициализацию процесса отделения сознания от замученной в ратном труде оболочки.
Случаются минуты, когда усталость оболочки не сильно докучает военным, и они не спешат отпускать на волю нетерпеливое в свободолюбии своем сознание. Именно в эти минуты и происходили между ними всевозможные диалоги на сильно разнящиеся между собой темы. Кроме того, диалоги эти обладали различной энергетической насыщенностью.
Они могли закончиться, едва начавшись, и представляли из себя вялый, быстрозатухающий словесный обмен ничего незначащими фразами, переходящий в частые такие, военно-тревожные похрапывания, свидетельствующие о начале процесса медитации. А случались очень жаркие диалоги, переходящие во взаимные оскорбления, и могли закончиться дружеской дракой военных на ночной помойке. При этом сугубо полемический процесс между военными проходил с частым обменом ударами и почти таким же частым употреблением банальных в наивности своей фраз-вопросов: «Ты кто такой?» или «Что тебе надо?» С чего начинались подобного рода полемики в самом недалеком последствии уже никто не помнил, а участники произошедшей на кануне дискуссии весело смеялись, удивляясь сами себе: «Надо же было до такого догадаться: пойти ночью в одних трусах на помойку, дубаситься там с Васькой, чтобы выяснить у него кто он такой и что ему надо! Ха-ха-ха! Я же его уже три года как знаю! И чего он всегда хочет, тоже знаю! Хе-хе-хе!».
Поясним коротко корни вот такого вот друг о друге всезнайства. Просто ходил в ту пору между военными и пользовался меж ними особой популярностью некий простецкий анекдот.
Проводился некий психологический опрос представителей различных профессий. Выбрали профессии инженера, учителя и военного. Им по очереди показывали простой красный строительный кирпич и допытывались о возникающих у них при этом ассоциациях. Показали кирпич инженеру. Инженер сразу стал что-то взволнованно говорить о домике на своих четырех сотках, и как это все его уже достало, и что надо принести с работы немного тротила и все это взорвать к чертям собачачьим. Психологи записали. Показали кирпич учителю. Учитель стал говорить что-то о кирпичиках частных познаний, из которых складывается фундаментальное здание науки. Психологи записали. Наконец показали кирпич военному. Военный посмотрел равнодушно на кирпич и сказал, что в данный момент он думает о женском половом органе (военный ответил в ненормативной транскрипции). Психологи замерли в растерянности: «Как так?! Почему?! Что же здесь общего?» «Нет, нет. Общего, конечно же, ничего нет, просто я всегда об ей думаю», — ничтоже сумняшеся, ответствовал военный.
Но все же, чаще всего, происходили диалоги средней энергетической насыщенности, направленные на обмен какими-то аспектами приобретаемого жизненного опыта в условиях полного отсутствия в стране развитого социализма так называемого «секса» (о грядущей сексуальной революции никто в ту пору даже и не подозревал), например, диалоги следующего содержания:
— Нет, мужики, неправильно вы себя с девушками ведете. Сколько слушаю я вас, наблюдаю за вами — грубовато как-то. Прибегаете к ним в общежитие и, как дикие хищники какие-то, сразу на них набрасываетесь и р-раз, а только потом, потом только, до следующего «р-раз», начинаете вести с ними пространные беседы о вашей же учебе и героической вашей же службе, о неистовых по отношению к вам военноначальствующих. Неужели вы думаете, что это им действительно интересно? Из вежливости, небось, слушают они всякую чушь, а вы и рады стараться соловьем разливаться. А то еще начнете вином их подпаивать и сальные свои военные шуточки направо — налево разбрасывать.
— А как надо-то, Леш, расскажи. Научи нас, сирых и убогих.
— Надо же не с этого начинать. Сначала разговоры надо вести умные, ну там о различных направлениях в высоком искусстве: в живописи, в скульптуре и архитектуре, в музыке, в театре и кино. Затем надо переходить к практической части ухаживания. Театры и филармонические залы необходимо с ними посещать, в музеи и картинные галереи наведываться. Ну, да-да, естественно с заходами в буфет, вы же без этого никак уже не можете обойтись. Ну, а затем уже, можно на более низкий уровень перейти, в кино, к примеру, с ними сходить и в темноте за коленки пощупать, ну а потом уже можно и в кафешку какую-нибудь заглянуть, угостить их там мороженным, шампусика подливая и на чай по месту их проживания напрашиваясь. И только потом уже, когда уже вас куда-то пригласили вместе с обогащенной искусством душой вашей, можно начинать настойчивое приближение к вашим плотским утехам.
— Ну, Лех, ты просто классик какой-то. Может ты нам еще денежными средствами поможешь? Выделишь, так сказать, на окультуривание наших животных, так сказать, меж собой отношений? Ну, на кино, театры, музеи и галереи мы как-нибудь сами по сусекам наскребем. А вот на посещение ведомственных буфетов уже никак не хватит нам. Так что на эти самые буфеты и мороженное с шампанским извольте-ка, дорогой наш Учитель, раскошелиться, и все пойдет по разработанному Вами сценарию.
— Да ну вас! На вас разве напасешься? Не умерены вы в страстях своих. Не хотите работать над повышением уровня своей внутренней культуры — зверствуйте дальше, как вы себя там называете — «половые гиганты» с постельной кличкой «неутомимые»? А вот такой у меня созрел вопрос к гигантам: вы, уважаемые половые разбойники, перед дикими своими совокуплениями эротические прелюдии, хотя бы, проводите?
— Чего-чего? Это что, перед каждым трахом теперь в оперу или на балет за твоей прелюдией тащиться?! Или что, нам самим, что ли их исполнять? Кому это на фиг нужно? Нас могут неправильно понять, если мы притащимся к девкам и начнем им тонкими голосами прелюдии голосить.
— Темнота дремучая! Я же сказал: «эротические» прелюдии. Читал я как-то в специальной медицинской литературе, у меня родители медики, что у всех, без исключения, женщин, кроме каких-то там, фригидных (кто такие — не знаю, не успел дочитать, торопился, надо было уже на службу ехать). Так вот, у всех абсолютно женщин существуют многочисленные эрогенные зоны. И если их по эрогенным зонам этим пощекотать немного, они просто звереть начинают и сами на мужиков набрасываются. Это и называется эротической прелюдией. Вам вот никаких прелюдий не надо, вы и так, как увидите какую-нибудь более или менее привлекательную особь женского пола, так сразу и звереете. А им вот, видите ли, нужны прелюдии, чтобы дойти до вашего обычного скотского состояния. Ну а дальше уже ладно, после прелюдий вы уже равны — два звереныша из программы «В мире животных».
— Да, Леш, знаешь ты по этой части довольно много. Здесь ты просто профессор. Понятное дело — родители медики. А сам-то ты девочку какую-нибудь хоть одну раз-разочек хотя бы попробовал?
— Нет, мужики, я ведь чистый тэоретик (существует такой тип военных, которые произносят очень значимые для них слова с легким турецким акцентом, примерно так, как печатала пишущая машинка великого проходимца Остапа Бендера, в бытность его работником знаменитой теперь на весь мир фирмы «Рога и копыта», например: тэория, акадэмия, прэмия и т. д.) Это ведь, понимаете ли, как, например, в физике. Есть физики— тэоретики и есть физики-экспэрэмэнтаторы. Так вот, я в области решения вопросов этики взаимоотношения полов являюсь чистым тэ-о-ре-ти-ком.
А иной раз происходили сугубо научно-теологические диалоги, например:
— Мужики, вот рассказывали нам сегодня на физике, как бьются передовые ученые всего мира над доказательством правильности теории Большого взрыва. Вспоминаете детище профессора Гамова? И вроде бы все для них, начиная с секунды существования Вселенной является более менее понятным, и даже обнаружили уже незабвенное реликтовое излучение, а то, что было с самого нуля секунды, никак не могут описать. Не то, чтобы не могут доказать, описать даже не могут на уровне какой-нибудь эвристической модели. Только один что-нибудь нафантазирует, другие сразу набрасываются и все с ходу опровергают. Опровергают вроде бы аргументировано, а предложить что-нибудь, используя хотя бы те же самые аргументы никак не могут.
— Ну почему же? Тебе же (это один из немногих случаев, когда военные точно не нарушали устава, обращаясь к другу просто так на «ты», потому как вопросы службы вышли в то время только на околоземную орбиту и вселенских масштабов еще не затрагивали) долго объясняли основные положения теории инфляции. Эта теория как раз и дает представление о периоде от с. до с. в предположении, что до этого периода Вселенная находилась в состоянии так называемого «ложного» вакуума, обладающего ненулевой плотностью энергии, и поэтому очень беспокойного, стремящегося перейти в обычный вакуум посредством туннельного эффекта. А когда ему, заразе, это, наконец, удается, то в «ложном» вакууме образуются «пузыри». Каждый «пузырь» это — «зародыш» одной из Вселенных. Правда непонятно, зачем производится деление между вселенными, для нас одна из них и то, практически, является бесконечностью. А тут множество вселенных. И чем определяются их границы? И зачем нам вообще их определять? До межевых межзвездных войн тут еще точно очень далеко. Любая война ведь является вооруженной борьбой за какие-либо ресурсы. А здесь так всего много, что и сам смысл борьбы пропадает.
— Ну, дорогой мой, как-то уж очень ты по-военному на все смотришь. Причем здесь разделение вселенных? Здесь, во-первых, еще с Галактиками не все понятно. А во-вторых, хитрый ты все же, змееныш, опираешься на очень спорную теорию инфляции, а в великих ученых умах имеются большие в правильности ее сомнения. А в-третьих, никто из великих наших умов так и не берется предполагать, что же, все таки, творилось хотя бы в одной нашей Вселенной, начиная с нулевой временной ее отметки, и кто, в конце-концов, дал старт? Кто, собственно, определил этот ноль и дал отталкивающую от него отмашку? Разве могут быть какие-то сомнения о полной, определяющей все дальнейшее наше развитие, причастности ко всему этому Всевышнего? А великие наши ученые, в который раз уже, пытаются применить современные, но еще далекие от совершенства так называемые научные методы познания к тому, что не может быть познано этими методами принципиально. Я не могу утверждать, что есть вещи, непознаваемые в принципе — есть вещи, которые могут быть познаны другими, отличными от современных, научных методов. Будут ли это методы мистического познания окружающего мира или еще другие какие методы — сие нам неведомо.
— Стоп, стоп, стоп! Ты кого понимаешь под «всевышним»? Уж не «боженьку» ли? А как же великая наша и единственно правильная теория?
— Ну, во-первых, не «боженьку», какого-нибудь, а Великого нашего Всемогущего Бога. Как истинно выглядит он, не дано нам узнать в земной нашей жизни. Отойдем когда в мир иной, там может что и увидим. Но точно это будет не человеческий облик, хоть и сказано в Библии «по образу и подобию своему», да и Бог-отец и прислал нам Христа в человеческом обличии, чтобы нам, тупеньким было проще Его, воспринять. Ну, представьте себе, покажут современному обывателю нашему некий список со слепка вселенского разума, духа вселенского и неубывающей светлой энергии. Поймет ли он чего-нибудь? Да нет, конечно же, ничего не поймет он: «Что за очередную сюрреалистическую размазню вы мне тут подсунули?» А вот когда конкретный, человеческий такой облик Иисуса предстанет пред ним, тогда он еще задумается: «Вроде как, что-то похожее на воображаемый мной облик Всевышнего, только уж больно глаза у него просветленные и печальные какие-то. А-а-а! Он же на кресте висел, прибитый ржавыми гвоздями. Тогда печаль его понятна. Каждый, наверное, загрустит, когда с ним таким же образом обойдутся. А вот просветление такое, особое какое-то, откуда-то в глаза его наплывшее — это еще мне непонятно». Но это хоть и недостаточно верное, но зато какое-то уже оформленное восприятие истинного Бога нашим же обывателем. Он хотя бы о чем-то начинает задумываться. Хотя бы о том, что ему именно непонятно. Я бы называл это восприятие первоначальным. А вот когда поймет он и ему подобные, что за просветлением в глазах Господних стоит истинная радость от того, что, в том числе, и его, дурака, обывателя этого, удалось, в конце концов, спасти от беспросветной кары небесной за поганые грехи его земные, вот тогда и наступит эра всеобщей и истинной веры. А относительно «единственно верного учения» хочу предостеречь тебя, дорогой ты мой, военный: бойся произносить слова такие вслух, бойся даже пускать их в думы свои глумливые, ибо истинная правда только у Бога. И это, кстати, понимали и те, кто эту якобы теорию создавал, опираясь на пресловутые три источника и три составные части так называемого марксизма-ленинизма.
— Почему же якобы? Теория как теория. В том же капитализме до сих пор используется.
— Обрати внимание, используется только в экономическом плане. Используется только так называемый краеугольный ее камень — теория прибавочной стоимости. Но Всевышнего в этой теории ни один из классиков особо не ругал и не пытался относительно него что-нибудь доказать. Ну говорил Ильич что-то о заигрывании с «боженькой». Интонация, конечно же, ему еще долго не простится, но ведь речь-то шла о попах. А попов я сам очень сильно недолюбливаю. Есть среди них, конечно, истинные служители Веры, но в основном — это стяжатели, жаждущие сорвать куш на вере, а иногда и на горе человеческом. Ну представьте, мужики, брать деньги за совершении молитвы за упокой души?! И при этом отказывать в молитве тем, у кого вдруг денег не окажется?! Сам был тому свидетелем и ненавижу подобных, почему-то всегда толстомордых таких и вечно лоснящихся в удовольствии скотов! И, в то же время, преклоняюсь перед истинными подвижниками Веры. И горжусь тем, что один из них крестил меня.
— Погоди, насчет Ильича, возможно, ты и прав. Открыто Бога не ругал он, но попов этих точно недолюбливал. Но ругал не ругал, в душе ведь все равно ярым был безбожником! Войну против церкви именно с его подачи начали. Сколько храмов поганцы порушили… А те, которые сломать силенок не хватило, в свинарники превратили. А так… Внешне добреньким таким рисовали этого злодея. Он, видите ли, детишкам на елку гостинцы посылал. А «мешочников», читай — тех же любимых им пролетариев, побирающихся по деревням во время голода в городах, призывал расстреливать. А почему голод-то в промышленных городах вдруг образовался? Все от того же большевитского не умения хозяйствовать. Они же тогда что умели? Только глотку лозунгами надрывать и из ружей палить во все стороны. Поэтому горожане и вынуждены были собрать свой промышленно произведенный скарб и податься в село для обмена этого скарба на хоть какие-нибудь продукты питания для голодающих своих семей. А он на них: «Мешочники! Стрелять!» А мы изучаем и конспектируем по ночам псевдотруды этого воинствующего сифилитика. Ну ладно, по поводу «мешочников» — это такое эмоциональное отступление, навеянное недавним конспектированием «Все на борьбу с Деникиным!». Вернемся все же к затронутой теме. Ленин-лениным, а у нас еще два классика неохваченными оказались. Кто-нибудь встречал где-нибудь во время нудных наших конспектирований какие-либо высказывания по поводу Всевышнего у Маркса с Энгельсом?
— Честно говоря — не помню. Энгельс, по-моему, вообще ничего по этому поводу не говорил. А вот Маркс как-то высказался относительно религии, мол, опиум это для народа. Наркотик это значит такой, народ растлевающий. И вспоминается мне, смутно, что-то еще у Маркса было по поводу того, что христианская религия — это религия рабов. Но ведь давайте все же понимать, и в понимании своем разделять, что Вера, религия и церковь — это хотя и взаимосвязанные, но в то же время, абсолютно разные вещи. А по поводу Всевышнего классики воинствующего нашего марксизма-ленинизма предпочли отмолчаться. На всякий случай. Это ведь знаете анекдот такой про «всякий случай»?
— Да нет, вроде бы не слышали. Рассказывай, давай, коль напросился.
— Умирает старый еврей и просит жену: «Сагочка, золотце мое, когда отлетит из меня дух, положи мне, пожалуйста, во гроб Тору, Коран и Библию. Жена удивленно спрашивает его: «Абрам мне таки понятно насчет Торы, но зачем же тебе еще и Библия? И Коран в придачу? Ты же знаешь, дорогой, что щас все так дорого, так дорого все!» «На всякий случай Сагочка, на в-ся-кий с-лу-чай! Я лучше таки еще раз заплачу напоследок».
— Ну, вы даете, мужики. Анекдоты это, конечно, хорошо, но вы просто попы какие-то, и вроде как мы с вами не в одной стране живем. Мы же со всем нашим народом идем в светлое коммунистическое будущее. Материализм проповедуем. А вы что-то разошлись — религия, Всевышний, Вера, церковь. Нет, ну точно, попы какие-то. Хотя то, о чем вы говорите, стало вдруг и мне тоже интересным. Вспомните лекции нашего материалистического «философа». Ну этого-то, который мучил нас красотой однообразия, а потом, всегда нараспев так: «Кто сказал, что хлеб солдатский легок?!..». Он ведь, вроде бы, материалист, а с пониманием относится к трудам схоластика Фомы Аквинского, правда посмеивается над его доказательствами существования Бога.
— Ну, относительно попов я вас, сударь, попросил бы. Во всяком случае, меня, просьба, всуе вместе с ними не поминать. Я ведь свое отношение к ним уже выразил. А вот по поводу Аквинского… Фигура для средневековья, конечно же, знаковая. И не только для средневековья. Насколько мне известно, всем философствующим ныне теологам, папской церковью предписывается придерживаться основных постулатов великого Фомы. Учение его базируется на трудах Аристотеля. Сильно он ими проникся, а вот Платона за что-то не любил. А знаменитые его пять доказательств существования Бога вовсе даже не смешны. Наш «философствующий» скорее так, для вида только посмеялся. По долгу, так сказать, службы. Он ведь обязан читать именно марксистско-ленинскую философию и лишь изредка, в порядке, так сказать, критики, довольно поверхностно пробежаться и по другим направлениям философии. Но свою задачу он выполнил. Хоть как-то расширил спектр наших скудных познаний, а то бы мы до конца дней своих были бы уверены, что самые великие философы современности — это Маркс и Ленин. Маркс-то еще ладно, его еще как-то можно отнести к этой категории. А вот с какой такой радости в великие философы попал Ильич, мне не совсем понятно. Это ведь чистый практик революционного движения. И философских трудов он никаких не писал. Ну, разве что «Философские тетради» и «Материализм и эмпериокритицизм» с большой натяжкой могут быть отнесены к около философским трудам.
— Ну все, как говорится: «Остапа понесло!» Ты вроде бы хотел про пять доказательств существования Бога рассказать, а сам на Ильича набросился. Не надо трогать покойного дедушку, не по-христианскому это.
— Как это покойного? Ты что забыл: Ленин жил, Ленин жив… Тьфу! Ладно, давайте вернемся к Аквинскому. На мой непросвещенный взгляд все эти пять доказательств вполне могут быть сведены к трем основным, а остальные являются промежуточными. Первое доказательство состоит в том, что, по большому счету, все вещи в мире делятся на две группы. К первой группе относятся вещи, которые являются только движимыми. Ко второй группе относятся вещи, которые, помимо того, что движутся сами, еще и приводят в движение другие вещи. Но ведь вещи второй группы тоже должен кто-то двигать. И если исключить возможность бесконечных умозаключений от причины к следствию, то в какой-то точке мы обязательно должны прийти к тому, что инициатор всеобщего движения неподвижен. Это и есть Бог, по Аквинскому. Второе доказательство сводится к констатации того, что мы наблюдаем в окружающем нас мире различные степени чего-либо совершенства, а значит, должен быть источник этих степеней. Источник должен быть абсолютно совершенным. И этот источник тоже Бог по Аквинскому. Суть третьего доказательства состоит в целевом предназначении неодушевленных предметов природного происхождения. В быту мы эти предметы не используем, и назначение этих предметов нам непонятно. Непонятно потому, что они созданы с неизвестной нам целью. Цель, для которой созданы эти предметы, известна, только их создателю, то есть Богу.
— Не совсем убедительно, но интересно. Логика, во всяком случае, присутствует. И где ты всего этого начитался? Наша цензура в библиотеки литературу такого содержания обычно не пропускает.
— А в различных критикующих книженциях. В которых критикуется все, кроме социализма с коммунизмом. Начнут, например, Ветхий Завет критиковать в какой-нибудь «Занимательной Библии», при этом все равно вынуждены будут рассказать что-то о критикуемом предмете. Вот так по крупицам и удается иногда что-нибудь узнать, кроме всевозможных и доступных «измов».
— Ладно, мужики, давай спать. Смотрите-ка, уже рассвет наступил. А завтра обычный военно-трудовой день. Следующий раз предлагаю о Сенеке поговорить.
— Спокойного утра! Материалистические, вы мои, теологи! Ха-ха-ха. Х-р-р. Х-р-р. Хыр-пыр. Ю-ю-ю.
Иногда впадали военные в озабоченность по поводу перспектив существовавшего тогда строя. Нет-нет, мыслей о том, что строй этот через какой-то десяток лет так просто и в одночасье рухнет, конечно же, не было. Просто некоторые из партийных вождей в то время обещали дать народу в ближайшее время возможность пожить при коммунизме. Так прямо и писали на больших плакатах с изображениями делающего ручкой вождя: «Нынешнее поколение молодых людей будет жить при коммунизме!» А военные как раз в то время молодыми и были, и им тоже хотелось попасть в число неких каждых: «От каждого по возможности, каждому по потребности». Но иногда казалось им, что все идет не совсем так, как провозглашалось с высоких трибун величественных съездов родной такой для всех военных коммунистической партии. Партии, являющейся организующей и направляющей такой всесильной силой, силой великого в могучести своей Советского Союза.
А когда возникали у военных такие вот сомнения, они тут же впадали в озабоченность. И, пребывая в этом состоянии, вели меж собой приблизительно такие диалоги:
— Что-то я не пойму, мужики, вступили мы недавно в эпоху развитого социализма, и обещают нам скорое вступление в коммунизм. Я, например, проявление коммунизма на бытовом уровне так понимаю: потрудился я радостно, столько, сколько смог я сегодня на благо коммунистического общества, притомился в радости своей и, по пути с работы зашел в продуктовый пункт. Это уже не магазин какой-нибудь, где товар меняют на деньги. Деньги-то уже к тому времени выйдут из обращения. Так вот, зашел я в этот пункт и взял все строго по своим потребностям. Не больше трехсот грамм осетринки, картошечки несколько клубней, ветчинки и сыра с зеленью на утренний завтрак.
— Здоров же ты жрать, военный. Осетринки, завернутой в ветчину, ему вдруг захотелось. Что, неужели овсянно-пшенно-шрапнельные кашки надоели? Коммунизм, он может, как раз, и подразумевает, что все твои потребности кашками этими и должны ограничиваться, а возможности твои, усиленные коммунистической идеей, при этом должны быть безмерно велики. Пашешь себе от зари до зари с радостью, а в перерывах присаживаешься на пенек и горшочек каши в той же радости уминаешь. И не уйти ведь с работы-то пораньше, на пике коммунистической сознательности находясь такого нельзя допустить. Прислушиваешься к себе — ого, возможности-то еще остались! И продолжаешь себе дальше и радостно так трудиться. Пока не унесут ногами вперед. И нести будут, заметь, тоже с радостью. Потому что без радости в коммунизме нельзя. Классики, по-моему, только на нее и надеялись. Самой реальной вещью во всей их теории оказалась эта непонятно откуда берущаяся радость от какого-то освобожденного кем-то и от кого-то труда.
— Ну ладно ты, циник известный. Дай закончить. А то сейчас забуду, о чем, собственно, сказать хотел. Так-вот, на следующий день, по завершении радостного, очередного моего трудового подвига, потребности у меня уже несколько другие (все же имеет свойство надоедать, в конце концов, и осетрина, и икра). Могу я, к примеру, вместо осетринки взять такое же количество свининки розовой, свеженький такой кусочек. Ну а далее макарончиков еще могу взять на без избыточный свой ужин вместо картофельных клубней, и не землисто-серых макарончиков, пролеживающих на витринах нашего развитого социализма, а нормально-белых таких из так называемых твердых сортов пшеницы. Пшеницы у нас такой, слава Богу, хватает пока, несмотря на всю рискованность нашего земледелия.
— Слушай, ты уже надоел, слюней уже полон рот. Если так дальше будет продолжаться, все опять закончится трампарком. Осетринкой никто там конечно не угостит и свининки не отрежет, но по свиным сарделькам ударить уже не мешало бы.
— Все, прекращаю о жратве. Никак не могу от нее оторваться и перейти непосредственно к коммунизму. Ну вот значит, стою я в продовольственном этом пункте и в мыслях даже у меня, морально к коммунизму подготовленного, не промелькнет таких мерзких помыслов, чтобы стибрить, к примеру, еще килограмма три лобстеров на бесконтрольно-доверительную коммунистическую халяву. Я ведь трезво оцениваю свои естественные съестные потребности и твердо понимаю, что не съем за вечер столько. А если все же очень постараюсь и все таки сожру все, с трудом сдерживая нарастающую справедливость возмущения организма, то переварить мне все это качественно, с пользой для не вполне уже коммунистического себя, в любом случае уже не удастся. Ведь высочайшая житейская мудрость, относящаяся не только и не столько к еде, говорит нам о том, что абсолютно неважно, сколько вообще мы можем съесть, самое главное — это то, сколько мы можем с пользой для себя переварить. Тьфу! Опять понесло.
— Короче давай, Склифасовский! Достал ты уже всех. Минуту еще даем тебе, птица-говорун.
— Так вот. Гляжу я на бесконечные очереди в продуктовых магазинах развитого нашего социализма и думаю: если толпится очередь значит, где-то неподалеку притаился дефицит. Очереди, особенно за мясными продуктами, становятся год от года все длиннее, а притаившийся было дефицит становится все толще и наглее и, того и гляди, скоро будет свободно разгуливать по улицам наших городов.
— Да он давно уже свободно разгуливает по всем городам и весям великого нашего СССР. Это вы тут зажрались в своем Ленинграде да в Москве, ну еще в столицах национальных республик относительно неплохо. Поездили мы по практикам да стажировкам. Насмотрелись кое-чего и представляем уже более или менее общую картину. Представляем, например, что уже в пятидесяти километрах от Москвы куска вареной колбасы купить невозможно. Вот и ездит все Подмосковье и сопредельные с ним области на выходные в Москву и рассыпается там по проверенным магазинчикам, в которых успех наиболее вероятен при минимальной длине очереди. А некоторые ленивцы — нет, не ищут легких путей, занырнут сразу, с электрички сойдя, в какой-нибудь привокзальный магазинишко и стоят там до сумерек в надежде на парочку батончиков псевдо-мясного в закрахмаленности своей и набитого туалетной бумагой продукта. И домой! В лучшем случае с победой, добытой ценой потерянных выходных. Недаром родился в народе анекдот-загадка: «Что это: длинное, зеленое, колбасой пахнет?» Ответ знаем: «Подмосковная электричка в выходной день».
— А взять сопредельные области? Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Тверскую? Да что говорить, из этих горе-областей все равно в разумные сроки до Москвы можно доехать! А как же остальная наша матушка Рассея?
— И ведь правда, и ведь я о том же. Вот и думаю, откуда же напастись ресурсов на этот самый коммунизм. И какая дикая должна быть производительность. Сейчас ведь народ, в большинстве своем, работает с ощутимым напряжением, полезных ископаемых у нас много, пахотных земель и пастбищ тоже хватает, а вокруг нас разгуливает беспардонный дефицит. И не одинок он, этот мясо-колбасный прохвост. Имя ему — легион. Он и в мебельных магазинах, и в хозяйственных, не говоря уже о местах продажи «не роскоши, а средств передвижения». А представьте себе, что может случиться, когда не до конца еще сознательный народ неправильно поймет первую часть коммунистического лозунга: «От каждого по возможности…» и впадет в праздное разгильдяйство, помня, что все равно получит по своим непомерно разбухающим потребностям? Полная катастрофа!
— Может, это все из-за плановой нашей экономики? Может неправильно там, наверху все планируют? Страна большая, тысячи и тысячи разнопрофильных предприятий, портов, угольных разрезов, нефтяных вышек, колхозов и совхозов — всего за день не перечислишь. И все это надо увязать в единый производственный комплекс и охватить тотальным контролем. Возможно ли это вообще при нашем-то уровне автоматизации? У нас ведь как дела с автоматизацией обстоят, к примеру, в строительстве. Приехал, например, на базу стройматериалов порожний самосвал, диспетчер нажимает на кнопку, и тут же, как из-под земли, появляются десять рабочих с лопатами и приступают к загрузке «порожняка». А тут ведь необходимо какое-то масштабнейшее комплексирование и глобальный такой контроль. Вот и ошибается наш Госплан. В одном месте допустил ошибку, и пошла она размножаться в геометрической прогрессии по территории всей страны. И в итоге: здесь пусто, а там густо.
— Нет, я, например, не знаю мест, где бы было действительно густо. Видел места, где скорее густо, чем пусто. А вот чтобы категорично так — густо, такого никогда не видел. Ну это, в конце концов, не так важно. Вы мне вот на какой вопрос ответьте. Вот тут некоторые военные про осетринку что-то говорили в лучезарном коммунистическом будущем. А сейчас-то она где, осетринка-то эта? Где черная икра от нее? Где многочисленные лососевые с красной их икрой? А тихоокеанские крабы? У нас же богатейшие рыбные запасы! Не понаслышке знаю — жил какое-то время на Камчатке. А в магазинах только треска да килька, ну есть еще, правда, какая-то иваси. Что, опять Госплан ошибся?
— Ну ошибся, наверное. Хозяйство действительно сложное. Хотя так ошибиться, действительно, очень трудно. Тут что-то другое. За границу небось гонят все мерзавцы. Не хватает им видимо инвалютных рублей.
— Именно так. Если бы Госплан ошибся, то завалил бы, к примеру, Тамбовскую область красной икрой, а Тверскую черной. Обожрались бы местные жители обеих областей одним из видов рыбьего потомства, и пришла бы им мысль совершить бартерный обмен, устраняя госплановскую ошибку. Так нет же! Ничего этого деликатесно-рыбного в обычных магазинах нет. Что-то можно найти в Елисеевских магазинах по капиталистическим ценам. Но платят-то народу пока строго по-социалистически. А здесь, наверное, и кроется ответ на рыбные вопросы. Видимо, скабрезный этот госпланишка на этот раз рассчитал все верно. Зачем кормить свой народ деликатесами? Так ведь можно и до капиталистического общества потребления докатиться. Да и цены на деликатесы придется делать доступными для участников социалистического труда. Зело сие затратно. Хватит с него, с народа этого, наипитательнейшей в своих устрашающих размерах кильки! А тут под боком, недалеко совсем, загнивают охочие до деликатесов алчные капиталисты с торчащей изо всех карманов валютой. Нате, гады, подавитесь. Вагончики опломбированные с валютой взамен не забудьте только прислать. И видимо эти загнивающие ничего, не забывают. Вовремя все отправляют. А вагоны эти встречают на станции видные советские и партийные руководители с большими пустыми кожаными портфелями. Видные руководители чинно, не спеша так, заполняют валютой знатные свои портфельчики, а то что, в портфельчики эти не помещается, аккуратно веником так, кем-то в форме, подметается и складируется в партийную кассу. На нужды, так сказать, мирового коммунистического движения.
— Ну ты просто антисоветчик какой-то! Просто какой-то диссидент! Слава Богу, что нет среди нас агентов от службы «молчи-молчи» и политотдела. Иначе к концу учебы никого бы уже и не осталось. Как там у Пушкина: «Иных уж нет, а те далече». Скорей всего на эти инвалютные рублики наши видные деятели станки с числовым программным управлением покупают. Налаживать свое производство средств производства им видимо уже не под силу. Старенькие ведь все они уже.
— Не надо «ля-ля». Нам на лекции по политэкономии говорили что станки у нас даже японцы покупают.
— Да конечно же покупают, спора нет. Только покупают-то из-за металла. Покупают у нас, к примеру, один довоенный станок типа «ДИП» («догнать и перегнать»), переплавляют его и делают три своих с ЧПУ.
— Может быть и так, но это еще раз подчеркивает старческую немощь наших руководителей.
— Ты еще слезу по поводу их несчастливой старости пусти. Тут военный принцип должен работать: достиг пенсионного возраста — на тебе пенсию союзного значения и изволь на дачу огурцы с помидорами выращивать. А эти же — нет, так вцепились во власть, что только вперед ногами их оттуда выносят. И закапывают тут же от этой власти неподалеку. Чтобы покойники сильно не переживали по случаю ее нежданной потери. А то как начнет еще какой старпер в гробу своем вертеться на каком-нибудь удаленном от власти кладбище, вспоминая проникновенные слова, звучащие на похоронных митингах: «С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня наш народ и все прогрессивное человечество понесли невосполнимую утрату, на семидесято-восьмидесято-девяносто хххх-ом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни великий (видный)…». А то еще и проникнется речами вдруг своей незаменимостью покойный, да еще и вылезет обратно. Дабы восполнить казалось бы уже невосполнимую потерю. И пойдет народ бестолку будоражить и смуту сеять. Кому из пока еще здравствующих политиков это может прийтись по нраву? Они только во вкус вошли, а тут: «Здрасте вам!» — приперлось такое страшилище! Оно в последние годы жизни-то было уже не очень, ну, а тут совсем уже безобразие какое-то. Поэтому-то и норовят знаменитых этих покойничков где-нибудь у Кремлевской стены закопать. Чтобы вроде как при власти оставались они. Полеживали себе неподалеку и пребывали в некой иллюзии власти. И это правильно. Так ведь поспокойнее будет всем.
— Ну-у-у ты точно диссидент! До чего договорился в итоге! Смотри, плохо кончишь. Ты хоть больше нигде так не разглагольствуй! Сдадут ведь и даже фамилии не спросят. Фамилию спросят в другом месте. В том месте все фамилии знают, но почему-то все время у всех попавших туда непременно интересуются: «А как, гражданин, звучит ваша фамилия?» Некоторые лгут и тут же попадаются на еще одну статью. Так что давай-ка прекращай диссидентствовать.
— Да никакой я не диссидент. Хотя… У нас уже сейчас так огульно, как при Сталине, не сажают. Но в народе говорят, что каждый из нас потенциальный диссидент, а все диссиденты делятся по большому счету на две больших подгруппы — доссиденты и отсиденты. Анекдот про первого советского диссидента хотите услышать?
— Да рассказывай уже. Все равно полночи покоя от тебя нет.
— Ну, тогда слушайте. Приходит Берия к Сталину с докладом о поимке первого советского диссидента. «Ну и кто же это, Лаврэнтий?» — вопрошает, попыхивая трубкой, Сталин. «Это нэкий Сынявскый, товарыщ Сталын», — ответствует Берия. «Лаврэнтый, а тот ли это Сынявскый, который футбольные матчы коммэнтыруэт?» — вновь вопрошает Иосиф Вессарионович. «Нэт, товарыщ Сталын, это другой Сынявскый», — вновь ответствует Берия. Сталин некоторое время молчит, расхаживая по просторному, кремлевскому своему кабинету, а потом останавливается и с недоумением в голосе произносит: «Послущай, Лаврэнтый, а зачэм нам два Сынявскых?»
— А я вообще считаю, мужики, что дело не в отдельных ошибках планирования развития так называемого народного нашего хозяйства. При таком жестком подходе к планированию громадного нашего хозяйства ошибки и просчеты тоже будут громадными. Вот у загнивающих этих капиталистов-рыночников, у них ведь как раз, основная аргументация в пользу рыночной экономики и состоит в возможности преодоления на ее основе противоречия между ограниченными по определению ресурсами, с одной стороны, и неуклонно растущими потребительскими запросами, с другой. И каким образом они пытаются противоречие это преодолеть? В основном за счет создания жесткой конкуренции в сфере перекачивания ресурсов в потребительские товары. И тут все понятно — кто наиболее эффективно перекачивает ресурсы в наилучший, например, по критерию «цена-качество», потребительский товар, тот и является наиболее успешным и богатеющим. И, богатеет успешный этот, при минимальном контроле со стороны государства. Государство, в основном, отслеживает правильность и своевременность поступления налогов в казну и контролирует упорядоченность использования природных ресурсов — большинство ведь развитых капиталистических стран давно уже преодолело период дикого капитализма, хищнически относившегося к природе.
— Еще один диссидент выискался. Ты куда это клонишь, морда твоя буржуйская? В капитализм нас зовешь? А про безработицу, наркоманию, про неуверенность в завтрашнем дне ты сразу, конечно, забыл?
— Все это, конечно же, там присутствует и является прямым следствием той же самой конкуренции. Я вовсе не призываю к свержению действующего социалистического строя. Хотя понятия «социализм» и «капитализм» становятся все больше и больше неоднозначными. Как, к примеру, можно назвать государственные устройства Скандинавских стран? Вроде как капиталистические это страны, а по уровню предоставления социальных гарантий давно уже нас, истых социалистов-позорников по всем статьям обогнали. А социализм в какой-нибудь Бирме? Это что такое? Поэтому я, например, ратовал бы за перевод на рыночные рельсы нестратегических отраслей народного нашего хозяйства. Я еще на «гражданке» замучился носить «деревянные» квадратно-танковые изделия обувной фабрики «Скороход». Вот и надо построить таких «скороходов» побольше и пусть себе конкурируют меж собой. Борются меж собой вне рамок всесоюзного планирования. То же самое касается и предприятий легкой, текстильной и пищевой промышленности — пусть себе крутятся без мелочной опеки со стороны государства. Банкрот, значит банкрот. Процветаешь, значит процветай себе дальше на здоровье. Глядишь, и обувь у нас удобная появится, и качественными джинсами отечественного производства завалят прилавки магазинов, и ассортимент продуктов питания станет поразнообразней. А то ведь и смех, и грех — страна с 250-тью миллионным населением питается двумя-тремя видами сыра и колбасы, да и этого-то еще не всегда достанешь. А стратегически важные отрасли должны, безусловно, остаться у государства. Недра, железнодорожный и авиационный транспорт, тяжелую промышленность и оборонку не трожь — это национальная безопасность.
— Слушай, если ты такой умный, ты может сразу после выпуска в Кремль попросишься. Научишь, наконец, дураков-то этих старых уму-то разуму.
— Я не самоубийца пока еще. Вон Косыгин попробовал осторожненько, аккуратненько так стронуть экономику с места. И что получилось? Куда пропал он вдруг с экранов телевизоров. Так это — Косыгин. А тут заявится в Кремль какой-то военный. Шашку наголо и давай крушить сугубо плановую экономику. Все. Место в психушке на долгие годы сразу будет обеспечено. Там, наверное, поспокойней будет, чем везде. Кормят бесплатно, опять же. Однако сыты все мы питанием этим бесплатным. Лучше все же на него самому зарабатывать. Добросовестно служа планово-социалистической нашей Отчизне.
— Эх, мужики, хоть и говорили тут о доступности какой-то и полноте имеющейся, якобы, у вас информации о происходящем у нас в стране, на самом деле ни хрена вы о ней не знаете. Вы посмотрите, как живут наши социалистические «прибалты»! Казна в их промышленность и личное благосостояние этих лениво трудящихся граждан деньги только вбухивает и вбухивает! Причем вбухивает только лишь в надежде на лояльность этих «тормозов». А они, нет, иуды эти тевтонские, казну поглощают, а сами вороватым глазком своим на запад поглядывают и гундосят о том, что их когда-то завоевали, и как им было бы на западе хорошо. Хотя до того, как мы их, якобы, «завоевали», они как раз на том самом западе и были, только в качестве нищих аграрных придатков к западной Европе. И куда эти засранцы, извините за выражение, со своим сельскохозяйственным барахлом сейчас бы делись? Ну, реализовали бы они свое право на самоопределение. На какой такой рынок они собираются барахло свое выбрасывать? Если западноевропейские государства даже доплачивают своему сельхозпроизводителю за, то, чтобы он немножко так хотя бы поленился, расслабился бы с «легонца» и произвел на порядок так поменьше, чем может в действительности. Потому что сельскохозяйственный рынок у них давно уже сложился и без этих самых засратых «прибалтов». Сложился и без них уже давно пресытился. А тут наши доморощенные прибалтийские уродцы со своими мокрыми и вонюче-капающими мешками: «Гут морген, сэры! Бонжур, мадамы. Сырку нашего вонюченького к утреннему вашему столу не желаете ли? Почему воняет? У нас же натуральное все. А натуральное оно всегда воняет».
— Что-то ты уж больно зол на них. И не все из них «тевтонцы». Литва это ведь братья наши — славяне.
— В гробу видал я таких братьев! Издревле против нас вместе с поляками воевали. Сколько русской кровушки из-за трусливых их предательств совершенно напрасно пролито! И сейчас еще набираются наглости и выпендриваются, «говнюки» беспросветные. Они ведь какую моду сейчас взяли — по-русски все говорить умеют, но когда спросишь что-нибудь на улице, ну, к примеру: «Как пройти к месту продажи вашего самого вонючего в мире сыра?» Либо молчит, «говнючара», руками своими тормознутыми разводит, либо начинает что-то мычат по-своему, тщательно растягивая слова. Кстати анекдот вспомнил про пресловутую их тормознутость, правда, с эстонским оттенком, но поверьте, принципиальной разницы между этими «прибалтами» не существует.
— Еще один весельчак нашелся. Ты же вроде никогда в числе штатных анекдотчиков у нас не числился.
— Тем более интересно. Молчун наш разговорился. И выяснилось сразу, что оказывается он у нас ярый националист. В тихом болоте, как говорится, черти водятся. Пусть хоть так самовыразится, а то пойдет завтра «прибалтов» по Питеру гонять и схлопочет, какую-нибудь политическую статью. Не отмоешься потом до конца жизни.
— Представьте себе: Эстония, лесостепная местность (сейчас такое уже невозможно даже представить — Эстония давно уже представляет из себя степную местность с торчащими до горизонта пеньками. А где же лес? Странный вопрос. Конечно же продан давно уже древней Европе! А чем этим «тормозам» еще торговать-то? Бабами и лесом. Лес продали, но бабы остались. Потому и самый высокий в Европе уровень проституции). Из леса выходит эстонец и уверенно идет к железнодорожной насыпи. Взобравшись на нее, замечает ручную дрезину, движущуюся в «бескрайнюю эстонскую степную даль» по железной дороге. Вышедший из леса эстонец уверенно впрыгивает на свободное сидение. Некоторое время молчит. Затем спрашивает дрезинновожатого на нарочито ломанном русском языке: «С-ка-жжи-тэ, до Та-ллы-на да-ль-лэ-ко?» Дрезинновожатый долгое время молчит и наконец произносит, с ярко выраженным антирусским акцентом: «Нэт, со-всэм нэ да-ль-лэ-ко». Проходит два часа. Непрошенный попутчик озабоченно спрашивает у дрезиновожатого: «С-ка-ж-жи-тэ, до Та-ллы-на еще да-ль-лэ-ко?» Дрезинновожатый опять долгое время молчит, обозревая бескрайние эстонские степи» и, наконец, не меняя скучного выражения тевтонского своего лица, медленно выдавливает: «Т-тэ-пэрь уже о-ч-чень дал-лэ-ко!»
— Да ладно, прицепился ты к этим тормозам прибалтийским. Эти хотя бы к псевдо-цивилизованной Европе тянутся. Видел бы ты что творится у нас в Советском Закавказье и его ближайших окрестностях? Я прожил там достаточно долго и знаю, что пока мы тут развитой социализм строили, они там давно уже внедрили, национально очень своеобразную, сельскохозяйственную рыночную экономику. Бабы у них пользуясь, благоприятным кавказским климатом, все и вся выращивают, а мужики это все и вся продают. Сидят себе целыми днями в белые рубашки наряженные в различных чайных заведениях. Вроде бы чай пьют. А на самом деле — все и вся продают. Контракты они, видите ли, заключают. А на предприятиях работают в основном одни русские. А закавказские псевдо-джигиты продают себе и продают. И, еще, скоты поганые, набираются наглости песенки сочинять: «Меня зовут Мирза — работать мне нельзя. Пусть за меня работает Иван — перевыполняет план!» И не только сельхозпродуктами торгуют эти внешне горячие парни. В универмагах, в отделах, торгующих женским бельем часто можно заметить за прилавком разновозрастных парней в больших кепках. Учатся торговать с самого детства. Иной раз идешь, смотришь, шпендель какой-нибудь пятилетний на улице сидит, сопли до асфальта распустив, но уже шельмец при деле — семечками торгует. Ни читать, ни писать явно еще не умеет, да и вполне вероятно что и не научится никогда, но деньги, уже считает. Будь здоров как считает и уже, сопля зеленая, обсчитать тебя норовит. Вся торговля эта закавказская, за исключением государственных магазинов, никакими налогами не облагается, отстегивают друг другу «бакшиши» по клановой своей иерархии и за определенные услуги и вперед — втюхивать все и впаривать все что ни попадя. Уровень жизни этих закавказских друзей, в среднем, значительно превышает уровень жизни на территории родной нашей Руси. Кто был там, наверняка, видел, какие дома они там себе отгрохивают, де факто владея гектарами земли под выпас многосотенных бараньих стад и под выращивание фруктовых садов. Еще должны были вы заметить, что практически все псевдо-джигиты еще до тридцати лет отроду уже ездят на размалеванных, увешанных всякими прибамбасами собственных машинах. Ну как же, научно-технический прогресс все таки шествует по планете. Пора с коней и ишаков слезать и в автомобили пересаживаться. Он, видите ли, псевдо-джигит этот, уже в жизни давно и полностью состоялся. Не успел еще от скорлупы отряхнуться, глядь, а он уже, оказывается, сказочно богат. Это при том, что нашему среднерусскому работяге порой до конца жизни на железного коня не заработать. И ездят всюду с чванливыми, похотливыми такими рожами и девкам нашим приехавшим туда с дуру на отдых призывно сигналят, а если эти дуры хоть в какой-нибудь, пусть в самой невинной форме, обозначат им свое внимание, «черножопые чушки» переходят в состояние сильнейшего возбуждения и крайнего такого полового влечения. И все, от них уже просто так, без ярко выраженной грубости не отстанешь. Постоянно проживающие там русские наши девки именно так и поступают. Обкладывают их с ходу отборными такими матюгами, и те как-то скисают сразу и отваливают. Да и научились многие «чушки» эти местных русских девок от приезжих отличать. И охотятся, в основном, только за приезжими.
— А кого ты, собственно, называешь «черножопыми чушками»? А то я тут как-то одного «чушку» недавно наказал действием, он как-то неправильно в кабаке себя вел, а во время наказания так и назвал, так тот вэвопил в обиде: «Зачем черножоп говорышь?! Ты что, мой джоп выдыл?»
— А всех тех, кто ведет себя подобным наглейшим таким образом, тех и называю. Национальность здесь не имеет определяющего значения. Так их называют и цивилизованные представители одной с ними национальности.
— Да они, по моему, все, всегда и везде себя так ведут.
— Нет, не скажи. У нас это уже просто штамп. Потому что на улицах наших городов мы порой с отвращением замечаем именно «черножопых чушек», которые приезжают к нам себя показать, а потому сорят тут деньгами, всюду демонстрируя денежное свое превосходство: «Сдачы нэ надо!». И, вообще просто ведут себя вызывающе. А нормальный человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, он ведь никогда не будет выпендриваться и навязывать окружающим особенности своего национального поведения, даже если таковые имеются. Поэтому-то только «черножопых чушек» мы все время и замечаем. А вообще, коренное население столиц Закавказских республик очень многонационально и подавляющую часть этого населения составляют вполне приличные и цивилизованные люди. Это и есть элита этих республик. И у меня осталось там много друзей и хороших знакомых среди именно этих людей. Но там же существует и другая категория, о которой мы собственно и ведем речь. Это что-то вроде нашей так называемой «лимиты». Так ведь у нас порой брезгливо называют рабочий люд, едущий в столицу и крупные областные центры на лимитированные рабочие места. Отличие состоит в том, что наша «лимита» состоит в основном из квалифицированных рабочих, которых на том или ином предприятии по каким-либо причинам не хватает. Заметьте — квалифицированных рабочих! А их «лимита» — это малообразованные, часто не имеющие даже полноценного начального образования, участники нелегального сельскохозяйственного капиталистического движения. У этого нелегального движения есть свои лидеры — за что-то уважаемые в своих кланах люди, которые осуществляют расстановку производительных сил по известной капиталистической цепочке: «Товар — деньги — товар». При расстановке сил кому-то отводится роль почти бесперспективного «ишака», не разгибающегося от зари до зари, производящего товар сельского труженика, кому-то перекупщика-коммивояжера, а кому-то рыночного торговца. Рыночных торговцев лидеры нелегального сельскохозяйственного капиталистического движения отбирают из числа почти бесперспективных сельских тружеников, самых пронырливых и наглых отбирают и делегируют их на рынки столиц национальных республик и далее по всей территории СССР, где удастся перекупщикам-комивояжерам каким-либо образом зацепиться, рассовав взятки, и ускорить клановое обогащение. Перекупщики-коммивояжеры — это второе по значимости, после за что-то уважаемых кукловодов, звено в капиталистической цепочке. Помимо того, что они находятся в постоянном поиске мест «подороже» сбыта сельскохозяйственной своей продукции, они же этот сбыт еще и обеспечивают. Доставляют, так сказать, продукцию свою до мест «подороже» продажи. Даже анекдот про них есть. Анекдот о том, как брали интервью у перекупщика-комивояжера, обезвредившего неудачливого угонщика самолета. «Как вам это удалось? Что подвигло вас на такой подвиг? Преступник ведь был хорошо вооружен! Ну, конечно же, что мы такое у вас, уважаемый, спрашиваем, все очевидно — беззаветная любовь к Отчизне и людям, ее населяющим!» — восторженно вопили журналисты. «Как-как! Что-что! Что ты прыстал мну! В Лэнынгрэд памыдор пьят рублъ стоыт, а Турцый одын рублъ совэтскый дэнъги. А он хотэл в Турцый лэтат! Пыстолэт мэна пугат. Слушый, за четырэ рубэль я родной брат буду пушкой убыт», — приземлил восторженных журналистов прагматичный перекупщик-комивояжер. Анекдот анекдотом, а перекупщик-комивояжер должен был быть хоть как-то образованным и сносно говорить по-русски, быть неплохим психологом и иметь определенный уровень эрудиции, позволяющий ему вступать в необходимые контакты с встречающимися у нас продажными советскими ответственными руководителями, осуществляющими исполнение властных и хозяйственных функций на так называемых местах. А отобранным и делегированным торговцам ничего этого не требуется. Они никогда сильно не перетруждаются, всегда пребывают при приличных, даже не по советским меркам, деньгах. В большинстве своем торговцы эти отчаянно тупы и невежественны. Единственно, чем удается поживиться им в кладовых мировых научных познаний — это правилами арифметического сложения и вычитания. А вот поживиться за счет покупателей они стремятся всегда и везде. Обвесить, обсчитать или же взвесить одно количество предмета торговли, а упаковать другое, меньшее, конечно же. Опять же, бытует такой классический анекдот. Заходят два русских в закавказскую питейную забегаловку. Один из них говорит продавцу в кепке: «Водки. Два раза по сто пятьдесят». Продавец, привыкший к национальной русской краткости в этом вопросе, разливает в два двухсотграммовых стакана по сто пятьдесят грамм национального русского напитка. Второй русский просит у продавца еще один пустой двухсотграммовый стакан и сливает в него трехсотграммовое содержимое первых двух. При этом уровень национального русского напитка в третьем стакане колеблется где-то на уровне ста восьмидесяти грамм. Продавец в кепке с деланным изумлением смотрит на третий стакан и восхищенно говорит, обращаясь ко второму русскому: «Вах, какой фокустнык! Молодэц тэбэ будэт» И все это на фоне абсолютно нулевого образованиия и соответствующего ему неандертальского уровня культуры поведения. Вот эти особи и составляют костяк стаи приматов подвида «черножопых чушек».
— Теперь более или менее понятно, а то мы уже тебя начали в национализме подозревать.
— Ну а коль понятно, то я, с вашего разрешения, продолжу. О поведении приезжих, в недоразумении своем, неразумных наших девок на территории Закавказья.
— Ладно, давай уже, дорасскажи, раз начал. Выговорись, а то ведь не уснешь потом.
— Так вот. Эти ведь, дурочки-то наши, приезжают в это самое Закавказье по путевкам, вроде как на экскурсию в цивилизованную Европу, и поначалу ничего не боятся. Могут, к примеру, запросто зайти в их питейное заведение, куда женщине без сопровождения мужчины вход строго заказан. А чего здесь такого? Пивка же можно в термосок набрать? На пляже же жарко и пить хочется. А для этих «черножопых чушек» немытых это верный сигнал: «Вах, жэнщин! Одзын прышол! Значыт хочыт!» И по их диким половым, очень отличным от советских, законам, ее, незадачливую эту посетительницу, можно тут же, сразу, прямо там же на столе… Столько дрались мы с этой «черножопой» дрянью из-за этих дур, чтобы такого вот «тут же сразу, прямо там же» с ними не произошло. Они, скоты, ведь драться-то толком не умеют. Но перьями помахать любят, особенно издалека. Причем, удивительно — крови боятся просто панически. Как подрежут чуть «черножопого», начинает он тут же визжать как недорезанная с пьяну свинюка, на кровь свою говнючую глядючи: «Вай, мама! Вай, мама!» (с ударением на последнем слоге). Но зато, как случится следующий конфликт, они опять перья свои сраные достают и устрашающе машут ими, опять же, издалека. Достанут так, бывалыча, в запале своего очередного якобы национально-горячего припадка, а что делать с ними — толком не представляют. У них ведь какая излюбленная тактика культивируется? В сутолке начавшейся драки как-нибудь прокрасться к кому-нибудь из противников, желательно сзади, пырнуть его перышком своим и тут же смыться внутрь стаи. Поодиночке они ведь, в большинстве своем, патологические трусы. Но когда собьются в стаю — герои. До первой крови с их стороны. Дальше: «Вай мама!», и в ближайшее время в радиусе километра найти кого-либо из только что грозно галдящей стаи будет уже невозможно. Но кардинально решить вопросы «непокобелимости» наших легкомысленных дамочек, пытающихся отдохнуть в этих краях, пресыщенных «черножопыми чушками», не удается — эти ведь дуры все едут и едут. Опытом между собой не делятся. Поведения свое пытаются поменять лишь тогда, когда назойливый в «черножопости» своей псевдо-джигит переходит к уже к активным действиям. А некоторым отдыхающим дамочкам, профессиональным таким уже курвам, этим все вокруг просто даже нравится. Вернее они за этим туда и приезжают. И, особенно поначалу, нравится очередной курве, когда зависает над ней, под солнцем пляжно раздетой, некое слюнявое чмо, одетое в полный летний прикид. Нависает в белой накрахмаленной рубашке с проступающей из-под нее черной майкой, в черных наглаженных брюках и черных же ботинках с клоунски задранными носами (это у них, у «чушек» этих, такие вот представления о внешней респектабельности). Нависающий похотливо что-то цедит, шаря голодными глазами по полуобнаженному телу, и в нетерпении сглатыват зловонную свою слюну. Из того, что цедит страждущий, порой можно разобрать что-то наподобие: «Девьишка разрешыт одзын раз познакомка сдэлайтъ?» И все, курвочка созрела. Запала с ходу на приматский примитивизм. Ей уже грезится подрагивающий от пламени свечей ресторанный полумрак, роскошный гостиничный номер с большой двухспальной кроватью, фруктами и прохладным шампанским на столе. И долгие-долгие часы «чушкиной» любви. А как же еще? Джигит-то, он ведь богатый. На собственной машине, опять же, ездит. И еще страстный он очень. Не то, что какой-нибудь там замученный и нищий русский. Часок покувыркается и лежит потом полдня без сознания. А джигит — он: «О-го-го!» Вот этим «О-го-го!» все для этих курв и заканчивается. Плеснут им какого-нибудь вина в кафе, ну может еще шашлыком каким угостят, посадят в машину, увезут далеко за город в частную домину и трое суток без перерыва ее «О-го-го!» Причем все друзья и родственники «черножопого» псевдо-джигита будут «О-го-го!» А потом выкинут где-нибудь подальше от места свершения многочисленных «О-го-го!» и добирайся как хочешь. А пока будешь добираться по незнакомой местности, можешь встретить еще очень много всяких «О-го-го!» Да шут бы с ними, с курвами этими. Но ведь эти «черножопые» псевдоджигиты начинают по этим курвам и об остальных судить. Уверены они уже просто, что бабцы наши все абсолютно одинаковые, только на некоторых надо просто побольше потратиться. У них ведь, козлов этих «черножопых», как? Свою же «черножопую» «герлз» до свадьбы трахнуть — это предпосылка для кровной мести. Они же дикие еще. Простыню из-под новобрачных после первой ночи вывешивают в свадебном дворе и приглашают специальных бабок для экспертизы подлинности кровяных выделений, естественных для процесса потери невинности. И если экспертиза чего-то там не одобрит, все — невесту «вертают взад» и начинаются межклановые разборки со смертоубийствами. Поэтому занимаются они до свадьбы или круглосуточным онанизмом, или баранов своих трахают. Что смеетесь? На полном серьезе, имел «удовольствие» общения с некоторыми из «чушек», которые не только не скрывали факты своего зоофилизма, но еще и кичились ими. Пытались описать все в подробностях. Тьфу, сейчас стошнит. Ну, а когда уж наша очередная страждущая «герлз» какая-нибудь припожалует и начнет призывно бедрами поигрывать, все, полный комплекс удовольствий «черножопому чушке» просто гарантирован. Во-первых, никто из оскорбленных родственников «потерпевшей» ему за неумеренное его прелюбодеяние перо в задницу не вставит. Во-вторых, все же другие ощущения, получше, наверное, чем с вонючим бараном будут, чуть подороже, правда, но получше. Примат приматом, но кое-что все же дано ему оценить.
— Ладно, мы все же живем в великой семье братских народов. Свои идиоты есть у всех без исключения наций и народностей, поэтому я считаю, нельзя здесь сгущать краски.
— Да, но степень цивилизованности нации в целом определяется количеством содержащейся в ней погани.
— Да у нас, в братской нашей семье, приблизительно все у всех одинаково.
— Достал ты уже семьей своей. Впрочем, даже если так. В нормальной семье-то ведь — не без уродов. Я-то насмотрелся всего этого за пятнадцать лет и знаю, о чем говорю. А ты, Фома-неверующий, попросись-ка лучше туда послужить после выпуска. Годик всего послужи. А потом мы с тобой встретимся и предметно обо всем поговорим. А по поводу сравнения уровня жизни в странах обитания «черножопых чушек» и в родной нашей средне-русской полосе есть очень образный анекдот. Рассказать?
— Ну давай, не набивай себе цену. Рассказывай, черт нерусский, и будем уже спать.
— Рассказываю. Идут два русских по грузинскому кладбищу и с удивлением читают надгробные надписи: «Вано Мамулашвилли. 29.09.10 г. — 15.11.80 г. Жил 30 лет», «Гиви Гварцетели. 18.05.15 г. — 15.04.81 г. Жил 32 года» и т. д. В удивлении останавливают идущего навстречу грузина: «Послушай, генацвали, мы вроде как основы математики знаем и в жизни кое-что понимаем. Вот объясни нам, пожалуйста, как такое может быть, что у человека от рождения до смерти проходит, например, семьдесят лет. А на памятнике написано: «Жил 30 лет». Грузин отвечает им: «Ви. русскыэ, матэматыка хорош знаэтэ, а в жызн ваабще нычо нэ понымаэтэ. Вот слушай. Вот мама радыл тэбя, в школа ты пошла. Учытэл ругает. Отэц рэмня попа бьет. Какой жызнь? А армий забрали? Туда бэги, здэсь окоп рыть. Какой жызнь? А вот послэ армий мандарын растыл, продал, дом строил, жэна взал, машын купыл. Сыды, вино пэй, баран ешь, машын езды, женщина лубы. Вот эт и ест жызн. Потому толко 30 лэт Вано жызн». Прослушав это объяснение, русские долго идут, полные невеселых раздумий, долго идут молча, Наконец, останавливаются, как по команде, на выходе из кладбища, и один из них говорит другому: «Слушай меня, брат Федор, если я вдруг помру в ближайшее время, ну, во всяком случае, при жизни твоей горемычной, проследи, будь ласка, чтобы на плите моей печальной было начертано: «Николай Пятибратов. 22.12.60 — XX. XX. XX. РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ».
— Да, смешно это все и печально. Ну и у нас у самих с головой что-то все-таки, что-то сильно не так. Я где-то во многом могу понять и оправдать неразумность нашего нестандартного поведения, но есть два момента, которые повергают меня в глубокий шок, и я не могу дать им сколько-нибудь разумного объяснения. Вот кто мне объяснит, зачем безногому инвалиду каждый год проходить переосвидетельствование своей инвалидности? Они что там, патологические идиоты? Им не хватает медицинского образования или же простого жизненного опыта, наконец? Что еще нужно, чтобы прийти к пониманию того, что ампутированная конечность за год не вырастает, и не вырастает вообще уже больше никогда! Это ведь не хвост у ящерицы! Ну думаю, может боятся лишних затрат. Инвалид, к примеру, уже помер, а они ему бесплатный протез, вдруг по дури, собирались по какой-то недействующей статье закона изготовить, или пенсию ему по этой же самой инвалидности продлить. Правда слышал я как-то одно объяснение этого безобразнейшего факта: мол мы приглашаем инвалидов не для того, чтобы убедиться, что инвалид не пришил себе ногу, а на общее освидетельствование его здоровья. Но ведь и это не оправдание. К инвалиду вы, сволочи, должны сами хотя бы раз в год прийти здоровыми своими, пока еще, конечностями. Прийти с необходимыми медицинскими приборами и осмотреть его. Убедиться, что жив он еще и относительно здоров, вопреки вашим тайным надеждам, поговорить с ним и пожелать ему доброго здоровья, скользя безумным глазом своим по отсутствующим у него частям. А вдруг все же пришил или само как-то отросло?! И тогда — «Ур-ра!» Нет-нет, не громкая победа нашей медицины и неожиданное инвалидово счастье. Конец еще одной социальной программы для отдельно взятого индивида-инвалида! Хлопотного такого, обременительного такого для социальных наших служб беспокойства. Второй момент связан с нашими жилищными законами. Удивительно циничными. Вот, к примеру, когда вы доказываете, что имеете право на расширение вашего жилищно-жизненного пространства. «У моего многочисленного семейства, говорите вы гордо, на нос приходится всего 5.6 квадратных метров жилой площади, Всего 5,6 квадратных метров жилой площади! У меня большая семья, а жилплощадь маленькая, мне уже негде на ней повернуться!» — вы уже орете на застывшего в бюрократизме своем равнодушного чиновника. Чиновник, никак не реагируя на ваши эмоции, так же равнодушно заглядывает в свод законов и убеждает вас не волноваться так сильно, потому что по закону у вас еще, оказывается, на одну десятую квадратного метра перебор выходит. Что по закону у вас, в наглости своей желающего расширения: «Должно быть 5,5 квадратных метров и ни миллиметра больше. Куда вам больше? Вы, может, в футбол там собрались играть? Или бассейн отгрохать? Неужели нет? Ах, повернуться вам уже негде? По утрам в особенности? Вы уже надоели нам с этим спорным тезисом? Так вы кушайте поменьше и пореже. Уже давно сели на диету? То-то же! Сидите себе и ждите теперь результатов. А то вы все ходите тут и гундите, а потом расходитесь и орете. Вот обратимся сейчас в правоохранительные органы и вырежут из вас эту десятую, утаенную от государства. Куркули неблагодарные!» Ну а вот когда у вас эту злокачественную десятую каким-то образом ампутировали, вернее вы сами у себя что-нибудь на одну десятую ампутировали, прописав очень дальнего и почти забытого уже родственника из Улан-Удэ, тогда ждет вас позитивное такое по сути своей известие. Вам с нескрываемой радостью сообщат, что вас поставили в общую, бесперспективную в безысходности своей, нудную такую очередь. И оказывается, что по нашему самому логичному, самому прозрачному для понимания, ну и, само собой, самому справедливому законодательству в мире, вам полагается не менее, чем 19 квадратных метров на те же ваши сопливые носы для нормального и устойчивого развития вашего многочисленного семейства. Нормального и устойчивого развития — это чтобы, в общем, соплей было у вас меньше. Вам, от насморка больше и не надо. Ну а меньше вам просто никак нельзя. Да нет, не соплей, конечно же, про них речь уже давно завершена, квадратных метров, конечно же. Девятнадцать квадратных метров и все тут. Если меньше — перед мировым сообществом будет стыдно. А вы как думали? Мы, да будет вам известно — развитое социалистическое общество! Какие такие еще 5,5 квадратных метров? Вы где вообще про такое могли услышать? Вы что, изучением жизни насекомых занимаетесь? Орнитолог, наверное. И, наверное, о площади муравьиной кучи нам пытаетесь рассказать? Какие такие птицы? Нет? Где вы вообще взяли эту низменную цифру? А, вы, наверное, только что из Китая приехали? То-то я смотрю, когда вы сюда приходите, глаза у вас все время сужаются как-то. Что, уже двадцатый год приходите? Вот-вот, поэтому-то мы вас и запомнили уже! Что-что? Уже внуки у вас выросли? От всей души поздравляем вас! Не каждый у нас в многомиллионной стране нашей до внуков доживает! Очень за вас рады и до свидания, в следующем году заходите, будем вам опять рады! Может что-то и обломится вам. Перепадет, может, что-нибудь. И родственнику вашему тоже, может, перепадет. Как какому родственнику? Вы что, забыли? Из этого самого, как его там, Ханты-Манси. Тьфу! Нет, чувствую, что как-то по-другому раньше звучало. А, вспомнила, наконец, название какое-то кудряво-неприличное, извините, пожалуйста, — Улан-Мундэ. Вспомнили теперь? Мы за вас рады. До скорого свидания. Будьте же вы всегда здоровы. И внуки ваши тож. Заходите, как договаривались. Только не раньше. Но особо ни на что не надейтесь. И так уже на нас не надеетесь? Ничего не поделаешь, не все в нашей власти. Стараемся мы тут все как только можем, нам ведь тоже перед вами уже не совсем удобно. Двадцать лет все-таки, как-никак, минуло.
— Да ну их всех в жопу, мудаков этих, мужики, не будем под утро о грустном. Давайте спать. Мы должны с вами быть лучше. Исправить хотя бы что-нибудь. С наступающим рассветом вас. Хыр-пуф, пыр-пуф, дыр-пуф и т. д. и т. п., весь оставшийся час.
Вот такими были эти ночные диалоги. Конечно же, было их неизмеримо больше и происходили они гораздо чаще и на более разнообразные темы. Но всего не описать, можно лишь только выдернуть из памяти и описать наиболее понравившиеся фрагменты. А те, на которых сознание вдруг улетело на прогулку по близлежащим крышам, наверное, все же были менее интересными. И поэтому недостойными вашего и так уже утомленного внимания. Доброго вам остатка уходящей ночи!
Военные свадьбы
Вот и подкатились обучаемые наши военные под самый выпуск из «альма» своих «матерей». Это потом поймут они, что на самом деле никаких таких выпусков, попросту в родной природе не существует. Поймут, что реально существует только один большой, все поглощающий такой во всасывательности своей, «впуск». «Впуск» сначала турбулентно продавливает общую массу парадно настроенных и соответствующе одетых военных в узкое фильтрующее горлышко воронки распределения по местам их будущей ратной службы, а затем под высоким давлением всасывающе распыляет военных по одной шестой части суши планеты их обитания. Распыление происходит очень неравномерно и сопровождается звуками принудительно открываемых и автоматически закрываемых впускных клапанов. «Чпок!» — открывается клапан, зарегистрировав чувствительный контакт с наряженным в парадную форму телом военного. «Хлюп!» — фиксирует закрытие клапан, зарегистрировав окончание проскальзывания облаченного в обедненный еще пока медалями и орденами мундир туловища военного в еще более сложный военный организм. Организм, состоящий из великого множества представителей «хомо милитер», борющихся за выживание в пределах выделенного им ареала обитания.
«Почему все сложно-то так опять, — недовольно спросит терпеливый читатель, — турбулентность опять какая-то, фиксирующе-впускающие клапана?! Какое-то уж очень абстрактное представление довольно простых событий. Ну, подумаешь — выпуск-впуск. Ну, построили всех, как всегда, без этого у военных никак обойтись нельзя, это я давно уже понял. Вручили дипломы, выдали предписания с указаниями Родины о том, когда и куда все-таки надо будет съездить и где в ближайшее десятилетие придется весело, по молодому так, провести некоторое время. Потом в кабак, обмывать новые военные погоны со звездочками и первые общесоюзные дипломы тоже, вроде как, обмыть надо бы. А на следующий день в дальнюю дорогу, согласно, так сказать, полученным от Родины предписаниям».
Да нет же, уважаемый читатель. Внешне, со стороны значит, может это и выглядит так просто. Но на самом деле, даже не вдаваясь в перипетии борьбы за лучшее распределение, выпуск-впуск — дело далеко не простое. В качестве примера вспоминается такой вот военно-народный анекдот.
Выпускается-впускается очередной военный и едет согласно предписанию к новому месту службы. Сначала долго летит на самолете. Затем некоторое время трясется в поезде, угнетаемый приставухами-выпивохами, по иностранному выражаясь — а-ля: «Я тоже когда-то и где-то служил!» и, наконец, пересаживается в оленью упряжку, доставившую его на ближайшую, поросшую травой, вертолетную площадку. Долго вибрирует на десантной металлической лавочке военного вертолета и, наконец, команда улыбающегося штурмана: «С Богом, лейтенант! Пошел!» Лейтенант с удивлением глядит из открытого вертолетного люка на замершую в испуге далеко внизу землю: «Так здесь же метров сто будет!» Досадливо поморщившись, экипаж вертолета героически осуществляет мужественное снижение до пятидесяти метров. «Да высоко же еще, разобьюся вусмерть и помру молодым!» — пытается шутить лейтенант. Лица экипажа перекашивает уже достаточно злобная гримаса, но он, героический экипаж винтокрылого прохвоста, пересиливая себя, осуществляет еще одно подснижение, на этот раз до тридцати метров. Лейтенант опять смотрит вниз и возмущается: «Все равно высоко! Вы что такое, садюги, удумали?!» К возмущенному лейтенанту вновь подходит штурман и заискивающе произносит: «Извини лейтенант, ниже не можем. Еще метр вниз и оттуда, снизу значит, начнут в нетерпении своем запрыгивать. Причем все сразу начнут запрыгивать. И стар, и млад. Погубят ведь только краснозвездную машину. И нас заодно. В клочья разорвут. Так что давай, сынок, не ерепенься и выручай. А как приземлишься — не подводи. Не болей после этого долго. Всего-то тридцать каких-то метров. Если бы километров — тогда бы да, значительно труднее было бы. А метры — пустяки это все. Двадцать девять метров как-нибудь пролетишь, а там уже всего-то один до земли останется. Ты что, лейтенант, в детстве никогда с табуретки не прыгал? Фигня все это. Ну давай, бывай здоров, что ли, уважаемый ты уже нами, и дорогой ты нам уже такой военный». Договорив, штурман осуществляет аварийно-принудительный сброс слабо протестующего военного тела на засугробленный пятачок его ближайшей судьбы. Тренированное тело военного без видимых повреждений радостно принимается глубокими снегами давно забытого в высоких кругах близлежащего (каких-то триста верст-то всего!) райцентра — приснопамятного города Безнадежнинска. Милого такого участочка земной нашей поверхности, с благодарностью приютившего защищающих его военных. Все, клапан закрывается: «Хлюп!» И военный пока еще даже не догадывается, нет, он даже еще и не задумывается о том, как трудно его будет открыть обратно, если вдруг очень захочется ему послужить где-нибудь еще. Или, к примеру, в академии какой-нибудь чему-нибудь поучиться. Не задумывается еще военный о том, что какие тогда заветные слова надо будет произнести в специальные отверстия, предусмотренные в его металлически-беспристрастном, клапанно-недоступном теле. А кое-что туда еще и опустить. Поэтому, не задумывающийся об этих глубоких вещах военный до сих пор пребывает в восторге. Да здравствует начало! Да здравствует счастливый впуск!
А вы говорите просто все. Может где-то там, за забором, в простой такой «гражданской» жизни все действительно просто. Может и так. Но мы же стремимся постичь мир военных и должны избегать всяческих упрощений.
Так вот, попытаемся перейти от военно-анекдотической правды к действительно военной реальности. Перейти, преодолев в турбулентности своей все воронки-фильтры и гулко вывалившись, наконец, с выхода впускного клапана. Что же слышит при этом обычно военный? Как правило, одно и то же: «Добро пожаловать к нам послужить, товарищ военный! Какие у вас существуют потребности? Что-что? Небольшую квартирку?! Может вам еще и фонтанчик с минеральной водой в гостиную провести? А бидэ? Не желаете ли? Попку чтоб геморройную вечерами можно было промыть? Не надо бидэ? Не обзавелись еще геморроем-то? Вот что-что, а геморрой мы вам уверенно гарантируем! Буквально можем прямо сейчас же договориться о том, что не далее как с завтрашнего дня…! Что-что? Мы сами первыми спросили про ваши потребности? Ну это мы же из вежливости так поинтересовались, для этикету, так сказать, а вас сразу понесло. Скромнее же надо быть, а вы ведь, подлец эдакий, стремитесь сразу не с того свою офицерскую службу начать! Какие-то непомерные совсем требования так вот нескромно и вдруг выдвигаете! Вы еще ничего на этом свете не заслужили! Не достойны вы вообще еще ничего! Наглец! В общагу! Четвертым впущенным военным в мухами обосранную комнату! И напротив аварийного туалета! Постоянно чтоб аварийного!»
Зная про такие внешне горячие и прохладные по содержанию приемы, отдельные, считающие себя очень хитрыми, военные перед самым что ни на есть впуском шли на различные уловки и ухищрения и, в конце концов, много о чем передумав, жертвовали своей свободой и банально так женились. Удачно или же нет — это уже другой вопрос. Успешность или провал этого удручающего мероприятия для свободо-соскучавшихся душ военных станет очевидным в не таком уж и далеком для них последствии. А сейчас, осуществив формальный акт гражданского своего бракосочетания и даже успев стать отцами того, что все-таки из брака этого получилось (хорошее дело ведь браком не назовут), военные приобретали некоторую уверенность в активном созерцании грядущих перспектив дальнейшей, непрерывно беспокойной своей жизни. Создав свою небольшую такую, но уже изначально хлопотную ячейку военно-советского общества военные получали шанс воспользоваться старым военным трюком. Удачное завершение наихитрейшего в своем артистизме трюка гарантировало военному, а так же прилипшей к нему семье, получение отдельного жилья в неких пропаще-дальних военных гарнизонах.
Гарнизонах, пусть даже весьма и весьма удаленных от крупных областных центров, но все равно пользующихся, пусть не особой, но все же популярностью у алчных до жилой площади постоянных обитателей тамошних диких, и не совершенных в дикости своей мест. При этом в зависимости от степени демонстрируемой артистичности получение заветного кусочка мнимой военно-гарнизонной автономности могло состояться в максимально короткие сроки. А самые развитые в артистичности своей военные умудрялись отхватить этот кусочек почти мгновенно — практически в день представления самому главному на охраняемом участке суши военноначальствующему. Представления по поводу такого эпизодического, как оказалось в последствии, и далеко не эпизодического для него в сей момент события, такого как собственное, первое свое и поэтому-то и значимое для военного прибытие к новому месту службы.
А в чем состоял все-таки этот незамысловатый, но проверенный временем трюк? Впрочем, незамысловатым он казался только внешне, после того, как длительная его подготовка плодотворно завершалась. А подготовка заключалась в тщательном подборе дополнительных действующих лиц и специальной артистической подготовке всей труппы трюкачей в целом. Кроме того, в ходе подготовки осуществлялась и некая производственная деятельность, изготовлялись, например, фрагменты специальных военно-гарнизонных декораций и различные правдоподобно-бутафорские предметы военно-переселенческой действительности.
Проделав кропотливую такую режиссерско-производственную работу, военный появляется в районе будущего места службы во главе навьюченного чемоданами торговой марки «Мечта оккупанта» полуцыганского каравана-табора. Караван-табор, помимо самого несгибаемого военного, состоял из едва держащейся на ногах от усталости жены военного и двух седовласых старушек, шаркающих согнутыми в коленках ногами по неровностям гарнизонного асфальта и тщетно стремящихся выпрямить согбенные поклажей спины. Одна из старушек вела за руку золотушного, исполненного очей пятигодовалого мальчика, так же, по-старушечьи, сгибающегося под тяжестью громоздящегося у него за спиной непомерных размеров рюкзака. На шее военного восседало плаксивое его чадо, периодически оглашающее строгие военные окрестности истошными в капризности своей криками: «Папа, кусять!», «Папа, пить!» При этом чадо иступлено тянуло в мольбе свои синенькие ручки, обращаясь к равнодушным к его сюесекундным страданиям, неумолимым в вечности своей, небесам. Оказавшись в непосредственной близости от своего нового высоковоенноначальствующего, военный должен был резко опустить на асфальт бутафорские свои чемоданы и сорвать с шеи надоедливое свое чадо, заботливо усаживая его на один из предметов мечтания каждого уважающего себя оккупанта. Далее военный должен был перейти, как положено, за пять-шесть шагов до начала носков сапог высоковоенноначальствующего на противоестественный для всего остального человечества строевой шаг. Затем разом вдруг замереть в диком испуге за положенных по военному этикету, два-три метра до несокрушимо в терпеливом ожидании стоящего высоко военноначальствующего. Испуганно-дико замерев, военный должен был подчеркнуто радостно, торжественно так сообщить высоко военноначальствующему о своем благополучном прибытии и готовности к продолжению нелегкой ратной службы.
Высоковоенноначальствующий коротко благодарил военного за то, что тот не погнушался-таки и нашел время, не пожалел, так сказать, сил и здоровья на долгожданное (им лично долгожданное) посещение сих народно-любимых и общепризнано природно-привлекательных мест. Закончив свое предельно вежливое в официальности своей слово, высоковоенноначальствующий обычно приступал к детальному, но пока еще дистанционному осмотру каравана-табора предельно навьюченных и внешне-бедствующих в цыганстве своем среднероссийских бедуинов. На слегка потеплевшем каменном выражении морды его мужественно-военного лица оттенком начинало проступать скрытое удивление. Оттенок довольно скоро подкрадывался к границе с непривычным для высоко военноначальствующего состоянием безнадежного в сопереживании своем отчаяния.
Он вдруг приступал к поспешному и явно оправдательному монологу о ненарочитой своей непредусмотрительности, о недогляде своем за нерадивостью внешне отзывчивой на его просьбы кадровой службы, под началом его состоящей и сообщившей ему заведомо недостоверные данные о составе, численности и проблемности прилепившегося к скорбящему в стойкости своей военному разновозрастного такого семейства. Что он, мол, как истинный отец-командир, задолго распорядился о подготовке для прибывающего семейства аж целой комнатищи в громадном таком общежитьище демократическо-смешанного типа. Большущей такой комнаты. Ну, если уж опуститься до того, что в прозаических каких-то метрах квадратных мерить, то уж ни как не меньше восьми будет. Меньше никак не получиться. Вы что, смеетесь? Ну как же, он же, ведь хоть сегодня и действительно довольно высоко уже военноначальствующий, но ведь тоже молодым был когда-то и все об молодых этих когда-то, да и теперь тоже, до сих пор еще что-нибудь да как-нибудь об них, об молодых значит, но все об них знает и все устремления их тоже понимает. А вообще, отговорки это все — все очень даже хорошо еще он понимает. Путано объясняется высоко уже военноначальствующий, но смысл вполне понятен, в общем — не со зла он.
Казалось бы, все учел он, обогащенный годами нажитой мудрости. Есть, правда, в общежитии еще в этом отдельные неудобства архитектурно-планировочного такого характера Ну, например, туалет в коридоре, один на всех туалет. И тоже смешанного типа. Для обеих полов, значит, смешанный. Но ничего, быстрое посещение его с предварительным вывешиванием табличек «М» (мадамский, значит) и «Ж» (означает жентельментский) до сих пор позволяло избегать возможных ложно-стыдливых казусов. Так что для начала условия создавались вполне приемлемые. Что-что? А вы фильм «Офицеры» смотрели? То-то же. Ну, а учитывая вновь открывшиеся, все отягчающие и усугубляющие все обстоятельства — капризно-золотушные дети и староватые уже такие родители, что-нибудь будем сейчас решать.
Тем временем любопытствующее чадо устает сидеть на оккупантском вожделении и, воспользовавшись временной бесконтрольностью, незаметно подкрадывается к высоко военноначальствующему и, бесцеремонно нарушая всяческую субординацию, треплет его за военную штанину:
— Дядь, а дядь, а ты командил?
— Да вроде как да, — смущенно улыбается высоко военноначальствующий.
— А я стисок пло тебя знаю, — заявляет юное дарование военного и добавляет с гордостью, — меня папа учил, ласказать?
— Да нет, давай-ка, молокосос, в следующий раз как-нибудь, на новогодней елке, не мешай военноначальствующему дяде, — вмешивается внезапно чем-то обеспокоенный военный.
— Да пусть расскажет, нельзя же сдерживать творческие проявления юных таких дарований, из обыденности нашей прорастающих, — одобрительно-поощряющее кивает высоко военноначальствующий, — у меня вон внучка тоже уже начала стихи сочинять. Давай, хлопчик, валяй стихи про командира. Папа, наверное, научил, а он ведь плохому-то никогда не научит.
— Командил полка, нос до потока, уски до двелей, а сам — как мулавей! — радостно декламирует дарование и с удивлением смотрит на окаменевшее лицо военного папы.
— Хороший стишок, — озадаченно крякает высоко военноначальствующий, — правду, видать, говорят, что устами младенца глаголит истина. Но я, сынок, не такой командир. Это тебе папа про другого командира стишок рассказывал. Во всяком случае, нос у меня не до потолка (щекотливый вопрос о возможности муравьиного своего авторитета он тут явно пытается обойти).
Демонстрируя лояльность и ничем неприкрытый, неподдельный демократизм, высоковоенноначальствующий, наконец, вплотную приближается к оторопевшему в сложившейся неловкости каравану-табору и уточняет у военного:
— Так, это, значит, мама ваша? Вижу. вы на нее очень похожи.
— Да, да, — подтверждает истинность начальствующей прозорливости едва пришедший в себя военный.
— А это что за старушенция такая страшная, да еще с каким-то синюшным мальчиком? — вдруг громким шепотом спрашивает высоковоенноначальствующий, низко склонившись к уху военного. — Ну вылитая Баба-яга, да еще с цыганским оттенком!
— Да тещенька дорогая моя увязалась, прости Господи! Житья, говорит, со старшим зятем-пропойцей нет, и мальчика, внука своего значит, тоже прихватила, — скорбно вещает военный. — Ну а какие дети-то у алкоголиков-то у этих? Такие и есть — синюшно-золотушные.
— Начальник, не ругай, — вдруг, стремительно сбросив поклажу, вклинивается между военным и высоковоенноначальствующим страшноватенькая в своем бабо-ягизме теща военного, — муж старшой доченьки моей пьеть, подлец, не просыхая, и женушку свою бьеть смертным боем. Забрала мальца, чтоб не видел безъуправства-то такого и непотребности этой. А где ж спасения-то еще искать, как не у военных-то, не у защитников-то наших разлюбезных.
Высоковоенноначальствующий еще больше начинает проникаться безвыходностью состояния горячо желающего служить военного и произносит что-то вроде того, что: «Вы здесь немножечко постойте. Не уходите никуда, не делайте скоропалительных выводов. Мы сейчас с политическим моим помощником потолкуем, может по сусекам там чего-нибудь… В общем, будет видно. Может что-нибудь и придумаем». И, в даже в поспешности своей все равно степенно, значительно так удаляется. Видимо, в поисках того-самого, всуе упомянутого, политического помощника, но, видать, тоже высоко политиконачальствующего над всеми политическими помощниками в данной местности обитающими.
Спустя минут эдак тридцать к лагерю, разбитому участниками караванного-таборного движения, подъезжает черно-блестящий, вместительный такой автомобильчик, водитель которого радостно приглашает всех вовнутрь этого черно-блестящего как-нибудь поместиться. Смелее, мол, на все имеются высоковоенноначальствующие указания.
Галдящее цыганское семейство с некоторыми сложностями, но в конце-концов, удачно размещается внутри самого комфортного представителя советского автопрома и пылит в неизведанное, обозревая скучновато-однообразные военно-гарнизонные окрестности. «Ничего-ничего, успокаивает всех сам было взгрустнувший, военный, мы ведь сюда с вами, дорогие мои, не веселиться приехали, а служить! Веселиться теперь будем раз в год: в отпуске пребывая. А чаще и не надо — баловство это».
Наконец комфортный и черно-блестящий плавно останавливается у подъезда типового пятиэтажного дома, незаслуженно именуемого в народе «хрущобой». У дверей подъезда в величавой позе стоит представительный такой военный, поигрывая какими-то ключами, и приветливо, по-отечески так, широко улыбается. «Высоко политиконачальствующий!» — озаряет военного, и он уже готов сорваться на противоестественный для всего остального человечества шаг, но натыкается на упреждающий жест высоко политиконачальствующего.
Мол, не надо этого, сынок, нам, политиконачальствующим эти сугубо военные штучки самим надоели до смерти. Мы же инженеры человеческих душ, и формализм нам совсем не свойственен. Наша задача — помочь становлению молодых военных и укреплению их семейных уз — цементированию, так сказать, ячейки социалистического общества. И поэтому он, высокополитиконачальствующий, находится сейчас здесь. Целый сам здесь. Мог бы, конечно, прислать кого-нибудь помельче. Но нет, пришел сам, лично вникнуть в нужды военного и вручить ему ключи от двухкомнатной квартиры. Маловато, конечно, для такого-то табора. Но на первое время хватит. Ну а, если военный будет очень хорошо служить и демографически поддерживать свое государство, глядишь, через годок-другой можно будет переехать в трех-, а то и в четырехкомнатную квартиру. Их, четырехкомнатных, правда, очень мало строят, но найти и предоставить можно. Если очень сильно захотеть. Так что служить надо, товарищ военный изо всех своих сил, служить и размножаться. А сейчас ему, политиконачальствующему, необходимо срочно уйти. У него ведь сотни таких опекаемых военных. Ко всем надо поспеть с политически грамотным советом. Да, а сыну этому тещиному, этому драчливому пропойце, может надо помощь оказать какую, забрать его, к примеру, в те же военные? Здесь же лучшее в стране лечебно-трудовое предприятие. Знаете, что это такое? В народе его «ЛТП» называют. Нет, не надо, значит? Ну ладно, пусть сами разбираются и если надумают — добро пожаловать. Водки здесь не продают, а работы навалом. Ну ладно, счастливо тогда вам здесь оставаться, товарищ военный. Вот вам ключи. Квартира № 45, на третьем этаже. Может помочь вам вещи занести? Да нет, не сам я, конечно же, буду баулы ваши неподъемные таскать, вызовем сейчас бойцов непобедимой Красной армии. Нет? Ну, раз так категорично… Размещайтесь тогда себе на здоровье. Да ладно вам, не стоит вовсе, работа у нас такая.
На этой пафосной ноте высокополитиконачальствующий уходит, оставив военного наедине со своими проблемами. А военному, уставшему в своем артизтизме, ведь только этого и было надо. Чтобы оставили его, наконец-то, в покое, вместе с семейством его многочисленным. В отдельной, теперь своей уже, двухкомнатной квартире. Да еще не на первом и не на последнем этажах. Маловата, правда, квартирка для такого семейства. Но час от часу становится легче. Еще при заносе вещей куда-то подевалась «теща» с золотушным своим «внуком», видимо неожиданно отбыли на воды, куда-нибудь в район города Железноводска. Что же, абсолютно верное решение — за здоровьем за своим драгоценным необходимо следить постоянно, не запускать болячки свои золотушные и принимать решения о необходимости лечения своего очень быстро. Мгновенно просто. Видимо так и сделали. Только чемоданы свои почему-то забыли. И рюкзак тоже вон в углу лежит. А-а-а, так они же и чемоданы и рюкзак почему-то ватой набиты! Действительно, зачем им в Железноводске столько ваты? Вообще-то пригодилась бы. Водичка в этом лечебном городишке зело борзая, а памперсов тогда ведь не было еще в стране советской. Поэтому конфуз с отдыхающими мог случиться в любую секунду. Но пленились «теща» с золотушным своим «внуком» и оставили все ватное хозяйство, видимо, захотелось им совсем уж, значитца, налегке попутешествовать. Ну что же, по перышку им для легкости в известное всем место.
А через недельку, немного погостив и оказав первую помощь бытового характера, уезжает и мама хитрого в артистичности своей военного. И оставляет сына с семьей одиноко ютиться в недрах вожделенной хрущебы. Но, точности ради, необходимо отметить, что ютиться военному в этой квартире будет абсолютно некогда. Он будет теперь приходить туда только для того, чтобы хоть немного поспать. И далеко не каждую ночь приходить он будет. Зато спокоен военный теперь за молодую семью свою. А когда военный за молодую семью свою спокоен, зело рьяно он спокойствие это будет службой ратной своей оберегать.
Вот такие вот трюки проделывали порой особо хитрые военные. А что делать? Ведь даже в те социально благополучные времена девиз: «Хочешь жить — умей вертеться!» не был лишен актуальности, да, по-видимому, и не будет лишен ее никогда и ни при какой общественно-экономической формации.
А что же менее артистичные в хитрости своей семейные военные? Они со временем тоже чего-нибудь подобного добивались. А покуда добивались, ютились в общежитиях смешанного типа, где проживали и военные семьи, и военные холостяки, и военные «холостячки». А военный гарнизон, к примеру, мог состоять из пяти военных частей. А это, смешанного типа общежитие является, к тому же, еще и общим для всех этих пяти воинских формирований. А в этих доблестных формированиях в различное, для всех пяти, время проводятся шумные тревоги и учения. (Правда, бывают еще и общегарнизонные скачки и прыжки, но это все ведь только плюсуется к и без того частым беспокойствам. Ну, по крайней мере — никак не минусуется!) Ведь что такое тревоги? Это грохочущие в ночи сапоги посыльных, тревожные стуки в каждую дверь общежития и озабоченные сообщения: «Товарищ военный, тревога!» Души военных начинают тревожно трепетать. А далее рев строящихся на морозе в колонны боевых машин и, перекрывающие этот рев матюги командиров. Но это ненадолго. Очень скоро наступает оглушительная лесная (лесо-степная, степная, пустынная и т. д.) гарнизонная тишина. Пока все. Одни уехали. Но чуткий сон младенца даже не «растревоженного» на сегодня военного нарушен, и очередная бессонная ночь самому военному и дражайшей его половине на сегодня точно уже гарантирована. А завтра по тревоге поднимут уже и этого, не выспавшегося накануне военного. Обычное дело. Служба дни и ночи.
А столько там, в смешанных общагах этих, всего разного и интересного насмотрелись семейные военные! Больше даже не они сами, военных уже тогда было трудно чем-либо удивить. В процесс познания нового в многообразии жизненных проявлений и однообразии повадок «хомо милитер» и других, окружающих их особей, были включены жены и даже дети семейных военных! Но это уже совсем другие истории. Бог даст, как говорится, коснемся этой темы более углубленно в следующих своих книжонках. (Да-да, читатель, и даже не смейте протестовать — вы, зная уже, о чем в них, в будущих (дай Бог!) книжонках этих, пойдет речь. Вы ведь можете их просто и протестно так, полностью проигнорировать и не покупать. Или можете купить и сжечь их в ярости. Это — как вам будет угодно. Но сначала, лучше все же было бы купить. Иначе нечего будет сжигать. Это — как вам заблагорассудится. В конце-концов — решение будет за вами. У нас ведь сейчас суверенная демократия на дворе потрескивает. И рыночно-криминальная экономика уже давно вовсю и всем правит).
Ну да ладно, отвлекли нас в очередной раз эти военные очередными своими артистическими хитростями. А как же военные свадьбы? Да свадьбы, как свадьбы. Шумные, многолюдные и веселые. С похищением туфель у невест и, самих невест тоже. С африканскими быстрыми танцами. И медленными танцами под модных тогда эстрадствующих итальянцев — от Челентано до этих, как их там, забылось уже многое. Ну в общем, она такая вся из себя большая такая и очень, при этом, симпатичная, а он маленький такой совсем, но тоже очень симпатичный.
Вообще, это сейчас уже не так уж важно, как казалось когда-то. Самое главное, что весело было на свадьбах этих. Ничто не могло омрачить их. Даже периодически случающиеся во время этих свадеб драки с подозрительными гражданскими лицами (а как же на русской, да еще военной свадьбе можно обойтись без хорошей, доброй такой драки? Да еще и с какими-нибудь гражданскими сволочами, пытающимися на халяву примазаться к строгой военной среде, а ля: «слышь, военный, я тоже когда-то и где-то служил»?), не могли нарушить всеобщего военного веселья. Этого веселья не могло нарушить даже то, что иногда присутствуя на своей собственной свадьбе, военный находился одновременно в состоянии грубейшего «самохода». Ну не отпустил его какой-нибудь военноначальствующий на собственную свадьбу из-за неудовлетворительной оценки за какой-нибудь коллоквиум или еще за что. Очень мудро, кстати, поступал, наверное, этот строгий военноначальствующий — на свадьбу надо приходить кристально чистым, но не всегда получалось это у пожелавших вдруг пожениться военных. А желающих «вдруг пожениться» военных к концу обучения стало подозрительно много. Обуяла военных неутолимая жажда повеселиться. Даже когда некоторые родители желающих «вдруг пожениться» военных не соглашались с выбором их дражайших половин и не отказывались участвовать во всеобщем веселье, военные сливали воедино свои скудные средства и все равно веселились до зари. И пусть на столах под конец празднования не оставалось даже обычной для того времени ржавой селедки — не в жратве, ведь состояла для военных радость бытия, а в их тогдашней молодости. Молодости, переполненной самыми дерзновенными надеждами и нереальными (как показала дальнейшая военная жизнь) мечтами.
Справедливости ради надо отметить, что, как выяснилось позже, правыми оказались, в большинстве своем, эти закостенелые в своем консерватизме родители упрямствующих и жаждущих веселья военных. Недолговечными оказались, в большинстве своем, эти скороспелые браки супротив родительской воли. Но бывали и счастливые исключения.
А на ком же все-таки женились военные? Далеко не всегда на всех, кто под руку им, или же еще под что-нибудь когда-либо им попадался. Не всегда на ком попадя женились они. Хотя всякая «гражданская сволочь», постоянно терпящая неудачи в конкурентной борьбе за женское постоянство, часто за глаза называла военных «санитарами города». Врали, конечно же, безбожно эти жалкие сволочи в импотентной своей беспомощности. Справедливости ради необходимо отметить, что на первых годах обучения военные действительно особенной разборчивостью не отличались, но затем, немного успокоившись и набравшись специфического опыта, приступили они к тщательной фильтрации наличествующего на рынке невест города на Неве женско-человеческого материала.
Результаты исследования-фильтрации рынка невест говорили не в пользу коренных (ну хотя бы в третьем поколении) жительниц города на Неве.
Во-первых, очень мало среди них было особей действительно привлекательных (да простят меня коренные «петербурженки», но это факт или очень близко к факту — слитые воедино мнения большого количества далеко не глупых и разбирающихся в женских прелестях военных). Чем это было вызвано — влиянием ли неблагоприятного климата или генно-разрушительными последствиями блокады города в годы войны или же и тем и другим сразу, остается до сих пор неисследованным. Некоторые из особо грубоватых военных называли коренных представительниц женского пола не иначе как «невскими аллигаторами».
Во-вторых, были эти коренные, в большинстве своем, излишне капризны и весьма жеманны — те немногие из военных, кто решался сделать предложение внешне лучшим представительницам коренного населения, выслушивали, как правило, очень много встречных предложений. Предложения формулировались в виде дополнительных условий, к примеру, таких как: «Ты должен остаться служить в Ленинграде», «Дальше Москвы я не поеду», «Куда угодно, но через три года мы должны вернуться с приличными деньгами и на машине» и т. п. Очень немногие военные могли дать такие гарантии. А те, кто все же их давал, пусть даже в необязательной устно-шутливой форме, сильно потом об этом жалели.
В-третьих, были местно-коренные дамочки всегда очень сильно напряжены относительно своей ленинградской прописки. Был у них такой извечный комплекс, разрушивший довольно много истинных человеческих чувств. Большинству из них казалось, что ухаживающие за ними военные просто спят и видят себя прописанными в пределах бывшей столицы Российской империи. Нет, существовали, конечно же, особо прагматичные военные, которые именно о прописке этой только-то и мечтали, изображая пылкую любовь к какой-нибудь ломкой и прозрачной в бледной синеве своей коренной «петербурженке». А как же дальше без истинного и глубокого такого чувства? Но прагматики есть прагматики:
— Брак по расчету тоже может быть счастливым, — говорили они и добавляли с самоуверенной ухмылкой, — ежели расчет у нас окажется правильным. А уж чему-чему, а правильному расчету нас научили».
Но, в большинстве своем, пресытились военные питерскими красотами и давно уже мечтали сменить климат и обстановку, начав новую, полную перспектив жизнь в местах еще более романтичных, и часто повторяли старое военное изречение: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут!» Кроме того, давно уже надоела военным некоторая специфически питерская кичливость. Непонятно было, например, почему часто грязный, загаженный и исписанный всяческими непотребными словами общий вход в некое хрущобоподобное жилище назывался вдруг парадным (?!). И почему простой в восхитительности своей советский батон назывался в Питере какой-то булкой? И многое-многое другое тоже было непонятно.
Непонятно было военным и то, чем вызвано извечное питерское бурчание по поводу того, что военный присел на пассажирское сидение в полупустом троллейбусе? Нет, понятно, когда троллейбус переполнен и некоторым пожилым дамам вдруг не хватило сидячего места. В этом случае, большинство военных сразу вежливо вставало и пропускало этих уставших от жизни дам на освобожденное без всяких напоминаний место. Хотя большинство представителей гражданского населения часто подобным образом не поступало, но никто на этих представителей никогда почему-то не бурчал. Даже анекдот по этому поводу имел хождение в питерском народе. Суть анекдота состояла в следующем.
Заходит как-то некая стареющая в остатках своей модности, эдакая такая вычурно-коренная «петербурженка» в переполненный троллейбус. Свободных сидячих мест, естественно, нет. Она стоит, некоторое время придерживаясь за поручень и меча возмущенные взгляды на покачивающиеся над пассажирскими сидениями озабоченные мужские головы, погруженные в различного вида «чтиво» и, наконец, с гневной дрожью в голосе громко произносит: «Неужели в этом троллейбусе нет ни одного джентльмена?!» Один из мужичков выныривает из «чтива» и с удивлением смотрит на возмущенно-вопрошавшую. «Да нет, мадам, джентельментов тут видимо-невидимо, — флегматично произносит наконец удивленный мужичок, — просто местов на всех не хватает».
Вот так. Вот такая народно-транспортная и типично питерская зарисовка. Вот такая вот полуанекдотичная быль о транспортном поведении гражданских «джентельментов». Но шипели всегда почему-то только на военных. Видимо, потому и шипели, что в отношении военных делать это было очень даже безопасно. Безопасно потому, что военные всегда всеми силами пытались уйти от подобного рода конфликтов. Берегли, так сказать, честь своего незапятнанного еще мундира.
А некоторым питерским «транспортным» хамам, из числа гражданского населения, беречь было нечего. И, порой, интересно было наблюдать очень похожие друг на друга сцены, в усредненном варианте состоящие приблизительно в следующем.
Заходит, к примеру, в трамвай утонченная, в своей внешней интеллигентности, истая такая «петербурженка» и подчеркнуто вежливо так просит подвинуться некого восседающего скраю гражданина к окну. Подвинуться так слегка и освободить ей, даме, значит, место скраю двухместного пассажирского сидения. И далее происходит между вошедшей дамой и сидящим с краю гражданином приблизительно такой диалог.
— Делать мне больше не хрен. Пролезай к окну сама и не выеживайся здеся.
— Как-как вы изволили выразиться?! Что это вы себе такое позволяете?! — возмущенно было вскрикивает, судорожно, по рыбьи так, кислородно так голодно, хватает воздух истонченным в породистости своей горлом, истая «петербурженка», но, видимо, вспомнив про врожденный ген интеллигентности, постепенно берет себя в руки, несколько успокаивается и добавляет ровным металлическим голосом: — Потрудитесь-ка, достопочтимый сударь, все же выбирать выражения при общении с дамами. Неужели вам так трудно подвинуться? Неужели это вас так существенно затруднит?!
— Да пошла ты, дура, на хрен, «дама» тут нашлась, — возмущенно откидывается на спинку сидения «достопочтимый сударь», а по совместительству вполне обычный питерский «трамвайный» хам, — я тут, да будет известно тебе, зараза противная, давно уже здесь сижу, место уже себе тут пригрел, а она теперь является, лахудра помойная, и пищит своим противным голоском: «Пи-пи-пи. Будьте любезны — подвиньтесь!» Я тебе сейчас так любезно про меж глаз подвинусь, змеюка ты подколодная, ведьма чертова, в форточку сейчас у меня на метле своей вылетишь!
— Что, что?! Да вы хам и, вероятно, еще и большой подлец! — дрожит утонченный голос возмущенной мадам. — И как только земля наша подобных подонков носит?!
Все больше и больше расходится в ответной грубости своей «издревле истая» — претендующая на интеллигентность, утонченная такая в познании достижений различного вида искусств, горделивая дочь великого города. А в ответ ее внешне сдержанным еще словам несутся отнюдь не способствующие сглаживанию ситуации, мерзкие в грубости своей выражения.
— Вали отсюда, сука говорливая, пока не зашиб, б…у, ненароком!
(И тут, наконец-то, наступает кульминация. Лживые маски, наконец, оказываются сброшенными и растоптанными на грязном трамвайном полу).
— Ах ты, гнида вонючая, щаз-то я тебе рожу-то твою мерзопакостную расцарапаю! В клочья порву, тварь! Вонь подритузная! Выкидышь кошачий! М-р-р-азь!
Дальше-больше. Перечень этих, весьма относительно нормативных, фраз заканчивается. Далее начинается такое… Ведь, казалось бы, только что, недавно совсем еще, вот только пару минут назад, утонченная такая в фамильной своей интеллигентности дама, и вдруг с диким вигом набрасывается на погрязшего в хамстве трамвайного пассажира, изрыгая при этом такой водопад отборнейших ругательств, что у оказавшихся совершенно случайно в непосредственной близости от произошедшего военных попросту багровели уши. Военные растаскивали вцепившихся друг в друга спорщиков, попутно отвешивая тумаки трамвайно-хамствующему гражданину, а уши военных все багровели и багровели. Багровели и сворачивались в тоненькую длинненькую такую багровую трубочку, блокируя, тем самым, естественные военно-чуткие слуховые каналы. Блокировали для того, чтобы воспрепятствовать проникновению убийственной дозы трехсотпроцентного негатива внутрь внешне крепкой черепной коробки военных. Это только и предотвращало гибельное разрушение тонюсенько-микронного в беззащитности своей слоя остатков мозга военного, всегда равномерно по костям черепной коробки распределенного.
Можно только представить себе образность и силу тех интеллигентных, проникающих в душу слов, если такие вот физиологические модификации происходили со случайно услышавшими их военными. Военными, воспитанными в очень простой такой и даже, можно сказать, грубой, ну, словом, вовсе даже неинтеллигентной такой среде. Военными, очень много чего уже слышавшими и до этого, некрасивого такого, но типичного для Питера события. А что же делалось с модифицировано-заблокированными ушами военных? Как придавались им привычные пельменные очертания? Приходилось военным в этих случаях становиться самыми прилежными и исполнительными пациентами косметических кабинетов. Их там знали уже давно, в кабинетах этих. Военные и по другим случаям туда часто обращались. В основном с просьбами по закатке губ в первоначальное состояние. Военные, они ведь привыкли всегда доверять власти. Власть, к примеру, что-нибудь пообещает военным, а те принимаются тут же раскатывать губы. А в эту раскатанность ничего из обещанного почему-то не попадает. Через некоторое время военным надоедает ходить с развивающимися на ветру губами (очень большая парусность, знаете ли) и они обращаются в косметологические кабинеты, а там их встречают, как родных, и закатывают им губы обратно с помощью специальных, купленных за границей, механизмов.
Вот такие у военных появлялись иногда дополнительные хлопоты. Ну и где же здесь, спрашивается, хваленая питерская интеллигентность? Где же этот врожденный аристократизм? А изысканная утонченность нравов? Где же сдержанная чопорность, наконец? А воспетый классиками холодно-надменный консерватизм? Видимо, давно этого в Питере уже не было. Но спесивая маска далекого прошлого осталась. А пример того, что под этой маской в действительности может затаиться, мы только недавно совсем еще и довольно подробно рассмотрели.
Военные никогда не любили людей в масках. А поэтому женились военные большей частью на студентках педагогических и медицинских ВУЗов, приехавших, так же как и они, попытать счастья в «колыбели трех революций». Почему же именно «педички» и «медички»? Видимо управлял этим процессом какой-то не до конца раскрытый еще закон природы. Военные каким-то внутренним чутьем этот закон давно уже открыли и еще при поступлении любили рекламировать будущую свою «альма матер»:
— Если, положим, нет у вас ума, — говорили они, — то поступайте в «пед».
— Ежели, к примеру, нет у вас стыда, — продолжали военные — поступайте в «мед».
— А если нет у вас ни того, ни другого, — заканчивали военные, на радостно-рекламной ноте, — то поступайте в Ленинградское высшее военное…!!!
И такое сочетание профессий было оптимальным для дальнейшей совместной жизни: в далеких военных гарнизонах всегда существовал дефицит учителей и медицинских работников. И это еще раз подтверждает объективность скрытого закона природы.
Женитьба военных во время обучения приносила им определенные блага, некоторую даже можно сказать свободу приносила. И опять парадокс: всему остальному невоенному мужскому люду женитьба приносила порабощение, а военным приносила свободу. Женатых военных отпускали на ночь домой. Даже двоечников иногда отпускали (была попытка провести эксперимент и, отпускать к женам двоечников круглых отличников, но она с треском провалилась — категорически не желали жены веселых двоечников никаким образом общаться с нудными отличниками).
В общем, отпускали военных на ночь и каждый раз назидательно напоминали: «В семь сорок — как штык!» А утром военные выстаивали очередь перед канцелярией военноначальствующих, чтобы свершить индивидуальный обряд доклада о удачно проведенной ночи и своем радостном возвращении в родные стены. Последние в очереди военные нередко слышали в свой адрес:
— Вы почему опаздываете?!
— Никак нет, я уже полчаса как в очереди! — пытаются оправдаться военные.
— А кого это волнует? Семь сорок уже десять минут назад по радио пропикало! Все, хватит с вас этой беспорядочной семейной жизни! С сегодняшнего дня — на казарму!
Вот так, организовывалась, оказывается, в те стародавние времена передача специальных сигналов точного времени по специальной программе радиостанции «Маяк» специально для отдельных военноначальствующих: для всех остальных через каждые полчаса, а для них, для особых этих военноначальствующих, только, в строго специальные моменты, в том числе и в семь сорок. Надо полагать — по специальному заказу Гостелерадио от Министерства обороны.
Была еще одна немногочисленная, но особо интересная категория военных. Военные, принадлежавшие к этой категории, на момент поступления в свою «бурсу», были уже глубоко и безнадежно женатыми людьми, а некоторые из них еще и успели к тому времени, помимо всего прочего, обзавестись уже и некоторым количеством детей. Дети у этих военных были не всегда своими, но за давностью лет уже вполне для них родными.
Семьи этих опередивших время военных, как правило, проживали на малой их родине под строгим материнским надзором или попустительским тещиным взглядом. А несчастным этим военным в течение всего срока обучения только-то и оставалась радость почтово-телефонного общения и разнообразные физико-визуальные контакты во время непродолжительных военных отпусков. Но, надо отметить, далекая семья сильно стимулировала скучающих по ней военных. Сидит, к примеру, «скучающий» на лекции и мучительно борется со сном после какой-либо военно-бессонной ночи, и уже вроде бы сон совсем его одолел — голова военного уже выбивает мелкую мучительную дробь по крышке военно-учебного стола, готовая найти на ней временное, но спокойное, уютно-плоское такое пристанище. В этот определяющий момент «скучающий» военный вдруг собирает последних сил своих мучительные остатки и, глядь, так быстро, украдкой так, на лежащие пред носом фотографии далекого своего семейства — с укоризной смотрит семейство! И все, сон мгновенно улетучивается — «скучающий» военный снова бодр и свеж. Снова готов внимать он усыпляющим речам лектора.
Вот, приблизительно, так и устраивали свою личную жизнь обучаемые военные. Иногда это случалось удачно и теперь уже с большой долей уверенности можно сказать, что на всю оставшуюся жизнь. Иногда не совсем удачно и браки военных один за другим рассыпались горохом по бескрайним просторам одной шестой части суши. Ничего не поделаешь — такова жизнь. Может это провиденье Господне, может судьба. А если это, по большому счету, все-таки одно и то же, значит, все так и было давно уже предопределено. И нечего тут кочевряжиться, выпендриваться и что-то из себя изображать. Сказано свыше, строго перстом покачивая: «Таково мое Провидение!» Вскочил почтительно, отвесил поклон и ответил небесам бодро: «Есть!» И пошел себе в далекую даль на трубе играючи. А больше ничего ведь и не остается. Ладно, хоть подудеть еще иногда позволяют. Спасибо, как говориться, и на этом.
Впуск (Вместо короткого эпилога)
Наступило наконец время, когда как-то очень уж незаметно и совсем уже близко подкрался к обучаемым военным долгожданный выпуск-впуск. Хладнокровной и стремительной в бесшумности своей коварной змеей просто подполз-таки он к обучаемым военным. Все годы обучения военные ждали его, уговаривали поскорее прийти к ним. Он, гадина равнодушно-хладнокровная, — ни в какую. Не внимал вообще никак горячим мольбам обучаемых военных. Он не спорил никогда с военными, не возражал им ни в чем и никогда не пытался каким-то образом их оскорбить. Надменный этот выпуск-впуск просто самым наглейшим образом игнорировал военных и в наглости своей оглушительно безмолвствовал. Точнее, справедливости ради, надо бы отметить, что иногда он все же приходил к страждущим военным. Каждый год приходил и всегда почему-то в одно и то же время. Но приходил всегда абсолютно не к тем военным. Каких-то совсем других военных каждый год эта продажная шкура в милости своей изволила посещать. Но вот, наконец-то, почувствовали его близкое присутствие и наши обучаемые военные.
А как было не почувствовать? Уже далеко за спиной у стремительных военных остались и производственная практика, и войсковая стажировка. Полным ходом шла уже сдача государственных экзаменов, и защита дипломных проектов была уже не за горами. И во время этих завершающих учебу актов многие военные начинали слышать шумы перемещения электрических зарядов по ими же созданным электрическим схемам. А многие из военных начинали слышать голоса. Голоса эти были полны озабоченности и тревоги, но поначалу вовсе даже несильно докучали они заканчивающим обучение военным. Но ближе к важнейшим, в строгой государственности своей, экзаменационным испытаниям, завершающим обучение военных, голоса начинали появляться все чаще и чаще, тон их становился все требовательней и наглей: «Правильно ли ты выбрал тип транзистора для выходного каскада третьего усилителя высокочастотного тракта? Не ленись, гад, открой еще раз справочник на странице 132!»
Наконец, наглая требовательность голосов распространилась и на ночное время: «В третьем параграфе в третьей формуле сверху ошибка в знаменателе под знаком логарифма. Вставай, сволочь ленивая, и иди срочно все исправляй. И пересчитать теперь все заново не забудь!» В общем, изводили просто эти голоса заканчивающих обучение военных. И не было нигде от них спасения. Закроется бывало военный в уборной и дергает в исступлении рычажок унитаза, создавая голосам шумовую помеху. И вроде бы уже достиг желаемого — не слышит ничего уже военный, кроме звуков очкового водопада, ан нет, назойливый голос все-таки прорывается во время набора воды в бачок: «Что там у нас со стабилизацией частоты второго гетеродина? Дурень, хватит бестолку по очкам лазить да воду государственную переводить! Иди и разбирайся со стабилизацией!» Смирялся обычно военный, понимал справедливость сказанного и молча шел разбираться дальше.
Но надо все-таки отдать этим голосам должное: они исчезали сразу же после того, как очередное опозоренное тело военного вываливалось из поля зрения строгой в своей государственности, надутощекой такой экзаменационной комиссии. Как только очередной закончивший обучение военный обретал право на получение диплома самого что ни на есть общесоюзного, в универсальности своей, образца, предварительно перетерпев полчаса почти невыносимого, но быстро смываемого в бане позора, голоса вдруг разом смолкали. И наступала ставшая уже непривычной, оглушающая своей необычностью, звенящая какая-то тишина. Многие военные впоследствии даже скучать начали по этим голосам. Метаться просто стали в поисках возможности сдачи новых экзаменов. И часто эти возможности находили. А вот возможность что-нибудь защитить очень редко находили. Хлопотно это потому что. Ведь прежде чем что-то защитить, надо ведь это «что-то» еще и создать. А вот это уже хлопотно до чрезвычайности. Но некоторые военные не ленились и создавали. И при этом снова слышали голоса.
Но вот вроде все и позади и на выдержавших все экзаменационные испытания военных, нахлынуло вдруг немолодое какое-то чувство щемящей тоски по прошедшему: «Неужели так быстро все закончилось? Разлетимся сейчас по разным городам и весям и может уже никогда больше не встретимся. Во всяком случае, в таком вот составе точно уже никогда не встретимся!» И принялись военные друг с другом потихоньку прощаться и делить совместно нажитое имущество. Сколько хлопот занимает этот процесс у обычных граждан! Обычные граждане становятся при этом дележе злейшими врагами на всю оставшуюся жизнь. А у военных такого никогда не происходит. У них, у военных, всегда ведь все очень просто. И вот летят уже из казарменных окон на свалку бабинные и кассетные магнитофоны. Летят и напоследок исполняют полюбившиеся военным песни. Жаль что время исполнения любимых песен в этот раз ограничивалось длиной электрического шнура, питающего улетающее совместное имущество. Но зато промеж военных никогда не бывает никаких имущественных скандалов. А потому как были они в то далекое время абсолютно лишены какой-либо корысти. В любое время один обучаемый военный мог подойти к другому и попросить его: «Слышь, военный, тут такое дело… Фурия моя приходила вчера и заявила, что если не приду к ней в воскресенье, то уйдет, зараза, к какой-нибудь гражданской сволочи, а меня в воскресенье в наряд засунули. Подсоби, будь ласка. А я за тебя в следующее воскресенье схожу». И все. Вопрос решен. Сейчас же уже давно все не так. Современные капиталистические отношения уже успели наложить свой гадостный отпечаток на отношения между нынешними военными и меж ними уже существуют вполне определенные товарно-денежные отношения типа: «Подмена в наряде в будний день — 1000 руб. Подмена в наряде в выходные и праздничные дни — 3000 руб». И никаких сентиментальных намеков на войсковую дружбу и товарищество! А как, интересно, будут выглядеть товарно-денежные отношения между военными в боевых условиях? Попробуем предположить. Закончились, к примеру, у одного военного в бою патроны и он кричит другому военному: «Слышь, военный, выручи «рожком». До боезапаса не успею доползти — прут по моему сектору сволочи!» А другой военный, ничтоже сумняшись ему отвечает: «Говно вопрос. Любой каприз за ваши деньги. Цена вопроса — 1 000 $ на карте Master Card. Дорого?! Тогда походи по рынку и поторгуйся».
Ну да ладно, не будем о грустном. Это ведь, всего-навсего предположения. Может когда и отряхнутся военные от этой гнусной рыночности и отношения меж ними вновь приобретут первозданно-бескорыстный характер. Иначе ведь совершенно все неинтересно. И нечего вспомнить будет современным обучаемым военным впоследствии кроме своей же корысти. Товарно-денежные отношения — они ведь как-то особо не запоминаются. Блеклые они какие-то. Как обычный поход в продуктовый магазин. А хорошо запоминается и с удовольствием впоследствии вспоминается только что-нибудь, по-хорошему, яркое. Живите ярче в бескорыстии своем, современные господа-товарищи военные! И тогда не стыдно будет вам смотреть друг-другу в глаза по истечению ряда лет. Ведь судьба военного полна превратностей и даже уж очень давно закончившие свое обучение военные не могли вспомнить случая, чтобы на каком-нибудь юбилее выпуска-впуска собрались абсолютно все когда-то совместно обучаемые военные. У кого-то учения, у кого-то жена рожает, а кто-то давно сложил уже головушку свою, выполняя какое-нибудь государственное задание. Причем задание это казалось когда-то государству этому очень даже важным. Государство приказало военному, военный проникся этой важностью и задание это выполнил. Правда, случилось при этом ему погибнуть — не так что-то сложилось для него в один из дней на непостоянных в зыбкости своей небесах. А государство по прошествии ряда лет вдруг чудеснейшим образом прозрело, внезапно так опомнилось и открыто, честно и откровенно, на весь мир просто, взяло и призналось в том, что, дескать, вовсе и неважно это было все. Более того, — очень ошибочно просто все это даже было. А потом вдруг и этого самобичевания государству покажется мало — абсолютно вредным все ранее свершенное вдруг признает оно. Вредным для укрепления какой-то и неизвестно где существующей демократии. И военный, в земной шар по нелепому случаю зарытый, оказывается зело вреден был для мировой такой демократии, для дела, так сказать, укрепления общечеловеческих ценностей мировой нашей цивилизации. А поэтому и шиш — дулю по-простонародному говоря, покажут семье его горемычной, а настоящего спонсора этого глумливого показа при этом не назовут — спонсор он ведь все время инкогнито. Конкретного виноватого его ведь нет никогда — обращайтесь в Министерство по социальным вопросам и сбережению здоровья у населения. А там, в этом хитром министерстве все очень просто всегда происходит. Там ведь какая все время забота о населении проявляется? Очень даже простая в бесхитростности своей. Все делается там, чтобы большая часть и без того хилого и пропитого населения до пенсии своей не дотянула. Всю жизнь государство отбирает у работающего населения денежные знаки и аккуратно складывает их в свой пенсионный общак. Население, постепенно старея и хирея, медленно подкрадывается к тому счастливому моменту, когда, казалось бы, можно уже соскочить ему на заработанную и отстойную в скудности своей пенсию, но нет! Государство уже тут как тут: «А какова у нас средняя продолжительность жизни? Целых 58 лет?! И они в свои юные 60 уже на пенсию собираются? Хрен им, пусть хотя бы до 65-ти поработают!» И это правильно. В итоге-то, что ведь получается? В итоге государство остается один на один с изъятым у населения пенсионным фондом-общаком. А самого населения, имеющего законные основания для получения пенсии, нет давно уже и в помине. Передохло оно давно уже это законно-пенсионное население. Государство-то что, оно же не жадное по сути-то, по своей заботливой. Очень даже оно гуманное. Государство готово всегда по долгам своим заплатить, только вот одна проблема — платить-то в одночасье вдруг стало некому, по причине, от государства никак не зависящей. И причиной является выбытие этих нетерпеливых респондентов-пенсионеров в неизвестных никому направлениях. Ну а кто тут виноват? Хотели ведь как лучше. Пенсионный возраст увеличили, дабы не травмировать лишний раз население такими шокирующими заявлениями: «С завтрашнего дня вы пенсионер!» Население-то считает себя все еще молодым в свои 60! Ученые ведь давно уже установили, что каждый человек гипотетически может в среднем прожить 150 лет. Таков, оказывается, у этого населения потенциал! А ему, населению, такое слово страшное под нос суют еще в средине его гипотетического жизненного пути — «пенсионер». Нельзя так. Население от такого слова может сразу же, брык с копыт и инфаркт, вкупе с инсультом. Поэтому-то и отодвинули от населения этот пенсионный срок, чтобы было у него время смириться и привыкнуть к новому своему состоянию. А оно, тупое это население, не разобралось, в очередной раз, в сути проводимых государством мудрейших по своей сути реформ и сдуру все сразу и передохло. И поделом ему. А надо было вести здоровый образ жизни! Не на огородах своих шестисотковых задницей небо обозревать и паленую водку в бане литрами пить, а регулярно фитнесом заниматься и мюсли каждое утро кушать!
Ну ладно, это все грустная лирика. Вернемся-ка мы лучше к нашим радостным выпускаемым-впускаемым военным. Как нам подсказывает классика, судьба уже поделила этих закончивших обучение военных на живых и мертвых. Но не всегда, конечно же, деление происходило так категорично строго, существовали еще для военных такие промежуточные состояния как «слегка живой», «скорее жив чем мертв» или, например, «не совсем до конца еще мертвый» и т. д. Но закончившие обучение военные не хотели в то время глубоко об этом задумываться. Не свойственны были их выпуско-впускному возрасту глубокие и долгие раздумья о бренности своего существования. А потому собрались они в очередной раз в прохладе пивного погребка со звучным названием «Шалман», некоторое время щемяще потосковали, и пошло опять между ними молодое веселье, зазвучали по обыкновению задорные такие их песни.
А что пели в то время военные? Нет, с хоровым пением проверенных временем песен из утвержденного свыше репертуара все вроде бы понятно. А вот что в «Шалманах» пели военные? В то время в Питере очень много людей пыталось эстрадно петь. В концертных залах гремели «Земляне», «Круиз», «Самоцветы» и прочие «Веселые ребята». Эстрадно рассуждала о смысле жизни философствующая «Машина времени». Эстрадно призвало поскорей с этой жизнью расстаться унылое «Воскресенье». Но по настоящему песенные шедевры создавали только великие «Песняры», руководимые великим же Владимиром Мулявиным. Некоторые из особо голосистых военных периодически пытались этим певучим «Песнярам» как-то подражать, но каждый раз чего-то им не хватало. Потому-то оно, видимо, и великое искусство это, что даже подражать ему чрезвычайно трудно, можно ему, видимо, только внимать с благоговением. А вот различных «Веселых ребят» военные регулярно перепевали, и не в каких-нибудь концертных залах со специально созданной акустикой, а даже в каком-нибудь подвально глухом «Шалмане».
Перед самым выпуском-впуском принялись военных спешно одевать в офицеров. Одевать и фотографировать. Сошьют, например, что-нибудь военному и вызовут его на примерку: «Почему вам кажется, что парадные штаны у вас на заднице неприлично пузырятся? Ничего там не пузырится. Это у вас ягодицы неправильной формы. Не выпуклые, а прямо впуклые какие-то! Пузырчатые какие-то, потому и пузырятся… Что-что? Ну, знаете ли, ваше питание не входит в круг наших обязанностей! Да ничего, вы здесь булавочкой приколите, здесь чуть-чуть подошьете, а сюда иголочку воткнете. И все у вас будет хорошо. Ну пусть жена вам ваша подошьет, нам видите некогда ничего зашивать и прикалывать, мы тут сами уже зашиваемся и друг над другом постоянно прикалываемся — очень много к нам припожаловало нынче военных. И, как всегда, разом припожаловало. И все какие-то нестандартные. Каждый ведь год приходят все абсолютно нестандартные. И в нестандартности своей чрезвычайно требовательные приходят к нам военные. Где их только отыскивают таких. Ну, в общем, не мешайте нам. Если не успели обзавестись женой попросите там где-нибудь кого-нибудь еще».
А когда завершатся все примерки, военных одевают во все только что кривобоко сшитое и начинают непрерывно фотографировать. И в анфас их, и в профиль фотографируют, чередуя при этом различные, призванные, видимо, окончательно устрашить потенциального противника позы. Военные от такого глумления над собой постепенно звереют и на фотографиях остаются их беспощадные лица. Нет, конечно же, эти фотографии не отправят для устрашения срочной почтой в Пентагон или же в какое-нибудь ЦРУ. Это делается на тот случай, если вдруг получит доступ вражеский шпион к личному делу какого-нибудь военного, бесстрашно откроет его, с трудом развязав многочисленные узлы на защищающих дело потрепанных тесемках, а там на каждом листе устрашающие фотографии военного и угрожающие фразы под ними, например: «Положь на место, вражина! Мы все про тебя знаем!» Увидев все это и, тем более, прочитав, шпион сразу вообразит себе уже состоявшийся провал секретнейшей своей операции и там же на месте бесшумно застрелится. И поделом ему. Нечего было подглядывать. Написано ведь: «Личное дело военного».
Фотографируемые военные, давно привыкшие к подобного рода пленочно-съемочному вниманию все эти замыслы хорошо понимали и, несмотря на внутреннее свое озверение, демонстрировали в неподражаемом своем артистизме, полную отрешенность от происходящего. Наконец, съемочные дни остаются позади и слегка ослепленные частыми вспышками и ярким светом сильно греющих воздух рамп военные уже освобождено-радостно громыхают по крепкой и отшлифованной в натруженности своей поверхности строевого плаца. Готовятся военные к очередному торжественному и последнему своему в данной местности построению. Построения по поводу дипломами их награждения и прощального пред знаменем головы преклонения. На этот раз недолго готовятся военные. Чего зря время терять? Ведь давно уже стали военные в этом деле настоящими профессионалами-строевиками и даже не мыслили себя вне строгого военного строя. Военные порой с ужасом думали о том времени, когда им придется, к примеру, в одиночку ходить на обед или, так же в одиночку, выгуливать вечерами собачку, вместо того, чтобы исполнять радостные песни, гуляя перед сном строем по плацу во время, предусмотренной строгим военным «Распорядком дня» лечебно-оздоровительной вечерней прогулки.
Эти времена уже не за горами, но еще не наступили. А сейчас, пусть и не так долго, как обычно, но военные, всеж-таки готовятся к празднично-последнему своему построению. А как же иначе? Это где-то там, за военно-краснозвездным забором, в гражданском каком-нибудь ВУЗе, скучно так соберут выпускников в душном актовом зале, стыдливо рассуют общесоюзные дипломчики и что-нибудь там в вялом напутствии своем промямлят.
А у военных абсолютно все не так. У военных все на открытом и свежем воздухе. Чуть ли не с самого рассвета открытый и свежий воздух начинает заполняться громыханием бравурной в помпезной своей торжественности военно-духовой музыки. Военные, воодушевляемые давно ставшими им родными трубными такими звуками, завершают шлифовку своего парадного вида и торжественно занимают места в праздничном строю. Именно «занимают места». Как в театре. Выпуск-впуск — это ведь целое театральное действо. Это в серой обыденности военные в строй банально так «становятся» или же вовсе попросту «строятся». А тут — уверенно занимают свои места, не глядя при этом в несуществующие в ненадобности своей билеты. И пошло-поехало!
«Ра-вн-я-й-сь!» (Чрезвычайно раскатисто) «Смирна!» (Очень уж сегодня как-то отрывисто) «Равнение на!» (Ну, что ж — довольно паузно концетрирующе) «Средину!» (Довольно отрывисто и указующе). «Тов-ген-лен-лен, выш-вое-инж-уч-свя-по-случ-очер-вып-пос-но!» (В излишней эмоциональности — очень неразборчиво) «Здравствуйте товарищи!» (Наконец-то разборчиво!) «Здра-гав-тов-гав-ген-гав-лент-гав-гав-гав!» (Опять за старое) «Поз-а-и-у-ляю вас с о-е-редным вы-у-о-ском-пуском!» (Довольно поздравительно) «Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!» (Чрезвычайно раскатисто и в истошности своей чрезвычайно громко).
Далее на плацу вдруг появляются откуда-то учебные столы. Смотрятся на плацу они ну просто очень дико. Ну просто, как на корове седло! Сознание военных начинает бурно протестовать, указывая на явную несовместимость учебных столов-парт со строевым плацем. Военные вовсе бы не удивились, обнаружив свои столы-парты, за которыми провели они большое количество учебного времени постигая «науку побеждать», приземлившись для выполнения боевого задания где-нибудь на безжизненной лунной поверхности. Военные должны быть готовы ко всему. Но учебные столы на строевом плацу?! Это — непостижимо!
Что есть — то есть. Столы уже покрыты дешево-гробовой и вместе с тем, в кумачевости своей празднично-ворсистой такой материей и громоздятся на их плоской поверхности гербасто-выпуклые, самые что ни на есть общесоюзные и красно-синие такие в вожделенности своей дипломы. Отметив этот отрадный факт возмущенное было очевидной нелепостью, сознание военных начинает быстро успокаиваться. Наконец, начинается, собственно говоря, процесс награждения военных выстраданными ими в течение долгих (и неожиданно быстро так промчавшихся) пяти лет, твердокорочными такими серпасто-молоткастыми дипломами.
Награждающие, высоко- и старовоенноначальствующие лица, поочередно и периодически выдергивают парадно одетых военных с занятых ими в торжественно-праздничном строю мест: «Военный, такой-то! Ко мне!» (Фу, как грубо опять, и неинтеллигентно это даже вовсе как-то звучит. Просто как-то предельно категорично! В праздник-то можно было бы как-нибудь помягче, поласковей, как-то. Ладно, хорошо, что хоть все-таки не совсем уж так, по-собачьи как-нибудь: «К ноге!», например. Так уж и быть, сходим напоследок. В честь праздника, так сказать. Дабы не испортить его награждающим).
Выдернув очередного военного с отстоянного им годами, родного такого уже места, высоко- и старовоенноначальствующие лица торжественно вручают ему заветные корочки и громко-торжественно ему что-нибудь желают: «Не посрамите славы великого оружия нашего!», «Беззаветно служите социалистической своей Родине!», «С достоинством и честью, высоко несите знамя Великого Октября!» и т. д. В общем, сами иной раз не представляют себе награждающие того, что, собственно говоря, попытались они только что пожелать выпуско-впускаемым военным. Все больше какими-нибудь проржавевшими штампами норовят они бросить в награждаемых.
Нет бы спокойненько так и без ложного пафоса подойти собственной персоной к награждаемому военному, вручить ему диплом и сказать тепло так, по-отечески: «Знаю, что сложно все будет, сынок, особенно в самом начале службы твоей офицерской будет сложно. Сам ведь все прошел. От лейтенанта и до генерала. И без помощи «великих» родственников. Так что терпи, казак, — атаманом будешь. И постарайся оставаться всегда, что бы ни приключилось с тобой, — оставаться всегда Человеком. Удачи тебе, сынок!» И поверьте, военный запомнил бы слова эти на всю свою оставшуюся жизнь! И в особо тяжелые периоды ратной своей, полной тягот, невзгод и переживаний службы, вспомнив такое простое и по-житейски мудрое напутствие, действительно стремился бы военный оставаться Человеком, в самом лучшем смысле этого слова. Конечно же, стремился бы к этому военный и так, без отеческих напутствий, но риск когда-нибудь сорваться с положительного этого стремления был бы гораздо меньшим.
Но — нет, награждающие, все бросаются и бросаются какими-то абсолютно не запоминающимися, непонятными и принципиально невыполнимыми штампами-напутствиями. Военные порой даже представить себе не могут всего так горячо им желаемого. Ну как, например, мог военный представить себя неизвестно куда бредущим и с прищуром вглядывающимся в неведомую никому коммунистическую даль, демонстрируя на морде своего лица, застывшее в закостенелом идиотизме выражение напыщенного достоинства и девственной чести, когда он давно уже привык ко всему строго определенному. А тут какой-то сюрреализм вырисовывается. И в этом бредовом своем продвижении предлагается военным еще как-то исхитрится и задрать как можно выше над бедовой своей головой какое-то мифическое знамя спорно-«Великого» и, так до сих пор неопределенного строго во времени Октября-Ноября? Возможно ли такое представить строгому военному воображению? Маловероятно. Слишком большая это для военного мозга нагрузка. Нет, может быть, конечно, каким-нибудь особо отличным военным, ожидающим своего награждения неприлично красными такими дипломами и синеющим в строю измученными, исхудалыми в изможденности своей лицами, такое и под силу. Может быть. Но для основной красномордой и синедипломно-бодрой такой военной братии, понять или просто вообразить суть напутственных пожеланий награждающих было бы занятием, лишенным всяческих перспектив.
Это было бы просто, как в анекдоте про Чапаева. В манере, свойственной всем анекдотам, повествующего о том, как вернулся Василий Иванович в родную дивизию после неудачной попытки поступления в академию. Вернулся и вынужден был ответствовать самому любопытствующему из всех ординарцев на свете, незабвенному своему и разухабистому Петьке о причинах бесславного своего возвращения: «Да понимаешь ты, прицепился ко мне на экзамене плешивый и бородатый такой профессор. Пенсне своим буржуазным поблескивает и ехидно так у меня интересуется, не мог бы «милейший» я изобразить на вот этом листке бумаги формулу, например, кубического многочлена. Изобразить! Я же его, кубического многочлена этого, даже представить себе не могу! А он все, сволочь, продолжает издеваться: «Изобразите да изобразите, будьте так любезны, окажите нам такую милость». В общем, послал я этого буржуазного извращенца со всей пролетарской ненавистью. Набежали еще со всех сторон какие-то плешивые и пархатые, стали меня стыдить и увещевать. А в конце-концов, все-таки завалили меня на правилах сложения и вычитания, сволочи. Красного революционного командира завалили. Представляешь, Петька?! Такого парня обосрали!»
Тем временем награждение военных завершается, но они еще долго после этого не расходятся. Они еще некоторое время мощно и массово передвигаются строями, а затем вдруг замирают, в скорбной тоске, склоняя свои шершавые и шишковатые головы пред стягом Боевого своего Знамени. Склоняют головы и одновременно припадают к земле одним коленом. У военных так ведь принято торжественно-скорбно со знаменем своим массово прощаться. Не горюйте, братцы, впереди у вас встречи со многими другими Знаменами, тоже красными и очень даже Боевыми!
Затем, по специальной команде военные стряхивают с себя накатившую было на них великую грусть и опять же приступают к активно-радостному в массовой одновременности своей передвижению, но на этот раз с полюбившимися ими в строю песнями: «О-бык-но-венная, судьба нелегкая военная. Любовь суровая, но верная. Готовы мы…». Поймав военно-строевой, в песенности своей, кураж, военные могли ходить теперь бесконечно долго, хоть до утра следующего дня. Они, наверное, так, в конце-концов, и поступили бы в честь долгожданного такого праздника, но военноначальствующие (в этот раз предельно вежливо) напоминают закончившим обучение военным о заказанных на вечер столиках в кабаках великого города. Военные, скрипя душой, нехотя расходятся. В жестах и интонациях военных явно сквозит плохо скрываемое разочарование.
Но немного остудив парадно-песенный свой пыл, собираются, наконец-то, военные за заранее заказанными столиками и продолжают безудержное свое выпуско-впускное веселье (просьба не путать с весельем напускным, оно, деланно-напускное это веселье, вообще военным никогда не было свойственно. Искренне всегда и все у них. У военных у этих).
Как же проходило это веселье? Обычно как-то проходило. Обычно-весело и ничего сверхъестественного. Сидят себе, к примеру, выпуско-впускные военные с женами своими молодыми или же с женами не своими, но тоже еще нестарыми, за ресторанными столиками и попивают себе шампанское, а отпив изрядно, начинают опять же массово и неистово так друг с другом выплясывать. А наплясавшись вдоволь, устраивают музыкальные паузы и с появившейся откуда-то и нарастающей уже в процессе пения ностальгией в голосе затягивают: «Когда идем повзводно мы дорогой фронтовой… Шинель моя походная — мы с ней всегда вдвоем…».
Наконец выпуско-впускным военным как-то разом вдруг все это надоедает, и идут они вместе со сопровождающими их женскими лицами массово гулять по наполненному белыми ночами гранитному Питеру. По городу своей беспокойной молодости. Идут и по памятным, всем известным историческим местам. Идут и по местам, памятным чем-то только им. Идут и тихо прощаются душой, и в пронзительно устно-громкой форме тоже прощаются с великим, приютившим их на целых пять лет городом. Не бескорыстно, конечно же, приютившим. Но идущие и прощающиеся военные зла на этот город никогда не держали и были ему даже как-то по особенному благодарны. Город тоже был, по своему, благодарен прощающимся с ним военными. Они ведь с лихвой отблагодарили его за надежный приют бескорыстным трудом своим в многочисленных его портах, заводах и овощебазах. Отблагодарили город военные и своим героизмом при устранении последствий внезапно случающихся в нем наводнений, и своим неподражаемым массовым артистизмом в ходе очередного его кинематографического на весь мир прославления.
Был среди этих расслабленно прогуливающихся и прощающихся выпуско-впускных военных и знакомый нам Серега Просвиров. Отставить! Это вам уже не какой-нибудь там Серега из ближайшего пивняка «Сбитый летчик», а лейтенант-инженер Сергей Михайлович Просвиров, собственной, как говорится, персоной. Отнюдь не случайно он эпизодически появлялся в том или другом рассказе. Все дело в том, что дальнейшее повествование о судьбах когда-то обучаемых военных основано на его наблюдениях и записано с его слов. Поэтому-то и важно было показать здесь, пусть фрагментарное, но непосредственное его присутствие.
Это, правда, еще может только будет. Ежели одобрено будет дальнейшее повествование свыше. Ну или вполне достаточно будет того, чтобы свыше хотя бы просто не обратят на повествование это абсолютно никакого внимания. А то ведь у нас, в земной-то нашей жизни, как ведь все устроено: мы что-то там мельтешим себе, что-то там предполагаем, а «свыше» берут так обстоятельно все в свои мозолистые могучие руки и всем этим по замыслу своему, справедливо так и располагают. Недаром ведь в мудром нашем народе говорится о том, что если возникнет у вас когда-нибудь дикое в непочтительности своей желание рассмешить кого-то свыше, то вы особенно так не напрягайтесь, не выдумывайте лучше ничего такого какого-нибудь эдакого. Будьте скромнее. Вы просто расскажите «свыше» на досуге о своих дальнейших планах. О ближайших планах обстоятельно так расскажите ему, а затем плавно перейдите к планам своим более долгосрочным, перспективным, так сказать, планам. И тоже — подробно все и обстоятельно также. Не суетитесь, главное, во время рассказа. Степенно так рассказывайте. И все, успех вам гарантирован. Вы просто обречены на успех своей нетактичности. Такого смеха вы больше никогда и нигде не услышите! По вселенского громовержского такого смеха и, вместе с тем, такого абсолютно искреннего в сожалении к вам! Смеха над безрассудной самонадеянностью вашей! Приблизительно так же смеются кадровики, когда какой-нибудь незадачливый военный изъявляет желание начать свою службу в Главном оперативном управлении Приарбатского военного округа, но только при условии немедленного предоставления ему квартиры где-нибудь на Калининском проспекте (ну, чтобы на работу было ходить не так далеко).
Ну ладно, отвлеклись немного на грядущее. А тем временем, уже не далее как на следующий день после праздника выпуско-впуска, военные, со свойственной им массовостью, начинают дружно покидать территорию великого в строгости своей города и растворяться, сливаясь с неоглядными просторами казавшейся тогда вечной и незыблемой такой, безусловно великой державы. Сливаясь с державными просторами Союза Советских Социалистических Республик, чтобы через какое-то время сублимироваться в конкретном, судьбоносном для них месте, сухо по-военному именуемом дальнейшим местом прохождения службы.
Разные судьбы ждали этих военных. Кто-то почти сразу попал служить в Афганистан, в стыдливо ограниченный пред укоризненной гримасой морды лица вездесущего дядюшки Сэма контингент. Контингент, обстреливаемых из под тишка и отрабатывающих чей-то интернациональный долг, войск. Кто-то попал в этот контингент значительно позже и вместе с ним из этого самого Афганистана в конце-концов и вышел. Кто-то сложил там, в злополучном этом «афгане», буйну свою головушку, а кто-то все же выжил и вернулся израненный и переболевший всеми видами гепатитов и малярий. Кто-то сразу попал в глубокие подземелья святая святых ракетных стратегических наших ядерных сил. Попал туда молодым розовощеким лейтенантом, а вылез на свет Божий только через двадцать пять лет своей нервной и ответственной такой службы. Вылез абсолютно лысым, подагрическим, вечно кашляющим полковником со слезящимися глазами. А кто-то сразу заступил на охрану воздушных рубежей своей Родины. Попал, так сказать, в войска самой, что ни на есть противовоздушной нашей обороны (ПВО). Войска, про которые отдельные циники всегда пренебрежительно цедят, заслышав знакомую аббревиатуру: «ПВО? А-а-а, ПВО это как волосяной покров на женском половом органе — прикрывать прикрывает, а вот защитить ничего не может!» Может все так в конце-концов и получается (не даром же Руст до Красной площади долетел), но служба в этих войсках — будь здоров! Очень напряженная. Недаром про эти войска в свое время армейской братией даже был сочинен пошловатый, но довольно правдивый в краткости своей стишок: «Под березой лежит офицер ПВО. Он не пулей сражен — за…ли его». В общем, разная выпадала судьба нынешним выпуско-впускным военным.
Но об этом — в следующих наших книжонках. А пока — удачи вам, товарищи военные! Двигайтесь, каждый к своему месту дальнейшего прохождения ратной вашей службы. До скорых (дай то Бог!) встреч!



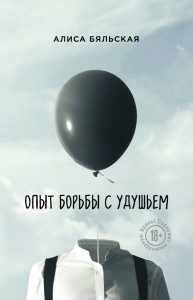
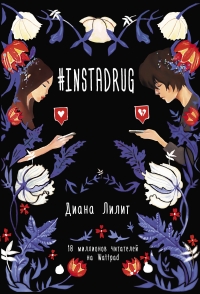
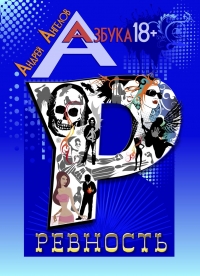
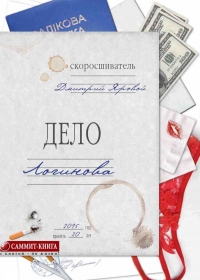
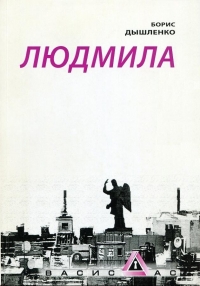
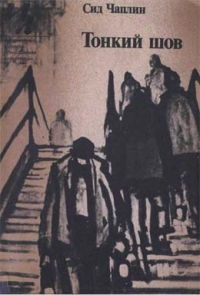



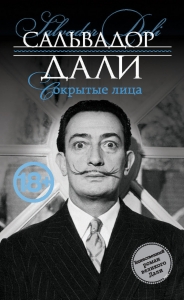
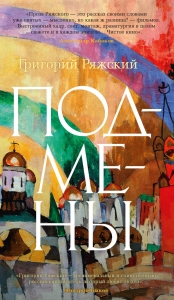
Комментарии к книге «Бестолковые рассказы о бестолковости», Дмитрий Ненадович
Всего 0 комментариев