Анатолий Тосс Инессе, или О том, как меня убивали
Дорогой друг, читатель (-ница)!
Если попадались тебе мои прежние книги (а если не попадались, то тоже нормально), то ты помнишь, что выдвинута в них зрелая догадка, что мы все – и ты и я в том числе – проживаем не одну-единственную, а несколько разнообразных судеб. И успеваем мы все это в рамках той самой одной, физически отведенной нам жизни.
Если же провести незамысловатую параллель, то получится, что и литературная жизнь вполне имеет право на несколько не связанных между собой судеб. Вот и небольшая книжка, которую ты сейчас держишь в руках, зачинает еще одну мою, отличную от прежних, судьбу.
О чем же она, эта книжка? – спросишь ты с любопытством. Да о нас с тобой. О нашем прошлом, о настоящем да, глядишь, и о будущем тоже. О тех многих, кого мы научились любить, и о тех единицах, кого просто любим по привычке. А кроме того, о том, казалось бы, простом, что мы стали понимать только с возрастом, и о том, что еще придется понять, и о том, что, наверное, никогда не удастся.
Конечно же, о женщинах, но и о мужчинах тоже, а еще и о тех и о других одновременно, ну а значит, и о бушующей вокруг нас беспредельной межполовой и прочей разборке или, по-другому, – человеческих отношениях.
В общем – шекспировские такие вопросы подняты в ней. На которые, скажу честно, не всегда даны шекспировские ответы. Мои ответы порой на них даны вместо шекспировских. А порой – и никакие не даны.
«Ну и что? – снова спросишь ты. – Подумаешь. Читали про такое и в прежних твоих романах». «Возможно, – соглашусь я, – но совсем по-другому читали. Так как написано было по-другому».
Например, можно упомянуть о разнице в стиле: здесь – легком, искреннем, даже беспечном, но и ироничном тоже, можно сказать, с веселой, жизнерадостной усмешкой. А можно и по-другому – лирическом, оставляющем украдкую, только тебе самому предназначенную улыбку, а еще настроение, которое тоже только для тебя одного, которым тоже необязательно делиться, потому как интимное оно. Как, знаешь, остается запах солнца на коже после прозрачного летнего дня.
Но главное все же – легкость. Обволакивающая легкость, вместе с которой ты, возможно, унесешься от надоедливого земного притяжения и попаришь немного на не досягаемой иначе высоте. Да-да, я надеюсь, что все именно так и произойдет, все именно так ты и прочувствуешь, скользя от страницы к странице.
И еще. Если все же ты читал мои прежние книги (а если не читал, то опять же – нормально), то помнишь, конечно, что написаны они от самого что ни на есть женского лица. Отталкиваясь от женской, так сказать, перспективы.
Но чувствую, что пришло время поменять перспективу. А раз чувствую, так и поменяю. Да и то, сколько можно просвечивать плотно облепившую нас жизнь под неизменно женским углом? Пора разменять углы и просветить ее – жизнь – под всевозможно разными, но одинаково проницательными лучами.
Ну и последнее.
Допустим, друг мой читатель (-ница), прочтешь ты эту книжечку. А прочитав, задашься законным вопросом, мол, а будут ли еще подобные истории?
Забегу впопыхах вперед и отвечу: если смогу – напишу. Ведь, по сути, собираюсь я раскрыться перед тобой на их малоформатных страницах, неприлично обнаженно раскрыться, без утайки и кокетства, так как хочу, чтобы узнал ты про меня все. А значит, особенно важно мне, чтобы пришлись они тебе, истории эти. Важно, чтобы сглатывал ты их в одно-двухчасье, и все, что предполагалось строчками выше – про улыбку, беспечность, настроение, легкость, – все оказалось правдой. Для того ведь и писал. Для правды.
Твой старый приятель
(потому и обращаюсь к тебе на «ты»)
Анатолий Тосс
Да, да, меня! Не самого тогда пугливого, конечно, но и не нарывающегося особенно тоже. Во всякие там подозрительные «зоны риска» статистически не входящего и отнюдь не стремящегося ни к каким сомнительным, попахивающим криминалом ситуациям. Тем не менее убивали! Хотя и не убили.
Но начну я эту историю не так. Начну я ее по-другому:
О Инесса, огонь чресел моих! Зачем ты в прошлом? Зачем ты не в настоящем? И хотя про «чресла», признаю, невольный плагиат вышел, но зачем же ты все-таки ходишь где-то там по чужим, сдавленным с боков манхэттенским улицам, почему именно там ты наталкиваешься на завлекающие мужские взгляды, и хоть, может, и отводишь стыдливо глаза иногда, но ведь не на меня же отводишь. Не на меня! Да и где он я? – кто меня знает.
Вот именно, где он я, Инесса, где я, в каком таком участке твоей пугливой памяти я затесался? Наверняка давно уже отодвинут за изгородь трепетного, наверняка переведен на задворки, где вместе с десятком таких же недотеп твоего нескучного прошлого уныло разгребаю тяжелый снег в тягучие снегопады, чтобы, не дай бог, не завалило твоего сегодняшнего взволнованного избранника.
Но я не в обиде, чего мне! Я-то ведь знаю про вас, женщин, а заодно и про вашу, недаром говорят, «девичью память». Я ведь понимаю, что на фиг ей сдалось оно, это обозное прошлое, чего его волочить за собой по ухабинам, чего надрываться, чего его не сбросить омертвелым балластом, ведь только тогда, как известно, каждый следующий – лучше предыдущего.
Впрочем, зачем это я всех вас разом под одну гребенку? Зачем упрощаю? Есть и среди вас, женщин, чуткие, боящиеся спугнуть ночное, летучее, и даже просыпающиеся порой от сладкого, хоть и тревожного, сна. Ведь и ты, милая моя Инесса, я знаю, чуткая, и может быть, пусть лишь порой, но швыряю я в сторону свою корявую лопату, отряхиваюсь от налипшего снега и, сбросив ватник и ушанку, мчусь по незабытым закоулкам твоей памяти на призывный, нетерпеливый голос, чтобы к самой нужной секунде отозваться как раз там – с внутренней стороны твоих взметнувшихся в удивлении бровей. «Толька», вспомнишь ты забытое слово, «Толенька», а я уже тут как тут и вдуваю, вдуваю жизнь в твой еще не окрепший сон.
Может, все именно так, откуда мне знать? Не знаю. Но даже если и так, то что мне с того? Пусть твои губы искусаны, пусть мечешься ты в постели, пусть не можешь удержать ты мятежные руки свои… Мне-то что с того? Я-то ведь не рядом, а далеко, я-то ведь и не ведаю совсем, и не испытываю ни хрена. И если используешь ты меня сейчас в своей фантазии (корыстно, заметь, используешь, эксплуатируешь, можно сказать, мой уже наверняка потрепанный образ), то повторю – мне-то что с того? Образ ты мой используешь, мой копирайт напрямую нарушаешь, взламываешь, можно сказать, его, а я с этого твоего удовольствия никаких роилтис, заметь, не получаю. Справедливо ли это, Инесса? Нет, несправедливо! А если ты не одна, если, представь, вас, ну, пусть не много, а, скажем, несколько, чувствуешь, какие от меня дивиденды утекают!
Хотя, конечно, с какой стороны посмотреть. А если с другой стороны, то от меня вроде бы и не убывает, не прибавляется, конечно, но и не убывает ведь тоже. А это значит, пользуйтесь мной, милые, пользуйтесь на здоровье, и ты, Инесса, давай фигачь, заряжайся мною до упора. Вот он я, весь твой!
Ну, а раз так, может быть, Инесса, возьмем да и вспомним мы с тобой что-нибудь в унисон, я имею в виду, чтобы как раньше, одновременно, ведь есть доннерветтер (это почему-то по-немецки вырвалось), в конце концов, что вспомнить. Ну вот хотя бы о том, как меня убивали.
Короче, начну, как полагается, с описания времени. Время было солнечное! Тебе, Инка, было тогда лет приблизительно двадцать один, потому и звал я тебя по-простому – Инка, и фигурой ты обладала гибкой и стройной, но не в фигуре даже дело. И если прочтешь ты когда-нибудь эти строки и задумаешься над ними, а потом спросишь меня мысленно: «А в чем же тогда дело?» – то отвечу я тебе: «Все дело в ЖЕЛАНИИ!»
Но ты не спросишь, к чему лишние вопросы, когда и так все понятно. Просто дарование у тебя такое – рождать в противополых желание, и дарование это, как говорится, от Бога и заложено было в тебя с рождения на самом бессознательном, молекулярном уровне. К тому же, полагаю, ты вовремя осознала его, еще задолго до меня, и оценила, и пестовала ты его, свое дарование, и окучивала, так что когда пересеклись наши молодые судьбы, расцветало оно в тебе во всей своей полноте и сногсшибательности. Ну а тот факт, что ты сама отлично знала о нем, – только добавлял…
Да-да, Инесса, мы оба знали и знали всегда – все дело в блядстве, прости за перегруженное слово, но сейчас все так пишут, и даже пожилые, старой закваски, вот и я позволил. Именно в нем, но не в том, вульгарном, наружу, с вихлянием бедер, перекрашенным до неузнаваемости лицом и прочими дешевыми приметами, против которых я, в общем, тоже ничего не имею, но которые вот именно сейчас я не хочу даже перечислять.
Нет, все дело во внутреннем, скрытом для неумелого взгляда и обнаруживающем себя только едва-едва, даже непонятно в чем – в повороте головы, движении бедер, в том, как ступню ставит… Да и вообще оно все изнутри исходит, и талант это, как я уже говорил, врожденный – либо обладаешь, либо нет. Научиться сложно, можно, конечно, но сложно, и если есть это в тебе, тогда сразу все остальное, что называется внешностью, как бы и не так уж важно. Потому что это и есть самое главное, назови хоть женственностью, хоть очарованием, хоть животным призывом, а я вот предпочитаю называть «внутренним блядством», хоть и знаю, что выхожу за рамки. Но к чему тут рамки, когда правда затронута!
Вспоминаю, как-то поехал я играть в футбол на «Университет», привычка у меня такая была – по воскресеньям в футбол ездить играть. Спорт вообще дело здоровое, да и компания там собиралась. Обычно я ездил один, нечего к физкультурному занятию девушек примешивать, но тут сплоховал, поблажку дал, да и ты больно просилась, вот и захватил с собой. Помню, переоделся во все потрепанное, замызганное, футбольное и стал пылить по сухому августовскому полю в погоне за мячиком, а ты уселась неподалеку на скамеечку сбоку, подставив тело тоже сухому и тоже пыльному солнцу, загорая как бы.
Сразу оговорюсь, что одета ты была вполне традиционно, даже консервативно – в джинсиках и маечке, даже не очень обтягивающей и не очень открытой, – но как-то так вдруг для всех участников игра в мяч утратила всякий интерес, как-то затихла и утратила. Мяч еще катился, конечно, но никто его направление особенно не отслеживал, все какие-то вялые стали, состав команд, кто за кого, уже особенно не различали, потому как… Затмила ты, Инка, футбол.
И чем затмила, спрашивается? Да ничем! Просто сидела как-то так расслабленно, руки разбросала, голову склонила, коленки острыми башенками выстроила, и столько из тебя внутреннего затаенного желания источалось, что кому какая игра впрок пойдет? Мне даже неловко тогда стало, что вот девушка моя такое внимание похотливое привлекает, хотя я-то знал, что в тот конкретный момент все твое это внутреннее свечение только на меня одного и направлено было.
Ведь бывают такие счастливые мгновения, хоть редко, но бывают, когда только на тебя одного и ни на кого больше, никогда в жизни, ни за что, никогда… клянусь… веришь? Жаль, конечно, и порой несказанно, что недолго они длятся, мгновения эти, и каждый раз обрываются самым не подходящим для тебя образом. А еще обиднее – это когда ты все еще в мгновении и все равно понимаешь, что чего ни делай, как ни старайся – все равно оборвется. Сам цинизм жизни обиден.
Но тогда, помню, цинизм был ни при чем, а все равно распалась футбольная игра и разошлись мы тут же, не поразив ни разу ворота, потому как потеряли они смысл, ворота эти.
Я почему ведь, Инесса, так пространно о тебе? Ведь мог бы просто описать твою внешность, привел бы параметры в цифрах, как сейчас делают, – размер, длину, объем, может, они поразили бы кого, но как иначе описать то впечатление – нет, неверное слово – не впечатление, а настроение, которое ты создавала? Ведь иначе никак не описать, чтобы втемяшилась ты в избалованное читательское воображение.
Вот вытягиваю я тебя, Инесса, в эти недлинные строки в меру выделенного мне умения, но, если честно, чувствую, как укореняется в моем смущенном подсознании подлая червоточинка. Укореняется и гложет. Вот мерещится мне, что жена, верная моя подруга многих предыдущих лет, когда-нибудь прочтет эти строки. И жутко мне становится от этой мысли, Инесса! Потому как, может, ты не знаешь, но те, которые рядом с автором, совсем не рассматривают этого автора абстрактно, а, наоборот, вполне конкретно, и подозревают они в его творческих словах конкретику и за нее порой судят его немилосердно. Вот и меня за эти самые строчки осудят потом.
Конечно, об истории этой правдивой про тебя, про нас с тобой и про то, как, напомню, меня убивали, сам я жене рассказывать не стану. Но жена моя, напомню, подруга верная, и добавлю – чтобы сгладить будущую неизбежную неприятность – к тому же и любимая, она наверняка наткнется когда-нибудь на эту книжечку. И даже если спрячусь я под нелепым псевдонимом, все равно раскусит она его, так как проницательна и нюх у нее на меня непропорционально развит.
И знаешь ли ты, Инесса, что она мне устроит? Скажу прямо, проведя нечеткую историческую параллель: Варфоломеевскую ночь она мне устроит. Но и не только ночь, а день она мне устроит тоже, хоть и не гугенот я никакой. И будет длиться эта ночь, а вслед за ней день, долго-долго, и я, пусть заблаговременно, но понимаю ее, жену мою, и сочувствую ей, хотя и все равно побаиваюсь ее очень. Ведь обидно может стать жене моей, что храню я в памяти твое описание, Инесса, что не затмилось оно годами верной супружеской жизни, что по-прежнему упоминаю про пламень в предательских чреслах и про прочее тоже упоминаю. А кому не было бы обидно? Всем было бы, и мне тоже.
Конечно, я буду оправдываться и буду напирать на свое авторское право, буду утверждать, что большая литература только искренностью и берет. И про писательскую фантазию тоже вспомню, и может, и сглажу я чего немного, но все равно оставлю в жене своей осадок, и кто знает, может, и затаит она чего против меня. А затаив, может, и отомстит когда, и тогда придется мне подумать дважды, прежде чем снова напишу о ней: «верная подруга моя».
Вот видишь, Инесса, на какие тревожные муки и жертвы будущие я себя предназначаю, вот видишь, как тревожно мне сейчас писать эти правдивые строки, за себя тревожно. Но верь мне, не дам я слабинку, а прочешу насквозь через задуманный мной рассказ, и рука не дрогнет, и глаз не моргнет, и ничего я не приукрашу, ничего не преуменьшу, и все ради тебя, да еще искусства ради, Инесса.
Начнем снова: время было солнечное, и тебе было двадцать один. Ты как раз сидела тогда на дипломе по окончании какого-то технического вуза, и для тех, кто не знает, поясню, что самое лучшее это время во всей человеческой жизни, когда справляешь ты свой завершающий дипломный проект. Потому что промежуточное оно, а промежуточные состояния – они самые легкомысленные, так как не должен ты никому ничего. Вот и здесь: и институту родному, учебному ты уже ничего не должен, но и с будущим производственным коллективом тоже пока судьбами не связался.
Вот и ходишь ты по большому городу безалаберный, петляешь по его изогнутым улицам, к тому же, напомню, солнечно вокруг, и так как душа у тебя легкая, то легко и притягивается она к людям разным, событиям и чувствам, конечно, тоже. Ну, чего я тебе-то об этом, Инка, ты ведь сама знаешь.
Я в то время снимал меблированную квартирку где-то на окраине Измайловского парка. Как сейчас помню – за семьдесят рублей в месяц, денег, понятно, было жалко, но не очень.
Дедок, который мне ее сдавал, очень беспокоился, что бдительные власти засекут его нетрудовые доходы, так как (и здесь юный читатель, пропустивший коммунизм, удивится) за деньги ничего сдавать тогда не позволялось. Дедок, впрочем, был еще крепкий и поэтому, оплакав потерю своей прежней супруги, решил снова обзавестись семьей и для этих целей подыскал новую подходящую бабусю, к которой и переехал пока. Видимо, чтобы проверить не спеша, что к чему, не ошибся ли, притрутся ли они друг к другу.
Впрочем, зачем это я так цинично? Может, у них любовь приключилась с бабусей новой. Я ведь не вру, время было солнечное, да и на пенсии сидеть – оно вроде как на дипломе – тоже ведь никому ничего не должен. И хотя на помощь виагры тогда еще не рассчитывали, только лишь на свои собственные силы, но я ведь говорю – крепкий был дедок.
В общем, снял я у него квартирку эту вполне уютную, с кухонькой и балкончиком, как полагается, всю коврами увешанную – на стенках, на полу, даже на диване раскладном, на котором я проводил большую часть теплых августовских ночей и который как-то потерял свою сбитую крепкость от частых моих бессонных исканий. (Или метаний, не знаю, как лучше сказать. Наверное, все же – метаний.) Он как-то весь, ну, не распался, конечно, а расползся, что ли, сразу видно было, что потерялась в нем конструкторская цельная стройность. На глаз, может, и не было видно, но если сесть или прилечь – тогда видно, тогда не ошибешься.
Прости, дедок, не специально я, просто получилось так, знаю, не ожидал ты этого от меня, приличного научного работника. Ты поверь, если утешат тебя еще мои заверения, что каждый раз мне и самому было совестно, когда слышал я его, диванные, жалобные скрыпы, и даже сбивали они меня порой. Так как сразу всплывал в моем совестливом сознании твой укоризненный образ, а главное – образ твоей новой пожилой подруги. И так нехорошо она на меня смотрела, качая головой в цветастом платочке, осуждая и говоря как бы: «Ай-ай-ай, как нехорошо, внучек. Что же ты на диване творил такое неаккуратное, что он такой изуродованный сделался? Что ж ты о нас не подумал, о стариках? Как же нам теперь на нем, шатающемся, с любовью управляться? А?»
Вот такие преследовали меня кошмарные видения, дедок, в самый неподходящий момент преследовали. Ну и, сам понимаешь, сбивают они! С тональности сбивают, с общей ритмики, да и вообще…
А ты, Инесса, думала в такие мгновения, что изменило тебе твое очарование, и пыталась отчаянно наверстать, за что я до сих пор тебе признателен. Ведь не догадывалась ты, что это все из-за глупости ненужной, что это за бабулю я так переживаю неадекватно.
Видишь ли, мужской организм – он ведь на самом деле тонкий, хотя вы – все те, кто со стороны, – о нем ошибочно думаете иначе. Но он правда чуткий, ему порой настрой нужен и концентрация, хоть назови это чувством или, например, красивым словом «вожделение», но он ведь, мужской организм, не полностью подотчетен своему владельцу и вытворяет порой чего захочет, так что ты сам потом удивляешься: ну чего это ему взбрело! И хотя подчас ставит он нас в затруднительные положения, но согласись, Инесса, уважения ведь тоже заслуживает за свою независимость и избирательность.
Вот именно «избирательность», правильное слово. Мудр он, наш мужской организм, и ограничивает естественным путем нашу природную мужскую неразборчивость, по-научному – полигамность.
Ты уж нацелился, надвинулся, а он тебе: «Стой, ты куда?» Ты ему в ответ: «Да вот тут, ненадолго». А он опять: «Да не надо тебе». «Ну как же, – отвечаешь ты, – ненадолго ведь». А он: «Да не в этом дело, не нужно нам это с тобой». И по опыту своему личному я убедился, и потому другим искренне советую: не надо ему перечить, лучше согласись, все равно потом по его выйдет, только память плохая останется.
Впрочем, не хочу, Инесса, чтобы расстроилась ты совсем, не все так печально, бывает и на нашей улице, сама знаешь, праздник с фейерверками. Потому как бывает, что начинает он тебе нашептывать втихаря: «Смотри, мол, вот это правильно, вот здесь не ошибешься, это ценится, и давай, мол, стремись, я тебя поддержу только». Ты ему в ответ с сомнением: «Да нет, не подходит оно. К тому же и времени нет совсем». А он: «Ни хрена ты, старик, во времени не понимаешь. И не только, кстати, во времени».
И опять я всем советую положиться на его правдивую оценку, так как желание, в отличие от холодной рассудительности, не обманет и не подведет, и вознесешься ты высоко, даже выше собственного представления о себе.
В общем, больше ничего особенного я про эту квартиру не помню, только лишь диван, балкон да и кухоньку, на которой я трудился иногда, разложив бумаги на ее кухонном столике. Дело в том, что было мне тогда лет двадцать шесть или семь и я упорно вкалывал над технической своей диссертацией.
Давай вздохнем вместе, Инесса, по ушедшему времени, которое, можно сказать, идеалистическое было тогда. И люди в нем попадались тоже идеалистические, которые не только к деньгам стремились, как все сейчас, но были у них вдобавок другие ценности и другие идеалы. Вот и я, Инесса, считался из их числа.
Служил я тогда на научном поприще в самом что ни на есть академическом институте.
Тоже, надо сказать, веселое было заведение и вообще-то требует подробного веселого описания, но сейчас я это дело пропущу, а то и так длинно получается. Люди вокруг меня, старшие мои товарищи, были давно уже защищенными и смотрели на меня с недоумением, мол, а этот-то чего, может быть, мы зря к нему так доброжелательно. Вот я и засел.
Нельзя сказать, чтобы мы и до этого очень часто все на работе встречались, то у них дела, то у меня, но тут как засел, вообще о них порой забывать стал. Раз в неделю мы все же виделись, по средам, по-моему, быстренько расставляли шахматы и успевали разыграть пару драматических пятиминуток. И вроде бы как все, вроде бы как больше нечего было там делать.
Я подходил тогда к шефу, тоже колоритному парню, тоже требующему описания, но тоже не буду, и говорил:
– Ну чего, Миш, – говорил я, – поеду я. Диссер буду писать.
– Сам будешь? – спрашивал он меня всегда одно и тоже, а глаза его были, как поется в песне про глаза, «далеки, далеки», что-то таилось в них туманное, в его глазах, я пытался распознать: может, он раздосадован чем-то, может, хочет чего-то от меня. Но он не хотел. Он вообще нравился мне, мой шеф, и потому я старался разобраться, что же у него такое мутное в глазах, – но не мог.
– Сам, – отвечал я со вздохом. – Нет чтобы помог кто! Другим, вон, все помогают. Может быть, я тогда… – Но от этих моих слов тумана в его глазах набиралось еще больше, и я в сердцах махал рукой и обрывал фразу.
А потом я ехал в свою меблированную квартирку, раскладывал бумаги, как уже говорил, за кухонным столиком и, сжимая голову руками, все силился понять, о чем же ее писать, диссертацию эту чертову. Не то чтобы темы не было, тема как раз была, но слова, всякие технические, и связанные с ними формулы крайне тяжело из меня извергались. Извергались, но редко и крайне тяжело.
К тому же это хорошо известно: умственная деятельность – она ведь утомительная очень, и изматывает порой до изнеможения, и нельзя с ней долго, часа два еще можно, но дольше нельзя – измотает. И поэтому требовалась мне периодическая разрядка. И вот на нее, на разрядку, много всего как раз и уходило. Но я не жалею, до сих пор не жалею – ни времени, ни усилий, ведь именно поэтому нам, Инесса, и есть что с тобой вспомнить.
Ну вот теперь наконец-то вводная и закончилась. Длинная она получилась, вводная, но зато все в ней расставлено, все понятно – и про тебя, Инесса, и про время, и про квартиру с диваном, и про меня самого, – все отчетливо так расставилось по своим заготовленным местам. А раз так, то пора переходить к тому самому дню, о котором и речь, к тому роковому дню, когда меня убивали.
День этот был особенный, праздничный, первое сентября, важный день в культурном календаре нашего народа, и хотя начался он для меня небывало рано, ничего особенного не предвещал. Вернее, предвещал, но только хорошее. Мы ведь все знаем, первое сентября – цветы, астры, горящие глаза, белые фартучки, хризантемы, большие банты, раскрасневшиеся щечки, гладиолусы, волнение, которое передается вокруг и родителям, и учителям, и даже просто прохожим, спешащим к своим трудовым проходным.
И только мне оно, волнение это, не должно было передаваться. Потому что обычно я в такие ранние рассветы еще сплю, и от того, что утро подкрадывается и уже близко и я его как бы уже ощущаю чуть-чуть, мне от этого обычно особенно хорошо – от смутной внутренней такой догадки: что утро уже здесь, а я вот еще сплю.
Но именно в то очень раннее, по моим понятиям, утро мне что-то стало пронзительно мешать. Я попытался отделаться, но не получилось. Пришлось открыть глаза и убедиться, что все по-прежнему хорошо: из открытого окна растекается небо голубое, солнышко светит, деревья листвой своей, все еще пышной, где-то рядом с окошком колышут, птички по ним снуют и чирикают – в общем, чудесное такое утро, полное обещаний.
Вот только звук какой-то пронзительный, зовущий, нельзя сказать, чтобы тревожный, но зовущий – это точно. Обычно такой звук от двери исходит, когда в нее звонят. И хотя неплохо было бы полежать еще немного, помечтать, подумать о чем-нибудь славном, но не получалось никак. Ладно, пришлось встать, набросить халат, не мог я без халата, Инесса, и идти открывать дверь. Ну и пошел и открыл.
После яркой от света комнаты за порогом было сумрачно, и мне пришлось прищуриться, но я все равно разглядел. Передо мной стояла пионерка. Деталей не различил, говорю ведь, темно было на лестничной площадке, темно и почему-то подозрительно сыро, но общую картину ухватил.
Она была высокого подросткового роста, белый праздничный передничек прикрывал укороченную – не скажу намного, но несколько выше колен – школьную черную юбочку, такие же белые гольфики поднимались по ноге опять же почти до коленок. Но главное, на шее развевался алый пионерский галстук, развевался и трепетал от прострельного подъездного сквозняка. По галстуку и догадался – пионерка. Так бы, наверное, подумал, что комсомолка, но, завидев галстук, сразу понял – пионерка. Конечно, я ошалел, спросонья-то. Ошалел, но тем не менее не растерялся, ведь сам когда-то состоял.
– Будь готов, – пусть вяло, но все же отреагировал я и потом, пытаясь мучительно догадаться, чем именно я мог заинтересовать праздничное юное создание, добавил:
– Всю макулатуру давно сдал в соответствии с декретом правительства. Вместе с золотыми слитками и прочими сокровищами пролетариата. Вы бы к соседям налево зашли. – Я заговорщицки покрутил глазными яблоками и перешел на подленький шепоток: – У них наверняка схоронено.
Но пионерку моя неразборчивая реплика не обескуражила, она как стояла настойчиво, так и продолжала стоять. Светлые прямые волосы, подстриженные под модную тогда прическу сессон (а может, и сейчас модную – я ведь про сейчас не знаю), которую я как увидел, так сразу понял – сессон, закрывали большую часть лица. Мне даже показалось, что она, пионерка, улыбается из-под прически.
И тут до меня дошло: да это же дедкина (ну, у которого я квартиру снимал) внучка. Небось она за ним пришла, чтобы вместе в школу, на первый звонок. Это вроде как связью поколений называется.
– А дедушки нету. – Голос мой стал вежливым, я и к дедушке со всей душой, и к внучке был готов. – Он… – я пытался вспомнить, куда же он уехал, и вспомнил, – к бабушке подался, ненадолго.
Прошло время, внучка молчала, сон отпустил еще какой-то кусок моей всклокоченной головы, и только благодаря этому я понял, почему девочка безмолвна. Чего-то я не то сказал все же: не мог ее дедушка к ее бабушке податься, померла ведь бабушка не так давно. То есть податься-то он к ней мог, но вот не мог ненадолго, а я именно так и сказал: «ненадолго». Я тут же понял, что надо поправиться и пояснить.
– То есть нет, – поправился я, – к новой бабушке, к внучатой мачехе твоей новой. – Она, видно, не поняла, да я и сам не понял. – Ну знаешь, бывают внучатые тети, внучатые племянницы бывают, ну а она тебе, значит, внучатой мачехой приходится.
Но это мое пояснение пионерку отнюдь не удовлетворило. Она так и стояла, и фартучек заметно оттопыривался у нее где-то на уровне, где должен был быть комсомольский значок. Но его не было. «Ничего, – предположил я, – будет еще. Не хуже ведь она других, других ведь принимают».
И эта простая мысль полностью отогнала беспорядочно рассыпавшийся сон, и я сразу стал мыслить спокойно и логично, как и полагается мыслить каждому ответственному гражданину моей бескрайней отчизны. А как стал мыслить, тут до меня дошла страшная очевидная действительность. И дошло до меня, что пропал я.
– А… – выдохнул я изо рта воздухом и звуком.
«А…» – и ладонь моя прикрыла испускающий все это рот, так что даже халат оттопырился, заголяя то, на что мнимой пионерке смотреть не полагалось. Ведь не какой-нибудь я Гумберг Гумберг.
Ты спросишь, Инесса, почему «мнимой», и правильно, кстати, сделаешь. Да потому, что я вспомнил в то самое критическое мгновение, как дедок мой, крепко наученный прошлым, да и настоящим наверняка тоже, предупреждал меня, чтоб осторожен я был, чтоб не попался на хитрую приманку следственных и проверяющих ведомств.
«Потому как, – объяснял он мне, – ведомства эти завсегда в дозоре и за снятую за деньги квартиру запросто могут наказать нас, тебя и меня. Ну конечно, если разоблачат и установят. И ты не отпирай кому ни попадя, – напутствовал меня дедок, – не отпирай, чтоб от греха подальше».
А он знал про это, про «от греха», дедок-то, он жизнь уже к тому моменту прожил и знал, не то что я, глупый, легкомысленно порхающий птах. Вот и влип я, не видать мне теперь почти готовой диссертации, отберут ее у меня, дитя мое недоношенное, и вообще, глядишь, еще вышлют вдаль, и где я себе найду там, вдали, достойного напарничка на пятиминутный шахматный блиц…
Все эти страшные видения разом просочились через мое в момент притухшее сознание, потому что я тут же разгадал в странной пионерке переодетую милиционершу из паспортного стола, застукавшую вот прямо сейчас меня с поличным. Я имею в виду в халате, даже не запахнутом до конца, в чужой квартире, в которой черт знает сколько улик они могут собрать, начиная с отпечатков до окурков со следами губной помады.
Надо было срочно поправиться, как-то объясниться, растолковать все представителю властей, и я начал, осторожненько так:
– А я его племянник, знаете ли, из Сыктывкара приехал давеча. – И так как переодетая пионеркой милиционерша продолжала отмалчиваться, я добавил для наглядности: – Да вот, приехал, значит, в столицу диссертацию дописывать. Начал давно, еще в Сыктывкаре, но там материала не хватило, вот я сюда и подался. Там, знаете, хроническая нехватка с материалом. Хотите, я вам ее почитаю? По памяти. Там интересно…
Но тут и уголовная моя версия рухнула в никуда, как до нее внучкинская, рухнула и рассыпалась. Потому что пионерка вдруг протянула ко мне левую руку, спрятанную до этого за спиной, и в лицо мне брызнул цвет и запах свежесрезанных и ранее не замеченных мной цветов. И звонко она так, по-пионерски задорно даже, отрапортовала:
– Это вам, учитель. Спасибо за все!
Удивился ли я? Да-да, удивился, но и облегчился одновременно, потому как лучше я буду каким угодно учителем, чем злостным нарушителем уголовно-правовых отношений, бытовавших в то время между жильцами, населяющими вместе со мной страну. И поэтому я взял цветы, понюхал и с благодарностью в голосе ответил:
– Спасибо, – ответил я, а потом, подумав так основательно, добавил с сожалением. – Но знаешь, детка, тут промашка, нет тут больше школы, закрыта она. На карантине школа. Видишь, эвакуированы все, я один на вахте остался. – Я указал внутрь маячащей комнаты.
Надо сказать, что я скомкал фразу, начиная с самой середины, потому как что-то мне почудилось наигранным в ее голосе – интонация, и тембр, и ясная звонкость. Все они казались фальшивыми и неестественными, и я тут же снова заподозрил, но теперь только хорошее.
– Никого? – удивилась она уже совсем другим голосом и женским таким движением ладони, которое нам, мужчинам, даже не надо пытаться повторить, отодвинула краешек прически сессон со щеки. – Можно посмотреть? – не поверила она мне, протискиваясь бочком в тесное пространство между мной и косяком двери, плотно задевая при этом и косяк, и меня.
– Да-да, – сбивчиво соглашался я, пряча все еще не верящее лицо в букет. Она вошла в комнату, дверь захлопнулась за нами, отделив от остального темного и сырого мира, она повернулась ко мне – в глазах, в руках, в улыбке была любовь.
– Действительно никого, – согласилась она, но я не услышал разочарования. – Ну, может быть тогда еще один урок, учитель? – спросила она, не опуская своих стыдливых пионерских глаз.
Дальше я прерву повествование, так как не буду я описывать, что именно было дальше, не для этого рассказа такое описания. Такие описания для других моих книг, длинных, таинственных романов, написанных совсем по другому поводу, совсем про другое и совсем о других. А в этом рассказе такое описание не к месту, так как утяжелит оно рассказ, уведет в сторону сюжет, так что, глядишь, не вернешь его обратно.
Скажу только, что по прошествии длительного времени (к сожалению, не могу назвать точно в часах и минутах, так как не засек впопыхах), когда наконец отвлекся, стал я задавать Инке справедливые вопросы:
– Как на тебя форма школьная налезла?
– Почему волосы такие короткие?
– Когда прическу успела сделать?
– Как тебя в метро народ не распознал и не застыдил?
– Что в портфеле принесла? Пенал? Дневник?
– В общем, много у меня разных вопросов накопилось. А потом задал последний, самый важный:
– Как додумалась-то до такого?
Посмотрела, Инка, ты тогда на меня, бестолкового, пожурила взглядом, вздохнула и сказала с расслабленным облегчением, как выдохнула:
– Люблю я тебя, Толька.
И все, и не задал я больше ни одного вопроса.
И вот сейчас, Инесса, пишу я эти строки о тебе и не понимаю снова: ну зачем ты в прошлом? Ведь с такой отчаянной фантазией надо только в настоящем находиться. Зачем разбазариваешь ее зря для кого ни попадя в каменном городе Нью-Йорке, зачем пускаешь ее под откос мелкими, прозрачными дозировками? Ведь так и хочется крикнуть в пространство: «Не надо, Инесса, не разменивайся!»
Но молчу я, не кричу. Так как не уверен, подойдет ли тебе все еще то старое школьное платье с белым праздничным фартучком.
Впрочем, загребем мы все печали и сомнения своими мужицкими, заскорузлыми ладонями и отбросим, никчемные, в сторону, и окажемся мы снова в прошлом, в нашей съемной меблированной квартирке. Ведь только потому прошлое и существует еще, только потому его еще не задавило навалившееся тяжеленное настоящее, что сижу я и вспоминаю его, перебираю в себе и оправляю в какой-никакой текст.
Ты, Инесса, тогда разомлела и через какое-то время снова приникла ко мне, но опять не буду я в подробности вдаваться – слово «приникла» вполне достаточно описывает мизансцену. И, видимо, так ты на тот момент в самом деле разомлела, что вырвалось у тебя, как вздох вырвалось, не удержалось.
– Ты мой Мастер! – вырвались из тебя внезапно трепетные, благодарные слова. И догадался я, что это обо мне ты так.
Другой бы на моем месте обрадовался, другому бы эти слова как мед; кому же это Мастером неохота быть, особенно для женщины, которая выдыхает из себя эти податливые, почти что мазохистские чувства. А если бы этот, другой, к тому же был знаком с отечественной классикой, то сразу распознал бы в выдохе цитату из одноименного романа про Маргариту, который на тот момент был просто-напросто культовым, особенно для читающих девушек от восемнадцати до двадцати четырех лет.
Но я, хоть и знаком был с произведением не понаслышке, все равно его как источник вот этой трепетной фразы не определил сразу. Потому как подавила меня тогда совсем другая ассоциация.
Дело в том, что наблюдалась у меня пусть и зыбкая, но отчетливая связь со строительным миром. Был у меня старый кореш, Колька Бугров, служивший так называемым начальником стройки какого-то наполовину замороженного объекта в самом центре Москвы. Объект строили очень давно, все уже и позабыли, чего именно они там строят, и вот Колька мой оказался там самым главным, и вообще звали его там Николаем и даже как-то уважительно по отчеству, которого я, впрочем, не знал. С Колькой мы закоре-шили давно, на юге, где-нибудь в Гурзуфе за ежедневным преферансом на пляже, я тогда еще студентом был, а он тоже только прилаживался к строительной своей карьере.
Но это все не важно, это я только для того, чтобы пояснить, что не было в наших отношениях никаких элементов вертикальной субординации. Хотя с другими людьми у Кольки такие отношения имелись, так как ходили под ним штук пять прорабов, а под каждым прорабом ходили по пяти мастеров, а под каждым из них – несметная куча строителей. Я их – ни прорабов, ни мастеров – никогда, честно говоря, не видел, так как заезжал я к Коляну на стройку в основном в конце недели, да и то вечером. Потому как Колян отстроил себе на объекте некую бытовочку, в которой не стыдно было принимать иностранные посольские делегации и даже почетный караул можно было выстраивать, если бы не частая распутица, да и вообще общий бардак снаружи.
Так что почетного караула никто не выстраивал, наоборот, подтягивались мы все к той бытовочке, стараясь незаметно, стараясь не привлекать, где-нибудь в пятницу, субботу, часам к девяти, десяти вечера. Ты не знала об этом, Инесса, потому как скрывал я от тебя про бытовочку, ведь появилась она еще задолго до тебя, и закончилась значительно после.
Так как хорошо известно – всегда существовал в Москве так называемый квартирный вопрос, особенно для холостых мужчин, хотя для женатых существовал тоже, и важна была для нашей жизни уютно обставленная бытовочка в самом центре Москвы. Настолько уютная, что часто возникало у меня обоснованное подозрение, что именно из-за нее и не ладится строительство основного объекта. На что строить-то его, когда все на бытовочку ушло? Впрочем, я не роптал, да и, насколько мне известно, никто не роптал.
Сейчас-то строительный объект уже давно выстроен и украшает архитектурный ландшафт города, а вот бытовочки там уже нет. Думаю, сволок ее Колька к себе на дачу, где наконец-то, возможно, и принимает посольские иностранные делегации, и не исключено, что и почетный караул там выстраивается под медные звуки, например «Прощания славянки».
В общем, Инесса, к чему я это все? К тому, что хоть строительного дела я никогда подробно не изучал, но с иерархической строительной структурой мастер – прораб – начальник (где мастер, повторю, есть самое низшее звено) я был непосредственно знаком. И именно поэтому, когда ты прошептала едва-едва заветные слова, напомню: «Ты – мой Мастер!» – сложились у меня совсем отличные от литературной классики ассоциации. Ну, не различил я большой буквы «М» в слове «Мастер».
Ну, а как не различил, так обидно мне стало. И вот так, не переставая трудиться, подумал в сердцах: «Вот тебе на, – подумал я, – трудишься тут, трудишься, а все в мастерах ходишь. Колька вон, тот уже давно начальник с бытовкой, а я почему-то все в мастерах». И понял я, что не смогу смолчать, в другом месте и при других обстоятельствах смолчал бы, но вот сейчас, при данных обстоятельствах, – не смогу. И вырвалось у меня возражением:
– Не мастер я, – выдохнул я обратно в тебя.
И так как ты, Инесса, тогда от этих слов вся замерла, не понимая моего непредвиденного отрицания собственного же Мастерства, то я и продолжил, но уже глуше и с напором:
– Не мастер я. Я Прораб! – Вот так именно и отчеканил, выделяя каждый слог: «ПРО-РАБ»! А потом еще раз повторил для пущей убедительности, особенно ударяя на каждой звонкой согласной. А там их, кстати, четыре.
А потом случилось так, что то, к чему другие люди так долго стремятся, и если уж добились и вошли туда, то стараются сберечь и не посрамить, у нас тогда все это рассыпалось прямо на глазах. Потому что ты, Инка, стала хохотать и уже не могла больше сосредоточиться, да и я тоже не мог, сначала от все еще гложущей обиды, а потом тоже от смеха. Так мы и раскатились по дивану, по разным его застеленным концам, и долго еще не могли остановиться, да и почему надо останавливаться – праздник ведь, первое сентября. Ну а потом уже не до того было.
Потому что потом время, выделенное на утехи, закончилось, и наступало время, выделенное на ежедневный интеллектуальный труд. Не знаю, конечно, точно, но не исключено, что ты, Инесса, поначалу заподозрила во мне человека легкомысленного и, может быть, к тому же безалаберного, возможно, именно эти легковесные качества даже и привлекли тебя ко мне поначалу. Ведь что-то же привлекло, если верить твоим тогдашним заверениям, которым я верил и верю до сих пор, так как… а чего это мне им не верить? – никто ведь тебя за язык не тянул.
Да, возможно, ты и думала так, наблюдая за мной со стороны, – встает поздно, завтракает медленно, газетку утреннюю просматривает не спеша, а из душа-то, из душа-то вообще не дождешься – в общем, не торопит начало активного трудового будня.
Но если ты так и думала, то только сгоряча, потому как разубедил я тебя вскоре, делом разубедил, и зауважала ты меня сильнее прежнего. А все потому, что парень я был упорный и целей поставленных на полдороги не бросал. И было у меня так по расписанию – два часа интеллектуального труда каждый день, без отгулов, выходных и бюллетеней, невзирая на природные катаклизмы, революционные праздники и прочее похмелье. Так что не зря ты меня зауважала в результате.
Короче, сел я на кухоньке за беленьким маленьким столиком, разложив на нем частично исписанные, а частично незаполненные листки и тетрадки, оставив тебя, Инесса, в комнате, предоставив тебя журналам всяким иллюстрированным, ну и собственным твоим приятным мыслям, конечно.
Вот ты думаешь, Инесса, что диссертацию писать трудно, а это неправильно – диссертацию писать легко, когда знаешь, про что. Но я не знал, и потому трудно мне было. А кому бы не было, когда девушка твоя, вожделенная, ожидает в соседней комнате, доступная вся, раскрытая, и ты знаешь, что только дверь отворить и…
Но нельзя было об этом думать, отвлекала такая дума. И потому сжимал я свои виски и зажимал уши, чтобы высвободить башку от неотвязной мысли: что вон там, в комнатке, девушка твоя, вожделенная, ожидает, доступная вся… «Но нет, – повторял я себе, – нельзя ведь об этом, надо о другом».
И что ты думаешь, Инесса, не зря мы в школе про Павку Корчагина проходили. Потому как пересилил я себя, преодолел, и взорвалась во мне научная мысль, а как взорвалась, так и потекла мутным, бурлящим потоком. И стал я быстро записывать ее, мысль, чтобы не упустить, чтобы закрепить ее на бумаге.
Сколько так продолжалось – не помню; творческий процесс, он ведь схож с любовным, а в последнем засекают время лишь педанты да догматики. Но они не нам чета. Ведь мы с тобой, Инка, педантами какими-нибудь никогда не были, ведь никаких рекордов мы тогда зафиксировать не пытались, и потому бессмысленно нам оно было, точное, официальное время.
В общем, разгорячился я, наброски даже стал делать в тетрадке, даже и не заметил, когда ты ко мне на кухню зашла. В конце концов, сколько можно одной в комнате с журналами и с мыслями собственными? Скучно одной в комнате.
– Ну, – спросила ты устало и тоже села за столик, рядом. – Долго тебе еще?
Другой бы распознал в твоих словах скуку и даже налет обиды за проведенные в одиночестве минуты. Но не я. Так как я был увлечен: глаза мои горели, щеки пылали, я ведь говорю, творческий процесс – он не хуже многих других приятных процессов. Впрочем, те, кто им занимаются, и так знают, а тем, кто не занимался никогда, – поди докажи таким. Не докажешь.
– Я тут такое придумал, Инка, – не ответил я на твой вопрос. – Хочешь, расскажу?
Я видел, как расширились твои глаза, как подалась ты вся вперед, потому как неверно думать, что женщина любит только за физическую близость. За духовную близость женщина любит тоже. И это очень полезно, профилактически полезно делить с ней свое сокровенное духовное, ну, пока оно не надоест ей, конечно. Но тебе, Инка, тогда мое духовное еще не надоело, и потому потянулась ты ко мне через весь кухонный столик.
– А я пойму? – спросила ты меня с едва сдерживаемым волнением.
– Поймешь, поймешь, – поддержал я тебя, хотя в душе, если честно, до конца уверен не был.
Все-таки для изощренной творческой мысли завсегда подготовка требуется. Сложно может оказаться не натренированной на то девушке неожиданную мысль воспринимать, особенно не свою. Но я рискнул и потому выдержал длительную паузу, опустив глаза к исчерканной тетрадке, настраиваясь как бы. А потом начал так:
– Вот мы все ходим по надобностям, – начал я как бы издалека, – по маленьким, но и по большим тоже ходим. И надобности эти случаются с нами в местах совершенно неожиданных, где угодно могут случиться, на работе, в гостях, в кафе-столовой, даже в транспорте дальнего следования могут, не приведи Господь, конечно.
Я поднял глаза на тебя, Инка, чтобы убедиться, не очень ли круто я начал, вот так сразу, без вводной, успеваешь ли ты за мной, схватываешь ли. Ты успевала. Ты вообще смышленая была, я это по глазам понял – ты смотрела на меня, и в них блестел восторг. Повторяю для всех: делитесь с любимыми сокровенным, даже если полагаете, что это слишком для них обременительно.
– Ну вот, – продолжал я, – и потому всем нам приходится использовать общественные приспособления, верхнюю конструктивную часть которых я в своих здесь рассуждениях буду называть условным термином «седалище».
– Почему условным? – задала ты свой первый вопрос.
– И он был очень грамотным, этот вопрос, видимо, не зря ты технический вуз посещала и даже закончила его почти. Потому как вопрос научных терминов – он всегда очень тонкий. Я подумал, как на него ответить покороче, и решил, что самое короткое – на него вообще не отвечать.
– Общественные седалища, – не отвлекался я, – вещь необходимая, но несовершенная, и главная их несовершенность состоит в их несовершенных гигиенических качествах. Иными словами, упрощенно, – нечистые они в основном. В смысле, что грязные. Почти везде – в кафе-столовой, на работе, про транспорт дальнего следования даже вспоминать не хочется. И это очень неудобно для нас, трудового населения, припертого к чужой стенке неожиданной надобностью. И очень досаждает. Особенно в наши теперешние времена, когда всякие новые заболевания и инфекции, неизвестно как передаваемые, бытуют как раз именно в плохо вымытых общественных местах.
Я снова прервал свой монолог и снова посмотрел на тебя, Инка. Вот есть, например, любители музыки, которые просто-напросто впадают в транс от нее, от музыки, глаза прикрывают, образы всякие в мыслях своих представляют, – я сам знавал таких. Вот и ты тогда, Инесса, тоже зачарованной оказалась от полета моей научной мысли, и не знаю, какие образы ты тогда в голове своей представляла, но, наверное, не музыкальные. Хотя как знать – может, и музыкальные.
– Особенно вам, женщинам, это особенно неудобно, потому как устроены вы несколько по-другому, и седалища для вас еще важнее.
Я задумался, пояснять ли тебе про женское устройство, и решил не пояснять. А вместо ненужных слов просто махнул рукой, мол, ну ты сама знаешь.
– И вот сегодня я пришел к радикальной, революционной, можно сказать, троцкистской идее…
И здесь, в это критическое мгновение, вперил я в тебя, Инесса, свой возбужденный взгляд, и ответила ты мне на него горячо.
– Идея – в создании портативного, переносного, индивидуального седалища.
– Ух… – вырвалось у тебя непроизвольно, и понял я, что донес я до тебя свою ветвистую мысль, ничего не расплескав по дороге.
– Да-да, – развивал я успех, – представляешь, носите вы в своей сумочке вместе с помадой и косметичкой маленькое такое устройство. И если вдруг надобность поприжала, то тут же раскладываешь его как-то, устанавливаешь взамен общественного замызганного седалища, и исполняй давай с полным комфортом и без зазрения совести. Настолько без зазрения, что даже удовольствие можно законное получать.
Я оторвался от твоих глаз и вновь вернулся к своим записям.
– Я вот тут набросал несколько схем, ну, как устройство может складываться, раскладываться, и думаю…
– Оно ведь надувное может быть, – вдруг произнесла ты, умница, потому что и тебя моя практическая изобретательная мысль подхватила и понесла, понесла по разбитной дороге стремительного научного прогресса.
– Умница, – повторил я вслух благодарно. – Правильно, не зря я так к тебе, – я не уточнил, как именно. – Я уже думал над надувной конструкцией. Там только одна проблема может быть. С пипочкой.
– С какой пипочкой? – спросила ты, и я еще раз убедился, что вот она, разница между незрелым любительским порывом и тщательным, выверенным решением.
– Ну, с пипочкой… – пришлось пояснить мне, – с пипочкой для надувания. Мешать она может, особенно вам, женщинам, если расположить ее не совсем там. Хотя в целом наверняка решаемая проблема.
Потом мы сидели за столом, откинувшись на хлипкие стулья, сидели долго, молчали. Ты смотрела на меня, я смотрел в окно, на близкий Измайловский парк, на его шумящие от общего возбуждения деревья.
«Мы же изменим всю мировую культуру удовлетворения естественных человеческих потребностей, – мечтал я о будущем, – Каждый человек будет иметь мое незаменимое устройство, оно станет обычным и доступным даже для детей бедняков. Как зубная щетка. Именно, – понравилось мне гигиеническое сравнение, – как зубная щетка».
– Представляешь? – сказал я тебе, зная, что ты тоже думаешь о том же.
– Да, – вздохнула ты, – грандиозно!
И от этого родства мыслей, а значит, и душ у меня возникла еще одна сильная мысль.
– Пойдем полежим, отдохнем, – выразил ее я.
– Ага, – согласилась ты, хотя я не был уверен, что вот именно в эту минуту ты была здесь, со мной, в нашей уютной квартирке. Телом-то была, но вот мыслями… Впрочем, как мне было знать про твои мысли, Инесса?
Потом, после того, как мы полежали, отдохнули и ты снова смотрела на меня взглядом, от которого мне иногда становилось неудобно, как будто я что-то не залатал, не за штопал, не довел до конца, – вот таким взглядом ты смотрела на меня, полным любви и обожания. А затем спросила:
– Это и есть твоя диссертация?
Я не сразу понял, о чем ты, я отвлекся за последние минуты (я опять не засек времени), другие цели и задачи наполняли меня, и не понял я сразу, что это ты опять про седалище.
Ведь знаешь ли ты, Инесса, что если перед кошкой и котом, занимающимися, ну вот как мы тогда, любовью, пропустить рядом бегущую мышку, то котик на мышку не отвлечется. И не прервет он любви. А вот кошечка прервет, и еще как, и погонится за мышкой. И если не поймает – раздосадуется. Чувствуешь аналогию? Вот так вот, Инесса! Специально такие научные опыты проводились, тоже в специально оборудованных научных лабораториях. Потому как в науке люди еще не тем занимаются.
Вот и я тогда не врубился сразу, потому как сильно был отвлечен. И потому ты повторила:
– Ты о седалищах диссер свой пишешь?
Я аж рассмеялся от такой твоей трогательной наивности.
– Нет, мой диссер про компьютеры, и про математику тоже немного.
– А почему же ты тогда об этом? – снова задала ты вопрос, и я задумался.
– Да потому что, – нашел я простой ответ, – седалища – они же про жизнь, про пользу людям, всем нам, человечеству! Потому что они насквозь пропитаны гуманизмом. Да и сама посуди, сколько жизни во всей проблеме! Яркой, пронизанной творчеством жизни! Чего там компьютеры какие-то железные…
– Да, – согласилась ты. – Ну и как ты будешь свое изобретение в жизнь претворять?
– И опять я задумался, теперь надолго, так как поставила ты глобально справедливый вопрос. Так как совершенно было непонятно, как все это, действительно, претворять в повседневную жизнь.
Потому что, если на холодную голову, без всякой там горячности и ненужных эмоций, ведь глупо было такую плодотворную техническую идею отдавать на откуп бытовавшей в те времена коммунистической партии. То есть в седалищах она как раз понимала, наверное, неплохо, но все равно не был я уверен, что сможет она что-то дельное из моей идеи создать, – ведь сколько ей других хороших идей другие люди подавали – и что в результате? Да и где эти люди?
То есть, думал я, может, она, коммунистическая наша партия, и наладит выпуск моих индивидуальных седалищ, но ведь опять наверняка начнет их распределять через свои закрытые распределители. А значит, не дойдет до широкой массы, до африканских деток, до нуждающихся матерей Юго-Восточной Азии моя дерзновенная научная мысль. К тому же система авторства была тогда не очень успешно разработана в стране, а система вознаграждения за авторство – еще хуже.
И не ответил я тогда ничего тебе, Инесса. Потому как решил я тут же затаить свою идею до лучших времен, в которые, надо сказать, я всегда верил и которые, надо сказать, наступили в результате. И затаил я.
– Надо будет подумать, – ответил я тогда тебе, а потом взял да и отвлек.
Так что не возвращались мы больше к седалищам, тогда, во всяком случае, в разговорах наших не возвращались.
И вот сейчас, по прошествии многих лет, хочу доложить тебе, Инесса, что не зря я за таился тогда, и таил эту свою седалищную идею, и не забыл ее, и лелеял. И теперь, не опасаясь ничего, могу тебе честно рассказать, чем закончилась она, потому как было у нее продолжение. Ой, было.
Прошли годы, и случился в моей жизни, Инесса, этап, когда оказался я в другой, не понаслышке знакомой тебе заокеанской стране, в которой патентное право поднято на непривычную нам, изумляющую высоту. Оказался я там, огляделся, попривыкнул чуток, ну и вытащил из-за пазухи, так сказать, свою припасенную седалищную мысль. Вытащил и однажды рабочим днем грохнул ее на стол перед специально натренированным патентным специалистом, к которому пришел за помощью. Так как сам разбирался пока еще плохо – куда, как да что.
Я волновался тогда, я-то был уверен, что специалист тут же выразит искренний энтузиазм по поводу предлагаемой мной новизны, загорится вслед за мной, возрадуется. Но он не выразил, не загорелся, не возрадовался даже. Да и не мог он! Он был вял, сух, скучен и неприметен, да к тому же, вероятно, и не таких еще удивительных изобретателей приходилось ему встречать в своем патентном кабинете.
– Сначала, – сказал он мне равнодушно, – надо произвести патентный поиск. Это означает, что надо просмотреть все мировые патенты на эту тему, начиная, скажем, с 1832 года.
Я смотрел на него и думал: «Ну как, как он может быть таким безразличным, таким безучастно-безразличным? Ведь и у него, у этого скучного, серого человечка, у него тоже должны иногда возникать природные надобности, которые ему порой бывает неуютно справлять. Но вместе с ними у него наверняка ведь имеется еще и душа, и чувства, и сердце, и как они могут не волноваться, не вибрировать, когда на его глазах стучится и просится в мир мое переносное седалище. С тем, чтобы улучшить его – мир!»
– Лучше даже, – продолжал бездушный патентолог, – сделать поиск не только на седалища, но вообще на стульчаки в целом, и тоже с 1832 года. Да-да, так будет правильно, – согласился он с собой. – Такое патентное историческое исследование будет стоить вам… – И он назвал сумму.
Такие суммы у меня водились, хотя и в очень считанном количестве, и я задумался. Жалко было денег, конечно, они вообще-то мне и на другое могли пригодиться, но потом я трезво рассудил:
«С 1832 года, – рассуждал я. – Это ведь примерно когда Пестель и Муравьев с Апостолом вышли на Сенатскую площадь.
Тогда ведь, хотя несколько южнее, живали еще Мюрат и маршал Ней. А будущий законодатель Джефферсон из Западной Вирджинии уже задумывался о том, что все люди на земле, возможно, рождены равными. Потому что тоже, как и я, гуманистом был. И теперь, – думал я, – я просто обязан узнать, какими стульчаками и седалищами пользовались эти замечательные люди. Ведь как иначе осмыслить всю величину своего открытия, если не в исторической-то перспективе?»
И я полез в карман. За деньгами полез, Инесса.
Приблизительно через две недели мне по почте пришел пакет. Толстый, надо сказать, очень толстый. Вот если бы «Анна Каренина» и уже косвенно упоминавшаяся выше «Лолита» были напечатаны в одной, совместной книге, то толщина этой книги совпадала бы с толщиной пришедшего ко мне пакета. То есть, повторяю, объемный был пакет.
Помнишь, Инесса, я уже говорил о себе, что на полпути не бросаю. Вот и тут пошел в магазин, накупил себе продуктов и соков разных на три дня, а потом отключил телефон, запер на ключ дверь и все эти предназначенные три дня не отзывался и не откликался на требовательные звонки тех, о ком тебе, Инесса, знать ни к чему. Потому как в любом случае другие времена. Про нравы не знаю (помнишь, как у поэта про «о времена и нравы»?), а вот времена – другие.
И вот сидел я эти три дня и три ночи, делая короткие перекуры разве что на беспокойный сон, и ерошил себе спутанные волосы нетерпеливыми, порывистыми движениями. Потому что раскрывалась передо мной во всей своей полноте неудержимая потребность человеческого духа расширять границы возможного. Пусть натужная потребность, пусть мучительная порой, напряженная, болезненная даже, но все равно неистребимая. Понимаешь, Инесса, предстала передо мной вся история стульчаков и седалищ, начиная, замечу, с самого 1832 года. Эволюционная, кстати, история.
И чего, скажу я тебе, там только не было, каких только форм и приспособлений! Таких, скажем мягко, причудливых, что почти непреодолимое у меня желание вот сейчас в этом тексте их штрихами карандашными привести. Чтобы и ты убедилась, каким замысловатым это все, при желании, может оказаться. В конце концов, помнишь, небезызвестный тебе Сент-Экзюпери тоже разнообразил рисунками страницы своей не менее небезызвестной книжки.
Но вот облокачиваюсь я на податливую спинку стула в раздумье и решаю не делать штриховых набросков в этом рассказе, не нужны ему, рассказу, штриховые наброски, и так все вроде плавно и гладко. Да и рисую я нехорошо.
И вот отсидел я взаперти, Инесса, трое отведенных суток, и прочитал все приложенные изобретения, и вчистую проникся дерзновенностью Человеческой Мысли – ведь сколько мужчин и женщин (хотя в основном, конечно, мужчин) всех времен и народов бились над проблемой. Даже вот упоминавшийся выше гуманист Джефферсон из Западной Вирджинии свою оригинальную версию выдвинул.
А уж когда закончил я свое исследование, оторвал глаза от последней страницы, посмотрел, как всегда, в окно, как всегда, на живой мир вокруг, и понял вдруг я, что, может быть…
…Может быть, в этот самый день, в эту самую минуту нету больше в целом мире человека, который разбирается лучше меня в эволюционном вопросе деликатного испражнительного утоления!
И возгордился я, хоть и нехорошо это. И понял, что не зря потратил я свои кровные сбережения, потому что хоть раз в жизни мужчине нужно почувствовать себя непревзойденным.
И хоть иная женщина и старается, как ты искренне когда-то старалась, Инесса, но все равно сложно это – абсолютно непревзойденным себя ощутить. Ведь все же маячит предательская мыслишка, что кто-то вот когда-нибудь тебя превзойдет и ничего ты ни сейчас, ни потом сделать с этим не сможешь, так как нечестное это состязание, по природе своей нечестное.
Так как не одновременное оно, как правило, а растаскано по времени, а какая же объективность в сравнении удаленных во времени событий? Вот если бы одновременно, да в одном и том же месте, как на спринтерской дорожке, например, тогда бы… А раз так не получается, то и спорить ни к чему; ведь когда нету объективности, остается только лишь одна, от нее же, от женщины, и зависящая, лживая субъективность. Вот и получается, прям как по Дарвину, что каждый следующий – лучше предыдущего. (См., Инесса, стр. 7.)
А тут, в своем замкнутом убежище, обложенный несчетными листками с начертанными на них мудреными чертежами, тут я был на вершине. И долго не хотел я спускаться.
Но потом все же пришлось, потому что индивидуальных, переносных седалищ там было не счесть. Первый фигурировал еще в начале прошлого века, году так в 1907, и конструкций они все были разных, и замечу, Инесса, что и надувные конструкции там попадались тоже, и даже с пипочкой вопрос был в целом решен.
Но хватит о несбывшемся. Давай лучше, Инесса, снова вернемся в тот солнечный день, в котором нам так было хорошо с тобой, так как не знали мы еще, что в этот самый день, ближе к ночи, меня будут убивать.
Нам стало голодно, и хотя в квартирке никакой особенно пищи не ожидалось, мы все равно поели. Помнишь, «по сусекам помели, по лавкам поскребли», вот и мы поскребли да помели: чаек да варенье, четверть батона белого с маслом, да творожок полпачечки, да кусок закостенелого сыра. Но мы, ничего, раскусили, прожевали, не идти же в магазины, не становиться же в конец очереди, день ведь какой за окном – первое сентября!
А день на самом деле нашептывал, и Измайловский парк шевелил распущенной листвой, зазывая. И я наконец-то посмотрел на часы и, наконец-то определив текущее время, сразу удивился – день неожиданно катился к вечеру, и пора, пора было к нему, в его еще теплые, еще совсем летние объятия.
Стали одеваться. Ты, Инесса, оказалась запасливой, оказалось, что в портфельчике твоем школьном совсем не пеналы с дневниками, а узенькие, обхватывающие джинсики да такая же маечка. Потому что не могла ты выйти вместе со мной в школьной, пионерской форме, одна еще могла, а вот со мной – нет. Осудили бы прохожие тебя, если бы ты вместе со мной, да и меня самого бы осудили. А тут все чин чинарем – молодая симпатичная девушка вместе с тоже молодым, и тоже ничего, человеком, который, может, и постарше немного, но не настолько, чтобы пересуды ненужные вызывать.
Итак, захлопнули мы за собой входную дверь, сбежали легко по лестнице, и вот он тут же парк наш Измайловский, дурманит свежестью, слепит бликами, раскидывает свои тропинки – принимает нас, значит, в себя. Выбрали мы одну из них и побрели по ней, так как знали, что приведет она нас в результате, минут так через тридцать, к станции метро, которая так и называлась – «Измайловский парк», где нам и предстояло расстаться. Я, во всяком случае, очень на это рассчитывал.
Но впереди еще было тридцать минут восхитительной тропинки меж коренастых дубов и кленов и меж совсем не коренастых осинок с березками. И все это играло солнышком на своих листочках и попахивало воздушными запахами, и обнял я тебя, Инка, за плечи, и прижал, так как чувствовал я себя сейчас Гете, гуляющим в своем Веймарском парке с любимой своей, гетевской, женщиной, – забыл, как ее звали. Так мы и шли обнявшись, молча, распространяя впереди себя поле любви, и позади себя распространяя тоже, и даже по бокам.
И кто бы ни шел навстречу по тропинке, все оборачивались, но не потому, что мы вызывали нарекание слишком тесно прижатыми плечами, а потому, что мы вызывали умиление. Мол, «вот ведь счастливые, любят друг дружку, ах, как любят, ах, как просто светятся они любовью своей, да и мне пора уже домой, к моей-то, не ценю я ее как следует, даже ругаю порой, даже бывает, что и не сдержусь, а зря я ее обижаю, конечно зря, потому что ведь тоже люблю, да и она меня, да и как иначе, ведь как подумаешь, все эти двадцать семь лет, что мы вместе, все это одна любовь сплошная и есть».
Да, именно так и думал редкий прохожий, оборачиваясь нам вслед, потому что попадал он в наше, совсем не нарочно расставленное вокруг поле любви и, попав в него, проникался ею, любовью. А значит, улучшали мы, Инесса, тогда с тобой мир, даже не желая того специально.
Так мы шли и молчали, потому как не нужны, видимо, любви слова – и так все понятно. А может быть, и нужны. Мне-то как раз всегда казалось, что нужны, что словами как раз она, любовь, и взращивается. Поэтому не могли мы долго молчать, и тогда, я помню, ты вздохнула.
– Ах, как хорошо… – вздохнула ты прямо-таки словами тургеневских героинь. – Как восхитительно чудесно, как изумительно хорошо. Просто прелесть какая, этот лес. Ах, если бы вот так взяться за коленки, поднатужиться и полететь через всю жизнь! Вот так с тобой над этой тропинкой, и чтобы всегда с тобой!
«Нет, – подумал я, – это скорее слова толстовских героинь, а может быть, чеховских. Нет, точно чеховских, там тоже что-то про лес было, хотя и вишневый вроде бы».
– Да, вот так вместе. Всю жизнь! – повторила ты, и что-то меня этот повтор сразу насторожил. Не понял я, почему надо было повторять про «вместе» и про «всю жизнь» – уж не таится ли намек в этом словосочетании? И раскусил я намек, и тут же насторожил он меня.
Ведь любящая женщина, она что? Она ведь не только ответной любви алчет, ответной любви ей вскоре недостаточно становится, она ведь еще и замуж алчет, ну, если конечно, сама в данный момент не замужем ни за кем.
Ведь если сама замужем, тогда она сначала подумает несколько раз, нужна ли ей эта смена мужей, потому как неизвестно еще, кто как муж лучше, может, совсем и не ты. Может, ты как добытчик не особенно выделяешься. Бывают же и такие случаи, что в целом да в общем – ничего, хорошо даже порой, а вот как добытчик – не выделяешься.
Но ты, Инесса, была тогда не замужем, не то что, видимо, сейчас, и третий раз повторю, насторожился я тогда. И понял, что надо бы мне отвечать, но не просто так, наобум, а наоборот, продуманно и деликатно.
– Да, вместе, – поначалу согласился я, но потом сразу же и ошеломил: – Вот ты, Инка, думаешь, зачем женщина мужчине нужна? Ведь если у широкого общественного мнения поинтересоваться, то ответит оно, что нужна женщина мужчине, чтобы обеды готовить, и еще порядок в квартире наводить, да еще стирать, ну, и снова готовить. Самое романтическое общественное мнение, может быть, заикнется еще о домашнем уюте и очаге, но это уж совсем романтическое. Но не слушай ты его, потому что обманет тебя такое общественное мнение. Потому как на самом деле настоящему мужчине женщина нужна только для одного… – и я выдержал театральную паузу, как полагается.
– Для чего? – спросила все же ты, не в силах перенести ее, эту давящую паузу.
– Настоящему мужчине женщина нужна только для… – снова пауза, но уже короче, – …только для вдохновения! Вот для чего!
– Не зря я выдерживал паузы, ты остановила свой шаг и обвила меня за шею. Твои руки были созданы для этого, для обвивания.
– Да, – прошептала ты, – и я вдохновляю тебя?
– Конечно. – Я заглянул тебе в глаза, сейчас это были не глаза, а океанские впадины, в них так легко было утопиться. – Ну вспомни хотя бы сегодня – не было бы тебя, так я бы никогда про седалище не придумал. Для этого же вдохновение должно было снизойти, понимаешь, состояние души такое, которое только женщина и создать может, чтобы про седалища придумать. А так… стирать, гладить, да и готовить тоже – для этого кого-нибудь невдохновляющего за совсем небольшие деньги можно нанять. А вот вдохновение за деньги не купишь.
– Так я тебя вдохновляю? – снова прошептала ты. Я кивнул, и ты успокоилась, – и расслабилась, и отпустила мою шею, так что мы могли двигаться дальше по тропинке.
– Вопрос в том, – продолжал я, почувствовав свободу, – как долго одна и та же женщина может вдохновлять?
Не знаю, Инесса, ожидала ли ты такого поворота моей преднамеренной мысли? Если не ожидала, то прости!
– В плане, – развивал я, – может ли одна и та же женщина вдохновлять одного и того же мужчину всю жизнь?
Я снова выдержал паузу, но на сей раз она уже не была театральной, шумной, ожидающей, восторженной. Нет, на сей раз она была гробовой. Но я не поник, я знал, что говорю, как думаю, а значит – имею право.
– Я тут провел опрос среди своих друзей, анонимный, конечно. Ну, многие мои друзья, да и товарищи тоже, поженились все давно, кто развелся уже, кто никак решиться не может. Но поскольку большинство из них люди, как сама понимаешь, творческие, то и женились они в основном для вдохновения. Вот я и задал им всем вопрос: «Как долго вдохновение продолжалось?» Анонимно, конечно, задал.
– Как это анонимно? – почему-то вдруг спросила ты.
Я задумался: «действительно, как это?» – и понял, что не знаю. Но как в таком признаешься, стыдно ведь, что говоришь, чего сам не понимаешь. И я не признался.
– Они мне все, конечно, разное отвечали, – продолжил я, не отвлекаясь, – но я усреднил, математический аппарат, сама видела, во мне развит покамесь. И знаешь, к какой конкретной цифре привела меня статистика?
Я ждал ответа, но ты молчала, обреченно молчала, и я ответа не дождался.
– Два с половиной года. Да-да, в среднем женщина вдохновляет два с половиной года. Потом она перестает вдохновлять. Впрочем, плохого тоже ничего особенного пока не делает, просто перестает вдохновлять, и все. Этот период тоже где-то года два с половиной продолжается. А вот потом плохо становится. Совсем плохо. Начинает тянуть она вниз непомерным грузом, и как правило, ей всегда удается – утягивает. Но от этого, понятно ведь, всем плохо, и ей самой прежде всего. Мучается, переживает, да и…
– Ну и что же это означает в нашем случае? – перебила ты меня. – Ведь это означает, что у нас еще есть как минимум два с половиной года?
Вот он, женский ум, никогда мужскому его не перебороть, потому как мужской – он про примитивную логику, да и все, а женский – про многотысячелетнюю мудрость жизни. И всегда он за что-нибудь зацепится, и никогда не угадаешь заранее, за что именно, и потому всегда нам приходится в результате соглашаться, то есть признавать очередное неудачное поражение. Я же говорю, плохо у нас, у мужиков, ум к такой изнуряющей борьбе приспособлен. То есть приспособлен, но плохо. Вот и мне тогда пришлось соглашаться.
– Ага, – согласился я, но пока соглашался, все же поймал остаток мысли и тут же надстроил над ней: – Тут в чем дело? Тут глобально – людям надо изменить сам институт семейственности. Ведь что самое тяжелое в коммунной, семейной жизни? А? Ты знаешь?
Но ты не знала, ты молчала, да и откуда тебе было? Да и откуда мне было? Но я предположил:
– Развод. Очень тяжело, много случаев знаю, когда разводящиеся очень сильно переживают от предстоящей потери. Да и трагические случаи известны, как в жизни, так и в литературе. Анна Каренина – вот, кстати пример хороший.
– Они не были женаты, – мимоходом, скорее даже нехотя поправила меня ты, и я удивился: «Откуда она все это знает, читала, что ли?»
– Ну, это не важно, – отсек я у основания. – Важно, что расставание – процесс мучительный, да оно и понятно. А знаешь, почему?
Но и этого ты не знала, да и откуда тебе было? Да и откуда мне было? Но я как раз знал.
– Потому что когда люди женятся, они ведь на всю жизнь планируют, настраиваются психологически, понимаешь. А это ведь самое паскудное в жизни – настрой свой и убежденность на корню поломать. Вот и страдает народ. А потому все эти дозамужние договоренности, которые приводят к обманным ожиданиям и надеждам, надо пересмотреть. Знаешь как?
Видимо, я очень все же хотел завязать диалог, но он почему-то не завязывался. Возможно, ты просто не хотела диалога. Пришлось опять продолжить самому:
– Когда намылившиеся влюбленные решают окончательно спарить свои совместные жизни, они должны заранее договориться, что связывают их только на два с половиной года. Жестко. Только на два с половиной. С тем чтобы, хочешь – не хочешь, через два с половиной белье свое личное, нательное по разным собственным чемоданам разложить и по домам своим отдельным разойтись. А у кого домов нету – тем к родителям.
– Как так, хочешь – не хочешь? А если они все еще любят друг друга? – наконец отреагировала ты.
Видимо, все же затягивала тебя моя модель новых семейных отношений, затягивала она тебя в диалог, как в водоворот затягивала. И это было хорошо, так как шансы мои, что расстанемся мы скоро у станции метро «Измайловский парк», теперь повышались. Не навсегда расстанемся, но хотя бы на сегодня.
Ты пойми, Инесса, и не держи зла, не то что наскучила ты мне – не наскучила, и не то что пресытился я тобой – не пресытился, но были у меня другие дела на вечер, дела и планы. Например, пьянка-вечеринка со многими заждавшимися моими корешами, где тебе совершенно не нужно было присутствовать. Так как люди там для тебя собирались совершенно никчемные, да и темы поднимались неактуальные.
– А это неважно, – продолжал я раскручивать свою упругую модель, – ведь уговор был на два с половиной года – вот и выполняй уговор. Он ведь дороже этих… ну, которые у нас от получки до зарплаты. Да и не страдаешь ты совсем от разрыва, потому как психологически к нему готов, ведь с самого начала подготавливался. Короче, потом снова находишь кого-то, кто тебя вдохновляет, и снова ходишь вдохновленный два с половиной года, и так далее. Ну а если все же после нескольких таких периодов вдохновения все еще тянет тебя к кому-то из прошлого, так и быть, можешь вернуться, но только опять на два с половиной года.
Ты только представь, Инка, насколько было бы больше великолепных памятников зодчества и прочих художественных ценностей, если бы мы все веками вдохновленными ходили! Мы бы постоянно что-нибудь создавали от вдохновения. Представь себе только какого-нибудь Буонарроти, сколько бы он всего всякого наваял дополнительно! Или вот хотя бы возьми Алигьери, он ведь тоже небось не дал бы промаха.
– У него была Беатриче. Она его вдохновляла, – промолвила ты тихо, и я удивился, не предполагал я, что владеешь ты так свободно биографией почти забытого теперь Алигьери. А ты, оказывается, владела.
– Ну да, – согласился я, – конечно, Беатриче. А вот представь, создал бы все это Алигьери без Беатриче, если бы не стимулировала она его регулярно? Я вот полагаю, что не создал бы.
И сместилась у нас тогда, Инесса, беседа с временности и бренности любовных отношений, сместилась она у нас на Беатриче, а потом и на других женщин, а потом и на мужчин, оставивших о себе память в литературе, например, или еще какое наследие. Вот, например, Наполеон и Жозефина, тоже очень романтическая история, не говоря уже про Пушкина и Анну Керн. Впрочем, про Пушкина натяжка, конечно, выходит, потому как кто его только не вдохновлял, даже цыганка Аза. Что опять же в целом подтверждало мою общую теорию о необходимости двух-с-половиной-годичных ограничений.
Так мы и шли, рассуждая на разные сложные для неэрудированного уха темы, и я все удивлялся да удивлялся: откуда ты, Инесса, все это знала, ведь не обучали всему такому в технических московских вузах. Поначалу удивлялся, а потом перестал. Ну знаешь – ну и хорошо.
Так за разговором мы даже не заметили, как лес расступился и образовал поляну, большую, живописную, в окружении все тех же берез да осин, ну, может быть, еще вязов. И обмерли мы с тобой, Инесса, а как обмерли, так остановились и окостенели как бы. Потому что поляна эта живописная была наполнена людьми, тихими и неспешными, и тоже крайне живописными, и очень их много было, сотни, просто толпы живописных людей.
И не поверили мы глазам своим, Инесса, только переглянулись и согласились ими, глазами, – не верим. Я не знаю точно, как тебе, но мне показалось, что провалились мы оба в Зазеркалье, в четвертое измерение, во временную прореху, хотя лес вокруг нас был вполне реальным, реально шелестящим и шевелящимся своими молодыми и повзрослевшими побегами. Но это – только лес.
А так вся поляна да и окружающий ее периметр были заполнены бабушками и дедушками, старичками и старушками, пенсионерами и пенсионерками. Повторяю, были они все тихими, неспешащими, на губах у всех играла добрая, немного смущенная улыбка, и опять же повторяю, их было много, просто плотные толпы. Нам с тобой, Инесса, понадобилось время, чтобы попривыкнуть и приглядеться, а как попривыкли и стали различать отдельно взятые фигуры и лица, то различили нечто еще более странное.
Все эти дедульки и бабульки были одеты чисто и празднично, дедки в пиджачках, кто в галстуках, кто с планкой ордена «Дружба народов», у кого даже ботинки гуталином намазаны. Ну и бабульки не отставали – подкрашенные, нарумяненные, со взбитыми причесочками, кто в джерси, кто в кримплене, и даже юбочки несколько, ну, пусть совсем чуть-чуть, над коленками.
А больше всего мне все же не давали покоя их улыбки. Хоть и смиренные, повторю, смущенные, но все же теплилась в них какая-то сдерживаемая затаенность, молчаливое обещание, которые приводили меня к словосочетанию «скрытый порок», тот, что от смиренности да смущенности куда как еще порочнее. Ну, это теперь все знают.
Помнишь, Инесса, прислонились мы с тобой к осинке и замерли в недоуменном счастье, да и на нас, кажется, никто внимания не обращал, хотя были мы тут одни такие, я имею в виду в таком возрастном отличии. Вот именно, не обращал, как будто и не замечали нас вовсе, как будто и не было нас, и странно это было и попахивало все самой что ни на есть фантасмагорией, сюром, как будто оказался ты сам вдруг в кадре какого-нибудь Феллини с Антониони.
А тут вдруг раздалась музыка, тоже негромкая и неспешная, и мы не поверили, откуда, мол, музыка, лес ведь кругом, в конце концов. Но музыка раздалась, и пары уже составлялись, и кто-то уже кружился в такт, и кто-то женским голосом признавался, что решила она, видите ли, пригласить на танец именно вас и только, видите ли, вас. А может, это была и другая песня, не помню.
Помню только, что подняли мы с тобой, Инесса, головы вслед за песней, надеясь проследить ее, и проследили: к березкам, и осинкам, и даже вязам, высоко-высоко у самых ихних макушек были привязаны, прикручены громкоговорители, такие военных или даже довоенных времен, из которых раньше, по фильмам черно-белым знаю, доносились тревожные сводки Информбюро. Откуда их взяли, из какого исторического музея, да и кто их прикрутил к верхушкам – понятия не имею. Знаю лишь, что сюра или, опять-таки по-нашему, фантасмагории только прибавилось дополнительно, именно из-за этих архаичных звукоусилителей.
А пары кружились, и вальс развевал воздушные галстуки дедков и не менее воздушные юбчонки старушек, и кто-то из них уже прижимался к партнеру сверх дозволенного, хотя, может, я зря о дозволенном. Может, ей просто нехорошо стало, этой прижимающейся старушке, ну, гипертония у нее или другое головокружение какое.
Но это я сейчас про болезни предположил, а тогда не думал я ни о каких болезнях. Потому что не было болезней у этих пожилых, но сейчас таких легких и счастливых людей, беспечных и воздушных, не могло быть у них болезней, потому что могло быть только будущее, и оно тоже ожидалось только легкое и только беспечное.
И вдруг понял я, Инесса, хоть тебе тогда и не сказал, что не случайно мы попали сюда, не случайно завлекло нас провидение на эту полянку. Потому как к своим привела, понимаешь, к таким же, как мы сами, к тем, кто вместе с нами создает и распространяет это с трудом регистрируемое приборами поле любви.
Может, и ошиблось оно, провидение, ненамного, направив нас не в нашу возрастную группу. А может, просто потерялись мы несколько во временном пространстве и сами попали, может, в будущее, а может, в прошлое. И стали разом мы сами, я – дедом, ты – бабкой. Слышишь, Инка, может, ты тогда бабулькой стала, как и все остальные вокруг, ведь иначе почему на нас никто внимания не обращал?
Я посмотрел на тебя подозрительно. Но нет, для меня ты была все той же Инкой, хоть пионерскую форму прямо сейчас одевай.
– Ну что, – дернул я тебя за руку, – давай что ли, раз уж пришли.
Ты засомневалась, взглядом, движением, мол, неудобно среди пожилого поколения. Но я нашел довод:
– Да ладно, давай тряхнем молодостью.
– Ну, давай, – улыбнулась ты в ответ. И полетели мы. И летали мы среди других таких же летучих пар, и летали мы сквозь них, и запутался я, и потерялся вконец в этом мелькании – твоей улыбки и лиственной поросли вокруг, спутавшегося пространства и переплетающегося времени. Этого, блин, непонятного времени, в котором я плутаю и плутаю в надежде расколоть его когда-нибудь. Потому как знаю, что что-то в нем не так, обманывает оно нас, скрывает что-то, потому как совсем другое оно, не такое, как представляется нам; вот и тогда заплутал, да и теперь вот на этих страницах я вновь, как всегда заблудился.
И вот опять уже не разберу, где я тот, в лесу с тобой в танце, а где сегодняшний, а где ты, та, которой сегодня уже нет? А может, ты только «та» и есть, и все, и нет больше никакой другой? А может… Вот видишь, опять запутался.
Ведь время, которое нам знакомо, оно что в конце концов есть, Инесса? Что нам весь этот день, час, минута, год? Что они нам, если они всего-навсего есть лишь угол поворота Земли относительно Солнца? На хрена нам такое время, которое и не время вовсе, а, оказывается, какой-то угол? И что нам с этим углом делать? И почему, ну скажи мне, почему мы по-глупому привыкли мерить свою жизнь по этому банальному, скучному углу? Ведь это жалко и обидно, по углу-то.
Ну а что же тогда время? Не знаю! Да и не только я, никто не знает. Я ведь спрашивал у тех, кому полагается знать, один из них даже Нобеля по физике получил, и пили мы как-то вместе в Гарварде, ну не пили, а так, выпивали по-культурному. Вот он-то должен был бы знать, но он тоже не знал. Никто не знает, Инесса! И знаешь что? Может, и хорошо это, что не знают. Ведь тогда и не обидно в нем заплутать, а я вот даже удовольствие научился получать, от того, что плутаю и плутаю, и в кайф мне это.
Но вот прервался вальс, и остановились мы запыхавшиеся, и прижал я тебя к себе счастливую, точь-в-точь, как все другие старички вокруг прижимали к себе своих счастливых старушек, и не сводил я с тебя глаз – так хороша ты была, Инесса, что нельзя с тебя было свести их. И расчувствовался я, а как расчувствовался, так и слабинку дал, от ощущения твоего теплого, пульсирующего от радости тела.
– Малыш, – сказал я, прижимая тебя сильнее, – ты чего сегодня вечером делаешь? Плюнь на все. Ну его, отдай лучше мне этот вечер.
– Хорошо, – тут же ответила ты, даже не спросив ничего. Так как доверяла.
Я тут же понял про слабинку, и в голове мгновенно отпечаталось слово «кретин» и еще словосочетание «думать надо прежде, чем говорить», но слово-то, оно, как известно, не из пернатых и сложно его назад. Да и ни к чему.
«Ну да ладно, – прикинул я про себя, – глупо, конечно, на пьянку-вечеринку девушку свою собственную приводить. Глупо, потому как ожидается там много других девушек, не отмеченных пока еще правом чьей-либо собственности, и может быть, если сложится все удачно, то глядишь и застолбишь ты какой-нибудь участочек золотомойный, с ручейком да можжевельником. Даже не на сейчас, не на сегодня, а на когда-нибудь потом, ведь главное – застолбить вовремя, а права на владения можно и после предъявить.
Да и кореша твои – сами ребята непростые да напористые, они ведь тоже налетят на новое, расправят крылья, набычатся, ведь пойди растолкуй им, что твоя эта девушка, что несвободна она, по крайней мере на сегодня. Не поймут ведь кореша, пока сами не убедятся. И единственное, на что придется мне понадеяться – это на природную твою, Инесса, добродетель, которая, кто ее знает, насколько крепко заложена в тебя. А вдруг не крепко? Что тогда?»
В общем, говорю, глупо все получилось.
Но с другой-то стороны, разве не сюрной день сегодня, разве не опровергает он всех рационалистов разом, разве не вытаскивает он наружу невозможное и непредвиденное?
А значит, и продолжать его надо именно так – непредвиденно.
– Конечно поехали, – подтвердил я, – и будет у нас с тобой два с половиной года плюс еще один день.
– Сегодняшний? – догадалась ты.
И я кивнул в ответ.
А тут музыка снова заиграла, теперь уже что-то медленное, лирическое, и отошли мы снова к осинке, хотя не уверен, что была она осинкой, так как с детства страдаю натуралистской бездарностью. Но раз начал называть ее осинкой, то и буду впредь. Так и стояли мы расслабленные и беспомощные перед пронизывающим нас насквозь и заостренным именно в нашей точке полем любви. Так идеалистически стояли мы, что вполне бы подошли для какого-нибудь высокохудожественного кинокадра про среднюю российскую полосу, про ее лесной живописный массив и про хороших, светлых людей, этот массив населяющих, – то есть про нас самих.
А людское старушечье месиво двигалось и трепетало вокруг нас, то есть жило своей полной надежд жизнью. Но и дедовское месиво трепетало тоже, и перехлестывались они, месива эти, перекручивались и пересекались под разными, порой невероятными углами.
Я выделил одного пижонистого: он был в потертом кожаном пиджаке, даже в джинсах, впрочем, присутствовал еще и цветной галстук на белой рубашке. Сам он был среден ростом, прям, плечист, и седой волнистый волос прикрывал его высокий морщинистый лоб. Он подошел к другому, стоящему рядом с нами, наоборот, узковатому и с брюшком, но тоже за семьдесят. И подслушал я невольно следующий разговор, произошедший меж ними.
– Слышь, Илюха, – проговорил тот, который был прям и плечист. – Я тут одну, того… ну, сам понимаешь, договорился уже как вроде.
– Какую? – спросил Илюха с явной любознательностью на лице.
– Да вон та, у кустика стоит, веточкой обмахивается.
Я тоже присмотрелся к кустику. Там стояла достаточно привлекательная бабуся в голубеньком таком костюмчике, ножки вполне стройненькие, поэтому она их совсем и не прятала, губы подкрашены ярко-красным. Да и вообще она была ладненькая вся, с талией, но главное – улыбка, все та же смиренная, но шальная какая-то.
Впрочем, про улыбки эти, окружающие нас повсюду, я уже упоминал.
– Нормаль телка, – одобрил Илюха. – Умеешь ты, Толяныч, находить их тут, мне бы чего подобрал.
– Да я ж подбирал, старик, – стал оправдываться мой тезка, – да все тебе не то. Ты какой-то слишком разборчивый стал. С чего бы это? Пресытился ты, вот с чего. А знаешь, старик, ведь неправильно это.
– Ну да, ты мне совсем не то, что себе, подбираешь. Разное ты себе и мне подбираешь. Ты мне вот эту лучше передай. Передай по-товарищески. Я, кстати, запросто ее на себя возьму.
– Не, эту не могу, – не согласился Толяныч, – с этой, сам понимаешь, заметано. Я тебе следующую уступлю. Лады? Ты, слышь, Илюх, ты домой когда вернешься сегодня? А то, знаешь, ко мне дочка с зятем приехали. Дай ключи, а?
– Так, может, мне самому надо будет.
– Да я быстро, – напирал мой тезка, – чего тут, сколько надо-то? Часика два-три. Ну, сам знаешь…
– И начали они так препираться, а я стоял и даже не слушал уже, потому как не мог понять, ну откуда, откуда мне это все знакомо, как будто слышал я это все уже когда-то. И не раз. Ведь и у меня часто вставал сложный и насущный квартирный вопрос, и вот точно так же я стрелял ключи у своего старого корефана Илюхи (который, кстати, появится в следующей истории. История уже написана, Инесса, поэтому я точно знаю, что появится), и ненадолго-то стрелял, тоже всего часика на два, три. И как-то меня все это совпадение насторожило, что вдруг заподозрил я опять неслучайное.
И тут осенило меня, что это опять все тот же пресловутый угол поворота (я теперь так время называть буду) совершил свой частично полный круг, и с чего все когда-то начиналось, тем, видимо, все в результате и заканчивается. Вот и опять старик Толяныч стреляет ключи от квартиры у старика Илюхи.
И стало обидно мне. Может быть, за себя самого в будущем моем недалеком, а еще за этот проклятый угол поворота, потому что ничего он не меняет, и с чем родился, с тем и постареешь, а если и меняет, то только к худшему. И как понял я это, так очарование поляны отскочило от меня разом в сторону, и посмотрел я вдруг протрезвевшими глазами на всех вокруг, да и на тебя, Инесса, посмотрел. И как-то все сразу немного по-другому увидел.
Понял я, что это всего-навсего какой-то слет «тех, кому за сорок» или «за пятьдесят», хотя на самом деле не менее, чем «за шестьдесят пять», а когда понял, так очарование еще дальше отскочило. А тут еще сбоку донеслось:
– Ну ладно, Толяныч, на, держи ключи.
Только у меня там на диване простыня, не того, да и в сортире течет, поэтому ты кран…
– Пойдем, – потянул я тебя за руку, Инесса, и тут же догадался, что, видимо, напрасно я все же расчувствовался тогда, в пылу вальса, расчувствовался и дал слабинку. Теперь вот придется отрабатывать весь вечер, слабинку эту.
Ведь не знал я еще тогда, что вечером, ближе к ночи, меня будут убивать.
Шли мы лесом еще минут пять-семь, и вот уже показалась открытая станция метрополитена, уже слышен был перекат поездов на ее упругих рельсах. А подошли ближе – так и голос из вагонов про следующую остановку, ну, и про двери, которые всегда так осторожно закрываются.
– Так куда мы едем? – спросила ты, Инесса, когда мы подошли.
– Да вечеринка у моего приятеля, – печально признался я.
И замолчал, потому как совсем я поник тогда.
Но вот сейчас, когда я пишу все это, я совсем не поникнувший, а наоборот, воспрянувший я. Потому как начну я сейчас писать про вечеринку, и если бы я был поэтом Державиным, то посвятил бы им, вечеринкам, оду и назвал бы ее: «Ода вечеринкам молодости». Но я, увы, не поэт Державин, а совсем даже наоборот – по времени, стилю, при дворе, например, никогда не состоял, да и не вылизывал никому ничего при том же дворе. Да и вообще не Державин я.
А если уж совсем честно, то и слово «вечеринка» не из моего лексикона, чуждое оно мне, потому что неловкое какое-то, слишком уж пресное, смягченное. И сам я не пойму, зачем употребляю его здесь? Ведь портит оно, это слово, потому как растворяет вкус всего дальнейшего повествования. И поэтому брошу я его, оставлю другим, холеным да причесанным, а сам вот с этого места буду называть вещи своими живыми, настоящими именами. Так как всегда оно лучше, когда по-честному.
Пьянка это была! Самая настоящая пьянка, пускай и без мордобоя, пускай без особенных матюгальников, но ведь они, пьянки, тоже разные бывают, все от того зависит, кто пьянствует на них, да и с кем. Да и вообще, какие там правила в пьянках-то? Нету их – правил.
Вот именно, разными они бывают, даже не особенно пьяными бывают, хотя все равно пьянки. Потому как даже не в алкоголе особенно дело, а в настроении, в адреналине, который по венам курсирует взад-вперед, да и в том, кто этот адреналин тревожит. Да и во многом разном дело, целый конгломерат такой из важных компонент, но вот пойди разгадай формулу, попробуй воссоздать все искусственно, даже если смешаешь все правильно, по пропорциям, по дозам – все равно не создашь.
Это как с любовью, той тоже химия требуется специальная. А пойди разберись, из каких органических элементов эта химия состоит, какие щелочно-кислотные реакции там закипают, – все понапрасну – хоть всю таблицу Менделеева перевороши, все равно опростоволосишься! А все потому, что невозможно чистый лабораторный эксперимент поставить, только в жизни подходящие условия встречаются, да и то не каждый Божий день.
Поехали мы тогда на «Сокол», вот тоже такая пернатая станция метро, потом по улице шли, но не долго, потом поднимались на лифте на четвертый этаж, а потом позвонили.
И сразу, Инесса, помнишь, из сумрака уже начавшегося на улице вечера, из его спокойных, размеренных звуков и запахов, из плавного его движения разом влетели мы в яркий свет, шумные, нестройные голоса, разгоряченные, пьяные, хотя и несильно, а приятно так пьяные голоса и взгляды, полные как минимум любопытства, но и надежды тоже. «На что надежды?» – спросишь ты, Инесса, и наверняка сама ответишь: надежды на эту ночь, на скорое будущее, которое она готовила. Ведь совсем не понятно, чем для кого она собиралась обернуться – может быть, нежностью? может быть, теплотой? а вдруг и добрым словом? Ну что ж, хотя бы им.
Смотрели не только на меня – на тебя, Инесса, смотрели тоже. И тебе тоже много чего разного обещали эти взгляды, и отошел я в сторону, оставив тебя с ними, взглядами, наедине, доверившись внутренней твоей верности, которая, подчеркиваю, всегда может быть только внутренней, так как всегда именно оттуда, изнутри, исходить должна. Потому и не сторож я ей, любви, никогда не был, да и не буду никогда.
Ведь если возьмешься сторожить, суточно, без передышки, со свистком да с берданкой, и даже если тулуп оденешь овчинный, то все равно когда-нибудь окоченеешь от зыбкого ночного дозора. А как окоченеешь, замаешься, как в сон от усталости потянет, так потеряешь бдительность, и все равно сопрут у тебя все, чего сторожишь. А ты потом отчитывайся, пиши рапорты – все равно уже лишен и звания, и берданки, и тулупа, а главное, всего того, что сторожить пытался неумеючи. К тому же, глядишь, и посмеются над твоей неудачливой бдительностью наглые ночные похитители, да еще совместно с самой беспечной пропажей. Так что стараюсь избегать я дозорных пунктов.
Да и не про дозор и ответственное круглосуточное бдение жизнь наша. Про что она, жизнь наша, я не знаю, но вот не про вечное бдение – это точно.
И вообще я не борец за женщин, Инесса. Потому как глупо бороться за владение тем, что тебе, в конце концов, никогда полностью не принадлежит. Так как принадлежит оно тебе только тогда, когда само хочет принадлежать и именно так долго, как само хочет. А вот как перестанет хотеть – так уже и не принадлежит. И я понимаю, что проблема это для многих, ведь ты попривык уже к тому, что твое оно, обвыкся, уже в первом лице о нем думаешь, а оно – ну не хочет оно больше.
И происходит то, что произошло у Англии с Индией, а у Франции с Алжиром, в общем, много исторических примеров существует, и называется это – национально-освободительной борьбой. И всегда в результате побеждает тот, кто отделиться хочет, как ни борись ты с ним. Вот и не борец я за женщин.
И за тебя, Инесса, я не был борцом. Если и затмил бы меня кто в тот вечер, в твоем сердце затмил, то, хоть и обидно мне стало бы, но не обиделся бы я. А все равно остался бы я тебе благодарен за то, что успела ты мне дать уже: вот хотя бы только за один сегодняшний солнечный день, за пионерское платье – помнишь, утром было – да и за вальс наш невероятный. Да и за все, что между ними случилось.
«А если все же не затмит меня никто, – думал я, – если пронесешь ты меня через предстоящую ночь, то и за завтра наше совместное буду я тебе благодарен. Как проснусь, так и скажу в небо: „Спасибо тебе еще за один день“, хотя и не только к тебе, Инесса, будет обращена эта фраза».
Так что разошлись мы с тобой по комнатам, там их несколько было. Я на кухне оказался, стоял, смотрел, потягивал из стакана жидкое; попадались на глаза и новые лица, незнакомые, женские в основном. Потому что важна быстрая оборотность женских лиц на мужиковых холостяцких пьянках.
Ты же помнишь, Инесса, я-то вообще не из суетливых, я даже вроде основательный как бы. А когда все же жизнь суетиться заставляет, тогда я ее не люблю за это, и себя в ней, такого, суетящегося, не люблю тоже.
Вот и здесь стоял я и присматривался, не спеша, внимательно выбирал, чтобы не ошибиться, чтобы не случилось невпопад.
Не на сегодня выбирал, потому как не нужно мне было на сегодня, зачем мне на сегодня? Но вдруг когда-нибудь пригодится – вот на тогда и выбирал. Скорее даже не выбирал, а так, брал на заметку, болтая между тем с Лехой.
Да, Леха… Ты, Инесса, не знала его, хотя он был типаж. А я люблю типажи. Люблю смотреть на них, разговаривать с ними и думать: «Ну, блин, типаж!» И нету в этом никакого моего высокомерия, потому как не против я, чтобы и про меня так думали. Впрочем, не уверен, что всегда я дотягиваю до зрелого, выдержанного типажа. А вот Леха дотягивал.
Во-первых, он был философом. Настоящим, не из тех любителей, кто, как я, нахватался из краткого философского словаря, а неподдельным, с чистым философским образованием, что не часто в обычной жизни встречается.
Во-вторых, Леха был материалист и дарвинист к тому же, чего не скрывал, а, более того, демонстрировал повсеместно, можно даже сказать, бравировал своим стойким дарвинизмом. Если уж подробно, то надо признать, что в те крайне материалистические времена не мог он оказаться философом другого пошиба, небезопасно было тогда философствовать разнообразно. Но в Лехе умиляло как раз то, что он был до странности искренним дарвинистом, я бы даже сказал, убежденным, ярым таким дарвинистом.
И оттого для меня, человека, хотя тоже верящего в науку, но не слепо, не до конца, потому что по моему агностическому представлению конца как раз и нет… Так вот, для меня такой убежденный материалист был вдвойне любопытен.
Я ведь говорю, неясен этот мир и в нем много есть того, друг Инесса, что непонятно ни нашим, ни вашим мудрецам.
Леха меня тоже ценил, тоже по-своему, материалистическому. И хотя встречались мы редко, в основном на таких вот пьянках, любили мы с ним схлестнуться и схлестнуть наши противоречащие мировоззрения. Вот и сейчас завязался меж нами вот такой околонаучный философский диалог.
(Но если за все эти годы он перестал быть тебе интересным, Инесса, мой нематериальный внутренний мир, как и не был тебе никогда интересен материалистический мир моего тогдашнего кореша, философа Лехи Новорадова, тогда пропусти эту страничку. Не мучай себя, Инесса, не заставляй болезненно напрягаться свое и без того усталое чело, ведь столько других забот вокруг – дети, работа, стирка, небось наверняка продукты питания и связанные с ними экономические заботы тоже. Зачем тут философия? Для чего? Ну, разве только что для гимнастики мысли, да еще для того, чтобы плавно перейти к следующему в рассказе действию, к тому, в котором меня наконец-то убивали.)
– Все эволюционирует, – где-то уже в середине нашего разговора заявил мне Леха, и я посмотрел на него и понял, что он пьян.
Потому как он вообще-то всегда был пьян, а когда становился уж очень непомерно пьян, все у него сразу эволюционировать начинало. А как ведь иначе, сложно ведь трезвым да об абстрактном постоянно. Вдруг неожиданно откроется тебе чего-нибудь уж слишком философское и обрушится на неподготовившуюся голову неподъемной тяжестью. А вот пьяная голова, она завсегда самортизирует хотя бы немного.
– Ты уверен? – поинтересовался я.
– Эволюционирует! – подтвердил Леха.
Я огляделся, я чувствовал, что уступаю в начавшемся споре, чувствовал, что нужна мне подмога со стороны. А на стороне, кстати, подмоги было сколько угодно. И прибег я к одной такой, я давно уже раздумывал, как приобщить ее к нашему разговору. Ну, если не к разговору, то просто приобщить.
Знаю, знаю, Инесса, в принципе нехорошо это – приобщать посторонних девушек, когда та, что доверилась тебе добровольно, где-то поблизости. Но согласись, ты ведь и сама была, как мы помним, в «других комнатах», я ведь не наблюдал за тобой исподтишка, и под сурдинку, кстати, не наблюдал тоже. И кто знает, может, ты сама в тот конкретный момент к чему-то там вольно или невольно приобщалась. (А вот знаешь ли ты, Инесса, что такое «сурдинка»? То-то же! А вот я знаю.)
– Девушка, можно вас использовать ненадолго?
Она встрепенулась, не в силах сразу определить: а вдруг пристают? Но я уточнил:
– Да нет, совсем ненадолго. Просто как экспонат.
Инесса, ты думаешь, девушка обиделась на «экспонат»? Нет, не обиделась девушка, может, и не обрадовалась, но не обиделась точно. А может, и обрадовалась.
– Чего мне, замереть? Как манекен, что ли? – поинтересовалась она подозрительно ломающимся голосом подростка, таким ломающимся, что мы с Лехой переглянулись. Пьян-то он был пьян, но на женские подростковые голоса вполне реагировал.
– Нет-нет, – опроверг я девушку, – вы двигайтесь.
– Плавно? – спросила она, и я испугался, что поломает она нам сейчас всю дискуссию. И голосом, и движениями запросто может она нас вывести за пределы дискуссии. Да и не вернемся мы уже потом.
– Плавно – это хорошо, – подтвердил я второпях, а потом сразу к Лехе:
– Вот скажи, старик, признайся, ну как она сэволюционировала? В чем?
Девушка действительно двигалась плавно, совсем не агрессивно, действительно, как образцовый экспонат, и Леха тут же замялся, а потом начал гнуться просто на глазах, просто как швед (если верить поэту), вместе со своим дарвинистическим утверждением. Вот такие они, гуманитарии, нестойкие совсем, потому как не приспособились они в своем искусственном академическом мирке к повседневно напирающим соблазнам реального мира со всеми его перегрузками и стрессами.
И понял я, что еще немного – и рассыпется Леха, по частям рассыпется, лишь чуть-чуть дожать осталось. И снова обратился я к плавной девушке за подмогой:
– Вы могли бы обнять его? – Я кивнул на рассыпающегося Леху. – Хотя бы за шею. Только не сильно.
– Его? – спросила девушка недоуменно, не прекращая движений и, если честно, без особого воодушевления.
Все ее плавно движущееся перед нашими глазами лицо – особенно удивленно приподнятые брови, сморщенный лобик – все выражало искреннее непонимание: зачем, для чего я требую от нее такого? На фиг ей сдался этот гнущийся, неуверенный Леха, который, повторю, был типаж, и еще какой.
Не знала ведь она, что ради науки я требовал, ну и еще ради тебя немножко, Инесса.
– Он – дарвинист, – пообещал ей я.
– Да ну? – в ее голосе проступило не только любопытство, но и недоверие тоже. – За шею?
Я кивнул:
– Да, только не сильно. А то сами видите.
Она взглянула на меня с пониманием, и в ее понимании, мне почудилось, было замешено много всего (а может, мне почудилось), и тут же взяла и с ходу обвила Леху, вроде как притянулась к нему даже. Впрочем, не уверен, понравилось ли ей это.
– Ну, и в чем тут эволюция? – повторил я свой каверзный вопрос, который, я знал, ломает, нещадно ломает все Лехины представления о дарвинизме, во всяком случае на тот самый момент.
– Вот видишь, старик, так оно все и было от самого сотворения мира, – добивал я. – И так оно все и будет до самого его конца.
Леха не отвечал, он всей своей подломленной фигурой впитывал фигуру девушки, которая уже и не особенно двигалась, надо сказать. Чего он там впитывал через двойную толщину одежд – тепло? флюиды? непривычную упругость? – не знаю! Но по тому, как он стоял, не шевелясь, я понял – впитывает.
И вдруг над нами, над всеми тремя, нависла тень, и девушка резко отпрянула от Лехи, резко, порывисто, хотя и не страстно.
– В нюхальник хочешь? – спросила тень у Лехи.
А тот молча улыбался в ответ, подламывался и молча, загадочно улыбался, как бы самому себе, одними едва заметными уголками губ. Я понимал его: ведь сложно отвлечься на такую мелочь, как «нюхальник», в тот самый момент, когда рушатся ранее незыблемые научные убеждения.
– Он не хочет, – ответил я за Леху, потому как вообще вопрос был традиционно глупым.
Ну кто, скажи мне, Инесса, хоть и не очень понимаешь ты в этом, так как сугубо мальчишеский перед нами вопрос, но все равно, скажи: ну кто, кто может искренне хотеть в нюхальник? Ну как можно вообще иметь такое желание? А если никто не хочет, то зачем спрашивать? Ну а Леха, я знал наверняка, уж точно не хотел. Ему просто в тот момент говорить было трудно.
А вообще, если уж быть точным, то была это полностью пустая угроза, потому что ну не было у нас такой традиции, чтобы давать друг другу в нюхальник. Даже когда девушка твоя, застуканная на месте, стоит и обнимается неприлично с другим. Хотя понятно, конечно, обидно было чуваку, что застал он ее скомпрометированную, но с другой стороны, я же говорил, не надо шпионить. Ни к чему это, шпионить, прежде всего для собственного спокойного благополучия, да и для благополучия собственной иммунной системы. Ни к чему!
И стал чувак уводить от нас девушку, и уже из дверей обернулась она, да так посмотрела, что все всколыхнулось во мне, и захотелось мне броситься к ней на выручку. К тому же я знал чувака и думаю, что особенно не обиделся бы он на меня за «выручку». Но не бросился я и Леху не пустил, потому как, повторяю, не борец я за женщин, пускай и говорят они надтреснутыми мальчишескими голосами.
А вместо не нужной никому борьбы допили мы вместе с Лехой то, что оставалось в стаканах, и стали обшаривать глазами кухонное помещение – чего бы еще налить? Но все было наглухо пусто; хоть и находились в помещении емкости – были они все печально опорожнены. И загрустил Леха, просто на глазах загрустил и снова задумался о чем-то. Я-то думал, что знаю, о чем он задумался, а выяснилось, когда он потом заговорил, что не знаю.
– Слушай, Толик, – заговорил он, – у меня тут тачка под окном личная, а у нее в багажнике пара бутылок осталась. Пойдем нальем.
Я не стал возражать, я только спросил, брать ли стакан, на что Леха пожал плечами.
Я вообще давно заметил, что гуманитарии живут лучше представителей точных профессий, я имею в виду – материально лучше.
Хотя совсем непонятно, с чего бы это. Ну вот откуда у Лехи могла быть тачка? Ну пускай он уже с диссертацией, а я пока без, ну пускай у него трат меньше и ему квартиру вроде как незачем снимать, так как думает он об одной философии постоянно. А значит, остаются у него деньги от невостребованного времени и невостребованных желаний. Но на автомобиль-то четырехколесный откуда? Мы стояли на лестничной площадке и ждали лифта, и я не стал сдерживать в себе распирающий вопрос.
– Лех, – спросил я, – не из зависти интересуюсь, правда, нет. А просто, чтобы лучше жизнь реальную понимать, скажи, где ты на колеса набрал?
– Да, – ответил он, покачиваясь несколько, – ты не поймешь. Так как не материалист ты.
– А как же ты водишь ее тогда, тачку-то, если ты всегда датый немного?
– И этого ты не поймешь, – ответил Леха, открывая дверь лифта, – так как ты и не дарвинист к тому же. Ты вообще ничего про это не поймешь, так как ты из прибившихся к материализму, – сказал он как-то уж больно пьяным голосом и нажал на кнопку, пустив лифт к первому этажу.
И эта его нечестная философская терминология, хорошо знакомая мне по революционным еще первоисточникам, меня не на шутку рассердила, так как никогда я не прибивался ни к чему. Незачем мне было прибиваться.
А потому в отместку пошел я тогда в наступление, всем развернутым фронтом в атаку лобовую пошел на самое дорогое для Лехи, на самое болезненное, на дарвинистическую его Ахиллову пяту.
– Старик, вот объясни мне, если не прав я, – попросил я. – Но, если эволюция началась с самого начала, с зарождения как бы, то она и продолжаться должна по сей самый день. Правильно?
Леха притормозил, так как мы уже стояли на улице, и он притормозил, почувствовав надвигающееся наступление, достал сигареты, закурил. Так мы и стояли, и хорошо было на улице; эта теплая, ускользающая вместе с летом свежесть вечера, хороша она была и для меня, и для Лехи, и даже для сигареты его мерцающей.
– Ну, так, – согласился Леха, но в голосе его присутствовала настороженность. И по ней, настороженности, я догадался, что правильно выбрал участок для прорыва.
– Но она же не продолжается, – возразил я. – Остановилась она на современном этапе. Где, скажи мне, ты в данный момент эволюционные этапы наблюдаешь?
– Я понимаю, понимаю, что они много лет занимают, миллионы, и их простым глазам не зафиксируешь, но… – Я выдержал паузу, так как люблю паузы. – Но если какой-то эволюционный процесс начался, скажем, десять миллионов лет назад и вот именно сейчас должен завершиться… То почему он, гад, не завершается и мы прямо сейчас не наблюдаем его живых результатов?
Я смотрел на Леху, но он не смотрел на меня. На все что угодно смотрел, а мной пренебрегал.
– Ты сечешь проблематику? – развивал я живо. – Начались процессы давно. Один – десять миллионов лет, другой – десять миллионов плюс один день, третий – десять миллионов плюс два дня, четвертый… ну ты понял.
– Ага, – кивнул Леха, но молча кивнул.
– Ну и мы должны наблюдать завершение всех этих процессов. Одного – вчера, другого – сегодня, ну и завтра третий должен завершиться. То есть, грубо говоря, прямо сейчас, в данную, конкретную минуту какая-нибудь обезьяна должна слезть с дерева и окончательно стать человеком, так, как начала им становиться, повторяю, десять миллионов лет назад. Почему не становится? Где новые люди, а вместе с ними, скажи мне, где свежие, приятные лица?
Я посмотрел на Леху и понял, что он разбит наголову, так нервно он втягивал сигаретный канцероген в свою слабую философскую грудь.
– Старик… – Он придвинулся ко мне так близко, как совсем недавно к нему самому придвигалась надтреснутая девушка. Не могу сказать, чтобы мне было очень приятно от этой Лехиной близости. Но кто знает, может, и девушке не было. – Раз ты уж сам начал об этом. Я скажу. Только ты никому, обещаешь? – Он подозрительно огляделся по сторонам. – Ты обещаешь, а то не видать мне докторской никогда, очень конфиденциальная информация, я подписку дал. Только тебе, потому как ты сам вопрос поставил, правильно, по-научному зорко.
– Ну, – пообещал я.
Леха еще теснее сдвинул наши с ним ряды. Я хотел отстраниться, но понял, что надо именно так, тесно, потому как, видимо, действительно очень конфиденциально сейчас будет.
– Нас тут вызывали недавно. Всех нас, дарвинистов.
Я хотел спросить, «куда вызывали», но решил пока не спрашивать, чтобы не спугнуть лишним вопросом Лехину конфиденциальность. Впрочем, я и так догадывался, куда.
– Короче, вызвали и говорят, что это, мол, самое слабое место в нашей науке и есть. Прокол, можно сказать.
– В чем прокол? – все же не выдержал я.
– Эволюция остановилась. Уже как, считай, семьдесят лет остановилась. Процессы не завершаются. Начались они крепко, по отпечаткам наскальным это доказано. И развивались здорово, а вот заканчиваться не хотят. Остановилась эволюция. Вот такая вот, старик, трагедия у нас. Не слезет больше обезьяна с дерева, не получим мы новых приматов. Все, кончились приматы!
И жалко мне стало Леху, он чуть не плакал, покачивался весь, касаясь меня плечами. И чуть не плакал.
– Лех, – пожалел его я, – может быть, она дошла до вершины, может, ей дальше развиваться некуда.
– Кто? – не понял Леха и снова коснулся меня, и снова плечом.
– Эволюция. Может, она сама сэволюционировалась до предела, и больше некуда ей. Предел, понимаешь. Куда ей дальше? Ну сам посуди, ну как нас всех улучшить можно? Некуда ведь уже. А ту, из-за которой тебе сегодня чуть втык не дали, ну разве она улучшаема?
Мы оба задумались.
– Действительно, – согласился Леха. – Похоже, ты прав, старик. Насчет тебя не знаю, думаю, имеются еще у тебя резервы, но вот ее улучшить сложно. Если только от чувака ейного отобрать.
– То-то, – подтвердил я.
– Ты вот что, старик, позвони мне завтра. С утра. Очень рано не надо, не звони, лучше ближе к двенадцати. И напомни эту свою мысль, ну, что мы на вершине эволюции, что больше ей, горемыке, некуда. Хорошая мысль, зрелая. Я вообще считаю, и говорю это почти открыто, что нам в философской науке нужны люди с хорошо развитым математическим аппаратом. Но не слушают меня там, где я это говорю. Не хотят там вас брать в философию с вашим развитым математическим аппаратом.
– Ну, не так, что нас туда и тянет особенно. – Мне даже стало немного обидно. Всегда же обидно, когда кому-то не подходишь, когда кто-то от тебя отказывается пренебрежительно. Даже если этот кто-то сам тебе совершенно не подходит.
– Да ладно, чего там. Но ты позвони, напомни, мысль мощная, я из нее много чего выдоить смогу. Эволюция, может, и тормознула, подлая, но науку нашу, старик, никому остановить не удастся!
– Ну ты даешь, – согласился я с невольным уважением, – умеешь ты все же – жизнеутверждающе. Не зря вас учат там, где ты, как ты выразился, можешь говорить «почти открыто».
– Ну ладно, старик, позвони. А то я сам забуду, до утра-то. Счас сложно мне все это в памяти удержать, сам понимаешь, – сказал Леха и снова качнулся ко мне.
Я кивнул, но он, по-моему, не заметил.
– Слышь, – вспомнил я заждавшийся вопрос, – а вызывали-то вас куда? Про остановку эволюции разъяснить.
– А, – протянул Леха, коснувшись меня вновь. – Нас, материалистов, порой вызывают на инструктаж. В главное материалистическое управление. Понял?
Мы еще постояли, помолчали, Леха докурил.
– Где тачка-то с бутылками? – вспомнил я.
– Да вот стоит.
– Вот с этого места, Инесса, можешь возвращаться в текущее повествование, если ты пропустила все же его философскую часть. А если пропустила – то и правильно сделала.
Но вот сюда возвращайся, так как важно это, где именно стояла Лехина тачка. А стоял она метров в тридцати от входа в подъезд. А может, и в сорока.
Важно же это потому, что все окрестное пространство вскоре перестанет быть просто обычным пространством, а разом окажется местом преступления. Потому как именно на этих тридцати-сорока метрах меня, вот прямо уже совсем скоро, будут убивать.
Мы подошли к Лехиной тачке, она была белесого цвета, и в ней на водительском сиденье сидела незнакомая нам фигура. Фигура выглядела мужской, и тем не менее, не знаю почему, она не внушила страха ни мне, ни Лехе.
А действительно, почему она не внушила страха, Инесса? Может, пьяны мы были с Лехой? То есть он-то точно был… Но вот я-то, я? Не был же я настолько пьян, да и глуп не был настолько, чтобы полностью потерять ориентацию и не объяснить себе здраво, что чужой человек в чужой машине – это неправильно и потенциально опасно. Даже не столько для машины, как для тех, кто попытается его оттуда извлечь.
Но говорю тебе, Инесса, что-то вступило в голову, и не растерялись мы с Лехой, а, наоборот, постояли даже немного, посмотрели на чувака на переднем сиденье. Причем Леха все опирался на меня периодически, в основном плечом, что означало, что покачивается он все еще.
– Ты уверен, что это твой агрегат? – спросил я на всякий случай.
– Ага, – согласился Леха, – точно, мой.
– Ну, чего делать будем? – снова спросил я, и снова на всякий случай.
– А давай мы его сами возьмем, – сказал Леха и как-то хохотнул фальцетом. Знаешь, Инесса, бывает такой визгливый хохоток.
И снова я себя не понимаю, что это за кураж нашел на меня, что за ухарство такое? И не против я ни куража, ни ухарства, ты же помнишь, Инка, но ведь задержание – дело, как мы теперь знаем, серьезное и специальной подготовки требует. А ее у меня не было, другая подготовка была, но вот опыта в задержании преступных элементов – не было. И вот почему я решил это новое дело осваивать именно сейчас, в общем-то не в самую подходящую ночь и не с самым подходящим Лехой? – не знаю. И никогда, видимо, уже не узнаю.
Но тогда я согласился с Лехой, и даже не обсуждая с ним план захвата, почему-то заорал во все горло:
– Облава! Сдавайся, кто может!!!
Сейчас-то понятно, глупо заорал и перепутал что-то в известной формулировке. Но тогда мне понравилось поначалу – мощно оно у меня из груди вырвалось, даже Леха икнул.
А вот понравилось ли чуваку в машине? – не знаю. Хотя звук его наверняка потревожил, так как очнулся он мгновенно и как-то очень проворно открыл дверцу и выскочил, настолько проворно, что мы с Лехой оказались не готовы к такому его проворству. Мы вообще, если честно, ни к чему особенно готовы не оказались, и я сразу понял тут, что поспешил с опрометчивым криком.
Впрочем, чувак на удивление оказался не очень большим. Обычно от преступников ожидаешь широких плеч, бритой головы и бычьей как минимум шеи. А тут перед нами предстал средненький такой чувачок, и если даже не особенно рассчитывать на Леху, потому что он как-то сразу стал очень активно икать постоянно, но даже если и без него, то были у меня шансы, если бы дело дошло до рукопашной. Может, ты, Инесса, и не знаешь, но в рукопашной у меня шансы завсегда имелись, так как я на Преображенке вырос, где рукопашная была частым и уважаемым делом.
Мы так и смеряли друг друга взглядами через разделяющий нас автомобиль, я – чувака, он – нас, а Леха икал теперь не на шутку, буйно разыгралась у него вдруг икание. Не знаю, понял ли чувак, что над ним сгустилось, наверное, понял, потому что он неожиданно вдруг выплеснул из гортани протяжный звук, и разнеслось в его крике что-то мятежное, тоскливое, что-то из таежной зоны, берущее за душу, может, даже кого-то.
Но не меня. Потому что я тут же просек, что выкрикивает он имя, а значит, зовет кого-то, скорее всего, на помощь. И сразу понял я, что у них здесь, во мраке ночи, схоронилась банда, а может, и шайка, и очень уж нехорошо это, совсем нехорошо, потому как банду я задерживать совсем не умел. А вот она меня, наверное, умела. К тому же Леха икал и икал, просто какой-то приступ у него клинический начался.
Дальше, Инесса, мне надо отступить в классическую литературу, чтобы полностью прочувствовала ты ощущение той кромешной жопы (даже извиняться за откровенное слово не буду – в этом месте невозможно по-другому), в которую я разом угодил.
Помнишь родовое поместье Баскервиллей? И собаку ихнюю, баскервильную, тоже помнишь? Знаю, знаю, я тоже ребенком думал, что нельзя из-за собаки от страха умереть, я вообще всегда к собакам дружески относился, да и они ко мне – любя. Но это все потому, Инесса, что плохо дети про жизнь реальную понимают.
А тут вылетело из темноты, из, повторю, мрака кромешной ночи, которую уже ничем от анального сужения отличить было нельзя, огромное черное чудовище, приостановилось на секунду, завидев нас, а потом стало щериться и недобро приближаться.
А чувак все кричал с другой стороны автомобиля: «Взять их взять их», вот забыл имя собаки, которое он использовал. Ну вот, предположим, Мухтар, и тогда получается, что чувак кричал: «Взять их, Мухтар! Мух-тар, взять их!» Что Мухтар, по совершенно отчетливым признакам, и собирался сделать.
Ты можешь подумать, Инесса, что это страх запеленал мне глаза, что страх всегда из мухи слона раздувает, но неправильно ты подумаешь тогда, Инесса. Потому как это был английский дог, черной масти, и хотя ты знаешь, что я роста вполне достойного, но, уверяю тебя, глаза наши с подходящей враскачку и злобно скалящейся псиной были приблизительно на одном уровне. То есть мы как раз и пересеклись взглядами, и не знаю, что именно прочел в моем взгляде Мухтар, но я в его – только зверскую, голодную жестокость.
И опять я не вру, Инесса, потому что часа через два (хотя и не хочется мне ломать последовательность повествования, тем более в такой напряженный, драматический момент, но надо, чтобы поверила ты мне) я увидел Мухтара в милиции, где он смирненько сидел поджав хвост и смотрел на меня, испуганно моргая, хоть и не был я в милицейской форме, и морда у него была вся в кровоподтеках, у Мухтара того. И я сам уже был совсем не напуганной жертвой, а даже наоборот, но как посмотрел на него тогда при вполне достаточном милицейском электрическом освещении, так сразу понял: колоссальное по размеру животное – я и не видел таких прежде, разве что в зоопарке.
И вот, Инесса, понял я тогда, что не ждать нам с Лехой пощады, потому как видела бы ты эти клыки и всю остальную пасть. И Леха это тоже верно понял, потому что он снова икнул, но это был последний ик, который я услышал, а потом его перебил звук максимально спешащих ступней и хруст подминаемых кустов. И все, и не было больше рядом со мной Лехи.
Ты думаешь, Инесса, что по прошествии времени и лет держу я на Леху обиду за то, что бросил он меня в схватке, хотя за его же собственную тачку сама схватка эта разыгралась? Нет, Инесса, не держу я на Леху зла, ни тогда не держал, ни сейчас, потому что на самом деле он дарвинистом был – натуральным, неподдельным дарвинистом. А согласно ихнему учению, они не только эволюционируют, но и повышено у них стремление к выживанию. А как мы убедимся ниже, в переделке этой можно было запросто и не выжить.
Ну а чудовище клыкастое все приближалось, не предвещая ничего, кроме острой боли и мертвой хватки, и понял я, что могу положиться только на свое молодое, сильное тело, и больше не на что мне положиться. И значит, пора было тикать, и по возможности очень быстро. Что я и сделал, развернувшись, но не туда, куда Леха, через кусты в темноту, а к подъезду за подмогой.
В общем-то до подъезда недалеко было, я же говорил, метров тридцать, и быстр я был тогда, и оставалось уже лишь чуть, скачков пять, пол какой-нибудь секунды. Но вот этой-то полсекунды мне и не хватило, хотя я никогда не думал о секундах свысока, я вообще никогда не пренебрегал секундами.
Почему я обернулся? – один Бог знает. Чутье, скажешь ты, Инесса, и соглашусь я с тобой, чутье и Божье провидение, потому как не обернись я тогда, не писал бы я сейчас эти откровенные строки. Но я обернулся и очень правильно сделал.
Мерзкое, огромадное чудище было распластано в полете, при этом скотина успевала еще не только щелкать злобной своей пастью по дороге, но и сгруппировалась вся для предстоящего столкновения. А вот я не успел, я вообще ничего не успел, даже остановиться как следует, лишь повернулся слегка, лишь подставил локоть на уровне горла, приблизительно куда нацелились самые длинные клыки. Мне бы податься вперед, мне бы ноги расставить пошире для устойчивости, но не успел я, и врезались мы телами друг в друга, я да английский дог, и ударились мы, как Челубей с Пересветом, только что пики у меня никакой не было, а жаль. Да ладно пики – палки хотя бы, но и палки не было. А был я гол и безоружен, бери – не хочу.
И грохнулся я, Инесса, от сотрясения, именно как тот Пересвет. Потому как не был я Челубеем, это Мухтар был Челубеем, у них ведь даже имена чем-то схожи. Никогда не думал, что так бездарно грохнусь, но, говорю, стоял я неправильно, да и въехал он в меня стремительно, и прямо перед глазами лязгнули костяные его клыки, что тоже заметно добавило неустойчивости. И грохнулся я.
А может, как раз и хорошо, что грохнулся, потому как Мухтар мой остервенелый грохнулся тоже, и получалось теперь так, Инесса, что лежу я головой к спасительному подъезду, а ногами как раз к отлетевшей от меня несколько собаке. А слева и справа кустики высокие, плотненькие такие, помнишь, дорожки ко многим московским подъездам именно такими кустиками по бокам обсаживались. Ну, если не помнишь, то вот напоминаю.
Потому что важная это диспозиция, для жизни моей тогдашней важная. Оттого и повторяю: я лежу, в голове у меня подъезд, по бокам кустики, плотно ограждающие, а в ногах английский дог черной масти по прозвищу Мухтар. Но и не только Мух-тар, потому как пока мы с ним грудями бились, подтянулся чувак, ну, тот, который с Мухтаром заодно с самого начала был. И получалось так, что их двое против меня одного. В общем, плохо все для меня получалось.
И чем дальше, тем меньше оставалось у меня сомнения, что не только хищное животное жаждало моей невинной крови, но и чувак криминальный всей своей преступной душой тоже пролить ее жаждал. Хотя зачем понадобилась ему моя кровь? Ведь было видно по нему отчетливо вполне, что не из общества он «Красного Креста» и такого же Полумесяца, да и не стерильно было вокруг для добровольного донорства. Но тем не менее нужна ему была для чего-то моя кровь, потому что крикнул он своему верному Мухтару: «Взять его, Мухтар!» – хотя, повторяю, не помню я, как собаку звали.
И вот сомневаюсь я теперь, правильное ли имя я выбрал – Мухтар. Мусульманское ведь какое-то оно имя, и получается, что я на весь мусульманский мир понапраслину возвожу. Ведь обидеться он может, мусульманский мир, ну, если не весь, то наверняка отдельно взятый фундаменталист – ведь как только я эту собаку ни называю в тексте ругательно. И глядишь, еще какой-нибудь аятолла пообещает за мою душу не знаю какую сумму, и приведет все это к еще большему размежеванию в мире. К тому же никакое разумное правительство охранять меня, как некоторых везунков, не возьмется.
А я не желаю размежевания. Я вообще за мир и максимально допустимое природой братство, а потому сразу признаю, что неправильно я выбрал имя, хотя и не имел ничего плохого в виду ни про мусульманский мир, ни про отдельно взятого аятоллу. Но зря все ж я такое имя выбрал. И вот прямо сейчас, как признак доброй воли между народами и религиями, я его заменю и поменяю на, скажем, вполне англосаксонское имя Рекс.
И справедливо это будет во всех отношениях, потому как напомню, Инесса, что Рекс был английским все же догом. Да и знаю, не обидятся на меня за это ни англосаксонцы, ни отдельно взятый англосаксонец. К тому же и аятолл среди них особенно не водится.
Итак, Инесса, повторяю, что подтянулся чувак и крикнул устрашающие для меня слова: «Взять его, Рекс!» И понял я, что Рекс сейчас будет меня брать. И не ошибся.
Страшная скотина тут же натужилась, сгруппировалась, присела на корточки и снова взмыла в воздух. Я все видел это, Инесса. Морда Рекса с открытой пастью уже зависла у меня над животом, он правильно все рассчитал, Рекс, видимо, разбирался, паскуда, – как раз в горло метил…
Но и на старуху бывает, сама, Инесса, знаешь что. Вот и натренированный на человечину Рекс тоже сплоховал.
Вот если бы он не суетился, не горячился, не взвивался, как ошалелый, в воздух, если бы он тихонечко, спокойненько обошел бочком по асфальту да и тяпнул меня куда-нибудь за мягкое, вот тогда бы я сдался наверняка, и бери меня голыми руками, чувак. Но, видимо, не научили Рекса мыслить как надо в его ДОСААФе, или где там его учили, а учили в воздух необдуманно взмывать и клыками лязгать по дороге. Ну, кто в этом виноват? Конечно, не Рекс, хотя отдуваться пришлось именно ему.
Потому как зря он пролетал над моим животом со стороны обутых в городские туфли с каблуками ног. Сказать, что я владею всеми ударами карате, Инесса, я не могу. Не могу я похвастаться карате, Инесса. Но лягнуть я вообще-то тоже умею, особенно лежа на спине. И я лягнул! Хотя можно сказать и по-другому, другими, более мягкими, более человечными словами: «брыкнул ногой». Но крайне удачно брыкнул, расчетливо, даже, можно сказать, смекалисто. А помнишь ли ты, Инесса, что генералиссимус Суворов про смекалку на поле битвы поговаривал? Вот и я не совсем.
Но тут брыкнул я, Инесса, как никогда ты не брыкала, да и многие твои друзья не брыкали тоже. Одним-единственным инстинктом ведомый брыкнул, потому как рано мне было умирать тогда, у подъезда, недалеко от станции метро «Сокол», и хотелось мне жить, страстно хотелось.
И ты знаешь, все так на удивление хорошо сошлось: моя быстро распрямляющаяся нога, тяжелый каблук на тяжелом ботинке, мощный порыв летящего Рекса, его мягкий нюхальник (помнишь, «нюхальник» уже упоминался раньше, но тогда это была пустая угроза), да и вообще вся его на скорости налетевшая на мой каблук башка. Все так удачно для меня сошлось воедино, что бедный Рекс, которого, кстати, мне совсем не было жалко, взвизгнул печально и отлетел в сторону мягким, сжавшимся комочком, где и продолжал повизгивать все оставшееся до конца разборки время.
Короче, вырубил я Рекса, Инесса, одним точным ударом вырубил, сам не рассчитывая на то и не предполагая. Но чего только любовь к жизни не делает с нами, с людьми!
Теперь ты спросишь меня, Инесса, обрадовался ли я, уделав злосчастную скотину? Вот сейчас пишу и, конечно, радуюсь, что напоролся он своим влажным носом именно в то место, где располагался мой каблук. Но тогда не было во мне радости, как не было вообще никаких чувств, разве что только ужасающий страх и желание пожить еще немного. Вообще никаких – ни чувств, ни мыслей, ни планов на будущее.
К тому же дело, видимо, только начиналось, потому что чувак, увидев, что собака его сломлена и физически, и, главное, морально, вдруг произнес… И я точно помню, что именно он произнес, Инесса, слово в слово:
– Ну, мужик, – спокойно, даже обыденно произнес он, – а теперь я буду тебя убивать.
И от того, насколько буднично звучал его голос, и от того, как он не спеша, а так, делово, полез под куртку, и от того, какой он вытащил оттуда нож, с неровным, изогнутым, хищным лезвием, – из-за всего этого я, лежа, напоминаю, ногами к нему, а головой к подъезду, понял, что говорит он чистую правду. Что он действительно будет меня сейчас убивать.
И стало мне так страшно, как никогда еще не становилось, даже в раннем детстве, когда я думал, что родители хотят отказаться от меня. Настолько страшно, что перестал я чувствовать себя – ни тела, ни разума, не говоря уже про руки, ноги и прочие члены.
А тот, который надо мной, ловко так пригнулся и взмахнул рукой справа вниз, и я только увидел, как нож врезался в мое бедро, но не почувствовал я ничего, потому как страх, Инесса, – самая сильная анестезия. Ну, если не общая, то местная, во всяком случае. И хотя я знал, что еще не мертв, так как различаю еще зрением и слухом, но все ж догадывался при этом, что не долго мне различать осталось, в лучшем случае еще взмах, два.
Видимо, о том же и чувак догадывался, оттого наверняка и придвинулся он ко мне ближе, чтобы ловчее в меня снова острие засадить, и засадил все же, таким же ударом справа вниз, туда, к печени, к сердцу, в бок. Но опять не дотянулся до нужного ему места, потому как опять уперлось острие в бедро, пусть выше, но все равно в бедро, а там, ты, наверное, знаешь, Инесса, там кость тазобедренная. И крепкая она у меня оказалась, и не пропустила она острие во второй уже раз подряд.
Чувак даже хмыкнул от своего невезения и еще более придвинулся к моему лежащему в поту и в страхе телу, чтобы опять-таки сподручнее ему было запихнуть мне куда-нибудь лезвие повыше, туда, где кончается тазобедренная кость и становится мягко. И запихнул бы. Вот только слишком близко он подошел к моим трепещущим в ужасе ботинкам.
Вот пойди разберись, Инесса, где взвешенный расчет, а где счастливая случайность, где хладнокровная мужественность, а где лихорадочная отчаянность? – ведь все сжато в секунду… Да в какую секунду! – в долю мгновения, в один спасительный мышечный рефлекс. Ну, чтоб тебе понять лучше, поясню по-другому, метафорически: это как когда наслаждение подступает любовное… Вот так все плотно сжато. Ну теперь ты поняла? Должна понять.
Хочется, хочется мне думать, Инесса, что из ста случаев все сто раз не подкачал бы я аналогично и отбился бы я. Потому как приятно мне, думая о себе, представлять какого-нибудь Ивана Поддубного или кубинского Че Гевару, в конце концов. Как и хочется, чтобы и ты тоже, вспоминая теперь обо мне, закрывала глаза и представляла того же Поддубного или Че Гевару, но только в моем чтобы непременно обличье. Хотя кто знает, кого именно ты представляла тогда, когда так же, закрыв глаза, тянулась ко мне, полная неги? – может, как раз именно и их.
Да, хочется мне… Но ведь честные я заметки пишу или что? А раз честные, то не могу гарантировать я тебе свою непрерывную, пожизненную победу. Хоть и боюсь, Инесса, что разочаруешься ты во мне, как однажды уже разочаровалась.
А было так, что просто подошел чувак ко мне слишком близко, и ноги у него были расставлены слишком широко, опять же для устойчивости, и рука правая была отведена с зажатым в ней криминальной формы ножом. И снова лягнул я, Инесса. Не знаю, поджидал ли я умышленно и хладнокровно этого самого удачного момента или только лишь сейчас очухался от стиснувшего ужаса, но так или иначе, вовремя пришел ко мне дар движений, и к моим тяжелым ботинкам пришел, и к твердым их носкам тоже.
И подцепил я чувака, в самое то место подцепил, о котором ни я, ни ты, Инесса, горевать не будем. Обычно мы о повреждении подобных мест горевали бы, но вот за место чувака – не будем.
А как подцепил, так и вошел внутрь заостренным носком, глубоко вошел, прочно. И видимо, было в моем отчаянном движении столько обиды за пробитую кожу бедра, да пораненную тазобедренную кость, но еще больше за мой низменный страх, и еще от желания жить добавилось, что вдруг, как бы притворяясь, по-игрушечному надломился чувак где-то посередине, перегнулся и скукожился, как карточный домик. И рванулся я.
Ты думаешь, Инесса, что рванулся я на чувака, надломившегося? Нет, наивная подруга прошлых моих дней, рванулся я в другую сторону – в сторону подъезда, туда, куда стремился всей душой с самого начала этой заварухи. А как вскочил я на лестницу, так и преодолел ее махом. И все думал, преодолевая: «Успею или нет? Может, кровью истеку, так и не добравшись до своих», – так как, хоть и понимал я тогда, что исколот бандитской финкой, но не представлял до конца, глубоко ли и в какое конкретно место.
Я звонил в дверь, я стучал, пока не открывали, я бы сломал ее, честное слово, потому что вполне мог за мной гнаться выпрямившийся чувак с длинным ножом и очухавшимся Рексом. Но чувак не гнался, а дверь открыли.
Что они понимали в жизни, все эти мальчики и девочки, нарядные, веселые, подпитые, живущие только для удовольствия, для шур-мур, для забавы? Что они знали о борьбе? О том, как выживать? О том, как выдержать два колющих ножевых удара? О том, как отпечатывается на рифленой подошве нюхальник Рекса?..
Нет, ничего они не знали, эти пустые, никчемные мальчишки и девчонки, ориентированные сама знаешь только на что. И ты, Инесса, кстати, напомню тебе, была из их числа. Ты тоже ничего не понимала и тоже была ориентирована.
– Топор есть? – крикнул я в бешенстве, и все замолкли, так как все в основном уважали меня здесь и потому не сразу поняли, серьезно ли это я.
«Может, – подумали некоторые, – чудит он так весело, вот таким оригинальным, жизнерадостным образом».
Ну а потом, когда поняли, что не до жизнерадостности мне, бросились все собирать тяжелые предметы; топора в квартире, правда, не оказалось, но были скалки, унитазные тяжелые прочищалки и прочий увесистый скарб. Я сбивчиво рассказывал, не вдаваясь.
Кто-то, надеюсь, что ты, так как помню женские чуткие пальцы, спускал мне штаны и осматривал ранения, и все повторял: «Слава Богу, в бедро, слава Богу, не выше. Еще бы пять-семь сантиметров и…», а потом снова: «Слава Богу, в бедро…» Кто-то звонил в милицию, кто-то, опять помню, женские пальцы, снова чуткие, прижигал ранки духами, но я торопился. Мне очень надо было вниз, я хотел догнать и наказать чувака. За все. Но теперь уже не в одиночку. Пусть теперь трепещет он, и пусть его собачий Рекс трепещет тоже.
Мы всей толпой вывалились из подъезда, человек пятнадцать мужиков со скалками и прочим оборудованием, а за нами приблизительно столько же наших состоявшихся и еще не очень подруг. Ни чувака, ни Рекса не было, зато из кустов сбоку раздался шорох. Леха вышел, мрачный и тихий, он не покачивался и не икал. Он подошел ко всем нам, но смотрел только на меня.
– Ну ты, Толян, дал, – сказал он серьезным голосом, и в нем была даже печаль, обреченность какая-то. – Ну ты дал. Я такого и в кино не видел. Ты их поддел обоих. Ты, парень, медали заслужил. Хочешь, я похлопочу у себя там?
И тут он всем рассказал то, что видел, а видел он многое, и вот так я узнал, что же произошло на самом деле, потому как до того момента не имел я возможности вспоминать и анализировать. И никто не спросил Леху, почему не вышел он из соседних кустов раньше, так как неудобно было задавать такой по-жлобски неделикатный вопрос. Впрочем, тогда Лехино взволнованное повествование, этот рассказ очевидца с места, как говорят, событий всех пронял, и стали они обращаться со мной ну просто не по моим заслугам, особенно девушки. Да и ты, Инесса, тоже.
Чего там, везло мне в жизни на ласку, встречал я ласку в жизни. Но такую!.. Ни прежде, ни потом! Потому как героям особенная ласка полагается!
– Так где чувак? – прервал я все же Леху нетерпеливо, потому как тлел во мне покамест жгучий уголек мщения.
– Да он туда поковылял. Он далеко не отвалит. Я же говорю – поддел ты его качественно. – И Леха показал направление.
Чувака мы вскоре нашли, он не оказал никакого сопротивления, и собака его не оказала тоже, так как потрепаны они были, да и вообще в плохом состоянии оба оказались. Так что затухло во мне мщение, тут же побежденное мещанским состраданием, и сдали мы чувака с собакой в руки подъехавшей милиции, пускай они из них остатки выколачивают.
А потом я еще два часа просидел в отделении, давая показания, и Леха давал тоже, и даже менты смотрели на меня с уважением, а молодой опер – тот вообще с завистью. Потому что, объяснил он мне, если бы он сам задержал рецидивного чувака этого, то получил бы повышение, а может, и награду впридачу.
Когда мы вышли, Леха отвел меня в сторону и сказал доверительно:
– Знаешь, старик, про медаль – это я так, погорячился. Не выйдет у меня с медалью.
– Да ничего, – легко согласился я, так как в любом случае не рассчитывал, – хрен с ней, с медалью. Главное – жить будем, кажись, старик.
– Ты знаешь что, – предложил вдруг Леха, – ты возьми мою тачку. Покатайся недельку-две. Мне все равно в командировку. Ты водить умеешь?
Я пожал плечами – никчемный был вопрос.
– Возьми, возьми, – настаивал он, видимо, ему самому понравилась идея.
– А если остановят? – вдруг предположил я. – У меня ведь доверенности нет.
– Не остановят, – отмахнулся Леха.
– Как так? – не поверил я.
– Да на ней номера такие. В общем, чего мне тебе объяснять. Я же говорю, не поймешь ты этого, потому как не материалист.
На том и сошлись. Ты, Инесса, поджидала меня преданно, да и как теперь могло быть по-другому, и сели мы с тобой в машину и покатили по ночным московским улицам – живые, гордые, влюбленные, покатили к нашей квартирке у Измайловского парка, в которой, казалось, не были целую вечность. А потом еще и не спали долго, несмотря на мое тазобедренное ранение. Впрочем, оно не тревожило.
Назавтра, как и обещал Леха, меня не наградили. Зато зазвонил телефон и интеллигентный голос представился, мол, следователь он. Потом осведомился, не ноет ли рана, я спросонья хотел спросить: «какая рана?» – но тут вспомнил, что прошедшей ночью был ранен в схватке.
– Ерунда, – отмел я заботу в сторону, оценив ее все же.
– Мы не могли бы встретиться? – вежливо попросил он.
Я ответил, что рад буду всемерно помочь следствию.
– Хотите, я подъеду, если вам самому тяжело? – еще более вежливо предложил голос.
– Да нет, ни к чему. – Мне снова стало неловко от такой заботы. Не был я привычен, Инесса, видишь ли, к мужской заботе.
– Тогда, может быть, встретимся где-нибудь, где вам удобно?
Я устал здесь, Инесса, употреблять слово «вежливо», но что делать, если данное слово постоянно приходило на ум от каждой его фразы.
– На Тверском бульваре? – предложил я, чтобы заткнуть наконец-то эту его вежливость и заботу, от которых мне было как-то, повторю, неловко, потому что начинал я себя ощущать тобой, Инесса, а именно девушкой, за которой принялись ухаживать. Не знаю, как тебе обычно от такого бывает, но меня такое ощущение досаждало.
– У памятника, – уточнил он.
– На скамеечке, – зафиксировал я.
Потом мы обменялись еще несколькими полновесными фразами о времени, о росте, усах и портфеле в руке. И встретились в назначенный час, на назначенной скамейке.
Следователь оказался моего возраста. Я ожидал солидного и прожженного, ковыряющего и допытывающего, каких я пачками наблюдал в фильмах Киностудии имени Горького. А этот был простой, милый, свой, короче – со стрижеными усами, в пиджаке и с портфелем, о которых как раз и шел телефонный разговор, потому как я был и без первого, и без второго, и даже без третьего. В общем, как-то мы сразу на «ты» перешли.
– Толь, – сказал он, – чего так сидеть попусту, может, по пивку? – И открыл портфель.
Я всегда предполагал, что следователи на редкость высокоорганизованные люди. Все-то у них всегда должно быть под рукой. Вот и у него было под рукой – в портфеле.
– Давай, Вова, – легко согласился я.
– Слушай, – перевел разговор следователь после двух первых глотков, – а здорово ты его вместе с псом. Я потом видел эту псину. Ну, кобель! Такого поди ухерачь.
– Повезло, Вов, – я не кокетничал, я правда так думал. Я даже сейчас, если честно, так думаю. – Крупно подвалило. И знаешь, как раз вовремя.
– Да нет, так не везет. Так, чтобы и того, и другого. Это не случайно. Слышь, Толь, шел бы ты к нам, в органы.
– Да не возьмете вы меня, Вов, – сказал я, взвесив.
Он не стал спорить, видимо, сам понимал, как-то опустил голову печально, молчаливо. Мне даже стало неудобно, что я его законфу-зил не к месту и не ко времени.
– Да и диссертацию пишу, – поправился я, смягчая. – Уже почти написал.
– Ну да, – согласился он, – понимаю.
Мы еще посидели, отглотнули, помолчали.
День был как на подбор, да и бульвар ласкал. Чем? Да абсолютно всем – спешащими людьми, громыхающими машинами, девушками еще в коротких по-летнему юбках – мы с Володей провожали их взглядами. Я же говорю, мы с Володей понимали друг друга, и хорошо это было – встретить вот так на улице в общем-то совсем постороннего следователя и сразу понимать его. А ему – тебя.
Это вообще чудесное ощущение безделья в середине рабочего дня. Так все-таки приятно себя ощущаешь, когда все спешат вокруг, снуют, дела у всех, а ты сидишь и только наблюдаешь, и ничего тебе, кроме наблюдения твоего внимательного, не важно, потому как ты сейчас – бездельник. Может быть, ненадолго, не навсегда, но вот сейчас тебе хорошо, и от того спокойно становится на душе, раскованно, как будто нет у тебя забот и обязанностей и не принадлежишь ты никому и ничему. А от этого всегда легко и раскованно на душе. Во всяком случае, на моей.
И если ты, Инесса, так не пробовала, то выйди днем на Пятую авеню, сядь в от крытом кафе, закажи кофе, ну, если пирожное хочешь, то закажи и пирожное, хотя полнит оно, особенно в наши теперешние года. И смотри, наблюдай, провожай случайных прохожих взглядом. Они-то в пиджаках и галстуках, в бизнес-костюмчиках и бизнес-платьях по делам неотложным спешат и думают сосредоточенно прям тут же на ходу, и планируют, и просчитывают. А в офисах их ждут подчиненные, готовые рапортовать, и начальники, ждущие рапортов, и еще срочные отчеты, и назначенные совещания.
А ты сидишь и слушаешь, как торопливо цокают их каблуки и каблучки по суетливой мостовой, и не ожидаешь ты ничего, и не стремишься никого встретить. И вообще ничего тебе не надо. Согласись – хорошо. Согласись – одно сладкое удовольствие.
Но если нет у тебя лишнего времени в середине рабочего будня, потому что сама ты занята безотрывным, важным трудовым производством и не можешь выйти на Пятую авеню побездельничать – не расстраивайся. Так как знаю я: все у тебя и так хорошо, жизнь и так удалась.
– Да, – сказал Володя, – пса ты здорово звезданул. Ряха у него разбита вдребезги.
– Да чего там, собака. Собака ни при чем, собаку даже жалко. Вот чувак, гад, зарезать ведь мог, и хотел, главное. И нож этот, ты нож видел?
– Да, видел. Но нож как раз ерунда. Подумаешь – нож. У тебя ведь тоже мог нож оказаться.
– Да нет, – ответил я меланхолично, потому как доканчивал свою стеклянную бутылку, – не было у меня ножа. Я без ножа хожу.
– Ну и напрасно, – возразил мне следователь. – Ходи с ножом, безопаснее будет. – А потом снова добавил свое: – Нож – ерунда. Вот собака, гнида, такая напополам перекусит.
– Нет, Вов, – не согласился я, – не соглашусь, нож хуже собаки.
– Не, собака куда как хуже. Нож чего, ерунда, – повторил Володя, зачем-то упорствуя про нож.
Видимо, предположил я, нож действительно не особенно пугает, когда у тебя под мышкой пистолет огнестрельный кожаной кобурой в бок тычется. А может, и не было при нем никакого пистолета, а просто действительно не пугал его нож. А вот меня испугал.
Мы так и проспорили еще минуты четыре.
– Слушай, – сказал он потом, – давай еще по пивку.
Мне хотелось, но я не мог.
– Не могу, Володь, мне еще сегодня диссер писать. Я сегодня не писал еще.
– Каждый день пишешь? – спросил он, и, может быть, проскользнула в его вопросе ненарочная зависть. А может быть, и не проскальзывал никто. А даже если и проскользнула, то никакая не черная, а совсем противоположного цвета.
Потому что черная зависть – она про что, Инесса? Черная зависть – она про то, что вот если у меня чего нету, то хорошо, чтобы и у других то же самое перестало быть. И потому нехорошая она, черная-то.
А белая – та нормальная. И звучит она нормально: это здорово, старик, что у тебя имеется. Вот и мне тоже надо бы поднапрячься как-нибудь, чтобы самому обзавестись таким же.
Чувствуешь разницу, Инесса?
– Ага, каждый, – ответил я.
– Ну да, понимаю, – он кивнул. Мы снова помолчали, но пауза не была искусственная, так молчат друзья, не надо им все время языки чесать, и так все понятно. Вольная была пауза.
– Тебе надо судебно-медицинскую экспертизу пройти, – напомнил он мне. – Ранения твои. – Я понял, что это он про порезы на левом бедре. – Я позвоню в травмдиспансер, чтобы тебя без очереди.
– Спасибо, – сказал я. Мы еще посидели.
– Ну, ты точно не будешь? – спросил он, указывая на портфель.
– Не, Вов, точно. Извини, как-нибудь в следующий раз.
– Ну ладно. Ты вот чего, Толь, ты звони, если чего. Если нужно чего. Ну, сам понимаешь, мало ли чего. Помогу, если смогу.
– Вот, Инесса, все говорят – блат, знакомства. Да какой там блат? Просто сходятся люди, легко им друг с другом, и выясняется, что рады они иногда помочь, хотя, может, и не потребуется тебе никогда. Но ведь и ты готов, в свою очередь, – и так оно наращивается и обрастает, и сращивается поколение корнями, и от этого чувствуешь ты себя защищеннее по флангам и тылам.
– Спасибо, Володь. Ты тоже звони, если чего. Да и просто так звони.
Он кивнул и встал, почему-то от него отражалось тусклое подобие грусти. Может, ему не хотелось идти в свою суровую контору, а может, просто не хотелось уходить, а может, мне так только показалось.
– Ну я пошел, – сказал он, – ты не забудь завтра про экспертизу. Я позвоню туда.
И он ушел, и я остался один на бульваре.
А потом прошел день, и утром следующего ты ко мне снова приехала, Инесса. Почему ты ко мне в основном по утрам приезжала? Может, я свежее был по утрам?
Мы опять не спешили никуда особенно, но время накатывало, и к середине дня мы сели в Лехин автомобиль со специальными номерами и поехали в травмдиспансер в район Сокола на экспертизу, по месту, так сказать, нанесения моих нетяжких телесных повреждений. Подрулили мы туда, значит, я предупредил тебя, что ненадолго отлучаюсь, минут на пять – чего там дольше с моими порезами делать? И осталась ты, верная моя Инесса, ожидать меня в автомобиле. А я направился на экспертизу, не ведая, что обманул тебя ненароком, что не вернусь через пять минут. И через десять – не вернусь тоже.
Приняли меня, как и обещали, без очереди. В кабинете присутствовал врач, травмовед, и сестра, но она меня не заинтересовала; может быть, лет десять-пятнадцать тому назад она бы меня и заинтересовала, но не теперь. Впрочем, она была очень мила. Я сразу догадался, что следователь Вова им уже звонил, по тому понял, как они на меня смотрели восторженно, да и по мягкой человечности в голосе.
– Слышали, слышали, весь район только и говорит, что, мол, парень молодой задержал рецидивиста с лютой собакой. Он, кстати, ее специально на людей науськивал. Ну что же, молодой человек, приспустите штаны, осмотрим ваше героическое ранение.
Я приспустил, не ожидая ничего плохого. Ничего плохого и не оказалось.
– Так, Танечка, записывайте, – проговорил доктор сестре, и я еще подумал, что я бы ее Танечкой назвать не догадался бы. – Два ножевых открытых ранения. Первое – полтора сантиметра в длину, второе – один и семь. Глубина…
Он так диктовал и диктовал, и я не могу сказать, что мне было не интересно, интересно мне было, просто многого я не понимал. Слова какие-то употреблялись не совсем знакомые. Потом я натянул штаны на место, где им и предназначалось.
– Счастливо, Анатолий, – сказал врач на прощание. – Рад был, очень рад. Да и Танечка рада.
Я посмотрел на Танечку и убедился, что она действительно рада. И я стал выходить.
Я уже почти вышел, уже дернул дверь за ручку и приоткрыл ее уже, еще бы секунды две-три – и оставил бы я ее, дверь, за собой, да и кабинет бы оставил, и опять удачно выкарабкался бы я сухим из мутной ихней воды. Но не было у меня этих двух-трех секунд, не отпустило их мне время.
– Хотя, Анатолий… – раздался задумчивый голос врача из-за спины, – зайдите-ка еще на минутку.
И я послушался и вернулся. А напрасно. Потому как надо было бежать мне опрометью, сломя голову, стрекачом (какие там еще усиления языковые имеются?), к тебе, Инесса, бежать и быстро заводить автомобиль. Может, и не поймали бы они меня тогда, и улизнули бы мы, и не потерял бы я тебя в результате, Инесса. Но я всегда доверчивым был. Вот и вернулся.
– Знаете что, – предложил мне доктор, – ну-ка покажите мне свои ранения еще раз.
Я послушался и опять приспустил штаны.
– Да, – снова сказал доктор, и голос у него снова был задумчивый-задумчивый. – Сильные воспалительные процессы вокруг ранений.
Я с подступающим волнением глянул на свои неглубокие ранки. Вокруг них действительно было красновато, не так, чтобы уж очень воспалительно красно, но красновато.
– А не сделать ли нам, Танечка, Анатолию противостолбнячный укол?
Танечка подошла, вгляделась в покраснение и согласилась.
– Да, Валерий Николаевич, сильное воспаление. Противостолбнячная сыворотка в таких случаях решительно показана.
Весь этот внезапный поворот врачебной инициативы у меня сразу вызвал тревогу, и от слова «сыворотка», и про столбняк, да и слово «укол» – все это попахивало открытым насилием, и я запротестовал.
– Знаете что, – сказал я, – мне и так очень хорошо. И не больно мне совсем. Я, знаете, нисколько не чувствую боли. Так что ни к чему мне укол.
– Что вы, что вы, – покачал головой Валерий Николаевич, он, кстати, был мужчина в самом что ни на есть соку, и не зря он Танечку называл так ласково, даже при людях. А как он называл ее при закрытых дверях? Можно только догадываться, Инесса, только догадываться.
– Противостолбнячный для профилактики не помешает. Никак не помешает. Мы ведь не знаем с вами, что там было, на лезвии ножа. Вполне возможно, что и микробы. Представляете, Анатолий, микробы! – Тут он поморщился брезгливо и тут же добавил с новой, удвоенной настойчивостью: – Так что непременно противостолбнячный. Именно противостолбнячный.
Я знавал таких людей, их возбуждают собственные мысли. Сначала они возникают как предположение, мысли эти, как приблизительное допущение, но по мере прохождения через организм спело созревают и на выходе представляются как единственно возможные. И окрыляют они создателя.
Обычно это ничего, обычно – не страшно. Ну, возбудился человек от собственной мысли, ну кому от этого плохо? Ну разве что тем, кто рядом – жене, дочке. Но тут врач травматолог, этот Валерий Николаевич, внезапно проявил себя человеком именно такого сорта, и чем дольше он повторял про «противостолбнячный», тем упорнее у него получалось.
И понял я, что не выпустят они меня с Танечкой из кабинета. То есть выпустят, но только после того, как сотворят надо мной измывательство и всадят в меня совершенно никчемный для меня укол. Более того, понял я, что если я вот сейчас откажусь наотрез, то, глядишь, вызовут они на подмогу дюжих травматологических санитаров, скрутят меня, раненого, и все равно засадят шприцом куда-нибудь в руку пониже плеча. А как недавно показала жизнь, не терплю я проявлений насилия. Те м более над собой.
Хотя, Инесса, ты ж меня знаешь, не сдался я так сразу, я возражал еще долго. И про то, что не люблю уколы, и про то, что, может, у меня на противостолбнячный аллергия, и про вообще и без того вполне хорошее самочувствие – всем этим я возражал, и даже весьма активно.
А то вколют они тебе чего, а ты ведь не знаешь, чего именно, да и они наверняка не совсем уверены. То есть они предполагают, что это именно то, что они имеют в виду, но я ведь вижу по ихним глазам, понимаю, нет у них конечной уверенности. Да и про шприц можно еще поспорить – где он, откуда да и сколько кипел и булькал в их стерилизующих резервуарах. Да и булькал ли?
Но Валерий Николаевич все повторял «противостолбнячный» да «противостолбнячный», и Танечка ввязалась, и тоже все фигурировала этим словом. А доктор – он аж покраснел даже, и в таком неистовом порыве он вдруг оказался, что по порыву я бы его сейчас принял за вождя революции. Хотя за какого именно вождя и какой именно революции – не знаю, много ведь их было, революций в мире, и вождей у них было немерено.
И уговорили они меня, Инесса. Вернее, не уговорили, а просто все равно мне как-то вдруг стало. Укол – так укол, противостолбнячный – так противостолбнячный, и не то я в своей жизни перестрадал.
– Да ну вас, – сказал я в сердцах. – Делайте, если вам надо.
Как они обрадовались, Инесса! Ты бы видела. Доктор прямо расслабился весь, даже морщины на лице разгладились от чрезмерной расслабленности, он и на спинку стула откинулся облегченно, мол: «Вот я и сделал свои трудные полдела. Не все дело пока, но полдела сделал. Все-таки уговорил молодого, симпатичного парня, которому еще жить да жить, на безболезненный укол и уберег его тем самым от мерзкой столбнячной заразы». Которой у меня, кстати, не было.
И Танечка так празднично, нарядно засуетилась вокруг, прическу впопыхах кончиками пальчиков взбила воздушно, стала бегать от шкафчика к столику, а от столика снова к шкафчику, приготавливая что-то возбужденно для предстоящего профилактического укола.
Там у них шкафчик у стенки стоял медицинский, типичный такой медицинский шкафчик – сам стеклянный, а углы почему-то железом обиты. Ты, Инесса, обрати внимание на шкафчик, потому как будет он играть роль в печальной развязке всего повествования и трагически повлияет на наши дальнейшие с тобой отношения.
– Заголите рубашку на спине, Анатолий, – радостно запела Танечка, заходя зачем-то сзади.
– Для чего, – спрашиваю, – на спине? Я вам лучше рукав закатаю до самого плеча.
– Ан нет, – отвечают мне эти двое хором, – заголите, заголите. Потому что наш противостолбнячный – он именно под лопаточку вгоняется.
Совсем мне это не понравилось, Инесса. Но, видишь ли, я уже был сдавшийся, согласившись на укол в принципе, а со сдавшимся можно выделывать чего хочешь. Очень легко им манипулировать. Поэтому я советую тебе, Инесса, и всему подрастающему поколению тоже советую: никогда не сдавайтесь, друзья. Держитесь до последнего, особенно когда речь о противостолбнячном заходит.
– Встаньте ровненько, Анатолий, вот так, чудненько. – Ах, Танечкиными устами сладкими да мед пчелиный пить, да прополисом их ним закусывать. – И не бойтесь, вы и не почувствуете ничего, это всего займет несколь…
И не почувствовал я ничего. И долго потом, видимо, ничего не чувствовал.
А потом слышу, зовет меня кто-то, но тихо так. Тихо и издалека очень. Как будто мы на переправе и все шумом воды заглушается.
– То-о-о-ля, – слышу. – То-о-о-ля-ля-ля…
И тут же снова, как медом по всему телу, женским, приятно так:
– Ана-то-ллл-иййй…
Открываю глаза, смотрю – нет, не переправа. А лица вокруг. Близко. Двое. Он и она. И он все бьет, бьет меня. По щекам. Но мне не больно. Не чувствую я щек и всей своей головы не чувствую. Так и лежу и смотрю, а они испуганные надо мной, озабоченные, и снова понимаю – не переправа.
Потом подняли они меня и поволокли на кушетку, была там кушетка, оказывается. Вот тогда я в первый раз понял, что что-то неправильно у меня с лицом. Видимо, оно еще есть, но что-то с ним не так. Не знаю, Инесса, как я понял это, вероятно, свое изнутри чувствуешь, вот и лицо, оно тоже свое, родное, и так я его и почувствовал, изнутри. А еще руки дрожат, сильно так дрожат, у меня вообще никогда не дрожат, хоть и выпью много, а тут ходуном просто. И ничего не могу я унять, вообще ничего.
Не знаю, сколько я отлеживался, только Танечка все это время рядом сидела и все за руку держала, все разговаривала со мной – про семью свою, про деток. У нее, оказывается, семья была. Это теперь я понимаю, что она специально так, чтобы внимание мое собрать, чтобы снова не отлетел я куда-нибудь в никуда. Впрочем, я не отлетел, а наоборот, укрепился и даже голову приподнял, хотя, повторяю, что-то неправильно было с лицом на моей голове.
– Чего вы мне там вкололи? – это было первое, что я спросил.
– Э… противостолбнячный, Танечка? – проговорил Валерий Николаевич, врач, травматолог, и не случайно, Инесса, я поставил вопросительный знак в конце его реплики, потому как это был куда больше вопрос, чем утверждение.
– Так… там было написано так… на скляночке, – заметно застеснялась та, которую называли Танечка. А потом добавила как бы для себя больше, в раздумье: – Может, они, конечно, туда чего другого налили, просто наклейку сменить не успели. – Я хотел спросить «кто, они?», но не успел. – А может у вас, Анатолий, такая реакция на противостолбнячный?
Это второе предположение мне, кстати, намного больше понравилось, чем первое. Потому что не хотелось мне пускать в свой организм неизвестную ни мне, ни им жидкость, уж лучше – неправильная реакция. Вот и Валерию Николаевичу, врачу-травматологу, предложение про реакцию тоже очень пришлось.
– Ну да. Без сомнения, это реакция у вас такая на противост…
Но я не дослушал, я стал поднимать все свое разбитое тело туда, вверх, вслед за головой, на которой все же что-то явно было не то с лицом.
– Куда вы, Анатолий, куда вы? – всполошилась медсестра. – Мы вам сейчас успокоительного дадим. Сейчас я только шприц приготовлю.
– Не надо успокоительного, – ответил я глухо, и, видимо, это было очень глухо, потому как Валерий Николаевич, поднявшийся с кресла с первоначальным желанием мне противоборствовать, тут же осел обратно.
Танечка подставила мне плечо для опоры, но я отодвинул ее очень дрожащей рукой. Впрочем, она, верно, не обиделась.
– Где тут лицо помыть? – спросил я, проверяя некрепкие ноги.
– Да вот же он, тут, рукомойничек, – беспокоилась вокруг меня Танечка, и я его увидел. У стены висел, прикрученный.
Я подошел и включил воду, она была только холодная, что в данный момент было даже хорошо. А потом я поднял глаза и увидел себя, там было зеркало над рукомойником, и я увидел себя в этом зеркале. Но это не был я! То есть я бы себя, конечно, узнал, если бы меня на опознание тела вызвали, но так вот, без предупреждения, без предварительного психологического настроя, так, именно с первого взгляда… Нет, не просто это было. Вся правая сторона моего лица была залита сине-фиолетовым от самой верхушки лба до самого конца подбородка, включая глаз, рот, ну и прочее. Хотя левая сторона была привычная, только корчилась от ужасного зрелища.
– Зачем вы меня так? – спросил я, обернувшись к медперсоналу. И видимо, в моем голосе была обида, потому что Валерий Николаевич, врач, напомню, травматолог, вдруг вскочил с кресла и заметался по кабинету, туда и назад.
– Да это вы сами, голубчик, – заспешил он и теперь снова стал похож на вождя революции, но теперь я точно знал, на какого именно. – Зачем надо было падать так неосторожно наотмашь, так, просто-напросто, плашмя. И не просто падать, а вот на самый угол медицинского шкафчика.
Я посмотрел на угол шкафчика, говорил ли я тебе, Инесса, что он был обит железом, снизу доверху, как теперь вся правая часть моего лица.
– А чего вы меня не посадили хотя бы? Перед уколом? На кушеточку? Ведь есть же кушеточка, – вяло спросил я, и вышла долгая молчаливая пауза. Валерий Николаевич смотрел на Танечку, Танечка – на Валерия Николаевича, и не могли они найти ответ.
И понял я, что сегодня вечером не получится у них любви, потому как обвинят они друг друга в непредумышленной халатности, может быть, не на словах, но в душе обвинят. Как-нибудь, наверное, у них и получится, но хорошей, полновесной любви – нет, не получится. И стало мне даже неудобно перед ними за то, что вот так взял и порушил им сдуру.
– Так кто знал же, что все так… – все же нашелся доктор и развел руками.
И был прав – ну действительно, кто?
Я еще раз посмотрел в зеркало – в целом было даже интересно, потому как на такого красочного себя я еще никогда не смотрел.
– Ну вот что, – услышал я сзади. – Татьяна, усади теперь Анатолия на кушетку, нам надо проверить, нет ли у него сотрясения моз…
Я медленно повернулся на голос, и он заткнулся. Видимо, я был пугающе страшным, особенно из-за сине-фиолетового.
– Я к вам завтра приду, – нагло соврал я.
И никто мне не возразил.
А потом я медленно дошел до двери, открыл ее и вышел в коридор, и мне опять никто не возразил. А потом долго брел по коридору, который с людьми, стульями, халатами белыми все колыхался и колыхался. И опять казалось мне, что я на переправе.
И вот что, Инесса, интересно: до сих пор не могу понять, ну чего они тогда влили в меня?
Я вышел на улицу, вдохнул свежего, светлого воздуха, и мне не стало лучше. Шло время, я стоял и находил глазами машину со специальными номерами, а потом шел к ней.
Ты ждала, но во взгляде твоем отражалось беспокойство. Во всяком случае, мне показалось, что беспокойство. «За меня, – подумал я, – за лицо мое».
– Долго меня не было? – спросил я, но так, для проформы скорее, потому что в принципе мне это было неинтересно.
– Часа два, – ответила ты, и я снова попытался оценить твой взгляд. Нет, не беспокойство отражалось в нем, а что-то другое, мне еще незнакомое.
– Что с тобой? – все же спросила ты.
– Я упал, – признался я.
– А, – сказала ты.
– Я ударился…
– А, – еще раз сказала ты.
– О шкафчик…
У меня была потребность все тебе рассказать, поделиться. Но я не мог быстро. Только по частям.
– А, – сказала ты снова.
– Он был обит… Я замолчал, мне было сложно все разом.
– А, – вырвалось у тебя.
– …железом.
Теперь молчала ты. И тут я наконец расшифровал твой взгляд – досада в нем была, вот что, и еще неприязнь.
«Ко мне ли?» – спросил я себя. И подумав, ответил, пусть с обидой, но честно: «Ко мне!»
«Да и то, – заступился я за тебя перед собой, – сам вспомни, каким ты был еще два часа назад – герой. Самый что ни на есть, о каких в книжках. А какой был вчера или хотя бы позавчера, когда она к тебе доверчиво, пионеркой? А сейчас, посмотри на себя, – я посмотрел, там было зеркало в автомобиле, – вялый, трухлявый, гнилой. Да и фиолетовый совсем не твой цвет. Как такого можно любить? Нельзя такого любить. Даже уважать нельзя. Жалеть? Жалеть, может, и можно, но любить? Нет, любить нельзя!»
– Отвези меня домой, – вдруг попросила ты. Я и сам был бы рад, но я не мог.
– Не могу, – ответил я. – Руки дрожат.
Ты посмотрела на мои руки – они дрожали.
– Ладно, – сказала ты, – тогда я пошла.
– Ага, – не возразил я.
Потому что понял: не надо было брать тебя на пьянку, ведь многих по-своему замечательных людей могла ты там повстречать, и не зря ты отсутствовала в «других комнатах» большую часть вечера. Знал, что не надо было. Зачем взял? Все потому, что расчувствовался непозволительно во время вальса на полянке, а ведь всегда знал – неправильно давать волю чувствам. Особенно когда с девушками. Но вот ошибся и дал слабинку, и будешь ты теперь не ко мне приходить ранним утром.
Хотя не долго продлится это, – мелькнула все же злорадная мысль, – так как недолго твоей халяве длиться. Отпуск твой дипломный вот-вот закончится, и не до утех тебе будет по утрам – будешь ты, как все порядочные, на работу спешить. Ну, почти как все. Впрочем, – предположил я, – ты же смышленая, ты тоже сориентируешься.
А я? Что я? Я оклемаюсь и восстановлюсь, и исчезнет дрожь и неуверенность в членах, и лицо обретет былую раскраску и форму, и снова все будет как было… Только вот тебя, Инка, увы, не будет! Ну и ладно, – ответил я себе, провожая тебя в зеркало… Я же говорил, Инесса, там было зеркало в машине. «Зеркалом заднего вида» оно, кажется, называется.
Вот я и провожал в него твой удаляющийся задний вид, и вдруг почему-то мне стало весело и легко, хотя дрожь еще не отпустила, как и общая наркотическая слабость. Но легко стало, потому как вновь я оказался один и вновь никому ничего оказался не должен, и вот отойду я через полчаса от травматологической этой анестезии и поеду куда-нибудь, и кто знает, куда приведет меня московская нескончаемая, извилистая дорога. А хоть и в никуда, тоже ведь хорошо – «в никуда».
Я еще посидел немного, отдохнул, и стало мне еще веселее. А ведь и вправду, подумал я, ведь только недавно вступил я в неравный бой с криминальной силой – и победил, да еще и кобеля ужасного тоже победил. Ведь совершил почти невероятное, рискуя хрупкой своей жизнью, но справился и победил.
А вот с медициной отечественной не справился. Расслабила она меня, и взяла тепленьким, и одолела. И легко ведь одолела! Это ведь хорошо, что еще на своих двоих ушел, хоть и нетвердо, а вот если бы они на сотрясение мозга стали бы проверять – тогда бы точно кранты. Ну правда ведь смешно.
Я не помню, Инесса, рассмеялся ли я от этой мысли, но улыбнулся-то уж точно. А потом, как обещал себе, отошел немного, унял несколько дрожь и покатил на Лехином автомобиле со специальными номерами. И никто меня не остановил, хотя был я вполне пронар-команенный, или «обдолбанный», как теперь говорят.
Но чтобы спокойнее тебе жилось, Инесса, в твоем беспокойном Нью-Йорке, честно сознаюсь, что не поехал я тогда «в никуда». А поехал обыденно домой, в свою нанятую квартирку у Измайловского парка, потому что ждали меня еще два часа интеллектуальной не пройденной на сегодня потуги.
И вот, Инесса дней моих веселых, подруга верная моя, я и завершаю сей правдивый рассказ. «Зачем ты написал его?» – спросишь ты меня, пряча книгу от мужа, чтобы не узнал он тебя в моей Инке и не узнал о твоем, в общем-то, нормальном девичьем прошлом. Потому как не всем, но некоторым мужьям такое, в общем-то, нормальное девичье прошлое ихних нынешних любимых жен может прийтись и не по вкусу.
Отвечу. Для всех нас написал, для нашего общего удовольствия. Но и лично для тебя тоже, Инка. Чтобы знала ты, что не выветрилась ты до конца ветрами, не потерялась полностью во времени, ведь, в конце концов, это всего лишь угол поворота. Помнишь?
Да и еще, чтобы у всех у нас была надежда.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




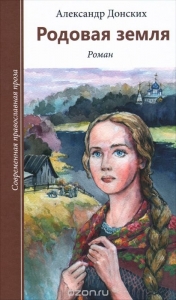
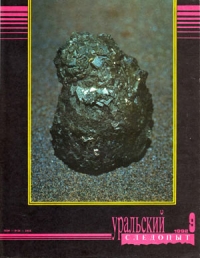


Комментарии к книге «Инессе, или О том, как меня убивали», Анатолий Тосс
Всего 0 комментариев