Илья Кочергин «Зависимые»
ThankYou.ru: Илья Кочергин «Зависимые»
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
СПАСАТЕЛЬ
— Курить-то не бросил?
— Нет, Серёга, пока не бросил. Это такая зараза, что…
— Я тоже никак. Пойдём тогда, посидим на улице. Там посвежее. Сейчас я… а, ну давай твои, что ли. О, я таких и не знаю.
Вышли, уселись на гладких деревянных ступенях крыльца.
— Как ты там, рассказывай про жизнь свою столичную. Как Катерина?
— С Катей три года мы уже раздельно.
— Тьфу, ёлки. Развелись что ли?
— Можно и так сказать.
— Она где работает ли, нет?
— В школе. Как сразу тогда устроилась, так и работает. Русский язык и литература.
— А сам, Миш, где?
— Да, кручусь понемногу. Упаковка цветов.
За поскотиной Серёгина Татьяна доила корову, рядом лениво стояли и смотрели в разные стороны два бычка и телёнок. День уходил, шум Аксушки стал резче, и к западу, над Айю-озёком, разгорались облака. Из тайги опускалась прохлада. Обо всём остальном говорить было как-то вроде не к месту и неловко. Но надо.
— Полиэтиленовую упаковку для букетов произвожу. Двадцать человек почти работой обеспечиваю. Юльца на флориста отдал учиться, теперь тоже со мной работает. Потом на дизайнера хочет поступать. Девчонка молодец вообще, умница. Парня нормального нашла, он сейчас заканчивает этот…
— Это что, своя фирма у тебя что ли?
— Да, свой бизнес. Десять лет уже. Не знаю, правда, сколько продержусь ещё. Пока тащу всё это, дальше видно будет. Работать последнее время трудно стало. Малый бизнес вообще убивают на корню.
— Этот, как его, рэкет, что ли?
— Какой рэкет, государство родное, Серёг. Короче, там долго объяснять. Просто, скажем так, если я всё провожу по закону, то реально просто в минус ухожу со всякими налогами, проверками, понял? А если нет, то вроде как…
— Ладно, это, ты Миш, можешь мне не рассказывать. Я в этих делах всё равно ни бум-бум, как говориться.
— В общем, на жизнь пока хватает, квартиру Кате с Юльцом купил. Трёшку.
Пятнадцать лет вдруг ушли, как не было. Лето, Алтай. Миша поплыл, как от водки — запахи, ясное небо, мычание телят, горы, держащие чашу долины в крепких ладонях. Потянуло в сон, он потёр щёки и встал.
Крыльцо и Серёгин двор мало переменились. И сам Серёга как будто тоже, только лицо посуше стало, порезче — нос выдался, складки всякие появились. А так — та же тяжёлая, косолапая повадка, покатые плечи, как у вставшего на дыбки зверя. Непомерной толщины прокуренные пальцы. Один глаз с разбитым зрачком вбок, другой мечтательно смотрит вверх, на кромку тайги под розовыми облаками.
Гнедой Серёгин конь, привязанный у дома, вдумчиво лизал подсоленную землю, шумно дыша в пыль, затем стал чесать зад о жерди гнилой заграды и повалил её.
— Ты кури, Миш, отдыхай. Пойду пока его на аркан поставлю.
Михаил надел куртку, тоже пошёл с ним. Проходя мимо, заглянул в окна своего бывшего дома и пожалел — печь развалена, вид нежилой. Они жили здесь с Катей, с маленькими Юльцом и Андрюшкой.
— А в Валеркином доме кто живёт?
— С Питера. Йог что ли или буддист, я как-то без понятия. Но нормальный так парень, спокойный, работает. Сейчас на рыбалку в тайгу поднялся дня на три. То лето в вершине Баян-суу избушку вдвоём с ним поставили. Осенью мост хотим через Карачек чинить. Ходим помаленьку. Зимой на лыжишках тоже бегаю пока силы есть. Ну и побраконьерничаю чуток иногда, — Серёга подмигнул здоровым глазом.
— А он не в секте какой-нибудь, этот питерский?
— Какая там секта. Раздолбай — не хуже меня. А ты себя вспомни, как первое лето в одних трусах на охоту босиком ходил. Ветки, говорит, чтобы не шуршали! А Кастанегу кто читал, Миш? Я что ли? Вон она у меня на чердаке до сих пор лежит, хочешь — забирай.
— Слушай, а Валерка сейчас где?
— Он сначала в город перебрался — года через три после тебя, потом в Аирташе дом построил. Теперь там. Туристами занимается.
— Успешно?
— А я, Миш, и не спрашивал.
— Алёха-то как у тебя — забыл спросить — что делает? Учится, работает?
— В Новосибирске поступил, отучился на математике в университете. Теперь хочет в аспирантуру.
Вышли на вертолётную площадку. От ног вяло разлетались разноцветные саранчи. Серёга привязал один конец аркана к недоуздку, железный колышек на другом конце загнал ногой в землю. Постояли, посмотрели, как лошадь, взмахивая ногами, тяжело валяется на земле, потом звучно отряхивается.
— Как конь ест — сколько хочешь могу смотреть, а вот как корова или мелкий скот — нет такого удовольствия.
Михаил не нашёлся, чем ответить на это. Помолчал и сказал:
— Я, Серёг, в общем-то, по делу приехал. Предложение есть одно.
— Тоже туристов возить решил?
— Нет, не туристов. В общем, я сразу не сказал — у меня Андрюха на наркотики подсел. Три года как погиб. Такие дела.
— Ох ты, — Серёга оценивающе оглядел Мишу с ног до головы. — Да, парень… А я смотрю сегодня, башка у тебя сивая совсем стала. Думал от столичной жизни.
— Короче, я не об этом, Серёг. Сейчас пытаемся вытащить пару таких же пацанов. У нас сообщество такое сложилось, у кого дети вот так вот… Пытаемся что-то делать — что можем. Ну, просто что-то делать. Не у меня одного, как говорится, такое.
— А, слушай, а Катерина как?
— Да никак. Как… В церковь ударилась. Меня это… будто я во всём виноват. Типа, весь в делах, детей не видел целыми днями. Юлец с ней носится, поддерживает. Мама, давай то, мама, хочешь это, мама надо жить… Вообще, умница девка. Через неё и общаемся.
— Короче, Серёга, думали тебе бесплатных помощников предложить. Парни — два — вроде неплохие, согласны. Просто на реабилитацию. То есть, это не уроды, не отморозки, там, то есть… Культурные семьи, все дела. Хоть на полгодика для начала. На покосе, на дрова их, тропы чистить по всему лесничеству. Что угодно, не знаю… избушки рубить, пусть брёвна таскают. Ты говорил, вам только две ставки лесниковские оставили, так что вот — бесплатная рабочая сила.
Миша не дал Сергею ответить, торопился докончить.
— Продукты полностью, всё подвезём, всё что надо. То есть, никаких проблем. Всё что надо. Родители готовы и тебя кормить и весь кордон, то есть, реально на всё готовы. Просто, понимаешь, изолировать немного от этого всего. Там, Серёг, притон на притоне. Соскочить невозможно. Очень трудно. Некоторые аптеки, круглосуточно кодеиносодержащие без рецепта — пожалуйста, чтобы «крокодил» варить. Ночь-полночь… Всё крышуется, все всё знают… Короче, Серёга, если рассказывать… Понимаешь, в тюрьму парня отправить за пять косарей зелёных? Но это тоже не вариант. Героин на зоне через охранников на раз достаётся. Я же всё это знаю, проходил всё это, когда Андрюшка…
Миша старался сам себя притормаживать.
— То есть, тут, здесь для них — это просто выход. Реально — выход. Я просто помню — сколько я, Серёг, тогда проработал, пока мы не уехали? Четыре года? Серёга, это мне заряд был на всю жизнь. Здоровье, радость. Мне до сих пор раз в месяц точно снятся наши походы, кордон, ты с Валеркой. Мы, конечно, сами выбирали, мечтали, советская романтика, тайга… Но всё равно. Тут красота, природа, походы, люди другие совсем. То есть, просто надо спасать ребят. Вырвать их оттуда, от друзей, я не знаю… от ментов, от родителей, от этой жизни… Короче такое вот моё тебе предложение. Я конечно, может…
— Миш, я тебе знаешь, что скажу? Вернее покажу. Ты уж за это время всё забыл, и потом ты не такой человек, как и я же.
Серёга, по-птичьи склонив на бок голову, прицелился здоровым глазом вдоль своего пальца.
— Это вон что растёт, видишь? Заросли вон у заграды. Я же за лето от этой канители по три раза к туалету дорогу прокашиваю. Ты понял?
Миша молча смотрел туда, в сторону огородов.
— У нас Руслан-то Курмес жил. Это ведь не при тебе было? Он её из-под снега зимой искал, сугробы руками раскапывал, когда приехал. Потом мы его быстро вытурили, так до лета и не дождался. Так что вот так, парень.
Серёга задумчиво покачал себе стальную коронку на зубе. Поцыкал. Продолжил:
— Я-то против ничего не имею. Привози. Только вряд ли что хорошее выйдет. Я не знаю, конечно, сильная она здесь или нет ли, только, думаю, если этих твоих ребят сюда, то они быстро с этим разберутся.
Вопрос был закрыт. Миша никак не мог сообразить, как же он мог забыть это, но теперь уже какая разница. Забыл. Не обращал раньше внимания, не интересовался этим, когда пятнадцать лет назад бегал по всей этой тайге с ружьём, балдея от счастья, молодости и избытка сил.
— Пошли, Миш. Чай попьём. Я только сперва дизель заведу — Татьяна сегодня стираться хочет. Не переживай. Отдохнёшь, завтра в баню сходишь. Можно вон, на рыбалку съездить, если хочешь. Коня тебе поймаю.
Пошли обратно в наступающих сумерках.
Кордон как будто не изменился. Кажется, что идя за косолапо ступающим Серёгой, переходя через Аксушку по мостику, обернёшься назад, к своему дому, и увидишь развешанное на верёвке бельё. Да нет, вообще-то, уже не кажется.
Миша побродил по двору, пока Серёга ходил в дизельную, поглазел на высокий изрезанный горизонт, на перья облаков, разбросанные по всему небу. Затарахтел генератор, и над крыльцом зажглась лампочка. Татьяна открыла дверь и позвала его низким, резким голосом:
— Миш, давай, если что грязное есть, я замочу пока, — она как всегда улыбалась. — Я всё равно на машинке, вон Серёга завёл свет. Завтра уже высохнет.
— Да не, спасибо, Татьян.
— Давай, всё равно собралась стираться. На засратых, как говориться, чистота напала.
Миша засмеялся.
Сели на веранде, слушая, как сипит чайник. Серёга прошёл, щёлкнул выключателем — зажёг свет. Поставил на стол тарелку.
— Вот рыба, сейчас хлеб нарежу. Ешь, давай, не стесняйся.
Миша молчал, всё прислушивался к себе.
— Да, что-то мы как… не по-русски, — очнулся он. — Я что-то как-то это, Серёга… задумался. Извини.
Он покопался в своём рюкзаке, поставил на стол бутылку.
— Домашний коньяк из Франции. Рекомендую.
— Это как — домашний?
— Сам не знаю. Так сказали. Из Франции привезли. Я, правда, сам, Серёг, не пью. Мне чайку, если можно.
— А я, Миш, знаешь, тоже. Как раз вот… тоже три года. На Троицу.
— На Троицу?
— А говорят — на праздники хорошо бросать. И точно. И не хочу. Могу, конечно, на Новый год рюмку, но так — не особо. — Он придвинул к гостю хлеб, заварочный чайник, поставил пепельницу. — А так, у меня тоже есть, если хочешь, достану. Так что — смотри.
— Да нет. Я уже тоже два года как. Только не на Троицу. На Анонимных год отходил.
— Это что же? Кодировался что ли?
— Не, на Анонимных Алкоголиков, на собрания ходил. Не слышал такое?
— Не-а.
— Ну, поддерживают друг друга, разные истории про себя рассказывают. Программа у них есть — «Двенадцать шагов» называется. Типа, первый пункт — признать себя алкашом. Ну, потом — другим помогать и прочее. Молились вместе.
— Ага. Я тоже молился. Вот не верю во всю эту канитель, а молился. Точно помогает. А кодирование — это чепуха.
Серёга убедительно моргнул и кивнул головой в подтверждение сам себе.
— Давай, ешь.
Ночью — небо только малость посветлело — Михаил вернулся к своему коньяку. Он вышел покурить на террасу и сев за стол увидел перед собой бутылку. Сергей с Татьяной из приобретённой восточной вежливости не тронули её, убирая вечером посуду.
«Мог бы взять сейчас и выпить», — подумал он.
Но, конечно, не выпил. Миша привык к таким мыслям, возникающим сразу и ниоткуда. Он знал, что не выпьет, только оглянулся в сумраке и нащупал взглядом стакан на подоконнике. Этот стакан и бутылка были рядом, но, конечно, не для него, они просто так стояли. Из другой оперы. Миша был не с ними, он был сам по себе в тёмной утренней терраске у Серёги на Алтае.
Миша сидел, постукивал сигаретой по краю пепельницы и привычно наблюдал уже надоевший спор внутри себя:
— Я молчу.
— Молчишь. Знаю я, как ты молчишь. Молчит он! Ты же сам понимаешь, что это значит. Это конец. Выпьешь и — всё, конец. Не просто конец, а…
— Ну что ты орёшь? Я же молчу.
— Как-то ты так молчишь, что всё понятно.
— Конечно, понятно.
— Не понятно!
— Понятно. Всем уже давно понятно, все прикалываются над этими твоими Анонимными.
— Идиоты прикалываются.
— Посмотри на Серёгу. Рюмочку в праздник можно. А он пил посерьёзнее тебя. Просто захотел и на Троицу бросил.
— Врёт, это невозможно. Он зашился.
— Спроси у него сам.
— Он не признается. Или просто он не пьёт рюмочку в праздник.
— А что мы вдруг так разволновались? Что тут волноваться? Жизнь один хрен прожита. Тут уж волнуйся — не волнуйся… Посмотри, что осталось?
— Много чего осталось. Много. Много. Юлец остался…
— А ты к ней вообще приглядывался? Как она на тебя смотрит, как говорит с тобой… Что она думает про тебя…
— Думаешь, она лучше будет думать, если ты выпьешь?
— Лучше уже не будет. И хуже тоже. Она побольше тебя жизнь знает. У неё отец алкаш.
— Непьющий, отметим.
— У неё отец — алкаш. Мать чокнутая на руках. Да ей лучше будет, если ты поскорее сдохнешь и ей квартиру оставишь.
— Я лучше заработаю ещё на одну.
— О-о! Ты заработаешь. Ты оглянись вокруг, Мишуля. Глазки раскрой! Ты в какой стране живёшь? Бизнесмен! Тебе дают пока попастись, а потом твой вшивый бизнес ментам, а самого в тюрьму. И квартиру спустишь на адвокатов.
— То-есть, вариант один только — надраться в жопу? Да? Сразу всё решится.
— А я тебе предлагаю сразу в жопу? Я вообще молчу. Я просто против этого кривляния — запрет первой рюмки, помощь другим, спасение нариков. Это бабский бред.
— Помощь другим — бред?
— А ты спас хоть одного? Ты погляди на себя, спасителя, ты приехал устраивать их на кордон полный конопли. Это каким надо быть, а? Бизнесмен-спаситель.
— За свои деньги, между прочим, приехал…
Миша привычно слушал этот спор внутри себя. Он и правда привык. Он покорно слушался того, кто победит в очередной раз, а потом пытался объяснить, почему он это сделал. Ему часто казалось, как будто это всё скоро закончится, его перестанут отвлекать от разных интересных игр и отпустят, наконец. Он по привычке, бездумно брился, носил взрослую одежду, удивлялся, что лысеет, что стал седой, не мог поверить, что Катька уже старуха. Не мог поверить, что это она, Катька, кидалась на него, норовя по глазам, вырываясь из рук Юльца, когда Андрюшка приходил залипший. Тем более он не мог поверить, что тот страшный, твёрдый человек на диване, в Андрюшкиной одежде, у которого только родинка на ухе настоящая осталась, был его сын.
Вышел Серёга, босиком, в трениках. Лицо мятое. А тело белое, как будто сметаной натирали. Мышцы все на костях плотно сидят, сверху для надёжности и тепла мягким политы — не выпячиваются, под жирком силу скрывают. А ведь постарше Миши лет на пять. Пожалуйста тебе — русский богатырь. У него, небось, всё проще.
Хорошо, что вышел.
Сел напротив, передвинул пепельницу — консервную банку — на середину.
— Смотри, Миш, я подумал — ведь никто из наших так и не спился до конца. Вспомнить страшно, как кувыркались, и по месяцу, и всяко. А теперь, смотри — Двуногов не пьёт, Валерка не пьёт, Утопленников не пьёт, Бойко не пьёт. Букалинских ребят кого взять — там тоже никто. Мы с тобой оба. Митусов Володя не пьёт. Машку похоронил — уксусом отравилась, а сам завязал. Хотя, конечно, и поумирало немало.
— Серёг, убери её, бутылку, а? Я еле держусь, а то налью себе, а потом у вас тут до Нового года тормознусь. Мне нельзя, никакие троицы не помогут.
Серёга отнёс её в кладовку, ничего не сказал.
Покурили, потом ещё часик полежали, Серёга даже захрапел немного.
Через день Сергей перевёз его через реку. Миша оттолкнул лодку, махнул ещё раз рукой на прощанье и вышел с галечника на тропу. Шагалось вроде ничего, легко, хотя начался подъём. Миша даже заставил себя уменьшить шаг. Надо потихоньку, медленно, но без остановки, тогда часа за полтора — два, он выйдет к Белому бомчику. А дальше уже полегче будет — всё вниз и вниз.
Рябины и берёзы скоро пропали, а через часик пошли сплошь кедры и ель. Мысли, наконец, ушли, осталась равномерная, трудная работа ногами. Кордон давно исчез из виду, огороды и покосы, Серёгина зелёная крыша. Как будто не было.
ШАХИДКА
Привет ещё раз всем. Меня зовут Маша (улыбка, кокетливый наклон головы, как будто лёгкий книксен не вставая со стула). Я — алкоголик.
Я просто хочу тоже сегодня высказаться, потому что… В общем, у меня сегодня такой странный день… (снимает с головы капюшон толстовки и встряхивает светлыми волосами). У меня сегодня день рождения (выслушивает реплики с поздравлениями, наклонив голову, но радостно взглядывая). Спасибо, правда, спасибо… И погода такая! И кто чудесные эсэмески с утра прислал — тоже спасибо. Из других групп анонимных тоже звонили и присылали весь день.
Вот. И мне, короче, исполнилось восемнадцать. И у меня такое странное чувство — мне уже теперь можно покупать, и уже нельзя. Я просто раньше часто так этого ждала…
Нет, на самом деле я очень рада, что нельзя, то есть, я просто раньше так ждала, что приду с паспортом и спокойно, гордо так куплю.
Вот. А ещё я только хотела ещё сказать, что я очень рада, что у меня есть вы, и спасибо вам всем за то, что я сегодня трезвая.
Правда. Я вас всех очень люблю (часто кивает, опять наклонив голову, и у неё это выходит очень мило).
А ещё (как будто спохватившись, с серьёзным выражением) я тоже хотела рассказать — меня вчера, короче, так накрыло… Я, короче, засыпала, и вдруг подумала… испугалась, а вдруг нас всех прикроют? Я не знаю, почему так подумала, что-то такое было, что всякие неформальные организации прикрывают (уже не наклоняет голову, а глядит прямо, испытующе переводя взгляд с лица на лицо). Я просто не уверена, что у нас формальная организация. Я, короче, не знаю. Я подумала, что Анонимные у пин… в Америке начались, а сейчас как-то не очень…
И, в общем, когда я подумала, я испугалась! А потом что-то злость тоже такая взяла, я решила, что если они прикроют, то я не сдамся. Просто я знаю, что им всем наплевать, а мне не наплевать, я хочу ходить сюда, я не могу просто представить сейчас себя без Анонимных. И короче, я решила, что я тогда что-нибудь сделаю…
Нет, просто, понимаете, у меня есть молодой человек, у нас всё с ним замечательно, просто вообще лайтово всё. Но всё равно, я боюсь. Я не хочу обратно, я просто уже знаю, что… Я не хочу в больничку, я не хочу в ментовку, не хочу в психушку, потому что я там была, им на меня плевать, когда я синяя там валялась. И я пойду и взорву кого-нибудь или что-нибудь взорву как эта… блин… Нет, с поясом… да, шахидка. Как шахидка. Потому что их всех не было, когда я была в больничке, и попы мне тоже не помогли, и врачи, и никто, пока Надинчик вот (кивок в сторону Нади) не привела меня в прошлом году сюда.
(Выслушивает укоризненно-успокоительные уговоры и смущённо улыбается).
Да я знаю… Просто что-то вставило так что… (у неё наворачиваются слёзы сквозь улыбку). Это, наверное, из-за дня рождения. Вернее перед днём рождения. У меня так бывает. В общем, я извиняюсь, и у меня, короче, всё. Спасибо.
ВЗЛЕТЕТЬ ВЫСОКО-ВЫСОКО
Не хочется в этом признаваться, но я часто скучаю по тому времени. Сколько волка ни корми, а вылечить невозможно. Хотя, обратно, так, чтобы всё заново — не хочется тоже. Просто теперь труднее стало, жизнь суше кажется, людей сложно воспринимать.
А как их воспринимать, если вечером приехал на дачу, а с утра уже стоят перед крыльцом, курят, будто в контору пришли, будто я им наряды буду выписывать сейчас. Не торопят, подчёркнуто вежливые, деликатные, терпения у них много. Терпеть умеют, я сам умел.
И каждый раз одна и та же процедура — разговоры, новости, приколы, затем, перед самым уходом, просьба, как будто кстати вспомнилось. Полтинничек по старой дружбе. Потом настойчивая просьба, потом мольба, обещания, клятвы. Потом приходят с лопатами и начинают чистить тебе дорожки от снега и случайно ломают молодые яблоньки. Потом приносят к дому и оставляют у твоих дверей древние чугуны, кованые колуны, громадные воротные петли, серпы, сапожные колодки, — всё, что представляет на их взгляд ценность для отдыхающих москвичей.
В общем, если ты здесь — ты всё равно в теме, выхода нет. Ты никогда не вырвешься из этих отношений, пока не перечеркнёшь в себе всё на свете, пока не станешь избавляться от этих гостей как от вредных грызунов, пока не сломаешь им лопаты, пока не перестанешь видеть в них людей. И они скоро доведут тебя до этого, потому что у тебя есть деньги.
Продай всё это, уезжай… Оставь другим решать этот вопрос. Тебя здесь уже не будет. Но и хлопотно, и жалко — привык к этому нескладному куску земли.
Тут у нас так — мой дом последний, за ним заросшее поле с большими ямами, там что-то раньше было. В следующем доме Валька живёт четвёртый год, как вышла. К весне чёрная становится от копоти — печка дымит, электричество она себе не прокидывает, денег пока нет, освещается по-старому, керосиновой лампой на солярке. Мы с Валькой годки. Младшие парень с девчонкой у неё по монастырским приютам, старшая замужем в другом районе, а самого младшего она закопала за домом, за что и отсидела.
Дальше Сашкина дачка, новая. Только построил на месте старой развалюхи, все радовались, но он в тот же год умер осенью. Здоровый мужик был, спокойный, пенсии ждал. Вернулся в городе с работы, сел на диван, захрипел и — всё.
Дальше две пустые усадьбы, потом Толюня Шушпан, потом Ваня Жучок с матерью и дочкой жил. Я с ним больше всего дружил. Как утро (для меня утро) за малинником медленно мелькает его красная синтепоновая куртка. Он как дед часто с палочкой ходил. Пока доковыляет, всегда можно было успеть чекушку в холодильник или в буфет убрать, если угощать не хочется. Битый — перебитый, слабый, выживший из себя весь, но упорный. И незлобливый. Придёт, закурит:
— Когда у нас ближайшие президентские?
Он без гласных почти говорил, с непривычки понять невозможно. Да и привыкнув, иногда по пять раз переспросишь. Но про выборы я тему уже знал, всегда понимал. Это любимое у него было рассуждение. Но я почему-то от расслабленности всегда подсчитывать по-серьёзному начинал.
— Через три года, Вань.
— Тогда пора предвыборный штаб собирать. Я — ростом невысокий, сам тоже некрупный. Чем я хуже?
Слово «предвыборный» плохо давалось. Но он терпеливо проговаривал его в два-три приёма. Его и правда можно было бы на какую-нибудь почётную должность — уникальный человек был. Кто ещё за свою жизнь мог похвастать тем, что три раза учился говорить и ходить с нуля? Первый раз в младенчестве, два раза — за последние десять лет. Полежит в больничке месяц-другой, начинает осваивать ходьбу и разговор. Мать плакалась — свалится, говорит, в палате с койки и лежит как тютёк, мычит.
Ваня никогда почти не просил, старался чем-то заработать. Анекдотами, рассказами о прошлой жизни, какую-нибудь услугу придумывал, которую сможет оказать. Получив раз в месяц на бирже труда четыреста рублей, всегда угощал. Помощник из него был никудышный, но упрямый. Кирпичи тогда у меня с машины сгружали — сначала стоя работал, половину уронил, поколол, потом сидя начал укладывать, потом прилёг, опершись на локоть, и подтягивал потихоньку к себе, пока не прогнали.
Его, как самого ответственного, чаще всего и посылали гончить. Он всегда аккуратно отчитывался и отдавал сдачу и полную пластиковую бутылку с самогоном. Посылали, а сами садились, курили и костерили за медлительность. Шушпан, иногда Водяной подходил, иногда Юра Сандяй, они садились и в ожидании играли в слова, в разговор:
— Президент наш. Генеральный, сука, секретарь. Хуже Брежнева тоже говорит.
— Ничё, зато он как ты по дороге не подличает, всё доносит.
— А я никогда и не подличаю. Когда я подличал?
— Когда — послевчера.
— Позавчера, я говорил, она мне не долила за долг.
— А чей долг-то был? Наш что ли? Так что за Жучка, если чё, буду голосовать, он хоть честный. И усы как у Лукашенко. Будет президентом, колхозы вернёт.
— Голосуй. Обголосуйся. Галочку-то поставить не сумеешь.
— Суме-ею. Илюх, где у тебя молоток? Дай мне молоток, я ему, сука, между глаз сейчас галочку поставлю. Чтобы не свистел.
— А Илюха тебе не даст. Ты сломаешь. Тебе вообще ничего давать в руки нельзя. Ты всё сломаешь.
— Когда я ломал-то? Что я ломал?
— А целку Вальке кто сломал?
— Всё, ты меня задолбал. Не могу с тобой разговаривать.
Часто мы пили с Ваней вдвоём. Порой у него ненадолго что-то прочищалось, речь текла более или менее свободно, и тогда он рассказывал про недолгий период семейной жизни. И мне было приятно слушать его — у меня ситуация была всё же лучше, мне казалось, что мой период был любовнее и веселее. То же было и с рассказами про армию. Слушаешь и радуешься — ноги у меня не гнили, почки мне не отбивали, ребро не ломали. И с детьми — меня всё же не собирались пока лишать родительских прав.
Иногда у него вообще романтично получалось. Стоим ночью, на небо глядим, он говорит: «Вон видишь большую звезду? Мы на неё с моей сукой любили вместе смотреть».
Поздней осенью, когда я вдруг два дня не пил — Жучок пришёл часов в десять вечера.
— Дело.
— Чего?
— Бабку… я не поеду.
Ваня и жмурился, и глаза закрывал, и скалился, но ничего у него не вышло. Я помучился с ним, потом прогнал. У меня тоже нервы не железные, а он, как говориться, пока родит…
Потом мать его сама пришла просить на машине её отвезти — Светка, дочка Ванькина, сбежала. Второй день — ни в школе, ни домой. В Уёмках наверняка у Тоньки. А директор сказала, что если дальше не придёт в школу, то через суд у бабки опекунство отберут, а саму дуру в интернат сдадут.
Делать нечего, поехали. Толком куда ехать — бабка сама не знает, охает и жалуется. Хорошо, у меня автомобильный атлас был, я эти Уёмки отыскал.
— Она вечером голову себе помыла и в халате на двор побежала. Оказывается куртку и сапожки уже раньше вынесла, одела там и — всё, нету её. Я хватилась — триста рублей у меня в пальто лежали — тоже нет. А потом мне говорят, её с Тонькой там видели, прошмандовку. Вся в мать.
В Уёмках один только дом светился. Во дворе — человек десять молодёжи, все ухмыляются. Нету её, где — никто не знает. Один — самый маленький из всех, подросток, почему-то ходил по земле в тёплых носках, без обуви, другой, явно местный дурачок, всем подмигивал и шептал. Усталая Тонька с сигаретой в зубах ходила в дом и обратно, не обращая внимания на старуху. Парни постарше стояли вокруг костра между яблонями.
— Тонька, сука, показывай. Тонька! Тонька, я с этого места не уйду, показывай, где она. И даже мне такого не говори, что не знаешь. Вот и человек ждёт, и машина ждёт, а я никуда не уйду отсюда.
Из дома вышла девочка, наверное, Светкина подруга, ещё школьница, и встала, улыбаясь, под фонарь на крыльце. На круглом личике с ямочками на щеках было столько юной чистоты и распутства, что в груди болезненно застучало, я ушёл в машину и курил там, ожидая бабку.
Через час она сдалась. Вернулась, минут пять ещё поколебалась, затем неуверенно предложила возвращаться домой.
— В подвале, как крыса, спряталась. Я её и звала, и за волосы вытягивала — ни в какую. Сказала ей, чтобы в школу завтра шла. Не знаю, пойдёт ли? Ведь упекут в интернат, а весело ли ей там будет?
В школу Светка вернулась сразу, но домой появилась только через три дня. Отъелась. А вскоре опять исчезла. Тут неожиданно выпал снег, растаял, а потом сразу ударили морозы. Сначала пятнадцать градусов ночью, потом до двадцати трёх. Перед вторым побегом Ваня жаловался:
— Я ей говорю, а она мне — иди в жопу, ты мне не отец, ты говно… — Ваня поднял руку и сжал сухой кулак. — Я говорю, ты, мокрощёлка, я…, а мать говорит, уходи отсюда, тютёк, тебя не хватало.
Мы с ним выпили.
— И такая злость взяла, я ушёл. Поссорился с ними.
Ваня вспомнил, что пьёт мою водку.
— Думаю, пойду к тебе. Хоть поговорить спокойно можно. Я же до армии вообще не пил.
Потом Жучок рассказал, как они в детстве вешали стукалки на окна каким-нибудь старикам по селу и дёргали за верёвочку. А однажды насрали одной старухе на крыльцо, та вышла посмотреть, кто стучится и поскользнулась.
В этот второй уход Светки не было неделю. Правда в школу она ходила.
На четвёртый день меня разбудил Шушпан Толюня, чтобы я помог Ваню отцепить с заграды.
— Я к нему шёл, вот нёс маленько, думал с ним к тебе идти. Давай, где у тебя куда налить. Дай хлеба что ли. Помянем быстро дурака. А то ждут там.
Вряд ли прижимистый Толюня действительно нёс поделиться, просто он был возбуждён и оттого щедр.
Ночной мороз покрыл инеем каждый лист, и все стебли жёлтой, сухой крапивы вдоль дорожки, и всю паутину на ней, всё блестело и играло на солнце. Воздух был высушенный, бодрил. За поворотом открылся вид на нашу улицу, на дома, как будто нарисованные небрежной детской рукой.
Мы дошли до Ваниной усадьбы, возле калитки стояли его мать и три старые соседки, которые жили дальше по улице. Самая сильная из всех, тётя Оня, упершись, пыталась сломать штакетины, которые обнял рукой Ваня. Её нога поехала, галоша соскочила, и тётя Оня, прыгая на одной ноге, стала её надевать обратно.
— Э-эх, уже сырые, суки. Когда ж, падлы, успели только? — сказала она нам и увела в дом Ванькину мать.
Жучок, уже одеревеневший, висел кверху ногами, зацепившись за забор штанами и брючным ремнём. Поздно ночью, возвращаясь домой, он не смог открыть калитку, запертую изнутри на засов и полез. Повиснув, сумел сломать одну доску и крепко обхватил, обнял рукой ещё две. Так и замёрз.
Снимать его было тяжело. Я сломал штакетины и дёргал их вверх, царапая руку Жучка гвоздями, пока Шушпан не загнул их топором. Соседки ругали нас, давали советы, торопили.
— Руку-то ему, руку ему смотри… топором… молоток бы взял загинать. Не так, не так… Ремень расстегнуть, может так ловчее снимется? Вроде как и не крупный, а поди — сними.
Мы сняли его и, даже перевернув, не узнали. Потом занесли в коридор, где уложили на топчан. Потом нам сказали нести его всё же в дом — оттаивать.
Потом подошёл Юрка Сандяй, а мы Толюню отправили сгончить и пошли ко мне.
Смерть Жучка произвела на нас впечатление. Как будто он, наконец, сотворил нечто значимое, серьёзное. О нём, несмотря на его нелепую смерть, отзывались уважительно и без подколок.
На следующий день вернулась Светка.
А за мной через месяц приехала Маришка. Поняла, наверное, что ни скандалы по телефону, ни яростные, открытые измены, ни уговоры, ничего не сработает. Надо ехать и забирать. Оказалась права. Меня прокапали в районной больнице, потом она увезла меня домой.
Сейчас у меня нормальная жизнь, семья восстановилась, работа, отдых. Да и здоровье как-то выровнялось, не сказать, что лучше стало, но выровнялось. Сил, кажется, побольше стало. Планы.
Увлёкся бёрдингом — это наблюдение за птицами. Может и не такое уж захватывающее занятие, но мне, вроде, нравится. И довольно модное — попадаются частенько в нашем парке такие хорошо одетые, видно, что благополучные люди, с биноклями как я, с блокнотиками. Мне Мариша дорогой бинокль подарила. В общем, подумал, что приятно будет знать птиц своего города.
На дачу даже ездим, и вот когда я там оказываюсь, когда смотрю на бревенчатые стены дома, на просторы за Ржавцом, на проезжающие по шоссе за полем машины, начинаю иногда скучать по тому времени. По той жизни, когда ты сверху, а всё остальное под тобой. Когда жизнь и смерть в твоих руках, когда ты крут, когда ты можешь взлететь высоко-высоко, не хуже какого-нибудь президента. Когда ты можешь приговорить, помиловать или смешать с дерьмом. И какая разница, что не других, а себя.
Хотя, конечно, детишек жалко.
ЗАВИСИМЫЕ
— Опять там лежат, — сказала жена, войдя в квартиру. — Я их боюсь. Ещё заразу какую-нибудь ребёнку…
Игорю в лицо ударила кровь. Дождутся, он их предупреждал. Отодвинул жену и взбежал один пролёт лестницы вверх. Не брезгуя, не отворачиваясь от запаха, схватил с подоконника какую-то снедь на целлофановом пакете, недопитую бутылку и спустил в мусоропровод.
— Ты что, командир, — поднял голову самый молодой, со страшно большим лицом. — Мы ничего же, мы это…
Сумку их через перила — вниз, потом за плечо первого попавшегося — тоже вниз по ступенькам. Молодого, севшего с трудом, пинком.
— Я вам говорил, суки. Дождались, — с змеиной мягкостью в голосе и задыхаясь, приговаривал Игорь сквозь поджатые губы. — Весь подъезд зассали.
Так он пинками, раза три поднимая на ноги, и проводил их, покорных до самой входной двери, отвесив там напоследок. Вернулся домой, подышал, а ярость не проходила. Оделся, взял сигареты.
— Ты куда? — испуганно взглянула в глаза жена.
— Да что-то разволновался. Самому неприятно. Один упал, ногой в этом… в перилах, короче, застрял. А сам на руках уползает. Уроды, блин.
Сын, замерев подальше от входной двери, на самой кухне, глядел на него.
— Пойду. Скоро приду.
Ушёл, пока ничего не сказала. Оказавшись на улице, вспомнил, что забыл вымыть руки после всего этого, но махнул рукой. Взял в палатке бару баночек крепкой «Охоты», потом сразу попросил ещё три. Пока не зажглись фонари, сидел на спортивной площадке, один раз раздражённо ответил на звонок жены. Думал.
Последнее время всё чаще приглядывался Игорь к бомжам и попам. И к тем, и к другим чувствовал всё возрастающую неприязнь, особенно к попам. И всё равно что-то искал в лицах тех, что встречались. В конце зимы неожиданно дал две сотни одному нищему, сидящему на автобусной остановке и руками евшему что-то из пластиковой тарелки. Потом в командировке, выйдя утром из гостиницы — это было воскресенье — увидел перед собой купола с крестами и неуверенно вошёл через ворота на монастырский двор. Потёр руками опухшее лицо. Остановил широко шагающего священника — толстого, в очках. «Батюшка, как мне сделать, чтобы не пить?» «Проспись иди. Разит как из помойки». Так и ответил, падла.
А на прошлой неделе по пути с работы, дыхнув в ладошку и решив, что выхлопа нет совершенно, опять оказался в церкви. Немногочисленные посетители были заняты своим, никто не обратил на Игоря никакого внимания. Неуверенно прошёлся по гулкому пространству вперёд, к иконостасу, постоял, чувствуя приторный запах ладана и горящих свеч, задрал голову к куполу, осмотрел удобно разлёгшиеся в синеве фигуры и, разозлившись, вышел.
В глазах пестрит, рябит от одинаковых фигур с нимбами, ангелы неподвижно летят с мечами. Ну что это за комиксы? Ну, кому это всё? Для кого? Они бы ещё на древнееврейском службы служили, чтобы совсем уж недоделком себя чувствовать. Нет, можно, конечно, сесть, обложиться книгами, всё выучить, всё понять, прочитать всякие жития и разобраться. Переводы молитв, наверняка, есть на человеческий язык. Но это сколько времени нужно? У меня его нет. Не хватит.
Опять звонит. Игорь сбросил вызов и направился, уже минуя палатку, к магазину.
Домой тащила Игоря жена. Уложив ребёнка, набрав сто раз его номер, обойдя известные ей места, она нашла мужа на спортивной площадке под турником. Злость его уже улеглась, пришла вина, он старательно помогал ей как мог, различал в темноте препятствия и шёл ногами.
В сентябре, после еле пережитого необыкновенно жаркого лета, Игорь согласился отправиться на собрание Анонимных алкоголиков. Благо — идти было недалеко. Собирались они в библиотеке церкви в паре трамвайных остановок от дома.
Игорь сидел в уголке, грустно и смиренно смотрел на собрание. В груди постоянно толкалось давление, в голове — пустота. Сейчас не то что на собрание — в колодец вниз головой так же легко уговорить.
Провёл глазами по корешкам книг в шкафах книг. Детям о молитве, Пастырь словесных овец, Пасха мучеников… Усмехнулся про себя. Что ещё ждать от попов, если они даже у себя под носом не видят секту. На то, что Анонимные — секта, указывали тысячи мелочей, различимых невооружённым глазом, вот хотя бы навскидку: берутся за руки при общей молитве, не требуют никаких денег (чтобы заманить), предлагают отходить три месяца без перерыва каждый день, многие абсолютно не похожи на алкашей. Ежу, как говориться, понятно всё.
Ходить было трудно. Приходилось выдерживать бесконечные споры и препирательства с самим собой, однако через три месяца Игорь втянулся и бодро решил приступать к выполнению двенадцати шагов, ведущих к полной трезвости. А там, глядишь, и на работу снова устроится, и курить бросит.
Из всех групп, которые ему пришлось посетить, он полюбил две — ту первую, в церковной библиотеке, она нравилась за уютную домашнюю обстановку, и ещё одну, в Строгино. Добираться до неё, конечно долго, но люди приятные собирались. Половина — молодые, до сорока, многие, видно, что образованные, интересные. Таня нравилась — лет двадцать пять девчонка, блондиночка. Всегда искренне так говорила, как будто все родные вокруг. Игорь смотрел на неё и думал, что не так уж всё страшно, пробьёмся.
Нет, не так, как можно было подумать, нравилась, а просто. Без всяких мыслей о сексе или о чём-то ещё. Как сестрёнка.
— Знаете… Меня, может, уже несёт, но я вот, что подумала. Мы здесь как будто особенные, немного избранные. Прошли через что-то плохое, каждый чувствовал себя такой дрянью. А потом вдруг нас простили. Мы сами себя простили, перестали насиловать, гнобить. Не знаю… Я непонятно, конечно, говорю, но хочется просто поделиться. Я теперь молиться, например, могу. Так удивительно! И мне не стыдно молиться, представляете?
Как же не понять? Такие искренние слова, как их не поймёшь? Игорь легко понимал. И мысли про секту прошли, все сомнения прошли, когда обнаружил, что скоро полгода, как трезвый. И поверил, что это работает. А ещё поверил… нет, не поверил, а просто мысли такие приходили, что это и есть настоящая, нормальная церковь. Люди, все ущербные, битые, доверились Богу, держась друг за друга потными ладошками. И молитва-то одна всего, простая, человеческим языком сказанная, а сколько надежды у всех!
Ещё только с женой наладить, на работу снова утроиться, и — всё.
Но жена ушла. Лизка, которая столько терпела, таскала его домой, плакала, успокаивала, верила. Ушла в тот день, когда Игорь отметил шесть месяцев. Ему ещё на память на группе подарили медальку смешную такую. Поздравили, похлопали все.
Лизка объясняла уход непонятно:
— Нет, я просто больше не хочу. У меня своя жизнь, я тоже зависимая… ты меня сделал зависимой. Ты от водки зависимый, а я — от тебя, от твоих срывов, от твоих похмелий. Я не хочу.
— Лиз, ты мне не веришь. Ты, конечно, имеешь право. Но я…
— Верю. Верю. Ты больше не будешь пить. Тебе нельзя. А я с тобой жить не буду. Мне тоже нельзя. Я тоже поняла, что просто гибну от этого.
Игорь удивлялся стройности логических рассуждений, но не понимал их.
— Не пойму, почему пока я пил, ты жила со мной. Бросил пить — уходишь? Объясни мне, дураку, пожалуйста, так чтобы я понял. Попроще уж как-нибудь. Мне что, пить обратно начать?
— Игорёша, я не хочу, чтобы ты пил. Это не поможет. Пойми меня правильно. Я хочу, чтобы ты не пил. Ты Владику нужен, ему трезвый отец нужен. Но я решила. Это уже точно.
Потом она раскололась. Сказала, что тоже на группы ходила. Не как он, конечно, не каждый день. У неё всё-таки работа, не забывай. Просто посещала группы созависимых, куда матери, жёны, дети алкоголиков ходят.
— Ты знаешь, я всё-таки никогда не верила, что ты алкоголик. Мне казалось, что ты ранимый, слабый, что я могу помочь тебе. Что я могу что-то сделать, что от меня что-то зависит. А там поняла, поверила, что ты и правда алкоголик. И что я тоже такая, как и ты.
Этот бред Игорь не мог понять.
Уход Лизы был такой — она осталась с Владиком, а он начал подыскивать себе, куда приткнуться. Остановился на дворницкой — комната, туалет, раковина, отдельный вход с торца кирпичной девятиэтажки. Только душа нет, сыровато и пыльно. Бывшая мастерская художника — отца приятеля по бывшей работе. Три тысячи в месяц.
Переехал. Лизка сама предложила заплатить и заплатила вперёд за четыре месяца. И Игорь переехал. Хотя всё равно не верилось, что это навсегда. Наверное, ей просто перерыв нужен.
А может, и правильно, что она его выгнала — нужно начинать жизнь, нужно собраться. Работать. И Игорь начал собираться. По вечерам, лёжа и глядя в слабо различимый потолок, молился молитвой Анонимных алкоголиков, чтобы Бог дал ему сил, мудрости и прочего необходимого для жизни. В один вечер на него напали блохи. Запястья и щиколотки зудели как от крапивы. Он включил свет, расстелил на середине комнаты лист ватмана, оставшийся от художника, и стоя на нём голый, ловил и пытался давить. Игорь напугался, что это вши, но затем подумал, что вши не умеют скакать. А эти скакали.
Хотелось позвонить Лизке. Игорёк сел на ватман и заплакал. Потом собрался с силами и сходил в круглосуточный магазин, купил «Дихлофос». Вытащил на помойку старый диван, расстелил на полу одеяло, лёг. Блохи ушли.
В другой день рано утром, он услышал голоса. Медленные, с перерывами.
— Он самый добрый из них всех был.
— Кто?
— Ван Гог.
— А-а.
Голоса помолчали. Тягостно, терпеливо. Прошло несколько минут.
Они раздавались из-за стены, выходившей во двор. Там, рядом с его дверью, была ещё одна, откуда дворники выгребали мусор из мусоропровода.
— Ты не читал его письма к брату Тео?
— К брату?
— А вот зря. Почитай.
Игорь взял банку консервированной фасоли, хлеб, пакет сока и вышел на улицу. Так и есть, мужики сидели, укрывшись от ветра и улицы у двери мусоропровода. Было зябко. Он отдал им еду и вернулся досыпать.
На следующей неделе, в ясный апрельский вечер, к нему постучались те, кого он подкормил.
— Братан, книги возьми. Там выбросили, я посмотрел, хорошая литература, не говно.
Денег почти не было, но книжек хотелось. Игорь достал полторы сотни.
Бомжи обернулись быстро, за полчаса. Игорь опять вышел к ним, закурил, опустился на корточки и повернул к себе две связки корешками, наклонил голову, читая названия. Потом поднял глаза на мужиков. Один из них, прямо перед ним, стоял в расстёгнутой куртке, за ремень штанов была воткнута едва початая бутылка водки. Бомж переступал с ноги на ногу, и голова бутылки покачивалась вправо и влево. Игорь быстро протянул руку, вытащил её из штанов и, свернув пробку, одолел сразу половину.
Утром пришла Лизка и плакала. Села на пол, на расстеленное одеяло, и доставала из пакетика одну за другой бумажные салфетки, сморкаясь и утирая глаза. А днём он снова был на группе, откуда пошёл домой.
— Я кулич испекла. Вот никогда же не пекла, а тут… Владик помогал, такой молодец вообще… — суетилась Лизка. — Пойдём завтра освятим вместе? А?
И Игорёша пошёл с ними назавтра освящать кулич. Потом они посидели во дворе церкви на лавочке, глядя, как мимо них проходит народ, женщины останавливаются, накидывают платки. Лизка выглядела помолодевшей, окидывала взглядом проходящих, внимательно наблюдала за детьми, часто поправляла на коленях пакет с куличом, убирала под платок выбившиеся волосы и сжимала Игорёшину руку.







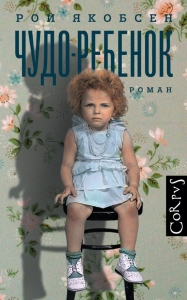



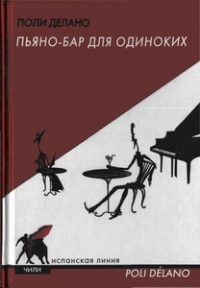

Комментарии к книге «Зависимые», Илья Николаевич Кочергин
Всего 0 комментариев