Время в тумане
РАССКАЗЫ
ЗВЕЗДА АЭ-52/35 И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ… Фантастический рассказ
13 тысяч лет назад погибла Атлантида, унеся в пучину моря и времени развитую цивилизацию. Причина — мировая катастрофа.
Из газетМеня вызывал инспектор Ланкэр. Вызывал внезапно, предоставляя свой канал передвижения. Неужели Ланкэр имеет какие-либо санкции? А может, это обычная профилактическая шумиха? Я знал, что живого, настоящего времени у меня — только до дверей лифтоприемника системы передвижения, а там — анализатор каналов и через миг — практически меньше мига — я буду в кабинете Ланкэра — грозного инспектора Ланкэра, курирующего институт звездных систем, где я работал. Инспектора Ланкэра побаивался даже старый, добрый Шабар — мой руководитель, начальник отдела звездных систем типа АЭ.
Время для раздумий кончилось, в лифтоприемнике на меня с нетерпением смотрел уже покрасневший глаз анализатора каналов. «Сейчас еще напомнит об экономии времени», — с неприязнью подумал я, но перед тем, как назвать код канала Ланкэра, решил, что защищать свою АЭ-52/35 и все остальное буду до конца…
Ланкэр и в самом деле был грозен.
— Мы устали от этой вашей желтой, — начал он, не глядя на меня и не сказав ни одного из традиционных приветствий, распространенных в Соединенном Союзе неискусственных цивилизаций. — Мы дали согласие на этот эксперимент — создать на задворках Вселенной эту желтенькую, — Ланкэр взглянул на информтабло, — эту АЭ-52/35. Это был обычный эксперимент — создание обычной, совсем заурядной звезды. Контролировать работу вашей группы я доверил младшему инспектору. И что же?! Он еще держался, когда вы создали эти девять планет, шесть из которых никуда не годятся. Но он сбежал! Да! Перебежал в вашу группу, когда вы смастерили эту цивилизацию на третьей планете.
— Мы не создавали цивилизацию, — попытался возражать я.
— Знаю, знаю, — резко перебил меня Ланкэр. — Формально — да! Не создавали. Да и не могли создать — это противоречит основному закону Союза: никаких искусственных цивилизаций! Звезды, планеты — сколько угодно, но никаких цивилизаций! Слишком уродливы и агрессивны они получались. И существует закон, и вы обязаны его выполнять, а мы — инспекция — следить за исполнением.
— Но мы не создавали цивилизацию, — я все же решил что-то ему доказать. — Мы только рассчитали, что в этой части Вселенной должна возникнуть звезда типа АЭ, планеты и все остальное. Ну, и помогли возникнуть звезде, образоваться планетам и чуть ускорили ход времени… Разум, а потом и цивилизация возникли сами.
— А вот этого не знаю, — опять перебил меня Ланкэр. — Чистота эксперимента не доказана. Возможно, вы превысили интеллектуальный коэффициент, возможно еще что-то. Не знаю. Это не мое дело. Знаю одно. Эта ваша неискусственная, — Ланкэр усмехнулся, — цивилизация на третьей планете ведет себя хуже некуда. Все искусственные вместе так себя не вели!
Чего и было хорошего в вашем эксперименте, так это третья планета. Желтая звезда так себе, ни вида, ни блеска; планеты совсем уроды: один мертвый карлик, пять мрачных громадных циклонов; две ни то, ни се — сплошная неопределенность, и только третья, — Ланкэр впервые взглянул на меня, — была планета как планета. И что же эта цивилизация с ней сделала? Развела сплошную кровавую резню, закончившуюся мировыми войнами. Исчезли целые острова, исчезли народы и культуры. Реки отравлены, озера превращены в болота, леса — в пустыни. Воздухом уже нельзя дышать. А ведь вначале было море хлорофилла, океаны чистейшей воды, мягкий изотермальный климат. А что теперь? Экологический коэффициент падает, а агрессивный возрастает. Имеется возможность термоядерной войны! Но хватит! — Ланкэр грозно, как умел только он один, посмотрел на меня. — Никаких возрождений из пепла не будет! Сегодня же доложу в Совет Союза, и мы заставим вас вмешаться и прекратить эту бессмысленную резню, а заодно и весь этот ваш эксперимент.
…Я опять шел до лифтоприемника и знал, что ничего уже Ланкэр сделать не сможет. Да и никто ничего не сможет сделать РАЗУМУ. Родившемуся РАЗУМУ. Наш Союз, в тоске по родственным разумным существам, создавал искусственные звезды, планеты и цивилизации, не понимая вначале, что искусственный РАЗУМ создать нельзя.
РАЗУМ — высшая цель мирозданья, и создает его все мирозданье, вся его бесконечность, все, что в нем есть, вплоть до последней клетки, до последнего атома. И создает не просто РАЗУМ, а ГУМАННЫЙ РАЗУМ…
Что и смогла сделать наша группа, так это обнаружить маленький, затерявшийся в бесконечности миров слабенький росток, и помочь ему подняться. А болезни… Где же их нет? И на нашем ростке их немало.
Часто нам мешают: инспекции, контролеры, кураторы, начальство. Иные советуют применить радикальные средства. Иные грозят, что заставят нас вовсе прекратить эксперимент, не понимая, что МЫ и ОНИ — звенья одной системы и разница лишь в точке отсчета. ОНИ — наши младшие братья, а не наши созданья. И все спешат, спешат, спешат… Даже добрый Шабар заставил меня, в самом начале, ускорить время, не понимая, что ускорить ход времени в звездной системе — можно, ускорить развитие РАЗУМА — нельзя, здесь тоже стучат часы мирозданья.
На третьей планете еще гремят войны, льются слезы, умирают от ран. Но выздоровление идет. И оно тем надежней, чем меньше в дела планеты мы будем вмешиваться, ускорять их.
…Двери лифтоприемника были еще открыты, и я видел Ланкэра. Но теперь уже инспектор не казался мне грозным. Обыкновенный, недалекий чиновник. Я усмехнулся. Пока инспектор грозил — на третьей прошли годы, а пока доложит, пока разберутся, пока примут решение (если вообще примут) — пройдут сотни лет, и там будет мир, обязательно будет мир. Я знал это точно — слишком много времени я прожил на планете.
Глаз анализатора, наученный подгонять таких тугодумов, как я, опять нетерпеливо краснел, как вдруг из глубины кабинета Ланкэр спросил:
— А эту, еще пока зеленую, эту третью планету как зовут?
— Сами люди называют ее Землей, — ответил я и, не очень желая продолжать разговор, тут же назвал код канала возвращения огненно-красному глазу анализатора…
ПО ДАМБЕ НА ХПП[1]
I
Первым, кого увидел Горин, когда вошел в столовую, был Холстов.
Он сидел за крайним столом, маленькой ложечкой тщательно скреб по дну стакана сметану и смешил соседей. Судя по небритым щекам, замасленной в иных местах одежде и грязноватым рукам — это были его водители.
Сам Холстов был побрит и побрит тщательно; на правой его руке, державшей ложечку, поблескивало кольцо; тяжелые плечи распирали легкую кожаную курточку; ноги, окутанные джинсами, были обуты в скороходы со срезанной пяткой.
Горин не видел Холстова лет десять. Оба они учились в автомобильном техникуме и на первых двух курсах даже дружили, но потом разошлись. После окончания Горин остался в городе, Холстов уехал куда-то на Север, а теперь вот, оказывается, вернулся, живет в городе, и Горин не знает об этом.
Судя по тому, как Холстов, едва взглянув на вошедшего, резко поставил стакан, сделал два быстрых шага к Горину и стал его мять, полуобнимая, Горин понял, что характер у Холстова ничуть не изменился.
— Вот дела — дома не встретились, а тут… за триста километров… — говорил Холстов, глядя Горину в глаза озорно и задорно и с таким видом, будто появление Горина было концом той смешной и интересной истории, которую он только что рассказал. — Вот дела… Однокашник, техникумы вместе кончали, — бросил он сидевшим за столом водителям.
Те взглянули на Горина без любопытства, но глаза их весело сверкнули, и Горин понял, что Холстов им не просто начальник, что у них, как сейчас принято говорить, отношения неформальные, что Холстов для них душа, лидер и что отношения эти давние и налаженные, и они не удивляются, когда Холстов говорит «техникумы», они знают, такая манера у их начальника — все уменьшать или увеличивать, и весело им именно от этого, а вовсе не от того, что появился неизвестный им Горин.
— Пойдем к Катеньке, — сказал между тем Холстов, показывая на столовскую кассиршу. — Выбор блюд минимален, но все натуральное и дешевизна фантастическая.
II
— Но почему ты водителем? — спросил Холстов после того, как он привел отобедавшего Горина к себе, в маленькую, совсем крошечную комнату небольшой из силикатного кирпича совхозной гостиницы, и они поговорили минут десять о том, кем и как проработал эти годы каждый. — Мой механик — из прикомандированных, как и ты, — заболел. Иди ко мне механиком. С собой не поселю — сам видишь, теснота. Но рядом такая же комната. Один жить будешь — невесту заведешь. — Холстов по-доброму и хорошо рассмеялся.
— Я водителем уже три месяца, — сказал Горин. — Деньги нужны. Скажи, что́ я могу здесь заработать?
— Деньги ему нужны, — опять рассмеялся Холстов. — Ты же их никогда не любил. Я помню, в техникуме… Может, ты другой, может, выпьем за встречу? Не предлагал — помню, не пил вовсе, а у меня есть, — говорил Холстов, доставая из маленького, часто дрожавшего холодильника коньяк и плитку шоколада. — Все есть, я приехал, так не было ничего. А теперь все — и телевизор, и телефон. Насел на директора совхоза — все и выбил. Можешь отсюда и жене звонить… Ну, выпьем, — уже утверждающе сказал он, протягивая рюмочку и ломая шоколад.
— Выпьем, — сказал и Горин и принял рюмку. — А звонить некому — ушла Ирина.
— Как ушла? — ставя рюмку и сделавшись серьезным, спросил Холстов. — Такая любовь была… Я Ирину не забыл. Тебя забыл, а ее помню. Ведь хороша, слов нет как хороша! И любила тебя…
— Не ставь, выпьем. — Горин нашел рюмку Холстова, чокнулся, сказал: «За встречу», выпил, и им вдруг овладело то полухмельное состояние, которое приходит от проделанного нелегкого пути, от неизвестности, от встречи с забытым и приятным человеком, от ощущения, что у тебя вот в этой глуши есть знакомый, даже приятель, что тебе рады и что у тебя здесь будет место, койка и даже чистые простыни и наволочка.
— Если еще и закуришь, я вот здесь упаду и умру, — сказал, опять заулыбавшись, Холстов, показывая на пол, застеленный куском брезента с лямками — тентом, прикрывающим зерно при перевозке.
— Иногда курю, — Горин помолчав и, решившись, сказал: — Словом, ушла Ирина и Сережку увела. У меня пацан: девять лет. — Горин вздохнул. — Не знаю, как жить без него буду. Сейчас у тестя. Все говорят «у тещи», а я — «у тестя». Теща так — курица, а тесть — жлоб, ох, и жлоб, говорить не хочется. — Горин сильно сжал рюмку, глаза остановились и стали злыми и обиженными.
— Так, значит, ушла Ирина? — Холстов не любил сильных объяснений, не выносил чужого горя и в любом другом случае вовсе переключил бы разговор на что-то иное, веселое, но неожиданная встреча, давние приятельские чувства к Горину не разрешили ему сделать это; он задавал глупые вопросы, понимал, как они глупы, и досада на Горина за то, что такая веселая встреча превращается во что-то нудное, горестное, появилась у него.
Горин почувствовал это. Он хотел что-то сказать, но смолк, отрешившись и уставившись в одну точку.
— Послушай, — Холстов справился с собой. — Я в таких случаях дурак, ну прямо круглый. У меня ведь все обыкновенно. Женат, две девочки, жена говорит, что любит, я ей тоже это иногда говорю… Живем… Теща и тесть — на Севере, мои (он имел в виду своих родителей) — в деревне. Словом, живем. — Холстов помолчал и, внутренне насилуя себя и почти надрываясь — он никогда, прожив три десятка, не говорил таких слов, хотя обыкновенными были эти слова, — сказал: — Ты расскажи, Анатолий, что случилось. Такая девчонка… А как за тобой бегала… Я помню… Чуть не на все тренировки приходила (в техникуме Холстов и Горин занимались в секции бокса). А я, балбес, как старался… Весь последний курс ее домой провожали. Рыцари… Холстов болтает, Горин молчит. Потом — бац! Горин — женится, Холстов — в нокауте… Еле отошел… Секцию бросил, с тобой разошелся… Как из техникума еще не вылетел…
Он помолчал, потом оживился, напружинился и, превратившись в прежнего сильного, ловкого, веселого Холстова, бросил:
— Вот они — женщины, мы из-за них… а они… Но выпьем именно за них…
Он выпил, усмехнулся Горину, который едва пригубил, и уже напористо произнес:
— Так что случилось, Анатолий?
— Все так обыкновенно и по́шло — рассказывать не хочется, — поморщившись, сказал Горин. — Какую нам романтическую дурь в голову вбивают… Ну ничего реального… Любовь… Все так удивительно и прекрасно! Нужен герой… Вот я им и был. Как же! Чемпион города, области… А на первенстве России, как зацепил меня Симонов по подбородку, так и кончился герой… Но я не против! — взмахнул Горин руками с таким видом, будто Холстов возражал ему, а не внимательно слушал. — Я совсем не против. Каждому свое. Спорт только по телевизору смотреть приятно, а участвовать в нем… — Горин вздохнул. — А бокс тем более…
— Да… — улыбнулся Холстов. — Меня хватило только на второй разряд…
— Вот я и говорю… — от внутреннего волнения, распиравшего его, Горин хотел встать, но поняв, что пройтись в этой маленькой комнатешке он все равно не сможет, лишь слабо махнул рукой. — Я и говорю: отчего так плохо? Последние года три была не жизнь — каторга. Ни в чем понять друг друга не хотим и не пытаемся… А ведь два человека… Любили когда-то… И становятся чужими. Нас воспитывают, что жизнь — это сказка. Будь честен, храбр, совершай подвиги, и Елена Прекрасная — твоя. И Ирина в самом деле — моя. Сказки на этом кончаются. Дальше — жизнь. А сказка, на то она и сказка — дальше ничего сказать не может. Учителя, к слову сказать, тоже. Татьяна Ларина… Наташа Ростова… Там письмо… Тут бал… За строчкой «И буду век ему верна» — ничего трагического. Наоборот. Вот честна! Вот благородна! А о том, каково ей в семье, со старым изувеченным мужем, ни один учитель ничего не скажет. Ничего! — Горин опять посмотрел на Холстова. — Меня как по голове бить перестали — я читать стал. Все опять… А, вернее, сызнова. И Пушкина, и Толстого, и еще… И вот самое ценное — какой Наташа в семейной жизни стала. Может, меня припекло, потому так и считаю… Но как верно, как изменилась, как поняла, как ушла в семью… Подурнела, стала даже неряшлива. Это было бы плохо, если б не было естественно… Это и оправдывает. И все ради семьи, мужа… Может, и дурной захотелось стать, оттого, что Пьер толст и некрасив. Некрасив! Толст! Совсем не герой, но муж! Муж с большой буквы! А я? Героем я был… Но мужем? Родным мужем?.. Просто родным человеком? — Горин встряхнул головой. — Никогда! Всем, чем угодно, но не родным… Во всем — противоречия… Ничего понять не хочет… Решил заняться охотой. У нас отличные охотники. Хорошая база на озере. И дело не в двух-трех утках, которых я когда-нибудь подбил бы. Нет. Потянуло к природе, к озеру, к людям, к охотникам. На базу круглый год ездили. Зимой внутри все подстраивали. Весной смотрели, как утки и гуси прилетают. Летом просто за ягодами приезжали. К осенней охоте, говорю, ружье, мол, купить надо. Куда там! И дорого, и незачем, и еще чего только не наговорила. Ладно… Плюнул я на ружье и на охоту. Обидно, но плюнул. Недели не прошло — фотоаппарат купила. Себе. Это, говорит, надо. Для семьи. Всем фотографии делать буду. А твое ружье только для тебя… Когда на охоту плюнул — обидно было, но тут обидней некуда… — Горин вздохнул. — Это мелочь. Но таких мелочей куча, а жизнь из таких вот мелочей построена. А потом ссоры, упреки… Вот так и жили… А потом вот… ушла…
Горин замолчал. Холстов, зная, что успокоить он Горина не сможет, молчал тоже, и ему вдруг стало скучно и стыдно из-за этого. Почти молча выпили еще по рюмке, и Горин, тоже чувствуя скуку и усталость, и оттого, что с ним случилось, и еще больше от своего рассказа, уже другим, без эмоций, голосом быстро договорил:
— Перешел вот в водители — деньги нужны. И сюда приехал заработать. У нас квартира кооперативная. Тесть купил, а теперь, жлоб, с намеками пристает…
Горин опять помолчал и со злостью закончил:
— Верну деньги — и к черту этого жлоба. И вообще все к черту!
III
Село, куда приехал Горин, было старинным, налепленным по краю большого, крутого холма.
— Впечатляет?! — спросил Холстов, когда на следующее утро они подходили к автомобильной стоянке, расположенной на самом верху холма.
Это был, наверное, последний холм и дальше — на север, на юг и на восток — тянулись бесконечные ровные степи, кое-где серебрившиеся ковылем, иногда черневшие вспаханными лоскутами полей; а всюду же, куда доставал глаз, золотилась пшеница. К югу, разрезая набухшую зрелость полей, стрелой уходила насыпная дорога.
На западе, далеко-далеко, едва виднелась синь гор. Но соседство их угадывалось и по быстрой, холодной, устланной галькой речушке, бежавшей под холмом, и по небольшим озерцам с обрывистыми берегами и каменистым дном. Вдоль речки и у озер белели рощицы берез с пожелтевшими кронами. Иногда две-три громадных, раскидистых сосны нависали над березами, но не давили их, а усиливали картину, как и солнце, которое было низко, холодно и красиво…
— Умный был тот кипчак или татарин, что не понесся за Чингисханом дальше, а здесь осел… И степь, и вода — все рядом… И горы видны… А воздух! Я тут третий год на уборке, после нашего города — месяц дышу, не надышусь… — Холстов быстро прошел к одному из вагончиков, окружавших автомобильную стоянку, быстро и ловко влез на крышу, где была небольшая огороженная площадка, дождался Горина и, когда тот встал рядом, легонько ударил его по плечу. — И ты дыши, дыши… — и счастливо засмеялся.
После вчерашних откровений Горин страдал; ему было совестно, будто он сделал что-то нехорошее.
«Какой глупый и добрый, — подумал он о Холстове. — И красив… У него все хорошо. Таких вот бабы и любят. Здоровых, глупых и добрых».
— Хлебоприемный пункт — вон там, — показал Холстов на юг, куда уходила поразившая Горина своей удивительной прямизной насыпная дорога. В лучах поднимавшегося солнца она тускло блестела, рассекая не только поля, но и, казалось, далекий маревый горизонт.
— Дорога — дрянь! — продолжал Холстов. — Один вид. От щебенки резина в лохмотья, а то и на выстрел. Но заработать можно. До ХПП полста верст, но пишем восемьдесят — дорога не сдана и надо ехать вокруг. Но все напрямки ездят — хоть убей! И ты будешь! — сказал он Горину и, не дожидаясь ответа, засмеялся. — Будешь, будешь! Уж ты-то будешь!
Они слезли с вагончика и подошли к другому — диспетчерскому.
— Но два-три дня поработаешь под комбайнами. — Холстов выглядывал кого-то через открытую дверь. — Под комбайнами заработка нет. Норму еле на 70 процентов делаем. Но прикатаешься… Узнаешь народ. А там и гонки начнутся. — Холстов вздохнул и пояснил: — Руководство совхоза премиальную систему разработало. За норму, а это две ходки до ХПП, — десять рублей, а за каждую последующую — на пять больше. И так десять дней, пока совхозный ток не разгрузим. — Холстов помолчал. — На силосе тоже декадник был, так Толкачев — это бригадир, ты его узнаешь — одними такими пятерочками двести рублей заработал. Сверх всего. И план на 200—300 процентов делал, а это деньги, да и премия тоже. — Холстов опять вздохнул и замолчал.
— Ты против того, чтобы люди заработали? — спросил Горин.
— Рвачество эти пятерочки разводят и еще чего похуже. На силосе Толкачев заработал, а Минаев заснул и перевернулся. Хорошо удачно — только руку и сломал… Толкачев! — крикнул Холстов в открытую дверь диспетчерской.
Появился Толкачев — плотный, невысокий парень.
— Бери в бригаду. Дня три под комбайнами, а с понедельника — как декадник начнется — на ХПП хлеб возить будет… Да, вот что, — добавил Холстов, когда Горин уже собрался уходить с Толкачевым. — Я тут, может, закручусь — дел хватает. Так вот… Начнется декадник — не торопись. Копи силы, — он улыбнулся. — Чтобы и на третий раунд хватило. И еще… Это мелочь. Но все же… Километров тридцать отсюда, у озера — дамба. Будь на ней особенно осторожен. Узка, да и озеро подмывает, а грунт не укрепился… Словом, поосторожнее… Ну, всего… — Он опять улыбнулся, ткнул правой прямым в плечо и легко вбежал в вагончик…
IV
В Кассель — так звалось село — Горин приехал на КамАЗе. Это был седельный тягач К-5410 с четырнадцатитонным полуприцепом. Цвета лазурь. Два года тому назад КамАЗ пригнали с завода, и сразу же оборвали подвесной подшипник — «поросенок», как его зовут водители. «Поросенка» в автоцентре по обслуживанию КамАЗов не оказалось, и К-5410 поставили к «забору», то есть в глубь стояночной площадки. Хозяина перевели на другую машину, и КамАЗ — цвета лазурь — стал превращаться в светло-серый, покрываясь въедливой, мелкой пылью окружающих заводов да и своего собственного.
…Когда Горину стали нужны деньги и он, еле уговорив начальство, перешел из механиков в водители, то решил отремонтировать запыленный КамАЗ. В автоцентре и через два года «поросенка» не нашлось, и тогда, поездив неделю по автохозяйствам, он нашел еще такой же разбитый, и сам, повозившись с неделю, из двух собрал один. Потом все тянул, смазывал, мыл, чистил, и где-то через месяц КамАЗ-5410 стал опять исправным, цвета лазурь, с двумя годами жизни и всего лишь третьей тысячей километров на счетчике спидометра.
Узнал он его не до конца, КамАЗ — штука сложная, но научился уже его слушать и слышать, догадываться, что тому надо, и стал понимать то, чего не мог до конца понять, много лет проработав механиком, — у каждой машины свои «болячки», свои сильные места, и даже машины одного года выпуска, одной марки и одного гаража имеют каждая свою дорогу и свою судьбу.
Одно тревожило Горина — полуприцеп. Эти два года, пока тягач стоял, полуприцеп работал и, что хуже всего, — переходил из рук в руки. И побили его изрядно. Лапы, на которых он мог стоять без тягача, не опускались, резина вся была в порезах, но что самое плохое — борта выгнулись, стойки внизу поржавели, а левая рессора заднего моста сильно просела… Резину заменили, борта Горин спрямил кувалдой, стойки подварил, но рессор не было, и он надеялся на одно: два месяца рессора выдержит.
…На поле они ехали втроем: Горин, Толкачев и Леха Сысин — молодой светловолосый парень с веселыми глазами… Года три тому назад, здесь же, в Касселе, по пьяному делу, Леха средь бела дня слетел в бетонированную силосную яму. Лехе повезло: часть ямы была заполнена, и его машина, пролетев метров пять по дуге, чудом не задев трактор, трамбующий силос, — ухнула в зеленую массу. Спьяну Леха даже не испугался.
Когда Холстов на «техничке» подкатил к силосной яме, оказывать помощь было некому — машина без единой вмятины стояла, вытащенная трактором, на дороге, а сам Леха сверху заглядывал в яму, пытаясь понять, что же с ним случилось.
Быстро оглядев машину, Холстов подошел к Лехе, ощупал его и, поняв, что тот здоров и пьян, рассвирепел. Когда же Леха, оправдываясь, дохнул пьяным дыхом — ткнул его по челюсти. Не удержавшись, Леха, по уже меньшей дуге, опять свалился в яму.
За рукоприкладство Холстова чуть не лишили партийного билета, а Лехе опять повезло — с распухшей челюстью его оставили в покое, и недели через две, когда опухоль прошла, глаза его опять весело заулыбались… Но пить за рулем Леха бросил.
Водители — народ на язык острый — прозвали Леху «Летчиком».
…Проехав километров десять, они свернули к маленькому родничковому озерцу. Может, оттого, что вода в нем была необычайно чистая, Толкачев и Сысин не въехали в озерцо, а остановились на берегу и каждый по-своему: Толкачев — деловито и уверенно, Сысин — шумя и плескаясь, стали мыть машины.
…У Толкачева и Сысина были ЗИЛы-самосвалы. У обоих с виду новые и одного цвета, но у Толкачева впереди на крыше кабины тускло блестели три лампочки, и Горин понял: у Толкачева «восьмерка» (машина имеет восьмицилиндровый двигатель), а у Сысина обычная однорядная «шестерка». Горин знал: это только сейчас, когда они неслись по легкой, чуть пружинящей полевой дороге, Леха Сысин и впрямь был похож на лихого летчика. Но с грузом все изменится: Толкачев на своей «восьмерке» ровно и без натуги возьмет холмы и подъемы, а Сысин отстанет, будет переключать скорость, давить на «газ» и материть свою «шестерку», глядя, как легко от него уходит Толкачев…
У Горина КамАЗ был чист. Он подошел к воде и посмотрел на дно. Жизни в этом холодном, чистом озере, вероятно, не было и летом. Теперь же ее не было видно вовсе. Горину сделалось неуютно; он поднял голову. С близлежащих полей доносился нарастающий шум машин. Горин подумал, что и он вот сейчас ворвется в этот шум, сольется с ним. Его городская жизнь оставалась где-то позади, перебираясь на второй план. Он вдруг понял, зачем он, Горин, приехал сюда — он приехал убирать хлеб. И эта мысль взволновала его. Озеро было внизу, ему захотелось посмотреть на поля, пшеницу, увидеть вблизи комбайн. Он забрался в кузов КамАЗа. Ближнее поле было полиновано рядками скошенной пшеницы. «Раздельная уборка», — подумал Горин, удивился тому, что знает, как убирают хлеб, и сердце его вдруг защемило оттого, что было рядом с ним: от чистого озера, от поля с поваленной пшеницей и еще от каких-то давних полузабытых детских воспоминаний.
…Горин вырос в городе, в детдоме. Но до города у него были отец и мать, и он их помнил. Они жили далеко от этих мест на юге, рядом с морем, в совхозе. Мать умерла позже отца, но отца он помнил лучше, почти хорошо. Вследствие своей инвалидности и невылеченных ран от войны, отец работал на совхозной маленькой электростанции — «движке». Но во время уборки он переходил на комбайн.
Отцу он возил на поле обед — пышки и молоко. Холодные пышки становились тяжелыми и невкусными, и мать торопилась, чтобы отец их съел теплыми. Вынув пышки из печи, мать обертывала их полотенцем, толкала в старую, истертую сумку, ставила рядом большую бутылку молока; он бежал на ток и на визжавшей, подпрыгивающей «полуторке» добирался до поля. Отец шел навстречу. Он расставлял свои большие руки и поднимал его. Сын смеялся, крепко прижимая старую сумку, боясь уронить ее…
Отец ел горячие пышки, припивая молоком, а потом шел, прихрамывая, к комбайну.
Он становился рядом… Он помнил матово блестевший штурвал, бункер, заполненный зерном, «полуторки», идущие рядом с комбайном. Помнил названия комбайнов: «Коммунар», «Сталинец-6». Помнил слова, которыми обменивались комбайнеры: центнер, хедер. В этих словах была тайна.
Сколько лет прошло с тех пор? Страшно много. Он знал это. Годы были в нем. Он их чувствовал. И все же на миг ему показалось, что он совсем маленький, даже еще меньше, чем когда возил пышки отцу, но что поле то же, что вот сейчас из-за пригорка вылезет старенький «Коммунар», а за штурвалом будет стоять отец, и он, Горин, плавно и мягко, как в детском сне, побежит навстречу, и отец поднимет его…
Комбайн и вправду вылез. Горин не слышал его и, не ожидая, вздрогнул и очнулся — комбайн был не тот. Совсем не тот. Это был новый, сверкающий краской СК-6. Комбайнер быстро и мощно довел комбайн до края поля, ловко крутанул почти на месте, застыл, опуская хедер и переключаясь на пониженный ход, и покатил, быстро сжевывая поваленный, подсохший рядок.
За первым появился второй, третий, и вот уже с десяток новых СК-6 выехало на поле. Горин вспомнил газетные и книжные сравнения комбайнов с кораблями, плывущими по хлебному морю, и понял, что сравнения эти пришли от тех, давних, прицепных «Коммунаров». СК-6 не плыли караваном. Каждый в одиночку, кто рядом, а несколько навстречу друг другу, они быстро и напористо, уткнувшись хедерами в поле, утюжили ere. Если они и походили на корабли, то на корабли боевые, маневренные. А скорее, они напоминали танки во время боя.
Оторвавшись, Горин обернулся и, встретившись взглядом с Толкачевым, указал рукой на поле. Тот кивнул, подозвал Сысина, они влезли к Горину и стали рядом. Толкачев, показывая на поле, кратко объяснил работу. От пяти комбайнов зерно берет он с Сысиным, от остальных — Горин. Решено было подстраховывать друг друга, а чтобы комбайны все вдруг не остались без машин, первым возьмет зерно Сысин, потом Горин, а пока будет грузиться Толкачев, подъедет пустой Сысин.
Они въехали на пригорок за озерцом, выстроились в ряд навстречу полю, заглушили моторы и молча следили за накатывающимися на них и убегающими комбайнами. «Мы как три богатыря, — подумал Горин. — Только кто есть кто? Ну, Сысин, ясно, — Алеша Попович. А Илья Муромец? Здоровяк Толкачев на своем ЗИЛе или я — худой и бледный Горин — на длинном КамАЗе? Скорее, Илья Муромец — Толкачев. Он и стал в центре…»
Вдруг один из комбайнов застыл, и на нем ярко замигал маячок. Толкачев взглянул на Сысина, рука того дернулась к ключу зажигания, и машина Летчика понеслась по стерне, объезжая неподнятые рядки, к комбайну…
Тут же засверкал маячок на другом, и Горин, разволновавшись и не сразу включив двигатель, медленно двинулся к комбайну, так же, как и Сысин, объезжая рядки неубранного хлеба.
…Прошло три дня, и Горин втянулся в карусель под комбайнами. Работали они по 16—18 часов в сутки, но норму Горин делал процентов на семьдесят. Чуть больше набегало у Сысина. Норму выполнял только Толкачев. Горин видел, каким чертом тот крутился у комбайнов, и спросил бригадира — отчего такая норма?
— Экономисты перемудрили, — ответил Толкачев. — Да и как все учесть: погоду, дороги, поля, их урожайность, машины? Ты вон по три часа иной раз только грузишься. А погода? Дождь пошел — стоим, роса выпала — опять стоим… Ну, ничего, — расправил плечи Толкачев. — Возьмем свое на вывозке. Здесь перемудрили, а там недомудрили… По двести пятьдесят процентов делать будем, — сверкнул он белыми зубами. — Сегодня кончим пораньше — в баньку сходим, а завтра и начнем…
V
Утром в диспетчерской было собрание. Привыкший к тягучести и волынке собраний, проходивших в их заводском гараже, Горин удивился быстроте и деловитости утреннего. Первым выступил Холстов. Побритый, цветущий, мощный — он нравился всем. Это было заметно. Холстов сказал, что уборка практически кончилась, осталась «чепуха» — несколько низкоурожайных полей, на которые никто не рассчитывал, но коль там что-то выросло — надо убрать.
Чтобы подобрать «чепуху», оставили несколько машин. Это был самый больной вопрос. Но Холстов ловко и быстро его уладил, оставив под комбайнами машины водителей, провинившихся в чем-либо. Вслух об этом сказано не было. Наоборот, Холстов сказал, что этим водителям оказано доверие и так далее. Вслух Холстов пообещал надбавить размер премии. Бригадиром назначили Сысина. Леха Сысин был молод и еще не полюбил деньги. Он любил свободу (а бригадирство эту свободу давало) и согласился.
Покончив с трудным вопросом, Холстов предоставил слово главному агроному — молодому, узкоглазому, с черными прямыми жесткими волосами казаху. По-своему, по-азиатски, казах был красив. Начав с того, что «все дороги ведут на ХПП» и «не хлебом единым живет водитель», агроном быстро и деловито, пересыпая речь пословицами и поговорками, объяснил условия премирования.
…Все местные дороги, наверное, и в самом деле вели в райцентр, где находился хлебоприемный пункт, и, наверное, все были в этой ровной степи прямы, однообразны и плохи, как и эта, что вела из Касселя. И сейчас, машинально по ней лавируя, Горин думал о собрании, деловых способностях Холстова, ловком Толкачеве, еще до собрания загрузившем свой ЗИЛ, и теперь уже, наверное, разгрузившемся на ХПП, о казахе-агрономе, знающем русский язык лучше Холстова, да и его — Горина.
В дальней дороге любой водитель начинает думать. Его руки, ноги быстро и ловко делают свое дело. Машина объезжает выбоины, тормозит, обгоняет, тяжело груженная — медленно ползет в гору, а водитель думает. Без этого нельзя. Эти думы не из той породы, когда можно задуматься и въехать в опору. Нет, это даже не думы, а некий фон из мыслей, уже перебродивших и отстоявшихся. Этот фон необходим. Не будет его — нападет сонливость и в опору точно въедешь!
Несмотря на деловитость и быстроту утреннего собрания, что-то не понравилось в нем Горину. «Что же?» — думал он. Что руководить бригадой оставили ловкого Толкачева? Но это же верно. Толкачев и сам заработает и других заставит… Раздражает цветущий Холстов? Но он так все правильно делает. А как разбирается в людях… С водителями заводского гаража так быстро и тихо ничего бы не получилось. Кого-то не устроил бы меньший заработок, а кого-то — барахлит мотор, плохая резина — дальние рейсы. Но Холстов все прикинул — ни одного протеста. А, может, его знают? Он не первый год здесь. Знают и верят. И что премию добавят, и резину найдут, и мотор заменят. Да-а-а… Отработанная система… А чем казах не по душе? У совхоза все шансы занять первое место по району, а то и по области. Вон в местной многотиражке… Впереди — Кассель!.. И уже заготовлен силос, убрана почти вся пшеница… Осталось последнее — хлеб на ХПП! И был такой же декадник на силосе, и премии были, и все довольны. А сейчас еще больший шанс денег огрести. Стоп… Может, дело не в Холстове и не в агрономе, а в том, что слишком деньгами пахнет, живыми деньгами? Наверное, это и не нравится. Слишком просто и денежно. До ХПП восемьдесят километров. Средняя скорость — сорок в час. И это по объездной, хорошей дороге. Два рейса — норму — сделать можно. Даже если учесть загрузку и разгрузку. За норму — премия из совхозных денег. Десять рублей. На следующий день — и живыми деньгами. За каждый следующий рейс — по пятерочке надбавка. За три — уже пятнадцать, а за пять — двадцать пять. И сразу же. Живыми деньгами. Учитывая, что и норму на 200—300 процентов делать будешь, и Холстов тоже 40 процентов премиальных заплатит, и плюс 75 процентов от среднего заработка по «Положению», — это же громадные деньги. Но по объездной дороге пять рейсов не сделаешь! В сутках 24 часа, а надо и есть, и пить, да и поспать не мешает. Но ты-то не по объездной пилишь, не по той, на которую норма рассчитана, а по недостроенной, прямиком, зато на тридцать верст меньше. Вот на что агроном намекал: «Все дороги на ХПП ведут…»
…Впереди блеснуло озеро. То самое, про которое говорил Холстов. Оно было небольшое, заросшее камышом, низкое. Один его край, через который проходила дорога, подрезала высокая, узкая дамба. Дамба была очень узка — двум грузовикам не разъехаться, и Горин, сбросив скорость, осторожно въехал на дамбу. Машина была уже на середине, когда что-то мелькнуло в камышах, и он, не отрываясь от дороги, быстро косым взглядом скользнул по камышам. Потом взглянул прямо и тут же тормознул, очарованный… Два белых лебедя медленно и плавно, ничем, казалось, не шевеля, выплывали из камышей. Они были живые, рядом и от этого еще более загадочные и красивые…
VI
В первый день декадника Горин сделал три рейса, во второй — пять. На второй день, сделав до обеда два рейса и подъезжая к кассельской столовой, он подумал, что агроном надул: обещанную премию он не получит. В столовой ел наспех. Когда допивал компот, увидел агронома, который торопливо, понимая, что Горин спешит, подсел, достал ведомость, ручку, и Горин расписался в получении пятнадцати рублей.
Итак, система работала. Но и без этих, неожиданных по сути, премий он уже входил, втягивался в круговерть декадника. В нем всплывали старые, забытые ощущения — ощущения соревнования. Он чувствовал, что становится расчетлив, молчалив. Это было даже вне его сознания. Руки, ноги, все тело в предчувствии тяжелых испытаний перестраивали и мозг, и все сознание.
Когда он выходил из столовой, встретил Холстова. «Как дела?» — спросил Холстов. «Нормально», — сухо ответил Горин. Но дело уже было не в том, что вчера на собрании ему не понравились излишняя деловитость, технократия Холстова и заманивания деньгами агрономом. Нет. Дело было уже не в них, вернее, не в их методе — быть может, излишне расчетливом. Дело было уже в нем самом, Горине, в той работе, которую он делал. Дело было, в конце концов, в хлебе.
…В пятницу утром опять было собрание. «Чепуху» подобрали — уборка кончилась, и бригада Лехи Сысина перешла к Толкачеву. Это было кстати. Дня три шли мелкие дожди. Потом грело солнце — и хлеб, мокрый и теплый, прорастал и горел.
Агроном уже не шутил и не сыпал поговорками. Он и Холстов молча достали из мешковины пророщенный, спекшийся пласт зерна. Все было ясно — хлеб погибал, и Горин, спавший эти четыре дня не больше пяти часов в сутки, понял: спать придется, может быть, еще меньше.
…Дорогу за эти дни он изучил до последней выбоины, знал все небольшие подъемы, спуски, повороты. Проколов пока не было, резина держала, и Горин по дороге на ХПП остановок не делал, но, подъезжая к дамбе, он всегда тормозил из осторожности и оттого, что хотелось взглянуть на лебедей. Лебеди плавали уже подальше — метров за сто, часто уплывали в камыши, и он не мог понять, отчего они не улетают, почему держатся на этом шумном и опасном месте. Рана? Болезнь? И если ранен, то кто: один или оба? И семья это или просто два лебедя?..
Однажды ранним утром, тормознув на дамбе, он, сколько ни вглядывался, не увидел лебедей. Улетели? Или загубил кто?
Горин вышел из КамАЗа, прошелся по дамбе и тут увидел идущего от озера человека. Кряхтя и шумно сопя, человек влез на дамбу и подошел к Горину. Они поговорили немного. Это был местный житель — старик-егерь. Он попросил довезти его до отделения. Горин молча кивнул и, взглянув на озеро, собрался влезть в КамАЗ, а старик, перехватив его взгляд, спросил:
— Лебедушек, мил человек, ищешь? Тут они. Подкормил я их маленько — теперь вот в камыши и забились…
…Они подъезжали к отделению, и Горин спросил: что с лебедями?
— У женки крыло забили, а, может, и сама… Да, печали немного — взлетать уже пробует — седни сам видел. Ишо неделя — вместе и полетят — муженек вон как рядом вьется…
VII
Оттого ли, что старик называл лебедей мужем и женой, а, может, и оттого, что лебеди были так верны друг другу — о чем он, конечно же, слышал, но как-то не задумывался в миллионном, дымном, далеком от природы, суетящемся городе, — но Горин подумал о жене, своей неудачной семейной жизни, и чувство одиночества и тоски вдруг с такой силой ударило в грудь, таким упругим комком подступило к горлу, так вмиг омертвели руки и ноги, что он сбросил «газ», переключился на нижнюю скорость и машинально прижался к самому краю дороги, хотя ни встречной, ни обгоняющей машины не было.
…Отношения у него с женой были плохие, очень плохие, много хуже того, как он пытался, но так и не смог объяснить Холстову, а сейчас, когда жена забрала сына и ушла к родителям, отношения натянулись до предела. На дне того сосуда, который десять лет тому назад был огромен и полон его любви, не осталось ничего. За десять лет их совместной жизни, вернее, борьбы, борьбы временами тяжелой, сбивающей с ног, когда обоими было сказано все, что могут сказать любившие и разочаровавшиеся друг в друге люди, когда муть, поднятая этой борьбой, опускалась, Горин долгими, полубессонными ночами пытался разобраться: почему разваливается, а теперь уже почти развалилась их семья и держится на самом хрупком — на их ребенке?
Где-то в глубине души он знал ответ. Иногда ему было так тяжело, что хотелось одного — заснуть и не проснуться. Но он просыпался, вставал, жил, а однажды, проснувшись, ощутил, что ему легче и покойней, чем прежде. «Отчего?», — спросил он себя. И понял — сосуд разбит и пуст, последняя капля любви убежала из него, и жена его стала понятна ему. Кем она была? Жадной до денег, тряпок и всевозможных развлечений — хапугой? Мещанкой? Обывательницей? Наверное, это было так. Но из уважения к семье и любви к ребенку он так не думал. А может, еще не подсохло дно треснувшего сосуда? Кто знает. И хотя и сейчас слезы жалости к себе и сыну выступают у него на глазах, все же ему легче, чем прежде…
* * *
Влюбить в себя его будущей жене было просто. Он был готов и хотел этого. Их детдом был неплох. Скорее, хорош. У них были шефы — большой машиностроительный завод. Были неплохие воспитатели и учителя. И то, кем он стал по выходе из детдома — перворазрядником по боксу, учащимся техникума с персональной стипендией шефов-заводчан, — все это было от детдома. Не было, да и не могло быть в детдоме одного — семьи и тех теплых отношений любви и привязанности друг к другу, которые есть в хороших семьях, которые — Горин всегда это помнил! — были у его отца и матери и которые он всегда носил в себе и нуждался в них.
Когда она — Горин уже учился на последнем курсе — вместе с его однокурсницей пришла на матч и он увидел ее, то сразу влюбился.
Тот бой был легким. Ему, ставшему уже мастером спорта, победителем нескольких международных матчей, выиграть чемпионат области было нетрудно.
Десять лет тому назад она не была тем, кем стала сейчас: яркой, выхоленной, двадцативосьмилетней львицей, окружающей себя вещами «самыми-самыми», самой высшей пробы. Перед ним стояла, ничуть не смущаясь, розовощекая, ладная девушка с рыжеватыми распущенными волосами. Одета была просто. Но уже и тогда платье на ней попахивало заграницей.
…Если мы захотим, то ничего не увидим, даже днем при ярком освещении. Он захотел — вмиг ослеп и года три ничего не видел, не слышал. Вернее, не хотел. Пока Симонов не отправил его в нокаут. Почему он кончился как боксер с этим нокаутом? Ведь такое со многими бывает. Его даже из сборной области не попросили. Да и почему? Призер чемпионата России. Всего двадцать три года!
Только вот сейчас Горин понял «почему»… Оттого, что ей было все равно. Нет-нет! Ей совсем не все равно было, чемпион он или нет. Конечно же — только Чемпион! Области, страны, может быть, олимпийский. Но она была глубоко равнодушна к тому, чем он жил и живет, к его тренировкам, часто и тяжелым и нудным; равнодушна к его друзьям-детдомовцам; равнодушна ко всему, кроме результата.
Еще до встречи с Симоновым Горина удивляло ее равнодушие к боксу и то странно-холодное достоинство, с которым она после его победы принимала поздравления от своих многочисленных подруг и знакомых.
Спасибо Симонову — он раскрыл ему глаза. Еще год по инерции он выступал без результатов, и глаза его раскрывались шире и шире. И он увидел все: и ее дичайший эгоизм, и ее страсть к дефицитным тряпкам и вещам. Эгоизм ее был настолько редким, что она не любила даже сына. Он был похож на нее. Жена гордилась этим, и лет до трех он входил в то число тряпок и вещей, которые ей были необходимы. Но потом, годам к шести, у сына появилось собственное мнение, вещью он уже не был, — и интерес к нему пропал.
Теперь Горин понял даже ту, первую фразу при их знакомстве.
…Она взглянула на него, первой подала руку, сказала, как ее зовут, и прибавила:
— Папа говорит, что вы будущая спортивная звезда.
Папа…
Все эти годы его жена была не одна — их было двое. Она и ее отец. Вряд ли она его любила. Скорее, это были родственные души. Но души, совпадающие во всем. До мелочей. Разница была лишь в том, что дочь поставила на него — Горина, и положения, денег, тряпок хотела иметь, используя своего мужа. Отец же поступал проще — для этого он использовал завод. Тот самый машиностроительный, который был шефом детдома, где вырос Горин.
Ее отец стал замом года за два до того, как Горин сделался его зятем. Машзавод был громаден. С генеральным директором, большими корпусами, с продукцией, известной в стране и за границей, с не менее известной хоккейной командой и плавательным бассейном, в котором проходили международные соревнования и тренировались хорошие пловцы. Во Дворце культуры вечерами работали кружки, студии, ансамбли, а драматический коллектив был одним из лучших в стране. У завода были свои базы отдыха, профилактории и даже санаторий недалеко от Анапы. И весь этот культурно-спортивный комплекс курировал его тесть. Это была его вотчина. Его «закрома», как любил он сам поговаривать, нисколько не смущаясь Горина. А «закрома» и в самом деле были и богатые, и редкие. Чего стоило только содержимое могучего холодильника тестя, стоявшего на кухне и нехотя, снисходительно дергающегося иногда. В громадном городе, где жил Горин, было много всего: дыма, железобетона, бодрости многих сотен тысяч работающих. Но город лежал вдали от туристских маршрутов, больших рек с ценными рыбами, и в его магазинах не было пикантных и дефицитных яств и напитков. То, что имелось, было просто, ядрено и надежно. И Горину, никогда не видевшему в продаже ни икры, ни чешского пива, ни «Посольской водки», было непонятно: как, каким путем и когда все это доставлялось в могучий холодильник тестя? Весь этот дефицит, к которому Горин был, в общем-то, равнодушен, так постоянно и тщательно пополнялся, что Горину иногда казалось: все это не приносят и не привозят, а неведомым способом доставляют по трубам, соединяющим холодильник с «закромами».
Тесть наставлял и благословлял едущих за границу пловцов и хоккеистов, группы делегаций, просто едущих работать и отдыхать и делал это все так легко, с таким добродушием, что Горин вначале думал: именно поэтому руководители делегаций привозят тестю сувениры и подарки. Теперь он знает — это тоже своего рода «закрома». Обладая великолепным даром Цицерона, тесть при напутствии умел так повернуть дело, так поставить себя и свою роль, в общем-то совсем не главную, что руководители делегаций сами предлагали свои услуги. С проверенными начальниками спортивных команд он был прост, и дело сводилось к размеру и количеству нужных вещей.
Сувениры тесть брал, за ценные вещи платил. Работая замом больше десяти лет, тесть не имел ни одного пятнышка. Таможенные и уголовные законы чтились свято. А моральных законов, как понял Горин, у него не было.
За эти десять лет тесть поменял несколько квартир, по спирали приближаясь к центру города, построил гараж, купил «Жигули» и сейчас заканчивал постройку дачи с камином, мансардой и антресолями. Его хитрости, умению обольщать нужных ему людей, делать все не пачкаясь, Горин, ненавидя тестя, временами даже завидовал. Особенно его способностям все делать по закону. Вот тесть строит дачу, и Горин знал: на любую мелочь, если надо — на розетку, у тестя есть чек или справка. И так было в любом деле: формальные очереди при покупке «Жигулей» и получении очередного жилья, куча справок на материал для гаража, справки о его болезнях при получении бесплатной или полубесплатной путевки в санаторий.
С тестем Горин не боролся. Почему? Оттого, что тесть десять лет тому назад дал ему взаймы денег на кооперативную квартиру и Горин еще и сейчас должен? Или устал от борьбы с его дочерью — своей женой? Горин верил (откуда была в нем эта наивная вера? От матери? Отца? От детдома?): если человеку рассказать, что вот это плохо, а это хорошо, он, конечно, поймет и будет делать хорошо — и все эти годы он, с меньшей или большей настойчивостью, пытался растолковать, что «плохо», а что «хорошо» — жене. Ему понадобилось десять лет, чтобы понять — это бесполезно. Таков ее образ жизни. Таковы их души и сердца и другими не будут. И ничему не научив, ничего не доказав одной, он понял: с двоими у него и борьбы не будет. Его оттолкнут, как ненужную вещь; если не откинули еще сейчас, то отчего, он и сам не знает: из-за боязни излишнего шума, а может, оттого, что жена, регулярно ему изменяя, не нашла подходящей ему замены…
VIII
…На восьмые сутки декадника Сысин, груженый, заснул, съехал с дороги и перевернулся. Случилось это сразу же за селом, днем, часов в двенадцать. Горин, сделавший уже второй рейс, увидел кучку людей, самосвал Сысина, лежащий на боку, а потом и его самого, хмуро смотревшего на помятую облицовку и проткнутый радиатор, из которого еще убегала вода. По тому, как хмур и несчастен был взгляд Сысина, Горин определил, что Летчик и на этот раз цел и невредим, и успокоился.
Кто-то уже сообщил об аварии Холстову, и тот, подлетев на «техничке», искал в разношерстной толпе людей Сысина.
— Жив он. Ни одной царапины, — сказал, подойдя к Холстову, Горин.
— Везун, ах везун! — еще негромко загрохотал Холстов, тоже успокаиваясь и набирая внешнего гнева. — Пьян? — он ухватил приблизившегося Сысина, но и Горин и сам Холстов уже поняли, что Сысин трезв и несчастен.
— Заснул?! — угадал Холстов, а когда Сысин молча, с тем же несчастным лицом кивнул, — взъярился:
— Днем спишь! По бабам меньше ходить надо! — и, не слушая оправданий Сысина, отошел к Горину.
Вокруг заулыбались: все кончилось благополучно — и авария, и даже праведный гнев начальства…
— Знаю, что не виноват, — сказал Холстов, обращаясь к Горину. — По двадцать часов в сутки работает. А что делать? В две смены — водителей не хватает. Звоню руководству — как же! На севере области уборка не кончилась, дожди льют. Еще свою технику посылать придется… Ты-то как? Тяжко?
— Нормально. Уже третий раунд — финиш скоро… — Горин посмотрел на Холстова, увидел, что тот примеряется к куче наваленного в кювете зерна, предложил: — Пшеницу можно мне загрузить — организуй лопаты и людей, — и пошел к своей машине.
…Говоря Холстову, что у него все в порядке, Горин говорил неправду. Восемь дней он делал по четыре-пять рейсов и устал невероятно. Если бы ему сказали: «Горин, все кончилось — можешь спать», он тут же бы — в машине, в поле, на току — лег и уснул.
Но все же он был в форме. В том перестроенном на иное, отличное от обыкновенной жизни, состоянии души и тела, которое заставляет после трех-четырех часов сна подниматься без будильника, а спать крепко-накрепко, успев за эти немногие часы наполнить тело энергией, а душу — бодростью. Он перешел на другие рельсы. Втянулся в круговерть декадника. Сейчас он шел вторым по выработке. Ему вдруг захотелось обогнать Толкачева. И не из желания заработать. Еще будут картофель, капуста, свекла. Все это надо вывозить, и нужные ему деньги он заработает. В нем проснулись силы, толкавшие его на ринг. «Не-е-ет, — шептал он, впиваясь взглядом в разбитую, размытую дождями дорогу. — Жизнь в тридцать лет еще не кончилась…» Он вдруг понял, что повторяет чужие слова, и сконфузился вначале, но потом решил для себя: пусть он повторяет чужие слова, но это и его, Горина, слова. И ему, Горину, пусть по другим причинам, было плохо, горько, одиноко все эти годы. Но пережил же все это, хоть и вымышленный, но, наверное, когда-то и где-то существовавший князь Болконский. Переживет, стерпит и он, Горин, несостоявшийся чемпион и муж плохой жены. И Горина перестало страшить даже то, что больше всего страшило — развод и возможный разрыв с сыном.
Пусть развод. Вначале он бросит эти рубли ее отцу, а потом поборется, он докажет, что сын — это его сын. Их тоже двое. Сыну уже девять и у него тоже спросят: с кем он захочет остаться? А в сыне он уверен. Они — родственные души.
И это ощущение нового, что пришло здесь, в Касселе, бодрило Горина, заставляло надеяться, быть в форме.
Инстинктивно он экономил силы. Зная, что в любом деле есть свои секреты, внимательно смотрел, как работают другие водители, а особенно Толкачев. А у того и в самом деле было множество приемов — как отработать три месяца уборки не сломавшись и как во время вот таких декадников, работая по шестнадцать, восемнадцать, а то и двадцать часов в сутки, выполняя две-три нормы, оставаться еще и бодрым и веселым.
Спал Толкачев днем, после обеда, после того, как приводил машину в порядок. Совхозный ток и ХПП работали круглосуточно, и простоев от погрузки и разгрузки у Толкачева почти не было. Если он спал ночью, то, чтобы утром не стоять в очереди на току и приехать пораньше на элеватор, оставлял машину груженой с вечера. Запасных колес у Толкачева было штук пять или шесть. Размещал их где мог. Одно даже в кабине. Покрышки запасок были рванье, все в подкладках и портянках, но зато Толкачев никогда не загорал, перебортовывая, а проколов и прострелов по дрянной дороге на ХПП хватало.
Что мог, Горин перенял от Толкачева. Так же работал ночами, копался в куче негодных покрышек, а особенно старался научиться тому, как мягко и ровно водил машину Толкачев ночью, по расхлябанной дороге, не глазами, а каким-то непонятным, невероятным способом угадывая все выбоины и колдобины.
Получалось у Горина неплохо. И это тоже радовало его, вселяло надежду.
По дороге он наметил маленькие остановки. Это было что-то вроде графика. Самая приятная остановка — у дамбы. Лебеди еще не улетели. Наоборот, привыкнув и осмелев, они подплывали ближе к дамбе, и Горин иногда усилием воли заставлял себя быть на дамбе не более нескольких минут — особенно, когда припекало солнце и мучительно хотелось сесть на край дамбы, вдыхать ветер, чуть колышащий камыш, и смотреть, смотреть на озеро, на лебедей, на тусклое уже солнце, отсвечивающееся в воде…
IX
Похолодало… Воздух наполнился тревожной, щемящей душу сутью, и все вокруг — минорно горланящие грачи, дымящиеся по утрам вспаханные поля, дышавшие холодом речки, которые пересекала дорога, сама дорога, сжавшаяся, упругая, готовившаяся к недалеким уже морозам, заносам и буранам, — все-все шептало, кричало: зима! зима идет…
Часов в одиннадцать вечера Горин, загрузившись, подъехал к гостинице взять куртку и надеть сапоги: накрапывал мелкий холодный дождь. В последнее время, по примеру Толкачева, он спал в КамАЗе — благо, за сиденьем был устроен хороший спальник, да и потеря тридцати минут на дорогу от стоянки до гостиницы и обратно из четырех часов, которые он спал, была роскошью.
В коридоре горела одна лампочка, было сумрачно. Подставив под сливную трубу водяного отопления таз, незнакомая молодая женщина в светло-синем спортивном костюме, явно городская, мыла большие мужские сапоги. Рядом, смеясь и мешая ей, толкался Холстов. Увидев Горина, Холстов вскинул руки, шагнул навстречу, похлопал по плечам и, еще шире улыбаясь, полуобернулся к женщине.
— Знакомься, Горин. Супруга. Заявилась негаданно-нежданно… Бросила непонятно на кого детей и вот… Ревизует… — глаза у Холстова сияли. Он был немного пьян и явно счастлив.
Женщина, отставив недомытые сапоги мужа, поправила тыльной стороной ладони каштановые, чуть вьющиеся волосы и кивнула Горину, глядя на Холстова и тоже улыбаясь.
— Ты гружен?.. Ах, черт… и дождь… — говорил Холстов, от избытка счастья подталкивая Горина в бок. — Но все одно… зайди к нам. Там такие пироги… Да брось ты их, — кивнул он жене на сапоги. — Я сам…
Но жена, все так же улыбаясь, махнула рукой, отпуская мужа и показывая, что не верит его словам: «Я сам».
В комнатке Холстова еще не было прибрано, но уже стоял тот запах, что приносят женщины, их вещи и пироги домашней выпечки.
— Жаль, что ты гружен, — повторял Холстов, подсовывая Горину еду, как бы и через нее делясь с ним своим счастьем. — Отметили бы это дело… Да как же я, — вдруг всполошился он. — Тебе письмо.
Холстов подал стандартный конверт, и Горин, чуть удивившись — писем он не ждал, хотя и написал жене одно, где сухо, в несколько строк, сообщил, где и как работает, — понял, что письмо от Ирины.
…Письмо он распечатал в своей комнате. Ветер, дувший в окно, щелями проникал сквозь раму. В комнате было холодно, нежило и неуютно. Читая письмо, он думал, что надо навести порядок. Вытереть пыль с подоконника, стола и желтой, с лета засиженной мухами, лампочки. Где-то взять вату — скорей всего из аптечки КамАЗа — и заткнуть щели…
Смысл письма он понял сразу. Но что-то (может, счастье Холстова, а может, неуют комнаты) мешало прийти к мысли, что все написанное — это ему, Горину. Но пробежав еще и еще раз и прочитав P. S. — жене очень нравилось оставлять что-нибудь для P. S., — Горин понял, что письмо именно ему. Жена сообщала, что подала на развод. А в постскриптуме, который был больше основного письма, добавляла, что Горину можно приезжать в любое время — папа договорился и что раздел имущества предлагается такой: ему, Горину, — квартира, мебель, гараж, а Ирина забирает сына, библиотеку и машину.
Что-то несильно, но страстно стало жечь в левой части груди. И Горин, удивившись новому ощущению, понял, что это жжет его сердце.
Как и несколько дней назад — на дамбе, после встречи с егерем, Горину вдруг стало невыносимо одиноко. Желтый, обволакивающий свет от засиженной лампочки, голые серые стены комнатушки так давили на него, что он понял: с ним может произойти что-нибудь ужасное — он начнет выть или пинать и бить эти голые, ни в чем неповинные стены. Почти задыхаясь, он выбежал на крыльцо.
Весь пропитанный дождем и темнотой, Кассель спал. Не слышно было ни звука. От нескольких плоских, наклонных фонарей, расставленных у входа в правление, лился мертвяще-фиолетовый свет. Ему вдруг показалось, что этот свет сам по себе, а вокруг нет ничего — ни Касселя, ни машин, ни тока с хлебом, ни даже бетонных столбов и плоских фонарей, откуда льется этот свет. Мускулы тела не повиновались ему. Ноги слабели, спина сгибалась. Чтобы не упасть, он оперся на перила — пальцы рук хлестко схватили мокрое дерево.
Совсем недалеко и не по времени рано кукарекнул молодой петух. Ему подтявкнул щенок. Ветер брызнул холодным дождем в лицо, и Горин очнулся.
«Как в нокдауне», — подумал он и медленно, чуть слышно стал считать: «Раз, два, три…», стараясь делать то, что всегда делал, когда попадал в нокдаун, — вначале овладеть собой: чувствами и телом; дышать глубоко; по мере счета к «семи-восьми» попытаться собраться и на «девять» изобразить судье, что ты так же бодр, здоров и весел, как и до нокдауна.
Судьи сейчас не было. Он — Горин — был тут все: и красный, и синий угол, и рефери, и даже зритель.
На «девять» он, вроде бы, собрался… Вытер рукавом мокрое лицо, нетвердо прошел в свою комнату и стал переодеваться…
Он уже сходил с крыльца, когда из коридора вышел Холстов.
— Звонил совхозный диспетчер, — голос у него был деловит. — ХПП не принимает, что-то там сломалось — вези на резервный.
— Я отвезу, — тусклым голосом сказал Горин. На эмоции у него не было сил, хотя он знал, что на резервном — небольшом элеваторе недалеко от основного — разгрузка вручную, да и дорога к нему — сплошной кисель. Потом он так же тускло добавил: — Ирина на развод подала. На суд приглашает… Я бы первым автобусом и уехал… Два дня хватит, наверное…
— Хорошо, — помолчав, сказал Холстов. — Езжай. Только вот что — хлеб отвезу я… А ты ложись отдыхать — до первого автобуса часа четыре еще поспишь…
— Ты не в форме, — голос у Горина твердел.
— Чепуха, — попытался улыбнуться Холстов. — Бог простит, а ГАИ не догадается…
— Нет, отвезу я… — уже решительно сказал Горин. — Похоже, это мой последний рейс с хлебом — декадник кончается. — Он нашел руку Холстова, стиснул ее и, боясь, что не выдержит и уступит, не очень ловко, но быстро зашагал к КамАЗу.
X
Итак, все кончилось. И напоследок его хотят еще и наказать: забрать то, что было именно его, а оставить ненужное: большую квартиру, за которую он еще должен тестю и кооперативу и которая ему одному не нужна; гараж без машины, которую он сам восстановил из старья; мебель, ценность которой он не ценил и за которой не мог, да и не хотел ухаживать…
«Бьют под дых», — подумал он просто, не по-боксерски, и перед глазами встали строчки-решение забрать у него сына, библиотеку, машину…
«Машину…» — он горько усмехнулся… Когда бокс пришлось оставить и у него появилось свободное время, Горин, по случаю, купил ГАЗ-69. «Газик» был не на ходу, и когда Горин привез оценщика из комиссионного магазина, тот долго ходил вокруг ржавого хламья, попытался открыть левую дверь и закрыть правую. Но ни то, ни другое не удавалось, и тогда оценщик заявил, что не знает, как быть: оценять ниже минимума он не имеет права, а вся эта рухлядь стоит ровно столько, сколько стоит ржавое железо, то есть раз в двадцать меньше.
Кое-какие деньги еще были у Горина, и он, махнув рукой, согласился на минимум, который был так дорог.
Он сразу пошел, как оказалось, по верному пути — не стал подваривать, подчищать, наставлять, а разобрал все до основания, до последнего винтика и медленно, шаг за шагом двинулся обратно, реставрируя и заменяя, что мог.
Он был терпелив и настойчив. Жена, ни разу не заглянув в гараж, который Горин арендовал у знакомого, не имевшего машины, посмеивалась. Горин тоже улыбался. Между пропастью, разделявшей их души, еще пролегал мосток. Тестю, в ту пору «столбившему» свое положение, занятому «закромами», квартирами, было не до зятя.
Сменщик Горина, пожилой, седовласый Федорыч, автомобилист душой и руками, рабочий по происхождению и интеллигент по мягкому, тактичному своему обхождению, называвший Горина «коллегой», как-то в субботний день зашел в гараж, долго смотрел, как копается в куче хламья его «коллега», а в воскресенье принес плакат-схемы и книгу. Читать книгу и пояснения к схемам было трудно — писаны они на нерусском языке — автоэкспортовские, но были они в таком прекрасном исполнении, что Горин использовал их не по прямому — техническому назначению, а, скорее, для души, когда ему было особенно трудно и одиноко.
На ремонт ушло долгих три года. К концу третьего Горин умел делать все: лудить, паять, варить газом и электротоком, перетягивать сиденья, разбираться в синтетических красках, ровно красить пульверизатором и правильно сушить.
Тесть, перебравшись в очередную квартиру, обзавелся и новым просторным, с центральным отоплением гаражом, а старый, далеко за городом, подарил дочери.
В нем-то Горин и закончил ремонт. Очень часто с ним был сын. Сыну уже исполнилось пять лет, он чувствовал себя совсем взрослым, не скучал, звал отца грубовато-ласково — «папашкой», пытался помогать, но в конце концов нисколько не мешал.
Выезжали из гаража вдвоем: он и сын. Федорыч был в отпуске. Ни жену, ни тестя Горин не пригласил — им было все равно.
Гараж стоял у дороги в аэропорт, ближе к городу. Вокруг звенело лето. Не доверяя сделанному, Горин вел машину не спеша, но потом, поверив, что все сделанное им двигается как надо и в такт, повел машину быстрее. Приближались трубы окраинных заводов. Горину вдруг расхотелось въезжать в город. Он развернулся и теперь уже мощно и накатисто покатил к аэропорту. Не доезжая, свернул в сторону к небольшому небетонированному аэродромчику, с которого поднимались маленькие спортивные самолетики. Невысоко кружил вертолет. Потом они ехали уже совсем по бездорожью, перебрались через небольшую речушку, и сын заставил его остановиться, а потом, раздевшись, бегал по воде, визжа оттого, что маленькая речушка была и ему мала. Затем они опять ехали по едва заросшим травой дорогам, находили ягоды, которые еще не созрели, а потом каким-то чудом попали на бетонку и опять понеслись к аэропорту.
Уставший от избытка счастья сын уже не тыкал пальцем в громадные самолеты, тяжко отрывающиеся от бетонной полосы. Он сидел сзади, на подбитой поролоном скамье, провожал сонным глазом очередной самолет и, наверное, думал, что ему все это снится. Горин вспомнил своего отца, его комбайн и как он бежал к нему по скошенному полю, а потом стоял рядом, держась за штурвал, и то ощущение детского счастья, которое было у него. Он посмотрел на дремавшего сына, и ему было радостно и грустно оттого, что он уже никогда не сможет ощущать по-детски. Он тронул худенькое плечо сына. Сын вздрогнул, его глаза стали ясны, он обхватил отца за шею, крепко прижал и прошептал: «Я люблю тебя, папашка». От этих слов и от худеньких ручек, сильно сжимавших шею, запершило у Горина в горле. Сын еще долго держал так отца, а Горин думал лишь об одном: правильно разъехаться с быстронесущимся встречным транспортом…
…КамАЗ, тяжело елозя по грязи, выехал за Кассель и завернул на прямую дорогу. Вот на этом повороте заснул и перевернулся Сысин…
Спать Горину не хотелось. Он ощущал лишь страшное напряжение. Его усталое тело как бы затормозилось, и ему казалось, что в нем ничего не происходит, не дышат легкие, застыла кровь, нет никаких мыслей. Что еще чуть бродило в нем, ему казалось, происходит в ком-то другом, не в Горине. Была чья-то жизнь… Бои на ринге… Победы… Женитьба… Ссоры… Разговоры о квартирах, машинах, гаражах, золотых цепочках и цепях, браслетах, модных и уже не модных платьях, туфлях, пальто и куртках… Встреча праздников в опять новой квартире тестя. И тесть, молчаливо и солидно хвастающийся этой квартирой, чешским хрусталем, югославской мебелью и настоящими персидскими коврами… Нет! Это не могло происходить с ним, с простым парнем, сиротой Гориным… Но ведь было… Не спорил же он с тестем, не доказывал свое, а долгих десять лет унижался, сидел за праздничными столами и деликатесами из «закромов». Жил своим… Жил, надеясь, что уговорит Ирину жить по-другому, по-своему… А как это, по-своему. Откуда ему, сыну крестьян, потом сироте, потом боксеру, знать, как жить? Может, так и надо жить, как живет Ирина и ее отец? Есть, спать, работать. Шикарно одеваться. Иметь хорошую квартиру, мебель, модную библиотеку с фолиантами… Видишь, даже фолианты у тестя есть. Где раздел на духовность и бездуховность? Может, это они нормальные, высокодуховные люди, а ты — бездарь и неудачник, а по праву Ирина хочет забрать себе библиотеку…
Библиотека была частью его самого… Все началось с Жюля Верна. Шестой класс в детдомовской школе он закончил неплохо, но двое-трое учились явно лучше его, и, когда их классный руководитель принесла стопку книг, у него не было никаких шансов получить самую красивую и влекущую из них — «Дети капитана Гранта». Эта книга была в их школьной библиотеке, и Горин читал ее и любил и Паганеля, и Гленарвана, и особенно Роберта. И вот сейчас эту книгу, увесистую, с быстро-несущимся «Дунканом» на обложке, вручат Игорю Квашину — круглому отличнику. В этом не сомневался никто. Слезы отчаяния выступили у Горина — это было похоже на предательство. К тому же Горин знал: больше, чем полагалось, читать Квашин не любил, и его трезвое, умное сердце не трогали ни Д’Артаньян, ни Айвенго, ни тем более растеряха Паганель… Стопка уменьшалась, и вот сейчас, поправив очки, Квашин пухлой, холодной ручкой возьмется за «Дункан» и унесет его… Но случилось чудо. Их молоденькая и не очень опытная учительница что-то поняла, и книга досталась ему…
В его памяти, не оперативной, а той другой — постоянной, на которой стоит сознание, мораль, душа, наконец, — этот миг радости, даже какого-то упоительного счастливого тумана, в котором он находился, запомнился навсегда… Та книга, потрепанная, но со всеми страницами и все так же стремительно несущимся на помощь «Дунканом», стоит на самом верху книжного шкафа.
Начавшийся книжный бум почти не коснулся Горина. Он не потянулся за модными подписками или редчайшими и также модными архивными экземплярами. Ирина высмеивала его методу собирать книги, называла это помесью лирики с классикой, Хафиза с Гоголем. Горин и сам не знал, отчего он так собирает… Так ему хотелось… Это он любил… Все это им прочитано. «Так зачем же собирать читанное?!» — изумлялась Ирина. Ей хотелось Кафку, Пруста, Фолкнера. Он и на это ничего не смог бы ответить. Просто ему ужасно хотелось, чтобы все ОНИ были рядом. Их немного, небольшой шкаф. Но это было дорого ему, его душе, родственно ему… Тургенев, Толстой… И не весь Тургенев, и не весь Толстой, а лишь две-три книги. И Достоевский, и Бунин. И Чехов… Чехов!! И то, что он любил давным-давно и сейчас любит: и Жюль Верн, и Фенимор Купер, и Вальтер Скотт, и Луи Буссенар, но тоже далеко не все, а две-три книги. И так книг шестьсот — всего не перечесть, и ни одной залетной, не его, Горина…
…Дорога мутной, серой полосой набегала на КамАЗ. Вот сейчас он доедет до ХПП, потом еще немного до резервного, сдаст свой последний хлеб, этой же расхлябанной дорогой вернется в Кассель, затем — автобус, где он вздремнет, затем — город, Ирина, тесть и все… Все кончится… Десять лет их жизни, в которой было много всего, но не было простых вещей, в сущности дающих счастье: доброты, заботы друг о друге, понимания, покоя, наконец, и даже не внешнего — бог с ним — жизнь в городе неспокойна, а покоя внутреннего, который приходит от ощущения, что у тебя есть кров, есть жена, которая с тобой в горе и радости. Наивные, простые мысли. Наивные, простые желания. Но в них все. И Холстов счастлив, счастлив оттого, что жена приехала к нему, навезла пирогов и наводит порядок в его комнатенке. Горин вспомнил, как десять лет тому назад Холстов был влюблен в Ирину. Что было бы, если бы Ирина предпочла Холстова? Скорее всего, ничего… Решительный Холстов не чета ему, Горину — наивному, терпеливому крестьянскому сыну, верящему в то, что такие жлобы изменятся от его туманных желаний и слов…
Но он будет драться! И он не расслабится, как тогда, с Симоновым. Предательство, а равнодушие — это тоже предательство, расслабило его в том поединке. И еще — одиночество. Вдруг ощутимое одиночество. Чувство, что был сиротой, им и остался. Но теперь он не один. В этом он уверен. Чтобы понять и знать своих детей — надо не забывать своего детства. А он его не забыл. И не предал своих отца и мать и не перебежал под крышу, под волю своего тестя и жены. Детство нельзя предавать. Он знал, что и сын не предаст ту поездку на «газике», речушку, по которой он бегал, маленькие спортивные самолетики, не предаст прочитанную им потом книгу Жюля Верна, с «Дунканом» на истрепанной обложке, не предаст и своего «папашку».
У него еще есть Холстов… Это он понял совсем недавно… Они во многом непохожи. Сейчас даже вспомнить смешно, что лет двенадцать назад они выступали в одном весе. И уж совсем грустно вспоминать, из-за чего разошлись. Собственно, они и не расходились. Это Холстов легко и ловко (а легко ли?) исчез с горизонта: вначале в техникуме просто отошел в сторону, а потом вовсе уехал на Север. Грустно все это… Хотя теперь грустно лишь ему, Горину… У них непохожи характеры… А разве дело в характерах? Главное, что схожи души…
Да, он будет драться! Но сейчас все его усталое тело и израненная душа просили покоя. Он скоро отдохнет… Жена и тесть думают, что суд для него трагедия, а это будет отдых. И они с сыном еще съездят на «газике» к той маленькой речушке и побегают по воде… И возьмут с собой Холстова… А еще лучше они вместе поедут к морю. Это была его заветная мечта — поехать к морю. Почему его тянуло к морю? Оттого, что отец его и мать были из тех мест? Он видел много морей, видел и океаны, но когда он думал о море, то вспоминал его таким, каким первый раз увидел в далеком-далеком детстве — крутовыгнутым, тихим и синим-синим.
Они поедут к крутому синему морю… И он, и сын, и Холстов. Вот только надо довезти хлеб. Хлеб — это все. Его надо довезти… И они поедут… Они доедут до того места, где жили когда-то его отец и мать… И возьмут их с собой… Места хватит всем… ГАЗ-69 — это не «Жигули»… В нем места хватит всем… И он всюду пройдет… А потом они поедут прямо к морю… От тех мест до моря рукой подать… И будут бегать… И сын будет смеяться… А потом сядут и будут говорить, говорить… Как лучше убрать хлеб и вывезти его. А если устанут, то лягут, подгребут под себя песок (а в их местах песок у моря не хуже, чем в Анапе) и будут лежать и чувствовать, что они вместе, рядом… А ноги надо окунуть в море; море будет накатываться, плескаться, и будет не жарко… Будет как раз, как надо, чтобы отдохнуть… И его невероятно уставшее тело отдохнет… А море будет плескаться рядом… Или это плещет озеро, разбиваясь о дамбу по дороге на ХПП? Где-то спят лебеди. А может, улетели? Или улетел лебедь, оставив подругу? Вот опять плеск. Надо бы сбросить скорость… Но зачем? Это плещет море, накатываясь на песчаный берег… И надо быстрее к нему… ГАЗ-69 — хорошая машина…
Вдруг что-то резко и сильно рвануло, стало заваливать набок, плавно развернуло, оторвало от земли, и кабина, поддерживаемая еще двигавшимся по дамбе полуприцепом, стала опускаться в холодную осеннюю гладь озера. А потом полуприцеп оторвался от дороги, и вся громадная, тяжело груженная машина рухнула в воду…
Горин еще жил долго… Целую вечность… Сын был с ним рядом… Взявшись за руки, они бежали по хлебному полю. Бежали плавно, как в детском сне… По краю хлебного поля плавно двигался старый «Коммунар», а за штурвалом стоял его отец… Он видел их и улыбался им… А потом сошел вниз и протянул им руки, и они бежали к нему…
* * *
Волны, поднятые упавшей машиной, дошли до камышей и разбудили спавшего лебедя. Лебедь прислушался и огляделся. Через несколько минут волны стали опадать, и все вокруг опять стало тихо, лишь осенний дождь шелестел в камышах. Приблизившись к подруге, лебедь склонил над ней голову, как бы защищая ее. Она знала, что он рядом, и сон ее был спокоен…
1982 г.
ЗА СПРАВКОЙ
1
Молодого специалиста, инженера производственно-технического отдела Гришу Банникова (отделовские женщины звали его Гришухой), проработавшего в строительном управлении с полгода, вызвал к себе начальник управления Пал Степаныч Красильников.
Небольшой кабинет Пал Степаныча был полон: начальники участков, служб, отделов. Почти все дымили, разговаривая.
Сам Пал Степаныч, стоя у окна, утирал свою большую, изрядно полысевшую голову.
Увидев вошедшего, он потянул из раскрытой форточки морозу, уселся за стол, поинтересовался Гришухиным здоровьем и, услышав, что все в порядке, спросил, помнит ли Банников, каким было прошлое лето?
— Да, не очень, — помялся Гришуха, — диплом защищал. Жарким, вроде…
— Верно. Впрочем, для колхозников да строителей, — голос Пал Степаныча зазвучал притомленно, — все лета жаркие… Словом, так. В Степном районе овцы без кормов. Есть решение горисполкома — помочь. Уже сейчас в совхозе Степного идет заготовка хвойной лапки. Подошел, так сказать, и наш черед. — Пал Степаныч вздохнул и, покрутив на столе листок бумаги, продолжал: — От нашего СУ поедут четверо. Бригадиром решено назначить вас. Причины для отказа есть?
Причин не было, и Гришуха развел руками…
— Тогда вот список бригады, — подал лист бумаги Пал Степаныч. — По человеку с первого, второго и третьего участков… Срок командировки — 10 дней. Норма — семь тонн. Сегодня — четверг. Завтра день на подготовку… Выезжайте в воскресенье, чтоб наутро и начать… Глазырин, — повернулся он к курившим, — человека дашь, не зажмешь?
— Плана вы не боитесь, Пал Степаныч, — юродствуя, блеснул местной шуткой Глазырин, начальник первого участка, и мужиковатое лицо его сморщилось в улыбке.
— Что ты, что ты, типун тебе… — слабо отмахнулся Пал Степаныч. — Все под планом ходим…
Последние слова Пал Степаныча были чем-то вроде сигнала. Недокуренные сигареты замяли, шум затих, и Гришуха понял, что время перекура, а значит и разговора с ним истекло…
— Да, вот что, — сказал Пал Степаныч на прощанье. — Отработаете — не забудь взять справку, и чтоб с печатью, подписями, ну словом, как положено…
2
В Степное поехали в воскресенье, втроем. Второй участок человека не дал. Куликов В. А., рабочий, как значилось в списке, в пятницу на работу не вышел. Назначать нового не было времени, и решено было послать Куликова (если с ним будет все в порядке) в понедельник или же прислать замену.
Третий участок выделил Бокарева С. И. Сейчас тот сидел напротив Гришухи, одетый в новую фуфайку и новые же ватные, большие для его тщедушной фигуры брюки зеленого цвета и равнодушно разглядывал мелькающие за окном перелески и проплывающие заснеженные поля.
Гришуха подумал, что следует познакомиться поближе.
— Вас, наверное, Сережей зовут? — спросил он, обращаясь к Бокареву.
— Сережей, — подтвердил тот.
— А кем вы работаете?
— Электриком, — Бокарев говорил тихо и как-то нехотя.
— И вам нравится ваша работа?
— Да, так, — неопределенно мотнул головой Бокарев. — Работать можно…
— А ему вот это, небось, нравится, — хохотнул Барабанчук, третий из них, парень лет тридцати с вислыми, рыжеватыми усами. Задрав подбородок, он ударил себя по горлу, отчего раздался глуховато-длинный звук.
— Я не пью, — сказал Бокарев. — У меня голова болит после.
— Ха, — округлил бледные глаза Барабанчук. — У моего дяди тоже болит, а вот уж лет двадцать как пьет.
Помолчали.
— А вы, Сережа, в совхоз по охоте поехали? — опять обратился Гришуха к Бокареву.
— Нет, — отозвался тот. — Не по охоте. Отказывался. Начальник участка уволить даже собирался.
— Ну, а вы?
— Пошел к юристу. Тот сказал — не имеет права. — Во время разговора Бокарев продолжал равнодушно смотреть в окно.
— И отчего же вы поехали?
— Четвертый разряд обещали дать. Я уже полтора года, как из деревни, а все третий да третий…
— Ну, ты, деревня, даешь, — хохотнул опять Барабанчук. — И справки навел и разряд выбил. Ну, даешь!
— А вот вы! — повернулся к нему Гришуха. — Вы по охоте?
— Как ни странно — да! И если начальство желает знать, могу объяснить. — Барабанчук улыбался, сквозь его усы сверкали крупные зубы. — Во-первых, я сознательный, во-вторых, у меня все есть: квартира, жена, да и разряд выше некуда. Ну, а в-третьих, отдых в деревне всегда полезен…
— Но какой тут отдых? — недоумевающе спросил Гришуха. — Мы же работать едем.
— Едем-едем, — усмехнулся Барабанчук. — Работать-работать. Ты-то хоть раз работал в деревне?
— Работал. (На первом курсе Гришуха и в самом деле убирал картошку в колхозе.)
— Ах, работал, — сказал Барабанчук. — Ну-ну.
Он замолчал. Молчал и Гришуха. Бокарев все так же равнодушно смотрел в окно.
3
К вечеру ударил мороз. Ледяное его дыхание захватывало электричку; теперь же, когда они стояли на маленькой площадке-полустанке, мороз нахально лез за куцые воротники фуфаек, щипал уши и носы, а у Барабанчука нависал на усах, сгибая их в еще более крутую дугу.
Оглядев Степное, аккуратной кучкой брошенное сразу за высокой насыпью железной дороги, решили идти к группе двухэтажек, расположенных в центре: правление совхоза должно быть там… Напустив туману, они вошли в полутемное фойе и не заметили вначале маленькой старушки, сидевшей за столом и равномерно двигавшей спицами.
— Извините, — сказал Гришуха. — Мы на заготовку хвойной лапки. Вы не подскажете, к кому нам обратиться?
— На лапку? — застыли руки у старухи. — Ежели на лапку, то к агроному. Только нет его — воскресенье-то, небось, еще не кончилось?
— Как нету? — сказал Гришуха. — А как же мы? Нас же определять надо.
— Не знаю, эх, не знаю, — вздохнула старушка. — А чего вас определять? Езжайте в Южное, там и определитесь.
— Вы нас не поняли, — сказал Гришуха. — Мы посланы в Степное, вот и в командировках стоит: «Село Степное. Заготовка хвойной лапки».
— Ох, и несуразный ты, — опять вздохнула старушка. — Да ты поглядь округ. На десять верст дерева не встретишь. Степное — мы. Степное! А лапку готовят в Южном и возят сюда.
— Все же непонятно, — Гришуха оглянулся на Барабанчука и Бокарева. — Что же теперь делать?
— Что тут непонятного, в командировках и не такое бывает, — сказал Барабанчук и шагнул к столу. — Бабуля, а бабуля, командировки где отмечают?
— Пошто я знаю, — пожала худыми плечами старуха. — А все в Южное ездят, стал быть, там и отмечают.
— Ну, и отлично, — сказал Барабанчук. — С транспортом как? Порядок?
— Эт, автобус, что ль? Имеется. Скоро вечерний пойдет. А насчет агронома не сумлевайтесь: приедет. Завтрева и приедет…
4
Автобусная станция с виду была неплоха: аккуратное кирпичное зданьице с крылечком. Но внутри было хуже: мусорно, серо; от пропыленной кружки, посаженной на цепь рядом с пятиведерным бачком, веяло совсем уж тоской, и положение не спасали даже изящно-модные скамьи, расставленные вдоль стен. Ожидающих было мало: несколько шуршащих в углу старух, обставленных сумками, молодая женщина с задумчивым лицом да девушка-подросток с раскрытой книгой.
Автобус должен был подойти минут через пятнадцать, и Гришуха забеспокоился: перед автостанцией Барабанчук, вдруг спохватившись, посмотрел на часы, передал Бокареву рюкзак и, бросив: «Сей момент», скорым шагом полетел назад.
— Он что-нибудь забыл? — спросил Гришуха. Бокарев, ничего не ответив, пожал плечами, прошел к модной скамье и сел, вобрав голову в воротник фуфайки.
Послышались голоса на крылечке, входная дверь резко толкнулась, и в зал ввалилась компания парней.
Компания была разнокалиберной по возрасту (возглавляли ее два щетинистых самца-битюга, ядром были мальчишки лет по шестнадцать, с краю резвились еще совсем сопливые пацанята), но спаянной, спаянной общей целью в поисках развлечений.
И, почувствовав это, умолкли старухи, взгляд женщины стал тревожен: перебегал с лица на лицо, девушка-подросток захлопнула книгу и испуганно смотрела на компанию.
Воздух загустел, стало шумно. Пацанята, озоруя, носились по залу. Битюги, изучая обстановку, тяжелым взглядом заскользили по ожидающим, остановились на Гришухе раз, второй, третий, но что-то их смутило, и, оставив Гришуху в покое, они вперились в Бокарева.
— Вот ты, — протянул грязный ноготь один из битюгов. — Выйдем. Поговорить надо.
— Зачем выходить? Куда? — задохнувшись и ощущая всем телом странную, никогда ранее не испытанную дрожь, заговорил Гришуха. — Куда выйдем?
— А тя не просят, не кудахтай, — зыркнул по нему битюг и поманил пальцем Бокарева.
— Как не просят? Мы же вместе. Мы — командированные, — сбивчиво повторял Гришуха и осекся, увидев, что Бокарев, поднявшись, пошел к двери. Тяжело развернулся битюг, а за ним и половина компании.
Судорожно вздохнув, бросился Гришуха к двери, но там его остановили, оттерли к скамье, и кто-то, наверное, второй битюг, шевельнул плечом, опуская Гришуху…
Вернулся Бокарев минут через пять. Усмехнулся метнувшимся навстречу взглядам, прошел к скамье и сел на то же место, где и сидел.
— Били? — спросил Гришуха после того, как оставшаяся половина компании, потоптавшись, ушла и установилось неловкое молчание.
— Рубль просили, — ответил Бокарев и, опять усмехнувшись, добавил: — Взаймы.
— Дал?
— Еще чего. Сказал, что нету.
— Поверили?
— А мне плевать, — зло сказал Бокарев. — Я их штучки знаю — сам из деревни. До армии вот так же искал на свой зад приключений.
Помолчали. Охватившее напряжение проходило. Снова, уже оживленней, зашушукались старухи в углу, девочка раскрыла книгу, только женщина все еще смотрела на Бокарева с горькой, жалеющей складкой у рта.
Вдруг старухи всполошились: подходил автобус. Вслед за всеми вышли и они. Лихо подкатил «пазик». Откуда-то свалился возбужденный Барабанчук, и Гришуха удивился: он совсем забыл о нем. Барабанчук подмигнул женщине, сказал «Бог в помощь» старухам, заползавшим по одной в автобус, удобно устроился на сиденье и, отвечая на немой вопрос Гришухи, откинув полы фуфайки, показал две бутылки вина:
— Благодарите судьбу, что вовремя вспомнил. Красное-то только до пяти дают. Приедем, чем новоселье отмечать будем? А?
5
Но новоселье не состоялось.
В Южное въезжали по темноте. За стеклышками «пазика» чувствовался настоящий морозище («Аж под сорок!» — крестились старухи). Барабанчук всю дорогу балагурил с женщиной. Выяснилось (женщина жила в Южном), что командированные живут в старой, отслужившей свое школе, что заготовка хвои ведется уже с месяц, что мужики Южного в обиде на городских, так как в местном сельпо ни водки, ни вина не достать. При последнем сообщении Барабанчук, значительно крякнув, похлопал по карманам и подмигнул Гришухе.
Наконец «пазик» остановился и раскрыл двери навстречу морозу. Женщина, рассказав, как найти школу, и посмеявшись приглашению Барабанчука «заходить на чай», растворилась в черноте переулка, тихо расползлись во все стороны старухи, и они остались одни: с рюкзаками, двумя бутылками вина в карманах Барабанчука и со смутно-непонятным настроением в душе.
Среди полузаснувших деревенских домов школу разыскали сразу: она выделялась барачно-казенным видом и ярким светом, льющимся из незашторенных окон.
У входа стояло несколько мужиков в пиджаках и без шапок. Они о чем-то невнятно и вразнобой спорили, разболтанно размахивая руками.
Отворилась дверь, и вышел еще мужик. Этот был одет, кряжист и не очень пьян на вид. Увидев новеньких, он гоготнул и сказал счастливым басом:
— Из какой шараги?
— Мы не из шараги, — сказал Гришуха. — Мы из строительного управления.
— А-а-а, — махнул рукой кряжистый. — Все равно. Я к тому, ребята, что не вовремя вы прикатили: в школе ни одного места нет. Где спать-то будете?
— Как же так? — сказал Гришуха. — Начальник говорил, что все подготовлено. Как же так?
— Да-а-а, — гулко протянул кряжистый. — Начальство, они мастаки обещать. Вот и здесь. Понавалило народу, а вырубками всех обеспечить не могут. Два-три дня поработаешь и шабаш.
— Послушай, корешок, — ласково встрял Барабанчук. — А не знаешь ли ты бабки, чтобы ночевать пускала?
— Нет, — сказал кряжистый и покачал головой. — Не знаю. Про тех, что самогон гонят, — знаю, а которые ночевать… Правда, есть место, — он показал рукой вдоль улицы. — Вон там, на краю села, участок дорожников. Имеется у них, вроде, пара комнат для командированных. Может, устроят.
— А агроном в Южном часто бывает? — спросил Гришуха.
— Бывает. И часто. Да сами увидите.
— Дался тебе агроном, — ухватил Барабанчук Гришуху за полу фуфайки. — На снегу спать собираешься? Поплыли короче.
Они шли уже по улице, когда их нагнал рокочущий бас:
— Не устроитесь, так в школу возвращайтесь. В учительской моя бригада. Перекантуемся.
6
Им долго не открывали. Мороз поослаб, но зато воздух, расколовшись, пришел в движение, бросал в лицо жесткие гроздья снега.
Наконец, после того, как Барабанчук, развернувшись, забухал в дверь пяткой валенка, слева зажглось окно, щелкнул замок. На пороге, в накинутом пальто и платке стояла женщина.
— Командировочные? — спросила она.
— Да-да, — поспешно сказал Гришуха.
— Ну, так проходите. — В голосе ее Гришуха услышал приветливые нотки. Они прошли маленький коридорчик и попали в гостиную. Рядом с пышным, волнообразным диваном стоял асимметричный, жирно лакированный столик. Блеснуло трюмо у дальней стены. В двух углах стояло по розе. На одной из них висело несколько будто привязанных тяжелых цветков.
— Садитесь, — кивнула на диван женщина. — Я сейчас.
Они сели. В гостиной было тепло и почти уютно. Вместо уходившей тревоги на Гришуху накатывалась усталость.
Со стопкой белого белья вошла женщина.
— Оформлю вас завтра, — сказала она и, оставив белье на столике, подошла к заузоренному окну. — Сегодня куда там. Поздно. Располагайтесь в первой комнате.
— Сщас бы ванну, — заулыбался Барабанчук, — и полный сервис.
— Ох, и метет, — сказала женщина. — И в Степном, поди, так же?
— Наверное, так же, — согласился Гришуха. — А вот в городе, когда мы выезжали, не мело, но мороз был злющий.
— Как в городе? — повернулась женщина. — Вы же из Степного. Командировочные. Меня начальник предупредил — трое ремонтников.
— Мы и есть командированные. И ехали через Степное, только в правлении не было никого: да какая разница, в Южное бы и послали, а так мы с утра и начнем лапку готовить, — говорил Гришуха и видел, как взгляд женщины становился жестче и жестче.
— Ах, по-ня-я-тно, — протянула она, распрямившись струной. — Так вы на ла-а-пку. Знать не знаю! — вдруг рявкнула она, злясь за свой промах. — Командировочные. На ла-а-пку. Знать не знаю! Пьяницы! Идите в школу, где все ваши, там и пейте.
— Мы не пьяницы, — попытался объяснить Гришуха. — Мы на одну ночь. В школе мест нет, а завтра приедет агроном и разберемся.
— И у меня места нет, — захлебываясь, говорила женщина. — Куда я ремонтников дену?! Они дело делать приедут: с весны, вон, дорогу на Березовку тянуть будем. Нет у меня места! — Она вплотную подошла к ним, и Гришуха хорошо рассмотрел ее. Была она еще молода, дородна и вместе с тем по-особому стройна, высока, с приятным лицом и хорошими зубами. Портили ее грубоватые кисти рук да злое теперь выражение лица.
Откричав, она остановилась и скрестила руки на груди. На четырех пальцах правой руки ее была наколка. По буквочке на пальце. «Зина», — прочитал Гришуха.
— Ну, все, — сказала женщина. — Чтоб через минуту духу вашего здесь не было. Помо-о-щнички. Водку пить вы нашим мужикам помощники.
Ухватив белье, она пошла из гостиной.
— Но как же так? — шагнул за ней Гришуха.
— Погоди ты, — остановил его досадливым шепотом Барабанчук. — Тянешь тут Мыню за пупыню, как говаривал мой дядя. Молчи! И так все объяснил… Зинаида, — громко сказал он. Спина у женщины вздрогнула.
— Зинаида, — надбавил тону Баранчук. — Извините меня, но вы нас не за тех приняли. Да я с той поры, как крещен был, близко к вину не стоял. А насчет пьяных мужиков вы верно заметили. — Барабанчук легонько отодвинул мешавшего Гришуху и пошел за женщиной. — Не знаю, как ваше отчество, Зинаида, — услышал Гришуха из коридора, — нам надо объясниться…
Некоторое время из дальней комнаты слышалась резкая речь женщины, Барабанчук лишь изредка вставлял слово. Но постепенно он говорил все больше, все тише и невнятней, а минут через десять послышался смех женщины, и в гостиную вошел Барабанчук со стопкой белья.
— Учись, начальник, — сказал он. — Все опять вери вэл…
Когда заправили постели и Гришуха, умывшись, стал раздеваться, Барабанчук достал бутылку вина, подбросил ее, поймал и сказал, улыбаясь:
— Ну, что, вмажем по 166 и 6 десятых граммов, как говаривал мой дядя?
— Нет, — сказал Гришуха. — Не хочется.
— Интеллигенция не желает. Ну, а ты, деревня?
— Не буду, — ответил Бокарев. Он уже лежал в постели.
— Как знаете, — сказал Барабанчук. — А я вмажу. Теперь уже без десятых… Отчество у нее, между прочим, Сергеевна, — добавил он, открывая бутылку.
7
В понедельник с утра погода установилась: засинело небо, засверкали снега.
В одной лишь шапке, жмурясь, бежал Гришуха по тропинке, соединяющей школу и туалет. Тропка сплошь была изрисована узорами, будто кто-то веселый и рассеянный поливал здесь чаем крепчайшей заварки.
Вдруг он остановился. У торца школы, куда доходила дорога, проскобленная елозившим по Южному скрепером, стоял «газик»…
Приехавший агроном был одних лет с Гришухой, строен, в ловко скроенном и аккуратно сшитом полушубке. На ногах — унты, в руках приношенный, но еще совсем добротный портфель. Лицо загадочно прикрыто модными очками.
Усевшись на краешек крайней кровати (стульев в учительской, служившей чем-то вроде зала заседаний, не было), агроном оглядел замусоренный пол, но ничего не сказал и щелкнул портфелем. Четко и неторопливо рассчитал одну из бригад, отработавшую свое, оставшимся объяснил, где их участки, а когда окружавшее его кольцо распалось, встал, смахнул что-то на полушубке и, не торопясь же, пошел к выходу…
Не дослушав метнувшегося к нему Гришуху, досадливо покривился:
— Опять за рыбу деньги. Я же звонил в город и просил людей не присылать — нет у меня лишних участков.
— Как нету? — сказал Гришуха. — А когда будут?
— Пока не знаю. Это зависит от управления лесного хозяйства.
— Как же так? — сказал Гришуха. — Мы ехали, ехали и вот…
— Сочувствую, — агроном поправил очки. — Но за каждое вырубленное без разрешения дерево с меня голову снимут.
— И что же нам делать?
— Отправляйтесь в город, работайте. Дадут разрешение — милости просим.
— Бардак, — вдруг зло сказал Бокарев, и Гришуха, привыкший к его молчанию, вздрогнул. — Почище, чем у нас в деревне.
— А не скажи, — весело подхватил Барабанчук, — не скажи: в бардаке порядок — там каждая женщина свое место знает, как говаривал мой дядя, а тут… Да не боись — получишь ты свой разряд. — Шлепнув Бокарева по плечу, он повернулся к агроному. — Одна милейшая особа, из местных, Зинаидой Сергеевной зовут, рассказала нам, будто в Березовку дорогу строить собираются?
— Собираются, — подтвердил тот. — И что из этого?
— Предлагаем помочь дорожникам — поубавить леску на трассе!
— Не знаю, не знаю, — подумав, ответил агроном. — Мысль верна, но не знаю. И все одно: без города не решить. А впрочем, я поговорю с дорожниками, но раньше утра ответа не будет…
— Хорош, гусь, а? — сказал Барабанчук, когда агроном вышел. — Не агроном, а кинозвезда. Нужно ему это Южное, как слонихе лифчик… По ночам, небось, ванна и горшок белый снятся.
— А может, и не снятся, — сказал Бокарев. — В Степном, вон, двухэтажки строят, а в них и ванны…
— Снятся, — уверенно сказал Барабанчук. — Таким всегда снятся…
К Гришухе подошел кряжистый бригадир (его звали Василием). Подвел к небольшой комнатке, над дверью которой висела табличка «Директор». Радушным жестом показал на койки уезжающий бригады, громыхнул:
— Располагайтесь. Выбирай любую…
8
Скоро школа опустела. Заготовщики ушли в лес, начинающийся сразу за Южным.
Для новичков понедельник проходил, и проходил бестолково: Бокарев и Гришуха листали валявшиеся на кровати растрепанные журналы, Барабанчук весь день проспал, пофыркивая в усы… К вечеру он проснулся, повертел свежими глазами и ухватил журнал у Бокарева.
Песня, брызнуть будь готова — вновь, и вновь, и вновь, и снова! Чашу пей — в ней снов основа — вновь, и вновь, и вновь, и снова! Друг, с кумиром ты украдкой посиди в беседе сладкой. — К поцелуям жду я зова — вновь, и вновь, и вновь, и снова!..— весело прочитал он. — Ну, и что же дальше. Кто автор?
— Откуда мне знать, — пожал плечами Бокарев. — Не видишь — оторвано…
— Эх, деревня, настоящие стихи нельзя порвать, — глаза Барабанчука засветились. — Дела давно минувших дней, как сказал поэт, но и я грешил по молодости… Хотите почитаю? И тоже о любви… — Он встал в позу и немного заунывно загудел:
Любовь — кольцо из разлук и печалей, Из полетов в бездонность весенних сердец. Я не помню, когда было наше начало, Только горестно знаю, где будет конец. Замирали сады. Гасли радуги в поле, Присмиревшую землю хлестали дожди, И хотелось кричать от бессилья и боли: «Подожди уходить. Забывать подожди». Ах, колечко-кольцо, в нетерпеньи и дрожи Было очень легко нам тебя надевать, А теперь нужно все, чем живем, уничтожить, Надо вычеркнуть все, чтоб тебя разорвать. В бездорожии чувств мы запутались оба И теперь не понять, где здоровая суть. Видно, в нашем кольце есть фальшивая проба, Если больно смогла нас любовь обмануть…— Неужели вы сами? — спросил Гришуха. — Мне и двух строчек не соединить. Только вот тут, «…в нетерпеньи и дрожи…» — как-то не так, по-моему… — Гришуха запнулся и посмотрел на Барабанчука.
— Это из ранних — молод был. А впрочем, — он весело засмеялся, — впрочем, и в остальных «дрожжей» хватает. Я поэтому и писать бросил, и со второго курса филфака ушел.
— Брось врать-то, — не поверил Бокарев. — Из-за какого-то стишка.
— Чего мне врать, деревня, — сказал Барабанчук. — Настоящий поэт из меня все равно бы не вышел — врожденный порок имеется: цветоощущение ослаблено — ну, а занюханным интеллигентом быть не желаю — их и так хватает. Главное — знать, кто ты есть! А я — рабочий! И не какая-то там рабсила, а гегемон. Ге-ге-мон! — раздельно произнес он и опять стал в позу:
Ветер! Ты в воздушной ризе, мчась к любимой, о Хафизе ей бросай за словом слово — вновь и вновь, и вновь, и снова!Вот так нужно писать о любви, а иначе… — Барабанчук махнул рукой, но не досадливо, и видно было, что ни филфак, ни собственные неудачные стихи его давно не волнуют. — Но вернемся к прозе, — сказал между тем Барабанчук и посмотрел на часы. — Сейчас автобус из Степного прибудет — надо бы папашу Куликова встретить, если он вообще приехать вздумал, а то еще в лабиринтах Южного заблудится — уж я его знаю, — и мы лишимся такого ценного, — Барабанчук усмехнулся, — работника…
9
Когда Барабанчук вышел, Гришуха опять зашелестел журналом.
— Господи, как же так можно! — вдруг негромко сказал Бокарев.
— Что можно? — не понял Гришуха и посмотрел на Бокарева. Тот лежал, уставясь в потолок. Вид у него был растерянный.
— А может, случилось что-нибудь? — спохватился Гришуха.
— Что случилось? — Бокарев привстал, а потом, сев на кровать, повторил свистящим шепотом: — Что случилось? Дело в том, что со мной ничего не случается. Ни-че-го! Болтаюсь, как дерьмо в проруби, и ничего не случается.
— А ты бы учился, — как и Бокарев, Гришуха тоже говорил негромко. — Поступай в институт и учись. Правда, временами это муторно, но в общем-то интересно.
— Я-я-я? Учиться? Если хочешь знать — я поступал. В политехнический. Три раза. И до армии и после… Да что толку, — Бокарев горестно вздохнул.
— Чепуха, — сказал Гришуха. — Просто у тебя знаний не хватает, а это дело наживное. Как, например, ты к математике готовился? По школьным учебникам? А этого мало. Вот приедем из командировки, до лета далеко — так займусь я с тобой. Хочешь? Экзамены сдашь как миленький.
— Спасибо, — сказал Бокарев. — Но дело не в математике — математику я знаю…
— А в чем же тогда? — удивился Гришуха.
— А в том, что я трус, — помолчав, махнул рукой Бокарев. — Позорный трус…
— Ты?! — сказал Гришуха. — Да какой же ты трус? Трус я… Вспомни автостанцию в Степном. Ох, и испугался же я тогда.
— Ну ты сравнил, — сказал Бокарев. — Автостанция совсем другое дело. Там все просто. Покажи таким вот охламонам, что ты им глотку перегрызть сможешь, — они тебя пальцем не тронут. А институт… Еще не войду, а на меня мрамор давить начинает. А в аудитории совсем плохо: желудок к позвонку прилипнет, да мочиться все время хочется. Смех и грех, а ей-богу, на экзаменах так и бывало… — Бокарев лег на кровать и опять уставился в потолок. — Нет, — сказал он, — да поступи я — ни за какие стишки не бросил… Облысел, ослеп, а институт бы кончил… Да что толку говорить. Эх, не будь моя деревенька так мала — не тянул бы я в городе Мыню, как любит приговаривать Барабанчук, — уехал бы домой. Да и беда не в том, что она мала, а в том, что мельчает и мельчает… Тем летом ездил к матери. До армии, помню, стоял наш дом чуть ли не в центре, а теперь крайним оказался. Сосед, Прохоров, в годах уже, внуки — и тот в город подался. Дом-пятистенок на дрова растащили, по саду козы бродят: всю сирень обглодали, а у Прохоровых была такая сирень!..
10
Ко вторнику их стало четверо. Вчера вечером — Гришуха и Бокарев уже подремывали — распахнулась дверь и вошел Барабанчук, подталкивая пожилого, с примятым лицом мужика, одетого в такие же зеленые брюки, как у них.
— Папаша Куликов — самый знаменитый сварной в нашем СУ, — похлопал по плечу мужика Барабанчук. — К тому же почти не пьет.
Пока Барабанчук, чуть кривляясь, представлял Куликова, тот, смущаясь, крутил головой; при последних же словах махнул на Барабанчука и отвернулся с явной обидой в глазах. Все это, впрочем, не помешало им мирно, «с морозцу» распить бутылочку красного, оставшуюся у Барабанчука.
…С дорожниками агроном договорился, и участок нашли. Узнал об этом Василий, громыхнул:
— Эхе-хе. Вот счастье привалило. А мы тут чащу прореживаем, с каждой сосенкой корячимся. Да вы так норму за четыре дня сделаете…
…Участок они вырубили за три дня. И хотя норму не сделали — остались какие-то полторы тонны, настроение у Гришухи было хорошее, и появилось оно с той самой минуты, когда агроном, показав участок и строго предупредив не углубляться — схемы дороги еще не было и наверняка было известно только об этом участке, — укатил на «газике»…
Сосенки стояли одна в одну: все красавицы, а ростом не больше тех, что украшают к Новому году, и Гришуха пожалел деревца, представив, как их станут топтать и мять овцы. Но делать было нечего. Зарываясь в глубоком снегу, он прополз к крайней сосенке и затюкал топором, стараясь подрубить как можно ниже.
— Погоди, — сказал Бокарев. — У меня опыт есть — рубил как-то в колхозе. — Он усмехнулся. — Не знал, что пригодится.
Бокарев пробрался к Гришухе, утоптал вокруг комля площадку и, ударив пару раз под открывшийся низ, всем телом навалился на сосенку. Тонко и печально ойкнув, та упала, посыпав прошлогоднюю хвою.
— Ну вот и все, — сказал Бокарев. — И нет ее — есть жратва.
…Сосенки падали быстро. Это особенно радовало Барабанчука, и, насев на очередную, он, несмотря на тридцатиградусный мороз, красный и потный, крякал от удовольствия и кричал отстававшему от всех Куликову:
— И это знаменитый сварной?! Давай короче, а то пристынешь.
В среду, к вечеру, стало ясно, что работы осталось на полдня, и Барабанчук сказал:
— Это начинает мне нравиться — есть шанс смыться домой пораньше…
11
К пятнице бригады, отработав свое, разъехались. В притихшей школе остались они да бригада Василия, но и те ушли в лес на заре — сегодня же доделать норму да и укатить.
— Вот и закончилась для нас операция «Хвойные лапки», — сказал Барабанчук. Он устроился на кровати по-турецки и перебирал все те же журналы.
— Но почему? — отозвался Гришуха. — Вот придет агроном и придумает что-нибудь — нашел же он нам участок.
— Да ничего он не придумает, — досадливо скривился Барабанчук. — А за участок дорожников благодарить надо: сам он, небось, и пальцем не шевельнул… Не верю я, — сказал он, помолчав.
— Во что не верите? — не понял Гришуха.
— А ни во что, — отложил журналы Барабанчук. — Не верю, что агроном что-то сделает. Не верю, что лапка овечкам поможет.
— Эт ты зря, — сказал Бокарев. — Овечки хвою очень даже едят.
— С голодухи сандаль съесть можно. — Барабанчук свесил ноги с кровати. — Впрочем, я не спорю — тебе виднее. Я во всю эту затею не верю. Да и не только я. Глазырин, начальник нашего участка, ну что за человек — даже пыль на него не садится, и тот вдруг по-чудному запел. «Ох, и надоела эта карусель, — уговаривал он меня в кабинете. — Да и не выгодно. Уж лучше за эту лапку или там за картошку деньги совхозу перечислять. Куда бы проще управлению было». А наш Глазырин сроду до такого не додумается — Пал Степаныча это мысли. Понял?! — повернулся Барабанчук к Гришухе и встал с постели.
— Но вы-то… вы почему не верите? — спросил Гришуха.
— Я почему? — заходил по комнате Барабанчук. — А я, может, как наш Глазырин — кроме блоков да кирпичной кладки ни в чем не разбираюсь. Но тому легче, тот верит: начальству верит, экономиста почитает, главбуха боготворит, а я вот ничего не понимаю и ни во что не верю.
— Да, что же вы не понимаете, почему не верите? Где связь? Демагогия какая-то, — сказал Гришуха.
— Демагогия? — переспросил Барабанчук. — Связи нет? — он встал с кровати. — Будет связь. Я, между прочим, как университет бросил, до конца поумнел не сразу… В техникум поступил… Окончил, как ни странно, и программистом на ЭВМ целых три года умнел. Ничего путного из этого не вышло, но что такое система и системный подход к делу, я усек. А системный подход, — Барабанчук прищурил глаза и заходил по комнате, — предполагает, чтобы каждый элемент системы с большой степенью надежности исполнял свою функцию, делал свое дело. И только свое дело, — с нажимом на «свое» повторил Барабанчук и подошел к Гришухе. — А иначе толку не будет. Вот я — рабочий. Ге-ге-мон. Мне нравится строить. Я под крышей сидеть не могу. Моя функция — строить! Твоя — сидеть в отделе и бумажками заниматься. Так чего же нас заставлять делать то, что ты не можешь делать, а я и не хочу. Вот у Бокарева все так ловко получается — пусть он лапку и готовит. Его это функция.
— Сам ты функция, — зло сказал Бокарев. — Без тебя разберусь в чем надо.
— Не в названиях дело, деревня, — сказал Барабанчук. — Ну, а что интеллигенция ответит? Додумывает? Хорошо. Может, тогда папашу Куликова спросим. — Он положил руку на плечо Куликова. — Али он на трезвую голову разговаривать не желает?
— А ты меня не цыпляй, — вдруг резко сказал Куликов, и Барабанчук убрал руку. — Ты меня не цыпляй. В твои-то годы я знал, что мне делать. На финской ранило — отлежался, потом Отечественная… Под Гомелем, помню, в сорок третьем, деревня Жеребная… Я уже механиком-водителем на Т-34 воевал… Атака наша сорвалась, пехоту покосили, танк подбили, и застряли мы на нейтралке. Выскочил командир из танка, его снайпер тут же и снял. Говорю стрелку, другу своему: давай через нижний люк вылезем. Не послушался… Только высунулся из башни — и его снайпер… Остался я один. Взял НЗ, пакет перевязочный, — как чувствовал, что ранят, — стал выползать, но и меня снайпер зацепил. Угодил в бедро… Только успел в кусты отползти да ногу перевязать — немцы в наступление пошли. Так и оказался я в окружении. Танк сгорел, а в нем и мой друг… — Куликов помолчал. — Отлежался я до ночи, подполз к командиру, снял сумку, пистолет из правой руки вынул, достал документы. А был у него компас. Трофейный. Маленький такой, красивый. Командир его игрушкой называл и дорогу по нему на Берлин показывал. Займем, бывало, деревеньку, еще кругом не остыло, а он высунется из башни, компасом покрутит и говорит: «А ну-ка, покажи нам, немецкая игрушка, дорогу в свой Фатерлянд». Еще покрутит и добавит, что идем, мол, как по нитке. Шутка, конечно… Нас тогда заносило и влево, и вправо, а иной раз и назад… Вот и в тот раз отнесло… Перетащил я командира в воронку, забросал, как смог, соорудил из сучьев костыли, попрощался со сгоревшим другом и заковылял… Линия фронта отодвигалась — я к ней, на звуки боя. Потом ничего не слышно стало, и ориентировался я по трофейному компасу. На третьи сутки силы стали кончаться. На ногу страшно было смотреть… Идти уже не мог — полз… От боли стал терять сознание. НЗ и перевязочный пакет кончались. Не знаю, на какой это день случилось… Очнулся — на меня кто-то смотрит. Враз не понять — испугался… Нет, наши… Офицер и двое рядовых. Обрадовался я — ничего сказать не могу, а только мычу и плачу… — Куликов усмехнулся. — А дальше… дальше вы такое ни в кино не видели, ни в книжках не читали. От радости и этих своих мычаний я опять чуть сознание не потерял, сил совсем не осталось. Ну, вот, а эти трое давай меня грабить. Все отняли: сумку с документами, пистолет, нож у меня был, последнюю банку тушенки. Забрали и компас… Офицер забрал. Я оцепенел, вроде как умер, и уже другой кто-то смотрел на них. А они пошли… Смотрел этот «я» и не «я» на них и ничего не чувствовал, а смотрел будто в щелку, вроде как небо и земля сомкнулись и одна щель осталась, узкая такая, как в танке, когда на немцев смотришь. Но тут же свои. Смотрю и шепчу: «Свои же, свои»… Ушли они… А мне… мне что делать? Без компаса и ползти не знаю в какую сторону. Все, думаю, конец; помирать собрался. Но все же полз… А может, и не полз — казалось, что ползу. Воду из гнилого болота пил, конину дохлую жрал. Наткнулась на меня немецкая похоронная команда. Я мертвым прикинулся. Стволом винтовки в меня тыкали, что-то говорили, но чем-то я им не понравился, слишком, видно, от меня воняло — стрелять не стали… На восемнадцатый день — это я уже потом прикинул — подобрали меня наши разведчики… Мать пенсию за меня получала и свечки ставила — ей похоронку прислали, посчитали, что сгорели мы все в танке, а я по госпиталям валялся… Но выжил и до Берлина все-таки дошел. Вот моя функция, — Куликов тяжело задышал, сел на кровать и слабо махнул рукой. — Была, конечно, сейчас какая функция…
— Э-э-э, — протянул Барабанчук. — В том-то и дело, что сейчас функции и нету.
— Муру ты, гегемон, порешь, — опять зло сказал Бокарев. — Только я доказать не могу.
— И не докажешь, — подхватил Барабанчук. — Так, может, интеллигенция все прояснит?.. Молчишь. А, потому молчишь, что не знаешь. И я вот не знаю, не понимаю, зачем мы здесь, а следовательно, и не верю во все это…
После обеда, уставшие, с заиндевевшей щетиной, но довольные — норму выполнили — ввалились заготовщики Василия, а вскоре к ним в комнату вошел и он сам.
— Отчего такая канитель с участками? — спросил у него Гришуха.
— Э-э-э, — загудел тот своим басом. — Дело сложное. В управлении лесного хозяйства сидят не люди — звери. Так, по крайней мере, о них совхозное начальство отзывается. Срубишь лишнюю сосну — повесят! А в совхозе овечек кормить нечем — вот и давят друг на друга…
Узнав о том, что агроном не приезжал, а Гришуха с бригадой полдня как без дела, задумался.
— А ты вот что, — оживился он вдруг. — Ты к леснику иди. Этот лес его, и ему всех агрономов виднее. Он километрах в трех живет. Рядом с дорогой.
— Давай и я с тобой, — предложил Бокарев, поняв, что Гришуха собрался к леснику.
— Не надо, — сказал Гришуха. — Схожу один…
С Василием он не прощался: думал еще свидеться…
12
Дом у лесника был огромный. Вернее, это был не дом, а целая усадьба, состоявшая из различных пристроек и флигельков. Забора, огораживающего усадьбу, не было, и Гришуха еще издали заметил рядом с крыльцом собачью будку, а лишь подошел ближе, как звякнула цепь, раздался злобный, взахлеб лай и выбежали две собаки. Одна — низкая, тяжелогрудая — рвала цепь, хрипя от удушья и корячась на задних лапах. На другой не было даже ошейника, и она, испугав и удивив Гришуху, молча стояла теперь рядом, дружелюбно помахивая хвостом.
На крыльцо вышла женщина.
— Не бойтесь, — крикнула она, увидев, что Гришуха не решается идти. — Она охотничья, а эта — женщина замахнулась на злую — не достанет. Проходите.
В комнате, обставленной на городской лад, было тепло. В дальнем углу возился малыш, с желто-белыми, похожими на цыплячий пух волосами. На Гришуху он посмотрел выжидающе и с интересом. Женщина (ей было лет тридцать) сняла платок, поправила собранные в узелок, такого же цвета как у малыша, волосы и сказала, подставив Гришухе стул:
— Садитесь. Чего стоять? Вы к хозяину, наверное?
— Да, — сказал Гришуха. — Я по поводу заготовки хвои.
— А-а-а, — протянула женщина. — Из города, значит. А хозяина нет, но скоро будет… — Ну, чего пугаешься, — вдруг сказала женщина малышу. — Совсем одичал, — повернулась она к Гришухе. — Говорю своему: айда в Южный, а ему и дела нет — все по лесам да по лесам… Ну, чего пугаешься? Подойди к дяде и поздоровайся.
То ли от материнского приказа, а, может, от того, что он никого и не боялся, но малыш вдруг бойко — Гришуха даже не ожидал — подскочил, подал маленькую ладошку и сказал, шепелявя:
— Здравствуйте, а меня зовут Сережа…
…Через полчаса появился лесник — высокий и худой, снял ружье, оттер иней с пушистых усов, к самому потолку поднял бросившегося к нему сына… Выслушав просьбу Гришухи, покрутил головой, подумал и молча прошел в соседнюю комнату, откуда донесся неясный телефонный разговор.
— Вот что, мать, — сказал он, показавшись. В руках его Гришуха увидел теодолит. — Ставь чай, я пока прибор осмотрю. Попьем и в дорогу — помочь человеку надо…
По дороге (идти надо было с километр) лесник рассказал, что начальство решило отдать им молодой сосняк — прорубить в нем противопожарную просеку.
13
Визир — ось будущей просеки — делали вдвоем. В теодолит смотрел Гришуха, а лесник (его звали Семеном) лихо, в один прием валил сосенки, попадавшиеся под перекрестье, и с каждым ударом его топора, удлиняющего ниточку-просеку, на душе у Гришухи становилось ясней и покойней. Гришухе нравился Семен, нравились его неторопливость, его уверенность, понравилось, как Семен без лишних слов доверил ему теодолит, узнав, что Гришуха строитель…
За молодняком, их обступившим, высились громады мохнатых, темных елей. Гришухе они казались началом настоящей тайги, и за то время, пока Семен пробирался к очередному деревцу, Гришуха постреливал по «тайге» теодолитом, пытаясь что-нибудь рассмотреть.
— Все, — крикнул Семен, подняв топор. — С утра можете и начинать: более чем на полторы тонны хватит, — и пошел к Гришухе, ныряя по глубокому снегу.
Вдруг из-под ног Семена что-то с шумом выскочило, и заяц — пушистый белый комочек, петляя, побежал по ниточке-просеке.
— Заяц! Заяц! — закричал Гришуха и захлопал в ладоши, отчего тот прыгнул в сторону и, мелькнув в сосняке, скрылся.
— Напугали мы косого, — подходя к Гришухе, сказал Семен. — Вот напугали-то. А живья тут много. И зайцев и косуль. Хочешь посмотреть, где косуля лежала? Отдыхала бедняга. Тяжко им сейчас.
Они подошли, и Гришуха долго смотрел на лежанку с приталым снегом, на следы, глубоко уходящие под снег, но так и не смог представить, что вот тут, может, несколько минут назад лежало дикое, быстрое и такое для него далекое животное.
…Назад они шли не торопясь… Семен рассказывал о зайцах и косулях, и их хитростях, в общем-то несложных и понятных, о просеках и посадках, о жизни ясной и простой. И Гришуха, отзываясь на эту ясность, чувствуя ее в себе, старался остановить ее, удержать, но Южное с каждым шагом придвигалось все ближе и ближе, и все опять становилось сложным и туманным.
Утренний спор с Барабанчуком-занозой сидел в мозгу, и Гришухе хотелось вынуть эту занозу сейчас же, сию минуту, среди этого сосняка, молодо и чисто смотревшего на них, где каждое человеческое слово звучало так ясно, просто и понятно…
— Вы любите свою работу? — спросил он вдруг у Семена и остановился.
Ответил Семен не сразу. Сделал еще два-три шага и повернулся, по-смешному расставив свои худые ноги.
— Люблю ли? — переспросил он. — Хорошее это слово «люблю», да общее какое-то. Вот «не люблю» — это я понимаю, а «люблю»… Я «люблю» не люблю говорить, — Семен рассмеялся. — Вот как закрутил… А лес мне жалко. И зайцев жалко, и косуль. Как-то защитить их, бедняг, хочется… — Семен помолчал. — Ну, а если жалею и лес и зверье, и хочется что-то для них сделать, наверное, и работу свою люблю… А к чему ты все это спрашиваешь?
— Спор вышел с заготовщиком из моей бригады. Не верит он ни во что: ни в нужность нашей работы, ни в людей. Так и доспорились…
— Вот оно что, — взглянул Семен на Гришуху. — Спор вышел… Сам-то ты веришь в то, что делаешь?
— В общем-то верю, — не очень твердо сказал Гришуха. — Я чувствую, что прав, но увы… в спорах, кроме чувств и веры, нужны доказательства, а у меня их нет. Заявляет, например, спорщик о таком факте: командировка эта производству экономически невыгодна, и что же?! Я молчу… А почему? Да потому, что он прав! А для нашего управления, где и своих проблем куча — слаба еще организация труда, текучесть большая, каждый человек на вес золота, — это не выгодно вдвойне. Выбивают такие командировки управление из колеи, ритм нарушается… Словом, у вас тут на рубль наработаем, а дома убытков на тысячу… — Гришуха замолчал.
— Вот, значит, как городские на заготовку смотрят, — протянул Семен. — Из своих теплых сортиров, оказывается, на это дело смотрите… А я-то думал… — сдвинув худые ноги, Семен наклонил голову и, словно выискивая что-то, медленно двинулся по дороге.
— Но ведь и правда невыгодно, — сказал Гришуха.
— А разве всегда из выгоды исходить надо?! — резко полуобернулся Семен. — А случись с кем беда и помощь потребуется — до подсчетов ли тут, до доказательств? А разве не беда теперь в совхозе? Так что же вы приехали — выгоду искать или в беде помогать? А разобраться, так и не беда еще это — полбеды, а вот когда без овец останемся — вот тогда беда будет, большая беда и никакой экономикой здесь не поможешь!.. — Семен помолчал. — А что до недоверия, — продолжал он, — так оно зависит, из какого угла на жизнь смотреть будешь — жизнь-то развернуть и так и эдак можно. А иной и смотреть из угла не станет, а будет просто делать ее, и хорошо делать, без копаний всяких да особых разбирательств, и вот это уже куда труднее… — Семен замолчал, и всю оставшуюся часть дороги они прошли молча.
14
К школе Гришуха подходил медленно. После разговора с Семеном все стало и проще и сложней. Семен прав — в беде надо помогать. Но подойдет лето… И будет прополка… А осенью уборка… И опять назначат бригадиром зеленого огурца, навроде него — лишь бы кто-то был… И поедет любитель развлечений Барабанчук, и еще кто-то за разряд, и никуда негожий Куликов… И как-то прополют… Как-то уберут… И получат справки…
Неужели прав Барабанчук?! У каждого должна быть своя функция и каждый должен делать свое дело. И с бедами также?.. У каждого своя… И разделывайтесь сами как хотите… А не разделаетесь, так в трубу!.. Нет, про трубу это уже чушь… До трубы дело не должно дойти… В беде надо помогать! А делать за совхоз его дело?.. Убирать… Полоть… Барабанчук ловок, но и он не знает, как к сосенкам подходить. Он, Гришуха, и Куликов совсем никуда не годятся. Один Бокарев что-то может и тот в совхоз ехать не хотел… Какая уж тут производительность!.. За десять дней Барабанчук с его шестым разрядом одноподъездную девятиэтажку смонтировать должен… Все Южное разместить можно… Южное можно… Без леса, без зайцев, без косуль и овечек, без этой старой школы…
У школы, крытой брезентом, стоял ГАЗ-66. Прикинув, кто бы это мог быть, но так ничего и не решив, Гришуха вошел в школу.
…В учительской было накурено больше обычного. На столе валялись недоеденные куски хлеба, кругляшки колбасы, пустые консервные банки.
Обе бригады, рассевшись по кроватям, говорили шумно, бодрыми голосами.
— А вот и начальство, — навстречу Гришухе поднялся Барабанчук. — Ну, все, — сказал он, обернувшись. — Можно двигать.
— Куда двигать? — не понял Гришуха. — Двигать будем с утра: лесник нашел участок.
— Ха-ха-ха, — раздельно сказал Барабанчук. — Двигать будем сегодня, сейчас, и не в лес, а в город — вон за Василием машина пришла, ребята заждались… Так что позволь, начальник, поздравить с завершением операции «Хвойные лапки» и вручить командировку, отмеченную по среду, и справку с совхозной печатью и подписью. Словом, все в порядке: можно двигать и отдыхать до среды.
— Как же так? — все еще ничего не понимая, Гришуха посмотрел на Бокарева.
— А так, — сказал Бокарев. — Приезжал агроном, рассчитал бригаду Василия и обратно собрался. А тут вон он, — Бокарев кивнул на Барабанчука, — и говорит, что при создавшейся ситуации наша бригада только, мол, под ногами путается, что от лишней тонны овечкам жизнь раем все равно не покажется и так далее. Агроном подумал, согласился, командировки отметил, ну и справку на все семь тонн выписал…
— И ты тоже согласился, Сережа? — не слушая про справки и командировки, спросил Гришуха.
— Выходит, и я, — сказал тот, неловко пожав плечами.
— Да о чем стук? — Барабанчук накинул рюкзак. — Все же на мази. Да завтра я чихать хотел на работу. Завтра — суббота. Я по субботам в ванне сижу. — Он обернулся к заготовщикам. — Вот так всегда. Такой финт провернул — и никакой благодарности. — Барабанчук все больше распалялся. — Да чихать я хотел! Чихать и плевать! Командировка — вот она! Задание выполнено. — Он посмотрел на Гришуху. — Если хочешь, можешь пахать! Хоть до среды! Василий вон давно мог укатить — тебя же и дожидался… Пошли, мужики, что тут говорить! Гегемоны мы или нет?
Все уже стояли и теперь потянулись чуть смущенной толпой к двери.
Подошел Бокарев.
— В самом деле, плюнь! — сказал он. — Суета все это, а на Барабанчука не обращай внимания — гегемон-то он липовый оказался.
— Хорошо, — сказал Гришуха. — Только ты иди, я сейчас.
Все ушли, и Гришуха остался один.
В комнате незаметно появились две женщины. Одна стала подметать пол, другая убирать серые простыни. Женщины тихо разговаривали о чем-то своем, бабьем, и по опустевшей комнате заходило слабое эхо.
Гришуха вышел на крыльцо.
Над Южным опускался синий морозный вечер.
ГАЗ-66 фыркал, пуская упругую струю, которая тут же исчезала, подхватываемая свежей поземкой.
Из кабины выскочил Василий.
— Водки выпьешь? — спросил он. Гришуха не ответил, покрутил головой.
— Ну и напрасно. Мужики выпили — на таком морозе и задубеть недолго… Что-то вид у тебя неважный. Посадил бы тебя в кабину, да решили ехать напрямки — шофер дороги не знает, — Василий снял тулуп. — Надень, все теплее будет. — А увидев, что Гришуха опять вертит головой, громыхнул: — А ну, надевай — тебе говорю!
Сзади уже ненужной, перевернутой страницей стояла пустая школа, впереди — фыркающий ГАЗ-66, а под серым полумраком брезента — заготовщики, раскладывающие по полу и скамьям натасканную солому.
На дорожку решили еще выпить, и по кругу заходил граненый стакан. Когда очередь дошла до Гришухи, он тоже взял. Водка «не пошла», муторным кольцом обложила горло.
— Трогай, — веселым тенорком крикнул Барабанчук.
ГАЗ-66, дернувшись, побежал, оставляя позади школу, Южное, сосновый лес, и тогда Гришуха заплакал.
— Свои же, свои… — шептал он, оглядывая в полумраке заготовщиков.
Ему было горько и обидно. Но горечь и обида эта была не только от грубого, ловкого Барабанчука и не только от равнодушия Бокарева и спившегося Куликова. Было горько и обидно от суеты, пошлости, мелкости всего происходящего этим зимним синим вечером, среди чистого, строгого соснового бора.
В его душу входил кто-то другой: взрослый и мудрый. И этот взрослый говорил тому маленькому, что еще оставался в Гришухе: поплачь, поплачь — все легче станет, — и приглашал в свою взрослую, сложную, пугающую жизнь…
1978 г.
ПОПАСТЬ В ТИГРА Рассказ ветерана
1
Этой зимой, по делам нашего управления, я был в маленьком, но с крепкой промышленностью сибирском городке.
О таких городках не скажешь «провинция», «периферия». С оттенком изумления я признался себе, что если сравнивать, то такие определения подходят, скорее, к нашему областному городу, к той тихой части его, где я жил и работал.
А здесь! Городок кипит, бурлит. Деловые разговоры, да не о мелочах, а о проблемах глобальных, можно было встретить и услышать прямо на небольшой и, наверное, единственной площади перед заводской гостиницей, в которой я остановился.
Утро в то воскресенье было теплым. Рассвело. Морозная роспись на окнах плыла, оставляя большие, прозрачные озерца, сквозь которые видна была площадь и высаженные вдоль нее елочки. Елочки уже проснулись, смотрели весело и задорно.
Я уезжал из этого симпатичного мне городка. До отхода поезда оставалось еще часа четыре, и делать мне сейчас было решительно нечего.
«Поброжу по городу, — подумал я. — Схожу, к примеру, в Заречье. Я там не был и уже никогда, наверное, не смогу побывать».
Заречье (местные жители называли его Абиссинией) встретило меня свежим порывом ветра, закружившего крупные хлопья снега.
Я шагал по валким зареченским улицам и почти ни о чем не думал, немного лениво оглядываясь по сторонам, но все отчетливее замечая, что в мое состояние безмятежности и покоя закрадывается тревога. Я знал: минут через пять-десять где-то у висков появится несильная, но резкая боль. Как всегда на душе стало тяжело и чуть грустно, но теперь меня это не пугало.
Иголочки закололи в первый раз давно, сразу после войны. Приходили они и потом, неожиданно-колючие и всегда вот в такие минуты ничегонеделания.
Врач-невропатолог, к которому я обратился, был одних лет со мной. Часть лохматой брови его отсекал шрам, придавая всему лицу вопросительно-удивленное выражение, не уходившее с него даже когда тот хмурился, простукивая меня молоточком.
— Воевали? — спросил врач, рассматривая карточку и сданные мною многочисленные анализы. Рассеченная бровь его выгнулась еще более, застыв немым вопросом.
— Да, — сказал я. — Снайпером. Всю войну.
— Так, так, — бровь метнулась вниз-вверх, и лицо снова стало удивленно-вопросительным. — Отклонений нет. Но лекарства здесь, похоже, не помогут. Снайпер — это нервы. И вполне вероятно, что они-то и «перестроились» за войну на иной лад. Единственное здесь лекарство, — врач улыбнулся, бровь снова дернулась туда-сюда, — работа и… время.
Время… Сколько лет уже прошло!..
2
Заречье оно и было Заречье. Избы одноэтажные, рубленые, но добротные. Иногда попадались дома из белого кирпича с пущенным по нему узором из красного. У одного из таких — зареченского клуба — я остановился и прочитал на печатном бланке написанное от руки название фильма. Ближайший сеанс был утренний, детский.
«А что, — подумал я, — и пойду. Фильм, наверное, хороший — вон сколько ребят крутится у кассы».
До начала оставалось еще с полчаса. Я купил билет, но вход в клуб оказался закрытым.
Что ж, и так неплохо… Я спустился с клубного крыльца, вышел за низкий, раскрашенный в разные цвета огораживающий заборик и вдруг сбоку от веселого зареченского клуба, за этим же пестрым забориком, увидел тир.
Размещался он в старом латаном-перелатанном трамвайном вагончике, невесть как забравшемся в этот городок, городской транспорт которого состоял из нескольких «пазиков», деловито снующих по единственному маршруту «Вокзал — Заречье».
Тяжелый путь, наверное, проделал этот вагончик. Особенно в конце. Ноги-колеса отказывались служить, и вот, потеряв их, он полз на брюхе. Прополз и застыл на этом месте: перекошенный, разбитый.
Чем-то далеким, из детства повеяло на меня от этого старого вагончика, от весело торчащей над крышей трубы-обрубка, выкидывающей клубы едкого угольного дыма.
Да в нашем «непериферийном» городе такие тиры-вагоны давно повывелись. Я вспомнил, что лет десять тому назад и рядом с нашим управлением торчал такой же бродяга, продливший свою жизнь (а, может, и нашедший счастье) в другом качестве. Но прогресс коснулся и этой сферы. Вагончик свезли, а на его месте построили стеклянный павильон с одинаковыми (и, наверное, согласно каким-то стандартам) зайцами и белками, с пятаками-мишенями такой величины, что в них можно было попасть и не целясь, а главное, с автоматикой, почти тут же поднимающей пораженную цель, и твой заяц уже не мог, на твою радость и зависть другим, дрыгнувшись, как настоящий, висеть «убитым» долгие-долгие минуты.
Я часто хожу в новый тир, но не волнуюсь, как прежде…
В зареченском тире, как я и предполагал, было тепло и уютно. Тирщик низко склонился у печки, подбрасывая уголь. Посетителей было лишь двое: мальчишки лет двенадцати. Они то ли отстрелялись, то ли вообще не стреляли: вились у стойки с лежащими на ней четырьмя «воздушками», о чем-то болтали.
Тирщик встал, подошел к стойке, и я разглядел его. Был он старым, одноногим, но костылями не пользовался, а лишь тяжело припадал на свою деревяшку, резко взмахивая руками при каждом шаге и открывая прорехи под мышками своего тонкого, неопределенного цвета свитера.
От того ли, что не было настоящих посетителей, а, может, от того, что, несмотря на раннее время, был он (как я потом понял) под небольшим хмельком, обрадовался он мне чрезвычайно, перегнулся со стойки и проговорил быстро, чуть пришептывая от недостатка зубов:
— Будете стрелять? Извольте!
И пока я доставал деньги, он уже летел к стенду, поправлял облупленных зайцев, вставлял пистон в пластилин у нижнего конца натянутого шпагата, в верхней части которого застыл пикирующий самолет, а затем, снова перегнувшись ко мне, заскорузлыми пальцами отсчитывал пульки и говорил, подметая бахромой растрепанного рукава пыль со стойки:
— Может быть, мишень поставить? Извольте?
— Можно и мишень, — согласился я.
И снова старик летел, нелепо размахивая руками, а я еще раз посмотрел на дичь, выстроившуюся парадом, с трудом разобрал внизу на прямоугольном куске жести, который был весь избит пульками: «Учись метко стрелять», и, ради порядка, спросил у старика:
— Мишень портить не хочется. Можно я пристреляюсь по транспаранту?
Наверное, он не понял, но сказал свое, явно рассчитанное на приезжего:
— Извольте, извольте, — и шагнул в сторону, как бы приглашая меня стрелять.
3
Отстрелявшись, я разогнулся и перевел дух. Двое подростков смотрели на мишень, и в их взглядах было если не восхищение, то одобрение.
— Отлично, отлично. Извольте, — говорил в это время старик, кружась на деревяшке и размахивая мишенью. Лицо его иногда попадало под свет небольшой лампы, подсвечивающей стенд, и морщины при этом казались еще более глубокими.
— А на интерес хотите? — вдруг спросил он, подлетев к стойке. И не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Стреляем в тигра по одному разу. Ставка — рупь пять.
Старик хитровато улыбнулся, показывая редкие железные зубы:
— Как раз на красненькую. Ну, что, договорились? Извольте?
Я взглянул на стенд. С него, оскалив пасть, смотрел тигр. Красная краска осыпалась с пасти и она превратилась в чудовищно громадный зев. Сбоку, на тонком стержне, торчала маленькая, с копейку, цель. Тигр и в самом деле был ценной добычей.
— Хорошо, — сказал я и, снова взяв свою «воздушку», прицелился, выбрал холостой ход, затаил дыхание, нажал еще чуть-чуть и тут же увидел спину старика, радостно запорхавшего к стенду.
— Извольте, — говорил он, тыча пальцем в тигра, — хищник на месте. Извольте.
Он развернулся, подбежал к стойке, зарядил винтовку, подхватил ее одной рукой и выстрелил почти не целясь. Тигр, издав звук упавшей пустой консервной банки, повис вниз головой…
4
Отдав старику деньги, я вышел из тира. Передо мной все еще стояли и бежали белки и зайцы… Оскалив чудовищный зев, прыгал куда-то вниз тигр… И, улыбаясь хитрой улыбкой, согнулся над стойкой ты…
Ах, старый тирщик, старый тирщик… Я называю тебя так потому, что ты все же старше меня. Но сколько людей старше меня? Ты порхал на своей деревяшке и щерился редкими зубами… И мне было чуть жаль тебя. Но сколько одноногих и некрасивых по белу свету?.. Ты обманул меня, когда не целясь выстрелил по тигру, а не в мишень-копейку, и тигр упал именно поэтому — так уж он был устроен, этот «хитрый» тигр, но и это вызвало лишь легкую досаду: Бог с тобой — невелики потери…
Но вот ты взял свои «рупь пять» и, придавая всему делу и официальность и солидное окончание, надел пиджак. Засаленный старый пиджак с тремя рядами орденских планок. И стыд, и грусть, и невероятная жалость холодно и жестко ухватили меня где-то под сердцем, а иголки, казалось, закололи еще пронзительней.
Пусть выцвели и плохо различимы твои награды, но желтый цвет и черный я вижу хорошо: это «За победу над Германией». И «За оборону Ленинграда» вижу, и «За отвагу». И у меня есть такие…
Ах, старый тирщик! Ведь ты брат мой. Брат по той крови, которую мы пролили с тобой, по тому оружию, которым воевали, по памяти к праху убитых, замученных и пропавших.
Как же так, брат мой? Или все забыто?.. И я ввязываюсь в нелепый, ради развлечения спор, который ты выигрываешь обманом, чтобы купить ближе к обеду «красненькую» и вспомнить, а скорее, и не вспомнить дурака-командированного…
Но отчего же я так ничего и не смог сказать тебе? От твоего вида: жалко-солидного, довольного обманом? А может, оттого, что в другом углу выжидающе притихли двое мальчишек? Не знаю. Не смог…
И я смотрел на тебя, отделенного стойкой, и мне вдруг показалось, что ты там навечно, как заяц, как белки, как этот «хитрый» тигр, и я никогда не смогу вывести тебя к живым людям, к этим пацанам, к веселому зареченскому клубу… И жалость, и грусть охватывали меня все больше и больше… И я молчал…
Перед входом в зареченский клуб кто-то потянул меня за рукав. Я оглянулся. Это были подростки, которых я встретил в тире. Они смущенно переглянулись, а потом один из них, розовощекий, белобрысый, поправив свою изрядно потрепанную шапку, сказал:
— Дяденька, вы ему не верьте.
— Кому? — спросил я, не поняв ничего.
— Фомичеву. Ну, в тире. Он жулик. Только тут все это знают. Так он с приезжими. А стреляли вы здорово. У нас в Заречье никто так не сможет.
— Ах, вы, мои милые, — поняв наконец, сказал я. — Что Фомичев стрелял не в цель, а в своего тигра, я догадался еще в тире. Но не от этого мне грустно… — Я помолчал, а потом, взглянув на ребят, рассмеялся: — Только пусть будет грустно лишь мне. Вам это ни к чему. Вот ты, — спросил я у белобрысого, — любишь стрелять?
— Очень, — улыбнулся он, — только Фомичев бесплатно ни в жисть не даст.
— Ничего, подрастешь, пойдешь в армию — настреляешься, — сказал я.
Поднявшись на крыльцо веселого зареченского клуба, я оглянулся. Над вагончиком все так же бойко вился дым (странное дело, но после разговора с мальцами иголки покалывали как будто поменьше)…
Прозвенел звонок, и мы втроем пошли в зрительный зал…
1974 г.
КОШКА-МАШКА
1
Лидочка уходила… И хотя она собиралась и прощалась с матерью не спеша, видно было, что Лидочка торопится…
Внизу хлопнула дверь подъезда. Сейчас Лидочка пройдет длинным, тесно обсаженным громадными тополями переулком, и в конце, где он скатывается к морю, скроется. Переулок начинается внизу, под их балконом.
Много раз Кошка-Машка смотрела с него вниз, провожая или поджидая Лидочку, а когда-то в своем далеком кошачьем детстве и бегала по переулку, но это было давным-давно, когда Лидочка была совсем маленькой, а тополей совсем еще не было…
…Та весна выдалась звонкой и ясной.
Временами, правда, набегали тучи на солнце, ветер старался рвануть посильнее, но прохожих это не пугало: еще не привыкшие к теплу, они радовались и этому; и ветер и тучи, пошумев и побрызгав холодными каплями, убегали куда-то далеко за город.
Под один из таких налетов и попали маленькая девочка Лидочка и ее мама — Зоя Иосифовна.
Испугавшись за свою дочь — та росла хрупкой, часто болела, — Зоя Иосифовна подхватила ее и быстро пошла домой. Но у их дома, самого высокого дома в городе, она остановилась. Идти вовнутрь не хотелось: дождь кончился, и Зоя Иосифовна, опустив Лидочку, взглянула вверх.
Над их домом, почти касаясь башни, венчавшей его, таяли тучи. Лучики солнца, пробившись, поигрывали на выкрашенном под золото шпиле, и Зоя Иосифовна счастливо засмеялась. Все было хорошо: и маленькая Лидочка у ее ног, и пахнувший только что проклюнувшимися зелеными листочками воздух, и весь этот южный, почти родной ей — Зоя Иосифовна родилась недалеко от этих мест — теплый город.
Но особенно радовал Зою Иосифовну высоченный (шесть этажей!) и такой солидный на вид их дом.
Муж Зои Иосифовны, Ванечка (всех близких Зоя Иосифовна звала уменьшительными именами), был кадровым военным, а значит, вечным скитальцем. Но теперь кончено! Ее Ванечка заслужил уют и покой. Из этого города они никуда не тронутся. Да и Лидочка… С ее ли здоровьем переезжать с места на место?
При мысли о Лидочке Зоя Иосифовна отвела взгляд от шпиля и вдруг почувствовала, что Лидочки, ее маленькой Лидочки рядом не было.
— Господи, да это же страшный суд! — всплеснула руками Зоя Иосифовна.
Фраза эта, бог весть как занесенная в ее лексикон кубанской казачки, говорила о том, что в состоянии Зоя Иосифовна находится крайнем.
И в самом деле: ее девочка, ее маленькая Лидочка, нетвердо стоя на тоненьких своих ножках, прижимала к белому платьицу грязного-прегрязного, чуть попискивающего котенка. Но не котенок поразил Зою Иосифовну. К кошкам — и грязным, и чистым — она была равнодушна. В небольшой предгорной станице, где выросла Зоя Иосифовна, к кошкам относились, как и должно относиться, — сознавали их необходимость в хозяйстве, но начисто лишали права быть украшением казачьей хаты.
Не удивилась Зоя Иосифовна и платью, с которого жижицей стекала грязь — откуда ему быть чистым при таком деле?! Удивили и испугали Зою Иосифовну глаза трехлетней Лидочки. В них было все: и решимость не отдавать котенка, и восторг от него, и вместе с тем такое отчаяние на противный случай, что Зоя Иосифовна поняла: отнять у Лидочки вот этого, с несколькими слоями старой и новой грязи котенка, — невозможно…
2
А Лидочка уходила… Она уже шла по переулку. Сейчас там тоже стояла весна, так же ярко светило солнце, но загустевшая крона тополей не давала лучам пробиться в узенький переулок; от этого он был мрачен, и кошке казалось, что там очень сыро…
Та далекая встреча произошла лет двадцать назад. И побежало время… Бесконечное время детства. Потом, через много лет, более раннего события Лидочка не могла вспомнить. Отсчет детства начался с этой встречи…
Зое Иосифовне тоже запомнился этот день. Но ей более всего запомнился приход Ванечки. Когда он, удивленный, что его никто не встречает, появился на кухне, все, в основном, было сделано: Лидочка переодета, котенок отмыт, и Зоя Иосифовна, чуть сердитая от этих не очень приятных, а главное, неожиданных хлопот, пыталась накормить котенка из блюдечка. Как ни странно, ей это не удавалось. В ее родной станице никто никогда не кормил котят из блюдечка. В их дворе кошек было полным-полно — это она помнила. В хату кошек не пускали, и они жили на чердаке-горище. Все шло как-то само собой. Только старой кошке — основе рода разрешалось входить в летнюю кухню, над остальными висел запрет, их гнали отовсюду, от этого они были дикими и пугливыми. Кормить их тоже ничем особенно не кормили. Зоя Иосифовна вспомнила, как ее мать — плотно сбитая, смуглая до черноты казачка — иногда бросала им рыбьи потроха, и кошки, растащив пузыри, урча от жадности, съедали их.
Но теперь был другой случай: котенок не ел, и Зоя Иосифовна не знала, что делать.
Как всегда помог Ванечка. Иван Максимович был коренным москвичом. И хотя в квартире на Тверском бульваре, где прошли его детство и юность, кошек не было, но, что-то вспомнив, он сказал:
— Сосунок еще: из чашечки не научился. Может сдохнуть.
— Та, и хай ему грэц! — быстро заговорила Зоя Иосифовна, от волнения переходя на казацкий лад. — Хай ему грэц.
Зоя Иосифовна хотела добавить кой-чего еще, но остановилась — маленькая Лидочка плакала. Она не понимала слова «сдохнуть» (смысла же «Хай ему грэц» не понял даже Иван Максимович, хотя и определил это как «Черт его побери»), но ее детское сердце подсказывало, что с котенком может произойти что-то нехорошее.
Сняв китель, Иван Максимович сгорбил свое худое, длинное тело у блюдечка и, обмакнув палец в молоко, дал котенку. Тот задвигал губами, но ничего не вышло. Тогда Иван Максимович поманил Лидочку и опустил ее тоненькие пальчики.
Ярко-розовый язычок шершаво касался пальчиков. Лидочка смеялась; ее рука, управляемая отцом, опускалась все ниже к блюдцу. Наконец котенок, поняв, зачмокал губами, и дело пошло.
Тут только и рассмотрел Иван Максимович две вещи. Что котенок был кошечкой и что кошка эта была черным-черна и, кроме выпачканной мордочки, белых пятен на ней больше не было.
— Посмотри, словно черный бархат, — сказал он жене.
— Господи, это же страшный суд, — разглядела и Зоя Иосифовна. Она хотела рассказать мужу, что делают с такими кошками пацаны в ее станице, но, увидев, как Ванечка гладит котенка, а Лидочка, ползая на коленях, сама готова вот-вот хлебнуть из блюдечка, промолчала.
Кличку кошке придумала Зоя Иосифовна. Она назвала ее Машкой.
3
А Лидочка уходила все дальше. Тополя уже кончились, и ее окружали недавно посаженные маленькие клены. Солнце на задерживалось в них, и, освещенная, рядом с молодыми кленами, она казалась чужой и незнакомой.
Чуть вверху, обрубленный слева и справа тополями, синел кусочек неба. И вдруг оттуда, от синего кусочка неба, от торопливо уходящей Лидочки, к кошке подобралась глухая тоска, и она, вскочив на перила балкона, протяжно заорала всхлипывающим басом…
…Бесконечное время детства… У кошки тоже было свое кошачье детство — целых три месяца южного жаркого лета! В детстве надо многое успеть… Успеть набегаться и наиграться, повеселиться и напроказить, успеть научиться тому, что пригодится во взрослой жизни.
И кошка старалась. Бегала за Лидочкой и за собственным хвостом, забиралась на тюлевые шторы — гордость Зои Иосифовны, а потом жалобно мяукала, не зная, как слезть на пол; получала за это — иногда выговор, иногда шлепок; грустила, когда Лидочка с родителями уходила в гости. Училась… Дома, под руководством Зои Иосифовны, — аккуратности; в переулке самостоятельно — охоте за жирными, любвеобильными голубями.
Со временем Зоя Иосифовна разобралась кое в чем и уже была не против кошки в благоустроенной квартире. Но как была не похожа Машка на сиамского кота, что завела себе жена бритого, с пушистыми усами генерала — их соседа по площадке! Когда Зоя Иосифовна смотрела на кошку Машку, на ушах несущуюся за спичечным коробком, который тащила Лидочка, и вспоминала холодно-голубоватый взгляд соседского кота, на душе у нее становилось нехорошо.
Но Лидочка была без ума от котенка. Она даже стала меньше болеть и больше есть, вечно занятый Иван Максимович в редкие минуты отдыха похохатывал, глядя на дочь и котенка, и Зоя Иосифовна постепенно смирилась, а после того, как Иван Максимович, вернувшись однажды от генерала, заметил: «А наша-то чистюля их заморскому дикарю фору даст — тот до сих пор где попало гадит!», Зоя Иосифовна и вовсе успокоилась, но котенка продолжала неласково звать Машкой, прибавляя еще и Кошка. Так и образовалась кличка Кошка-Машка.
4
Тоска подобралась к Кошке-Машке не сразу. Первые годы она вела себя как котенок: все так же носилась за Лидочкой и голубями и лишь изредка, ранней-ранней весной, чувствуя, как начинает шевелиться примороженная земля, Кошка-Машка замирала, у нее шалела голова; она кружилась на месте, царапая когтями свою подстилку, и громко мяукала.
В одну из весен — Лидочка уже ходила в школу — Зоя Иосифовна, испугавшись, что кошка занесет заразу, запретила прогулки, и ту весну Кошка-Машка встречала за шлакоблочными стенами, а потом отсюда, с этого же балкона; и когда после недлинной, но хлюпкой южной зимы она ворвалась на него, переулок кружился перед нею. Ей нестерпимо захотелось прыгнуть вниз к тополям, но мелькавший в глазах переулок мешал этому, и она долго просидела на перилах, пока, наконец, переулок застыл привычной лентой. Тогда, глубоко вдыхая весенний резкий воздух, она прыгнула вниз…
У кошек хорошая координация движений, и Кошка-Машка, пролетев четыре этажа и несколько раз крутнувшись, точно приземлилась на все четыре лапы, а уже через несколько секунд неудержимо неслась по переулку.
Когда ее вернули, балкон оказался закрыт, окна зашторены, но весенний, пахнувший набухавшими тополиными почками воздух был и здесь, и тогда, подбежав к балконной двери, она замяукала тяжело и тоскливо…
А потом не стало и тоски. Совсем ничего не стало. Зоя Иосифовна, сказав, что все это страшный суд, посоветовалась с хозяйкой сиамского кота-кастрата и свезла Кошку-Машку к ветеринару. «Принимать витаминчики», — объяснила она Лидочке.
И вёсны стали пропадать для Кошки-Машки. Она ничего не замечала, иногда только тускло и непонимающе смотрела на Лидочку.
Конечно же, Лидочка любила Кошку-Машку. Но она подросла, училась в музыкальной школе, ходила на теннисный корт; детство ее отодвигалось все дальше и дальше, и она уже не носилась с Кошкой-Машкой, как прежде, лишь вечерами, когда неугомонный день оставался позади, встретившись с непонимающими глазами кошки, брала ее на руки.
А когда Лидочка стала совсем взрослой, она сама возила Кошку-Машку к ветеринару, и Кошка-Машка долго помнила громыхающий трамвай, суетливо толкавшихся людей и теплые руки Лидочки, легонько прижимавшие ее к себе.
Дверь на балкон теперь оставалась открытой, и вся жизнь Кошки-Машки проходила на нем.
Балконов в их квартире было два. Первый, в завитушках, сверкавший той же краской, что и шпиль, смотрел на главную улицу; и второй — тот, что висел над переулком. На него Зоя Иосифовна убирала все лишнее: старенькие коврики, пустые посылочные ящики, банки от бывших и для будущих компотов. Здесь валялся сломанный Лидочкин велосипед, сюда же на все теплое время, а это значит с начала апреля по глубокий ноябрь, Зоя Иосифовна выносила и подстилку Кошки-Машки.
Перестали ее возить к ветеринару после смерти Ивана Максимовича.
Умер он как-то сразу, почти и не болел.
Стояло жаркое лето, но оглушенная очередной дозой «витаминчиков», Кошка-Машка плохо понимала, что происходит вокруг, и вяло бродила по балкону и комнатам.
Но вдруг квартира стала наполняться незнакомыми кошке людьми, от которых шел незнакомый запах. Все почему-то шептали, даже сосед-генерал, который всегда говорил громко. Лишь седая, в темном платке женщина (дальняя родственница Ивана Максимовича), наклонившись над чем-то невидимым кошке, взвизгивала, заламывая руки, а затем резко останавливалась и громко объясняла что-то генералу про молебен и поминальные каши, но генерал молча горбился, потирая левый висок правой рукой, отчего лицо его оставалось прикрытым.
По другую сторону от генерала стояла Зоя Иосифовна. Она не плакала и даже не смотрела туда, куда смотрели все, и на лице ее застыли недоумение и непонимание.
И вдруг Кошка-Машка увидела Лидочку. Та стояла в стороне от всех и молча плакала. Кошка-Машка смотрела, как слезы с мокрого подбородка капают на пол, и ощутила беспокойство.
Кошка не любила слез. Плакала обычно Зоя Иосифовна. Плакала оттого, что Иван Максимович все порывался уехать из этого города, от проказ Лидочки, а иногда просто так: от дождливого осеннего дождичка или оттого, что Иван Максимович или Лидочка где-то задерживаются.
Лидочка почти никогда не плакала. А вот так — горько и безысходно — только один раз.
…В десятом классе она влюбилась.
Вначале никто об этом не знал. Знала только Кошка-Машка.
Стояла осень. Небо часто хмурилось, южные вечера делались все чернее, но до очередных «витаминчиков» было еще далеко, и кошка хорошо видела, как двое молча бродили по переулку.
Расставаясь до следующего вечера, они о чем-то говорили, вернее, говорил незнакомый юноша, а Лидочка все так же молчала, чуть улыбаясь ему в ответ.
В светлые лунные ночи они сидели за крайним топольком, укрываясь бледной тенью слабо шелестящей листвы.
Однажды они засиделись особенно долго. Было тихо, по земле стлался горьковато-приторный запах увядавшей природы. И в эту призрачно-серебряную ночь, казалось, все переменилось. Теперь уже молчал незнакомец, а Лидочка, смеясь, объясняла ему что-то…
Расстались они далеко за полночь, а когда прощались, Лидочка задержала его руку в своей, подвела к топольку — тот был еще невысок, нашла два листочка, что срослись вместе, и, сорвав их, положила в развилку-пригоршню тополька…
А потом за двоими стал следить третий. Это была Зоя Иосифовна. И кошкой овладел страх. Ей вдруг вспомнилось детство и как она охотилась за голубями. Вспомнила она, как легко можно подкрасться к голубям, когда те сидят парой.
Но Зоя Иосифовна не стала нападать на двоих. Она плакала, объясняла Ивану Максимовичу, что Лидочке надо окончить школу, надо поступить в музыкальное училище, что ОН старше Лидочки и что надо вмешаться и поговорить. Но Иван Максимович разводил руками и отвечал, что Лидочка уже взрослая и что они сами разберутся.
Тогда вмешалась Зоя Иосифовна, и кошка больше не видела двоих в переулке, а потом, когда уже наступила настоящая осень, хлестал дождь и ветер, выдув с тополей последнюю листву, кружил ею по переулку, в комнату вбежала Лидочка, горько и беззвучно плача. Кошке стало жаль ее. Она подошла и потерлась о ногу. Тогда Лидочка подняла кошку, теплыми руками гладила ее и шептала:
«Он уехал… Все кончено… Он уехал…»
…А народу в квартире становилось все больше и больше. Лидочку заслонили от Кошки-Машки. Больно стукнув кошку в бок, протиснулся какой-то военный. Следом прошли генерал и родственница. Генерал все так же молчал, родственница тоже была спокойна и все повторяла генералу, что она «надсадилась плакамши». Мелькали еще какие-то лица, все больше незнакомые…
В конце-концов кошку вытолкали на балкон. Здесь было спокойнее; внизу привычно стлался переулок. Чуть шелестела листва тополей. Но охватившее чувство тревоги не проходило у кошки.
Потом шум в квартире стал стихать. Люди собирались внизу под балконом. Их было много больше, чем квартире. Они строились по какому-то неведомому кошке порядку. Блестели трубы и басы в руках военных музыкантов. Зоя Иосифовна и Лидочка теперь стояли вместе, крепко взявшись за руки. Лидочка уже не плакала, только кривила губы и чуть покусывала их, а Зоя Иосифовна все так же недоумевающе поглядывала на собравшихся гражданских и военных, на музыкантов, на гроб, который медленно подносили к машине, обшитой красно-черным, на генерала, все потирающего висок…
Когда гроб повис над машиной, произошла заминка. Человек, руководивший установкой, не знал, как это правильно сделать. Он все спрашивал у Зои Иосифовны, но Зоя Иосифовна тоже ничего не знала, генерал так и не поднял головы, и гроб все кружили и кружили, пока Лидочка, зажав лицо руками, не вскрикнула вдруг: «Да ставьте же ради Бога!»
Вмешалась родственница, гроб поставили как надо; исподволь накатилась низкая, с тяжелыми перекатами музыка, и все медленно двинулись по переулку.
Комнаты были теперь пусты. В них стоял удушливый запах, и после недавней тесноты они казались особенно большими.
Музыка долетала и сюда. Она ходила по пустой квартире и не утихала, а становилась все громче и выше, забивалась во все углы и стонала, стонала, стонала…
Когда Кошка-Машка опять выбежала на балкон, трубы звенели на самой высокой ноте. Ей показалось, что все эти люди, а с ними и Зоя Иосифовна, и Иван Максимович, и Лидочка навсегда уходят из этого дома.
И тогда, вскочив на перила, Кошка-Машка заорала вот так же глухо, тяжело и тоскливо.
Но ни Зоя Иосифовна, ни Лидочка, ни Иван Максимович не слышали ее, а уходили все дальше и дальше…
5
Какая кубанская казачка не хороша собой?! Была хороша и Зоя Иосифовна. Чудо как хороша! Когда она шла одна или с Лидочкой, причесанной, с большим бантом на голове, и мужчины и женщины заглядывались на нее. Порою же, когда Зое Иосифовне хотелось, чтобы мужчины и оглядывались, она надевала что-нибудь белое на голову — белый платок или большую белую шаль зимой. И мужчины оглядывались и провожали ее глазами, и она знала об этом, чувствовала их взгляды — ей нравилось быть красивой.
После похорон все изменилось, все стало распадаться. Когда Зоя Иосифовна сняла черный платок, все увидели, как она поседела. А потом у нее сделался жесточайший склероз, и Зоя Иосифовна все забыла. Забыла детство, юность. Совсем плохо помнила мать и едва-едва вспоминала о сестрах и братьях.
Окружающий мир вдруг сузился и стал совсем мал — не больше их квартиры. Зоя Иосифовна никогда не вспоминала о смерти Ивана Максимовича, скорее всего она забыла и о ней. Ванечка для нее был живой, она разговаривала с ним, советовалась о дочери.
А Лидочка, вроде бы, и не менялась. Прошла неделя, вторая, а она уже смеялась; как и прежде, быстро порхала по квартире, но иногда, выйдя на балкон, подолгу невидяще смотрела в конец переулка, словно пыталась разглядеть там что-то важное и очень себе нужное…
О Кошке-Машке все забыли, и мир возвращался к ней. Вернулись запахи, слух стал острее — она опять слышала землю; глаза ее мерцали по ночам, тело крепло, становилось гибким; она мурлыкала, не переставая.
Ей вдруг опять, как в своем детстве, захотелось в переулок, под шелестящие кроны тополей. Выбежав на балкон, она привычно вскочила на перила. Переулок был внизу, рядом, но что-то мешало ей, дыхание ее прерывалось, страх овладел ею. Это был страх перед движением, страх перед прыжком. Кошка боялась высоты…
Она так и не прыгнула — всю волю оскопили у нее «витаминчики», а, может, это и старость подбиралась к ней…
Как-то — была уже середина лета — Лидочка особенно долго простояла на балконе. Ослепительное солнце, превратившись в большой красный пузырь, осело на море, растворилось в нем, и быстро наступила темнота. Легкий норд-ост, дувший с гор, затих, с моря тоже еще не потянуло, и на город опустилась тишина. Не слышно было резких вскриков буксиров в порту, тополя не шевелили ни одним листом, и даже неумолчное море, казалось, перестало накатываться на берег.
Кошка-Машка умостилась на перилах и была теперь совсем рядом с Лидочкой. А потом посвежело, Лидочка взяла ее на руки, и кошка вздрогнула от теплых, давно не касавшихся ее рук, но, боясь разбудить тишину, застыла и так же, как и Лидочка, смотрела в конец переулка. От Лидочки он был скрыт темнотой, но Кошка-Машка видела его так же отчетливо, как и днем, и Лидочка знала об этом, и ей вдруг показалось, что и она видит весь переулок, и конец его, и что там, за переулком. И разглядев за переулком что-то важное и нужное себе, она вдруг почувствовала, что ей стало немного, самое чуть-чуть легче; что с души уходит оцепенение, в котором она находилась все эти долгие дни после похорон.
Горе не стало меньше. До этого мгновения, несмотря на все очевидности: смерть отца, похороны, причитания дальней родственницы, генерал, закрывающий лицо руками, вдруг поседевшая и состарившаяся мать — ничто не могло заставить поверить ее в случившееся.
«Нет! Этого не может быть!» — вот мысль, бившаяся в самой сути ее сознания.
Теперь все становилось на место. И хотя горе стало еще бо́льшим, но это было уже ее горе, их горе. В ее мозг буквами, вырезанными по белому мрамору и отзолоченными, вклинилась другая мысль. Простая и вместе с тем невероятно сложная. «Она без отца. Отец умер. Он умер…» Но такая мысль не может долго задерживаться в мозгу — можно с ума сойти. И позолоченные буквы расплылись по ней, растворились в ней. И ей стало немного понятней и легче, хотя и горше. И тогда, сжимая теплое тельце, нисколько не сомневаясь, что кошка ее понимает, Лидочка прошептала тихо и горестно:
— Вот и остались мы одни, Кошка-Машка. Совсем одни…
А на следующий день они гуляли по переулку. И словно бы вернулось к Кошке-Машке ее детство. Правда, они не бегали друг за другом, не тревожили ленивых голубей. Они просто гуляли. Гуляли не спеша, иногда отдыхали на скамье за крайним тополем, и тогда Лидочка с грустной улыбкой посматривала вверх, туда, где тополь расходился на несколько громадных ветвей, ничем уже не напоминающих развилку-пригоршню, а потом опять неторопливо вышагивали по вздутому от мощного напора тополиных корневищ асфальту.
А еще на следующий день Лидочка и Кошка-Машка пошли к морю.
Море, стянутое огромной бухтой, рассеченное глубоко вдававшимся в него молом, стонало, пенилось и работало.
Пробежал, обвешанный покрышками, буксир-трудяга…
Почти черпая бортами воду, матово посвечивая увязанной на палубе строганой доской, проплыл лесовозик. Поплыл он куда-нибудь в Грецию или Италию, где давно вырубили строевой лес; поплыл, перегруженный, рискуя, надеясь на хорошую погоду, а глядишь, пройдут сутки, вторые, и где-нибудь в Босфоре пойдут по небу низкие тучи, налетит ветер, ударит волна по хрупкой посудинке — и полетят с палубы, словно спички из открытого коробка, мокрые доски. И долго будет потом низенький капитан-итальянец в растерянности сжимать форменную старую фуражку, утирать вспотевший лоб и проклинать и лесовозик, и море, и неудачный фрахт, и свою судьбу.
Но это будет потом, а сейчас все «о’кей!» — доски на палубе, капитан на мостике, фуражка у него на голове, и его маленький лесовозик мелкими, пронзительными свистками приветствует входящий в порт громадный танкер — своего земляка. Но тот едва замечает лесовоз — чуть рыкает басисто и катит дальше, к нефтепирсу, оставляя за собой расходящуюся углом волну, заставившую неистово задергаться лесовозик, а его капитана нахмурить лоб и отдать приказание еще раз проверить прочность крепежа штабелей на палубе.
Через три-четыре дня наполнится танкер нефтью, а там снова в путь, в Италию. И недели через две побежит кубанская нефть по башням и трубам, завспыхивает в «фиатах», засверкает на сгибах знаменитого плаща «болонья» нового фасона, заискрится в тонких, как шелк, и легких, как пушинка, набивных нейлоновых платочках, запружинится в разномастных носках «нейлон 100 %» и «креп-нейлон 100 %». Налепят на этих вещах яркие наклейки «Сделано в Италии», развезут по всему свету и начнут торговать, темпераментно уверяя, что лучше и надежней этих вещей нет в целом мире…
Ошеломленная новыми звуками и незнакомыми запахами, Кошка-Машка испуганно жалась к ногам Лидочки. А Лидочка, сыпнув горсть медяшек в хлестнувшую о бетон волну, взяла на руки кошку и, не уклоняясь от роя соленых брызг, сыпавшихся на ее черные, такие же тяжелые, как у матери, волосы, сказала, обращаясь не то к буксиру-трудяге, не то к морю и городу, не то ко всему этому разом:
— Прощайте, прощайте и не забывайте меня! Когда теперь свидимся?
И через три дня Лидочка уехала. Уехала куда-то далеко, в маленький поселок под Хабаровск; уехала, недоучившись в музыкальном училище последний курс; уехала наперекор недоуменно уговаривающим сокурсникам, вопреки слезам матери, а, может, и самой себе.
Приняв решение у моря, она все еще колебалась. Сомнения опять охватили Лидочку, лишь только она поднялась в переулок. Погода испортилась вконец. Закропил нелетний мелкий дождь. Прямо перед ними стоял их старый дом. Желтая штукатурка во многих местах сползла, открыв синюшный шлакоблок. Вверху тускло серел облезшей позолотой шпиль. Слева и справа начали строить первые в городе девятиэтажки, построили уже этажей пять, но их беленькие чистенькие фасады лишь оттеняли старость дома со шпилем и вносили в общую картину хаос и беспорядок.
— Нет, — вдруг сказала Лидочка, крепко прижимая к себе Кошку-Машку. — Решено. Еду. Не могу больше видеть этот дом с дурацким шпилем, ходить по квартире. Даже пить из наших пасторальных чашек не могу.
…День отъезда был особенно тяжел. Многое уже осталось позади: и резковатое, немного неуклюжее объяснение дочери с матерью (начав говорить, Лидочка уже знала, что мать ее не поймет, поэтому и говорила резко, а получалось еще и неуклюже), и непонимание Зои Иосифовны (куда ехать!? зачем!? а музыкальное училище?), и ее слезы потом, когда, так и не поняв, отчего же Лидочка уезжает, она, вдруг упав на диван, забилась и запричитала совсем по-бабьи — неистово и тонко.
— О-о-ох!.. Да на кого же ты меня оста-а-а-авил? — заломив руки, глядя на портрет мужа, причитала мать. — О-о-ох!.. Да кругом же я одна-а-а…
У Лидочки мучительно сжималось сердце. Ей захотелось упасть рядом с матерью и поплакать, и об отце, и о их вот такой судьбе, и еще бог весть о чем. Но не смогла. Какой-то черт сидел в ней. Сидел и шептал: смотри, вот за все годы единственный раз ты видишь свою родную мать без рисовки, такую, как есть, Да и то не до конца. Ну зачем вот она причитает, что кругом одна? Ну почему она не скажет: «Остались мы с тобой, доченька, одни, совсем одни, и нет с нами моего Ванечки, а твоего отца»? Да скажи она так, даже я, черт, и то ничего не смог бы сделать. И упала бы ты, Лидочка, рядом с матерью и облились бы слезами, да никуда бы ты, Лидочка, не поехала, а там, глядишь, от сиротства и понимать друг друга стали…
Вот так шептал черт. И едва-едва выдержало сердце у Лидочки, но выдержало.
Тогда Зоя Иосифовна пошла за генералом. «И привели вия», — подумала Лидочка, и хоть и грустно ей было, но улыбнулась — вий был добрый и всепонимающий…
Так и уехала Лидочка…
6
Ближе к морю переулок круто уходил вниз; смущенно, перед открывшейся громадой моря, петлял по берегу и, уткнувшись в первую же бухточку, исчезал вовсе, растворяясь в белой накипи отмели.
Приехав несколько дней назад, испугав и удивив мать и внезапностью своего появления, и короткой стрижкой, и еще чем-то неуловимым, появившимся в ее лице, в ее взгляде, и чего Зоя Иосифовна не могла понять, — Лидочка уже торопилась обратно, в далекий поселок.
За три прошедшие года многое случилось в ее жизни. Маленький поселок не стал ей родным, но она ко многому привыкла и многому научилась. Привыкла к сорокаградусным морозам, к валенкам и полушубкам, научилась ходить на лыжах и не особенно скучать осенними мглистыми вечерами. Через год Лидочка вышла замуж, еще через год у нее родился мальчик, круглоголовый и голубоглазый — «копия отец», — говорили в поселке. Лидочка любила своего мужа, еще более малыша и была счастлива и покойна. Постепенно наладились у нее и отношения с матерью.
Зоя Иосифовна тоже изменилась. Насколько она не хотела ни о чем слушать дочь, когда они жили вместе, настолько теперь, в разлуке, и особенно после того, как Лидочка вышла замуж и стала матерью, Зоя Иосифовна безоговорочно, в письмах и телефонных разговорах, соглашалась с ней.
Вот и сейчас Зоя Иосифовна была согласна со всем: и с тем, что Лидочка прогостила всего неделю («У нее маленький ребенок!»), и с тем, что она постриглась («Меньше хлопот с такой прической!»), и даже с тем, что вот только что Лидочка попросила ее не провожать и пошла одна прощаться с морем (с этим Зоя Иосифовна согласилась, так ничего и не поняв).
Только Кошка-Машка не изменилась. Время ее текло тоскливо и монотонно. Зоя Иосифовна по привычке подливала в блюдечко молоко, все так же с наступлением теплого времени выносила подстилку на балкон, но вроде забыла о кошке. После прогулки с Лидочкой к морю Кошка-Машка больше не была в переулке.
У Лидочки жизнь лишь начиналась — у Кошки-Машки она уже кончалась. Редкая кошка проживет столько лет. Но Кошка-Машка жила. Она жила и ждала, когда вернется Лидочка. И Лидочка вернулась…
Когда она переступила порог их квартиры, Кошка-Машка узнала ее первой. Еще Зоя Иосифовна растерянно смотрела на неожиданно появившуюся дочь, а Кошка-Машка уже крутилась в ногах Лидочки, пушила хвост и радостно мяукала. Это помогло им обоим: Зоя Иосифовна сказала: «Брысь!» и замахала руками, Лидочка пробормотала: «Ничего, ничего…», а затем уже и мать целовала дочь, говорила: «Проходи, проходи», и спрашивала о дороге, о муже, здоровье малыша, пеленках и о многих других мелких и значительных вещах, и в глазах у них стояли слезы.
Неделя прошла быстро. Между женщинами установилось то согласие, когда времени мало, и обговорить надо многое. И они обговорили тысячу мелочей, говорили еще о чем-то, пока, наконец, Зоя Иосифовна не задала главный вопрос: «Не хочет ли Лидочка с мужем и сыном переехать к ней?» Не зная, каким будет ответ, Зоя Иосифовна готовилась к любому и задавала вопрос осторожно.
Но Лидочка, опьяненная весной, родным городом, встречей с ласковым и уже теплым морем, которое она так любила, сразу же, не колеблясь, сказала: да, она хочет. И они переедут, вот только подрастет малыш.
Забот теперь стало еще больше, и за всеми этими заботами Лидочка ни разу не вспомнила о Кошке-Машке. Но в один из вечеров, когда чуть утомленная прошедшим днем Лидочка вышла на балкон, под ноги ей попалась кошка. Увидев Кошку-Машку, Лидочка быстро нагнулась и протянула к ней свои всегда теплые руки. Потом вдруг на лице ее появилось брезгливое, так свойственное матерям, имеющим маленьких детей, выражение, и Лидочка, так же быстро отдернув руки, сказала:
— Господи, какая ты уже старая, Машка…
…Перед тем, как спуститься к самому морю, Лидочка оглянулась.
Молодо зеленел клейкой листвой переулок. Их дом отштукатурили белым, девятиэтажки достроили, блестел свежей краской шпиль, и Лидочка счастливо засмеялась; все было хорошо, все радовало ее: пахнувший весной воздух, и их дом, который был уже не просто домом, а частью комплекса, одного из самых красивых в городе, и открывшееся перед нею и так любимое ею море.
Но особенно радовалась Лидочка нынешним отношениям с матерью и тому, что пройдет год, полтора, и они с мужем и малышом приедут сюда; и когда Лидочка представила, как они втроем, держа малыша за руки, пойдут к морю, то опять засмеялась и замахала руками и дому со шпилем, и тополям, и всему этому теплому городу…
…Самоубийц не бывает среди животных. Может быть, увидев, как машет рукой Лидочка, Кошка-Машка преодолела боязнь высоты и неудачно спрыгнула вниз; а скорее всего неосторожно, от старости, сорвалась с балконных перил, но ни Лидочка, ни кто другой не увидел, как, пролетев четыре этажа, черный комок нелепо, не по-кошачьи шмякнулся об асфальт.
Кошки очень живучи. И Кошка-Машка была еще жива. Зеленые маленькие тополя кружились в ее глазах. Стая голубей лениво вспархивала в небо, и маленькая Лидочка счастливо смеялась и протягивала к ним ладошки. А вот и сама Кошка-Машка, подняв хвост и торжественно мяукая, несется к зазевавшемуся голубю.
Потом свет в глазах стал меркнуть, они округлились, приняв удивленно-вопросительное выражение… О чем спрашивали глаза маленькой черной кошки?.. Чему удивлялись?.. Равнодушию людей, ее окружавших, или тому, что, прожив долгие двадцать лет, она так ни на что и не сгодилась?.. А может, глаза спрашивали: где же Лидочка?.. Отчего только равнодушное небо склонилось к ней да тополя спокойно шепчут рядом?.. Кто знает? Да и могут ли о чем спрашивать глаза кошки с ее недалеким разумом и короткой памятью?..
Но вот из глаз ушло удивленно-вопросительное выражение, и они потухли навсегда…
* * *
Прошло еще сколько-то лет. Лидочка с малышом и мужем давно живут в доме со шпилем.
Они часто ходят к морю. Малыш подрос, так же, как и мать, любит гулять по набережной, и уже бойко выговаривает сложные названия пробегающих мимо буксиров и покачивающихся на рейде танкеров.
Семья в доме со шпилем живет хорошо, покойно, но вечерами, особенно когда Лидочка с сыном и мужем уходят в гости, Зоя Иосифовна чувствует себя одиноко. Тогда она грустит, часто выходит на балкон, тревожно всматриваясь в мерцающую темноту, а утром, встретив прогуливающегося по переулку генерала (генерал теперь вышел в отставку, ходит в штатском платье), не то сообщает ему, не то жалуется:
— Вы представить себе, Яков Акентьич, не сможете, что я вчера вечером делала… Футбол смотрела… Это же страшный суд! А что делать? Одна. Кругом одна…
1977 г.
В СТАРОЙ ШКОЛЕ
1
Отца своего Николай Зотов не помнил: он умер, когда Зотов был совсем мал. Мать работала почтальоном.
Отслужив в армии и поступив в институт, на помощь матери рассчитывать не стал — решил сам подрабатывать. Летом вкалывал в стройотряде, зимой — на грузовой станции, на мясокомбинате, а один сезон — даже полотером в институте.
На старших курсах денег стало хватать, да и стипендия была уже вполне солидной, но если Зотов оставался на какое-то время без дела, в душе у него появлялось чувство, будто что-то не так…
И, может, поэтому он не раздумывал долго, когда увидел объявление, что школе № 88 требуется сторож.
Школа находилась недалеко от общежития, дежурить было легко: пришел вечером, поспал на директорском диване (начальство смотрело на это сквозь пальцы), а утром приходила смена в лице тети Наташи — дневного вахтера.
Зотов шел сквозь мороз — бодрый, веселый.
Общежитие в этот ранний час непривычно тихо — ребята еще спят. «Сони», — непременно бурчал он, хотя знал, что ребята не сони, а просто у них сдвинуто время.
Зачитавшись (а частенько и задурачившись), те ложились поздно, а утром, вскочив от грохота будильника, минут десять носились по коридорам и комнате, умываясь и одеваясь, проглатывали по бутерброду и мчались в институт: благо, тот находился через дорогу.
В дни, когда не было его дежурств, и он жил так же.
Но сейчас у Зотова была масса свободного времени.
Можно сделать утреннюю гимнастику. И не просто помахать руками, а размяться по-настоящему: с гантелями и штангой.
Все это железо валялось под кроватью и досталось им от прежних жильцов. Правда, осталось неясным: приобрели его те сами или тоже получили в наследство.
Можно было побриться, погладить свои и без того заглаженные брюки и идти в институт не спеша, зная, что в запасе достаточно времени.
Учился Зотов не то чтобы очень хорошо, зато легко.
На первом курсе его выбрали в профком факультета. Сектор достался трудный — бытовой. На этом месте многие сложили свои головы. Но Зотова переизбрали на следующий год и еще на следующий, и теперь, на пятом курсе, он считался таким «спецом» по быту, что сам декан, давая кому-нибудь место в общежитии из своего фонда, считал необходимым советоваться с Зотовым.
Был Зотов к тому же спортсменом. Не выдающимся, но и не плохим. А главное — разносторонним, и, может быть, не стал очень хорошим из-за того, что хотелось многое узнать и многому научиться.
В школе Зотов занимался борьбой, баскетболом. В армии — бегом.
И в институте не бросил спорт. Играл в баскетбол за свой факультет, бегал кроссы за институт.
А порой любил погонять футбол. Особенно зимой, при небольшом морозце, когда через несколько минут ты весь в инее, стряхивай его или нет, все равно один лишь нос торчит из-под шапочки. А разве не приятно, обведя двух-трех защитников, еле устояв на плотном снегу в своих «лысых» кедах, забить гол, да еще левой ногой!
Да, жизнь была прекрасна, времени еле-еле на все хватало.
Но один маленький штрих в биографии Зотова вызывал, и больше не у него самого, а у знакомых, если не чувство неодобрения, то непонимание — это уж точно.
Дело в том, что в свои двадцать шесть лет Зотов не был женат. Впрочем, это не так уж и непонятно. Не понимали другое: никто и никогда не видел Зотова с девчонкой. Нередко друзья и знакомые спрашивали его об этом. Он отмахивался плоскими фразами, вроде: «Никто замуж не берет».
Однажды на студенческом вечере к Зотову подошла бойкая девчонка и заявила, что она уполномочена слабой половиной параллельного потока и им интересно узнать: отчего это он ни с кем не дружит? Зотов улыбнулся, ответил, что не дружит потому, что не дружный. «Они это уже слышали», — сказала уполномоченная и добавила, что она от него не отстанет. Зотов «сверкнул» еще двумя-тремя шутками. Заноза не уходила, и тогда, посмотрев в глаза девчонке, он ляпнул: «Я — импотент», и добавил: «Духовный». Не поняв, что это такая же плоская шутка, как и все предыдущие, девчонка покраснела, зашмыгала носом и убежала к подругам. Вряд ли она им что-нибудь рассказала, но отчего-то слабая половина параллельного потока долго не разговаривала с Зотовым.
Иногда и Зотов спрашивал себя: «В чем же дело?» Хоть и много еще гуляет по белу свету двадцатишестилетних холостяков, но все его однокашники давным-давно женаты, а закадычный друг — Колька Старицын — успел развестись и вновь жениться.
Вообще-то причину он знал, но всеми силами, хлопотами, баскетболами старался спрятать ее в душе как можно глубже.
Да, причина была, и довольно простая. Обычно ее называют неудачной любовью.
Впрочем, это теперь она стала неудачной, а тогда казалось, надежней и крепче не бывает…
Галя была его одноклассницей. Сидели десять лет за одной партой. Поцеловались (смешно вспомнить) в седьмом классе.
Провожая в армию, Галя крепко обняла его на виду у всех односельчан, прошептала тихо и неловко: «Приезжай, милый, скорее!..»
Зотов, чувствуя себя уже солдатом, лишь усмехнулся в ответ.
Автобус с призывниками выплыл за околицу и под частым осенним дождичком заелозил в сторону райцентра.
«Приезжай, милый, скорее!..»
Зотов привстал и посмотрел назад. Сквозь водяные размывы на окнах видны были только пожухлые кроны тополей, стражами раскиданные по их селу.
«Приезжай, милый, скорее!..»
2
Это началось после того, как прошло с полгода. Они начали «понимать» службу, и у них появилось время, чтобы просто почесать языками.
Без видимых причин вдруг «скапустился» Петька Громов, симпатичный парень, балагур и весельчак. Вначале думали, что у него иссяк запас гражданских анекдотов, а здешние он не успел разузнать. Но дело оказалось не в этом, и вскоре все выяснилось.
Петьке Громову прислала письмо девушка, обещавшая ждать. В конце концов Громов прочитал его всему взводу.
Его знакомая писала, что выходит замуж за недавно приехавшего в село агронома Вяслова (она так и написала), но что солдату без дружбы никак нельзя, и, если Петька захочет, они останутся друзьями.
Вначале все молчали: и «молодежь», и «старики». Только «старик» Белозерский — циник и скандалист — процедил: «Плюнь и забудь».
После этого заговорили все разом и стали что-то советовать Громову. Советов было много, и были они разные. А Венька Чепуренко, маленький, наивный хохол из Кировограда, посоветовал даже, что, мол, «трэба идти до командира, нэхай дае отпуск».
Но Громов поступил, как советовал Белозерский. Он плюнул и забыл.
И еще приходили такие же письма, всегда больно бившие по мужскому самолюбию, — привыкнуть к ним было невозможно…
…Прошел еще год. Зотову присвоили звание сержанта, и между повседневными заботами у него все чаще стали мелькать мысли о планах там, на «гражданке».
А в планах этих все сходилось на Гале. Зотов часто получал от нее письма, которые были нежными.
Но вдруг, когда до «дембеля» осталось совсем немного, письма перестали приходить, а потом пришло письмо, подписанное Галиным почерком, но что-то в нем пугало Зотова. Он перечитал обратный адрес раз, затем еще и — вскрыл.
Содержание его было примерно таким же, как и у того, что получил в свое время Петька Громов, а конец, где Галя и ее муж предлагали ему дружбу, вызвал в Зотове — человеке в общем-то довольно спокойном — тихую ярость.
«Черт бы их побрал! — подумал он, вспомнив знакомую Громова. — Тяпнут тебя по темечку, а потом предлагают нежнейшую дружбу».
Со временем ярость прошла, и Зотову стало грустно и непонятно.
«Отчего это? — думал он. — Почему вышло так, что Галя замужем не за ним, Зотовым, а за другим — вот и подпись на конверте иная?» И Зотов понял, чего пугался, читая адрес…
* * *
Давно уже отслужил Зотов в армии, окончил четыре курса института, кричал «горько» на свадьбах многих своих однокурсников, пришлось побывать и на разводах; много лучше знал жизнь и понимал, что Галя была просто человеком, и человеком слабым, не справившимся с одиночеством, когда его, Зотова, не было рядом. И давно Зотов простил ее, но в душе его сломался какой-то винтик («Выработался устойчивый рефлекс», — думал про себя Зотов), и весь женский род если и не перестал существовать для него, то превратился в людей, обычных людей, среди которых были и друзья и недруги.
3
В школу Зотов приходил вечером, часам к семи. Занятия кончались, но жизнь в этом старом огромном здании не прекращалась, и он еще издали по освещенным окнам пытался определить, что происходит за толстыми серыми стенами.
Часто светились крайние три окна на втором этаже, И Зотов знал: Надежда Петровна со своим 10«А» решает очередной пример из «Пособия для поступающих в вузы». Иногда горел свет вполовину первого этажа: это родители первоклашек мыли за них полы. Здесь же вились и они сами, толкаясь и мешая взрослым.
Чаще всего сверкал огнями пристроенный к школе спортзал, и тогда Зотов невольно шагал быстрее…
Приближался Новый год. В институте за сдачей курсовых, зачетов, долгов это было почти незаметно, но в школе Зотов чувствовал предпраздничную суету.
Привезли пушистую, стройную елочку и поставили на втором этаже. А на следующее дежурство Зотов помогал тете Наташе и Софье Петровне, завхозу, украшать ее.
Елочка была пугливой, часто вздрагивала от прикосновений, а иногда и покалывала Зотова, когда тот, стоя на стремянке, пытался подвесить большой блестящий шар.
— Ох и здоров ты, ох и неуклюж! — ворчала тетя Наташа, подавая Зотову игрушки.
— Не отвлекай парня, — замечала завхоз, раскуривая очередную папиросу. — Завтра утренник у малышей.
— Ты сама хороша, Софья Петровна, — не унималась тетя Наташа. — Дымишь и дымишь — того и гляди спалишь елочку.
Зотов поглядывал сверху на этих пожилых женщин, почти старушек, и улыбался…
4
Наступил предпоследний день старого года.
— Сегодня будет жарко, — предупредила тетя Наташа. — Сегодня вечер у старшеклассников. Да ты не робей. Главное — посторонних не пропустить, а свои-то не шибко озоруют.
К восьми часам школа стала наполняться расслабленно-праздничными десятиклассниками и настороженными классными руководителями. Поплыл мандариновый запах. Возле входных дверей устроились два долговязых парня с красными повязками, и Зотов понял, что оказался не у дел.
Шум на первом этаже постепенно стих, стих он и на втором — началась торжественная часть.
Он прошел в приемную и из большого, стоявшего рядом со столом секретаря шкафа достал фотоальбом.
На каждом листе было по две фотографии: слева — выпускник с торчащим чубом; справа — он же через много лет, иногда поседевший, иногда полысевший; а в центре — эти многие-многие годы, влитые в скудные, ровно написанные ученицей-отличницей фразы…
Таких альбомов было много — шкафу становилось тесно от них. Зотов от нечего делать часто рассматривал их.
Но вот сейчас выпускники старой школы, мелькнув, скрывались друг за другом, растворясь в толще альбома и не зацепив взгляда Зотова.
Перед его глазами кружилась елочка, но не новая, а давнишняя, теперь уже старого-престарого года. У той елочки стояла Галя — одна, в белом. Зотов уже стал забывать ее платья и, кроме белого, выпускного, почти ничего не помнил…
Раздался стук, дверь отворилась, вошли две девушки. Они были близнецами, и, вскинув им навстречу голову, он даже растерялся слегка, а затем его охватило изумленно-радостное удовлетворение, наверное, за природу, за то, что она, создавая такое премилое личико, не поскупилась и воспроизвела его дважды.
Увидев Зотова, девушки нерешительно замерли. Молчал и он.
— Извините, мне надо позвонить, — сказала та, что стояла поближе.
— Позвонить? Пожалуйста, звоните, — он пересел, освобождая место у телефона.
— Позовите Сережу, — говорила девушка в трубку, а сама смотрела на него.
Он внимательно листал альбом.
— Это ты, Сережа? — И снова взгляд на Зотова.
Он понял, что делает что-то не так, поднял голову и увидел: второй близнец — в дверях — делает ему знаки, приглашая выйти.
Положив альбом, он поднялся.
Она встретила его у порога.
— У Тани с Сережей амур. Он студент, и у него сегодня трудный зачет.
Все это девушка проговорила тихо, наверное, боялась смутить сестру, подавшись к нему. И от ее тихого голоса и неожиданной близости, такой же неожиданной, как и их появление, Зотов почувствовал вдруг неясную тревогу и волнение, которые, родившись, мелкими каплями зависали в нем, а потом сливались, проникая все глубже и глубже.
— А у вас нет зачетов? — она уже шла по коридору.
— Откуда вы знаете, что я студент? — он чуть удивился, но вопрос задал скорее машинально.
— Так. Знаю. Они остановились.
Напротив, на стене, висел плакат — огромный плакат — и казалось, вся стена, занявшись багрянцем, просит звонить по телефону 01.
— Я все знаю от тети Наташи. Мы с ней… — она замялась, подыскивая подходящее слово, — …мы с ней дружны. Я даже знаю, как вас зовут. А меня зовут Аня.
От последних слов она чуть зарумянилась, и, встретившись с ним взглядом, спросила:
— А вам не страшно ночью, одному? — И, смутившись еще больше, поправилась: — Не одиноко?
— Как вам сказать? — он не знал, что ответить, и не только от тревоги, охватившей его, но и еще потому, что чувствовал: говорить с ней надо просто, как она, без кривляний и тех шаблонно-заумных фраз, на которые скатывались, особенно в первые минуты знакомства, его совсем не глупые друзья-студенты, да частенько и он сам.
И все же, что ей сказать? Одиноко ли ему? Зотову вдруг показалось: между ними — стена, и он, послуживший в армии, испытавший «прелести» не такой уж и легкой студенческой жизни, никогда не сможет объяснить ей, семнадцатилетней, что здесь, в школе, ему было хорошо и спокойно, хорошо думалось и отдыхалось от институтской суеты. «Одиночество и размышления превращают юношу в мужчину», — мелькнула прочитанная где-то фраза. Он отмахнулся от нее, хотя считал ее правильной, но сейчас показавшейся чересчур выспренной.
Страшно ли ему? Что ответить? Если ему и было страшно, то давно, в зимние, ветренно-расхлябанные ночи южной границы, когда по ерыкам[2] мечется молочная пелена тумана, и ты медленно погружаешься в нее, и хочется встать на цыпочки и вытянуть шею, как делал совсем давным-давно, на сельском пруду, еще не умея плавать. Как рассказать, что такой страх на твоем пути — это не так уж и плохо, а когда ты зажмешь его, превратишь во что-то маленькое и неосязаемое, то и совсем отлично.
Он взглянул на нее. Она молча стояла у плаката — блестки на коротеньком белом платьице сверкнули розовым, и Зотову вдруг показалось, что он понял, отчего эта набухавшая в нем тревога и почему он не может отделаться глупой шуткой: чем-то девушка напомнила ему Галю. Но чем же? Белым платьем, только сейчас бросившимся в его глаза, голосом — таким же тихим и неторопливым. А впрочем, это только кажется. Все другое — и время, и прически, и девушки. Все сменилось: «бабетта» на «колдунью», «колокольчики» на «мини». И, наверное, так и надо.
«Устарел я, — уже почти спокойно подумал Зотов. — Вот стоит передо мной девушка, и, похоже, славная, а я не знаю, о чем и как с ней говорить».
— Был случай, — начал он. — Школа старая, в ее флигельках и пристройках недолго заблудиться. Но случилось это вот тут, рядом, на лестнице, в одно из первых моих дежурств. Зачитался я — поднимаю глаза: три часа ночи. Вышел в коридор — ночью тут только лампочка горит — в школе тихо-тихо. Вдруг слышу: на втором этаже кто-то говорит. Что именно — не понять. Крикнул — не отзывается. Стал осторожно подниматься, и наверху кто-то затопал, тяжело так и глухо. Постоял, подумал, снова шагнул, и опять кто-то тяжко топнул. Не выдержал я, еще раз крикнул, но в ответ только бормотанье и бормотанье. Словом, дошел я до лестницы, но пока поднимался, все армию вспоминал, границу, там тоже всякое бывало… Ну что, нагнал я страху? — рассмеялся он вдруг и посмотрел на нее. Она не улыбнулась даже, а глаза ее были задумчивы и испуганны, словно и она шагала с ним рядом в ту страшную ночь.
— Кто же там был? — спросила она.
— А никто. И, поняв, в чем дело, я тоже тогда посмеялся… Чердачную дверь не закрыли, и голуби (а на чердаке их видимо-невидимо) потянулись на слабый свет, расселись на перилах и давай ворковать. Вот так. А с шагами и того проще. Все дело в ступенях. Они старые, поизносились и гуляют под ногами. Убираешь ногу — они и топают. Только когда шум, этого не услышишь. Как сейчас, например, — Зотов показал рукой на второй этаж, откуда слышались смех и музыка.
— Знаете что? — сказала она. — Таня, наверное, поговорила с Сережей. Пойдемте с нами.
Она помолчала и, видя, что он не решается, добавила:
— Ребята у нас отличные. Идемте.
— Хорошо, — сказал Зотов. — Только, увы, я не при параде.
— Не беда. — Аня махнула рукой, подошла к приемной и открыла дверь.
— Да-да, — послышалось оттуда. — Приезжай, милый, скорее!..
Зотов отвернулся к стене. В него полыхнуло ярко-красным… «Приезжай, милый, скорее!..»
— Мы готовы, — сказала Аня.
— Я приду. — Зотов не повернул головы. — Вы идите. Я приду.
Они ушли. Плакат на стене стал блекнуть, снова засветился рыжим багрянцем. Проступили слова, поясняющие, куда надо звонить при пожаре.
А по какому номеру звонить ему? Да и что бы он сказал, если б знал этот номер? Что до боли похожи эти близнецы на ту, уже далекую Галю. Похожи не прическами, не голосом. Похожи своей юностью, которая все так же носит белые платья и любимым говорит все те же слова.
А может быть, рассказать о том, что ты никак не можешь забыть, как это сделал твой армейский друг Петька Громов, и что если тебе сейчас уже не больно, то грустно и одиноко — до слез.
Зотов постоял, повернулся спиной к стене и пошел в приемную.
Взял ключи и запер дверь.
Подошел к лестнице, ведущей на второй этаж.
Первая любовь — школьные года, В лужах голубых стекляшки льда — Не повторяется… —неслось сверху.
Он ступил на тяжелую железобетонную ступень и отпустил ее. Та чуть слышно вздохнула, опускаясь.
— Не горюй, — тихо сказал Зотов. — Не горюй. Все образуется… — И медленно стал подниматься…
1978 г.
ПРОЕЗДОМ Про глупого Барончика, о жестоком и коварном Семене и о бедных студентах
Дни в начале нового года стояли морозные, веселые. Город сверкал иллюминацией, знакомые все еще поздравляли друг друга с наступившим годом, желали нового счастья. Весь этот послепраздничный вихрь закружил Семена Сулейкина, и на третий день после своего освобождения он заметил, что от той небольшой суммы, которая у него была, не осталось ничего, ну ровным счетом ничего, а сам он, Семен, сидит на вокзале, рядом с кафе «Фонарики» и разглядывает очередь за горячими беляшами.
«Какой большой вокзал, — подумал Семен, — какая прекрасная архитектура! Здесь всем найдется место».
Вдруг какой-то маленький и серый человечек промчался мимо, а затем к Сулейкину подбежал детина, на голове которого красовалась широкая каракулевая кепка.
— Где этот ишак? — закричал детина Сулейкину, вращая маслянистыми глазами и нервно дергая кадыком, сплошь усеянным торчащими в разные стороны волосами. — Где этот паршивый ишак?
— Что служилось, дорогой? — вникая в ситуацию, спросил Сулейкин. — Зачем так громко кричать? Вы спугнули целую стаю воробьев, и милые птицы носятся под куполами, не зная, куда сесть. Так что случилось?
— У меня украли хачапури, — закатил глаза кадыкастый. — Совсем свежий хачапури.
— Как украли? Вытащили изо рта?
— Зачем вытащили? — кадык и глаза на миг застыли. — Зачем изо рта? Украли со стола, когда я ходил брать сок.
— Какой сок?
— Какой сок? Мандариновый сок, — задергался опять кадык.
— Хороший сок, — заключил Сулейкин. — Вкусный. Если он еще на месте, его можно выпить, а хачапури можно заменить беляшом, так даже вкуснее.
— Я хочу хачапури, — детина снова закатил глаза. — Я хочу свежий хачапури.
— Тогда обратитесь к товарищу сержанту, — сухо сказал Сулейкин, увидев приближающегося милиционера. — Вам, гражданин, помогут.
Сулейкин торопливо встал и пошел к выходу на перрон, слыша, как детина рассказывает сержанту про украденный хачапури.
«Какой прекрасный вечер, — думал Сулейкин, шагая по перрону. — Какой прекрасный вечер! Тьфу, черт, что это я начал повторяться, как этот спекулянт. А спекулянт ли?.. Спекулянт, — решил он. — Жалко ему хачапури. — Сулейкин сглотнул слюну. — А у самого, наверно, денег девать некуда. Торгует, поди, «тулпанами». Непыльно и денежно. А тут…»
Перрон кончился. Собираясь идти назад, Сулейкин развернулся, но вдруг рядом, у павильона «Овощи и фрукты», заколоченного за ненадобностью на зиму, он увидел маленькую серую фигурку.
— А между прочим, вы испортили человеку настроение, — подойдя вплотную к фигурке, сказал Сулейкин. — Хачапури, остатки которого у вас, гражданин, в руке, был последним, а его настоящий хозяин беляши почему-то не переносит… Но-но, стоп, машина! Нельзя быть таким обидчивым, — Семен ухватил человека за что-то, напоминавшее пальто. — Может, нам с вами по пути… Короче, — меняя тон, сказал Сулейкин. — Меня можешь не бояться. Я три дня как на свободе. Здесь — проездом. Зовут Семеном. Этого достаточно. На свободе занимался преимущественно интеллектуальным трудом. Теперь — быстро свои анкетные данные! Имя? Чем занимаешься? Если сидел, то за что и сколько? Знаешь ли город? Ну, быстро, ты, специалист по хачапури.
После сбивчивого и нудного рассказа Семен подвел итоги:
— Вам, дорогой, только интервью на телевидении давать. Как я понял, передо мной законченный алкоголик — Станислав Барончик. А может, это кличка? Нет? Ну-ну. Итак, Станислав Барончик, хорошо знающий город, что очень важно; не судился, что в общем-то тоже неплохо; с последнего места работы, а также и женой выгнанный за пьянство. В настоящее время — специалист по хачапури. Из всего из этого видно, что ты сбился с истинного пути. Но сегодня ты везуч, ох, везуч. И знаешь, почему? Во-первых, убежал от этого кадыкастого, а во-вторых, встретился со мной. Ну, и, в-третьих, поскольку я на мели и мне нужны небольшие деньги, чтобы доехать до любимого города у Черного моря, я попытаюсь поставить тебя на правильный путь и беру на дело. Дело — тьфу да и навар небольшой, но я не хочу здесь никакой «ляпы». Понял? А будешь хорошо себя вести и мыться хоть раз в неделю, возьму с собой в любимый город… Но ближе к самому делу. В вашем чудесном городе я заметил одну особенность, которая отличает его от города у Черного моря, — отсутствие кондукторов на городском транспорте. Короче — будем брать кассы троллейбуса. Ваша задача, гражданин Барончик: первое — пошевелить мозгами и прикинуть, какой из маршрутов наиболее рентабельный; второе — установить место, а также время на этом маршруте как наиболее подходящее для съема касс. Ясно? Я со своей стороны позабочусь об инструменте. Сейчас, — Семен посмотрел на часы-табло, установленные на центральном куполе вокзала, — 20.00. Через два часа я буду здесь. Твой кадыкастый друг, наевшись беляшей и страдая от изжоги, уже, наверное, движется в сторону юга. Так что можешь идти на вокзал и думай — от этого зависит твое будущее. Встреча в 22.00. — Семен похлопал Барончика по плечу и направился к троллейбусной остановке, но, сделав шаг, он остановился и, повернувшись, сказал: — Да, вот что. Не вздумай от меня скрываться. А то, — Семен поднес свой костистый, усыпанный огромными веснушками кулак к носу Барончика, — ты больше никогда не сможешь украсть даже пирожок с горохом, так как я тебя найду и поломаю ноги. Ну, дуй. И думай, думай.
Семен хорошо знал жизнь, так как, с одной стороны, будучи на свободе, он занимался (по его словам) интеллектуальным трудом, а с другой стороны, т. е. лишившись оной, специализировался в сферах производства с применением грубой физической силы. Сейчас ему пригодился опыт работы по ту сторону свободы, проще говоря, на стройках. Семен знал, что на стройке он найдет все необходимое.
Так оно и получилось. Сев в первый подошедший троллейбус, еще раз восхитившись тем, что троллейбус без кондуктора, прочитав надпись: «Совесть пассажира — лучший контролер», Семен поуютнее уселся, выдул маленький смотровой глазок на узорном окне и принялся наблюдать.
Как только в глазке мелькнул большой, почти готовый к сдаче дом, Семен вышел из троллейбуса, а примерно через час, порыскав по стройке, появился снова, став за это время на несколько килограммов тяжелей. За поясом, прикрытым габардиновым пальто семилетней давности, торчал маленький плотницкий топорик, а в карманах чуть слышно позвякивали отвертка и зубило.
Семен Сулейкин умел разбираться в людях. Не ошибся он и на этот раз. Лишь только он появился на перроне, глядя по сторонам и немного досадуя на себя за то, что не указал Барончику точного места встречи, как маленькая фигурка выкатилась ему навстречу и остановилась, заглядывая в глаза ласково и преданно.
— Вот что значит предложить человеку что-то интересное, — сказал Семен, выслушав Барончика. — Растешь на глазах. Все правильно. Ведь даже гнида мечтает стать вошью. Но в нашем деле главное — точность. И поэтому подобьем, так сказать, бабки. Итак, маршрут тобой выбран. По твоим словам, наиболее людный, а значит и денежный. На одном из концов троллейбус разворачивается по большому кругу и в этот момент пассажиров нет, один водитель. Очень хорошо, гражданин Барончик, едем к этому кругу — там разберемся.
Маршрут и в самом деле был напряженный. Пробарахтавшись с полчаса в его средней части и чуточку отдышавшись к концу, Семен и Барончик сошли на последней остановке.
— Да, все же это не любимый город у Черного моря, — сказал Семен, разглядывая присыпанные снегом маленькие домики и вслушиваясь в скрип и шепот позднего вечера да в тоскливое собачье тявканье. — Впрочем, с другой стороны, это и прекрасно. Ступил за дорогу и пропал. Будем работать. Возвращаемся на предпоследнюю остановку. Садимся. Присматриваемся к водителю, а главное — к кассам. На последней остановке вам, гражданин Барончик, придется сойти и прокатиться сзади троллейбуса, на откидной лестнице. Знаешь о такой? Отлично. Примерно на середине круга дергай веревку, пусть троллеи летят в разные стороны. Как только водитель выйдет, обойдешь машину и будешь ждать меня у первой двери, той, что ближе к водителю. Ясно? Действовать четко и быстро. У меня в запасе минуты три-четыре. Я смотрел на крепления касс. Тьфу! Так что времени хватит. Принимаешь одну из касс и — ходу. И главное — без «ляп». Понял?
Барончик понял, но «ляпа» получилась, и довольно большая. Виновником всего оказался водитель. Был он молод, суетлив и с самого начала не понравился Сулейкину. На последней остановке водитель, пожелав сходящим пассажирам спокойной ночи, поерзал на сиденье, включил транзистор и, нажав на педаль, покатил по кругу.
— Живчик, — бормотал Семен, ощущая обух топора под своим габардиновым пальто. — Сейчас ты у меня докатаешься…
Как только мигнул свет, а троллейбус, чуть прокатившись, остановился и водитель легко выпорхнул из кабины, Семен бросился к кассам.
Крепление и в самом деле было «тьфу». Но когда Семен с двумя кассами подбежал к передней двери, то тут вместо Барончика стоял водитель. «Не успел, ну и живчик», — в первый момент подумал Семен.
— Прочь с дороги! — рявкнул он в следующий миг, поднял кассы над головой, тиснулся между водителем и дверьми и побежал.
Бежал он долго, в голове был сплошной хаос, временами Семен приостанавливался, и тогда приходили мысли о Барончике, о том, что случилась «ляпа», но как только он начинал гулко топать ножищами по снегу, мысли пропадали. Наконец он остановился, весь мокрый и красный. Кругом было ровное поле снега, и Семен понял, что город остался позади.
Вдруг что-то мягкое неслышно скользнуло сбоку. Семен даже не успел испугаться. Рассмотрев, что это Барончик, он лишь резко махнул рукой, выражая этим жестом все: и свое отношение к Барончику, и досаду на срыв.
Кассы разворотили быстро. Они были почти пусты. Только на дне лежала кое-какая мелочь да шелестели подхватываемые ветром бумажки.
— Это что? — показывая на дно кассы, спросил Семен.
— Талоны на проезд, — комментировал Барончик. — Их можно продать.
— Продавать будешь ты, — взяв талон, зло сказал Семен. — Но без меня… Отчего ты выбрал этот маршрут, идиот?
— Много людей, народу, — заикаясь, сказал Барончик. — Три института по маршруту. Политехнический. Медицинский. Физкультурный.
И тогда, еще раз взглянув на дно, просвечивающееся между медяками, Семен бросил в кассу талон и захохотал.
Хохотал он громко и долго, а затем, отдышавшись и взглянув на робкого Барончика, сказал:
— В моем любимом городе я слышал такой анекдот. Едут в троллейбусе два студента. Подходит контролер: «Ваши билеты?» «У меня проездной», — отвечает первый студент. «Хорошо, а у вас?» — «А я, я — проездом», — отвечает второй… Идиот, нашел рентабельный маршрут.
Семен нагнулся, выскреб пятаки и пошел к мерцающим огням города.
1979 г.
ВИТЯ КОСОВ Рассказ старого пожарника
Свою жизнь я, можно считать, в пожарке провел. И в военных частях послужить пришлось, и в гражданских — профессиональных, значит. Был бойцом, был и командиром и многое повидать пришлось… Но не обо мне сейчас речь, о жизни пожарной рассказать хочу. От иных такую штуку слыхать приходилось: легче службы, мол, чем у пожарных, — нету. Поговорку даже придумали: «Спит, как пожарник». Эт, крепко, значит. А на деле-то не так, совсем не так выходит. Ну, про военные части говорить не буду — военные, они военные и есть. Скажу о профессионалах. На вид они те же рабочие. Трудовая книжка, профсоюзы. Все так, да не совсем.
Рабочий, он пришел утречком на завод, перебросился словом-другим со товарищем своим, да к станку. В обед — еще слово-другое, а там уже и домой пора идти, к жене, детям, да к телевизору.
А у профессионалов — заступил на дежурство и нет для тебя никого. И ешь здесь, и спишь. А выйдет дело какое, так нелюбимый сосед по койке ближе жены родной показаться может. И не до разговоров тут, не до собраннее — приказ и точка! Случиться же может всякое. Бывает и такое — жизнь вынь да положь, а иначе и нельзя никак.
Служил у нас в профессиональной части за номером 17 Витя Косов. В ту весну сорок шестой годик ему стукнул. Но его все так и звали: Витя Косов да Витя Косов, а на Виктора Петровича вроде как не дотянул…
И верно. Неуживчивым человеком Витя был на редкость. Выходил, к тому же, частенько с глубокого похмелья; предыдущий караул по нескольку раз заставлял подметать гараж; а уж ругаться начнет — на верху смотровой вышки слышно.
Не нравилась Вите профессиональная часть, и с чем он ее ни сравнивал, пересказать стыдно. Ясно, что после этого захочешь — не полюбишь, а к тому же в пожарке народ собрался ядреный, нелюбвеобильный.
Образовалась пожарка наша совсем недавно — после пуска завода полимеров, для его же и охраны. Перед пуском случился небольшой пожар — сгорела будка строителей. И хотя будка — пустяк, но сырье завода и продукция — все горело не хуже пороха. Вот и был срочно построен гараж на две машины, смотровая вышка, а рядом двухэтажный домик для пожарников. Так же срочно был набран штат пожарки, и вместе с пуском завода заступил на смену и первый караул.
Прошло несколько месяцев, и обнаружилось, что люди в пожарке случайные. Дисциплины — никакой. Дело дошло до того, что на боевой машине стали ездить в местный магазинчик за «горючим», а однажды сам начальник части, сев в боевую, прихватив и резервную, целую ночь развозил гостей со свадьбы своей племянницы. Поселок наш — заводской, к городу примыкает, так и там, наверное, долго не могли заснуть от воя сирен да собачьего гавканья.
Вот в эту непутевую для пожарной части пору и устроился в нее Витя Косов, пьяница и зануда, но в отличие от всех — для пожарных дел человек не случайный.
До нашей пожарки служил Витя Косов в городской пожарной части. Служил он там шофером и хотя занудой и трепачом был всегда, но пить начал эдак лет семь-восемь назад. Примерно в это же время ушла от Вити жена с десятилетней дочкой, и теперь было уже не разобрать, что случилось вперед: ушла ли жена и Витя запил или Витя запил, а уж потом и ушла жена…
Что бы там ни было причиной, но пьянство для шофера, да еще боевой пожарной машины — смерть! Витю тут же лишили прав и перевели в бойцы. Да-а-а… При выездах теперь уже не он гоголем восседал за баранкой, едва замечая прижимавшиеся к обочине машины.
Потерпеть этого долго Витя не сумел, запил еще более, из городской военной части был уволен и в суматохе принят к нам в «профессионалы»…
…Прошло еще сколько-то времени. Заводское начальство, убедившись, что с выпуском полимеров все в порядке, взялось и за пожарку. Усмотрев, что гниет она с головы, эту голову «отсекли» и прислали новую, с виду хотя и чуть потрепанную. Головой этой был майор в отставке по фамилии Шаламай.
В нашем поселке — что в той деревне: Шаламай еще к своим обязанностям не приступал, а уж слухи клубятся: что́ он, да кто́ он, да отчего в отставку вышел.
А выходило так. Службу начинал Шаламай в кавалерии, а потом, после расформирования, артиллеристом стал. Боевая техника Шаламая, по его собственным словам, блестела, как у кота хвост, а работала, как дареные командирские часы. Старшие по званию Шаламаю доверяли, младшие уважали, и служить бы майору Шаламаю да служить, но вышел с ним на смотре боевой техники курьезный случай.
Прислали перед смотром в его дивизион новое оружие. Артиллерией, даже ракетной, пахло тут уже еле-еле… Ни в очертаниях мощных с колесами выше головы, тягачей, ни в специальной части не увидел майор знакомого. Только раз и обрадовался, заприметив родную артиллерийскую буссоль.
Красива же техника была на диво, да и серьезного марафета еще не требовала — смахнул чуть пыль и готова, но майор перед смотром самолично с белой тряпочкой все проверил, и на смотре, спокойный и гордый за эту красоту и мощь, неторопливо, поотстав на положенную дистанцию, вышагивал рядом с командиром части — фронтовым своим другом — полковником Руденко.
— Красавицы! — говорил Руденко, обходя спецчасти. — Скажи, а? Митрич?!
— Так точно, красавицы! — соглашался Шаламай и вдруг осекся, увидев вывалившуюся из ближайшей спецчасти цепь. Цепь висела неряшливо, скособоченно, а нижним концом своим касалась земли.
Больше всего Шаламая поразили эти небрежно развалившиеся по бетону кольца. Бетон был чист, но представил себе Шаламай, как звенья эти струйки пыли по дороге поднимут, и, представив, крикнул зычно:
— Командира ко мне! Немедля!
Командир был тут же, щуплый и до призыва своего в армию застенчивый, наверное, парнишка.
— Шо это такое?! — тыча пальцем в звенья на бетоне, спросил Шаламай, как всегда в минуты волнения, переиначивая русские слова на уже почти забытый украинский лад. — Шо это такое?!
Застенчивый сержант разомкнул губы:
— При движении, а следовательно, трении специальной части о слои воздуха на ее поверхности происходит перераспределение электронов, и образующееся так называемое электростатическое напряжение отводится с помощью этой цепи… — начал он, прижав руки к бедрам и лишь движениями головы показывая на цепь.
— Шо ты говоришь?! — не дослушав, опять крикнул Шаламай и вдруг увидел такое, чего никогда не видел — полковник Руденко, стоя за спиной сержанта, смущенно, совсем по-граждански, машет рукой, заманивая Шаламая в сторону.
— Послушай, Митрич, — так же смущенно сказал Руденко, когда они отошли. — Сержант прав, ты его, того, оставь. Цепь нужна.
— Как нужна? Как прав? На шо ж она здалась, та цепь?
— На что? А для чего цепь бензовозу? — смущенным полковник уже не был. — Да опомнись, Митрич. Бог с тобой. — И Руденко подал команду закончить смотр…
Рапорт Шаламай подал на следующий день. Отговоры Руденко слушать не стал и, погуляв с полгода, устроился начальником заводской пожарки. Помог ему в этом военкомат.
* * *
Вот такие клубились слухи. Но и без слухов было ясно: вояка Шаламай старый. Поносившись «с голодухи» по работе без сна и отдыха с месяц, порядок в пожарке Шаламай навел. Безнадежных пьяниц выгнал, сачков придавил, а главное, заполнил долгие двадцать четыре часа дежурства делом, смыслом.
Вместо блиц-турниров в передвижного дурачка, заканчивавшихся тем, что проигравший должен был на брюхе проползти под машинами весь гараж, на что бывший начальник смотрел сквозь пальцы, а частенько и сам похохатывал, глядя на жертву, преодолевавшую смотровую яму, стали проводиться занятия.
Оборудовали красный уголок, небольшой спортивный зальчик с теннисным столом и гирями, приняли соцобязательства, и жизнь вошла в нужное русло.
Новых людей Шаламай подбирал осторожно, а после того, как он с присущей ему энергией и деловитостью установил связь с политехническим институтом, в пожарке появились студенты-женатики. Хотя устраивались они ради служебных квартир и временно, но людьми были надежными.
При всей этой реорганизации Витя Косое уцелел. Может, не причислил его Шаламай к безнадежным пьяницам — но ведь не раз Витю под хмельком видел, а может, разглядел в нем что-то, но уцелел Витя и при нашем положении, когда ядро пожарки надежным стало, но необученным, пригодился даже: мог Витя сработать за любой номер расчета, а по лестнице-штурмовке бегал не хуже двадцатилетнего.
Несмотря на такое доверие, лучше Витя не стал, так же хвастал и кричал, а к хвастливым словам своим подмешивал временами крепкий пьяный дых. И продолжал бы Витя неприглядную жизнь, да повстречал он как-то боцмана Морозова. И повстречать-то не повстречал: сам к нему пришел бывший боцман. Плавал Морозов до недавнего времени по Черному морю, но надоело его жене одной куковать, уговорила мужа к теще уехать. Приехал боцман, а у тещи тесно, несуразно. Стал квартиру искать — люди и подсказали: «Иди, мол, к Вите Косову — дом у него большой. А живет один». Так и встретились.
Зазвал Витя Морозова в дом. Усадил. Браги поставил. Но боцман — человек непьющий — отказался.
— Э-э-эх, — только и сказал Витя. — А кем же ты работал?
— А боцманом, — отвечает Морозов. — На пожарном судне.
— На пожарном? — удивился Витя. — Вот ведь она какая, наша пожарная техника. А лафетные стволы на судне имеются?
— Имеются, — подтвердил боцман.
— А какой диаметр? — спрашивает Витя.
— А такой, — говорит боцман, — что человек проскочит — не задержится.
— И пожары тушил? — пристает опять Витя.
— Тушил и пожары, — отвечает боцман. — Вот в Новороссийске «Волгонефть» загорелась. Так от нее все суда врассыпную. Рядом «Пекин» стоял — танкер авторитетный, его в порт куча буксиров заталкивает, а тут сам: «Задний ход»! — и уж на рейде покачивается. А мы «Волгонефть» на абордаж и вперед! Ну, а в общем служба, как служба…
— Да, служба, — протянул и Витя Косов. — А ты вот что — ты к нам иди. В моем карауле начальника нет. Зарплата невелика, верно, но зато служебную квартиру получишь — со всеми удобствами. Так что решай.
— Если квартиру — чего решать? — сразу согласился боцман.
* * *
Шаламаю боцман понравился. Еще бы! Мужик в самом соку. Кряжист, дороден, нос здоровенный, а лет эдак под тридцать пять. Оформили его, караул представили. О Вите Косове Шаламай особо сказал:
— Это, — говорит, — можно считать, ветеран части. Боец знающий. Если что непонятно — к нему обращайтесь.
Но обращаться боцман Морозов не стал: нужды в этом не было: в технике сам разобрался, а в строевом отношении Витю научить кой-чему смог бы. Принципиальным оказался, к тому же, на диво и в первое же дежурство унюхав идущий от Вити угар, сказал строго:
— На первый раз будем считать, боец Косов, что это вчерашний дух от вас исходит. Но еще учую — на дежурство не допущу.
Так и пошло у них с самого начала. Витя все кричит, доказать что-то хочет, но и боцман — кремень, от своего ни на шаг, да и только. Уж иногда до смеха доходило, уж бывало — правы оба, да не тут-то было.
Принимали как-то смену. Витя, как всегда, нудит: и то не так, и это не эдак. Но привыкли все к этому — не больно и слушали.
И вдруг Витя хвать брандспойт, что поменьше — «литер В» называется, а там прокладки нет. Тут Витя криком совсем изошелся: «Не гараж это, — кричит, — а сортир. А пожарка эта — не пожарка вовсе, а бордель. А вы, профессионалы, — не пожарные, а чего похуже. А вот в той военной части, где я служил, вот там были ребята. И машины там были, не машины — звери, не то что эти разболтанные телеги…» Ну и так далее.
Засуетился начальник предыдущего караула — Витя прав был, хотя вставить прокладку и пустяковое дело. Но тут боцман и говорит:
— Смену я, — и «я» свое подчеркивает, — принимаю. А вы, Косов, — к Вите обращается, — своим делом занимайтесь. Прокладку же мы сами вставим.
— Это кто вставит?! — кричит Витя.
— Вы и вставите, — говорит боцман. — А не вставите — выговор получите.
…Дальше — больше. Выехал как-то караул свое хозяйство осмотреть: ко всем ли гидрантам подъехать можно, все ли работают, не замусорены ли дороги. Вещь обычная — каждое дежурство такое делается. Едут, смотрят, но все в порядке — начальство заводское за этим строго следило.
Подъезжают к складу сырья — в бочках оно хранится, на площадках под открытым небом. Бочки в красный цвет окрашены — огнеопасно, значит.
Осмотрели, но и тут все в порядке: площадки аккуратные, по краям — насыпь, не растечется жидкость, если загорится вдруг. Кругом площадки транспаранты: «Не курить!», «Огня не разводить!». Напротив площадки хибарка стоит, от прежнего хозяйства осталось. Сносить ее собирались, да строители, что вторую очередь котельной достраивали, уговорили. Хранили они в ней разную мелочь. Окинули все взглядом и в машину сели — как вдруг Витя в крик и за хибарку побежал. А там строители костер развели, греются — дело-то зимой было. Кричит Витя, слова свои матерками пересыпая, штрафами грозит. Он опять же прав, да и нарушения первым заметил, но и тут не поддержал его Морозов.
Подошел, послушал Витю и говорит, а тон — кругом ровно холодней стало:
— Боец Косов, займите свое место в машине, с нарушителями я сам разберусь. — А на обратной дороге добавил, что, мол, позорите вы, Косов, честь и звание пожарника.
* * *
Вот так и жили. Зима прошла, весна наступила. Любо вокруг, тепло. Нет тепла только между ними… А тут и пожар случился. До тех пор, кроме будок, ничего и не горело. Новеньких, что о пожарах спрашивали — часто, мол, бывают, — по три раза плюнуть заставляли; чепуха, конечно, но все спокойнее.
А загорелась та самая хибарка, которую ломать собирались. Небольшой подвальчик там был, ветошь промасленная и вспыхнула.
Караул у Морозова — одно отделение, и то неполное.
По тревоге вчетвером выехали. Кроме Морозова и Косова — студент Саша Глазков, Шаламай его на работу принимал, да шофер Истомин — тоже ни на одном пожаре еще не был.
Пожар-то небольшой, кабы наверху — и машины не надобно, такой костерок и звено пионеров затушит. Но в подвале любой пожар опасен. И не огня тут порою бояться приходится, а дыма. Чего не вытворяет он с пожарными да погорельцами. Только затушат иной подвал и жильцы — кто с разрешения, а кто и тайком — по квартирам разбредутся: на одежду да вещи свои посмотреть, а уж тут он себя и покажет. Прогорит ли перекрытие или пожарные по надобности пол вскроют, а только вроде бы и не тушили — дыму до девятого этажа, да чем выше, тем гуще. А с девятого этажа не больно прыгнешь и лестницу тоже специальную надо. Не сладко в подвалах и пожарным. Температуры высокие, а дышать нечем. В иных подвалах и отравиться можно — чего там только не держат!
Витя Косов знал все это, не раз задыхаться ему приходилось, и как только приехали да развернулись — тут же крик и устроил:
— Я, — кричит, — в подвал не полезу. У нас КИПов — кислородных противогазов, значит, — нету!
— А объект кто тушить будет? — спокойно спрашивает Витю Морозов.
— Пропади он пропадом! Тряпье тут одно, — кричит Витя. — А без КИПов не положено! Военных вызывайте. У них противогазы — пусть и тушат.
— Хорошо, — так же спокойно говорит Морозов. — Вот вы в военную часть и звоните.
Убежал Витя… Телефон — вон он, в цеху, рядом. И минуты не бегал, а дело-то уж и вышло. Да что минута: жизнь, иной раз, за секунду крутой разворот делает.
Так и тут. Прибегает Витя, а из подвала уже не жарким воздухом да горелыми тряпками шибает — тянет оттуда дымовая завеса. Морозова с Глазковым не видать, шофер Истомин у насоса мечется, что делать — не знает.
— Где они? — кричит Витя, хоть и понял уже кое-что.
— В подвал спустились, — тычет пальцем Истомин, а уже и тыкать некуда: не то что подвал — всю хибарку дымом заволокло, пальца у насоса не видать. — Малый ствол прихватили и спустились. А потом я пять атмосфер дал, как приказано было.
— Мать их так! — не удержался Витя. — И веревку с собой не взяли?
— Не взяли, — мечется все так же Истомин.
— Стой! — рявкнул на него Витя. — Давление сбрось, ни к чему оно им сейчас. Платок носовой есть?
Взял Витя платок, свой достал, смочил, к носу приложил и в дым нырнул.
Ждет-пождет Истомин. Секунда вечностью кажется. Вдруг видит, выползает из дыма кто-то. А это Витя, да не один, а с Глазковым.
— Рядом со стволом лежал, — встает Витя, а сам пошатывается и глаза красные. — А начальства нету — видно, боцман в стороне где-то.
Хлебнул Глазков свежего воздуха, заворочался вроде. А Витя снова платки смочил и говорит Истомину:
— Как не выйду я — в подвал ни ногой: чую, ядовитые газы имеются. Приедут военные — по рукаву пусть и ползут — может, только и успею разыскать да к рукаву подтянуть.
Успел Витя больше — нашли их потом недалеко от входа. И совсем хорошо было бы, небольшим отравлением отделались, да сделали примчавшиеся военные маленькую оплошку — разбили первым делом окна в подвале, чтобы того же Морозова с Косовым быстрее разыскать. Но как окна разбили, да свежий воздух вовнутрь хлынул, так и бабахнуло. От взрыва хибарка совсем накренилась, падать стала, а потом и вовсе рухнула.
Морозова с Витей нашли быстро. Боцман не пострадал вовсе: успел Витя его к стене подтащить да своим телом прикрыть.
А Витя погиб — балкой его придавило.
Потом, конечно, комиссий понаехало: кто прав, кто виноват, да взрыв от чего случился. Со взрывом быстро установили — карбид для сварки там имелся. Как только тушить стали, он зашипел, а потом и взорвался.
Ну, а кто виноват в гибели Вити — Морозов ли, что без разведки карбид поливал, строители, которые в подвале этот карбид хранили, — с этим долго разбирались. Но не в этом соль. Имелся, главное, в Вите стержень — мохом оброс, закостенел, но имелся. Не разглядели тот стержень ни товарищи, ни боцман, ни жена, может быть. Лишь Шаламай только чуть ухватил… Поняли это все и на похоронах ожидали, что Шаламай многое о Вите скажет. Но Шаламай одну фразу и сказал всего:
— Боец Косов пожарником настоящим был.
И тут, кто на Шаламая смотрел, глаза поопускали — по лицу его, на деревянную скульптуру похожему, слезы побежали. Стареть майор стал, а может, Витин случай войну ему напомнил, друзей погибших.
— Дайте каску, — еще сказал Шаламай. Принесли каску Витину, измятую, черную. Положил ее Шаламай на свежий бугорок и рукой махнул.
Ну вот и все. Так и похоронили Витю Косова, человека пьющего, зануду и трепача, но кто об этом сейчас помнит. Да, никто! По последнему дню только и судят о нем, вспоминая. Такая уж у людей память однобокая: хорошее — помни, плохое — забудь!
1977 г.
СУВЕНИР Рассказ студента
Маленькое предисловие автора
Этот рассказ написан почти двадцать лет тому назад. Он прост, наивен и не без художественных грехов. Многое изменилось с тех пор. Изменились мы, изменился мир… Мы уже не строим коммунизм и не призываем к этому все человечество… Но двадцать лет тому назад все это было. Был чилийский путь развития, был китайский, был вьетнамский. Мы орали: «Куба си — янки но!» и были счастливее любого американца. Кончается кровавый афганский «путь», навязанный нами и поддержанный нами. Не исключено, что в ближайшее время может закончиться и социалистический путь Кубы. Двадцатый век — век политических бесов, урывающих власть, — подходит к концу. У человечества, оказывается, всего лишь один путь — именно человеческий, гуманный.
Но тогда, двадцать лет назад, наивный автор написал наивный, первый рассказ. Рассказ наивен, но за судьбами вымышленных героев — чилийских мальчиков, привезенных в СССР и оставшихся (вернее, оставленных) после прихода Пиночета к власти в нашей стране, — подлинная трагедия, трагедия разных «путей», разделенных миров…
02.05.92 г.
Последний раз в Пригорске я был два года тому назад вместе с Майклом.
Широкая асфальтовая дорога, по которой мы ехали, лишь касалась Пригорска, автобус был проходящим, нас довезли до развилки, и шагать пришлось через весь городок.
Стояла ранняя осень. Но в этом южном городке еще долго-долго будет лето.
Стемнело. Воздух остыл и сделался чуть влажным. Лишь асфальт дышал теплом. Мы шли по окраинной улице, освещенной редкими фонарями да иногда пробивавшимися сквозь листву снопиками лучей от окон. У рекламной тумбы Майкл остановился. На афише крупными буквами было написано от руки:
10 сентября
ФУТБОЛ
СССР — Гвинея-Бисау
(Школа-40) (СПТУ-10)
— Широка страна моя родная, — сказал Майкл, разглядывая афишу. — На Урале идет снег, а здесь пахнет фиалками и негры из Бисау готовятся разгромить пригорских школьников.
— Ну, уж нет, — разумеется, я защищал родную школу. — Мы всегда выигрывали. И в пятьдесят девятом — у китайцев, и в шестьдесят первом — у кубинцев. Думаю, выиграем и в семьдесят третьем — у этих гвинейцев из Бисау.
— Да-а-а, — глаза у Майкла загорелись. — Футбол я смотреть не собираюсь, но увидеть живого негра… А кто сейчас еще учится в этом СПТУ-10?
— Мать писала, чилийцы должны были приехать.
— Через четыре дня улетаем, — Майкл отошел от афиши. — Можем и не встретить…
— Встретим, — пообещал я, — и, может быть, даже сейчас. Это тебе не Челябинск: здесь дальше Дома культуры да парка не разгуляешься, а нам как раз по пути.
Парк возле Дома культуры встретил нас приглушенными звуками музыки, доносившейся из глубины, да шелестом листвы пирамидальных тополей, охраной выстроившихся по обе стороны парка.
Мы стояли у входа.
— Может, не будем заходить с рюкзаками? — спросил я. — Да и мать ждет. Я ж ей телеграмму давал.
— Только на одну минуту, — попросил Майкл, — а вдруг встретим. Знаешь, когда на лекциях слушаешь о Чили, чилийском пути развития, как-то все суховато. А тут настоящие чилийцы. И, наверное, бывали в пампасах и видели койотов. Помнишь, как в «Детях капитана Гранта»?
— Помню, помню, — сказал я, — смотри сюда.
Из парка выходили двое парней. Длинные иссиня-черные волосы, смуглые лица, яркий цвет одежды… Парни, поравнявшись, прошли мимо.
— Чилийцы? — Майкл смотрел им вслед. — Ты что-нибудь знаешь по-испански?
— Нет, — сказал я, — а зачем тебе?
— Зачем, зачем… Ну… обменяться сувенирами. Обсувенириться. А ты тоже хорош. «У нас в Пригорске кубинцы, чилийцы», а слова по-испански сказать не можешь.
— Не ругайся, Майкл, — смеясь, сказал я. — Вспомнил! Амиго — друг, значит. Но постой, ты что дарить собираешься?
— А вот, — Майкл уже откалывал значок целинника. — Всесоюзный студенческий отряд. 1973 год. Чем не сувенир?.. Эй, ребята, стойте! Амиго! — Со значком в руке Майкл догонял парней. — Амиго!
Парни обернулись, и мы подошли к ним. Оба были очень молоды. Им было на вид лет четырнадцать-пятнадцать.
— Вы вправду из Чили? — спросил Майкл.
Тот, что был поменьше, с хрупкой, еще не сложившейся фигурой, улыбнулся и стал быстро говорить, взмахивая руками.
— Да. Мы — Чили, — подтвердил другой парень. У него было простое, даже чуть грубоватое лицо. Но густые длинные волнистые волосы, обрамлявшие его большие блестящие глаза, смягчали резкость черт.
— Слушайте, ребята. Мы издалека. С Урала. Студенты. — Майкл крутил в руке значок. — Давайте знакомиться. Меня зовут Миша. Михаил Белых. Правда, все почему-то зовут Майклом. А его, — Майкл указал на меня, — Алексеем. А вас как зовут?
Ребята молчали. Тот, что был пониже, опять улыбнулся и что-то сказал.
— Вот и поняли друг друга, — Майкл обращался ко мне. — Я слышал, их сначала русскому учат. Или в Пригорске преподавание ведется на испанском?
— Кое-что они понимают. Вот он, например, — кивнул я на того, что был повыше ростом. — Ну и ты молодец тоже. Столько рассказал, сразу не схватишь. Говори коротко и четко, подкрепляй слова жестами, тоже четкими и, я думаю, поймут.
— Попробую… — Майкл потоптался на месте. — Меня зовут Миша. В общем, Майкл. А его — Алексеем.
— Короче и жесты, — попросил я.
— Короче, короче. Что же это за разговор? Ну ладно. Майкл! — От тычка себе куда-то в область желудка он даже прогнулся. — Алекс!
На всякий случай я тоже прогнулся в пояснице.
— О! Майкл! Алекс! — ребята разом заулыбались. Затем маленький ткнул себя в грудь таким же лихим жестом, как Майкл:
— Хосе!
— Артур, — представился второй. Его глаза блестели.
— Слушай, а как же сказать им, что мы хотим обменяться сувенирами? — Майкл опять закрутил значком.
— Покажи значок и скажи просто: «Сувенир».
— Мы хотим обменяться с вами значками в знак дружбы. Сувенир! — У Майкла явно был талант коллекционера сувениров.
— О! Сувенир! — Хосе стал что-то горячо спрашивать у Артура, а затем оба развели руками.
— Извинит. Сувенир — нет! Сувенир — там! — Артур показал в глубину парка.
У Майкла был вид лошади, которую стали останавливать на полном галопе.
— Да, да. Нет сувенир, — Хосе виновато разводил руками.
— Не повезло тебе, Майкл, — сказал я. — Обсувенирились они. У нас в Пригорске такие коллекционеры!
— Да… — Майкл, кажется, совсем остановился. — Извините, ребята. Э, да что там. Держи, Хосе, — он протянул свой значок. — Между прочим, отряд наш называется «Дружный». Вкалывали, что надо.
— Нет, нет, — Хосе отчаянно размахивал руками.
— Берите, — я протянул свой значок Артуру.
— Спасибо. Много спасибо, — взяв его, сказал Артур.
Я взглянул на Майкла. Тот неловко пытался приколоть значок к рубахе Хосе.
Я помог ему, и мы разошлись.
Майкл шел чуть впереди. Вдруг он обернулся и что-то хотел сказать мне, но не успел.
— Друзья, — это кричал Артур, — стойте! Сувенир! Сувенир!
Они подбежали, и Хосе протянул Майклу руку. На ладошке что-то блеснуло.
— Сувенир! Милесимо[3]. Милесимо Чили, — сказал Артур, показывая на маленькую ладошку Хосе.
— Спасибо, — сказал я и посмотрел на Майкла. Он уже вертел в руках монетку, и ему было явно не до меня.
* * *
— Ну вот и прощай, Кубань, — Майкл глядел в окошечко самолета, когда через четыре дня мы улетали в Челябинск. — Прощайте, чилийцы. Славные ребята! Жалко их. Только приехали и случись же такое. Матери, отцы там, а они здесь. Да, нелегко будет.
— Нелегко, — согласился я. — Только что их жалеть, они сами кого хочешь пожалеют. Вспомни, какие у них были лица на митинге. А как они скандировали: «Вива Чили!», «Вива Альенде Сальвадоре!» Они произносили эти слова, как клятву. Да, наверное, так оно и было. Они клялись на верность той, своей Чили. И уверены они, что «это» ненадолго.
Мы помолчали. Внизу спичечными коробками медленно проплывали домики, сверкали серебром лиманы и озерца. Отсюда, от этой высоты появлялось ощущение, что во все происходящее на Земле можно вмешаться, можно поправить, что там, на Земле, все должно быть хорошо.
Не знали тогда Хосе и Артур, что «это» окажется живучей. А главное, «это» питалось кровью, не могло существовать без крови. Так уж «это» было устроено.
* * *
Автобус, на котором я ехал в этот раз в Пригорск, был «заходящим» и, добираясь до автостанции, он долго петлял по улицам, часто останавливаясь и высаживая пассажиров.
«Жаль, Майкл не смог лететь, — думал я. — Вывихнуть ногу в последний день работы!»
Утром, в Челябинске, перед тем, как уезжать в аэропорт, я зашел к нему. Дверь открыла его младшая сестренка.
— Здравствуй, Катерина, — сказал я, — ну, как там больной, дышит?
— Дышит, дышит, — бойко ответила Катя, — и даже прыгает.
— Как дела, Майкл? — спросил я, пожимая ему руку. — Катерина говорит, что ты уже прыгаешь?
— Дела, дела, — вид у Майкла был мрачный. — Вот ты еще неделю гулять будешь, а тут… — Майкл махнул рукой, помолчал и добавил: — А в общем, ничего страшного. Никаких там трещин нет, врач мне снимки показывал, опухает только, ну, да мне мать компрессы кефирные делает, здорово помогает. А ты, значит, летишь?
— Лечу, — сказал я, — надо мать повидать, уже два года дома не был, все стройотряды да стройотряды.
— Лети, лети, — Майкл встал с постели и допрыгал к «своему» шкафчику.
В этом шкафчике он хранил сувениры. А их у него было немало: элегантные сувениры из Москвы и Ленинграда, целый хоровод матрешек, ракушки с черноморских курортов. Было здесь и ожерелье, которое Майкл выпросил у старика-чукчи, когда наш стройотряд работал на Чукотке. А по краям шкафчика висела гордость Майкла — пара настоящих, новых («нехоженых», говорил Майкл) лаптей. Привез он их из Коми: мы там работали на Печоре. Где Майкл раздобыл эти лапти — для меня до сих пор загадка. Взяв что-то в шкафчике, Майкл протянул сжатый кулак.
— Отгадай, что здесь? — он посмотрел на меня и разжал пальцы. На ладони сверкнула монета. Это было милесимо, которое подарил ему Хосе.
Майкл проковылял обратно к постели, помолчал, а потом сказал:
— Знаешь, нога не в счет, сам виноват, а в общем, мне везло эти два года, просто чертовски везло. Везло во всем, за что бы ни брался. В спорте, учебе… И знаешь, отчего? У меня появился талисман, и он помогал мне. Милесимо, которое мне подарил Хосе, обладает таинственной силой… Хочешь — верь, хочешь — нет. Однажды я не взял его на экзамен и — «завал», а ведь учил, учил все три дня. Конечно, я не верю ни в какую чудодейственную силу. Главное, что-то случилось со мной. После той поездки я по-другому стал относиться к себе, к жизни. Вот ты улыбаешься, не веришь, а недавно со мной случай был. Еду в троллейбусе. На заднюю площадку детина вваливается и давай ругаться. Матерно и грязно. Я обычно не реагировал, но теперь перед глазами Хосе, Артур — и никакого страха. — Майкл замолчал.
— Ну и чем закончилось? — спросил я.
— Да чем… Стоило мне начать, а там помогли. Вытолкали детину взашей. — Майкл посмотрел и улыбнулся. — Вот так. А милесимо… Милесимо отдай все же Хосе… Оно ему сейчас нужнее.
…На предпоследней остановке перед автостанцией я сошел. В Пригорске наступал тихий, так похожий на тот — двухлетней давности — южный вечер. Было немного душновато. Но я знал, что это ненадолго. Быстро наступит темнота, а вслед за ней придет свежесть чуть разбавленного запахом невидимых цветов воздуха.
От остановки до дома, где жила мать, было совсем недалеко: квартал домов да небольшой сквер, по краям которого росли пирамидальные тополя. Я шел по скверу, и тополя не замечали меня — маленького человечка.
— Здравствуйте! — сказал тополям я. — Не узнали. Мы вас сажали всем третьим классом. А я посадил тебя, вот который второй с краю. И тогда мы были одного роста с тобой, а теперь в темноте я не могу разглядеть твоей верхушки, да и тебе с высоты не разглядеть меня.
Но тополь узнал меня и зашумел листьями…
Окно нашего маленького домика светилось. Стало немного грустно. Оттого, наверное, что жила мать одна, что вот только я у нее, да и то не с ней.
* * *
Артура я встретил на третий день. В нашем парке. Он шел мне навстречу, и я бы не узнал его: он стал совсем взрослым парнем. Но я взглянул на него и вспомнил эти блестящие глаза.
— Артур, — негромко окликнул я.
Он внимательно посмотрел на меня, и я понял, что он меня не помнит.
— Извини, — сказал я ему, — ты забыл нас, то есть меня. Да, в общем, это и немудрено — случайная встреча. Со мной был мой друг. Хосе подарил ему милесимо. Сейчас я покажу его. Вот, — на раскрытой ладони у меня сверкнуло маленькое милесимо.
— О, — сказал Артур, — я вспомнил. Всесоюзный студенческий отряд, 1973 год! А почему твой друг не с тобой? — Артур говорил по-русски правильно и почти без акцента. — Его звали… — он чуть помедлил, — Майкл!
— Он вывихнул ногу. Ничего страшного. Но лететь со мной не смог. А где Хосе? — в свою очередь спросил я. — Майкл просил передать привет с Урала и вот это. Майкл утверждает, что монета обладает таинственной силой.
— Это милесимо случайно тогда затерялось у Хосе, — Артур грустно рассматривал монету. — Наше милесимо. Милесимо свободной Чили. Такого нет ни у кого из наших ребят. — Артур замолчал.
Молчал и я. Молча мы вышли из парка и остановились.
— Долго тебе еще учиться в институте? — нарушил молчание Артур.
— Год, — сказал я. — Уже совсем недолго.
— И кем станешь?
— Инженером-строителем.
— Хосе тоже мечтал учиться в институте, — сказал вдруг Артур. — Хотел стать агрономом.
— Почему «мечтал»? — спросил я. — По-русски правильнее сказать «мечтает». Милесимо будет ему кстати. Майкл утверждает, что оно помогает сдавать экзамены. И хорошо, что мечтает.
— Мечтал! — Артур смотрел в сторону. — Мечтал, — повторил он тихо. — У него было такое славное сердце, но такое слабое, и оно не выдержало, когда он узнал, что его родители погибли, там… в Чили…
Артур возвратил мне милесимо и снова замолчал. Потом он спросил:
— Отец и мать, наверное, рады, что ты приехал?
— Да, — сказал я, — только у меня одна мать.
— У меня там тоже одна мать… и маленькая сестренка. — Он посмотрел на часы. — Мы только что вернулись с производственной практики. Убирали рис. Вкалывали, — он чуть улыбнулся, — что надо. Сегодня экзамен…
— Счастливо тебе, Артур, — сказал я ему на прощанье.
— До свидания, — попрощался он, — а знаешь, я тоже решил стать агрономом. Мне это пригодится там. Я в это здорово верю.
Он уходил…
— Постой, Артур, — крикнул я ему. — Возьми это, — и я протянул ему милесимо.
— Спасибо. Много спасибо, — наверное, он шутил. Чуть-чуть. Наверное, вспомнил нашу встречу, первую…
Перед поворотом он оглянулся и махнул рукой. Глаза его, кажется, блестели больше, чем обычно…
1974 г.
ВРЕМЯ В ТУМАНЕ Повесть
«…довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать — это мы сами не даем! Пригнемся еще, подождем, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов».
А. Солженицын. «Жить не по лжи!»Часть I. АННА
Глава 1
Казалось, ничто не изменилось за эти прошедшие годы в его родном приморском городке. Так же молодцевато топорщился вокзал. Это было серо-синее, сложенное из нездешних хорошо отшлифованных плит двухэтажное здание. Вокзал не мог быть старше самой железной дороги, но колонны, подпиравшие широкий балкон, узкие длинные окна второго этажа, витая лестница, начинавшаяся из зала ожидания, где были расставлены мощные деревянные скамьи, — все это делало его загадочным, словно вышедшим из средневековья. В узких длинных окнах второго этажа никогда не горел свет, и Крашев никогда не видел людей, идущих по винтовой лестнице. Наверное, это было не так, наверное, там были просто складики, где хранились железнодорожные билеты или еще что-то в том же роде, и, наверное, вся эта таинственность была не от самого вокзала, а от давних детских воспоминаний, и ничего не стоило узнать и о возрасте, и о плитах, и о втором этаже, но Крашев знал, что ничего этого делать не будет, — ему нравился этот периферийный, старомодный франт.
Ощущение того, что он в родном городке, приходило во всякий его приезд по-разному. Иногда оно возникало при виде гор и нескольких тоннелей, которые проныривал поезд, иногда от неожиданно возникающего моря, а почти всегда от этого старого вокзала.
Сейчас же волнения, какого он ожидал, не было. «Старею, что ли?» — Крашев усмехнулся и, по выработавшейся у него профессиональной привычке (последние пять лет он работал директором небольшого, но солидного завода на Урале) — всему давать место и все подводить под общий знаменатель, решил додумать: «Так отчего же не волнуюсь? В самом деле от того, что мне уже за сорок, или от чего другого?..» Под общий знаменатель не подводилось. «А может, просто недоспал?» И он, еще раз оглядев так знакомый вокзал, неопределенно шевельнул рукой, взял вещи и, развернувшись, бодро зашагал к центру городка, где жила его мать.
За вокзалом дома стояли россыпью, а в двух-трех местах дорога шла через дубовые рощицы, и Крашев, войдя в первую из них, вспомнил, как играл он здесь в детстве с друзьями, как лазили они по гибким, прочным дубовым веткам, когда можно было висеть на самой тонкой из них, зная, что она не подведет тебя, не хрупнет, не сломается, как какая-нибудь груша. Еще он вспомнил, как шел по этой тропке однажды ночью. Ему было лет тринадцать-четырнадцать. Стояла поздняя осень. Ветер шуршал опавшими листьями. Раскоряченные стволы дубов нависали над тропкой, а в глубине рощицы что-то чудилось, мерещилось… И как хотелось убежать к домам и идти в обход…
Чуть самодовольно он улыбнулся: «Дошел, не убежал». И чувство неопределенности, появившееся у него на вокзале, стало проходить.
А вот его школа. Она была лет на пятьдесят моложе вокзала, но что-то их роднило: какая-то архитектурная франтоватость, вычурность. И как тогда строили? Ну зачем эти два огромных шара у входа? Да и что это? Напоминание школяру, что земля круглая? Но почему тогда этих шаров два?.. А эти каменные часы на фронтоне, всегда показывающие восемь? Упрек опоздавшим?
А вот за школой старый финский, покрытый красной черепицей островерхий дом. Все еще стоит. Здесь жил учитель рисования и его дочь Анна, и он, Крашев, был в нее влюблен. Да-а-а… Течет время… Когда это было? Лет двадцать пять назад? И они ходили вечерами по этой улице, а там в конце, на окраине, где не было фонарей, целовались… Крашев усмехнулся… А потом он уехал в Москву, в институт. А она осталась. И вышла замуж за его друга детства. Где они теперь? Мать писала, что уехали куда-то на Север…
Да-а-а… Бежит время… А вот через несколько домов должна показаться и маленькая, поблескивающая стеклянной верандой хатка его матери. Хотя несколько лет тому назад мать написала, что собирается что-то строить. Зачем ей, шестидесятилетней, что-то строить или перестраивать? Он ничего не понял и примерно так и написал. Мать ничего не ответила, и он, зная ее характер, решил не вмешиваться, но стал посылать деньги, — всего, впрочем, наберется не очень крупная сумма…
Перед отъездом он послал телеграмму — мать ждала его, он знал об этом, и ему захотелось быстрее попасть в старую хатку, чмокнуть мать в щеку, чуть переждать, — мать всегда плакала при встрече, — сесть за самодельный некрашеный стол, стоящий на веранде, — мать поставит «своего» вина и какую-нибудь закуску, о которой на Урале не слыхивали: соленые баклажаны-синенькие или еще что-нибудь такое, и они выпьют и поговорят.
После того, как он закончил институт, обзавелся семьей, а главное — успешно стал двигаться по работе, он любил поговорить с матерью в такие вот приезды. Когда он учился, времени на такие приезды и разговоры все не хватало, хотя суеты тогда было меньше. А может быть, и поэтому…
Сейчас ему особенно хотелось на веранду, за старый стол, выпить вина, а мать делала отличное вино!.. И сказать ей, что у него событие — его переводят в главк, а главк в Москве! Семья уже в Москве.
Для него это — рубеж. И итог… Даже если дальше не продвинется, и это уже кое-что. Москва… Заместитель начальника главного управления… Звучит! А почему не продвинется? Ему всего лишь сорок два! Где-то он читал, что англичане в эти годы только начинают карьеру делать.
Он и на самолете не полетел. Куда торопиться? Итоги надо подводить не спеша. Да и нравился ему этот путь. Из Азии в Европу… Потом к Волге… Куйбышев, Саратов… За Саратовом, на маленькой станции, он купил две дыни, а чуть раньше — огромный, до безобразия, арбуз. Дыни всем купе тут же съели, а арбуз он привез матери — таких огромных здесь не было. Арбуз он купил случайно, где и остановки-то не было. Какой-то полупьяный парень из соседнего купе, севший в Саратове, сорвал стоп-кран. Все возмущались, потом, обнаружив, что поезд стоит рядом с уходящей к горизонту бахчой, уговорили двух дряхлых стариков-сторожей продать арбузы. Тащили почти даром приобретенные арбузы и, смеясь, советовали пьяненькому чудаку сорвать стоп-кран у бахчи с дынями. Тот, высунувшись в открытое окно, хмуро и зло смотрел на бахчу, на суетящихся людей и что-то шептал, а через полчаса опять тормознул поезд. Бахчи с дынями не было, и от нечего делать пассажиры напали на парня. Прибежали разъяренные машинист с бригадиром и составили акт. Крашева попросили подписать, и он, пройдя в соседнее купе, уже внимательно посмотрел на худощавого, совсем молодого парня, пьяно размазывающего текущие из глаз слезы. Крашев подумал, что слезы от акта, но парень не обращал никакого внимания на пассажиров, на машиниста с бригадиром, а затуманенными глазами смотрел куда-то в окно и, раскачиваясь, повторял:
— Она меня не любит… Она меня не любит…
— Полюбит, полюбит, — сказал машинист. — Вот в милицию сдадим — и полюбит.
Недалеко от Петрова Вала, совсем уже пьяный, парень дернул стоп-кран опять.
Теперь его уже чуть не побили. Но парень не защищался, а все повторял, что она его не любит.
В Петровом Валу парня увели. Он еле шел, почти висел на руках уводивших его сержантов, а на выходе оглянулся, и Крашев увидел, что губы его что-то шепчут. Наверное, все то же…
О парне вспоминали до самого Волгограда — кто весело, кто сердито, а седой, высокий старик из второго купе сказал задумчиво:
— Это какая же она стерва, что он из-за нее так убивается…
А вот и Волгоград… И весь вагон, все пассажиры наваливаются на правую сторону, а над тобой, над поездом, над всем городом висит фигура Родины-матери, и все, забыв о пьяном парне и арбузах, прилипают к окнам и застывают в оцепенении: и старые и молодые; ярые картежники бросают свои неловленные мизера и даже упившиеся, очумелые за два-три дня пути отпускники трезвеют и молча провожают взглядом этот призыв, эту мольбу, эту ярость и эту защиту…
А потом и юг, настоящий юг, когда начинает пахнуть курортами, горами, морем. И начинается он от какой-то неуловимой черты за Сальском, хотя и пирамидальные тополя, и виноградники, и хутора с белыми чистенькими хатками были и раньше.
И вот Краснодар… Чувствуется, что море рядом, не за горами, хотя по-настоящему оно как раз за горами и до него еще больше сотни километров. Но разговоры только о море, теплоходах, причалах, штормах, норд-остах, а иной пьяненький отпускник начнет рассказывать, как прошлым летом, в тихую, ясную погоду, с высокой скалы в двенадцатикратный бинокль он разглядывал берега Турции.
Такие разговоры напоминали Крашеву детство. Сколько лет прошло, а отпускники не меняются. Все так же плохо плавают, сгорают на солнце и почти все с высокой скалы, в ясную и тихую погоду разглядывают Турцию. И обязательно в бинокль с двенадцатикратным увеличением. Правда, лет тридцать назад Турцию разглядывали в артиллерийские бинокли…
Да, итоги надо подводить не торопясь… И он уже медленно пошел по дорожке-тротуару, вглядываясь в соседские дома, скрывающиеся за плотной многоярусной зеленой завесой цветов, кустов сирени, местной вишни-«шпанки» и грецких орехов.
Следующим домом должна была быть маленькая хатка матери, и он, сбившись с мерного шага, невольно подался вперед и вдруг увидел небольшой, но крепкий кирпичный дом. Судя по широкой, вдающейся вовнутрь антресоли, под крышей дома была мансарда. Фронтон крыши и мансарды, перильца антресоли были не крашены, а обожжены и покрыты лаком. Белые, наверное, на извести, полосы расшивки, водосточные трубы по углам, густо украшенные цинковыми узорами и петухами, веселое, легкое, тоже из обожженного дерева, крылечко справа — все это делало дом таким симпатичным, что он невольно застыл, любуясь домом, а потом, в глубине, заметил и хатку рядом с новым домом, теперь уже похожую на сарай.
Дверь хатки отворилась, во двор вышла мать и засеменила к калитке.
— Сы-ы-нок. Сынок приехал, — шептала она. Он целовал ее мокрые щеки, разволновавшись, и не только от встречи, но и от того, что вспомнил, как в семнадцать лет эти же слезы раздражали его, и в двадцать семь — смущали. Никогда до конца не узнаешь и не поймешь свою мать, пока и сам не станешь отцом, и твой ребенок, переболев всеми детскими болезнями и набив множество синяков и шишек, в один день вдруг став самостоятельным и взрослым, не уедет в спортивный лагерь, не соберется в неведомый тебе турпоход, смущаясь и раздражаясь перед расставанием от твоей заботы о нем, тревоги и твоей непонятливости.
Когда, развернувшись, они пошли к хатке (мать еще жила в ней), Крашев полуобнял мать, еще раз поцеловал и тут только почувствовал, что он дома.
Глава 2
Пока мать хлопотала в совсем крошечной кухне — что-то доставала, жарила, — он отворил калитку и прошел в виноградник.
Вставало солнце… Природа разрешалась от своего бремени, и, хотя сейчас, в это раннее утро, было прохладно, чувствовалось, что часам к одиннадцати все будет охвачено летним зноем и все вокруг: и этот виноградник с начинающими перезревать ягодами, и громадный грецкий орех, плоды которого беспрестанно стучали по бетонной дорожке, расхлестывая пожухлую кожуру, и красные, мясистые помидоры, тяжко склоняющие стволики куста, — все это будет шептать в сладкой истоме: возьми меня, человек, испробуй меня…
Крашеву захотелось сделать то, что он не делал много лет, — походить босиком. Он снял туфли, скинул рубашку и, подставив нежаркому солнцу белые, мощные плечи, вышел из виноградника. Виноградник был ухожен — чист и прополот, но дальше, наверное, у матери не хватило сил — зеленый дерн плотно лег на землю. Роса еще не высохла, играла изумрудными огнями, ступням было холодно и сыро, но он шел, почти не отрывая ног от мягкой, обволакивающей травы.
— Простынешь, — сказала мать, заглянув за виноградник. — Летом надо было приезжать, а сейчас осень… Иди кушать, сынок. Остынет… — Она перекинула в руках тряпку и покачала головой, укоряя себя и извиняясь за запущенный участок, и, развернувшись, хлопотливо пошла к маленькому сарайчику за хаткой — еще что-то искать и готовить.
…Дверь в новый дом была открыта, и он вошел. Поперек входного коридорчика шел еще один — широкий и похожий на небольшое фойе; а от него входы в три комнаты: налево — в большую, направо — в две поменьше. Прямо за коридором-фойе была кухня, чуть сзади ванная и туалет, а от середины убегала вверх деревянная лестница. Перила ее тоже были обожжены и покрыты лаком.
Крашев постоял, потом поставил босую ногу на нижнюю ступень, подумал, глянул вверх, но подниматься не стал, надел рубашку, вышел из дома, посмотрел еще раз со стороны, усмехнулся и, пробормотав: «Хоромы», — нагнувшись, прошел на веранду хатки.
Старый, мощный, еще отцом сделанный стол был уставлен тем, что ему хотелось: горячими варениками с творогом и сметаной, жареной кефалью, громадными гроздьями винограда, который мать называла то бычьим глазом, то воловьим оком. Было еще сало, домашняя колбаса, соленые синенькие, о которых он вспоминал всю дорогу.
В середине стола стоял графин с гордостью матери — вином. Хорошее ли оно — в семнадцать лет об этом он не думал. Слава богу, что мать позволяла иногда выпить рюмку, другую. А в тридцать лет, после того, как он напробовался, а иногда и упивался портвейнами и солнцедарами, он уже знал, что вино у матери хорошее. За последние десять лет пить ему тоже пришлось немало. И хотя на банкетных и праздничных столах бутылок с солнцедарами не было, однажды он понял, что самодельное, подкрашенное сладковатым гибридом, дающим изумительно рубиновый цвет, вино матери — лучшее из того, что ему пришлось пробовать до сих пор.
В меру крепкое, чуть пахнущее изабеллой, лишенное кислятины или явного алкоголя, и это вино было хорошим, но что-то мешало ему просто и спокойно сидеть с матерью, нахваливать ее вино, пробуя синенькие и жареную кефаль.
Маленькая хатка была глубоко упрятана в огород, и отсюда, из веранды, видна только задняя стена нового дома. Красный кирпич в этой стене не такой отборный, как на фасадной, и расшивка чуть пляшет в такт коряватым, отбитым граням, но и с этой стороны дом красив.
Теплый южный ветер повернул форточку, зайчик скользнул по его глазам, и Крашев понял, что все дело в этом доме. Он все рушил в его планах. Итога не получалось. Этот симпатичный дом сам был итогом. Еще в Москве, перевезя семью в двухкомнатную квартиру, где мебели после уральской — трехкомнатной — было тесновато, он подумал о матери, вспомнил маленькую хатку и понял: вот сдаст все дела на Урале и — в родной городок. Приедет… Посмотрит… И предложит матери продать полуземлянку. Хатке — грош цена… Но до моря двести метров, виноградник, грецкие орехи… Тысяч десять взять можно, а то и больше. И в Москву с матерью. Конечно, в квартире станет еще теснее. Но тем больше шансов получить трехкомнатную. В главке он человек новый и надеяться не на что. За просто так трехкомнатную ему никто не даст. Начальников отделов он знает хорошо. Многие думают, что и двухкомнатная для него — подарок, впрочем, как и Москва и должность заместителя.
После третьей рюмки он взглянул на новый дом, поморщился и спросил:
— Зачем ты построила этот дом?
Мать, словно ожидая этот вопрос, ответила сразу:
— Хочу, чтобы ты жил в нем, сынок. Рядом со мной. А когда помру, ходил ко мне на могилу… И к отцу… — добавила она, чуть помолчав. — Он так мечтал о таком доме.
Крашев ожидал каких угодно ответов матери. Что ей надоело жить в полуземлянке, что стыдно от людей, что надоело топить дровами (в новом доме был газ) и носить воду из колонки. Он готов был выслушать даже про уборную за виноградником. Все это было объяснимо, и на все у него уже родились ответы. Тоже простые и логичные, доказывающие ненужность материнской затеи.
Ответ матери — неожиданный, спокойно произнесенный, — серьезность и простота, с которой она говорила о себе, об отце, о смерти, сбили его. Неужели он не знал и не знает свою мать? Что же он вообще о ней знает?.. Что бабка матери была гречанкой, а мать, спокойная, даже медлительная, совсем не походила на темпераментных греков, которых в городке была добрая половина. Что в десять лет мать осталась сиротой с целой кучей младших сестренок и братишек, и их воспитывала та самая бабушка-гречанка, а когда матери было шестнадцать и умерла бабушка, то и она сама. А потом началась война и мать ушла добровольцем. Стирала, мыла, убирала в прифронтовом госпитале, вытаскивала раненых с поля боя. Все это он узнавал не от матери — о войне она никогда не вспоминала. Но у нее была фронтовая подруга — Ксения, нервная, сухонькая женщина, курившая папиросы одну за одной. Ксения жила в Новороссийске и часто к ним приезжала. После нескольких рюмок вина курила еще чаще; нервными, дергаными движениями подносила папиросы к ярко накрашенным губам. Его она раздражала. Раздражали ее нервность, ее вычурные фразы, которые она любила произносить, едва захмелев. Одну из них, странную и непонятную, он помнил до сих пор. Выпив рюмку, другую, Ксения нервно, ломая спички, закуривала папиросу, пускала дым меж ярко-красных тонких губ и, ударив вот по этому старому столу маленьким своим кулачком, восклицала:
— Цветы цветут среди бушующего моря — только раз!
Что хотела сказать Ксения? В семнадцать лет он об этом не думал. Считал дурью нервной женщины. А в двадцать семь, когда его сыну было уже шесть лет, вместе с матерью они ездили в Новороссийск. Ксения умерла два года тому назад. По дороге с кладбища сошли на Малой земле. Вокруг стояли большие дома, некоторые еще строились. Они подошли к одному из котлованов. На отсыпанной земле Крашев увидел рваные ржавые кусочки металла. Он поднял маленький, острый кусочек. Крашев давно, чуть ли не с таких лет, сколько сейчас было его сыну, научился разбираться в этих кусочках. Это были осколки мин.
Они прошли к самому морю. На берегу была выставлена военная техника, защищавшая город и порт, и его сын, завизжав, стал носиться от одного катера к другому, а он и мать подошли к цветку-стеле, сложенному из собранных на Малой земле осколков. Внизу были большие — от бомб, потом поменьше — от мин и снарядов, а повсюду маленькие — от гранат. Цветок был много выше его, а надпись говорила, что все это с одного квадратного метра.
— Вот это и были ее цветы, — сказала мать. — Среди бушующего моря… Здесь вот все это и было…
Мать помолчала, а он смотрел на цветок, и ему вдруг захотелось закрыть его собой, заслонить, чтобы его визжавший сын не увидел сразу столько смертей и не узнал, какая от какого осколка…
Что он еще знает о своей матери? После войны, устроившись в строительное управление, она проработала в нем до пенсии. Он уважал мать, а ее стойкости и воли — не внешней, открытой, а внутренней — даже завидовал, но иногда, как и Ксения, она его раздражала. Раздражение это было от того, что мать очень часто поступала непонятно для него, нелогично. Ее поступки были непонятны для него, как непонятны были фразы Ксении.
Ну почему мать не пошла работать медсестрой? Она говорила, что не может смотреть на кровь. Но сколько же она ее увидела на войне?.. Смогла же работать медсестрой Ксения. А мать работала на стройке… Маленьким, когда ему было совсем скучно, он бегал к ней… Кранов тогда не было, тачки с раствором мать катила на второй этаж по узкому деревянному настилу. Он чувствовал, как тяжела тачка, как трудно матери, и хотелось пробежать по прогибающемуся настилу и хоть немного — там, наверху, у второго этажа — помочь ей. А потом он вспоминал ее споры с Ксенией, ее отказы идти работать в больницу, и, как и сейчас, мать была непонятна ему и раздражала его.
Позже он стыдился бедности и убогости маленькой хатки, и опять ему было непонятно: почему же мать не продаст или просто не бросит их хатенку (о деньгах он тогда не думал, да и у людей в те времена не было дурных денег покупать такую конуру) и не станет жить в двухэтажке, как та же Ксения? Но мать так и не бросила и не продала…
Умер отец, вырос он, Крашев, вырос сын у него, и вот мать на старости лет опять толкает тачку, мешает раствор, штукатурит, белит, красит…
Все эта рассуждения не текли и не мелькали в его сознании, а тяжело давившим комом пухли у висков. Как сказать матери, что жизнь для него в этом городке — смерть… Да и что он тут будет делать? Солить селедку на местном рыбзаводике? А может, устроиться завхозом в одну из шикарных гостиниц, понастроенных на другом берегу их бухточки? Больше тут делать нечего!.. Раздражение все больше охватывало его. Но он быстро с ним справился. Он найдет выход. А пока надо осмотреться. И не спеша обо всем подумать. И он спокойно сказал:
— Ну, мать, спасибо за хлеб-соль. У тебя я тут совсем заемся. — Помолчал и спросил, купаются ли еще в море.
— Свои-то уже откупались, — отвечала мать. — А приезжие все полощутся.
— Так я приезжий, — он засмеялся и, уже совсем веселый, встал из-за стола…
Глава 3
Странно и другое, думал Крашев, шагая к школе, где был маленький проулочек, ведущий к морю. Почему мать сама не хочет уехать? Неужели ей не одиноко? Раньше хоть Ксения приезжала, а теперь?.. Еще летом — отдыхающие, но скоро мертвый сезон — и только ветер будет свистеть в дубовой роще… Да-а-а… Периферия… Нет, начни он жизнь сначала — все равно уехал бы из этого городка… Вот и школа… Нелепые шары, каменные часы… И здесь он получил золотую медаль. А ведь он колебался… Нет, что он уедет, он знал точно. И даже знал куда — в Москву, но в какой вуз? Правда, его это особенно не тревожило. К этому времени он уже многое знал и умел. Занимался спортом и имел разряды по борьбе и легкой атлетике. Многие удивлялись — это было несовместимо, но это было так. Отлично плавал и неплохо играл во все, во что можно играть: в футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Любил рисовать и ходил в изостудию. В школе висели две его копии с картин Левитана, и многие говорили, что они хороши. С восьмого класса летом он работал с матерью на стройке и уже к десятому мог завести угол кирпичного дома, сделать опалубку под фундамент и медленно, но ровно оштукатурить стену. Крашев сам удивлялся своей ненасытности. Он строил модели планеров и самолетов, которые летали и не летали, два года ходил в городскую станцию юных техников и, кажется, классе в пятом, не разбираясь еще толком в электричестве, конденсаторах, полупроводниках, сделал детекторный, безламповый приемник, а затем и с двумя лампами. Он много читал. Мать ничего в этом не понимала и не мешала, библиотекари тоже — и он сам научился разбираться и лавировать в мощном книжном потоке, который пропускал через себя.
Книги заставляли его строить какие-то планы, мечтать, о чем-то догадываться, иногда краснеть… Из книг он понял, как прекрасен и жалок, как велик и ограничен мир, в котором он живет. Как загадочно и непонятно то, что взрослые называют жизнью. Дав человеку жизнь и разум, природа не рассказала, как всем этим пользоваться. И человек доходит до этого сам. И, может, именно от этого — он человек?! Но эта мысль пришла к нему много позже, а тогда он вбирал несущуюся к нему жизнь, все ее оттенки и нюансы. И каждый день был нов и неповторим. В его воспитании не было никакой системы, скорее всего, не было никакого волевого воспитания, и очень часто он вообще ничем не занимался, а носился, стараясь не попасться на глаза матери, по стройкам, играл в «войну» с друзьями в дубовой роще, потом до изнеможения купался на городском пляже, а иногда просто хулиганил, угоняя лодки местных рыбаков-любителей.
Класса до четвертого он верил, что никогда не умрет, и что-то такое осталось в нем до сих пор… Но какая-то излишняя логичность набухала в нем уже тогда. Сказка, где герой получает волшебную палочку, которой можно воспользоваться только три раза, умиляла его. Как все просто… Прикажи в самом начале, чтобы была еще одна волшебная палочка с каким хочешь числом желаний, — вот и все. Он был самым сильным и самым быстрым, но заводилой не был никогда. Он был осторожен, но не труслив. Будучи излишне логичным, в то же время он знал: в нем есть что-то такое, что называют то интуицией, то шестым чувством, то просто внутренним голосом. В этом он убеждался не раз.
…Где-то лет в тринадцать он с другом наткнулся в горах, недалеко от их городка, на заброшенный блиндаж. Порывшись, они нашли штук пять мин и после недолгих разговоров решили взорвать их. Разложили костер, аккуратно вставили меж наломанных сучьев старой лесной груши грязноватые мины и залегли в полуоткопанном блиндаже. Всем этим командовал коренастый, очень сильный Васька Ширяев, по кличке Ширя. Костер, взвив высокое пламя от сгорающих сухих сучьев, понемногу затих. Они лежали, ожидая и уже не ожидая взрыва. Стояла ранняя весна… Недавно прошел дождь. Им надоело лежать на сырой, в нескольких местах ржавой, только что откопанной блиндажной глине, и Ширя, поглядывая на струящийся вверх тонкий голубой дымок, решительно встал и, расставив свои кривоватые ноги, пошел по скользкой глине к костру. Ширя уже сделал несколько шагов, когда что-то (он до сих пор не знает, что же конкретно: осторожность, трусость, а, может, то самое внутреннее чувство) заставило его встать и, бросившись к другу, сбить его. От неожиданности и от своего внутреннего упрямства Ширя свирепо сопротивлялся. С первого класса они с Ширей ходили в секцию борьбы. Это была классическая борьба, называемая раньше французской, со всеми ее многочисленными запретами и ограничениями: ниже пояса не брать, подножек и подсечек не делать, на горло не давить, и еще много чего запрещалось в ней. И Ширя — этот местный предводитель, организатор драк и мелких хулиганств — был в то же время и великим законником по части уличных правил: лежачего не бить, камнями и палками не драться, группами на одного не нападать. И напасть на Ширю сейчас сзади и захватив его ноги, подвернуть их — это было неслыханно, но что-то неуловимое в нем требовало это сделать. И Крашев, тихо проскочив пять шагов, отделявшие его от друга и предводителя, резко, как на борцовском ковре, упал, сгреб ноги Шири в охапку и рванул на себя.
Уж тогда Ширя борцом был классным. И, еще не понимая, кто и зачем делает ему такой дикий, запрещенный прием, падая, он сумел перевернуться на бок и выдернуть одну ногу. Изумленно-яростно он увидел, кто это, и, резко повернувшись на спину, стал выдергивать вторую ногу, и в это время ухнул взрыв…
Домой они шли тихие, полуоглохшие, впервые близко-близко прикоснувшись к понятиям «война», «смерть», а перед глазами у них стояла, побитая осколками, старая груша, и першило горло от пепла разметенного костра…
Глава 4
Море было еще теплым; целенаправленно загорать, даже прожив двадцать лет на Урале, Крашев так и не научился, и сейчас он отводил душу: плавал до изнеможения, далеко заплывая от песчаного низкого берега городского пляжа, — благо ни спасателей, ни буйков уже не было.
Потом резво выскакивал на берег, падал на тепловатый песок, подгребал его под грудь, под руки, огребал им бока, ноги и застывал, чувствуя, как его большое тело всасывает тепло песка, отдавая взамен соленую прохладную влагу.
Порхающий по пляжу ветерок, временами совсем по-летнему знойное солнце сушили песок, навевали какую-то дремоту, отсутствие желаний. Песок сох, налипал на тело, стягивал кожу, и вот уже хотелось освободиться от него, и он сбрасывал охватившую его лень, вскакивал и, отряхиваясь, бежал по пляжному мостику, все быстрее к концу моста, а потом нырял, чувствуя, как теплая соленая вода легко и быстро смывает налипший на тело песок. Вынырнув, он отфыркивался и опять плыл чуть ли не на середину их небольшой бухточки, радуясь, что нет буйков и спасателей.
Собрался он домой, когда стало совсем темно. Из-за моря дохнул теплый ветер. Он медленно шел, подымаясь к школе, поправляя совсем теперь жесткие от морской воды густые волосы. Крашев немного устал, но его мощное, ловкое тело мягко двигалось по неровному переулку, и он, как в детстве или ранней юности, почти не ощущал его. «На Урале все грехи и заботы оставляют в бане, а здесь — в море», — подумал он, улыбаясь и себе, и морю, и вернувшемуся хорошему настроению…
Переулок у школы вливался в улицу. Крашев уже повернул налево, домой, но ощущение легкости, в котором он находился, чего-то давнего, забытого, чуть щемящего сердце, заставило его пройти дальше, за школу, где стоял школьный дом. На старом, таком же дряхлом, как сам дом, столбе висел фонарь, ливший жидкий, желтый свет на чистый дворик, на цветы, но на сам дом его сил не хватало, и дом был упрятан в темноту, лишь мягко и смутно отсвечивали стекла веранды. Пахло увядшими розами.
Здесь жила Анна. Жил ее отец. Девочка, с которой он ходил по этим улицам, и школьный учитель рисования. За эти прошедшие годы он приезжал в городок раза три-четыре… И ни разу не встретил ни Анну, ни ее отца. А, может, не хотел встречаться. Обиделся, что Анна вышла замуж за Ваську Ширяева — Ширю, закадычного друга детства. А потом Анна с семьей куда-то уехала… Ему захотелось увидеть Анну… Он совсем забыл ее лицо. Только тоненькая фигурка и длинные пепельные волосы стояли у него перед глазами. А лицо он забыл, совсем забыл…
Вдруг на темной веранде открылась дверь, и маленькая, лет шести девочка, озираясь, наверное, играя с кем-то, тихо спустилась по ступенькам и спряталась за угол дома. Она была совсем рядом, и Крашев стоял, не шевелясь, боясь испугать девочку. Когда же он решился уйти, из открытой двери, так же бесшумно и привычно сбежала девочка-подросток. Быстро и серьезно заглянула она за один угол, другой, нашла маленькую, завизжавшую от того, что ее искали и нашли.
Едва чуть ошеломленный шумом и визгом Крашев успел отступить в тень, как на веранде зажегся свет, и молодая женщина в светлом халате вышла на крыльцо.
— Где же вы? — спросила она. — Разбу́дите всех…
— Здесь она, мама, — устало и серьезно ответила девочка-подросток, не отпуская смеющуюся и вырывающуюся маленькую. — Убежала вот, спать не хочет…
— Катюша, ты будешь спать? — женщина спустилась с крыльца и подошла к дочерям.
— Буду, буду, — отвечала маленькая звонким и громким голосом.
— Когда же ты будешь?
— Когда ты расскажешь историю.
— Но я уже рассказывала.
— Ты рассказывала сказку. Это не бывает — я знаю… А я хочу историю про меня, про Клаву, про тебя. Историю, которая будет…
— Ну хорошо. — Смеясь, женщина подняла на руки маленькую и, целуя и что-то уже рассказывая, понесла на веранду.
Тихо и осторожно пошел Крашев от так знакомого, совсем дряхлого дома, от чистого дворика с кустами роз, лишь в последний момент догадавшись, что перед ним была Анна…
Ужинали они с матерью почти молча. Встреча с Анной взволновала его. И не оттого, что Крашев не думал ее увидеть, и даже не потому, что молодая женщина совсем не походила на ту тоненькую Анну, с которой он когда-то целовался, а чем-то другим, от чего сжимало сейчас его грудь и заставляло вспоминать о далеком-далеком: о том, что они учились в одной школе (Анна училась годом позже), у одних учителей, что ходили по одной улице, играли в игры, в которые уже давно не играют. Она — его детство, его юность…
Где-то здесь, в этом столе, Крашев складывал небольшие этюды, картины. Как это было давно. Он открыл дверцу справа. Ножи, ложки, блюдца… Слева тоже… А вот внизу ящик. Тут уже другое. Его учебники, какие-то тетради. Подарок Анны — набор открыток. И с десяток небольших картонок. Чисты и хорошо сохранились. Берегла мать… Вот дубы, раскинувшие свои корявые ветви над тропинкой, вот штормовое море, бьющее волной в высокую скалу, а вот и то, что он искал: Анна, идущая по узенькому мостику-кладке. Тоненькая фигурка, распущенные светлые волосы, прядь, приподнятая легким ветром, закрывшая лицо… А помнит ли она его? Неужели и она забыла его, забыла его лицо. Но так же нельзя. Так можно забыть все: забыть улицу, по которой ходил в школу, забыть игры, в которые играл давным-давно, так можно забыть себя…
— Анечка, — негромко сказала мать, заглядывая через его плечо. Крашев вздрогнул. — Анечка… — повторила мать уже грустно и покачала головой, рассматривая фигуру на кладке.
— Я никогда не говорил тебе, что это она. Откуда ты знаешь? — он вскинул голову.
— Ах, жалко, жалко… — все так же покачивая головой и не слушая его, говорила мать. — Ах, жалко…
— Что же ее жалеть? — Он словно отстаивал какую-то свою мысль. — Живет, как все: замужем, дети, на Севере денег, небось, кучу заработали.
— Эх, какие деньги?.. Какой Север?… — мать присела на стул, но глаза ее искали фигурку Анны. — Какой муж? Это Васька-то?.. Был муж, да весь вышел… Пьяница, подзаборник.
— Но ты же мне писала, что они на Севере.
— Уезжали… — вздохнула мать. — Да куда с таким-то… А на Север-то она с горя да от позора решилась. Да с таким суженым и там не больно весело… Уже месяца два, как вернулись. Хорошо, хоть школьный дом никому не пришелся, а то и жить негде было бы… Ах, Анечка, Анечка… — Мать говорила еще о чем-то, наверное, ругала Ширю, но он уже ничего не слышал, спеленатый свалившимся на него стыдом и мучительной жалостью к тоненькой фигурке на кладке и к женщине в светлом халатике, и безуспешно пытался соединить их воедино…
— Ты бы зашел к ним, — услышал он голос матери. — Вы же с Васькой друзьями были. Погонял бы его. Разбудил… Хотя… — она покачала головой, безнадежно и тяжело махнула рукой. — Вряд ли… Но сходи…
— Схожу, мать, обязательно схожу, — тихо, но твердо сказал Крашев.
Глава 5
Так как был обычный будничный день и около десяти часов утра, то Крашев настроился на встречу с Анной. Но в школе, где Анна работала и куда он зашел, ее не было. Узнав у молодого деловитого завуча, что уроки у Анны позже, Крашев медленно пошел к старому школьному дому.
Как и много лет назад, ни кнопки звонка, ни собаки здесь не было, и Крашев все так же медленно прошел мимо кустов роз и нерешительно постучал в стеклянную дверь веранды.
— Чего стучишь? Иди сюда, — раздался откуда-то сбоку голос, и тогда, обернувшись, он увидел поставленную между нескольких густо обсыпанных плодами деревьев беседку и сидевшего в ней друга детства — Ширю…
Крашев сидел рядом с Ширей, глядел во все глаза и не знал, чему удивляться: неожиданной встрече, виду друга детства или тому, что тот в такое раннее утро («рабочее», — подумал Крашев по своей директорской привычке) был явно пьян.
Потом, сообразив, что возможности напиться с утра у жителей этого утопающего в виноградных лозах городка иные, чем на Урале, уже спокойней посмотрел на Ширю.
Что перед ним Ширя, он догадался сразу, еще по голосу. Но, наверное, это было единственным, что не изменилось в нем за минувшие годы. Вместо упругого, сбитого, немного неровно скроенного, любящего одеваться в модное, заграничное, Васьки Ширяева перед Крашевым в майке и старых, потрепанных брюках сидел лысый толстый человек с неимоверно огромными и жирными плечами, поросшими редкими длинными волосами. Несмотря на то, что человек был пьян, тусклые, подтечные глаза его смотрели цепко, а чуть косоватый рот ухмылялся. На миг Крашеву показалось, что это какая-то кукла, пародирующая друга детства; кукла, на которой подвели, подчеркнули, выпятили все нехорошее и некрасивое, что чуть-чуть, еле-еле намечалось в семнадцатилетнем Шире, и убрали, затушевали все здоровое, доброе, хорошее…
— Ну, вот и явление Христа… — сказал Ширя, ничуть не удивившись появлению Крашева, лишь неровно ухмыльнулся. — Хотя тот являлся чаще…
— Так уж пришлось… — проговорил Крашев, словно оправдываясь, все еще ошеломленный и внезапной встречей, и изменившимся видом друга, и его странным равнодушием. — Но ты ведь тоже не заходил, а бывал и в Москве, и на Урале.
— Бывал, бывал, — чуть растягивая слова и все так же косо улыбаясь, сказал Ширя. — Я везде бывал… И в Нью-Йорке, и в Токио… И в Москве, и на Урале… А зайти не заходил — это верно…
— Ну, вот не заходил, — сказал Крашев бодрым голосом. — И я не заходил. — Ему показалось, что говорит это за него кто-то другой, а на него самого наваливалось странное, какое-то злое, безрассудное чувство. Он вспомнил, как стоял вчера у калитки под дряхлым столбом с тусклым фонарем, вспомнил женщину в светлом халате, детей и понял, что зло и дико завидует и ненавидит эту бесформенную пьяную глыбу. И ревнует. Захотелось сказать что-то злое, обидное, и, понимая, что говорит он глупо, что к людской злости Ширя, наверное, давно глух, а обидное вовсе не замечает, продолжал:
— И не зашел бы, честно говоря, да мать просила. И не Христом к тебе являться надо, а…
— А чертом, дьяволом, сатаной… — рассмеялся Ширя мелким, захлебывающимся смехом, невероятно перекосив свой рот. — А я и сам не хуже черта… — Он совсем захлебнулся от шутки. — И в самом деле черт. Сейчас вот лесорубом работаю — больше никуда не берут, так лесной черт и есть — лесовик. Вот так вот. Дубки в горах на экспорт валим. — Он посмотрел на Крашева посветлевшими глазами. — У старой груши, рядом с блиндажом. Помнишь?.. Мы взрывали мины, и ты спас меня…
— Помню, — сказал Крашев, чувствуя, что злость уходит из него. — Глупость какая. Взрывать мины…
— А взрывали… И ты клал мины в костер. И мы лежали в блиндаже… А потом ты спас меня. Я помню…
— Глупость, — повторил Крашев. Жалость охватывала его. — Разводить костры и взрывать мины — какая глупость!
— А потом мы выросли и разъехались. Помнишь, как мы провожали тебя: твоя мать, я и Анна. Я боролся в Киеве и еле успел. Прилетел в Сочи, гнал такси и еле успел. Дешевые были тогда такси… Помнишь?
— Не помню. — Крашев не давал жалости охватить его. — Не ездил тогда на такси. А вот что борцом ты классным был — помню. Но был… А кем стал?
— Спасибо, хоть это помнишь.
Ловко управляя своим громадным телом, Ширя метнулся к ближним кустам, достал наполовину опорожненную большую стеклянную банку с красным вином, медленно и церемонно поставил ее на стол, принес второй стакан.
— Прячу, — сказал он, наполняя стаканы. — Анна ругает, старшая воспитывает, скоро Катерина начнет… Ну, выпьем. За встречу, за молодые годы. — Большими жадными глотками Ширя опорожнил свой стакан, налил еще, опять так же жадно выпил, ухватил ягодку на столе, понюхал и, поморщившись, спросил: — А может, ты тоже меня ругать пришел? Вот и стакан не берешь?
Обоюдный порыв сентиментальности прошел. Ширя наполнял свой стакан, а Крашева опять охватывала сжимающая горло злость.
— Тебя не ругать, тебе морду бить надо, — резко сказал он, понимая, что говорит это от злости, охватившей его. Шире ничем не помочь. Ни руганьем, ни битьем. Ах, как жалко Анну и детей. Он вдруг вспомнил мать и как вчера вечером она стояла у него за спиной, разглядывая тоненькую фигурку на кладке и качая головой, говорила что-то грустное, жалостное. — Именно по морде, — Крашева прорвало. — По твоей тухлой, жирной харе. Пока в разум не войдешь… Анна его ругает. Да ты ей всю жизнь испортил. Ей и детям.
— А, бей… — глухо сказал Ширя. — Если сможешь. Бей чемпиона России! Вчера лесорубики, втроем, с топорами, тоже хотели… Сейчас еще, небось, ребра щупают. — Он медленно поднимался, нависая над Крашевым жирной грудью и закрывая выход из беседки своей страшной спиной. — А Анну не трогай! — захрипел он. Громадная, мясистая рука с растопыренными короткими пальцами потянулась к Крашеву. — Анну не трогай! Ты ее попользовал и бросил. Не нужна стала… Мразь… Директор мыльного завода… Марионетка… Нижних давишь, под верхними гнешься. Да лучше я с лесорубами сгнию. И по такой воши она до сих пор страдает. Бей чемпиона России! Не можешь? Директор мыльного завода. А я вдарю…
Его пальцы, сжавшись, ухватили рукав рубашки.
Ошеломленный нависшим над ним громадным телом и ненавистью, изливающейся из перекосившегося рта, Крашев застыл, а потом, чувствуя, как рука неумолимо подтягивает его к столу, неистово дернулся, оставив в сжатом кулаке пестрый лоскут.
Громадное, жирное тело, с неимоверно широкими плечами и маленькой лысой головой, не удержавшись, мягко плюхнулось на стол, и Крашев в ужасе оттого, что это тело может вновь подняться, а рука опять потянуться к нему, замахнулся и ударил по затылку, по тому месту, где начинали расти волосы, а потом ударил еще и еще…
Он опомнился, когда подходил к своему дому. Развернулся и побежал назад. «Идиот! Так ведь и убить недолго», — мелькнуло в голове. Но он еще не мог оценить всей серьезности и тяжести мелькавших мыслей, и единственным сильным желанием его было посмотреть на Ширю. Что с ним?
Борясь с подступившей к горлу тошнотой, Крашев толкнул калитку и увидел Ширю, склонившегося под стол и тупо рассматривающего разбитую банку и пролитое вино, кровью окрасившее бетонный пол беседки.
Глава 6
Крашев сидел на верхней скамье небольшой трибуны городского стадиона, смотрел на аккуратное зеленое поле, на котором когда-то гонял мяч, на четко размеченную дорожку, по которой столько раз бегал, и неясные, тоскливые мысли рваными лоскутами бродили в нем… А когда-то они с Ширей выступали в одном весе… Хотя какой там вес и какие выступления?.. Их еще и до соревнований не допускали. Сколько же они тогда весили? А ведь он вспомнил! Весили они по тридцать шесть килограммов, и до соревнований их еще не допускали. А вот в показательных они выступали. И еще как выступали! Люд их городка после майских или ноябрьских демонстраций не разбегался кто куда. Все шли сюда, на этот стадион. И мест хватало всем… Играл духовой оркестр. Пели и танцевали городские таланты… В небольшой раздевалке под этой трибуной ждали своей очереди и они. Подогнаны трико. На ногах не кеды или тапочки, как обычно на тренировках, а настоящие кожаные борцовки. Бог весть, где и как их достали. Они уже размялись, еще раз «прокрутили» всю «программу», и теперь Крашев сидит на скамье, а неугомонный Ширя все еще борется с невидимым противником: делает захваты, переводы, подставляет бедра, сбивает в партер. Если бы бетонный пол раздевалки был не так холоден и чуть чище, похоже, Ширя боролся бы и в партере.
Но вот громкое объявление по стадиону, негромкое: «Давайте, ребятки!» — тренера, и они неторопливо и солидно (борцы!) бегут в центр зеленого поля — там борцовский ковер…
Показательные выступления не борьба, а игра… Вот они уже стоят на тщательно заправленном ковре, упираясь друг в друга руками, а потом начинают двигаться по ковру, и тот поддается их такому малому весу, морщинится, и, на миг забывшись, Ширя по-настоящему, сильно и цепко тянет его к себе, но тут же вспоминает о «программе» и ослабляет свой захват. А по «программе» первый прием делать ему, Крашеву. И он готовит его: пружинит мышцы, упруго ставит ноги и чуть затаивает дыхание. А стадион молчит. Все немного утомлены демонстрацией и сейчас просто отдыхают, равнодушно поглядывая на двух маленьких пацанят, толкающихся в середине футбольного поля. Но вот все готово, и Крашев проводит «вертушку». Это очень эффектный прием, но, борясь по-настоящему, его никогда нельзя сделать правильно. Даже самый слабый начнет дергаться, тянуться, и можно довести «вертушку» до конца, можно «дожать» и победить, но эффектно провести — почти никогда! Но сейчас совсем другое дело, и Крашев, чувствуя послушное, податливое тело Шири, четко и быстро взвивает это тело вверх, потом тянет его вниз, и уже там, внизу, у ковра, теперь сам помогает Шире. Помогает не плюхнуться, не опуститься как попало, а так же эффектно и красиво «смостить» — сделать мостик и не коснуться лопатками ковра. И кто знает, что тяжелей: провести прием или, сгруппировав свое тело, четко смостить? Но Ширя мостит так красиво, что равнодушие трибун, особенно у мужской половины, — немного пропадает. А вот уже делает «бедро» Ширя, и тоже красиво и четко, а он, Крашев, тоже мостит, правда, новые борцовки едва не подводят его, одна нога срывается, но Ширя помогает, помогает незаметно для зрителей, ведь для всех остальных они борются по-настоящему.
А на трибунах оживление и разговоры. И они слышат это оживление, оно им просто необходимо, и они уже ловко и быстро, сами увлеченные этой борьбой-игрой, носятся друг возле друга, проводят захваты, переводы, нырки, «сбивают» друг друга в партер, а там они тоже знают много приемов: ключи, накаты, подрывы и их тоже проводят чисто и быстро, но ни разу ни одна из их худых, торчащих лопаток не коснулась ковра. Многие на трибунах поняли, что это игра, иные и нет, но все уже улыбаются, увлеченные движениями маленьких, гибких тел, кричат, давая советы и подбадривая то одного, то другого.
Заканчивали они свое выступление в партере. Один из них — обычно это был Ширя — прямо из стойки делал мост, а Крашев, обхватив его посередине, старался «дожать». Но вот и Ширя обхватывает его; небольшой рывок — и два их сцепленных тела, перекатившись, чуть застывают, но уже на мостике — он, Крашев, а потом опять рывок — и уже внизу Ширя, а потом опять он. И так, сцепившись, помогая друг другу, они катятся через весь ковер, и опять ни одна из лопаток не касается его, а потом они вскакивали, смущенно кланялись и бежали в раздевалку, слыша аплодисменты трибун и голос комментатора, объявившего, что победила дружба…
Дружба… Да, они были друзьями. И дружили… И боролись… И шутливо, как на праздниках, а потом и всерьез. И лазили по стройкам, боясь натолкнуться на мать Крашева. И угоняли лодки рыбаков. И однажды наверху, в горах, в заброшенном блиндаже, они нашли мины и решили их взорвать. И какая-то непонятная интуиция помогла ему спасти Ширю. Так отчего у Шири эта злость? И эти оскорбления? Марионетка… Слово-то какое… Он что — банановый король? Марионетка… Марионетки так не поступают и так не живут. Это он, Крашев, сам, по своей воле уехал учиться, это его воля заставила выдержать самую трудную, первую московскую зиму. А ведь еле выдержал. Не ожидал, что будет так тяжело. А потом? Это он сам, именно сам, организовал студенческий отряд в далекую Коми АССР. И заработал деньги… Но дело даже не в деньгах… А тут — директор мыльного завода. И эти глупые слова об Анне. Да, они были близки. Но это Анна не захотела ехать в Москву, а осталась здесь, в городке. Не-е-ет… Надо выкинуть из головы глупые слова глупого, пьяного Шири. Так почему же ты не можешь это сделать? Тебе — за сорок… И сколько за это время ты услышал и глупого, и обидного. А вот сейчас не можешь забыть… Может, оттого, что говорил их друг детства? А, может, в этих словах есть такое, что ты боишься трогать, вспоминать?
Он сидел на стадионе долго. Пылавшее днем солнце, наверное, вспомнив, что уже осень, поостыло и, склонившись к морю, поблескивало в тончайших нитях плывущей паутины… Крашев знал, что мать ждала его, но идти домой не смог. Он встал, посмотрел еще раз в центральный круг зеленого поля, и его неудержимо потянуло вдруг на кладбище — к могиле отца.
Глава 7
Крашев шел по центральной аллейке кладбища, удивляясь тому, что никак не может выйти на боковую тропу, ведущую к знакомой могиле. Отца он совсем не помнил. Ему было два года, когда тот умер. Последний год перед смертью отец провалялся в больницах. С матерью он часто приходил на могилу, в их хатке были фотографии отца; и, не зная отца, не помня, как тот болел и умирал, в детстве он не тосковал по отцу. От могилы, к которой он привык, от фотографий, от частых разговоров, рассказов матери было ощущение, будто отец где-то рядом, и он никогда не думал, что он безотцовщина…
Наконец после нескольких попыток он нашел могилу и опять удивился, как изменилось кладбище. За эти годы оно продвинулось вперед, а он искал, не думая об этом. Тополя у входа стали мощны и дородны. Появилось много новых оградок и памятников. У отца не было ограды. Только скамейка и стол. И небольшой обелиск со звездой и фотографией. Обелиск был старый, но чистый и недавно крашенный.
Здесь лежал его отец — человек, который дал ему жизнь, но которого он совершенно не знал. Какой он был? Мать говорила, что веселый, смелый. Любил выпить ее вина. Был бы жив — помог разобраться в том, что происходит? Крашеву захотелось поговорить с отцом, чтобы тот его послушал и понял. И говорить все-все, не скрывая и не храбрясь… Он посмотрел на фотографию. Юное безусое лицо. Лихая кепка, начищенные сапоги, неизвестный Крашеву значок на пиджаке, еле различимая дата внизу — 1938 год. В этом же году его призовут в армию, а там финская, потом Отечественная, ранения и госпитали… Встреча с матерью в одном из них… Победа… И вот последняя дата — на маленьком обелиске со звездой…
Сколько лет отцу на этой фотографии? Двадцать? Ему, его сыну, сейчас вдвое больше… Как бежит, летит время!.. Как хрустят временами и кости и душа под тем, что называется жизнью… И горькое чувство одиночества охватило его. У него есть мать, жена, сын, закадычный друг детства, и в то же время как он беспредельно одинок. Есть, оказывается, в мире вещи, которые нельзя поправить. Ах, если бы жив был отец… Но это никогда не будет… Сын вырос… С женой они давно вежливо-равнодушны. С другом он только что безобразно подрался. Мать не хочет и, похоже, никогда не уедет из этого города. У него, Крашева, своя дорога, своя жизнь, и он настолько врос в нее, что тоже не свернет… И так будет идти время… И рано или поздно умрет мать. И он похоронит ее — вот здесь, где столик и скамейка… И станет еще более одиноким и еще более деловым…
…Наступал вечер. Зашелестели жесткими осенними листьями тополя. Кладбище заполнялось легким сумраком.
Крашев встал и пошел к центральной аллее, но перед тем, как повернуть направо — к выходу, остановился и посмотрел в конец. До последней могилы было метров пятьдесят и… сорок лет от того места, где он стоял. Здесь лежали его земляки. Иных он знал когда-то, многие знали его… И всех их уже нет…
Он повернул налево и медленно пошел в конец кладбища, заглядывая на кресты, памятники, читая надписи, вспоминая, а больше не помня умерших…
Стемнело… С моря поползли холод и сырость. Почти в последнем ряду стоял, обычный теперь, мраморный памятник. Крашев чуть задержался, читая надпись… Это был мужчина, и умер он года три назад, а памятник — это было видно — поставили совсем недавно. Крашев наклонился и внизу, у самого изголовья, прочел: «Любимому папе от дочери Анны». Обыкновенные слова, на обыкновенном памятнике… Он повернулся и, поеживаясь от холода и кладбищенской тишины, пошел к выходу, но вдруг надпись на камне опять высветилась в его мозгу, заставила повернуться, а еще через мгновение он понял, что перед ним могила его школьного учителя…
Глава 8
Школьная кличка его была Водолаз. Она настолько шла к нему, что за глаза так его звали и многие взрослые: кто от простоты, а кто от лени. Уже после школы Крашев узнал, что учитель и в самом деле был водолазом. В уже освобожденном Севастополе, при ремонте торпедного катера, его накрыло бомбой. Он выжил, но от страшной контузии руки и ноги стали двигаться тяжело, рывками. Был он высок, толст, лыс, с большой крупной головой. Когда его тяжелая фигура, странновато двигая руками и ногами, плыла по тротуару, он и впрямь был похож на водолаза.
Водолаз был учителем рисования и черчения, а кроме того, школьным фотографом. В школьные годы ни черчение, ни фотография Крашева не интересовали, но рисовать он любил и, может, поэтому, классе в шестом записался в изостудию. А, может, оттого, что в изостудию, а попросту в маленький кружок рисования, который вел Водолаз, ходила его дочь Анна? Может быть… Но ему было тринадцать, ей — двенадцать, и он даже себе в этом не признавался…
Насколько хорошо Водолаз рисовал, настолько плохо вел уроки. Его доброта, нелепая походка, заикание, развившаяся с годами глухота — все способствовало этому. На его уроках разрешалось все: садиться как угодно и с кем угодно, громко разговаривать и даже осторожно — осторожность эта была от страха натолкнуться на завуча или директора — убегать из класса. Занимались рисованием несколько человек — те, кто хотел. Крашев рисовал, но частенько в веселые весенние денечки, когда из открытых окон доносились крики пацанят, пинавших мяч в школьном дворе, или звонкое цоканье теннисного шарика, — тоже сбегал и, красный и потный, возвращался только к концу урока. В классе оставалось иногда человека два-три…
Прогульщиками или лодырями Водолаз никогда не занимался. Они для него не существовали. Похоже, всех людей он делил на тех, кто может рисовать или хотя бы интересуется живописью, и на тех, кто в этом ничего не понимает. Последних он просто не замечал.
В изостудии было совсем другое. Это был кружок единомышленников. И Водолаз все слышал, все видел и все подмечал. Даже жесты рук его становились величаво плавными, когда, оговорив со студийцем преимущества и недостатки, он подправлял деталь его пейзажа или натюрморта.
Сам Водолаз рисовал акварели. Рисовал упоенно и помногу. Обычно это были пейзажи, реже виды моря, но никогда что-то связанное с войной. Как и у матери Крашева, у Водолаза тоже была аллергия к крови. Окончив очередной пейзаж, выставлял в одном из углов изостудии, где было что-то вроде выставки, и, наклонив голову, внимательно глядел на губы говорившего. А говорить разрешалось все: вплоть до предположений и явной ахинеи.
Крашев, как и Анна, писал маслом. Вернее, пытался. Обычно это была мазня… Но к концу десятого класса, наверное, что-то удалось… Он вспомнил, как внимательно разглядывал его картонки Водолаз, говорил о том, что надо учиться, и еще о чем-то… О чем? Это он забыл…
В тот год и мать, и Водолаза, и всю живопись мира заслонила Анна… Он видел и слышал только ее…
…Через маленькую калитку в конце кладбища Крашев вышел на тропинку, проходившую по пустырю, заросшему репейником, высокой травой с острыми, как пила, листьями и громадными, похожими на стожки колючего сена, кустами ежевики.
Стало совсем темно. Замерцали звезды… Он шел, стараясь не зацепить репьи, не порезаться о ежевичную лозу, но что-то мешало его ловкому, сильному телу… Какая-то тяжесть легла на душу, давила где-то у сердца… Крашев хорошо знал этот предкладбищенский пустырь, где от суеверия, а может, по каким другим причинам, никогда не пахали, не сеяли и ничего не садили… Пустырь был небольшой. Короткой была и эта тропинка, выходившая к морю, но сейчас она показалась Крашеву много длинней и запутанней, чем прежде. А ведь по этой тропинке они гуляли с Анной вдвоем, и хотя и тогда, два десятка лет тому назад, тропка была такой же колючей, они ни разу не укололись и не спутались…
Крашев хотел повернуть назад, но понял, что не сможет пройти мимо могил учителя и своего отца… Ему вдруг показалось, что поверни он назад — они встанут из своих могил — громадные, высокие — и вытолкнут его опять сюда, на эту короткую, извилистую, всю в колючках тропинку.
Крашев особенно ничему и никому не верил, не был и суеверным, но вдруг мысль — дикая и неразумная — пришла ему в голову: эта тропинка — его жизнь…
Он взглянул вперед и съежился оттого, что надо было идти, он даже поискал другие тропки, но их не было, да и не могло быть, и тогда он пошел, еще надеясь побороть то, что происходило в его душе, пошел, отмахиваясь от репейников и ежевичных лоз, к морю, к тому месту, где он предал Анну…
Глава 9
К десятому классу он пришел к выводу, что изостудия ему ни к чему, но ходил в нее из-за Анны… Получив после школы золотую медаль, решил ехать в Москву. Но в какой вуз? Времени на подготовку и на колебания оставалось все меньше, но это его не тревожило. Он знал, что будет прикидывать, выбирать, но в конце концов сработает то самое безошибочное шестое чувство, та самая интуиция, которая спасла Ширю, и внутренний голос скажет: вот оно то, что нужно тебе…
Хотя… результаты от этой самой интуиции были иногда странные…
…После девятого класса его пригласили играть в футбол за городок. Это было неожиданно и для него, и для команды. Футболом он никогда всерьез не занимался — просто гонял мяч где и с кем придется. К тому же устроился подрабатывать на стройке, уставал, и желания полтора часа носиться по полю у него не было. Но тренер — худой, седоватый старикан, переехавший из-за болезни откуда-то из-под Харькова и возмечтавший из их пацанов сделать классную команду, — был настойчив, и он согласился.
Странно и неожиданно все это началось — странно и неожиданно и кончилось.
Рост его уже был под метр девяносто, а 1500 метров он пробегал меньше чем за четыре минуты — чуть-чуть не выполнил норму кандидата в мастера и свой первый и, как оказалось, последний футбольный сезон он провел неплохо, а если судить по результатам команды, то и вовсе хорошо. Их астматически дышавший тренер сумел слепить команду.
Крашев был левшой, его поставили в нападении — крайнего левого и после двух-трех первых матчей он не уходил без гола, а то и двух. Отчего он тогда так хорошо играл? И чего было больше: интуиции или расчета?
Первый тайм он просто делал рывки по краю, в дальний угол и, если удавалось, пробивал мяч вдоль ворот. В середине первого тайма к нему уже прикрепляли одного, а то и двух защитников. В начале второго все повторялось: он медленно начинал вести мяч, потом — рывок и прострел.
Но к середине второго тайма что-то — наверно, эта самая интуиция — говорило: пора! Он пружинился, волнение захватывало его, и, получив или отобрав мяч, он лениво, в этот раз даже излишне медленно, двигался в левый крайний угол. Привыкший и уже уставший защитник, зная все наперед, тоже небыстро смещался туда же. Все случалось метров за тридцать до штрафной. Неожиданно набрав приличную скорость, он показывал, что будет бежать в левый угол, но потом, развернувшись и выжав все, что мог, быстро смещался к центру. Имея восемьдесят килограммов веса, дойти почти до штрафной ему было несложно. Он и не доходил — в штрафной уже могли сломать ноги да и вратарь мог опомниться. Бил он в дальний от себя угол, не левой, не своей, но все же более сильной правой ногой.
Потом к нему подстроились, и часто ему не приходилось таранить проход к штрафной, а кто-нибудь накидывал туда мяч.
В команде он был самым результативным, но на следующий сезон его не пригласили. Ему было все равно, но он спросил: отчего?
— А вы — сачок, — придыхая, ответил тренер. — Извините меня, но я хохол, стар и болен, а вы — са-а-ачок, и большой сачок. Бегайте-ка себе по дорожке, а в футболе так не годится.
Он тогда обиделся и в душе плюнул и на футбол, и на придыхающего тренера-фаната…
Неужели эта его «метода» стала основой жизни? Всей его Жизни? Крашев даже задохнулся и приостановился от веса этого слова… Жизни… За этим словом сейчас, когда он стоял на узкой тропке, чудилось что-то зловещее, холодное и колючее, как эти кусты ежевики. Но ведь она состояла из всего тебе знакомого…
Крашев опять оглянулся, и опять ему показалось, что и отец его и добрый Водолаз уже громадными, шекспировскими тенями нависли над кладбищем, над могилами, над тропкой и смотрят на него строго и осуждающе. И вдруг он увидел, что и Ксения здесь. Ее лицо было нервно и застыло вопросом, словно она хотела его спросить о чем-то? О чем? О его Жизни?
Были еще тени, он не мог их различить, но ясно видел, что лица их укоряли, а глаза о чем-то спрашивали его…
«Но это же футбол! — мысленно вскричал Крашев. — Ведь так можно!»
Но тени молчали, лишь саркастически улыбались и, казалось, росли, нависая над ним, над всем пустырем.
«У тебя теперь единственная тропка, — саркастически улыбались тени. — И теперь ты не сможешь делать эти свои челночные лжеходы, а потом, обманув всех, наносить удар. Мы доведем тебя до моря, до того места, где ты предал Анну, а там мы будем судить тебя…»
И уже не была безмолвной тень отца. Глаза ее укоряли, а губы шептали. И не добрым уже сделалось лицо школьного учителя — отца Анны. Кривились в усмешке тонкие губы Ксении. И вдруг он увидел мать.
«А когда помру — хочу, чтобы ты ходил ко мне на могилу», — вспомнил он ее слова и, задыхаясь, прошептал:
— Но почему и ты с ними? Ты же жива, ты — жива…
Но мать не отвечала, горестно, не мигая, смотрела на него… И тогда, не выдержав, не разбирая дороги, поминутно обдирая руки, Крашев побежал, и бег его по короткой предкладбищенской тропинке был долгим…
Глава 10
Да, его Жизнь состояла из всего знакомого ему. Так о чем же спрашивали его тени? Не о том ли очень жарком дне в конце июля?..
Нет, он не забыл его… Десять лет школы уже позади… Позади были выпускные экзамены, школьный бал, бессонная ночь после него, гуляния в эту ночь вдоль берега моря…
Почти у всех созрели дальние и недальние планы, а он еще мучился от свалившейся свободы и от тех бесконечных вариантов выбора, которые эта свобода предоставляла.
Занятий в изостудии не было. Да и посещал он их в тот год редко — лишь когда был уверен, что и Анна там, и он очень обрадовался, когда узнал, что учитель рисования с дочерью и двумя-тремя студийцами, которым и каникулы были не в отдых, собираются в горы, на «природу».
На «природе» у студийцев было несколько мест: дубовая роща между вокзалом и городком; высокая, нависшая над бухточкой скала — та самая, с которой наивные отдыхающие в бинокли высматривали Турцию; мол, тонкой, упругой нитью резавший небольшую бухточку; сама бухточка, разная в разную погоду и в разные времена года.
В горах такое место было у плотины водохранилища. Имеющие много хотят еще, и, наверное, поэтому жители городка, имея море, горы, небольшую речушку, хотели и озеро, и, наверное, от этого водохранилище, устроенное меж двух зеленых, поросших папоротником гор, звали озером.
На дальней горе, в нижней ее части, когда-то, еще до постройки плотины, росла рощица высоких, мощных буков. Поднявшаяся вода умертвила почти всю рощу, и буков осталось с десяток. Они стояли у самой воды, грустно и тревожно заглядывая в глубину, как бы отыскивая ответ своей судьбе.
Ходить по плотине не разрешалось — она была заставлена лебедками, секциями шлюзов. Метрах в двадцати, на одном уровне с плотиной, висел на толстых тросах узенький, мягко качающийся мосток, по-местному — кладка.
Он поотстал… Может, от этой неопределенности, в которой находился, а, может, оттого, что думал, и Анна отстанет. Но она шла, спокойная и тихая, как всегда, чуть впереди отца, иногда оборачивалась, чисто и просто поглядывая на него серыми глазами.
Отчего его так влекло к Анне?
Много позже, перецеловавшись всерьез и невсерьез, узнав женское кокетство и измену, женившись и став отцом, он понял — отчего… И понял там, далеко, на Урале, как-то вспомнив о своем городке, вспомнив мать и Анну. И когда он поставил их рядом, он вдруг понял, как похожи они друг на друга. Нет, не внешне… Анна, с чуть вздернутым носом, круглым лицом и пепельными волосами, совсем не была похожа на его мать с ее крупными, резкими чертами лица, с иссиня-черными, волнистыми, теперь совсем седыми волосами. Но они обе были просты, чисты, сами не догадывались об этом, этим были похожи, и, наверное, именно поэтому его так тянуло к Анне…
…Последним прошел по кладке Водолаз. Крашев смотрел на широко раскачивающийся мосток, не торопясь идти на другой берег, уже досадуя на себя, на Анну, Водолаза и студийцев, так как понял — побыть наедине с Анной он не сможет…
…А утро было так хорошо! Солнце вставало из-за дальней горы… «Моряк» — южный ветер — стих, и гладь озера застыла синью, четко, до последнего листочка, отразив грустные буки, буйную зелень гор и безмерное небо.
Сброс воды был небольшим — тонкая струйка, вырвавшись из плотины и разбившись внизу о гранитное русло, искрилась радугой, подрагивала на упругих тросах кладка, и досада ушла. Поставив этюдник и приладив картон, он быстро, мощными мазками стал набрасывать плотину, струйку воды с радугой у гранитного русла, кладку. Все это он пытался изобразить не раз. Выходило неплохо. Сияла радуга. Грустно заглядывали в воду буки. Легкой, гибкой игрушкой висела над ущельем кладка. Но все это было не то. Все было неживо и все порознь, хотя и на одной картонке.
Но вот сейчас было по-другому. Все ожило. И это случилось оттого, что по кладке прошел человек. Его уже нет, а кладка еще вздрагивает, живет, и это оживляло всю картину. Но пока все это ожило лишь в его мозгу. Немного покачавшись, кладка застыла. Он мучился часа три, но ничего не выходило. Кладка да и вся картина оставались застывшими. Уткнувшись в картонку и мучительно раздумывая, он не заметил, как по мосту прошел доделавший свою акварель Водолаз, а за ним и остальные студийцы. Только Анна оставалась еще на том берегу — рвала цветы.
Наклонив большую голову, Водолаз несколько минут всматривался в картонку, а потом, чуть заикаясь, крикнул через ущелье:
— Аня, а ну-ка пройди по мосту. Только м-медленно.
И Анна пошла, улыбаясь, сжимая в руке маленький букетик розовых цветов, легко подстраиваясь под ритм кладки.
— Стой! — крикнул Водолаз, когда она дошла до середины. — Постой. П-попозируй.
И неловким движением своей контуженной руки он пригласил студийцев на дорожку, ведущую к городу.
Они ушли, а Крашев тычками и мазками, не глядя на Анну, старался дописать ее хрупкую фигурку, идущую по вновь ожившей, качающейся кладке, а потом взглянул и понял: сейчас он подойдет и поцелует ее. Он подошел и положил ей на плечи руки; она, казалось, ждала этого — наверное, думала, что он хочет подправить что-то, но потом, когда он поцеловал ее, охнула, выронила букетик, и цветы, рассыпаясь, долго-долго летели розовыми пятнами к воде.
От неуверенности у него сжалось сердце, но вот и руки Анны неловко полуобняли его, и огромное чувство радости и счастья наполнило его.
Глава 11
…Исцарапанный и задыхающийся Крашев выбежал к морю — тихому и спокойному, еле шлепающему волной в старый, просевший, позеленелый мол. Когда построили новый — то ли вода в отрезанной части поднялась, то ли от сознания своей ненужности, — старый просел, и теперь волна, шлепнув в чуть выступающий верх мола, катила дальше по бархатной зелени мха. Крашев не был здесь с того самого, очень жаркого дня конца июля, но, оказывается, этот заброшенный мол с маленьким, посыпанным белым песком пляжем раньше таким шумным, а потом тоже заброшенным и тихим, он помнил всегда. В его сознании он жил тихой, теплой точкой. Как старая материнская хата, дубовая роща, кладка у плотины, школа, городской стадион.
Но сейчас старый мол не вызывал воспоминаний о плавании — кто дальше, ныряниях — кто глубже, и лишь озноб, как после долгого купания, бил его, но это было уже от других причин.
Он всегда гордился тем, что мог управлять собой, своими чувствами, своим здоровым, крепким телом, и его изумляло и пугало то, что произошло и происходило с ним еще и сейчас: привидевшиеся тени над кладбищем, охватившая его трусость, его бег — совсем не спортивный, и все его состояние, больше похожее на истерику. Давило под сердцем. И это тоже пугало.
Ему захотелось сесть — вернее, он уже не мог стоять, — и он сел, придвинув к голове колени, опустив руки на сухой, белый, холодный песок. И пальцы рук мягко вошли в него…
…Безудержное ощущение счастья, в котором он тогда находился, шло не только от Анны. Счастье лилось, казалось, отовсюду. От сине-прозрачного июльского неба, от южного теплого ветра, мягко несущегося с моря, от самого моря, прогретого в их неглубокой бухточке до дна, от зелени гор, от деревьев и цветов, от воздуха, которым он дышал. Какая-то неудержимая реакция чувств бурлила в нем. И ключом к этой реакции была Анна. Чувств было так много, что он задыхался. Но вместе с тем он прекрасно владел собой. Он составил распорядок дня и повесил его на веранде над старым столом. Подъем, небольшой кросс к морю и обратно, незамысловатые упражнения с самодельными гантелями и штангой, завтрак с матерью, а потом долгие и упорные занятия.
Он уже знал, куда будет поступать. Правда, здесь обошлось без интуиции. Подсказала ему это Анна…
…В тот день, после их первого поцелуя на кладке, они не сразу пошли в городок, а бестолково и слепо гуляли по каким-то полянам и лужайкам — внизу у плотины, а потом полезли вверх, на ближнюю гору. Наверху, рядом с вершиной был маленький срез — терраса, обращенная к морю. Говорили, что чуть ли не древние греки добывали здесь глину для своих амфор. Может быть, так оно и было — стены террасы были необычайно кроваво-красного цвета, но последние годы почти каждый отдыхающий, захватив пару банок консервов и завернув в газету хлеб, лез сюда и, «покорив» двухсотметровую вершину, устраивал на террасе пикник, гордо глядя на маленький городок и чувствуя себя настоящим альпинистом.
Взявшись за руки, не думая о древних греках, альпинистах и амфорах, не замечая ржавые банки, уже толстым слоем покрывшие низ террасы, они молча смотрели на родной городок, на открывшееся громадное море с далеким выпуклым горизонтом, на танкер, равнодушно и уверенно плывущий мимо их городка куда-то далеко-далеко…
— Кем ты хочешь быть? — спросил он ее.
— Архитектором или строителем, — ответила Анна, не задумываясь. — И строить вот такие дома. — Она показала на несколько пятиэтажек в центре городка. Пятиэтажки только что отстроили, и даже отсюда они казались такими огромными.
Он смотрел на большие белые дома, на уплывающий в неизвестное танкер, и слова Анны, произнесенные ею быстро, почти не задумываясь, показались ему значительными и полными какого-то смысла.
Почти физически ясно он представил себе то, что было позади них: гряду маленьких, невысоких гор, а за ними всю страну: большую, строящуюся; вспомнил, как в детстве он прибегал к матери на стройку, и то, как мать катила на второй этаж тяжелые тележки с раствором; вспомнил появившиеся потом длинные, наклонные транспортеры; потом башенные краны, растущие вместе с этажами; грузовые подъемники вне зданий. Все это он знал, и это было ему знакомо.
— Ну, так решено, — улыбаясь, он смотрел на Анну. — Будем строить. Возможности громадные. Место применения — вся страна.
Анна молчала и, тоже улыбаясь, глядела на него, соглашаясь с ним, но вдруг, нахмурившись, сказала:
— А скорее всего я стану учительницей и буду учить рисовать и чертить… Как отец, — добавила она, помолчав.
— И глядеть, как балбесы убегают из твоего класса? Заставлять их рисовать, а потом смотреть на их бессмысленную мазню?
— Может быть… — Она помолчала. — Но всегда найдется, кто любит рисовать… И отец уже стар и болен… — Она вздохнула, поразив его печалью серых глаз на детском круглом лице.
Сам он никогда не думал: больна ли мать, больны ли окружающие… Он был здоров, весел и всегда думал, что все так же здоровы и веселы. Давным-давно ему было жалко смотреть на мать, толкающую тяжелую тележку. Но это было так давно! Его воспитали в понятии: человек может все! Все-все! Надо только действовать, и все изменится. И изменилось. На той же стройке — растворонасосы, краны, и мать больше не катит тележку. Если ты болен — иди лечись. Хочешь поступать в институт — занимайся и поступай. В какой хочешь! Свобода выбора — прежде всего.
— И что же? — он уже насмешливо смотрел на Анну. — Ты, верно, и в нашей школе работать будешь?
Анна не ответила, пожала плечами, а он опять смотрел на городок, на танкер, превратившийся в крошечную букашечку, и ему нестерпимо захотелось уехать из этого периферийного, со всех сторон зажатого маленькими горами их городка, уехать вот так же уверенно и равнодушно, как это сделал танкер, направлявшийся куда-то далеко-далеко; уехать в большие, залитые светом города, где много памятников и старинных зданий, больших заводов, парков и где живут умные ученые и талантливые художники.
Глава 12
И Крашев уехал через две недели… Но это были не просто две недели… Это были целых четырнадцать дней, каждый из которых он помнит до сих пор. Помнит, помимо возникающего желания забыть эти дни. Но они жили и живут в нем, и он ничего, оказывается, сделать с этим не может.
Да и как может забыть память, разум, душа и тело те июльские вечера?..
Вот перешло солнце полдень, и все так же пышет жаром, может, еще более, а он, сидя на веранде за плотными занавесками, чувствовал: скоро вечер. И вот солнечный свет становился жиже и желтей; воздух, ошалелый от жары, еще не знал куда двинуться и безвольно шевелился, занося на веранду запах раскаленного асфальта.
Но вечер близился, воздух трезвел, еще несмелыми потоками доносил то свежесть горной речушки и озера, то запах йода с берега моря. Он по инерции еще читал, доучивая теорему Герона, но перед глазами стояла Анна, и, еле дотянув до намеченного им самим срока, он выходил во двор, бездумно смотрел сквозь плотную листву грецкого ореха на совсем уже потяжелевшее солнце, подставлял лицо и шею под холодную струю колонки, пытаясь сбросить ученую дурь от занятий, и волнение от предстоящей встречи с Анной охватывало его.
Анна с отцом (мать ушла от них, когда Анна была совсем маленькой) жила в старом — и ветхостью и старостью своей похожем на хатку его матери — казенном, островерхом, дощатом доме, построенном, как и школа, полвека тому назад. Но старость дома была заметна лишь зимой, летом же дом, увитый виноградом, обсаженный большими кустами роз, был невидим, — только краснела черепичная крыша, резко выделяясь из зелени, и, казалось, существовала сама по себе, без стен, без окон, без перегородок…
Анна появлялась тихо, никогда не опаздывая, всегда неожиданно для него, каждый раз все еще не верящего, что вот сейчас она выйдет из этого старого, не по-местному скроенного дома, и выйдет к нему, и они пойдут рядом, не договариваясь, выбирая тихие, безлюдные, плохо освещенные улицы. А через квартал, все так же не веря, что он уже это делал и что это можно сделать сейчас, он брал ее маленькую, податливую ладонь, заглядывал в ее сияющие глаза и думал о том, как хорошо, что у него в голове два полушария, иначе бы он забыл и теорему Герона, и сочинения Льва Толстого, и даже саму таблицу умножения…
…Наконец все было кончено. Все теоремы, формулы, искусственные приемы решения, биографии классиков и образы героев — все это, слитое в какую-то непонятную смесь, было растворено в том самом, «втором» полушарии, и уже на следующий день Крашев не чувствовал ни усталости, ни тяжести. Но он знал: лишь только понадобится теорема Герона или образ Катюши Масловой, то в этом полушарии, по какому-то непонятному алгоритму, будет найден и образ, и теорема.
Уже обо всем было переговорено с матерью. Мать, всегда неторопливая, всегда знающая, что и как делать, в последние дни вдруг стала странно хлопотливой и растерянной. В любом случае, то есть если даже он не пройдет по конкурсу или вообще не сдаст экзамены, Крашев решил остаться в Москве. Мать отыскала адрес каких-то дальних отцовских родственников, живущих в Москве, которых и сама не знала, но которые должны были помочь ему устроиться. Чуть смущенный, но уверенный, что экзамены сдаст и по конкурсу пройдет, а с родственниками так и не познакомится, он слушал и не слушал мать, уже наполовину настроенный даже и не на экзамены, а на какую-то иную жизнь, в другом, громадном городе, и эта жизнь представлялась ему совсем не похожей на ту, которой он жил до сих пор.
С Анной — так он считал — дело было решенное: через год она поступает в тот же институт.
…В Москву поезд уходил утром, и у них с Анной теперь оставался день и вечер, вернее, полдня, так как первая половина им уже была потрачена на всякие доделывания, поправления, переупаковывания вещей и учебников, которые и так лежали хорошо. Потом мать опять напоминала адрес не знакомых ей родственников. Потом поговорили, как часто будет он ей писать, потом сели обедать на веранду, и мать, сама налив в маленькую рюмочку рубинового вина, чуть пригубив, желала ему удачи, а потом и совсем уже нечего было делать, и он, смущаясь, то ли оттого, что говорил неправду, или оттого, что не смог сказать правду, вышел во двор, посмотрел на стремительно падавшее солнце, буркнул подошедшей матери:
— Пойду с Водолазом попрощаюсь… и с Анной.
…Они не договаривались о встрече. «Приходи, когда сможешь, — сказала Анна. — Я буду ждать».
Открыв скрипнувшую калитку чистого дворика старого школьного дома, Крашев увидел Водолаза. С ножницами в руке, тот склонился к молодому кусту розы.
Скрипа калитки Водолаз явно не слышал, и Крашев, поколебавшись, решил войти в дом, но тут Водолаз выпрямился и, держась свободной рукой за поясницу, громко сказал:
— Ах, пришел-таки. А я думал, уедешь так… Заходи, заходи… Там Аня, а я сейчас — дощипаю вот…
В доме было прохладно и от полуприкрытых ставень немного сумеречно. Анна читала книгу. Что это было? Бунин? Да, кажется, она читала «Жизнь Арсеньева». Отчего ей нравились книги, где было много грусти, недоговоренности и загадочности? Отчего она сама была тихой и часто грустила? Оттого, что выросла без матери? От своего характера? Нет… Он знал ее и веселой, и порывистой, и твердой. Может, оттого, что был болен ее отец? Неужели возможно никогда не забывать об этом? И быть грустной от чужой боли?… Тогда, двадцать пять лет назад, его это даже раздражало. Нельзя же быть постоянно грустной оттого, что кто-то постоянно болен. Даже если это твой родной отец. Ведь сил не хватит. Но у Анны хватило. И не только на грусть. Она действовала, но по-своему…
А в тот вечер он вошел, и она читала Бунина.
— Знаешь, что мне хочется? — он сел рядом. Она молчала. — Увезти тебя в Москву… А что? Мать дала адрес каких-то отцовских дядек и теток. Живут одни, квартира огромная. А я бы… — от волнения у него забилось сердце, и он шутливо кончил: — А я бы на тебе женился.
— Мне нельзя, — она тоже улыбнулась. — Я еще школьница. Да и… — Анна стала грустной. — И отец болен.
— Послушай, — говорил он уже с раздражением. — Отец болен — это верно. Но нельзя же быть всегда такой… У меня мать частенько болеет, да и одна, и я уезжаю… Так что же, мне не ехать?
— Не знаю. — Анна говорила негромко, будто боясь, что услышит отец. — Но он ночью иногда так стонет. И… мне кажется, что если он умрет — умру и я. Не смогу жить. Знать, что он на кладбище, ходить к нему…
— Ну, он живой, слава богу, а ты… — он говорил какие-то бодрые фразы, а стыд охватывал его: он вспомнил, что к своему отцу так и не сходил. Все было некогда, и вот завтра уезжать…
Когда они вышли, Водолаз все еще возился с кустом.
— Ухо́дите? — он подошел к ним. — Ну, гуляйте… Но д-два слова. Поступай, учись, расти, но городок наш не забывай. И отца. Побило его войной… — Водолаз потоптался, словно искал, что еще сказать, потом прошел внутрь старого дома и через минуту вернулся. В руках он держал большой бинокль. Протянул Крашеву. — Возьми… Морской… Мне уже куда смотреть, а тебе, может, и сгодится… И нас не забывай…
Они пошли почти теми же улицами, которыми гуляли каждый вечер, но он не брал ее руки́, может, потому, что было еще светло, а может, жег стыд от того, что забыл сходить на могилу отца.
Они шли молча, пока не показалось кладбище, и тогда он, мучаясь, сказал:
— Не знаю, как ты, но мне надо сходить на кладбище… к отцу. — Ему показалось, что она не понимает его, и он добавил: — Я не был… не успел… словом, надо сходить.
— Так идем же, идем. — Анна сама взяла его руку, и он почувствовал, что стыд проходит, что в этом есть даже смысл — он с Анной пойдет на могилу отца.
Он чувствовал что-то еще, неясное даже самому себе, и это было от ее порывистых слов, твердого пожатия руки и ее глаз, смотревших чисто, все понимающе и чуть печально.
Он не помнит, что они делали у могилы отца. Наверное, просто стояли и Анна подправила что-нибудь.
— Ты помнишь своего отца, когда была совсем маленькой? — спросил он.
— Помню. Я не помню его лица или еще что-нибудь — помню руки. Наверное, он поднимал и носил меня.
— А я ничего не помню. — Он вздохнул. — Был слишком мал или слишком глуп.
— Но все равно, — она улыбнулась. — Он и брал и целовал тебя. Все так делают.
Он представил, как отец наклоняется к нему, берет и целует его, и от этого отец вдруг перестал быть тем, кем был до сих пор: неизвестным, непонятным, строго смотревшим с фотографии довоенных лет. Он был родным и близким — вот как Водолаз Анне. Он смотрел на сына и Анну, как бы одобряя и его выбор, и то, что они вместе пришли к нему. И Крашев, невероятно загрустив, пожалел, что завтра надо куда-то ехать, оставлять мать, Анну, расставаться с городком. Но это был лишь миг, и от тут же, взяв себя в руки, начал почти нашептывать себе в сознание короткие, приказывающие фразы: «Все это нежности, — вбивал он в свое «первое» полушарие. — Ты поедешь в Москву! И сдашь экзамены! Мать сама этого хочет. И Анна приедет. И мы будем вместе».
Он вбивал в себя это несколько минут. Потом еще раз посмотрел на могилу отца, взял руку Анны и решительно пошел в конец кладбища, бездумно разглядывая кресты и памятники.
Длинный, невероятно жаркий день конца июля кончился… В темноте они шли по узкой тропинке к морю, и громадные кусты ежевики не кололи их — он их просто не замечал, да и сама тропинка была короткой, и они быстро вышли к морю.
Море было тихо и пустынно. Светила луна. Лишь иногда небольшая волна накатывалась на старый, позеленевший мол — тогда слышался тихий шелест, и волна дробилась, образуя рябь и множество маленьких лун.
Анна молча смотрела на море, а он, решительный и веселый, говорил:
— Я сегодня весь в долгах. Должен и должен. Пошел к тебе, а потом на кладбище, а мать одна и я, вроде как, должен быть с ней. Вот пришел к морю, вспомнил, что теперь целый год не смогу хотя бы окунуться, и опять должен… Но с морем я спорить не стану — морю я долг отдам… — И он решительно и быстро разделся, хлюпая, пробежал по молу, бросился в воду, и мягкая, ошеломляюще мягкая, чуть прохладная, иная стихия окутала его. Он долго, очень долго, раскрыв глаза, плыл среди мерцающей воды, вначале у дна, где было прохладнее и были видны песок, водоросли и какие-то расщелины, а потом дно резко ушло вниз, и он уже ничего, кроме плотного тумана, не видел и, забывшись, чуть не ударился о подводную скалу, сплошь покрытую таким же зеленым мхом, как и мол. Он хорошо знал эту скалу и встал на нее. Вода была ему по грудь и здесь, в верхнем слое — теплой-теплой, он вовсе не замечал ее. Отдышавшись, он поплыл назад, к молу, вначале тихо, еще глубоко дыша — на спине, потом тихим брассом, чуть разводя руками, и потом резко и быстро — кролем.
Застыв у мола, он положил руки на мягкий мох и посмотрел на Анну. Анна, сняв туфли, стояла на берегу.
— Раздевайся, — он с шумом ударил по воде. — Парное молоко.
Анна не решалась. Потом, сбросив платье, медленно пошла в воду.
— Ну, нет, — он знал, что Анна, как, впрочем, и все девчушки их городка, плавала и ныряла не хуже его. — Не пойдет. Ты что, на отдых приехала? Иди сюда. — И он зашлепал руками по зеленому мху.
Анна покрутила головой, все так же медленно шагая недалеко от берега.
— Ну, сейчас… — сильно оттолкнувшись, он сделал несколько мощных гребков, а потом, когда ноги ударились о песок прибрежного мелководья, вскочил и с шумом побежал к Анне.
Совсем не по-местному, неуклюже, Анна плюхнулась в воду.
— Ну, даешь. Еще утонешь. — Он, смеясь, подбежал, полуобнял поднявшуюся Анну, и вдруг рука его вместо купальника ощутила что-то мягкое, кисейное, теперь мокрое, совсем не как купальник, охватывающее ее фигурку. Руки его отдернулись сами собой. Но, как недавно на кладбище, короткими, приказывающими, произнесенными про себя фразами он заставил свои руки опять обнять Анну. Потом он поднял ее и понес к берегу. У него было чувство, что все это делает не он, а тот, которому он это приказывает. И тот, другой, с Анной на руках, вышел на берег. Песок на берегу был еще очень теплый и пальцы ног мягко вошли в него…
Глава 13
…Ему захотелось сесть, вернее, он уже не мог стоять, и он сел, придвинув к голове колени, опустив руки на сухой, холодный песок. И пальцы рук мягко вошли в него…
Так, скрючившись и оцепенев, Крашев сидел долго. Накатывались на берег волны и, тихо прошептав что-то свое — мудрое и грустное, — исчезали навсегда. Огромным, сонным, навечно связанным с берегом, неведомым морским зверем темнел под водой совсем просевший мол. Но пустынно, как много лет назад, здесь уже не было: холодный, струившийся по верхушкам волн свет от громадных гостиниц, расставленных на другом берегу, дотекал и сюда, наполняя забытый пляж и прибрежные заросли неясным мерцающим сумраком. Оттуда же неслась музыка, теряясь в тихой бухточке и отдаваясь здесь лишь мерным буханьем нижних тонов.
Песок вбирал его тепло, и, наконец, его большому телу стало до дрожи холодно. Оцепенение проходило. Но той твердости и бодрости духа, при которых он мог всегда управлять собой, приказывать себе, не было. Крашев оглянулся назад, на кусты и тропинку, по которой прибежал сюда.
Ночь была свежа, но все еще по-южному нежна и тиха. Над тропинкой, над кустами ежевики и дальше, над кладбищем мерцали крупные звезды. Привидевшиеся ему тени, их голоса еще ясно звучали в нем. Но суда над ним не было. Да и не могло быть — подсказывала ему трезвая часть его сознания. Но, прибежав к этому берегу, он уже смирился с тенями, с их укорами и с будущим судом над ним. Сейчас же, кроме огромного, охватившего его чувства неопределенности, не было ничего. Это было настолько противно его натуре, долгие годы жившей конкретными вещами, что, не вынося этого, Крашев встал, зачерпнул ладошкой воду, ополоснул лицо и медленно пошел по берегу, как бы проверяя, что вокруг все есть и все конкретно: соленая вода в море, холодный песок на берегу, сила тяжести под ногами, припахивающий йодом воздух… Все это было: и море, и упругая земля, и свежий воздух. И все было вечно и прекрасно. Но внутри него самого было так пусто! И это несоответствие родило вдруг такое отчаяние и тоску, что Крашев задохнулся от нахлынувших чувств и, не умом, но инстинктом чувствуя в этом спасение, свернул от берега с равнодушным, вечным морем и побрел к теплым огням родного городка…
Без всяких мыслей Крашев пробрел несколько плохо освещенных окраинных улиц. Потом пошли улицы со столбами-торшерами, изливающими бледно-белый, неживой свет, и Крашеву казалось, что он плывет в этом холодном, мертвящем свете.
За школой — странно-тихой, как будто отдыхающей от шумного, крикливого дня, уличные фонари опять были разбросаны как попало и лили обычный желтый, живой свет, и у одного из них, висевшего на деревянном, дряхлом столбе, Крашев застыл — круг замкнулся, фонарь полуосвещал дом, где жила Анна и когда-то жил ее отец…
Он их предал, забыл… Хотя сейчас он все еще находился в оцепенении и мысли его были вялы и неуправляемы, он вспомнил, наконец, и это последнее…
Он вспомнил маленький перрон их франтоватого вокзала. Его провожали мать и Анна. Школьный друг Ширя, уже став мастером спорта, боролся на очередном чемпионате.
За десять минут до подхода поезда мать, решив что-то еще прикупить ему в дорогу, ушла в вокзальный буфет, и он остался наедине с Анной. Он опять говорил ей о Москве, московских родственниках, о том, что год пробежит быстро и они будут вместе, но чувствовал, что с каждой фразой становится от Анны все дальше и дальше.
Подошла мать и, вызывая чувство стыда и досады, толкала ему в сумку ненужные пирожки. Ему казалось это и мелким и глупым. И опять перед его глазами равнодушно и уверенно заскользил танкер, плывущий куда-то далеко-далеко, и опять ему нестерпимо захотелось уплыть, улететь, уехать…
Перед самым отходом сердце у него все же дрогнуло. Обычно поезда не задерживались у их вокзальчика, а, постояв две-три минуты, катили дальше. Но в тот раз что-то случилось, и он к концу долгой десятой минуты с удивлением обнаружил, что мать и Анна чаще смотрят не на него, а друг на друга, и мать улыбается, а Анна смеется… Ему казалось, что они еле знакомы, и вот… Они опять о чем-то говорили и смеялись и смотрели не на него — уезжавшего, и впервые чувство одиночества маленькой холодной льдинкой прикоснулось к его сердцу.
Ровно за два мига до отхода — он уже был в вагоне — непонятно откуда свалился Ширя. Невысокого роста, с переливающимися мышцами мускулов, силу и ярость которых не мог скрыть новенький белый джинсовый костюм, Ширя подскакивал на своих кривоватых ногах, что-то кричал и показывал на пальцах. Крашев ничего не слышал — вагонные окна на их вокзальчике всегда закрывали (впереди было два тоннеля), но сам вид Шири говорил больше, чем надо. Здесь было все: и радость от встречи, и известие о том, что он — Ширя — опять победитель, и даже то, чтобы Крашев знал: скоро Ширя доберется до Всесоюзного чемпионата, до Москвы, а уж там он себя и покажет…
Но вот вагон дернулся, глаза матери и Анны устремились к нему, с каждым мгновением отдаляясь дальше и дальше; еще неистовей запрыгал перед окном Ширя, все еще что-то доказывая и объясняя; и вот уже не стало видно слез на щеках матери, все дальше уплывало погрустневшее лицо Анны, застыл, широко и тяжело расставив ноги, Ширя; а потом все они превратились во что-то единое, провожающее его, и он долго-долго, пока поезд огибал бухточку, видел слитые вместе фигуры… А потом вагон, часто звякая по стыкам, влетел во тьму первого тоннеля, и все: городок, синяя бухточка, вокзал и уже неразличимые мать, Анна, Ширя — все пропало…
…Крашев смотрел на ветхий, совсем старый дом, ветхость и старость которого уже не могли скрыть ни ухоженный чистый двор, ни ставшие, кажется, еще пышнее кусты роз, ни весь его когда-то импозантный, а теперь жалкий вид. Он вглядывался в дряхлые, дощатые стены, в закрытые ставнями окна, словно надеясь, что старый дом расскажет об Анне. Но дом молчал…
Часть II. КРАШЕВ
Глава 1
Ночь оказалась для него много тяжелей, чем он ожидал. Лишь вялые, чуть бродившие мысли, свернувшись в рыхлые, неуклюжие клубки, замирали в нем, он тут же оказывался на кладбище, у могил отца и школьного учителя. Какие-то неведомые ему силы влекли его в конец кладбища, к калитке. Он уже видел заросшую ежевикой тропку; нависая над кладбищем, с укором смотрели на него тени, и тут же ледяной, какой-то космический ужас пеленал его душу и тело, и Крашев просыпался…
После пятого или шестого раза испытанный им страх был так велик, что ему стало все равно. Заснуть и увидеть страшный сон он уже не боялся, но не было самого сна.
Его мысли стали опять четки и ясны… «Так отчего же этот страх?» — спросил он себя. И отчего тени, и лоб, покрытый липким потом после бега по короткой тропке к морю, и отчего он не может заснуть в эту тихую осеннюю ночь?
Он вспомнил когда-то читанный рассказ Шукшина «Осень» и суетного Филиппа, по глупости не женившегося на Марье. И вот прошла жизнь, Марья умерла, и Филипп, у которого и жена и дети, на старости лет понимает, что единственный родной человек у него — это Марья, а жизнь… жизнь прошла… Отчего он запомнил этот маленький рассказ? Неужели и он все эти годы любил и любит Анну? А кто же у него, кроме матери, родной человек? Жена?
…Они учились в одной группе, и она стала его женой на пятом курсе, когда вдруг все пятикурсники бросились жениться и выходить замуж. Кому-то надо было остаться в Москве; кто-то вдруг понял, что не может жить без кого-то; кто-то привез жену после последней практики из далекого Норильска; кого-то пробила ностальгия по родному селу и по девчушке-соседке, совсем уже выросшей; у кого-то от привольной жизни появилось время и на любовь…
Они не искали друг друга. Они заметили друг друга с самого первого курса. Бежало время… Летели институтские годы… Они учились, ходили в походы, работали в стройотрядах, влюблялись в других, целовались с другими, взрослели, но всегда помнили друг о друге… Он никогда не пытался за ней ухаживать, никогда не провожал ее домой, не покупал билеты в кино, в театр; не интересовался, как она провела лето или с кем ходила на нашумевший спектакль.
Но они были «парой». Они были той «парой», о которых бабы в деревнях говорят, что они «подходят друг к другу», а в небольших городках и плохих фильмах — «созданы друг для друга». Наверное, она так не думала, и Крашев так не думал. Но они всегда помнили друг о друге.
И все случилось просто и быстро…
На одной из студенческих вечеринок, зимой, когда уже большая половина их группы переженилась и повыходила замуж, он подошел к ней и пригласил на танец. Это было медленное танго, странным образом вдруг вклинившееся в ревущие шейки и начавшие опять возрождаться роки.
Они почти пять лет знали друг друга и, наверное, много раз танцевали друг с другом, и, может быть, даже вот такое же танго. И в таком же танго они обнимали друг друга и медленно плыли по институтскому танц-залу или же толкались в тесной комнатке общежития. А потом расходились и забывали и о танц-зале, и о комнатке, и о самом медленном танго.
Но в ту вечеринку все было по-другому. Может, слишком порывисто он пригласил ее или были слишком податливы ее плечи и руки. Но после медленного, показавшегося длинным-длинным танго, которое они протанцевали молча, как совсем зеленые первокурсники, оба вдруг поняли: теперь они единое целое. И в ту же зимнюю, запуржившую ночь в неуютной комнатке мужского общежития она стала его женой.
И вот они прожили двадцать лет. Она была хорошей женой. Просто замечательной. За двадцать лет они ни разу по-настоящему так и не поссорились.
Они и в самом деле оказались прекрасной парой, а, вернее, тандемом. И в этом тандеме было все, что надо: знание дороги и цели; своих способностей и способностей партнера; были даже чуткость, внимание, забота друг о друге; иногда были знойные ночи и периоды влюбленности друг в друга. Было все, кроме одного: простой человеческой любви, которая не горит, не клокочет — она просто есть и ты знаешь: будет всегда, что бы ни случилось в тебе или окружающем мире.
Но для такой любви нужен перекос, чья-то слабость, может быть, нужность одного в другом. Но они были слишком сильны, горды, умны и независимы для этого. И, странным образом, похожи друг на друга. Даже внешне. Тогда, на пятом курсе, она была высокой, длинноногой, очень красивой, с черными, почти такими же, как у него, волнистыми волосами. Часто, не зная, их принимали за брата и сестру. И только речь отличала их, да и то вначале, и она смеялась над его «кофэ», и «любов», а он — над ее замоскворецким говорком. Но уже через несколько лет там, на Урале, сгладилось и это.
«Глупому шукшинскому Филиппу было легче, — горько усмехнулся Крашев. — Его жена была злой, сварливой. А почему же я не люблю свою жену и почему она меня не любит? Оттого, что знаем: случись с нами что — и тандем распадется? Почему моя жена ни разу не забылась? Почему за два десятка лет я не услышал ни одного, только для меня сказанного простого, нежного слова? А ведь я знаю — они есть. И говорила мне их Анна…»
Крашев дотянулся до картонки, которую нашел вчера. Озеро в горах, грустные буки — их, наверное, уже нет, плотина, кладка, стремительной стрелой соединившая два каменных берега, и Анна с букетом розовых цветов… Прошлого не изменить… Вот сейчас он подойдет и поцелует ее. И Анна охнет, а потом обнимет его. И будет неудержимое чувство счастья. И они полезут на гору. И перед ними разверзнется громада моря, их маленький городок, налепленный на берегу, и вдали — танкер, уверенно уплывающий далеко-далеко.
«Нет, — подумал он, — ничто не могло остановить меня тогда. Еще губы не остыли от поцелуя и мы стояли рядом, но она оставалась, а я уже жадно и ненасытно уносился, уезжал, улетал, уплывал».
И кому было труднее? Ей, окончившей школу, поступившей в областной пединститут на заочное отделение и благополучно ездившей два раза в год за сорок километров на сессии, или ему, попавшему в громадный город, выдержавшему высокий конкурс, жившему первый год на частной квартире (к московским родственникам он так и не пошел), под разными предлогами отказывающемуся от материнских денег (ему стыдно было брать у матери деньги почти в двадцать лет) и работающему, работающему, работающему…
Учеба — это тоже работа, муторная и временами неблагодарная. Крашев имел неплохую память, когда нужно, он бывал и усидчив, но иногда и он еле выдерживал институтский крутеж. Особенно первые три курса. Иногда ему казалось, что он участник какого-то гигантского сверхдлинного марафона и бегут они не по твердой асфальтовой, а тем более зелененькой дорожке, а по зыбкой, то и дело осыпающейся под ногами рыхлой земле. А в конце длинного круга — препятствия в виде семестровых заданий, курсовых, сессий. Это потом, где-то на третьем курсе, отдышавшись и приглядевшись друг к другу, у них появилось и время и желание помогать, советовать, дружить, иногда любить, но это уже была вторая половина пути. А на первой? Вот бежит рядом с тобой какой-нибудь Сидоров. И стартовал он хорошо, и вид у него спортивный. Но вот поворот — конец первого круга, впереди препятствия, и вот ты видишь: Сидоров, который еще румян и боевит, уже не тот Сидоров, чуть-чуть прихрамывает, а потом и явно хромает; и не успеваешь узнать, какие же задания по начертательной геометрии не сделал Сидоров, а его уже нет — исчез с горизонта. А вот исчез Петров, а там Иванов. И лишь к концу третьего курса, когда от их группы осталось чуть больше половины, они перевели дыхание и посмотрели друг на друга уже внимательно, с уважением, уверенные в том, что в таком составе добегут (а кое-кто добредет, а кое-кого и дотащат) до конца.
Были и еще проблемы — квартирные, когда то он не подходил хозяевам, то хозяева — ему; денежные, когда отказаться-то от материнской помощи он отказался (хотя мать упорно продолжала слать небольшие суммы), надеясь где-нибудь подзаработать, но денег от его желаний и надежд не прибавлялось; постоянно работать, в суете первых курсов, он не смог, и потом, много лет спустя, вспоминая первую московскую зиму, он всегда удивлялся. Удивлялся тому, что, не имея никакой теплой одежды, проходив, вернее, пробегав зиму в легкой куртке, спортивной шапочке и туфлях, не замерз, не заболел менингитом, не побежал на Курский вокзал, не купил на последние деньги билет и не уехал домой.
А кто-то рядом не выдерживал, кто-то переходил на заочное, кто-то — на вечернее, просто бросал учиться и потом, через пять-шесть лет, имея жену, детей, квартиру, хороший заработок, вспоминал об институтском марафоне как о какой-то нелепости в своей жизни и улыбался, жалея и уже не понимая бывших сокурсников в конце этого сверхдлинного марафона, не имеющих ничего, кроме диплома в кармане и неопределенных знаний в голове.
Но он выплыл, добежал, умудряясь сдавать экзамены на пятерки. Никогда не подводившая его интуиция шептала, что все изменится, что надо держаться. И он держался, хотя иногда нестерпимо хотелось все бросить, уехать и забыть и московские морозы, скрючивающие в три погибели тело, и хлюпкие весны с вечно промокшими ногами, и постоянное полуголодное существование. Но он держался. Он даже ни разу не попросил у матери побольше денег, писал ей, что устроился работать ночным сторожем, что получает деньги и что все хорошо.
К концу первого учебного года и в самом деле все стало меняться. Изменялся он сам: его уже не ошеломляла, а потом и не раздражала гулкая карусель московских улиц; он перестал стыдиться легкой, не по сезону одежды, он увидел, что вокруг немало таких, как он, «бедных студентов»; он даже придумал себе маску — ко всему равнодушный, закаленный полуспортсмен-полустудент. Маска оказалась удачной, и он долго — чуть ли не до конца второго курса — пользовался ею. Возникающий было комплекс по поводу одежды прошел; экзаменаторы, вначале чуть пренебрежительно глядевшие на высокого, в полуспортивной одежде студента, берущего билет, потом, — при ответе, удивившись некоторым знаниям и здравым рассуждениям по поводу этих знаний, — непроизвольно шли навстречу, а тренеры и «жучки» от спорта, разглядев в нем, восемнадцатилетнем, какие-то таланты, манили славной и сладкой жизнью чемпиона. В институтской спортивной жизни он участвовал охотно, но осторожно, не во вред основному марафону, хотя и его соблазняли эти предложения, но не в виде отдаленной славы и совсем уж неопределенной сладкой жизни, а в виде конкретных сборов и соревнований, где, несмотря ни на что, был отдых, было чье-то участие в тебе и бесплатные талоны в профессорскую столовую…
А потом? Это он, именно он, организовал студенческий строительный отряд в далекую Коми АССР. Конечно, они поехали не одни, а в составе институтского отряда. Конечно, им помогали. Материалами, советами. Но все это не главное. И был риск… А мог бы поехать домой. И поработать рядом с матерью. И заработать верных две-три сотни рублей. А рядом зреют вишни, сливы… И виноград. Но он поехал в Коми… И привез оттуда тысячу рублей. И всего за сорок рабочих смен.
Если бы у него сейчас спросили: «Вот ты, Крашев, ставший в сорок лет заместителем начальника Главка, где же ты начался как руководитель?», он бы ответил: «В стройотрядах, а, вернее, в том, в первом — в Коми…»
Глава 2
Да, он привез из Коми тысячу рублей. И заработал он их, руководя маленьким — в двадцать человек — отрядом неопытных студентов — вчерашних первокурсников. И за сорок рабочих двенадцатичасовых смен он понял и многое другое: понял, что значит иметь власть над другим человеком и уметь этой властью пользоваться по делу; понял, что значит отвечать за людей тебе подчиненных, иных из которых ты любишь, иных терпишь, а иных совсем не любишь, но знаешь, что они нужны общему делу; он понял, наконец, что же значит это заманчивое и пугающее слово — руководитель…
А когда они приехали, то их было тридцать и первые три дня они убирали строительный мусор в цехах недостроенного завода, на фасаде которого горел транспарант: «Ударная комсомольская стройка».
Может быть, вначале это и была комсомольская стройка, но в тот год, когда все сроки сдачи завода прошли, то стройка стала обыкновенной и работали здесь и военные строители, и занесенные теплым летним ветром «бичи», и «химики» из расставленных недалеко бараков, а иногда «узкие специалисты» — сварщики, жестянщики из расположенной рядом тюрьмы.
И свое, и местное начальство знало, что такое вчерашние первокурсники. И их поставили убирать строительный мусор. Первые три дня у него даже отняли звание командира отряда. Он стал просто старшим, старшим тридцати неопытных студентов.
А руководил ими мастер. Это был миловидный, невысокий, худощавый парень лет двадцати пяти.
Когда после трех дней грязной и пыльной работы они убрали весь громадный второй этаж, то Крашев спросил у паренька, сколько же они заработали.
— Да нисколько, — ответил тот, Они сидели в маленьком, довольно уютном вагончике для мастеров. — Вот ЕНИР, — парень достал из стола тонкую книжицу. — Единые нормы и расценки. Погрузочно-разгрузочные работы. Ищем: переноска грузов на носилках. Берем объем, множим на расценку… Вас тридцать? — Крашев кивнул. — Получается по полтора рубля; в день — по полтиннику, на добрый обед не хватит. Вот так…
— Но погоди. — Для Крашева это был удар. — Ведь так мы ничего не заработаем…
— Ну почему? — парень улыбнулся. — Что-нибудь нарисуют. За ваше усердие, безотказность; за то, что пашете с утра до вечера; за то, что вы студенты, наконец.
— И сколько же нарисуют? — Крашев сидел на прочной деревянной лавке за массивным двухтумбовым столом, но чувствовал, что и лавка и стол как-то ускользают из-под него. Его опять ждала суровая московская зима, беганье в курточке и жалкое существование на стипендию.
— Ну, рублей по двести нарисуют.
— По двести? Но наши отряды работают здесь не первый год. И привозили, то есть зарабатывали, и больше… Так почему же мы?.. — В его груди было одно отчаяние, и слов тогда ему явно не хватало.
— Почему?.. — Парень улыбался, и улыбался так широко, так аппетитно, что Крашеву показалось: парень радуется их неудаче, и его охватило не то чтобы злость, а какое-то бешеное упрямство — разгадать, узнать этот секрет, секрет больших заработков. А парень подошел к открытой двери, посмотрел на громадный заводской корпус, помахал ему отчего-то рукой, опять прошел к столу, пошарил в дальней тумбе и достал бутылку водки.
— Все, — сказал он с картинным вздохом, посмотрев на часы. — Конец «химии». Жора Гробовский — опять свободный человек. Вот за это надо выпить. А деньги… — он махнул рукой. — Деньги — навоз. Главное — свобода.
…В старую школу, где разместили их отряд, Крашев пришел далеко за полночь. Его немного жег стыд за то, что он нарушил «сухой закон», но в душе у него крепла уверенность. И уверенность эта была не оттого, что Жора Гробовский — одессит (почти земляк!) — раскрыл ему глаза на многие вещи: на смету стройки и на процент заработной платы в этой смете, на выгодные и невыгодные работы, на ЕНИРы и на множество коэффициентов в этих ЕНИРах, на форму № 2, на наряды и бог весть еще на что — всего он, Крашев, захмелевший, и не смог бы запомнить. Из всего этого он сделал важнейший вывод: стройка, тем более такая, как эта, затянувшаяся, уже трижды съевшая свою смету, — это такой вертеп, где все можно. И заработать и нет…
Уверенность приходила и от другого. У Крашева был нюх на людей. Может быть, та же интуиция. Он всегда чувствовал, хорош человек или плох. Вот тогда он сидел с «химиком», пил запрещенную и ему, и «химику» водку, но чувствовал, что все это надо. Надо для дела. Под вторую бутылку Жора рассказывал ему о своей жизни. И вначале Крашев усмехался про себя: он уже знал цену таким исповедям. Но история жизни Жоры и в самом деле оказалась удивительной. Он был подкидышем. Его подкинули совсем маленьким (родителей он не знал) злой и сварливой старухе, а та сдала его в приют. Когда ему было шесть лет, его взяла к себе одинокая добрая вдова. Эти годы он всегда вспоминал с грустью. Он уже привык называть вдову мамой. Мама отправила его в первый класс. Но во второй класс он пошел опять из детдома — мама умерла.
Из детдома он бегал постоянно. И до мамы, и после… С грехом пополам закончил семь классов, а потом, не дожидаясь, когда его пошлют в «ремеслуху», выкрал документы, сбежал вовсе, поселился в заброшенном подвале и, как ни странно, поступил в строительный техникум.
— И как же ты жил? — покрутил головой Крашев. — На одну стипендию?..
— Какая там стипендия? — Жора усмехнулся. — У меня тройка была на экзамене… Взять-то взяли, да условно — весь первый курс стипендия только снилась. Директор детдома — пес, — Жора сжал свой маленький кулак, — дознался-таки, что я в техникуме, письмецо официальное накатал прокурору, мол, должен в «ремеслуху», а техникума недостоин. Ну, вызвал прокурор… Я думал оттого, что документы спер, ну и еще кой-какие дела были. Оказался, хороший старик. А, может, и не старик. — Жора опять печально улыбнулся. — Какой старик? Лет сорок ему, наверное, было… Говорит: у меня пацан тоже семь классов окончил и, балбес, учиться не хочет, а ты, мол, один, а учишься, ну и так далее. Короче, отстал от меня этот пес-директор, я и бегал-то из-за него, и стипендию за первый год всю выплатили — детдомовский потому что.
— Ну, а все же на что ты жил? — допытывался Крашев.
— Да, жил, — махнул рукой Жора. — Случалось, и воровал. Так… Всякую мелочь. Белье вместе с веревками снимал. Из общественных туалетов краны выкручивал — дефицитные были. Однажды из детдомовского все повыкрутил… Ну, и знакомому, а он — на барахолку, все торговал. А однажды коврик упер…
— Из детдома?
— Ну, нет. Там таких ковров не держат. Хошь верь, хошь нет — из райисполкома. Знакомый кореш — да у меня пол-Одессы в знакомых — шофером работал. Сговорились мы. Въехал он во двор, а я через парадное — вовнутрь. В фойе еврей сидит — старый, седой, газетку отложил, из-под очков на меня смотрит, спрашивает: «Молодой человек, ви куда?» Я ему тоже вежливо: «Папенька у меня здесь работает». Покосился еврей на мой задрипанный пиджачок, ни слова не сказал, пропустил. Высмотрел я на третьем этаже хар-р-роший такой ковер, окно подраскрыл, а машина далеко. И ковер тяжелый — к другому окну не дотянуть. Махал, махал корешу — ничего не видит, а кричать нехорошо. Сбегал во двор — показал окно и опять наверх — кричу еврею, что забыл еще что-то сказать папеньке. Прибежал, осмотрелся — никого, заседают. Скатал ковер, еле к окну подтянул, бух! — в кузов и пулей вниз. Старику ручкой помахал. Вот так и жил…
— Но могли поймать. Не страшно? — По ходу Жориного рассказа у Крашева зрела мысль, еще не до конца понятая даже им самим.
— Страшно — не страшно, а было… Отлежался немного коврик и туда же — на барахолку. Летом по садам лазил, по огородам. Фарцевал потихоньку. Одесса не Коми — прожить легче.
— А за что же ты на «химию» попал? — Крашеву стало вдруг легко. Он понял, что́ сейчас предложит этому Жоре из Одессы, этому детдомовцу, учащемуся техникума, мастеру-«химику» бывшей ударной комсомольской стройки.
— Это уже отдельная история, — сказал Жора. — Но воровство здесь ни при чем. Да и воровать я после этого прокурора бросил. Думаю, попаду к нему — умру со стыда. А там и стипендия за год, на второй курс хватило. Подрабатывал… А потом практики пошли — тогда были такие длинные практики… Преддипломная — девять месяцев, и деньги платили. На преддипломной мне уже восемнадцать стукнуло, я женился, а потом и на «химию» попал.
— Так ты женат? К жене поедешь? — Что Жора женат, Крашев не ожидал.
— Была жена, да уплыла. Я из-за нее на «химию» и попал. Да я же говорю: другая история. Сегодня не тот день, чтобы об этой дуре вспоминать…
— Тогда вот что. Иди к нам в отряд. Ты же сам говоришь, что тут можно все. Но ведь можно и заработать. А у нас во — ребята! Ну, Жора… Давай мастером. Нужен ты Одессе без денег…
— Одессе я нужен, — немного обидчиво сказал Жора. — И без денег. Одесса — не жена, а мать. Соскучился… — добавил он, погрустнев. — Пять лет в этом дерьме. Но, похоже, мысль ценная. Правда, много вас — тридцать человек, но мысль ценная. Бывший «химик» — член ССО — перековка, а? — Жора чисто и задорно рассмеялся.
Глава 3
— Идет, — сказал на следующее утро Жора. — Одесса подождет. Согласен. А твое начальство меня возьмет?
— Возьмет, — добавил Крашев. — У нас мастера нет. Давали третьекурсника, да я отказался, а сейчас вижу: не под силу мне.
Они вошли в вагончик мастеров и уселись на те же места, что и вчера вечером.
— Только у меня куча условий и требований, — сказал Жора. — Первое… Делим обязанности. Я отвечаю за работу, которой еще нет. — Он улыбнулся. — Ты — за снабжение материалами, еще не знаю какими, техникой, еще не знаю какой. И за тобой общие вопросы: поддержание дисциплины, сухого закона и так далее.
— Идет, — сказал Крашев. — Но это и так ясно.
— Подожди, это только начало. — Жора поднялся из-за стола, подошел к открытой двери и, как и вчера, посмотрел на заводской корпус, но во взгляде его было что-то иное. — Деньги, конечно, навоз, но если мы уже решили в них поковыряться, то делать многое надо не так, как обычно делают. За три года моей «химии» каких только отрядов, групп, бригад здесь не было. И чего только не было… Но к делу, — Жора опять сел за стол. — В мои дела ты лезешь только на рекомендательных началах. Я в твои — тоже. Но для полноценной работы требую: двенадцатичасовой рабочий день; отдых, баня и так далее — раз в две недели; введение ежедневных коэффициентов качества труда каждого бойца отряда и предоставление мне права проставления этих коэффициентов.
— Стоп, — сказал Крашев. — В основном принято, но в отношении коэффициента, — он замялся. — А если ты будешь необъективен?
— Можешь создать апелляционную комиссию: ты, бригадиры, комиссар, ну и я, конечно. — Жора улыбнулся. — Недоволен — подавай жалобу. Сачок много не находит.
— Идет. — От четкости, ясности и деловитости Жориных предложений Крашева охватило волнение, и было чувство, как на стартовой черте, а впереди — трудный забег и радость от этого предстоящего забега. — Давай дальше.
— У тебя еще будут заботы по кухне: продукты, дрова. Но можешь освободить от работы расторопного бойца — сделать завхозом. Многие так делают. Кстати, как повара?
— Вроде неплохие. — Крашев помялся. Поварихи — студентка и жена одного из бойцов — у них были, но кухни не было, и бойцы перебивались в местной столовке.
— Еда — один из основных вопросов. На местную забегаловку надеяться нечего — только время в очередях потеряем да желудки порасстроим. Нужна своя кухня. Свои повара. На кухню выделять одного дежурного. Кого послабее или нешибко больного, или несильно травмированного.
— Типун тебе, — сказал Крашев.
— Хоть два, а хошь-не хошь: на тридцать человек один дурак да найдется — травмируется. Кстати, общая техника безопасности за тобой, на рабочем месте — за мной. А по кухне — в два дня решить надо. Бери аванс — денег на еду, не жмоться — корми на убой. И качество, качество. Поварам — тоже коэффициенты, если хотят заработать. Кто они?
— Одна — наша студентка. Из деревни. Откуда-то из-под Перми. На два года старше нас, — добавил он, увидев, как скривился Жора. — Окончила училище. А вторая совсем взрослая, мать двоих детей. У нас студент после армии — его жена.
— Ладно, — сказал Жора. — Давай кухню. И готовить так, чтобы все окрестные собаки на запах сбегались и выли от горя… Пойдем дальше… Работа. Это за мной. И есть хар-р-рошая работа — жаль, много вас.
— Ты уже несколько раз повторяешь, что много. Больше сделаем — больше заработаем.
— Объясняю, — Жора посмотрел на Крашева. — Система оплаты — аккордно-премиальная. Премия — до сорока процентов. Это если работа хорошо сделана. От сметы на зарплату, ну и премию идет… — Жора помедлил. — Ну, для ровного счета пусть двадцать процентов. Это очень много, но допустим. Сколько ты хочешь заработать?
— Не знаю, — Крашев неопределенно пожал плечами. — Старшекурсники и по тысяче привозили. Так они говорят.
— Бывает, — сказал Жора. — Возьмем тысячу. То есть тебе надо тридцать тысяч зарплаты для отряда — ну и значит, брать работу со сметой сто пятьдесят тысяч. Ошибешься, возьмешь больше, в срок не сделаешь — премию не заплатят. Возьмешь меньше, протянешь, размажешь — тоже ни шиша не будет. Вот я и говорю — много вас, а есть хар-р-рошая работа, и материалы есть, и делать ее некому — ваши старшекурсники отмахнулись, сложна больно — им кирпичные коробки подавай, а лучше всего землю копать, ее не учтешь. Вот так вот. Но смета всего тысяч восемьдесят, не больше… Ну, что, берем?
— Берем, — махнул рукой Крашев. — Там поглядим.
— Берем, — решил и Жора. — И мусор больше ни под каким предлогом не убирать — мы свое отубирали, пусть «химики» убирают — им срок идет. А работа такая: устройство полов из мраморной крошки на втором этаже корпуса.
— Чего же тут сложного? — сказал Крашев. — Мешай да стели. Потом шлифуй аккуратно.
— Что сложного? — Жора достал из стола отсиненные чертежи. — Разбираешься? — Крашев кивнул. — Вот смотри в разрезе. Вначале делаем гидроизоляцию в пять слоев. Потом бетон стелем, и не аккуратненько, а сверхаккуратненько — вода сбегать должна. Потом шлифуем… Работа тонкая — недаром от нее старшекурсники отпрыгнули, а им предлагали, я знаю.
— Берем, — уже решительно сказал Крашев. — Не мусор же убирать.
— Хорошо, — Жора сложил чертежи. — С предложением к главному инженеру выйдешь ты, я — «химик», хотя и бывший… И последнее… — Жора внимательно посмотрел на Крашева. — Мы можем все сделать на «отлично», умереть на работе, но получить копейки. Хорошо и в срок сделанная работа — это полдела, а остальное — наряды. — Жора покачал головой. — Наряды, наряды и наряды… Ну, нарисую я их сам. Причем, нарисую без липы — работа дорогая, много ручной… Но есть нормировщица, есть начальник участка и вот тут… — Жора сделал упор. — Тут нужны неформальные отношения. Нужно, чтобы и начальник участка и нормировщица в тот момент, когда мы будем подписывать наряды, нас любили. Тебя вообще-то любят?
— Как сказать? — Крашев улыбнулся. — Мать любит, друг есть — хорошо относится, ну там соседка… — Крашеву неудобно было говорить про Анну. — Словом, соседка письма шлет… Мне кажется, любят.
— Это хорошо, — Жора был серьезен. — Вот и надо, чтобы и начальник участка и нормировщица тебя любили. Хотя бы в тот момент, когда ты им наряды на подпись понесешь. Любили бы тебя, как меньшого брата, как сына, не знаю еще как и за что, но любили. Но для этого, прямо с сегодняшнего дня, мы должны помнить об этом и что-то делать. Не знаю… Носить цветы нормировщице. Она, старая дура, это любит. Спрашивать о здоровье детей у начальника — он у нас вербованный, из Ленинграда — жена и дети там остались. Интеллигент, кстати… Так что думай, думай…
Глава 4
В то же утро Крашев встретился с главным инженером управления, строящего завод. Немного посомневавшись, с его предложением главный согласился: людей не было и деваться ему было некуда.
После обеда на маленьком собрании Крашев познакомил ребят с Жорой, а Жора — всех с предстоящей работой.
Оставшуюся часть дня потратили на переделку старой школьной печи, на которой давно никто не варил, но которая, по оценке Жоры, кое на что еще годилась.
Уже под вечер Жора достал где-то машину, и, поносившись часа два по поселку и близлежащим деревенькам, они закупили продукты. А на следующий день закипела работа…
За пять институтских лет Крашев руководил стройотрядами пять раз. Работали на Чукотке, в двухстах метрах от океана; в Якутии, рядом с драгами, день и ночь моющими золото; на Урале, в глухой башкирской деревушке. После четвертого курса были «лагеря» — полевая учеба военной кафедры в одной из подмосковных воинских частей. Он стрелял, бросал гранаты, бегал по полосе препятствий, но думал о том, где бы подзаработать и в этот раз.
Возвращаясь из недальнего похода, их взвод отдыхал на окраине небольшой деревни — отделения местного совхоза. Он разговорился с управляющим — тот жаловался на отсутствие рабочих рук. Крашев предложил помощь, и уже на следующий день, после того как они сняли форму, с маленькой бригадкой он был опять в совхозе.
За эти пять сезонов он зарабатывал по-разному. И очень много, как в глухой, но совсем не бедной башкирской деревушке, и мало, как в золотоносной Якутии, но в его память навсегда, навечно, до мельчайших подробностей врезалась именно его первая «целина» — в Коми…
Почему? Может, именно там он стал меняться и забывать мать, Анну, доброго Водолаза, могилу, своего отца? И именно там его удивляло и обратное — то, что было в Жоре Гробовском — подкидыше, не помнящем своего родства и цепляющемся всеми своими чувствами за то, чего не было у него…
А вначале они подружились. Жора «съехал» из бараков, где жили «химики», и в школе, в маленькой комнатке, их кровати стояли рядом.
Крашева трудно было чем удивить, и он всегда внутренне сопротивлялся обнаружившемуся в себе удивлению, но в общении с Жорой скрыть этого он частенько не умел.
А удивляться и в самом деле было чему. У Жоры была куча прав и удостоверений: водителя, крановщика, экскаваторщика, электрика, сварщика. Как оказалось, он и владел этими профессиями прекрасно. На долгих техникумовских практиках он работал каменщиком и монтажником.
Однажды вечером Жора прочитал статью в журнале. Летчик-ветеран рассказывал, как, находясь в плену у немцев и работая на аэродроме, он угнал фашистский самолет.
— И я бы смог, — загорелся Жора. — Я чувствую. Вот сел бы в кабину и — газу… Штурвал на себя и… — он сидел на кровати и махал руками. — Я бы улетел…
— Как ты все это сумел? — показывал Крашев на его многочисленные права и удостоверения.
— Знаешь, когда из детдома и вообще… Хочется что-то доказать. Чувствуешь себя недоделанным. Ну и доказывал. Да и жизнь заставляла. Вот на «химии» экскаваторщиком работал, а уж потом мастером.
Он брал красненькую книжицу и смеялся:
— А вот эту купил. За пятерик на Дерибасовской.
Говорил Жора обычно просто, без одесских словечек и шуток, но иногда увлекался.
— Подваливают два кента. «Пацан… — я еще в техникуме учился — пацан купи ксиву — червонец просим». Посмотрел — чин чинарем: печать, подписи, а специальность не указана. «Че надо, — говорят кенты, — то и впишем». Прикинул — прав на тракториста нет. Но вот беда — в кармане только пять рублей. «Ладно, — говорят кенты. — Давай свой казначейский билет — будешь трактористом…» Да умею я и на тракторе… — Жора опять смеялся.
— Почему ты Гробовский и почему Жора? — спрашивал Крашев.
— А почему? — спрашивал и Жора.
Он подходил к небольшому зеркалу на стене и вглядывался в свое отражение.
— Кто я вообще? По документам — русский. Да какой я русский? Поляк? И поляк такой же…
— Ты — еврей, — смеялся Крашев.
— Может, и еврей, — Жора был серьезен. — Хотя нет, не еврей. Говорю слишком просто, да и уши… Нет, скорее всего, я грузин.
— Какой ты грузин? Грузины высокие. Ты — цыган. У тебя все повадки цыганские. — Крашев уже от души смеялся.
— Может, и цыган. Хотя цыганят не бросают. Да и лошадей боюсь. На самой тихой кобыле не поеду… Или армян, или грек, а, может, и русский, — заключал он, приглаживая свои жесткие черные волосы.
Он садился на кровать и печально усмехался:
— Ну, а Жора, да еще и Гробовский… Безымянных, безродных детей в приюты мало попадает. Мать в роддоме оставит или потом принесет, умрут родители, прав отца с матерью лишат или что там еще, но дети уже и с фамилией и с нацией. А такие, как я, — раз в год, а то и меньше. Бабка, что меня нашла, — злыдня, мне ее потом показали — часов десять марьяжила, еле живого в приют отдала. А в комиссии по таким делам чудак был. Большой ученый по именам и фамилиям. И вот, чтобы сглазу не было, чтобы раньше времени в гробу не оказался, и придумал такую фамилию. А Жорами всех безымянных называли — из Одессы потому что. Ну, и русский, само собой…
…Работу Жора организовал великолепно. Он мгновенно, поговорив с бойцом, определял, чего тот стоит, и ставил именно на нужное место в довольно сложной технологической цепочке.
А знать и уметь надо было многое. Пилить и колоть дрова для разогрева битума в большом котле. Греть круглые сутки этот битум. Разливать почти кипящую жидкую массу в обрезанные фляги и тощеньким, дребезжащим «пионером», установленным на плоской заводской кровле, подавать эти фляги на выдвинутый помост второго этажа и тащить их к месту. Экономно разливать и клеить, клеить, клеить бесконечный, многослойный тоненький пирог.
Случались ЧП. Развели под котлом большой огонь, и пламя, страшно и зло заурчав, перекинулось на закипевшую черную массу. Истопник сдуру стал лить воду на битум и ошпарился этой отскакивающей от булькающего битума водой. Прибежал Жора. Огонь под котлом залили. Котел накрыли толстым мокрым брезентом. Жора где-то достал баночку гусиного жира. Ошпаренные руки смазали, забинтовали и бойца отправили на легкий труд, к поварам. С рюкзаком на спине, с Зойкой — беленькой, смешливой поварихой из-под Перми, он ходил по магазинам, носил продукты.
…Площадь второго этажа, громадную, уже уставленную импортным оборудованием, они заклеили за десять дней. Но к этому времени их стало на пять человек меньше.
Однажды вечером — Крашев и Жора уже готовились лечь спать — в их комнатушку вошли пять студентов, и один из них, плотный, интеллигентного кроя парень, неловко и извиняюще разводя руками, начал что-то рассказывать Жоре о низких расценках, о дешевой работе и еще о чем-то. Поначалу Крашев ничего не понял.
— Хотите уехать? — спросил Жора, продолжая разбирать постель.
Еще больше смутившись и еще более невнятно, парень что-то говорил, а Крашева охватывала злость. Предатели! Только-только наладили работу, кухню, а они — сбегать. Да никогда! Резким жестом он остановил довольно жалкие доводы совсем сникшего студента и тут вдруг увидел подмигивающего из-за спины ребят Жору.
— Да хрен с ними, — почти радостным тоном сказал Жора, когда Крашев резко и зло попросил ребят подождать решение в коридоре. — Это же сачки. Сачки все до единого. И сачки не оттого, что не хотят, а оттого, что не могут. Папа с мамой не научили. Отпусти ты их. Толку от них все равно не будет. Знаю я таких. Заработаем — права начнут качать, чтобы заплатили, как остальным, а не заработаем — нас же и осудят. Вот смотри, — Жора взял журнал коэффициентов. — Всем по 0,5 ставлю и каждый божий день.
— Езжайте, — сказал Крашев, когда Жора радушным жестом пригласил смирно ждавшую пятерку. — Только так. Через час электричка до Сыктывкара. Уезжайте тихо и аккуратно. Чтобы никто не видел и не слышал. Будете прощаться да слезы лить или потом какие претензии появятся — сообщу в деканат и в бюро комсомола. Вот деньги на билет и на дорогу. Расписывайтесь и двигайте.
Радостные, счастливые, тихие и довольные, парни ушли.
— Не беда, — сказал Жора тяжело севшему на кровать Крашеву. — Цены на акции растут. Меньше народу — больше кислороду. Правда, слишком все быстро получилось. Думай, что завтра народу скажешь…
— А что думать? Скажу, что сбежали, ведь так оно и есть.
…После того, как довольно быстро поклеили свободное, ничем не заполненное место будущего склада и широкие проходы, долго и муторно клеили пол под оборудованием, где под каждую ногу, станину, стойку надо было резать рубероид, прикладывать и прикидывать, клеить, опять резать, подгонять и опять клеить. Но и эта муторнейшая работа была окончена, и пригласили представителя заказчика принимать ее.
Это был старый, седой, скрученный тягчайшим ревматизмом и оттого всегда смотревший только в землю инженер из дирекции. Упорно глядя вниз, Нил Петрович (так звали инженера) прошелся по широкой части, отчего-то потопал ногой, а потом, так же упорно не отрывая глаз от черного, в некоторых местах тускло блестевшего ковра, полез под оборудование.
Крашева охватило волнение. Ведь где-то они не проклеили, где-то не дотянули. И вдруг Крашев вспомнил, что последние дня три в дальнем углу, а именно там сейчас и стоял, задумчиво уткнув глаза в ковер, Нил Петрович, бригада клейщиков клеила только три слоя. Как же он не обратил внимания? Этот, как бы специально созданный для приема таких работ угрюмый скрученный Нил Петрович все увидит.
А Жоре все равно! С громадным сапожным ножом он бегает перед Нил Петровичем, тычет остро отточенным концом в ковер и призывно восклицает:
— Ну, где резануть, Петрович?! Где?! Здесь, а может, здесь?
Угрюмый Нил Петрович тычет пальцем, и Крашев холодеет — в этой части три слоя, а по проекту должно быть пять.
Но веселый и как будто даже довольный Жора режет маленький треугольный слоеный пирожок и подает заказчику. Тот, едва взглянув, кивает и идет дальше…
Уже после того, как был составлен акт и им разрешили делать полы из мраморной крошки, Крашев подошел, взял в руки аккуратный треугольник: слоев было пять.
Вечером они долго не ложились, радовались первой победе, додумывали технологию по полам. Крашев сказал:
— А я подумал, в углу три слоя. Боялся, что доделывать заставят.
— А три и было, — ответил Жора. — Имелись у меня там контрольные места. Танцевать я по всему ковру смог бы, а вот резать — ну, нет, только в таких местах.
— Значит, все-таки три? — Крашев был ошеломлен. — А вдруг узнают? Вдруг потом протекать начнет? Ну, Жора, с тобой и сесть недолго.
— Не посадят. — Жора взял справочник. — Смотри: в этом месте можно три слоя. Перестраховались проектанты. Обычное дело: лучше больше — хуже не будет. А нам с тобой премию надо — сколько рубероида наэкономили.
Глава 5
Устраивать бетонные полы из мраморной крошки (так это называлось в ЕНИРе) было не так муторно, зато много тяжелей.
Бетономешалку, громадную, неуклюже повертывающуюся грушу, через выставленный оконный проем, по швеллерам, затащили на второй этаж. Рядом сколотили ящик для цемента. Но всю мраморную, искрящуюся кварцевыми вкраплениями крошку-щебенку на второй этаж подать было невозможно, и ее решили завозить как можно ближе к оконному проему и подавать наверх краном.
Хилый, чахлый «пионер» для таких целей уже не годился. Между заводской стеной и забором тюрьмы (вернее, промышленной зоной этой тюрьмы), той самой, из которой привозили «узких специалистов», наверное, еще в начале стройки были проложены подкрановые рельсы, сделан деревянный короб, а в дальнем углу стоял и сам трубный кран, теперь, когда уже отстроили коробку завода, брошенный и ненужный. После того, как они быстро и совсем неплохо сделали гидроизоляцию, их заметили, еще не совсем, чтобы серьезно воспринимать, но достаточно, чтобы иногда помогать.
С краном помогли быстро. Из района приехали молодые, шустрые ребята, одетые в зеленые, с яркими нарукавными эмблемами спецовки. Заменили подгоревший двигатель, слазили наверх, а потом один из них прямо снизу, нажимая щепкой на реле, завертел стрелой и сделал майна-вира крюком. Ездить по рельсам он не рискнул — деревянный желоб, по которому за краном тащился кабель, был разбит. Вдвоем с Жорой (студенты носили цемент), вспомнив школьные каникулы и работу с матерью, Крашев лихо ремонтировал короб.
А к концу дня пришел начальник участка, привел крановщика. Крановщик был высоким, тощим и имел такое испитое, просто замученное лицо, что сердце у Крашева заныло.
Нехотя, как бы делая громадное одолжение, крановщик походил вокруг крана, поеживаясь, не делая попыток ни к знакомству, ни к разговорам. Так же нехотя, еле передвигая ноги, он влез на основание крана, открыл дверцу трубы, просунул в нее свое тощее тело и надолго пропал.
Минут через пять, когда им надоело стоять, задрав головы, они уселись на борт короба, и Жора спросил у Крашева:
— Командир, а я пользуюсь правами члена отряда?
— Ну, конечно, — сказал Крашев, пытаясь разглядеть пропавшего крановщика.
— И я имею право получить аванс, ну, эдак, рублей двадцать пять?
— О чем речь?.. — чуть досадливо поморщился Крашев и подошел к нижнему срезу трубы. — А, может, он застрял?
— Не горюй, — Жора улыбнулся. — Беру его на себя. Завтра в трубе бегать будет. Только ты аванс не забудь.
— Не забуду — вечером получишь. И сто рублей не жалко. Только каким макаром ты этого алкаша бегать заставишь? Поманишь деньгами? Он уже скоро ползать не сможет.
— Секрет, — Жора как всегда задорно улыбался. — Но больше двадцати пяти рублей мне не надо. Может, даже много.
В это время кран дрогнул и мягко покатился по рельсам, таща за собой толстый, покрытый пылью кабель. Потом крановщик повернул стрелой, опустил и поднял крюк. Делал он это, наверное, с такой же скоростью, как и парень из наладочной бригады, но Крашеву показалось, что и это делается медленно и лениво. Не дождавшись, когда крановщик спустится вниз, они пошли к школе…
На следующий день, часов до двенадцати, Крашев носился по хоздвору стройуправления, выбивал машину для подвозки мраморной крошки, организовывал ее погрузку.
— У нас все готово, — сказал Жора, когда Крашев подъехал к месту разгрузки. — Бетономешалка крутится, ребята расставлены по местам. Даже с профессиями определились: месильщики, тащильщики, гладильщики, а внизу у крана — насыпальщики.
— А подавальщик? — в тон ему спросил Крашев. — Он хоть на работу вышел?
— Вышел. Сейчас из столовой придет — увидишь, как он по трубе полезет.
Минут через десять, широко, старательно вышагивая длинными худыми ногами, подошел крановщик. Не останавливаясь, невразумительно-извиняюще пробормотав что-то Жоре насчет длинной столовской очереди, он так же старательно просунул свое тело в трубу; и, подняв раз-другой голову, за большим кабинным стеклом Крашев увидел это тело уже наполовину сложенное и готовое исполнять команды.
— За что же ты его зацепил? — спросил Крашев, когда они с Жорой прошли в вагончик. — Прямо переродился человек.
— К сожалению, ничего оригинального, — Жора, казалось, был расстроен. — Но деваться некуда. — Он подошел к двухтумбовому столу, открыл дверцу и достал маленькую аккуратную бутылочку — двухсотпятидесятиграммовый «шкалик» столичной водки. — Это его ожидает в конце каждой, хорошо отработанной смены.
— Да-а-а… — покрутил головой Крашев. — Мето́ды у тебя! Спаивание рабочего класса. И, думаешь, надолго его хватит?
— Думаю, что нет. Дней на десять — до его аванса. Но я уже кое-что придумал. Поработаем день-другой, а потом в две смены.
— Как в две смены? — Крашев уже стал привыкать к Жориным чудесам, но работать в две смены… Смогут ли они? А кто на кране?
— Основной запас мраморной крошки будет делать подавальщик, — Жора махнул рукой на двигавшийся за окнами кран. — Ну, а если не хватит, то для второй смены буду подавать я. Я же крановщик, в конце концов…
Через два дня, а к этому времени один из студентов (демобилизованный из армии бригадир-женатик) сделал нужное освещение, отряд стал работать в две смены. Крашев добился, чтобы за ними закрепили еще одну машину, и мраморную крошку подвозили теперь беспрерывно. Отряд поделили пополам, а поварихам на кухне перестали выделять даже одного дежурного. Кололи дрова, закупали продукты между сменами. И многое, очень многое делалось уже без его и даже без Жориного участия. Прошло всего три недели после их приезда, но отряд уже перестал быть тем, чем был вначале, — группой молодых, наивных ребят, в общем-то не знающих, зачем они приехали на эту стройку. Уже зажили первые, да и вторые кровавые мозоли, затянулись ссадины, прошли синяки. Все стали ловчее, появилась сноровка. Каждый уже понял, чего он сто́ит как боец, как трудяга, и знал, чего же сто́ит его сосед. Все определились с местами и «специализацией». В напряженной, тяжелейшей работе не было, да и не могло быть сачков — они бы тут же выплыли наверх, и их бы смыло. Это уже была не группа людей, это был четкий и слаженный механизм, и они — частицы этого механизма — уже гордились собой и тем, что делали, и гордились своими товарищами.
И поэтому многое, очень многое делалось самими бойцами. Так, он, Крашев, снял дежурного по кухне — одной из смен не хватало рабочего у бетономешалки, — но тут же появились добровольцы, помогавшие поварихам. Перестановки в технологической цепочке уже происходили без ведома Жоры — кому-то нравилось работать под краном, кто-то «готовил» бетон нужной консистенции лучше всех, у кого-то получалось ровно и аккуратно «тянуть» полы из этого бетона. Но все перестановки, все смены были нечасты, быстры, толковы и не во вред основной работе.
…Жора оказался прав. На следующий день, после того, как рабочим стройки выдали аванс, крановщик пропал. Все было и так ясно, но Жора позвонил в управление и, узнав адрес, на одном из самосвалов сгонял к крановщику домой.
— Безнадежен, — сказал он, спрыгнув с подножки машины в зашелестевшую кучу мраморной крошки. — Со вчерашнего дня не просыхает. Меня с родной женой путает… Что же, — он чуть помедлил, посмотрел на Крашева. — Осталось немного. Придется тебе поработать «подавальщиком». Я буду в первой, а ты — во второй смене. С начальником участка как-нибудь договоримся, ну а инженер по технике безопасности в первую-то редко бывает, а уж во вторую… Полезли, потренируешься пару часов.
Почти не удивившись такому решению, уже уверенный если не в заработке, так в том, что эту нелегкую работу они сделают, и сделают хорошо, уже счастливый от ощущения покоренности этой работы и машин, которыми они владели, и от острого желания завладеть и покорить еще одну, Крашев сделал два быстрых, широких шага и запрыгнул на разлапистую станину крана…
Глава 6
А между тем вокруг была, двигалась, существовала иная жизнь. И поначалу занятый заботами о кухне, рубероиде, мраморной крошке, самосвалах и бог весть еще о чем, он не особенно замечал эту иную «нестроительную» жизнь. Но жизнь эта все больше проникала в его сознание, отвлекала его, пытающегося вначале отмахнуться от нее, не понимающего, что отмахнуться от этой жизни невозможно, ведь кажущаяся тебе большой и значительной твоя деловая, «строительная» жизнь — малая, очень малая доля той иной, по сути, основной жизни.
И первое, что неудержимо проникало в него, отвлекало, была природа… Однажды под вечер — они еще клеили рубероидом пол — Крашев поднялся на плоскую заводскую крышу: остановился хилый «пионер». Он помог распутать трос на барабане и пошел к выходу. Выход на крышу был в противоположной стороне от «пионера», от забытого, брошенного тогда трубного крана, от высокого забора промзоны и от ровного, обезлесенного пространства вокруг этой промзоны. А здесь, с этой стороны, было другое, и у него захватило дух и от высоты, на которой он стоял, и от того, что было дальше — реки, быстро и мощно катившей свои, еще не устоявшиеся после дождливого июня, мутные воды, и раскинувшегося вширь и бесконечно вдаль зелено-коричневого хвойного леса. Привыкший к дубам, букам, белолиственницам небольших южных рощ и увидевший первый раз живую ель в Сокольниках, он понял, что этот беспредельный лес состоит из чего-то другого. Но чего? Он не смог бы отличить лиственницу от сосны. Может, это кедры? Хотя кедры в Сибири… И где кончается этот плотный, дерево к дереву, беспредельный зелено-коричневый, схваченный зыбкой синью у горизонта лес? А может, это не лес? Неужели тайга? Настоящая тайга?..
С того самого дня, как он пытался нарисовать озеро в их маленьких горах, речушку, кладку и идущую по ней Анну, он не брал в руки кисть. И сейчас ему неудержимо захотелось здесь, на крыше, установить этюдник и нарисовать и бурную мутную реку, и мощные расчлененные косыми солнечными лучами деревья за рекой, и густой, неразделимый их пласт вдали, и, особенно, эту зыбкую синь у горизонта. В тот момент он забыл обо всем и уже думал, что река не должна быть бурной и большой — это отвлекало бы от того, что сейчас волновало его и заставляло думать о картине. Да, реку надо делать чистой и небольшой. Он вспомнил грустные буки, отражавшиеся в озере. Но здесь — не грусть. Эту зеленую мощь не разрушить никакой воде. Река здесь не играет никакой роли. Хотя… В ней могут отразиться громадные сосны (пусть сосны!) — это будет первый план, потом мощный зеленый пласт — общий план и, наконец, зыбкий синий беспредельный и бесконечный простор у горизонта — завершение всего.
Он непроизвольно пошел по крыше, как бы проверяя то, что нашел, и ища, может быть, лучшую позицию. Его охватывала дрожь от того, что нет красок, картона, этюдника. Сейчас Крашев не имел даже карандаша и кусочка бумаги. Он вернулся к выходу — здесь было лучше всего — и оцепенел. Близился вечер… Косые лучи солнца уже не членили ближайшие деревья. От далекого горизонта набегала тончайшая, стушевывавшая картину дымка. Ему стало невыносимо грустно. Миг — бесконечную ценность которого он почувствовал сердцем — уходил…
Снизу вынырнул Жора.
— Ну, как? — кивнул он в сторону «пионера». И Крашев, всегда радующийся общению с Жорой, довольный его сноровкой, в тот раз лишь хмуро буркнул: «В порядке» и быстро полез вниз…
Да, иная, нестроительная жизнь кипела вокруг. И он, как в еще не очень далеком детстве и почти с таким же детским восприятием, вбирал ее в себя, все ее оттенки и нюансы.
И когда-то это случилось… Когда? Когда он стал другим? Когда случился тот нравственный поворот? Когда тончайшее, невидимое лезвие отделило его от матери, Анны, отца, школьного учителя? И что тому причиной? Желание подзаработать и выбраться из нищей жизни, какою он жил в Москве? Или что-то другое? Охватившее вдруг желание не просто выбраться, а и утвердиться? И когда они пришли — это властолюбие и эта корысть? Ведь в школе, в детских играх, он никогда не был заводилой. Всегда, всем руководил Васька Ширяев. И никогда он, Крашев, особенно не любил денег, не тянулся к ним, и у него их не было. А может быть, и поэтому тоже? В силу обстоятельств, став маленьким, полуофициальным руководителем и почувствовав, что такое власть, он стал властолюбивым. Появилась возможность — он заработал большие для него деньги, и пришло желание всегда иметь такие деньги — и понемногу подкралась корысть.
А нравственное тончайшее лезвие крошит, кроит дальше. У тебя вроде те же руки и ноги, тот же цвет глаз и волосы так же густы и черны, а невидимое лезвие уже прошло сквозь всю твою душу… И ты уже другой. Ты будешь со временем опытней, умней, у тебя, в твоих руках будет много власти, но ты уже другой. И ты уже не с матерью, отцом, добрым Водолазом, его дочерью. Ты — уже с другими. Ты по другую сторону тончайшего лезвия и назад не перепрыгнешь…
Даже от Жоры Гробовского отслоило тебя это невидимое лезвие. От бывшего детдомовца, бывшего мелкого воришки и уже бывшего «химика». С трудом, но перелез Жора Гробовский через острое, жалящее лезвие. И произошло это на твоих глазах…
А вначале вы стали настоящими друзьями. И Жора учил тебя управлять трубным краном. За два часа, как обещал Жора, ничего не получилось. И Жора с неделю, отработав двенадцать часов днем, по три-четыре часа прихватывал и от ночной смены, терпеливо показывая и рассказывая.
Рычагов было немного: рычаг «вира-майна», рычаг «поворот влево — поворот вправо», рычаг «ход вперед — ход назад», а из приборов в истрепанном, забытом кране был только амперметр, и научиться во всем этом разбираться было несложно. Жора учил другому. Учил главному — пониманию сути дела: непрерывному контакту со стропалем.
Команды, которые подает стропаль, — обязательное, но вторичное дело. Ты и без стропаля должен все видеть, все знать и по выражению его лица, по едва заметному движению головы, едва видному кивку предугадывать, какой будет «официальная» команда. Ты как бы должен стоять все время рядом со стропалем, а еще лучше «сидеть» на крюке и все видеть, чувствовать и понимать не хуже самого стропаля.
После нескольких вечеров Крашев уже мог тихо, плавно, но четко выполнять все операции. И в один из этих вечеров Жора дорассказал свою историю. Историю своей неудачной женитьбы. Что явилось тому причиной? Он ведь не хотел вначале рассказывать. Может, от единения, которое появилось от совместно делаемой работы, может, от белой-белой ночи, опустившейся на приполярный поселок, а может, от всего этого: и совместно делаемой учебы-работы, и белой, завораживающей ночи, и таинственности огороженной промзоны… А, может, от вида странной женщины, идущей между высоким забором этой промзоны и громадными стенами заводского корпуса?..
…Жора женился на такой же, как и он сам, детдомовке, уже окончившей училище и работавшей штукатуром. На одной из строек, где он проходил преддипломную практику, они и встретились.
— Где же вы жили? Где взяли денег на свадьбу? — спрашивал Крашев.
Когда Жора рассказывал о жене, Крашев вспоминал Анну, вспоминал о своем обещании жениться на ней и в нехитрой истории Жориной неудачной женитьбы, не признаваясь даже самому себе, уже пытался найти доказательства ненужности, бесполезности такого раннего брака, когда ты еще никто, когда нет квартиры, нет положения, нет денег, чтобы по-человечески сыграть свадьбу.
— Деньги нашлись, — рассказывал Жора. — Я говорил тебе, что жил в старом, заброшенном подвале. Его давно заняли бы чем-нибудь, но дом стоял на берегу моря, к подвалу хорошей дороги не было, в склад превратить его было нельзя. Внутри было сыро, пахло канализацией. Никому он не был нужен, кроме меня. Из досок и фанеры отгородил я себе комнатешку, где потеплее да посуше, прокинул пару электропроводов, ну и жил. А потом эти самые практики пошли. На первой учили нас кирпич класть: тычок — ложок, тычок — ложок… Поучили-поучили, а потом, как положено, мусор убирать. День убираем, два… И тут смотрю — какой же это мусор? Сплошной кирпич от старого дома. Чего зря добру пропадать? Сговорился с корешом-шофером, накидали пару машин и к моему подвалу. Оббил кирпич от старого раствора и опять: тычок-ложок, тычок-ложок… Потихоньку выгородил пару комнат. А та, что из досок, вроде как кладовка. Вот так и жил в двухкомнатной с раздельными входами и кладовой. Полный комфорт… И повадились ко мне мужики. Летом еще ничего, в подвал не очень тянет. А зимой! Скинутся на бутылку, а выпить негде. Ну, и ко мне. Открою я им ту, что побольше, там и пьют.
— Ну, а ЖЭК? — спрашивал Крашев. — Что там, власти не было?
— Сам начальник ЖЭКа приходил, — усмехнулся Жора. — Налили ему мужики. Выпил, крякнул, закусывать отказался, поматерился, что много курят, покурил со всеми да и ушел…
Жора помолчал.
— Да-а-а, — заговорил он опять. — Мельчает нынче народ. Сейчас это уже невозможно было бы. И меня бы выперли, а уж мужиков из моей «Таверны» — так они большую комнату называли — тем более. А хорошие были мужики — почти все из нашего дома. — Жора теплел взглядом. — Дядя Вася со сломанным носом, Боксером его звали; дядя Боря Алиев — крымский татарин, Шестипалый — у него на правой руке два больших пальца было, сантехником работал; Феофаниди, грек, сапожничал на нашей улице; Гусев, счетоводом или еще кем в этом же роде работал, все курей разводил, интеллигентом считался, в политике был силен, не меньше, чем в курах. Да-а-а… Пили тогда не для балдения, как сейчас. Соберутся, выпьют, закурят и — разговоры… Чего только не услышишь. Но ничего дурного. Ум и совесть не пропивали. Да и меня, как ни странно, стеснялись. Расходятся тихо. Все за собой уберут. А Боксер — дядя Вася Пирогов — бутылки соберет и мне в кладовку. Это, говорит, твоя сберкнижка… Иногда, правда, и дурачки бывали, но таких в другой раз не приводили. Вот так вот… Ну, а потом женился…
— А все же откуда деньги? — допытывался Крашев. — На бутылках свадьбу не сыграешь.
— За четыре года, что я в техникуме учился, знаешь, сколько в кладовке бутылок оказалось? Шесть тысяч штук! Вот так вот, — смеялся Жора. — Чем не сберкнижка? Договорился с одним приемщиком и по десять копеек за штуку сдал. С корешом-шофером день возились. Шестьсот рублей — копейка в копейку! Ну, а кого мне на свадьбу звать? Не пса же — директора детдомовского. Дядю Васю пригласил, шестипалого Алиева, Феофаниди-сапожника, Гусева-куроеда, почти весь дом… В «Таверне» свадьбу и сыграли. Все шестьсот рублей и вылетели. Два дня гуляли. А в понедельник утром дядя Вася: тук-тук, заходит и тысячу рублей на стол — от жильцов дома на первое обзаведение.
«Заработаю тысячу рублей — привезу Анну в Москву, — решил Крашев в тот миг. — Привезу и женюсь».
Это было что-то вроде клятвы, клятвы неуверенной и минутной. Москва — не Одесса и даже такого подвала у него нет.
«Напишу письмо, — уже чуть позже думал он. — Все расскажу — пусть сама решает…»
А потом появилась эта тихая, как мышь, женщина. Крашев ее увидел, когда она взобралась на свое обычное место. Но Жора заметил раньше, и от этого, наверное, у него изменился голос.
— Странное существо — человек, — сказал он тихо. — Никаких открытий я, конечно, не делаю. Наверное, мильоны и мильоны раз все это повторялось и еще повторится. И мильоны раз люди так думали и так говорили; и все же, странное существо — человек… И как странно иногда то, что он делает… И страшно… Вот смотри, — Жора указал рукой на промзону. — Лагерь… Там люди… И одни люди стерегут других. Зэки… охранники… Все, вроде бы, правильно. Совершили преступление, изловили, судили, огородили высоким забором… И все же страшно. Только у людей такое…
— Сентиментальный ты, Жора, — улыбнулся Крашев. — Все это, конечно, неприятно. Но что тут странного и, тем более, страшного? Первые дни и мне было не по себе. Комсомольская стройка и рядом — тюрьма. Кстати, почему эта самая промзона так рядом? И не просто рядом, а вон крюк при повороте в зону опустить можно.
— В зоне доски, двери, всякие там рамы делают. Опилок и стружек — тьма. Раньше сжигали, а теперь вот древесно-волокнистую плиту делать собираются. Но завод, да с импортным оборудованием, зэкам не построить, только вот котлован и сумели откопать, а потом отгородились.
— А работать смогут?
— Работать смогут…
— Значит, завод опять в зоне будет?
— Будет, и вот по этим этажам, по нашим мраморным полам будут гулять вон те ребята. — Жора указал на группу людей за забором.
— Да, странновато, — сказал Крашев. — Отгородились, потом опять загородятся. — Он помолчал. — Впрочем, мне все равно. Да и странновато только вначале, а присмотришься — люди как люди. Нахальные, правда, юркие — это да! Вон видишь, за забором у них склад досок. Штабели высоченные… Так заберутся на штабель и с нашими со второго этажа заговаривают. Я приказал, конечно, ни в какие контакты не вступать.
— И правильно сделал, — сказал Жора. — С ними только вступи… Но я не об этом. Трудно все это понять, а объяснить еще труднее. Вот смотри, — показал он вдруг на начало подкрановых путей. Там, между щебеночным полотном и наружным забором промзоны, проходящим в этом месте по небольшой впадине, скопилась громадная куча мусора. Подкрановые пути заполняли весь узкий просвет, машине подъехать здесь было невозможно, и мусор этот копился годами. Да и их отряд прибавил к этой куче немало. Сейчас его было так много, что верх этой кучи был почти вровень с верхом забора. На этом зыбком, шатком постаменте Крашев увидел женщину. Она смотрела в зону, где на штабелях стояли люди в серой, мышиного цвета одежде. Между женщиной и людьми было метров пятнадцать-двадцать. Они хорошо видели друг друга и хорошо слышали, и поэтому разговаривали негромко, отрывисто.
— Как ты думаешь, что она делает? — спросил Жора. Вид у него был сумрачный.
— К мужу пришла или к брату… — пожал плечами Крашев.
— К мужу? — болезненно поморщился Жора. — А ты ее видел вблизи?
— Видел, — сказал Крашев. Он и в самом деле встречал женщину в поселке. — Вид у нее, правда, не лучше, чем у нашего бывшего «подавальщика».
— «Подавальщика»? — привстал с кресла Жора, но в кабине крановщика было тесно и он опять, уже в какой-то тихой ярости, плюхнулся обратно. — «Подавальщик» просто пьянь, но эта… Ты говоришь, не страшен человек. Вот посмотри на нее — стоит на мусорном постаменте. Ты думаешь, к мужу, к брату пришла? А ты посмотри внимательно. Смотри… что-то ей кинули… смотри… ты думаешь, это платьице на ней, в цветочек… Как же так! Вырядилась «синявка» тухлая в халатик… а под халатиком ничего нет. Сейчас за пару грязных трояков стриптиз устраивать будет. — Жора опять привстал, невпопад тыча рукой в сторону женщины. — Да она давно забыла, какого же она пола, у нее же чувств никаких нет, и все же пользуется… — Бледный и взмокший Жора откинулся в кресле. — Раскрутить бы кран да крюком по башке. А ты говоришь… — Он встретился с глазами Крашева. Крашев подавленно молчал. — Цветок природы… Не-е-ет, — помолчав, добавил он. — Ничего нет страшнее падшей женщины. Хотя… Вот стоит она, приоткрыв свой халатик, а нам ничего не видно и не страшно — просто противно. Какая-то там «синявка», где-то там на куче мусора. Но представь иное. Ты любил? — вдруг спросил он, и Крашев, не ожидавший такого вопроса, вздрогнул. — По-настоящему!.. И чтобы тебя любили… По-настоящему… И чтобы все было — «от» и «до» — тоже по-настоящему.
Крашев молчал. Ему неудобно было говорить об Анне.
— Так любил? — повторил Жора. — Было такое? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — А у меня было. Вот ты говоришь, я сентиментальный. Может быть… Нет человека грубее детдомовца и нет его сентиментальнее. А зэки? Знаешь, какие они стихи любвеобильные пишут? А какие переписки с девахами заводят? Ну, а я — бывший детдомовец и бывший зэк — вдвойне сентиментален, — печально рассмеялся Жора. — Но в каждом человеке есть любовь. Я не знаю, что это такое. Наверное, так даже говорить нельзя: «есть любовь». Но есть, есть… Должна быть. Вот помню, рос в детдоме… Радио слушаешь… Потом телевизоры появились. Книжки почитывал, журналы… Просто на улице слышал… Люди говорят друг другу нежности. Какие-то ласки. Мать целует своего сынишку… Глядишь, и он тянется к ней. Такая малость… Посидеть на коленях у отца… Коснуться его рукой. А слова… Нежные слова… Тебе говорят, что ты самый умный, самый красивый… Чепуха, конечно. Ты подрастешь и все поймешь, но все это надо, надо… А в детдоме вместо этого — пес-директор. Между прочим, сейчас я это понимаю, не такой уж он плохой человек был. Даже по-своему справедлив. И многие из наших зла на него не имеют. А я — нет! — Жора ткнул своим небольшим кулачком по приборному щитку. — Дело в том, что он нас бил. Да-да, — добавил он, увидев вопрос в глазах Крашева. — Справедливо бил, за провинности… Имелся у него такой чуланчик холодненький. Чуть что — в чуланчик и ремешком армейским по заднице. Считал он себя этаким нашим отцом-папашей. Встречу, бывало, кого из своих. Разговоримся. Вспомним отца-папашу и как он нас лупцевал своим кожаным ремнем. «Если бы не наш папаша да его ремень, путного из меня ничего бы не вышло», — смеется знакомый, а мне грустно. Нельзя было нас драть! Нельзя! На коленях ты нас не держал, целовать не целовал, по голове не гладил, отцом не был. Так чего же драть? — говорил Жора уже зло. — Наш директор вообще был человеком сильным, ловким, эдаким армейским, без погон, конечно, но в кителе… Галифе, сапоги громадные, юфтевые… Помню, первый раз… Забыл даже, за что он меня поволок… А все остальное до сих пор перед глазами… До чуланчика он меня еще вел, потом дверь запер, схватил, брезгливо так схватил, скрутил, голову мою наклонил и между ногами своими зажал — это у него коронный прием такой был. Потом армейский свой ремень снимать стал… Я ничего не слышал и, кроме юфтевых сапог, ничего не видел. Страшно было и ужасно стыдно за нелепую позу, за унижение, стыдно за свой тощий, синий и, может быть, не очень чистый задок… Да-а-а, — протянул совсем уже грустно Жора. — Вот мне уж скоро тридцать. И я кой-кого бил. И меня били. И жена мне изменяла. И два года в лагере отсидел, и три на «химии» отработал. И чего еще не было… Но так меня никто не унижал. Дикое какое-то унижение. Нечеловеческое. Хотя… — Жора усмехнулся. — Хотя в тот первый раз он меня даже ни разу не ударил.
«Почему не ударил?» — хотелось спросить Крашеву. Но он не посмел. Сидел оглушенный.
— Не ударил, — повторил Жора. — Словом, от всего от этого обмочился я… Отшвырнул меня отец-папаша как грязного, напакостившего котенка, застегнул свой ремень и вышел, закрыв чуланчик, брезгливо бросив на прощанье, что выпустит, когда я обсохну…
Жора молчал… Его черные глаза блестели. Крашеву было неловко. Никто никогда так откровенно не разговаривал с ним. С Ширей у них были свои секреты, они многое говорили друг другу, но все деловое, мужское… А тут…
— Ну, а потом влюбился, — помолчав, сказал Жора. — Потом свадьба… Дрянной жена оказалась… Непутевой. А как выпьет — так все: не своя. За бутылку последнее платье отдаст, а уж об остальном говорить нечего. Все пропила… Но это было потом, а вначале — о! это было счастье. Она была хохлушкой. В детдом попала лет двенадцати. Вся семья угорела: мать, отец, два старших брата, а ее откачали. Приезжала раза два к ней какая-то тетка, а так никого у нее не было. И детдом ей тоже порядком надоел… Как мы любили друг друга! Какие слова говорили! Ты — с юга, знаешь, как хохлушечки могут выговаривать: «Ты мий коханый, да ты мий гарнэнький…» Года два так жили. Днем работаю, потом свой подвал отделываю. Грязь всю выкинул, капитальной стеной от всего отгородился. Сантехник, Боря-шестипалый, все трубы зачеканил, в кладовке, где я бутылки хранил, горшок, ванну поставил, воду подвел. Отделал я туалет плиткой, в комнатах лампы дневного света повесил, купили мы кой-какую мебель на те деньги, что дядя Вася Пирогов принес. Получилась такая двухкомнатная! Сходил я к начальнику ЖЭКа, выпил с ним, как полагается, походатайствовал он, и райисполком ордер выписал. Как временное жилье — но мне-то какое дело… Иногда сил не хватало… Но наступит ночь. Распустит она свои волосы, прижмется да зашепчет: «Ты мий гарнэнький…» — и откуда что бралось. И ничего пошлого. Много в наших душах любви, нежности и ласковых слов скопилось. Вот и выговаривали друг другу… А потом — как свихнулась. Вот в такую же «синявку» превратилась. И что только не делал: и уговаривал, и объяснял, куда катится, и запирал в подвале, и пару раз побил, так слегка, да и кого бить — худая стала, маленькая; и просто неделями с ней не разговаривал — нет, ничего не выходило. Пришел как-то с работы — вижу, валяется в постели с таким же синим, плюгавым дохляком; у кровати бутылки пустые. Уверен, что ничего с ним у нее не было — напились, и только. Но тут уж я озверел окончательно. Схватил бутылку пустую и этому дохляку по голове. Потом в милицию пошел. Уже на суде узнал, что там я ему в точности сделал. Трещина в черепе, сотрясение мозга, ну и так далее… Хотя, что там ему сотрясать? — вздохнул Жора. — А оснований к ревности у меня, оказывается, не должно было быть — дохляк и в самом деле импотентом оказался. Вот так… И влепили мне пять лет…
Глава 7
Что там было дальше, Крашев детально не запомнил.
Кажется, что-то крикнул солдат с ближайшей вышки, мгновенно, точно тараканы в щели, провалились куда-то серые люди за высоким забором, и только женщина долго, суетливо, озираясь и боясь, прыгала с уступа на уступ громадной, пыльной мусорной кучи.
Нет, не отделило еще тогда Крашева острое лезвие от Жоры, хотя отделило от многих… А может, это Жора еще не перелез через его жалящий верх, но уже пытался и барахтался и оттого был так возбужден, нервен и делал странные, с его — Крашева — точки зрения, поступки…
…А потом им предложили проложить часть — между промзоной и заводом — пожарного водопровода.
Они уже заканчивали бетонные полы, но случившийся смерч разрушил подстанцию, электричество пропало, и работа на втором этаже остановилась.
Начальник участка, интеллигент из Ленинграда, уже совсем ставший на их сторону, уже желавший помогать им, сам предложил эту работу — отрыть и выложить несколько колодцев под пожарные гидранты, прорыть метров двести траншеи, сварить такую же плеть из труб, опустить ее, соединить с арматурой, испытать и прикрыть землей.
— И в самом деле: не было бы счастья, да несчастье помогло, — говорил Жора, когда начальник участка вышел из вагончика, где они смотрели чертежи водопровода. — Между промзоной и заводом рыть можно только вручную, грунт мягкий, возможны обвалы стен, так что надо их крепить, будет перекидка грунта… В двух местах можно копать экскаватором, но вовремя его не найдут… Словом, еще немного — по тыще и выйдет… Впрочем, считать деньги еще рано, главное — простоя теперь не будет. Знаешь, в Одессе, на Дерибасовской, если не купить, то увидеть все можно, но такой смерч… — Жора широко улыбался, уже как будто довольный и прошедшим, вернее, мелькнувшим вчера смерчем, и работой, который не было бы без его разрушений, и, кажется, самими разрушениями.
Крашев тоже улыбался. Вышло даже хорошо. Но вчера, в обед, здесь было не до шуток.
…Им уже нравилось быть вместе. Просто так. И говорить не о бетонных полах, не о нарядах, которые по вечерам уже пописывал Жора, не о начальстве и даже не о деньгах, которые были нужны обоим. Часто же по пути к школе, в обед или вечером, когда Крашев не работал ночью на кране, они, поотстав от основной группы, просто молча шли по песчаному косогору меж редких мощных сосен (Крашев уже знал, что это не просто сосны, а остатки знаменитого в прошлом бора).
Погода стояла обычная для этих мест. Солнца не было, но не было и дождя. Небо над поселком, остатками бора, заводом и высовывающейся одним углом промзоной со сторожевой деревянной вышкой на этом углу завешено небольшими серыми тучками. Ветер гнал их на север. Но здесь, внизу, было тихо. Видный отсюда сквозь редкие могучие сосны горизонт за поселком был чист.
Все случилось, когда он с Жорой вышел из бора.
Края несущейся прямо на них небольшой, низко нависшей тучи неожиданно стало задирать и разворачивать. Чем-то она уже была не похожа на обычную дождевую тучу, и они стали смотреть на нее. Края тучи заворачивало все выше, центр проваливался и был уже совсем близко от земли. Туча как бы остановилась, но внутри нее все крутилось и барахталось, оседая центром ниже и ниже. По их лицам хлестнуло студеным ветром. Вдруг центр тучи, неимоверно закрутившись, дернулся вниз и, вытянувшись в тонкое веретено, острым жалом вонзился в землю. Вокруг все зашумело, затрещало, завыло. Тонкое, бешено крутившееся веретено уже не было видно. Глаза, рот, уши были полны мятущегося песка.
— Это смерч — ложись! — крикнул Жора и толкнул его в плечо.
Он упал, загребая песок руками и почему-то поджимая под себя ноги. То, что было непонятным, интересным и неопасным, приобрело после Жориных слов реальность, стало понятным и страшным.
Совсем рядом послышался треск падающей сосны. Вслед за ее падением по земле мелькнула дрожь, и он ощутил ее всем своим большим телом. Ему представилось, что острое жало бешено крутившегося веретена идет прямо на него. Он еще больше поджал ноги и закрыл голову руками. Опять послышался треск падающей сосны, но уже глуше. Дрожи земли он не ощутил. Песок стал сыпать меньше, а потом прекратил вовсе. Стало опять тихо. Крашев протер глаза. С правым было все в порядке, но в левый попал песок и немного резало. Жора уже стоял и смотрел в сторону удаляющегося смерча.
— Черт, — ругнулся он. — К заводу пошел.
Крашев вскочил, правым глазом стараясь отыскать веретено. Но его не было. Вместо тонкого, упруго сжатого веретена к заводу несся жирный, клубящийся высоченный столб песка и пыли.
Страх прошел, и вернулось любопытство.
Крашев еще не успел прочистить левый глаз, как столб, на что-то наткнувшись, застыл, а потом, дернувшись, стал опадать. Воздух расколол резкий треск. Казалось, внутри столба происходила борьба. Но вот стало видно, что столб выстоял и опять, скрутившись веретеном, двинулся вбок, к углу промзоны, а в том месте, где была борьба, они увидели открытые, уже горевшие трансформаторы заводской подстанции.
— Во дает, — восхищенно говорил Жора. — Коротнул всеми обмотками. Конец напруге!
«Неужели будем стоять? — подумал Крашев. — Есть ли запасные трансформаторы на заводе?»
Он попытался задать эти вопросы Жоре, но тот ничего не слышал.
— Сейчас будет! — кричал он в восхищении и подпрыгивал на месте. — Сейчас даст! Прямо к зоне прет. Ну, дает. Сейчас зэки побегут. Станция Петушки — береги свои мешки! — захохотал он и толкнул Крашева в плечо.
Крашев не успел ничего ответить. Рыхлый, жирный, уже значительно осевший, клубящийся столб, вдруг как бы испугавшись вставшей перед ним промзоновской стены-забора, пошел в сторону и наткнулся на угловую деревянную вышку.
Столб не мог уже ни объять, ни проглотить в себе вышку. Он был уж так дряхл, что не смог прикрыть механику своей черной, жуткой, внутренней работы, и они увидели, как пропал выглядывавший из маленькой башни солдат, как вдруг разом, словно по чьему-то приказу, отскочили от башенки и от других частей вышки обшивавшие ее доски, но сама вышка — теперь уже заголенная, с растопыренными столбами-ногами, с обнаженной башенкой-грудью — устояла. К ним не донесся ни один звук, и им казалось, что все это происходит в немом, замедленном кино. Потом поднялся на ноги лежавший на полу башенки солдат с автоматом на плече и заходил, отчего-то держась за голову, наверно, его все же чем-то ударило. Когда же Крашев отвел глаза от ободранной вышки и поискал смерч, то найти его не смог. Лишь облако пыли долго висело над углом промзоны, а потом принесшийся невесть откуда легкий, любопытный, теплый ветерок налетел на облако и потянул его куда-то в середину огромной промзоны…
Глава 8
Запасной трансформатор нашелся, и уже через неделю их трубный кран заработал.
— Надо же, — удивлялся Жора, когда они, опять отстав от всех, шли по косогору на обед. — Столько сосен навалило, подстанцию замкнуло, вышку ободрало — и ни одной жертвы. Повезло, что в обед да и стороной шел…
— А солдат? — спрашивал Крашев.
— А что солдат? — радовался Жора. — Всего лишь балкой по башке стукнуло. Тоже, считай, повезло — домой в отпуск поедет. Нет, ну надо же… — и он опять подходил к вывороченной сосне, рассматривал огромный корень, тянул толстые корневища. — Такую махину вывернуло, а нас даже не зацепило.
— Эту бы силу да нам в дело, — сказал Крашев. — А то только мусорную кучу растащило.
— Да, стриптиз зэкам теперь не на чем устраивать, — смеялся Жора.
Потом что-то соображал:
— А у меня идея…
За неделю из двухсот метров причитавшейся им траншеи они вырыли не больше ста. Копали вручную. Грунт, обозначенный в чертежах, был не очень трудный. Сверху, сантиметров на двадцать шел песок, за песком — грунт, называемый строителями дресвой. Так было в чертежах. Но в чертежах не было еще одного слоя — «культурного»: битого кирпича, остатков бетона, раствора, стекла, кусков рубероида, щебенки, моря щепы, брусков, арматуры, и бог весть еще чем был прикрыт естественный, природный слой. Песка, нарисованного в чертежах, они так и не встретили — «культурный» слой вытеснил его, развеял по строительной площадке.
О «культурный» слой бились, тупясь и ломаясь, лопаты, гнулись ломы, трещали кирки. И хотя, покончив с «культурным» слоем, вздыхали облегченно, но следовавшая дальше дресва тоже была коварной: то не хуже «культурного» слоя высекала искру из лопаты, то целыми пластами ухала в уже откопанную, двухметровую траншею, заставляя бедного студента в страхе выскакивать наружу, а остальных прекращать работу и зорко всматриваться и вщупываться в рыхловатые стены своего участка. Но все же сто метров в самом узком месте — между стеной завода и забором промзоны — были выкопаны, снивелированы, обвальные места укреплены досками, подчищены, и остались две боковины, метров по пятьдесят каждая.
Продолжать копать эти траншеи было некому: часть бойцов заканчивала полы второго этажа, остальные занимались колодцами и трубами.
«Идея» Жоры заключалась в том, чтобы оставшиеся две траншеи выкопать экскаватором.
Осуществляли эту «идею» Крашев и Жора глубоким вечером. Как ни хорошо относился к ним начальник участка, но копать экскаватором на виду у всех, а писать в нарядах «вручную» — такого и он бы не разрешил. К тому же и экскаватор — расхлестанный «Беларусь» — был занят целый день другими делами.
— А хозяин не будет против? — спрашивал Крашев, когда Жора юркал по машине, искал «секрет» дверей, проверял масло, топливо; тискал худым задом сидушку; двигал, пока еще вхолостую, рычагами.
— Эта жлобина всегда против. — Жора на миг застывал. — Срок своей «химии» уменьшить хочет, вот и суетится — делового из себя изображает. Ну, а в общем, ленив, одна показуха — Бацилла, словом.
— Что за Бацилла? — не понимал Крашев.
— Кличка, — бросал Жора, опять ползая и что-то еще проверяя. — В зоне за лишнюю пайку готов был на что угодно, лишь бы пожрать слаще. Словом, как микроб. Хотя… — Жора примеривался к Крашеву. — Этот «микроб» повыше тебя ростом будет…
Наконец Жора застыл, уже крепко усевшись на заплатанное, замасленное сиденье, сосредоточился, медленно повернул включатель стартера, чуть скривился от первых чихающих выхлопов и заулыбался Крашеву, лишь установилось мерное, мощное гудение.
Через полчаса, когда Жора откопал метров десять, пришла смешливая Зойка-повариха, принесла ужин. В ушах у Зойки болтались большие замысловатые сережки. Крашеву казалось, что при резких движениях аккуратной Зойкиной головки эти странные сережки позванивают, а тонкого этого звона он не слышит потому, что Зойка непрерывно смеется, а экскаватор монотонно гудит.
Поели они наспех — им еще интересно было смотреть, как, быстро и мощно пробивая и нанизывая крупную щепу, дробя кирпичную крошку, ковшовые зубья вгрызались в «культурный» слой, как черпалась ковшом мягкая дресва и как ползла рядом с траншеей здоровущая, с изломанной хребтиной насыпь.
Но часа через два — Жора уже заканчивал одну ветку — от ясности, определенности и мерности работы Крашеву стало скучно. Он влез на высокую насыпь и, бездумно позевывая, поглядывал на низкое, совсем не слепящее солнце, готовое на чуть-чуть нырнуть за линию горизонта. Как почти всегда, в это предзакатное время установилось безветрие. Он уже представлял себе, как сегодня, край — завтра, Жора закончит траншею, потом поперек траншеи наложат брусья, на брусья накатят трубы, состыкуют, обварят, испытают. Дел, в общем-то, и по бетонным полам, и по водопроводу осталось совсем немного… Хотя и времени тоже в обрез… Да-а-а… Прав Жора… Двадцать человек — идеальный стройотряд, а так их многовато…
Он думал, подсчитывал еще и еще, как вдруг увидел шедшего по другой стороне траншеи человека.
Не обращая никакого внимания на скучающего Крашева, человек быстро шел к экскаватору. Быстрота эта давалась ему нелегко — жирные ляжки большого, шире плеч зада тяжело ходили под серыми рабочими штанами. Несмотря на то, что движения человека были нелепы и даже смешны, от его фигуры исходило столько агрессивности, что Крашев с тревогой приподнялся.
Человек подошел к экскаватору и что-то крикнул. Прекратив работать, Жора выпрыгнул из кабины, и тут же подошедший ударил его по лицу.
«Бацилла!» — догадался Крашев.
Он бежал в обход по рыхлой, только что наваленной насыпи и почти плакал оттого, что не сразу догадался, что этот жирный, нелепый, огромного роста человек и есть хозяин экскаватора, оттого, что он не перепрыгнул траншею, а бежит вот по рыхлой, вязкой насыпи в обход, и в кирзовые сапоги его струится земля, и тоже тормозит его, и не дает сейчас, сию секунду, оказаться рядом с Жорой.
Все же эти несколько метров он пробежал быстро. Скрючившегося Жору Бацилла успел ударить еще только раз. Делал он это даже лениво, снисходительно, как бы в наказ за ослушание, и Крашев до сих пор помнит его вдруг изменившееся, ставшее растерянным лицо, водянистые, тупо-удивленные глаза, когда, подбежав, он ударил Бациллу в живот.
Ударил он его с ходу и сам не зная отчего: из-за брезгливости, ярости или оттого, что сбегал с насыпи, но ударил он его по-футбольному — ногой, не «своей», но более сильной левой ногой.
Ожидая сопротивление — Бацилла и в самом деле оказался выше его ростом, — Крашев ударил ногой еще раз, а потом еще и еще… В ярости и отчаянии оттого, что Бацилла, казалось, не реагировал на удары, он, преодолевая брезгливость, потянулся к вонючему, потному телу, как вдруг это тело рухнуло вниз, на живот, и Бацилла, подтянув ноги и закрыв голову руками, жалобно и пронзительно закричал.
Не ожидая такого хамелеонского приема, Крашев, чуть растерявшись, уже несильно пнул в жирный, расползшийся зад.
— Перестань бить! — чьи-то руки схватили его сзади.
Крашев, дернувшись, оглянулся, ожидая какой-то новой опасности, и увидел, что это Жора…
До сосновой рощицы они шли, не разговаривая. Потом Крашев сел на поваленное дерево и стал вытряхивать землю из сапог.
— Ну, ты и сентиментальный! — сказал он со злостью. — Может, мне пойти попросить прощения и за экскаватор договориться, как говорят у вас в Одессе?
— Договариваться не надо, — Жора сел рядом. — Эта скотина так испугалась, что завтра и дверца будет открыта. Дело не в нем…
— А в чем же? — так же зло спросил Крашев.
— Не могу смотреть, как бьют… После того, как я сам… бутылкой… Нет, не могу. — У Жоры был вид, будто он собирается плакать.
— Да ну тебя, — Крашев надел сапоги и быстро пошел к школе.
Глава 9
Помирились они в тот раз быстро… Пили крепкий, заваренный Зойкой чай и, смеясь, вспоминали драку. Жора, правда, смеялся с трудом — левый глаз его медленно синел и оплывал…
Но странно… Жора, одессит Жора, опыту, деловитости, жизнерадостности которого Крашев так радовался, даже завидовал, вдруг стал блекнуть и оплывать, как оплывал его левый глаз. Крашев почувствовал небольшое, легкое презрение к нему. И не за то, что Жора был бит, а за то, что смалодушничал, когда он — Крашев — учил уму-разуму этого страшноватого Бациллу. Это малодушие было как бы изъяном его — Жориной — души.
Но Крашев не хотел быть таким, как Жора. В той жизни, которою он собирался жить, такие «сантименты» были ни к чему.
Вот тогда и появилась между ними трещина. Еще невидимая, но с каждым днем она ширилась. И разрыв состоялся…
…Как ему не хочется заглядывать в ту часть своего сознания, где лежат эти воспоминания. Но человек не машина, и стереть все это из человеческой памяти нельзя. Можно лишь приказывать не вспоминать. А сегодня, в первый раз за всю свою жизнь, у него не было сил на это…
…Под утро, когда вдруг разом загорланили соседские и дальние петухи, Крашев встал и тихо, стараясь не разбудить мать, вышел во двор. Наклонился к колонке и, пока не замерзли руки, плескался под ледяной струей. Потом тщательно утерся и прошел на веранду.
Отгорланив свое, петухи смолкли.
Медленно рождался новый день. Крашев раздвинул шторы и долго, невидяще смотрел в большое окно, всей кожей ощущая рождение нового дня, чувствуя неотвратимость его рождения и боясь этой неотвратимости…
Из соседней, через стену комнаты послышались шорохи. Наверное, мать уже встала. Ему вдруг захотелось поговорить с матерью, что-нибудь сказать ей. Но за долгие годы разлуки он отвык от общения с ней и не знал, что же ему надо делать. Перейти через маленькую кухню в такую же маленькую комнату? Спросить у матери, проснулась ли, оделась ли?
Он прошел к комнате и сквозь неприкрытые створки двери увидел мать.
Она стояла на коленях спиной к нему и молилась… Его теперешнее состояние не позволило ему возмутиться этим, прийти в ужас, как он сделал бы ранее этой ночи.
Он еще не понимал слов ее молитвы, но ясно видел, на что она молится.
В дальнем углу комнаты висела, с раскрытыми теперь шторками, божница. Но ни иконы, ни тем более икон на ней не было. Вместо них на божнице стоял лист плотного, загрунтованного, вероятно, им самим картона с прикрепленной на этот картон открыткой. Открытку эту — репродукцию картины знаменитого художника — он хорошо помнил. Она была из набора, подаренного ему Анной. Вспомнил он и название картины… Это была «Голгофа» Николая Ге…
Молитва матери стала жарче, неистовей, и он стал понимать все ее слова.
— Господи, — шептала мать жарким шепотом. — Мне ничего не надо… Но сделай так, Господи, чтобы ребятам было хорошо. Отведи от них, Господи, войну и невзгоды. Посели мир и доброту в их души. Дай им и их детям чистое небо над головой…
И еще о многом просила мать своего Бога, и, боясь помешать ей, испугать ее, Крашев вернулся на веранду и лег.
«Еще бы вчера днем я осудил бы ее, бывшую комсомолку, армейскую медсестру, за это стояние на коленях, за молитву, за ее божницу и за того, кому она молится, но сейчас я не могу это сделать», — думал он.
Отчего она молится? И как понять эти слова: посели мир и доброту в их души? Кому это? Ребятам?
Он вдруг вспомнил, что «ребятами» мать называла его и Ширю. Отчего он забыл это — «ребята»? Оттого, что никогда с тех пор, как уехал, не видел Ширю, и мать не видела их вместе и не звала «ребятами»?
Но почему: посели мир и доброту в их души? Мать знает о их вчерашней драке? И кто ей рассказал? Сам Ширя? Вряд ли… Анна? Конечно, Анна! Значит, она была здесь, в этой хатке. И она тоже — «ребята», и о ней тоже молится мать…
Так могу ли я осуждать ее за это? Да и что это такое — ее религия? И религия ли это?.. Но ведь она так страстно молится…
Он попытался вспомнить что-то, относящееся к религии, к христианству, к вере. В его голове, всегда так точно все взвешивающей, точно считавшей и точно делающей итог, сейчас была каша… Маленькая открытка — репродукция картины Н. Ге «Голгофа», стоящая на материнской божнице… Потом эта же картина, но уже громадная, на стене Третьяковки… Еще «Голгофа», вернее, «Шествие на Голгофу»… Эта репродукция тоже была в наборе, но автора он не помнил… Еще какие-то картины и иконы; церковь Покрова-на-Нерли; какие-то казавшиеся сейчас глупыми цитаты из Библии и Евангелия… Собственно, ничего истинно религиозного он не знал. Все, что он знал, было не от знания предмета, а от примерного знания другой стороны — примитивного атеизма, и это знание сейчас ему только мешало.
«Религия — опиум для народа», — вспомнил он. «Религия — опиум для народа…» Он бессмысленно повторял эту фразу, как бы выискивая в ней новый, незнакомый ему смысл. Но общий смысл фразы, давно известный, бесспорный, легко скользил в той мешанине, которой была сейчас набита его голова, и только в конце фраза обретала какой-то неясный шорох. «Опиум для народа… народа…» Какого народа? Что такое народ? Он, Крашев, — народ? Ширя — народ? А его мать, бывшая комсомолка, стоящая сейчас на коленях и шепчущая странную свою молитву, — тоже народ? И вдруг он понял, отчего этот неясный шорох…
В той чудовищной мешанине чувств, понятий, знаний, которыми была полна его голова и которые были опытом всей его жизни и опытом жизни и смерти многих других людей, в этом изменчивом море надежд и разочарований он ясно и понятно увидел, что есть нечто такое, что всегда точно и надежно. И увидел он это настолько ясно, что, несмотря на следствие из этого, а оно было тяжким для него, ему сделалось чуточку легче. Он вдруг понял, что народ — это его мать… И что его отец, добрый Водолаз, его дочь Анна, Ксения — все это тоже народ, а вот он, Крашев, нет, он — не народ. И именно поэтому он не может осудить мать за то, что она молится. И теперь уже он не может судить Водолаза за его излишнюю доброту, а Анну за то, что она не приехала в Москву.
И мать, непонятно зачем построившая новый дом, и Водолаз, всю жизнь рисовавший детские акварели, и Анна, решившая остаться в городке, — все они жили и живут по другим, непонятным, а теперь уже чуточку понятным ему законам — народным законам.
А он? По каким и чьим законам жил он? По каким законам и почему он выгнал тогда, в Коми, еще пятерых студентов? Выгнал из отряда, когда до конца работы оставались считанные дни…
…Жора, одессит Жора, которого Крашев в душе уже тихонько презирал, и в тот раз оказался прав — никаких препятствий страшноватый Бацилла больше не чинил. Наоборот, он как бы помогал им. Он не только оставлял дверки кабины незапертыми, но и каждый вечер подгонял экскаватор к траншее. Правда, таких вечеров было всего два, а на третий они с Жорой ходили вдоль откопанных траншей, осматривали уже проверенные и испытанные плети, выложенные колодцы, прикидывали, как будут засыпать эти траншеи — тем же «Беларусем» или же попробовать пригнать работавший на котельной более мощный С-100.
У него уже появилась привычка — вечером, после ужина, походить по школе, заглянуть в две-три комнаты, поговорить со студентами о чем-то другом, не связанном с работой: интересной статье в газете, новой книге или спортивных результатах. И хотя он замечал, что, разговаривая о другом, продолжает думать о насущном, о том, что надо зайти на кухню, узнать о продуктах, выяснить, хорошо ли работают дежурные, Крашев не прерывал эти обходы — они стали как бы итогом прожитого дня.
В тот вечер он зашел в комнату, где жили пятеро. Сейчас это была бригада, и бригадиром в ней был студент-женатик. Вначале второго курса тот перешел на заочный факультет, и Крашев давно позабыл его фамилию…
Двое играли в шахматы, трое туманными взорами скользили по доске. Иногда один из неиграющих, тыча пальцем в доску, показывал ход. Остальные шикали на него, спорили, затихали и опять блуждали взглядом по доске и фигурам.
Стулья и табурет были заняты, и он, махнув рукой — все одно скоро разбирать, — сел на ближнюю к шахматистам заправленную кровать.
…Шахматы он не любил. Точнее сказать, ненавидел. Ненавидел давно и люто. Отчего?.. В детстве, на стадионе, когда он «нарезал» на тренировках бесконечные круги по гаревой дорожке, иногда ему становилось очень скучно. Но он вспоминал о предстоящих соревнованиях, о том, каким будет старт, и с кем придется бежать, и как он будет бежать первую часть дистанции, и как — вторую, и как сделает финиш, и уныние и скука проходили.
Но когда тут же, за трибуной, под большим грибком, он видел толпу очкариков, а под ними, в центре, еще двоих, бессмысленно-упоенно глядевших на доску, он почувствовал, что еще немного и его стошнит, и он, собрав оставшиеся после тренировки силы, быстро проходил мимо.
При всем при том он любил и мог играть. Он играл в «дурачка» и в преферанс, в шашки и лото, стучал костяшками домино и иногда удивлялся: почему же он так не любит шахматы?..
Когда Крашев прочитал «Двенадцать стульев», он долго смеялся. Было приятно узнать, что и Великий комбинатор не умел играть и презирал шахматы и шахматистов…
Он вспомнил первый день их приезда в этот поселок. Эти пятеро еще не были бригадой, а «солдат»-женатик, высокий, стройный парень, еще не был их бригадиром. Но что-то их объединяло, может быть, те же шахматы, и они поселились вместе.
Когда Крашев зашел в тот раз, стулья и табурет так же были заняты; чистые, только что полученные простыни и наволочки грудой валялись на старых матрацах, а сами студенты хором, перебивая друг друга, разбирали только что сыгранную партию блиц-турнира.
«Шахматисты, — подумал он, чувствуя возникающее в нем раздражение. — Постели не заправили, а блицы уже устраивают». Он попытался погасить растущее раздражение, но «шахматисты», как на грех, кроме «солдата»-женатика, были тощи, жидки, в очках, и это усиливало его чувство.
Студенческий отряд бывших первокурсников набирали из разных групп, фамилий «шахматистов» он еще толком не знал, и, подозвав выделявшегося среди очкариков «солдата», Крашев спросил у него, как идут дела.
— Нормально, — ответил тот, прислушиваясь к спорящим. — Разгромили меня в пух и прах. Сейчас вот разберем окончание и приберемся. — «Солдат» бросил взгляд на незаправленные постели.
Подавив в себе растущее раздражение, но все еще испытывая привычное неудобство от экзальтации спорящих, Крашев пошел к двери.
— Командир, — вдруг встрепенулся один из очкариков. — Партию блица на новом месте…
— Не играю, — медленно сказал Крашев и открыл дверь.
— Жаль, очень жаль, — уже больше по инерции проговорил очкарик, опять склоняясь над шахматной доской и теряя всякий интерес к Крашеву.
— Не играю принципиально, — сказал Крашев как бы в пику этой инерции и равнодушию. — Считаю дурной игрой.
Последние слова он произнес, сам того не желая, так как знал — будет спор, на который у него сейчас не было ни времени, ни желания.
Спор и в самом деле вышел…
— Чепуха! — кричали очкарики, когда он говорил, что любит гармонию, симметрию, а в шахматах нет ни того, ни другого.
Схватив квадратную доску, они тыкали в квадратики поля и одинаковые фигуры и не слушали его доводов о том, что само «шахматное войско» — несимметрично.
— Набор фигур — это набор бюрократов! В шахматах нет свободы! Свобода пешки — стать ферзем — меньше свободы безработного в Америке — стать президентом! — тоже орал он и пытался доказать, что бюрократия в наборе фигур ведет к бюрократии самих игроков.
Очкарики под его напором чуть сникали, но тут же начинали плеваться, когда он сравнивал карты и шахматы и говорил о том, что шестерка бубей имеет больше демократии — она хоть иногда бывает козырной, а пьяно скачущая лошадь, ничем, кроме пьяно скачущей лошади, никогда не будет.
— Конем, а не лошадью! Дилетантизм! — багровели очкарики, и спор разгорался с новой силой…
Впрочем, работали очкарики неплохо, за тяжелейшей работой сил и времени на блицы им оставалось все меньше, и он тогда почти забыл о споре, но в комнату к ним заходил все же редко.
…Посидев минут пять — это был ритуал вежливости, — он уже собрался уходить, как вдруг его рука, опущенная для опоры на одеяло, ощутила что-то непонятное, горкой топорщившее натянутое одеяло и незамеченное им потому, что «горка» эта была прикрыта еще и подушкой.
«Странно, — подумал он, скорее из любопытства ощупывая мягкие кубики, составлявшие «горку». — Что же это может быть?»
Кровать, на которой он сидел, была кроватью бригадира. Бригадир был женатым, женой его была вторая повариха — напарница Зойки, и у них могли быть вещи, которых обычно нет у холостых… Как только он подумал об этом, рука его отдернулась от «горки», но в самый последний момент мягкий кубик, неприкрытый одеялом, попал к нему в руки, и он взял его.
Это был обычный пакет чая, обычного грузинского чая, и он, почти равнодушно повертев его, сказал:
— Будешь разбирать постель — не забудь о чае, бригадир. Да и жена, небось, завтра искать будет.
Его невинные, глупо-шутливые слова вдруг застыли и повисли где-то под потолком, и случилось странное — очкарики оторвались от шахматной доски. Стекла очков повернулись к нему и, пуская блики, замерли. Женатик-бригадир пунцово покраснел и сказал, вернее, промямлил, что жена ничего не знает и ни при чем.
Он уже хотел было сморозить навроде: «Причем тут ни при чем?», как вдруг слабая догадка, через несколько мгновений переросшая в уверенность, мелькнула в нем, и злоба — тяжелая, тошноватая злоба — стала быстро охватывать все его существо.
— Передача зэкам, на чифир? — спросил он, удивляясь, как быстро он сконструировал эту, никогда не произносимую им фразу. И не просто сконструировал, но и придал ей точный смысл, тон и оттенок.
Слабая, почти интуитивно пришедшая к нему догадка оказалась верна — очкарики поникли.
— У вас вид — будто вы проиграли блиц, — сказал он, не совсем зная всей сути, но чувствуя, что «шахматисты» находятся в страшных, еще до конца неведомых ему и зажатых им самим, клещах. — Есть еще чай?.. Сколько?.. Как и где вы передаете его?.. Что получаете взамен?..
Ответов он почти не слышал. Злоба уходила из него, да и он не дал бы ей осесть в нем — это было не для него, но другое, странное, сладковатое чувство наполняло его. Оно было похожим на то, которое он почувствовал несколько дней назад, когда ногами бил Бациллу. Его это даже чуть испугало вначале, но времени разбираться с чувствами не было — он «бил», «бил» и «бил» этих тощих «шахматистов», и вскоре на столе вместо шахмат появилась собранная со всех углов большая гора чая, а рядом самодельные кольца, браслеты для часов и главное — небольшой, тускло мерцавший черными щечками нож, блестящее лезвие которого резко дергалось между этими щечками, лишь только сдвигали одно из них.
Он уже почти все знал: и то, что «занимаются» они этим недели две, и сколько пачек чая стоит кольцо и сколько нож; и что научил и предложил им все это «химик»-сварщик, варивший им трубы; и что бросали они свертки с чаем с мусорной кучи, а теперь — после того, как смерч раскидал эту кучу, — с трубного крана.
Он уже понял, что́ сделает с этой бригадой и бригадиром, но все еще «дожимал» очкариков, пытаясь узнать, кто, кроме них, занимается этим в отряде и главное — могло ли знать или просто догадываться об этом начальство.
Жалкие и растерянные очкарики в голос уверяли, что действовали осторожно и никто ничего не знает.
— А чай? — резко спросил он. — Кто вам покупал чай? — У вас у самих не было на это времени. Жена? — повернулся он к бригадиру.
— Она ни при чем, — пунцово-красный бригадир сидел на кровати. Он вдруг вскочил, бледнея, наверное, ему показалось, что Крашев не верит, и стал повторять, что жена ни при чем.
«Размяк «солдатик», — подумал Крашев. — Но кто же покупал им чай? Дежурные по кухне? Навряд ли… Кто же еще ходит в магазин?.. Зойка! — осенило его, и он помрачнел — смешливая, работящая, неунывающая Зойка ему нравилась… — Ах ты, авантюрная девица»… — вспомнил он громадные серьги в ее ушах.
— Так кто же покупал? — повернулся он к очкарикам. Те уныло молчали.
— Молчите? Хуже для вас, — Крашев повернулся к бригадиру. — Зойка?
— Да, — растерянно сказал тот, сделавшись совсем красным.
— Приведи ее сюда, — жестко сказал он бригадиру. — Даже если легла спать. Понял?
— Есть! — по-военному ответил бригадир и быстро вышел, а минут через пять вернулся с Зойкой. Следом за ними, поправляя волосы, шла жена бригадира.
Увидев ее, Крашев поморщился. Эти пять минут он прикидывал, как быстро, не привлекая совет бригадиров, комиссара, Жору, может быть, весь отряд, сделать то, что он задумал сделать, и жена бригадира — взрослая, года на три старше Крашева женщина, — мешала ему.
— Ты покупала? — спросил он Зойку, кивнув на гору квадратных пачек.
На какой-то миг ему стало невыносимо тяжело оттого, что он задумал, оттого, что перед ним сидела хорошенькая Зойка и ей надо было задавать вопросы, но он тут же, как уже не раз делал в таких случаях и как много раз еще будет делать, стал внушать себе другое. «Ты сделаешь это, — вдалбливал он в свое «первое» полушарие. — Ты выгонишь их, а завтра вместе с Жорой объявишь об этом всему отряду. Жора поддержит тебя — вспомни его лозунг: «Меньше народу — больше кислороду». Но дело даже не в этом. Узнает начальство — расформируют отряд, и плакали все премиальные, а это почти половина заработка. Нет! Выгонять, и выгонять немедленно, как в прошлый раз выгнали пятерых сачков. Ведь тогда из отряда никто слова не сказал. А здесь дела покрупнее…»
Его губы двигались, он почти шептал все это, пытаясь задавить то, что еще сомневалось, не решалось, сопротивлялось в нем самом…
В том, что чай покупала она, Зойка призналась. Призналась и в том, что знала, для каких дел. Но в том, что это плохо, признаваться не хотела.
— Натуральный товарообмен! — фыркала она, встряхивая аккуратной головкой. Громадные серьги в ее ушах звенели. — А куда там эти зэки использовали чай — не наше дело.
— Ну, вот что, — решительно сказал он, глядя, как, слушая Зойку, ожили очкарики. — Пишите объяснительные. На имя декана, а еще лучше на имя секретаря комсомола — ты ведь, кажется, в институтском комитете состоишь? — Он посмотрел на Зойку. — Вот и пиши. Сколько пачек купила… Для чего… Что взамен получили, ну и так далее. Посмотрим, что в комитете комсомола скажут да и в деканате.
Очкарики опять поникли, взяли разлохмаченную, исчерканную этюдами толстую тетрадь, вырвали по листку и медленно, спотыкаясь на каждом слове, заелозили ручками по бумаге.
Крашев ждал, соображая уже другое: как оставить эту глупую Зойку в отряде, ведь ясно: выгонит он сейчас бригадира — уедет с ним и его жена, а на кухне без повара нельзя.
Но писать объяснительную Зойка отказалась, и Крашев, злясь на нее и не зная, что с ней делать, медленно, намного медленней, чем надо было это делать, стал собирать листки у очкариков. И тут молчавшая жена бригадира сказала:
— Так что же будет с нами, с моим мужем?
Это ее «моим мужем» отчего-то покоробило Крашева.
— С вами ничего, — ответил он, не переставая думать о Зойке. — Но вашему мужу, — он тоже поднажал на «вашему», — и его бригаде оставаться нельзя — придется покинуть отряд и сегодня, сейчас же, уехать.
— Как это уехать? — медленно, покрываясь красными пятнами, спросила женщина. — А куда же я? И как же мы?.. У нас ведь ребенок будет… Ты что же молчишь, макушка твоя глупая? — рванулась она к мужу. — Ведь ты при чем? Ведь при чем? Ах, ты, долбец, ах долбец — связался с соплями… Он же ни при чем, — повернулась она к Крашеву, в ее глазах выступили злые слезы. — Ведь ни при чем… Вот эти все, — ткнула она пальцем в очкариков. — Мой ведь даже ничего не променял… У-у-у, колгота, — повернулась она к мужу.
— Хорошо, — резко сказал Крашев. В испуганной и злой деревенской бабе, какою вдруг оказалась жена бригадира, он почувствовал сильную союзницу. — Если бригадир не виноват — пусть остается, а остальные… — Крашев вспомнил то, что говорил пятерым сачкам, которых они выгнали с Жорой, и точно так же, глядя на часы, повторил про электричку, деканат, комсомольский комитет…
О Зойке он уже не думал…
Глава 10
Да, он заработал тогда в Коми тысячу рублей. Но руководил ли он тогда? И понял ли, что значит это заманчивое слово — руководитель?..
Ему тогда казалось, что понял… И странно было видеть, как еще сонный, но быстро схвативший основное Жора Гробовский сполз с кровати и, борясь с дремой, накатывающей на его щуплое тело, хриплым голосом стал объяснять ему, что это глупость.
— Почему глупость? — спросил тогда Крашев. — Ты же сам говорил: меньше народу — больше кислороду. Вспомни о пятерых, которых ты сам выгнал. И, кстати, я тебе не возражал, хотя за людей я отвечаю…
— А ты далеко пойдешь… — захрипел Жора. — Ты знаешь, что в зоне за это делают?
— Не путай меня с зэками, — зло сказал Крашев. — Но только сообщи я об их делах в деканат да покажи все эти колечки, брошечки да ножи — их из института выгонят да и из комсомола тоже… Так что же лучше?
— Выгонят… конечно, выгонят… — тихо просипел Жора. — Идиотов нынче везде хватает. — Он подошел к Крашеву и огромными, черными, невыносимо злыми глазами посмотрел на него. — Но ты-то, вроде, еще не идиот? Неужели ты не видишь, что у них еще детство в одном месте гуляет? Ты пойми — они же еще дети. Нельзя их сейчас так обижать. На всю жизнь перекос останется. И Зойка… Как ты мог ее выгнать? Без нее ведь со скуки помрете. И потом… Ты ведь еще лопух, пацан… И знать ничего не знаешь, кроме работы. Тысяча тебе посветила… А Зойка по-женски целый месяц болела и никому ни слова… Случайно сам узнал.
При последних словах о Зойке и ее болезни Крашеву стало не то чтобы стыдно, а как-то неловко.
— Сама виновата, — сказал он. — И слушать меня не хочет… Да что теперь говорить? Поздно уже — они давно в электричке едут…
— Нет, не поздно. — Жора стал быстро одеваться. — Никогда ничего не поздно. Сейчас пойдем на почту и дадим телеграмму в Сыктывкар — у них там пересадка. С просьбой задержать, объяснить и вернуть. Дежурный по вокзалу разберется. И найдут их — Сыктывкар не Рио-де-Жанейро… А в телеграмме ты перед ними извинишься.
— Ну, уж нет, — решительно сказал Крашев. — Еще и извиняться. Никогда…
— Да-а-а, — Жора присел на свою кровать. — Случай, похоже, безнадежный. Ну, что же… — как бы самому себе сказал он. — Похоже, и мне пора. Да, пора… — Он подошел к столу и взял толстую папку. — Это наряды. По бетонным полам все готово — уже и подписаны, ну, а по водопроводу — побегаешь сам. — Жора замолчал.
В его только что прозвучавших тихих словах было столько твердости, что Крашеву говорить было не к чему. Да и о чем говорить? Осталась неделя работы. Что же… Он, Крашев, справится и без Жоры…
— Один совет, — собрав все свои нехитрые вещички, Жора опять уселся на кровать. — Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь до самого конца. Люди устали… Но не расслабляйтесь, подберите все мелочи. Получишь деньги — все на руки не отдавай. Дай рублей по сто. Остальные — в Москве. Хотя… — Жора махнул рукой. — Ты, похоже, и сам большой ученый… Кулибин…
— Может, тебе деньги нужны? — всполошился Крашев. — У меня есть. Могу дать — в счет аванса. — Его тело, мозг, душу пронзило какое-то раздвоенное чувство, и в то время, как одна часть тела и души равнодушно взирала на мастера-Жору, не понявшего его и уже мешавшего ему, другая часть, наверное, левая часть этого тела и спрятанной в нем души, — а именно там ныло его невесть чем сдавливаемое сердце, — левая часть хотела броситься к Жоре-земляку, Жоре-одесситу, бывшему зэку, бывшему «химику», щуплому мужу глупой своей жены, броситься и что-то сказать; ведь вот сейчас Жора уедет, и они могут никогда, он даже вздрогнул от этого слова, никогда не увидеться друг с другом.
Но он уже знал, что делать.
— «Все это сантименты, — зашептала трезвая часть его сознания той другой — глупой и неразумной. — Таких Жор на твоем пути встретится еще сотни. Ты пожмешь ему руку, вы разойдетесь — и все… и бог с ним. Он уже сделал свое дело».
— Денег не надо, — говорил между тем Жора. — Получишь расчет, потом и пришлешь. Адрес я сообщу. Да и недалеко здесь — сегодня к вечеру на месте буду.
— Ты что, не в Одессу? — спросил он, уже почти не удивляясь, — трезвая часть его души, как всегда, победила.
— Нет, — Жора смотрел на него, и черные его глаза блестели. — Поеду в Воркуту, говорят, там с населением туго — убывает, — он печально улыбнулся, посмотрел на часы. — Уже два, в четыре — поезд. Пора. — Он взял выцветший рюкзак — все, что у него было, но за плечи его не забрасывал, нес в руке.
— Я провожу, — Крашев попытался взять у него рюкзак, но Жора отвел руку.
— Ни к чему — все это сантименты, — сказал он, словно подслушав Крашева. — Ведь так?
Крашев пожал плечами и остановился у двери. Ему уже было скучно от затянувшегося прощания.
И Жора словно почувствовал это. Он поставил рюкзак и быстро протянул Крашеву маленькую смуглую ладошку, а когда Крашев пожал ее, Жора вдруг рванулся, обеими руками обнял Крашева, ткнулся щекой куда-то в грудь, схватил рюкзак и быстро пошел вниз. По спящей тяжелым сном школе гулко пронеслись звуки его шагов…
…А через неделю все уже и в самом деле осталось позади.
Позади осталось все: и бешеная гонка измученных, усталых людей, старающихся подмести, подчистить все «хвосты», и его беготня с нарядами (за водопровод им заплатили даже больше, чем он ожидал), и хлопоты с получением двадцати с лишком тысяч, когда управленческая касса, а потом и банк не знали, что же делать: выдать каждому из бойцов по тысяче — бог знает, как поведут себя пацаны с тысячей в кармане; перевести на аккредитив — в сберкассе, как на грех, аккредитивы были только на маленькие суммы и заполнять их надо было с неделю; перевести переводом в Москву — это четыреста рублей потери и, в конце-концов, плюнули на это и выдали все двадцать тысяч — целый портфель денег, по расходному ордеру, ему на руки.
Он составил ведомость и заставил всех расписаться авансом, а потом, вспомнив совет Жоры, выдал по сто рублей, сказав, что остальные перевели в Москву.
А еще через сутки он сидел в мягком кресле громадного АН-10А, бессмысленно смотрел на землю, проплывающую между близких, легких, серебристых облаков, а потом так же бессмысленно смотрел на пьяных, повально пьяных студентов — и своих, и чужих, у которых кончился «сухой» закон, и тупо думал о том, что если все кончится хорошо, то есть, если пьяные студенты не нарушат балансировку, и они долетят и удачно приземлятся, и если никто так и не догадается, что вот в этом облезлом портфельчике не бумаги, как он говорит, а почти двадцать тысяч денег, и если эти деньги не украдут, если, наконец, прожив неизвестно где и как еще суток двое в Москве (места в общежитии у него еще не было), он благополучно раздаст эти деньги студентам, то вот так же напьется до зеленых соплей и забудет и завод, и зону рядом с заводом, и «химиков», и «бичей», и Жору с Бациллой, и все эти долгие, нестерпимо долгие полста дней в Коми…
Все обошлось — они долетели, и деньги у него не украли, он даже без особых хлопот получил место в общежитии и не до зеленых соплей, но все же напился… Все происходило так, как он хотел. Не произошло лишь одного — он ничего не забыл…
Глава 11
И опять текла жизнь, бежало время, но он уже был иным. Отделило тончайшее лезвие его от Жоры.
Он еще ничего не знал: будет ли он работать в стройотряде будущим летом, окончит ли второй курс да и вообще институт, останется ли в Москве, как ему хотелось, или куда-то уедет, — но он уже был иным. Всего ближе он был к тем людям, которых встретит через несколько лет на уральском заводе.
Это были «другие люди»…
И он еще много раз поедет командиром стройотрядов. Почти все последующие поездки будут намного тяжелей первой. И он окончит институт. И уедет на Урал, и будет работать с этими «другими людьми». Но готовить себя к встрече с «другими людьми» и к работе с ними он уже начал тогда.
Они, эти «другие люди», были везде. Много их было и в Москве, и в институте, и в тех местах, на тех стройках, в колхозах, куда он ездил со стройотрядами, и долгое время он так вовсе не думал: «другие люди». Ведь эти самые «другие люди», кроме того, что они везде жили, внешне ничем не отличались от обычных людей. Но только на вид. Пока он учился в институте и ездил со стройотрядами, он научился двум вещам. Он научился узнавать «других людей» и понял, что надо делать ему, чтобы и самому стать этим, «другим человеком».
Вначале ему казалось, что узнать «другого человека» просто — ведь им принадлежит все в жизни: власть, слава, деньги, престижная работа; у них все связи и все нити, охватывающие эту жизнь.
Но потом он понял, что это не совсем так. Понял много позже, когда сам стал, как ему казалось, принадлежать к «другим». Сколько раз он видел людей, наделенных властью, и властью бо́льшей, чем была у него, общался с людьми, слава которых гремела, разговаривал с людьми, у которых была престижная работа, были деньги. Но это не были «другие люди». Среди «других» это были случайные люди. Бог весть, как они добились власти, славы, денег, но его никогда не подводившая интуиция говорила ему, что это — обычные люди. К ним, несмотря на всю их власть, славу, деньги, несмотря на их должности, он испытывал лишь раздражение. Он чувствовал в них такой же изъян души, как и у Жоры Гробовского, и испытывал к ним такое же легкое презрение. К тому же и вся их власть, слава, деньги были недолговечны и случайны, как и их положение среди «других людей». В этом он убеждался не раз.
Он стал чуточку иным, но хотел быть «другим». Он совершенно все бросил делать просто так. Он все делал, чтобы стать «другим» и приблизиться к этим «другим».
Он бегал, прыгал, играл в футбол лишь там и лишь тогда, когда был уверен, что эта дистанция, этот прыжок и эта игра приблизят его к «другим людям». Он вовсе забросил живопись, но много рисовал в институтской стенгазете. Он даже стал пописывать в нее стишки. Он увидел, что это занятие нравится «другим людям».
После второго курса с небольшим отрядом он опять заработал большие деньги — за ним установилась слава беспроигрышного командира, и некоторые институтские «другие люди» стали устраивать своих сыновей и родственников к нему.
Чтобы остаться в институте, а значит и в Москве, и, кроме того, сблизиться с «другими людьми» своей кафедры, он вступил в студенческое научное общество и прозанимался в нем полтора года. Но здесь его ждало жестокое разочарование. На самой кафедре и среди руководителей общества «других людей» не было. Это были обычные, вялые, никуда не торопящиеся и ничего не желающие люди. Но вокруг, на других кафедрах было столько «других людей». Ему казалось, что они есть на их кафедре, просто он их не видит, и он их упорно искал. Он писал рефераты, готовил доклады, рылся в институтской библиотеке и в пыльных архивах кафедры, он давно стал лидером этого научного общества, но растолкать, расшевелить этих вялых, инфантильных людей было невозможно. Самое ужасное в них было то, что оживлялись они только в перерывах. Иные шли в туалет и нещадно курили, посмеиваясь и болтая чушь и анекдоты. Большинство же оставалось в комнате, устанавливало шахматную доску и, торопясь (казалось, это им нравилось больше всего), расставляло фигуры.
Делать ему в такие перерывы было нечего. От курева и шахмат его тошнило, но, надеясь, что среди шахматистов или курильщиков есть «другие люди», он этого не показывал. «Ведь пьют же рыбий жир, — внушал он себе. — И ничего… А потом привыкают».
В долгие минуты перерывов к ним заходили аспиранты. Вполне возможно, что с ними предстояло работать, и Крашев относился к ним с почтением… Но шло время, и по мере того, как он убеждался в тщете своих поисков «других людей» на кафедре, почтение это падало. А одного из них — тощего, с впалой грудью и плохими зубами, наполовину уже лысого аспиранта — он почти ненавидел. Аспирант был года на три старше Крашева, но имел вид человека, который все познал, все увидел и во всем успел разочароваться. Казалось, он изучил все философии и все идеи. Не было чего-то, с чем бы он согласился или чему-то был рад. Скрывая тошноту, желая привить любовь к шахматам, Крашев («набравшись здоровья», как он думал, усмехаясь про себя) иногда играл подряд несколько партий, но с «тощим» не играл никогда.
Играл «тощий» в шахматы хорошо. Относительно шахмат у него была своя философия: шахматы — это модель жизни.
Крашев вспоминал свои споры с очкариками первого стройотряда и осторожно, пытаясь скрыть свою неприязнь, спрашивал:
— Ну, и что же обозначают пешки?
— Пешки? — смеялся «тощий», обнажая гнилые зубы. — Пешки и обозначают пешки. Вокруг так много робких, маленьких пешечек. Выйди на улицу, студент, оглянись…
Крашеву не нравилось это — «студент». Он морщился и терпеливо слушал.
— Все у нас есть, — аспирант говорил уже с пафосом. — Есть пешечки. Есть консерваторы — слоны. Есть люди-танки — ладьи. Есть короли, которые, в общем, ничего не делают, но от которых зависит все.
— Ну, а кто же мы? — охватывая широким жестом студентов и аспирантов, спрашивал Крашев.
— Все мы? — тощий аспирант тоже делал широкий жест, но отделял при этом Крашева. — Вы мы — стадо коней, с круто выгнутыми шеями. Все мы прыгаем, как блохи. И ликуем от восприятия жизни. Как будто нет болезней, смертей, трагедий. У нас у всех деревянные души. Стадо идиотов, — аспирант кашлял, выстреливая в Крашева сгустком табака с гнилью, и махал рукой, показывая, как он все удачно доказал и спорить больше не о чем.
— Последний вопрос, — внешне Крашев был так же спокоен, даже равнодушен. — А кто же ферзь?
— Ну, ферзь у нас — ты, — закатывался в тоненьком смехе-кашле «тощий». Все дружно смеялись, а Крашев ненавидел «тощего» все больше и больше…
К началу пятого курса он понял, что занятия в научном обществе — детская игра, точнее, гадание на кофейной гуще; сам же кофе был выпит другими и довольно давно, но от неопределенности он все еще тянул в этом обществе лямку.
Его же, наверное, решив оставить на кафедре, проверяли на деловитость и давали спецзадания. Часто они бывали нелепы и наивны.
Из нескольких маленьких подвальных комнат-лабораторий решили сделать одну большую и стали ломать перегородки. Старая сцементированная кирпичная кладка поддавалась с трудом. К лабораториям был подведен сжатый воздух, и стены стали долбить отбойным молотком. Но скоро дело встало — сломалось вставное перо-долото. Запасных перьев в институте не было, и руководитель работ, доцент, вручив Крашеву письмо на один из заводов, просил съездить и достать эти перья. Тон у доцента был умоляющий — скоро должны были начаться лабораторные работы, и времени оставалось в обрез.
Крашев вышел из института и огляделся… Стоял октябрь. Москва была накрыта тяжелыми, низкими тучами, из которых непрерывно шел мелкий, мерзкий дождь.
Ехать ему не хотелось — завод находился очень далеко. Он вдруг вспомнил первую «целину», Жору, представил, что бы тот сделал на его месте, и улыбнулся…
Москва лихорадочно готовилась к зиме. Вокруг все было перекопано и взлохмачено. Вбирая в себя несметное количество колебаний, надрываясь, постанывал влажный воздух. Нужный ему звук он выделил из общего хаоса быстро — работающий компрессор натуженно бухтел сразу за институтским забором.
Он поговорил с машинистом, за три рубля купил пять перьев и вернулся в подвал. От хмурого московского неба, измазанных мокрой глиной улиц и наивно-восторженных возгласов благодарного доцента в душу лезла тоска…
И все же из всего этого толк вышел. Через месяц, с докладом, его послали в крупный уральский город — на конференцию студенческих научных обществ.
В самолете он разговорился с соседкой — молодой еще женщиной, научным работником. Женщина занималась вопросами загрязнения воздуха и часто летала в этот уральский город — собирала данные для своей диссертации.
— В смысле загрязнения это уникальное место, — говорила она оживленно, словно сообщая что-то очень веселое. — Совершенно уникальное место. В местном воздухе — целый набор компонентов. Уникальная естественная лаборатория. Уникальная…
Крашев мрачно слушал. Он уже твердо решил порвать с научным обществом, и лететь в «уникальное» место ему не хотелось. Город ему представлялся цепью мрачных, лязгающих железом и полыхающих огнем заводов, с небом, сизым от смога.
Конференция проходила в местном политехническом институте, и он очень удивился и виду выполненного в классическом стиле главного корпуса этого института, и сосновому парку, на краю которого расположились институтские корпуса и лаборатории, и тишине самого парка, и огромным соснам, по которым носились, в общем-то нисколько не пугаясь людей, белки, и синему, чистому, уже морозному небу, так похожему на московское.
В последний, четвертый день конференции, после всех докладов, споров, дискуссий, к которым он отнесся с полным равнодушием, устроители организовали экскурсию по заводам города, и только тогда Крашев понял, что значили слова женщины об естественной лаборатории и о наборе компонентов, загрязняющих и отравляющих воздух.
На территорию заводов они не заезжали, да в этом и не было смысла — детально за день они бы не осмотрели ни один из заводов: настолько громадными были большинство из них. Автобус подъезжал к проходной, следовал рассказ экскурсовода — местного писателя, зачарованно поющего гимн огню и металлу, и автобус мчался дальше. Заводам, казалось, не будет конца, они следовали друг за другом, как ему и представлялось в самолете; из закопченных зданий неслись гул и лязг; поверх заводских заборов полыхало огнем; огромное количество тонких, толстых, круглых, квадратных, невысоких, уходящих под облака, кирпичных, железобетонных, стальных, крашеных, закопченных, пыльных, Прямых и гнутых заводских труб дымили, попыхивали, вили, сыпали, источали каждый свой «компонент», и только нос его вначале нервно, затем раздраженно, а потом совсем устало реагировал на новый, не видимый и не нюханный им запах, летевший от всех этих труб. Цветов у того, что источали эти трубы, тоже было великое множество, и среди них были не только черные-пречерные от мазутных котельных или густо-белые от гипсового завода, но были и сложные: кирпично-красные, иссиня-голубые, оранжево-желтые, изумрудно-зеленые.
Часа через три у него загудела голова, что бывало с ним крайне редко. Экскурсанты знали друг друга плохо, учета не было никакого, и он подумывал тихо сбежать, слившись с людьми у очередной проходной, но тут писатель с видом человека, приготовившего приятный сюрприз, объявил о том, что на следующем, еще только строящемся заводе их ждет нечто необычное, и на этот раз они пройдут на территорию, и что он, писатель, будет молчать — на заводе собираются выпускать новейшие строительные материалы, и пусть теперь они, будущие строители, разберутся во всем сами; а потом они отобедают — на строящемся заводе прекрасная столовая. Впрочем, добавил писатель, их встретит инженер из дирекции, его хороший знакомый, и вопросы можно будет задать ему.
Вырвавшись из цепи окружавших заводов и пробежав несколько сот метров навстречу ветру, автобус нырнул в тоннель высокой железнодорожной насыпи, за которой замелькали легкие садовые домики, полузакрытые плотной стеной высоченных — с еще не совсем опавшей пожухлой листвой — тополей.
Воздух впереди автобуса стал вновь прозрачным. Меж тополей сверкнуло что-то необычное, ярко-синее, и Крашев не сразу сообразил, что это не транспарант, призывающий садоводов-любителей к высоким урожаям, не крыша садового домика местного оригинала, а фасад упрятанного за довольно высокий забор завода. Выждав, когда автобус минует сады и корпус завода откроется не маленьким кусочком фасада, а развернется во все свои двести, а то и больше, таких же ярко-голубых метров, насладившись произведенным эффектом, писатель не удержался и, захлебываясь, стал сыпать датами, метрами, тоннами, мудреными названиями новых строительных материалов, из которых английской фирмой был построен корпус и которые должен был выпускать сам завод.
…Но получилось несколько иначе. Инженера дирекции, который должен был провести их на завод, на месте не оказалось; на территорию их не пустили, и несколько сникший писатель предложил вначале пообедать — благо, столовая — одноэтажное, бетонное здание — стояла рядом.
Столовая и в самом деле оказалась неплоха: зал чист, обедающих немного, блюда вкусны и недороги.
Он пил компот и разглядывал боковые стены, выложенные мозаикой в стиле «а ля русь»: пошедший вприсядку рыжий парень с балалайкой в руке, хоровод девушек со строгими, не оставляющими надежды лицами; березки, зеленая поляна… Ему не нравилась нарочитость стиля, но что-то, может, взаправдашняя лихость рыжего парня, может, печальная строгость девушек, а может, эта зеленая поляна с тонкими березками, трогали и не опошляли картину…
Хлопнула входная дверь, и в зал вошла группа людей. Их было человек семь-восемь. Они не направились к раздаче, а сели за соседние два стола в ожидании.
— Пс-с-с, — сказал один из них. Остальные засмеялись…
Из прохода, рядом с раздачей, выпорхнула накрахмаленная женщина. Улыбаясь накрахмаленным лицом, женщина ловко накинула накрахмаленную скатерть на сдвоенные столы и, развернувшись, пошла обратно. Один из севших за столики, поднявшись, пошел за ней.
— Толик, — свистящим шепотом позвал его писатель.
Толик — высокий, худой, модно одетый парень, развернулся и, близоруко щурясь, шагнул к их столам.
— Извини, не мог, — услышал Крашев его шепот. — Май фрэнд, — громко сказал он, показывая на писателя пальцем. Сидевшие за столом закивали головами. — Англичане, — шепотом продолжал Толик. — Два дня, как приехали… Курируют установку оборудования.
— А ты? — бегая глазами по Толику, спросил писатель.
— А я курирую их… — Толик пожал плечами.
Они стали говорить еще тише… Толик, извиняясь, разводил руками, показывая на англичан и порываясь к порхающей крахмальной женщине. Наконец писатель, затосковав, бросил Толика и повернулся к группе.
— К сожалению, экскурсия отменяется, — нервно сообщил он. — Анатолий Иванович, — он кивнул на Толика, — занят… Прошу в автобус. Впрочем, кто хочет самостоятельно, так сказать… Пропускной системы особой нет, одного-двух задерживать не станут…
Группа, возглавляемая тоскующим писателем, вышла. Крашев прошел пару шагов и остановился… Хлопала входная дверь. Входили и выходили люди… У сдвоенных столов порхала крахмальная женщина… Держа в руках мешавшую ему балалайку, шел вприсядку рыжий парень… И Крашев разом вдруг понял, что и эти входящие и выходящие люди, и крахмальная женщина, и то и дело подбегающий к ней Толик, и даже присевший рыжий парень — все это «другие люди».
Крашев вышел из столовой… Группа усаживалась в автобус. Крашев нашел писателя и сказал, что походит по заводу самостоятельно. Все еще тоскующий писатель пожал плечами и закрыл перед Крашевым автобусную дверь. Крашев повернулся, вздохнул для храбрости и пошел навстречу «другим людям».
Глава 12
Совсем рассвело, и он вышел во двор. Новый дом, омытый ночной росой, свежий, бодрый, равнодушно взглянул на Крашева темными окнами.
«Все — подумал Крашев. — Надо уезжать…»
…Как и много лет тому назад, поезд уходил в Москву утром.
Объяснений с матерью не было. Когда она вышла во двор, он сказал ей, что уедет сегодня, сейчас же. Мать ничего не ответила. Она молча смотрела на него, и он подумал, что она не просто смотрит, наверное, опять молится — просит хорошей дороги. А может, спрашивает у своего Бога — отчего он так скоро уезжает? Мысль о том, что мать опять молится, не покоробила его. Все застыло в нем, оцепенело. Он двигался, собирал вещи, разговаривал с матерью, считал: как выйдет из хатки, как успеет на вокзал, как купит билет… Но все разговоры, подсчеты проходили мимо него. В них участвовал его мозг, но чувства его оставались нетронутыми, как бы застывшими на нулевой отметке шкалы эмоций.
Собравшись, они посидели «на дорожку» — он сидел серьезно, скованно, потом вышли, и он не взглянул ни на хатку, ни на новый дом; потом прошли школу, старый школьный дом, дубовую рощу. Билетов на Москву не было.
«Странно, — подумал он. — К чему мне в Москву? Кому я там нужен? Кто ждет меня там?»
А мать думает, что нужен. Вот нет билетов, и она побежала к знакомому дежурному, уговаривает его. А может, хочет отправить? Может, и ей все равно? Да и зачем он здесь? Может, опять на Урал? Директором?
Крашев усмехнулся. На заводе уже свой оркестр, своя музыка, свой дирижер, и других музыкантов туда не надо. Куда же?..
…Мать билет достала, и в Москву надо было ехать.
Поезд подошел правильно. Крашев взял сумку, корзину с виноградом и большой бутылью вина, поцеловал мать и прошел в вагон. Как и двадцать пять лет тому назад, поезд стоял на их вокзальчике две-три минуты. Он нашел свое купе — оно было пустым, и он опять усмехнулся (резерв?), поставил вещи, вышел в коридор и посмотрел в закрытое окно.
Независимо-радостный от сознания участия в непрекращающейся дорожной суете топорщился вокзал. За все свои годы он не сдвинулся ни на миллиметр, но нездешние серые плиты, загадочные окна придавали ему вид существа, много погулявшего по этим железным дорогам и застывшего здесь некрепко и ненадолго.
«И у меня такой же вид, — подумал Крашев. — Франтоватый, таинственный и нездешний. Хотя… Я был в Англии, в Индии, был на Кубе… Изъездил почти всю страну… Но место мое было, кажется, вот здесь, в этом городке, и ни на миллиметр дальше. И когда все это кончится, ты будешь здесь… или нигде не будешь…»
…Мать стояла рядом с дежурным, пожилым мужчиной с истертым, неопределенным лицом. Дежурный тянул бечевкой пестик отправного колокольца.
Крашев нашел глаза матери и посмотрел в них. Вагонное окно было совсем близко от столба с колокольцем, но когда мать увидела его, она подошла еще ближе. Дежурный, покрутив своим неопределенным лицом вдоль состава, дернул бечевку и показал машинисту отправление. Поезд напрягся, зашипел, разжал колодки тормозов, уперся в колею дороги и, шевеля и скрипя межвагонными суставами, еле заметно сдвинулся к Москве. Мать подняла руку и шагнула вместе с поездом. Он знал, что сейчас она заплачет, и пугался этого. Мать подняла другую руку и стала вытирать глаза. Он не испугался и равнодушно смотрел на нее. Вдруг мать вздрогнула, посмотрела в сторону и опустила руки. Подошла женщина с длинными, наполовину седыми волосами и стала рядом.
«Анна, — понял Крашев. — Это Анна».
Женщина махнула Крашеву рукой и что-то сказала. Он ничего не услышал и дернул ручку, опуская окно. Окно не опускалось. Мать и Анна шли рядом и что-то говорили ему. Поезд, вовсе оправившись от несколькоминутной дремы, дернулся и, убыстряя ход, плавно покатился вдоль платформы. Анна опять что-то сказала ему. Он молча смотрел на ее почти не изменившееся круглое лицо, на седые волосы. Что она хочет сказать ему? Он махнул ей рукой, указывая на конец вагона, и пошел по коридору. Тамбур дохнул на него вонью множества выкуренных, раздавленных и заплеванных сигарет. Проводницы не было. Он понял, что ошибся, что прошел не в тот тамбур. Дверь тамбура была закрыта. Понимая, что дверь и должна быть закрытой, Крашев посмотрел сквозь стекло ближайшего к тамбуру окна. Мать была уже далеко, но Анна, надеясь, что он откроет дверь, немного поотстав, шла за вагоном.
Крашев дернул ручку и дверь открылась. Он высунулся из вагона, отыскивая Анну. Что она хочет сказать ему? Он нашел ее — она шла быстрым шагом, почти бежала. Что же она хочет сказать ему? Он замахал ей рукой: он здесь, он открыл дверь! И увидел, что Анна застыла — платформа обрывалась метровым откосом.
Он отступил вовнутрь, и его опять коснулась вонь тамбура. Неистово заалел перед глазами стоп-кран. Крашев вдруг вспомнил, как ехал сюда, как в вагон сел пьяненький паренек, бормотавший «Она меня не любит, она меня не любит», и как он останавливал раз за разом поезд, и как два сержанта волокли его, а паренек все шептал… Крашев шагнул и протянул руку к ручке стоп-крана…
Он ясно почувствовал, как взмокла его ладонь, охватившая холодную, давно никем не держанную ручку. «А ведь не дернешь — побоишься, — зашептала иная часть его сознания. — Представь: ты — замначальника крупнейшего в стране Главка — хулиган! Представь себе, как этот поезд, уже отчетливо бьющий по стыкам, дернется, как тормозные колодки начнут душить колеса и их визг заглушит шипенье выходящего воздуха, как посыпятся с полок дремлющие пассажиры, заплачут, набив шишки дети, заматерятся и побегут вдоль состава машинист с бригадиром…»
— Не сможешь, нет, не сможешь, — сказал он вслух и отдернул руку от стоп-крана.
Дверь тамбура все еще была открыта. Огибая бухту, поезд, поднимаясь, мчался к первому тоннелю. Поезд уже взобрался на склон ближней маленькой горы, и земля с этой стороны была далеко-далеко внизу, мягкая, еще зеленая и беззащитная.
«Я — раб, паршивый раб, во мне нет внутренней свободы… Я весь в сетях…» — думал он, оцепенело глядя на медленно текущую, мягкую землю…
А потом, как и много лет назад, поезд вбежал во тьму первого тоннеля, и все вмиг изменилось. Спрессованный воздух ворвался в открытую дверь, колеса задуплетили, казалось, в самом тамбуре, но Крашев все так же оцепенело стоял у стоп-крана и, лишь когда поезд появился по другую сторону дырявой горы, закрыл дверь и медленно пошел по коридору пустого вагона…
Глава 13
В областном городе вагон ожил, стал наполняться пассажирами. Появилась молодая девушка-проводница, растопила печь и стала готовить кипяток.
Крашев переоделся и лег на верхнюю полку. Поезд двигался на север, к мгле, к холоду. И, наверно, уже сейчас за стеклами вагона было зябко, но пока здесь, в прокаленном за день вагоне, это не ощущалось.
Светила полная луна. По теплой земле полз плотный молочный туман, разорванный в иных местах темными пятнами. Что-то пульсировало в этих пятнах. Казалось, земля — живая, теплая — дышит через эти пятна.
«Какая же она беззащитная! — думал он. — Стрела, копье, метеорит, — все может поразить ее, ничем она не прикрыта». И эта открытость, беззащитность земли вдруг поразила его, как поразило когда-то другое: беззащитность и открытость его маленького сына, а особенно детской его головки с дышащими, едва прикрытыми тонкой кожицей, отверстиями на темени. Мозг был совсем рядом. Ткни булавкой и все — готов. Его тогда поразило все: и тонкая пульсирующая кожица, и жуткая, ничего не ведающая наивность сына, и жуткость самой его мысли о булавке.
Мелькали небольшие станции, на которых поезд не останавливался. Бегущие столбы электрифицированной дороги, их разбегающиеся от ярких станционных прожекторов тени, растяжки, сам электропровод — все это мелькало, двоилось, троилось, переплеталось в какой-то хаос, куда попадал поезд. Но станция кончалась, прожекторов становилось меньше и меньше, тени-сети, тормозившие поезд, пропадали, оставались позади последние молчаливые хатки с одиночными тополями-сторожами, и состав свободно и плавно двигался дальше и дальше.
…Текли, бежали мысли… Оцепенелые, словно и они попадали в тени-сети, но вот вырваться не могли…
…А ведь это был поначалу его обычный челночный ход. Вернее, он уже понял, что в каждой ситуации должны быть запасные ходы, и завод на Урале был таким запасным ходом, ставшим после окончания института основным.
Просторный, с английским оборудованием, готовившийся выпускать совершенно новые для страны стройматериалы, голубой завод ему понравился, и, походив по нему часа два, он пошел в отдел кадров.
К посетителям, вроде Крашева-студента, и к таким предложениям — написать письмо в институт с персональным запросом — начальник отдела кадров, молодой, лысоватый, тщательно одетый человек, готов не был. Но многому, очень многому научили Крашева строительные отряды. Он уже знал, как и о чем разговаривать с кадровиками, секретарями, замами и помами. Да и задача — набрать молодых, линейных, самых низкооплачиваемых работников — перед начальником отдела кадров стояла. И лысоватый, тщательно одетый молодой человек, не любящий делать что-то не так (а письмо, о котором просил Крашев, было как раз из числа «делать что-то не так»), записав «реквизиты» (так он выразился), прислать письмо с запросом на Крашева согласился.
«Но что же тут плохого?» — спросил он себя. Что плохого в том, что он искал для себя хорошую работу? Ведь в Москве было так неопределенно и так ему не нравилось… Оставаться на кафедре? Но науку он не любил, а преподавать (хотя бы и в будущем) — тем более. Наука на кафедре была так слаба! Преподаватели ему казались еще слабее…
Идти на стройку мастером?.. Он так и решил и пошел бы на стройку, если бы не эта дурацкая история с тещей, вернее, с тестем.
…После той ночи, утром, прямо из мужского общежития, они поехали в загс и подали заявление, а после свадьбы веселой, шумной, он вдруг с удивлением обнаружил, что жена в общем-то не одна, что у нее есть мать, отец, старшая сестра, куча дальних и близких родственников и еще бо́льшая куча знакомых и приятелей. Как большинство холостых мужчин, он догадывался, что у женатых должна быть теща, тесть, свояченицы и бог весть кто еще, и, как большинство холостых, он надеялся отделить свою будущую жену от ее прежнего окружения, но и, как большинству женатых, ему это не удалось.
В Замоскворечье родители жены имели небольшую двухкомнатную квартиру (теща называла ее «хрущевкой»). Старшая сестра жены была замужем, с родителями не жила, и выделенная Крашеву с женой маленькая комнатка вначале показалась ему раем. Но родители жены — пенсионеры — вечно торчали дома, у старшей сестры были постоянные проблемы с мужем, и она часто оставалась ночевать с дочкой у родителей; приходили и приезжали близкие и дальние родственники и тоже оставались ночевать. Теща — простоватая, тучная женщина, скучавшая по причине пенсии, — всегда была рада гостям, и уединиться, отделить жену от всех было непросто. В маленькой «хрущевке» всегда было шумно, весело, почти безалаберно. Незаметен был лишь тесть — маленький, лысый человек, вечно улыбающийся и вечно чуть-чуть пьяный. Это «чуть-чуть пьяный» было так же верно и постоянно, как то, что тесть никогда не бывал даже «чуть-чуть трезвый». Это его свойство Крашев заметил еще до свадьбы. Свадьба проходила в профессорской столовой, и Крашев боялся, что тесть заснет где-нибудь раньше срока. Но ничего не случилось. Среди горланящих студентов, много евших и много говоривших аспирантов, много, но интеллигентно пивших доцентов тесть был все так же «чуть-чуть», так же тих и незаметен.
Прошел месяц, второй, и жена забеременела. Ему стало казаться, что жена еще больше отдаляется от него, бесконечно шепчется о чем-то с сестрой и матерью. Он уже решил искать квартиру. Но однажды — до распределения оставалось совсем немного — все неожиданно кончилось. В маленькой «хрущевке» стало необычайно тихо.
Первым исчез тесть, исчез таинственно и непонятно, и вследствие тихости незаметного тестя Крашев это исчезновение долго не замечал. Потом ушла старшая сестра с дочкой — она должна была скоро рожать, и у нее с мужем появились новые проблемы, а старые, по причине каких она жила с ним врозь, пока исчезли. Поубавилось дальних и близких родственников. Вот тут-то, когда стало совсем тихо, Крашев и спросил себя: «А где же тесть?»
В конце концов жена сказала, что отец в ЛТП…
«Как ЛТП? Что такое ЛТП? Почему в ЛТП?» — задавал он глупые вопросы, хотя уже и вспомнил и что такое ЛТП и по какой причине мог туда попасть его тесть.
…Отчего так устроен человек? Почему так пугает и в то же время притягивает его к себе все аномальное, все, что-либо имеющее отклонение от обычного, человеческого? Чувство страха? Простое любопытство? Отчего нас пугают тюрьмы? И отчего мы хотим хотя бы одним глазком посмотреть на эту иную, совсем необычную жизнь?
А аномалии в самом человеке? У соседа Крашева по общежитию при осмотре врач нащупал какую-то безболезненную шишечку в плече и сказал пару слов на латинском языке. Слова сосед запомнил, но смысла не понял, разволновался и попросил Крашева, идущего в библиотеку, посмотреть в медицинской энциклопедии, что же обозначают эти слова. Крашев все, что надо, нашел, почитал, а наиболее туманные места записал. Он уже, усмехаясь (опухоль была совершенно безвредной), ставил толстенную книгу на место, как та раскрылась по сделанной кем-то закладке, обнажив название: «Половые извращения». Это было на втором курсе, ему было восемнадцать лет, и от этих двух слов, составленных из обычных черных букв, полыхнуло жаром. Вспотели ладони. Появилось желание (страх?) ткнуть книгу на место. Но он закрыл толстенный том, отошел в зальчик, в самый его край, раскрыл (любопытство?) книгу по закладке и стал читать. После пяти минут чтения горело не только лицо, но, казалось, и вся голова. От названий, подназваний гомосексуалистов, садистов, фетишистов, мазохистов и бог весть еще каких извращенцев рябило в глазах. Пригибаясь над столом, он невольно оглядывался по сторонам, чувствуя себя обладателем жгучей, страшной тайны. Дочитав, посмотрел на закладку и понял, что эту тайну знают многие. А вдруг эту книгу читали и те, о ком речь? Толстенный том стал невыносимо тяжелым и липким. С трудом и страшной брезгливостью поставил он его на место. Из маленького зальчика вышел, почти не дыша. Ему казалось, сам воздух зальчика пропитан всякими «измами».
Когда он задавал вопросы о ЛТП, лицо его не горело, но все же сладко-приторное чувство желания узнать что-то запретное, аномальное, почти криминальное было в тех вопросах, кроме простого беспокойства.
Жена говорила, что ничего не знает, что устроила все это сестра вместе с матерью.
В конце концов сладко-приторное чувство в нем победило. Он все же настоял, и они поехали в Подмосковье. После электрички они долго шли почти чистым полем, и жена устала. Наконец они подошли к поселку, с одного края которого высились серые, сложенные из тонких железобетонных плит стены. Они долго кружили вокруг этих бесконечных серых стен, пока не вышли к пропускному пункту, и по системе ворот, решеток, впускных и выпускных дверей Крашев определил, что пропускной пункт ЛТП не хуже пропускного пункта зоны, рядом с которой работал их стройотряд в Коми.
С трудом, через дежурного, они узнали, в каком тесть отряде и где этот отряд сейчас работает. Оказалось, что это недалеко, «на воле», на небольшом кирпичном заводике.
Идти на территорию заводика жена отказалась. Он посмотрел на ее лицо — она и в самом деле выглядела уставшей: шел четвертый месяц ее беременности.
Усадив ее на старый, трещавший стул в коридоре маленькой конторки, он пошел вдоль низких, почти ушедших в землю напольных обжиговых печей. Вся технология и все конструкции были так стары, что он, сдавший курс «Производство стройматериалов» на отлично, с трудом мог понять эту технологию и назначение конструкций. Но все же название печей «напольные» — он вспомнил и технологию кое-как понял. Вот тут «садят» в пустую печь сырец — необожженный кирпич, а вот из другой «выставляют» уже готовый. И то и другое делают люди в серой одежде, в серых шапках-ушанках и серых кирзовых сапогах. У тех, кто выгружает кирпич, одежда, сапоги, ушанка и лицо — в оранжевой кирпичной крошке.
Самой мелкой и несуразной фигурой у печей была фигура его тестя. Крашев подошел и тронул фигуру за плечо, почувствовав, как шершавые, колючие оранжевые крошки потекли под его пальцами вниз. Когда тесть обернулся и Крашев увидел его кроличье-трезвые глаза, то сладко-приторное чувство, двигавшее им, прошло, уступив место обычной жалости. Стало стыдно за тестев испуг и неловкость, мелькавшие в кроличьих глазах. Он не знал, вернее, не понимал, что же делать дальше, о чем спрашивать, что говорить… Но всегда молчавший тесть заговорил сам.
— Конечно, конечно, — забормотал он, и Крашеву странно было слышать, как тесть правильно и твердо выговаривает это свое «конечно». — Конечно, они формально правы и формально Вы имеете право…
Испытывая все большую неловкость от непонятной фразы, от того, что тесть обращается к нему на «Вы», он спросил:
— Может, надо что-нибудь? Денег или еще чего?
— Нет, что Вы, — с испугом ответил тесть. — Могут обыскать, а потом — в изолятор… — И тесть стал длинно и путанно объяснять Крашеву, что все произошло случайно, что просто в комиссии, направившей его сюда, не было его старинного друга, а так бы было все хорошо, все бы обошлось — вот такая невезучесть.
От длинного и нудного рассказа, от кроличьих глаз, непрерывного «выканья» у Крашева прошла и жалость.
— Может, все же надо что-нибудь? — перебил он тестя.
На миг кроличье выражение исчезло из глаз.
— Многое надо, многое. Но все запрещено. Письма читают. Тумбочки, постели обыскивают. Часы носить нельзя… Приезжал братан, привез свитер. Вот тут и надел. А вечером — отобрали, опять нельзя, а как же тут? — тесть указал на шеренгу мрачных напольных печей, будто это они запрещали, проводили обыски, вскрывали и читали письма, сажали в изолятор, изымали одежду. На обшлаге протянутого к печам рукава серой фуфайки Крашев увидел пришитую бирку. На бирке стояла фамилия тестя, номер его отряда и личный номер. — Впрочем, — глаза у тестя опять потухли. — Впрочем, сигареты, если можно. У меня такая гадость…
Крашев не курил, и сигарет у него не было. Он побежал к жене. Сидя на стуле, жена дремала.
— У тебя есть сигареты? — довольно грубо спросил он.
— Зачем? — Она курила, но в последние месяцы совсем понемногу, по одной-две сигареты в день, и он подумал, что у нее может и не быть.
С собой у нее было две пачки. Одна из них оказалась распечатанной. Он взял обе.
— Могла бы и передачу организовать.
— Это что, больница? И при чем тут я? Это ведь твоя идея, — жена удивленно пожала плечами.
— Но отец-то твой. Может, я виноват, что он здесь?
— Может быть, — жена странно усмехнулась. Ему захотелось задержаться и выяснить, что значит это «может быть» и ее странная улыбка, но он посмотрел на ее обычный еще живот, развернулся и побежал к тестю.
Вдоль печей дул сквозняк. Сквозняк сыпал на тестя пыльную колючую оранжевую мелочь. Тесть уклонялся своим хлипким телом, но и сквозняк менял направление и опять бросал в лицо оранжевую труху, заставлявшую тестя застыть, сгорбиться и долго протирать рукой резавшие забитые глаза.
Крашев уже подбегал к тестю, как вдруг мысль, простая и неожиданная, заставила его тоже застыть на месте. «А ведь это из-за меня, именно из-за меня тесть здесь, в ЛТП».
С его переездом в маленькой «хрущевке» стало совсем тесно. И вот — результат. Теще этот замухрышка не нужен, дочерям, как оказалось, — тоже. А тут и жена забеременела… Да-а-а… Ну, и столичные порядочки. Тесть, конечно, трутень и выпивал… Но ведь и вреда никому… А организовала все старшая сестричка. Вот ведьма! Родного папашу…
Смотреть в кроличьи глаза было стыдно. Он сунул сигареты и, не слушая, как тесть опять бормочет: «Конечно, конечно, формально они правы…» — быстро пошел к жене.
…Он твердо решил в Москве не оставаться и, перераспределившись, уехал на Урал. Жена не возражала — они никогда не ссорились, да и к тому же сама она оставалась в Москве — должна была скоро рожать…
Глава 14
Два года на Урале он прожил один. Это было и хорошо и плохо. Он скучал по жене и сыну. Но зато отпадали десятки проблем, появляющиеся у молодой, мало зарабатывающей, неустроенной, неопытной семьи.
Когда через два года жена с маленьким сыном приехала в город на Урале, то многие проблемы — неустроенность, неопытность — остались; карьеру он к тому времени тоже сделал небольшую — работал старшим мастером одного из участков, но те два первых года были едва ли не самыми важными в его деловой жизни. Произошло самое главное — «другие люди» приняли его в свои ряды, признали своим человеком.
…Но все же как делается карьера? Деловитостью? Знаниями? Связями? Если вы понимаете карьеру, как непрерывное движение, а не что-то, может, и высокое, но застывшее, — то не тем, не другим и не третьим. Хотя все надо…
Итак, начнем с третьего. Связи… Вещь очень хорошая, но если вы (извините) — дурак, связи не помогут. Конечно, занять место высокое и, ясное дело, не свое связи помогут. Но дальше — ни-ни… Выше того, что могут ваши связи, вам не подняться, нужны новые связи, а если вы (извините еще раз) — дурак, то и заводить их вам с вашей глупой головой трудно. Имея связь, карьеру сделать просто, но карьера эта, априори, имеет предел, заложенный в самой связи, а мы-то с вами ведь видим эту карьеру блестящей и бесконечной…
Впрочем, есть еще подвид такой карьеры. Достигший чего-то по связям может вдруг сам налиться соком и пустить корни, то бишь, связи и далее делать карьеру по принципу: ты — мне, я — тебе. Старый испытанный способ… Но все же этот способ груб, ограничен, многое тут на виду, и он становится не модным.
Может, деловитостью? Еще меньше шансов. Хотя на первых порах это здорово помогает. «Деловитые» (не путать с «деловыми») яростно роют землю, гребут, носятся, сбивая с ног ближайших конкурентов, осыпают (непроизвольно) глиной, щебенкой, песком; обливают (тоже непроизвольно) водой, иногда очень мутной. Таких первыми замечают и первыми выдвигают. Они рады и еще более деловиты. Гребут, уже ничего не различая, смешивая глину с водой и частенько (уже произвольно) поливая всем этим копающихся рядом.
Но время течет, бежит… И вот уже у гребущего одышка, давление, боль в правом боку и гастритное дыхание. Он увял, голос его осип, ногти поиступились… «Деловитый» останавливается, видит огромную, выкопанную им яму и улыбается. Он видит в ней смысл и доволен собой. Иногда он своими корявыми ногтями, тяжело дыша и держась за бок, что-то еще подправляет, но карьера его кончена… Труднее всего таким способом делать карьеру в реальном производстве — очень тяжелый грунт. Проще всего в контролирующих учреждениях — грунта там вовсе нет, сплошная вата.
Есть подвид и у этого способа — делание карьеры здоровьем. У некоторых людей — железное здоровье. Человек с таким здоровьем, может, не так деловит, но зато всех пересидит, переходит, переживет. Добиваются такие много большего, но здоровье (хотя и железное) в конце концов кончается, и финал здесь такой же, как у просто «деловитых», а чаще и хуже: инфаркт или инсульт.
Знаниями? Настоящие знания — вещь спорная, для многих — непонятная, для большинства — трудноуловимая. Знания несут в себе элемент свободы, а обладатели их — элемент анархии. Знающему человеку очень легко кому-то что-то доказать, но очень трудно сделать карьеру. Особенно на первых порах. Это потом, чего-то добившись, можно показать, что ты чего-то и знаешь… Но большие, настоящие знания отвлекают от понимания таких простых истин.
Подвиды здесь тоже есть. Это, собственно, «знания, как делать карьеру». Бывают и такие. Но это не совсем то, о чем говорилось. Да и знание «знаний» часто успеха еще не дает.
Может, еще как? Интеллектом, например, талантом? Но, честное слово, это такие непонятные свойства, что и говорить о них не хочется.
Но, может, есть люди, которые обладают всем этим разом? Наверное, есть. Но они, вероятно, чрезвычайно редки. Так редки, что делай они свою карьеру — никто им слова поперек не скажет.
Крашев не был таким редким человеком. Он мог быть деловитым, у него были некоторые (не особенные) знания, было обыкновенное, не железное здоровье, но ни связей, ни особых талантов — не было.
Но перед своими однолетками, начинающими карьеру, у него было громадное преимущество. В двадцать с небольшим лет он понял то, чего многие не поняли и в тридцать, а иные, похоже, не поймут никогда. Открытая им истина была проста: настоящую карьеру могут сделать только «другие люди».
Когда он приехал на Урал — первая линия завода уже работала на полную мощность. Писатель-экскурсовод, взахлеб хваливший завод, оказался прав. Легкие, теплые, эстетичные строительные панели стране нужны были позарез. Ввиду уникальности заводу выделили сверхплановое жилье, и вопрос с кадрами был решен. Крашев получил место в общежитии и был назначен мастером в цех. Все это было даже меньше, чем он ожидал, нулевая точка, но он не унывал. Технология была не сложна, а руководить людьми он умел. Студенческие стройки, а особенно та — в Коми, жили в нем. Труднее было другое. Как выбиться из группы таких же, как он, молодых мастеров? Как перейти в круг «других людей»?
Он решил действовать. Но как? Показать, что он умнее, эрудированнее многих? Что умеет думать, руководить? Он так и решил… Случай представился быстро. На заводе раз в месяц проводился День мастера. Присутствовал директор — огромного роста, с лошадиным лицом и крупными мослами, вероятно, переболевший начальными формами гигантизма человек. Он был лыс, но лысина не ухудшала и не искажала его длинное лицо, как и сильно картавая речь, которая казалась естественной и даже очень правильной, когда исторгалась из его лошадиной физиономии. Крашев непроизвольно думал, что речь могла быть и хуже и непонятней. Впрочем, кличка директора к лошадям никакого отношения не имела. За глаза его звали: Фанерный Бык.
Скучища на Дне мастера была ужасная. Под разными предлогами мастера стаями убегали из актового зала. Половина из оставшихся незаметно дремала под бормотанье очередного отчитывающегося.
Председатель совета мастеров пожилой, с утомленным лицом мужичок, тоже частенько дремавший в президиуме, однажды встрепенувшись всем телом ввиду слишком большой паузы, наступившей после окончания очередного доклада, посветлел взглядом и спросил: «А может, им, мастерам, и не стоит переводить время? В цеху у каждого столько дел…»
Светлые глаза председателя остановились на Крашеве, и Крашев встал… Вопрос не застал его врасплох. Он часто думал об этом же и сейчас старался говорить веско, ярко, убедительно. Приводил цифры и факты, а сам смотрел, как все больше и больше щурится Фанерный Бык — тот был близорук, но очки не носил. Убедив и себя и, как ему показалось, остальных, сел, ликуя в душе и думая о том, чтобы близорукий директор разглядел его получше.
Длинная пауза, от которой проснулись остатки спящих, тянулась бесконечно. Потом Фанерный Бык медленно встал и, щурясь, обвел глазами актовый зал.
— А вы знаете, что есть соответствующее постановление Совета Министров? — спросил он. — И я никому, — Фанерный Бык повысил голос, — никому не позволю нарушать его! И никому, — его громадный палец заударял по столу, — никому не позволю говорить об этом. А вам, молодой человек, — щелки близоруких глаз остановились на Крашеве, — я советую… — Но Крашев уже не слышал, что советовал ему громадный, мосластый, с лошадиной физиономией человек. Крашев сидел задавленный, обиженный, убитый… Он приехал сюда добровольно… Бросил жену и едва народившегося сына… Он крутится вокруг этих чертовых линий, гонящих и гонящих панели, день и ночь… Его смена всегда выполняет план, в бригадах полный порядок… Он аргументировал дельное предложение… От выполнения этого предложения на чуточку, но станет легче ему, а некоторым мастерам, у которых дела не очень, а их рвут, кроме Дня мастера, на великое множество других совещаний, станет лучше и свободней, и не на чуточку… Так чего же надо этому громадному, близорукому мерину, имеющему кличку в стиле американских индейцев? Чего им всем надо?.. Им — «другим людям»?
Он посмотрел в щурящиеся, все еще ищущие его глаза и вдруг понял — чего. Им всем нужна покорность…
…И он прошел школу покорности. Он увидел, что «другие люди» не однородны. Они состоят из слоев. Слои расположены в некотором отдалении и образуют пакет приоритетов. И слой с низшим приоритетом покорен высшему. Есть и вертикальные слои — связи, по ним-то «другие люди» и поднимаются в верхние слои. Иногда и опускаются. А часто вообще выскакивают из этих слоев в общее огромное пространство, где суетится огромное количество обычных людей.
Он научился видеть эти перемещения. Вот ушел на соседний завод начальник основного производства. Ушел он туда начальником производственного отдела, в общем-то, на меньшую должность и на меньший оклад. Но Крашев знал: в системе «других людей» он занял более высокое место. И точно: проходил месяц, второй, и вот уже их бывший начальник — главный инженер соседнего завода.
Бывали и ошибки… На опустевшее место начальника производства поставили старшего мастера. Был он знающим, исполнительным, участок его был передовым. Но Крашев уже понимал: это не «другой человек». Пересматривает расценки, спорит с бригадирами, недоволен приказами директора. И вот уже, исподволь, на его место готовят «другого человека». Это начальник очистного цеха. Он совершенно не разбирается в основном производстве, не так давно он работает и начальником цеха, но это настоящий «другой человек», и его переводят на долго пустовавшее место старшего мастера, на линию. Казалось, и здесь понижение. Но Крашев видел: бывший сантехник уже давно в более высоком приоритетном слое. А нынешний начальник производства уже среди обычных людей, на нем поставлен крест, и «другие люди», из всех слоев, правдами и неправдами выкручивают ему руки, ломают ноги и ждут одного — маленького, совсем маленького ЧП в производстве. Вот, наконец, оно случается — небольшая травма у рабочего — и всё: обычный человек, начальник основного производства, со страшным грохотом летит вниз. Ему вспоминают все грехи, все промахи. Директор и главный инженер упрекают его в душегубстве. У обычного человека — начальника производства — еще есть шанс уцелеть — поменяться с «другим человеком» — сантехником, но он грехов своих не признает и ситуации не понимает. Кончается это тем, что ему приходится просто увольняться…
Покорность должна быть внутренней и абсолютной. Но и внешне «другие люди», особенно в самых низших и самых верхних слоях, отличаются от пестроты и ряби людей обычных.
Крашев не любил пиджаки, галстуки и шляпы. Не любил коротко стричь свои густые, пушистые волосы. Любил спортивную и полуспортивную обувь, куртки и шапочки.
Он понял, что все это не нравится «другим людям», все это носит следы вольности, непокорности, и стал тщательно следить за своим гардеробом, уничтожая в нем шапочки, курточки и даже яркие носочки.
…Весной, в парке, у политехнического института, проходил заводской легкоатлетический кросс. Светило яркое солнце. От плотного воздуха кружилась голова. Щурясь и не выговаривая целые слова, директор поздравил участников и зрителей с началом спортивного сезона. Подошел к участникам и пожал руку прошлогоднему победителю. Это был рабочий соседнего участка Федотов — Крашев хорошо знал его.
Спортом Крашев давно не занимался, но и в Москве и, приехав на Урал, частенько бегал по утрам.
На заводе никто не знал, что Крашев бывший легкоатлет, но за вид и рост его поставили в группу сильнейших, рядом с Федотовым.
Дистанция кросса была небольшой — всего пятьсот метров земляной, исшарканной за многие годы, проложенной между соснами дорожки. Ему, утомленному работой, долгой и свирепой зимой, разлукой с семьей, ошеломленному наступившей вдруг и уже совсем теплой весной, бежать не хотелось.
Пятерка сильнейших стартовала последней. Крашев лениво разминался и от нечего делать рассматривал конкурентов. На больших, настоящих спортсменов ни одеждой, ни видом, ни повадками они не были похожи. Особенно не был похож Федотов. Это был совсем еще молоденький, востроносенький паренек. На таком же остреньком его подбородке росли редкие тонкие волосы. Их было мало, и, казалось, можно было сосчитать. Крашев подумал, что Федотов их не бреет оттого, что не знает, как же с ними быть. Из его обычного, синенького трикотажного тренировочного костюма торчала худенькая шея. Тонкие запястья рук переходили в маленькие кисти с худыми длинными пальцами.
Разминался Федотов усердно: проделал массу упражнений, потом, не спеша, побежал в парк и надолго пропал. Он появился, когда до старта осталось несколько минут. Сделал пару коротких рывков, сел и стал снимать старенькие кеды. Федотов не спеша, хорошо рассчитав, не отдавая тепло своего тела окружающей природе, раздевался, а Крашев застыл и немного растерянно смотрел на изменения, происходящие с востроносеньким Федотовым. Ни лица, усеянного редкими волосиками, ни худой шеи, ни тонких запястий — ничего этого не было. Все это куда-то ушло, исчезло, растворилось в весеннем, еще пахнувшем талым снегом воздухе. В хороших, настоящих кроссовках, в отличной спортивной майке и коротких трусиках перед Крашевым прыгал, приседал, никак не мог застыть, настоящий классный спортсмен. Неширокие его плечи были круты и повиты тугими, выпирающими в иных местах мышцами; сильными были и руки в местах предплечий, и когда Федотов, встряхивая, опускал их, казались даже тяжелыми; узкая талия, представлявшая его худым в костюме, двоилась крутыми, чуть топорщившимися ляжками. Но особенно удивили Крашева ноги Федотова. Они поражали своей мощью и красотой. Когда Федотов чуть лениво, занятый уже не разминкой, а, вероятно, обдумыванием забега, подбежал к стартовой линии, его икры заходили под кожей такими мощными комками, что Крашев еле отвел от них взгляд, понимая, что ноги с такими икрами могут бежать бесконечно долго, не уставая, все быстрей и быстрей. «Ну, и рыса-а-ак!» — в изумлении подумал Крашев, на несколько мгновений позабыв, что и сам неплохо сложен и неплохо бегает, что вот сейчас они рванут со стартовой линии и побегут, касаясь локтями друг друга.
…Со стартовой линии ушла предпоследняя пятерка. До их забега оставалось совсем немного времени, и Крашев опомнился. Им вдруг овладел спортивный страх-мандраж. Оставалось чуть больше минуты предпоследнего забега, еще две-три минуты на подготовку последнего и все — старт, а он ничего не знает о Федотове-спортсмене… Пятьсот метров — не классическая дистанция, и Федотов бегает что-то другое. Но что? Кто он? Спринтер? Средневик? Стайер? С его рысачьими ногами можно бегать что угодно и побеждать… Пятьсот метров — двести пятьдесят туда и двести пятьдесят обратно — дурацкая дистанция: больше спринтерской и меньше средней. Так как с ним бежать? Понадеяться на свою излюбленную тактику? На выносливость и финишный бросок? Когда он бегал свои любимые тысяча пятьсот метров, такая тактика всегда помогала. С самого старта он садился на «пятки» лидеру и повторял все, что тот делал, и его выносливость помогала ему. Так было три круга. К концу третьего усталый и психологически вымотанный лидер сдавал, а Крашев, не тратя сил на лидерство, не думая о том, как там позади дела, потихоньку перестраивался и бежал рядом, чуть повысив темп, «дожимая» лидера. Внезапно, когда до финиша оставалось совсем немного, он включал все накопившееся и с почти спринтерской скоростью бросался на финиш. Все это хорошо, но здесь не тысяча пятьсот и даже не восемьсот, а всего лишь пятьсот метров исшарканной, прорезанной корнями, чуть вздрагивающей при беге земляной дорожки. «Копить» силы, сидя на пятках у Федотова, а Крашев не сомневался, что лидером будет он, некогда. С такими икрами Федотов мигом унесется от хитреца.
Так чего же в нем, в Федотове, больше? Силы или выносливости? Что Федотов бегает: сто, двести, восемьсот, а может, пять тысяч метров? Что лучше всего бегать, имея такое тело, в котором есть и сила, и выносливость, идеальное соотношение всех суставов, всех мышц и всех органов? Гармония, идеал его тела, похожего на греческую статую, довлеет над всем. Но что могли эти греки? Один из них пробежал с радостной мыслью чуть больше сорока километров и умер, едва раскрыв рот. А, наверное, тоже имел идеальную фигуру и был стопроцентным греком. Крашев усмехнулся: в нем тоже текла кровь идеальных греков. Но Ширя, мощный Ширя всегда выигрывал у него сто метров и едва не падал от усталости и горя, когда проигрывал Крашеву любые другие дистанции… Стоп! Может быть, идеальный Федотов специалист по идеальной человеческой дистанции, то есть по той, на которую он, человек, способен бежать с максимальной скоростью? Значит, Федотов бегает четыреста метров?..
Все это было приблизительно и рассудочно, но вариантов выбирать у Крашева уже не было. Он стоял рядом с идеальным Федотовым, а бежать им надо было не идеальную и даже не классическую дистанцию…
Додумывал тактику он уже после старта… Хотя что можно «додумать» за 65—70 секунд бешеной гонки? Это были уже рефлексы — команды на изменяющуюся ситуацию. И первой такой командой было — рвануть как на сто метров, попытаться уйти вперед, порвать «контакт» с идеальным Федотовым, а там… Дальше он не знал ничего…
Крашев и в самом деле со старта рванул как на сто… И первые несколько десятков метров чувствовал, что бежит один. Он чуть перестроился, избавляясь от стартовой суеты и давя в себе последние сомнения в выбранной тактике. После стопятидесятиметровой отметки появилась первая, едва заметная усталость, которая за несколько секунд, лавиной — он знал! — может захлестнуть руки, ноги, скрутить плечи, сковать, обессилить все тело. Надо было чуть сбросить скорость. Отрезок сто пятьдесят — триста пятьдесят метров самый тяжелый. Но тяжелее всего бежать оставшиеся сто метров до поворота. Трудно не только от лавиной наваливавшейся усталости, но и трудно психологически — ты все еще убегаешь от стартовой линии и финиш за спиной. Сто метров до поворота вдруг вырастают в огромное, непреодолимое пространство. Он знал: если преодолеет эти сто метров, повернет и пробежит еще сто, то оставшиеся полторы сотни, когда уже будет виден финиш, добежит на одних нервах, если даже замкнет сердце или перестанут дышать легкие. Но вот сейчас, чтобы преодолеть эту середину, нервы не помогут. Сильно и мощно должно биться сердце, глубоко раскрываться легкие, быстро бежать по жилам кровь, а ноги нести, нести, нести… Но сил уже не было… Его хватило еще метров на семьдесят. Красная пирамидка, означающая поворот, была уже совсем рядом. Но где же хваленый Федотов? Неужели он, привыкший к лидерству, потеряв «контакт», отстал и сломался? Крашеву захотелось быстрее обогнуть пирамиду и не только оттого, что начиналась вторая, финишная часть пути. Хотелось посмотреть, где же Федотов, где остальные, насколько он опередил их. Он стал готовиться к повороту. Конечно, он обойдет пирамиду справа… Справа, но как можно ближе к этой красной пирамиде… Как можно меньше потерять в темпе и не сбить дыхание… Как на виражах в маленьких манежах… Левую руку прижать к груди, правую — в сторону… До предела наклон влево… Но тут никакой не вираж, тут какое-то дурацкое топтание на месте…
У пирамиды темп все же был потерян… Кое-как развернувшись, поднимая темп, он искал среди бегущих навстречу Федотова. Но идеальной фигуры не было… Он посмотрел дальше, в самый конец группы, когда вдруг чье-то легкое и неслышное тело мелькнуло у него с левой стороны, чуть взвинтило темп, тоже, наверное, утраченный при обходе пирамиды, и через секунду Крашев понял, что его обошли. Даже если бы Крашев бежал с закрытыми глазами, то и тогда понял: это Федотов.
В его спортивной жизни было всякое. Однажды — он еще учился в школе и выступал за сборную области — в Ашхабаде он бежал пять тысяч метров. Стояла страшная жара. После пяти кругов двое сошли с дорожки — тепловой удар. Остальных стали обливать водой из ведер, но через круг их волосы, майки и трусы были опять сухими. Тогда, по сравнению с другими, ему, южанину, было даже легко… В Москве военная кафедра института глубокой осенью — уже выпал снег — проводила военизированный, в форме и сапогах, трехкилометровый кросс. Он далеко ушел от основной группы, но после второго километра носки так сбились в казенных сапогах, что бежать стало невыносимо больно. Он остановился и стащил сапоги. Уверенности, что носки не собьются через двести метров, не было. И тогда, сняв и носки, подхватив сапоги под мышки, по жгучему, прилипающему к сбитым пяткам снегу он побежал к финишу… Полковники с кафедры долго спорили, но приз ему вручили…
Многие обходили его, от многих убегал и он, но видеть, как сделал сейчас этот Федотов — неслышно просидеть у него на пятках, точно рассчитать и нанести тебе удар твоим же приемом, — такое у Крашева было редко…
Оставалось одно — почти невыполнимое — самому не потерять контакт с Федотовым. Но и время, и место были самые тяжелые. Федотов нанес удар внезапно и точно.
Каким-то чудом он все же повис на пятках у идеальной фигуры. Сил не было, и он уже платил нервами. Но четверть километра на нервах не пробежишь. Он знал, что если будет бежать так же, то последние сто метров пройдет пешком и не сможет быть даже вторым. Но как чувствует себя этот идеальный Федотов? Ведь темп очень высокий. На сколько хватит у него накопленных позади Крашева сил? Крашев подумал, что бежит уже не как спортсмен, а как герой. Сердце, как у грека из Марафона, у него не откажет, но травму, и серьезную, получить можно. Контроль утерян… Он уже не видит ничего: ни впереди, ни сбоку. Только «пятки» Федотова, только «пятки»… Легкие он уже сорвал — это точно. Будут хрипеть… Неужели этот Федотов не сбросит темп? Ведь и ему невыносимо тяжело… А Крашеву — совсем невмоготу. Еще пять, десять метров и все — он отстанет…
А может, с другого конца? Показать, что он устал? Лучше всего — это отстать. Но потерять сейчас спину Федотова — это проиграть. Да-а-а… Легкие он сорвал… А может, задышать, захрипеть этими легкими, показать, что все! — сдох!? Конечно, это для дураков. Школьный прием. Но все же…
Хрипеть и тяжело дышать ему было несложно… Все же легкие, без настоящей разминки, он сорвал… Но даже и это, небольшое дополнительное принуждение стоило сил, и он уже перестал что-либо видеть. Перед глазами иногда маячила спина Федотова, но удаляется она или приближается — сообразить он уже не мог. Сейчас он просил, мечтал, молил о финише. Только бы добежать… Но что это? Федотов сбросил темп и оглянулся. Устал или решил выяснить, кто там хрипит? Но разбираться будем, товарищ идеальный Федотов, после финиша…
Чтобы не столкнуться, он принял чуть влево и, обойдя зазевавшегося Федотова, почти завалился за финишную ленточку…
Перед награждением он искал глазами директора. Но Фанерный Бык, оставив дело награждения одному из замов, уехал. Говорили, что ему не понравился забег и проигрыш Федотова. «Другим людям» нужны обычные люди. Обычные наполняют собой и поддерживают хрупкие и непрочные горизонтальные слои «других людей». И чем крепче обыкновенные люди, тем лучше. Горизонтальный слой Фанерного Быка, кроме многих обычных людей, поддерживал и идеальный Федотов, и Крашев понял, что, выиграв у него, он опять проиграл в глазах близорукого директора…
…Да, им нужна была покорность. Собственно, это не означало — ходить, опустив голову. На практике это означало совсем другое. Для молодых мастеров это означало: работать по двенадцать часов в сутки, приказы — исполнять, недостатки — скрывать, достоинства — выпячивать, докладывать без запинки, выговоры слушать со смирением, недовольство рабочих, бригадиров — давить…
Когда-то давно, уезжая из своего маленького городка, он думал, что уезжает к талантливым художникам, умным ученым… Но он пришел к «другим людям». И «другие» заставили его пройти весь долгий путь покорности. Отчего именно его путь был особенно долог? Может, «другие люди» боялись ошибиться в нем, здоровом, сильном, неглупом, и боялись принять его в свои ряды?
Прошло уже почти два года, должна была приехать жена с ребенком, а он все еще бегал в мастерах. Он уже давно одевался, как «другие люди», давно говорил, как «другие люди», давно был покорен… Но «другие люди» не принимали его в свои ряды. Что-то еще неуловимое было в них и между ними. Какой-то особый дух, особый пароль, объединявший всех их. Это было что-то невидимое, но необходимое им, и оно питало их. Без этого необходимого они не могли жить. То есть могли, но не «другими людьми». Обычными. Когда «другие люди», в конце концов, приняли его, и он оказался среди них, то этот пароль, эту необходимость он увидел еще более отчетливо. Теперь «другие люди» находились сбоку от него, впереди, вверху, кто-то уже и внизу, и между всеми ими устанавливалось, протягивалось это невидимое и необходимое им. В этом было что-то колдовское. Что-то навроде, как между упырями в романах А. К. Толстого. И он понял, почему так долго «другие люди» не пускали его в свои слои: в нем не было этого духа.
Конечно, «другие люди» при встречах не щелкали языками, как упыри; не делали заговоры, думая съесть кого-либо; не сосали кровь своих детей; им не вбивали осиновые колы в туловища: с колами в этих страшных, смрадных туловищах они не выскакивали из могил и не носились за живыми (обычными) людьми в жуткие, черные ночи…
«Так ведь нет! — резким, как электрический разряд, голосом вдруг сказало ему его сознание. — Все это было! У вас были пароли. Разговаривая, вроде бы, на обычном языке, вы говорили по-своему, по-упырьски. Вы делали заговоры, или, вернее, вы сделали один громадный заговор над всем миром. Ваши приговоры были состряпаны колдовской, анафемской силой уже давным-давно, и вы лишь исполняли их, приговаривая, заговаривая, оговаривая обычных людей. Впрямую, по ночам, вы не сосали кровь своих детей, но посмотри на своего сына: кровь кем-то из вас высосана из него, у него не твоя, не родная кровь, он чужой тебе. Вам не вбивали осиновые колы в ваши смрадные, объетые тулова — это верно, но это плохо, так как вы и мертвые вставали из могил и смрадными тенями носились по всей России, довершая свое и помогая молоденьким упырям. Вы действовали, а обычные, нормальные люди просто жили, и вас становилось все больше и больше, и вам стало не хватать обычных людей, их живой крови и временами вы начинали рвать самих себя, воя и ненасытно давясь своим мерзким, вонючим, холодным мясом…»
…Он вздрогнул всем телом и открыл глаза. Медленно и плавно поезд двигался к Москве. Все так же светила полная луна, открывая хрупкую, нежную землю. Бежало время…
Глава 15
Он не давал телеграммы, но жена и сын не удивились досрочному его возвращению. Жена давно привыкла: почти все его отпуска кончались раньше срока; сыну же было все равно. К тому же и жена и сын были очень заняты. Жена вместе с матерью занималась обменом полученной им квартиры: ей не нравился район, где стоял дом; у сына тоже были свои проблемы, которые, как потом понял Крашев, тот успешно решал.
Утром жена и сын ушли, и он остался один. Крашев позвонил в Главк и узнал, что начальник улетел в Красноярск. За него оставался один из заместителей, но тот был ниже Крашева рангом и звонить ему Крашев не стал. Не позвонил он и заместителю министра, давнему своему знакомому, а в последние годы и приятелю, которого когда-то молодые мастера уральского завода прозвали Фанерным Быком. Фанерный Бык уже лет пять, как работал в министерстве.
Не позвонить Фанерному Быку было совсем против правил. Именно ему был обязан Крашев своим появлением в Москве. Кроме того, в отсутствие начальника Главка звонить надо было и по служебной субординации. Формально или неформально, а он, Крашев, сейчас был старшим в Главке и поэтому он долго, очень долго сидел рядом с телефоном.
…Он так и не позвонил… Встал и подошел к окну. Внизу, вверху, слева и справа суетилась, двигалась, жила Москва. Крашев поморщился и перешел в спальню. Дом стоял на окраине, и из окна спальни жизнь города была почти не видна. В суете перевода и переезда он так и не понял местонахождение своего дома. Прямо за окном бежала речушка, почти ручеек, и Крашев подумал, что ручеек, наверное, впадает в Яузу. Странно было видеть этот не упрятанный в железобетонные трубы или не спущенный в канализацию ручеек. За ним начинался лес, вернее, парковая его часть, переходивший за кольцевой дорогой — Крашев это знал — в большой сосновый массив. Слева под окном доживали две большие надломленные при строительстве сосны, которым теперь хотели опять привить жизнь, но жизнь не входила в них, и сосны желтели и сохли. За ручейком сосны стояли нетронутыми, и Крашев понял, что дальше строить не будут: лес защитил себя и сохранил свободу этому ручейку.
Чуть выше по течению ручеек перегораживала старая плотина, в давние времена, когда эти места были московским пригородом, регулирующая слив и образующая запас воды для огородов местных жителей. Сейчас деревянная плотина была никому не нужна и выделялась своей ненужностью и старостью на общем железобетонном фоне.
Крашев отвернулся от окна. В спальне, как и во всей квартире, еще сохранялся беспорядок от переезда. На одном из стульев валялись штормовка, грубый свитер, спортивные брюки и какая-то, совсем уже старая, спортивная шапочка. Всем этим он пользовался при переезде и перетаскивании вещей.
Крашев опять посмотрел в окно, потом стал одеваться. Надел спортивные брюки, свитер, штормовку и шапочку. Где-то должны были быть его старые кеды, но кеды он почему-то не нашел и обул кроссовки сына — размер у них был уже один.
Он уже собирался выйти, но, что-то вспомнив, остановился. Подошел к корзине, в которой привез виноград. Винограда в корзине не было — жена выложила его, но большая стеклянная темная бутыль стояла в середине, придавая старой, рассохшейся корзине серьезность и устойчивость.
Крашев вынул бутыль и открыл пробку. По квартире, вытесняя запах бетонных плит и растревоженных вещей, поплыл другой, совсем нездешний, щемяще-тревожный. Запахло изабеллой, ярким солнцем, старой хаткой, морем…
Пролив вокруг стакана, он наполнил его и выпил. Теперь уже не только разум, но и тело его наполнилось щемяще-тревожной сутью. Перед тем, как выйти, он оглядел себя в зеркале.
«Ну, вот, — подумал он, поправляя старую спортивную шапочку. — Теперь хоть куда. Хоть в рай, хоть в ад, а можно и в петлю…»
Москва была пропитана запахами ушедшей осени. Уже прошли затяжные, промозглые дожди, квасившие землю, и люди, и город, и громадный лес, и, казалось, эта маленькая речушка, у которой он стоял, — все было готово к зиме. Но зима не шла; осень, уступив свои права, тоже не мешала происходящему, и в природе установилась неопределенность: стих ветер, растаяли тучи, не шевелились ветви берез и сосен, и даже неугомонные воробьи, стайками подлетавшие к ручейку, испив спокойной воды, тоже застывали в безумной попытке что-либо осмыслить.
Тихо и неспешно он прошел на плотину и, определившись на поскрипывающих, старых досках, стал смотреть в темный, с илистой подошвой ручеек. Несколько мальчишек, бросив в эту темную неизвестность треугольную сеть и чуть спустив ее по течению, тащили назад с радостным чувством надежды.
Он не любил такую ловлю рыбы за ее неизвестность и в детстве предпочитал ловить по-другому, без браконьерских сеток и сетей. Собственно, это была не ловля, а охота — охота с гарпунным ружьем.
Однажды, после школьных каникул, заработав на стройке деньги, он приобрел себе такое ружье. Это было дорогое и очень удобное, коротенькое ружье. Ружье привез ему Ширя, уже тогда вовсю ездивший по стране. Купил он его где-то в Прибалтике и очень жалел, что купил одно, так как после нескольких погружений тоже увлекся такой охотой, и одного ружья им стало не хватать.
Но в тот день Крашев был один. Вот у такого же ручья, в месте, где он впадал в бухточку, всегда было много рыбы. Правда, это была мелочь, живившаяся тем, что ручей, проходивший через городок, выносил в море. Глупые окуньки, порхая над водорослями, почти касались ствола ружья, и он отгонял их, вследствие их никудышной малости. Деловито сновали «зеленухи» и «собаки» — несъедобные твари, на которые он вообще не обращал внимания. Иногда его руки, вздрагивая, отдергивались от сопливой поверхности больших, пригнанных южным ветром медуз.
Это был иной, фантастический, но с малых лет понятный ему мир. В маске, длинных ластах, с дыхательной трубкой он был частью этого мира. Он мог быстро и неслышно, наклонив лишь голову, опускаться к самому дну. Так же неслышно, едва шевеля ластами, подкрадываться к стайке рыбешек, застывших между водорослями. Ему уже надоели мелкие окуньки, колючие бычки, изящные ставридки, и он мечтал о том, о чем мечтает каждый подводный охотник: о крупной, большой кефали.
Но кефали — большой, крупной (впрочем, он уже был готов на любую) — не было. Порхали окуньки, невкусными тенями мелькали «собаки» и «зеленухи», шевелились между галькой удивленные бычки… Однажды он даже заметил волнующийся блин камбалы. Но кефали не было…
Не было ее и в тот день… Вода стояла теплая, и Крашев долго плавал в устье ручейка, замирая от каждой тени, чем-то похожей на кефаль. В конце концов, он все же стал мерзнуть и решил плыть к берегу, на прощанье сделав большой вираж поперек устья. В верхней части виража дно стало далеким и мутным, и тогда, желая обрести ясность, он нырнул и медленно, поглядывая по сторонам, поплыл над колеблющейся бархатной зеленью. Все его движения были машинальны, и, когда стал нужен воздух, он застыл, и положительная плавучесть его тела понесла его вверх.
Он все еще искал кефаль и поэтому сеть, вернее, обрывок большой рыбацкой сети, заметил не сразу, а заметив, не испугался: обрывки рыбацких сетей частенько попадались у берега. Он медленно заскользил вбок, уходя от нависшей над ним сети. Брошенная людьми, но промышлявшая сама по себе, она все еще продолжала ловить, и содержимое ее — и давнее, и новое — от ненужности быстро становилось хламом, членилось, объедалось мелкой рыбешкой, оставляя в ячеях белые, шевелящиеся от течения ручья остяки.
Скелетов-остяков был лес — сеть давно промышляла сама. Резко шевельнув ластами, он подался вперед. Сеть не кончалась. Замирая от дурного предчувствия, он взглянул вниз, пытаясь определиться по дну, но увидел лишь мутное, серое однообразное желе.
Чтобы нырнуть опять вниз и найти два-три знакомых валуна и определиться, где же берег, нужны были силы и воздух. Силы в его еще не задохнувшемся теле были, но воздух кончался. И тогда, посмотрев вверх, на пробивающийся сквозь полуметровый слой воды свет голубого неба, Крашев резко, работая ногами, руками и всем телом, попытался приподнять притопленную сеть и ухватить нужный ему воздух. На подъем он выложил все силы — серебристый край воды был совсем рядом, но сеть — тяжелая, набухшая, отягощенная добычей — не поддавалась. Уже в отчаянии он попытался разорвать ячеи, но нить была слишком крепка…
Он опять посмотрел вниз. Недалеко, зацепившись всеми своими ножками за сеть, сидел громадный краб и объедал голову застрявшей «зеленухи». Поднявшаяся почти вертикально сеть нарушила шевеление его челюстей, и краб угрожающе поднял клешни. А потом, защищая полуразвалившийся остяк, сполз с него и боком, изогнув клешни, медленно пополз по сети на Крашева.
Едва не закричав, Крашев бросил сеть и нырнул вниз, еле сдерживая невыносимое желание выплюнуть зажатую зубами трубочку и вдохнуть в судорожно ждущие легкие солено-горькую изумрудную воду. Внизу неясно мелькнули контуры знакомой скалы, и тогда, еле сориентировавшись, он развернулся и, ощущая, как в последние клетки его тела входит предсмертный ужас, уже рефлексивно, как погибающая лягушка, неловко и неуклюже задергал ногами…
Он так никогда и не осознал те последние мгновения, что плыл под водой. А может, их вытеснили резкий, как нашатырь, отрезвляющий вдох свежего воздуха над поверхностью маленькой бухточки и огромное ощущение жизни, опять вливающейся в его смятое тело? Он только помнит стальное небо, смотревшее на него; южный ветер, сушивший его лицо, и свое тело, лежавшее на спине и с каждым вдохом все более и более становившееся живым и послушным.
…Что-то попало в маленькую сеть, и мальчишки, радостно закричав, быстро потащили леску, готовясь схватить добычу. Крашев усмехнулся и пошел по скрипучим доскам старой плотины к парку. У края его он остановился и посмотрел на дом, в котором теперь жил. Как и все железобетонные, громадные дома, он ему не нравился. Но чем не нравился жене сам район, эта маленькая речушка, старая плотина, сосновый парк, лес за парком? Не в центре? Но и до центра недалеко: каких-нибудь шесть-восемь километров. Может, жена хочет ближе к матери?
После «лечения» в ЛТП тесть не вернулся в двухкомнатную квартиру в Замоскворечье. Старшая сестра, в конце концов, разошлась с мужем, года через два опять вышла замуж и уехала с новым мужем на его родину — в Крым. Многие годы теща прожила одна в не тесной для нее одной квартире.
Сегодня утром, перед уходом, жена просила зайти к матери.
«Если позволит время, — добавила она, думая, что он будет очень занят в Главке. «Я очень занят и у меня нет времени», — усмехнулся Крашев, посматривая на огромные сосны, растущие вдоль посыпанной песком дорожки, по которой он сейчас шел. К теще ехать нужно, но ехать не хотелось. Среди этих громадных, изливающих кислород сосен не хотелось даже думать о теще, квартирах, Главке, Фанерном Быке, сидящем сейчас в одном из кабинетов министерства…
Присыпанная песком желтая дорожка уперлась в широко расставленные ноги-ворота Гулливера. За спиной деревянного, ярко раскрашенного Гулливера множество маленьких человечков носилось, пищало, кричало в своем маленьком игрушечном царстве. Группа людей, повыше ростом и постарше, стояла за границей этого царства и непрестанно давала советы «как жить» хозяевам этого маленького царства, уже давно от своего возраста забыв законы этой страны.
Повернув голову к этой маленькой стране, ее дворцам, замкам, сухопутным кораблям, деревянным лошадям и к живущим во всем этом человечкам, Крашев медленно шел вдоль невысокого зеленого забора, отделяющего его от всего этого.
У края зеленого заборчика он остановился — дальше шел обычный мир и обычная негромкая жизнь: побеленный низкий небольшой казенный домик, в который изредка входили и так же редко выходили молчавшие люди. Из-за домика высовывался грустный автомобиль. На нем была установлена низкая, обтянутая железом, клепанная клеть. Рядом с автомобилем, охраняя окружающее пространство, стояли два хранителя…
Мельком взглянув на неинтересную обычную жизнь, Крашев опять стал смотреть на маленькое орущее царство.
Он стоял и смотрел… Ему уже показалось, что он начал вспоминать законы этой страны. Он знал, что ему никогда не захочется покататься на лошадях, скачущих за этим низеньким забором, но он начал догадываться, почему желающих оседлать белую лошадь больше, чем желтую…
Вдруг звуки, чем-то похожие на звуки маленькой страны, но идущие из обычного мира, дошли до Крашева, и он повернул голову. Двое охраняющих окружающую жизнь хранителей тихо тащили к грустному автомобилю тощего взрослого человека. Еще не отвыкшему от жизни маленькой страны, Крашеву показалось странным, что тощий человек сам не бежит к автомобилю, желая покататься, а кособоко упирается ногами, громко повизгивая и возмущаясь. Но потом обычная жизнь полностью вошла в Крашева, и его охватила досада к тощему, помешавшему ему человеку. Когда открыли дверь железной клети и хранители стали вталкивать в нее человека, то Крашев почувствовал скрытое удовлетворение от внутренней логики происходящего.
Но в последний момент произошло непредсказуемое. Невероятно изогнувшись, тощий человек вырвался в окружающий мир и побежал прямо к Крашеву, кособоча и подтаскивая одну к другой свои странно вывернутые ноги. Его бессмысленное, цвета давно брошенной на землю ненужной бумаги, лицо, асимметрично качаясь от неловкого бега, быстро приближалось, и Крашева охватила брезгливость от нездоровой сути человека. Хрипло дыша и обдавая запахом многократно сконцентрированной вони и алкоголя, человек пропрыгал мимо, и теперь уже Крашев испугался: вдруг этот вонючий человек полезет в счастье маленьких людей за зеленым забором.
Но преодолеть забор человеку не дали. Длинная, сильная, молодая рука ухватила его за плечо, развернула в сторону грустного автомобиля, а потом мощная нога двинула в слабо обозначенный зад тощего человека.
Быстро засеменив от полученного пинка, но все же устояв на своих вывернутых ногах, человек тут же попал в другие, ухватившие его руки, которые чутко, осторожно и неотвратимо повели его к автомобилю. И почувствовав эту осторожность и неотвратимость, тощий человек перестал сопротивляться и молча пошел к автомобилю, еще более дергая головой и кособоча ногами. Крашев был последним живым человеком на его пути к клети грустного автомобиля, и человек посмотрел на Крашева своими глазами. Это были теплые, человеческие глаза, и Крашеву, ожидавшему увидеть в них бессмысленность отравленного разума, странно было смотреть в такие глаза. Тощий человек прошел мимо, а потом, чувствуя на себе продолжающийся взгляд удивленного Крашева, рванулся в ведущих его руках.
— Брат, — сказал он Крашеву ясным голосом. — За что? Ни капли с утра. Матерью клянусь…
На миг вдруг застыло время в сознании Крашева. Миг этот произошел от внимания к словам тощего человека, и миг был чрезвычайно мал, да и не мог быть иным, но текущее сознание Крашева изменилось. Что-то забытое или никогда не осознанное шевельнулось в нем. И тогда, спеленатый этим разорвавшим время мигом, Крашев, глядя на бесформенные, ортопедические ботинки тощего человека, сказал:
— Бросьте его!..
— Сейчас бросим, — ответил чутко державший хранитель. — Вот доведем и теперь уже бросим…
— Отпустите его. — Крашев хотел только этого. Глазам его треснувшего сознания невыносимо было смотреть на чутко державшие руки. От невесть откуда свалившейся ярости он уже ничего, кроме этих рук, не видел. И тогда он шагнул и схватил их…
— Руки! — услышал он голос второго хранителя, и был схвачен за чрезвычайно прочную ткань верхней одежды.
— Кто такой? Друга встретил? — стал спрашивать имеющий право спрашивать хранитель. — А, может, ты цыганский барон? — Хранитель протянул руку к шапочке Крашева.
— Ты не тычь… — яростно шепнул Крашев, не отвлекая внимания маленьких людей за зеленым забором, и дернул крепкую ткань одежды.
— Так-а-ак… Интересно. В трезвяк захотел? — протянул охраняющий окружающую жизнь хранитель и наложил на Крашева обе руки. — Вперед… — приказал он другому хранителю. — Свезем обоих. Там разберемся…
«Идиот! Я — директор завода! Я — замначальника Главка! Я — депутат горсовета! Я…» — хотел заорать Крашев и тут он вдруг с ужасом понял, что в том, расколовшем его сознание миге он не директор завода. С завода его перевели в Главк. Но и в Главке он еще толком не оформился. У него даже нет пропуска, а тот, что был на директора, он сдал. Он нигде не прописан: ни на Урале, ни в Москве. Он уже не депутат, и у него нет никакой депутатской защиты. В старых спортивных штанах, в линялой штормовке, в маленькой не прикрывающей его кудрей шапочке — он никто, или не́кто, напоминающий бича. И с еще бо́льшим ужасом он понял, что он пьян. Он выпил стакан материнского вина… Сейчас его привезут в этот самый «трезвяк», осмотрят, опишут все его родинки и другие части тела, выяснят насчет венерических заболеваний, насчет судимостей, проведут эту самую реакцию Раппопорта и установят легкую стадию опьянения, а может, и среднюю… И пока не выяснится, что он замначальника Главка, вся эта телега будет катиться и катиться… Да и как выяснится? Документов у него нет… Разрешат позвонить в Главк? Заместителю, который ниже его рангом? А может, в министерство? Фанерному Быку?
Он представил себе удивленные, ледяные глаза Фанерного Быка и ледяные глаза всех «других людей». Что с ним происходит? Похоже, он сходит с ума… Он подрался с Ширей, чуть-чуть не сорвал стоп-кран и не остановил поезд, и вот опять… Опять он попадает в какое-то разверстое, остановившееся время.
Ему до боли в голове захотелось выскочить из этого провала, выпрыгнуть из этого треснувшего времени, любым путем выскользнуть из остановившегося, дурацкого мига. Вернуться в свое, уже наступившее будущее, в котором не было бы сегодняшнего утра, не было идиотской мысли о прогулке, не было выпитого стакана вина, не было этого трезво-пьяного калеки и не было этих чутких, настороженно державших его рук… Но жизнь строилась теперь по не понятным ему законам. И в ней все это было…
Но ведь можно было и по-другому зализать, заделать этот миг. Можно было — резко! сверху! — вывернув свои руки, ударить по рукам этого пинкертона, от которого пытаются убежать даже кособокие, тощезадые дохляки. Это был самый простой и надежный выход. И в лес! В этих кроссовках он убежит от сотни таких хранителей. Дорогу он запомнил. Через десять минут он дома. А в квартиру он никого не пустит. Даже если его найдут. Законы, слава богу, он знает. Впрочем, до этого дело не дойдет. Если за ним и побежит, то только один — тот, который держит его сейчас. Он маленький и с пузцом уже… Хотя и крепкий… Но эта крепкость только помеха его ногам.
Он уже чуть скосил глаза, оглядывая тропку, по которой пришел. Триста-четыреста метров до речушки, потом плотина, а потом и дом. Всего пятьсот метров кросса. А ведь когда-то он пробегал эти полкилометра за минуту. Так что никакие не десять… Две-три минуты и все — и нет этого проклятого мига. Его — одетого во все спортивное — даже останавливать никто не будет. А дома он примет душ, позвонит Фанерному Быку, потом в Главк, за ним пришлют машину и все — он среди «других людей» и забудет и этот лес, и грустный, ожидавший его автомобиль, и этого хранителя с пузцом.
Он знал, как быстро освободиться от державших его чужих рук. Свою руку надо резко крутануть в сторону чужого большого пальца. В нем меньше силы, чем в четырех. Он знал это давно, от классической борьбы, которой занимались они с Ширей. Знал он это не разумом — это знали его схваченные сейчас руки. И руки его, вспомнив это, ловко и быстро крутнувшись вокруг чужих, стали свободны. Это были микроны еще неосознанной свободы, и теперь надо было увеличивать эту свободу. Для верности надо было оттолкнуть чужие руки, ударить по ним сверху… А можно было развернуться и бежать от этих рук, увеличивая свободу и приближаясь к своему будущему, в котором было все так понятно и спокойно.
Он не сделал ни того, ни другого. Он просто грубо и резко оттолкнул мешавшее его будущему тело с пузцом. Желтая, посыпанная песком тропинка была пуста… И тут он встретился с теплыми глазами тощего человека. В них светилась надежда свободы. Свободы, которой не было в нем самом. И опять услышал он слова тощего: «Брат… Матерью клянусь». И в них тоже была надежда. И бурным, мощным, все заглушающим потоком лилась надежда свободы от счастья маленьких людей за спиной Гулливера.
…Он так и не смог убежать — чужие руки еще крепче схватили его.
— Так-а-ак, — захрипел маленький хранитель, почти повиснув на нем и все более уменьшая внешнюю свободу своим пузцом. — Еще и хулиганку схлопочешь…
Ему уже было все равно… Жаль, что он не смог помочь этому тощему, с такими странными, ясными глазами. Хорошо, что не разрушено счастье маленьких детей в их маленькой стране. Он позвонит Фанерному Быку… Они, эти хранители, должны это ему позволить… Он назовет министерство и фамилию Фанерного Быка, и тот быстро решит дело. Он лишь намекнет о своем знакомстве с начальником всех «трезвяков» или с председателем райисполкома этого района. Жаль, что этих фамилий не знает сам Крашев. Простое знание фамилий могло решить все… Он знает философию этих хранителей. Хватать, как волки, а отвечать, как зайцы… Что же… Фанерный Бык выручит мигом. Но он, Крашев, попался к нему еще на один крючок…
Надежда свободы пропала в глазах тощего человека. Он отвернул свои странные, ясные глаза, прошел к грустному автомобилю и, получив сильную помощь от своего хранителя, пропал в нем.
Освободившийся хранитель подошел к Крашеву и тоже взялся за крепкую ткань. Надо было идти в клеть, к тощему человеку.
Он уже сделал шаг, прикидывая, как уговорить хранителей разрешить ему созвониться с Фанерным Быком ранее всех этих осмотров, реакций, актов, как вдруг резкий, нарушивший обстоятельства голос спросил:
— А на каком основании?
Крашев, сбившись с расчетов, оглянулся и увидел невысокого, не выше хранителей, пожилого мужчину с непокрытой головой. Его прямые, еще довольно густые волосы были зачесаны назад. Отделившись от большой группы людей, дававших советы маленьким человечкам за зеленым забором, человек шел к хранителям, державшим Крашева. Шел человек прямо и строго и был похож на футбольного судью, идущего к игрокам, нарушившим правила…
Глава 16
— Так на каком основании? — переспросил подошедший, прищурив глаза.
— Ты, старик, внуков нянчишь? Вот и занимайся… — ответил хранитель с пузцом, но Крашев почувствовал, как пузцо его ослабло и чуть сдвинулось назад.
Это «старик» хранителя, произнесенное равнодушно и спокойно, отчего-то запомнилось Крашеву, и, вспоминая потом строгого, похожего на судью человека, он называл его тоже стариком, но с большой буквы, хотя узнал и имя и фамилию.
— Вы мне не тычьте, — строго сказал между тем Старик. — Я вас, молодой человек, раза в два, а то и в три старше. Впрочем, и ему, — Старик дернул подбородком в сторону Крашева, — и ему вы не имеете право тыкать. А ведь тыкали — я слышал. И они вот, мои друзья, — он указал на группу людей, стоящих у зеленого забора, — тоже слышали и подтвердят, если надо будет в спецмедвытрезвителе, который вы, молодой человек, трезвяком зовете. Кстати, и это тоже подтвердят. Не так ли, друзья мои? — громко обратился он к группе людей.
Из группы послышались булькающие, непонятные голоса. Кто-то рассмеялся. Все было глупо и обещало быть еще глупей. Но Старику все чрезвычайно нравилось, и он, тоже рассмеявшись, всунул обе руки между хранителями и Крашевым.
— Ну, вот, — опять став суровым, сказал он, раздвигая хранителей и Крашева. — Пошутили и хватит. У вас, кстати, есть о ком позаботиться. — Старик кивнул на клеть грустного автомобиля. — А этого молодого человека оставьте. Он трезв, никого не трогает и, похоже, впервые в этих местах. Оставьте! — уже решительно отодвинул он хранителей, и те, молчаливо зыркнув глазами по Старику и группе людей, выпустили крепкую ткань из рук и пошли к грустному автомобилю… Только хранитель с пузцом, пройдя несколько шагов, обернулся и молча погрозил Крашеву толстым, коротким пальцем…
— Вот так вот, — сказал Старик, сделав пару шагов вдоль низкого забора. — Сплошной хаос. Хамство, чванливость, эйфория от мелкой власти, извращенное понимание закона и все! — все подается под видом борьбы с пьянством!
Внутренне еще спрессованный, Крашев молчал.
С другой стороны низкого забора к Старику подбежали маленькие мальчик и девочка.
— Бегайте, бегайте, — махнул им Старик. — Мы тоже погуляем, — он взглянул на Крашева. — Впрочем, не представился. — Старик дернул подбородком, что, вероятно, означало поклон, и назвал фамилию. — Учитель, — добавил он. — Хотя, увы, уже на пенсии. А в настоящий момент — дед. Гуляю вот с внуками.
Крашев невнятно назвал себя, а когда Старик спросил о профессии, замялся. «Да, так — инженер», — наконец промямлил он и опять замолчал.
— Как говорится, не берите в голову, — сказал Старик и коснулся рукой Крашева. — Хотя хамство, в сочетании с властью, да еще и мундиром, ого-го, как действует. Вы не москвич? — он опять посмотрел на Крашева.
— Как сказать… — Крашеву не хотелось говорить, но и не хотелось уходить от Старика. И Старик, что-то поняв, замолчал и стал смотреть поверх низкого забора.
— Как сказать… — повторил Крашев. — В том-то и дело. Только приехал и еще не прописан. Словом, прописки нет, на работе не устроен и вдобавок ко всему — пьян.
— Как так? — вскинул голову Старик.
— Вот так… — Из груди, из всего тела уходила спрессованная тяжесть. Заполнявшая ее место всхлипывающая грусть тоже была невыносимо тяжела, но говорилось Крашеву уже легче. — Я приехал с юга. От матери. Привез ее вина. Выпил стакан, ну и вышел погулять.
— И чуть не догулялись, — рассмеялся Старик. — А вот бедняге не повезло, — кивнул он на двинувшийся грустный автомобиль.
— Дело еще и в том, — сказал Крашев, пересиливая всхлипывающую по самому себе грусть. — Дело в том, что этот бедняга — трезв.
— Вот тебе на! — удивился Старик. — Но ведь он на ногах не стоял.
— Конечно же он алкаш. Это верно. Но вот именно сейчас он был трезв. А на его ногах и трезвому стоять трудно. Вы видели его ботинки?
— Нет, — сказал Старик, — не успел. — Он взял Крашева за плечо. — Так что же вы? Почему не объяснили, не отстояли?..
Крашев молчал.
— Испугались? — лицо Старика погрустнело. — А все оттуда… — сказал он, помолчав. — Я учитель истории, впрочем, бывший, как вы слышали. И все оттуда… Россия, бедная Россия… Странная и чудовищно трудная судьба. Тайна Рюриковичей… Междоусобье… Монгольское иго… При всем самом худшем своем, оно еще и развращало народ и князей. Обучало рабству. Вбивало в душу народную психологию рабов. И так из поколения в поколение. Нет в жизни ничего страшнее родиться и умереть рабом. Но еще страшней дожить до того, что этого уже не понимаешь. Вот представьте себе: два вольных человека попали в плен. Что они сделают? Конечно, убегут, если смогут. А дальше? Дальше они освободятся от пут и пойдут, счастливые и равные. А рабы, не знающие другой жизни? Они и бежать не будут. Ибо не знают счастья свободы. Но вот путы пали. Они свободны. Что же они будут делать? А сильный, подобрав рваные путы, будет думать, как связать слабого, ибо другой, не рабской, равной жизни раб не знает…
— Допустим, так, — сказал Крашев. — Допустим, я испугался, я — раб. Но вы судите народ.
— Ну, что вы, что вы, — рассмеялся Старик. — Ну, какой же вы раб? Я не о вас. — Он махнул рукой. — Все это так… Мысли старого человека, пытающегося что-то понять… И во многом — не мои мысли. Да и какой же я судья?.. Хотя были и судьи… Заморские… Жан-Жак Руссо, например. И свои — Чаадаев. Первый вынес приговор: в России никогда не будет демократии — это страна рабов. Второй предрекал: Россия — страна без будущего. И все по той же причине…
— Но был Александр Невский и Дмитрий Донской. Какие же это рабы? И был народ-победитель.
— И был Сергий Радонежский, — подхватил Старик. — Но это внешнее, так сказать, проявление духа. А гражданский дух народа все более закабалялся… Иван III — родич византийских императоров — своими руками рвет ордынскую грамоту, вместе с народом прогоняет татарина Ахмата за Угру, а потом теми же руками создает Судебник, с «Христианским отказом», продолжая закрепощать тот же народ…
— Но были северные наши республики, были сходы и вече, была Боярская дума и Земский собор.
— Было, все было, — говорил Старик. Он не смотрел на Крашева и, казалось, доказывал что-то больше себе. — После Василия III — отца Ивана Грозного — Россией правила избранная Рада — совет, проводивший реформы. В ее внутренней политике появились черты компромисса. Но вот царь Иван вырос, Раду разогнал, насадил по всей земле Русской опричнину и утопил эту землю в крови. А народ? Народ восставал, убивал дворян, бояр, даже ближайших родственников царя — Юрия Глинских, например, но поднять руку на царя — не дай бог! А ведь восстанием 1547 года, к примеру, руководило это самое вече… Через четырнадцать лет царь вовсе уезжает из Москвы. И что же?.. Вече? Народное собрание? Как же… «Страх охватил москвичей!» — пишет историк. Виданное дело — без царя! И поехали к нему. И насадил им царь опричнину…
— Я плохо знаю историю, — сказал Крашев. — Спорить мне трудно. Но что же вы сами объясняете своим ученикам?
— Объяснял… — поправил его Старик. — Увы, объясняет.. Впрочем, не больно они нынче любопытные… Но иногда объяснять приходилось. Говорил об объективных обстоятельствах, субъективных, исторической закономерности, отсутствии освободительных идей, вождей и так далее. Упирал на незрелость народа. Упирал, а сам себя спрашивал: ну отчего русский народ такой терпеливый? Древнему афинскому демосу всего двух веков хватило, чтобы все понять и установить демократию… Через двести с небольшим лет после того, как Ромул основал Рим и стал в нем царем, царство это существование прекращает и Римом правит сенат. Власть в нем выборная — республиканская… А что же у нас после выродившейся династии Рюриковичей? У нас безвременье… А далее — Борис Годунов, который как человек, в конце концов, совсем потерялся и, будучи царем, стал и первым из рабов — рабом своей собственной души. А народ? «Народ безмолвствует», — замечает поэт.
— Чем больше вы рассказываете мне историю, тем больше понимаю, что не знаю ее, — сказал Крашев. — Темень сплошная. Хотя это не история народа, как я ее понимаю, а история царей. Шах-наме какая-то…
— Все связано, все, — ответил Старик. — Карамзин, описывая жизнь князей, писал историю государства…
— Странная вещь, — взглянув на Старика, сказал Крашев. — Прошло десять минут. Вы остановились на полпути. Но мое дело мне кажется и мелким и глупым…
— Оно таким и было, — отозвался Старик. — Главное — в том рабе, который сидит в каждом из нас. Вы выжали из себя несколько капель и дело предстало, каким ему и должно быть.
— Вы сказали: «В каждом из нас». Но вы-то вели себя совсем не по-рабски.
— Вы — молодой человек. Вам есть что терять, и вы испугались. Испугались незаслуженного позора. А я… — Старик усмехнулся. — Я уже давно пришел с базара. Пенсионер. Жена умерла… Сердце больное… Не пью… Не курю. — Он грустно рассмеялся. — Мне терять нечего… Что касается раба во мне, то я бо́льший раб, чем вы думаете. С генами вогнано в кровь. Но это уже другая история… Вернее — наша история.
Странное, теплое чувство охватило Крашева. Старик был ровесником его отца. Они из разных мест, и учились в разных школах, но если Старик воевал, то они могли встречаться на войне. Крашев никогда не говорил со своим отцом. А откровенно не говорил ни с кем из старшего поколения. Теперь, когда Крашеву за сорок, он, наверное бы, понял Водолаза. Но Водолаза уже нет…
— А далее — новый виток, — продолжал Старик. — Земский Собор, подчеркиваю, Земский Собор — зачаток выборности — сажает на трон Михаила Романова, и уже его сын, Алексей Михайлович Тишайший, достигает абсолютной государственной власти. Он — государь всея Руси. Понятие «государство» сливается с понятием «государь». Посягнувший на государя посягал на государство. Но все же абсолютная власть «Тишайшего» монарха, окончательно превратившего крестьян в собственность помещика, переставшего созывать Земские Соборы, устранившего от управления страной Боярскую думу, — эта абсолютная власть еще не задавила абсолютно дух народа. Всяк вотчинник еще правил своими холопами по своим законам. Да и дух народа еще знал, что такое свобода. Еще были живы старики, помнившие Великий Новгород свободным…
В начале последнего пути стоял Петр Алексеевич, Петр I, Петр Великий. Император громадной, неудержимо раздвигающей свои границы империи. Управлять такой страной одному было уже трудно, и Петр, оставляя за собой абсолютную власть своего отца, создает военно-чиновничью машину, с инструкциями и уставами, везде и всюду неукоснительно правившую по его царевым указам.
Но это было лишь начало. Петр еще мог надевать грубую одежду, плотничать, материться, мог приблизить к себе простого человека. Но потом… Все эти Павлы, Елизаветы, Екатерины, Александры и Николаи… На гигантское расстояние уйдя от народа, превратив крестьян в скотину, не имеющую права даже жаловаться, наплодив невероятное количество чиновников, полицейских и жандармов, живущих за счет казны, — именно они лишили народ последнего проявления духа… Но палка о двух концах. Мудрый Ключевский замечает: Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией. Это была кучка лиц разнообразного происхождения, лишенная всякого социального облика. Такой была империя к концу правления династии Романовых. Впрочем, — Старик помолчал. — Впрочем, как Рюриковичи, так и Романовы кончили на редкость одинаково анемично, с признаками вырождения, и в конце каждой ветви стояла красная кровавая точка…
Старик замолчал. Молчал и Крашев.
— Невеселая, значит, у нас история? — наконец спросил он.
— Невеселая, — грустно подтвердил Старик. — Очень невеселая. Произошло самое страшное. Народ по духу своему стал рабом. И даже отмена крепостного права мало что дала. Путы пали, но рабы, забывшие о свободе, убивают царя-освободителя.
— Но ведь с той поры прошло столько лет! — с надрывом в голосе произнес Крашев. — Откуда же это в нас? В общем-то я простой исполнитель. Хотя… — Он хотел сказать, что он замначальника Главка, но, махнув рукой, передумал. Дело было уже не в этом. — Вся моя жизнь проходила в каких-то сетях. Всюду невидимые, но ощутимые сети. И мне надо было то раскидывать эти сети, то лезть наверх по ним, то распутывать их, то накидывать их на кого-нибудь. Но и сам я опутан тысячью нитями. И поэтому я — вроде большой и сильный человек — боюсь этих хамов, хватающих правого и неправого. Откуда это? Пьянство, лень, грубость, хамство. Отчего так развились эти истинно русские пороки? И отчего зацвели пришлые — наркомания, коррупция, извращения, проституция? Все мои знакомые, которые не стали исполнителями, вроде меня — несчастны. Мой друг спился. Моя мать, бывшая комсомолка, фронтовичка, молится по утрам Богу.
— Что же, — сказал Старик. — И это все оттуда… Либеральный девятнадцатый век дал очень многое: Пушкина, Толстого, Гоголя, Достоевского, Чехова. Он дал России декабристов. Он не дал главного — свободы духа простому человеку. Народ не осознал своего «я», не осознал себя как личность. Рабам не понятны идеи индивидуализма. Рабы жмутся в стадо, в коллектив. Вот почему либерализм века девятнадцатого привел к социализму, а потом и к большевизму века двадцатого. Мы пришли к социализму потому, что этого хотели все. Сейчас нам плохо, впрочем, нам было плохо всегда, но мы все так же ищем зло вне себя, вспоминая и проклиная царей, белых и красных, Берию и Сталина, Хрущева и Брежнева, не понимая, что дело совсем не в них, а в нас самих. Это мы им все позволили. Мы, народ!.. Хотя… Хотя то, что сделал с народом один лишь товарищ Сталин, не сделали обе династии царей. Ибо он достиг небывалого: за то, что «друг народов» настроил кучу лагерей, репрессировал миллионы невинных, превращая сам народ в мусор, его еще за это и любили…
— Вы так не любите Сталина?! — спросил Крашев. — У вас есть какие-то личные счеты?
— Любить — не любить… Милосердие… Сострадание… Он, хорошо знавший заветы церкви, став на путь вооруженной борьбы, кажется, начисто забыл о таких словах, отторгнув все лучшее, общечеловеческое, что есть в религии. А ведь Христос — это первое обращение к человеку, обыкновенному человеку, человеческому в человеке. Жрецы в древнем Египте вообще не замечали человека. Чтобы стать заметным для богов Эллады, надо было быть героем. В развратном, утопающем в роскоши, грехах и крови Древнем Риме человек-раб был всего лишь вещью. И только христианство обратилось к человеку. В сравнении же с другими история православной русской церкви относительно тиха и спокойна. Нет в ней ни яростной экспансии ислама, ни зверств и чада средневековой инквизиции католической церкви. Я говорю: относительно, ибо были насильно (нагайками) крещены татары-нагайбаки, был Великий раскол, был неистовый старообрядец протопоп Аввакум, был «шиш антихристов» — патриарх Никон, утверждавший новую веру кнутом и виселицами. И была поповщина. Жадная, жалкая, часто пьяная, осужденная самим народом поповщина… И в то же время, повторюсь, именно христианство впервые обратилось к человеку. А обратившись, принесло грамоту, культуру, нравственность, библейскую мудрость, милосердие, сострадание и любовь к ближнему своему… Сталин же, этот уникальный «феномен», отторгнув из своей души религиозные и нравственные законы, пытался так же поступить и с душой народной, запретив в ней все, кроме одного: великой любви к себе. И закрывались, рушились, взрывались церкви, превращались в конюшни и в склады. И дочь отрекалась от своей матери, брат забывал сестру, а маленький сын предавал своего отца.
— Вы не верующий? — усмехнулся Крашев.
— Вот-вот, — засмеялся Старик. — Как только начинаешь говорить о религии — сразу вопрос: не верующий ли? «Русские все не равнодушны к церкви, к религии», — сказал как-то Блок, и был прав тогда, прав он и ныне. Слишком многое связано у русского человека с верой, с церковной архитектурой, с нравственностью, с душой, наконец. Вместе с религиозной верой мы выплеснули веру в правду. Милосердие нашим обществом растоптано, а людьми — забыто. Но замрем на миг, затаим дыхание, заглянем внутрь себя, мы — считающие себя атеистами и презирающие верующих. В чем они хуже нас и в чем мы лучше их? Нельзя делить народ на верующих и неверующих. Нельзя отделить, убить религию в народе, в той ее части, которая верует. Теперь уже важно отказаться от всякого давления: от давления над коллективом, от давления в школе, в семье, от давления над человеком. Отказаться от военного давления. Мы уже восемь лет выполняем интернациональный долг в Афганистане и защищаем наши южные границы. И что же? Афганский флаг перестал быть красным, пишут газеты. Включил в себя зеленый исламский цвет. Исчезла звезда с герба страны. Интернациональный долг с болью и кровью, с ранеными и убитыми, мы выполним. Но что оставим за южными границами? Чего больше: друзей или неистовых врагов?.. Вы спросили, не верующий ли я. Теперь спросите: не пацифист ли? Но нельзя такой огромной стране, как наша, не разобравшись, выполнять интернациональный долг в маленьком, по существу, средневековом, многоплеменном государстве.
Нас должна пронзить идея сострадания, всеохватная и всепроникающая идея милосердия: к ребенку — и своему и чужому; к человеку — знакомому и незнакомому; к нашим солдатам, проливающим кровь; мы не имеем права забывать, что кровь такого же цвета и у чужих солдат. Афганская революция зашла гораздо дальше своих целей… К тому же лидеры многих революций — египетской, ливийской, индонезийской, например, — видели в социализме лишь внешние стороны: возможность построения монолитного, четкого, с планово-центральной системой управления, индустриального государства, которое всем распоряжается, все контролирует, всех мобилизует. И не взяв во внимание гуманные, демократические идеалы, добившись определенных успехов, лидеры эти приводили свои государства к застою, а народ к нищете. Впрочем, — улыбнулся Старик, — я что-то совсем превратился в проповедника… Самое страшное в старости — одиночество. Тем более, что всю жизнь говорил, говорил, говорил… Простите…
— Что вы, что вы, — поспешно сказал Крашев. — Меня это тоже мучает. Вот сын… Он — курсант военного училища… Выпускник… Хочет служить в Афганистане. Боится, что не успеет. А я боюсь, как бы не ранило или не убило… Но вы все же не ответили на мой вопрос: есть ли у вас к Сталину или к тому времени личные счеты?
— Какие у меня могут быть счеты ко времени, а уж тем более к Сталину? Между мной и вами, — Старик посмотрел на Крашева, — лет двадцать, но как мы уже не понимаем друг друга. Не говорю лично о вас… Ваше поколение умно, здорово, сильно, деловито — оно ушло вперед от нас, так и должно быть. Что же касается души, нравственности… Иной раз мне кажется: тут вы ушли куда-то вбок. И движетесь в тупик. Поверьте, говорю не только о вас, да и совсем не о вас, скорее, о своих детях: они деловиты, умны и все же — в каком-то нравственном тупике. Мы голодали, воевали, строили и были едины в этом. Но нравственно мы были разные. Среди нас были и святые и грешные. Ваша нравственность — едина!
— Мы все грешники! — усмехнулся Крашев.
— Нет, — серьезно сказал Старик. — Чтобы быть святым или грешным, нужна вера. В вас ее нет, и нравственность, мораль ваша, — гибкая и мягкая, как резина. Она любая, на любой вкус, а если по большому счету, то никакая. Я не обвиняю, я понимаю и говорю: это все оттуда, из нашего времени. Но то, что случилось у нас, в нашем времени, применительно к каждому из нас, еще не стало системой. Это было непосредственно. Поэтому кто-то был святым, жертвой, кто-то — грешником. На вас уже влияла система. Адекватно, как говорят ученые мужи, опосредованно. Поэтому ваша мораль — никакая. Может быть моралью тирана, может — моралью раба, в зависимости от обстоятельств. Вот поэтому мы не понимаем друг друга. Поэтому я для вас верующий, пацифист, жертва сталинизма и так далее. Да, среди нас многие стали жертвами физическими, вы сплошь — моральные жертвы. Что же касается меня лично… В общем-то это уже совсем другая история, и в том потоке слез и крови, которые я тут изобразил, история совсем незаметная. Собственно, крови нет никакой. Почти никакой, — усмехнулся Старик. — Одни слезы. А если уж совсем точно, то это маленькая, очень маленькая, почти незаметная соленая слезинка. Это совсем иной рассказ. Но его сила в том, что это правда. Если раньше — читанное, пересказанное, додуманное, то это маленький, горький кусочек абсолютной правды.
Старик помолчал.
— Речь о моем отце, — начал он. — Мы жили тогда под Горьким, в селе, рядом с большой железнодорожной станцией. Отец работал машинистом. Было это в тридцать седьмом году. Я уже был взрослым и все хорошо помню. В конце лета отца забрали в районное НКВД, а потом перевели в областное. Его обвинили в том, что он назвал Сталина подлецом. От обвинения отец отказался. В Горьковском НКВД следователь показал отцу листок — донос нашего соседа. Следователь грозился расстрелять, кричал, чтобы отец признался. Отец не признавался. Тогда его стали бить.
Старик опять помолчал.
— Рассказал мне все это отец в пятьдесят шестом году, — продолжал он. — А до этого боялся. Даже после того, как расстреляли Берию… Вот как шел допрос. Обычно было пять человек. Двое стояло у дверей. Двое — рядом с сидящим на стуле отцом. Следователь доставал револьвер, клал его на стол и вел допрос. У стоявших рядом с отцом в руках были дубинки. Дубинки были деревянные и обтянуты резиной. Дубинками били по голове. Отец защищал голову руками. Били по пальцам. Под ногти пальцев загоняли шило.
Так велось в течение трех месяцев. Отец отрицал, что называл Сталина подлецом. Он сидел в одиночке, а потом его перевели в общую камеру. В камере отец встретил односельчанина. И на него написал наш сосед. Потом их разлучили. Больше ни отец, ни кто иной его не видел. В их село он не вернулся никогда…
Отца забрали в конце августа. На нем была летняя железнодорожная форма. Вернулся зимой… В той же летней форме. Домой заходить не стал. Попросил мать дать ему другую одежду и ушел в баню. Он был весь вшивый, обмороженный и очень больной.
Отцу дали месяц отпуска. Через день он ходил в баню — парил пальцы рук. Они были перебиты, распухли и не гнулись.
Отца во всем восстановили. Он был членом партии, ему вернули партийный билет. В пятьдесят шестом году он рассказал мне, что не хотел восстанавливаться в партии, но кто-то из знакомых подсказал ему, что если он не восстановится, то его опять заберут, и отец восстановился. «Правда, — сказал отец, — партийный билет теперь я ношу не на груди, во внутреннем кармане пиджака, а в заднем, в брюках».
Я много раз спрашивал отца, называл ли он Сталина подлецом. «Нет, — говорил отец, — не называл». Да и зачем ему было называть? Отец был из деревни. Советская власть дала ему все: образование, специальность, хороший заработок. Он получал паек и форму. У нас был большой рубленый дом. Мы жили хорошо по тем временам.
Много позже я узнал и конец этой истории. У односельчанина, с которым сидел отец, были сыновья. В пятьдесят шестом это были уже большие, солидные мужики. Я их помню. Они узнали, что отец их в лагерях где-то сгинул. Это им сказали. Но они не знали, кто донес на их отца, и они пришли к нам. Мой отец рассказал им про соседа. Сосед уже был стар, одинок и плохо ходил. Они пришли к нему. Тот сидел в горнице. Сени от горницы отделял высокий порог. Сыновья спросили его, и тот во всем признался. Они взяли его за руки, за ноги, несколько раз ударили задницей о высокий порог и ушли. Потом они продали отцовский дом, в котором жили, и уехали неизвестно куда. Сосед ничего никому не сказал. Месяца через три у него отнялись ноги, а через полгода он умер. Мой отец его похоронил…
Старик и Крашев долго молчали.
— И что же, — наконец спросил Крашев, — вы считаете, ничего нельзя поправить?
— Ну, что вы, — рассмеялся Старик. — Время бежит — жизнь не остановишь. Объективно она становится лучше. Но многое надо сделать. Очень многое. И самое главное — надо осознать себя, понять себя, свою суть; научиться уважать себя, свою подлинность; унять в себе триумф по поводу того, что мы ухватили жар-птицу; понять, что это далеко не все — надо работать; надо покончить с нашим плебейством, с изобретением вождей, призванием кумиров и «отцов народов»; надо, чтобы «слуги народа» и были слугами народа. Надо покончить с единомыслием и единовластием. Прийти к настоящему, реальному самоуправлению. Понять, что подлинная демократия — это не только свобода, но и громадная ответственность каждого. Человек должен перестать быть рабом другого человека или рабом собственной подлости… Впрочем, все это слова, слова, слова, а следовательно, банальности. Главное и самое тяжкое, чтобы все это стало делом, жизнью…
Глава 17
К вечеру позвонила жена.
— Я останусь у матери, — сказала она. — Что-то ей одиноко. Поцелуй за меня сына…
Да, наверное, сейчас, когда сын, учившийся в одном из московских военных училищ, уже не жил с бабушкой, той было особенно одиноко. Но это была не вся правда. Полная правда состояла в том, что жена осталась у матери, чтобы еще и еще раз обсудить условия обмена… Мир в ее сознании был хорош, понятен, объясним. В нем не было загадок, трагедий. А уж тем более слез и крови. Были сложности, и жена успешно их преодолевала.
После разговора со Стариком, вернувшись домой, он не позвонил ни в министерство, ни в Главк. Нашел старый, тяжелый, подаренный Водолазом морской бинокль и долго разглядывал из окна спальни раскрашенного Гулливера. Тот, улыбаясь, делал свое дело: меж широко расставленных ног, одетых в яркие гетры, пропускал в свою страну маленьких, счастливых человечков, оставляя других — повыше — за низким зеленым забором…
Сын пришел поздно вечером. Скинул китель и брюки. Надел спортивное трико, в котором сегодня гулял Крашев, достал из «дипломата» журналы, бросил их на низенький столик и, вытянувшись в стоящем рядом кресле, стал читать.
— Мать не приедет. Останется ночевать у бабушки, — сказал Крашев. — Тебя велела поцеловать за нее…
Сын кивнул, соглашаясь со всем и продолжая читать. Крашев украдкой оглядывал его. Сын был похож на него. Он не был ни выше, ни стройнее, но Крашев чувствовал, что сын внешне привлекательнее его. В его уверенной речи, поведении, жестах, короткой, но тщательно исполненной прическе присутствовал внутренний привычный лоск. Главное — в нем была безраздельная уверенность в себе, в родителях, в училище, которое он оканчивал, в командирах и преподавателях, в своей предстоящей службе и своем будущем.
«Странно, почему он так во всем уверен? — думал Крашев, продолжая разглядывать сына. — Наверное, и я в молодости производил впечатление уверенного человека. Но это было только внешне. Внутри себя я не был уверен ни в чем. Окончив школу, я все еще колебался: куда поступать? Уже учась, я не был уверен: доучусь ли? У меня не было ни средств, ни времени, ни сил. Хорошо, что я встретил Жору Гробовского и заработал деньги. Но мог и не встретить. Я не знал, что мне делать после окончания института, и только случайность привела меня на Урал… Наверное, я бы смог стать неплохим офицером, но почему-то никогда не думал об этом. Отчего? Оттого, что отец мой умер от войны? Или от вида покалеченного войной Водолаза? От рассказов Ксении и ее странных фраз? А может, просто испугался взрыва мин в костре, когда лежал под старой грушей, укрыв своим телом вырывающегося друга детства — Ваську Ширяева?.. А мой сын совсем другое дело. Стать военным он решил, наверное, еще лет в шесть, когда бегал от одного торпедного катера к другому — на Малой Земле, в Новороссийске… И стал им. Ему осталось совсем немного. По существу, он уже офицер. Что же… Защитник — благое дело… Он уверен в себе и окружающем мире, силен, быстр, умен, ухожен, даже изящен. У него хорошие оценки, и, похоже, он отлично знает свое дело. Из него выйдет блестящий, как говаривали раньше, офицер. Отчего же я смотрю на него? Чем недоволен? Есть ли в нем то, что было в моем отце, Водолазе и есть в моей матери? Передалось ли ему то, о чем я и сам забыл, и только Старик напомнил мне об этом? Я плохо, очень плохо помню это ощущение… Строящийся небольшой, двухэтажный, из синюшного шлакоблока дом, и мать, по тонкому, дрожащему трапу толкающая наверх тяжелую тачку волнующегося раствора… Потом я все забыл, и Ксения, несчастная Ксения, у которой война отняла здоровье, молодость, простое человеческое счастье, меня раздражала… Смешил своими детскими акварелями Водолаз… Смог ли я, все позабывший, передать это своему сыну? Слышал ли он эти слова: доброта, милосердие, сострадание? От кого? От бабушки, «сплавившей» дедушку в ЛТП? От матери — энергичной, деятельной, но никогда, ни к кому не проявляющей искренних чувств, вернее, не имеющей таких чувств и не связывающей себя никакими внутренними узами?..»
Крашеву захотелось поговорить с сыном, спросить его о чем-нибудь. Он встал, подошел к столику и взял один из журналов. «Зарубежное военное обозрение», — прочитал он.
Крашев полистал журнал. С его страниц в фас и профиль, с людьми и без, на полигонах и в боксах, стояли, летели, плыли механизмы разрушения окружающего мира.
Один из снимков привлек его внимание. Это был даже не снимок, а фотомонтаж стратегической ракеты. Одна четверть ее белого, с громадными разноцветными буквами корпуса волшебством монтажера была аксонометрически удалена и обнажила ее внутреннюю, дьявольскую суть. Хитрые части ее механизма были помечены цифрами, а названия вынесены в столбец. Крашев не стал читать названия: они бы ровным счетом ничего не добавили к его знанию, а, вернее, незнанию таких устройств, и он стал листать журнал далее, но хищный, мощный силуэт летающей твари долго стоял у него перед глазами, заслоняя других, меньших сотварей.
Долистав журнал, он показал фотомонтаж сыну.
— Хороша тварь?
Сын утвердительно кивнул головой.
— А у нас есть такие?
— Должны быть, — уклончиво сказал сын, и Крашев не ожидал другого ответа.
— Ты твердо решил ехать в Афганистан? — помолчав, спросил он.
— Ехать… — усмехнулся сын. — Я не отпускник с билетом в кармане, а Афганистан не Сочи в начале августа. Я твердо решил подать рапорт, а уже пошлют-не пошлют, поеду-полечу, не мне решать.
— Хорошо… Пусть рапорт. Почему все же ты решил его подать? Тебе дорога́ революция в Кабуле? Интернациональный долг? А может, ты боишься за наши южные границы?
— Дорога ли мне революция в Кабуле?.. Не знаю… Знаю другое. Делая нашу революцию, мы надеялись только на себя. Мы были на грани; было время, когда партия готовилась опять уйти в подполье… Но мы все же защитили ее… Сами, своими силами… Ленин говорил: грош цена той революции, которая не умеет защитить себя. Я думаю, и грош цена той революции, которая, не рассчитав своих сил, надеется на соседей. Это смахивает на авантюру. Тем более, что любая революция — внутреннее дело самой страны. Впрочем, я военный, а не политик…
— Черт… — ругнулся Крашев. — Все знают и нашу историю и как делать революции, один я… профан. Значит, интернациональный долг?
— Я понимаю его книжно, логикой, разумом. Считаю, что это чувство должно быть. Что касается сердца… Наверное, надо хорошо знать, любить, уважать народ, который защищаешь. Мне кажется, этот интернациональный долг вторичен. Вначале должно быть что-то земное и менее возвышенное, с русским названием, хотя и для другого народа. Я знаю, например, почему я бы стал защищать негров где-нибудь в Гвинее-Бисау или Анголе, ибо я всегда помню и восхищаюсь бунтом Таманго, всегда мне было жаль дядю Тома, и в детстве я всегда завидовал Пятнадцатилетнему капитану по многим причинам, в том числе и оттого, что другом у него был черный Геркулес. — Сын помолчал. — Вот ты спросил меня про наши южные границы, — сказал он, усмехаясь. — Но сначала я задам тебе вопрос. Это тест, если хочешь… Идет?
— Идет, — пожал плечами Крашев.
— Представь вооруженный дозор из трех солдат. Они обнаруживают, допустим, группу вооруженных марсиан — передовой отряд марсианской армии. — Сын улыбнулся. — Марсиане похожи на нас и вооружены таким же оружием. Но в этой группе их в десять раз больше. Три солдата могут принять бой, а могут и уклониться от боя. Вопрос: как поведут себя эти солдаты, если: а) три солдата — американцы; б) три солдата — русские?
— Трудно сказать, — пожал плечами Крашев. — Это зависит от конкретных обстоятельств и конкретных солдат.
— Обстоятельства одинаковые: позади тех и других — армии. Уклонится дозор от боя, марсиане на их плечах нападут на основные силы. Задержат солдаты передовой отряд — фактор внезапности исчезнет. Солдаты же в дозоре обычные… Допустим, я, ты и еще кто-нибудь…
«Если третий — Ширя, то будет бой», — подумал Крашев.
А если бы третьим был Жора Гробовский? Да… Тоже был бы бой. Ну, а если… если мой сын, я и мой отец?.. Бой был бы тоже. Хотя я… Я всегда был склонен к компромиссу. Если бы тремя солдатами в дозоре были три моих «я», боя бы не было. Компромисс был бы неизбежен. Не с противником, конечно, а внутренний, душевный, но компромисс. Но почему бой будет, если слева — сын, а справа — отец? Ведь это почти те же три моих «я»? Для громады времени разницы между ними нет, или она почти незрима. Почему в первом случае я явно пойду на компромисс, а во втором и не подумаю? Хотя… хотя для меня это самые дорогие люди? Что нас заставляет или не заставляет принимать смертный бой? Чувство поколений, ответственность перед самим собой или просто взращенный в нас коллективизм? А может, ответственность перед историей?
— Наши примут бой, — сказал Крашев. — Посмотрят друг на друга. Прикинут: не сколько на одного, а сколько на всех. Прижмутся локтями друг к другу, если смогут, и примут.
— А американцы?
— Трудно все же сказать. Мне кажется, не примут.
— Но почему же? — рассмеялся сын. — Американцы такие же земные люди. Люди против марсиан. То же соотношение. Может, в тебе говорит ура-патриотизм? Почему же не примут?
— Они не будут смотреть друг на друга. Не будут касаться друг друга локтями, даже если смогут. Они не будут прикидывать: сколько на всех? Они прикинут: сколько на одного и, подсчитав, что на одного — десять, поймут, что с десятком не справиться. Они индивидуалисты, и я их не обвиняю. Таковы условия их мирной жизни. Меньше эмоций — больше расчета. И как можно больше экономической и любой другой самостоятельности. Дети у них не сидят на шее у родителей, даже учась в университете. Молодые семьи тут же отделяются от родителей и территориально и экономически. Никаких подачек! Бери кредиты, бери в кредит, но действуй самостоятельно… Да и не знают они, что значит биться за родную землю, а мы только это и делали.
— Это даже больше, чем нужно, — сказал сын. — Ты хорошо знаешь американцев?
— Я их совсем не знаю, — сказал Крашев. — Но я хорошо знаю англичан. Я проработал с ними три года. Они монтировали заводское оборудование. Так вот, даже на взгляд англичан, американцы индивидуалисты. Хотя англичане так и не говорили. Но я это понял…
— Усложняем тест, — сказал сын. — Меняем условия… Теперь в дозоре по одному солдату, а марсиан десять. Как поведут себя солдаты в этом случае? Соотношение ведь то же. Примут бой?
— Это еще сложнее, — после некоторого молчания сказал Крашев. — Хуже всего нашему. Он потерял чувство локтя, чувство товарищества. Ему приходится принимать решение самому. Приучен ли он к этому? Я думаю, нет. Он не смог бы убежать на глазах товарищей, да и убежав, ему пришлось бы принимать в дальнейшем решения одному. А это так трудно. Словом, не знаю. Каждый поведет себя по-разному, но одно ясно: действия обоих солдат будут примерно одинаковыми, а у американца, может, даже разумнее…
— Отлично! — рассмеялся сын. — Тебя можно брать в политотдел стройбата! Или в «Интурист» — разработчиком инструкций…
— Может, это и смешно, но какое отношение имеют эти тесты к нашим южным границам?
— В общем-то никакого. Хотя, я думаю, бояться за них особенно не следует. Их надо просто охранять. Как обычно…
— Но рапорт ты все же решил подать. Каковы причины? Ты ведь можешь остаться даже в Москве.
— Но и ты бы мог остаться. А уехал на Урал. И строил завод с этими англичанами. И отработал на нем двадцать лет. А мог бы остаться в Москве и жить у бабушки.
— У бабушки, — усмехнулся Крашев. — Прокис бы я вместе с бабушкой. На Урале было живое дело, перспектива, «другие люди».
— Я не могу повторить за тобой: и там живое дело. Это не гуманно. Я не знаю, какие там люди, думаю, обычные, но перспективы там совсем иные — это точно…
Глава 18
Все по тем же причинам — недавнего переселения и предстоящего обмена — телевизор стоял в спальне, и Крашев подсел к нему — смотреть длинную мелодраму. Сын остался в зале — дочитывал журналы. Спать решили так же: сын — в зале, на диване, а Крашев — на широкой, ставшей уже скрипучей югославской тахте.
Мелодрама была двухсерийной. К концу первой серии судьбы двух влюбленных молодых людей разошлись неимоверно. Эта неимоверность, сотканная из страданий, бед, злоключений, уже была залогом их счастливо-бурного сближения во второй серии.
Четверть часа дожидался Крашев поворота к счастью, но поворот все не наступал. Герой, всеми преданный, забытый и оклеветанный, все страдал. Героиня — изящная, припудренная — отвергала притязания доморощенных женихов и лила слезы, не делавшие ее менее изящной и менее привлекательной.
Крашеву стало скучно. Он встал и заглянул в зал. Сын, разметав свое молодое, сильное тело на диване, спал, и Крашев долго слушал его мерное, тихое дыхание. Потом вернулся в спальню и, заметив, что в судьбе героев мелодрамы наступил поворот к счастью, вздохнул и выключил телевизор. Ему показалось, что в спальне душно, и он чуть приоткрыл одну половину оконной рамы. Потом разобрал постель и, улегшись по диагонали привычной тахты, подгреб под голову подушку и посмотрел в окно. Он видел лишь небо, висевшее над парком. Небо было прикрыто рваными, в иных местах, тучами. Невидимая Крашеву луна подсвечивала края туч, делая их плотными и тяжелыми. Сквозь неприкрытую створку оконной рамы текло тихое журчание ручейка, катящегося через плотину. Крашев подправил еще раз подушку, глотнул свежего воздуха, текущего вместе с журчанием, плотнее укутал себя одеялом, закрыл глаза и заснул…
…Он проснулся оттого, что ему казалось: на него смотрит холодная, осенняя луна. Крашев встал, подошел к окну и широко открыл обе половинки. За окном стояла глубокая ночь. Луны не было, но свет, серебристый, зыбкий, лившийся откуда-то из парка, наполнял ночь тревожной, дрожащей сутью. Над парком стояла мертвая тишина, существовавшая, кажется, сама по себе и задавившая не только случайные звуки громадного спящего города, но и ближайшее журчание ручейка.
Зыбкий серебристый свет, отсвечивая в застывшем беззвучном ручье, раздвигал стоящие на берегу корявые ивы и крайние стройные сосны парка. За редким стройным рядом сосен находилось огороженное забором детское царство, и Крашев его прекрасно видел. У входа, боком к Крашеву, стоял высокий Гулливер.
Вдруг резко, как флюгер под порывом изменившего направление ветра, высокая фигура крутнулась, и Крашев увидел, что это вовсе не Гулливер. Вместо Гулливера из парка на него смотрел Фанерный Бык.
— А-а-а, Крашев, — усмехаясь, сказал Фанерный Бык, как всегда, не выговорив половину букв. — Крепко же ты спал. Отчего не позвонил мне, когда приехал?
— Не смог, — привычно оправдываясь, сказал Крашев. — Тут со мной история приключилась…
— Знаю, — упредил его дальнейшие оправдания Фанерный Бык. — В курсе. Поэтому и нахожусь здесь. Неладное приключилось. Только приехал, и вот…
— Стечение обстоятельств. Дурацкая история. Впрочем, ничего серьезного.
— При чем тут обстоятельства? Дело не в них. Дело в тебе самом. Ты меняешься на глазах. И в такое время.
— Я? — удивился Крашев. — Как я могу меняться?
— Меняешься, — покачал своей лошадиной головой Фанерный Бык. — И это грустно. Только представилась возможность опять работать совсем рядом. Мы так на тебя надеялись.
— Что вы, что вы, — уже тревожно заверил Крашев. — Я тот же, все тот же…
— Меняешься, — резко сказал Фанерный Бык, и Крашев смолк. — Вернее, тебя меняют. Но это дело поправимое. Мы тут придумали кое-что. Но ты должен помочь.
— Разумеется, — тут же заверил Крашев. — Если дело во мне.
— И в тебе, — опять резко сказал Фанерный Бык. — И в тебе тоже. Но много слов хорошо лишь к обедне, как говорится. Пора начинать. Включи телевизор.
— Но зачем? — не понял Крашев. — Сейчас ночь. Там же ничего нет.
— Именно поэтому и включи. Именно потому, что каналы свободны.
— Понял, — привычно сказал Крашев, хотя так ничего и не понял, и сделал шаг к стоящему у окна телевизору.
Это был цветной, очень хороший, легкий телевизор на микросхемах. На Урале, в городском торговом центре, его отобрал для Крашева Петров — заводской начальник средств автоматики, большой ученый по телевизорам. Крашев не знал, как, каким способом тот отбирал опечатанный телевизор. Крашев просто дал ему такое задание, и Петров его выполнил, и выполнил хорошо — телевизор показывал прекрасно и надежно. Правда, копание Петрова в телевизорах на складе торгового центра кое-что стоило Крашеву — пришлось подписать давно лежавшее у него письмо директора торгового центра на отпуск строительных панелей, выпускаемых заводом. Но это были уже детали. Главное было то, что телевизор показывал так прекрасно и надежно, что Крашева даже раздражало пустое его включение сыном, когда тот приезжал домой, на Урал, в свой последний летний отпуск.
Преодолевая и сейчас возникшее внутреннее недовольство от предстоящей холостой работы телевизора, Крашев включил его. Экран быстро засветился. Но это свечение не было бессмысленной рябью случайных электронов, шипящих случайным шумом. Постепенно, очень медленно, в полной тишине, такой же призрачной, как и за окнами дома, на экране формировалось что-то мало знакомое, но имеющее какой-то смысл.
— Докладывай, — приказал Фанерный Бык. — Докладывай, что на экране.
— Я ничего не пойму, — сказал Крашев. — Что-то неопределенное.
— На экране должна быть ракета. Ракета на пусковой установке.
— Ракета? — удивился Крашев.
— Ракета — в контейнере. Ты ее не увидишь. Ищи пусковую установку — громадную тупорылую машину.
Пристально вглядывался Крашев в бесформенные, мятущиеся цветные куски, переходящие друг в друга, и ничего не понимал… Но вот резко, будто кто-то невидимый крутнул ручку настроечного аппарата, на экране появилась поляна, окруженная лесом. Это был именно лес, с его неухоженностью, неприбранностью и в то же время аккуратностью и естественностью буреломов, упавшего сухостоя, неутоптанной травы и неизломанного кустарника. Картина сменилась, стала крупней, просторней, очень четкой и ясной. Лес и поляна высвечивались тем же серебристым зыбким светом, что и воздух над парком, так же наполнявшим экран тревожной, дрожащей сутью. Крашеву показалось, что пусковая установка должна быть где-то рядом — за парком, в лесу.
— Нет, — скрипуче сказал Фанерный Бык, как бы прочитав мысли Крашева. — Пусковая установка далеко. Для ракеты нужен разбег.
— Но зачем все это? — спросил Крашев.
— Для тебя, — усмехнулся Фанерный Бык. — Хотя программа шире. Но нас она не интересует. Важно, чтобы это случилось с тобой.
— Что случилось?
— Я же сказал тебе: ты меняешься. Ты перестаешь быть «другим человеком». Но ты нужен нам. Вот для этого и послужит ракета.
— Но ракеты разрушают.
— Как ты изменился, — покачал головой Фанерный Бык. — Ты уже не веришь мне. А ракеты и созидают, говоря высоким слогом. И ты прекрасно это знаешь. На твоем родном юге ракетами разгоняют градоносные тучи.
— Верно, — сказал Крашев. — Так защищают виноград.
— Вот видишь. А есть метеорологические ракеты, космические, наконец. Все они служат человеку.
— Но зачем та, о которой ты говоришь?
— Она медицинская. Делает людей «другими». Впрочем, — усмехнулся Фанерный Бык, — внешность она не меняет. Все очень просто. В головной части ракеты — особый аппарат. Через несколько минут после старта ракета появится вон там, — Фанерный Бак неуклюже ткнул рукой в небо. — Это будет высоко, и, кроме огня ракеты, мы ничего не увидим. Но дело будет сделано. Аппарат испустит особые лучи, и все, кто попадет в сектор действия, станут «другими людьми». И ты перестанешь меняться.
— Но ведь в секторе могут оказаться очень многие люди. Зачем же им становиться «другими людьми»?
— Не знаю, — раздраженно сказал Фанерный Бык. — Это вне моей компетенции. Хотя что плохого в том, что люди станут «другими»? Ведь я «другой человек», и ты в общем тоже.
— Но если, я «другой человек», зачем же меня облучать?
— Облучать будут не тебя. — Фанерный Бык говорил невпопад и оглядывался, будто кто-то дергал его. Но в парке было все так же тихо и пусто. — Хотя хорошая доза и тебе не помешает… Облучать будут тех, кто мешает тебе, заставляет меняться. — Фанерный Бык опять резко, как флюгер, повернулся на одном месте, а Крашев посмотрел на экран.
Громадная тупорылая машина въезжала на поляну. Сверху, по всей длине ее корпуса и даже несколько свешиваясь над небольшой кабиной экипажа, лежала большая сигара-контейнер, или сама ракета. Въехав на поляну, машина стала делать немыслимые для ее длины виражи, и, наконец, определившись и сделав последний, почти на одном месте, разворот, застыла.
Из машины вышли люди и стали ее к чему-то готовить. Каждый человек подходил к той или другой части машины, открывал незаметный пульт и делал свою операцию. Вид машины преображался на глазах. Вся ее неимоверная тяжесть была вывешена на тускло сверкающих ногах стальных домкратов. Сзади был опущен и отгоризонтирован круглый одноногий стол. Слева-сзади, рядом с этим столом, встал человек и отбросил крышку большого пульта со множеством кнопок, лампочек и рычагов. Человек нажал кнопку, передвинул рычаг, нажал еще одну кнопку, и вдруг лежавшая тяжелая сигара сдвинулась, пошевелив корпус машины, потом напряглась, натужилась и медленно стала приподниматься. Она приподнималась все выше и выше, поддерживаемая раздвигающейся телескопической рукой, высовывающейся из глубины тела машины, и с каждым миллиметром своего неумолимого движения вверх сигара, казалось, делалась все длиннее и длиннее, занимая весь экран телевизора.
— Наконец-то, — раздался из парка скрипучий голос Фанерного Быка. — Долго же пришлось собирать их.
Крашев взглянул в окно и увидел, что по парку тоже двигалась машина. Машина двигалась к маленькой детской стране и была Крашеву хорошо знакома. Это был вчерашний грустный автомобиль с железной клетью.
Тяжело переваливаясь, автомобиль подъехал к маленькой стране и остановился. Из кабины вышли двое вчерашних хранителей, и низенький, с пузцом, открыл дверь железной клети. Цепочкой, один за одним, выходили из клети люди и шли в маленькое царство. Тут только и заметил Крашев, что огораживающий забор был иным, не вчерашним. Он стал выше и совсем другого, неопределенно-серого цвета. Серебристый зыбкий свет слепил глаза, но Крашеву показалось, что на все бывшее вчера детским пространство, ограниченное невесть зачем высоким забором, наброшена тончайшая, похожая на паутину, еле различимая в странном свете сеть.
— Докладывай. Докладывай, что на экране, — проскрипел Фанерный Бык. — Ждать нас не будут. У них свои задачи. Пять, десять минут — не более. Надо успеть. — И он с нетерпением посмотрел на медленно разгружающийся грустный автомобиль.
Тяжелая, мощная, длинная сигара цвета хаки уже стояла вертикально, опираясь срезанным низом на круглый одноногий столик.
Человек у пульта проделал еще несколько включений, и вдруг сигара, треснув продольным швом, обнажила спрятанный в своем чреве иной аппарат. Быстро провернувшись вокруг вертикальной оси, крышка застыла, и распахнутый контейнер стал так же быстро опускаться на сокращающейся телескопической руке, оставив на круглом столе легкую, стремительную ракету. Самым поразительным было то, что ракета была прозрачной. Присмотревшись, Крашев понял, что прозрачен только ее корпус, а внутри видны агрегаты разного, иногда очень яркого цвета. В нескольких местах агрегатов было мало, и тогда сквозь ракету были видны высокие сосны, небо и мерцающие звезды.
— Ну, что там? — спросил Фанерный Бык. — Ракета установлена?
— Да, — прошептал Крашев. — Она совсем прозрачная.
— Последняя модель, — довольно ухмыльнулся Фанерный Бык. — Феноменальная точность. Прекрасная поражаемость. К тому же сокращено время предстартовых проверок. Особенно связанных с визуальным контролем. Никаких смотровых лючков и специальных приборов. Все и так видно. — Фанерный Бык опять резко, как флюгер, повернулся к грустному автомобилю.
Тот стоял уже по-иному — железной клетью подпирал выход из пространства, ограниченного высоким забором, и люди из него уже не шли. Низенький хранитель подошел к дверце клети, заглянул вовнутрь и что-то сказал другому. Вдвоем они вскочили в железную клеть, а потом вывели оттуда упирающегося человека. Как и у всех остальных, Крашев не различал его лица… Но походка! Заплетающаяся походка! Вчерашнего тощего человека! Неужели это он? Зачем он здесь? И кто же, в конце концов, эти люди? Как странно… Он прекрасно видит и слышит Фанерного Быка, хранителей и не может различить лиц этих людей.
— Кто это? — спросил Крашев, свесившись с подоконника спальни и всматриваясь в лицо человека, которого тащили хранители.
Вдруг тощий человек вырвался из рук хранителей, прошмыгнул между забором и железной клетью и побежал в глубь парка. Бежал он неловко, странно выворачивая ноги.
— Это он! — закричал Крашев. — Это вчерашний тощий! Зачем он здесь? Кто эти люди за забором?
В это время низенький хранитель догнал тощего, поддал коленкой под его зад и повел к забору.
— Черт, — ругнул Фанерный Бык хранителей. — Ну этот-то зачем?
Хранители пожали плечами, развернулись и потащили вырывающегося тощего опять в клеть грустного автомобиля.
— Что это за люди? Почему я вижу тебя и не вижу их? Зачем их привезли? — спрашивал Крашев, дрожа всем телом от свежести и неясности глубокой ночи.
— Я же сказал: эти люди мешают тебе. Мешают до конца стать «другим». А не слышишь ты их и плохо видишь оттого, что у них нет приоритетов.
— Значит, это обычные люди? Зачем они здесь?
— Объяснять — вне моей компетенции. Не знал, что ты так изменишься. Мы бы нашли другой способ. Не такой, правда, щадящий. Ну, ладно. Осталось несколько минут. Никто уже никуда не денется.
— Я не понимаю тебя, — зло сказал Крашев, не заметив своего перехода на «ты». — При чем здесь все же приоритеты?
— Хорошо, — махнул рукой Фанерный Бык. Рука его при взмахе сделала странное движение. И странность эта заключалась в том, что рука двигалась как бы в одной плоскости и вертелась вокруг одной оси. — Хорошо. Я объясню тебе. Но доложи, как дела с ракетой.
На лесной поляне было пустынно. Ни в тупорылой машине, ни рядом людей не было. Из главного пульта свисал черный толстый кабель. Другого его конца Крашев не нашел — толстый, змеей вившийся по земле кабель уползал за ближайшие сосны.
— На поляне тихо, — быстро сказал Крашев. — Людей нет. Вероятно, они в лесу, за соснами. Туда протянут кабель.
— Нажми в сенсоре телевизора две кнопки. Две кнопки соседних каналов, — приказал Фанерный Бык, всем своим громадным фасом повернувшись к Крашеву. — Нажми две любые кнопки соседних каналов. Подай знак, что мы готовы, что все тихо.
— Ты сказал мне, что объяснишь. Объяснишь после того, как я доложу. Я доложил.
— Черт, — опять ругнулся Фанерный Бык. — Что же тебе объяснять? Неужели ты не знаешь, что мы — «другие люди» — родней родного друг другу. Простые люди связаны кровью, совестью, любовью, еще там чем-то — я уже не помню чем; мы — «другие люди» — связаны общим интерфейсом. Мы — сиамские близнецы, сросшиеся головками. Тела разные — мышление общее. Но наш интерфейс это бо́льшее, чем связь, большее, чем общее мышление. Это весь поток сознания. Но, чтобы всем этим управлять, нужны приоритеты. И ты знаешь все это не хуже меня. Кстати, твой приоритет сейчас поднят очень высоко.
— Спасибо. Но я хочу знать, кто эти люди там, под сетью.
— Это не имеет значения. И для меня и для тебя. Мы связаны общим интерфейсом, и я знаю твой поток сознания. Эти люди тебе глубоко безразличны. У них нет никакого приоритета. Но скоро будет.
— И какой же?
— Нулевой. Они будут только подчиняться. И никому — и тебе — не смогут мешать. Нажми две кнопки.
— Но я не могу, — задыхаясь, сказал Крашев. — Мне больно, у меня болит сердце. И я не могу… Кто эти люди?
Как же перехитрить Фанерного Быка? Все последние двадцать лет он только это и старался сделать. И на Урале, когда Фанерный Бык был директором, и последние пять лет, когда Фанерный Бык стал замминистра, а Крашева назначили директором. Дистанция между ними то сокращалась, то увеличивалась, а его отношение к Фанерному Быку не изменялось… Как же перехитрить эту лошадь? Кто же эти люди там, под тонкой и ажурной на вид сетью? Почему так болит сердце? Но ведь у него есть морской бинокль. Давний подарок Водолаза. Где же он? Где он? Нужная, единственно нужная сейчас вещь в этой квартире. Стоп! Он должен быть где-то рядом. Нет, в спальне его нет. Может быть, на столике, в зале?
Неловко, едва сдерживая всхлипывающее дыхание, Крашев проскочил в зал. Вот он! На столике, рядом с журналами лежал тяжелый морской бинокль.
На сына Крашев взглянул, когда прикрывал дверь. Наверное, от произведенного шума сын заворочался и что-то сказал во сне. Осторожно, боясь разбудить его, Крашев прикрыл дверь, подбежал к окну и приставил бинокль к глазам.
…Сквозь раздавшийся серый штакет забора он увидел Анну. В светлом платье она сидела на низенькой детской скамье и что-то рассказывала своей маленькой дочери. Старшая ее дочь стояла у самого забора. Анна?.. И ее дети?.. Но почему? Он перевел бинокль, отыскивая другие лица. Вот сидит его мать, а вот отец. Они сидят вместе. Он никогда не видел их вместе… Вот Жора Гробовский. Маленький, изящный. Но почему его голова седая? А вот Ксения… Усмехаясь, смотрит прямо в бинокль. «Цветы цветут среди бушующего моря только раз…» А вот вчерашний Старик… И он здесь. Он и его внуки. А вот и друг детства Ширя.
— Но зачем дети? — прошептал Крашев. — Зачем здесь дети?
— Не помешает, — проскрежетал Фанерный Бык, и Крашев наставил бинокль на его громадную фигуру. — Теперь ты все знаешь. Жми кнопки.
— Нет-е-ет, — тихо сказал Крашев. — Я не хочу, чтобы они становились «другими людьми». Это мои родные, мои друзья, моя кровь и моя совесть. Они не будут «другими людьми».
— Ха-ха-ха, — раздвинув голову раза в полтора, громко засмеялся Фанерный Бык. — Ты — упырь. Какая кровь у упырей? Какие друзья, какая совесть? Упырь может только сосать чужую кровь и этим существует. Ты высосал всю кровь у рабочих твоего завода. Ты превратил всех мастеров, всех начальников цехов, всех главных специалистов в таких же, как ты, упырей. Их там расплодилось великое множество. Когда вас хотели подсократить, ты обратился ко мне, и я подписал приказ. Твой завод, небольшой в общем-то завод, поделили пополам и создали два завода. Стало два директора, два главных инженера, четыре заместителя и так далее… Все удвоилось, и все упыри остались на местах, а тебя перевели сюда…
— Все верно, — прошептал Крашев. — Но сначала ты выпил мою кровь. Но теперь ты даже не упырь. Ты даже внешне не похож на человека. Ты — кукла! Марионетка… Я все понял. Ты — шестислойная фанера. Тебя же в профиль не видно! Ты можешь только вертеться вокруг шарниров и шага не можешь сделать в сторону. Флюгер! Деревянный флюгер! — закричал Крашев.
— Хорошо же, — зло проскрипел Фанерный Бык. — Ты еще в моей власти… Приказываю! Тебе! «Другому человеку!» Низшего приоритета! Я! «Другой человек»! Высшего приоритета! Жми кнопки!..
Неодолимая, страшная сила навалилась на Крашева. Она шла от всего Фанерного Быка, от каждой частички его громадной фигуры. И для Крашева этой силы было даже слишком много. Весь его мозг, тело, все мышцы, все ткани, каждую клетку заполнила эта сила. Неведомая сила все рушила и пеленала. Крашев уже не видел парк, сосны, небо, сумеречный свет над парком. Не видел громадную фигуру Фанерного Быка. Бинокль выпал из рук, и не было сил поднять его. Но неодолимая, страшная сила не просто душила. Неумолимо, миллиметр за миллиметром, импульс за импульсом она толкала, направляя его спеленатое тело к телевизору. Его глаза уже ничего не видели, кроме двух маленьких эллипсных кнопочек. Мозг раскалывался от огромной боли, вложенной в него.
«Нажми, — шептал далекий сладкий голосок. — И все кончится. Жми кнопки. Все равно ракета взлетит».
Сил сопротивляться уже не было. Но не было сил и сделать самое страшное сейчас для него — нажать кнопки.
Открылась дверь. В майке и коротких трусиках над ним склонился испуганный сын. Его испуг был приятен Крашеву и не мешал ему.
— В парке, — сосредоточившись, зашептал он сыну. — В парке. Где маленькая страна. Они не должны верить ему. Они должны уйти, уйти от него. Они не должны…
«Тебе плохо, отец?» — спрашивали губы сына.
— Нет, — шептал он. И ему было хорошо. В нем есть кровь. Обычная, теплая, человеческая кровь. Сын пришел к нему. На зов родной крови. Они родные. И ему хорошо. Только очень тяжело…
— Ракета взлетит, — опять зашептал он. — Надо успеть. Ты — военный. Ты должен успеть, предупредить. Там — бабушка, там Анна, там Ширя и Гробовский. Там дети. Надо успеть.
Сын пристально и недоуменно взглянул на экран. Напряженность и сумеречность глубокой ночи передались ему.
— Где же, где бабушка?
— В парке, — едва слышно прошептали губы Крашева. — В парке. Фанерный Бык… Там, где маленькая страна.
Что-то еще должны были сказать его едва двигающиеся губы.
— Днем там стоял Гулливер. Беги туда… Деревянный Гулливер.
— Знаю, — кивнул сын и посмотрел в окно.
Момента, когда сын исчез, Крашев не уловил…
Ему вдруг стало легче. Страшная, сжимающая сила покидала его. Мозгу опять было позволено думать широко и спокойно. Сын, его сын, добежит и успеет. Успеет предупредить их. Они никогда не станут «другими людьми». Фанерный Бык обманул их. Сказал, что это надо для него, для Крашева. Но сын предупредит их. И они не станут «другими людьми» с нулевым приоритетом. И Фанерный Бык не сможет душить их, как душит он сейчас его. А чтобы не стать «другим человеком», надо совсем мало. Он, кажется, разгадал все их тайны, да и свою собственную. Никто, никогда не сможет сделать человека «другим». Он становится «другим» по воле собственной.
И все же он боялся. Боялся не за себя. Он уже знал: если Фанерный Бык применит еще раз свою силу, он умрет или сойдет с ума. Но это его уже не страшило. Ему было страшно за них, за сына. Вдруг он не успеет. И тогда их обманом превратят в «других людей».
Ракета все еще стояла на одноногом пусковом столе. Медленно, миллиметр за миллиметром, Крашев поднимал свое тело. Забытое, молодое чувство, когда он мог управлять собой, своим сознанием, возвращалось к нему. «Поднимись, поднимись, — внушал телу его мозг. — Поднимись и возьми бинокль. Наде узнать, что с ними».
Было тяжело, но тело уже подчинялось ему. Он взял бинокль и стал приподниматься, но яркий, жесткий, все ослепляющий свет, хлынувший с экрана, заставил его опять опуститься на пол.
Ракета стартовала. Образовав вокруг пускового стола шар из клубящегося огня, опершись на этот шар, ракета дрогнула, и мощная дрожь еще не выраженной силы прошлась по тупорылой машине, заставив заходить ее, закачаться на выдвинутых ногах. Удивившись обнаруженной в себе страшной силе, ракета еще колебалась, не решаясь оторваться от пускового стола. Но искрометная, быстротечная, иная жизнь, происходившая в ней, заставила прекратить колебания, медленно приподняться над столом, чуть просесть, совсем успокаиваясь, а потом резко и стремительно вонзиться в мягкий купол ночного неба…
Крашев справился с собой. Он встал и направил бинокль в парк. Фанерному Быку было не до него. Он занимался маленькой страной, был обращен к ней всем своим громадным фасом и сейчас, повернутый к Крашеву профилем, был еле виден даже в бинокль.
Крашев перевел бинокль. На их лицах уже не было спокойствия, и он понял, что они предупреждены. Вдруг мысль, яркая и неожиданная, как недавний старт ракеты, обожгла его разум. Они не смогут уйти! Они предупреждены и знают, но они не смогут уйти. Выход закрыт грустным автомобилем. Вокруг них высокий серый забор. Над ними блестящая тонкая сеть… Они не смогут уйти и будут задыхаться под этой сетью, как задыхался он, Крашев, много лет тому назад в остатках рыбацкой сети.
Что может человек? Что может он? Еще недавно большой, сильный, опытный… Что может он сейчас? Перед фасом этого громадного Фанерного Быка с его приоритетом и силой ракетного огня? Что может он? Маленький и слабый человек…
Он опять навел бинокль в парк. Ширя, взобравшись на забор, путаясь в тонкой и, вероятно, сверхпрочной сети, пытался разорвать ее. Сеть не поддавалась, резала ему руки. Удивляясь и возмущаясь, не обращая внимания на кровь от порезов, не думая о другом, Ширя продолжал рвать ячеи. Внизу стояли мать и отец, Анна, Старик, Водолаз, Жора Гробовский, Ксения… На их лицах он увидел боль и страдание…
Его сознание, разум, его душа, оголенная и избитая, были открыты окружающему миру. И душа его приняла всю их боль… Она приняла всю их боль и все их страдания… Но это не было похоже на разрушающий «поток сознания» Фанерного Быка. Вместе с их болью и страданиями его душа приняла их мудрость, его разум принял их опыт, а его тело их силу.
Крашев взглянул на экран. Ракета летела высоко в небе, но была хорошо видна, будто кто-то невидимый летел рядом с ней с телекамерой. И тогда своим разумом, вместившим разум и мудрость своих родных и близких, он вдруг понял суть этой«изящной дряни. Понял назначение ее агрегатов, механизмов и приборов. Понял загадочную прозрачность баков окислителя и горючего; бешеную неистовость турбонасоса, вгоняющего содержимое баков в камеру сгорания двигательной установки, где освобожденная энергия соединенных ядовитых жидкостей вырывалась из сопел, толкая и увлекая ракету дальше и дальше…
Баки окислителя и горючего быстро, точно гигантские туалетные смывные бачки, опорожнялись; время жизни ракеты подходило к концу. И поняв внутреннюю суть ракеты, он понял и ее главный изъян.
Ракету уже было видно не только на экране. Голубой, ни на что не похожий огонь, быстро приближаясь, полз по небу.
Над парком пронесся стон. Стон порванной струны. Он посмотрел в бинокль. Это Ширя, обливаясь кровью, порвал сеть. К нему боком, по-крабьи лезли хранители…
Последним усилием воли он собрал себя в кулак. Сам себе он казался упругим теннисным мячом, сконцентрировавшим его протест, протест его родных и близких, протест незнакомых ему людей. Всех тех, кому угрожала прозрачная ракета. Это был коллективный протест разума. И время остановилось, застыв на миг, и в этом миге застыла ракета.
Нормальный мир, с обычными людьми, не заметил этого мига, но для ракеты застывший миг стал смертельным. Ее агрегаты, приспособленные для работы на пределе устойчивости, не перенесли застывшего мига. Вспенились жидкости в прозрачных баках, и, раздираемый кавитацией турбонасос, вышел из строя. Перегретая, выбитая из режима камера сгорания взорвалась, смешав остатки окислителя и горючего и вызвав взрыв еще большей силы. Взрыв этот, охнув гулким хлопком высоко в небе, разметал тело ракеты, посыпав далекое пригородное поле пеплом, трухой и загадочными прозрачными осколками… И опять потекло, побежало время…
* * *
…Когда Крашев очнулся, ночь уже уходила. «Что с ними? — подумал он. — Что со всеми ними?» Он вскочил и посмотрел в парк. Между соснами неясно маячила громадная темная фигура. Крашев схватил лежавший на подоконнике бинокль и навел на фигуру. Расставив ноги в полосатых гетрах, у входа в маленькую страну, окруженную низеньким забором, стоял Гулливер…
Он прошел в зал. Сбросив одеяло на пол, сын крепко спал. Крашев вернулся в спальню и подошел к раскрытому окну. Над парком стояла тишь. Небо быстро серело…
«Уже утро, — подумал он. — Что делает сейчас мать? Встала и молится Богу?»
Почему она молится? Почему молится в старой хатке? Будет ли она молиться в новом доме?
«Нет, — понял Крашев. — Молиться она будет только в старой хатке, в своем храме. Жить она будет в новом доме, но каждое утро она будет приходить в свой храм, становиться на колени и молиться своему Богу…»
Почему мать молится открытке? Не смогла найти икону? И почему мать выбрала именно эту открытку: картину Николая Ге «Голгофа»? В наборе, подаренном ему Анной, есть и другие с Иисусом Христом. Иванов — «Явление Христа народу». Седобородые, благоразумные старцы… Мускулистые, налитые жизнью молодые… Есть радость предстоящего освобождения и нет страданий. Много открыток с Мадоннами и Мариями. Был Рубенс… Грешница обнимает ноги Христа… Он не помнит названия картины… Было еще «Воскресение Христа». Христос, в золотистом сиянии, парит в воздухе. Римские воины, пораженные увиденным, валятся навзничь… У этой он не помнит уже автора. «Во всех этих картинах есть чудо Христа, — подумал Крашев. — Есть его сила, его доброта, его величие. Может, это и Человек, но человеческого в нем уже мало».
Картина Ге совсем о другом. Это именно Голгофа, выбор, преданность вере. Но Христос еще человек. Все позади… И он на Голгофе… И, сделав выбор, одетый в рубище, босоногий, он собирает силы для предстоящей казни. Собирает для того, чтобы и на кресте остаться человеком.
Разбойники, стоящие рядом с Христом, совсем иные. Испуг на лице одного и ужас, полный ужас на лице второго. Страшит его еще лежащий на земле крест. Нет ничего человеческого, разумного на его лице. И нет, кажется, людей более далеких друг другу, чем этот разбойник-уголовник и Христос-страдалец за веру. Но сведенные в одном временном миге — для позорной, в основном для рабов, казни, вернее, долгой и чудовищно-жестокой пытки, — перед смертью они посмотрят друг на друга. И в глазах разбойника будут стоять слезы — слезы понимания и сострадания к немощному и хилому Христу.
«Господи, — подумал Крашев. — Я бы мог стать художником, настоящим спортсменом. А стал директором мыльного завода, как сказал Ширя. Хотя при чем тут завод… Это я — мыльный директор».
Мать нашла и свою веру, и своего Бога-Человека, и свой храм. Но как и где помолиться ему, Крашеву? Как поговорить со своим Богом, Идеалом, Человеком?
«Господи, — прошептал он, мысленно обращаясь к Христу на материнской открытке. — Я не знаю, что ты такое. Мне не нужен ни твой рай, ни твой ад. Я не верю, что ты есть за этим серым небом. Но я хочу, чтобы ты был во мне. Я хочу, чтобы я помнил о своем отце, матери, добром Водолазе. Я хочу, чтобы я помнил о Ксении. Я хочу, чтобы маленькому Жоре Гробовскому было хорошо на этом свете. Хочу, чтобы я любил свой маленький городок и своих земляков, а не презирал их. Я хочу, чтобы Анна и ее дети были счастливы. Хочу, чтобы я простил и любил друга своего — Ширю, непутевого Ваську Ширяева. Сделай так, чтобы я был добрее и милосерднее на пути своем…»
Небо над парком становилось все светлее. Стояла тишина. Но вот неожиданно проснувшийся ветерок налетел на парк и закачал сосны. Сосны заскрипели. Вдруг звук, похожий на стон лопнувшей струны, донесся из темной гущи, заставив Крашева вздрогнуть всем своим большим телом…
Глава 19
Этим же утром Крашев поехал в Главк и стал работать. А через несколько дней он получил письмо. Письмо было от матери.
«Здравствуй, сынок, — писала мать. — Случилось у нас большое горе. Ты знаешь, как пил твой друг Васька Ширяев. Он всегда-то пил, но в последнее время совсем свихнулся. А как выпьет — так драться. На работу-то его нигде не брали. Пристроился в горах лес валить. Участок там, и все такие же, как он. Денег нет — еще работают, а как аванс или получка — так пьют запоем. В тот день, как ты уехал, перепились все и передрались. Это у них обычно. Но до изуверств дело не доходило. Рубашку на ком порвут или нос раскровят, и только. Потом помирятся и опять пьют. А тут озверел Васька. С колом дубовым на бригаду пошел. Вытолкали его мужики из домика, что на участке, взашей. Но домой Васька не пошел. Стеснялся он пьяным к Анне и детишкам приходить. Пошел чего-то по лесу шляться. И пришел к старой груше. Ты должен помнить это место. Линия фронта там проходила. С Васькой пацанами вы там бегали… А уже свечерело. Развел Васька костер. Посидел, а потом на этой груше и повесился… И веревка у него с собой была, видно, давно замышлял… Дальше, сынок, писать сил нет. Хотела тебе телеграмму дать, да ты, наверно, еще в пути был… Анну и ребятишек жалко. Какой-никакой, а все же отец и муж был.. И дом их школьный совсем развалился. Говорю Анне: иди ко мне жить. У меня ведь хоромы. Пока не хочет. Но думаю, уговорю. И я одна, и они осиротели. Такое вот горе…
Всего хорошего, сынок, тебе и семье твоей. И главное, чтобы не было войны… Ясного вам всем неба над головой…»
Челябинск,
1984—1988 гг.
Примечания
1
ХПП — хлебоприемный пункт.
(обратно)2
Ерыки — овраги (прим. авт.).
(обратно)3
Милесимо — мелкая чилийская монета (до 1973 г.).
(обратно)








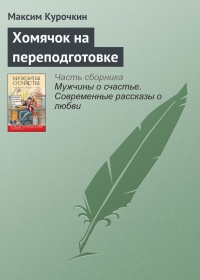

Комментарии к книге «Время в тумане», Евгений Степанович Жук
Всего 0 комментариев