Хосе Луис Сампедро Река, что нас несет
Елена Айала Предисловие
Эпиграфы в книге можно сравнить и с дорожными указателями, и с музыкальным ключом. В романе Хосе Луиса Сампедро их несколько.
Немецкий экспрессионист, мятежный правдо- и богоискатель, проповедник самоочищения Франц Верфель и грек Никос Казанзакис, гуманист, отлученный от церкви из-за своей свободной трактовки религиозных догм, борец против всяческого угнетения, прославливающий людей труда. Что их объединило в романе?
«В каждом человеке нам обетовано возвращение Спасителя» и «Все люди на какой-то миг боги…» Значит, все-таки богоискательство, или богостроительство, или боготворчество, те самые, о которых В. И. Ленин говорил, что они отличаются друг от друга «ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего»? Или, может быть, это лишь форма гуманистического утверждения ценности человеческой личности, каждого отдельно взятого человека?
Но в книге есть еще и другие эпиграфы — отрывки из Комментариев к древней китайской «Книге перемен», «Ицзин», говорящие о вечном круговороте природы, о слитности человека с нею и о тех переменах, которые несет с собой время. Это тоже «дорожные знаки», такие же, как название романа «Река, что нас несет», как название его заключительной главы — «Река людей».
У каждой книги, кроме своей судьбы, как об этом говорит старая поговорка, есть свое «сегодня» и свое «тут», и при всей разнородности символических эпиграфов это «сегодня» и «тут» книги Сампедро — Испания, Испания нашего времени.
Книга вышла в середине шестидесятых годов, и опубликована она была в Испании, что уже само но себе делает ее судьбу счастливой. Как об этом писал в 1964, том же, году, когда вышел роман Сампедро, другой испанский писатель — Армандо Лопес Салинас, в Испании «писатель должен гадать, обрывая лепестки маргаритки, будет или не будет его детище запрещено цензурой». Десятки книг, не прошедшие цензурных рогаток, выходят за пределами страны и лишь спустя несколько лет, да и то далеко не всегда, в Испании. Цензура — «воистину всемогущий критик, теоретик первой величины. Она всесильна в программировании издательской деятельности…» — свидетельствует журнал «Триунфо». Она не выносит обнаженных мыслей — их следует облекать в благопристойную форму, и это защитное облачение может сыграть для книги роль «счастливой рубашки». В какой-то степени это относится и к книге Сампедро.
Родилась эта книга в «юбилейный» год. Франкизм подошел к двадцатипятилетию своей официальной победы. Гигантский крест, вознесенный над мемориалом в Долине Павших, куда были перенесены останки тысяч испанцев, сражавшихся — одни за Республику, другие на стороне мятежных фашистских генералов, должен был знаменовать всепрощение и примирение в Испании — «Единой, Великой и Свободной». Но примирение означало в лучшем случае усмирение. Несмотря на массовый террор, развязанный в первое послевоенное десятилетие, сопротивление франкизму зрело и охватывало все более широкие круги населения.
Начиная с 1956 г. Испанию непрерывно потрясают народные волнения. Они вспыхивают то в одном конце, то в другом. Забастовки, начавшиеся в Астурии и Стране Басков весной 1962 г., распространились на 24 из 50 провинций Испании. Брожением была охвачена не только та пятая часть испанцев, которая, по свидетельству испанских социологов, жила «за занавесом нищеты». Оно перебросилось на интеллигенцию, на университетские центры страны, где студенчество и профессорско-преподавательский состав — к этим кругам принадлежит и Сампедро — выступают с требованиями реформы образования и общедемократических свобод, против «диалектики кулаков и наганов».
Страну сдавил «испанский воротник» франкистского режима. Впрочем, об «испанском воротнике» следует говорить не только в переносном смысле слова. В 1963 г., в середине XX века, в стране, причисляющей себя к просвещенному Западу, в тюрьме Карабанчель состоялась казнь антифранкистов, выступивших против режима, с помощью этого средневекового орудия пытки и казни.
Выходят из подполья старые и новые оппозиционные партии, в оппозицию режиму вливаются широкие слон мелкой и средней буржуазии. Процесс распада «органического единства» тоталитарного франкистского государства и его корпоративной системы вызывает эрозию правящей верхушки. Распалась фаланга, и часть се растворилась в общем потоке оппозиционных сил. Тем самым франкистский режим потерял одну из своих главных опор.
И даже в испанском католицизме возникает течение, противопоставившее себя многим аспектам франкизма и возлагающее свои надежды на демократию и социальный прогресс. К жизни его вызвало не только и не столько движение за обновление внутри католической церкви, связанное с деятельностью папы Иоанна XXIII и его энцикликами, но, прежде всего, начавшийся в стране подъем рабочего и общедемократического движения, охватившего и широкие массы католиков. Духовенство каталонской провинции Таррагона, выступая «единым фронтом», в послании всем епископам Испании осуждает деятельность папского нунция, его стремление «спасти и оправдать прогнившую администрацию, позорящую Испанию во всем мире и подрывающую престиж церкви». Все чаще с амвона звучат проповеди, обращающие внимание на нищенское существование испанской деревни. Отход от освященных традицией католицизма догм, призыв к истинной, «внутренней» вере, стремление жить одной жизнью со своей паствой ярко показаны в романе Сампедро в образе приходского священника из Отерона. Они характерны для значительной части низшего клира Испании.
Различие в исходных позициях и политической ориентации разнородных групп, находящихся в оппозиции франкистскому режиму, накладывало свой отпечаток на характер этой оппозиции. Диапазон тут велик — от действенной борьбы, поисков новых организационных форм для сплочения на очень широкой платформе до более или менее созерцательного неприятия франкистской действительности, характерного для части испанской интеллигенции.
Эта ситуация нашла свое отражение в романе Сампедро, хотя отражение это отнюдь не «зеркальное», а с той степенью смещения, которая обусловлена и углом зрения писателя, и условиями в Испании, о которых уже говорилось.
«Корень проблемы — свобода. Свобода! Без нее нельзя быть самим собой, нельзя стать лучше, проявить себя. Только из этого источника человек может черпать достоинство».
«…B человека, в человека надо верить! В его достоинство, произрастающее из его сути и крепнущее в его свободе. Разве системы не обречены? Надо вернуться к истоку — к человеку, к существу первозданному, первоэлементу истории. Не сковывая его надуманными ценностями, не строя предварительных проектов. Пусть человек идет своим путем. И он придет!»
«Но самой большой радостью для меня было общение с людьми. С лучшим, что есть в этой стране, — с народом. Поверьте мне, нам всем далеко до него…» Это голос старого профессора-либерала, одного из действующих лиц романа, и голос священника из Отерона, и это — голос автора книги.
Люди из народа, думает, слушая их рассказы, Шеннон, «…были верными сынами земли, едва вышедшими из нее и еще тесно связанными с нею своим нутром».
Народ обладает секретом «естественной жизни». В общении с ним очищаются от «скверны» те, кто не принадлежит к нему. Народ — носитель и хранитель всех истинных, непреходящих ценностей.
В общении с народом обретает утраченный смысл жизни, веру и надежду Шеннон. В книге он антитеза «естественных» людей, с которыми его свела судьба. В отличие от них, людей «корневых», вросших в родную ночву настолько, что даже можно уловить какое-то сходство между ними и лесом, который они сплавляют, Шеннон — человек-водоросль. Он интеллигент, любое его душевное движение сопровождает рефлексия, мысли и чувства, прежде чем вырваться, пробиваются сквозь толщу литературных ассоциаций, символов и аллегорий. Он потерял способность быть самим собой. Автор книги, отдавая дань экзистенциалистским влияниям, многократно подчеркивает это.
Шеннона сломила жестокость войны. Ирландец, он попадает с английской оккупационной армией в послевоенную Италию. Сама война лишена для него всякого смысла и содержания, она акт насилия над человеком, любая война, кем бы она ни была развязана и против кого она ни велась бы. Тлетворность и разрушительность се сил раскрываются для него не в уничтожении Герники и Ковентри нацистскими бомбами, не в ужасах нацистских лагерей смерти, не в гекатомбе сотен тысяч жертв фашизма, а в самосуде толпы, в голоде, насилии над женщинами — в хаосе, который царил в первые послевоенные месяцы в Италии. «Он вдруг увидел в истинном свете то, причастным к чему его сделали: искалеченных детей, лишенных крова женщин, убийц в мундирах, гордых своими бомбами».
И внутренне выключив себя из окружающего, опустошенный, изверившийся Шеннон шел по жизни, «словно кукла, движущаяся вниз по наклонной плоскости». Этот образ куклы, запутавшейся в нитях, которые движут ею, в восприятии советского читателя является определяющим для облика пацифиста Шеннона.
В соприкосновении с народом, среди сплавщиков — «людей реки», в любви к Пауле он постигает жизнь, сведенную к правде хлеба и голода. «Правда хлеба и правда стали; правда жизни и правда смерти. И кроме того: правда голода…» — вот первооснова жизни «естественного человека». «Люди реки» научили его нести свое бремя, не теряя достоинства и не отчаиваясь, и, главное, «делать свое дело!» В этом смысл жизни — делать свое дело, не отчаиваясь и не падая духом, «быть самим собой — Человеком». Чтобы обрести эту вору, Шеннон должен искупить то, что он считает своей виной, и он достигает этого, спасая другого человека. Каждый человек в какой-то момент своей жизни может быть всемогущим.
В книге Шеннон — центральный образ, раскрывающийся в конце как рассказчик, глазами которого увидено все происшедшее. То, что он чужеземец, ирландец, не играет, собственно говоря, никакой роли. Это лишь позволяет ему увидеть все как бы впервые, со стороны, открывая увиденное для себя, и дает право на рассказ об увиденном.
В отличие от Американца, исчерпавшего себя, изверившегося и обретающего просветление и душевный мир в одиночестве и общении с природой, Шеннон понимает, что он не может, не должен уйти от жизни. Гореть, как пламя костра, освещая и обогревая, — «вот в чем суть». Все, что заложено в человеке, должно найти свое воплощенно и свершение — в этом смысл взволнованных слов Шеннона. «Посмотри на луну, — говорит он Американцу, — чтобы там, в вышине, достичь такой белизны, такого ясного полного равнодушия, она прежде была багряно-красной, а уж потом оторвалась от земли… Я еще только начинаю раскаляться. А значит, у меня остается надежда…»
Надежды свои Шеннон возлагает на народ, на «реку людей». Но что понимает Шеннон, а с ним и автор, под этим магическим обозначением?
Жизнь народа — это подземная река, «река, что нас несет». У нее свое течение, свои берега. Она не зависит от того, что происходит на поверхности, неподвластна смене правлений, социальным метаморфозам. Жизнь народа, его внутренняя, сокровенная жизнь — живая реальность, не имеющая ничего общего с официальной организацией страны. Это два различных мира, между которыми нет другого моста, «кроме чиновников и жандармов».
Авторское кредо — своеобразный протест против франкистской действительности, протест пассивный и зашифрованный, своего рода защитная реакция, подобная той, которую обычно приписывают страусам.
Книга свидетельствует о том, что автор любит свою страну. Он помнит о ее прошлом, ему дорого ее будущее. Настоящее невыносимо. И вот, повернувшись спиной к реальному миру, он созерцает «реку людей», которая, как он верит, несет свои воды в стороне от «скверны», иногда соприкасаясь, но не смешиваясь с нею. Народ так или иначе «выдюжит», «река людей» вынесет. Но ведь если продолжить аналогию с рекой — а она в книге подобна рефрену, — жизнь реки тесно связана со всем окружающим, с «твердью земной и хлябью небесной», с лесом, растущим по ее берегам, и с другими реками. Она несет в своем течении все измельченные ею породы, сквозь которые пролегал ее путь.
Построения автора прекраснодушны и нежизненны, и реальная действительность Испании ломает их ежечасно, ежеминутно. Но у них есть свои корни в истории испанской общественной мысли.
«Испания, рыцарская историческая Испания должна, как Дон Кихот, возродиться в вечном идальго Алонсо Добром, в испанском народе, который живет под историей, в своем большинстве и к своему благу, не замечая ее. Да, умереть, как нация, и жить, как народ!» Это — через десятилетия голос и мысли Мигеля де Унамуно.
Конечно, всякое литературное произведение представляет собой сложный сплав идей. Многое, пропущенное сквозь призму художнического видения, предстает в новом освещении. В романе можно найти следы экзистенциалистской концепции испанского философа Ортеги-и-Гассета о естественных, человеческих связях, присущих человеку, и связях общественных, навязываемых ему извне, «сверху», и отголоски идей Тейяра де Шардена, который, пытаясь примирить религию с поступательным движением человечества, поглощенный мыслью о человеке и его будущем, в то же время с пренебрежением отбрасывал мусор «поверхностных перипетий современной истории». Идеи эти получили широкое распространение в прогрессивных католических кругах Испании.
Но прежде всего, и более всего, книга несет на себе следы влияния философии Унамуно, во многих его ипостасях, трагически противоречивого гуманиста Унамуно. И в первую очередь это его концепция «интраистории», внутреннего, подлинного бытия народа, живущего в соответствии с присущими ему вечными, органическими законами и правопорядком, которые в своей совокупности определяют его национальное лицо и противопоставлены истории официальной, государственной и политической.
«Народ живет настоящей жизнью, естественной. Его ненависть, его вера еще пахнут потом и кровью, его отсталость, его убеждения произрастают из самой природы, из человеческой сути. Наверху же люди лишены корней… Их проблемы — это бури в луже собственных интересов и страстей. Они знают, что такое честолюбие, привилегии, похоть, роскошь, но не знают, что такое голод, любовь или естественный инстинкт», — говорит в романе священник из Отерона.
Глубинное течение «реки людей» неподвластно внешним влияниям. Можно увлечь народ за собой, подтолкнуть его на какое-то единовременное действие, как это делает в романе Негр, для которого политика была страстью и искусством, безотносительно к ее целям и содержанию, возможностью, овладев толпой, «почувствовать себя богом». Такое действие может привести к тому, что мятеж, вечно живущий в народе, будет на какое-то мгновение выпущен, как джин из бутылки, но это само по себе не может изменить русло «реки людей», дать направление ее течению. Поток истории образует сцепление бесконечно малых капель. Каждый день, откладываясь на дне, меняет ого рельеф. Убийство злого пса касика и мироеда Руиса, символизировавшего его власть над людьми, не избавило их от Руиса и руисов. Но оно будет жить в воспоминании, «ибо образ этот нельзя было ни уничтожить, ни стереть… Он не поддается ничему, но в нем таится надежда на другое будущее для жителей Сотондо».
Нужно ли людей побуждать к чему-то, «пробуждать от спячки, в которой они пребывают?» «Слишком уж мало дел, которые того заслуживают… их надо побуждать к тому, к чему они сами бессознательно стремятся». Это слова священника из Отерона.
Логика истории и логика жизни опровергли многие концепции Унамуно. Крупнейший философ, писатель и общественный деятель, мятежный и противоречивый, выступив сначала против диктатуры Примо до Риверы, он затем решает занять нейтральную позицию, позже переходит к защите Испанской республики, с тем чтобы в минуту ослепления отречься от нее и, приняв сторону Франко, стать по сути дела одной из первых жертв франкизма.
Река истории, истинная «река людей» смела концепцию «интраистории». Историческая действительность отметает и «почвеннические» позиции, столь характерные для романа Сампедро.
Идеализация «корней», «почвенничество», как это случалось с неизбежной закономерностью в других местах и в другое время, и на испанской почве может превратить «реку людей» лишь в тихую заводь. Но в романе «почвеннические» мотивы — составная часть более сложной амальгамы. Они сочетаются с идеей прогресса, поступательного движения вперед. В книге его символизирует плотина в ущелье Энтрепеньяс, поднимающая «до самого горизонта, расширяющая реку людей».
Оптимистично звучат слова Шеннона в конце романа, как апофеоз, утверждающий веру в человека и его будущее: «Рока людей бесчисленными волнами движет историю вперед, невзирая на время, устремляясь к невидимому океану — конечной своей цели…»
По массивному нагорью Кастильской месеты, рассекая Испанию почти что надвое, несется Тахо — прообраз и символ «реки людей». Все дальше и дальше мчит она свои воды к Эстремадуре, к границам Испании, с тем чтобы, превратившись в португальскую реку Тежу, устремиться к океану.
Океан «реки людей» теряется в бесконечности. Но у людей есть сегодня, рожденное из вчера, и завтра, корни которого уходят в это сегодня.
Франко погребен в Долине Павших. Подобно памятникам, которые в средневековье воздвигались на перекрестках Европы в память о чумных эпидемиях, мемориал в Долине Павших будет пробуждать в памяти грядущих поколений воспоминание об эпохе франкизма, отбросившей страну далеко назад. Но Испания уже смотрит в свое завтра. Каким будет этот завтрашний день испанской «реки людей», зависит от самих людей, и лучше всего об этом сказал великий испанский поэт Антонио Мачадо в послании Асорину:
О, послушай меня, Асорин: есть Испания та, что желает Встать, воскреснуть. Испания эта подняться спешит. Нет, не ей леденеть с той Испанией, что умирает. Нет, не ей задыхаться с Испанией той, что зевает да спит. Чтоб спасти это новое богоявленье, Наступила пора искупить вековые грехи, Взять огонь и топор и войти в новый день, как в сраженье. Чу! Заря уже близка, возвещают ее петухи[1].Елена Айала
В каждом человеке нам обетовано возвращение Спасителя.
Франц ВерфелъВсе люди на какой-то миг боги.
Н. КазанзакисРасщелина в скале
Все было предрешено, хотя никто не мог знать, почему жизнь распорядилась именно так, а не иначе. Иногда она забавляется тем, что трубит в свой горн по пустякам, а иногда ее течение обходит стороной некоторые события и людей, предоставляя случиться тому, чему суждено случиться. Только спустя долгое время сознаешь, какую роль сыграли те или иные жесты, поступки. Например, та встреча или те шаги, которые должен был сделать Шеннон. Почему так произошло, почему он так поступил? Бессмысленно ломать голову над этим: то была прихоть реки и вместе с тем зов сердца. Да, пожалуй, лишь оно одно всегда ответит на этот вопрос.
Все было предрешено. Они уже ждали в холодных горах — сами того не ведая — появления Шеннона. Ждали именно в этот час: мужчина, послуживший как бы приманкой; женщина, закутанная в черное; и вьючное животное, доставившее их сюда, навстречу его судьбе. А за горизонтом притаилась луна, дожидаясь, когда угаснет день, чтобы раскинуть свои мосты над ночной бездной.
Шеннон держал путь в Саорехас, намереваясь утром перебраться на другой берег Тахо и направиться в Молину.
После тесного Приего и маленьких селений Гуадиелы Вильянуэва-де-Аларкон ее большие дома с балконами, весь этот равнинный край вызывали у него странное чувство, будто он сбился с пути. Но по мере того как он продвигался по бесконечно прямой дороге, натиск горного массива ощущался сильнее, чем среди глубоких расщелин и сведенных судорогой утесов. Плоскогорье безо всяких усилий поднималось каменной глыбой, напоминая до предела натянутую кожу барабана. Даже хвойные деревья и кусты можжевельника редели здесь, давая простор земле, жаждущей высоты. В вышине, гонимые неведомой силой, сталкивались громады пепельных туч. И между этим плоскогорьем и хмурым, зимним небом, словно между пластинами космического конденсатора, неутомимо двигался вперед путник.
Он все еще шагал краем поля, несомненно служившего в войну посадочной площадкой, когда вдалеке заметил маленькую неподвижную группку, вырисовывающуюся на горизонте. Однако она не завладела его вниманием. С тех пор как месяц назад, покинув Италию, он пустился в отчаянное путешествие, желая скрыться от того, что его окружало, он оставался ко всему равнодушным. После окончания войны, когда начались попойки по случаю перемирия, он вдруг увидел в истинном свете то, причастным к чему его сделали: искалеченных детей, лишенных крова женщин, убийц в мундирах, гордых своими бомбами.
С тех пор он шел, ничего не замечая вокруг, словно кукла, движущаяся вниз по наклонной плоскости. Но мужчина с окровавленной повязкой на ноге, лежавший в почти безжизненной позе, заросший щетиной, с перекошенным от боли лицом, заставил его остановиться. А может быть, он остановился потому, что у него возникло странное ощущение, будто эта неподвижная группа вдруг ожила. Он подошел и спросил, что случилось, еще но думая о том, что как-то сможет облегчить человеческое страдание.
Ему не ответили. Ни лежавший мужчина, ни сидевшая подле него женщина, закутанная в темный плед. Шеннон повторил вопрос.
— Бревно, — простонал мужчина. — Бревном ударило!
Шеннон отбросил в сторону свой дорожный посох, скинул на землю вещевой мешок и опустился перед мужчиной на колени. Женщина нагнулась еще ниже. «Но хочет, чтобы я ее видел», — решил Шеннон, закатывая на ноге мужчины штанину в узенькую полоску, так не вязавшуюся со студеной порой, и оголяя рапу. Бревно ударило не сверху, а сбоку, сделал вывод Шеннон, осматривая раздробленную щиколотку. Раненый отвел взгляд от распухшей, бесформенной, посипевшей ноги.
— Мне приходилось видеть и не такое, — сказал Шеннон, желая его подбодрить, а сам подумал, что сумеет лишь слегка прочистить рану и получше перевязать. «Тебе еще повезло», — чуть не прибавил он, словно перед ним был раненый, которому отнимали ногу, надеясь спасти жизнь.
Когда Шеннон кончил обрабатывать рапу, солнце уже село. Ветер стих, и глубокая тишина, воцарившаяся вокруг, еще больше подчеркивала драматизм положения. Слышались лишь чавканье осла да хруст срываемой им травы. Раненый тяжело дышал; женщина по-прежнему сидела неподвижно. Казалось, с ними ничего не произошло. Когда Шеннон посоветовал скорее доставить раненого в больницу или хотя бы к врачу, ни один из них даже но шелохнулся.
— Ему нельзя оставаться здесь, понимаете? — не выдержал Шеннон.
— Он говорит, что устал, — откликнулась наконец женщина; ее голос прозвучал глухо, словно откуда-то из глубины. — Это случилось на реке возле ущелья Вальденарос. Мы хотели добраться до Саорехаса со сплавщиками, но пришлось свернуть в горы.
— До Саорехаса отсюда рукой подать, — сказал Шеннон. — Я провожу вас.
— Нет, ни за что! — буркнул раненый. — Если я сяду верхом, нога будет свисать и нальется кровью. Мне станет хуже.
— А если вы проведете ночь здесь, то останетесь без ноги, — возразил ему Шеннон.
— Я застрахован, — резко ответил мужчина, — мне заплатят.
— Если начнется гангрена, страховку вам принесут на кладбище, — обозлился Шеннон. И обращаясь к женщине, попросил: — Помогите посадить вашего мужа на осла.
— Он мне не муж. Просто один из сплавщиков.
— Она шла в Саорехас, и ее попросили проводить меня, — пояснил мужчина.
Шеннон подвел осла. Мужчина не соглашался сесть. В эту минуту показалась повозка, постепенно выраставшая из сумерек.
Подождали, пока она подъедет, и договорились с возчиком. Да, он едет в Вильянуэву и может подвезти раненого. Шеннон же проводит женщину в Саорехас. При виде повозки раненый воспрянул духом. Его уложили на мешки, и повозка тронулась.
Но и оставшись наедине с женщиной, Шеннон не испытал никакого предчувствия. Она держалась отчужденно, почти враждебно. И ему хотелось лишь одного: как можно скорее проводить ее до селения и забыть об этой встрече.
Пока он прилаживал на себе вещевой мешок, женщина уселась на осла, свесив ноги на одну сторону. Затем в нерешительности обернулась к Шеннону.
— Большое спасибо, — выдавила она. — Прощайте, сеньор.
— Как прощайте? Я ведь тоже иду в Саорехас.
Она равнодушно подняла плечи и ударила каблуками осла. Шеннон последовал за ней, считая своим долгом проводить ее, хоть и был задет пренебрежительным отношением.
Даже воздух пришел в движение, впиваясь своими ледяными иглами в щеки. Дорога свернула в сторону, и вдали показались желтоватые огоньки. Вправо уходила тропинка, ведущая к пятнам темнеющих сосняков.
Женщина, как бы в раздумье, задержалась. Шеннон тоже остановился. В наступившей тишине вдруг послышалось журчание невидимой воды. Неожиданно женщина свернула с дороги на тропу. Шеннон догнал ее и преградил путь.
— Куда вы? Саорехас там!
— Я возвращаюсь к сплавщикам. Мне надо туда.
— Сейчас? Одна?
Трудно было остаться спокойным при столь внезапном решении.
— Да. Я еду туда.
— А разве вы ехали не домой? Сплавщик сказал…
— Оставьте меня в покое! Нет у меня никакого дома, и мне нечего делать в Саорехасе.
И понукая осла, потрусила вперед, отстранив Шеннона.
От злости и неожиданности он оторопел.
— Сумасшедшая! — вырвалось у него.
И вдруг до него донесся крик, исходивший от черной удалявшейся фигуры. Он заглушал собой журчание воды, был звонче цокота копыт, пронзительнее ветра.
— Да, я сумасшедшая!
— …сумасшедшая! — приглушенным эхом отдалось в горах.
Быть может, это был тот самый голос, который до сих пор молчал? Сейчас в нем слышался такой отчаянный всплеск воли, что самое невероятное становилось возможным. Шеннон бросился за пей вдогонку, тщетно пытаясь удержать своим криком. Что это было: упрямство, натолкнувшееся на упрямство, жажда спасти ее или любопытство? Не все ли равно! Его шаги, устремленные к горе, были частью той драмы, которая разыгрывалась в ночи.
Когда к нему вернулась способность рассуждать, было уже поздно. Как отступить, как пойти на попятный, если она его слышала? Да и не все ли равно, какую дорогу избрать: ту или эту? Он продолжал шагать вперед, вновь ощущая под ногами твердую почву, ощупывая взглядом темноту, впитывая в себя смолистый запах сосен и запах тимьяна, чувствуя, как высоко вздымается его грудь, как пульсирует кровь в такт ходьбе. Он удивился, заметив, что переживает сразу столько ощущений, что походка его стала упругой и что-то бьется и трепещет в каждой частице его тела… Удивился живости своего восприятия окружающего мира после долгого бегства от самого себя. И уже не сомневался больше в том, что эта фигура в черном, словно магнитом, притягивает его к себе, что она послана ему самим провидением. Женщина ни разу не обернулась к нему, не сказала ему ни единого слова. Но какое это имело значение? Разве мифические посланцы богов не были всегда окутаны тайной!
И так же, как в мифах, путь становился все более тернистым. Тропа исчезла, теперь они шли по каменистому руслу высохшего потока. Сосны стали приземистыми и смешивались с кустами можжевельника. Гигантская луна, выглянувшая из-за гор, очерчивала своим серебристым светом застывшие тени скал и движущиеся тени путников. Шеннон, впервые спокойный после душевного кризиса во Флоренции, уверенно шагал навстречу тому, что могло стать его судьбой.
Наконец ущелье вырвалось на простор, в долину, покрытую нежной травой, и осел, громко прокричав, потянулся своими толстыми губами к звездам. Посреди долины раскинулось широкое зеркало, залитое светом. Животное склонилось к воде попить, и жидкое серебро заколыхалось, словно шелк на вотру. Недвижная и четко очерченная фигура женщины казалась еще более целомудренной и призрачной. Осел направился дальше, а Шеннон подошел к самому краю берега. Потрясенный до глубины души, он долго любовался этим водяным чудом среди скал, этой нежностью, упрятанной в каменное сердце. Когда он поднял глаза, женщина уже скрылась из виду.
Но путь вперед был закрыт! По ту сторону озера виднелась узкая полоска земли и отвесная скала, казавшаяся металлической от лунного блеска. Шеннон побежал вдоль берега. Постепенно скала расступилась перед ним, будто Чермное море из камня. Его это поразило, но он тут же понял, что издали принял за гладкую поверхность ровное лунное сияние; вытесняя тени, оно создавало впечатление иллюзорной стены, которая по мере его приближения раскалывалась, будто от удара шпагой или от магического заклинания.
Узкая расщелина открывала путь в совсем иной мир: без скал, без света, без насилия. Только луна да туман, невыразимая гармония и покой. В безмятежной ночной тишине перед взором Шеннона, затопляя подножие горы, простиралось белоснежное море лунного сияния; необозримое туманное поле, осевшее в чашу гор невесомой гущей паров. Вдали, наподобие архипелага, всплывало несколько вершин, смыкавшихся с едва заметными очертаниями соседних хребтов. Глубина ущелья, уходящая вниз, и бездонность неба у него над головой, казалось, оправдывали его путь к горе вслед за посланником богов.
Он ждал его там в образе женщины. Зачарованный Шеннон приблизился к нему, попав в тот мир, полный неги и света, в котором перед ним наконец предстало девичье лицо, озаренное лупой. Как оно могло столько времени оставаться в тени?
— Мы уже пришли? — вырвался у него нелепый вопрос.
— Там, внизу, река, — ответила она шепотом. — Не знаю только…
Она произнесла это неуверенно, будто искала у него поддержки. Будто вся ее враждебность и недоверие остались по ту сторону расщелины.
— Спустимся вниз и найдем ее, — успокоил Шеннон девушку, — Все, кто спускается вниз, находят реку.
Он взял осла под уздцы и окунулся в туман, который тут же поглотил их, окутав белой влагой. Она колыхалась и рассеивалась, то открывая, то пряча призраки сосен, словно водоросли в глубине озера. Изредка сквозь густой туман пробивалась луна.
Они шли в тишине, словно заблудшие дети. Единственным проводником им служил бесконечный спуск, петляющий из-за крутизны и одиноких скал. Но вот спуск стал более пологим, вдали показался красноватый свет. Шеннон вздрогнул, будто от внезапного удара, будто чему-то пришел конец.
— Это ваши, наверное, — сказал он. — Мне, пожалуй, лучше расстаться с вами здесь.
— Погодите немного! — почти умоляюще попросила она.
— Кто идет? — окликнули их у костра.
— Американец? — живо отозвалась девушка. — Это я, Паула.
Закричал осел, и снова Шеннон последовал за ней, шепотом повторяя только что услышанное имя: «Паула, Паула».
Огонь куполом врезался в густой туман. От группы спящих людей отделился человек и пошел им навстречу. Он был высок, поджар, с жилистыми руками. В отблесках огня его лицо казалось скуластым, зато тонкие губы совсем пропадали под лоснящейся щетиной, небритой несколько дней.
— Что-нибудь случилось, Паула? — спросил он. — А где Ткач?
— Его взялся подвезти в Вильянуэву возчик.
— А ты? Разве ты не собиралась к своим, в Саорехас?
— Нет. — И еще раз, уже совсем решительно повторила: — Нет.
Американец перевел взгляд на Шеннона.
— Кто этот человек?
— Он сделал перевязку Ткачу. И помог нам.
— Меня зовут Шеннон. Рой Шеннон. Я подумал, что не следует ее бросать одну в горах. Но теперь, когда она уже здесь…
— Подсаживайтесь к огню, приятель. Ночь но для прогулок.
Паула, распрягавшая осла, обернулась к пим.
— Очень сильный туман, — сказала она.
И впервые улыбнулась. Ее лицо, порозовевшее от огня, стало более женственным, чем при свете лупы. «Какие у нее черные волосы!» — промелькнуло в голове Шеннона, пока он благодарил мужчину за гостеприимство.
— Шеннон… Вы англичанин или американец?
— Ирландец.
Паула привязала осла к сосне; туман уже начал обволакивать ее, словно желая скрыть. Она стала разворачивать плед.
— У меня есть отличный спальный мешок. Хотите им воспользоваться? — предложил Шеннон.
— Кто? Я? — засмеялась Паула, собираясь отказаться.
Но при виде спального мешка не устояла, словно маленькая девочка перед новой игрушкой.
— Не так-то ото просто! — восклицала она, пока Шеннон показывал ей, как им пользоваться. — Настоящая постель, — сказала она Шеннону, наконец устроившись. Затем, помолчав минуту, проговорила то, что, вероятно, нелегко ей далось: — Если бы не вы там, наверху… Ладно… Спокойной ночи.
Возвращаясь к костру, Шеннон увидел, как один из спящих приподнялся. Он был так безобразен, так чудовищен, что Шеннон подумал: «Может, я все еще в стране мифов, а те двое, наверное, карлики?» Он снова перевел взгляд на странное существо, но оно уже превратилось в бугор, укрытый бурым пледом.
Американец поджидал его у костра.
— Хотите перекусить?
— Спасибо. У меня еще есть хлеб, который я купил в Вильянуэве, и банка мясных консервов.
— Это намного лучше того, что могу предложить вам я, — улыбнулся мужчина, показав золотой зуб, блеснувший в свете костра. — У нас, сплавщиков, вы не найдете ничего, кроме оливок, лука да трески… Для такого господина, как вы, это не еда.
«Горд и полон достоинства, — подумал Шеннон, — как владетельный сеньор. В здешних краях это не редкость, особенно среди бедняков». Ему тоже следовало быть на высоте.
— На войне для меня такая еда нередко была настоящим пиршеством.
— А, на войне! — только и сказал Американец.
«Интересно, что он имел в виду? — подумал Шеннон.
Для многих война — это выстрелы, опасность, смерть. Если бы только это, куда ни шло. Но в ней есть и еще что-то, иное: что-то бесчеловечное, что-то… Нет, нет, нельзя думать об этом, — осадил он себя. — Надо все забыть. Как только что в горах. И так жить дальше».
— Пейте, — предложил Американец. — Оно немного терпкое, зато доброе.
И протянул Шеннону испанскую «флягу» — маленький мех для вина с горлышком из рога.
— Я еще не умею пить из таких, — сказал Шеннон, прежде чем поднести флягу к губам.
— Научитесь, если поживете в Испании.
— Вы не спите из-за меня.
— Не велика беда! Я вообще мало сплю.
Должно быть, он действительно мало спал, этот худощавый, аскетического вида человек, не докучавший Шеннону своими расспросами, пока тот ел. В тишине до них иногда доносилось журчание реки, обложенной туманом, словно ватой. Американец протянул к огню ноги, обутые в альпаргаты из дрока, завязанные на голой щиколотке у самых брюк. Совсем как у раненого, там, наверху…
«Наверху, — подумал Шеннон. Неужели прошло всего несколько часов?» Но как далек стал от него тот, другой мир, в котором он жил до сих пор! Что ждет его в этом новом мире; мире этой девушки, тумана, этих бесформенных существ и карликов? Шеннон вновь почувствовал интерес к жизни.
— Мне еще никогда не приходилось видеть сплавного леса.
— Любопытное зрелище.
«Зрелище, — заметил про себя Шеннон, — странно слышать это слово здесь, в стане едва ли не босых людей». Но думать ни о чем не хотелось. Безмерная усталость обрушилась на него. Он пожелал спокойной ночи Американцу.
Тот сдержанно ответил, подкинул в костер дров, чтобы огонь горел до утра, и лег спать. Шеннон завернулся в плед и тоже улегся спиной к огню. «Плед девушки, — промелькнуло у него в голове, — тот самый, в который она была закутана, когда увлекала меня в свой мир. А может быть, он волшебный?» Но никакого волшебства не произошло. От пледа исходил запах душистого можжевельника, хвои, слегка отдающий шерстью осла. Какую жизнь ведет эта женщина среди сплавщиков?
Оп ужо почти погрузился в сон, когда до него донесся голос Американца:
— Послушай… Паула… Ты ведь не спишь, верно?
— Нет, — не сразу отозвалась она, всхлипывая.
— Что с тобой, Паула?.. Почему ты не пошла домой… к своим?
— У меня… у меня там никого нет.
— Как? Ты же сама говорила мне…
Его прервал плач девушки. Шеннон услышал, как Американец подошел к ней. Захлебываясь слезами, она не переставала твердить:
— Нет у меня никого. Нет у меня никого на всем белом свете… Ах, сеньор Франсиско, уж лучше бы я умерла!
— Такая молодая! Не стыдно тебе так говорить? Послушай…
Дальше Шеннон ничего не смог разобрать. Паула, горестно всхлипывая, что-то говорила Американцу. Тот утешал ее. Еще одна тайна, с которой уже не могла справиться его растущая усталость, коварный сон, наконец овладевший Шенноном.
Сначала он спал крепко. Затем ему почудилось, то ли во сне, то ли наяву, будто спавшие у костра задвигались и исчезли. Сам же он шел и шел по незнакомой туманной планете за чем-то, что было иногда тенью, иногда светом, пока вдруг, чудом, какое бывает только во сне, не очутился перед прекрасным видением: золотисто-лазурной бухтой на одном из островов средиземноморского архипелага. Она покоилась под ясным солнцем, сосны карабкались вверх по скалистому мысу, на вершине которого возвышались разрушенные колонны храма, воздвигнутого в честь древних богов, сотворенных по образу и подобию человека. Глядя на этот мир, такой ясный, такой незыблемый, Шеннон понял, что наконец достиг своей цели. И заснул под благодатной сенью сосны на золотом песке.
ГЭНЬ
это гора, семя, раскрывающаяся дверь, птица с черным клювом, крепкое, сучкастое дерево. Это северо-запад, это зима. (Комментарии к «Ицзин», «Книге перемен»)1 Ла-Эскалеруэла
Шеннон проснулся от холода, приоткрыл веки — и не поверил своим глазам: по реке шел человек. Он спокойно ступал по воде, продвигаясь вперед сквозь рассеивающуюся пелену тумана. Пораженный, Шеннон приподнялся, думая, что все еще спит. Но тут же понял: человек идет по бревнам. Шеннон сбросил с себя плед, посребренный инеем, и вскочил на ноги.
Вся река была устлана, словно паркетом, оголенными стволами длинных прямых сосен. Человек легко переходил от берега к берегу, временами опираясь на багор с острым наконечником. Русло реки в этом месте было слишком узким, а течение чересчур быстрым, и бревна наползали друг на друга. Огромный ствол, ставший поперек реки, преградил путь остальным бревнам, освободив зеленое пространство мутной воды. Человек легко подцепил крюком конец этого ствола, устраняя помеху, и скопище бревен вновь устремилось вперед.
— Выспались?
Шеннон обернулся и увидел Паулу. Сероватый свет утра делал ее лицо совсем юным, а взгляд — почти робким. Однако плотно сжатые губы, упругая грудь и ссадины на руках свидетельствовали о том, что она истинная горянка.
— А где остальные?
— Они пошли в обход скалы. Сегодня им предстоит тяжелая работа. Ущелье Ла-Эскалеруэла очень опасное место. — Она заправила под платок выбившиеся пряди волос и предложила: — Хотите позавтракать молоком? Американец оставил немного для вас из того, что нам дал вчера вечером пастух.
И показала на чугунок, придвинутый к горячим углям. Затем достала из дорожной котомки начатую буханку хлеба.
Пока Шеннон сворачивал плод и укладывал свои вещи в мешок, Паула бросила в кипящее молоко тонкие ломти хлеба.
— Не надо. Не беспокойтесь.
— Почему не надо?.. Американец велел накормить вас.
— Ну что вы! Не стоит обо мне беспокоиться.
В наступившем молчании слышались лишь стук сталкивающихся бревен да плеск воды. Наконец Паула проговорила тихим грудным голосом:
— Вы ведь вчера побеспокоились обо мне.
— Ба! Сравнили… — вырвалось у Шеннона. — Вы другое дело.
Она протянула ему миску и, резко закрыв пастушью наваху, безо всякого стеснения сунула ее за пазуху.
— А вы не хотите со мной позавтракать? — спросил Шеннон. И попытался представить себе острую сталь ножа, прильнувшую к груди девушки.
— Я уже позавтракала с мужчинами, — ответила она, направляясь к реке с пустым чугунком.
Шеннон увидел ее на сером фоне острых скал. Отсюда, снизу, сосны наверху казались маленькими. Воздух был насыщен запахом влажного кустарника.
Паула опустилась на колени, с силой оттолкнула от себя бревно и погрузила чугунок в воду. Выцветшее черное платье облегало девичью фигуру. А нож, притаившийся у нее на груди!
— Мне как-то совестно есть одному, — сказал Шеннон, когда она вернулась. — Будто я какой-нибудь бездельник, лоботряс.
— Ерунда! — равнодушно ответила она. Но тут же, сложив на юбке руки и прислонившись спиной к сосне, изящно изогнулась, устремив взгляд на Шеннона и сразу вдруг став привлекательной, почти доступной и вместе с тем, хотела она того или нет, необыкновенно женственной. На паутине, раскинувшейся поверх соседнего куста, туман рассыпал чудесный жемчуг. Может быть, поэтому у Шеннона вырвались слова, прозвучавшие неуместно в этом ущелье. А может быть, потому, что он отвык разговаривать с женщинами.
— Выходит, вы остались здесь ради меня?
— Я осталась, чтобы вернуть вам спальный мешок, — ответила она ему не слишком любезно.
— Напрасно… Могли бы взять его себе.
Да, он произнес эти слова, изменил своему верному боевому другу, познавшему его пот и даже его кровь. И отдал должное суровому, спокойному ответу Паулы.
— Это невозможно.
Может быть, слишком суровому, слишком холодному, развеявшему все его мечты.
Не зная что сказать, Шеннон спустился к реке сполоснуть миску. Резкий порыв ветра обдал его у воды, и, взглянув на небо, он увидел быстро бегущие мрачные тучи. Наверху сильно качались сосны. Вернувшись к костру, Шеннон решил переменить тему разговора.
— Среди ваших сплавщиков есть карлики? Ночью мне показалось…
— Карлики? Разве что бедный Сантьяго, он горбатый…
Теперь стало ясно, почему его туловище казалось таким бесформенным. В эту минуту раздвинулись ветви, и Паула добавила:
— А вот и еще одни!
Из кустов ивняка вынырнул мальчик лет восьми с ежиком густых коротко стриженных волос и смышленым лицом. Тощая шея торчала из непомерно большой вытертой куртки. Костлявые щиколотки выглядывали из-под узких вельветовых брюк.
— Что случилось, Обжорка?
— Горбун велел мне забрать то, что тут осталось, — ответил мальчик довольно грубым для своего возраста голосом.
— Здесь одни котомки. Я сама захвачу их.
Мальчик исчез в кустах. Внезапно луч солнца зажег зимним золотом макушки скал. «Как повеселели сосны», — подумал Шеннон. И вдруг, спохватившись, вспомнил, что ему надо уходить.
— Ну что ж! Пора прощаться, верно?
— Уже уходите? Сейчас?
В ее голосе звучало такое искреннее удивление, что Шеннон заколебался. Не почудилось ли ему?
— Не знаю… Сам не знаю, что мне делать…
— Не знаете?
— Уже целый месяц не знаю. Правда.
Паула внимательно посмотрела на пего. Недоверчиво, почти насмешливо. Ему хотелось заставить ее подчиниться себе, но он не решался. Паула задала вполне уместный вопрос:
— Вы больны?
— Возможно, — ответил Шеннон.
И ему показалось, что девушка как-то сразу потеплела: с ее лица исчезла настороженность, движения стали мягче. И хотя она не догадывалась, какой смысл вкладывает он в свои слова, однако произнесла именно то, что он хотел от нее услышать.
— Зачем вам торопиться? Посмотрите, как работают сплавщики.
Они вошли в заросли ивняка. Шеннон со своей поклажей. Паула — с пледом и котомками. Они шли друг за другом по тропинке, вниз по течению реки, как прошлую ночь, ставшую уже такой далекой. На берегу, покрытом галькой, их поджидал мальчик.
— Давай я понесу, а то Горбун будет ругаться, если увидит, что ты так нагружена.
— Я тебя в обиду не дам.
Впрочем, мальчик поджидал ее здесь, чтобы сказать совсем о другом. Он произнес это с трудом, глядя на Паулу с тем искренним обожанием, на какое способны лишь дети.
— Я рад, что ты не ушла.
Паула молча погладила его по густому ежику волос. Снизу на нее смотрели голубые глаза, светившиеся любовью.
— Говорят, ты идешь с нами.
— Кто говорит?
— Да все. Только об этом и твердят.
И действительно, когда они проходили мимо двух сплавщиков, нетрудно было догадаться, что речь велась именно о ней. Шеннон снова удивился пребыванию этой девушки среди мужчин; вспомнил ее плач и ночной разговор с Американцем.
— Вы ведь не с самого начала идете со сплавщиками?
— Нет.
— Паула пришла к нам уже в Фуэнте-дель-Берро за Поведой, — пояснил мальчик, — А мы погнали сплав от усадьбы Бельвалье, что у Паралехоса. А правда, что вы англичанин?
— Нет, я из Ирландии.
— Американец говорит, что это все равно что Англия.
Стало быть, разговор велся не только о Пауле, но и о нем, промелькнуло в голове у Шеннона. Неторопливый разговор с длинными паузами, повторами, междометиями, характерными для народной речи. Было похоже, что возвращение Паулы явилось для всех событием.
Когда мальчик остановился, солнце уже достигло середины скалы. Они стояли у входа в узкую теснину, где река снова скрывалась за уступом. Несколько сплавщиков во главе с Американцем трудились тут в поте лица.
— Эй! — приветствовал их Американец, помахав рукой. — Пришли взглянуть на нашу работу?
Он говорил дружелюбно, зато во взглядах других мужчин под видимым равнодушием таилось недовольство. Бородатые, в шляпах, под которыми были повязаны платки, вооруженные баграми, словно копьями, в брюках, завязанных у щиколоток, они напоминали всадников, готовых вот-вот оседлать коней, чтобы пуститься в рискованное приключение. Достойным фоном для этих фигур были дикая местность и стук бревен, служивших им зыбкой палубой.
— Добрый день! — поздоровался Шеннон, меж тем как мальчик и Паула направились к новой стоянке, разбитой на берегу. — Я вам не помешаю?
— Что вы! — ответил Американец. — Идите сюда, посмотрите, какие мы соорудили запруды. Надо будет сделать еще две таких же в этом ущелье.
Они прошли берегом еще ниже по течению. Здесь, в скалистом русле, чтобы поднять уровень воды, была построена запруда из наклонных бревен. Поражало то, что это сооружение, напоминавшее постройку из гигантских зубочисток, держалось без гвоздей и веревок. Шеннон выразил свое удивление Американцу.
— Так и есть. Запруду делают из бревен, но необходима большая сноровка. Сила течения поддерживает их, как сила тяжести — каменную кладку арки.
Шеннон еще раз подивился тому, как изъясняется этот сплавщик, и вспомнил о его вчерашней учтивости. Судя по прозвищу, он, должно быть, много ездил по свету.
— Эй, Сухопарый, пора двигать! — крикнул он кому-то тем временем, — Идите делать запруду на нижнем уступе. Оставь мне Четырехпалого, Дамасо и Двужильного на случай, если тут образуется затор.
— А один боишься, Американец? — пошутил сплавщик. — Двужильный выше по течению, за скалой.
— Лукас, скажи ему, пусть идет сюда, а сам последи, чтобы там все было в порядке.
— Иду, — откликнулся совсем еще безбородый юнец, направляясь вверх по течению.
— Готово? — спросил Американец. — Пускай, Кривой! Сплавщик, стоявший на двух бревнах, положенных на манер мостков, посмотрел перед собой и протяжно прокричал:
— Бревно иде-е-ет!
Его крик еще отдавался эхом, заставляя взлетать огромных черных птиц, шумно хлопавших крыльями, а он уже поддел багром ствол и подтолкнул его к узкому проходу. Ствол легко заскользил вниз, словно судно, спущенное на воду. За ним последовали другие. Постепенно весь сплавной лес пришел в движение.
Сухопарый подошел к Американцу, утирая пот.
— Черт бы побрал эту Эскалеруэлу! С каждым годом здесь становится все труднее! Нас и так раз-два и обчелся, да еще этого Ткача угораздило придавить себе ногу! Когда человек рядом, его не замечаешь, а стоит его лишиться, сразу начинаешь ценить.
Это был худощавый мужчина, переваливший за сорок. И хотя он выглядел гораздо старше своих лет, тело его было крепким, мускулистым. Американец улыбнулся, обнажив золотой зуб.
— Иди, Сухопарый, ты ведь не робкого десятка.
— Я не трус, черт подери! Но нас слишком мало, чтобы справиться с такой рекой.
— А как работает Белобрысый?
Сухопарый оживился.
— Этот настоящий сплавщик, скоро меня за пояс заткнет. Но все равно нас слишком мало.
— Может, на худой конец, я помогу?.. — неожиданно для себя предложил Шеннон.
Сухопарый вскинул свою всклокоченную бороду и оглядел его с головы до ног. Без прежней неприязни, но и без особого восторга.
— Благодарствуйте. А вы знаете, за что беретесь? Работа ведущего — самая опасная для сплавщика. Упадешь в воду — пиши пропало.
— Знаю, что не из легких. Но мне уже приходилось иметь дело с реками. Даже зимой, когда на берегу был снег, в Италии.
— Что ж! Попробуйте теперь на Тахо.
Сказав это, Сухопарый отправился за своими товарищами вниз по течению. Американец обернулся к Шеннону.
— Спасибо вам, нас действительно очень мало. Но Сухопарый прав, работа у нас опасная.
Не успел Шеннон ответить, как раздался чей-то резкий, неприятный голос:
— Ты еще раздумываешь, вожак? Дай ему багор, и пусть зарабатывает себе на хлеб. Зевак и без него здесь хватает!
Кричал мужчина, стоявший в самом начале сплава. Шеннон удивился:
— Неужели пас слышно на таком расстоянии?
— Не думаю. Это Дамасо. Ох уж этот Дамасо!.. — раздумчиво произнес Американец. — Иногда мне кажется, что он вездесущ.
— Ну что ж, давайте попробую орудовать багром.
— Не надо. Здесь я сам, — решительно возразил Американец. — Надо им помочь.
Чуть ближе к скату еще один мосток пересекал реку. Па нем стоял сплавщик и багром выпрямлял стволы, чтобы Дамасо легче было подталкивать их вперед. Это был мужчина лет тридцати с голубоватыми водянистыми глазками, едва видимыми на заросшем бородой лице.
— Добрый день, приятель, — поздоровался он с Шенноном елейным голосом.
— Я займу твое место, Четырехпалый, — сказал ему Американец, — и буду расчищать дорогу Дамасо. Ты подгоняй мне бревна слева, а этот человек будет направлять их с того берега.
— Эй! Как тебя зовут? — снова послышался резкий голос Дамасо. Вблизи особенно бросалось в глаза злобное выражение лица этого полуфавна с топкими поджатыми губами, слегка растянутыми в усмешке, и черными, как уголь, глазами. Казалось, будто этот человек обладал шестым чувством: непонятно было, как ому удается одновременно орудовать багром и не сводить пристального взгляда с Шеннона.
— Шеннон. Рои Шеннон.
— Фу ты! Язык сломаешь! — с издевкой произнес он. — Будем звать тебя Англичанин.
— Я ирландец, — возразил ему Шеннон.
— Подавайте мне бревна так, чтобы они все время шли по течению, — перебил их Американец. — Тогда мне легче будет направлять их Дамасо.
— Хорошо. Только говорите мне «ты», как всем.
— Вот-вот, — снова раздался язвительный голос, — «тыкай» ему, раз он просит. Хорошие люди эти англичане! Выиграли войну, а ничуть не зазнались!
Шеннон предпочел промолчать и взялся за дело. Деревянный почти двухметровый багор имел железный наконечник с толстым шипом, чтобы отталкивать стволы; с другого бока торчал крюк, которым бревна подтягивали к себе. Однако, как Шеннон ни старался подцепить ствол, он, как назло, выскальзывал и вращался вокруг собственной оси, ускользая от крюка, И хуже всего было то, что при каждой новой попытке Шеннону грозила опасность потерять равновесие и упасть в воду.
В те минуты, когда стволы шли хорошо, он восхищался ловкостью и силой других. Резким ударом Американец вонзал багор в ствол и, выпрямляя его, направлял к Дамасо, а тот толкал его дальше по течению. Раздавались удары, всплески, со стуком сталкивались стволы, непрерывно грохотала река. Солнце, пробиваясь сквозь скалы, освещало мокрые хребты стволов.
Явился сплавщик, за которым посылал Американец. Американец уступил ему место, а сам новел Шеннона вверх по течению, где за скалистым уступом Лукас не давал скопиться бревнам.
— Молодчина! — похвалил его Американец. — Я назначу тебе плату, как взрослому.
— Спасибо, артельный.
— Как он вас назвал? — удивился Шеннон.
— Артельный. Я командую артелью «ведущих», которая идет впереди сплавного леса и строит запруды, чтобы избежать заторов. В конце сплавного леса идет артель «замыкающих». Она разбирает паши постройки и следит за тем, чтобы на реке не осталось бревен. Между нами идет основная часть сплавщиков. А над всеми нами стоит капитан сплавного леса, он отвечает за весь сплав.
— Эй! Нам сигналят! — крикнул им Лукас, не прекращая работы.
Ниже по течению, у самого ската, Четырехпалый, взобравшись на скалу, делал им какие-то знаки.
— Перерыв на обед, — сказал Лукас.
Пока они шли к лагерю, Американец объяснил, что на расстоянии они переговариваются с помощью давно установленной сигнализации. Когда они пришли, вся артель уже собралась под тополями у подножия скалы. Завидев их, седой старик с круглым красным лицом прокричал:
— За еду, братья! Сам аббат пожаловал!
— Что, проголодался, Балагур? — спросил Американец.
— Кто! Я? Да разве сплавщик бывает когда-нибудь голоден? — и, взглянув на Шеннона, заключил: — У пас ведь не жизнь, а малина, дружище! Сам увидишь! Хлебнешь немного — живо поперхнешься!
— Бывает и похуже, — возразил Шеннон.
— Но бывает и получше. Вот только смерть не дает нам покоя: так и ходит по пятам.
Он говорил посмеиваясь, под дружный хохот собравшихся. Заметив, что Шеннон собирается достать из своего вещевого мешка съестные припасы, Балагур запротестовал:
— Нет, так дело не пойдет. Оставь свои крохи при себе, ешь из общего котла. Сплавщик хоть и беден, но для товарища у него всегда найдется кусок.
Американец поддержал его, и Шеннон принял их приглашение. В наступившем молчании Шеннон особенно остро ощущал устремленные на него взгляды. Всякий раз, когда он пытался сблизиться с испанцами, у него возникало такое чувство, будто они хотели заранее узнать, чего он стоит. Появление Горбуна со сковородой, полной зажаренных ломтиков хлеба, отвлекло их внимание.
Каждый достал свою наваху и ложку. Обжорка обнес всех хлебом. Американец первым опустил ложку в котел, его примеру последовали другие.
Балагур объяснил Шеннону, что поджаренные в оливковом масле ломтики хлеба — одно из любимых блюд сплавщиков, и едят они его каждый день. Кроме того, в зависимости от времени года они едят салат, бобы и дикую спаржу; но в марте и горах ничего этого нет. Люди ели молча, поглощенные едой, словно псы — костью. Всего мужчин, вместе с Американцем, было десять, Лукас — одиннадцатый. Паула ела в стороне вместе с Горбуном и мальчиком.
Едва ложки заскребли по дну, кто-то попросил пить, и фляга с вином стала переходить из рук в руки. Тут-то и произошел неприятный случай. Когда пришла очередь Дамасо, он наклонил флягу таким образом, чтобы струя вина угодила в лицо и на куртку Шеннона. Дружный взрыв грубого хохота сменился напряженным молчанием. Дамасо забормотал слова притворных извинений, но его прервал суровый голос Американца:
— Ты уже выпил свою долю, Дамасо. Передавай флягу дальше.
Но Шеннон вместо того, чтобы взять флягу, поднялся. Крылья его носа дрожали, как тогда в Катании, как в Сульмоне.
— Нет уж погодите, — прервал он всех. — Если это была шутка, я готов посмеяться с вами. А если нет, — пожалуй, нам не помешает потолковать с глазу на глаз: ему и мне.
Американец снова вмешался в разговор, глухо проговорив:
— Я уверен, что это была шутка.
— Ну что ж! А как считают другие?
Он обвел взглядом всех, но не обнаружил на лицах и тени насмешки. Разгневанная Паула тоже поднялась, застыв в напряженной позе.
— Вот видишь, — заключил Американец, — все согласны со мной.
— Тогда пусть скажет он сам! — запальчиво воскликнул Шеннон, указывая на Дамасо.
— Не сердись, Англичанин, — спасовал Дамасо. — Уж такой мы, сплавщики, дурной народ.
— Ты про себя говори. Остальные мне не сделали ничего плохого.
— Хе! Ну пусть я дурной, — еще раз уступил Дамасо, но тут же, задетый за живое, взбеленился: — Знаешь что, не очень-то задавайся, Англичанин.
Шеннон секунду помедлил, словно желая окончательно удостовериться в искренности его слов. Но напряжение уже разрядилось. В разговор вмешался Балагур.
— Только, пожалуйста, не убивайте друг друга, друзья! Нас и без того мало. Не хватает потерять еще двоих.
Успокоенная Паула села. Кто-то улыбнулся, и по глазам Американца Шеннон понял, что все в порядке. Он уселся на прежнее место.
— Пить не умеете, разрази вас гром, только насмешили, — сказал Кривой, поднимая свое изуродованное лицо с красноватыми веками, сомкнувшимися над пустой глазницей, от которой к уху шел толстый рубец. И добавил с дурашливой улыбкой: — Пей ты, Балагур, пусть поучатся.
Вмешательство Кривого оказалось как нельзя кстати — прежде чем пригубить вина из фляги, Кинтин всех рассмешил, с ужимками продекламировав:
О лозы благородное чадо! Ты вбираешь соки земли, чтобы добрые люди порою от тебя на карачках ползли! Но клянусь головою: нет цены тебе, даже если ты даровое![2]Ссора была забыта, а расположение к Шеннону еще больше возросло, когда по случаю знакомства он вручил Горбуну несколько песет, чтобы при первой же возможности тот купил на всех табака. Поступок ирландца убедил сплавщиков в том, что он от них не уйдет. А чтобы у них не оставалось никаких сомнений на этот счет, сразу же после еды Шеннон пообещал Американцу помочь прогнать лес по Ла-Эскалеруэле, раз уж это такое трудное место.
А место действительно было трудное: Тахо в своем верховье не тихая река, текущая среди холмов, а бурная, сильная, пробивающая ущелье в скалистом плато. Она неустанно подтачивает каменный утес, прыгая по уступам, словно по ступенькам лестницы, за что этот участок и прозвали Ла-Эскалеруэла[3]. И сила реки не убывает, о чем свидетельствует хаотичный вид наполовину завершенного ею творения: размытые земли у подножия скалистого берега, громадные камни, скатывающиеся на середину русла, где неистово пенится вода. Бурная река устремляется вперед, предпочитая уединение среди жутких стен, отгораживающих ее от возделанных нолей плоскогорья и его обитателей, чтобы ее не обуздали плотинами и мостами, пусть даже для пользы или с выгодой. Селения сторонятся ее, напуганные крутыми водопадами и устрашенные наводнениями. Разве что пастух или странник отважатся приблизиться к ней по необходимости. Только сплавщики бросают ей вызов: кажется, будто она свирепеет, сбрасывая со своих гребней бревна, еще яростнее обрушиваясь на пастырей плавучего леса.
Шеннона поставили на самый легкий участок, туда, где работал Лукас. Это был смышленый парень, довольно низкорослый для своих шестнадцати лет.
— И чего ты, такой молодой, решил пойти на эту работу?
— Подумаешь! Обжорка еще младше меня.
— Обжорка — мальчишка, он здесь с отцом.
— А у меня отца нет. Что мне оставалось делать?
Разговор прерывался паузами — нужно было следить за стволами, которые то извивались, словно безмолвные змеи, то сталкивались, наползая друг на друга. Иногда вода заливала их на миг, но тут же снова стекала по бокам, и они блестели на солнце.
— Другой работы не нашлось?
— У меня в деревне земли нет. Вообще ничего нет. Здесь меня хоть за человека считают.
Шеннон уже знал, что прибрежные жители побаиваются сплавщиков — кочевников и мародеров, — но делают вид, что презирают их.
— Если бы я был постарше, — продолжал парень, — я мог бы стать лесорубом, как отец.
— Твой отец был лесоруб?
— Да, но не из тех, кто торгует дровами или пережигает их на уголь, он валил лес на корню. Вот его и пришибло. Свалилось подрубленное дерево и придавило.
Ненадолго река освободилась от стволов, и Лукас мог говорить не прерываясь.
— Это случилось позапрошлую зиму. Как сейчас помню, в то утро он вышел, чтобы сесть на грузовик, который отвозил их в горы, и хотел меня за что-то отругать… Мне всегда от него доставалось. Говорили даже, что я ему не родной, понимаете? Эй, разбейте те белые бревна, будет затор!
Шеннон растерялся. Он еще не научился, подобно сплавщикам, находить среди этой массы нужный ствол, как находит пастух в своем стаде нужную овцу. Сплавщики наделяли бревна удивительно меткими кличками: облезлое, пузатое, кургузое, лысое, толстокожее, сучкастое…
Лукас молча разбивал повое скопление бревен. А Шеннон представил себе, как от чудовищных ударов топором содрогается земля, как дрожит от падающих на нее деревьев и, наконец, склон, точно кладбище крестами, покрывается пнями, испускающими свой последний смолистый дух, как в конце весны.
— А когда начинают сплав леса? — спросил он у Лукаса.
— Зимой стволы сохнут на открытом воздухе, а как только снег стает, их сбрасывают в воду. Как говорится: «Март на дворе — сплав на воде». Люди нанимаются в сплавщики, пьют на дорогу для храбрости и — смело! — в путь… Я не знал, куда мне податься, и тоже нанялся… Что мне еще оставалось? У меня ведь ни кола ни двора. Мать пошла служанкой к управляющему… Ее в деревне не любят, она у меня из Валенсии, белокожая. Не такая чумазая, как жители гор. Вот вернусь после сплава — пусть только кто-нибудь посмеет сказать о ней хоть одно дурное слово… Глядите, глядите, нам сигналят!
Выше но течению, у начала Ла-Эскалеруэлы, один из сплавщиков идущей следом за ними артели стоял на вершине скалы it делал им какие-то знаки. Лукас помахал ему рукой, давая знать, что понял, и тот скрылся.
— Это наш почтарь, — пояснил парень, — его зовут Фелипе.
Взобравшись на скалу, Лукас просигналил своим товарищам, работавшим ниже по течению. А затем пояснил Шеннону, что Фелнпе держит связь с их семьями и близкими, оставшимися в селениях.
— Наш душеприказчик, — заключил Лукас, — через него передают даже ласку.
— Как это?
— Ну, всякие там ласковые слова, которые мужья говорят своим женам. Или небылицы, которые плетут парни своим невестам.
— А у тебя есть невеста?
— Не то чтобы невеста. Разве что так, для поцелуев.
— И письма он носит?
— Зачем? У нас и читать-то никто не умеет. Он сам все передает нам на словах. Ему можно доверять, он не из трепачей. Как бы я хотел научиться читать! Как вы. Мне не тю душе такая работа, — признался он.
Шеннон подумал о том, что было бы неплохо обучить грамоте этого парня, но где взять время. Он продолжал работать. Солнце уже спряталось за скалу, и в воздухе поплыла голубоватая печальная дымка. Не успели нм просигналить об окончании работы, как из-за Ла-Эскалеруэлы вынырнул почтарь, ведущий за недоуздок осла.
Вместе они спустились к запруде. Вся артель уже собралась на повой стоянке. Церемонность, с какой раскланялся со всеми почтарь, вызвала у Шеннона раздражение, однако сплавщики приняли ее как должное. Затем он развязал свой мешок и стал извлекать оттуда свертки, узелки, пакеты и вручать их по назначению. Получив свое, каждый отходил в укромный уголок и там расшифровывал только ему одному понятные послания: несколько маленьких камешков, завязанных в узелок, означали, что надо выслать столько же монет; карандашные знаки сообщали о чем-то очень интимном… Даже Дамасо — почему-то никак не верилось, что у этого человека может быть семья! — тоже изучал присланный ему сверток.
Однако послания пришли не всем. Ничего не получили Американец, Горбун, занятый приготовлением ужина, и Паула…
— Наше дело холостяцкое, — пошутил Американец. — Впрочем, у вас, наверное, есть семья, только далеко отсюда?
— В Ирландии у меня родня, но не близкая. А у вас?
В их разговоре не было непринужденности, хотя с другими сплавщиками Шеннон уже перешел на «ты».
— Никого.
— И у Горбуна тоже?
— Бедняга Горбун!
— А у Паулы?
— Ах, Паула! Эта девушка… Как вам сказать… Тут все непросто.
Сухопарый, помощник артельного, подошел к почтарю, восседавшему на камне, как на тропе, и они о чем-то зашептались, тесно сблизив головы. Время от времени Сухопарый выразительно жестикулировал.
— Секретничают, — пояснил Американец Шеннону. — Так у нас передают любовные послания. Могу побиться об заклад, Сухопарый сейчас слушает, что сообщает возлюбленная, которая осталась в деревне.
— А разве он не женат?
— Да ведь он жуткий бабник! Волочится за каждой юбкой. Ни одной не упустит… Смотрите, смотрите, как он размахивает руками.
— И она не постеснялась передать через чужого человека свое послание?..
— Да какое! От него и карабинер покраснел бы. Ее насильно выдали замуж за богатого старика. Ей не позавидуешь. Когда почтарь приходил сюда в прошлый раз, Сухопарый хвастал мне, будто она ждет не дождется его возвращения, чтобы… Вы и представить себе не можете!.. А что вы хотите! Для Сухопарого не существует ничего другого в этой жизни, да и в иной, думаю, тоже. Как, впрочем, и для его возлюбленных.
Сухопарый уступил место Балагуру и, отойдя немного в сторону, улегся на спину. Он прикрыл лицо шляпой, сунув под нее цветастый платок, присланный ему в пакете. Положил руки под голову и застыл в неподвижности.
— Мечты… мечты… — прошептал Американец, устремив взгляд вдаль.
— Почему бы вам не посидеть с холостяками? — сказал Шеннон Пауле.
Девушка подошла к ним и уселась, как обычно, спрятав под юбку согнутые в коленях ноги. Шеннон не в состоянии был бы описать выражение ее рта и черных глубоких глаз. Иногда ее припухшие губы казались чувственными; теперь же у них было капризное, как у детей, и печальное выражение.
— Тебе не следует все время оставаться одной, Паула, — сказал Американец.
— Уж лучше одной, чем в плохой компании.
— Не имеешь ли ты в виду меня и Ирландца?
— Мне это даже в голову не пришло, — просто ответила она. — Я говорю… совсем о других.
Они замолчали. Каждый думал о своем. Наконец Американец, как бы продолжая вслух свои мысли, спросил Паулу:
— Ты решила идти с памп?
— Если я вам нужна, — скромно ответила Паула.
Поразмыслив над ее словами, Шеннон понял, что она вложила в них самый невинный смысл. Затем Американец задал тот же вопрос Шеннону. Шеннон ответил уклончиво:
— Там видно будет… сначала мы должны пройти ущелье. Одним словом, — он улыбнулся, — если я вам нужен…
— Конечно, нужен, — опередила Паула Американца.
Теперь Шеннон уже твердо знал, что останется, и продолжал про себя повторять эти два слова. Мужчины перестали секретничать, и Горбун, стоявший у костра, позвал всех ужинать. Сплавщики отправились есть. Только Сухопарый продолжал лежать на спине. Шляпа по-прежнему прикрывала его лицо. К нему подошел Дамасо.
— Вставай, Сухопарый! Хватит дрыхнуть… А может, подать сюда, если тебе лень двигаться?
— Подай свою сукину дочь!.. — заорал на него Сухопарый. — Будь проклята эта собачья жизнь, даже подумать человеку спокойно не дадут!
— Подсаживайся к сковороде. Думами сыт не будешь: кто голоден, тот и холоден! — крикнул ему Балагур, вызвав общий смех.
— Ржете, а самих тоска гложет! — яростно продолжал Сухопарый, направляясь к сплавщикам. — Какие вы мужики, если вас зло не берет на такую жизнь? — И пристально взглянув на Паулу, стоявшую неподалеку, крикнул: — И ты, девка, смеешься? Небось тоже скучаешь? С такими губами, как у тебя, только и целоваться!
Шеннон почувствовал, как Американец весь напрягся. Мужчины хранили молчание. На лице Паулы не дрогнул ни один мускул.
— Уж я как-нибудь поднесу тебе подарочек, — глухо продолжал Сухопарый, окидывая ее взглядом с головы до ног.
— Подарочки ношу я, дружище, — пошутил почтарь. — Это мое дело.
— Па сей раз обойдусь без твоей помощи. Тебе же будет лучше!
Напряжение разрядилось, Сухопарый сел ужинать. Паула повела осла по речной гальке на водопой. Мужчины остались один, продолжая пережевывать все ту же тему. Белобрысый, самый молодой из них, оказался и самым откровенным:
— Конечно, когда женщина рядом…
Американец, прекрасно понимая, что кроется за наступившим молчанием, проговорил:
— Так вот, зарубите себе на носу: того, кто посмеет это сделать, я сразу же отправлю в горы.
Сплавщики по-прежнему молчали. Казалось, этих людей ничем нельзя было пропять.
— Мы мужчины, а не скоты, Франсиско, — наконец спокойно произнес Балагур.
Никто не стал возражать, и, завершая этот неприятный разговор, мужчины принялись за ужин. Паула больше не подходила к ним, держась в сторонке. Когда мужчины стали расходиться, Обжорка подошел к Шеннону, чтобы отдать ему спальный мешок и взять у него плед. Шеннон не согласился и сам отправился через ивовые кусты к Пауле. Он едва различал ее фигуру, еще более темную, чем сама ночь. Встав перед сидящей на земле девушкой, он принялся уговаривать ее оставить себе спальный мешок.
— Вам было неудобно в нем спать? — спросил он.
— Ой, что вы! — донесся до него ее приятный голос. — В нем очень уютно!.. Но больше нельзя.
— Почему? — спросил Шеннон, усаживаясь против нее. И заметив, что она отодвинулась, добавил: — Если я вам помешал, могу уйти.
— Нет, нет, простите меня, — услышал он ее виноватый голос. — Уж такая я есть.
— Такая есть или такой вас сделали?
В ответ она только пожала плечами.
— Вы очень одиноки, — продолжал он, — И совсем беззащитны… Я тоже одинок, как и вы; у меня тоже на душе камень… Между нами много общего, поэтому я вас очень хорошо понимаю.
— Ах, что вы можете понимать! — ответила она настороженно.
— Вас что-то мучает! Не знаю, что именно, да и не хочу знать… Разве что вы сами расскажете. Если вам понадобится моя помощь… Если вы, например, захотите уйти отсюда, и нужно будет, чтобы я вас проводил. Поймите меня, пожалуйста! Мне очень хочется оказать вам какую-нибудь услугу, как-то помочь. Я сопровождал бы вас как брат, поверьте.
По голосу Паулы можно было догадаться, что губы ее опять сложились в детскую гримаску.
— Я это знаю, Ирландец.
— Зовите меня просто Рой.
— Я знаю, Ройо… — послушно повторила она. — Вы не такой, как все. Вам не место среди нас.
— Почему? Я такой же мужчина, как остальные, но быть мужчиной еще не все. Вот если бы я мог хоть как-то помочь вам, тогда…
— Спасибо, — ответила она и тут же глухо проговорила: — Но по своей дороге я пойду сама.
— Не стану больше навязываться, — поспешно сказал Шеннон. — Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, я всегда готов оказать ее. Я это делаю ради себя, ради… сам не знаю, чего. Я пошел провожать вас той ночью только потому, что не мог поступить иначе. Сам не знаю, почему я это сделал.
Его слова еще трепетали в воздухе. Напряженные, живые, реальные. Такие же реальные, как река, ветер. Паула сидела молча, склонив голову. Но вот она встрепенулась, точно приняла какое-то решение. И твердо, уверенно произнесла:
— Я тоже хочу дать тебе совет, — Она вдруг перешла на «ты». — Не сбивайся со своего пути. Ты хороший человек и мне не чета.
Эти слова заставили Шеннона глубже заглянуть в себя. Он понял, почему она так сказала, и задумался. Он хотел бы стать достойным того, что произнесли эти девичьи уста, не знакомые с ложью.
— Как глубоко ты видишь, Паула!.. — вздохнул он. — Я не расспрашивал тебя. Но то, что ты сказала, не станет для меня преградой. Дай мне хотя бы попытаться… Не беспокойся, ты не причинишь мне боли. Хуже, чем мне было, не будет. Теперь в моей жизни хотя бы что-то появилось.
— Нет, Ройо, — тихо, ласково уговаривала она его, словно маленького ребенка.
— Да, Паула. Пусть это будет безумием, пусть это завтра кончится… Но ведь раньше у меня не было и этого, ничего не было… И кто знает? — обратился он к самому себе. — Может быть, я ничем не отличаюсь от других; может быть, именно потому я пришел сюда… Но пусть это тебя не волнует, не обращай на меня внимания. Может, тебе будет спокойнее жить оттого, что рядом с тобой друзья, заключал он, вставая. — А теперь доброй ночи.
Лишь Американец бодрствовал, поджидая его среди спящих сплавщиков.
— Я хочу вас предупредить, — заговорил он, виновато улыбаясь, — вам не стоит бывать наедине с Паулой. Вы сами видели, что было сегодня вечером.
— Они что-нибудь говорили?
— Нет, но я их слишком хорошо знаю… Чем ниже мы будем спускаться по реке, тем будет хуже.
— Почему?
— Они дольше будут оставаться без женщин, да и весна вступит в свои права, земля нагреется… Река станет спокойнее, и стволы сами собой пойдут, появится много свободного времени…
Шеннон лег спать обеспокоенный. И еще больше удивленный теми переменами, которые в нем происходили. По разве может человек разобраться в собственных чувствах?
2 Альпетеа
Па следующий день их разбудил грохот. Небо, словно свинцовый потолок, нависло над такими же свинцовыми скалами. Три дня, необходимые для того, чтобы пройти ущелье Ла-Эскалеруэла, порошил снег или лил проливной дождь. Вниз по реке, точно гончарная жижа, шла густая бурая вода, и плавучий лес увязал в этом стылом месиве. Вода поднялась, угрожая наводнением, если еще несколько дней продлится плохая погода, и нередко оставляя лишь узкую полоску земли у каменных стен, по которой с трудом пробирались сплавщики. Люди проклинали все на свете, настроение у всех было скверное. Питались кое-как, а когда вовсе не удавалось приготовить, ложились спать, завернувшись в мокрые пледы, наспех перекусив хлебом и оливками.
Солнце показалось в полдень, как раз когда первые стволы выбрались из Ла-Эскалеруэлы в более широкое русло, у развалин моста Сан-Педро.
— Наконец-то! — обрадовался Балагур. — Теперь пойдет совсем другая жизнь!
И вот тут-то Шеннон свалился в воду. Вероятно, оттого что уже не грозили толчки и заторы. Это происшествие всех здорово насмешило.
— Ой, мамочка родная! Теперь ты крещеный сплавщик! — смеялся над ним Балагур. — Омыл душу в водах Иордана!
Река в этом месте была мелкой, и Шеннон намочил только один бок. Он сел у огня, чтобы обсохнуть, и с наслаждением смотрел, как работают Паула и Горбун. После сильной усталости и непогоды у него возникло ощущение домашнего уюта: теперь он мог сидеть на солнышке, ничего не делая, наблюдая, как Обжорка играет с Лоли, маленькой собачонкой Горбуна.
Время от времени кто-нибудь подходил и подтрунивал над ним.
— Тебе тоже не мешало бы окунуться, девка, — сказал Негр Пауле и тут же уточнил: — Я тебе зла не желаю, но уж больно хочется увидеть, какие у тебя руки.
— Подумаешь, невидаль! Такие же, как у твоей сестры.
— Ну уж! Ты не такая, как другие. Такие женщины, как ты, должны подлежать реквизиции. Если бы моя партия одержала верх, ты стала бы достоянием народа, — заключил он, снова отправляясь работать.
— Господи, что я вам такого сделала, что вы не можете оставить меня в покое? — вздохнула Паула.
— Что сделала?! — не выдержав, воскликнул Горбун с досадой и вместе с тем сочувственно. — Да вот родилась такой, какой тебя сотворил господь бог! Ходят тут вокруг тебя, точно кобели.
— Сантьяго! И ты туда же! — с укором воскликнула Паула.
— А чем я хуже других? Хотел бы я посмотреть на тебя, родись ты с таким вот горбом… А ладно, черт с тобой! — И он принялся с усердием латать седло.
Шеннон понимал, что усилия Паулы остаться незамеченной напрасны. Ни черное платье с длинными рукавами до самого запястья, ни платок, покрывавший темные пряди волос, не могли скрыть от мужского глаза ее привлекательность. Она была по-женски кроткой и оставалась женщиной, когда давала отпор постоянным преследованиям мужчин из артели. Но и Горбуна Шеннон тоже понимал.
— Сегодня вместо поджаренного хлеба, — сказал Горбун, заметив, с каким интересом Шеннон наблюдает за его приготовлениями, — будет рыба с картошкой. По случаю хорошей погоды.
— Ур-р-ра! — прокричал Обжорна.
А Лоли принялась лаять.
— Ох, парень, и что с тобой будет. Твой отец только и думает о том, как бы набить себе брюхо. А ты питайся хоть воздухом, ему и горя мало.
— Зато никто из вас не умеет так ловко добывать себе еду! — восхищенно проговорил мальчик. — Вчера отец словил вот такую огромную ящерицу.
— И съел? — удивился Шеннон.
— У нее мясо вкусное, как у кролика! — пояснил мальчик.
— На, Сантьяго, возьми, — перебила их Паула, протягивая Горбуну сковородку, которую вытащила из мешка. — Блестит как солнышко.
Сейчас Паула не казалась привлекательной: слегка запыхавшись, она делала скромную работу своими исцарапанными руками. Шеннону стало стыдно за себя и за других мужчин. Паула, почувствовав на себе его взгляд, улыбнулась.
— Как дела, Ройо?
Было в этой женщине какое-то редкое благородство. Он почтительно ответил:
— Превосходно. Давно уже не чувствовал я такого покоя.
И действительно это было так. Солнце смягчало суровый облик гор. Крики и возгласы людей одушевляли природу. Позвякивание глиняных горшков, шорох картофельной кожуры, падающей с ножа, чавканье жующего осла, радостный лай собаки — все эти привычные звуки ласкали его слух, пока огромный земной шар, кажущийся неподвижным, вращался в мировом пространстве.
Горбун подбросил несколько травинок, чтобы но ним определить, в каком месте вырыть ямку для костра, где бы его не мог задуть ветер. Один за другим подходили сплавщики.
— Что случилось? — удивился Горбун. — Мы вас еще не звали.
— Закончили раньше времени, — сказал Американец. — Решили остановиться у развалин моста Сан-Педро. Сегодня сделать запруду все равно не успеем. Вот и пришли.
— Черт подери! — воскликнул Сухопарый. — Ну и житуха пошла!
Мужчины расселись. Некоторые из них благоговейно и неторопливо закурили.
— Видишь ту гору напротив, Ирландец? Вон ту, самую высокую, справа от реки? — спросил Балагур. — Так вот, когда-то там стоял замок Альпетеа, мавра Монтесино.
Оп показывал на гору за гигантским скалистым утесом, метров на триста возвышавшуюся над рекой.
— Оттуда, — продолжал Балагур, — чего только не видать. Уж поверь мне! Арагонскую башню, Молину и… добрую половину Испании.
— Кинтин оседлал любимого конька, — улыбнулся Сухопарый, растянув рот до своих огромных ушей.
— А ты помалкивай да слушай. С такими ушами, как у тебя, это легко. Если тебе вдруг случится стать королем, придется приделывать монетам ручки!
— Рассказывай дальше, дядюшка Кинтин, — попросил Обжорка, пока остальные смеялись. — Кто был этот мавр?
— Ладно, расскажу, пока ужин поспеет… Монтесино был полководцем, очень смелым, христианам покоя не давал. Но однажды Пресвятая Дева явилась в Кобету — ту, что возле его замка, — к однорукой пастушке и сделала так, что у нее выросла новая рука. А потом велела пойти к мавру и показать ему эту руку. Мавр как увидел такое чудо, сразу перешей в христианскую веру, всех нехристей изгнал, а сам стал королем этой земли.
— Хе! — прозвучал резкий голос Дамасо, обращавшегося к Шеннону. — Балагур у нас заядлый монархист, у него все истории на один лад кончаются.
— Еще бы… Я не хочу, чтобы мной командовала хунта или те, кто сегодня приходит, а завтра уходит. Я — человек, и мне надо, чтобы кто-то один командовал мной до самой смерти.
Обжорка погнал мимо них осла к реке. Дамасо прищелкнул языком и гаркнул во все горло:
— Вперед, король!
Осел яростно взбрыкнул, чуть не свалив мальчика с ног. Сплавщики так и покатились со смеху. Балагур успокаивал скотину:
— Успокойся, адмирал, успокойся, президент! Тпрр! Тпрр!..
— Наш осел тоже монархист, — сказал Негр.
Балагур объяснил Шеннону, что настоящее имя осла — Каналехас: так называется селение, откуда он родом. Но откликается он на любое имя, кроме короля, оно его не устраивает.
— А ото верно, что ты знаком с самим королем? — насмешливо спросил Негр.
— С каким? С Альфонсо Тринадцатым? — поинтересовался Шеннон.
— Тебе я расскажу эту историю, потому что у вас, англичан, тоже есть свой король и вы умеете его чтить.
Шеннон предпочел умолчать о том, что Ирландия — республика, и стал слушать.
— Дело было в двадцать восьмом году; Альфонсо тогда поднялся в Молину на открытие памятника капитану Аренасу, верному сыну этого города, убитому в Тистутине во время событий двадцать первого года[4]. Я служил денщиком у капитана и потому удостоился приглашения на торжественное открытие, чтобы послушать речи и прочее. На мне был военный мундир. Дон Альфонсо самолично пожал мне руку. Симпатичный такой, обходительный. Не то что надутый губернатор.
— А теперь послушай, как однажды он поехал в Мадрид, и король приказал своей королеве подать на стол лишнюю пару яиц, потому что сам дядюшка Кинтин оказал честь откушать с ними, — заключил Дамасо.
— Смейся, смейся! Мы уже с лихвой хлебнули твоей республики.
— Хе! А при короле лучше жилось?
— А потом разве лучше? Коли уж мне на роду написано быть бедняком, так не хватает еще, чтобы мною командовал такой же бедняк, только потому, что он залез выше меня… Еще чего, — и, обернувшись к Шеннону, добавил: — При республике я все марки с Пабло Иглесиасом[5] клеил вниз головой. Хорошо еще, что я допекал этим только сельского почтальона.
— Охота вам спорить из-за политики, — вмешался Сухопарый. — Пусть из-за нее грызутся богачи. Мы как бедняками были, так бедняками и останемся.
— А все потому, что в Испании никогда политикой не занимался народ, — вставил Негр.
— Как поется в том танго, которое я слышал от своей матери, — сказал вдруг Двужильный и пропел:
В Испании нашей житье с такою кухней: процветает одно ворье, а рабочий — с голоду пухни.Все рассмеялись, дружно закивав головами. Но тут появился Горбун с котелком и привлек к себе всеобщее внимание.
— Какой дух!
— Да здравствует Горбун!
— Это Паула стряпала, — внес ясность Сантьяго.
— Ешьте на здоровье, неблагодарные, — сказала девушка в ответ на их похвалы.
— Мы очень любим тебя!
— Могли бы и поменьше, — отпарировала она.
— Вот те па, братцы! — воскликнул Кривой. — А где же Обжора? Как это он не почуял такого запаха!
Сплавщики удивились. Но в ту же минуту показался Обжора: в руках у него что-то трепыхалось.
— А вот и он! — радостно воскликнул Обжорка. — Отец поймал на ящерицу кролика.
Кинтин рассеял недоумение Шеннона, разъяснив ему, что Обжора, вероятно, приклеил к спине ящерицы кусочек горящей смолы и впустил обезумевшую жертву в кроличью нору; кролик, спасаясь от огня, выскочил из своего убежища и попал прямо в руки Обжоры.
* * *
Между тем Обжора, размозжив кролику голову, повесил его на нижний сучок дерева, а сам уселся есть.
— Я его потом освежую, — сказал он, — и выпотрошу… Он совсем махонький.
— Хе! А может, лучше оставить его на завтра и сунуть в общую похлебку? — насмешливо спросил Дамасо.
— А не лучше ли сунуть в похлебку твою мать? — в сердцах сплюнул Обжора.
— Он шутит, не сердись, — умиротворяюще произнес Четырехпалый.
— Конечно, шучу, брат мой, — елейным голосом передразнил Дамасо Четырехпалого, — Кроликус vobiscum[6].
— Я не гневаюсь на тебя, — ответил ему Четырехпалый, — но грех смеяться над подобными вещами.
— Пропустите свою очередь, — предупредил их Американец.
Некоторое время было слышно только, как они едят. Когда с едой покончили, Обжора поднялся и начал свежевать кролика.
— Дай-ка мне немного соли, Паула, — попросил он.
— Не давай ничего этому жадине! — сказал Белобрысый. Но Паула протянула Обжоре маленький мешочек с солью.
— Пожалуй, надо его немного присыпать золой. Мясо есть мясо, — рассуждал Обжора, предвкушая лакомство.
— А вино всегда останется вином, — заметил Балагур. — Давайте-ка сюда флягу. От воды Тахо пучит живот и слабит. Вино же и дураку язык развяжет.
— Это куда лучше, чем спорить о политике, — улыбнулся Кривой, — Расскажи-ка нам какую-нибудь историю, Кинтин.
— Ну что ж… слушайте. Еще в те времена, когда стоял на своем месте замок Альпетеа, жила в Гвадалахаре донья Хуана. Она овдовела в тридцать три года и вскоре снова вышла замуж.
— Хе! Видать, у нее денежки водились.
— Может, и так, потому что характер у нее был еще похуже, чем у моей Марианы, прости меня господи. Так вот, однажды вечером ее муженек отправился куда-то после попойки с приятелями — уж куда не знаю! — а только вернулся на заре, и донья Хуана его не впустила. «Отвори, жена, это я, Хуан», — кричал ей муж. «И не подумаю, порядочная женщина никому не отворит ночью, если ее мужа нет дома». Так и оставила его за дверью.
— Правильно сделала, — вырвалось у Паулы.
Шеннон вспомнил наваху, спрятанную у нее на груди.
— Что до меня, — вставил свое слово Сухопарый, — то я бы плакать не стал, постучал бы в дверь к другой. Уж куда-нибудь достучался бы. Дверей много.
— Эта история, наверное, с тобой случилась, Кинтин, — пошутил Белобрысый, — а ты выдаешь нам ее за чужую.
— Нет, об этом написано в книге, я сам читал, — вмешался в разговор Шеннон, — Это были донья Хуана де Мендоса и ее второй муж, племянник короля Энрике Второго.
Заметив, какое удивление вызвали у всех его слова, он объяснил, что изучал историю и литературу Испании.
— Мне бы хоть грамоте научиться! — прошептал Лукас, примостившийся за спиной у Шеннона. — Я даже бук» не знаю.
— Я научу тебя, — пообещал Шеннон. — Вот увидишь, это совсем нетрудно.
— Хотелось бы знать все истории, — вздохнул Кинтин. — Но откуда их знать деревенскому бедняку, если он рос одни, словно пленник, у которого убили птичку.
— Ты и эту историю знаешь? — удивился Шеннои.
— Это не история, а быль. В нашем селе ее каждый знает.
Шеннон объяснил, что о пленнике говорится в одном из лучших испанских романсеро и продекламировал его полностью:
Я в темнице своей не ведал: день настал иль ночь занялась; только пташка меня будила, возвещая рассветный час. Подстрелил ее арбалетчик — бог за это ему воздаст.Шеннон видел, что люди слушают его затаив дыхание. С искренним, нескрываемым волнением.
— А ну-ка, Балагур, теперь твой черед, — подзадорил его Дамасо. — Неужто дашь англичанам заткнуть себя за пояс?
— Где мне знать такие топкости, дружище… Разве что спеть куплеты про жнецов. Уж их-то он наверняка не слышал.
И подстрекаемый товарищами Балагур начал:
Шли жнецы из земли кастильской, как жатвы пора началася: без гроша, в грязи и лохмотьях, ребра — кости одни без мяса.Шеннон почувствовал себя перенесенным в средние века, в атмосферу «Кентерберийских рассказов»; слушатели внимали рассказчику-балагуру и уже не в первый раз наслаждались знакомыми шутками. Последние строки этой непристойной истории завершились громовым хохотом, после чего сплавщики стали расходиться на ночлег. Шеннон задержался немного, чтобы показать Лукасу гласные буквы. Тут же, у этого крошечного очага человеческой культуры, Обжора тщательно обгладывал кроличьи кости и только после этого бросал их собаке. Блики огня озаряли его скулы и белки глаз, делая его похожим на доисторического человека, едва покинувшего царство животных.
На следующее утро они быстро перенесли свой лагерь в более удобное место, на другую сторону Кампильо, к старым развалинам моста Эррерия. Там решили обосноваться до тех пор, пока лес будет идти по Ринконаде, крутой излучине у подножия Альпетеи.
Мужчины отправились к мосту Сан-Педро и там соорудили еще одну запруду. Чтобы пропустить сплавной лес через перекаты, усеянные острыми камнями, нужно было поднять уровень воды в русле. Дожди, лившие в последние дни, облегчили им эту задачу.
Когда в полдень сплавщики вернулись в лагерь, Сухопарый предложил Американцу сходить на электростанцию Роча, чтобы получить разрешение пропустить сплавной лес через канал плотины.
— Они народ покладистый, сам знаешь. А если там еще окажется дон Клементе, нам поднесут по стопочке.
— Я не пойду, Сухопарый. Хочешь, иди сам.
Сухопарый попытался уговорить Американца, хотя отлично знал, что этот поход всего лишь проформа, поскольку разрешение давалось за пять дуро. Однако для сплавщиков переговоры эти были едва ли не священным ритуалом с благословения артельного. Так и не уговорив Американца, Сухопарый вместе с несколькими другими сплавщиками отправился после еды к старой мельнице, которая была переделана в электростанцию алькальдом Вильяр-де-Кобеты и восстановлена после войны.
Шеннон остался в лагере. Он заметил что-то странное в лице Американца, погруженного в созерцание жующего Каналехаса. Всякий раз, когда осел сжимал челюсти, у него над глазами вздувалось два шара; они то появлялись, то исчезали в такт движению челюстей.
— Хотите пройтись? — вдруг предложил ему Американец.
Шеннон согласился, понимая, что артельному нужен собеседник, и составил ему компанию. Они пошли вниз по течению левым берегом реки, а затем стали взбираться на холм. Американец остановился и широким жестом обвел этот дикий пейзаж — среди ивняка небольшой долины у подножпя Альпетеи Гальо впадает в Тахо. Его рука словно ласкала каждый холм, каждую впадину; голос нежно произносил каждое название. Казалось, каждому здешнему уголку он отводит особое место во вселенной. Шеннон молча слушал Американца: тот, без сомнения, нуждался в одиночестве, но рядом с живым человеческим существом.
— Да, — произнес он, и его взгляд и голос стали еще более рассеянными, — все это и есть Кампильо. Знаете, почему я не пошел на электростанцию? Я не хотел, чтобы меня увидели… Ведь я родился в Кампильо. — И тут же пояснил: — Вообще-то мои родители из Вильянуэвы-де-Аларкон, но здесь у них был дом, где они жили летом. В нем-то я и родился.
Взволнованный Шеннон почувствовал вдруг, что этот уголок планеты, населенный воспоминаниями, хоть и чужими, стал ему ближе.
— Давайте сходим туда, — предложил Американец, пускаясь в путь, — где когда-то была Адвокатова мельница… Адвокатом был мой прадед.
От мельницы остались только развалившиеся степы; через дверной проем виднелись в глубине кучи мусора, присыпанные землей и пожухлыми листьями. Посреди зияла дыра, оставшаяся от мельничного жернова. За домом находилась маленькая плотина. Сквозь ее щели сочилась вода, и все же она еще удерживала странно неподвижный пруд, подернутый ряской, от которого веяло мертвенным холодом и заброшенностью. Они приблизились, но ни одна лягушка не спрыгнула в воду, ни одна птица не вспорхнула с веток, ни одна волна не всколыхнула поверхность воды. Они остановились подле сгнивших досок шлюза. Американец не мог отвести взгляда от этого тусклого зеркала.
— В раннем детстве я любил прибегать сюда. Это считалось верхом удали. Однажды мне здорово влетело от отца. Но потом меня еще больше сюда тянуло — запретный плод сладок. — Он сел на поваленный ствол старой сосны и продолжал: — Моя мать ненавидела мельницу, считая ее главной причиной разорения деда, который вложил в нее весь свой капитал и реконструировал по последнему в те времена слову техники. Он помешался на новых сельскохозяйственных машинах и в Экономическом обществе друзей страны мог часами обсуждать какой-нибудь наиболее рациональный проект вспашки. Он эксплуатировал свою мельницу как настоящий кабальеро, тогда как остальные наживались на бесконечных махинациях. Сначала все шло хорошо, крестьянам удавалось обманывать его больше, чем других, и они предпочитали молоть свою пшеницу на его мельнице. Но однажды дед обнаружил обман и побил одного из них. Тогда остальные, испугавшись, перестали к нему ходить.
— Всюду одно и то же, — пробормотал Шеннон, — люди в конечном счете всегда оказываются неблагодарными. Человеческое достоинство давно утрачено.
Он произнес это с таким пылом, что Американец отвлекся от собственных мыслей и спросил:
— У вас, верно, тоже есть о чем вспомнить?
— Вспомнить? Нет. Наоборот, я должен забыть.
— Зачем забывать то, что было? Мы живы воспоминаниями. Без воспоминаний мы были бы мертвы, как эти камни… Вы ошибаетесь, полагая, что у этих людей не было достоинства. Но им приходилось как-то бороться за свое существование… Одним словом, кончилось тем, что мой дед совсем разорился и закрыл свою мельницу. Когда я был юношей, у пас еще имелся дом для летнего отдыха… Сюда заезжала моя кузина…
Его последние слова, казалось, всколыхнули мрачные воды пруда, словно луч нежности пробился сквозь тьму.
— Почему именно сегодня я вспоминаю все так отчетливо?.. Обычная история: держась за руки, мы стояли в этой тенистой роще, потом я ее поцеловал вот здесь, на этом самом месте, вечером, у застывшего в неподвижности пруда… Нет, вода в нем была другая, совсем другая… Она бросилась прочь от меня, а я не мог двинуться с места, словно окаменел. Сердце мое билось, как у пойманного кролика!.. На следующий день она призналась, что проплакала всю ночь и теперь ей остается только утопиться в Тахо… Но я поклялся ей, что мы поженимся… Это было последнее лето.
«Последнее лето, — подумал Шеннон. — Сколько тоски в этих словах. Кажется, будто все растворяется в воздухе, становится нереальным». И действительно, происходящее казалось ему бессмысленным, нелепым. Среди жалких развалин стоял человек, огрубевший, суровый, и обращал взор в свое прошлое, в которое теперь трудно поверить: образованная семья, романтическая юношеская любовь… У каждого человека есть своя тайна, уже ставшая как бы его плотью. Из семинарии в Сигуэнсе, где Американец проходил курс для получения степени бакалавра, его исключили, узнав о его связи с прачкой, которая обучала его любви, куда более серьезной, чем любовь к кузине. Он вернулся домой со славой бунтаря, и дядюшка запретил своей дочери с ним встречаться…
— Я поехал навестить ее, — продолжал он, — и предложил убежать вместе. Она плакала, но бежать так и не решилась! И показалась мне тогда такой незначительной, невзрачной. Никакого чувства я уже к ней не испытывал… С отцом и дядюшкой я рассчитался, подпалив омет. Меня разыскивали через жандармерию, но кому могло прийти в голову, что я пристал к сплавщикам… Потом я перебрался в Америку… — Он вдруг осекся и, поднявшись, провел рукой по лбу, словно хотел очнуться от сна. — Почему я все это рассказываю вам? — И с недоуменным видом обернувшись к Шеннону, откровенно признался: — Никогда прежде я не оглядывался назад; по теперь у меня такое чувство… сам не знаю почему… словно пришла пора подытожить свое прошлое…
* * *
Воцарилось долгое молчание, которое он снова прервал, насмешливо проговорив:
— Подумать только, если б мы поднялись на плато, я мог бы повстречаться с ней на улицах Вильянуэвы… Она вышла замуж за ветеринара. Позавчера пастух мне рассказал об этом. Смешно — жена ветеринара хотела когда-то броситься в реку из-за того, что я ее поцеловал… Впрочем, в этом нет ничего смешного, если твердо уверовать, что тебе все безразлично.
Казалось, он поборол волнение. Золотой зуб сверкнул в улыбке.
— Да что говорить! Не было ничего и нет. Там, в Америке, для меня важно было выжить. Об остальном я по думал. А теперь меня и это не волнует… Важно только одно, только одно надежно… — Он опить умолк, как бы с удивлением прислушиваясь к тому, что в нем происходит. И тихо заключил: — А может быть, я надеялся найти здесь облегчение? Может, поэтому я и вернулся? — Он покачал головой как бы в раздумье. — Вы же, напротив, не хотите возвращаться. Вы бежите от своей земли, от своих воспоминаний.
— Да… Сейчас я должен был бы находиться на борту корабля, идущего в Англию… Возвращение героев на родину: военный оркестр, торжественные речи, знамена и тому подобное… Но я но смог бы вынести этого торжества, потому что мы возвращались с войны.
— А чем она отличалась от других? — с удивлением спросил Американец.
— Ничем, война как война. Сначала мне даже нравилось воевать. Великолепные каникулы на лоне природы, кровавые маневры… Зло как-то оправдывало себя. Но мир… Когда мы захватывали какой-нибудь новый район и стихала первая радость победы, мы видели, какое разрушение несем с собой. За тем, что раньше было для нас лишь военным объектом, обнаруживалось человеческое горе, развалины, опустошенные ноля, страдание детей, траур вдов. И торговцы, наживающиеся на чужом голоде, тыловые рвачи, те, кто мстил, сводя личные счеты. Казалось невероятным, но я своими глазами видел двух военных в мундирах, в касках, с орденами, они волокли голую девушку, остриженную наголо, только за то, что она была невестой противника… Вот почему мне было бы стыдно, если бы меня по возвращении из Италии встречали, как героя. Вот почему в тот день, когда с нашего корабля, везущего солдат на родину, спустили трап в Аликанте… — Он поднял голову и посмотрел на Американца: — Вы когда-нибудь были в Аликанте? Если нет. вы не поймете меня. Стоя на борту корабля, я увидел холм, увенчанный замком, словно лев гривой, и раскинувшиеся у его подножия белые дома, и великолепные пальмовые парки. Этот последний день года совсем не походил на зимний. Море было спокойным, воздух теплым… На нижней палубе кто-то чиркнул спичкой и бросил ее в море. Мне почудилось, будто рыба проворно вынырнула из глубины и снова опустилась на дно, разочарованная. «Что ты собираешься делать, когда вернешься?» — спросил чей-то голос внизу. Ответа не последовало. Да и что можно было ответить на этот вопрос! Я подумал о приветственных речах, которыми нас будут встречать, и мне стало тошно. Я решил оторваться от этого стада. Отправиться дальше один. Только не с ними… И тогда я увидел рыбака. Он сидел на пристани, свесив ноги, и ел с таким спокойствием, что мне захотелось поговорить с ним. «Что, закусываешь?» — спросил я. Он удивился, что я говорю по-испански, и ответил: «Как видишь. Хлебом с навахой». Я не мог забыть этих слов, спокойных и суровых. Хлеб и наваха! Правда хлеба и правда стали; правда жизни и правда смерти. И кроме того, правда голода… Мне запали в душу и этот холм, и солнце, и море, и рыбак. И я решил узнать этот мир, такой невозмутимый, такой спокойный. С большим трудом добился разрешения высадиться на берег, чтобы пешком пересечь Испанию и добраться до какого-нибудь северного порта… Думаю, мне разрешили потому, что поняли: если откажут, я все равно сбегу и совершу это путешествие тайком… К тому же нас уже демобилизовали. Но им необходимо было стадо, чтобы самим прославиться! — Он снова посмотрел на Американца. — Вам этого не понять.
— Да, это нелегко попять. Там, в Америке, мы тоже вели мелкие войны, — улыбнулся он. — Но мир мало чем отличался от вашего. Правда, если уж нам удавалось поймать голую женщину, мы ее не тащили на улицу.
— Вот видите! Это совсем другое. Варварство, жестокость, невежество — пускай. Но не надо низости. Вот почему ради собственного спасения мне необходимо вдохнуть в Себя хоть немного человеческого достоинства.
— Возможно, вы H преувеличиваете, — задумчиво произнес Американец, — по, мне кажется, я понимаю вас… А вот себя понять не могу, — заключил он тихо. — Почему вдруг сегодня я вспомнил свое детство?.. Узнаю ли я это когда-нибудь?
«Узнаем ли мы это когда-нибудь?» — подумал Шеннон, отправляясь обратно. В ту ночь он слышал более ожесточенные и настойчивые удары камня, которым Американец обычно точил перед сном крюк своего багра.
3 Уэртаэрнандо
— Я рад, что ты остался с нами, Ирландец, — сказал Балагур, орудуя багром. — Ты хороший человек.
— Ты даже не представляешь, как важны для меня твои слова. Я стану лучше, чем я есть.
Сплавщики миновали Кампильо и Пенью-Бермеху и находились на перекате Бухадильи в районе Буэнафуэнте, где мель задерживала стволы. Пришлось сделать запруду в виде ножниц, нечто вроде узкого канала, который поднимал уровень воды.
— Ерунду ты говоришь. Ты один стоишь всех нас.
— Ошибаешься. Всем нам одна цена.
— Это, конечно, верно: все мы недалеко ушли друг от друга. Но мало кто станет говорить, как ты, да при том еще благодарить.
Посмеиваясь над собой, Шеннон оправдывал свое присутствие среди сплавщиков тем, что хотел научить Лукаса читать. Что же касается сплавщиков, то они были рады, что прибавился работник, а остальное их мало трогало. Однако Шеннон удивился, когда Дамасо с другого берега спросил его, почему он остался.
— Не все ли равно, куда мне идти: в Молину, в Мединасели или в Сигуэнсу? — ответил ему Шеннон. — Замки здесь везде встречаются, а спешить мне некуда.
Сплавщики знали, что его интересуют старинные постройки.
— Хе! Я вижу, никто не идет туда, куда шел. Ни Паула — в Саорехас, ни Ирландец — в Молину.
— Зато мы все идем до Арапхуэса, — вставил Двужильный. — Это уж точно. Поневоле. Вслед за рекой.
— Так и в море можно угодить, — сказал Сухопарый.
— А то и куда-нибудь подальше, — прошептал Четырехпалый. — В мир иной.
— Туда нам не к спеху, — быстро вставил Сухопарый.
— Да и зачем торопиться! — вмешался в разговор Балагур. — Рано или поздно все там будем.
— Где? — спросил Шеннон.
— На кладбище, приятель.
— Торопиться туда нечего, это верно. Пока человек жив, в нем жива надежда, — сказал Двужильный. — В Валенсии один мои сосед тоже так думал. А бомба угодила прямо в его дом. Когда я зашел в больницу навестить его, то увидел, что ему оторвало обе ноги и половину правой руки. «Как дела, сосед?» — спросил я его, желая ободрить. «Ах, Сиксто, мне здорово повезло! — ответил он. — Не подобрали бы меня вовремя, я бы истек кровью. А теперь, как видишь, доволен, хоть осталась у меня целой одна рука…» И он был нрав. Он стал с тележки торговать карамелью и здорово преуспел.
К ним подплывало большое скопление бревен, и разговор пришлось прервать. В этот холодный пасмурный день приятно было двигаться. Ноги Шеннона коченели всякий раз, как оказывались в воде, хотя он и сменил башмаки, которые соскальзывали со стволов, на альпаргаты.
— Если ты дойдешь с нами до Трильо, откуда мы отправимся в Сигуэпсу, — снова заговорил Балагур, — увидишь кое-что забавное: бой быков в Сотондо… В этом селении испокон веку устраивают шуточный бой быков, настоящий праздник с ряжеными и прочим, когда приходят сплавщики.
— Хе! А так как быков там нет, то роль быка исполняет дядюшка Лукас, — насмешливо проговорил Дамасо.
— Странно, что жители прибрежного села устраивают праздник для сплавщиков, — удивился Шеннон.
— Черт подери! — воскликнул Сухопарый, — Им это вовсе не по праву. Поначалу у них будут кислые рожи, только потом развеселятся.
— Этот обычай существует с давних пор, теперь его никто уже не отменит. Рассказывают, будто однажды, очень давно, жители этого селения решили не пускать сплавщиков, те разозлились, накинулись на них с палками и кулаками и так разошлись, что чуть быка не разорвали на части. А еще раньше там, говорят, резали настоящих быков и угощали сплавщиков. Но потом этот обычай заменили праздником. Теперь-то жители Сотондо ничем уже не угощают. Разве только ставят вино, чтобы воскресить мертвого быка.
— Как это?
— Того, кто становится быком, «убивают», а потом тащат в таверну, тут ясе на площади, и поят вином до тех пор, пока он не воскреснет.
— И рога иногда могут сослужить добрую службу, — засмеялся Сухопарый.
— Привидение тоже, — вставил Дамасо.
— Ты опять будешь привидением? — с улыбкой спросил Балагур.
— Я их так напугаю, что они сами приволокут мне кур, ведь на перекате Ла-Тагуэнса нам здорово придется попотеть.
Балагур объяснил Шеннону, что кур этих воруют на соседнем хуторе.
— Но ведь они сами бедняки… — начал было Шеннон.
— Ты что, рехнулся, Ирландец! — перебил его Кривой с неожиданной для этого тихони резкостью. — Это они-то бедняки? Да эти окаянные живут себе припеваючи в своих домах, пока земля их кормит, спят на пуховых перинах подле женушек, а мы знай тянем свою лямку… Так что ж, по-твоему, от них убудет, коли они поделятся с нами курами?
— Сомневаюсь, дружище, чтобы крестьяне на этом побережье жили хорошо. Почему бы и тебе тогда не стать крестьянином?
— Это мне-то? У которого отродясь не было ни кола ни двора?! Мой отец всю жизнь батрачил и ютился в пещере. Будь у меня хоть маленький клочок землицы, чтобы засеять ее, поливать да увидеть, как будет зреть на ней урожай, я бы ко всем чертям послал эти бревна!
— Так ведь я иду к ним мирно, — снова заговорил Дамасо, — без навахи, без дубинки. Хе! Разве что постращаю малость привидением. Насажу на конец длинной палки одеяло, проделаю в нем дыру и вставлю в нее фонарик. А они пугаются, думают, это привидение явилось.
— Дождешься ты, что они пожалуются священнику, — предупредил его Сухопарый, — и тот с помощью святой водицы да дюжины здоровенных мужиков намнет бока привидению, и станет оно тощим, словно плащаница.
— Подумаешь! За мной не так-то легко угнаться, — ответил Дамасо. — Сеньор священник обойдется им дороже, чем пара куриц в год.
Их позвали есть. Сплавщики прервали работу. После полудня они снова вернулись на перекат. Отсюда было видно, как поднимаются в гору Горбун и Паула, направляясь за провизией в Уэртаэрнандо, который находился в двух часах ходьбы от лагеря. Хмурые тучи рассеялись, робко светило зимнее солнышко.
— До Буэнафуэнте намного ближе, — сказал Балагур Шеннону, — по там всего шесть-семь домов. Зато монастырь там чудесный! Монастырь бернардинок, которые никогда не показываются посторонним. Они поселились там один бог знает когда! С тех пор, как прогнали мавров. В нем захоронены принцессы и важные вельможи, а чудотворная вода бьет ключом прямо из-под распятия в монастырской часовне.
— О таком монастыре только мечтать можно! — воскликнул Шейной. — Вот бы взглянуть!
— Снаружи можно осмотреть и монастырь и часовню… Сходи туда вечером. Вверх по этому оврагу живо доберешься.
Они продолжали работать, слушая болтовню Балагура.
— Глянь-ка на эти стволы, — говорил он, как всегда с усмешкой, — идут, точно барашки, словно маленькое стадо… Вон тот, красноватый, еще понастырнее Дамасо будет. Так и лезет куда не просят! Да остановись ты, неугомонный, — прикрикнул он на ствол, отталкивая его багром. — Совсем как люди, как ты, как я… Глянь-ка на этого жадину, захватил все пространство вокруг и никого не пропускает. Как Обжора… А этот скрюченный, как Горбун. А тот, острый, похож на Сухопарого…
— А где же я, Балагур? — пошутил Шеннон.
— Ты нам не чета, дружище… Впрочем, постой-ка… вон там, видишь, идет один — прямой, породистый, почти совсем отесанный; видно, он всем по душе, сначала они его окружили зачем-то со всех сторон, а потом… расступились… Так-то лучше. Знаешь, чем отличается сплавной лес от всякого прочего? Вода вымывает из него сок, очищает его и делает сухим, чистым и прочным.
«Да, — подумал Шеннон, — пожалуй, лучше быть неотесанным. Во всяком случае, не до конца, чтобы сохранилось хоть что-то от живого дерева».
— По нынешним временам, — продолжал Балагур, — когда весь мир куда-то спешит, сплав но реке идет слишком медленно. Если машины заберутся в горы, сплавщики станут не нужны. Что будет тогда с бедным Кинтином из Таравильо, который всю свою жизнь только тем и занимался, что сплавлял лес? Таких, как я, раз, два и обчелся. Я люблю это дело — настоящее, привольное… Послушай, — вдруг заговорил он о другом, — как же ты войдешь в церковь, если тыне христианин?
— Я христианин, Кинтин.
— Но ведь все англичане еретики…
— Зато почти все ирландцы — католики. К тому же протестанты ведь тоже христиане.
Балагур с сомнением покачал головой. Воспользовавшись тем, что к ним подошел Американец, Шеннон попросил у него разрешения сходить в Буэпафуэнте. Получив согласие, он перешел на другой берег по бревнам и стал взбираться вверх по косогору.
Подъем был довольно трудным, но недолгим. С вершины холма он увидел в низине маленькое селение. Там действительно было не больше шести-семи домов, которые теснились у огромного здания с высокой оградой вокруг фруктового сада, где копошилось несколько фигур в белом. Миновав дома, Шеннон очутился перед фасадом почти безо всяких украшений, с несколькими стрельчатыми арками в готическом стиле. Дверь церкви была заперта и, хотя Шеннон подергал засов, не открывалась. Он стал подниматься по наружной лестнице, начинавшейся от самого портала, и столкнулся с послушницей монастыря. На расспросы Шеннона женщина ответила только, что в монастыре теперь всего тринадцать монахинь. Да, во время войны они оставались здесь, хотя рядом была вражеская зона; и при карлистах оставались, хотя те тоже воевали в этих селениях. Монастырь стоит с той поры, как его построили… Нет, она не знает, когда это было: много лет уже прошло. Да, верно, в нем захоронены две инфанты: донья Санча и донья Мафальда. Она видела их гробницы и статуи обеих женщин в полный рост, с очень благородными лицами.
Шеннон внимательно осмотрел здание снаружи. Время было еще раннее, и он решил дойти до часовни Божьей матери. Это было невзрачное заброшенное строение. Сквозь зарешеченное окошко в двери виднелись полуразрушенное помещение, скамьи, сложенные из камня, вдоль стен и разбитые красноватые плитки пола. В глубине — простой побеленный каменный алтарь с аляповатыми деревенскими святыми, в центральной нише — изображение божьей матери, едва различимое под мятыми лептами и кружевами. Несколько грязных восковых пожертвований и женских кос висело в углу. Пахло пылью и забвением. Царило полное запустение. И все же Шеннон невольно подумал о боге.
Давно уже он не слушал проповедей, не держал молитвенника в руках и не испытывал никакого религиозного трепета, входя в золоченые соборы, полные молящихся. Но эта убогая часовенка заставила его испытать настоящее волнение. Шеннон верил в существование сверхъестественного, верил в то, что мольбы множества людей, обращенные к богу с надеждой и отчаянием на протяжении долгих веков, продолжают оставаться здесь, словно стены вобрали их в себя, в отличие от степ городских храмов, оскверненных роскошью и корыстью. Он почувствовал себя ничтожным среди этой бедности, еще одним деревом в стаде Балагура, наконец, человеком в руках божьих. Ему не надо было ни говорить, ни просить о чем-то. Оставалось только открыть душу для бога и смиренно ждать, когда высохнет и потрескается кора, которая тебя покрывает.
Внезапно повеяло холодом. Должно быть, он довольно долго простоял у дверного окошка. Солнце уже клонилось к закату. Вдали виднелась река, устланная, словно паркетом, стволами, и Люди, идущие из Уэртаэрнандо. Вероятно, это возвращались Горбун и Паула. Шеннон заметил, что Паула свернула к часовне, а Горбун пошел вниз, к лагерю, вслед за Каналехасом. Шеннон подождал ее.
Несколько часов назад Паула и Горбун пришли в Уэртаэрнандо. Поглазеть на них выходили из домов женщины в черных платках.
Два паренька и девочка, смуглые, тощие, проводили их до самой площади. Там Горбун привязал Каналехаса к железным прутьям окошка и вместе с Паулой вошел в деревенскую лавку.
Ребятишки остановились возле осла и с серьезным видом принялись его разглядывать.
— Цыгане, — высказал предположение старший, почесывая голову.
— Циркачи, — возразил ему другой.
Девочка что-то обдумывала. Затем, вытащив палец из носа, решительно заявила:
— Воры.
— Молчи, дура, — сказал ей младший, — женщин-во-ров не бывает.
— А вот и бывает, — не уступала ему девочка. — Мамка говорила, что твоя мать — воровка.
Мальчишка толкнул ее, и девочка, не удержавшись на ногах, плюхнулась на землю. Однако по-прежнему стояла на своем:
— Все равно воры.
— Они не горцы, — заметил старший. — Цыгане.
— Циркачи, — не сдавался младший.
Дети замолчали. Наконец старшему пришла в голову счастливая мысль.
— Сейчас узнаем.
Они приблизились к ослу, и старший легонько ударил его по передним ногам палкой, которую держал в руке.
— Если встанет на задние ноги, — сказал он, — значит, циркачи…
— Не встает, — произнес младший.
— Это воры, — повторила девочка.
— Поднимайся, поднимайся… — приказывал старший ослу. — Поднимайся, проклятущий!
Каналехас, уставший с дороги, недовольно встрепенулся и взбрыкнул. Ребятишки отскочили подальше с радостными криками. Младший паренек и девочка принялись искать, чем бы ударить осла. Дразнить Каналехаса было куда занятнее, чем гадать, кому он принадлежит. Сидевший на другой стороне площади старик блаженно улыбался.
Горбун услышал из лавки веселые ребячьи голоса и крик разъяренного животного.
— Ах вы, молокососы паршивые! — закричал он. — Сейчас я вам задам!
Лавка помещалась в тесной комнатушке с небольшим прилавком. В углу, рядом с пустыми мешками, метлами и вьючным седлом, стояли весы. С потолка вместе с лампочкой и липучками для мух свисали пакеты со свечами, треска, связка серпов. Возле прилавка стоял бидон масла с жирным насосом. Ящики с выбитым дном служили полками, на которых лежали мыло, табак, альпаргаты, скобяные товары, бечева, порошки от зубной боли, всякого рода продукты и табачные изделия. На самом верху выстроились бутылки со слабительным и жавелем. При тусклом свете, сочившемся сквозь окошко, казалось, что все засижено мухами, покрыто пылью, убого и мертво, словно умерло еще до того, как стало кому-то служить. На прилавке, обитом цинком, было сделано углубление, по которому монеты попадали прямо в ящик, и его не приходилось открывать. Чаши весов не были уравновешены. Паула почувствовала, что задыхается.
Но задыхалась она не от того, чем крестьяне работали, питались и опьяняли себя. Не от этих жалких товаров, а потому, что лавочник не сводил с нее глаз. Пожалуй, лет ему было не больше, чем Дамасо или Негру, но выглядел он намного старше. Он был плешив и казался таким же несвежим, мертвенным, как и все в его лавке. Только глазки его глядели чересчур назойливо.
Он завернул пакет и положил его рядом с другими, уже готовыми. Как непохожи были его руки на руки сплавщиков! Тоже с грязными ногтями, но дряблые, словно белесые жабы. Паула отвела взгляд.
— Больше ничего не надо? — спросил он.
— Нет.
— Ты уверена?.. Красивые девушки любят делать покупки… У меня хорошая галантерея.
Его улыбка выглядела жалкой. На какой-то миг Паула заколебалась, представив себе женские мелочи, с некоторых нор переставшие для нее существовать. Лавочник не отступал.
— Ты ничего не забыла?
— Нет, разве что иголку с нитками. Но я обойдусь без них.
Лавочник показал на боковую дверцу.
— Иди, иди, взгляни, что у меня есть. Выбирай, что хочешь.
— Мне ничего не надо. Сколько с нас?
— Семьдесят две песеты. Да куда ты так спешишь?
— Вот. Получите.
Но лавочник не брал денег, и она положила их на прилавок.
— И чего ты так горячишься, милая! Вот, смотри, иголки!.. Радость больше тебе к лицу… А вот и нитки, красивые… И кружева, и шелковые ленты, и подвязки… Ну, выбирай…
— У меня нет денег. Получите с меня за покупки.
Улыбка его стала еще более жалкой, и две белесые жабы с грязными ногтями поползли к ней.
— Ну что ты, голубушка, зачем деньги! Мы и так договоримся. Ты же видишь, я…
Жабы подступали все ближе. Паула положила руку на огромные ножницы, висевшие на гвозде, но снимать их не стала.
— Ни с места! — пригрозила она.
Лавочник решил ее унизить:
— Не прикидывайся невинной! Женщина, которая работает со сплавщиками, знает, что такое мужчина. Так что бери что-нибудь и не строй из себя недотрогу.
— Вы что, спятили? Не видите разве, что я не одна.
Презрение лавочника сменилось насмешкой.
— Ну, зови своего мужика, я уже дрожу перед этим великаном… Плюнь ты на этого калеку, дура, он с тобой совсем согнется.
— Да этот калека покрепче тебя, — ответила Паула. И, рывком открыв дверь, крикнула: — Сантьяго!
Горбун вошел, и лицо его сразу помрачнело.
— Что случилось?
— Да вот, сеньор не хочет брать денег у женщины.
— Но здесь есть и мужчина, — внушительно произнес Горбун. — Может быть, деньги фальшивые или нам хотят отдать товар даром?
Под взглядом Горбуна жабы исчезли в темноте.
— Да я… Девушка сказала, что ей нужны нитки с иголкой, но не знала… А я…
— Раз нужно, дай, — ответил Горбун. И ласково добавил, обращаясь к Пауле, пока тот торопливо сворачивал маленький пакетик: — Хочешь посмотреть немного за Каналехасом, а то эти ребятишки сущие дьяволята.
Паула вышла. Горбун увидел двадцать дуро, оставленные на прилавке, и спрятал их. Взял у лавочника маленький пакетик и сунул его себе в карман, потом забрал свертки.
— С вас семьдесят две песеты, — рискнул спросить лавочник, видя, что все обошлось.
Горбун внимательно посмотрел на него.
— Ты же не брал денег, приятель, когда тебе их давали. А мы, мужчины, привыкли расплачиваться ножом. Хочешь получить?
Лавочник проглотил слюну и смолк.
— Так сколько я тебе должен? — не унимался Горбун.
Тот в ответ только замотал головой.
— В таком случае спасибо тебе от всей пашей артели. В другой раз помни, что нечего тебе тягаться со сплавщиками, бандит ты эдакий! И не вздумай звать на помощь, а то я живо тебя прикончу!
Горбун вышел на площадь, разложил пакеты по корзинам, отвязал Каналехаса, и вместе с Паулой они тронулись в путь. Теперь их сопровождало гораздо больше ребятишек. Они довели пришельцев до скотных дворов на самой окраине и там остановились. По мере того как расстояние между ними увеличивалось, крики становились все громче:
— Воры! Циркачи! Цыгане!
Среди этих голосов выделялся один, самый пронзительный, и камень, пущенный им вслед, угодил в зад Каналехасу.
— Шлюха!
Горбун хотел вернуться, но Паула не пустила его.
— Не надо, Сантьяго. Не все ли равно, что они там кричат?
— Ты нрава.
Он протянул Пауле маленький пакетик с иголкой и нитками, но она возразила:
— Мне нечем заплатить, Сантьяго.
— Считай, что это подарок от того борова. А если тебе неприятно, пусть это будет подарок от наших сплавщиков.
— Спасибо, — поблагодарила Паула.
— Ты храбрая! Не испугалась.
— Этого-то? Если бы я взяла в руки ножницы, он бы у меня получил. Но как-то неловко защищаться самой, когда рядом с тобой мужчина.
Горбун так резко остановился, что Каналехас ткнулся в него мордой, и взволнованно проговорил:
— Да благословит тебя бог, Паула, за твои слова. Век не забуду.
— Чего?
— Того, что ты сказала: рядом с тобой мужчина… Как ты думаешь, могла бы меня когда-нибудь полюбить такая женщина, как ты?
Паула уже собиралась ответить, но он опередил ее:
— Только говори правду, без утайки. Могло бы случиться такое?
И он посмотрел на нее своими ясными, голубыми глазами, сдвинув брови и горестно опустив уголки губ. Она не смогла ему солгать.
— Так, сразу… нет, — ответила она едва слышно.
Горбун зашагал, подтолкнув вперед Каналехаса. Через минуту он опять заговорил:
— Ты разговариваешь со мной, как с мужчиной. Без всякой жалости. Да благословит тебя бог за это и за то, что ты сказала, что рядом с тобой мужчина. Пусть даже такой никудышный, как Горбун, которому и цена-то грош.
— А я, Сантьяго? Ведь почти все считают меня такой, как и эта девчонка из селения… И ты, наверное, так думал раньше… При одной мысли об этом мне становится горько…
— Я никогда так не думал, Паула.
— Только говори правду, как я тебе.
— Нет, я так не думал, Паула, верно говорю. У тебя никогда не будет много мужчин, ты не такая. Тебе нужен один. Только один, и никто больше. Ни родные, ни близкие. Он и ты, земля и небо.
— Что ты можешь знать?
— Я старше тебя. Да и если бы ты знала, как учит горб!.. Иначе зачем тебе было бежать в горы? Из-за чего грустить? Ясное дело, из-за мужчины, больше не из-за чего.
— Это верно, — задумчиво согласилась она. — Только я ошиблась. По правде говоря, это был не мужчина.
— Не все ли равно. Ты всегда будешь страдать из-за кого-нибудь. А если нет, то будешь словно мертвая, как земля без воды. Такой уж у тебя характер. У реки — свой, у волка — свой. Все мы такие, какие есть. А некоторые, как видишь, горбатые, — горестно заключил он.
— Чем же я виновата? Все думают, что я плохая. Вот и этот тип в лавке решил, что мною можно попользоваться.
— Нет, ты не плохая. Будь ты плохой, в артели уже началась бы заварушка. Но ты и не хорошая. Кого-нибудь убить тебе ничего не стоит: для тебя это так же просто, как мне съесть кусок хлеба… Не смотри на меня так, я не колдун. Вся артель это знает. Разве ты не понимаешь, что было с Сухопарым в тот день, когда приходил почтарь? Разве ты не замечаешь, как они говорят о тебе, как смотрят на тебя? Ты не можешь не чувствовать, когда на тебя так смотрят… Все только и мечтают о Пауле… Даже я. Ты же видишь. Почему ты не смеешься?
— Сантьяго… А почему я должна смеяться?
— Да, это верно… Мы все из-за тебя голову потеряли, все. А ты не для всех. Ты для одного. Придет время — сама убедишься.
На этом их разговор закончился. Дальше они шли молча. Каждый думал о своем. Оставив позади холм, они начали спускаться к реке. Вот тогда-то Шеннон и увидел, как Паула свернула к часовне, а Сантьяго направился вниз к реке. Чтобы не смущать девушку, он укрылся в кустах можжевельника. Кусты были старые, с очень толстыми стволами, густые, светло-зеленые, колючие, крепкие.
Паула издали заметила часовню и, чувствуя, что ей необходимо утешение после всего, что случилось в Уэртаэрнандо, сказала об этом своему спутнику и пошла по тропке, провожаемая взором, устремленным на нее из кустов. Шеннон, словно завороженный, следил за ритмичной походкой и грациозными движениями девушки, взбиравшейся по неровному косогору. Паула прошла мимо того места, где прятался незамеченный ею Шеннон. Он увидел, как напряглось ее лицо, словно она боялась, что не сможет преодолеть последние два метра до двери убежища, в котором искала спасения. Увидел, как она остановилась и прижала руки к груди. Затем, сделав шаг, упала на колени перед дверью, прижалась к ней лицом и вцепилась в решетку окошка.
Шеннон смотрел на нее из своего укрытия, стыдясь того, что стал невольным свидетелем этого уединения. Солнце уже совсем скрылось, и небо стало фиолетовым. Прошло довольно много времени, прежде чем он снова взглянул на нее. Она сидела, прислонившись к двери, лицом к пустынной дороге. В тени портала нельзя было разглядеть ее черты, но ее безжизненная поза, с поникшей на плечо головой, заставила его выйти из укрытия.
Он подошел к ней довольно близко, но она не замечала его, словно он ничем не отличался от земли или деревьев. Только остановившись перед ней, он прочел удивление в ее глазах, окруженных тенью, не потому что они плакали, а потому что были обращены внутрь.
— Я тоже пришел помолиться, — объяснил он.
— Ты? Такой безгрешный? — улыбнулась Паула.
— Нам всем не мешает это делать.
— Да, но некоторым это нужно больше. Особенно тем, у кого нет выхода.
— Выход всегда найдется.
— Только не для меня… Думаешь, я сошла с ума? Нет, я такая же меченая, как и Дамасо.
— Просто тебя что-то мучает, но ты не хочешь доверяться тому, кто может тебе помочь.
Из-под юбки выглядывала нога, обутая в альпаргату, у которой почти совсем протерлась пятка.
— Я зашью, когда вернусь, — сказала она, погладив подошву. И с гордостью добавила: — Теперь у меня есть иголка с нитками.
В этом ее упоминании о домашних вещах было что-то чистое и трогательное. Она словно вновь обрела свое женское царство. Шеннон не мог удержаться от желания поцеловать эту исцарапанную руку, которой она гладила подошву и прятала наваху у себя на груди. Но девушка отстранила его и ласково, чтобы не обидеть, сказала:
— Не надо.
Неподвижный воздух застыл, будто его и не существовало вовсе. Как и холода. В сумеречном бархатисто-синем свете все казалось печальным и отрешенным. Словно что-то витало в воздухе, что-то должно было случиться. Какое-то чудо, как в сказке со счастливым концом. И этот воздух заставил Шеннона произнести слова, которые, сорвавшись с губ, оставили на них привкус пепла его мистической фразы.
— Я знаю, что не нужно. Вернее, нельзя.
Но ничего не случилось. Разве что выражение ее рта стало по-детски доверчивым, а взгляд более глубоким, когда она ответила:
— Не понимаю.
— Не все ли равно. Кто-то один вдруг понимает, что так и должно быть. А уверенность успокаивает, даже когда причиняет боль.
Воцарилась тишина, такая ощутимая, будто она встала между ними. Ее нарушила сова, хранительница часовни, принявшись мелодично вздыхать на разные лады.
— Птица мудрости, — задумчиво произнес Шеннон. И с отчаянием, хоть и спокойно, добавил: — Если бы можно было не уходить отсюда, не подниматься, остаться здесь навеки!.. Если бы это было возможно!.. — Он с трудом заставил себя встать.
И окутанные неподвижными, таинственными сумерками, которые обещали чудо, так и не свершившееся, Шеннон и Паула отправились в обратный путь. Едва они достигли первых сосен, как их обступила целая армия теней. Холод пронзил их. Вдали, над суровыми горами, всплывала кровавая луна.
Напрасно Шеннон снова и снова спрашивал себя: почему не случилось чуда, которое обещали таинственные сумерки? Да и что в них было таинственного? И что должно было случиться? Но тут захохотал щегол, а Паула запела о пленнике, у которого убили птичку. Шеннона охватила внезапная ярость, и он язвительно сказал:
— Да, я знаю много романсов. Сейчас мне на память пришел еще один. О французской принцессе, которая идет по дороге с кабальеро. Он держит себя слишком скромно, и когда они приходят во дворец короля, она с издевкой говорит ему: «Насмешил меня кабальеро! Кто видал такую трусливость? Выть вдвоем с красоткою в поле и выказывать ей учтивость!»
Паула ничего не ответила, только посмотрела на него печальными глазами — не из мира сказок и спокойных сумерек, а из мира дорог и скал, заросших кустарником. И Шеннон раскаялся в своих словах.
— Не обращай на меня внимания. Я знаю другие романсы, гораздо лучше этого, и они тебе больше подходят.
— И тебе тоже, — уверенно ответила Паула.
— Мне?
— Ты ведь не Сухопарый.
— В том-то и беда… Но это верно… Знаешь, какой случай произошел со мной однажды в Италии?.. Мы только что захватили деревушку, еще горели дома. Наш взвод получил небольшую передышку. Я отошел в сторонку, сел против развалин дома и открыл банку мясных консервов. Вдруг рядом выросла тень. Я поднял голову. Женщина в черном встала передо мной на колени. Ей было совсем немного лет, но выглядела она почти старухой и молодость уже никогда больше не вернется к ней. На руках она держала девочку с большими глазами на исхудалом лице. Девочка эта была немым укором тому, что творилось вокруг. Женщина обратилась ко мне на ломаном итальянском языке. «Pane… bambina»[7], — говорила она, протягивая ко мне руку. И тут же добавила, глядя на меня с откровенным вызовом и вместе с тем с полным равнодушием: «Я дом близко… я с тобой…» Я отдал ей свою еду и встал. Она поцеловала девочку, положила ее на землю и тоже встала. Она меня не поняла. Я ласково погладил девочку и спросил ее: «Откуда ты, милая?» «Тресанко, синьор», — ответила она тоненьким голоском. «Сицилия», — пояснила ее мать, глядя на меня с удивлением. Я посмотрел на нее, улыбнулся и пошел прочь.
Шеннон помолчал, воскрешая в памяти прошлое; тишину нарушал только ритмичный звук их шагов.
— Не успел я отойти, — продолжал он, — как женщина догнала меня. «Святой! Святой!» — сказала она и, сунув мне что-то в руку, добавила: «Принесет много счастья!» Это был амулет, маленький коралловый кулачок. «А разве вам он принес счастье?» — спросил я. Женщина показала на девочку и воскликнула: «Она жива! Понимаете, жива!» «А отец?», — спросил я. «О, нет, нет… Умер. Но но теперь. Раньше, дома. Праведной смертью». Я хотел вернуть ей амулет. Но она не взяла. Она стояла и долго-долго смотрела мне вслед…
Они подошли к реке уже совсем близко. Луна отражалась в воде и чуть серебрила влажные бока стволов, отчего река казалась светлой среди густых лесных теней.
— Эта история напомнила мне о том романсе, который я только что тебе рассказал, — улыбнулся Шеннон с горечью. — Когда я потом сказал об этом случае товарищу, он посмеялся надо мной. «Дурак! Она хотела получить хлеб для дочери, мужчину для себя и выглядеть при этом повинной жертвой…» Так ответил мне храбрый солдат. И сначала я ому поверил. Но поразмыслив, я решил, что он не прав… иначе зачем ей было давать мне вот это… Как ты думаешь, Паула?
С этими словами он отвязал от пояса коралловый кулачок, висевший на шнуре. Паула подержала его немного. Ее неподвижный силуэт четко вырисовывался в лунном сиянии.
— Я никогда не стану искать мужчину, Ройо. Никогда, можешь не сомневаться, — убежденно произнесла она, возвращая ему амулет.
Шеннон поцеловал коралловый кулачок и снова привязал его к поясу. Затем свернул в сторону, делая небольшой крюк, чтобы им прийти в лагерь порознь. Он думал о том, что, если бы там, на холме, в почти священных сумерках, случилось бы что-то неведомое, еще непознанное… «Кто знает?» — спрашивал он себя.
Паула смотрела, как он удаляется от нее все дальше и дальше.
— Ах! — глубоко вздохнула она. — Если бы я могла его полюбить!
4 Ла-Тагуэнса
От Бухадильи до моста Ла-Тагуэнсы не больше восьми километров по реке, однако потребовалось почти десять дней, чтобы преодолеть трудные теснины Уэльгас, Пье-Лабро и Портильо-Рубио. Погода снова испортилась, лил холодный дождь, а когда он переставал, люди все равно часто соскальзывали в воду с камней и бревен. Первое апреля настигло их у кладбища Уэртапелайи, чтобы порадовать взгляд, как сказал Балагур. На следующий день они добрались до Ла-Тагуэнсы — мост, построенный на высоте тридцати метров, обоими концами упирался в скалы. Миновали его с трудом, на бревнах, так как берега здесь были крутые, и, разбив лагерь чуть ниже по течению, усталые, завалились спать.
Что-то вдруг заставило Шеннона проснуться, едва лишь забрезжил рассвет. Дождя, к счастью, не было. Шеннон удивился, увидев, с каким остервенением, чуть ли не пинками, расталкивает Американец одного из спящих. Рядом с ним стоял Сухопарый, потерявший всю свою уверенность, и не переставая кричал:
— Да не может этого быть, дружище! Не может быть! Я сам связывал их вместо с Четырехпалым. Я ведь всю жизнь лес сплавляю.
— Тогда почему же они разорвались? — в бешенстве спросил Американец.
— Не знаю… Может, вода поднялась?
— Не выше, чем вчера.
— Не может этого быть.
— Пойди посмотри сам.
— Всю жизнь сплавляю лес, — тупо твердил Сухопарый.
Едва Шеннон увидел расстроенные лица сплавщиков, он сразу понял, что произошло что-то серьезное.
— Кузнец-то он хорош, только молота ему не хватает, — шутливо заметил Дамасо, как бы оправдывая товарища.
Сухопарый, пристально взглянув на него, обратился к Четырехпалому:
— Узлы ведь были крепкие, не могли они развязаться, правда, Четырехпалый?
— На совесть делали, на совесть, — ответил тот с раздражающей невозмутимостью. — Может, если бы Дамасо не ходил туда ночью, ничего бы и не случилось.
— Заткнись, мать твою разэдак.
— Оставь мою мать в покое, — ответил Четырехпалый. — Она тут ни при чем.
Сухопарый с грозным видом подскочил к Дамасо.
— Если это сделал ты, я из тебя душу вытряхну.
— Хватит ругаться, — рявкнул на них Американец, — пошли лучше посмотрим, как там обстоят дела.
— Если бревна осели на перекате, — сказал Балагур, — еще куда ни шло. Они там застрянут, и можно будет их выровнять.
— Не забывай, что до мели есть еще Ла-Кебрада, — напомнил ему Кривой.
Тем временем все уже были готовы, чтобы сопровождать Американца вниз по течению.
Подойдя к берегу, Шеннон увидел, что сплавной лес стоит на месте. Обычно передние стволы связывают на ночь, и они в таком положении остаются до утра, а на другой день их разъединяют и пускают дальше. Когда же стволы нагромождаются сами, образуется затор и бывает очень сложно их разъединить.
Из разговоров сплавщиков становилось ясно, что исход мог быть двояким: либо стволы достигли Ла-Паррильи и там осели на перекате, задержав остальной лес, и тогда беда не велика; либо скопились в теснине Ла-Кебрада. Этот исход был худшим и наиболее вероятным.
Действительно, стволы застряли между огромными скалами в том месте, где русло реки сужалось до четырех-пяти метров. На этом участке течение было очень сильным и неустанно громоздило стволы всю ночь, едва передние перекрыли путь. Вода, сдерживаемая этим скоплением бревен, вздымалась и пенилась, яростно клокоча между стволами.
Мужчины созерцали катастрофу, молчаливые и подавленные.
— Нечего сказать, удружил ты нам, — со вздохом произнес Четырехпалый.
— Кто?.. — взвился Дамасо, схватив Четырехпалого за горло. — Посмей только еще раз назвать мое имя, живо полетишь в реку вниз башкой. — И, обернувшись к остальным, спросил: — Что мне за выгода, если мы будем здесь торчать?
— Как же тогда это могло произойти? — спросил Белобрысый.
— А я почем знаю? Может, кто-нибудь из Уэртапелайи, из этих прибрежных сволочей… Поди узнай теперь!
— Ясное дело: не пойман — не вор, — растягивая слова, проговорил Сухопарый, — а только ты и без выгоды можешь любое зло сотворить.
— Хе! Что я, дьявол, по-твоему?
— О том один господь бог ведает! — вздохнул Четырехпалый, подняв глаза к небу.
— Значит, по-вашему, я дьявол? — усмехнулся Дамасо, явно польщенный. — Здорово!
Американец положил конец перебранке. Надо было что-то предпринимать и прежде всего выяснить на месте, как обстоят дела. Обогнув скалу, Американец спустился к воде чуть выше по течению и, пройдя по стволам к узкой теснине, скрылся между двух скал. Внимательно оглядев затор, он повернул назад, но поскользнулся, упал в воду и выбрался на берег весь мокрый, держа шляпу в руке, которая слегка кровоточила.
Возвратившись к сплавщикам, он сказал, что дела обстоят прескверно. Огромный ствол, зажатый между скал, как в тисках, не давал ходу напиравшим на него и громоздившимся друг на друга бревнам. Надо было «выбить» его, то есть подрубить с двух концов топором, чтобы он сам прошел и дал дорогу другим.
Мужчины переглядывались с мрачным видом. Выбивать ствол, спустившись сверху по канату, было очень опасно. Лавина бревен, которая тронется вслед за подрубленным стволом, может раздавить того, кто будет рубить. А ведь тот сплавщик, которого Шеннон встретил с Паулой по дороге в Саорехас, возможно, потеряет ногу из-за более пустякового случая.
По заведенному у сплавщиков обычаю спускался на канате тот, кто связывал бревна накануне. Сухопарый потуже затянул на себе ремень и окликнул Четырехпалого. Тот, услышав, что его зовут, перекрестился.
— Пошли.
— Погоди, Четырехпалый, — преградил ему путь Дамасо. — Ты и в самом деле думаешь, что это сделал я?
— Дружище, я только видел, как ты ходил куда-то ночью, пока я молился… Конечно, я не знаю, что ты делал… но от тебя всего ждать можно…
— А не знаешь, так помалкивай… Я ходил по нужде, видно, застудил себе брюхо в эту непогоду… Но раз ты так думаешь, вниз спущусь я, чтобы вы все видели…
Сухопарый не соглашался. Наконец порешили на том, что они спустятся вдвоем. Бросили жребий, кому выпадет делать последние удары топором, самые опасные.
— Их не придется делать, — заявил Американец.
— Не придется? А как же?
— Я послал Лукаса в лагерь за взрывчаткой. Разве вы не знали, что я взял с собой динамит? На застрявшем стволе я сделал навахой метку, в том месте, где надо вырубить углубление для заряда. Взрывчатку привяжите крепко-накрепко, подожгите запал и поднимайтесь… а там посмотрим.
Услышав о выходе, не представлявшем опасности для жизни, сплавщики были поражены, словно каким-то чудом. Несколько тысячелетий сплавляли здесь лес, но никому и в голову не приходило взрывом разбивать запруду.
— Как ты додумался до этого, Американец? — спросил Кривой.
— Мне всегда нравилось взрывать.
— Я так и думал, — усмехнулся Негр. — Наши астурийские подрывники считались ювелирами в своем деле.
По улыбке Американца Шеннон понял, что со взрывчаткой у него связаны воспоминания о прошлом. Даже золотой зуб заблестел ярче обычного.
Меж тем вернулся Лукас, бережно неся пакет с динамитом. С вершины скалы на веревке спустили Дамасо, который ни под каким видом не пожелал, чтобы кто-нибудь, кроме него, осуществлял эту затею с пиротехникой. Вид у него был довольный, он спускался вдоль скалы, отталкиваясь от нее руками и ногами, чтобы избежать ударов.
— Гляди в оба! — предупредил его Кинтин, — а то взлетишь на воздух!
— Xe! — только и отвечал Дамасо.
— Видишь мой надрез навахой? — спросил его Американец, когда веревка ослабла.
— Вижу, — откликнулся голос из глубины.
— Тогда делай углубление для взрывчатки.
Они молча ждали, пока спнзу допосплись ритмичные удары топора.
— Эй! — крикнул Дамасо, прервав работу. — Ужо готово! А то динамит намокнет!
— Неважно. Он не боится воды. Привяжи покрепче проволокой и дай нам знать, как только подожжешь шнур.
— Будь спокоен, артельный. Вернусь живым и невредимым. Назло всем святым!
Сплавщики замерли в тревожном ожидании, вцепившись в веревку, чтобы в несколько секунд поднять Дамасо. Время тянулось медленно.
— Эй, артельный! — послышалось наконец снизу.
— Что-нибудь случилось?
— Нет. Все готово. Шнур горит как миленький.
— Вверх! Скорее вверх!
Все разом рванули веревку. Едва Дамасо вскарабкался на скалу, страшный взрыв потряс воздух, отдавшись эхом в горах. Между скалами взлетели крупные обломки стволов: одни падали на землю, другие — в реку.
— Ты же мог взлететь на воздух, скотина! — в бешенстве кричал на Дамасо Американец.
— Я? От этой шутихи? Хе!
Вниз по течению, вырвавшись на свободу, поплыли первые стволы. Американец заранее послал Двужильного и Обжору вверх по реке, чтобы придержать сплавной лес и избежать нового затора. Сухопарый и Белобрысый, спустившись к воде, направляли стволы. Остальные следили, чтобы проход был чист, и бревна могли плыть без задержки.
Американец и Дамасо переглядывались со счастливым видом.
— Теперь-то уж я наверняка встану ночью и сделаю новый затор, — сказал Дамасо.
— И останешься в дураках, потому что у меня нет больше взрывчатки.
— Врешь, артельный. Не взять с собой таких красоток! А ты тоже хорош! В тебе сидит дьявол, как говорит наш святоша.
— Пожалуй, когда-то сидел… — согласился артельный.
За утро под руководством Дамасо запруда была выстроена. И так как Горбуп раскппул лагерь у самой запруды, Дамасо развлекался тем, что дразнил Обжорку, будто это он ночью развязал стволы и устроил затор. Сначала мальчик возражал, сердился, плакал от злости, а потом замолчал, доведенный до отчаяния. И вдруг Шеннон увидел, как Обжорна нагнулся, схватил камень и запустил в Дамасо. Камень шлепнулся в воду совсем рядом со сплавщиком. Дамасо обернулся, и в тот же миг еще один камень, пущенный более метко, до крови оцарапал ему щеку и ухо.
Мальчик, напуганный собственной смелостью, бросился бежать, призывая на помощь отца. Дамасо спрыгнул на землю и кинулся вслед за ним. Никому до них не было дела, только в глазах Паулы промелькнуло беспокойство. Встревоженный Шеннон побежал за ними, чтобы защитить мальчика. Обжорка юркнул в густые заросли можжевельника и остановился.
Нагнав его, Дамасо крепко схватил мальчишку, но бить не стал, а принялся нашептывать ему проникновенно и задушевно:
— Я не собираюсь тебя трогать, дурачок, хотя ты мне здорово врезал. Всегда так делай, потому что все вокруг злые. А не будешь швырять камни в других — лучше сразу подыхай, не то забьют… Все люди злые. И твой отец, который не пришел тебя защитить, и Американец, и Паула, и…
— Нет, Паула не злая, — возразил мальчик, пораженный тем, что его не бьют.
— А я говорю — злая, потому что она всем нам нравится, а это самое большое зло. И тебе она тоже правится, не отнекивайся… Даже эта река, по которой нас тащит наша бедность, — злая. Кругом зло. Ну-ка, парень, скажи мне теперь, какой мир?
— Злой! — сплюнул мальчик яростно, как взрослый. — Злой! Злой! А ты самый злой из всех, самый гадкий, самый плохой!
— Вот, вот! Так и надо, — улыбнулся Дамасо, отпуская мальчика, который, отпрыгнув в сторону, застыл на месте. — Теперь ты говоришь как настоящий мужчина.
Дамасо поднес платок к раненому уху и приблизил свое лицо к мальчику.
— Здорово ты мне заехал! — произнес он удовлетворенно. — Ты ведь доволен, правда? Знаешь, а из тебя кое-что выйдет, парень! — заключил он. — Когда мы будем в Аранхуэсе, я подарю тебе наваху на память о Дамасо, чтобы ты по забывал, чему он тебя учил.
Шеннон слушал их, оставаясь незамеченным. Он хотел вмешаться, возразить, воспротивиться столь пагубному воздействию на мальчика, почти убийственному для его души. Но что он мог сказать, пережив то, что было в Италии, и последовавшее затем отчаяние? Новая же надежда, если она и зародилась в нем, была еще слишком слаба! Что значила она рядом с могущественной силой, которую олицетворял Дамасо?
И Шеннон молча отступил. Возможно, он поговорит с мальчиком когда-нибудь потом, когда они будут одни… Если сумеет найти нужные слова.
5 Отерон
На сей раз не пастух и не охотники, изредка подходившие к реке, а многолюдное шествие, столь необычное в горах — целый караван пеших и всадников, — спускалось вниз по тропе. Для одной семьи их было, пожалуй, слишком много, хотя там были и женщины с детьми.
— Кто бы это мог быть? — спросил Американец у Сухопарого.
За прошедшую неделю миновали отмели Ла-Парильи и плотину Лас-Хуитас. Теперь они были между тесниной Альбанкехо и соляными разработками Ла-Инесперады.
— День добрый, — поздоровался старик, ведший за собой мула. Он, как и все остальные, был одет в черный воскресный костюм и выглядел торжественно. — Как брод?
— День добрый, — ответил Американец. — В полном порядке. Даже пяток не замочите. Куда это вы направляетесь?
— На процессию в Отерон.
— И то верно! — воскликнул Сухопарый. — Ведь сегодня страстная пятница!
— В этой глухомани, — сказал Балагур, — не мудрено забыть даже о смерти господа бога!
— Уж я-то не забыл, — произнес Четырехпалый, имея в виду свои тайные молитвы и покаяния последних дней.
Сплавщики с радостью встретили это известие. Страстная пятница и светлое воскресенье были единственными днями, когда можно было позволить себе не работать. Странно было, что их капитан но учел этого обстоятельства. Не успели они удивиться, как он собственной персоной показался чуть ниже по течению, верхом на осле, которого вел за собой его конюший. Это был представительный пожилой мужчина в хромовых сапогах, с цепью от часов на поясе и в совсем еще новом сомбреро. Он высокомерно приветствовал сплавщиков. Шеннон, обменявшись с ним несколькими словами, лишний раз убедился, что в Испании люди беседуют между собой, как на государственных переговорах: дружественно, однако не забывая о собственном достоинство и независимости.
Сплавщики поглядывали друг на друга, пока на противоположном берегу, за холмом, постепенно скрывались путники.
— А, черт! Торчать тут, когда все добрые христиане идут на процессию в Отерон!
— Перестань чертыхаться в день смерти Христовой, Сухопарый! — одернул его Балагур.
— У гроба господня мы могли бы получить отпущение грехов, — добавил Четырехпалый.
— Да, нечего сказать, в таком виде нам только и идти куда-нибудь, — усмехнулся Дамасо.
И действительно, вид у сплавщиков был довольно плачевный… Бороды всклокочены, ноги обуты в альпаргаты, одежда грязная, рваная. Словом, они совсем по походили на одетых по-праздничному путников, которые отправились в Отерон.
— Мы как разбойники с большой дороги, — заключил Белобрысый.
— Подумаешь, — усмехнулся Сухопарый, — Нас иначе и не называют.
— Я пошел, — сказал Американец. — А вы как хотите.
— Мы тоже идем. Ясное дело, в куртке и выбритым было бы приятнее, но что поделаешь.
— И так сойдет.
— Горбун все равно но успеет всех пас побрить.
— Побреемся в селении.
— А разве цирюльник сегодня работает?
— Побреет ради такого случая!..
Вернувшись в лагерь, они обо всем договорились. Горбун согласился остаться сторожить вещи: ему все равно не под силу идти так далеко. Негр тоже захотел остаться. Для Паулы запрягли Каналехаса, прихватили с собой Обжорку и отправились в путь.
— В былые времена, — рассказывал Балагур Шеннону по пути, — сплавщики сами делали распятие, не хуже других. Складывали две палки крестом, привязывали к нему какого-нибудь сплавщика помоложе, который изображал Христа, и отправлялись в селение, где их с радостью принимали в свою процессию местные жители.
— Ты сам это видел, Кинтин? — спросил Кривой.
— Нет, сам не видел, но слышал много раз. Наверное, с этим обычаем было покончено после того, как однажды уронили крест и здорово покалечили Христа. Но точно сказать не могу.
— А в Отероне ты когда-нибудь был на процессии?
— Я был, только очень давно, — вмешался в разговор Американец. — Там все очень скромно, зато берет за душу. В страстную пятницу совершают обряд погребения Христа. Его несут в часовню Гроба господня и там остаются всю ночь у его тела. А в субботу под колокольный перезвон уносят.
Отерон, в отличие от других селений округи, расположился неподалеку от реки. Не прошло и часу, как показались серые домишки. Сплавщики и Паула на осле привлекли всеобщее внимание. Какой-то парнишка проводил их до парикмахерской, которая, как и следовало ожидать, была закрыта.
Однако парикмахер рассудил здраво и, несмотря на страстную пятницу, решил подработать. Он согласился уважить просьбу бедных людей с реки, но при условии, что ему заплатят вперед. Разумеется, он им доверяет, просто не хочет липших осложнений.
— Смотри, как бы мы тебя самого не обрили, — огрызнулся Сухопарый.
— Зря кипятитесь, друзья. Такой уж у меня порядок.
Оп ввел мужчин в дом и усадил на скамейки. Паула пошла в церковь, и Шеннон отправился проводить ее, а заодно пройтись по селу. Цирюльник принес из дома кофейник с горячей водой и стал взбивать пену. Затем остриг бороды ножницами и распахнул настежь окно, чтобы было светлее. Достал наваху и аккуратно погрузил ее во флакон с розоватой жидкостью.
— Что это? — удивился Обжора.
— Дезинфицирующее средство.
— Высший класс!
— Высший класс вот где, — произнес вдруг Белобрысый, который стоял ко всем спиной и что-то разглядывал на стене. — Она тебе родственницей доводится?
— Нет, просто знакомая.
Остальные сплавщики тоже подошли посмотреть. Это была дешевая литография, изображающая девушку в довольно прозрачной блузе.
— Будущая хозяйка заведения.
— Точно! Святая искусительница.
— И не совестно женщине так фотографироваться! — сказал Лукас.
— Это же не фотография, дурак, а рисунок.
— Не хотел бы я быть на месте художника.
— Почему?
— Так ведь он это рисовал, чтобы раззадорить других…
— Поглядите-ка на Сухопарого!
— Ну как, хорош? — спросил тот.
— Не крути головой, порежу.
— У тебя рожа стала гладкой, как зад у девки.
— Так и хочется поцеловать.
— Сначала получи мое разрешение.
Однако, встав с кресла, Сухопарый с явным удовольствием рассматривал свое отражение в зеркале, поглаживая лицо рукой.
— Совсем другая морда после бритья.
Постепенно все они претерпели то же чудесное преображение. Сплавщики едва узнавали друг друга. Переглядываясь, они вышли на улицу, пугая деревенских мальчишек и удивляясь своему необычному виду и не менее необычному виду селения.
Улицы словно оцепенели. Одетые по-праздничному мужчины стояли небольшими группками. Казалось, воздух был пропитан особой сдержанной торжественностью. Жизнь замерла… Какой-то мальчуган вдруг запел, но его тут же оборвал мужчина, дав ему подзатыльник.
— Заткнись, олух, господь бог умер.
Мальчишка мгновенно стих и тоже застыл в торжественном оцепенении. Даже свинцовые тучи недвижно висели над домами.
К полудню сплавщикам наскучило это зрелище, эта пассивность, с какой чему-то отдавали дань. Они направились в таверну, но таверна оказалась закрытой.
— Господь бог умер, — ответила им женщина, к которой они обратились.
— Мы не будем пьянствовать и дебоширить, — объяснил ей Американец, — мы хотели бы только слегка промочить горло после еды.
— Нельзя торговать. Господь бог умер.
В эту минуту через площадь проходил священник местной церкви. Американец кинул оценивающий взгляд на этого высокого, атлетически сложенного человека с седыми волосами.
— А если сеньор священник даст разрешение? — спросил он.
Но поскольку ответа не последовало, Американец пошел навстречу священнику. Подойдя ближе, он увидел, что у священника тонкие, но загорелые руки, мягкий рот и проницательные глаза. Американец объяснил в чем дело, и тот, выслушав его, направился к женщине, говоря по дороге:
— Торговля мне не подчиняется. Она в ведении аюнтамиенто. Но я не против.
— Сегодня я не открою, даже если мне прикажет сам алькальд, — упрямо возразила женщина, выслушав священника. — Умер господь бог!
— Нечего сказать, хорош у нас будет обед, — проворчал Обжора. — И угораздило же Горбуна положить нам в котомку трески! А вино?
— Идемте со мной, — позвал священник.
Оп привел их к своему дому и пригласил в сени, побеленные, пустые, с единственной скамьей вдоль стены, сиденье которой было выложено красными плитками. Они прошли мимо лестницы, ведущей в жилое помещение, и очутились в крошечном, не больше пятнадцати квадратных метров, огородике, с маленьким кипарисом и колодцем в глубине. На ухоженных грядках огорода вытянулись в ряд голубоватые кочаны капусты, а фасоль карабкалась вверх по тростниковым треножникам, стоявшим, словно винтовки в пирамиде.
— Это мой сад, — пояснил священник. — Рассаживайтесь поудобнее.
Перед домом оставался незанятым небольшой клочок земли, затененный лозами вьющегося винограда. Кое-кто из сплавщиков уселся на скамью, остальные продолжали стоять.
— Боюсь, у меня не найдется столько стульев, — виновато пробормотал священник и крикнул: — Эухения!
— Не беспокойтесь, отец. Мы сядем на землю.
В дверях показалась седовласая старуха.
— Налей в мою охотничью флягу белого вина, самого лучшего, того, что мне подарил дон Хасинто.
— Самого лучшего, дон Анхель? Разве вы не берегли его на случай…
— Это как раз тот самый случай, Эухения.
— Если налить полную флягу, ничего не останется.
— Пу и наливай.
— Не надо, отец, — сказал Американец. — Мы привыкли обходиться тем, что есть.
— Зато я не привык принимать у себя гостей, — улыбнулся священник, — такое событие надо отметить. Хлеб у меня тоже найдется и масло оливковое… Чего бы еще вам предложить?
— Мы захватили с собой достаточно. Нам не хватало только вина, в лагере осталось совсем немного, и мы собирались купить здесь.
— Я потом пошлю Эухению. Может, ей продадут, тогда вы сможете захватить с собой.
— Выходит, для вас господь бог не умер? — вкрадчивым голосом спросил Дамасо, вызвав досаду у остальных.
— Господь бог умер и для меня, — ответил священник, пристально вглядываясь в Дамасо. — Но, возможно, хозяйка таверны только пользуется случаем, чтобы вам ничего не продать. Вы уж не обижайтесь, но сплавщики в нашем селении пользуются дурной славой.
— Как и везде, — хвастливо произнес Сухопарый.
— Возможно. Два года назад они украли у жителей нашего села нескольких кур. А в прошлом году, когда уходили отсюда, произошло нечто странное. Явилось привидение ц тоже унесло нескольких кур… Надеюсь, в этом году оно не явится.
— Конечно, нет, — уверенно произнес Балагур.
— Я очень рад, потому что в последний раз позвали меня, чтобы я прогнал его святой водой. А я на всякий случай прихватил ружье, уж оно-то наверняка помогло бы справиться с привидением. Но я немного опоздал.
— Так вы позвали пас, чтобы сообщить об этом? — язвительно спросил Дамасо, вставая со скамьи.
Священник помедлил с ответом, словно желая убедиться, что ого слова были правильно поняты. Решив наконец, что цель достигнута, он проговорил:
— Нет. Прошу прощения, но я позвал вас сюда, чтобы вы могли спокойно поесть и выпить глоток вина. Я не приглашаю вас подняться наверх, потому что столовая слишком мала, и не ем с вами здесь, потому… потому, что мне надо еще обдумать проповедь. — И добавил, обращаясь к Американцу: — Вы уж не обессудьте. Извииите, но мне придется покинуть вас. Прощайте до вечера. Если вам что-нибудь понадобится, кликните Эухению.
— Большое вам спасибо, — поблагодарил Американец, но священник уже направился в дом.
— Небось пошел лакомиться курятинкой по случаю святого дня, — проворчал Обжора. — А мы тут жри хлеб да треску.
— Даю голову на отсечение, — уверенно произнес Американец, — у этого человека с утра во рту крошки не было.
— Как вы догадались? — ласково спросила старуха, появляясь в дверях с флягой. — Это святая правда.
— Я хорошо разбираюсь в людях.
— Вы ему тоже сразу понравились, сеньор. Он сказал мне, чтобы я делала все, что вы скажете. Теперь я понимаю, почему он велел достать самого лучшего вина. Пейте на здоровье. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите меня. Только не очень громко, чтобы ему не мешать. Я тут рядышком, мне все слышно через окно.
Американец проводил женщину до двери кухни и стал расспрашивать:
— Скажите, сеньора, как зовут священника?
— Дон Анхель Понсе.
— Он давно живет в этом селении?
— Девятнадцать лет.
— Вы ему родственница?
— Нет. Но мой сын стал священником благодаря ему.
— Так почему же?.. А, понимаю… ваш сын умер.
Старуха молча кивнула головой. В кухне царил полумрак, лишь слабо отсвечивал медный таз да седые волосы женщины.
— Простите, сеньора, что я так бесцеремонно вас расспрашиваю. Но, поверьте, это не праздное любопытство. Сам не знаю, что это, только не праздное любопытство.
— Просто вы поняли его. А я с удовольствием вам отвечу. Я вдова, у меня был единственный сын, но он покинул меня и стал священником. Из-за него. Я не хотела, но я была неправа. Потом он умер, я осталась одна на всем белом свете и поселилась здесь, чтобы отплатить святому человеку за счастье и добрую смерть моего сына.
— Понимаю.
Сплавщики поели трески с хлебом и выпили вина за здоровье странного священника. Вдруг раздался страшный грохот. Гигантская трещотка, установленная на башне, призывала в церковь. Словно муравьи, со всех сторон сползались люди к дороге, ведущей к божьему храму. Сплавщики вошли в церковь последними и сбились кучкой подальше от алтаря, почти у входа, сохраняя расстояние между собой и селянами. Здесь и присоединился к ним Шеннон, когда, перекусив с Паулой на паперти, проводил ее к женщинам, сидевшим поближе к алтарю.
Появился священник. Помолившись, он направился к амвону, и тотчас люди шумно задвигали стульями и скамеечками. Священник поднялся по скрипучим ступенькам ветхой лестницы, и над головами прихожан поплыла тишина, словно спустившаяся с неба, а прозвучавший в пей голос почти испугал собравшихся.
— Братья и сестры во Христе, — начал священник, — вы хорошо знаете то, о чем я вам сейчас скажу. Вы повторяете со вчерашнего дня: «Тише, господь бог умер». «Не пойте, наш господь умер». Мы говорим так, — и голос ого стал громче, — но сами остаемся прежними, хотя нет на свете более страшных слов. Господь бог умер! Что еще можно сказать? Ничего. Мне остается только возопить: «Господь бог умер!», чтобы слова эти парили в воздухе, а самому погрузиться в молчание.
Шеннон был захвачен с первой же минуты, едва этот человек заговорил, просто, без латыни, от чистого сердца.
— Но мы слишком часто повторяем слова, и они теряют смысл. Когда нам говорят, что кто-то умер, мы не чувствуем этого всей своей плотью. Видно, это бог нас милует, ибо плоти нашей не вынести такого удара, и мы знаем не самые вещи, а лишь слова. Но смерть господня должна поразить нас. Нам не уйти от нее, она здесь. Вот мне и приходится брать на себя смиренное дело женщины, которая ревностно начищает потускневшее серебро. Я отточу и отчищу, если смогу, свои слова, чтобы они ослепили пас, словно живое серебро, и страшный вопль о смерти господней ранил нас навылет.
«Как это верно, — подумал Шеннон, — слова слишком ничтожны. Мы говорим «любовь», а сердце паше изнывает». Он жадно слушал, ибо то была не книжная проповедь, а глас вопиющего в пустыне. И действительно, священник был почти одинок: его речь взволновала лишь Американца да Шеннона; у остальных же эта странная проповедь об одиночестве, без привычной латыни, славословий и штампов, вызвала недоумение.
Священник продолжал говорить о том, что мы, по недомыслию, слишком щедро поминаем всуе слово «бог», как слово «знамя» на митингах, забывая о том, что знамя это воин сжимал в руке до последнего вздоха и даже после смерти не выпускал, пока древко но отсекли вместе с окоченевшими пальцами. И с той же легкостью, с какой мы поминаем божье имя, мы относимся к самому богу: вот почему паша вторая заповедь — самая важная после любви к нему — чтить имя его.
— И я говорю вам, — продолжал он, — произнося слово «бог», думайте о боге всем сердцем и всей кровью, как жаждущий мечтает о воде, которая смочит его пересохшие губы, и не в силах думать ни о чем другом — ни о пище, ни о женщине, ни о чести. Если бы бог был с нами, он у пес бы все, как река, и нам остался бы лишь ослепительный свет. Но нам не хватает мужества для такой веры! — воскликнул он, — Мы счастливы, забывая, мы тешимся малодушием, и на сотни ладов выдаем его за храбрость. Да, раньше и праведник, и грешник были сильны. И тот и другой верили в бога, трепетали перед ним и потому были достойны надежды. Теперь же мы погрязли в бумагах, речах, книгах, организациях, а о боге забыли. Мы пользуемся им, извлекаем из него выгоду, не смея взглянуть ему в лицо, ибо тогда паша трусливая и удобная жизнь стала бы невыносимой.
Его голос пресекся, когда он понял, что бессилен описать величие бога, его могущество, его гнев, его безбрежную любовь и скорбь. Бог являлся только святым, и они, поверженные и обессиленные, падали ниц перед ним. И священник заговорил о смерти, о том, что здесь, на этой земле, обращались в прах поколения. Эти люди любили, враждовали и ненавидели, считая себя осью вселенной. Но что осталось от них?
— А теперь, — говорил он, — объедините эти слова, уже сами по себе внушающие трепет, и произнесите со мной: «Господь бог умер». Разве они не поражают вас? Разве вам не хочется крикнуть: «Возможно ли это?!» А если возможно, как ждать бессмертия, когда сам бог умер? Как верить в него? Вообразите хорошенько то, о чем мы сегодня вспоминаем. Постарайтесь все увидеть! Бог умер на вершине горы; а рассудительные горожане, которые не посещают низменных зрелищ вроде смертной казни, необходимой для поддержания общественного порядка, толкуют о делах или ласкают рабынь. Вот обезображенное, распятое тело среди солдатни, и зеваки, и убитые горем друзья среди иерусалимской черни. Смотрите на мертвого бога и содрогайтесь!.. Ибо это страшная тайна, и жутко думать о ней — значит, и бог смертен? Значит, кроме всего прочего, он нес в себе и твердое, горькое ядрышко смерти? Но я думаю так: легче верить в бога, который не может умереть, однако надежду свою мне легче вверить богу, который умер. Ибо его смерть — дивные врата воскресения. А воскресение его — надежда на то, что и я воскресну. Без этого, братья и сестры, я бы не мог продолжать свой одинокий путь, влачить свою грешную земную жизнь и достойно ждать воскресения из мертвых.
Голос человека, вопиющего в одиночестве, падал в людскую бездну, туда, где таится неизведанная боль и нежданное семя надежды. Стояла глубокая тишина. Лишь какое-то едва уловимое движение, словно напряженное биение мысли, должно быть, достигло амвона. И священник понял, чего от него ждут: пора переходить к своим обязанностям, хватит взывать из глубины одиночества. Он вздохнул, упрекнул себя в эгоизме и заключил свою проповедь, как и подобает иерею:
— И если тайна, возлюбленные братья и сестры, — продолжал он более торжественно, — горька и непонятна нам, каково же было пресвятой деве в тот невыносимый вечер, когда она сразу лишилась и бога, и сына! Вот почему ее одиночество было и остается вовеки веков самым безнадежным; вот почему…
Шеннон едва уловил легкий шелест и догадался о причине. Он убедился, что прав, когда из груди прихожан вырвался блаженный вздох облегчения, и едва ли не ощутил привычный ход мыслей, вернувшийся в их обнаженные или покрытые вуалью головы. Шеннон был недоволен, но не посмел обвинить священника, увидев, как женщины согласно закивали и стали подносить платки к глазам. Он вынужден был смиренно признать, что и это заслуживает уважения. Да, заслуживает, несмотря на исступленные рыдания Четырехпалого, слушавшего проповедь на коленях, со скрещенными на груди руками.
Шеннон, наоборот, конец проповеди слушал рассеянно, но вот до него донесся скрип старых лестничных ступенек и шум пришедших в движение прихожан. Священник приблизился к алтарю и прочел несколько молитв. К нему подошли шестеро мужчин и две женщины, державшие большую плащаницу, отделанную кружевами.
Все они, вместе со служкой и пономарем, устремились к полутемному приделу в той части церкви, где стояли сплавщики. В глубине придела, при свете нескольких свечей, виднелось распятие в человеческий рост, исполненное в грубой, но впечатляющей манере, с тем чрезмерным реализмом, когда подобие оборачивается искажением. Черные настоящие волосы спадали на лицо, тело обтягивала кожа, помогавшая крепче присоединить плечи к туловищу, не потерявшему гибкости. Это было одно из тех истинно испанских распятий, которые, подобно знаменитым статуям из Оренсе или Бургоса, властно направляют религиозный порыв в русло трагической и мрачной тайны. Светлый образ того, кто проповедовал любовь в Палестине, казалось, был распят кельтиберами еще более жестоко, чем на вершине Голгофы. И наводил на мысль не о жертве, принесенной ради любви, а скорее о черной магии, о сделке с темными силами, о подношении царству мрака, ибо ни одна Черная Месса не смогла бы нанести больше ран Иисусу, чем эти неизвестные скульпторы. Шеннон, стоя перед распятием, вопрошал себя, что водило рукой резчика — благочестие или варварское суеверие, и овладеет ли верующим, обратившим взор к подобному распятию, дух евангельской любви или оно пробудит в нем могущественные и таинственные силы, жаждущие лишь крови.
Таков был распятый Христос, которого одетые в траур крестьяне, взволнованные и вместе с тем одержимые, преисполненные достоинства священнослужителей, стали снимать с креста. Ржавые гвозди, извлекаемые из дерева лишь раз в году, со скрежетом цеплялись за отверстия в кресте, и седой старик, взобравшийся на лесенку, отдувался и кряхтел. Он кряхтел до тех пор, пока не извлек три гвоздя, после чего тело господне начали опускать на плащаницу, чтобы потом положить в гроб, стоявший на полу. Женщины с благоговением поддерживали плащаницу, пока мужчины почтительно опускали тело. Но, чтобы уложить тело в гроб, потребовалось согнуть руки, и тогда вся торжественность исчезла. Пересохшая кожа, с помощью которой руки присоединялись к туловищу, не поддавалась, издавая безобразный скрип. Мужчины потеряли терпение и ожесточенно, уже отнюдь не благоговейно, принялись сгибать руки; они тяжело дышали и не жалели сил, лишь бы добиться своего. Потом склонились над святыми останками, почти заслонив их своими черными фигурами. И эта возня в полумраке храма, это тяжелое сопение, эти усилия и приглушенные возгласы наводили на мысль о настоящем убийстве. Две женщины держали плащаницу так, словно хотели скрыть злодеяние, напоминая соучастниц одного из деревенских убийств, когда вся семья по каким-то темным причинам сговаривается убрать того, кто им мешает, а потом, ночью, расчленив тело убитого, закапывает его на скотном дворе, под навозной кучей, чтобы труп нельзя было найти по запаху.
Наконец, скрипнув в последний раз, Христос подчинился насильникам, его уложили в гроб, завернув в плащаницу и оставив открытым только лицо. Ручные трещотки затрещали в унисон с той, что была на башне, и под это тарахтенье, без единого слова, распахнулась дверь.
Незадолго до этого выглянуло солнце, и лучи его достигли лиц и камней. Навстречу, из школы, выходили ребятишки, такие же коротко стриженные и смуглые, как Обжорка; девочки постарше неуверенно шагали в туфлях на высоких каблуках, надетых по случаю такого дня; на головах у них были вуали, на шеях — медальоны дочерей Марии. Процессию открывали пономарь и священник со служками по бокам. За ними шестеро мужчин несли гроб; следом шли двое или трое мужчин в галстуках, съехавших набок, и, наконец, прочий люд, одетый в траур, притихший. Церковь опустела. По мере того как мрак рассеивался, оцепенение словно сходило с них, движения становились раскованными. Солнце словно подсмеивалось над рваными кружевами, в его свете черные одежды поблескивали, как крылышки мошкары, тускнел пурпур служек; глаза, привыкшие к темноте в церкви, весело заморгали. Одним словом, мрачная завеса, павшая на людей во время службы, исчезла.
Сплавщики присоединились к процессии. В церкви остался один Американец. Какое-то время он созерцал опустевший деревянный крест, покрытый пылью в тех местах, куда тело Христа не допускало веничек из перьев. Стоя перед этим вознесенным в высоту символом, который распростер руки, готовый принять его, а может быть, и кого-нибудь другого, он удивлялся тому, как сильна тяга испанца к вере. И праведника, и грешного, как сказал в своей проповеди священник. Скульпторы, создавшие это изображение, были достойны своего народа. Какая дикость и какая человечность! И если это был святой в экстазе, сколько самозабвенной любви вложил он в свое творение! Чувствовалось, что его рукой водила не только неистовая вера, но и неистовая плоть. Возможно, даже слишком неистовая, но именно это от него и требовалось. И в этом была его сила, его правда. Скользнув взглядом по пурпуру и киновари какой-то современной скульптуры, прикрытой темным покрывалом, Американец повернулся к ней спиной и покинул церковь.
Несколько дряхлых стариков, прячась от солнца в тени святых стен, спорили между собой, кто из них лучше видит движение процессии по холму. Американец ясно различал вдали, как она змеится по извилистой тропе к облупившейся часовне. Он даже разглядел всех своих людей, и прежде всего Шеннона, светлая куртка которого отчетливо выделялась среди толпы, одетой в черное.
Да, это был Шеннон. Он сразу почувствовал свою общность с этими людьми. Возможно, тому способствовала проповедь священника, шедшая от самого сердца, а может быть, драматизм жестокого погребения в темноте храма. Но скорее всего, то прочное религиозное чувство, которое не было социальным убеждением и не приобрелось благодаря воспитанию, но являлось неотъемлемой частью их жизни.
И если его разум еще упрямо искал и находил здесь какие-то изъяны, тело по-прежнему устремлялось вперед, повинуясь узам, связывающим каторжников на галерах, повинуясь ритму несложных шагов, под стать печальному, хмурому дню, единственной музыкой которого была пастораль трещоток, ожерельем свисающих с шеи парня, который легонько ударял по ним маленькими палочками, словно по ксилофону. Солнце, ненадолго выглянувшее, когда они выходили из церкви, снова скрылось, побежденное мрачными тучами. Оно как бы создавало космическую гармонию между холодом и смертью, которая, спускалась с неба, обволакивала мраком тела, души, звуки, пламя свечей. Шеннон чувствовал, как его затягивает это благо, но продолжал идти по нему вместе со своими спутниками. Он вдруг уподобился всем этим людям, пусть даже пока они несли гроб господний.
Оставив Христа в часовне вместе с гвардией молящихся на страже, уже не обремененная пошей, давившей на плечи мужчин, процессия двинулась в обратный путь, проделав спуск с холма в безмолвии и скорби, окутанная сумерками, сотканными из холодного неосязаемого пепла.
Молча дойдя до селения, жители разбрелись по домам, а сплавщики направились к себе в лагерь. Все, кроме Американца, которого священник обнаружил в ризнице.
— Вы ко мне? Вам что-нибудь нужно? — радушно спросил он, принимаясь раздеваться.
— Да, к вам… Но мне ничего не нужно. Впрочем, — улыбнулся он, — может быть…
Священник молча поглядел на него. Он снял свое облачение, обсудил кое-какие дола с пономарем и, снова взглянув на артельного, спросил:
— Может быть, зайдете ко мне домой?
Ничего не ответив, Американец присоединился к нему в дверях. Пока они шли, священник не переставал ощущать подле себя присутствие этого человека, погруженного в свои мысли.
Дойдя до дома, они прошли через сени и снова очутились в том же саду, где недавно закусывали сплавщики.
— Сейчас я угощу вас белым вином, которое мне подарили, — приветливо произнес священник.
Американец улыбнулся:
— Боюсь, что от него ничего не осталось. Мы все выпили утром.
— Ах да, — засмеялся священник.
— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.
В дверях показалась старуха.
— Дон Анхель?.. Ах… добрый вечер, сеньор. Что-нибудь нужно?
— Почему бы вам не поужинать у меня? Правда, скромно, зато…
— А мне много и не надо. Я бы с удовольствием…
— У меня есть овощи и немного картофеля, — предложила старуха. — И еще оливки, яйца и кусок трески… Я соберу ему поесть… Жаль, что не поспела гвоздика, а то бы я приготовила салат!
— Гвоздика?
Священник рассмеялся.
— Она имеет в виду помидоры. Дело в том, что этот огородик я называю садом. И мы с Эухенией помидоры зовем гвоздикой, капусту — розами и так далее… Ступай, Эухения, неси все, что есть, да взгляни, не найдется ли у нас немного вина.
Женщина ушла. Американец внимательно посмотрел на священника.
— Вы ничего не ели с утра и теперь не ужинаете.
— Я всегда пощусь в такие дни, как сегодня. Не люблю говорить об этом, но вам признаюсь.
Американец предложил священнику табак, и тот принялся прочищать свой мундштук.
— Вот видите, — сказал он. — Не могу себе в этом отказать. А я-то полагал, что кое на что способен.
— Я тоже не могу удержаться от желания поговорить с вами, — в свою очередь признался Американец. — Почти год мне не с кем ни поговорить, ни послушать кого-то… Вы это поймете. Иногда у меня такое чувство, будто я задыхаюсь. Наверное, именно потому я ждал вас и теперь остаюсь ужинать.
— Мы все нуждаемся в этом, сын мой. Да, все. Общение людей друг с другом — великое счастье.
— Об этом вы говорили сегодня в своей проповеди, об одиночестве человека. Скажите, если не секрет, почему вы заменили одну проповедь другой?
Священник, задумавшись на миг, произнес:
— Потому что прихожане ждали от меня именно ту, вторую.
— Кто? Мне, например, нужна была первая…
— Мне тоже, — признался священник. — Но она не нужна была остальным. И, думаю, вашим людям тоже.
Американец вспомнил всхлипывания Четырехпалого, слезы, выступившие на глазах у Балагура, и вынужден был согласиться со священником. Разве что Шеннон составлял исключение, но он — совсем другое дело.
— Почему людям приходится во всем потакать? Не лучше ли их чем-то поразить, подтолкнуть к чему-то? Разве не вы должны вдохнуть в них жизнь, пробудить от спячки, от косности?
— Вы так полагаете?
Американец задумался. И действительно, последнее время он не раз приходил к прямо противоположным выводам.
— Прежде всего, — продолжал дон Анхель, — к чему их подталкивать? Слишком уж мало дел, которые того заслуживают. Вот и выходит, что их надо не столько поражать, сколько побуждать к тому, к чему они сами бессознательно стремятся. Откровенно говоря, у меня было такое искушение. Возможно, оттого, — тихо проговорил он, — что Пришли вы со своими людьми. Но господь бог наставил меня на путь истинный и повелел мне делать то, что надлежало делать. Все что угодно, только не смущать людей. Обряд не терпит никаких новшеств, ибо тогда он не выполнит своего главного назначения: помочь человеку рассеять сомнения, обрести мир душевный.
Страшный вопль потряс окрестности. Казалось, селение разом сошло с ума.
— Сжигают Иуду, — объяснил священник. И рассказал Американцу о существующем в селе обычае вздергивать на виселицу, установленную на площади, чучело апостола-предателя, а потом сжигать его на большом костре.
— Совсем как в Америке, — произнес Американец.
Меж тем Эухения поставила перед гостем маленький столик, покрытый белой салфеткой. Принесла тарелку с маслинами, луковицей, мелко нарезанной треской и придвинула поближе к нему масло и уксус, чтобы он мог приправить еду по своему вкусу. Рядом она поставила еще одну тарелку с тремя большими только что зажаренными картофелинами и щепоткой соли. И, наконец, подала румяную краюху хлеба и не очень полную флягу вина.
— Вот еще головка чеснока, — сказала она, прежде чем уйти, — может, вам захочется покрошить в салат.
Все вокруг уже сливалось в сгущавшихся сумерках. Крики то удалялись, то приближались, петляя по улочкам, по которым волочили соломенное чучело предателя. Дневной свет почти совсем померк, и грядки в саду стали едва различимы. Американец принялся за еду.
— Здесь слишком много для одного, — сказал он.
Священник молча смотрел, как он ест, и курил. Время от времени дон Анхель поглядывал на дымящийся картофель и, заметив, что гость перехватил его взгляд, сказал:
— Признаюсь, я голоден. У меня разыгрался волчий аппетит, пока я смотрел, как вы едите, — со вздохом произнес он. — Неплохо было бы сегодня поужинать с добрым другом. Но что поделаешь!
Американец улыбнулся, обнажив золотой зуб.
— Вы мне напоминаете одного человека, который много сделал для меня. Он дважды спас мне жизнь, а я ему — только раз. Он тоже был священником. В Тамакиле, там, в Юкатане. Правда, вы совершенно разные. И все же… Не знаю… Может, потому, что он был прекрасным пастырем, как и вы.
— Вы так думаете?
— Я понял это сразу же, едва увидел вас. И убедился, что не ошибся. Вы произнесли проповедь, достойную вас. Странно только, почему вы живете в этом селении, почему вас не использовали лучшим образом. Почему вы здесь?
— Потому что я люблю народ, — отвечал он. — Люблю простых людей. Кому-то ведь надо быть с ними. Они заслуживают большего… Нет, нет, не думайте, это не самопожертвование. Никто не отзывается на добро так, как они. Никогда прежде я не испытывал такого душевного покоя, как с ними.
— Но ведь вы не всегда жили здесь?
— Нет, я родился в Сории. В краю, пожалуй, с самым красивым во всей Испании названием: Земля Вознаграждения. Правда, причина, по которой он был так назван, не так прекрасна. Энрике де Трастамара подарил его французу Дюгесклену в награду за то, что тот убил Педро Жестокого. В детство я был пастухом, но мне очень нравилось учиться. Учитель обучал меня грамоте по вечерам. Священник нашего прихода обратил на меня внимание и взял к себе служкой, чтобы я имел возможность заработать несколько песет и спокойно заниматься в ризнице. Я нашел свой путь, окончил семинарию и, по правде говоря, показал себя с самой лучшей стороны. Когда меня рукополагали в иереи, директора нашей семинарии рукоположили в епископы. Я всегда мечтал о сельском приходе, но директор переубедил меня. Возможно, ему удалось это потому, что мое решение еще не было достаточно серьезным. Однако уже тогда я чувствовал в себе призвание к апостольской деятельности. Одним словом, я послушался директора и согласился работать вместе с ним. Там-то и решилась моя судьба.
Оп помолчал немного и продолжал:
— Я вдруг обнаружил, что апостольство, о котором я мечтал, фактически сводится к социальной деятельности. В помещении, где я работал, молодые люди печатали на машинках, вели картотеку, разговаривали об одежде, еде, лекарствах, стипендиях, а во время предвыборной кампании о списках кандидатов. Туда являлись какие-то сеньоры и обсуждали статьи доходов и расходов. У нас был секретарь по пропаганде… Правда, перед заседаниями мы молились, но все, что происходило потом, на мой взгляд, было материализмом самой чистой воды. Я помнил, что апостолы полагались лишь на бога, а здесь все организовывали заранее. И когда к концу года статистические данные выявляли, что число причастившихся и посетивших службу возросло, это праздновалось как победа… Простите мне мою откровенность. Я бы и сам хотел говорить со смирением, хотя бы думать, как тогда, что впадаю в греховную гордыню. Однако все мое существо противилось этой системе, которая, по-моему, просто боролась мирскими средствами за свое благополучие… Если же вопрос касался политики, его рассматривали в духе нетерпимости, о любви к врагам никто но вспоминал, а меня не покидала мысль, что первые христиане объединялись тогда в Риме, не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы умереть. И еще меня не покидало глубокое убеждение — и я до сих пор в это верю, да простит меня бог! — что, если бы у ранних христиан был свой секретарь по пропаганде, они не победили бы мира. Их вера помогала им победить. Всякий раз, когда кто-нибудь из них умирал, его праведная кровь как бы пропитывала воздух, и язычники, вдыхая его, наполняли ею свои вены. А когда, наконец, она проникла в их сердца, глаза их раскрылись, и они увидели, что их боги мертвы. Да, я верю в общность истинных христиан. Вот почему я не могу поверить в пропаганду и мне больно слышать, когда предлагают на нее опереться.
Американец кивнул.
— Теперь вы понимаете, почему я не мог больше оставаться там. Но епископ успокаивал меня, убеждал, что я горячусь по молодости, и не отпустил. Я пытался себя обуздать, но, ничего не добившись, совсем отчаялся. Вот тогда-то я и услышал о священнике одной приходской церкви, стоявшей в самом нищем предместье. Я отправился познакомиться с ним. Это был бескорыстный человек. С первой же минуты он покорил меня. У него не было картотеки, но он знал все о своих прихожанах. Он не сражался с врагами, но все свои силы обратил на то, чтобы бороться с собой. Я, как и он, радовался великой радостью, когда мог всем своим существом отдаться любимому делу безо всяких бумаг. Но самой большой радостью для меня было общение с людьми. С лучшим, что есть в этой стране, — с народом. Поверьте мне, нам всем далеко до него.
— Не знаю, что и сказать вам, — усомнился Американец. — Народ иногда…
— О, конечно! — пылко воскликнул его собеседник. — Не думайте, что я идеализирую народ или придерживаюсь руссоистских идей. Но каким бы он ни был, ему это простительнее, чем людям цивилизованным. Народ живет настоящей жизнью, естественной. Его ненависть, его вера еще пахнут потом и кровью, его отсталость, его убеждения произрастают из самой природы, из человеческой сути. Наверху же люди лишены корней, в их жилах струится ленивая кровь, и ни во что они по-настоящему не верят. Их проблемы — это бури в луже собственных интересов и страстей. Они знают, что такое честолюбие, привилегии, похоть, роскошь, но не знают, что такое голод, любовь или естественный инстинкт. Крестьянин, поливающий землю из оросительного капала, изо дня в день ощущает эту воду и сухую землю. Торговец же загребает миллионы, спекулируя зерном, но не видит ничего, кроме бумаг, и не может отличить пшеничные всходы от ржаных. Да, поверьте мне, народ бывает и хорошим и плохим, но и тем и другим по-настоящему.
«И праведник, и грешник были сильны», — вспомнил Американец.
— Но как бы там ни было, любовь к униженным жила в моей крови, и я не мог ею пренебречь. Возможно, кто-нибудь предпочел бы искусственность, назвав ее цивилизацией, и красивое обличье, скрывающее мелкие пороки. Я же обретал мир только в том предместье. Пусть я знаю несколько новых и древних языков, пусть я образован и начитан… Видели бы вы, как они тянулись ко мне! Слишком уж заброшенными они себя чувствовали, слишком большая пропасть лежала между ними и официальными властями страны… Это были два различных мира, между которыми нет другого моста, кроме чиновников и жандармов. Разумеется, время от времени строилась новая дорога, школа или снижали цепы и налоги; обычно об этом сообщал в своих выступлениях глава муниципального или окружного совета. Но все это обрушивалось как снег на голову из мира, недосягаемого для нас. Когда же, вернувшись от своего друга, я по долгу службы читал в секретариате «Гасету», я хватался за голову, будто сумасшедший. Сомнения мучали меня. Признаться, я испугался, когда обнаружил, как сильно пошатнулись мои убеждения, пока еще не основные, но и это, словно облупившаяся стена, уродовало здание того учения, которое было для меня совершенством от фундамента до флюгера. Я заметил, что начинаю отделять непреходящую истину в учении от последующих добавлений, от приспособленчества к данному историческому моменту, и меня охватил ужас. Я почувствовал себя трусом и решил положить этому конец. Я рассказал о своих сомнениях моему покровителю, и тот, тоже испугавшись, отступил. Он разрешил мне оставить службу в городе и искать убежища в естественной сельской жизни.
За оградой всколыхнулось огромное пламя, с треском устремляясь ввысь. Густой белый дым поднимался от горящей соломы, плясали красноватые блики, воздух стал едким. Неистовый вопль достиг своего апогея: горел апостол-предатель.
При свете пламени Американец увидел седую голову, согбенную фигуру в черном на убогом камышовом стульчике, локти, упирающиеся в колени, и взгляд, обращенный в темноту сада. Языки пламени, пожиравшие Иуду, уменьшались; красноватые блики гасли на хмуром лице. Вдруг слабая улыбка озарила его, а взгляд обратился на гостя.
— Простите меня, сын мой… Вы пришли сюда, чтобы поговорить со мной, по, боюсь, я слишком злоупотребил вашим вниманием… Уж не обессудьте бедного старика, которому и перемолвиться-то не с кем.
Американец положил свою руку на руку священника и не снимал ее до тех пор, пока последние отблески догоравшего Иуды не угасли на его золотом зубе, обнаженном в улыбке.
— Я отлично понимаю вас, со мной происходит почти то же самое. Я, как и вы, но только на свой лад, пережил разочарование и снова вернулся к своим корням, к своему народу, к сплавщикам. Но позволю себе не согласиться с вами. По-моему, вы несколько идеализируете его. В Америке я видел народ в самый разгар революции, там он еще более простой и бесхитростный. И, по правде говоря, это ничего не дало… Знаю, знаю, — опередил он собеседника, — вы скажете, что они не были подготовлены, что их нельзя осуждать или что-нибудь в этом роде. Но мои мечты рухнули. Большинству вождей хотелось иметь то, за что они судили других: деньги, любовниц, власть. А те, кто в этом не нуждался, поступили так же, как я: удалились. Но я был более покладистым и более трусливым, чем вы. И решил позаботиться о себе, обеспечить свое будущее. Вы не хуже меня знаете, что это означает: делать деньги, — насмешливо добавил он. — О! Делать деньги легко! Надо только уверовать в них и ни о чем больше не думать. Но, откровенно говоря, в такой степени они меня не интересовали, мне быстро это надоело, и тогда я оказался среди людей, о которых вы говорили: людей с ленивой кровью, эгоистичных и трусливых. Прогнать бы их всех плетью! Они мне отвратительны потому, что я был одним из них. Но поверьте, я был совсем другим, когда носился по степям Тамакиле… Постепенно, сам не знаю как, я во всем разочаровался, отвернулся от людей, забросил дела и искал самых простых удовольствий: совершал прогулки, слушал журчание фонтана, разговаривал с садовником-индейцем или со своими друзьями… Но, беседуя с ними, я постоянно чувствовал, что мне чего-то недостает: родного говора, знакомых жестов, выражений… Вы можете назвать это тоской по родине, нервным расстройством, как утверждали врачи, когда я к ним вначале обратился, можете назвать это прозрением. Но как бы там ни было, я вернулся, и вот теперь перед вами, заброшенный сюда… Больше я ничего не знаю.
Они помолчали. Наконец священник сказал:
— Я тоже ничего не знаю… Возможно, вы правы, а народ нет… По в ком тогда будущее истории? Не в тех же, кто наверху?.. Что нам готовит провидение? И все-таки я глубоко убежден, — заключил он, — что народ стоит ближе к настоящему.
— Конечно. Камень всегда более настоящий, чем бумага.
Они продолжали беседовать, окутанные ночной мглой, два человека, уже вступившие в зимнюю нору своей жизни. Прощаясь, Американец вдруг сказал:
— Ах да! Я пришлю к вам одну девушку, поговорите с ней. Она идет вместе с нами.
— Со сплавщиками? Никогда не видел, чтобы женщины сплавляли лес.
— Она с нами не с самого начала. Мы ее, можно сказать, почти подобрали… Она сама вам все расскажет, вы могли бы помочь ей.
Когда Американец вернулся в лагерь, Паула еще не спала.
— Франсиско! — тихонько окликнула она. — Я уже подумала, не случилось ли с вами чего-нибудь.
— Случилось, Паула, случилось. А завтра это случится с тобой.
— Со мной?
— Завтра сходишь в Отерон и повидаешь священника. Скажешь ему, что ты от меня. И поговори с ним. Его зовут дон Анхель.
— Я? О чем?
— О себе. Обо всем. О чем захочешь… Говори с ним так, как говорила бы сама с собой. Да ты так и поступишь, едва увидишь его. Разве ты не нуждаешься в этом?
Паула опустила голову, затем поблагодарила артельного. Оба долго не могли уснуть.
Утром звон колоколов, возвещавший о воскресении Христа, казалось, пронесся по полям с радостным ликованием. Мужчины с жаром взялись за работу. Четырехпалый, получив разрешение участвовать в утренней процессии, отправился в Отерон в сопровождении Паулы верхом на Каналехасе, которая решила заодно купить кое-что из провизии.
После того как процессия вернулась из часовни и были сделаны необходимые покупки, Паула зашла в церковь. Она увидела священника в полутемном приделе, куда принесли гроб с телом господним. Священник опять прибивал Христа с помощью пономаря и нескольких старух, окинувших Паулу настороженным взглядом.
— Сейчас я тебя выслушаю, дочь моя. Видишь, чтобы обрести жизнь, Христос должен претерпеть распятие… Вот так! — и нахмурившись, добавил: — А прибивать должен я. Благочестивые прихожане не смеют его распинать. Даже статую его не смеют распинать.
Вместе они прошли в ризницу, а оттуда в дом к священнику.
— Тебе повезло. Я очень проголодался после вчерашнего поста, и Эухения приготовила вкусный завтрак, так что ты сможешь его отведать. — Он окинул ее медленным взглядом и проговорил: — Ты очень красивая. Впрочем, не совсем то… ты очень женственна. Не обижайся, дочь моя, на мои слова. Хуже было бы, если бы я это подумал и скрыл. Я не люблю притворства.
— И я тоже, сеньор священник, поэтому и не обижаюсь, — сказала она. — Я понимаю, о чем вы говорите.
Они уже входили в дом, и на какой-то миг оказались в сенях одни. Паула чувствовала, как доверие к священнику вытесняет ее постоянную настороженность. Первые слова она произнесла, не смея взглянуть на него и не отрывая глаз от литографии с изображением сердца Христова, прибитой к двери.
— Ах, отец, в этом-то и беда, — продолжала она. — Я не могу от этого избавиться.
— Вижу, что не можешь, — ласково согласился с ней священник. — Но вижу также, что хотела бы.
В голосе Паулы послышались слезы благодарности, когда она проговорила, идя к навесу в саду:
— Правда видите?
— Конечно, вижу. Однако я понимаю мужчин… они подумают прежде чем решиться.
Из дома вышла Эухения и с удивлением обнаружила приглашенную к завтраку гостью. Она снова скрылась и показалась уже тогда, когда настало время накрывать на стол. Священник и Паула были заняты беседой. Перед ними солнце и тени проделывали свои каждодневный путь.
Растения незаметно тянулись листьями к солнцу, стремясь поглотить его лучи, некоторые почки уже набухли, а насекомые прогревали на солнце свою холодную кровь. Бесчисленное множество растений и насекомых оживало, почти не умирая в этом совершенно неподвижном саду, где перемещались лишь солнце да тени.
Прежде чем Эухения вынесла стол для еды, чтобы всем вместе позавтракать, Паула опустилась на колени перед доном Анхелем, и он осенил ее крестным знамением. Затем они поели, и, наконец, поднявшись, священник направился к дому. Эухения тоже встала и принялась убирать со стола. Паула пошла с ней на кухню, чтобы помыть посуду. Они разговаривали так, словно всю свою жизнь прожили рядом, под одной крышей: советовались по хозяйству, обсуждали домашние дела. Священник сошел вниз с дешевой сигаретой и, снова расположившись в саду, закурил. В кухню донесся его голос:
— Эухения! Приготовь-ка нам кофе на двоих.
— Я уже приготовила, дон Анхель.
— А вы разве не выпьете с нами? — спросила ее Паула.
— Нет, мне здоровье не позволяет. Сердце, милая, сердце.
Захватив все необходимое, обе женщины вышли в сад. Из кофеварки медленно капала в стакан черная жидкость. Священник налил себе немного и пододвинул кофеварку Пауле. Пили молча. Это был чудесный миг. Вокруг царили покой и безмятежность, пахло свежей зеленью растений. У Паулы на глаза навернулись слезы.
— Ах, пресвятая дева, как хорошо было бы остаться здесь навсегда!
Священник посмотрел на нее с грустью.
— Ты не смогла бы, дочь моя. И не из-за меня или Эухении… Ведь правда, не смогла бы?
— Да, вы правы. Почему я такая?
— В твоей жизни сейчас весенняя пора, дочь моя, и ты должна ее пережить. Жизнь — это дар божий. А наш дом — пристанище зимы, верно я говорю, Эухения?
Они еще поговорили немного. Наконец Паула сказала, что ей пора уходить. Она поднялась и, прощаясь со старухой, поблагодарила ее. Эухения подошла к пей и несколько раз поцеловала. Паула не могла вымолвить ни слова. Она молча прошла по коридорчику, затворила дверь с изображением сердца Христова и остановилась в сенях, глядя на священника увлажнившимися глазами.
— Почему все так получается? — снова повторила она вопрос, который не раз задавала в саду.
— Такова воля божья. Да хранит тебя господь, дочь моя, да ниспошлет он тебе мир.
— Прощайте, — почти шепотом произнесла она.
Священник смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом.
Год проходил за годом, и ничего не случалось. И вдруг за какие-то сорок восемь часов… Да, подумал он, нет ничего странного в том, что эта женщина оставила след в его душе, словно вспышка пламени во тьме, словно тайная страсть.
Однажды вечером неподалеку от реки он увидел двух зайцев, которые с невероятным ожесточением оспаривали друг у друга зайчиху. И это зайцы — воплощение кротости и трусости. А сколько еще подобных случаев наблюдал он за свою долгую жизнь… Он задумался, погрузился в воспоминания. А когда очнулся от раздумий, с удивлением обнаружил, что все еще сидит на скамье, у входа в сени.
Он встал; но прежде чем подняться наверх, к себе в комнату, священник Отерона зашел в церковь, чтобы преклонить колени перед Христом, чьи ладони сам этим утром пригвоздил к доске, и долго молился о женщине, которой накануне еще совсем не знал, и о старом священнике, которого пятьдесят лет пытался узнать, но так и не узнал до конца. Там и пребывал он, пока колокольный перезвон не возвестил о субботней молитве.
По этот звон не коснулся ушей Шеннона. В холодном зимнем воздухе он не мог достичь долины, со всех сторон защищенной крутыми откосами оврага, куда забрел Шеннон, привлеченный древними развалинами, видными с берега. Он застыл в изумлении пород сказочным садом, открывшимся его взору, едва он повернулся спиной к развалинам. Ибо в этом сухом овраге иберийского плоскогорья, где сохранялся теплый средиземноморский воздух, экзотические растения причудливо сочетались с обычными для гор дикими кустарниками. Старое оливковое дерево, непонятно как занесенное в горы, стояло здесь рядом с рожковым, темно-зелеными миртами, пальмами и даже гранатовым деревом — да, да, гранатовым деревом из Песни Песней, — которое вместе с другими удивительными растениями как бы бросало вызов угрюмой окрестности, смягчая и украшая своей зеленью, своей почти сладострастной негой эти скалы, эту пустошь.
Это казалось невероятным! Будто во сне! Но гибкие пальмы мерно покачивались, рукой можно было коснуться плотных листиков мирта. И струи источника, замершие, прежде чем устремиться к реке по мавританскому водостоку, тоже были явью. Впрочем, они оказались неожиданно теплыми. Возможно, термальные воды в этих краях — не редкость, они смягчали в какой-то море зимнюю стужу, и теперь становилось ясно, почему здесь мог вырасти этот восточный сад. По каким образом попали сюда рожковые деревья, мирты, пальмы и гранатовое дерево?
Тщательно осмотрев развалины, Шеннон увидел округлые очертания маленькой церкви, какие обычно строили тамплиеры. Так вот в чем дело! Он представил себе этих белокожих рыцарей, принесших растения Палестины в суровые, неприступные горы, чтобы воздвигнуть рядом с каменным храмом храм живой — святилище красок и благоуханий, — который помог бы им унять тоску по земле обетованной, напоминая о победах и покаяниях ордена, о солнце и море, песках и оазисах, гробе господнем и Воскресении.
Шеннон долго смотрел на этот живой храм, и его сомнения, его недоумение сменялись уверенностью. Разве это не было еще одним чудом, из тех, с какими мы сталкиваемся каждый день, вроде семян, погребенных в землю, которые дают весной всходы? И не означает ли тогда отчаяние обычную человеческую слепоту, мешающую видеть, что и ты есть частица непреходящего мира.
Да, гордый орден тамплиеров погиб от рук монархов и пап, его каменный храм разрушился, но осталась густая зелень миртов, изящная гибкость пальм, стойкость гранатового дерева. Они молча утверждали неодолимые силы жизни, которые по замирают и под покровом зимы и каждый год открывают дверь весеннему чуду.
6 Осентехо
Лес плыл вниз по течению под присмотром своих неусыпных пастырей. Плыл по узким коридорам меж серых и красноватых скал, плыл меж склонов, покрытых можжевельником и буком. Плыл по реке, прозрачной но утрам, мутной днем, зеленовато-голубой в сумерки. По реке, то темно-зеленой, то серовато-зеленой, то зеленовато-желтой в зависимости от русла, покрытого песком, галькой или илом, от тени деревьев или скал, от тихого или буйного ветра. Плыл среди непроходимых лесных зарослей, ущелий, водопадов и утесов; плыл в жестоком мире камня и зимы.
Но вот однажды, проснувшись утром, Шеннон удивился. Казалось, будто в воздухе взорвался огромный флакон цветочных духов. На память сразу пришел сад тамплиеров. Можно было подумать, что плоды гранатового дерева с земли обетованной готовы были вот-вот лопнуть и разметать по свету, словно фейерверк, свои рубиновые капли. На первый взгляд вроде бы ничего но изменилось: те же утесы, те же беспорядочно громоздящиеся облака, те же пенные воды реки. Но воздух был насыщен густыми невидимыми каплями, будто прорвался на поверхность скрытый под землей источник. Это ощущение не покидало Шеннона, пока не притупилось от изнурительной работы и холодной воды, в которой коченели ноги.
Но это еще не была весна! Даже слово это прозвучало бы дико под таким хмурым небом! Да к тому же вокруг стояли сосны, а они-то никогда не меняются: не обнажаются зимой, не покрываются весной новой зеленью, не украшаются осенью золотом и медью. Времена года скользят мимо этих деревьев, и только подойдя очень близко и внимательно приглядевшись, можно обнаружить тайну их плодоношения. Невидимая весна силилась одержать победу, прорваться сквозь толщу земного покрова, словно сквозь натянутую кожу барабана; что-то тайное происходило, от чего похрустывали недвижимые веточки, пузырилась вода, катились камни с утесов. Вдруг из кустов, отчаянно залаяв, выскочила маленькая собачонка сплавщиков и кинулась к своему хозяину, дрожа всем телом, тяжело дыша, высунув язык.
— Чуете? — спросил Кривой, вставая после завтрака, и, поглядев ввысь, глубоко втянул в себя воздух. — Будто все разом распустилось.
Истинный сын земли тоже чуял весну. И Шеннон понял, что не обманулся. Жизненные соки как бы прорывались наружу. Они клокотали в деревьях точно так же, как кровь бурлила в жилах животных и людей. Они медленно текли даже по жилам камней, таким тонким, таким твердым, что мы их не отличаем от самого камня. Но ведь и камень живет общей жизнью со вселенной.
На дороге показался всадник верхом на серой, почти сивой ослице. Он походил на обезьяну — таким сморщенным, маленьким, некрасивым было его лицо. Дамасо, отвечая на его приветствие, крикнул с явной издевкой:
— Куда держит путь славный кабальеро?
— В Осентехо, сеньор. Я холостильщик, к вашим услугам.
Все рассмеялись, даже Дамасо.
— На, выпей, — протянул он флягу, — Ты честно заработал глоток вина. А услуги свои прибереги для твоего отца, мне пока еще пригодится это орудие… А что, много желающих?
— Да вот еду холостить кабанов, чтобы обрастали салом, с вашего позволения. А вообще-то холощу всех: петухов, жеребцов… Даже кота, любимца экономки нашего сеньора священника, он не давал ей спать в январе своим мяуканьем.
Сплавщики покатывались со смеху. Не столько от слов холостильщика, сколько от его плутовских ужимок.
— Ну и как?
— Хозяину, конечно, хорошо, зачем ему в доме лишний самец. А вот брыська раздобрел, стал холеный, любо-дорого смотреть. По ночам больше не шляется. Ведет праведный образ жизни.
— Нелегко тебе приходится, добрый человек? — спросил Балагур.
— Нелегко тем, кто мне попадается под руку, а мне-то что. Трудно холостить только жаб.
— И много тебе платят?
— Какое там, разве что подарочек поднесут. А мне и не надо, я люблю свою работу. Я вдов, живу с замужней дочерью, у нее есть клочок землицы. Там кое-что собираем, да и малость подработать не вредно, так я полагаю.
Громкий крик осла заставил всех обернуться.
— Смотрите, смотрите! — сказал холостильщик. — Хотите оскоплю его бесплатно? Вон как лезет к моей ослице!
— Еще бы не лезть. Она у тебя очень уж аппетитненькая, — ответил Балагур. — Послушай, дружище, а она случаем не пылью ли покрылась?
— Нот. Поседела от большого ума.
— Неужто? — удивился Двужильный.
— Вся в меня. Даже в работе помогает.
— Черт подери! Уж не хочешь ли ты сказать, что она тоже холостит? — воскликнул Сухопарый под дружный смех.
— А тут и говорить нечего, так оно и есть! Спросите хоть у Тадео из Отера, из того селения, что внизу. Он ее стегал плетью, стегал, а она возьми и взбрыкни, да так метко, что теперь уж он ни на что не годен.
— Здорово! — воскликнул Балагур, вдоволь насмеявшись. — Но с моим Каналехасом у нее этот номер не пройдет! Он кричит, потому что на него весна действует.
— А я что говорил? — сказал Кривой, — Будто все разом распускается…
— Ему много не надо, — весело согласился холостильщик. И, заметив идущих по другому берегу людей, помахал им рукой. — Это карабинеры, — объяснил он, — Их служба еще похуже моей. Вечно ходят замызганные.
— Везет нам сегодня на прохожих, — заметил Белобрысый. — Можно подумать, что мы на городской улице.
— Уж если кто здесь прохожий, так это вы, — возразил холостильщик. — Мы-то ходим по своей земле.
— Что верно, то верно, — согласился с ним Американец. — Зато вы не ходите по реке. Разве что перейдете на другую сторону. А мы всегда с ней, ее путем следуем.
— Такова жизнь, — заключил Балагур, — У каждого свое достоинство.
Сплавщики снова принялись за работу, а обезьяноподобный человечек, отхлебнув еще немного вина, водрузился на свою ослицу и сказал на прощанье:
— Раз вам не нужны мои услуги… до новой встречи, друзья.
Шеннон шел вниз, вместе с остальными и размышлял над последними словами Балагура. Холостильщик отправился своей дорогой. Спустя некоторое время он повстречал незнакомца. Это был молодой мужчина в фуражке, меховой куртке, в сапогах, какие обычно носят в больших солениях вроде Молины или Приего. Он был без котомки, без переметной сумы, лишь с недавно срезанной палкой, однако лицо его было покрыто пылью и усталое, как после долгого пути. «Если он пойдет этой дорогой, то к вечеру догонит сплавщиков», — подумал холостильщик.
Меж том сплавщики занимались своим делом.
— Эй, Лоренсо! Сейчас у тебя будет затор! — крикнул Негр Обжоре, который работал в одиночку.
Но тот не ответил. Согнувшись, он что-то внимательно разглядывал на земле у подножия уступа. Затем вдруг вскочил, лицо его свела гримаса ужаса.
— Ко мне, скорее! — крикнул он и снова нагнулся.
Негр и Шеннон, которые могли ненадолго оставить работу, бросились к нему. Пока они добежали, Обжора, снова поднявшись, швырнул что-то в реку.
Он стоял перед скважиной, образовавшейся в земле после одного из тех обвалов, которые часто случались в эти дни, будто земля тоже хотела лопнуть, открыться. Скважина напоминала колодец, похожий на огромный глиняный кувшин в песчанике, внутри которого лежал распавшийся скелет. Все трое рассматривали его с любопытством.
— Доисторическое погребение, — объяснил Шеннон.
— Царство ему небесное! — проговорил только что подошедший Четырехпалый.
— Тут и мальчишка-то не поместится! — воскликнул Обжора.
— В те времена покойников хоронили в сидячем положении, — пояснил Шеннон. — А что ты бросил в реку?
— Старый нож!
— Длинный, загнутый кверху, с такой штуковиной на рукояти?
— Да он весь ржавый. Кому он нужен!
— Дурак! Это же доисторический меч.
— Это почему же я дурак, а? На что он может сгодиться?
— Он представляет собой большой научный интерес. По нему можно установить, к какой эпохе относится могила и какой народ здесь тогда жил.
— А мне-то что до этого? Мертвый он и есть мертвый! — презрительно буркнул Обжора, ногой спихнув немного земли в яму.
— Болван! Это же ценность. Музеи за это деньги платят!
— Деньги платят? — чуть не поперхнулся от удивления Обжора.
И резко нагнувшись, стал шарить среди костей. Он извлек оттуда несколько маленьких бронзовых пластинок — поржавевшие остатки какого-то украшения.
— А за это? — алчно спросил он.
— Боюсь, что нет… — ответил Шеннон, но, увидев его огорченное лицо, утешил: — Может быть, рядом есть другие могилы. Не исключено, что здесь кладбище… В ближайшем селении надо будет сказать властям; возможно, они тут захотят вести раскопки.
— Да, я слышал, что на этой земле встречаются древние камни и вещи времен мавров.
— Это могила более древняя.
— Римлян? — высказал предположение Негр.
— Еще древнее. Трехтысячелетней, десятитысячелетней давности.
— Десятитысячелетней давности не может быть! — решительно отверг эту гипотезу Четырехпалый. — Тогда еще бог не сотворил Адама!
Сплавщики вернулись к прерванной работе. Шеннону не хотелось затевать спор на эту тему. Орудуя багром, Обжора не переставал внимательно разглядывать землю, нехотя следуя за Сухопарым и Белобрысым, которые, как обычно, шли впереди. Спустя некоторое время он снова окликнул Шеннона:
— А это чего-нибудь стоит? Он здесь уже давно…
Его слова относились к камню, торчавшему из земли, словно огромный наконечник копья. На нем была грубо высечена надпись. Шеннон прочел ее от слова до слова: «Здесь 11 июля 1849 года утонул несчастный Мигель Гихарро 27 лет от роду. R. I. Р.[8] Вечно помнящая и любящая дочь».
Шеннону пришлось разочаровать Обжору:
— Нет, это не имеет никакой ценности. Просто памятник.
— Так я и знал… А то бы его давно прихватили.
— Возможно, он тоже был сплавщиком.
— В июле здесь никто не сплавляет леса… Послушай, а сколько могут дать за меч?
— Кто знает… Трудно сказать.
Они снова принялись за работу, пока Паула вместе с несколькими сплавщиками перебиралась на другое место, чуть ниже по течению, где предполагалось заночевать.
Лагерь раскинули у выхода из теснины, у самого оврага поблизости от Осентехо. Разгрузили и распрягли Каналохаса. Пока Сантьяго и Обжорка раскладывали вещи, Паула отправилась вдоль ручья в поисках источника.
Она обнаружила его среди тесно сгрудившихся сосен и подставила под струю кувшин. Вечерний свет в этом уголке, усыпанном хвоей, был мягким, и прозрачной была сень деревьев. Застрекотал первый в этом году кузнечик, и его мерное стрекотание казалось биением сердца сумерек. Паула дышала легко, охваченная необъяснимо счастливым чувством, и не замечала, что звук падающей в кувшин струи становится все глуше. Она сняла с головы платок, собираясь перевязать его, и вдруг, ощутив на себе чей-то взгляд, обернулась.
Прислонясь к сосне и покусывая травинку, на нее смотрел незнакомец. Как он молод и строен! Держится прямо, несмотря на усталость и дорожную пыль, покрывающую лицо. Паула сразу заметила дерзкое, самоуверенное выражение его глаз и ослепительно-белые зубы в обрамлении густой черной бороды.
— Привет! — коротко сказал он, поднося руку к козырьку фуражки.
— Что вы тут делаете? — вместо ответа спросила Паула настороженно.
— Смотрю на твои волосы, — многозначительно произнес он.
Паула смутилась под взглядом его дерзких глаз и поспешно повязала платок.
— И на плечи. И на фигуру, — продолжал незнакомец.
Он произнес это спокойно, не желая ее оскорбить, но она смутилась еще больше. Волнение, которое вдруг стеснило ей грудь, совсем не походило на гнев или страх.
— Ну и как? — спросила она, чтобы осадить его.
— А ты разве не знаешь?.. Мне нравится, — заключил он.
— Ну что ж, выходит, вы меня разглядели?
— Нет! Хочу еще. Я тебя не искал, но теперь должен рассмотреть.
Она пожала плечами и не ответила. Мужчина спокойно, без всякой насмешки сказал ей:
— Твой кувшин полон воды.
Паула, сердясь на себя за то, что но может дать должного отпора, нагнулась и взяла кувшин.
— Помочь? — спросил он, шагнув к пей.
Паула решила воспользоваться моментом.
— Оставьте меня в покое. Прощайте!
И стала спускаться вниз по оврагу, придерживая кувшин у бодра. Мужчина не отставал. Она в бешенстве обернулась и проговорила:
— Разве вы не слышали, что я сказала «прощайте»? Если вы не отстанете, я позову на помощь!
— Ах, смугляночка! — глубоко вздохнул он. — Как я могу отстать от тебя? Не сердись, — и добавил: — Нам с тобой теперь по пути.
— Что до меня, то мне недалеко, к сплавщикам.
— И мне с тобой.
Паула даже опешила от неожиданности. Кто этот человек? Что ему от нее надо? Нет, на сплавщика он не похож. Скорее на городского жителя в этой своей куртке и сапогах. Она молча прибавила шагу. Мужчина старался не отставать.
— Я не шучу, — снова заговорил он, — нам с тобой по пути. Меня прислал сюда капитан сплавного леса. Он направил меня работать в вашу артель. Ведь у вас Американец артельный?
— Да, — пробормотала Паула и почувствовала, что у нее перехватило дыхание, словно мужчина, идущий с ней рядом, обнял ее.
— Вот видишь… — И, помолчав немного, он повторил: — Видишь, я не мог не встретить тебя… Меня зовут Антонио, — представился он, заглядывая ей в глаза. Но она отвела взгляд. — А тебя?.. А тебя?.. — настойчиво переспросил он, не приближаясь к ней и но повышая своего властного голоса, заставившего ее покорно ответить:
— Паула.
Шеннон, разговаривавший с Американцем, удивился, увидев, что Паула возвращается с каким-то незнакомцем. Она подошла к костру и принялась за свою обычную работу, но при этом то и дело поглядывала в сторону пришельца. Тот объяснил Американцу, что капитан, у которого он просил работу, направил его в артель «ведущих», где не хватает людей. Нет, он не сплавщик, но работу может делать любую. Родом из Торремочи и пришел…
— Так ты из Торремочи, дружище, — перебил его Двужильный. — У меня там живет замужняя сестра. Может, ты ее знаешь?
Незнакомец заметно смутился. Пет, вряд ли он ее знает, он уже больше года живет в Молине… Не найдется ли у них сигареты?
Оп закурил, с жадностью затянувшись несколько раз подряд. Да, он долго бродил. Искал работу в Трильо и Саседоне, потом увидел лес на реке и… вот он здесь. Нет, у него ничего нет. Он оступился на крутом берегу и, падая, уронил все в воду: плед, котомку с едой… Да, он очень устал.
— Скоро будем ужинать, — сказал Американец, больше ни о чем его не расспрашивая.
— Нет, я не хочу есть, спасибо. Только спать… Разве что глоток вина.
Он выпил вина и еще раз отказался от ужина. Ясно было, что после долгого пути на него обрушилась усталость. Он улегся в расщелине между скалами и свернулся клубком. Когда сплавщики хватились его, он уже спал.
— Мне жаль этого человека, — сказал Американец. — Обжорка, покрой его хоть попоной Каналехаса, на заре еще холодно.
Ни слова не говоря, Паула опередила мальчика и заботливо укрыла незнакомца этим убогим одеялом, еще хранившим тепло животного.
Так очутился в артели этот человек, оказавшийся ретивым работником и хорошим товарищем, хотя и чересчур молчаливым и замкнутым. Сплавщики сразу же окрестили ого Встречным, будто не верили даже тому, что его зовут Антонио. Как-то утром, спустя несколько дней, Паула, некоторое время наблюдавшая, как он орудует багром на крутой излучине реки, спросила Горбуна, с которым они остались вдвоем в лагере:
— Как ты думаешь, Сантьяго, кто этот человек?
— Откуда мне знать! Первый раз в жизни вижу такую артель: Американец, баба, Англичанин, а теперь еще Встречный.
— Как, по-твоему… — не отставала девушка, — он правду о себе рассказал? Что он делал в горах?
Горбун перестал колоть дрова и тяжело дышал, распрямившись. Обжорка спустился к реке за водой. На этот раз они остановились в долине между Осентехо и Вальтабладо, не доходя до моста, чтобы затем вернуться в ущелья Арботеа и Отер, чьи скалы напоминали о том, что они еще не выбрались из сьерры.
— Откуда мне знать! А тебе-то что?
— Интересно, — неожиданно вырвалось у девушки. — Я хочу знать о нем все-все… Чем он занимался? Кто он?
Горбун пристально посмотрел на нее, и Паула уже в который раз подивилась проницательности глаз этого жалкого калеки. «С ним надо быть поосторожнее», — подумала она.
— Ты задаешь слишком много вопросов… У пего, как и у всякого, есть своя тайна… Мы приняли его в свою артель, и теперь он пойдет с нами. Ведь он не первый, кого мы встретили в горах.
Паула предпочла не выказывать больше любопытства. Действительно, Горбун прав, Антонио был не первым. Чувствовалось, что они приближаются к более населенным краям. Через мост Шли люди, а накануне им удалось перекинуться несколькими словами с рыбаками-браконьера-ми: чтобы не попасться жандармам, они исхитрились ловить рыбу во время обедни, да еще с такого места, откуда хорошо была видна церковь Вальтабладо, в которую отправились блюстители порядка. Рыбаки считали их, когда они входили, и, пока все были там, успели вытащить нескольких усачей и щук. Обжора, разумеется, выклянчил самум крупную рыбину.
Как сказал Балагур, здесь, по сравнению с горами, народу было не меньше, чем на главном проспекте в Куэнке. Были здесь и крестьяне из долины, чье плодородие и климат не уставал нахваливать Кривой. Раз он даже не выдержал, видя, как неумело рыхлит землю какой-то поденщик, и, вырвав у него мотыгу, принялся сильными, уверенными ударами разбивать комья. Любо-дорого было смотреть.
— Это еще мотыга никуда не годная, — сказал он, возвращая ее поденщику, — глубоко врезается, и рукоять плохо прилажена… Видал, болван? Вот как рыхлить надо!
— Чай не на себя работаю, на хозяина, — ответил парень.
— При чем тут хозяин? Это земле нужно, чтобы она воду лучше впитывала, не давала ей стечь, чтобы укрывала, а не давила семена.
— Браво, Донато! — захлопал в ладоши Балагур. — Старый конь борозды не портит! Ты заслуживаешь стеклянного глаза, чтобы снова стать красивым.
— Однажды мне уже покупали, — ответил Кривой, утирая пот с лица. — Моему командиру не нравилось, что у него на карауле стоит такой урод. И он купил мне глаз, да только другого цвета, и стало еще хуже. Пришлось выкинуть, — засмеялся он.
Земля была страстью Кривого. В тот же день поспорили, где лучше жить: в горах или на плодородных полях в низовьях реки. Балагур, как истинный горец, защищал горы, Дамасо поддерживал его, так как ему по душе было все дикое и суровое.
— Тоже придумали! — воскликнул Кривой. — .Там и земли-то нет, чтобы пахать. Разве что на склоне найдется клочок, да в ущелье не больше двух пядей. Нет, мне по сердцу широкие, плодородные поля с прямыми бороздами, убегающими вдаль! Нет в мире ничего лучше, как смотреть на воду, медленно бегущую у твоих ног, от нее становится бурой светлая, пыльная земля, а она все поднимается и поднимается.
— Подумаешь, смотреть, как бежит вода из оросительного канала, — возразил Балагур. — Гораздо приятнее смотреть, как бежит река!
— Река уносит воду с собой, а на полях вода остается. Ах, когда наконец у меня будет земля!
— Скоро, вот женишься на вдове.
— Конечно, женюсь, а что?
— С землицей красавицы не найдешь, дружище.
— А мне и не надо. Я сам не красавец. Крестьянину в доме нужна хозяйка. За пятнадцать лет я уже кое-что скопил.
— Еще бы, черт подери! Ведь ты после сплава идешь к себе в деревню пешком.
Кривой согласился, он действительно во всем себе отказывал, но что поделаешь, раз ты родился безземельным… У отца земля была только та, что прикрыла его могилу. Нет справедливости на свете! Столько богачей, у которых земли больше, чем надо, пот они и разводят на ней куропаток! Прав Негр, пора землю поделить среди всех по справедливости.
И тогда Двужильный рассказал сплавщикам о самом справедливом дележе, какой ему довелось увидеть в своей жизни: Совет крестьян по орошению земель в Валенсии сам распределял воду, без сеньоров судей, а вода в тех краях еще важнее земли, там без нее ничего не сделаешь. И никаких гербовых бумаг.
— Никаких гербовых бумаг? — удивились все.
Двужильный подробно объяснил им то, что видел своими глазами. Такой и должна быть справедливость, когда все люди… По тут они увидели, как Паула поскользнулась на откосе у реки и, выронив глиняный кувшин, упала в воду.
Все бросились к ней, но она уже встала. Вода доходила ей до бедер. Мужчины помогли девушке выбраться на сушу. Зайдя в лагерь, она взяла плед и скрылась за скалой, а сплавщики снова уселись в кружок, словно ничего не произошло. Однако с нетерпением ждали появления Паулы. Наконец она вышла, закутанная в плед по самые щиколотки и обнаженной рукой прижимая к толу ворох бело-черной одежды. Мужчины проводили жадным взглядом этот пленительный для них силуэт.
— Вот бы стать пледом! — прошептал Белобрысый, выразив вслух общую мысль.
— А еще лучше ящеркой, и забраться вверх по ее ногам, — почти крикнул Сухопарый.
Остальные молчали. Паула подошла к костру, остановилась и тут же направилась к песчаной отмели, вниз по течению.
— Иди сюда! — крикнул ей Балагур.
— Нет. Я лучше обсохну на солнце, — ответила она решительно.
Снова наступило молчание. Американец перестал есть и поднялся.
— Обжорка, — обратился он к мальчику, — возьми охапку дров и пойдем со мной.
Он вытащил из костра несколько горящих веток и развел огонь возле Паулы, которая сидела на песке у скал и сушила одежду. Мужчинам издали были видны три их фигуры, одежда Паулы и дым костра. Наконец Американец вернулся вместо с мальчиком и коротко бросил:
— Паула уходит от пас.
Воцарилась глубокая тишина.
— Ну что ж, — первым заговорил Четырехпалый. — Может, это к лучшему. Грех…
— Но почему? — возмутился Балагур. — Почему бедняжка должна уходить? Из-за того, что двое или трое из нас смотрят на нее, словно коты на сало? Разве не прекрасно то, что она была рядом с нами! Для меня она точно дочь родная, точно я у себя дома… Сколько раз, отправляясь на сплав, мы мечтали, чтобы возле пас была женщина, просто чтобы видеть ее, но чувствовать себя такими одинокими, и вот теперь, когда она с нами, вы отпугиваете ее… Сволочи! Будто вас не мать родила!
Сплавщики молчали. Мальчик печально спросил:
— Неужели вы дадите ей уйти, артельный?
— Какого черта она надумала уходить! — И Сухопарый, поднявшись, направился к Пауле. Остальные последовали за ним.
— Я настоящий осел, Паула! — воскликнул он, подходя к ней. — Но, клянусь, если ты не уйдешь, я буду относиться к тебе, как к дочери. Не уходи, забудь, что мы были такими скотами.
Когда подошли все сплавщики, Паула, спрятав белую руку под плед, подняла на них глаза, полные слез.
— Ты прав, Сухопарый, я и в самом деле здесь лишняя. Вы без конца из-за меня ругаетесь… Так уж вы, мужчины, устроены. Тут ничего не поделаешь.
— Мужчины, дьявол тебя возьми! А женщины?.. Но теперь мы проведем черту, и тому, кто посмеет переступить ее, я своими руками сверну башку. Это так же верно, как то, что я зовусь Сухопарым.
Паула но могла не улыбнуться. Увидев это, Балагур обрадовался.
— Ну куда ты пойдешь, дурочка? Ведь мы тебя очень любим!.. Куда ты пойдешь? — снова спросил он.
Паула но знала, как ей быть. Она еще не решилась. Однако обиженное выражение ее лица стало немного мягче.
— Ладно, я подумаю, — ответила она.
— Останься, Паула, останься! — воскликнул Обжорка.
— Конечно, оставайся, если хочешь, — поддержал остальных Американец. — Видишь, все утряслось.
Паула посмотрела на уговаривающих ее мужчин — на Дамасо, который насмешливо улыбался, и выдержала его взгляд; потом на Антонио, и сердце ее дрогнуло.
— Вы у меня добрые, — она улыбнулась, — А сейчас уходите, я хочу побыть одна.
— Урра! — прокричал Сухопарый. Его поддержали остальные.
— Но только как сестра! — предупредила Паула.
— Да, — скрепил уговор Сухопарый. — Но чур! Уговор для всех. Чтобы каждый знал. Если станешь с кем-нибудь заигрывать, хоть с одним, первым буду я, Сухопарый. Для всего… Так?
Паула кивнула головой, улыбаясь.
— А ну прочь отсюда, стадо баранов! Не слышали разве? Она хочет побыть одна!
Паула сидела на песке, с беспокойством размышляя над словами Сухопарого. Мужчины снова уселись в кружок.
— О чем ты думаешь, Сухопарый? — спросил Двужильный.
Уста фавна раскрылись, и ответ прозвучал неторопливо, словно он делился тем, что давно не давало ему покоя.
— Об ее одежде… Вы видели ее одежду?
Он провел ручищей по своему выскобленному подбородку. Ему никто не ответил. Да и зачем? И хотя сплавщики были полны решимости и искреннего желания не досаждать больше Пауле, они не могли отвести глаз от ее платья.
— А, проклятье! — в сердцах воскликнул Белобрысый. — Сказать кому-нибудь, что баба столько времени ночевала рядом с нами, и никто с ней не переспал… Подумают, что мы не мужики…
Антонио напрягся, точно струна. Но не успел он произнести и слова, как поднялся Сухопарый, за которым с улыбкой наблюдал Американец.
— Черт бы вас всех побрал! Молчать! Разве между нами не было уговора? А уговор дороже денег!
Сплавщики разбрелись по своим рабочим местам. Направляясь вместе с Американцем к запруде, Шеннон выразил ему свое беспокойство.
— Пока все обошлось, — ответил тот, улыбаясь. — С Сухопарым можно ладить, он хоть и горяч, зато благороден. Его обещание будет их сдерживать. А через несколько дней они уже начнут думать о другом: о бое быков в Сотондо. Вот потом надо глядеть в оба, я вам уже говорил… Горы останутся позади, и мы выйдем на равнину, что ниже по течению… а там весна не то, что здесь, в горах. Ах, весна! Помню, в жарких краях приятно было в зной полежать в тени… А если еще дружок брал гитару или начинала петь смуглянка…
Да, весна для сплавщиков начиналась скорее, чем для крестьян, они сами спешили к ней, спускаясь с гор. К естественному ходу времени добавлялось их горячее стремление поскорее с ней встретиться.
Паула, как и все остальные, ощущала великие перемены в природе. Бревна нежно коснулись ее колен, когда она встала на них, чтобы помыть посуду. Вода в реке была ласковой, воздух пьянящим, вечер тихим… Внезапно ее охватило такое же чувство, как в день первой встречи с Антонио. Но не весна была повинна в этом. А может быть, именно весна, хоть он и стоял у нее за спиной, опершись о багор. Паула испугалась, вспомнив об уговоре со сплавщиками.
— Уходи, парень, уходи отсюда. Они могут нас увидеть.
— Разве у меня нет имени?
— Антонио… — робко произнесла она, не в силах справиться с волнением. Но тут же, овладев собой, повторила: — Уходи, Антонио. Они на тебя разозлятся.
— Они пошли есть… — презрительно проговорил он и, улыбаясь, спросил: — А если даже и увидят?
— Ты же слыхал: каждый… — уклонилась она от прямого ответа.
Но Антонио, опустившись рядом с ней на колени, прошептал ей на ухо:
— Но ведь я не каждый.
— Не надо, Антонио… Иначе мне придется уйти, а я сейчас не хочу.
— Тем лучше. Иди домой и подожди меня там.
— Мне некуда идти.
Антонио не стал ни о чем расспрашивать, увидев скорбь и тоску, но не объяснение в ее глазах. Он только произнес:
— Судьба; все-то у нас с тобой одинаково. Я рад, что ты идешь с нами. Все образуется. Но только, чур, я — это я, а они — это они.
— Они — это Франсиско, Кинтин, Двужильный, Горбун, сам Сухопарый и… Ройо.
— Кто?
— Ирландец.
— 11очему ты зовешь его Ройо?
— Tie смотри на меня так. Это его имя.
— Он-то не отобьет, куда ему! Но меня бесит, что он на тебя так пялится. Выкинь его из головы.
«О матерь божья, неужели он ревнует?» — радостно подумала Паула. Ей вдруг захотелось немного подразнить Антонио.
— С какой стати? — вызывающе спросила она.
— Смотри у меня!
— Да кто ты такой, мы с тобой и двух слов-то не сказали.
— Слов? — презрительно произнес он. — Зачем слова бабе и мужику, если в них обоих кипит кровь и они знают то, что им надо знать! Разве мы с тобой не поняли друг друга в первый же день? Или твое лицо обманывает меня всякий раз, как я на него смотрю? — спросил он, все больше распаляясь. И схватив Паулу за плечи, заставил ее взглянуть себе в глаза. Затем снова улыбнулся: — Слова… кому они нужны!
— Что поделаешь, — сдалась Паула, — чему быть, того не миновать… А потом ты поступишь со мной так же, как поступают все мужчины, когда женщина им отдастся: бросишь… Ах, Антонио, я ведь совсем не такая! Я не хочу больше страдать, Антонио, и мне тогда останется только убить себя!
Этот крик, идущий из самой души, потряс невозмутимого Антонио. Улыбка сошла с его лица, и он серьезно сказал:
— Па сей раз ты останешься жива.
Вздох и безмолвие. Безмолвие стремительно бегущей воды, трепетных ветвей, легких, вездесущих птиц. Антонио почти слово в слово повторил фразу, сказанную им в день их первой встречи:
— Твой кувшин выскользнет в воду.
Она вздрогнула, очнувшись от раздумий, и принялась мыть посуду. Страх снова ножом полоснул се по сердцу.
— Уходи, уходи, ради бога!
Антонио спокойно поднялся и, уходя, уверенно сказал:
— Они слепы… Иначе я опоздал бы.
Но они не были слоны. Поело ужина Сухопарый отвел Антонио в сторону.
— На пару слов, приятель… Куда это ты исчез, когда мы возвращались?
— С каких пор, Сухопарый, ты стал следить за мной?
— Чихать я на тебя хотел… На реке была Паула… Не вздумай увиваться за ней, а то плохо кончишь, парень. Раз я терплю, пусть все терпят.
— По, Сухопарый…
— Меня зовут Дамиан для таких разговоров… И заруби себе на носу: Паула здесь для всех. По-хорошему — так по-хорошему, а по-плохому — так по-плохому. Ясно? Для всех — так для всех.
— Слыхал, знаю.
— А знаешь — веди себя как положено. Тут все пляшут под одну гитару, а той задаю я. И если кто собьется, тому мы этой гитарой проломим башку.
— Вот что, Дамиан, я не сказал бы, что девушка мне не нравится, но…
— А сказал бы — так был бы самым последним брехуном на свете.
— Но я согласен с тобой.
— Так не забывайся.
Они вернулись назад как ни в чем не бывало, но все поняли, какой между ними шел разговор. «Да, весна вступает в свои права», — подумал Шеннон. Она будоражила этих людей, сплавлявших лес и строивших запруды, даже после того, как они засыпали, сломленные усталостью, не слышно было ни единого вздоха. И все же было в ночи что-то такое, что волновало и вместо с тем угнетало. Не в силах дольше оставаться в неподвижности, Шеннон скинул с себя плед и не спеша отправился пройтись.
Оп добрел до реки. Потом вернулся, обогнул заброшенную плотину и снова очутился в поле… Это было невероятно: земля вздрагивала у него под ногами, подпрыгивала. Пет, глаза его не обманывали: в темноте среди трав скакали маленькие бугорки. Маленькие комочки земли прыгали то тут, то там, словно пузыри в кипящей воде, с ритмичностью барабанной дроби.
Ио то была не земля, то были лягушки! Шеннон убедился в этом, едва приблизился к одному из бугорков, готовому подпрыгнуть. Десятки, сотни лягушек прыгали вокруг него. Не скопом, а поодиночке, то сталкиваясь, то обгоняя друг друга, то удаляясь, безучастные ко всему, но все в одном направлении.
Лягушки, как и люди, оставив позади зиму, спешили навстречу новой жизни. Они выкарабкивались из ила, где, прячась от стужи, спали летаргическим сном, и возвращались к жизни, повинуясь зову весны, вечному движению небесных светил. Под слоем ила они уловили колыхание вод и новых тростников, бег новых водяных жуков, прикосновение к волнам новых стрекоз. А может, их взбудоражили корни шпажника или влекла на сушу сама земля. И лягушки покидали свое вязкое укрытие. Тощие, бледные, они вылезали во вновь возрождающийся мир, разевали свои уродливые рты, вдыхали воздух, поводили сонными глазами. Постепенно они вспоминали, как надо язычком ловить насекомых, как прыгать на мускулистых лапках. И тогда, оставив позади болото, устремлялись к новой жизни. Принюхивались, определяли направление и начинали свое паломничество в обновленную влажность, в обновленный мир.
Они продвигались вперед, ничего не видя вокруг, не замечая ни Шеннона, ни друг друга. Их, словно магнитом, тянуло к новой воде, которая все приближалась. Они шлепались в вереск, в ямы, на пригорки. Им было все равно. Они продолжали свое неутомимое скакание, оставаясь слепыми и глухими ко всему, что не обладало силой этого магического притяжения.
Шеннон присоединился к этому молчаливому таинственному галопу. Вместе с ними он достиг заводи и увидел, как они застыли в восторге, очарованные серебряными бликами, которые щедро расточал тонкий серп лупы. Потом одни кинулись в воду, другие продолжали наслаждаться открывшимся их глазам зрелищем. Их ждала влага, обильная пища, счастье лета.
Вдруг Шеннон заметил, как одна из лягушек, приблизившись к другой, издала сначала тихое, почти нежное, а затем трепетное от страсти кваканье, и обе закружились в милом и нелепом танце. Другие пары последовали их примеру, и вот берег превратился во дворец, где состязались трубадуры, в поле любви, в ложе объятий. Он представил себе, как через несколько дней в воде появится бесчисленное множество клейких мешочков с икрой. Они опустятся на дно и там, в иле, набухнут, как первые живые существа миллионы лет назад. Чудовищные существа — полурыбы, получетвероногие — начнут, как и тогда, свою яростную охоту на насекомых и личинок, чтобы произошло их невероятное превращение. И так будет длиться до тех пор, пока не придет конец теплу, тогда они снова вернутся в ил, погрузятся в летаргический сон, повинуясь вечной смене времен года.
Шеннон поднял лицо, вдохнул влажный воздух, насыщенный запахом гнили, и стал разглядывать тонкий серп луны в вышине. Он уже готов был вознести молитву бессмертной Исиде, благодаря за любовь, дающую неиссякаемую силу природе. Но за него это сделали другие. Сначала несколько, а затем сотни и сотни лягушачьих глоток наполнили своим ритмичным кваканьем необъятную ночь.
И этот вопль возрожденных лягушек, еще трепетный от любовных игр, повторил извечную хвалу богам девственных лагун эпохи огня и потопов еще до появления животных и людей. Только эти голоса, хриплые, монотонные, прерывистые, но отчетливые и упорные, могли вывести из зимней спячки планету.
Да, зиме пришел конец. На другой день сплавщики, продвигаясь по реке, уже не так тесно сжатой утесами, вдыхали новый, не похожий на прежний, воздух. Вода торжествовала свою победу над горами и скалами. В тот же вечер — уже на подступах к Сотондо — они увидели паром между Морильехо и Карраскосой, смутные очертания полей, низких холмов и прогалин, над которыми возвышались Тетас-де-Виана — вершины-близнецы Алькарии. И их охватило волнение, какое охватывало всех паломников во все времена, когда они достигали наконец земли обетованной.
ЦЯНЬ
это могучий дракон, желтая большая дорога, сила и сладострастье, молодой бамбук, барабан. Это северо-запад, это весна. (Комментарии к «Ицзин», «Книге перемен»)7 Сотондо
В ту ночь теплый воздух, испарения, исходившие от земли, и сияние звезд опять не давали уснуть Шеннону, и он отправился побродить. Русло Тахо уже можно было различить сквозь редеющий туман, предвестник близкого утра.
Еще до света и красок день начинался с запахов, дурманивших своим ароматом. Внезапно занялась заря, и небо заиграло тысячью прекрасных оттенков: от багряных до золотых. Выскочила куропатка, побежала вразвалочку, несколько раз взмахнула крыльями и взлетела, на какой-то миг с упоением распластав в воздухе свое тяжелое тело. Толстая светлая зайчиха и быстрый темный заяц сорвались со своего ложа из-под самых ног Шеннона. В кустах виднелись следы борьбы: взрыхленная земля, клочья шерсти, выдернутые перья и даже пятна крови — следы жестокой расправы над жертвой, принесенной в честь воскрешения весны.
И, словно еще одно живое существо, ввысь взвилась мелодия. Такая целомудренная, легкая и в то же время такая древняя и глубокая, словно первый вздох пробуждающейся земли. Этот слабый звук заполнил собой весь мир. Всего три ноты, но они страстно призывали к возрождению жизни. Чуть выше Шеннон повстречал самого музыканта: дряхлого пастуха, стерегущего овец. Он подошел к нему и заговорил. Однако трудно было понять невразумительную речь этого старца, который почти разучился говорить, столько лет пребывая в полном одиночестве. Зато собака отлично понимала его резкие гортанные приказания. Возле пастуха на камне лежали котомка и сосуд такой красоты, какой Шеннону еще не доводилось видеть: он был из чистого белого рога с причудливым орнаментом и плотной можжевеловой крышкой.
Заметив, с каким восхищением Шеннон разглядывает сосуд, пастух показал ему на узор из звезд, выгравированных шилом, и орнамент попроще, сделанный навахой. Черный старческий палец ткнул в инициалы и дату: «Л. С. 1885», рядом с которыми было изображено что-то похожее на сердце.
— Сердце жизни, сердце жизни, — сказал он. И еще раз повторил: — Сердце жизни.
Затем снова поднес к губам тростниковую свирель и заиграл ту же мелодию. Небо еще не было ярко-синим, ни даже голубым. Сквозь небрежные зеленоватые мазки дерзко проглядывала бледная желтизна, становившаяся все ярче. Под заклинание свирели, словно раскаленный шар, в который вдувают воздух, росло небесное светило, четко очерчивая контуры гор. Внезапно звуки свирели оборвались, и все вокруг словно замерло в восхищении. Даже в глазах собаки, обращенных вверх, застыло удивление. Тогда пастырь вселенной спрятал в котомку тростниковую свирель и достал оттуда еще одну, сделанную из кости.
— Другой собаки… — пояснил он. — Самой храброй!.. Волк загрыз.
Он поднес ее к губам почти с благоговением, и его дыхание вошло туда, где когда-то был мозг. Раздались те же поты, но теперь они звучали иначе: более отчетливо, страстно и чарующе. Солнце мгновенно отозвалось на эти звуки и показало свой ослепительный диск над горнилом горизонта.
Шеннон молча ждал, пока солнце окончательно не оторвалось от земли. И только тогда отправился назад, к реке, над которой уже рассеялся туман, уступив место утреннему свету. В тополиной роще и ольховнике лопались почки. У некоторых деревьев из пораненных стволов ток густой, темный, наполовину свернувшийся сок. Но, пожалуй, птицы, с их обостренной чувствительностью, больше других предавались радости воскрешения. Перелетные без устали кричали на все лады, щегол неистово хохотал, а трясогузка в недоумении сновала над самой рекой, пораженная деревянным покровом, который не давал ей коснуться воды даже кончиком крыла. Да, пожалуй, птицы. Спустя некоторое время в такое же утро разольется безудержная трель жаворонка. По не все жаворонки будут только петь. Хохлатый станет искать и носить в клюве все, что годится для гнезда. Да, именно птицы. Но и водное царство забурлило от стрекоз, рыб, головастиков. Как прекрасны были две водяные змеи, изящно и плавно извиваясь, скользившие рядом в волнах, настолько легких, что они даже не рябили поверхность реки.
И Паула показалась Шеннону такой грациозной, такой сияющей! Перехватив его взгляд, она с удивлением спросила:
— Почему ты на меня так смотришь?
Почему? На ней было то же платье, тот же платок, те же альпаргаты. Но разве ее изящная поступь не подчинялась таинственной мелодии пастуха? «Сердце жизни», вспомнил Шеннон. Ему вдруг сдавило горло, он слабо махнул рукой, приветствуя девушку, и окончательно сдался на милость неуемной, бурной, победоносной весны. В таком состоянии он вернулся к сплавщикам, взбудораженным подготовкой к празднику в Сотондо.
У жителей села этот обычай устраивать праздник с боем быков в честь прибытия сплавщиков вызывал двоякое чувство; они ждали ого с радостью и тревогой. Кое-кто из стариков на всякий случай получше припрятывал свои деньги, зато ребятишки бурно ликовали. Но, пожалуй, особенно противоречивые чувства испытывали девушки. По дороге к роднику они не переставали говорить об этих людях с дурной славой, и сердца их замирали от страха, совсем как на ярмарочных качелях. И хотя они отзывались о пришельцах пренебрежительно, все же не забывали одеться получше, чтобы обратить на себя внимание; однако остерегались, разумеется, осуждения односельчан. Женихи бдительно следили за поведением своих невест, и если оно выходило за рамки приличия, ставили их на место, как и подобает настоящим мужчинам. Самому отчаянному головорезу села поручалось по традиции приветствовать сплавщиков. Для этого его заворачивали в грубую шерстяную ткань; на лицо надевали маску дьявола, на щиколотки и на пояс вешали бубенцы, а в руки давали огромную трещотку.
В утреннем воздухе затрезвонили колокола. Священник, услышав звон, подскочил на стуле и выронил требник. Но тут же вспомнил о прибытии сплавщиков. Он прервал свои молитвы, вздохнул и направился вниз, к реке. Еще издали он увидел группу людей у овчарни дядюшки Габино, они держали багры на плечах, напоминая древних копьеносцев. Все село уже поджидало их у околицы.
Сплавщики тоже увидели селян: различили черные и бурые вельветовые костюмы мужчин, светлые пятна детских лиц, сутану священника. Шла не только артель «ведущих» во главе с Американцем, но и несколько артелей, следовавших за ними. Капитан должен был явиться позже вместе с артелью «замыкающих». Всего их должно было собраться человек пятьдесят.
— А что, в этой деревне девок нет? — спросил Белобрысый у Сухопарого, не видя пестрых девичьих платьев.
— Потерпи чуток. Вырвутся от своих мамаш… Да и сами мамаши придут… Хватит на всех.
Бенигно Руис, местный касик, стоявший вместе с крестьянами, заметил нечто необычное среди сплавщиков.
— Никак с ними женщина, Бальдомеро?
— Похоже на то, сеньор Бенигно. Не сплавщик же это в юбке.
Под колокольный перезвон и пересуды сплавщики подходили все ближе и ближе к крестьянам. И у Шеннона родилась чисто городская ассоциация: так две группы пешеходов, ожидавшие на противоположных сторонах улицы сигнала светофора, трогаются навстречу друг другу.
— Эй! Люди добрые! — крикнул Американец. — Опять пас встречает самый отъявленный головорез села!
Ряженый вышел навстречу сплавщикам, тряся бубенцами и изо всех сил гремя трещоткой. Его окружили ребятишки, две или три собаки отчаянно залаяли на чудище не столько от страха, сколько от удивления. Какое-то время ряженый высоко подпрыгивал, словно дикарь, отгоняющий злых духов.
— Мы пришли к вам с миром и в мире пребываем, — сказал Американец, дав ряженому выполнить свой грозный обряд. А затем произнес традиционную фразу: — Мы несем вам ягненка и идем убить быка.
Тогда ряженый поклонился и, возглавив сплавщиков, ввел их в село. Американец обменялся несколькими словами с алькальдом и священником; сплавщики встретили кое-кого из знакомых крестьян, но держались еще отдельной группой. Острия багров за плечами у сплавщиков придавали их войску воинственный вид.
Один сплавщики сразу же направились в таверну и стали расспрашивать хозяйку о дочери, которая, наверно, ужо стала совсем взрослой девушкой. Другие пошли прямо на площадь. Бенигно Руис, в фетровой шляпе вместо обычного берета, жилетке с золотой цепью и большим золотым перстнем, обратился к Американцу, рядом с которым шла Паула:
— Вы делаете успехи! Первый раз в жизни вижу женщину со сплавщиками.
— Она с нами только до Трильо, — ответил Американец. — Там она останется. Ее родители — наши друзья.
— Будь она моей дочерью, ни за что не отпустил бы с вами, — сказал Руис. — Вы настоящие мошенники, а она слишком хороша… Нет, ни за что не отпустил бы!
Однако больше слов говорили его пронизывающий взгляд и отвислая нижняя губа с прилипшим окурком сигары, делавшие двусмысленной и неприятной галантность этого сеньора. Пока они шли к площади, он не переставал пожирать глазами Паулу.
— Как ты думаешь, кого в этом году сделают быком? — спросил Четырехпалый Негра.
— Кого-нибудь сделают. В этом селе каждый справится.
Одна сторона площади была слегка приподнята, и на этом возвышении стояла церковь. Стена около паперти с тремя или четырьмя ступенями служила своего рода трибуной. Там ужо сидели женщины, старые и молодые, за ними стояли степенные хмурые мужчины в беретах и фуражках. На углу площади, возле единственного здания с балконом, Руис соорудил на двух телегах нечто вроде подмостков, откуда, должным образом вознесшись над толпой, собирался вместе со своими приближенными смотреть спектакль. Сюда он привел и усадил, все с той же неприятной галантностью, Паулу и Американца. Шеннон решил занять место рядом с подмостками. Возле него встал Антонио Встречный. Со всех сторон площадь окружили зрители: крестьяне вперемешку со сплавщиками. На ступенях паперти уселись представители власти — алькальд, альгвасил, местный священник и какой-то старец.
Альгвасил затрубил в рожок и дробно застучал по барабану. На площадь шумно ворвался ряженый, испугав своими прыжками ребятишек, шарахнувшихся от него в сторону, а самые маленькие даже заплакали. Обежав по кругу, он скрылся в таверне, альгвасил снова протрубил в рожок. От наступившей тишины площадь показалась как бы просторнее. Шеннон подмечал каждую мелочь: чья-то голова высунулась в окошко, птица парила в вышине среди ослепительного солнечного сияния.
— Бык, бык! — раздался истошный визг какой-то девчонки.
Словно вызванный криком, идущим из глубины веков, бык вырвался на площадь из темного проема дверей таверны.]{то-то, покрытый бурым пледом, с растрепанной веревкой вместо хвоста, бежал согнувшись, подражая животному, и держал перед собой деревянный щит с двумя большими рогами. Судя по легким прыжкам и движениям, это был молодой парень.
— Этого мы живо прикончим, — сказал кто-то из сплавщиков.
По бой должен был состояться в полдень. А сейчас народ лишь любовался быком и шумно выражал свое восхищение. Отовсюду неслись грубые шутки и возгласы. Это был самый подходящий момент завязать знакомства. Кое-кто из сплавщиков спрашивал у девушек, не их ли это жених. Те смеялись в ответ, делая вид, что обижаются. Восклицания, колкости, любезности и заигрывания слышались со всех сторон. Все сливалось в громком гуле голосов. И вдруг народ ахнул: бык поднялся на дыбы, словно собираясь ринуться на публику.
— Хорош бык, верно? — спросил Бенигно Паулу. — Вам нравится?
— Он очень далеко, — уклончиво ответила девушка.
Руис встал.
— Бык! — гаркнул он во все горло. — Иди, встань сюда!
От этого окрика бык остановился как вкопанный и покорно двинулся к телегам.
— Теперь тебе хорошо видно? — обратился Бенигно к Пауле и, тут же повернувшись к быку, спросил: — Что, мешают рога?
Громадный деревянный щит протестующе закачался, вызывая хохот.
— Слишком большие тебе наставили!
Щит согласно кивнул, отдавая должное остроумию главы семейства Руисов из Сотондо.
Продемонстрирован девушке свою власть, он с презрением сказал:
— Ладно, иди резвись, несчастный!
Бык удалился, смешно подпрыгивая.
— Руис с этими людьми делает все, что захочет, — сказала Пауле сестра Бенигно, тощая, как жердь. — Почти все они должны ому.
Руис самодовольно подтвердил ее слова кивком своей тяжелой головы и достал из кармана сигару. Закуривая, он вдруг вспомнил учтивую фразу, слышанную когда-то в мадридском театре:
— Вам не помешает дым?
— Нет, — ответила Паула.
— Люблю таких женщин.
Меж тем на поле выбежала ватага ребятишек и стала дразнить быка, словно собаки в старинных корридах. Не переставая пугать их внезапными наскоками, бык все же позволил увести себя назад, к темным дверям таверны.
Настало время восхищаться куадрильей, которую заранее составили сплавщики, распределив между собой роли. Во главе куадрильи шел сплавщик из средней артели, прозванный Косичка за то, что хвастался, будто в молодости был тореро, правда, довольно захудалым. Следом шло несколько пеонов, среди которых Шеннон узнал Негра и Сухопарого, а за ними на плечах сплавщиков, изображавших лошадей, выехали пикадоры, в том числе Белобрысый, державшие наперевес свои багры. Только теперь понял Шеннон, каково назначение подушечки под пледом у мнимого быка, и со страхом подумал, что это слишком ненадежная защита от варварских ударов. Куадрилья приложила немало усилий к тому, чтобы как можно больше походить на настоящих тореро: шляпы были лихо заломлены, однако, как они ни старались, их брюки и куртки все же не могли напоминать роскошные костюмы участников корриды. Плащи, правда, были у всех красного цвета, а Сухопарый красовался в кроваво-алом, бог знает в каком доме позаимствованном и у какой Дульцинеи, обольщенной его поцелуями, взятом.
Куадрилья два раза обошла площадь. Мужская половина публики следила за ней сдержанно, беспокойно, даже враждебно, зато ребятня так неистово ликовала, что некоторые девушки не очень громко зааплодировали, их поддернули подружки. А какой-то подвыпивший крестьянин даже осмелился прокричать:
— Молодцы! Давай, давай!
Кто-то бросил гвоздику. И она ярко заалела на бурой земле, среди угрюмых домов и глядевших на псе угрюмых людей. Косичка, стараясь быть как можно грациознее, подхватил ее и сунул за ухо. Его галантность была встречена взрывом аплодисментов.
Шествие окончилось, и народ уже собрался расходиться, когда на площадь выбежал человек с непокрытой головой. Местные жители с удивлением уставились на незнакомца, лицо которого выражало отчаяние. Лишь немногие сплавщики узнали в нем рабочего из средней артели, одетого в крестьянское платье.
— Помогите, помогите! — кричал он. — Нет ли среди вас доктора для роженицы? Умирает, умирает моя любимая!
Кое-кто сразу заподозрил в этом шутку. Но человек продолжал жалобно взывать. Навстречу ему вышел альгвасил.
— В нашем селении нет доктора, добрый человек… — проговорил он, но, увидев хитрое лицо незнакомца, спросил другим тоном: — А что, собственно, произошло?
— Моя жена вот-вот родит, она кричит благим матом. Ай, моя бедная женушка! Ай, моя милая!
Народ разразился хохотом. Из двери таверны на носилках, сделанных из двух багров и пледа, вынесли корчившегося в муках Балагура. На нем была длинная блуза, из-под которой выпирал огромный живот.
— Ой, мамочки! — кричал он. — Ой, пресвятая матерь божья! Сжалься надо мной, и я поставлю тебе такую же большую свечу, как рога у быка Сотондо!
Альгвасил с достоинством ретировался. Сельский алькальд не знал, как ему реагировать на это неожиданное добавление к традиционной программе. Он посмотрел в сторону подмостков, чтобы по поведению Руиса угадать, прогонять ли с площади шутников или нет. Но Бенигно сам оглушительно хохотал.
— Эй, Леокадио! Раз нет доктора, уважь ты просьбу сеньоры!
Из толпы вышел обшарпанный, заросший щетиной старик с сизым от чрезмерного пристрастия к вину носом. Увидев на арене местного балагура, публика возликовала, надеясь еще повеселиться. Кинтин продолжал жаловаться:
— Ох! Правду говорила мне матушка, от мужчин только одно страдание! Ох! Если бы им пришлось рожать, род человеческий скоро бы пресекся.
Благочестивые матроны согласно кивали своими пучками, уложенными на макушках. Балагур, которого проносили мимо громко хохотавшей старухи, сказал ей, делая вид, что очень хочет пить:
— Сеньора, не дадите ли вы из сострадания к ближнему немного святой водицы на худой конец? Сжальтесь надо мной, завтра такое может приключиться и с вами!
Беззубая старуха умирала от смеха. Какой-то старик бросил ому флягу с вином, и Балагур поймал се на лету. Отхлебнув довольно большой глоток, он стал жаловаться на своего супруга:
— Вы только посмотрите на него, добрые сеньоры, ому и горя мало! Ему нет дела до того, что со мной будет! Ай! А еще говорил, что любит меня!
Когда они подошли к подмосткам, к ним приблизился Леокадио, готовый добросовестно выполнить возложенную на него роль акушера. Он долго разыгрывал грубый фарс, не забыв ни одной подробности. И, наконец, из-под блузы Балагура извлек живого, отчаянно блеявшего ягненка. Балагур потребовал, чтобы ему отдали его чадо, и держа ягненка в руках, воскликнул:
— Сокровище мое! Ты как две капли воды похож на своего отца!
И сделал вид, будто вынул грудь и кормит ею ягненка.
Балагур стал гвоздем программы. Ему предназначались хохот, аплодисменты, грубые похвалы; к нему обращались широко раскрытые глаза смущенных девушек и затаивших дыхание подростков. Священник, после тщетной попытки прекратить эту непристойную комедию, давно уже покинул площадь. Звон колокола раздался как раз в ту минуту, когда спектакль был окончен. Бенигно, расщедрившись, угостил вином комедиантов и обернулся к Пауле, в восторге от своего великодушия.
Но Паула не смеялась. Она сидела, сжав кулаки так, что побелели суставы, далекая от происходящего, с застывшим лицом, со слезами на глазах.
— Пойдем, милая, не принимай это так близко к сердцу. Рано или поздно все через это проходят. К тому же если мужчина по дурак и имеет опыт, — прибавил он Тихо, — он сделает так, что ничего не случится.
Шеннон, стоявший невдалеке, понял, что Паула не слышит слов Бенигно. Ее волновало какое-то скрытое горестное чувство. И она все еще была в мире своих переживаний, когда толпа увлекла ее за собой в церковь.
Туда же вошел капитан, только что прибывший со сплавщиками, которые принесли уже разделанных барашков, чтобы зажарить их на костре. Наиболее важные гости, в том числе Шеннон, на которого указал Американец, были приглашены на обед в здание аюнтамиенто. Остальные сплавщики и жители села разбрелись по домам или же расположились на открытом воздухе, исключение составлял Сухопарый — ого пригласила к себе имущая вдова, владелица красного плаща, в котором он блистал во время шествия куадрильи. Что касается Паулы, то она была удостоена особой чести быть приглашенной в дом Бенигно отобедать в общество его сестер, пока сам он обедал с местными властями. Паула хотела отказаться, но Бенигно заявил, что женщине не подобает находиться одной среди мужчин.
Белоснежный дом Руисов с массивными толстыми стопами и длинным балконом резко выделялся среди убогих деревенских фасадов из необожженного кирпича, с маленькими окошечками. Он словно стремился обособиться, чтобы в его комнаты не доносились стенания должников и проклятия угнетенных, которые не осмеливались роптать в полный голос. К тому же в части дома, обращенной к горе, за внутренним двориком, было несколько каморок. Комнаты, где семья жила и принимала гостей, никак не соприкасались с каморками у горы, где заключали жульнические сделки, хранили излишки пшеницы и вели тайные дела. Благодаря столь мудрой планировке Бенигно и его сестры со спокойной совестью могли идти к мессе из своих комнат, расположенных в передней части дома, как бы и не ведая о другой, скрытой жизни своего гнезда.
Вот почему за столом у Руисов, за которым сидели две сестры и Паула, все выглядело так благопристойно и прилично. Каждое блюдо, каждое слово прославляло могущество Бенигно.
— Мой брат, — вкрадчиво говорила Хесуса, старшая из сестер, — может делать все, что хочет, но если, конечно, его хорошенько попросить, он очень добрый. Очень добрый!
— Разумеется, ему приходится защищаться, отстаивать свои интересы, — поддержала сестру Кандида. — Этому сброду дай только волю. И все же у него золотое сердце. А если ему кто-нибудь приглянется… он и вовсе растает!
Имя Бенигно сновало от сестры к сестре, словно ткацкий челнок. Люди так завистливы, так злоречивы! Вот они и судачат о Бенигно и о девушках. Конечно, как и всякий мужчина, он не безгрешен, но, по правде говоря, девушки на него не в обиде. Еще бы! Им же лучше, пускай спасибо говорят, что он вытащил их из нищеты. Бенигно так щедр! Разумеется, если девушка покладиста: ведь даром ничего не делается.
И хотя разговор шел о брате, сестрам все же удалось выведать кое-что у Паулы помимо ее воли. Ради этого они не поскупились на ласку и участие. Наверное, трудно идти со сплавщиками! Неужели не нашлось никого из родных, чтобы проводить ее хорошей дорогой? Ай, ай, ай! Бедняжечка, совсем одна, беззащитная! Ничего нету, даже дома? Какой ужас!.. Верно, Хесуса? (Верно, Кандида, верно). А что, если ей остаться у них? Только сегодня утром Бенигно говорил, что они уже слишком стары, чтобы ухаживать за больной! Лучшей работы ей нигде не найти. Они люди богобоязненные, о слугах заботятся; для них они как родные, хотя, разумеется, каждый должен знать свое место… Нет, нет, сразу пусть не отказывается! Надо сперва подумать. Ну, конечно, время еще есть! Может быть, она хотя бы сегодня переночует у них, чем спать в горах, точно лисица, — мир не без добрых людей.
— При чем тут лисица, сестра? Что за глупое сравнение! — ужаснулась Хесуса.
— Ну какой-нибудь зверек, птичка… божье творение… Скажем, голубка.
— Вот, вот. Голубка. Паула ведь у нас девушка.
Их беседу прервал испуганный, слабый голос. Он внезапно вырвался из темной спальни, из-за арки, полузакрытой занавесью. Паула и не подозревала, что там кто-то есть, пока оттуда не послышался звук, больше походивший на голос мрака, чем на голос живого существа.
— Кто там?.. Кто пришел?
— Это наша повестка, — шепотом объяснила Кандида Пауле и тут же громко проговорила: — Не беспокойся, Фелиса, отдыхай.
— Кто там?
— Подруга, — коротко бросила Хесуса.
— Значит, он тоже придет? — В голосе звучала слабая надежда, если вообще мрак может надеяться.
— Нет. Он обедает в аюнтамиенто, ты же знаешь.
Голос во мраке исчез, и тьма стала еще гуще, но через секунду он прозвучал вновь, громче и даже требовательнее.
— Я хочу ее видеть.
— Зачем тебе? Ты ее не знаешь.
— Конечно, сеньора. С большим удовольствием, — сказала Паула и шагнула к арке.
В углу комнаты, невидимой из столовой, стояла высокая кровать с медными спинками и шарами, причитающаяся по рангу хозяйке дома. На ночном столике горела свеча перед статуей святой девы. В подушках утопало истощенное лицо, обрамленное нечесанными, спутанными волосами. Из-под одеяла вынырнула худая рука, и больная приподнялась.
— Ты очень красивая! — произнес голос. — Подойди, я плохо тебя вижу.
Паула подошла ближе. Больная взяла ее за руку, слегка погладила и вдруг отчаянно вцепилась в псе, словно когтями. Потом заговорила, будто размышляя вслух, постепенно ослабляя почти смертельную хватку.
— Да, да… Совсем как я когда-то.
И вдруг, внимательно посмотрев на Паулу, предупредила:
— Они предложат тебе остаться у них… А может, уже предложили?
Из столовой прошипела Хесуса:
— И что это тебе в голову взбрело!
— Предложат, вот увидишь, предложат… — повторила больная. — Что ты им на это ответишь?
— Оставь ее в покое, Фелиса! — вмешалась Кандида, подходя к постели. — Идем, дорогая, пойдем в столовую.
— Да, мне они говорили то же самое, — тихо произнесла больная. — А я…
Кандида взяла Паулу под руку, чтобы увести. Мягко, но непреклонно.
— Выздоравливайте скорее, сеньора, — жалостливо сказала Паула.
— Это трудно, — ответила больная, уже не глядя на нее. — Как бы я хотела умереть! Как бы хотела!
— Видишь ли, у нее с головой не все в порядке, — объяснила Хесуса.
— Сколько пережил мой бедный брат! — вздохнула Кандида. — В рай, только в рай должен попасть наш Бенигно за свое долготерпение!
— Она тяжело больна? — спросила Паула, чтобы что-то сказать.
— Ерунда, нервы.
— Да, все от нервов. Лежит себе полеживает, ничего не делает, а хозяйство у нас большое.
— Даже детей родить не смогла… Такому человеку, как наш Бенигно!
В эту минуту прозвучал рожок альгвасила, и все трое вышли на балкон. Начинался бой быков. Куадрилья прошла под теплым майским солнцем. Из таверны выскочил бык и, добежав до середины площади, остановился как вкопанный, поводя рогами из стороны в сторону и вспахивая копытами землю. Народ глазел на него, еще больше зверея от непривычной сытости и вина.
Косичка сделал щегольский выпад, дразня быка. Бык боднул его, но плащ вовремя взмыл вверх. Тогда бык как-то странно попытался зайти сбоку, однако матадор ничуть не удивился и отскочил в сторону.
Так повторялось два или три раза у нескольких матадоров. Нашлись и храбрецы из села, которым захотелось поработать мулетой, даже кое-кто из зрителей отважился сделать несколько выпадов, когда бык проходил мимо. Наконец звук рожка возвестил о новом этапе. Но бык, находившийся в эту минуту у дверей таверны, вдруг исчез, словно провалился сквозь землю.
От изумления все смолкли. Затем прошел недовольный ропот, но не успел альгвасил вмешаться, как бык одним прыжком выскочил на арену. Однако он уже был не тот. Из смешного он стал страшным. К его рогам были крепко привязаны длинные стальные лезвия навах из Альбасете, и острия торчали почти на целую ладонь.
Альгвасил выступил вперед, чтобы пресечь безобразие, но бык ринулся на него и поверг в бегство. Из-под пледа раздался злобный, вызывающий голос:
— Эй вы! Перед вами — сплавщик. А ну-ка, одолейте!
Зрители растерялись. Женщины и дети пересаживались в более безопасные места. Кое-кто из мужчин прошел в первые ряды, держа палку или скамейку, неизвестно откуда взявшиеся. Алькальд встал, чтобы восстановить порядок — этого требовали два-три старика, — но Руис отнесся к делу веселее.
— Оставь их, Амбросио! Пусть прикончат одного! — крикнул он алькальду.
Косичка решил, что именно ему пристало одержать победу над новым быком, который пока что пугал зрителей, уклоняясь от палок и скамеек. Увидев матадора, бык ринулся на него с такой яростью, что прорезал рогом плащ, и тот распался надвое.
— Сволочь! — выругался матадор. — Знать бы, кто этот сукин сын!
Бык, довольный собой, радостно приплясывал. Хвост, как змея, извивался на покрытой пледом спине. Когда Косичка, распаленный тщеславием, снова стал дразнить быка, тот внезапно повернулся и, не давая ему покрасоваться, погнал его во всю прыть. Матадор убежал, бык остался одни на поле сражения, трясясь от хохота. Плед, облегавший его, как кожа, содрогался от смеха, точно живот весельчака.
Сухопарый в бешенстве устремился на середину площади. Но Косичка предостерег его:
— Пусть его сначала подготовят. Эй, колите этого стервеца до костей! Пусть просит пощады, скотина!
Тем временем бык с грозным видом кидался на зрителей. Пикадоры, стоявшие на чьих-то плечах, как на крупах коней, взяли пики наперевес, но «кони» не двигались с места. Только один из них, на котором возвышался здоровенный детина, спросил своего всадника:
— Крепко держишься?
— Пе беспокойся.
— Тогда вперед!
И оба кинулись на быка, который совсем осатанел, увидев, как солнце заблестело на стали. Пикадору удалось вонзить шип в потник. Какой-то миг все трое, напрягая силы и поддерживая друг друга, словно стены арки, толкались, оспаривая место. «Конь» и всадник вместе были тяжелее быка, зрители торжествовали победу, и Косичка приободрился. Но тут бык внезапно отскочил в сторону, и всадник вместе с конем рухнул на землю. Бык приблизился к ним, зрители замерли от ужаса, но пикадор успел выставить ему наперерез острие багра. Тогда бык подошел к «коню», лежавшему на земле, однако только поставил на него ногу и перепрыгнул через него. Косичка, подступивший было к быку, пока пикадоры нападали, быстро ретировался поближе к представителям власти.
— Проклятые трусы! — выругался Руис, вставая. — Сейчас увидите, как этот тип сдрейфит!
Он свистнул, и огромный сторожевой пес в ошейнике, утыканном острыми шипами, предстал перед хозяином села, виляя хвостом. Указывая пальцем на быка, Руис крикнул:
— Ату его, Террон! Ату!
Пес ощерился и в несколько прыжков настиг быка. Людям вдруг стало жалко переодетого человека, многие содрогнулись, съежились. Но Руис недолго улыбался глумливой улыбкой. Раздался короткий смех, потом предсмертный вой, и огромный пес повис на двух навахах. Он болтался на лезвиях, пока, распоротый собственной тяжестью, не упал на землю, все еще корчась и скуля. Из брюха вывалились внутренности, из горла хлынула кровь. Вскоре он затих, и пыль тут же погасила заалевшую на солнце кровь. Бесформенная куча внутренностей, крови и земли лежала мертвая и безмолвная.
Руне разразился угрозами. Сухопарый взъярился, он не мог вытерпеть, что бык берет верх, и пошел на него, намотав плащ на руку и потрясая багром, словно пикой.
— Мой плащ! Мой шелковый плащ! — закричала вдова.
Но никто по засмеялся. Все громче и громче звенели приказы Руиса:
— Все на него! Палками его, палками! Я сам выпущу потроха этой сволочи!
Руис захлебывался бранью, Сухопарый угрожающе наступал, откуда-то появились вилы и серпы. Никто бы не поверил, что голос одного человека, резкий и властный, предотвратит неизбежное убийство.
— Стойте! Ни с места!
То был голос Американца. Резко усадив Руиса, чтобы охладить его злобу, он выскочил на площадь. Народ замер вокруг арены, залитой солнцем, потом все негромко перевели дух. Посреди площади были только бык, разъяренный до предела и не скрывающий ярости, да труп собаки, уже покрытый мухами. Американец подскочил к Сухопарому, оттащил его назад, вырвал багор и бросил на землю.
— Подожди! — крикнул он.
— Да этот дьявол совсем спятил! — не унимался Сухопарый.
— Сказано тебе, подожди!
Американец продвигался вперед, с каждым шагом набирая силу. Если бы он шел быстрее или медленнее, то видно было бы, что это идет человек; но так — это шла сама ярость, хотя движения его были как будто и небрежными, даже пренебрежительными. А может, это и пугало больше всего. Он подошел почти вплотную к быку. Их разделяла, словно кровавая граница, растерзанная собака.
— Скидывай плед, Дамасо!
То был приказ, хотя вряд ли кто-нибудь из зрителей мог его слышать.
— Уж не принес ли ты с собой взрывчатки?.. Хе!
— Скидывай сейчас же, а то я сам сниму.
Бык прорычал в ответ:
— Но угрожай, я не из трусливых.
— Это не угроза. Скидывай плед.
Воцарилась почти мертвая тишина. Медленно-медленно, едва-едва шкура отделялась от тела, будто кожа линяющей змеи. Упали на землю навахи, и появилось озверелое и торжествующее лицо Дамасо. Увидев, что это всего-навсего человек, зрители пришли в бешенство. Руис снова стал призывать их к убийству:
— Хватайте его, хватайте… Он моего пса убил!
И тут неожиданно перед Руисом вырос Негр и зычно заорал:
— Замолчи, касик!
Негр знал, что его голос сильнее всякого оружия. С его помощью он одерживал победы на десятках митингов. И на сей раз этот голос рассек воздух, проник в самую душу людей, завладел их вниманием. А Негр уже стоял на стуле.
— Платить жизнью за собаку? Человек — не пес!
Негр еще раз повторил эту фразу и помолчал. Он знал свой народ. Знал, как медленно доходят до сознания слова, непохожие на те, которые вдалбливают в его голову веками.
— Неужели вы согласитесь отправиться на каторгу ради собаки вашего мучителя? Ведь он вас грабит, отбирает вашу землю, если вы не можете заплатить долгов! Неужели вы убьете бедняка ради собаки богатея? Пусть платит богач! И не только за собаку! Пусть он платит за ваш пот, за вашу землю, за ваших дочерей!
Он уже владел не только их вниманием — они были всецело подвластны ему. Обернувшись к стоявшему неподалеку сгорбленному старику, он спросил:
— Вот ты, сколько ты задолжал этому кровопийце?
Старик Молчал. Вместо него ответил стоявший рядом парень:
— Все, что имел, — и голос его прозвучал, как удар колокола, как удар молота.
— И твоя дочь станет его наложницей, — твердо сказал Негр.
— Уже стала, — подтвердил парень еще звонче, а старик низко опустил голову.
Среди людей пронесся ропот, словно дуновение ветра заколыхало пшеницу. Негр продолжал безжалостно:
— И ты, и ты, и ты… И все вы, и все село! Все!
Оп неумолимо обвинял. И люди слушали, затаив дыхание. Властный голос завораживал их. Говорил он истинную правду, и они это поняли.
— Хватит, Негр, — приказал ему Американец.
Только один он и мог вмешаться. Он слишком хорошо знал, во что это может вылиться. Не раз он встречал людей, обладавших этим даром: они вселяли ярость в толпу индейцев, и те брались за нож и Творили безумие.
— Нет! Настал мой час! — тихо сказал Негр и продолжал свою обличительную речь.
Американец понял, что никакие доводы не остановят его. И разом, внезапно столкнул его со стула. От сильного удара Негр лишился сознания. Американец же, заметив рядом Балагура и Двужильного, распорядился, указывая на упавшего:
— В лагерь его! Живо!
Сплавщики унесли Негра, огибая церковь, чтобы не пересекать площади. Все это произошло так быстро, что никто ничего не заметил. Просто люди вдруг увидели, что чары развеялись и никого нет; так бывает, когда бык ринется на матадора, но алый плащ исчезнет. Не раз чары эти на какое-то мгновение делали их могущественнее, чем сам касик. Их, вечно униженных, обратили в силу, суровую, как вершины гор и безбрежную, как море, мечущую гром и молнии и справедливую как бог. Они уже готовы были совершить священную расправу, возмездие за сотни веков. И вдруг — зияющая пустота, словно ничего и не было.
Куда все исчезло? Неужели ничего не будет: ни искры, ни пожара, ни выстрела, ни удара, ни крика — ничего, что могло бы вселить в них эту чудесную силу, никогда по приносившую им такой радости?
Капитан положил этому конец. Он встал на стул, и вместо грома и молний они увидели спокойного человека в черном, живое олицетворение всего, что незыблемо в мире, и услыхали спокойный голос:
— Праздник окончен. Спасибо вам всем.
Эти слова сказал не Руис, бледный, охваченный животным страхом, сильный лишь богатством; и не сельский алькальд — канцелярская марионетка, придающая этой силе законность. Их произнес капитан сплавного леса, а его приказ незыблем, ибо он властвует над людьми еще с той поры, когда горы поросли соснами, а Тахо понесла свои воды. Эта власть прочно вбита в сознание многих поколений. И золотая цепь на толстом брюхе, которая в другое время напомнила бы об угнетении — теперь лишь завораживала их, призывая к порядку, установленному веками.
Праздник окончен, все по домам! Разобщенные стопами домов, они ощутили себя одинокими и бессильными. Здесь, в своих конурах, они жевали, точно жвачку, грубую деревенскую пищу, сдабривая ее пересудами о соседях, разговорами о долгах, склоками. Здесь они рождались, работали, выбиваясь из сил, плодились и умирали. В воздухе еще витали слова… «Если бы тот человек не замолчал…» и смутная догадка, что они были способны учинить жестокую расправу, которой погубили бы и самих себя, и своих детей. Но это рассеялось, и день вошел в обычную колею. Со временем, вероятно, все забудется. Разве что еще будут не один год вспоминать: «Как он тогда говорил! Не помню уже, что именно, но говорил!..» Они проходили мимо собаки с распоротым брюхом. Шипы ошейника не могли вонзиться в рассохшую землю, они приподнимали шею, и голова, столь грозная при Жизни, свисала, словно подрубленная. Глаза были мутные, язык окровавленный, шерсть грязная, внутренности зеленовато-желтые и бурые, мертвые, покрытые мошкарой… Люди проходили мимо, им становилось чуть-чуть не по себе — другого чувства не вмещало их рабское сердце. Завтра они назовут сплавщиков подонками, злодеями; завтра будут благоразумно внимать речам начальства. Но сегодня эти злодеи одержали пусть маленькую, но победу над Руисами, ибо свирепый пес был орудием насилия, зубы его были смертельны для их ягнят, а сила наводила ужас на их ребятишек. И впрямь, хозяина как будто самого повергли наземь! Однако бледность сходила с его лица, по мере того как он измышлял новые способы мщения, мечтая посильнее закабалить крестьян. Он их проучит, свиней паршивых! На будущий год не видать им этого проклятого праздника! Но будет им боя быков, который по обычаю проводят в Сотондо!
Из-за угла показались два жандарма с карабинами. Согласно приказу, они явились в Сотондо к вечеру, когда люди уже выпивают так много вина, что праздник начинает портиться. Увидев блюстителей порядка, Бенигно почувствовал себя под охраной закона и потуже подтянул пояс огромными ручищами, выставив напоказ золотые кольца. Он подошел к капитану и Американцу.
— Сейчас мы отправим их в тюрьму. Я им еще покажу!.. Сто человек свидетелей видели собаку и митинг… Я им покажу…
— Вот что, милейший, — прервал его Американец, и улыбка его была страшнее окрика, — не советую вам доносить или искать свидетелей. Забудьте лучше о том, что здесь произошло.
Но Бенигно уже не слушал. Он вдруг заметил, что с балкона Хесуса делает ему отчаянные, тревожные знаки, призывая на помощь. И устремился к своим королевским покоям, в волнении спрашивая себя, уж не стряслось ли еще что-нибудь в этот роковой вечер, если его сестра, всегда такая сдержанная, совсем потеряла голову.
Меж тем в доме Руисов происходили события, не имеющие никакого отношения к тому, что случилось на площади. Едва навахи засверкали на солнце, сестры закрыли балкон и вернулись в комнату вместе с Паулой. Женщинам их сословия не пристало смотреть подобные зрелища, это впору только дикому, невежественному люду, который не читает газет или хотя бы воскресного листка, выпускаемого приходской церковью в Сифуэнтесе. С этой минуты сестер волновала лишь горькая судьба девушки, такой хорошей, такой скромной…
Паула и в самом деле была кроткой, как никогда. После грубого представления Балагура, родившего в это утро ягненка, Паула словно отсутствовала, ее ничто по трогало. Она совсем не походила на ту Паулу, которая умела постоять за себя, дать отпор Сухопарому и другим сплавщикам среди неприступных, заросших кустарником скал. Она едва отдавала себе отчет в том, где находится, о чем ее спрашивают, чего от нее хотят. Но чрезмерная настойчивость встревожила ее… О чем они? Нет, ночевать у них она не собирается.
— Почему, детка? Мы же здесь, рядом… В горах, среди мужчин, намного опаснее…
Ну что ж, раз она категорически против, не надо. Пусть хоть бы пополдничает с ними, выпьет рюмочку сладенького вина с бисквитами. А пока можно осмотреть дом, вдруг ей захочется остаться, когда она увидит, как в нем уютно, покойно, какое в нем царит изобилие. Миновав большую залу, где стояли позолоченные часы и святой Антоний с младенцем под стеклянными колпаками, они прошли еще одну залу, кухню и кладовую, которой могли бы позавидовать многие столичные дамы. Заглянули в житницы на чердаке, в конюшни и подсобные помещения в пристройках. Затем вышли в маленький патио, ограда которого вдавалась в гору. Здесь не было ни поленниц, ни скота, ни сельскохозяйственных инструментов, ни даже рукомойников, и все сверкало ослепительной чистотой, а сам дворик так прятался в горе, что создавалось ощущение тайны. Они пересекли его и уткнулись в стену, как-то вызывающе выкрашенную белым и синим. В ней были прочная новая дверь и окно с кружевными занавесками за изящной железной решеткой.
Они открыли дверь и легонько втолкнули в нее Паулу.
— Вот видишь? Здесь ты будешь жить как королева, если останешься. Поспи тут почку и подумай.
Паула сразу увидела все: и шкаф дорогого дерева с зеркалом, и двуспальную кровать с махровыми полотенцами по обеим сторонам, и яркие полосы света, падающие через окно на красное шелковое покрывало, и кружевной абажурчик — словом, всю пошлую красоту, весь тошнотворный уют, уготованный сокровищам этого ларца.
Неприступная, как скала, она обернулась к старухам:
— Вот что, сеньоры, давайте говорить начистоту. Я не собираюсь спать с этим типом, так что пойдемте отсюда.
Старухи всполошились. Бедная девушка! И как это взбрело ей в голову! Ну, конечно, при такой жизни… Они встали на пороге, закрывая своими телами проход с твердостью, достойной Руисов. Паула требовала, чтобы ее выпустили, но они и глазом не моргнули. Тогда она сунула руку за пазуху и вытащила наваху. Старухи хотели было выскользнуть и захлопнуть за собой дверь, но в ту же секунду чья-то тень, перемахнув через забор, заслонила собой окошко и появилась за спиной сестер, шарахнувшихся в разные стороны. То был не кто иной, как Встречный, торопившийся на помощь Пауле. Увидев его, она облегченно вздохнула и всецело доверилась ему, надеясь, что он-то найдет выход из этого положения.
— Тебя обидели, Паула?
Сестры воспользовались этим мигом, проворно выскочили вон и заперли за собой дверь. Почувствовав себя в полной безопасности, Хесуса окончательно обнаглела и крикнула в окно парочке, попавшей в западню:
— Теперь посмотрим, кто лжет и кто врывается в порядочный дом через забор! Теперь вы ответите перед жандармами, и ты, и твои дружок, несчастная!
И с надменным видом устремилась к балкону, чтобы позвать на помощь брата. Меж тем Кандида предложила пленникам воспользоваться спальней, пока не явятся представители власти и не уведут их в тюрьму.
Но Паула теперь ничего не боялась. Она провела рукой по лицу, словно хотела стереть с него плевки, и посмотрела на Антонио.
— Фу, какая гадость!.. — воскликнула она. — Откуда ты взялся так вовремя?
— Я сразу раскусил этого борова. Уж больно он увивался за тобой, так и лез. Поэтому я все время ходил вокруг дома, как только ты туда вошла, будто чуял… И вдруг через окно услышал разговор двух служанок: «Еще одна попалась им в лапы», — говорили они. «От этих старух не вырвешься, уже пошли осматривать дом!..» Во мне все так и вскипело. Я обогнул гору, перепрыгнул через забор и оказался тут в самое время.
— Впутался ты в историю из-за меня, — сокрушенно произнесла Паула.
— Должен же хоть один мужчина поставить этих сволочей на место… Ты только погляди!
И он жестом обвел комнату. Паула содрогнулась.
— Надо выбираться отсюда, — сказала она. — Я здесь задыхаюсь.
Антонио подошел к окну и обругал Кандиду. Та насмешливо ответила, чувствуя себя в безопасности, под падежной защитой железной решетки.
— Сейчас. Сейчас выпущу тебя, воришка. И тебя, и твою голубку. Вот только придут с сетями.
— Да разве твой брат мужчина? У него руки коротки меня взять.
— Куда тебе до пего! Еще увидишь, какой он мужчина.
Открылась дверь дома, выходящая в патио, и встревоженный Антонио отпрянул от окна.
— Что случилось? — обеспокоилась Паула.
— Жандармы… У меня нет документов, Паула, меня ищут…
Паула молчала, словно каменная; но вдруг ее осенило.
— Документы у меня есть! На, возьми!
Она пошарила под платьем в кармане нижней юбки и вытащила оттуда маленький сверток. Аптопио взял и с удивлением спросил:
— Чьи это, Паула?
— Потом скажу… Тихо!
В дверь постучали.
— Ключ у старух! — крикнула Паула из-за решетки.
Пока они открывали, Антонио внимательно рассматривал документы — мятое удостоверение личности на имя Мигеля Кофрентеса Агудо, поденщика, двадцати восьми лет, родом из Чеки, и профсоюзный билет сплавщика. Он поспешно спрятал документы, едва открылась дверь. Им приказали выйти. В патио стояли обо сестры, Бенигно и два жандарма.
— Оружие есть? — спросил жандарм.
— Нет, сеньор. А вам сказали, что у меня есть оружие?
Паула дала обыскать себя. Только обычная наваха, какой пользуются все в тех краях.
— Документы проверьте, документы, — требовал Руис. — Удостоверения личности.
Жандарм внимательно изучал документы Антонио, пока его товарищ смотрел документы Паулы.
— А ну-ка дайте мне, — приказал Бенигно, протягивая за бумагами руку в кольцах.
По жандарм помоложе, хоть и старше по званию, хорошо знал свои обязанности, и его не так-то легко было запугать. Он бросил на Руиса спокойный взгляд и, возвращая документы Антонио, сказал:
— Я уже посмотрел, дон Бенигно. Так что же случилось?
— Я вам говорила, — начала старшая из сестер. — Этот вот перепрыгнул через ограду в наш патио и стал угрожать нам. Он, видно, был в сговоре с этой шельмой и…
— Неправда, — прервала ее Паула.
Жандарм велел ей молчать.
— Пусть говорит, — с вызовом произнесла старуха. — Пусть говорит. Посмотрим, какую напраслину возведет она на честных людей, предложивших ей крышу над головой и кусок хлеба.
— Напраслину? Крышу над головой, кусок хлеба! Уж не эту ли крышу? — гордо воскликнула Паула, гневно указывая на двери спальни. — Зайдите, зайдите туда, посмотрите, на какой кровати спят служанки в этом доме!
Жандармы, на которых слова Паулы произвели впечатление, переглянулись. Бенигно, сестры и Паула заговорили одновременно. Жандармы пытались разобраться в обвинениях враждующих сторон и просили их говорить по очереди. Это длилось довольно долго. Антонио все же арестовывать не стали. Он, конечно, перепрыгнул через забор, но просто хотел помочь девушке, которая почему-то звала на помощь. Они только предупредили, — хотя Бенигно требовал арестовать его, — чтобы он не покидал сплава, на случай, если вдруг понадобится допросить его вторично. В дверь все же они заглянули и, разумеется, увидели там то же самое, что и Паула: двусмысленный блеск дешевой камки во всю ширь кровати. Но ведь закон не запрещает хорошо обставлять спальню на задворках дома.
Напрасно Бенигно старался связать вторжение в свой дом с убийством собаки и пламенной речью Негра, призывавшего к насилию. Напрасно говорил о порядках, о честных гражданах, о дурно истолкованной благотворительности и о безопасности страны. Жандарм только повторил, что подаст рапорт и, если понадобится кого-нибудь арестовать, от них никто не скроется. Паула и Антонио могут быть свободны. Как Бенигно ни пытался умаслить жандармов, вознаградив за доставленные хлопоты, у него ничего не вышло.
Из глубины своего роскошного балкона, не смея распахнуть застекленных створок и выглянуть наружу, Руис, хозяин Сотондо, увидел, как Американец пересек площадь и направился к таверне, где сидели его дружки-приятели. Бандит и шлюха, наверное, уже прошмыгнули под балконом и идут теперь к реке. Как и жандармы. «Нечего сказать, хороши защитнички у представителей власти, — подумал Руис. — Они у меня еще попляшут». Брови его все больше хмурились по мере того, как он вспоминал о сплавщиках и крестьянах и смотрел на опустевшую площадь, которая стала просто голой землей, какой она и была долгие века.
Впрочем, нет: теперь там лежал труп растерзанной собаки, когда-то огромной, а сейчас — ничтожной. Вокруг нее стояли несколько мужчин и с жаром обсуждали происшествие, смысл коего был вполне очевиден. Среди них был и тот парень, который отвечал Негру за всех жителей селения.
Из соседнего окна на площадь смотрела старшая сестра. Слова ее прозвучали очень кстати.
— Надо убрать собаку, Бенигно. Немедля.
— Да, да. Пусть Хуан уберет и закопает.
Кандида удалилась отдать распоряжение. Когда ее шаги смолкли, снова воцарилась тишина.
Кружок на площади не распадался. Как ни странно, к нему никто не присоединялся, но и никто не уходил, все оставались на местах. Застыв в неподвижности, мужчины смотрели на собаку, словно выполняли долг. Только время от времени кто-нибудь бросал взгляд на дом Руисов и снова склонял голову к растерзанной собаке — месиву кишок и шерсти, — сохранившей, будто в насмешку, свирепый ошейник со стальными шинами. Они смотрели на эту поверженную крепость, смотрели, потому что не могли не смотреть. Должно быть, именно эти восемь человек запомнят, как легко сломили устрашающую силу. Они смотрели, еще не понимая того, что они — свидетели. Смотрели, потому что боялись заговорить во всеуслышание и не посмеют говорить еще многие, многие месяцы. Они побоятся даже думать об этом наедине с собой, но образ поверженной собаки запечатлеется в их сознании навсегда. И пока память горстки людей хранит это поражение, власть Бенигно будет уязвима, как никогда. Казалось бы, что такое каких-то восемь напуганных мужчин, запечатлевших в памяти этот бесплотный образ… И все же это немало. Ибо образ этот нельзя было ни уничтожить, ни стереть, даже смерть была бы лишь напоминанием о нем. Он не подвластен ни бумагам, ни клевете, ни уликам, ни вещественным доказательствам. Он не поддается ничему, но в нем таится надежда на другое будущее для жителей Сотондо.
Бот почему они смотрели и снова сомкнули свой круг, когда Хуан унес останки, свидетельствующие об уязвимости Бенигно, по существу бессильного и храброго лишь за счет власти.
Вот почему Бенигно пришел в ярость, стоя в глубине балкона, и приказал Хуану сходить туда еще раз, чтобы уничтожить все следы крови и кишок.
— Они причинили нам большой вред, — сказала Хесуса. — Очень большой. Этим людям нельзя раскрывать глаза, хотя бы и один раз.
— Я им живо их закрою! — хорохорился Бенигно перед сестрой, с сомнением смотревшей на него.
— Кто знает, сумеешь ли… — тихо пробормотала она. — Вот я бы!
И тогда из спальни вырвался ликующий истерический вопль:
— Тебе встретился настоящий мужчина! Настоящий мужчина!.. Конец тебе, Бенигно.
— Заткнись, проклятая! Твое дело подыхать!
— Я-то подохну, а Бенигно пришел конец!
— Заткнись, говорю, а не то заткну тебе глотку подушкой!
Голос затих. Бенигно и сестры молча смотрели, как Хуан вернулся на площадь, разомкнул кружок мужчин, подмел и, собрав все в корзину, удалился в дом. Потом затер метлой то место, по которому волочил тело убитой собаки, и на площади по осталось никаких следов.
А мужчины по-прежнему смотрели. Бенигно выругался (сестры перекрестились), опрометью сбежал по лестнице, схватив что-то с комода и сунув в карман. Он выскочил на площадь и приблизился к мужчинам. Мужчины расступились перед ним, образуя полукруг, поникшие, испуганные, как никогда, героические свидетели. Бенигно прежде всего бросил взгляд на землю, чтобы убедиться, что там не осталось никаких следов; увидел, что все чисто, и сразу воспрянул духом.
— В чем дело?.. Что тут происходит? А ну-ка убирайтесь! Вон отсюда, проклятые! Живо! Не то я вас сейчас пинком под зад!
Только один из них решился посмотреть на него и сказать:
— Жаль собаку, Бенигно. Такая породистая, красивая!
— Вон отсюда, сволочи!
Мужчины попятились немного, а затем, повернувшись к нему спиной, разбрелись по улочкам. Однако Бенигно успел заметить, что, отходя, они смотрели на землю возле его правой ноги, и испугался. Ведь рядом с его правой ногой всегда ходила собака. Сейчас ее там не было, и это страшило его.
Мало того: один парень все еще стоял и смотрел. Бенигно сделал вид, что не замечает этого — ему не хотелось связываться с молокососом. Однако, когда он вернулся домой, Хесуса не преминула высказать ему то, что так ого пугало:
— Теперь ты понимаешь, какой вред они нам причинили?
— Оставь меня в покое, я сам знаю, что делать! Они у меня поплатятся за все! Сплавщика упрячу за решетку, а ее… А ее еще увидят здесь эти деревенские свиньи. Еще увидят, как она будет мне прислуживать и стирать в реке мои рубахи. Я им всем покажу!
— Да, не мешало бы, — не без иронии произнесла Хесуса. — Иначе никто здесь не будет тебя бояться.
Лицо Бенигно перекосилось от злобы, и он вышел из комнаты. Сестра насмешливо посмотрела ему вслед.
Тем временем Антонио и Паула шли к реке. Казалось, все миновало, но едва Паула вспоминала спальню и запах дешевых духов, заглушавших запах пота, к горлу подступала тошнота. Сейчас их окружало широкое просторное поле. Дойдя до тропы, ведущей к реке, Антонио остановился.
— Хочу поблагодарить жандармов.
— lie сболтни лишнего.
— Не волнуйся, — успокоил он ее. — Они хорошие люди. К тому же пусть видят, что мне нечего их бояться.
Вскоре подошли жандармы. Антонио заговорил с ними.
— Вы думаете, у нас на посту не знают, кто такие Руисы? — ответил тот, что помоложе. И, помолчав, добавил чуть тише, глядя на Паулу: — У меня в деревне тоже есть сестренка, такая же красивая, как эта девушка.
— Нам повезло, — сказал Антонио.
— Пока что да, — улыбнулся жандарм. — Но придется подавать рапорт. Если надумаешь уйти от сплавщиков, сообщи, куда направишься.
Они распрощались. Блюстители порядка отправились на пост, Антонио и Паула — к реке.
Отойдя немного, жандарм постарше сказал товарищу:
— Конечно, ты выше меня по званию и грамотнее. Но увидишь, нам влетит за то, что мы его не арестовали.
— Разве тут не все ясно? За что его арестовывать? Я бы на его месте через семь заборов перепрыгнул, если бы кто-нибудь из моих позвал на помощь.
— Так-то оно так. А только в нынешние времена, не знаю уж почему, бедняк, перепрыгнувший через забор богача, всегда будет виноват, а богача, который поставил забор, закон должен охранять. Подозревай всегда бедняка, и никогда не ошибешься.
— И это правосудие?
— Правосудие? — удивленно повторил за ним тот, что постарше. — Правосудие! Послушай, эго твоя первая должность? — Молодой кивнул. — А что ты делал раньше?
— У отца есть немного земли в Паленсии. А детей слишком много. В тридцать восьмом меня призвали и отправили на фронт. Когда война кончилась, я остался на сверхсрочную службу, а через пять лет перешел в жандармерию. Хотел немного подзаработать. А что?
— Да так. Мой отец был погонщиком мулов в горах Гуадикса, между Гранадой и Альмерией. Я часто ходил с ним и много повидал на своем веку. Жил на постоялых дворах, слушал бродяг и странников, скитавшихся по белому свету. Если бы судьи ходили по божьим тропам, наверное, они судили бы по справедливости. Но они ничего не знают, кроме бумаг, а в бумагах — одно вранье. Например, ты видишь самоубийцу и думаешь так-то и так, а потом читаешь освидетельствование — и все выходит иначе. Свидетель врет, это ясно, а читаешь — и будто показания даст честный человек. Сеньоры судьи не виноваты, ведь они-то выносят приговор по бумагам там, в своих кабинетах или в залах, будто в театре. Ты видел хоть раз, как идет суд?
— Нет.
— Так я тебе расскажу. Совсем как в театре. Каждый играет свою роль. А роль преступника, конечно, играет обвиняемый.
— Тогда, — усомнился молодой человек, — что же делаем мы?
— Мы? То же самое, что и все: свое дело. Одни наживают капитал; другие ведут торговлю; третьи молотят на мельнице; четвертые отбывают каторгу; пятые носят мундир. «Палачу — веревка, королю — корона», говаривал дядька моего отца. А он был контрабандистом и многому научился в тюрьме. Я всегда помню его слова, это истинная правда. Надо делать то, что ты должен, и делать хорошо. Мы носим винтовку и мундир и должны были арестовать того сплавщика, а теперь подадим рапорт, потому что должны подать. А другие напишут, потому что должны написать. А Бенигно наймет адвоката; а тот наймет свидетелей, потому что суд не может вынести приговора без адвоката и свидетелей. Их приведут в дом к Бенигно, и в той комнате на задворках будет стоять убогая кровать, а мы с тобой окажемся в дураках или нас обвинят в клевете. А как только те уйдут, туда снова поставят большую кровать, потому что всегда найдутся девки, готовые торговать собой, и все будет, как было, потому что для таких девок нужны Руисы. А когда мы все умрем, придут другие, точно такие же, и станут делать то же самое. Будь все оно проклято! Делай свое дело и увидишь, что к чему.
— Если ты так думаешь, нечего и роптать.
— Думать-то я думаю, а делать не так просто. Одним легче, другим труднее.
— Но тогда…
— А, все равно. Выбирать не приходится.
Беседуя между собой, жандармы удалялись все дальше и дальше. Паула и Антонио остановились на пригорке у края тропы. Смеркалось. Ветер утих, и вершины сосен замерли, погрузившись в глубокую тишину. Сквозь стволы виднелась излучина реки, над которой алел закат.
Паула присела на камень.
— Устала?
— От чего? Мы не так уж долго шли.
— Да нет, я о другом.
— Немного. Я не из слабых.
— Не сомневаюсь. У тебя выдержки побольше, чем у многих мужчин.
— Но не больше, чем у тебя, — отдала ему должное Паула. — Ты ни перед чем не остановишься.
— Это верно. Если надо, я пойду напролом. Пускай падают другие.
«Да, он такой», — подумала Паула. И тихо спросила:
— Выходит, ты думаешь только о себе?
Он взглянул ей в глаза и сказал прямо:
— Да. Я уже не думаю о тебе.
«Надолго ли?» — спросила себя Паула, но промолчала. Какой-то миг он был с ней, а ведь только такой миг чего-то и стоит.
— Послушай, Паула… — помимо воли у Антонио вырвался вопрос, который не давал ему покоя. — Послушай, откуда у тебя документы?..
Паула с готовностью объяснила ему, что это документы Мигеля, сплавщика, которому раздробило йогу. Он просил отослать их домой с почтарем, а она забыла. «Такова, видать, была божья воля», — заключила она. Взглянув на нее, Антонио спросил:
— Ты веришь в бога?
— Конечно. А ты?
Антонио пожал плечами. Теперь пришла очередь Паулы взглянуть на него.
— Скажи, — спросила она вдруг, — ты совсем отчаялся?
— Ты о чем?
— Когда у человека какое-нибудь горе, он цепляется за бога, за святых, по, если горе слишком велико, человек приходит в отчаяние и уже ни во что не верит, даже в бога. И все же бог есть. Это господь помог нам сегодня… Ты совсем отчаялся, да?
— Я скрываюсь. Меня ищут, я говорил тебе.
— Я сама догадалась.
— Когда?
— Сразу, как ты пришел.
— У родника?
Паула слегка покраснела.
— Нет, не тогда. У родника ты был совсем другой. Не знаю какой, но другой. Ты явился как… не знаю… Это было уже потом, у роки. Глаза у тебя бегали, ты заглядывал всем в лица, словно искал защиты.
— И ты заметила?
— Все заметили. Я сама слышала, как они говорили.
— Что говорили?
— Ты думаешь, это их беспокоит? Прибавилась еще пара рук, и все…
— Так вот: я скрываюсь… но, клянусь тебе, я не злодей какой-нибудь.
— Я и это знаю.
— Во всем виноват мой прав… — продолжал он, немного помедлив. — Видишь ли, я родом из Молины…
— Не рассказывай мне ничего. Не надо.
— Ты должна знать… Моя мать овдовела, и у пес ничего не было, кроме пяти детей, и самый старший был я, девятилетний. Как она маялась с нами, бедняжка, как надрывалась на работе, просто убивала себя! Я помогал ей, чем мог, а моя сестра, самая любимая, самая красивая, нанялась в служанки. Казалось бы, дела наши стали поправляться. но тут закрылась мастерская, где я работал, и мне пришлось отправиться в Валенсию на заработки… Конечно, я не мог им много посылать, хоть сам почти ничего не тратил… Шли месяцы, они писали мне, что у них все в порядке; и вдруг пришло письмо, в котором сообщалось, что сестра выходит замуж за человека намного старше себя. Я в это время был в отъезде и не сразу прочел письмо. Я тут же отправился в Молину, но сестра уже была замужем. Только там я узнал всю правду. Оказывается. мать заболела, денег им не хватало, но они не хотели меня огорчать, знали, что я не смогу им помочь. Этому человеку нравилась моя сестра… А у нее не было другого выбора. Мать лежала больная, когда я приехал, я видел, что она не скоро поднимется, а может, и помрет!.. Не попадись он мне под руку, я, возможно, смирился бы и вернулся в Валенсию… Но черт его дернул явиться как раз в ту минуту, когда я расспрашивал сестру, почему она вышла за него, а она расплакалась… В глазах у меня помутилось от ярости, я выхватил наваху и всадил в него… Не знаю, что с ним стало. Я убежал, когда он упал на пол.
— Ты убил его? — спросила Паула.
— Не знаю.
— Почему ты не пошел с повинной? Может, тебя и помиловали бы.
— С повинной? — воскликнул он в ужасе. — Уж лучше пусть меня убьют. Ты не знаешь, что такое суд и тюрьма. Я раз попал туда из-за какой-то пустяковой драки. Ты даже не представляешь, что это такое! На тебя смотрят, как на скотину, водят из одного загона в другой, а потом швыряют в подвал к распутникам и ворам… Нет, я не дамся им в руки!
Снова воцарилось молчание. Розовый свет погас над излучиной реки.
— Теперь ты все знаешь, — сказал Антонио, глядя на нее. — Ты явилась вовремя.
— Куда явилась? Ах, Антонио, — с отчаянием проговорила она, вдруг поняв его. — Это ты явился вовремя… Я ведь очень плохая.
— Ты?! — улыбнулся Антонио. — Не выдумывай!
Паула осмелилась посмотреть на него, словно чьи-то неумолимые руки приподняли ее голову.
— Все так говорят. И ты так скажешь, если узнаешь… Не обманись, Антонио. И подумай: стала бы я бродить по горам, словно лисица, если была бы хорошая?.. Вот именно, словно лисица, — взволнованно продолжала она, вставая, — как сказала та слюнявая старуха!
— Плохие женщины бродят по улицам, глупая, — сказал он, вставая вслед за ней.
— Нет, Антонио, в тот день я просто потеряла голову. Лучше будет, если ты забудешь меня. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не надо надеяться.
— У тебя есть муж?
— Слава богу, нет, — вздохнула с облегчением Паула и снова погрузилась в свои печальные мысли. — Только не расспрашивай меня ни о чем… Ах, пресвятая дева, почему я еще жива!
Она почти бегом направилась к реке.
— Подожди, Паула!
— Нет, нет, я недостойна тебя. Оставь меня, забудь!
В ее словах было столько горечи, что Антонио промолчал и последовал за ней через сосновый бор, уже сливавшийся с темнотой.
8 Асаньон
Наутро сплавщики только и говорили о празднике в Сотондо, где с каждым что-нибудь приключилось. О заточении Паулы никто не знал, зато шутку Балагура восхваляли на все лады. Немало удивил всех своей пламенной речью Негр, теперь на него смотрели с уважением, хотя он меньше всего хотел отличиться. Сухопарый же не явился ночевать в лагерь, и Белобрысый не сомкнул глаз.
— Уж не стряслось ли чего с Дамианом? — спросил он.
— Ясное дело, стряслось! — засмеялся Балагур. — Сегодня у него постель не то что твоя, не на хвое спит.
Белобрысый отправился работать в прескверном настроении, все поджидая Сухопарого, а тот явился только к полудню, когда обед уже подходил к концу. Но прежде все услышали, как он распевает во все горло:
Не надо просить у женщин: они несговорчивы сплошь; но благодарны бывают, когда без спросу возьмешь.Едва он вынырнул из-за вершины холма, раздался дружный хохот.
— Хе! — приветствовал его Дамасо. — Ну как прошел бой быков?
— Бык — высший класс! Откормленный, ухоженный, сильный.
— Будешь есть, Сухопарый? — спросил Горбун. — Тут немного жареного хлебца осталось.
— Это мне?.. Пускай его нищие жрут!
— Видать, ты здорово подзаправился, — с завистью сказал Обжора.
Балагур засюсюкал, словно жеманная женщина:
— Хочешь сдобную булочку? Съешь бисквитик, мой миленький. Ты только взгляни, моя ласточка, он весь пропитай винцом!
Сплавщики покатывались от смеха. Только Белобрысый глядел хмуро.
— Черт подери! — подхватил Сухопарый. — А ведь у нее земли сколько хочешь и скота!.. Она предлагала мне остаться.
— Земли! — повторил Кривой, у которого при этом слове всегда текли слюнки. — И ты отказался?
— Я? Что ж мне, по-твоему, торчать в этой дыре, чтобы ублажать одну бабу? Да меня их, знаешь, сколько повсюду ждет… Нет, мне подавай вольную жизнь и побольше юбок! Да кто это вынесет одну бабу! Посмотрите-ка на зверей: ума нет, а свое дело знают. Бабе только попадись на удочку, все мозги задурит, забудешь, кто ты есть… А тут… вы только гляньте на эту подвязку… вот это ноги…
И он вытащил из-за пояса круглую, черную в красные полосы резиновую подвязку, шириной почти в два пальца, слегка обтрепанную по краям. Лукас, взглянув на нее, осмелился заметить:
— Видать, у этой бабы ноги тощие, как жерди.
— Тощпе! — заржал Сухопарый. — Ты, парень, верно, женщин видел только в кино да на открытках! Кобылки, которых седлаю я, еще носят подвязки под коленками. — И, поднеся подвязку к носу, с восхищением воскликнул: — Ух и аромат! Понюхай, Кинтин!
— Бабий дух! — втягивая в себя воздух, произнес Балагур.
— Какие Hie у нее ляжки, если икры такие толстые? — полюбопытствовал Лукас.
— Ляжки у нее во… Словно у белой кобылицы… Ох, и вцепилась она в меня!.. Три года вдовая, в селе-то ни с кем не смеет…
Четырехпалый не выдержал, вскочил и, воздев очи к небу, покинул собравшихся.
— Приняла меня лучше не придумаешь… — продолжал Сухопарый. — А когда уходил, заплакала. И вот подарила на память.
Сухопарый показал на приколотую к рубашке старинную брошь: золотое сердце, обрамленное полудрагоценными камнями.
— Тоже мне модник! — засмеялся Обжора. — Зачем она тебе?
— Что за вопрос? — воскликнул Кинтин. — Впрочем, для тебя, раз ее не съешь…
— Черт подери! — сказал Сухопарый. — Да хоть другой подарю. Той, что не так покладиста. Так уж устроена жизнь.
— А им от тебя какой прок? — не скрывая восхищения, спросил Двужильный. — Везет тебе на баб!
Тут послышался голос примолкшего было Белобрысого:
— Еще бы! «Не надо просить у женщин…», как поется в песне. Им надо делать одолжение.
— Молчи, пустобрех! Велика фигура, да дура! — осадил его Балагур.
— Оставьте парня в покое, — заступился Сухопарый. — Он свое дело знает. Ты еще полакомишься медком. Это тебе я говорю, не кто-нибудь.
— Паулой, что ли?.. Хе! И впрямь медок сладкий… — раздался чей-то злобный голос.
— Да, высшего сорта, — признался Сухопарый. — Лучше не бывает.
— Правда, с перчиком, — смаковал Дамасо. — С особым привкусом.
При имени Паулы Антонио насторожился. Но Американец опередил его, переменив тему. Улыбаясь, он произнес:
— Как твоя вдовушка, например, Сухопарый, а?
— Точно, — ответил тот и провел рукой по губам и заросшему подбородку. — Даже расставаться не хотелось. Что теперь с ней будет, с бедняжкой? Оиа призналась, что ей осточертело в селе, и однажды она не выдержала, поехала в Мадрид, надеясь подцепить кого-нибудь. Да уж больно она приличная. Не повезло ей. Не знала, куда пойти.
— Мадрид многое потерял, — пошутил Двужильный.
— А что, в селении нельзя никого найти? — спросил Шеннон, заметив, что Дамасо собирается сморозить очередную гадость.
— Почему нельзя! — ответил Балагур. — Для грешника всегда найдется добрая душа… Но если женщина приличная, не так-то это просто… ведь рано или поздно все становится известным… Помню, в соседнем селении…
Стали вспоминать разные случаи, и Шеннон, уже однажды побывавший в мире Чосера, словно попал в мир Боккаччо или в прекрасный, вечно живой мир Селестины. Какую антологию жизнелюбия можно было бы составить, слушая этих людей! Они были верными сынами земли, едва вышедшими из нее и еще тесно связанными с ней своим нутром.
— Так какой же им от тебя прок, Сухопарый? — повторил Двужильный.
— Какой прок? Я им даю то, что нужно женщинам от мужчины.
— Выходит, — сказал Кривой, — то же, что и все.
— Конечно. Только вы их ублажаете и думаете, что это они вам делают одолжение. А на самом деле отгн так же сходят с ума по мужикам, как и мы по бабам. Мужик должен знать себе цену, иначе он не мужик, черт подери!
— Одним словом, надо пуд соли съесть, прежде чем станешь настоящим мужчиной, — заключил Обжора.
— У кого что на уме, а у Лоренсо еда!
— Если бы женщин можно было есть, он бы искал их проворнее, — сказал Кинтин.
— А тебя-то кто научил всем этим премудростям? — спросил Дамасо.
— Ах, — вздохнул Сухопарый. — Самая шикарная баба на свете… Другой такой по сыскать.
— С гор, наверное? — усмехнулся Дамасо.
— Нет, она мадридка. Когда мой отец тяжело заболел, врач пашей округи послал его в Куэнку. Там у него нашли какую-то очень редкую болезнь и отправили в Мадрид на исследование, к доктору Леонардо. Само собой, поехал и я. Мне тогда было шестнадцать, я был повыше ростом, не такой приземистый, как теперь. Там я приволокнулся за двумя девчонками, но, как все вы теперь, был недотепой и думал, что они мне, бедняге, оказывают королевскую милость.
Отца положили в палату. Стужа там стояла, как в горах в самый разгар зимы, хотя степы были толстенные, — продолжал Сухопарый. — Но мы благодарили судьбу, ведь мы ничего не платили… а за такие подарочки стоило бы послать ко всем чертям. В палате лежало человек тридцать умирающих, покорные, как стадо баранов, на все им было наплевать. Время от времени туда приходили недоученные доктора или же молоденькие, прямо из-под наседки. Наденут халаты, подойдут к кровати. «Видишь, видишь? — говорят они. — Видишь, что тут у него?» — «Видеть-то вижу, а в чем суть не знаю!» — «Да ист, ты только взгляни, как он рукой двигает». И начнут что-то лопотать на своем языке, и крутят руку бедняге, чтобы получше рассмотреть. Потом покроют его одеялом, похлопают так это, успокоят: «Дело идет на поправку». Хотя все знали, что он умирает.
Он и сам это знал. Но все отвечали: «Да, сеньор, разумеется». В этой больнице все говорили: «Да, сеньор». «Да, сеньор, нужно спуститься в залу. Да, сеньор, надо помочиться. Да, сеньор, надо исповедаться…» Впрочем, это уже касалось сестер милосердия, они только и думали, как бы кто не умер без исповеди… Но речь не о том. Дон Леонардо оказался настоящим сеньором. Он сказал, что хочет помочь отцу и позаботится о нем получше. И забрал в свой санаторий, с садом. Комната там была чище, чем алтарь. Мало того, стоял тот санаторий за городом, мне позволили поехать туда с отцом, и я жил, словно король.
— А девушка была дочка доктора? — предположил Кривой.
— Будете перебивать, не стану рассказывать… В том квартале жили богачи, тихо, всюду зелень… Чтобы ехать туда, надо было нанять извозчика. Тогда-то я первый раз в жизни и сел в карету; впрочем, и в последний, потому что теперь их уже нет. Там у всех были шикарные особняки с садом и собственные кареты. Отцу становилось все хуже. Он гнал меня гулять, говорил, что незачем сидеть возле него, как пришитому, все равно я ничем не помогу. Каждое утро я шел прогуляться. И вот однажды я увидел ее.
Шеннон уловил в голосе Сухопарого искреннее, глубокое волнение.
— Вы даже представить себе не можете, до чего она была хороша. Ваши рожи никогда не касались такого чистого родника. Впрочем, Американец, наверное, испил и не такое… Я ее и сейчас вижу: платье белое, в голубую полоску, белая шапочка на голове, как наколка горничной; новые туфельки с синей отделкой — просто заглядение! По утрам она всегда выходила без чулок. Кожа чистая, белая, такой я ни у кого больше не видел. Меня аж в жар бросило, когда она приподнялась на цыпочки, чтобы подать ведро мусорщику, и я увидел ее щиколотку. Мусорщик отпускал шуточки, она засмеялась и вернулась в дом, даже не глянув в мою сторону. Да я и не смог бы заговорить с пей, у меня бы духу не хватило. — Помолчав немного, он продолжал: — Вечером я увидел ее в черном платье с белоснежным воротничком и в переднике. Но утрешнее мне поправилось больше… Каждый день я ходил смотреть на нее. Она то выносила мусор, то прогуливала собаку. Какая была собака! Громадный, красивый кобель, мне даже казалось, будто не она его, а он ее прогуливает… До того дошел, что стал ревновать к нему, когда он терся об ее ногу! Кончилось тем, что она сама подошла ко мне, я бы так и ходил вокруг да около. Мне легче было умереть, чем заговорить с ней. Куда мне такому задрипанному до такой красотки!.. Я и не мечтал… И вот как-то утром она не вынесла мусор, а на другое — не вышла с собакой. Дом как опустел, она показывалась очень редко… Я совсем потерял голову, о родном отце думать перестал, а ведь он умирал у меня на глазах. И вдруг, в одно прекрасное утро, когда я уже не знал, что и думать, открылась железная дверь, вышла она и заговорила со мной. Спросила, правится ли мне дом и не хочу ли я осмотреть его. Какой у нее был голос! Мой, как послушаешь, — скрипит, словно немазанная телега… Я, конечно, пошел за пей, будто за какой-нибудь святой, а она открывала передо мной тамошние богатства. Мы поднялись по лестнице, и она показала хозяйкины платья — ну просто облака! Потом поднялись еще выше. Она открыла дверь и втолкнула меня в такую спальню, какая в деревне никому и не спилась. «Это моя комната, — сказала она, — мы здесь одни. Хозяева уехали на дачу, а экономка куда-то ушла». Глаза у нее поблескивали, пока она говорила, а я стоял перед пей дурак дураком. Тогда она рассмеялась, заперла дверь и стала расстегивать платье.
— Вот это баба! — вырвалось у сплавщиков.
— А ты думал! У нее глаз был наметанный. Сразу распознавала мужиков. Это я с виду такой увалень, а на деле… Стали мы с пей видеться каждый день, как только она оставалась одна в доме. Стоило экономке уйти, и она тут же вывешивала на окно юбку, а я ее видел из своей комнаты. Я бросался на эту тряпку, точно разъяренный бык… Каждый раз она обучала меня чему-нибудь новому — в этом прозрачном роднике дно было глубже, чем в самом Масегосо. Тогда я понял, что бабам нужны мужики так же, как они нам. Она уже была сыта но горло деликатным обращением, и ее тянуло на простых, чумазых увальней, вроде меня. Она говорила, что столичные ухажеры слишком уж хлипкие, а ей нужен деревенский здоровяк… Ох и баба была!.. Гибкая, что косуля; белая, что твои сливки; упругая, как каравай хлеба. А жару сколько!
Сухопарый замолчал. Шеннон видел, что его рассказ по-настоящему захватил сплавщиков.
— А ничего, — ответил Сухопарый на чей-то вопрос, — все кончилось, фортуна изменила. Разлюбила она меня. Как-то не вывесила на окно юбку. И на другой день нету, и на третий. Наконец я увидел ее с каким-то нахальным типом… Она даже не посмотрела на меня. Если бы я остался там, я бы, хоть и молод был, а сцепился с ним, и он набил бы мне морду. Но умер отец, и я уехал… Однако эта пташка уже научила меня летать. С тех пор я смотрю на всех баб, как петух на кур: поклевывать поклевываю, а сердца своего никому не отдам.
«Да и как он может отдать его, — подумал Шеннон, — если уже отдал в тот раз. Первая любовь здесь, в горах, так же сильна, как и в университетских степах, так же прекрасна и полна откровений».
Когда сплавщики спустились к реке работать, Негр, оставшись наедине с Американцем, мрачно сказал:
— Я хорошенько все обдумал. Ухожу.
Американец с удивлением посмотрел на него.
— Ты уходишь потому, что я тебя ударил? — начал было он. — Сам понимаешь…
— Нет, нет, — перебил его Негр, — напротив, я благодарен тебе. Возможно, ты спас мне жизнь… Я сказал много лишнего. Вот увидишь, скоро сюда явятся жандармы и станут разнюхивать.
Американец в двух словах передал ему, что произошло с Паулой в Сотондо — она накануне рассказала ему обо всем.
— Тем более, другого выхода у меня нет, — сказал Негр. — Если они явятся сюда, меня арестуют… Мне не следовало там говорить, но я не мог сдержаться. Давно уже не выступал, но в этом вся моя жизнь, Американец. У меня нет другой страсти.
— Я сразу понял это, дружище. Сразу было видно.
— Этому я посвятил свою жизнь. Еще парнем ушел из деревни, потому что не мог смириться. В городе я много читал. Ходил в народный дом и с той поры все занимался политикой. Но не так, как другие, по-своему. Для одних политика — это деньги и власть; для других — путь к карьере, к славе» к поклонению; некоторые просто сводят счеты с врагами. А я хотел вести за собой людей, убеждать их, воспламенять. На митингах я — истинный творец. Я никогда не был самым лучшим оратором, самым лучшим руководителем, и не слишком я умен, но никто не умел так увлекать за собой людей, как я. Я всегда знал, когда они готовы, а когда нет; когда надо ударить, когда польстить; когда нужна соленая шутка, а когда — брань, когда смех. Это искусство, Американец. Уверяю тебя, большое искусство. Оно не оставляет следа, не остается в веках, как картина. Зато оно остается в душах людей. Каждый митинг — это успех, и каждый раз я радовался, как господь бог, когда сотворил мир.
По мере того как он говорил, голос его звучал все вдохновенней.
— Бывало, собирают какой-нибудь митинг — социалистов, республиканцев, еще чей-нибудь. Мне все одно. Люди идут послушать речи о том, о чем сами говорят шепотом или в укромных уголках таверн, где их никто не подслушает. Приедем мы в какой-нибудь театр, или на арену для боя быков, или на площадь, а то и просто в корраль, поднимемся на подмостки. Стоило мне выйти… Пет, даже раньше, как только я приезжал в город, я уже чуял, чем пахнет: трудно будет или легко. А там, на подмостках, я уже твердо знал, как завладеть публикой. Я видел, как она отзывается на речи тех, кто выступал до меня, и не забывал следить за шпиками. И вот я начинал. Слегка прощупаю почву, где-то переборщу, где-то не договорю, а всегда находил нужные слова. Это получалось само собой. Они приходили ко мне, как вдохновение к художнику. Я сливался с народом. Со всеми: с восторженными и недоверчивыми, с соратниками и противниками. Я объединял всех воедино и сам был с ними. Митинг для меня был как божий храм, как церковь для священника. Иногда я говорил похуже, но успех был почти всегда. Я чувствовал себя богом: вот море голов, и по моей воле оно то бушует, то затихает… Да, я был богом бури… Прикажи я им убить, и они убили бы; прикажи поджечь — подожгли бы; прикажи одним селом пойти против всей Испании — пошли бы. Пусть бы это длилось несколько часов. Разве это важно? Когда на меня накатит, мне уже все равно.
Он немного успокоился.
— Как видишь, я никогда не искал выгоды для себя. Товарищи считали меня глупым. Я был орудием, я ничего не требовал, только выступал и а самых ответственных и опасных митингах. Чтобы одержать даже маленькую победу, я ехал в самый дальний, захудалый городишко. Меня всегда выпускали перед каким-нибудь важным руководителем, чтобы он использовал созданное мною настроение. Вначале кое-кто советовал мне сделать карьеру, не зарывать свой талант в землю. Карьера! Что такое титулы и почести, если ты умеешь вселить в людей страсть, заразить их своим пылом! Ведь официальная политика не что иное, как позорный фарс! Когда же, наконец, они поняли, что я не преследую, как они, корыстные, ничтожные цели, они решили, что я не достоин высокого поста на задворках их министерств… Да, им не дано было меня понять. Они не понимали, что я хочу лишь слить тысячи людей в единое существо, которое по моей воле станет то львом, то собакой, то засмеется, то разгневается, и пойдет, словно послушное судно, куда я повелю!.. Больше меня ничто не трогало. Я читал, чтобы говорить; изучал людей, чтобы говорить, и не было для меня лучшего зрелища, чем митинги, где я мог послушать других достойных ораторов, подметить их промахи, поучиться у них… Я слышал всех самых лучших. Многие потом прославились, другие так и не достигли славы — например, один пал от пули в Барселоне во время стычки с синдикалистами… А знаешь, кто был самым лучшим, хотя потом у него сдали нервы? Дон Мелкиадес. Какой был оратор! Однажды он выступал в зале, где даже его сторонники, уж не помню почему, были против него и хотели сорвать его выступление. Но стоило ему выйти на трибуну, вздохнуть и произнести одно-единственное слово, как все зааплодировали. Он только воскликнул: «Соратники!» Понимаешь, одно слово: «Соратники» — и оно тут же стало самым нужным в мире, в один миг превратило всех, даже врагов, в его единоверцев, и пророком стал он сам, Мелкиадес… Каждый раз, когда я вспоминаю, как он сказал: «Соратники!»…
Оп еще раз произнес это слово, раскатывая «р», с печалью и завистью, словно ключ этот открывал врата потерянного рая. Затем положил руку на плечо Американцу…
— Но все это позади. А вчера ты спас мне жизнь, потому что мое имя писали на афишах такими крупными буквами, какими потом писали только имена министров. Представляешь, что будет, если они дознаются?
— Не надо меня благодарить. Я это сделал ради всех нас.
— По правде говоря, в глубине души я не очень-то тебе благодарен. Может, было бы лучше, если бы этот вечер стал для них великим, и все, что ораторы обещали, сбылось для этих людей. Ах! Разжечь бы костер и сгореть в нем! Ну, да ладно, хватит речей, поораторствовал, и будет. Я опять заговорил теми же, уже забытыми словами, как давно я их не произносил! Вот и все, — заключил он с горечью. — До сих пор мне удавалось скрываться, но моя страсть выдала меня… Пойду возьму вещи, я уже все сложил.
Американец, печально задумавшись, подождал, пока Негр вернется.
— Не буду ни с кем прощаться, скажи им, что хочешь, — И вдруг, словно его осенило, Негр спросил: — Ты ведь тоже был к этому причастен, да?
Золотой зуб сверкнул в улыбке.
— Речей я не произносил. А вот с народом был, дружище. Я ведь не оратор.
— Подрывник?
— Не только. Люди шли за мной в огонь и воду: стрелял ли я, давал отпор начальству или ввязывался в заварушку.
Негр давно заметил: когда Американец говорит о некоторых вещах, его американский акцент усиливается.
— Но у меня уже не осталось иллюзий. Мне даже кажется, что я разочаровался в революции, все это так далеко… Но сейчас, в эти дни… — признался он, улыбаясь, — Я понимаю тебя, очень хорошо понимаю… Будь счастлив, — сказал он на прощание. И они крепко пожали друг другу руки.
Негр пошел по тропе, взбиравшейся вверх по косогору, за спиной у него была маленькая котомка. На вершине холма он обернулся и, прежде чем начать спускаться, помахал артельному.
— Прощай, соратник!
И скрылся из виду. Погрустневший Американец направился к реке, к своим. Еще до вечера артельный убедился в прозорливости Негра. Едва сплавщики вернулись в лагерь, к ним пожаловали жандармы, «поперечношапочные», как называл их Балагур.
Это были капрал и пожилой жандарм, которые приходили в Сотондо. Они явились якобы для того, чтобы собрать дополнительные сведения, и еще раз проверили у всех документы. Паулу оставили в покое — Американец выдал ее за свою родственницу. Антонио заметно нервничал, но им занимались недолго, хотя и предупредили еще раз, чтобы он никуда не отлучался. Гораздо дольше они провозились с Шенноном, но главным образом интересовались тем, кто выступал в Сотондо против Бенигно.
— А, это Негр! — сказал Американец. — Я сам хотел бы знать, куда он подевался. Со вчерашнего дня его не видел. Он не ночевал здесь.
Капрал очень удивился и принялся подробно о нем расспрашивать. Однако никто ничего не ведал, и Американец пообещал узнать о нем у капитана. Тогда жандармы удалились вверх по реке, отказавшись выпить вина, ибо находились при исполнении служебных обязанностей.
— Хе! — воскликнул Дамасо, заметив, что встревоженные сплавщики молчат. — Однако вы здорово струхнули, ангелочки. Видно, хорошие у вас послужные списки!
— У меня, что ли? — спросил Белобрысый.
— У тебя-то нет, ты еще не дорос. Лукас и Обжорка тоже. А вот у остальных… Нечего сказать, артель у пас подобралась! Ты, Американец, сколько душ отправил на тот свет?
— Достаточно, — глухо ответил Американец, — каждый день замаливаю грехи. Но жандармы ищут не меня. Это было далеко от Испании.
— Стало быть, выгодно работать за границей. Хе! А ты, Сухопарый? Сколько мужей угробил?
— Гробить никого не гробил, — весело откликнулся Сухопарый, — до этого дело не дошло. Я своих быков дразнил, колол, а вот прикончить не доводилось.
Сплавщики засмеялись.
— Разве ты не знаешь, что сейчас судят тех, кто путается с чужими женами? Да, их сажают в тюрьму по доносу. Сколько же лет тебе сидеть за решеткой?
— Неужели придется? — удивился Сухопарый. — Никакой жизни нет!.. Выходит, мужики уже не могут сами отбиться от рогов, зовут на помощь жандармов?
— А ты, Англичанин, скольких убил?
— Нескольких, но на войне.
— На войне! Что ж, по-твоему, они не очень мертвые, если тебе медаль дали… А ты, Четырехпалый, много ризниц обокрал?
— Не болтай ерунды. В твоей башке одни гадости… А вообще ты прав, друг. Я тоже грешник.
— Хе! Все вы одним миром мазаны!.. Если раскроить вам нутро, ох и завоняет же тухлятиной!.. А Паула с Антонио, белые голубки?.. А Обжора, который ворует жратву?
— А ты, черт возьми? — прервал его Сухопарый. — Ты ничего не сделал?
— Я? Спроси, чего я не делал в своей злополучной жизни!
В его словах прозвучала такая гордость, что на миг воцарилась тишина, только ложки скребли по дну сковороды.
— Стало быть, — пошутил Балагур, — они за каждым из нас могли прийти.
Его слова остались без ответа. «Да, — подумал Шеннон, — каждому приходится что-то скрывать: либо вину, либо мысли. У каждого есть своя тайна». Не удивительно, что в ту ночь не все сплавщики уснули сразу. Обжора тоже не спал, но совсем но другой причине. Что ему до недавних событий? Просто он вечером обнаружил след нутрии и обмозговывал, как бы получше соорудить ловушку. Судя по останкам довольно крупной щуки, которые валялись на берегу, нутрия была прожорливая, а стало быть, и жирненькая. Правда, мясо ее отдает рыбой, а все же ото мясо. И шкурку можно выгодно продать. Обжора предвкушал ожидавшее его наслаждение, пока не пришел сои.
9 Трильо
Местность становилась все ровнее. Сплавщики продвигались вперед меж вспаханных земель, порою белесых и бархатистых. У Трильо река круто сворачивала к югу, устремляясь к цветущим садам Аранхуэса — концу сплавного пути, — а затем через Португалию к бескрайним просторам Атлантики. Дни делались все длиннее, и каждый вечер оживало царство лягушек — обитательниц ночи, зеленых водяных кудесниц, монашек кудрявой водоросли, славящих лупу и своих богов.
Было еще совсем рано, когда Белобрысый и Сухопарый, идущие впереди своего деревянного стада, спокойно пасли его в послушных водах. Заросший шпажником берег благоухал сандалом. И вдруг на пути им встретилось нечто совсем повое: проезжая дорога.
Диво дивное! Для прибрежных жителей этот большак был всего-навсего паршивой ухабистой дорогой, по которой громыхали вереницы повозок, вздымая облака пыли. Для сплавщиков же это была сама цивилизация.
— Черт возьми! — воскликнул Сухопарый. — Конец нашей каторжной жизни!
Он наслаждался, ступая по утрамбованной поверхности и удивляясь огромному зданию, возвышавшемуся на пригорке. На берегу, скрытом за холмом, внезапно взвилась ввысь утренняя песня, трепетный девичий голос. Оба сплавщика, не сговариваясь, ринулись в ту сторону, словно на сигнал горниста, зовущий в бой.
Две девушки стирали белье в заводи под сенью старого тополя. Услышав торопливые шаги, они обернулись.
— Пой, душа моя, пой, — сказал Сухопарый. — Не бойтесь, мы не разбойники.
Та, что пела, подняла голову и взглянула на них. При этом вырез ее платья великодушно приоткрылся.
— Еще чего! — ответила она. — А кого нам бояться?
— Черт подери, да хотя бы сплавщиков! Когда они здесь проходят, вы становитесь очень пугливыми…
— Ой, мамочка, да ведь это и впрямь сплавщики! — воскликнула вторая.
— Что, слыхали о пас? — не без гордости спросил Белобрысый.
— Слыхали, слыхали, — ответила первая и так выразительно махнула рукой, что мыльная пена брызнула на траву.
— А разве мы плохие? — улыбнулся Сухопарый.
— Но вы сами говорите…
— Как видите, пас здесь двое, — вставил свое слово Белобрысый, — и пока мы еще никого не съели.
— Никого… — подтвердил Сухопарый. — Разве что кусочек откусим.
— Всего-то? — спросила певунья.
— У них еще аппетит не разыгрался, Эмилия, — сказала другая, и обе засмеялись, польщенные ухаживанием.
— Не разыгрался! Слабо сказано! — хвастливо воскликнул Сухопарый, — Да мы, сплавщики, умираем от голода. У нас волчий аппетит… особенно на телятинку!
Не прерывая беседы, девушки принялись аккуратно укладывать белье в корзины.
— А этот желторотый тоже из ваших? — спросила Эмилия, она была помоложе.
— Тебе не по вкусу молоденькие? Попробуй — понравится.
— Еще чего! — сказала старшая. — Кто что любит.
— Если тебе нужен старый петух со шпорами, — подступил к ней Сухопарый, — он к твоим услугам.
— Не так-то он стар, когда распетушится, — возразила она.
— Вот девка, так девка, за словом в карман не полезет! — приосанился Сухопарый. — Прямо хоть белье ей подними…
— Ну, ну, полегче, — осадила она его.
— Я говорю, надо корзинку поднять, донести ее до дому. А у тебя дурное на уме?
Она деланно рассмеялась.
— И вы бросите свои бедные бревна? — шутливо спросила Эмилия.
— Авось до моря не доплывут! А я пойду с тобой, есть о чем потолковать, — ответил ей Белобрысый, которого присутствие Сухопарого и стесняло и раззадоривало.
Девушки хитро переглянулись.
— Ну что ж, пусть проводят?
— А вдруг они потом на нас рассердятся, Агустина?
— Рассердиться не рассердятся, — Агустина дерзко посмотрела на Сухопарого и добавила: — А вот сбежать могут.
— Это верно, скорее всего они струсят.
Сухопарый подошел к Агустине.
— Кто это струсит?.. Еще не родился такой мужчина, который меня испугает.
Девушки все больше потешались над ними.
— Да это вовсе не мужчины, — сказала Агустина, — а женщины. Ну что ж, идемте, храбрецы!
Взявшись за руки, девушки пошли вверх по косогору, оставив корзины сплавщикам. Наверху легкий ветерок трепал им волосы, не покрытые платками, обтягивал юбками стройные ноги. Сухопарый и Белобрысый, подняв корзины, отправились за ними. Нести корзины в руках было неудобно, но поставить их на бедро или на голову, как женщины, они постеснялись.
— А эта пышечка, Эмилия, ничего, — сказал Белобрысый.
— Мне больше нравится другая, поджарая. Па мой вкус…
Вскоре они нагнали девушек. Те с вызывающим видом оглядывались на них, подталкивая друг друга локтями, смеялись, отпускали язвительные замечания.
— Что, тяжело нести белье? — крикнула Эмилия.
— А вам не тяжело? — спросил Сухопарый. — Может, скинете?
Со смехом и шуточками они подходили к большому зданию за высоким побеленным забором, которое еще раньше привлекло внимание Сухопарого. В стороне виднелись какие-то будки среди молодой поросли деревьев.
— Мы туда идем, девушки?
— Туда, туда, — снова засмеялись они. — Что, уже струсили?
Сухопарый не ответил, но явно насторожился. Над зарешеченными воротами отчетливо виднелась большая вывеска.
— Что там написано, Белобрысый?
— Национальный ле-про-зо-рий Трильо, — с трудом прочел парень. — А что ото?
Сухопарый нахмурился. Что-то настораживало его, но что именно, он не знал. А пуще всего он не любил неизвестности. Опасности, встречавшиеся ему на пути, были всегда для него ясны: обиженные женщины, взбешенные мужья, дубинки, навахи, охотничье ружье… Девушки, стоявшие у ворот, уже не смеялись. Пока мужчины подходили, Эмилия дергала за цепь колокольчик.
— Ну что? Хотите зайти?
Сухопарый подозрительно озирался по сторонам. Уж слишком все здесь было повое, слишком основательное… Будто хороню сделанная ловушка. Белобрысый смотрел на него, ожидая решения.
— Что это? — спросил Сухопарый.
— Прокаженные. Дом для прокаженных, — ответила Агустина мрачно.
— Только здесь это называют «болезнью» или «простудой».
— Проказа, — повторила Агустина, видя, что ее не совсем понимают, — это болезнь, которая поедает мясо… Помните больных, которых исцелил Иисус Христос?
Сухопарый хотел было признаться, что редко ходит в церковь, хотя уже смутно догадался о чем-то, как вдруг Белобрысый воскликнул:
— Покрытых язвами, как святой Рох!
— Намного хуже, — сказала Агустина. — У одной женщины она постепенно съела все пальцы. Это заразно.
Па ее губах застыла горькая, жестокая усмешка. Сухопарый мгновенно бросил к ее ногам корзину с бельем. Белобрысый последовал его примеру.
— Пет, — проговорила Агустина с вызовом, — не смотрите на нас так, мы не прокаженные. Мы служанки у здешних докторов. Они говорят, что это не заразно, и живут прямо там, внутри. А мы отдельно, и едим отдельно… Все отдельно.
— Да, нечего сказать, — произнес Сухопарый, которого охватывал древний ужас перед этими язвами египетскими, этим библейским возмездием, — хорошенькую работенку вы себе нашли.
— Не хуже, чем у вас! — отпарировала Агустина.
— По правде говоря, я бы ни за что не променял свои мучения на это, — ответил ей Белобрысый.
— Почему вы здесь работаете? — спросил Сухопарый.
Агустина повернула к нему хмурое лицо и произнесла, отчеканивая каждое слово:
— С голоду. У меня голодают четверо братьев и парализованная мать. А здесь, — она кивнула в сторону здания, — платят вдвое.
— Такие хорошие девушки могли бы устроиться и получше.
— Будь все проклято! — в сердцах воскликнула Эмилия. — Ах, был бы мой голод не таким честным!..
Другая ничего не сказала, только еще раз пригласила:
— Ну что, рискнете?
Сухопарый ни за что бы не согласился войти, но в девичьем голосе зазвучало явное презрение, и он не мог этого вынести. Он молча последовал за девушками, когда привратник, наконец, открыл зеленые зарешеченные ворота. Лицо у привратника было самое обычное, старое.
Они шли под редкой сенью ухоженных акаций. Невдалеке, на площадке, гуляли женщины в цветастых платьях. Вдруг одна из них, заметив идущих, что-то сказала остальным, и все бросились им навстречу. Только мужское достоинство Сухопарого помогло ему побороть отвращение. Но тут он заметил проволочную сетку, которая отделяла их от женщин. Приблизившись к ней, женщины с веселым любопытством принялись расспрашивать:
— Здравствуйте… Вы сюда?.. У вас здесь родственники?
Напуганные сплавщики смотрели на женщин. Почти все они были молоды и ничем не отличались от других, если бы не лица. Что было в них странного? Ах да, они напоминали китаянок! Не цветом кожи, нет, а разрезом глаз. К ним неторопливо подошла еще одна женщина и, растолкав других, протиснулась в первый ряд, к самой сетке. Вцепившись руками в барьер, она впилась пристальным взглядом в мужчин, как удав в пташек, а те, словно загипнотизированные, не в силах были отвести глаз от ее красного, почти фиолетового лица, до того распухшего, что оно потеряло всякую форму, и маленький нос едва виднелся между воспаленными щеками. Ее взгляд был таким же злобным, как и голос:
— Что, боитесь?
На сей раз Сухопарый не мог даже пошевельнуться. Агустина взяла его за руку и повернула спиной к женщинам.
— Пойдем отсюда. Я и так вижу, что ты смелый человек.
— Сейчас я не смог бы даже поцеловать тебя, — признался Сухопарый, посмотрев на нее.
Он видел приоткрытые ворота, а за ними широкое поле… Истинный рай!
Она ласково улыбнулась ему, провожая до выхода.
— Такому человеку, как ты, нелегко сознаться в этом… Но ты все равно меня не обманул… Иди спокойно. Во всем Трильо не нашлось мужчины, который осмелился бы войти сюда со мной.
Девушка снова взяла его за руку, и ему показалось, что она сжала ее. Однако он был так потрясен, что едва обратил на это внимание. Он не заметил, как очутился за воротами, и увидел Белобрысого, стоявшего в стороне. Эмилия не стала выходить за ограду.
— …Ночуем мы в селении, — говорила Агустина Сухопарому. — Уходим отсюда в шесть. Если надумаете нас проводить…
Сухопарый стоял, опустив голову, и видел только, как словно два крыла, вздымаются и опускаются девичьи груди. Голос настойчиво проникал ему в уши, пальцы чуть сильнее сжимали руку.
— Мне надоело, понимаешь, надоело. Мне нужен мужчина, настоящий мужчина, который пошел бы на мной через эти ворота, просто так, не побоялся бы… Мне надоело, — повторяла она затравленно.
— Что надоело? — пробормотал Сухопарый.
— Надоело быть голодной и честной, — резко ответила она и скрылась за воротами.
Оба сплавщика пошли прочь, не оглядываясь, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Как только они спустились на большак, Сухопарый вытер пот, градом катившийся по лицу, и сказал:
— Ах ты, черт! Я всегда говорил, что там, где не требуется сила, у баб больше выдержки, чем у мужчин.
Белобрысый не ответил. Они вышли к реке, уже полной стволов, спокойно плывших по течению. Кто-то из сплавщиков прокричал им с другого берега:
— Эй! Куда вы запропастились?.. Какую-нибудь девку нашел, Сухопарый?
Но Сухопарый глядел лишь на Белобрысого, устремившегося вниз по берегу. Удивленный Дамиан побежал вслед за ним и увидел, что он на ходу торопливо сбрасывает одежду. Когда Сухопарый подбежал к нему, тот уже шумно плескался в спокойных, много повидавших водах, куда еще не дошли стволы.
Белобрысый с остервенением терся. Наконец он вышел на берег, красный, как вареный рак; на теле его, до самых ступней, черных от прибрежного ила, сверкали капли. «Как архангел Михаил, — подумал Сухопарый, — Такому только баб охмурять! А белый-то какой, будто никогда и не загорал!» Он представил его в язвах, как у святого Роха, с лицом, как у той прокаженной женщины. И весь передернулся. Но тут же разозлился на себя и сорвал раздражение на Белобрысом.
— Какого черта ты полез в воду?
— Я люблю купаться, ты же знаешь.
— Попятно… Тоже мне сплавщик! Одевайся немедленно, ты весь дрожишь.
У «архангела» зуб не попадал на зуб. Он посмотрел на товарища.
— Честно говоря, Сухопарый, — признался он, — я боюсь надевать на себя эту одежду.
— Не мели чепухи, друг!.. Мне ведь тоже не по себе… Давай, давай, — ласково проговорил он, — а как же они ходят туда каждый день?
— А что, если… я подумал вдруг… а что, если это неправда? Если и они?.. Эмилия брала меня за руку, да и я обнимал ее!
Сухопарый пристально посмотрел на Белобрысого.
— Агустина сказала мне правду, когда мы вышли за ворота. Это я тебе говорю, Дамиан Серрано.
Белобрысый опустил голову. Он выглядел сейчас совсем юнцом, почти подростком. И вдруг, ощутив себя нагим, словно только что покинувшим рай, он потянулся за вещами, а затем, подняв голову, уже не без лукавства заключил:
— Я верю тебе, Сухопарый. Уж кто-кто, а ты в таких вещах разбираешься!
— Черта с два… Стал бы я тогда обливаться холодным потом! Не трусь! Знаешь, как лечат такие страхи? Вечером сходим в селение и зальем вином.
Белобрысый рассмеялся под рубахой, он как раз надевал ее. В полдень они рассказали о своем похождении сплавщикам, и Шеннон заверил их, что заражение происходит гораздо медленнее, чем считали в древности. Сплавщики еще немного поспорили, и все решили единодушно, что по случаю прихода в селение у большой проезжей дороги и всей «этой передряги» следует хорошенько напиться.
Американец не стал возражать, но велел им «не выходить за рамки». Сплавщики торжественно поклялись, и к вечеру, покончив с работой, большая часть артели под предводительством Сухопарого отправилась по дороге в Трильо, которое было уже совсем близко. В лагере остались Американец, Горбун, Обжорка и Четырехпалый, всегда готовый замаливать грехи, и свои собственные, и те, которые намеревался совершить ближний. Лукас тоже не пошел, чтобы позаниматься с Шенноном, который уже почти научил его читать. Время от времени Шеннон поверх его головы, склоненной над книгой, смотрел на Паулу. Губы у нее были надуты, как у девочки, глаза глядели задумчиво. Иногда она отвечала улыбкой на взгляд Шеннона, но чаще смотрела на молча лежавшего Антонио. Остальные отправились в «столицу пенных вод», как окрестил селение Балагур, ибо посреди Трильо река Сифуэнтес низвергалась водопадом в Тахо.
У самого моста сплавщики обогнали двух девушек из больницы, возвращавшихся с работы. Сухопарый отстал от товарищей и присоединился к ним.
— Так уж вышло, девушки, — сказал он, как ни в чем не бывало, хотя и испытывал некоторую неловкость. — Ничего не поделаешь. Решили всей компанией пойти выпить.
Агустина холодно посмотрела на него.
— Я так и знала. Мы совсем не ждали вас.
Однако Сухопарый прекрасно понимал, что это неправда. Ведь было уже почти семь. Эмилия, надеявшаяся, что Белобрысый тоже отстанет от своих и подойдет к пей, сказала с досадой:
— Я тороплюсь, Агустина. Прощай.
Агустина, снова обернувшись к Сухопарому, резко проговорила:
— Что, брезгуешь? Скажи честно и уходи. Ты мне ничем но обязан.
Сухопарый посмотрел на ту, что ждала его, и пожалел девушку. Может быть, именно потому, что по собирался идти на свидание. Других женщин, к которым он ходил, он не жалел — не за что было.
Бросив на него вызывающий взгляд, она сказала с презрением:
— Как я могла подумать, что ты не такой, как другие! Почему мне утром приглянулись твои глаза, твои руки?.. Просто померещилось, — слезы душили ее. — Какая чушь! Ты старый, это верно, но не петух!
Она была великолепна: голос ее звучал резко, глаза блестели в темноте навеса, грудь вздымалась. Сухопарый забыл обо всем, заключил девушку в свои объятия и впился в ее губы с такой силой, что почувствовал привкус крови. Он всосал ее с дрожью, словно яд, и, оттолкнув девушку, сказал:
— Видишь, как я брезгую. Теперь я такой же, как и ты.
Она даже и не подумала вытереть алую ниточку крови с прикушенной губы. Глаза ее по-прежнему сверкали, грудь вздымалась.
— Да, ты такой же, как я, ты мой петух! — согласилась она. — Вот почему я ждала тебя, когда эта дура Эмилия хотела уйти. И дождалась бы обязательно… А теперь я ждать не хочу, не могу, не томи меня!
И обдав его горячим дыханием, она приблизила к Сухопарому белое лицо с окровавленными губами. Сухопарый вдруг оробел, он не узнавал себя. Его пугала не проказа, не язвы. Нет! Эта женщина все больше и больше завладевала им. А он привык быть себе хозяином.
— Я приду к тебе потом, ласточка. Сейчас меня товарищи ждут.
Под навесом сразу стало свежо, таким холодом повеяло от женщины.
— Ты хочешь свести меня с ума! — крикнула она и, видя, что мужчина, уже готовый было покориться ей, собирается уйти, схватила его за руку. — Ты не знаешь, на что я способна! Не знаешь, что такое отчаяние и голод! Сто раз я хотела стать шлюхой, слышишь? И не могла, мужчины противны мне… А вот теперь пришел ты! Неужели ты такой же, как другие?
— Нет, — обернулся к ней Сухопарый, задетый за живое. — Иди вперед, я пойду за тобой и погляжу, где ты будешь меня ждать. Как только мне удастся уйти от товарищей, я приду к тебе.
Она посмотрела на пего, вновь желанная, и поняла, что помимо воли коснулась самой сокровенной его струны: он был мужчиной и знал, что настоящих мужчин не так уж много. Она поправила блузку, привела в порядок волосы и пошла.
Сухопарый следовал за ней по улочкам, ведущим вверх по косогору. У самого поля, где были гумна и свалки, она остановилась у маленького сарая, обернулась и подождала, пока он подойдет, прильнув спиной к двери, словно ее распяли.
— Я буду здесь. Сейчас я ухожу, — сказала она, когда подошел Сухопарый. — Но если ты не придешь… тогда читай газеты. — Сухопарый снисходительно улыбнулся, а она продолжала: — Я понимаю, ты мне не веришь… Ты ведь не знаешь, каково говеть в двадцать девять лет, в таком вот селении. Ты не знаешь, какая это мука, когда не можешь полюбить мужчин, которые не прочь воспользоваться твоей бедностью. Не знаешь, как тяжко завидовать женщинам, которые кичатся своей порядочностью и ни в чем не испытывают недостатка… Ах, что ты можешь знать! — заключила она, уклоняясь от его поцелуев, которыми он пытался утешить ее, все больше желая остаться. Но должен же он быть хозяином положения, черт возьми! И сказав ей несколько ласковых слов, он удалился.
Не успел он пройти и двух шагов, как она окликнула его с порога:
— Послушай, как тебя зовут? Я хочу знать, кого мне проклясть, если ты окажешься не мужчиной!
Он сказал ей свое имя. Ему и в голову не пришло соврать, как прежде. Нет, кому угодно, только не ей:
— Дамиан… Но меня прозвали Сухопарым.
До него донесся смех, приглушенный, но полный огня, почти вызывающий.
— Сухопарый… Это ты… Тебя так прозвали…
«Черт подери, их надо держать в узде», — подумал он и стал спускаться вниз по улице.
Когда он вышел на маленькую площадь, дверь с зеленой лозой, говорящей о том, что здесь винный погребок, распахнулась, выплюнув двух крестьян.
— Пошли вон! — раздался крик изнутри. — Вы что, не видели сплавного леса возле моста? Сплавщики заняли этот дом!
После свежего воздуха Сухопарого обдало резким запахом вина и дыма, от которого он едва не задохся. При слабом пламени коптящего светильника он увидел Двужильного и Балагура, переливавших вино из бурдюка в кувшин. Оно пузырилось, словно кровь, вытекающая из ножевой раны в груди, и оставляло красные пятна на руках мужчин. Вдруг Обжора нагнулся и, подставив под струю толстые губы, стал громко прихлебывать. Сухопарый оттолкнул его, и тот ткнулся в пол измазанным рылом. Возле кувшина, поглаживая бурдюк, становившийся все более дряблым, стоял тщедушный человечек в кашне и тщетно пытался воспротивиться произволу.
— Берите любое вино, только не это… не это… Разбойники! — наконец не выдержал он, видя, что никто не обращает на него внимания. — Хуже разбойников… Я должен знать, сколько здесь литров, должен отмерить!.. Разбойники!
Он совсем обезумел и вцепился в руку Сухопарого, который в бешенстве обернулся. Кривой поспешил отвести человечка в сторону, предупредив с самым серьезным видом:
— Не трогайте его, Константино. Лучше смиритесь.
Константино со слезами на глазах оглядел комнату, где уже царил полный хаос. Скамью опрокинули. В углу валялись сваленные в кучу багры. На стойке все было перевернуто вверх дном, из опрокинутой бутылки капало вино. В короткое время пол затоптали так, словно здесь прошел целый табун ослиц. На полках не осталось ни одного стакана, а единственную уцелевшую бутыль водки, настоянной на руте, как раз кто-то тащил вниз. С потолка свисали колбасы; Обжора срывал их вместе с гвоздями, и ел, не очищая. Сплавщики сгрудились вокруг истекающего кровью бурдюка со стаканами и кружками в руках. Человечек не видел вокруг ни одного участливого лица, не слышал ни одного слова утешения, если не считать тех, что сказал ему сплавщик, призывавший к смирению. Окончательно сдавшись, он отступил к самой темной стене и прижался к ней спиной.
— Эй, ты, — крикнул Балагур тому, кто взял с полки бутыль, — Оставь водку, она слишком быстро валит с ног.
— Хе! Рута очень полезна для брюха.
— Вот и жри ее!
— И то верно, — согласился Дамасо и, разбив бутыль о прилавок, извлек оттуда стебелек руты и стал жевать. Стебелек еще торчал из его жадного рта, когда он подошел к сплавщикам, сгрудившимся вокруг кувшина с вином.
Комната, освещенная слабым трепетным пламенем, была не столько грязной, сколько убогой и безрадостной. В таких сельских харчевнях живет, кормится, любит и умирает деревенский бедняк. Свет сюда поступал из крохотного окошка и застекленной двери, одну створку которой прикрывала картонка от календаря. Лестница в глубине вела в жилое помещение. Вещей было немного: прилавок, покрытый клеенкой, сосновая кадка, длинный стол, две скамьи, цинковая мойка для стаканов, да полки у стены, да пара-другая табуреток. Две полоски липучек были усеяны засохшими мухами. Печь и стену у светильника покрывала жирная копоть. На двери висела подкова. Ах да, еще на степе, прибитая четырьмя гвоздями, красовалась почерневшая фотография, вырванная из какого-то журнала, — единственная потуга на роскошь среди этой извести, земли и дерева. На фотографии девушка обнажалась с самым непринужденным видом. Возможно, то был кадр из какого-то фильма. Сорочка сползла к еще обутым ногам, и тело прикрывали лишь короткие трусики. Изящная поза и шикарная спальня с роскошной кроватью в глубине казались особенно нелепыми тут, в деревенской харчевне.
У кувшина раздался ликующий вопль.
— Конец бурдюку! — кричал Балагур, поднимая его обеими руками.
— За дело, друзья! — отдал команду Сухопарый.
И в вино тут же погрузились стаканы и кружки. Потом головы сплавщиков запрокинулись к потолку, а кадыки энергично задвигались. Темно-лиловые струйки потекли по губам к подбородку. Самые утонченные вытирали губы тыльной стороной ладони. Некоторые переводили дух.
— Вот это жизнь! — воскликнул Обжора, совершая очередное нападение на колбасу.
Белобрысый запел, остальные дружно подхватывали конец каждой строки:
На волоске у сплавщика жизнь. Наддай! Дня не пройдет без тревог. Наддай! Сегодня есть она, завтра — нет. Наддай! Сплавщик — мой муженек. Наддай! Он тихим голосом… Наддай! такое скажет мне… Наддай! когда останемся… Наддай! мы с ним наедине. Наддай! Наедине!Последние слова они уже не пропели, а неистово прокричали. Поверженный Константино сидел на плетеных корзинах, окончательно смирившись с судьбой. И вдруг раздался голос, достаточно зычный, чтобы заглушить хохот, бульканье вина, сопение и чавканье:
— Это что же такое творится на белом свете? Где же приличие? Где же у вас совесть?
На верхних ступеньках лестницы появилась женщина. Огонек светильника в ее руках освещал круглое лицо, гневный взгляд и пышный бюст. Ей еще не перевалило за сорок. Первым заметил ее появление Константино, опрометью кинувшийся к лестнице.
— Я же сказал, чтобы ты не выходила, Мануэла! Я же просил тебя!
— Что ж, по-твоему, терпеть это всю ночь? А они пускай нарушают покой добрых людей? Разве нет никакой управы на этих разбойников?
Сухопарый тут же очутился подле лестницы.
— Да здравствуют неприступные бабы!
Женщина сверху кинула на него взгляд.
— Ах, так это вы будете платить за все?
— Тут каждый может заплатить… Цвет сплавщиков! Не сомневайся, толстушка… У нас месячный заработок.
— В горах — захочешь, не потратишь! — воскликнул Балагур.
— Так я вам и поверила… Это вино стоит по меньшей мере триста реалов.
— А стаканы, водка, колбаса? — простонал Константино.
— Колбаса? — даже поперхнулся Обжора. — Да это же ослятина!
— Заткнись! — отрезал Сухопарый, — Слово твое — закон, королева… Эй, Кинтин, пусть каждый внесет свою долю!
Порешили собрать шестьдесят реалов с каждого, и Балагур обошел всех со шляпой.
— Здесь больше, чем надо, — заметила хозяйка таверны, спускаясь с лестницы к Сухопарому, а тот ответил, приблизив к пей лицо:
— Липшее возьми себе на платок. Дарю тебе. Меня зовут Сухопарый, если тебе вдруг вздумается вышить на нем мое имя.
Женщина слегка отступила и ответила:
— Я не нуждаюсь в твоих платках. Другой подарит.
Сухопарый пристально посмотрел на женщину и сказал, намекая на ее горемыку-мужа:
— Это какие? Носовые, да?
Женщина опустила глаза, а Сухопарый усмехнулся и проговорил:
— Константино, я хочу выпить за твою женитьбу. Когда вы поженились?
— В декабре.
Взгляд сплавщика скользнул по хозяйкиной талии. Он насмехался все более откровенно.
— А когда крестины?
Константино молчал. Женщина избегала глаз Сухопарого. Сплавщик сделал шаг вперед и встал между супругами, оттеснив женщину к стене, под лестницу.
— Так когда же? — настаивал он.
— Сами не знаем, — ответила женщина, тщетно пытаясь говорить как можно солиднее.
— Быть того не может! — с издевкой воскликнул Сухопарый, а затем вкрадчиво проговорил: — Уж больно ты пухленькая.
— Вот видишь… так уж получилось…
— Не унывай… — утешил ее сплавщик, подходя поближе. — Время еще есть… пожалуй.
Женщина не выдержала и вздохнула. Это был какой-то безмерный вздох, словно зародился он еще в декабре и, все больше и больше наполняя грудь, вырвался, наконец, наружу, слышный разве что ей одной да сплавщику, который сразу уловил его истинный смысл.
— Да, — согласилась она. — Время еще есть.
Сухопарый наклонился к ней и тихонько повторил:
— Не унывай, милая… Все уладится.
— Мануэла! Мануэла! — проверещал голос за спиной у Сухопарого.
— Чего тебе? — недовольно откликнулась женщина, не делая ни малейшей попытки вырваться из плена.
— Ну, чего ты там стоишь… ведь этот человек уже дал деньги.
— Деньги? Возьми сам!
— Но, Мануэла…
Сухопарый, не оборачиваясь, перебил его:
— Не приставай, Константино… Разве не видишь, что я обхаживаю твою жену?
Муж оцепенел, а она стояла, глупо улыбаясь.
— Хе! — воскликнул Дамасо совсем рядом, — Не припугнуть ли нам его немного, Сухопарый?
— Да нет, дружище. Ведь он тоже член семьи.
— Иначе не отстанет… Эй, Белобрысый, Обжора, не устроить ли нам шествие?
Константино, не понимая угрозы, попятился к лестнице, но Дамасо вцепился в него своими пальцами, словно клещами, и выразительно ругнулся. Не успел хозяин опомниться, как несколько багров поддели его за толстый ворот вельветовой куртки, вздернули вверх, и он повис в воздухе, боясь шелохнуться, чтобы не свалиться на пол, пока Дамасо, Обжора и Белобрысый поднимали его к потолку.
Сплавщики хохотали.
— Разбойники, оставьте бедняжку в покое! — возмутилась женщина.
— Да ничего с пим не будет, — успокоил ее Сухопарый, — Они шутят. — И прошептал, обнимая за талию: — Ему тоже не следовало так поступать с тобой.
Женщина замялась.
— Нехорошо так обращаться с ним при мне.
Сухопарый наклонился к ней, изогнувшись, как кот, и промурлыкал, смягчая свой грубый голос:
— Ты права, королева мавританская. Тебе лучше этого не видеть.
И обняв еще крепче, стал увлекать ее к лестнице при полном безмолвии объятого ужасом чучела, висевшего на баграх.
Она покорно прижалась грудью к сплавщику.
— Ах, разбойник! Не думай, что я всегда была такая! Просто, когда умер мой муж, я стала жить с этим беднягой!..
Сухопарый уже вошел в свою роль, попал в родную стихию. Но тут женщина совершила роковую ошибку:
— Ах, ты не знаешь, каково проводить ночи…
Сухопарый уже не слышал ее. Он замер, пораженный этими словами, сразу вспомнил другие, искренние, идущие от самого сердца. Он увидел эту женщину такой, какой она и была: толстой, сытой, разряженной и жеманной, готовой урвать еще одни лакомый кусок.
— Да, — сказал он, — по ты не знаешь, что такое голод… — И заключил с беспощадной насмешкой: — Прощай, голубушка! Я ухожу.
Женщина не сразу поверила. Потом опустилась на ступеньку и заплакала. Сухопарому она показалась смешной, как распустившая нюни девчонка, у которой отобрали куклу. Дамасо преградил ему путь, когда он направился к двери, и спросил:
— Ты куда? Неужто бросаешь добычу?
— В пользу бедных! У меня есть долг.
Мужчины рассмеялись; женщина плакала, сидя на ступеньке; у чучела наконец прорвался ворот куртки, и оно рухнуло на пол со страшным воплем.
Сухопарый захлопнул дверь, сразу отрезав от себя все, что осталось за ней, и, окунувшись в ночь, попал в мир подлинный и здоровый. «Как я сам», — пронеслось у него в голове.
Чистый, свежий воздух, ночной покой и звездный простор неба над маленькой площадью умиротворили Дамиана. Он снова стал таким, как всегда, и шел, куда должен был идти. Да, теперь он знал, что пойдет туда. Возможно, впервые за свою жизнь он почувствовал, что на сей раз он не пропустит стаканчик, а припадет к роднику, способному утолить непереносимую жажду. И понимал, хотя и подсознательно, что только так и стоит жить. Потому он и шел вверх по улице так же уверенно, как течет река.
10 Виана
В Трильо Горбун сменил глиняный кувшин для вина — еще одно свидетельство того, что зима миновала. Вместо тяжелого, темного, продолговатого, покрытого изнутри глазурью, он купил другой — белый, пузатый, звонкий и шершавый, какие делают в Оканье. Первый день сплавщики чаще обычного прикладывались к кувшину, куда налили водку, разбавленную водой, чтобы отбить привкус глины. И всякий раз прикосновенно к неровной поверхности, непохожей на прежнюю, гладкую, напоминало им о том, что зима позади.
На четвертый день пути из Трильо они подходили к Вуэльта-Анча и вдруг услышали пение чистых детских голосов.
— Что это? — спросила Паула.
— Это у переправы, — ответил Сантьяго, прислушиваясь. — Сходи посмотри. Я тут сам управлюсь.
Паула подошла к переправе Молино. Квадратный деревянный паром двигался по реке на канате, протянутом от берега к берегу. Все ближе слышалось пение звонких голосов. Вскоре на холме появилась небольшая странная процессия — темные, четкие фигурки на фоне солнца и неба. Тоненькие голоса заглохли в раскаленном воздухе.
— Гляньте-ка! — удивился Балагур. — Никак идут к причастию.
— Так оно и есть, — с почтением произнес Четырехпалый. — Сегодня Вознесение Христово.
Вероятно, это дети пастухов с государственных пастбищ направлялись в Виану-де-Мондехар — селение, скрытое за холмами и расположенное в получасе ходьбы от переправы. Одна из девочек была во всем белом и очень этим гордилась. Другие были в цветных, хотя и нарядных платьях, но на голове у всех развевались белые вуали, оттенявшие смуглые веснушчатые лица. Мальчишки шли в серых или синих костюмах, которые можно будет носить и потом. Почти у всех к рукаву был приколот белый бант, а шеи так туго повязаны галстуком, что приходилось отчаянно тянуть вверх коротко остриженную голову. Пели дети равнодушно, без всякого благоговения. Только девочка в белом, зная, что на нее обращены все взоры, старалась выглядеть благочестиво, как святые в церкви. У остальных же были веселые лица, особенно у мальчишек, готовых в любую минуту напроказничать.
Четырехпалый пришел в неописуемый восторг от девочки в белом.
— Матерь божья! Совсем как невеста! Невеста господня!
— Верно ведь? — спросила сопровождавшая их женщина, уже немолодая, в буром одеянии, какие носят кармелитки, и в туфлях на невысоком сбитом каблуке.
Мальчишки с радостным оживлением пялились на неожиданное для них зрелище — сплавщиков. Один, в голубовато-зеленом галстуке, сказал другому, растягивая слова:
— Как ты думаешь, нам дадут такой же вкусный завтрак, как в прошлом году? Теодоро тогда съел четыре сдобные булочки сразу.
— Да нет. Мать сказала, что сеньориты отдали деньги на новый балдахин. Он очень нужен пашей церкви.
— А что это такое?
— Почем я знаю! Спроси у служки! А только не видать нам булок как своих ушей!
Паром медленно приближался к берегу, паромщица рывками тянула за канат.
— Пойду с ними, — решила вдруг Паула, — Мне хочется в церковь.
— Конечно, сходи, — согласился Американец. — Может, кому-нибудь пойти с тобой?
Четырехпалый поспешил предложить свои услуги. И хотя Шеннону тоже очень хотелось пойти с Паулой, он понимал, что без двух мужчин сплавщикам не справиться с работой, да и вообще для Четырехпалого церковная служба намного важнее, чем для него. Паула и Четырехпалый отправились на паром.
— Вам ничего не надо? — крикнул им вдогонку Американец.
— Мы вернемся в полдень! — ответила Паула. Полоса воды, отделявшая берег от парома, постепенно увеличивалась.
Паула была рада своему спутнику. Ей нравился Четырехпалый, он пожалел ее, когда она появилась в лагере, и никогда не досаждал ненужными вопросами. Путь они проделали незаметно. Кармелитка болтала без умолку.
— Должен был приехать сеньор епископ из Сигуэнсы, но, сами понимаете, у его преосвященства столько дел… Жаль, конечно, потому что мы приобрели новый балдахин!.. Да простит мне господь бог, но наш прежний священник был истинный растяпа. Говорят, он много пил, но я в этом сомневаюсь. Вот его бедная матушка, царство ей небесное, та, верно, любила выпить. А он просто растяпа. Балдахин пропал из церкви еще во время войны, но он считал, что есть вещи поважнее. Уж не знаю, какие это вещи, а только все церковные деньги высасывали грудные младенцы из сиротского приюта. Все уходило на молоко, сам-то он себе ничего не брал, потому и был гол как сокол… Он совсем помешался на этом молоке, даже корову купил, здесь ведь с молоком очень трудно. И говорил, что в английских школах поят детей молоком. Надо же! Еще не хватает, чтобы мы брали пример с протестантов! Конечно, в Англии все время льют дожди, а у пас светит солнышко. Здесь дети растут сами по себе, им и еды-то почти не нужно… Я лично считаю, что таким людям, как он, нечего лезть в священники, тут надобно призвание, тут понимать нужно, что такое благолепие… Наконец нашего добрячка перевели в другое село, и теперь у нас новый священник, уж он-то заботится только о храме. Мы можем гордиться. Деньги нам удалось по крохам собрать с жителей, и еще мы продавали молоко от той самой коровы, а теперь, слава богу, у нас есть свой балдахин… Раньше в праздник Тела господня совестно было смотреть, как Христос ни за что ни про что жарится на солнцепеке во время процессии… Будто в нашем селении живут какие-нибудь язычники!
Неумолчная болтовня благочестивой монашки нашла горячий отклик у Четырехпалого, Паула предпочитала идти молча; так они незаметно добрались до селения и теперь шествовали среди убогих домишек землистого цвета, который еще больше подчеркивали пестрые занавески. Па площади дети, сопровождаемые кармелиткой, присоединились к другим, и большинстве своем одетым намного лучше. За ними следили какие-то девицы с медальонами на шее.
Зазвонили колокола, детей ввели в церковь, построив рядами. Сложив руки крестом на груди, впереди стояли девочки в белом, за ними остальные девочки и уже потом — мальчики. Началось причастие. Когда появился священник, Паула все внимание обратила на него, с волнением вспоминая священника из Отерона.
Но она ожидала услышать совсем другие слова, хотя девицы с медальонами таяли от умиления. Чтобы дети поняли его и впечатлились как следует, священник из кожи лез вон, пытаясь объяснить, как важен день, когда Иисус, весь пропитанный любовью, нисходит к нам, людям. «А знаете ли вы, дорогие детки, что такое «пропитанный»? Кусок сахара, коснувшись жидкости, например, кофе или простой воды — прозрачной, чистой водички — едва-едва, самым кончиком, вдруг всасывает эту жидкость, и она входит в него, заполняет его, а он ее впитывает с жадностью до тех пор, пока они не сольются воедино, и уже невозможно будет их разделить. Кто из вас не видел этого, дорогие детки? Кто не видел простого, будничного явления природы, созданного всевышним? Так вот, дорогие детки, этот пример послужит мне для того, чтобы вы лучше поняли, что сегодня произойдет с вами. Господь бог войдет, как вода, как прозрачный сок, как океан, в этот кусочек сахара — ваше сердце…»
Слова его не нашли отклика в душе Паулы. Мальчишки откровенно скучали. Один из них, не выдержав, лягнул под лавкой своего соседа. Тот, не поворачиваясь, ткнул кулаком, но угодил в невиновного, который не замедлил ответить должным образом. Началась возня, как и бывает в подобных случаях, ее быстро пресек учитель, влепив одному из зачинщиков подзатыльник. Ото живо угомонило маленькое стадо, и взгляды обратились к алтарю. Один принялся пересчитывать свечи; другой прикидывал, сможет ли меткий удар камня сбить золотистый шарик, самый верхний, если, конечно, швырнуть посильнее; третий обнаружил, что дядюшка Сепас как две капли воды похож на злого разбойника, распятого вместе с Христом, и лишь немногие пытались вникнуть в слова о сахарных сердцах.
Но тут случилось непредвиденное. Одна из девочек в белом, сидевших в первом ряду, — та, что пришла с другого берега, — свалилась на пол.
— Потеряла сознание! — взволнованно воскликнула какая-то девица и вместе с другими поспешила на помощь. Однако девочка встала сама и, кривясь от злости, в съехавшей набок вуали, ткнула пальцем в обломившуюся трухлявую ножку скамьи. Столь прозаическое объяснение раздосадовало девиц, но они успокоились, когда другая девочка призналась, что у нее кружится голова, и им пришлось увести ее в ризницу. Священник завершил проповедь лирическим пассажем о невинности, чей белый цвет с этой поры должны хранить незапятнанным и мальчики, и девочки. «Лучше умереть, чем запятнать свою невинность».
Сеньора в кармелитском одеянии, стоявшая рядом с Паулой, громко высморкалась, изливая в платок свои слезы, текущие, по-видимому, через пос. Сзади понеслись ввысь чистые звуки органа. Под скрип и скрежет деревянных педалей зазвучала церковная музыка, послужившая вступлением для певчих. Мальчишки обернулись при первых же звуках, не обращая внимания на угрожающие жесты учителя. Голоса запели о том, как дивно предаться Христу и ого божественной любви. Наконец звон маленького колокольчика возвестил, что настал долгожданный миг. Лица у некоторых детей сосредоточились: не всякий помнил, сразу глотать облатку или сначала дать ей раствориться, и можно ли ее коснуться зубами или это грех, а если грех, то тяжелый или легкий.
После мессы детей отвели в школу, уже по соблюдая особого порядка. Скамейки отодвинули к стенам, чтобы освободить место для накрытых столов. Заглянув в дверь, парнишка в голубовато-зеленом галстуке торжествующе воскликнул:
— Есть булки!
— Верно! — подтвердил его товарищ. — По по одной!
Все ринулись к столам. При виде разноцветных бумажных салфеток, кто-то удивленно крикнул:
— Шик-блеск, а по салфетки!
— Тс-с, не шуми! — цыкнула на него девица. — Разве не видишь — сеньор священник благословляет трапезу.
— А когда завтракать дадут?
Вскоре завтрак начался. От горячего шоколада исходил такой аромат, что одна девочка не выдержала и в восторге прокричала:
— Да здравствует учитель!
— Милая моя, надо говорить «сеньор учитель»!
Никакими силами нельзя было унять шумного ликования, хотя какая-то старуха углядела даже в этом буйстве причину национальных бедствий. Паула же и Четырехпалый ужо ничего этого не видели, сразу же после мессы они отправились в обратный путь. Паула была опустошена и разочарована, Четырехпалый воодушевлен и взволнован. К тому же он смыл свои грехи в Иордане покаяния, и сердце его было полно.
Почти у самой реки им повстречался Двужильный, Направлявшийся в селение за провизией. Обычно за продуктами ходил Горбун, но Каналехас занозил себе ногу и прихрамывал, поэтому Американец послал Двужильного с рюкзаком.
— Там все закрыто, — предупредил его Четырехпалый.
— Ну и что, — невозмутимо ответил Двужильный.
Американец отправил за продуктами именно его, зная, что такой спокойный человек в конце концов всего добьется. Двужильный собирался перекусить в селении и вернуться к вечеру, поскольку в полдень стволы связывают, и вполне можно обойтись без него.
Паула и Четырехпалый отправились дальше, к реке. Двужильный проследовал своей дорогой. Дойдя до окраины, он подошел к новому дому, чтобы узнать, где лавка. Над большими воротами была вывеска: «X. Альмасан. Мастерская по производству ящиков». Ворота были распахнуты.
Двужильный заглянул во двор и услышал радостные возгласы людей, одетых по-праздничному. Девушка в нарядном платье поспешила ему навстречу.
— Вы не здешний, верно?
— Нет, я…
Но она уже устремилась к дому, крича на бегу нечто такое, что не могло не озадачить Двужильного.
— Отец, отец! Божий человек явился!
На ее крик сбежал по лестнице мужчина в городском костюме, при галстуке. Копчики накрахмаленного воротничка, стоявшие торчком, нервно подрагивали у его шеи, но он улыбался. Это был хозяин дома, выдававший замуж свою дочь. Они уже собирались идти в церковь, а в округе существовало поверье: если на свадьбу случайно попадал чужак, то кем бы он ни был, он становился самым почетным гостем. «Божий человек» приносил счастье будущим супругам.
— Я ничего не знаю! Мне надо закупить продукты, — упирался Двужильный.
— Вы обязательно должны присутствовать на свадьбе, — упрашивал мужчина, — С провизией мы все уладим. Я только-только наладил производство ящиков, надеясь, что в скором будущем на этой плодородной земле можно будет делать консервы, как вдруг дочь надумала выйти замуж за моего управляющего. Он родом из Риохи. Вы принесете им счастье, друг.
— Но я должен вернуться к реке…
— Тогда пойдемте с нами хотя бы в церковь, — настаивал хозяин, которого дружно поддерживали остальные.
«Наверное, еще никогда в жизни так не встречали сплавщика», — подумал Двужильный, поднимаясь по узкой лестнице. Дело принимало занятный оборот. Проходя мимо веселых девушек, он снова подумал: «Сюда бы Сухопарого!»
— Можно войти? — спросил отец невесты, подойдя к двери. — Божий человек явился!
— Конечно! — ответили изнутри. — Я уже одета.
Они вошли, громко хлопнув дверью. Из мужчин только отцу да, пожалуй, еще «божьему человеку» разрешалось видеть невесту до свадьбы. В спальне стояла металлическая кровать, пестрая занавеска прикрывала одежду. В окошко заглядывало солнце, куст бальзамина благоухал. Полная женщина, раскупорив флакон с духами, щедро опрыскивала ими невесту, на которой не было только фаты. «А она хорошенькая!» — отметил про себя Двужильный. На девушке было плотно облегающее белое платье; смуглое ее лицо сильно раскраснелось. Кроме толстухи, в комнате, несмотря на тесноту, суетились еще три женщины.
Отец невесты и Двужильный остановились у двери; дальше пройти было невозможно. Девушка взглянула на них.
— Добро пожаловать, сеньор! — приветствовала она его взволнованно.
— Видишь, как тебе повезло! — воскликнула одна из женщин. — Со свадьбы Кресенсии другого такого случая не было в селе.
Толстуха держала в руках фату, кружева светились на солнце. Прежде чем набросить ее на невесту, толстуха остановилась, и в комнате воцарилась торжественная тишина. Толстуха подтолкнула девушку вперед; та сразу стала серьезной, побледнела и приблизилась к отцу.
— Благослови меня, отец, — робко сказала она.
Хозяин растерялся, словно его застигли врасплох. Но тут же, поборов волнение, перекрестил дочь, расцеловал в обе щеки и сказал:
— Да благословит тебя бог в замужестве.
У женщин потекли слезы.
— Он, матушка! — заплакала невеста, обнимая толстуху, которая никак не могла справиться с напавшей на нее вдруг икотой.
— Фату помнешь, осторожней! — первой опомнилась сестра невесты, смахивая слезы.
Вытирая глаза носовым платком, невеста сразу отступила и склонила голову, чтобы легче было надеть фагу. Взволнованный отец, не желая уподобляться женщинам, шутливо произнес:
— Ну что ты, доченька, не на казнь ведь идешь!.. За~ чем же так… И божий человек явился, он принесет тебе счастье.
Двужильный покорился. Он отошел в сторону, дверь раскрыли, и невеста стала спускаться по лестнице. Снизу неслись приветственные крики.
— Как вас зовут? — спросил хозяин дома.
— Сиксто Корреа.
Его заставили спуститься первым за невестой, следом шли родители, за ними родственники.
Через все село направились к церкви, где и состоялась свадебная церемония. И хотя она длилась недолго, не обошлось без прочувствованной проповеди священника, вдохновленного утренним успехом. Рядом с алтарем на всеобщее обозрение прихожан был выставлен новый балдахин. Возле купели играли несколько ребятишек, каким-то образом умудрившихся проникнуть по лестнице на хоры. Потом послышался скрип деревянных ступенек и шепот потерявшего терпение пономаря.
Из церкви отправились смотреть повое жилище молодоженов, где местная молодежь, совсем забыв о приличиях, везде совала нос. Люди с любопытством глазели на столовую, когда вдруг на пороге появился парень и что-то ликующе прокричал. В высоко поднятой руке он держал ночной горшок, который только что обнаружил в спальне. Под общий хохот, к величайшему смущению невесты, стали восхвалять его достоинства: прочность, устойчивость, удобство, его славное будущее и все то, что ему предстояло увидеть. Комментарии были весьма недвусмысленны, после чего, по существующему обычаю, парни ворвались в спальню и повалились один за другим на кровать («аннулированную», как назвал ее один из них, подразумевая никелированную), проверяя се комфортабельность своими сапожищами. Новобрачный пришел в негодование, но тесть успокоил его и посоветовал по обращать внимания на насмешников, чтобы им поскорее надоело зубоскалить. Действительно, парни вскоре оставили молодоженов одних, и те стали переодеваться к обеду.
Двужильный, воспользовавшись спокойной минутой, сказал, что хотел бы сразу после обеда отнести сплавщикам провизию, а потому должен заранее купить ее. Однако хозяин и слышать ничего не хотел:
— Сейчас мы пойдем к столу. Скажите, что нужно вашей артели, у меня в доме все есть… Ничего, ничего, мы и сплавщиков пригласим на свадьбу!
Будь он крестьянином, возможно, он отнесся бы к людям с реки иначе, но это был человек из другой среды — предприимчивый, приветливый, мирный. Он все больше нравился Двужильному.
Возвратившись в дом всей компанией, они увидели под навесом рабочего, который сколачивал ящики. Двужильный остановился посмотреть и сокрушенно покачал головой.
— Знаю, знаю, сегодня праздник, — сказал хозяин, — но что поделаешь? Срочный заказ. Не так уж у меня много клиентов, чтобы ими пренебрегать.
— Да я вовсе не к тому. Разве так работают? — И набрав в рот гвоздей, Двужильный стал вбивать их с поистине виртуозной быстротой. Левой рукой он ставил гвоздь, а правой, в которой был молоток, вгонял его двумя ударами — сначала легким, чтобы закрепить, а затем, убрав пальцы, сильным, по самую шляпку. Работа, и в самом деле, была мастерская.
В несколько минут он сколотил ящик и, окинув гостей победоносным взглядом, спросил:
— Ну как? Еще что-нибудь забить?
Хозяин рассмеялся:
— Не знал, что сплавщики так ловко расправляются с гвоздями.
— Я стал сплавщиком поневоле. Не нашел ничего другого, когда закрыли фабрику в Валенсии. Гвозди вбивать — мое ремесло. Я работал сдельно. Сколачивал ящики для изюма в Малаге; для кураги и перца — в Мурсии; для фруктов — в Логроньо; для рыбы — на севере; для апельсинов — в Валенсии… Всюду побывал, все переделал.
— Здорово у вас это получается. Раньше я работал на фабрике, распиливал доски и видел, как забивают гвозди, но мало кто так ловок, как вы.
— Да, таких, как я, немного, — с гордостью отозвался Двужильный. — Видите, в каждом из этих ящиков по тридцать шесть гвоздей, а я забивал от четырех до пяти тысяч в день. И не как попало, а по самую шляпку, ни одного не согнул… Хотел бы я поглядеть, кто их забьет лучше.
Н, довольный, посмотрел на свои руки, а люди наперебой хвалили его.
— Жаль, что здесь нет моего зятя… Надо же… зятя, — засмеялся хозяин, — он больше меня смыслит в этих делах… Послушайте, — вдруг предложил он, — а почему бы вам не остаться у меня? Вы были бы не в обиде. Я люблю хороших людей и плачу по заслугам.
Двужильный огляделся вокруг. Дом был новый, свежепобеленный. Хозяин пришелся ему по душе; хозяйка добрая, жених вроде бы простой; невеста — приятная девушка, прощается с вольной жизнью… Он подумал о своей жене, о дочери-подростке. Земля здесь не так сурова, и люди повеселее… Он вздохнул.
— Мне надо отработать по контракту.
— Конечно! Как раз к тому времени, когда вы доведете лес до места, здесь начнется самая рабочая пора.
За открытыми воротами Двужильный видел мягкие очертания холмов, совсем не похожих на неприступные горы его родного края. Да, тут будет поспокойней в старости, и дочку пристроить легче. Он снова вздохнул, на сей раз — с облегчением. Примет он предложение или нет, важно то, что его везде оцепят по заслугам, заключил он про себя. Вот что главное. Хорошо на свете! Он всегда так считал.
— Не раздумывайте, дружище. Вас сегодня сюда послал сам бог. Счастливое знамение не только для нас, но и для вас тоже. И зять обрадуется! Знаете, если дела у пас пойдут на лад, когда поспеет урожай, мы станем делать консервы.
— Я еще не отказался. Мне ваше предложение по душе, да и вы как хозяин вполне подходите.
Мужчина рассмеялся.
— Когда доведем лес до Аранхуэса, — продолжал Двужильный, — я буду возвращаться домой через ваши места. Тогда и потолкуем. Если мы поладим…
— Нет, не поладим, дружище. Ни за что не поладим.
Даже невозмутимый Двужильный рассмеялся.
— А по-моему, поладим.
— В таком случае, я на вас рассчитываю… А теперь пора к столу, надо хорошенько закусить. Сейчас пошлем за сплавщиками. Пусть они тоже погуляют на свадьбе Элопсы Уэте.
Впереди всех, исполненный гордости, окруженный почтением, Двужильный прошествовал в просторную мастерскую, где были накрыты столы. И в этот прекрасный день, в начале июня, пировал, как никогда еще ему не доводилось, упиваясь всеобщим вниманием и повой надеждой.
11 Часовня надежды
— Бедняжечки! — сказала девочка с золотистыми косичками. — Зачем вы зашиваете им рты проволокой?
Ловец ящериц из Мантиеля, довольный тем, что привлек внимание группы купальщиков, громко рассмеялся.
— Знаешь, как они кусаются? Видела бы ты их зубы! А так не укусят! — заключил он и сжал себе губы двумя пальцами.
Ящерицы, привязанные к его ремню бечевками, продетыми сквозь брюшко, беспомощно шевелились. Они были довольно большие, некоторые — вместе с хвостом — пяди в две. Их спинки были необыкновенно красивы: блестящие, в зеленых, золотистых, голубых и малиновых пятнах. Но ярко-алые губы, за которыми скрывался белый подвижный язычок, уже никогда больше не раскроются: тоненькая проволока, продетая через челюсти, навсегда сомкнула их.
— Лучше убейте, — проговорила какая-то старуха, приехавшая сюда лечиться от ревматизма, — чтобы не мучились.
— Я дома утоплю, в ведре. Если их прибить, можно повредить кожицу, тогда мне заплатят за них меньше. Их освежевывают, кожу выделывают… Совсем как кроликов, — снова засмеялся мужчина.
Происходило это возле купален, под сенью Умбриасо, в одной из теснин Тахо, неподалеку от тех мест, где река наконец вырывается на мадридские и толедские просторы. Круглые, могучие каменные дубы свидетельствовали о том, что до эстремадурских пробковых дубов еще далеко. Сосны, можжевельник, розмарин по-прежнему зеленели на склонах. У самого берега черные тополя соперничали высотой со скалами. Пейзаж был все еще дикий, но холодная неприступность гор уже исчезла. Гордые своим величием и крепостью, горы стали добрее, словно сильные, простые душою люди.
Старики со всей округи, от Перальвече до Йеламос, от Трильо до Саседона, приезжали сюда лечиться от ревматизма, допекавшего их зимой; приезжали на девять дней — не дольше, поскольку целебная вода действовала слишком сильно. Купались больные рано утром, а пока их спутники готовили завтрак, отдыхали в тени, глядя на реку. Ветер шевелил трепетную листву тополей, и шелест сливался с шумом реки, особенно грохотавшей у плотины, где воды обрушивались в оросительный канал.
Ловец ящериц внес некоторое разнообразие в монотонный ход времени, но о нем мгновенно забыли, услышав новое известие от юных рыбаков. Два брата принесли в корзине разной рыбы — карпов, окуней, усачей, плотвы — некрупной, зато свежей и хоть как-то разнообразившей пищу. Мальчишек хорошо знали. Они были внуки Ковехоса из Дурона, когда-то довольно зажиточного лавочника. Во время войны его арестовали, и все пошло прахом. Отец мальчиков зарабатывал на жизнь чем придется, в том числе и ловлей рыбы, которую его сыновья ходили сбывать к купальням.
Старухи, как положено, торговались; мальчишки по уступали: ловить трудно, вода слишком прозрачная, лучше уж купить кроликов; в этом году лов плохой, в реку бросают ядовитую коку, рыбу глушат… Вдруг старший привел самый веский довод:
— И вообще на этот месяц с рыбой придется распроститься.
— Не будете больше ловить?
— А что нам делать. Сплавщики совсем близко.
Новость так ошеломила старух, что они сразу перестали торговаться. Мальчишкам пришлось подробно рассказать все, что они знали. Да, сплавщики уже идут через Лос-Портильос, и к вечеру, возможно, будут здесь. Женщины радостно заклохтали. Хоть они и были прибрежными жительницами, сплавщики им нравились. Дурной славой люди реки пользовались главным образом у мужчин. Что касается женщин, то они только говорили о них дурно. На самом же деле сплавщики для них были образцом силы и мужества, о таких мужчинах они и мечтать не смели. И если девушки дрожали от пленительного страха, старухам нечего было опасаться, разве что какой-нибудь безрассудной выходки, от которой теперь, на склоне лет, только посмеешься или покраснеешь. И все же хоть одна из них, наверное, подумала: «Как знать, а вдруг придет тот самый?»
Весь день они провели в нетерпеливом ожидании и поэтому были разочарованы, когда совсем поздно явились горбун, женщина, мальчишка и собачонка. Сантьяго сразу яге после ужина решил перенести лагерь чуть ниже по течению, за купальни, где они собирались провести несколько дней, пока будут проходить извилистые ущелья. Тем не менее их пригласили в дом и провели в большой коридор, куда выходили двери комнат. Обычно в этом коридоре купальщики собирались по вечерам и в ненастную погоду. Мужчины с любопытством разглядывали молчаливую девушку, которая, разумеется, будет спать в комнате для женщин. Молодые девушки, из числа сопровождающих, не знали, завидовать ей или сочувствовать, а потому попеременно испытывали то одно чувство, то другое. Старухи с пристрастием допрашивали Сантьяго. Да, он повар. Да, сплавщики придут утром. Нет, не вечером. Они слишком устали, Лос-Портильос пройти нелегко.
Шеннона, которому сплавщики на все лады расхваливали целебные воды, ошарашил этот «курорт». Купальня помещалась у самого берега, в крохотном домике, сами купальщики жили в одноэтажном доме, похожем на ферму, шагах в пятидесяти от реки. Для человека, который при слове «курорт» представлял себе настоящий ville d’eau{Водный курорт (франц.).}, это было слишком неожиданно, как бы он ни сдерживал заранее своего воображения.
— А доктор тоже там живет? — спросил Шеннон у Сухопарого, указывая на дом.
Сухопарый разразился громким смехом.
— Доктор? Да кому он здесь нужен? Каждый знает, что у него болит! Еле ноги тянешь — скорее тащись в купальни!
— Как же так… не понимаю… Неужели на это есть разрешение?
Сухопарый расхохотался пуще прежнего.
— Конечно, нет. То-то и хорошо, что нет. Земля и источники принадлежат бедняку, он этим зарабатывает на жизнь. Но у него нет денег, чтобы построить для богачей большие дома с ваннами. Ах, если бы он их построил, никто бы и не ездил в другие места! Нигде во всем мире нет лучшей воды от ревматизма! Но он не может, и докторов здесь нет, и электричества, и всякой там мишуры. Оно и лучше: бедняку дешевле, а богач сам не приедет, ему доктора нужны. Правда, эти источники как бельмо на глазу для владельцев купален в Ла-Исабели, и они без конца строчат доносы. Еще бы! Большинство ведь едет сюда. Там с тебя за все берут деньги, а тут, за один дуро с рыла, дают и комнату, и тюфяк соломенный, и подушку. А если тебе этого мало, прихвати с собой, что тебе надо, и живи себе поживай.
— А как же с едой?
— С сдой? Какого черта! Дешевле не придумаешь. Устраиваются, кто как может: одни берут с собой кроликов, другие — живых цыплят. Привяжут к лапке ниточку, чтобы не спутать, и пускают во двор. Привозят буханки хлеба в мешках; а то попросят купить, что нужно, того, кто идет в Мантиель, здесь недалеко, и живут себе припеваючи… Тебе это в диковинку, верно? Еще не такое увидишь на белом свете!.. Зато вода здесь целебная. Пойдем, посмотрим источники.
Возле реки стоял скрытый в зелени черепичный навес, под которым и был пруд. Они поздоровались со сторожем, охранявшим купальню. От воды поднимался слабый белый пар, рассеивавшийся меж деревьев. Издали Шеннон принял его за дым затухающего костра.
— Горячий источник, — сказал Сухопарый, — всего метрах в тридцати от холодной реки. Каких только чудес не бывает на свете, верно?
— Не вздумайте сунуть туда руку, — предостерег их сторож, — мигом обварите. Не успеешь бросить яйцо, а оно уже сварилось вкрутую, как в кипятке.
— Сколько градусов? — спросил Шеннон.
— А кто его знает! Думаю, ни один градусник не выдержит.
— Разве не видишь? — сказал Сухопарый. — Она чуть не кипит. Глянь-ка, как булькает.
Поверхность воды действительно пузырилась, но пузырьки больше походили на газовые.
— Вода очень горячая, очень, — заключил сторож. — Видите, она отсюда по трубе поднимается прямо в купальню. По дороге остывает, но для многих все равно горяча. Сходите туда, посмотрите. Я вижу, сеньор — чужестранец. Ну как, нравится вам сплавлять лес?
— Говорит, что нравится, — засмеялся Сухопарый. — Будь я на его месте, только бы меня и видели на реке!
— А кто бы тогда лес сплавлял? — пошутил сторож, знавший Сухопарого уже но первый год.
Они направились к домику, где шесть или семь человек дожидались очереди, чтобы принять ванну. Сухопарый отпустил несколько шутливых комплиментов старухам, и те зарделись от удовольствия.
Внутри домика находилась маленькая комнатушка, откуда двери вели в мужскую и женскую купальни. Вышел старик с раскрасневшимся лицом, кутающийся в теплый шарф, и сторож пригласил сплавщиков войти. Это была голая клетушка с тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми в стену, на которые вешали одежду. На полу стояла ванна, каменная, как дешевые кухонные мойки. Дочка сторожа, обслуживающая больных, вошла с ведром мыльной воды и тряпкой, слегка ополоснула купель и пустила воду из крана, чтобы смыть мыло. Затем закрыла сток и стала наполнять ванну, готовую принять следующего старика, который и вошел, на ходу расстегивая штаны.
— Очень целебная вода, очень, — продолжал расхваливать сторож.
— Ох, и целебная! — поддержала его какая-то старуха. — Девять ванн примешь — и такая ломота в костях, хоть на стену лезь… Зато потом… Раньше бывало за зиму меня скрутит в три погибели, а теперь нет. Чувствую себя так, будто мне пятьдесят.
Славословия целебной воде внезапно прервал девичий голос:
— Жандармы идут!
Сторожа не слишком обеспокоило это известие.
— Беги к моей жене, скажи, пусть их задержит, пока вот эти примут ванну. Я сейчас приду, — он обернулся к Шеннону и предупредил: — А вы, чужак, видеть ничего не видели, ясно?
И направился к дому. Шеннон с удивлением спросил:
— Неужели в жандармерии ничего об этом не знают?
— Как не знать, как не знать? — засмеялась беззубая старуха. — Да что поделаешь, все равно приходится проверять. Эти типы из Ла-Исабели не устают писать доносы!
— Такая уж у них служба, — мрачно заключил старик в черной кепке. — Ничего не поделаешь.
— Ну, а дальше что?
— Дальше? Ничего. Уходят и говорят, что видели на реке людей со своей закуской. И так будет, пока не выловят голую, вот хоть ее — из ванны.
— На месте жандармов уж я обязательно выловил бы, — расхохотался Сухопарый.
— Тоже скажете, — рассмеялась беззубая старуха. — Не такая я красавица…
— Уж если у кого было что в молодости, — сказал старик, — и в старости остается. А у нее, видать, было… Ее и Дельфиной, наверное, назвали за то, что гладкая да шустрая.
— Ну, что ты городишь? Когда я родилась, чего там было гладкого?
— Хватит, хватит, дядюшка Гуанильо, — вмешалась другая, — придержи язычок. А то сеньор подумает, что на нашей земле живут одни бесстыдники.
Шеннон никак не мог постичь этой чисто испанской ситуации: законная власть отступает перед тем, что ужо сложилось помимо нее. Сухопарый объяснил на обратном пути: «Закон на то и существует, чтобы его обходить. Если все делать по закону, эти ревматики подохнут! И вообще, какого черта! Закон должен оберегать здоровье людей! Вот мы и заботимся сами о себе. Без гербовых бумаг дешевле обходится!»
Жандармам оставалось одно: заранее смириться. Они хорошо помнили, как несколько лет назад тогдашнему капралу взбрело в голову настоять на законе и прикрыть купальни, но через пятнадцать дней они снова действовали. Да и какой прок в том, чтобы мешать людям и лишать их покойной старости? Плохо только, что гоняют бедных жандармов вверх-вниз по горам, а они досаждают старикам, которые не хотят умирать, не обмывшись прежде с головы до ног, как говорит нынешний капрал!
Куда важнее было, по мнению жандармов, заняться подозрительным иностранцем. Они никак не могли попять, что ему понадобилось в горах, он просто не вязался ни с этими местами, ни с этими людьми. И они принялись расспрашивать его, потребовали документы, вертели и так и этак английский паспорт с испанскими печатями, списали кое-какие данные и вернули ему документы, так и не найдя удовлетворительного объяснения. Однако Сухопарый и другие знакомые им сплавщики ручались за иностранца головой, а это служило достаточно надежной гарантией. Они постояли в тени, не торопясь выкурили по сигарете, поговорили о погоде, обсудили местные новости, задали по долгу службы несколько вопросов, ответы на которые знали заранее, и ушли, предупредив Шеннона:
— Будьте осторожны, тут встречаются люди из маки, и вообще, сами понимаете, странно видеть англичанина в этих краях.
После их ухода народ разбрелся, а сплавщики спустились к реке. Детишки глядели на них во все глаза. Шеннон заметил, что один из мальчишек играет старинной монетой. Внимательно рассмотрев ее, он обнаружил, что это бронзовая римская монета, на которой изображены человек и бык.
— Я нашел ее вчера на этом самом месте, — сказал ему мальчик.
Значит, две тысячи лет назад римляне уже купались в этих горячих источниках. Подумать только, прошло два тысячелетня, и ничего не изменилось с тех пор! Шеннон смотрел на деревья, на примитивные строения, на людей, которые были столь бесхитростны. Какой естественный, первозданный мир в самом центре Европы, перенесшей вторую мировую войну!
Днем, в обед, в лагерь пришли старики поговорить со сплавщиками. Еще утром приходила женщина и сказала, что хочет помочь повару, а заодно узнать новости. «Новости! — подумал Шеннон. — Всегда им нужны новости!» Узнать, услышать, запомнить что-нибудь из ряда вон выходящее, а потом рассказывать другим, чтобы тебя слушали и удивлялись. Любопытнее всего было то, что едва услышанная новость распространялась мгновенно. Они присваивали ее, а затем, много дней или лет, пережевывали, истолковывали, обсуждали, пока окончательно не замусоливали. И она с самого начала казалась затасканной, как ни тщились ее обновить пословицами и поговорками. Люди свыкались с ней, а потом теряли к ней интерес, забывали, и лишь в редких случаях превращали в легенду.
После еды Шеннон разыскал Паулу. Она сидела на камне, чуть ниже по течению, свесив ноги в реку. Увидев его, она поджала ноги под черную юбку, но не встала. Только копчики белых пальцев, покрасневших от холодной воды, остались неприкрытыми.
— С тобой невозможно поговорить, Паула. Ты будто меня избегаешь, мы почти не видимся, — сказал он с грустью.
— Мы видимся с тобой каждый день! — улыбнулась она, убирая со лба прядь волос.
— Это совсем не то, — ответил Шеннон. — Но на сей раз я, кажется, пришел вовремя.
— Ты о чем? — насторожилась она.
— Успокойся, ничего важного. Просто я хотел отдать тебе вот это. Ведь они нужны тебе, верно? Я купил их еще в Трильо. Не знаю, понравятся ли. Но от этих камней они так быстро рвутся…
Он говорил не умолкая, как разговаривают с детьми, когда хотят их успокоить. Однако Паула оставалась настороженной. Наконец она взяла пакет и, развернув, увидела новые альпаргаты и простые черные чулки. Здесь же рядом, на камне, лежали ее старые, штопанные-перештопанные.
— Я могла бы еще починить эти, — словно оправдываясь, сказала она.
— Со мной не надо хитрить, Паула, — перебил ее Шеннон. — Мне ведь ничего от тебя не нужно. Ты это хорошо знаешь. — Он взглянул на нее.
Лицо у Паулы стало такое, будто она вот-вот расплачется. Но вдруг, повеселев, она разложила на коленях новые чулки, погладила их, рассмеялась и сказала:
— Эта штопка здорово натирала ноги!.. Я пробовала ходить босиком, но не могу… еще холодно. — Она подняла свое детское лицо и посмотрела на Шеннона. — Обо всем-то ты думаешь, Ройо. Другим мужчинам и в голову не приходит, что чулки рвутся. Даже когда они их дарят. А ты…
— Да, это верно. Я обо всем думаю. Но именно это и плохо, — печально проговорил он.
Они немного помолчали.
— А почему ты не отдал мне их раньше? Посмотри-ка, — она ткнула пальцем в старые альпаргаты уже без всякого стыда, — я уж и не знала, как их залатать.
— Мне не хотелось при других…
— Это верно. Еще подумают что-нибудь… И почему они всегда думают только плохое?
— И еще я искал минуты, чтобы побыть с тобой наедине, вот так… Я мечтал об этом, очень мечтал… Видишь, выходит, я обманул тебя, когда сказал, что мне ничего не надо. Мне надо, чтобы ты выслушала меня.
Паула ждала. Не то чтобы враждебно, и все же…
— Понимаешь, — продолжал Шеннон, — я много думал об этой встрече, мне казалось, что тебе многое надо мне рассказать, и я наконец облегчу твое горе… А теперь мне кажется, тебе это больше не нужно… Что произошло, Паула? Почему ты переменилась?
— Я? Я все такая же.
— Да, это верно, но ты не ответила мне. Ты не такая, какой была тогда у часовни, не та, что привела меня сюда… Ведь это ты привела меня, и я пошел за тобой, чтобы о тебе позаботиться. Тебя мне послала сама судьба. Я здесь из-за тебя.
Он замолчал. Вид неприступных скал напоминал ему о том, что все его усилия тщетны. Его слова ударялись о каменную преграду и ничего не могли изменить. Он посмотрел на Паулу. Она сидела тихо, покорно, почти смиренно… Но будто окаменела. Такими замкнутыми бывают лишь те, у кого на сердце большая тайна, подумал он. А может быть, она просто сердится, что он бередит ее рану? Но что это за рапа? Так или иначе, она се скрывает от него!.. А может, она действительно изменилась? Конечно, изменилась, и он уже ничего не может поделать… Но он должен окончательно убедиться, удостовериться в том, что это так… Сколько времени прошло с той минуты, как она произнесла последние слова? Сколько времени она сидела молча, не говоря ни да, ни нет, не соглашаясь и не возражая? Словно камень, о который разбиваются потоки слов? А он, как всегда, думает, рассуждает…
— Прости меня, Паула, я самый последний дурак.
— Нет, Ройо, нет. Ты очень хороший. В том-то и дело.
Шеннон попытался улыбнуться.
— Это одно и то же.
Паула опустила голову, но тут же вновь подняла, охваченная решимостью. Глаза ее смотрели словно из самой глубины души. Губы утратили детское выражение, но и женскими не стали. Они были плотно сомкнуты.
— Я расскажу тебе все. Больше я не могу молчать. Своим молчанием я будто кого-то обманываю. Оттого и сторонюсь всех. А вот тебя нет. Тебя не сторонюсь. Когда ты узнаешь, какая я, ты сам от меня отвернешься.
— Не верю.
«Ройо тоже не верит», — промелькнуло у нее в голове, прежде чем она сказала:
— Может быть, я просто несчастная, не знаю. Слушай и не перебивай меня. Я родом из Пеньялена, но работала в Куэнке. Один… Один из… Ну, словом, я потеряла голову… Когда выяснилось, что у меня будет ребенок, он бросил меня, не хотел ничего знать… Он очень плохой! Только тогда я поняла, какой он, и скорее умерла бы, чем согласилась, чтобы у моего ребенка был такой отец… Впрочем, он и сам не захотел бы вернуться!.. Моя тетка написала обо всем матери, и она пришла из деревни в город. Меня заперли у тетки, она жила в предместье… до тех пор, пока не родился ребенок.
Паула замолчала: ее душили слезы. Шеннон хотел было как-то успокоить ее, но она крепко сжала его руку.
— Мне сказали, что это был мальчик, но я его так и не видела… моя тетка… — ей стоило большого труда произнести это, и все же она продолжала: — моя тетка убила его… — Она снова сжала руку Шеннона, не давая ему возразить, — Да, я уверена… я родила и как будто потеряла сознание, но услышала его плач и тут же очнулась… Нет, мне не почудилось. — Она сдавила виски кулаками, — Я услышала его еще раз, когда уже пришла в себя, а потом… Но больше уже никогда не слышала… никогда. Вскоре они вошли ко мне в комнату, очень бледные и сильно дрожали. Я попросила у них ребенка, но тетка сказала, что он родился мертвым. Мать молчала, но смела взглянуть мне в глаза. Я видела, что они лгут. Я знаю, что они лгали… Как он плакал, бедняжечка! Как он плакал, пока его…
Она едва сдерживала судорожное рыдание и продолжала свой рассказ жестким, полным ненависти голосом:
— Они не хотели, чтобы я вернулась в деревню обесчещенной. В этом все дело. У них уже был кто-то на примете, чтобы все уладить. Но я не дождалась этого, сбежала; с теткой я говорить не могла. Как я проклинала ее! Это дело ее рук… У нее за домом, был свинарник… и плач доносился оттуда… оттуда! А я бы так любила его, — проговорила она, помолчав, — купала бы, пеленала… Как каждая мать!.. Нет, не каждая, моя мать не защитила меня!.. Как я плакала!..
Она умолкла. Шеннон печально посмотрел в вышину, но не увидел ничего, кроме безучастных скал и белых облаков, мирно уплывающих вдаль.
— Я попала к сплавщикам, — заключила она, резким движением вытирая слезы. — А могла бы попасть в реку и остаться там навсегда… Я могу попасть куда угодно, только не к себе домой… Туда я больше не вернусь. Никогда.
Шеннон молчал. «Пусть шелестит ветер, журчит вода, идет время», — думал он. Да и что он мог сказать? Наконец, едва слышно, он спросил:
— Что же ты собираешься делать?
Она не успела ответить. Откуда-то, то ли рухнув со скалы, то ли вырвавшись из земных недр, выскочил Дамасо, потрясая багром.
— Хе! Перепугались?
Паула и Шеннон вскочили на ноги.
— Нет, не испугались, — сказала Паула. — Ты же не ядовитая змея.
— Что случилось? — выступил вперед Шеннон.
— Да ничего особенного… Куда-то запропастился один из наших, и мы стали волноваться: уж не утоп ли… Но я-то знал, что не утоп — ведь я еще не столкнул его в воду… Да вдруг заметил, что и голубка упорхнула, и решил, что самое время искать… — Пока он говорил, его взгляд внимательно изучал то Шеннона, то Паулу. — Ах, да! Ведь сегодня страстной четверг… И ты, Англичанин, верно, ноги ей мыл, как епископ? Хе!
— Разве в твою грязную башку влезут чистые мысли? — Шеннон сплюнул.
— Чисто только то, что делают в открытую.
— Так или иначе, а Паулу ты оставишь в покое.
— Посоветуй это лучше самому себе, любезный, — с грозным видом проговорил Дамасо.
— Оставь ее в покое, — еще раз повторил Шеннон, уволакивая его в сторону.
— Ты, видать, забыла, какой был уговор, — мрачно бросил Дамасо, обернувшись к Пауле. — Или никому, или всем… А я стою на очереди!
Услышав эти слова, Паула поднялась и пошла прочь. Шеннон в бешенстве преградил путь Дамасо. Едва сдерживая себя, оп произнес:
— Ты что, не понимаешь? Между нами ничего не было!
Дамасо расхохотался.
— Тут и понимать нечего! Стоило посмотреть на ваши рожи! Вы только лясы точить мастера, на большее не способны. А на нет и суда нет!.. Я так, припугнул ее немного для острастки, чтобы не забывалась, ясно?
Шеннон в ярости схватил его за ворот куртки.
— Тебя убить мало, сукин сын!
— Ты-то меня не убьешь. Больно уж ты хороший.
Скажи он это с презрением, Шеннон набросился бы на него. Но его голос был так спокоен, в нем звучало такое убеждение, словно Дамасо утверждал неоспоримую истину, и ярость Шеннона сразу я?е улеглась.
— Твое счастье, что я хороший. Да и нет плохих среди нас.
— А если и есть, то уж не ты. Будь ты плохим… Хе! — и он подмигнул, кивнув через плечо туда, где застал их с Паулой.
Шеннон сделал вид, что не понял намека. «Надо либо убить его, либо не обращать на него внимания, иначе он совсем озвереет и возведет на Паулу какую-нибудь напраслину». Так он оправдывал свое поведение, убеждая себя, что именно этот разумный довод его удержал. Однако в глубине души он знал, что Дамасо вынес правильный приговор: он подавил гнев и не убил обидчика потому, что слишком для этого хорош. Стало быть, выхода нет.
Первые стволы сплавного леса вместе с Белобрысым и Балагуром достигли домика на берегу. Кинтин уже договаривался со сторожем, чтобы тот позволил ему принять несколько ванн, пока они здесь пробудут. Сторож не возражал и даже не захотел брать с него денег.
— Чтобы ванны помогли, надо купаться девять дней, — сказал он сплавщику.
— А вдруг помогут! — ответил Кинтин. — Пускай хоть не две, а одну ногу эта вода вылечит! Знаешь, если свершится такое чудо, на будущий год я снова приеду и буду купать другую ногу. И прикажу высечь на стене благодарственные слова.
На домике действительно красовались забавные надписи: «Здесь вылечился Хенаро Гарсия» (подпись заверена печатью, как в нотариальной конторе), «Перед этой водой все воды на свете ничего не стоят». А под ней: «Перед плохим вином эта вода ничего не стоит». И даже славословие в стихах:
Если скован ревматизмом ты от головы до пят, лишь источники Мантиеля от недуга исцелят.— Танцев не будет! — крикнул сынишка сторожа, выскочив из-за деревьев и едва переводя дух.
— Хе! А разве должны быть танцы?
— Вот это я понимаю! — воскликнул Балагур, — Я бы первый станцевал горную хоту с этими дамами.
Старухи засмеялись. Сторож спросил у мальчика, кто ходил за музыкантом.
— А зачем нам музыкант? — подходя, спросил Двужильный. — Обойдемся парой палочек и сковородой.
— Ух, сковорода!.. Да аккордеон Манкильо! Он сейчас живет здесь, в горах, у своего дядьки-лесничего. Увивается за девчонкой, которая привезла сюда лечить мамашу; кажется, ее Агедой зовут…
— Вот это шик! Аккордеоп! — воскликнул Балагур. — Я вижу, тут у вас обслуга на высшем уровне!
— Моя жена приготовила сурру. Два кувшина, — не преминул похвастать сторож. И спросил у сынишки: — А что случилось?
— Манкильо ушел в Саседон и вернется очень поздно. Может быть, даже завтра утром.
— Ну что ж, — смирился сторож. — Раз так, ничего не поделаешь. Оставим сурру на завтра.
— А что это такое? — поинтересовался Шеннон.
— Лимонад. Вино с лимоном, сахаром, корицей и бог знает с чем еще. Сами отведаете. Кто ждет, тот дождется.
И действительно, они дождались. Поздним вечером, после ужина, сплавщики уже во тьме поднялись к дому. Воздух пропитался запахом влажной земли, благоухал древесной смолой, полнился журчанием реки. В дверях вырисовывались силуэты людей. Рядом в кустах слышался смех девушки. «Совсем еще юная, судя по голосу, — заключил Шеннон, — а уже будоражит смехом ночь». Сплавщики прислонили багры к стене и вошли в коридор, по обеим сторонам которого через равные промежутки были двери, словно в монастыре. В конце коридора еще одпа дверь, побольше, вела через кухню в поле. Со стен на почтительном расстоянии друг от друга свисали три светильника. В тусклом свете едва виднелись неясные фигуры. Во всю длину коридора тянулись скамьи. Вот и все.
Все, если не считать толчеи и гвалта. Голоса, голоса и неясные фигуры. Пахло толпой. В глубине коридора жена сторожа накрывала стол скатертью.
— На что нам, скотам, такая роскошь? — крикнул ей Кривой. — Мы все испачкаем!
— Нет, нет. Разве можно оставить стол непокрытым? Мы ведь не в поле.
И, несмотря на предупреждение, она постелила скатерть, а на нее поставила большую оплетенную бутыль и стаканы.
— Ах, так сурра все-таки будет?
— Сегодня сурра, а завтра танцы, — улыбнулась сторожиха. — Она уже готова… Вот у нас и получится два праздника.
— Хватит языки чесать, наливайте, — прокричали со скамей.
Вскоре всех охватило неуемное веселье. И хотя было здесь человек тридцать, дым стоял коромыслом. Взрослые орали, ребятишки шныряли среди них, сплавщики уже позволяли себе разные выходки. Разрядка была необходима людям, которых всегда сдерживают строгие правила, отсутствие воображения, нехватка денег, неусыпная бдительность соседей и страх перед пересудами. И вот теперь, в горах, ночью, они могли позволить себе полюбоваться удалью сплавщиков, которых никто не мог упрекнуть за это, быть снисходительными к несчастным больным, одной ногой стоявшим в могиле, к смеху беззубых стариков и безобидной похоти тех, кто уже ни на что не способен. Разумеется, были здесь и девушки, и парни, но в такой толчее решительно ничего не могло произойти. Судьба даровала им свободу, и они безнаказанно предавались ей, ибо все были заодно.
Еще никогда в жизни Шеннону не приходилось наблюдать столь вольного поведения. Он говорил себе, что глупо было бы соблюдать приличия в этой обстановке средневековых, а то и римских купален с двумя примитивными ваннами, в. этой тесноте, когда все толкутся на одной кухне, на одном скотном дворе. Так и не усвоив правил хорошего топа, они вернулись назад к природе: услаждают желудки пряным вином, — разве не пили такого вина на попойках Чосера? — буйно веселятся, похотливо жмутся друг к другу, кричат, шумят, ликуют тем ликованием, которому с непостижимым постоянством хоть на мгновение предается бедный люд в этой бренной жизни.
Старики делились воспоминаниями; две или три девушки отбивали в углу атаки Белобрысого и еще нескольких сплавщиков; Сухопарый ухаживал за какой-то замужней женщиной, сопровождавшей больного отца; остальные просто пили вино; Шеннон наблюдал за происходящим, и сторож с женой спокойно смотрели на все это, уже давно привыкшие к подобным сценам. Паула не пришла: она осталась в лагере вместе с Горбуном, предпочтя спать под открытым небом. Антонио немного задержался, но вскоре присоединился к компании, пившей вино, сначала окинув общество настороженным взглядом. Наконец Кинтин завладел вниманием. Он отпускал шутки и прибаутки, а ему шумно аплодировали. Какой-то старец, глядевший молодцом на фоне еще более дряхлых стариков, вдохновился успехом Балагура и заявил, что хочет устроить представление. Он скрылся в одной из комнат, предварительно пошептавшись со сторожихой, которая что-то дала ему, и довольно долго продержал публику в неведении. Вдруг дверь приоткрылась и оттуда донеслось:
— Тилин-тилин-тин! Занавес открывается.
Оп вышел на середину коридора. Штаны он закатал до колен; из-под них виднелись длинные носки, вроде тех, что носят в Астурии; пиджак снял, а на голову нахлобучил колпак из газеты, похожий немного на охотничью шапочку. Под мышкой он держал маленькую цветастую подушку, во рту — палочку вместо свирели.
Какой-то мальчишка с удивлением спросил:
— Бабушка, а кем он нарядился?
— Дядюшкой виноградарем, глупый, — ответила старуха, без сомнения немало повидавшая на своем веку.
И действительно, артист объявил:
— Сеньоры, сеньориты и прочие… Сейчас я спою вам песню «Волынщик из Хихона». Ее сочинил дон Мануэль де Кампоамор.
Как шумно ликовали все, как хлопали, когда представление было окончено. И где он так хорошо выучился? «В армии, — скромно ответил старик, — к тезоименитству короля». Снова ликование. По тут сплавщики разом задули три светильника, и все вокруг погрузилось в темноту. Раздались крики, хохот, женский визг. Пока жена сторожа ходила за огнем на кухню и пыталась зажечь светильники, Шеннон, улучив минуту, вышел в поле.
И сразу ощутил ночную свежесть, благоухание, шорохи, извечный покой природы. Все то, что останется, когда эти голоса, заглушающие друг друга, навсегда уйдут в прошлое.
Оп спустился к реке, которая несла свои темные воды, освещенные слабыми бликами едва народившегося месяца. От костра в лагере остались только тлевшие в золе угли. Лоли, собачонка сплавщиков, проворно вскочила и навострила уши, но, почуяв своего, снова улеглась. Шеннон сел у догоравшего костра и стал смотреть на слабые отблески углей, падавшие на спальный мешок, в котором спала Паула. Он все смотрел и смотрел, дав полную свободу своим чувствам и мыслям. Ему хотелось, чтобы решение, которого он еще не принял, созрело само. Но так ничего и не решив, закутался is плед и уснул.
В самом ли деле он не принял решения? Вечером следующего дня Шеннон спросил у Обжорки, где Паула.
— Пошла вниз, к часовне. Ее здесь называют «Божья матерь Надежды».
Сердце Шеннона забилось. Часовня!.. Она всегда играла важную роль в его жизни. Часовня в Италии, часовня в Буэнафуэнте и вот теперь часовня Надежды.
Надежда! Он опрометью бросился вдоль реки, к немалому удивленнию Обжорки, и даже не подумал о том, какие толки это может вызвать. Нельзя терять ни минуты, если все уже не потеряно безвозвратно… Может быть, его вдохновляло слово «Надежда». Он мчался, выискивая дорогу среди скал, обогнав передние стволы сплавного леса, немало озадачив Балагура, и жадно глядел по сторонам.
Наконец он увидел часовню: белую, полускрытую листвой. Да, конечно, это часовня, на ней — крест. Но стоит она на противоположном берегу.
Их разделяет река… Как он не подумал об этом? Неужели это знамение, неужели ничего не поправить? Вдруг до него донесся смех Паулы, и, совсем потеряв голову, он вошел в воду.
— Зачем? — испуганно крикнула она. — Иди к мосту!
Чуть ниже по течению он увидел мост. Всего в каких-то двухстах метрах. Добежав до моста, он перешел на другую сторону и стал подниматься вверх… Паула смеялась, стоя возле часовни. Смеялась, словно девчонка. Две женщины в трауре, которые пришли сюда молиться из соседней деревушки, посмотрели на них с удивлением. Шеннон пытался оправдать свой нелепый поступок.
— Мы испугались, думали, ты свалилась в реку… — Но тут он вспомнил, что то же говорил накапуне Дамасо. — Мы думали…
Оп умолк, не зная, что сказать, и с облегчением видя, что женщины в трауре удаляются вверх по дороге. Теперь у часовни они были вдвоем; почти так же, как тогда. Паула, заметив его смятение, перестала смеяться.
— Я смешон, наверное? — сказал он наконец.
— Ты о чем?
— Знаю, смешон… Понимаешь, ночью я думал… я думал… я знаю, думать не надо, но такой уж я есть… Вчера ты не ответила на мой вопрос, помнишь?
— На какой, Ройо?
— Когда ты мне все рассказала. Все, все! Ты по ответила, помешал Дамасо… Скажи, что ты собираешься делать? Что ты станешь делать, когда мы доведем лес до Аранхуэса?
Паула погрустнела.
— Не знаю. Пока я здесь, я ни о чем не думаю.
Шепнои вздрогнул. Он вдруг почувствовал, что решение созрело.
— Послушай, Паула, и пойми… Я… Со мной тебе не придется ни о чем думать, ни о чем заботиться… Я… Я мог бы быть тебе полезным?
— Ройо! — удивленно воскликнула она.
— Погоди, не отвечай. Я знаю, что ничего не стою. Рядом с этими людьми я такой никчемный. Но, клянусь, с тобой я стану другим — цельным, настоящим, как земля, как камень, как Американец или Сухопарый. Это трудно. В мире, где я жил, учат многое делать, но не учат быть кем-нибудь. Я такой же, как другие, и если ты поможешь мне… Не отвечай сразу… Может, ты не совсем понимаешь меня, но поверь: рядом с тобой я стану человеком, настоящим, как камень, как дерево. Я это чувствую. Благодаря тебе я узнал, что такое смерть и хлеб, смех и нож. Что мои прежние страдания перед нынешними! Теперь я страдаю из-за того, ради чего стоит страдать: ради тебя, ради женщины, единственной женщины, Паулы…
Опа отступила на два шага и села на каменную скамью часовни, устало сложив руки на коленях, как в тот раз. Шеннон не двинулся, он все говорил:
— Я знаю, ты не понимаешь меня, мои слова кажутся тебе пустыми, но это не так… Я говорю правду… Поверь мне, Паула, и скажи… Скажи «да».
Паула медленно подняла глаза. Брови ее печально нахмурились, слегка сжатые губы приобрели детское и вместе с тем женственное выражение.
— Я очень хорошо понимаю тебя, Ройо, хотя не смогла бы объяснить так, как ты. Я очень благодарна тебе, пойми… И никогда тебя не забуду, никогда… Но пас многое разделяет… Это я ничего не стою… Ты ошибаешься… — Шеннон, не в силах вымолвить ни слова, замотал головой. — Да, да, то, о чем ты говорил, произошло и со мной: только я думала, что та жизнь была настоящей, а теперь не хочу о пей даже вспоминать… Я… Вот увидишь…
— Нет, — раздумчиво произнес Шоннон, — я не ошибаюсь. Это верно, мы очень разные, но я стану таким же, как ты. Ты поможешь мне. Я чувствую, что во многом уже изменился. И уверен, что не ошибаюсь… Нет, нет, я не ошибаюсь!.. Но, — голос его пресекся, — это ничего не значит…
— Ройо!
— Не утешай меня… Я хочу знать правду. Какой бы она ни была.
Он замолчал. Посмотрел на белую степу, окошко в дверях, открытое мольбам… Откуда-то, словно издалека, на память пришло название часовни. Он снова заговорил:
— Скажи мне только: ты думаешь о ком-нибудь еще? Может быть, о том, из Куэнки?..
Паула презрительно покачала головой. Шеннон отважился улыбнуться, но это ему не удалось.
— Тогда у меня остается надежда… Не правда ли, только она остается у тех, кто гибнет?.. Нет, нет, молчи, — поспешно перебил он Паулу, собиравшуюся что-то сказать, — не говори ничего. Оставь мне хотя бы надежду… А теперь позволь мне уйти, я хочу побыть один…
Отойдя довольно далеко, он оглянулся. Маленький неясный силуэт вырисовывался на фоне крошечной часовни. Разве не такой же неясной была его надежда? Ему стало грустно. Он еще раз окинул взглядом часовню и девушку. Неужели в этой крохотной фигурке заключен весь мир, весь его мир! Она тоже смотрела на пего, слегка склонив голову; на лице ее застыло выражение печальной и покойной жалости. «Да, именно жалости, — подумал Шеннон. — Но никоим образом не жестокости», — уточнил он, чтобы надежда не исчезла.
Шеннон махнул рукой и пошел вверх по течению.
Она видела, как он уходил и, наконец, скрылся. «Возможно, вместе с ним уходит и надежда, — подумалось ей. — Но, пожалуй, это справедливо только для пропащей женщины. А вот Ройо… Как жестока жизнь! Он слишком хороший, таких мужчин уже нет…» Если бы она могла ответить ему… Но разве она могла? Почему она по ответила в Буэнафуэнте? И потом, несмотря на ту встречу, она бы его не обманула… «Нет, нет, Пресвятая Дева!» — содрогнулась она. Ройо получил бы ее, но она бы зачахла. Нет, никогда! Прежде она могла бы, не покривив душой, сказать ему, что не думает ни о ком другом! А теперь…
Она вздохнула. Солнце склонялось к закату, тени опускались в теснину, сливались с рекой и растворялись в пей. Паула зябко поежилась, хотя было тепло. Оберпулась к окошку часовни и еще немного помолилась перед божьей матерью Надежды, уже невидимой в глубине часовни. А затем тоже направилась вверх по реке.
И вдруг остановилась как вкопанная, задрожав всем телом. Ей что-то почудилось. Возможно, то был плод мучительного обманчивого воображения? Нет. Сам Антонио появился перед ней внезапно, как и в первую их встречу: такой же дерзкий, так же презирающий людские обычаи. И, как в тот раз, он улыбался, грызя стебелек своими белыми зубами. Его взгляд словно пронзил ее.
Да, это был он, это его голос: спокойный, уверенный.
— Ты не должна разговаривать с ним… Ты же знаешь…
Опа радостно вспыхнула. Но все еще не верила своим глазам. Это сон… да, это сон…
— Но, Антонио…
— Говорить ты можешь только со мной.
Он сделал несколько шагов и совсем приблизился к ней. Видение двигалось, от него исходило жаркое тепло… Это сон… сон…
— Разве ты не знаешь, что ты моя? Разве ты этого не знаешь?
Его слова были точно выстрелы. Точно вспышки фейерверка. Они били в самую цель.
Он притянул ее за плечи своими сильными руками, которые жгли огнем и уж никак не могли сниться, потому что мужчина рядом с женщиной — что угодно, только не сон. Боль, наслаждение, насилие, смерть, спасение, но не сон! Откинув назад голову, Паула прошептала:
— Я не могла поверить…
Она увидела его улыбку, стебелек, выпавший изо рта, губы, тянувшиеся к ней, и зажмурилась. Он вдыхал, всасывал, наслаждался. А она все крепче и крепче закрывала глаза, чтобы это никогда не исчезло… И вдруг что-то вспомнила — что-то давно ушедшее, чужое, уже не имеющее к ней никакого отношения, о чем она должна ему рассказать. Она опустилась на колени, и он опустился вслед за ней, повторяя:
— Овечка… Сейчас ты будешь моей.
— Нет! — крикнула она испуганно. — Выслушай меня прежде! Ты ничего обо мне не знаешь… не знаешь, какой я была!
Стоя рядом с ней на коленях, он обнимал ее.
— Пусти… Потом я уже никогда не смогу рассказать… Ты будешь думать, что я обманула тебя…
Он хотел побороть ее, одолеть, и, потеряв равновесие, оба упали на траву. Она задыхалась. Ах, какие у него руки! Неистовые, горячие, они уже овладевали ею. Глаза проникали в самую глубь души, губы, словно угли, обжигали шею, уши, лоб.
До них донесся откуда-то еле слышный голос:
— Паула!..
Оказывается, в мире, кроме них, были еще люди!.. Ей удалось высвободиться. Она вскочила на ноги. Он поднялся вслед за ней, не переставая твердить:
— Сейчас… Убью, кто бы ни пришел…
Но Паула уже была непоколебима, как скала. Она твердо возразила:
— Пусть будет так. Мы не имеем права обманывать их: ни ты, ни я. Они приютили нас обоих.
Антонио нахмурился.
— Их? А может быть, кого-нибудь одного?
Она засмеялась, словно безумная, беззвучным смехом. И, обняв, поцеловала застывшего в неподвижности мужчину.
— Ну вот. Чтобы ты не сомневался. Пусть все видят! — проговорила она и стала ждать, когда голос приблизится. Теперь он доносился отчетливо. Это был голос мальчика.
— Лоренсо! — окликнула она.
И, обернув к Антонио сияющее лицо, сказала:
— Пусть будет так. Прежде я должна рассказать тебе все, и если ты меня любишь, тогда…
Он улыбнулся и обнял ее.
— Любят не словами…
Потом, сорвав новый стебелек, выпустил Паулу из объятий.
Из-за кустов выскочил Обжорка. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился и бросил на них подозрительный взгляд.
— Что же это ты! — он перевел дух. — Не слыхала? Тебя все ищут.
— Я тоже искал ее, — сказал Антонио. — Но раз пришел ты, мое место рядом с Сухопарым. Помогу ему сцеплять стволы.
Обжорка посмотрел вслед уходящему и ревниво спросил:
— Он к тебе приставал, Паула? Почему ты такая растрепанная?
Опа поправила волосы.
— Ветка задела, когда шла по тропе.
— Ты вся дрожишь.
— Холодом повеяло с реки.
— Ты обманываешь меня, Паула.
Как ни была взволнована Паула, она услышала в голосе мальчика недетскую настороженность и поняла, что чутье Лоренсо может ее разоблачить. Желая пресечь дальнейшие расспросы, она сказала:
— Что ты говоришь, дурачок!
И притянула было к себе, как делала не раз, когда хотела обуздать ого, подчинить своей воле. Но недоверчивость подростка оказалась сильнее, чем у взрослых.
— Ты покрываешь его, потому что ты очень добрая и боишься причинить ему вред. Но если он еще станет приставать, скажи мне.
Паула посмотрела на мальчика. Нет, он не был сметой в своем порыве. Скорее трогателен, как всякий слишком рано повзрослевший ребенок.
— Что ты уставилась на меня? Конечно, в драке мне его не одолеть, но я запущу в него камнем со скалы… И если я не проломлю ему башки, его прикончат наши, когда узнают…
Да, это была правда, страшная правда. Никакая осторожность не сможет предотвратить беду. Нужно удержать Антонио от опрометчивого шага и самой быть очень осторожной, надо уберечь его, смотреть за ним… Волна материнской нежности захлестнула ее и, переполнив сердце, излилась на мальчика. Паула обняла его. На сей раз он ее не оттолкнул.
— Ты уже совсем взрослый, Лоренсо.
— А что поделаешь! — ответил он наивно. — С таким отцом, как у меня…
Ей стало от души его жаль.
— Но ведь у тебя есть я, верно?
Вместо ответа мальчик поцеловал ей руку. Она погладила его по голове, и они дружно зашагали в лагерь. Слезы выступили на глазах у Паулы. Ей хотелось побыть одной, выплакать свою радость. Но она боялась навлечь на себя подозрения. Если Дамасо пронюхает… Если они хоть чем-то выдадут себя… Если их заподозрят… А как не выдать себя? Это очень трудно!
Но нужно. И в тот же вечер Паула решила идти на танцы. Правда, это было небезопасно, так как все сплавщики обещали танцевать с ней.
Однако придя на танцы, Паула сразу успокоилась. В темноте, царившей вокруг, она могла предаваться своей радости, не привлекая особого внимания. Вдруг чья-то дерзкая рука стала задирать багром девичьи юбки, а из фляги брызнула струя лимонада. Брызги попали на раскрасневшееся лицо одной из танцующих девушек; ее партнер осмелился слизнуть капли языком — не пропадать же райскому напитку! — за что и получил пощечину. И поделом!
Аккордеоп играл и играл, при свете керосиновых ламп кружились пары. Старики не отставали от молодых, а какая-то пара шестидесятилетних даже потребовала вместо танца «в обнимку» сыграть «вольную» хоту. И станцевала ее.
Глаза разгорались все больше. В убогом домишке среди маленьких гор маленькой страны, расположенной на маленькой планете, жалкая горстка людей — несколько из миллионов — штурмом захватила центр вселенной и хоть на время потрясла его своим неуемным весельем.
Только Шеннон не веселился, сам себе вынеся приговор. Вспомнила ли о нем Паула? Сплавщики объясняли его отсутствие тем, что он чужого племени. А он смотрел на реку и ждал, когда шум, погружавший его в безмолвие, отворит двери, и думал о том, что суета эта недолговечна, что боль и разочарование стерегут на любом пути и глупо ждать людской защиты под зыбким кровом необъятной ночи, холодной и равнодушной природы. Тщетно пытался он увидеть в этих людях овечек, предающихся буйному веселью и не подозревающих о бойне, тщетно пытался растрогаться их жалкой радостью. Он уже не испытывал сочувствия ни к кому, а искал его для себя, даже тогда, когда губы его с отчаянием повторяли: «Надежда».
12 Энтрепеньяс
От грохота отбойных молотков содрогалось все ущелье. Он отдавался в горах, вспугивал птиц, проникал в поры зайцев и ящериц, оглушая окрестности, истязая пространство, словно гигантская бормашина. Стальные стержни буравили скалу, немилосердно разрушая се, и жестокость их была слишком вопиющей рядом с кропотливейшим, ювелирным трудом реки, веками прогрызавшей теснину. Люди всей грудью налегали на рукояти, и мощное содрогание отдавалось в их телах, даже лица их дергались. Хотя машина призвана служить человеку, всякий раз, когда он впрягает ее в работу, страдания его во сто крат сильнее, чем муки стали, преодолевающей сопротивление. Пыль обволакивала людей, липла к их одежде, к лицам, измазанным жирной породой. И они стирали вместе с потом эту жирную замазку, с которой свыклись, но которую люто ненавидели, как ненавидят клеймо.
Бригада забойщиков вела начальные работы на строительстве водохранилища Энтрепеньяс.
Издревле в этом узком ущелье люди ставили преграды. На этом месте стояли арабские водяные мельницы, а может, еще и римские. Позже здесь были оросительные рвы мельниц средневековых и сукновальни торговцев сукном из Пастраны и Бриуэги. Когда появилось электричество, стали нужны новые, более мощные плотины. И теперь здесь осуществлялся грандиозный проект: создавали искусственное озеро до самого Дурона, а может быть, и дальше. Люди задавались вопросом: какие селения снесут, а каким все же удастся уцелеть.
На самой вершине холма велись подсобные работы. Здесь были землечерпалки, дробилки, осадочные машины, песочные сеялки; монтировались рельсовые кладки и ленточный транспортер для бетона. На склоне противоположного холма вытянулись в ряд рабочие бараки, продуктовые лавки, конторы. Узкая рельсовая колея открывала путь к насыпям и скрипела под вагонетками. Металлический трос, протянутый с одного холма на другой, перемещал но воздуху рабочих и строительные материалы. А внизу, возле старой плотины, уже готовы были огромные котлованы для кладки фундамента. Народ со всей округи приходил сюда и, пораженный, смотрел на эти работы, спрашивая себя, не грозит ли их жизни такое преобразование реки. Находились и пессимисты, и оптимисты. Но даже оптимисты, глядя на это дикое ущелье — место былых пикников и прогулок, связанных с трогательными воспоминаниями, — думали о том, что, возможно, видят его в последний раз. Вот почему они не замечали экскаваторов и бурильных машин, которые с лязганьем и рычанием вгрызались, раздирали, терзали долину, чтобы убить в ней все звуки, даже пение птиц.
Для забойщиков же все звуки сливались воедино, едва лишь копчиком отбойного молотка они касались скалы. С этой секунды они ничего не слышали, кроме грохота. Часами склонялись они над молотками, словно пулеметчики, обстреливающие стену, а молоток то оглушительно стучал, то подчинялся более спокойному ритму компрессора. Люди работали в поте лица, время от времени устраивая перекур и проклиная все на свете. Они не разговаривали, не пели: этот механический мир слишком затруднял общение во время работы, нарушаемой лишь приказами да проклятиями.
Наконец бригадир забойщиков взглянул на ручные часы. Остальные посмотрели вверх. Возле домика, где находилась контора, на столбе подняли выцветший флажок. Мотор компрессора сразу заглох. Забойщики побросали на землю молотки. Наступил перерыв на обед. Маркос вытер потное лицо.
— Проклятье! Ну и жарища!
— Сними куртку, — посоветовал ему один из рабочих, отряхивая белесую каменную пыль.
— Вечером окоченею. Или этот проклятый горный ветер продует так, что схватить воспаление легких.
— В больнице хоть отдохнешь. В паше время, когда лечат сульфадимезином… — вмешался третий.
— А что, неплохая идейка! Хоть так передохнуть… Ну и глухомань, черт бы ее побрал!
— Хватит ныть! Погода хорошая. По субботам нас возят в Саседон. Там и суд свой есть, и прочее.
— Это верно. Я и забыл, что должен набить рожу хозяину бара.
— Ты ему врежь, но не очень сильно, — посоветовал кто-то из забойщиков, стоявших у Маркоса за спиной, — Оставь его на развод… А то некому будет детей плодить…
— Это и мы можем, — засмеялся Маркос. — А что там еще делать, если не затеять драку? Бабы там — одно название!
Забойщики медленно карабкались по выступам. Один из них, соскользнув, скатился вниз на несколько метров и встал на четвереньки. Мужчины расхохотались.
— Ну и малютка! Смех на тебя смотреть, — крикнул Маркос.
Упавший встал. Он был узкогрудый, с ввалившимися щеками. Угрюмо взглянув на бригадира и ничего не ответив, он стал снова карабкаться вверх.
— Вот это новость! — опять крикнул Маркос, взглянув через старую плотину на реку. — Посмотрите-ка!
Из-за излучины выплывали стволы. Их становилось все больше и больше. Это не были вырванные с корнем деревья, которые иногда сносит течением.
— Сплавной лес, — сказал кто-то.
— Неужели до сих пор сплавляют по реке? — презрительно спросил Маркос. — Столько отличных грузовиков… Вот отсталость-то. Я думал, такое увидишь только в кино.
— Да что ты! По Тахо до войны каждый год сплавляли… И, как видишь, по сей день сплавляют… Но, надо полагать, это уже в последний раз, из-за плотины, — заключил самый пожилой из забойщиков.
— И находятся дураки на такую работу? Наверное, совсем неграмотные…
Сплавщики с удивлением разглядывали стройку. Но она мало беспокоила их. На пути им нередко встречались мельницы и плотины, и они обходили их стороной по спокойным водам маленьких оросительных каналов или же больших, таких, как Боларке. По ним даже легче сплавлять, чем по старому руслу реки. Стоило только сделать запруду перед входом в капал. Но эта плотина будет самой большой из всех. И какая высокая!
Первые стволы еще только подплывали к шлюзу по медленным спокойным водам, а Сухопарый, Американец и еще два сплавщика уже приготовились направлять бревна к маленькому каналу, но вход туда оказался завален строительным мусором — щебнем и камнями.
— Черт бы их побрал! — выругался Сухопарый.
Мимо них рабочие шли на обед к большому бараку.
Остановившись, они с презрительным любопытством разглядывали сплавщиков. Американец подошел к ним.
— Добрый день, — сказал он, — Где мне найти инженера?
— Инженера? А кто вы такой?
— Инженер в Мадриде, приятель. Он вас сегодня не ждал.
— Ну, тогда кого-нибудь из начальства, хоть управляющего, — продолжал Американец, делая вид, что не замечает их иронии.
— Что ж! — ответил здоровенный детина в кожаной шапке. — Раз надо, уважим друга!
— Маркос вылез, — шепнул кто-то. — Вот будет потеха, посмеемся мы над этой деревенщиной.
Американец не сводил глаз с мужчины в кожаной шапке. Верхняя его губа едва заметно дрогнула; сверкнул золотой зуб.
— И я тебе не друг, и ты мне не начальник.
— Вот смех-то! А ты почем знаешь?
— Начальник должен разбираться в людях. Как я.
Бригадир не знал, что ответить, и обозлившись, закричал:
— Это еще посмотрим! И все-таки тебе придется сказать мне, чего ты хочешь!
— Не возражаю. Я хочу, чтобы вы очистили этот капал.
— Слышали, ребятки? А ну-ка, бросайте стройку и повинуйтесь начальнику. Ему, видите ли, надо, чтобы этот канал был чист!
— Вот именно, приятель, — ответил Американец, и в голосе его еще сильнее зазвучал чужеземный акцент. — Капал судоходный, и тот, кто ведет на реке работу, обязан позаботиться о том, чтобы он был в полном порядке.
— Да ну! Выходит, компания каждый день должна расчищать его специально для тебя?
— Конечно.
— Слыхали? — повторил детина, и вдруг его зубы ощерились в усмешке. Ему в голову пришла идея, показавшаяся очень смешной, и он не замедлил высказать ее Американцу: — Чтобы вы могли туда мочиться?
Но смех его сразу же оборвался. Американец схватил его за куртку, и бригадир взмыл вверх, подхваченный баграми трех сплавщиков.
— Всыпь ему как следует! Мы здесь! — заорал Сухопарый так громко, что на минуту все застыли.
Но тут раздался другой голос, который мигом охладил разгоревшиеся страсти.
— Мир вам, братья!
То был голос монаха. Неужели эти тихие, смиренные слова услышали люди, охваченные яростью? Как этот голос проник в человеческие души? Было удивительно, просто невероятно, что призыв к миру прозвучал в самый разгар ссоры, которая могла кончиться дракой! Но как бы то ни было, голос этот остановил насилие. Уже потом, гораздо позже, Американец, вспоминая этот случай, думал: «Странно было не то, что мы его услышали. Странно было бы не услышать его». Откуда вдруг взялся этот монах, выросший словно из-под земли, — тщедушный, с тонзурой, в буром одеянии францисканцев, в сандалиях на босу ногу? Засунув руки в рукава, он стоял, словно статуя святого, у парапета старой плотины, у самого входа в канал, забитый стволами, а рядом с ним другой монах с дорожным посохом в одной руке и небольшой сумой для подаяния в другой. Монахи совсем не походили друг на друга: тот, что говорил столь проникновенно, был как-то четче, рельефнее, весомей, несмотря на свою хрупкость. В сравнении с ним его спутник выглядел тусклым, словно все видели его сквозь кисею. Несмотря на то что он был гораздо дороднее, лицо его и одеяние казались бесцветными и невыразительными. На самом деле было не так, но у Американца почему-то сложилось именно такое впечатление.
— Мир вам, братья… — снова повторил монах.
Американец выпустил из рук детину, позволившего себе нанести ему оскорбление. Маркос готов был снова полезть на рожон, но монах подошел к нему. Спустился он или спрыгнул? Американец не мог этого сказать.
— Подайте, Христа ради! Мы монахи из Пастраны, у нас ничего нет.
— А что вы здесь делаете? — язвительно спросил Маркос, словно желая отделаться от странного чувства, Охватившего его.
Монах отвечал все с той же невозмутимой кротостью:
— Готовимся в мир иной…
— Ого! В мир иной… А может, его и нет?
— Если нет мира иного, то нет ничего. Разве на земле жизнь? Разве мы не идем к смерти? — улыбнулся монах.
— Святая правда, — пробормотал Кривой.
— Братья, — сказал артельный, — если вы пойдете вверх по реке, мои люди дадут вам что-нибудь, хоть мы и бедны. Идите туда, здесь вам небезопасно оставаться.
— Все мы бедны в этом мире, и нет такого места на земле, где бы человек был в безопасности, — ответил ему монах. — На всем око божье. Неужели вы станете обрекать себя на вечные муки из-за нескольких камней? Камни тоже благи! Они творенье божье, агнцы божьи.
Монах взглянул на небо и направился к заслонке водоспуска. Его товарищ безмолвно последовал за ним; остальные, словно зачарованные, провожали их взглядом. Что он мог сделать один, если ржавый железный механизм приводили в движение два здоровенных мужика? Да и камни, завалившие канал… Но монах схватил правой рукой колесо и стал крутить его, все так же улыбаясь. Толстая заслонка медленно поднялась, а затем стремительно отскочила. Вода хлынула, увлекая за собой камни и очищая русло. Путь стволам был свободен.
Все оказалось очень просто! Люди не могли прийти в себя от изумления.
— Чудо! — вдруг прокричал Четырехпалый и, бросившись к монаху, опустился перед ним на колени. Но монах велел ему подняться.
— Не думай лишнего, не ищи лишнего, не суди поспешно, — произнес он, пристально глядя на сплавщика. А затем продолжал смиренным топом: — Все на свете чудо. Братец камень — чудо, и сестрица река — чудо. Каждый человек — тоже чудо.
— Никакого чуда нет! — возразил бригадир. — Просто камни смыло водой, вот и все.
— Правильно, — согласился монах, посмотрев на рабочего. Но потом широко открыл глаза и пристально вгляделся в него, словно увидел нечто странное. На лице монаха отразилось глубокое сострадание, и он проговорил: — Не презирай камни. Люби их. Ведь может случиться, что камни, которые ты разрушаешь, прогневаются однажды и покарают тебя.
Наступила мертвая тишина. Монах обернулся к Американцу.
— Спасибо тебе за твое милосердие. Мы пойдем вверх по реке и будем помнить твою доброту. — Затем, повернувшись ко всем, поднял руку. — Отец наш, святой Франциск, благословляет вас всех. — Он вскинул руку еще выше. Четырехпалый снова опустился на колени. Осенив всех крестным знамением, монах сказал на прощание: — Мир вам.
И пошел в ту сторону, куда ему указали сплавщики. Его товарищ все так же безмолвно последовал за ним. Сплавщики и рабочие стояли не шелохнувшись. Первым пришел в себя Американец.
— Закрой заслонку, Сухопарый, — распорядился он. — Иначе до утра вытечет много воды, а нам это не нужно. Потом идите в лагерь.
И бросился вдогонку за францисканцами как раз в ту минуту, когда кто-то сказал бригадиру, что и забойщикам не мешало бы подать милостыню монахам. Добежав до поворота, за которым скрылись монахи, Американец с удивлением обнаружил, что они ушли довольно далеко вперед. Было удивительно, почти невероятно, что эти люди, неуклюжие в своем монашеском одеянии, могут идти с такой скоростью. Он попытался догнать их, но не смог и тогда решился окликнуть:
— Братья!
Монахи оглянулись и подождали, пока он подойдет. Американец, запыхавшись, остановился перед ними. Тщедушный монах улыбался и словно стал еще прозрачнее. Глаза у него были удивительные, серые, чистые.
— Тебе что-нибудь надо?
— Мне…
Американец умолк в замешательстве. Он уже не помнил, что побудило его броситься за ними вдогонку; не помнил даже, был ли для этого вообще какой-нибудь повод. Опустив голову, он тихо пробормотал:
— Не знаю.
И как ни напрягал память, вспомнить не мог. Все больше смущаясь под взглядом монаха, он повторил:
— Не знаю… Простите меня, я задержал вас, а зачем — не знаю.
— Так бывает со всеми нами, брат мой: мы не знаем, чего хотим… Всю жизнь боремся, играем поневоле в какую-то детскую игру…
— В детскую игру… — повторил за ним Американец.
— Страдаем из-за пустяков, — продолжал монах, — пока пас не призовут в дом, где вершатся серьезные дела… И сочувственно заключил: — Ты не знаешь, чего хочешь, не знаешь, чего тебе хотеть, и устал. — Он замолчал, перестал улыбаться и тут же убежденно прибавил: — Но скоро ты узнаешь. Рано или поздно — узнаешь. Ты будешь с птицами и обретешь мир.
— Мир? — взволнованно переспросил Американец.
Монах молча кивнул.
— Отец, я хотел бы исповедаться. Сейчас.
— Я не священник, брат мой, — кротко ответил монах, — Могу ли я еще чем-нибудь помочь тебе?
— Нет, больше ничем, — пробормотал Американец, — Нет, нет… Как вас зовут?
— Брат Хустино, — улыбнулся монах, — Да благословит тебя бог.
Американец смотрел, как они удаляются легкой, непостижимо быстрой поступью. Даже белый шпур, которым они были подпоясаны, не колыхался. Он опустился на камень и так сидел, погруженный в мысли, сам не зная о чем, пока наконец не пришли три сплавщика.
Сухопарый вместе с Кривым закрыли водоспуск. Забойщики ушли обедать. Тихо и мирно. По-хорошему… Заметил ли Американец, какие странные были эти монахи? Да, заметил. Четырехпалый больше не заговаривал о чудесах. Он шел молча, против своего обыкновения.
Вскоре они пришли в лагерь. Там была только Паула. Да, совсем недавно приходили два монаха. Она дала им немного хлеба, и они сразу же ушли. Больше они ничего не захотели взять. Нет, она не заметила в них ничего особенного.
Но вечером, отвечая на настойчивые расспросы Американца, она призналась:
— Да, они и в самом деле показались мне странными. Один все время молчал, а другой…
— Маленький, да? Что же он?
— Сказал обо мне то, чего никто на свете не знает. Никто. Потом благословил меня и утешил… Кто он, Франсиско?
Артельный ответил не сразу:
— Брат Хустино… Его зовут брат Хустино.
13 Ангикс
— Лучший глоток вина за весь путь, — убежденно заявил Сухопарый, — мы выпьем в этом доме. На этой земле только оно чего-то и стоит. Потом, когда мы спустимся в Ла-Манчу, оно будет хуже, вот увидишь. А здесь…
Он шел с Белобрысым по пыльной тропе; по обеим сторонам рос уже довольно высокий чертополох. После Энтрепеньяса сплавщики без особого труда добрались до Боларке и теперь, остановившись у подножия замка Ангикс, послали Сухопарого за вином в «дом монахов». Так называли замок.
— В старые времена здесь была монастырская ферма, — объяснял Сухопарый своему спутнику. — Монахи, наверное, знали толк в вине и вывели замечательные сорта винограда. Потом усадьбу купил какой-то знатный сеньор. Постепенно семья его вымирала и здорово поубавилась. От возделываемых земель осталась только вой та — видишь круглые пятна на холмах? — и еще по ту сторону склона. Из этого винограда они и делают вино. Будь эти виноградники мои, уж я бы знал, как выжать из них денежки… А может, и сам все выпил… — засмеялся он. — Невезучие какие-то эти сеньоры, все-то у них не ладится. Парней наймут — те их облапошат; девок — те их обвесят… Живут вдвоем: полуслепая старуха да ее нерадивый сынок… Запустение полное! Зато вино!.. Сам увидишь! Наверное, такое же, как было при монахах! Говорят, в холме за домом винные погреба, он весь изрыт тоннелями, прямо как мадридское метро.
Так, болтая и потея от жары, они незаметно дошли до арки в глинобитной стене. Над ней, в нише, виднелось изображение святого Мартина Инохаского — покровителя монашеской фермы. Они пересекли широкий патио, и вдруг Белобрысый, кивнув на цветы, полосой тянувшиеся вдоль ограды, с удивлением воскликнул:
— А ты говорил, здесь запустение!
— Черт возьми! Уж не продали ли они усадьбу? — Увидев свежепобеленные стены, Дамиан еще больше изумился: — Точно, продали!
Но окончательно он был сражен, когда на пороге дома появилась женщина. На Белобрысого она тоже произвела сильное впечатление. Как она не походила на жительниц гор! Невысокая, хорошо сложенная, пухленькая, крепенькая, точно куколка, с белокурыми волосами и светлыми глазами. Кожу ослепительной белизны оттеняла веселая расцветка платья из набивной ткани, поверх которого был падет белоснежный передник. Вся она так и сияла чистотой и опрятностью, отнюдь не свойственными уроженкам этих мест.
— Добрый день, сеньорита, — наконец поздоровался Сухопарый, поднося руку к сомбреро. — Вы купили этот дом?
— Нет, я жена хозяина.
— Фе… Федерико?
— Его самого.
— Черт возьми! А где же ваш муж? Я хотел бы его поздравить!
Женщина улыбнулась. У нее оказались остренькие, как у кошечки, зубы, наводившие на мысль о том, что под видимой кротостью, почти безмятежностью, скрывается нечто иное. От улыбки на ее щеках заиграли хорошенькие ямочки.
— Он спустился в Гвадалахару уладить кое-какие дела… А что вы хотели?
— Да так, зашли промочить горло. Каждый год мы оставляем багры на берегу и приходим сюда за вином.
— Ну что ж, милости просим. Я вам продам. Многие приходят сюда за вином. А что в нем особенного?
Она провела их в сени. Мощеный пол Сухопарый еще никогда не видел таким чистым. Полки для кувшинов сверкали, рядом выстроилась в ряд фаянсовая декоративная посуда — незамысловатая, весело сияющая глазурью.
— Вот это да!.. Сразу видать, что в этом доме не хватало хорошей хозяйки! Такой, как вы! У вас золотые руки! Вот бы мне такую хозяйку, не в укор будь сказано моей Энграсии!
Женщина засмеялась. Она усадила их за чистый сосновый стол, над которым висела тщательно привязанная к стропилу липучка без единой мухи.
— Господи Иисусе! Ну и болтун же вы! — воскликнула она и, обернувшись к Белобрысому, с улыбкой спросила: — А вы немой?
— Что вы! — ответил за него Сухопарый, — Просто он никогда не видел таких женщин, вот и онемел.
Женщина скорчила недоверчивую гримасу и, проходя мимо Белобрысого, притворно шарахнулась в сторону. Тот проглотил слюну и выдавил из себя несколько слов, стараясь говорить сипло, чтобы казаться солиднее.
— Это верно, я еще никогда не встречал таких женщин, как вы.
— Спасибо за комплимент, — ответила она ему, ласково улыбаясь. — Сейчас принесу вам вина.
И она вышла через низенькую дверцу. Сухопарый с силой хлопнул Белобрысого по плечу.
— Выше голову, парень! Перед женщинами нельзя робеть!
— Конечно… А зачем ты ей наврал про жену?
— Таким красоткам, — отвечал Дамиан почти шепотом, — больше нравятся серьезные мужчины. Когда за ними начинаешь ухаживать, надо как можно чаще говорить про жену и про детей. А если еще прибавишь, что любишь их, тем лучше. Она больше оценит то, что ты потом сделаешь… Мотай себе на ус, Грегорио! И запомни, скромность тоже кое-что значит!
— Еще чего, Сухопарый… Очень мы ей нужны…
— Ты меня с собой не равняй, — возразил Сухопарый.
— Я и не равняю… Ах, если бы она разрешила мне стать ее слугой, я мог бы видеть ее каждый час!
Женщина вернулась с кувшином вина и двумя стаканами. Стаканы были чистые, но, прежде чем поставить на стол, она еще раз тщательно протерла их льняным полотенцем и посмотрела на свет.
— Я принесла вам одно из лучших вин, этот виноград растет на самой макушке холма, — сказала она, склоняясь над стаканами, отчего ее грудь, надежно прикрытая платьем, стала еще соблазнительнее. — По четыре реала за кварту.
— Черт возьми! Как оно подорожало! С двух-то реалов…
— Два реала стоит слабенькое, — ответила она с решительной улыбкой. — Если хотите, я принесу…
— Оставьте это, — снова проговорил Белобрысый.
— У нас такого вина только один бурдюк, а стало быть, и цена ему выше.
Отхлебнув немного, Сухопарый подмигнул.
— Могу поклясться, вино то самое, что стоило два реала… Впрочем, именно поэтому можно заключить, что вы хорошая хозяйка, — произнес он насмешливо.
— При чем тут хозяйка? Уверяю вас, оно того стоит. Еще никто не жаловался, что дорого.
— Потому что продаете это вино вы! — осмелел наконец Белобрысый, отхлебнув большой глоток.
— Неужели?! А вы, оказывается, умеете говорить! — засмеялась женщина.
— Почему бы вам не выпить с нами стаканчик?
— Не могу, у меня дел много, — вздохнула она, вспомнив о своих обязанностях.
— Мы сейчас уйдем… Принесите нам еще кувшин… Этот и тот, что вы принесете, как раз наполнят наш бурдюк.
— Только, чур, здесь не напиваться, хорошо? — смеясь предупредила она и снова скрылась в дверях.
— Не беспокойтесь, — крикнул ей вслед Сухопарый. — Мы, сплавщики, народ стойкий!
— Будь я королем, сделал бы ее королевой! — из глубины души вздохнул Белобрысый.
Вскоре женщина принесла еще один кувшин, побольше. Мужчины следили за каждым ее движением.
— Дайте-ка еще стаканчик.
Опа сняла с полки стакан, но позволила налить себе чуть-чуть и не присела.
— Только чтобы вас уважить, — сказала она.
Всякий раз, когда Белобрысый хотел украдкой полюбоваться ею, его взгляд неизбежно сталкивался с ее глазами и он видел складку возле ее губ — не насмешливую, не веселую, а какую-то такую, что он вдруг сказал:
— Да, работы у вас хватает… Как вас зовут? Хочу запомнить ваше имя на всю жизнь.
— Так уж и на всю, — пошутила она, — Меня зовут Ньевес{Nieves (исп.) — снежная.}.
— Вам очень подходит это имя. Судя по говору, вы не здешняя.
— Я из Валенсии.
— Ваше здоровье, Ньевес, — произнес Сухопарый, поднимая стакан. А затем, поставив его на стол, осмелился спросить: — Как вы вышли замуж за Федерико?
— Священник поженил. Как всех.
— Я не о том… — не отставал Сухопарый, который никак не мог себе представить тщедушного Федерико рядом с этой женщиной. Но она не дала ему договорить:
— Когда я сюда попала, у меня прямо сердце сжалось. Но, как видите, дела наши идут на лад. Прежде всего я привела в порядок дом, посадила цветы… Здесь почему-то не любят цветов, не то что у меня на родине.
Сухопарый кивнул, вспоминая угрюмых женщин из его родных мест.
— А сейчас муж отправился в город, чтобы узнать, не удастся ли нам приобрести кое-какие сельскохозяйственные инструменты да нанять нескольких работников. Мы собираемся вспахать эту землю. Муж получил кое-что в наследство от дяди, который жил в моих краях… Но если бы я не присматривала за всем… Еще столько нам нужно!.. Земля, конечно, вернет Сторицей, но когда это еще будет!
— Ну и вино! — причмокнул Сухопарый, воспользовавшись паузой, — Правильно сделали, что повысили на него цену. Глядишь, и мы, пьяницы, поможем вам: с миру по нитке — голому рубаха.
— Жаль, что у меня нет денег! — порывисто воскликнул Белобрысый, — Я бы все вам отдал, сейчас же. Чтобы вы поскорее, — прибавил он, — подняли хозяйство.
— Правда? — улыбнулась она, глядя на него широко открытыми, немигающими глазами, и складка возле ее губ стала приветливей, — Спасибо вам большое!.. Понемножку все уладится. У нас уже есть три свинки. Такие красавицы!.. Муж чуть было не купил первых попавшихся, с черными пятнами. Но я выбрала трех беленьких-пребеленьких, пухленьких-препухленьких.
В голосе ее и словах звучало сладострастие, словно она говорила не о поросятах, а о женщинах.
— А щетинка у них, — восхищалась она, словно девочка своими игрушками, — светленький пушок, так и золотится на солнышке. Любо-дорого посмотреть… Совсем как у этого парня…
И она вдруг ткнула пальцем в грудь Белобрысого, из-под расстегнутой рубахи которого виднелась белая кожа с редкими завитками белокурых волос. У Белобрысого перехватило дыхание. Казалось, палец ожег его огнем. Сухопарый нахмурился. Она вздохнула и проговорила, словно пробудившись от сладкого сна.
— Но дело идет так медленно… Сколько еще воды утечет, пока мы все приведем в порядок…
— Ничего, дети помогут, — с иронией произнес Сухопарый, имевший определенное мнение насчет ее супруга.
Она глубоко вздохнула, но тут же спохватилась, боясь выдать свои чувства, и ответила:
— Да, это верно, дети — большая подмога. Но когда еще они будут…
— За чем же дело стало? — не без ехидства спросил Сухопарый.
— Им надо вырасти, — ответила она спокойно и допила вино из своего стакана. — Ну, ладно, мне пора приниматься за работу.
Сухопарый вытащил из-за пояса деньги и положил их на стол. Какое-то время он в нерешительности держал лишнюю песету, не зная, как с ней поступить, но Белобрысый замотал головой, и Сухопарый сунул ее снова за пояс.
— Спасибо, — поблагодарила женщина Сухопарого, заметив его жест. — Если вам снова захочется нить, вино у нас всегда найдется.
— А вдруг вы будете заняты, и вино станет продавать кто-нибудь другой? Тогда оно потеряет всякий вкус, — сказал Сухопарый уже в дверях.
Она избежала прямого ответа.
— К вечеру я обычно отдыхаю и смогу вас обслужить.
— Ну, тогда до свидания, — попрощался Сухопарый и вышел.
— До свидания, — повторил за ним Белобрысый и, видя, что она протянула руку, пожал ее. — До свидания, сеньора Ньевес. Меня, — поспешно добавил он, — меня зовут Грегорио.
— Я знаю, — ответила она тихо и улыбнулась.
Значит, она их слышала! У бедняги Белобрысого сердце чуть не выскочило из груди. Не смея больше оглянуться на женщину, он поспешил за Сухопарым.
После сумеречной прохлады помещения солнце припекало еще сильнее. Мир казался суровее, а крепкий ветер гнул кустарник, словно хотел еще больше раздуть костер весны. В доме человек защищен от всего этого.
— Что она тебе сказала? — поинтересовался Сухопарый.
— Да ничего.
Сухопарому не понравилась эта скрытность.
— Не больно ты разговорчив, — презрительно заметил он. — Сразу видать, что она не из местных! Эти валенсианки больно уж нежные. Горячие мужчины не для них. А ты как думаешь? — допытывался Сухопарый.
— Мне она понравилась, — невозмутимо ответил Белобрысый.
Все его мысли были обращены к пей. Как подходило ей имя! В ней было столько света, столько свежести, столько жизни, сколько бывает лишь в самые удачные годы. Недаром именины ее в августе, в самый разгар лета, когда созревает пшеница.
— На всю жизнь, — с издевкой произнес Сухопарый, но Белобрысый будто и не слышал его слов.
Сухопарый молча дошел до реки. Настроение у него, против обычного, было скверное.
Белобрысый же, хоть и был задумчив, казался довольным. Время от времени лицо парня омрачалось сомнением, но его тут же рассеивала счастливая улыбка. И именно эта улыбка особенно раздражала Сухопарого. Черт возьми, уж не принимает ли его Белобрысый за дурака? Уж не смеется ли над ним этот сопляк? Пусть сначала поучится у настоящих мужчин! Он еще покажет ему, как надо укрощать этих неженок! Никакой благодарности! Почему он не говорит, пойдет туда вечером или нет? Неужели он думает, что Сухопарый не уступил бы ему эту бабу! Слишком много было у него женщин, чтобы держаться за такую! Но предательства он не потерпит, черт возьми! И не позволит играть в молчанку! Сухопарого не проведешь!
Весь день он не сводил глаз с Белобрысого, погруженного в задумчивость, и наконец с удовлетворением отметил, что улыбка все реже стала появляться на его лице, уступив место тревоге, сменившейся к вечеру печалью. «Совсем еще желторотый! — торжествующе заключил Сухопарый. — Куда ему!» И окончательно успокоился, когда после ужина, завернувшись в плед, Белобрысый улегся спать. Ну что ж, самое время нанести ему сокрушительный удар. Пусть знает, что такое жизнь! Он-то эту бабу обуздает! А сопляк пусть поймет, что нельзя поддаваться женским чарам.
И вместо того чтобы лечь спать, он с независимым видом направился к реке. Однако Сухопарый был не одинок: многим не спалось в эту ночь. Американец точил крюк на своем багре, и скрежет камня сливался со стрекотом кузнечиков. Справа от него вспыхивал огонек сигареты: при каждой затяжке можно было разглядеть задумчивое лицо Кривого, который, как всегда, растирал пальцами землю. Чуть поодаль виднелись другие сплавщики, вернее, их силуэты, и казалось, что ночь полна теней. Сухопарый незаметно ускользнул, прошел вверх по течению, обогнул излучину и скрылся из виду. Только тогда он переправился на другой берег, по-кошачьи вскарабкался но холму и, попав на возделанные поля, зашагал спокойно.
Он чувствовал себя уверенно и улыбался. И это была не самонадеянность, не самовлюбленность, а твердая вера в заведенный на земле порядок, установленный свыше: зрелость должна восторжествовать над молодостью; жизненный опыт учит наслаждаться добытыми плодами, а молодежь только давит их и вкушает, когда они уже потеряли всякий вкус. Так он шагал не спеша по дороге, освещенной дерзкими звездами, заранее предвкушая то, что ему предстоит. Нет, ему негоже спешить, ему нельзя являться слишком рано. Он должен прийти, когда свекровь уже уляжется в постель. Сухопарый присел выкурить сигарету. Ветер притих и нежно ласкал его. Сухопарый был доволен.
Покончив с сигаретой, он взглянул на небо. Звезды уже обступали Малую Медведицу. Пора. Сколько раз, в такое же время, он перепрыгивал через ограды чужих скотных дворов, где его ждали женщины. Иногда его подкарауливали их мужья или отцы. А иногда, как теперь, он являлся без предупреждения. Всякое бывало.
На сей раз прыгать через ограду не пришлось. Большие ворота под статуей святого Мартина были приоткрыты. Сквозь щель виднелся пустынный двор. На углу дома светила лампочка, вероятно не выключавшаяся на ночь, — судя по всему в доме уже спали.
Сухопарый собрался было толкнуть ворота и войти внутрь, как вдруг едва слышный шорох, а может, обостренное чутье подсказали ему, что он здесь не один. Через ту же щель он увидел неподвижную фигуру за поленницей. Сухопарый подождал. Кто-то выпрямился на миг, но тут же снова скрючился в неудобной позе. Черт возьми! Неужели Белобрысый! Как ему удалось проскочить первым?
Ярость охватила Дамиана. Коварный Иуда! Значит, он притворился спящим, а сам обогнал его и пришел раньше! Хорош товарищ! И теперь спрятался за дровами, чтобы пропустить его, а потом нанести удар в спину! Ему, Сухопарому!.. Который любил его, как родного, и учил уму-разуму! Сукин сын!..
Вне себя от бешенства, Сухопарый, забыв о всякой осторожности, рывком отворил ворота и ринулся не к дому, а к поленнице. Белобрысый, замешкавшись на какую-то долю секунды, бросился ему наперерез. Он хотел что-то сказать товарищу, но тот не дал ему и рта раскрыть: сильным ударом по голове он свалил Белобрысого на землю.
Белобрысый медленно приходил в себя, ощущая, как все ярче разгорается какой-то белый свет. Затылок пронзила страшная боль. Свет стал еще ослепительнее, мир вокруг него был весь белый… А, это стены. Боль не давала шевельнуть головой… Да, это стены. Одна совсем рядом, справа… нет, слева… другая — далеко, с темным пятном: да, с дверью… напротив, еще дальше, — третья, с белым пятном и темным: окно и дверь… нет, шкаф, шкаф и окно, оттуда и льется этот свет.
«Где я?» — подумал он. В постели. В большой, пышной постели, на мягкой подушке, от которой отвык, пока жил в горах, под открытым небом. На степе висит портрет. Портрет той женщины, которую он видел утром. Беленькой, красивой, Ньевес. Рядом с ней — невзрачный худой мужчина, словно чем-то смущенный. И вдруг Белобрысый вспомнил все, даже удар по голове.
Сухопарый! Волк в овечьей шкуре! Сволочь! А еще давал советы, квохтал вокруг пего, говорил о дружбе, а сам… Предатель! Он так и знал, когда притворялся спящим, а потом обогнал его и поджидал во дворе! По старый лис быстро смекнул, что к чему, и увильнул от драки… Черт бы его побрал! Драка показала бы, чего стоит каждый из них.
Как болит голова!.. Какое огромное окно, не то что крохотные окошки горных домиков! И какое красивое — и цветы, и зеленые занавески! За цветами ухаживает Ньевес. Ньевес! Он чуть не заплакал при мысли о том, что потерял ее. Конечно, потерял: теперь между ними уже ничего не может быть, даже если бы она захотела. Из жалости… ни за что! После того как другой обнимал ее… Никогда! Никогда! А уж он наверняка обманул ее, сочинил какую-нибудь небылицу, когда явился вместо Белобрысого. Ведь если она кого и ждала, так ото его, молодого. Ждала, чтобы повидаться, поговорить немного. Ни о чем другом он и не помышлял. Разве она не ему улыбнулась в то утро, не ему протянула руку на прощанье? Он никогда бы не посмел прийти сюда на ночь глядя, если бы не надо было уберечь ее от Сухопарого, от его сетей.
В то утро! Ну, конечно, ведь он потерял сознание вечером, а теперь в окно светит почти отвесно яркое солнце. И на комоде будильник показывает без двадцати четыре. Надо сейчас же встать и незаметно улизнуть. Как сможет он, такой жалкий, побитый, взглянуть ей в глаза? Она станет обращаться с ним, как с младенцем. И правильно сделает. Как объяснить ей, что его предали? Но предатель-то каков, пропади он пропадом…
Он приподнялся и почувствовал сильную боль. Но все же не лег. Внезапно щелкнул замок, и Белобрысый застыл на постели. Дверь медленно отворилась, на пороге появилась скрюченная, вся сморщенная старуха.
Что она ему скажет? Что говорили они, когда подобрали его? А может, она и не знает, что он здесь? Он подождал, но старуха, вероятно, его не замечала. От двери она направилась прямо к шкафу и, открыв его, стала что-то искать. Белобрысый чуть было не заговорил первый, но тут в комнату стремительно вошла Ньевес. Увидев, что он сидит, она радостно воскликнула:
— Наконец-то! — И бросившись к кровати, прижала его к груди. — Я уж думала, ты не очнешься, — с грустью проговорила она. — Ведь мы принесли тебя сюда вчера вечером… Сколько раз я поднималась, чтобы взглянуть… Ты был такой красивый, когда спал! И так долго не приходил в сознание! Сколько я пережила за этот день!
Она говорила и гладила его по волосам, целовала в лоб, прижимала его голову к груди, от которой исходил какой-то родной и чистый запах. Наконец Белобрысый взглядом показал ей на старуху, все еще рывшуюся в шкафу. Ньевес рассмеялась.
— Не обращай внимания: свекровь глуха как стенка, и к тому же почти слепая… Старая карга! — крикнула она. — Смотри-ка, здесь вовсе не твой сын!.. Видал? — Торжествующе обернулась она к Белобрысому и, заметив в его глазах укор, сказала: — Ненавижу ее, терпеть не могу… Если бы ты все знал, ты бы меня понял… Только и делает, что долбит своему сыну, какая я плохая… Но было бы еще хуже, если бы он поверил!.. А ну ее!.. Как ты себя чувствуешь, милый? Видишь, как беспокоится о тебе Ньевес, черт бы побрал этого старика!
— Мне пора идти, меня ищут.
— Идти, вот глупенький! Они знают, что ты здесь. Я велела передать, что мы тебя подобрали раненого. Ты пробудешь здесь, сколько понадобится… — И она бросила на него пылкий взгляд. — Муж вернется только послезавтра… Неужели ты уйдешь, так и не узнав, как хорошо ухаживает за больными Ньевес?
Охваченная внезапной тревогой, она вдруг присела на кровать рядом с Белобрысым.
— А может, ты разлюбил меня? — спросила она, приблизив к нему лицо. — Разве не ты говорил вчера, что хотел бы стать моим слугой и видеть меня каждый час? Разве не ты хотел быть королем, чтобы сделать меня королевой? Я все слышала! Так вот, ты мой король, а я стану тебе прислуживать… Как ты вчера смотрел на меня! О чем ты думал весь день, миленький? Или ты все еще робеешь? Не грусти ни о чем! Ах, ягненочек мой славненький!
Она обняла его и положила голову на плечо Белобрысому, коснувшись его лица волосами. Когда она целовала его в ухо, Белобрысый заметил, что свекровь, отвернувшись от шкафа, уставилась на них невыразительными мутными глазами.
— Ты здесь, Ньевес? — спросила она надтреснутым голосом.
— Да, я здесь, с любимым, в постели твоего сына, — весело отозвалась Ньевес.
— Ты здесь? — снова спросила с беспокойством старуха и направилась к кровати, вытянув перед собой руки.
Ньевес быстро спрыгнула с постели и, поспешив ей навстречу, взяла ее за руку.
— Вот, вот! — произнес надтреснутый голос, — Я всегда чувствую… Уж не знаю как, но чувствую… Проклятые глаза, проклятые уши!… Я все время боюсь: мне кажется, будто что-то происходит, а я не знаю.
Ньевес поводила рукой старухи из стороны в сторону и с улыбкой обернулась к Белобрысому.
— Да, да, боюсь, — повторила старуха и спросила: — Когда вернется Федерико?
Не дожидаясь ответа, она приблизилась к кровати. Ее костлявая рука, похожая на пучок корней, коснулась простыни.
— Ты до сих пор не застелила? — возмутилась она, — Что ты! Неубранная постель — позор для женщины!
Ньевес наклонилась к уху свекрови и прокричала:
— Я очень торопилась утром! Когда приходит погонщик, работы по горло!
— Ох, не оправдывайся ты… Бедный Федерико!
С неожиданной силой старуха стянула с кровати одеяло и простыни. Белобрысый едва успел соскочить на пол и скользнуть к стулу, где лежала его одежда. Когда он стал натягивать на себя брюки, перед глазами у него все вдруг поплыло. Ньевес, вырывавшая в это время у старухи простыни, заметила, что он, покачнувшись, сел на стул, и бросилась к нему.
— Ничего, ничего, — успокоил ее Белобрысый.
— Паршивая ведьма не отстанет от нас! — воскликнула она в сердцах, снова притягивая его голову к груди. Ощутив рядом желанные губы, щекотавшие его ухо, Белобрысый забыл о своем решении и обнял ее за талию. От прикосновения мужских рук по ее упругому, крепкому телу пробежала дрожь, словно по крупу лошади, которую погладил всадник.
— Немного голова закружилась, — сказал он, прижимаясь к груди Ньевес, будто маленький ребенок, когда хочет, чтобы его приласкали. — Ничего, уже все прошло.
— Ты должен быть сильным, здоровым, — ответила Ньевес, склонив к нему голову. — Разве ты не знаешь, что я ждала тебя? Я чувствовала, что ты придешь, я этого очень хотела… Если бы ты знал, как я тебя ждала! Ведь у меня не жизнь, а пытка! Сущая пытка!
В голосе Ньевес послышались слезы. Белобрысый еще крепче обнял ее и вдруг вспомнил.
— Но ведь пришел он, а не я, — с тоской произнес он, глядя, как старуха разглаживает простыни и аккуратно заправляет их под матрац.
— Ну и что же? — ответила ему Ньевес. — Я ждала тебя! Тебя, мой ягненочек!
— Но пришел-то он, и, пока я лежал без сознания, вы…
Ньевес высвободилась из его объятий и бросила на него обиженный взгляд.
— С этим стариком? Да ты спятил! За кого ты меня принимаешь?
У нее выступили слезы. Она отпрянула от Белобрысого, пересела на соседний стул и, достав носовой платок, поднесла его к глазам.
— Ты здесь, Ньевес? — снова окликнула ее старуха, ужо застелившая постель. — Или спустилась вниз?
Вытянув перед собой руки, она на ощупь пошла к двери. Немного спустя послышался скрип деревянных ступенек, по которым старуха сходила на первый этаж.
Белобрысый был в замешательстве. Он ни на минуту не сомневался в победе Сухопарого! Но эта чистая, белая, как цветок, женщина…
Он встал со стула и припал к ее ногам. Она оттолкнула его.
— Оставь меня, отойди… Я не хочу, чтобы ты видел мои слезы… Можешь уходить… Все вы мужчины одинаковы!
— Прости, прости меня, Ньевес… Этот Сухопарый… Он предал меня, понимаешь? Если бы все было по-честному, то не он, а я пробил бы ему башку… Но ему всегда везло с женщинами…
— Может быть, с другими… Но ведь я не такая, неужели ты не видишь?
— Я это сразу увидел, Ньевес, я знал. Я ему сразу сказал в то утро, разве ты не слышала?
Лицо ее озарила улыбка.
— Да, я слышала: ты говорил, что я не для него… С этой минуты ты мне и полюбился. Ты не такой, как он. Но как ты мог сказать сейчас…
Белобрысый снова обнял ее.
— Это я от ревности, от злости. Я совсем потерял голову… Или ты думаешь, я не способен на это?
Ньевес тоже обняла его.
— От ревности… ты, мой ягненочек? К кому? Из-за чего? Я твоя с первой же минуты, как увидела тебя!
К груди Белобрысого прихлынула горячая волна. Он крепко прижал Ньевес к себе, поцеловал, рывком расстегнул платье, растрепал волосы, расцарапал плечо. Он тяжело дышал, шептал бессвязные ласковые слова, рычал… Горечь, злоба, ревность — все было забыто. В нем пробудился мужчина — уже не на словах, а на деле… Ньевес счастливо вздохнула в его объятиях, засмеялась, стала отбиваться. Наконец ей удалось высвободиться.
— Нет, нет, не сейчас… Потом, когда мы оба успокоимся.
Она с трудом вырвалась из его рук. Белобрысый преследовал ее до середины лестницы, но увидел старуху, сидевшую у очага возле двери, открытой во двор. Ньевес велела ему оставаться наверху, куда никто не поднимался, кроме свекрови. Он стоял в полутьме на верхних ступеньках и смотрел сквозь железные прутья лестницы, как женщина снует по кухне, занятая домашними делами. Время от времени она поглядывала на лестницу и, увидев там Белобрысого, готового в любую минуту скрыться, если покажется посторонний, шутливо грозила ему пальцем.
Какая женщина! Даже черноглазая стройная Паула не сравнится с этой белокожей упругой красавицей! Какая женщина досталась ему! В висках у него стучало от нетерпения. К тому же чиста, как цветок, не из тех, кто составил славу Сухопарому.
И тут он увидел, что Ньвес поднимается по лестнице с подносом в руках. Она несла ему ветчину, нарезанную ломтиками, большой кусок хлеба, стаканчик с желтком и небольшой кувшин вина.
— Ты все еще здесь, сумасшедший! — ласково пожурила она его, не в силах увернуться от его объятий, — А вдруг у тебя снова закружится голова?
— Я уже крепок, как скала, — ответил он, следуя за ней в спальню. — У меня голова кружится, только когда ты рядом.
— Иди, иди, поешь, ведь ты голоден.
— Я по тебе изголодался, — проговорил он, обнимая ее, притянул к себе и, заглянув ей в глаза, закрыл смеющийся рот поцелуем…
Женщина снова выскользнула, — легкая и проворная, несмотря на свою полноту, — юркнула за дверь и заперла ее снаружи. Белобрысый приник к створке и постучал. Послышался нежный голос:
— С тобой иначе нельзя, придется взять тебя в плен.
— Ты и так пленила меня, — ответил он смеясь.
— Будь умницей, ягненочек. Потерпи немножко.
До него донеслись легкое чмоканье — вероятно, она послала ему воздушный поцелуй — и скрип ступенек.
Пришлось смириться с арестом. Он быстро проглотил еду и стал смотреть в окно на безлюдное поле. Ближе, под окнами, виднелся тот самый патио, по которому он прошел вчера вечером, и угол здания, увенчанного звонницей без колокола. Оттуда тропа уводила к холму, а потом спускалась по пологому склону к реке. Полоса зелени змеилась вдоль берега, обозначая русло. За рекой, на скале, возвышался замок и простирались до самого Ангикса желтые посевы пшеницы и ячменя. За ними виднелись новые холмы, поросшие дубами, и, наконец, небо. Все пустынно, все покрыто пылью, все жаждет влаги.
Ему вдруг пришло в голову заглянуть в шкаф, и на какое-то время он развлекся. Женские вещи висели рядом с мужскими, которые он с пренебрежением отодвинул в сторону. Никогда еще Белобрысому не приходилось видеть ничего подобного: женщины в горах носили одежду, давно вышедшую из моды. Он раскладывал платья на кровати, любовался ими и снова убирал в шкаф. По мере того, как солнце с невероятной медлительностью склонялось к полям, возбуждение Белобрысого росло. По звукам, доносившимся снизу, он определял, чем занимается Ньевсс. Один раз он даже увидел, как она вышла в патио и посмотрела наверх. Заметив его у окна, она послала ему воздушный поцелуй, вывалила через дверцу хлева корм поросятам, направилась за дровами, нагнулась, на удивление изящно, вероятно, знала, что на нее смотрят. Перед тем, как войти в дом, она кинула на Белобрысого многозначительный взгляд. Солнце клонилось к закату, под его лучами полыхал фронтон здания, которое он видел из окна. Ньевес, как и в прошлую ночь, вышла закрыть ворота; рассмеялась, заметив простертые к ней из окна руки, и снова скрылась в доме. Время тянулось по-прежнему медленно. На небе зажглись первые звезды, из открытого окна потянуло прохладой. Ньевес что-то прокричала старухе. Затем раздался скрип ступенек под тяжелыми медленными шагами. На площадке старуха остановилась и пошарила по двери.
— Ньевес! — крикнула она, и от голоса ее повеяло таким холодом, что кровь застыла в жилах Белобрысого. — Почему у вас дверь заперта на ключ?
Послышались торопливые шаги на лестнице, а затем и голос:
— Заперта?.. — прокричала Ньевес старухе. — Верно! Я и не заметила, что заперла ее!
— А зачем унесла ключ?
— Ключ? Я не уносила… Ах, вот он, на полу!
Ключ повернулся в замочной скважине, дверь отворилась. На пороге показалась старуха. Ее потухшие глаза смотрели прямо на Белобрысого.
Старуха часто дышала, охваченная беспокойством.
— Федерико, — жалобно произнесла она, — ты здесь?
— Ведьма! — откликнулась Ньевес, и тут же громко спросила: — Откуда ему здесь взяться, сеньора, ведь он придет только завтра. Тут никого нет!
— Никого? — усомнилась старуха, словно спрашивая себя и не уходя с порога.
— А вам хотелось бы, чтобы здесь кто-нибудь был?! — раздраженно прокричала Ньевес. — Идите-ка лучше спать! А я пойду закончу дела по хозяйству. — И, дернув ее за рукав, повернула спиной к спальне и легонько подтолкнула к двери напротив. Затем, обернувшись к Белобрысому, сказала: — Я скоро вернусь, сокровище мое. Никуда отсюда не выходи.
И стала вслед за старухой спускаться по лестнице. Легко сказать: никуда не выходи! Разве это возможно? Белобрысый тихонько сошел по лестнице и увидел, что Ньевес, заперев входную дверь, ставит на поднос лучшую еду, какая нашлась у них в доме, и кувшин доброго вина. Подкравшись сзади, он обнял ее, с удовольствием вдыхая запах, исходивший от ее волос.
— Оставь, оставь, сумасшедший… Иди снеси все это наверх, я сейчас приду… Так будет скорее.
Сунув ему в руки поднос, она подтолкнула его к лестнице и включила электрический свет на верхней площадке. Поднявшись, Белобрысый обрадовался, что вовремя покинул спальню. Старуха, снова возвратившись в комнату сына, с упорством шарила по углам. Он подождал, пока она вышла и направилась по коридорчику к себе. Лицо старухи выражало страх и бессильное отчаяние. Звякнула щеколда, шаркнул по полу стул, придвигаемый к двери.
Белобрысый вошел в спальню и поставил поднос на стол. Послышались шаги Ньевес. Он хотел было обернуться, но вдруг через окно увидел, как ворота скотного двора тихонько приоткрылись. Ньевес, подойдя к нему сзади, обняла его за плечи и пылко прошептала на ухо:
— Ну вот, твоя Ньевес здесь, с тобой.
Белобрысый не отозвался, следя взглядом за воротами, через которые только что воровато прошмыгнул Сухопарый.
Что-то прорычав, Белобрысый оттолкнул от себя Ньевес. Она тоже посмотрела в окно и испугалась.
— Не выходи, не выходи! Я сама велю ему уйти, я… — воскликнула она. Но Белобрысый уже выскочил на лестницу, крикнув ей на бегу:
— Сейчас увидишь, кто из нас настоящий мужчина!
И в несколько прыжков очутился внизу. Пробегая мимо кухни, он машинально схватил со стола большой кухонный нож, распахнул дверь и остановился на пороге.
Сухопарый, стоявший посреди патио, удивился, увидев перед собой Белобрысого.
— Это ты, парень? — обрадовался он. Но тут же осекся, заметив нож. — Черт! Уж не собираешься ли ты меня убить?
— А ты не собирался убить меня вчера вечером, бандюга? — злобно прорычал Белобрысый.
И вдруг до него дошло то, о чем он прежде не подумал: перед ним стоял Сухопарый, его товарищ. На него он поднимал теперь нож.
— Я? — спросил Сухопарый с поразительным хладнокровием. — Да ты, наверное, спятил, сынок. Как только тебе могло взбрести в голову, что Сухопарый захочет убить Белобрысого!
— Это не я, а ты спятил вчера… Когда хотел отбить у меня Ньевес.
— И точно спятил… Но все равно, как ты мог подумать, что я стану тебя убивать из-за какой-то бабы. Ты просто неудачно упал, вот и все.
— Из-за какой-нибудь, может, и не стал бы, а из-за Ньевес…
— Да все они одинаковы, сыпок, — улыбнулся Сухопарый. — И твоя Ньевес…
Но Белобрысый заорал так, что Сухопарый замолчал, побледнев.
— Ньевес чиста, как солнце, бабник паршивый!
— Не лезь в бутылку! — злобно крикнул Сухопарый.
Тут Белобрысый совсем озверел и, шагнув ему навстречу, проговорил:
— Сейчас же скажи, что Ньевес не такая. Сию же минуту, громко, внятно, а то… — рука его дрогнула, он еще ближе подступил к Сухопарому.
— Не лезь на рожон, Белобрысый! — предостерег его Дамиан. — Если ты замахнешься, тебе придется меня убить! Иначе я убью тебя… И послушай, что я тебе скажу, парень. Я еще с тобой никогда так не говорил. У Ньевес есть муж, а она с тобой спит в его постели. Так ведь?
— Ну и что? Зато она дала тебе от ворот поворот.
Сухопарый помолчал, прежде чем ответить.
— Мне?.. От ворот поворот? А ну-ка, посмотри на нее… — И он поднял руку. Обернувшись, Белобрысый увидел, как Ньевес, стоявшая в дверях дома, исчезла, громко всхлипывая. — Я никогда не сказал бы тебе, — продолжал Сухопарый с горечью много повидавшего человека, — пусть даже ты сочтешь меня последним брехуном, но нельзя допустить, чтобы два мужика стали из-за нее убивать друг друга… Так я полагаю, парень.
Наступила гнетущая тишина. Белобрысому хотелось верить, что Сухопарый врет, чтобы выкрутиться. Но не таким был Дамиан. Да и она не стала отрицать, сбежала, и все… Нож упал на землю.
— Ты прав, Сухопарый… Пойдем.
— Пойдем? — удивился тот. — Куда?
Белобрысый махнул рукой в сторону реки. Хоть бы слово сказала, а то заплакала и ушла. Заплакала, будь она проклята!
— Беда в том, что ты появился слишком неожиданно, парень, — сказал Сухопарый, кладя ему руку на плечо и крепко его сжимая. — Поэтому так и получилось. Но рано или поздно ты все равно узнал бы, что так уж устроены мужчины и женщины… Не думал же ты, что мы святые? Иначе зачем бы мы тут оба ошивались? Да и за что, собственно, ты ее презираешь, черт возьми? Чем ты лучше ее?! Надо быть идиотом, чтобы сейчас уйти. Ничего не поделаешь, такова жизнь! Я уйду, а ты останешься любить ее. И хватит об этом!
Белобрысый направился к воротам. Сухопарый догнал его и усадил на скамью, куда падала тень от ограды.
— Сынок, ты ведешь себя, словно девчонка, которая дуется из-за жениха. Ты ведь уже взрослый мужчина. Я в этом убедился. А в эту ночь, — печально произнес он, — ты еще больше повзрослел. Что ты собираешься делать? Уйти? Вернуться и поколотить ее? Так бы я поступил на твоем месте, будь мне сейчас столько лет, сколько тебе. Но поверь моему опыту, послушай меня. За что ее бить? Чем ты лучше нее? Хочешь сигарету?
— Мне не до курева. Пойдем.
— Знаю, что не до курева! И все же возьми. Вот увидишь, успокоишься — легче будет все хорошенько обмозговать.
В темноте засветились две мерцающие точки. Сухопарый продолжал:
— Прежде чем принять решение, надо как следует взвесить, чтобы потом не пришлось жалеть! Когда гулящая баба…
— Гулящая?
— Да, черт возьми, гулящая, этим Ньевес промышляла раньше, но ты не пугайся! Гулящая или королева, какая разница! У каждого свое назначение в жизни. Я, например, сплавщик. Но и сплавщики бывают разные: хорошие, как ты, и плохие, как Сухопарый.
Белобрысый невесело усмехнулся. Сухопарый обрадовался.
— Когда гулящей бабе выпадает случай выйти замуж, даже за такого недоноска, как Федерико, она его не упустит. А знаешь, почему? Потому что ей осточертела ее прежняя жизнь; она уже и не чает от нее избавиться. Мало ли что натворишь в молодости по недомыслию. Чего не бывает! Ей тоже хотелось иметь мужа, пусть даже такого никудышнего, как Федерико, хотелось иметь свой дом. Видел, как она заботится об этих развалинах! А он? Знаешь, почему он на ней женился? Из страха, черт подери, из страха! Федерико… Да ведь это же нуль без палочки. Старуха его, наверное, поедом ела: пора, дескать, жениться, у тебя ферма, соседи судачат и все такое прочее… Жениться на девушке порядочной он, ясное дело, не решился. Вот он и отправляется в Валенсию, вытаскивает из грязи девку и надеется, что она будет делать все, что он захочет, на благодарности. Имеет он на это право? Имеет. Она дает согласие, так как хочет покончить с распутной жизнью, и охотно совершает сделку. Но проходит время, и ей становится невмоготу. Как тебе или мне! На ее месте любая поступила бы так же, явись желанный ей мужик. На сей раз это был ты.
— Я? — с насмешкой спросил Белобрысый, — Будь она проклята! То-то она прошлой ночью…
— Прошлой ночью она ждала тебя. Тебя, а не меня. Парня, который смотрел на нее не такими глазами, как другие; который относился к пей с уважением, защищал ее. Весь день она думала о нем, мечтала провести с ним ночь, ждала этого часа. И вдруг открывает дверь, а это я. Если бы ты видел ее глаза! Видел бы ты, как она сопротивлялась! Посмотри-ка, — и, засучив рукав, он показал Белобрысому синяк. — Это она меня дверьми шарахнула, когда выталкивала. Но что ей еще оставалось? Она решила, что ты побоялся прийти, и больше не надеялась…
— Это ты ей так сказал, бандит?
— Я только не возражал, — улыбнулся Сухопарый. — Этого хватило.
— И ты посмел так поступить, когда я валялся там без сознания?
— От такого удара, черт возьми, сплавщик не околеет. А что, по-твоему, я должен был делать, если баба у меня под рукой? Но мы тут же вышли в патио… Посмотрел бы ты, что с нею было, когда она увидела тебя! Она набросилась на меня с кулаками и стала дубасить. Даже укусила… Не скажи я ей, что надо о тебе позаботиться, мне пришлось бы всерьез от нее отбиваться… Как только мы оттащили тебя наверх, в комнату, я сразу же отправился в лагерь предупредить наших, что ты упал, ушиб голову и тебя отнесли в селение. А то они могли бы заявиться сюда. Теперь я пришел справиться о твоем здоровье.
Белобрысый задумался, понурив голову, и смотрел на догорающую между пальцами сигарету.
— Послушай моего совета, не глупи, — тихо убеждал его Сухопарый. — Я пойду, а ты оставайся и люби ее! II не надо ее презирать. Она этого не заслужила.
— Любить ее? Я не смогу.
— Нет ничего проще, вот увидишь. Только не до гробовой доски.
— Как все это жестоко, Сухопарый.
— Да, верно. Все мы через это проходим. Беда в том, что ты появился слишком неожиданно.
Белобрысый угрюмо качал головой. Однако руки его все еще ощущали женское тело, ухо хранило прикосновение ее губ. Почему тело хочет одного, а разум — другого? Он так и качал понурой головой, пока догорала сигарета.
— Я хочу, чтобы ты сам убедился… Ты, наверное, думаешь, что я привел тебя сюда, чтобы она видела, как мы тут спокойно покуриваем и разговариваем? Нет, черт подери, я хочу, чтобы ты успокоился. Она нас и не видит. Уткнулась в какой-нибудь уголок и рыдает, потому что для нее сейчас рухнул весь мир. Она не видела, как мы пошли, и не надеется, что ты вернешься. А если вдруг ты появишься, она решит, что ты пришел побить ее, только и всего. Как ты не понимаешь, что в жизни ей приходилось видеть больше зла, чем ласки?.. Сходи к ней и сам убедишься. Если я прав, останешься, а если нет, дай ей пощечину, и мы вместе вернемся в лагерь… Я подожду тебя немного. Если не выйдешь, я уйду один.
Белобрысый встал.
— Пойду посмотрю, — сказал он, — прав ты или нет.
— Прав, черт подери! Чего только я не повидал на своем веку. Но помни: ни слова о том, что я тебе рассказал… Придумай что-нибудь, будто ты прогнал меня, избил, вытолкал в три шеи — одним словом, что хочешь… Она зла на меня, — улыбнулся он, — ей это будет приятно. И послушай моего совета… разговаривай с ней так, как вчера утром. К таким женщинам нужен ласковый подход. Они это любят. Остальное умеет любая скотина.
Белобрысый швырнул окурок и зашагал к двери, все еще раскрытой настежь, в непроницаемую темноту. Сухопарый увидел, как он остановился, поднял с земли нож и пошел дальше медленно и нерешительно. «Выскочил парень, а входит мужчина, — подумал он. — Эта Ньевес…» Возможно, она напомнила ему ту горничную. Та тоже была беленькая, чистенькая, красивая. Как быстро проходит жизнь! И как горько это сознавать! Но надо быть мужественным и смотреть правде в глаза.
Как Сухопарый и предполагал, Белобрысый не вышел. Дамиан кинул окурок и, ни минуты не раздумывая, направился к реке. Еоли бы он знал, что все так обернется! Но это значило бы считать себя стариком. Если ты поучаешь, чувствуешь себя отцом, значит, клонишься к закату. Вот почему сначала он шел печальный, но вдруг встрепенулся, вскинул голову и зашагал тверже. Позади хорошо прожитая жизнь. Не зря он ее прожил, черт возьми! Нет, не зря!
В сенях было темно. Белобрысый направился к лестнице и вдруг услышал сдержанные рыдания. Он устремился туда, откуда они доносились, и очутился у дверцы, из которой Ньевес выносила им кувшины с вином. Впотьмах он разглядел небольшой чулан, где стоял густой винный дух. Плач доносился из угла. Сердце Белобрысого сразу же смягчилось, и он бросил нож на стол, на который наткнулся. Рукой упершись в косяк, он нащупал выключатель и повернул его.
Тусклая лампочка вспыхнула так внезапно, что ее свет показался ярким, словно солнечный. Ньевес открыла глаза и тут же снова зажмурилась. Вся съежившись, она валялась на полу, будто кем-то брошенная, сломанная кукла. Чистый передник был измазан в пыли. Увидев Белобрысого, она перестала плакать и, прикрыв руками голову, ждала удара. Слышалось ее частое дыхание, тревожно вздымалась грудь. Белобрысый ясно представлял себе эту грудь, хотя никогда ее не видел. Безмерная, необъяснимая жалость к бренной человеческой плоти, к плоти этой женщины, охватила его. Он шагнул к Ньевес, наклонился и, взяв ее за руки, притянул к себе.
Глаза женщины раскрылись от удивления, зрачки расширились. И вдруг, вся залившись краской, она бросилась к выключателю, погасила свет и замерла в углу, притихла. Белобрысый подошел к ней и очень нежно, очень бережно обнял.
— Разве… он тебе не сказал? — прозвучал ее тихий печальный голос, но в нем слышалась и надежда, правда, робкая.
Возможно, при свете Белобрысый не смог бы солгать, но в темноте он набрался духа. Однако она его опередила.
— Ты ему не поверил? — и снова заплакала. — А это правда, правда, он был со мной. Будь я проклята, правда!.. Оставь меня, Грегорио!
Белобрысому вдруг стало легко. Теперь он любил ее еще больше. Да, любил. Он разомкнул ее ладони, в которые она прятала смущенное лицо. Теперь его руки, его сердце были в полном согласии с разумом. И были правы. Да, Сухопарый не солгал. Но Ньевес опять вырвалась и опять заплакала в углу, уткнув лицо в ладони.
— Бандит признался мне во всем, — сказал Белобрысый. — Я знаю, он обманул тебя.
— Да, обманул, клянусь. Он сказал, что ты струсил!
«Проклятый!» — подумал Белобрысый, но вспышка гнева лишь вновь толкнула его к ней. Подойдя к Ньевес, он взял ее за подбородок и заставил поднять голову, чтобы удобнее было прошептать на ухо:
— Теперь струсил он… Не будем больше обманывать друг друга… В конце концов, я же знал, что ты замужем…
Он отыскал ее губы, и будто все соки плодородной земли кинулись им обоим в голову. Одной рукой он нашел ее грудь, другой крепко прижимал ее к себе.
Вдруг он почувствовал, как по телу Ньевес пробежала тревожная дрожь. Она включила свет, вцепилась в его плечи и со страхом взглянула на него.
— А ты его не…
Оп успокоил ее двумя словами, прежде чем снова поцеловать, прежде чем овладеть ею, испить, словно сок винограда, в этом винном запахе.
— Он сбежал.
Ньевес едва успела погасить свет.
Так началась ночь, которую он запомнит навсегда. Потом будут другие ночи, но не такие, как эта. Возможно, иные из них он будет вспоминать чаще. Но едва лишь в его памяти вспыхнет воспоминание об этой ночи, оно своим пламенем затмит огни свеч, светильников, фонарей, ламп. Будут увлечения, жена, дети, будничная жизнь, старость, смерть. Но то, что было в ту ночь, останется его тайной до самой могилы; эту дивную, неведомую для других вечную жемчужину похоронят вместе с пим. Ведь они любили не на лоту, как воробей хватает крохи, не опуская крыльев и едва касаясь земли; не так, как любят супруги, чьи чувства дряхлеют день ото дня вместе с телом; это был не мираж, не обман, не обязанность. Это было откровение. Все случилось сразу: утраченная невинность еще трепетала в нем, словно пойманная бабочка; собственная сила пугала его, и горько было осознать, что даже самый сладкий плод оставляет оскомину и привкус земли. Но эту, последнюю истину мы обнаруживаем лишь после множества истин, открывающихся одна за другой.
Позже, уже наверху, утолив жажду, они испивали любовь по глотку, смакуя, делали все новые и новые открытия, расцвечивали игрой всех оттенков эту великую радость, это пламя… Они обменивались пленительными признаниями, как понравились друг другу, как желали друг друга, как страдали… Их руки неторопливо, но все еще жадно ласкали каждую частичку любимого тела; их мозг строил несбыточные, хрупкие, как карточный домик, мечты, разрушенные жестокой правдой. Скрипнула дверь, и они услышали, как в спальню вошла старуха, даже увидели при свете желтой луны эту одержимую. Она приближалась к ним, точно привидение, в белой ночной рубахе, вытянув вперед руки. Вместе с пей в комнату ворвался ледяной холод, сковавший их тела. Ньевес спокойно отодвинула Белобрысого к стене, а сама осталась лежать с краю.
— Что случилось? — крикнула она старухе, когда та подошла ближе.
— Не знаю, не знаю… — произнес старческий голос с невыразимой тоской, а затем с тревогой и упреком: — Ох, матерь божья! Почему ты не укрыта! Тебе не стыдно?
— Да ведь я одна, сеньора!
— Все равно, все равно… порядочная женщина…
— Я не порядочная! — прокричала Ньевес, и ее голос зазвенел, точно воинственный сигнал горниста. — Вы это отлично знаете. Сами же подали ему совет!
— Не говори так! Вдруг кто-нибудь услышит!
— Кто может нас услышать?
Старуха глубоко вздохнула и замолчала. Громадное белое пятно повисло в воздухе, словно обезглавленное привидение. Паршивая ведьма заставила Федерико жениться на его Ньевес, запугала ее — промелькнуло в голове Белобрысого, и он крепко обнял лежавшую рядом с ним женщину, а та с наслаждением прильнула к нему.
— Ты заперла дверь внизу, Ньевес?
— Конечно.
— Откуда-то дует…
Старуха снова помолчала, а любовники еще крепче прижались друг к другу.
— Уж не собираетесь ли вы здесь спать стоя? — насмешливо крикнула Ньевес.
— Нет, нет… сама не знаю, что со мной творится этой ночью.
«Весь дом всколыхнулся, — в упоении подумал Белобрысый. — Даже ведьма почувствовала это после стольких лет неподвижности. Вся земля, весь Ангикс. Даже река, даже сплавщики, даже Паула пробудилась на миг и, приоткрыв глаза, заворочалась, понимая, что что-то случилось этой огненной ночью». Ньевес нашла этому объяснение.
— Это весна, сеньора, весна… — прокричала она.
— Я не чувствую ее, не чувствую… Ну, ну, укройся, дочка…
Костлявые, скрюченные пальцы опустились, нащупывая одеяло… Белобрысый, совсем осмелев, и не подумал убрать руку, которой обнимал Ньевес за талию. Цепкие пальцы старухи схватили одеяло, скользнули по его руке и, ничего не ощутив, укрыли Ньевес по самые плечи.
— Жарко ведь… — возразила женщина. — Разве вам не жарко?
— У меня кости старые… и кровь не та…
— Зато у меня молодые! И кровь у меня горячая. Я вся горю, бабушка!
Старуха насторожилась и с явной подозрительностью спросила:
— Почему ты называешь меня бабушкой?
— Потому что вы ею будете!
— Ты что-нибудь чувствуешь?
— Пока нет, но мы сделаем вас бабушкой! Весна!
Старуха печально покачала головой.
— Надо, чтобы Федерико завтра же успокоил этот твой жар…
Привидение испустило глубокий вздох и исчезло за дверью. Она еще не перестала скрипеть, а горячее тело уже прильнуло к другому, такому же горячему.
— Слышал, что я ей сказала? — спросила Ньевес некоторое время спустя, когда смогла заговорить.
— О чем?
— О том… о том, что я не порядочная… Да ты, наверное, уже понял, — проговорила она, пряча взгляд.
— Нет, — ответил он. — Я… мало в этом смыслю…
— За это я и люблю тебя. С тобой мне кажется, что я тоже впервые… Но тебе я расскажу все, хочу раскрыть перед тобой душу, ягненочек. Старухе я сказала правду.
Да, теперь они могли спокойно говорить друг другу правду. На большой высоте или глубине так же легко сознаться в добродетели, как и в грехах. Разве не важно быть теперь искренним? К чему лукавить и кривить душой? Прошлое и будущее ничего не значили в сравнении с настоящим. Вот почему она ощутила потребность рассказать о себе. Это была обычная история, одна из тех, которые часто рассказывают в подобных обстоятельствах и о которых судит строго лишь тот, кто считает, что «могло бы быть иначе», но у человека, знающего жизнь, не хватит духу осудить, ему останется только посочувствовать. Возможно, она и не виновата, а может быть, даже права. И Белобрысый сказал ей:
— А какое мне, собственно, до этого дело? Важно, что сейчас ты не такая. А правда то, что ты сказала о ребенке?
— Правда, Грегорио. Я хочу ребенка, больше мне ничего не надо… И теперь он будет… от тебя, — и, увидев сомнение на его лице, поспешила добавить: — От тебя, можешь быть уверен. Я никогда не чувствовала того, что пережила с тобой сегодня. Я знаю, о ком ты думаешь, но старики только языками чешут: отними у них эту возможность, и они умрут. А ты молодой, сильный, красивый, уж дай им потешиться. — Она вздохнула и призналась: — Куда им! Я еще никого так не любила, как тебя!
Наконец сон одолел их, одарив Белобрысого новым чудом: проснувшись первым, он увидел, как она безмятежно спит, а под мышкой у нее темнеет цветок волос, слишком нежных для грубых пальцев сплавщика, орудовавшего багром, и жестковатых, как гибкая проволочка, для его жадных, почти детских губ. И еще он ощутил запах женщины! Неповторимый запах тепла, исходивший от нее, и такой похожий на его к ней чувства. Он вдруг подумал о том, что ему надо будет уйти, оставить ее, и сердце его защемило. Она тут же проснулась, словно его мысли передались ей по таинственным нитям, связующим их, увидела его грустные глаза и сразу угадала, что могло их омрачить. Она обняла его, и он забыл обо всем. Забыл настолько, насколько способен забыть мужчина, который всегда помнит больше женщины. Но как ни бурлила в нем кровь, забыть о своей печали он не мог.
Время неумолимо летело. Ньевес пора было спускаться вниз. И хотя старуха уже бродила по кухне, включив свет, он сошел вниз вместе с Ньевес.
— Я хочу всегда видеть тебя, — сказал он. — Пока что я могу после работы приходить с реки.
С горьким наслаждением он помогал ей в будничных делах. Пошел с ней в хлев к поросятам («Видишь, у них такой же пушок, как у тебя?» — сказала она); отправился за дровами («Как ты можешь постольку носить, дочка?» — «Весной у меня много сил, бабушка»); помог поднять вино из погреба в чулан, где накануне она ждала, когда он ее ударит (огромный погреб, выкопанный монахами, освежал пыл поцелуев и пьянил винными парами); поджарил ломтики хлеба.
— Когда я был маленьким, — рассказывал Белобрысый, — мой отец работал на мельнице. Он вставал рано, на заре, и в зимнюю пору приносил нам в кровать ломтики жареного хлеба, смоченного в вине. Любил нас ими потчевать… Совсем такие же, как эти.
Они оказывали друг другу маленькие знаки внимания, пока, наконец… Он хотел уйти не прощаясь и направился к двери. Но она выбежала за ним и обняла. До этой минуты они не обмолвились ни единым словом о предстоящей разлуке. Теперь же, повиснув у него на шее, она твердила:
— Ты вернешься, вернешься, красавец мой… Ты не уйдешь навсегда… Только не навсегда, нет.
Белобрысый впитывал в себя поцелуи, смоченные слезами, стекавшими к ее губам.
— Я могу прийти завтра и послезавтра… А потом… Потом река унесет нас.
— Возвращайся, когда доведешь свой лес, летом… Ты не бросишь меня… У нас будет работа, и ты сможешь наняться к нам поденщиком. А если захочешь, я уйду с тобой… Только не уходи навсегда…
Больше она ни о чем не могла говорить. Сияла с себя передник, пошла с ним по дороге. Дойдя до деревьев, уже у самой реки, они наконец расстались.
— Завтра, к вечеру, у ограды монастырского кладбища… Федерико боится ходить туда ночью… А когда вернешься к сбору урожая, — заключила она с гордостью, — уже будет заметно, как подрос твой сын… Ах, Грегорио, может, ты и забудешь меня, но твой сын родится таким красивым, что ты никогда не сможешь его забыть!
— Наш сын, — прошептал он, целуя ее.
И высвободился из ее объятий. С тоской в душе, но с храбрым видом направился он к реке. Теперь в нем билось сердце настоящего мужчины. Зрелого мужчины, который думает о своем сыне.
14 Сорита-де-лос-Канес
Тахо пересекает долину Саседон с севера на юг, а Гуадиела течет к ней с востока, по прекрасной земле курорта Ла-Исабель. Но огромная скалистая стена горных хребтов Энмедио преграждает ей путь, и река резко устремляется к югу. Однако достигнув конца каменной гряды, она круто сворачивает к северу, навстречу Тахо. И уже вместе, бок о бок, ревя от радости, что встретились, обе реки прорываются сквозь узкую долину, обрушиваясь с порогов Боларке на плоские равнины Гвадалахары — преддверие просторов Толедо и Эстремадуры.
Падая с одного из самых своих высоких порогов, Тахо расстается с верховьем. Уже многие годы бурную, клокочущую, с бешеными водоворотами реку обуздывает плотина электростанции, а сплавной лес спокойно обходит ее стороной, ничем не напоминая о былых опасностях. Здесь, в укрощенных водах, снова появились королевские плавучие трактиры, и виды теперь были словно созданы для туристов. И все же дикие утесы, жуткие пропасти, погруженные во мрак, узкие теснины меж скал до глубины души потрясли Шеннона. Казалось, будто реку, миновавшую пленительные края Алькарии, Энтрепеньяса и Боларке, вновь ввергли в плен неприступных гор.
У подножия водопада начинался край, где в прошлом происходило столько важных событий, что даже такой скромный знаток Испании, как Шеннон, не мог остаться равнодушным. На легендарных полях энкомиенды Сорита жила память об Альваро Фаньесе{Кастильский воин, родственник Сида, воевал вместе с ним и сопровождал его в изгнании.} и рыцарях ордена Калатравы, о магометанах, воздвигших мечеть в Альмогере, и маврах, завезенных в Ла-Панхию, чтобы наладить производство шелка. Раньше его поражало, что плоскогорье вновь сменилось дикими горами, а теперь он изумлялся тому, как могут стоять рядом электростанции и средневековые замки. Не удивительно было, что сухой, раскаленный воздух этих мест как бы напряженно дрожал. Мощная электростанция Боларке и гордые башни замка Сориты-де-лос-Канес были двумя полюсами, двумя противоборствующими силами на поле битвы, где вершилась история, где смешивались расы и судьбы людские.
Сплавщики раскинули лагерь поблизости от немноголюдного селения, домики которого жались к под нон; ню холма, увенчанного развалинами громадного замка. Посредине реки виднелись камни — остатки старого моста, некогда соединявшего нынешнее селение с давно уже исчезнувшим городским предместьем. В памяти Шеннона всплывали далекие отголоски испанских стихов, пока он созерцал «пустынные поля, печальный холм» и восхищался в ближайшей гончарной мастерской творениями человека, тысячелетиями создававшего хрупкие сосуды из жидкого месива, вдыхая в глину жизнь на бессмертном гончарном станке. Ему показали площадки с разными сортами глины, в том числе голубоватой, как мыло; показали печи, дровяной сарай и холодную пещеру, где остужали обожженные изделия. Шеннон возвратился в лагерь только к вечеру.
Ужин подходил к концу, когда на дороге со стороны Сайятона показался старик, опиравшийся о плечо коротко остриженного колченогого паренька с плутоватыми глазами. Подойдя к сплавщикам, парнишка остановился, а старик задрал кверху лицо, затененное полями рваного сомбреро, полускрытое космами волос и большой бородой. Из его котомки торчал копчик свирели. Правой рукой старик опирался о посох.
— Приятного вам аппетита, сеньоры! Подайте на пропитание несчастному слепому, — начал он заунывным голосом.
— Перестань, дед! — резко прервал его поводырь. — Это сплавщики!
— А, сплавщики! — сказал старик. — Я почуял дым костра и решил, что здесь закусывают. — В его голосе послышались почти презрительные нотки, но они тут же сменились дружескими, шутливо-заговорщическими. — Тем лучше. Надоело ныть перед дураками, хотя они и подают мне милостыню. А вы и без того поможете: ведь я товарищ плохим людям, а стало быть, и вам. Верно я говорю? — ядовито спросил он, с таким театральным высокомерием вскидывая голову, будто его слипшиеся глаза что-то видели.
Сплавщики засмеялись.
— Черт бы побрал этого деда! Нечего сказать, любезно просит!
— Хе! — произнес Дамасо. — Подсаживайся, дед, к котлу. Сразу видать, ты из тех, кто жалит ядовитым жалом.
— Жалил сыпок, жалил. Поживешь с мое, поймешь: с волками жить — по-волчьи выть.
Его притворная покорность отдавала не столько бахвальством, сколько хитростью. Поводырь усадил старика, а сам отошел в сторону, к Обжорке. На лице старика вдруг появилось беспокойство.
— Романсильо, сынок, ты где?
— Здесь, — чуть не плюнул от досады мальчик.
— Ты уверен, что это сплавщики?
— Сплавщики мы, сплавщики, успокойтесь, — заверил его Балагур.
— А что здесь делают женщины?
Паула не обронила ни единого слова, не выдала своего присутствия ни единым движением. Мужчины удивились.
— Как ты узнал, дед, что здесь женщина?
— Он чует их по запаху, — бесцеремонно заявил поводырь.
Лицо старика приняло выражение наглого превосходства.
— Ну и дед! — в восхищении воскликнул Сухопарый.
— Вам, зрячим, хватает того, что вы видите, а мне и нос служит… Да еще ветерок дует, вот я и почуял ее. Могу еще сказать, что она не старая.
— Ты это чуешь?
— У старух запах едкий, как у коз. А молодухи пахнут телками.
— Хе! Может, ты скажешь, блондинка она или брюнетка? — насмешливо спросил Дамасо.
Старик смешно принюхался, повел носом.
— Скажу, сынок, скажу… Она не потеет, не так-то легко это узнать; мне кажется, мне кажется… Она далеко отсюда?
— В десяти шагах.
— Тогда брюнетка.
Послышались возгласы удивления.
— Черт возьми! Выходит, если бы она потела, ты бы ее опозорил перед всем честным народом.
Старик заговорил назидательно, и Шеннон наслаждался этой классической сценой из плутовского романа.
— А тебе запах женского пота ничего не говорит? Ладно, это неважно. Мужчине гораздо важнее узнать все о женщине по запаху. Если бы она подошла ко мне ближе, я многое мог бы сказать о ней.
— Поди сюда, Паула! — попросил заинтригованный Балагур.
— Нет, — решительно ответила она.
Старик от удивлении открыл рот.
— Ну и женщина! Какой голос!
— Вот что, сказочник, — перебил его Балагур. — Хватит нам голову морочить, не на дураков напал.
— Эх ты, сразу видать, уши тебе ни к чему. А мне мои хорошо служат. — Он на миг задумался, но тут же с горячностью предложил: — Пускай она подойдет ко мне, я о ней многое узнаю.
— Не дотрагиваясь? — хихикнул Дамасо.
— Вот те крест, — поклялся слепой.
— Слушай, Паула, ну что тебе стоит подойти, — засмеялся Сухопарый.
— Нет!
— Оставьте ее в покое, — вмешался Двужильный.
— Ничего не поделаешь, — смиренно отозвался слепой. — Какой ей интерес подходить к старику…
— Хе! А что, есть приманка для тех, кто подойдет?
— Ты уж не выдавай моих секретов, сынок, — захохотал старик. — По правде говоря, попадался кое-кто и на мою удочку… Они не знали, что может учуять мой нос… Можно сказать, я вижу им! На что мне глаза! Глаза обмануть легко. Теперь этому все научились. Прикроют, что надо, и готово дело. А вот запаха не скроешь.
— Это у вас от рождения? — полюбопытствовал Кривой.
— Нет. Я сделал себя слепым в восемнадцать лет.
— Сами?
— А что тут такого? И ничуть не жалею. Там, где я родился, многие болеют трахомой. Бывает, родители нарочно заражают детей, ради их же блага, чтобы они потом получали пенсию и жили спокойно. Долго я не отваживался, но наконец решился… Не хотел, чтобы меня забрили в солдаты… А может, и не потому, уже не помню.
— Но вы теперь ни на что не годитесь!
— Не гожусь? Я? Может, только для работы. Раньше я был поденщиком, гнул спину от зари до зари. А теперь научился играть на свирели и просить жалобным голосом милостыню. Вот и скажи, что лучше. А для остального я так же пригоден, как и все.
— Черт возьми! — не унимался Сухопарый. — Откуда вы знаете, что блондинки пахнут так, а брюнетки эдак?.. Я замечал, что они пахнут, а вот разницы учуять по могу.
— Хе! Да они у тебя все на один манер.
— Ты что же думаешь, сынок, у меня баб не было с тех пор, как я ослеп? Может, еще и побольше стало! Быть слепым очень выгодно на нашем свете!
— Почему?
— Не говори ему, дед, — пошутил Балагур, — а то чего доброго глаза себе выколет.
— Почему выгодно? Слепому больше доверия… Прихожу, к примеру, в дом, мужа нет, вот они и доверяются бедному слепому, потому что он не причинит им вреда. Как же, на улице встретит — не узнает… Вот они и проходят мимо, будто знать тебя не знают, ведать не ведают. К тому же, — заключил он, смеясь, — грешат-то они из сострадания.
Сплавщики тоже рассмеялись.
— Уж лучше так, скажу я вам… — продолжал старик. — Людям я жалуюсь на свою судьбу, а перед вами не стану кривить душой. Мы ведь одного поля ягодки. Немало лакомых кусков перепадает мне взамен моих глаз.
— Но ведь у вас жизнь опасная, — проговорил Балагур. — Можете оступиться, упасть…
— А разве у зрячих она не опасная? Да вот взять хоть случай, который произошел у плотины, где я вчера проходил.
— А что там произошло? — встревожился Американец.
— Забойщика завалило камнями во время работы. Даже откопать не смогли.
Трое сплавщиков, ходивших вместо с Американцем к плотине Энтрепеньяс, переглянулись. Четырехпалый спросил:
— Его не Маркосом звали?
— Уж не знаю, как его звали. Но кто бы он ни был, глаза его не спасли.
Наступившую тишину прервал Дамасо.
— Схожу за флягой, что-то долго не несут.
Он подошел к обозу, поискал что-то и вернулся с головным платком Паулы, который она не повязывала с тех нор, как потеплело.
— А пн-ка, дед, что тебе говорит этот запах?
— Не смейте! Я не хочу! — запротестовала Паула, тщетно пытаясь отнять платок.
— Дамасо! — прорычал Антонио, выступая вперед.
Американец тоже поднялся, насторожившись.
— Черт подери! — вмешался Сухопарый. — Чего это вы все повскакали? Мы ведь шутим!
Антонио сдержался, не желая выдать себя и повинуясь взгляду Паулы.
— Не бойся, дочка, — сказал слепой, — я тоже знаю, что такое воспитание… Уф-ф-ф! — понюхал он платок. И приложив его к лицу, еще раз повторил: — Уф-ф-ф! — Затем помолчал немного и воскликнул: — Кто же он, кто же этот парень?
Паула одним прыжком подскочила к нему и вырвала платок. Она была в бешенстве.
— Ну и язык у тебя! Истинно без костей!..
— Кто же оп? — злобно спросил Сухопарый. — Черт возьми! Нюхай нас сейчас же, всех подряд!
Шеннон, стремясь все обратить в шутку, сказал:
— Зря стараешься, Сухопарый. Охота ему нюхать мужчин.
— И то верно, неохота, — засмеялся старик.
— Ба! — вскочил Балагур. — Разве вы не видите, что он нас дурачит? Как это по запаху можно столько узнать!
— Ясное дело, нельзя, — напустив на себя серьезный вид, согласился слепой, избегая новых вопросов, — но ведь надо же как-то развлечься. Пусть девушка меня простит, если я ее обидел. А за вино, которое я сейчас выпью — ах, как оно пахнет! — я сыграю вам что-нибудь на свирели.
— Давай, давай! — обрадовался Балагур.
Слепой поднял флягу в воздух и воочию доказал, что пить вино он умеет не хуже других. Затем, причмокнув языком, утер рукавом губы, достал из котомки тростниковую свирель, приладился, и вдруг из нее хлынула звучная кастильская хота. Балагур забарабанил в такт по пустому котлу, и пошло веселье.
Американец поднялся и двинулся к селению. Ему не правились и слепой, и этот хохот, вызванный музыкой и вином. Он был озабочен злобной вспышкой Сухопарого и отлично понимал, что старик разжег любопытство сплавщиков. Его беспокоило все: тихое течение реки; безделье артельщиков, от которого начинается распутство; отдых в тени во время зноя; присутствие Паулы… Словом, его беспокоили приметы приближающегося лета, которые будоражили кровь и будили желания. И это было естественно. Три дня назад миновало двадцать первое июня: лето началось. Чувства, которые он испытывал, совсем не походили на покой, обещанный братом Хустино.
Неужели придавило камнем того самого бригадира в кожаной шапке? Нет, это невозможно. В сущности, в тот день у плотины Энтрепеньяс не произошло ничего невероятного. И тем не менее все, что произошло, было очень странно! Как легко тот человек поднял ржавую заслонку водоспуска; как тщательно вода смыла все камни; как стремительно продвигался тот человек, почти по воздуху; как просто он восстановил мир…
Да, тут не было ничего сверхъестественного, и все же легкость, которая неизменно сопутствовала во всем брату Хустино, казалась невероятной. И хотя в тот день но свершилось никакого чуда (но разве не сказал он, что все чудо?), в сердце Американца поселилась надежда на обещанный покой. Именно поэтому Американец покинул своих развеселившихся товарищей, рядом с которыми обрести мир не так-то просто; именно поэтому, пройдя под аркой, он вошел в селение и очутился на тихой площади, прикрытой замком.
Три старухи, равнодушные к лучам солнца, сидели на камышовых скамейках. Они почти не отличались друг от друга, все были в черных шалях. Самая дряхлая пряла пряжу, вторая мотала нитки, третья, у которой на юбке лежали ножницы, вязала четырьмя спицами чулок.
— Нынче не те времена пошли! — вздохнула одна из них. — Никто уже не прядет пряжу, да и чулок не вяжет.
— Девушки теперь вяжут на свой лад. И ходят как щеголихи! Настоящие щеголихи!
— Еще и нас научить норовят… Ты не подашь мне ножницы, сестрица?
— На, возьми… Не успеют. Недолго нам жить осталось. Придет однажды день, и с нами случится то же самое, что с Американцем.
— Бедняга! Он и с наше-то не пожил. Кто бы мог сказать, что он так быстро умрет?
Погруженный в свои мысли, Американец вздрогнул, услышав невероятное известие о собственной смерти. На него словно обрушился внезапный удар, и все кругом вдруг стало каким-то нереальным и вместе с тем особенно ощутимым: и этот уголок, и солнце, и три мрачные старухи, одна из них пряла, другая мотала нитки, третья — вязала чулок… Можно было всего коснуться рукой, но стены казались нарисованными, а старухи — восковыми.
Он подошел к старухам и, думая, что ослышался, спросил:
— О ком вы говорите, сеньоры?
— Об Американце. Так тут называли одного отшельника.
— Он вчера умер, — пояснила другая, глядя на него чистыми глазами.
— Вчера?
— Да. Его нашли в башне, он уже был при смерти.
— Тереса первая это увидела, когда понесла ему овощей.
— Его сразу отнесли вниз, к доктору, но он ужо ничем не мог помочь.
— Мир праху его, святой человек был.
— С радостью и смирением принял он смерть. Святой человек был, это верно.
— Говорят, он просил: «Не трогайте меня, не трогайте! Не вставайте у меня на пути. Наконец-то я иду туда!»
— И лицо у него было святое.
— И то правда: святое.
— Все говорили, что у него святое лицо.
— Его еще не похоронили, суток не прошло. Он лежит на кладбище.
Перебив старух, Американец узнал, что такое же прозвище, как ему, дали в Сорите отшельнику, который раньше жил в Америке и никому не хотел говорить своего настоящего имени. Даже жандармам не удалось узнать. А когда началась война, его не стали трогать, сочли сумасшедшим. Он появился в селении лет десять тому назад и поселился в башне, где когда-то помещался телеграф. Никто ого но знал, но он, кроме добра, ничего людям не делал. И, говорят, много молился. Ел только то, что ему давали, когда он спускался из своей башни в селение. «Можно сказать, почти ничего но ел!» А если ему перепадало больше, чем надо, делился с бедняками. Сначала кое-кто из местных жителей водил к нему больных на исцеление и просил свершить чудо, но он сердился и говорил, что он всего лишь грешник. Потом люди привыкли к нему и оставили в покое. Видели его только тогда, когда он сам приходил в селение.
— А где он в Америке жил? — поинтересовался Американец.
— Кто его знает! Он никогда ничего о себе не рассказывал. Мы даже не знаем, кто он.
— Поговаривают, будто у него на груди нашли запечатанный конверт, и его забрал алькальд, чтобы переслать по адресу.
— Но это неправда, сеньор. Пустая болтовня. Он часто заходил к нам в дом и говорил, что не хочет оставлять по себе память и мечтает только умереть в мире. Он всегда повторял: «Жить — значит идти к смерти». И прав был. Теперь господь бог прибрал его к себе.
Американец спросил у старух, как пройти на кладбище, и отправился туда, напоследок еще раз услышав щелканье ножниц. Дойдя до небольшого участка земли за кирпичной оградой, напоминающего загон для скота, он толкнул калитку, едва державшуюся на петлях. В глубине стояла маленькая часовня. Справа был домик с открытой дверью, служивший складом, а против него — еще один, где хранились инструменты и веревки. Там-то, на каменном столе, в гробу, сбитом из некрашеных сосновых досок, лежал покойник.
В домике царили полная тишина и летний полумрак, сквозь который просеивался золотистый солнечный свет. Пахло камнем, землей, затхлостью, но не разложением, покойник лежал равнодушный ко всему, отрешенный от мира. Американец удивился, увидев, что на покойнике обычный крестьянский костюм — брюки и куртка из черного вельвета — вероятно, кем-то пожертвованный. Но вместо рубашки грудь его прикрывал кусок бурого холста, на котором, свисая с шеи, лежал маленький крестик — две связанные веточки. Умерший был человек рослый, в прошлом, наверное, довольно тучный. Теперь щеки его ввалились, костлявые руки были обтянуты кожей. Пальцы с уже посиневшими, но чистыми ногтями были спокойно сцеплены.
Американец перевел взгляд на его лицо, окаймленное седыми волосами и густой бородой. Спутанные, но опрятные пряди обрамляли лоб. И хотя уже очерчивались резче глазные впадины и скулы, на лице этом не было никаких следов напряженности — казалось, покойнику без труда закрыли глаза и рот. Он казался естественным, словно человек, спящий безмятежным сном. Особенно губы — легко сомкнувшиеся в последнем вздохе покоя и утешения.
Американец никогда прежде не видел этого лица. Напрасно вглядывался он в покойника, надеясь его узнать. Ради этого пришел он на кладбище. Но тщетно воскрешал он в памяти людей и военные походы в Америке — лицо покойника оставалось чужим. Он смотрел и смотрел на него, один в этой келье, и наслаждался царившим здесь миром. Все проблемы, все то, что люди называют проблемами, осталось за стенами кладбищенского домика.
Американец продолжал напряженно вглядываться в это лицо, и вдруг у него возникло смутное ощущение, будто он различает в нем какие-то знакомые черты. Да, да, он где-то видел его раньше. Надо только представить его себе лет на десять моложе, а может быть, и больна… Сколько лет могло быть этому человеку? Трудно сказать: задолго до того, как он умер, время не трогало его. Возможно, лет пятьдесят, а может быть, и семьдесят. И чем дольше он ломал над этим голову, тем явственнее становилось сходство. От напряжения на висках у Американца проступил пот. Каким был этот человек лет десять, пятнадцать назад?.. Не будь этой бороды и длинных волос…
О, господи! Его вдруг охватил ужас, и вместе с тем сразу стало легче оттого, что он раскрыл тайну. Сомнений не оставалось: чем больше вглядывался он в усопшего, мысленно откинув седые волосы и представив себе его губы и очертания подбородка, тем явственнее видел себя таким, каким был когда-то, каким был запечатлен на фотографии, которую хранил долгие годы. Это было невероятно. «Но разве в глубине души, — подумал он, — не ожидал я обнаружить здесь почто необъяснимое, странное?»
Как он не догадался сразу, с первой же минуты? Конечно, это он сам! Его лоб покрылся холодным потом, пока он призывал на помощь все свое спокойствие. И вдруг его осенило. Он должен это сделать, во что бы то ни стало. Только так сможет он рассеять сомнения и не лишиться разума.
Мысленно попросив прощения у покойника, он попытался приподнять его верхнюю губу, уже затвердевшую. Она выскальзывала из пальцев и никак не давалась. Он еще раз дернул ее вверх, почти с ожесточением, чтобы увидеть зубы. Нет, это был не он. Не было золотого зуба там, где ему полагалось быть.
Он отдернул руку. Приподнятая, как в зверином оскале, губа опустилась, и лицо снова стало спокойным. Американец тотчас почувствовал, как придуманное им сходство рассеивается. Этот человек совсем не походил на него, разве что оба были приблизительно одного сложения и возраста. Покойник выглядел как человек, много переживший и получивший наконец вознаграждение. Он лежал, отрешенный от всего, равнодушный, нашедший в смерти мир. Теперь Американец заметил у него под подбородком шрам. Вероятно, оставшийся с войны. Нет, между ними не было сходства, и то, что он думал, вернее, чуть не подумал, было невозможно. Наваждение можно объяснить жарой, странными развалинами замка и тем, как он испугался, услышав слова старух… Но… их было три: одна пряла, другая сматывала нитки, третья — вязала… Да и почему, собственно, не мог умереть другой Американец, утративший покой несколько лет назад? Возможно, его сейчас хоронил бы брат Хустино с той же легкостью, с какой он управлял камнями или ходил по земле, едва ее касаясь.
Оп опустился на колени и помолился за упокой души этого Американца, который — он не сомневался — когда-то жил так же, как Американец-сплавщик. Он поднялся, вошел старик с заступом и ломом. Старик удивился, обнаружив здесь чужого.
— Мне сказали, что он умер, и я пришел взглянуть, — объяснил Американец. — Восемь лет назад у меня пропал брат, понимаете? И я хотел посмотреть, не он ли это.
— Этот жил в башне, почитай, лет десять.
— Тогда не он… Послушайте, — Американец снова хотел удостовериться, — вы не находите между нами сходства?
Старик несколько раз перевел взгляд с живого лица на мертвое.
— По правде говоря, нет… Все мы чем-то похожи один на другого. Особенно покойники… Нет, не сказал бы.
— Конечно. Раз он здесь жил десять лет, ото не брат. Но кто бы он ни был, мир праху ого.
— Пет, совсем не похож… Вы сами должны это видеть. Он хоть и высох, а все же мало изменился.
Могильщик ждал сына, чтобы тот помог ему похоронить покойника, а сын отправился со своим ребенком к причастию. Американец предложил свои услуги, и вдвоем они, как сказал старик, «покончили с делом», оставив еще один холмик в этом коррале за кирпичной оградой, где уже возвышалось множество других.
— Сеньор алькальд не решался дать согласие — ведь он даже не знал, крещен ли этот человек, но сеньор священник распорядился похоронить его как доброго христианина, потому что, видит бог, он, и в самом деле, был добрый христианин.
Могильщик показал башню, в которой обитал отшельник. До нее было меньше часу ходьбы, а Американец ходил быстро. Уже вечерело, но солнце все еще ярко светило над лесной дубравой, над желтыми полями пшеницы и золотистым ячменем, над узкой зеленоватой полосой реки и над прибрежными кудрявыми рощами, терявшимися среди холмов.
Американец шагал вверх по извилистой тропе не очень крутого холма и, подойдя к башне, вспугнул птиц, взволнованно щебетавших перед дверью.
Это было квадратное двухэтажное строение, не слишком древнее, но уже ветхое. Верхний этаж давно превратился в развалины. Черепица крыши и стропила были еще довольно прочными, только в углу виднелась широкая трещина.
Тот человек почти не оставил здесь следов. Его вещи отнесли вместе с ним в селение. Лишь ниша в стене да копоть, осевшая в одном из углов до самой дыры в крыше, говорили о том, что здесь орудовала человеческая рука. Больше Американцу ничего не удалось обнаружить, хотя он и искал. Какое жалкое жилище! А спал он, наверное, прямо на полу, едва чем-нибудь прикрываясь.
Вдруг Американец заметил что-то между камнями и стене. Тот, кто ростом ниже умершего, вряд ли мог обнаружить это. В углу против очага, в стоне, где был нарисован углем крест и явно было изголовье его ложа, лежала медаль. Он присмотрелся. Нет, не медаль, а монета! Сердце Американца радостно забилось, это был мексиканский сентаво. Он долго разглядывал лицо, изображенное на нем, и орла и кактус на обратной стороне.
Погруженный в свои мысли, он не заметил, как очутился за дверью. Упрямые птицы, снова прилетевшие на прежнее место, поспешили благоразумно удалиться на почтительное расстояние. Но по улетали, стараясь своим щебетом привлечь к себе внимание человека.
Они явно чего-то ждали от него! Американец присел на ступеньку перед дверью, достал кусок хлеба, который прихватил с собой, и стал его крошить. С пронзительным щебетом, совсем как дети, птицы накинулись на угощение. Маленькими скачками по хорошо знакомой им земле они приближались к двери, хватали крошку клювом и уносили с собой, все еще не доверяя незнакомцу. Потом возвращались за следующей крошкой и снова улетали, уже не так стремительно, как прежде. Одна из них, совсем осмелев, склевала кусочек хлеба в двух шагах от Американца. Это был воробей со сломанной лапкой. Он прыгал с трудом и все время припадал к земле: когда он стоял, ему приходилось поддерживать равновесие взмахами крыльев… Именно он первый рискнул остаться, возможно, потому, что ему трудно было часто отрываться от земли. Его примеру последовали другие: они весело прыгали, чирикали, клевали…
А Земля меж тем с невероятной быстротой вращалась вокруг Солнца, и на ней роились честолюбивые замыслы, множились победы, убийства, открытия, пытки, эпидемии, радости. Но здесь, возле башни, солнце склонялось к закату так медленно, что казалось неподвижным; птицы щебетали, а хлеб, словно манна небесная, неторопливо падал из костлявых рук. «Если бог печется о птицах небесных…» Бог его руками крошил хлеб и бросал крошки на землю. Все было очень просто, жизнь казалась безоблачной, и в самой ее мимолетности заключалась вечность. Человек дышал спокойствием и миром.
Вдали, над замком и селением, тоже наступал вечер. Мягкий золотистый свет еще покоился на разрушенных зубцах стен, а крошечный поселок уже погрузился в темноту. Когда слепой пересекал площадь, направляясь к лагерю сплавщиков, куда его пригласили поужинать в благодарность за игру на свирели, какой-то человек остановил его под аркой у здания аюнтамиенто. Они говорили довольно долго.
Затем слепой, чем-то озабоченный, пошел дальше. Ему предстояло выполнить довольно щекотливое поручение, а ото было не так-то просто: девушка была очень недоверчива и не робкого десятка. Хорошо еще, что утром он не сказал всего, что учуял в запахе ее платка… А теперь он должен подойти к пей и ни с того ни с сего затеять разговор, чтобы выполнить поручение незнакомого человека. Да, не так-то ото просто. Откуда он мог узнать, что слепой был у сплавщиков?
— Послушай, Романсильо, сыпок, — спросил он мальчика, — какой из себя человек, который только что говорил со мной? Он городской?
— Нет, похож на деревенского, только из важных.
— В галстуке? С цепью? С кольцами?
— Галстука нет, а цепь есть. И толстое кольцо на мизинце.
Откуда он мог узнать? Наверное, слышал свирель. Ходил вокруг лагеря и слышал… А потом подкараулил и… Теперь попятно… Видно, здорово задела его эта девушка… но это не любовь… На влюбленного он не похож.
— Он молодой?
— Да так: ни молодой, ни старый.
Стало быть, средних лет. И все же любовь тут ни при чем. Влюбленного слепой за километр чует! Почему же ему так надо увидеться с пей? Десять дуро за такое поручение не каждый даст. Что ж, придется выполнять. Ну да ладно, как-нибудь справится. Черт возьми, как впиваются в ноги проклятые камни!
— Куда ты меня ведешь, окаянный?
— Тут везде камни.
— Знать бы, где мы… А! Я чую дым костра и слышу всплески реки, по вечерам прилив сильнее.
— Уже совсем близко.
— Держи ухо востро. Ты же знаешь, мне надо поговорить с девушкой.
— Она сейчас у родника, дед!
— Одна?
— Да!
— Так веди меня туда скорее, окаянный!
Старик с трудом поспевал за проворным мальчишкой, но, едва услышав, как льется струя, уже наполовину заполнившая кувшин, замедлил шаг, чтобы девушка не заподозрила, что он торопится. Паула с неприязнью ответила на его приветствие. Старик заговорил как можно любезнее.
— Прости меня за утреннюю шутку, милая. Ведь я по сказал бы о тебе ничего плохого.
— А что вы знаете обо мне плохого? — спросила Паула, скрывая резкостью тревогу. Слепой это сразу же почувствовал.
— И то верно, ты сама себе хозяйка и знаешь, что и когда говорить… Я только по хотел бы отплатить за добро злом…
— Вы мне не сделали ничего плохого, — ответила Паула.
Струя воды уже наполнила кувшин по самое горлышко. Слепой подтолкнул поводыря, давая понять, что ему пора удалиться.
— У меня и в мыслях не было, — твердо произнес старик, — но если бы ты захотела, я знаю, он все уладил бы.
— Он? Кто это?
— Тот человек, который тебя ищет.
Вода полилась через край, он услышал, как Паула подняла кувшин. И почти физически ощутил, с каким напряжением она размышляет над тем, как ей отбиться от его намеков.
— Меня никто не ищет.
— Он приехал сюда из Сотондо.
Кувшин выскользнул из ее рук и едва не разбился.
— Что вам от меня надо? Какую дурную весть вы несете? Какой камень держите за пазухой?
Слепой поднялся.
— Зря так говоришь, девушка. Я не держу камня за пазухой. Мое дело передать тебе то, что меня просили, а потом я буду нем, как могила. Какой мне прок причинять вред распустившемуся бутону? Мы сейчас одни, верно? Я скажу тебе все, как есть, а дальше решай сама.
— Ну что ж! Выкладывайте начистоту и давайте покончим с этим.
— Так вот: когда я возвращался из села, куда ходил за подаянием, меня остановил какой-то человек и сказал, что его зовут Бенигно.
— Бандит!
— Чего не знаю, того по знаю. Скорее всего, он пронюхал, что утром я был с вами, а потому спросил, не вернусь ли я еще в лагерь. Я ответил ему, что глупо пренебречь любезным приглашением сплавщиков. Тогда он поинтересовался, с ними ты или нет. А когда я ответил, что с ними, велел мне кое-что сказать тебе.
— Знать ничего не хочу об этом мерзавце.
— А что ты выгадаешь от того, что ничего не узнаешь? Если он желает тебе зла, чем больше ты будешь о нем знать, тем для тебя лучше… Он только просит тебя с ним встретиться.
— Чтобы снова заманить в ловушку?
— Там и узнаешь. Я же тебе сказал. Он говорит, что может донести на тебя в жандармерию…
— Пусть доносит.
— На тебя… и на твоего дружка.
Девушка смолкла, и слепой понял, что коснулся самого для нее больного. Будь этот Бенигно похитрее, знал бы, куда бить. Пожалуй, если ему подсказать, он даст еще десять дуро. А то и все двадцать.
— А что он может донести?
— Вам лучше знать. Я только бедный слепой. Наверное, что-нибудь может.
— На нас ему нечего доносить.
— Даже если и нечего, наплести можно все что угодно — и правду, и напраслину. А пока жандармы разберутся…
Паула хранила молчание. Казалось, невозможно было услышать, как она ломает пальцы, но слепой слышал. Услышал он и кое-что еще.
— Тише. Сюда кто-то идет.
— Знаю.
Он слышал, как она подняла кувшин, но не знал, куда она его поставила. Вероятно, на свое мягкое бедро.
— Идемте со мной.
Через несколько шагов, разминувшись со встречным, они остановились в сумеречной прохладе деревьев.
— Так чего же он хочет от меня?
— Поговорить. Ему надо что-то сказать тебе.
— Ясно, хочет снова заманить меня в какой-нибудь дом и уж на сей раз поймать…
— Ошибаешься. Он будет ждать тебя в полночь на площади у арки. Захочешь — остановишься там и поговоришь с ним, а нет — он пойдет на тобой, куда ты пожелаешь. Он хочет только поговорить.
— Мне не о чем с ним разговаривать!
— Зато ему есть, что сказать тебе. И он скажет во что бы то ни стало, уверяю тебя. Он ото твердо решил. И сказал, что, если ты не придешь, он все равно отыщет тебя, даже в лагерь явится.
Паула засмеялась, на сей раз уверенно, с издевкой.
— Ерунда! Он не осмелится!
— Один, может, и нет, — веско сказал слепой, — а вот с жандармами…
И снова почувствовал, как она испугалась. Но эта смелая девушка вряд ли боялась за себя — скорее всего, за кого-то другого. Да, это было ее больное место, рана, которая кровоточила.
— Ну вот что, милая, — заключил слепой, — я передал то, о чем меня просили. Ты знаешь, где тебя будут ждать, от меня же никто ничего не услышит. Вот те крест, — он скрестил средний и указательный пальцы и поцеловал их, — сказано и забыто. Да отнимет бог у меня глаза! — пошутил ом. — А теперь послушай моего совета.
— Хороший совет может дат], человек, взявшийся за такое поручение, — сказала Паула презрительно.
— Всякий совет хорош… так что не плюй в колодец… Да и что мне за польза: вы пойдете своей дорогой, а я — своей. Если я и взялся за это поручение, — ядовито проговорил он, — то вовсе не из корысти, а чтобы сохранить семью, как бог велит. Я думал, что Бенигно — отец ребенка.
На этот раз он почувствовал, что она побледнела.
— Уж не хотите ли вы сказать…
— Со мной нечего финтить, меня но обманешь. Те, кто рожал, пахнут не так, как девушки… Но ты не бойся, милая, — с притворным благодушием продолжал он, убедившись в ее испуге, — кроме меня, никто не узнает. А если я ошибся и отец у ребенка другой, не суди обо мне плохо. Я хотел только добра… Давай покончим с этим делом и послушай моего совета: Бенигно не так уж храбр, у него кишка топка, понимаешь? Ты сумеешь дать ему отпор, и он отступит. Говорю тебе это, как родной дочери. А уж ты сама решай, как тебе быть.
Паула молчала. Он услышал, как она проглотила слюну и, поборов волнение, проговорила почти спокойно:
— Ну что ж, пусть ждет нас.
И, взяв старика за руку, отвела в лагерь, откуда доносились запахи костра и еды. Когда они подошли, Дамасо как раз сердито выкрикнул:
— Раз нет вожака, ему же хуже! Наваливайся, братцы, на жратву, самая пора! Хе! А вот и музыкант подоспел с королевой сплавщиков! Флягу сюда, начнем веселье!
Американец не мог быть рядом с ними, хотя и находился неподалеку. Возвращаясь из часовни, он шел вверх по косогору, к замку, охваченный единственным стремлением: как можно дольше оставаться наверху, где не так давят со всех сторон горы. Добравшись до вершины, он прошел под сводом и вышел на большой старинный плац, окруженный развалинами древних стен с остатками зубцов.
Впереди, на фоне бледного неба, он увидел Шеннона, наблюдавшего за тем, как всходит луна. Огромная, печальная, кроваво-красная, превратившись постепенно из дуги в идеальную окружность, она оторвалась от земли и всплыла из-за гор.
— И вы тоже… — тихо сказал Американец.
— Что тоже? — улыбнулся Шеннон, оборачиваясь и не слишком удивляясь его появлению.
— Как бы это сказать… Бежите, ищете здесь уединения, убежища… как я… А остальные внизу.
Они помолчали, пока луна поднималась по небосклону. Свет ее словно сгущался, и, казалось, развалины заливает лунное озеро.
— Здесь мертвый замок, — снова заговорил Американец, — а там, внизу, люди, Паула…
«И неутомимая, быстрая река, — промелькнуло в голове у Шеннона. — А между замком и рекой — умирающая Сорита, некогда такая могущественная и такая ничтожная теперь».
Ожившие полотнища стен поднимались ввысь в черном серебре ночи. Прикосновение к ним небесных светил превращало каждый камень в лунный цветок.
— Сейчас, — сказал Шеннон, — настоящими здесь кажутся лишь тени, такие они живые. А тишина обретает голос, так она напряжена… неясные очертания камней прозрачны в лунном свете; крики птиц, жужжание мошкары, шелест ветра кажутся вымыслом наших ушей…
Так он рассуждал, пока Американец вдруг не перебил его, впервые обратившись к нему на «ты». Шеннон был приятно удивлен: до сих пор только они во всем лагере сохраняли вежливую дистанцию.
— Помнишь тот день, когда возле адвокатовой мельницы я рассказал тебе о своей жизни? Тогда я не мог объяснить, почему вдруг пустился в воспоминания.
Как не помнить Шеннону тех дней, когда он еще смутно повиновался своему предчувствию, когда надежда еще не обрела имени!
— А сегодня я понял. Я знаю, почему это произошло. Теперь я знаю почти все… Это начинался конец, за которым — покой и мир… Да, друг, моя жизнь кончена… Но не думай, что я собираюсь умереть или покончить с собой. Я хочу закрыть двери суете, которая меня окружает, и остаться пае дине с правдой камня… И не только хочу, я принял твердое решение и, по существу, уже выполнил его… Взгляни туда, — продолжал он, — тебе, наверное, не видно отсюда, но там есть башенка. Сегодня я обрел в ней мир. — Он помолчал мгновение и заключил: — С птицами. Как предсказал мне брат Хустино.
Наверху Шеннон слушал новую исповедь Американца, на сей раз — о смерти и воскресении, а внизу, в тени поселка, таился Бенигно. Еще ниже, у берега, ужинали, попивая вино, собравшиеся в круг сплавщики, оглашая окрестности смехом и звуками свирели.
Пауле удалось знаком предупредить Антонио, чтобы он следовал за ней. И прихватив глиняные горшки, она спустилась к самой реке, скрытой от сплавщиков холмом.
Антонио не замедлил явиться, и Паула рассказала ему о разговоре со слепым и о своем намерении пойти на встречу с Бенигно. Слепой прав: надо дать ему отпор.
Но Антонио запретил ей идти, уж если кто пойдет, так он, и немедля. Паула испугалась кровавой развязки и, вскочив, преградила ему путь. Завязалась борьба. Взбешенный Антонио вырвался из рук Паулы, бросив ее на землю. Только плач девушки — так странно было видеть ее плачущей — удержал его. Он встал рядом с пей на колени, они обнялись. Антонио послушался ее. Но и ей не надо идти. Если этот тип возведет на них напраслину, они сумеют доказать, что он врет.
Страх отступил перед слезами и словами утешения. Они поклялись друг другу, что никто из них не пойдет. И Антонио вернулся в лагерь прежде, чем у сплавщиков могла зародиться мысль, что он отправился на свидание. У входа в селение виднелись чьи-то неясные тени, но Антонио знал, что это не Паула.
Паула мыла посуду в освещенной луной реке. Ночь была исполнена столь безмерного покоя, который даже угнетал.
«Да, — думал Шеннон, стоявший наверху, — ночь исполнена столь безмерного покоя, какой не может вместить в себя человек». Он слушал Американца и сочувствовал ему, стараясь постичь, почему тот решил поселиться в башне умершего и обрести там мир, после того как доведет сплавной лес до конца пути.
— Все очень просто! — заключил Американец. — Ведь в сущности я давно от всего отдалился, осталось только подвести черту… Поверь, друг, так я разом вырву с корнем свои сомнения.
Шеннон понимал его, хотя сам бы так не поступил, потому что… Глядя на луну, он нашел нужные слова:
— Да, твои сомнения можно вырвать с корнем, они достаточно выросли и обнажились. А мои нет. Посмотри на луну: чтобы там, в вышине, достичь такой белизны, такого ясного, полного равнодушия, она прежде была багряно-красной, а уж потом оторвалась от земли. В пашем мире смешно то белое, что сначала не было раскалено докрасна. Особенно если не хватало для этого духу… Я еще только начинаю раскаляться. А значит, у меня остается надежда.
— Но твои прежние сомнения… — терпеливо спрашивал тот, кто уже находился на пути к избавлению.
— Я не могу уйти от жизни… Вернее, не хочу. Я родился на земле, и здесь мое место. Я об этом не просил, и не повинен в этом, но я принимаю вызов, брошенный мне свыше. Величие человека в том и состоит, чтобы гордо нести бремя, которое непрошено взвалили ему на плечи. Нести его, не теряя достоинства и не отчаиваясь. Вы научили меня этому. Ты и твои люди. Вы умеете не падать духом и делать свое дело… Я знаю, вы не покоряетесь, протестуете, но это ваш удел. А ваши радости так же зыбки, как звук свирели, который мы слышим. Вы добросовестно делаете свое дело, сами того не замечая, потому что сохранили природную невинность, как прекрасные, ни о чем не ведающие частицы этого огромного мира… Быть самим собой, человеком. Сколько в этом величия! И в этом я черпаю надежду на покой, — заключил Шеннон.
Наступило молчание.
— У меня тоже есть надежда, — наконец тихо проговорил Американец.
— Нет, нет! — пылко возразил Шеннон. — Ты уже обрел уверенность и мпр, а я еще страдаю. Это не просто слова. Иногда я почтп физически ощущаю боль в сердце. Но так уж мне написано на роду, я это чувствую всем своим существом. Оставь мне эту хрупкую, шаткую, слабую, но целительную надежду. Благодаря ей я теперь крепко стою на ногах. Как и все вы.
И от! снова показал туда, где змеилась огромпая река, уже вся серебряная, а свет своим легким прикосновением придавал волшебную красоту углу гончарной мастерской, деревьям, покосившимся столбам моста. «Все прозрачно и ясно», — подумал Шеннон. Туман тон ночи, когда раскрылась расщелина в скале, рассеялся. В ту же секунду темные фигуры у входа в селение вдруг стали багряными и в спокойном свете лупы взвилось пламя.
— Ночь Иоанна Крестителя, — вспомнил Американец.
И действительно, пламя возвестило о том, что пришло лето. В эту волшебную ночь отто разрывало оковы и, обретая силу, вырывалось на простор, чтобы зажечь землю.
«Гореть, как пламя костра, — подумал Шеннон, — вот в чем суть».
С зубчатой степы он разглядел на блестящих прибрежных камешках задумчивый силуэт женщины. Радость волной захлестнула его грудь, дыхание перехватило. Паула искала уединения, хотела побыть одна, возможно даже, сидя у реки, воскрешала в памяти ту первую лунную почт., когда они встретились. Разве не она сблизила их? Разве он и она не шли навстречу друг другу?
Вот почему он еще раз повторил, поднося руку к сердцу, которое так болело:
— Да, я страдаю. Но я не хочу закрывать двери. Напротив, я распахну их настежь перед своей надеждой.
Шеннон и Американец отправились в обратный путь. Позади остался лунный замок прошлого, давтто ушедших времен, а они начали спуск к реке, где потрескивало пламя, где полыхал огромный костер.
ЛИ
это молния, пламя, палящее солнце, копье, засуха, скок коня, острый нож, скорпион. Это восток, это лето. (Комментарии к «Ицзин», «Книге перемен»)15 Масуэкос
И спустя несколько дней костер, разожженный в Сорите, все еще полыхал перед глазами Шеннона. Высокий сухой чертополох догорал огромной горестной свечой. Огонь потрескивал, как дальний пулемет, то затихая вдруг на почерневшей земле, то вспыхивая опять, когда подступал к новым жертвам. Поверху плыл густой удушливый дым, богохульно закрывая солнце. Но на этой выжженной солнцем земле объятый пламенем малинник никого не удивлял, и Шеннон спокойно слушал рассказ Балагура о существующем в соседнем селении обычае.
— Он установился с давних нор, — говорил Кинтин. — Еще со времен битвы при Лепанто. Ты, наверное, не хуже меня знаешь о ней. Кажется, ее выиграл дон Хуан, большой хвастун, живший в Вильярехо-де-Сальваиес, чуть ниже по течению. Он был побочным сыном короля… С той поры каждый год 24 января там, как я уже тебе говорил, устраивают парад. Командир и солдаты маршируют в тогдашней форме, а знамя ничуть не похоже на нынешнее или республиканское.
Сплавщики находились недалеко от Масуэкоса, в чудесной местности между Лос-Кастильехос и Лико-дель-Агила, с крутого откоса которого река с силой врывалась в глубокое узкое русло. Стояли обычные летние дни: сверкающий рассвет быстро сменялся неподвижной, изнуряющей жарой, которая спадала, и то немного, лишь в сумерки. Все старались во время работы укрыться в тени, и лес беспризорно плыл но спокойной глади; приходилось обходить пожары, умножавшие число земных бедствий;
как одержимые стрекотали цикады; пшеничные ноля бесстрашно подрумянивались на солнце; животные задыхались от жары и жажды; люди исходили потом; зной будоражил их неудовлетворенную страсть. И чем дальше, тем больше. А впереди еще был август, готовый распахнуть свои печи.
Горячие ссоры вспыхивали то и дело. Но Шеннон предпочитал отмалчиваться и, погрузившись в себя, уже улавливал намечающиеся перемены. Волшебной ночью в лунном замке Сориты он произнес то, чего у него прежде не было даже в мыслях. Теперь он искал тайный источник уверенности, которая позволит ему строить свою жизнь на прочной и глубокой основе.
С Паулой они обменивались лишь необходимыми фразами, она его явно избегала, словно боялась ускорить события. Вот почему ирландец держался так обособленно, предпочитая уединение, и только изредка говорил с теми, кто был попроще, например — с Балагуром.
Но этот день, начавшийся, как другие, внезапно все перевернул вверх дном. Шеннон не мог бы сказать, что он услышал сначала: крик или топот людей, кинувшихся на помощь. Только он вдруг обнаружил, что бежит рядом с Кинтином к излучине реки, где было особенно много водоворотов, а со всех сторон несутся крики:
— Багор! Дайте ему багор!
— Он там, смотрите, всплывает!
— Хватай его! За руку!
Посреди реки действительно показалась рука, цеплявшаяся за ствол. Из-под воды на миг вынырнуло испуганное лицо Обжорки, его раскрытый рот хватал воздух. Но его тут же захлестнула волна, ствол закружился, и мальчик исчез.
Шеннон вспомнил, что почти никто из сплавщиков не умеет плавать. Не теряя ни минуты, он на бегу скинул куртку, страшась, как бы крюк багра не поранил мальчика или не зашибло бы его стволом, как Ткача. Он вошел в реку, уже не слыша криков, двинулся вперед, стараясь по возможности сократить расстояние, отделяющее его от мальчика. Багор он держал перед собой, чуть-чуть наискось, и отталкивал плывшие на него стволы. Шеннон услышал, как Американец приказал сплавщикам остановить бревна выше по течению, а сам поспешил с багром, чтобы расчищать ему путь. Когда дно ушло из-под ног, он нырнул, и в уши ему ударило сильное течение. «Как в Сульмоне», — подумал он, почувствовав холод воды.
Нырнув, Шеннон пытался сообразить, что же делать дальше, так как все равно ничего не видел под водой. Однако ничего не придумав, стал всплывать, ориентируясь на солнечные просветы между стволами. Ему посчастливилось найти довольно большой просвет. Вынырнув, он вдохнул воздух и снова погрузился. Так он проделал несколько раз, пока до него не донесся крик в ту минуту, когда он погружался. Мгновенно всплыв, Шеннон заметил рядом что-то светлое, как будто рубашку, но тут же потерял ее из виду. Снова пырнув, попытался схватить, но не удержал. Сделав еще одну отчаянную попытку, он наконец ухватил Обжорку за одежду, но в ту же минуту почувствовал, как его затягивает водоворот. Он рванулся, не выпуская мальчика, снова погрузился, потом оттолкнулся ногами от илистого дна и вместе с Обжоркой всплыл наверх, чтобы глотнуть воздуха.
Однако мутная вода заливала глаза, и пришлось всплыть где попало. Едва он успел вдохнуть и получше ухватить тонущего, как послышались предостерегающие крики, и он увидел ствол, устремившийся прямо к его голове. Тяжесть мальчика помешала ему быстро уйти под воду, и левую ногу Шеннона защемило стволами, ударившимися друг о друга. Едва не потеряв сознание от боли, он увидел рядом с собой багор и вцепился в него одной рукой, не выпуская из другой мальчика. Так Сухопарому удалось вытащить из воды ирландца и Обжорку. Американец вместе с другими прикрывал их, преграждая путь стволам, и каким-то чудом ни один ствол больше их не настиг.
Коснувшись дна, Шеннон не удержался на ногах. Пришлось подхватить его, донести до берега и усадить рядом с безжизненным телом Обжорки.
— Умер! — произнес чей-то голос рядом.
— Не может быть! — крикнул Шеннон.
И хотел было подойти к мальчику, но страшная боль в ноге не дала ему сделать и шага. Он вытер наконец глаза и огляделся. Вокруг него стояли почти все сплавщики и какие-то незнакомые люди. Кто-то сказал:
— Это случилось в один миг… Мальчик упал, он за ним бросился и тут же вытащил.
«Тут же?» — молнией пронеслось в голове у Шеннона. Но еще быстрее вырвался крик:
— Место, освободите ему место!.. Клади его туда, Сухопарый… Сними с него куртку!
Как болела нога! Удивленный сплавщик послушно повиновался приказу. И теперь стоял, держа куртку в руках, не зная, что с ней делать. Но Американец сразу сообразил. Он перевернул Обжорку на живот — под мальчиком образовалась лужа — и нажал на спину, чтобы выдавить побольше воды.
— Так, правильно! — воскликнул Шеннон и заметил, что круг возле них расширился. Он решил, что люди расступились, отдавая последнюю дань покойнику, и все его существо воспротивилось. — Сверни куртку, Сухопарый!.. Хватит, Франсиско, больше из него ничего не выдавишь! Теперь переверните его вверх лицом! Куртку под него!.. Нет, не под спину, под лопатки! А, черт бы побрал эту ногу!.. Так… Ворот расстегнуть, пояс сиять!
Американец, выполняя распоряжения Шеннона, опустился перед мальчиком на колени. Обжора плакал. Оказывается, и у этого животного были слезы. Паула в отчаянии разомкнула круг, и взгляд ее прежде всего остановился на Шенноне. Она заметила окровавленную голень ирландца, но лишь скрестила руки на животе.
— Открой ему рот, Сухопарый! Теперь возьми платком его язык и вытащи наружу, как только я скажу! Живо!
— Да он не дышит, черт возьми! — возразил кто-то. — У него и сердце не бьется!
Люди тихо зароптали. Шеннон понял, что его, наверное, принимают за сумасшедшего, что все, что он велит делать, кажется им святотатством, нечеловеческой жестокостью, надругательством над покойным. Однако Американец поддержал его:
— Делай, что тебе говорят, Сухопарый! Скорее!
Шеннон в двух словах объяснил им, что такое искусственное дыхание, и оба принялись за дело. Шеннон с искаженным от боли лицом считал:
— Раз, два… раз, два… раз, два…
Шелест ветра, стук бревен, журчание воды, пение птиц, чьи-то шаги на тропинке — все, казалось, стихло, пока этот голос, срывающийся, нетвердый, отсчитывал:
— Раз, два… раз, два… раз, два…
Как огромное сердце; как часовой механизм бомбы; как стук в висках приговоренного к смерти; как колокольный звон по усопшему; как грохот отбойного молотка; как удары топора, обрекающие на гибель дерево; как все маятники мира.
— Раз, два… Раз, два… раз, два…
«В один миг!» — снова повторил прежний голос. Да, ото произошло мгновенно, но сейчас мгновение казалось вечностью, полной неопределенности. Сначала Шеннон считал, сверяясь со своими часами — водонепроницаемыми, тоже из Сульмоны, — а потом — с безошибочным ритмом крови, пульсирующей в больной ноге. Кровь стучала с такой чудовищной силой, словно сердце — верховный командующий тела — переместилось туда, где грозила наибольшая опасность. И ритм этих живых часов решал судьбу мальчика. «Да, — взволнованно думал Шеннон, пока его голос безоговорочно подчинялся приказам раны, — это моя кровь управляет его возвращением к жизни. Она словно вливается в него и воскрешает. Он должен воскреснуть, он мой, я его спас, я спас себя». Эта мысль завладела им, не давала покоя. «Я спас себя; его жизнь — мой выкуп». Мысль все больше захватывала его, освещала его прошлое, его будущее, все, что его окружало, пока губы, подчиняясь жестокому пульсу рапы, неумолимо отсчитывали:
— Раз, два… раз, два… раз, два…
Паула накинула ему на плечи чье-то пальто… Он и правда продрог в мокрой одежде. А может быть, вспотел?.. Сейчас для него это не имело значения, как и сломанная нога… Да, и сломанная нога тоже… Хотя именно она была компасом, который указывал путь к жизни! В сломанной ноге он лучше чувствовал биение крови, могучее, непреодолимое! Он спасет мальчика!
Но тут он очнулся от грез: его потрясли недоуменный взгляд Сухопарого и смущенный — Американца. Ропот все возрастал… О господи! Неужели и эти люди вмешаются в его дело! Он чувствовал, как ропот все растет и сейчас захлестнет его, разбуженный верой в неизбежность рока; ненавистью — несправедливой, чудовищной, но от того еще более непреклонной — к Прометеям, которые бросают вызов богам; всей тяжестью тысячелетнего смирения перед бедой, перед верховными и мелкими жрецами, перед тем, что удобнее всего называть судьбой или «волей божьей». Он еще больше укрепился в своем решении и впервые после Италии почувствовал себя борцом. «Во имя господне! — подумал он, — Во имя всемогущего бога!» Неужели эти страхи, эти обветшавшие предрассудки помешают ему спасти человеческую жизнь? Нет, его устремления, его кровь, отбивающая удары, словно боевой барабан, уверенность, что сейчас решается его собственная судьба, делали его непобедимым. Он не отступит, какой бы жестокой ни была борьба.
А с этой минуты борьба действительно стала жестокой. Даже Американец заколебался. Уже потом он скажет, что знал об искусственном дыхании, но никогда его не делал, и ему показалось, что полчаса — срок слишком большой. Остальные же с самого начала были против, но взгляд Шеннона прежде всего обратился на артельного.
— Давай, Американец, давай! Мы еще только начали!.. Раз, два… раз, два… раз, два…
Обжора не выдержал.
— Оставьте его, оставьте! — всхлипывал он.
— Замолчи, Обжора!
— Бедняжка!.. Может, оно и к лучшему! Чем вести такую жизнь, уж лучше умереть! Лучше умереть! Оставьте его в покое!
Потрясенные сплавщики поддержали его. И Шеннон понял: для них было святотатством, надругательством над покойником все, что сейчас с ним делали, как если б поставили машину в святом месте.
— Бог его взял! — пробормотала какая-то старуха, неведомо откуда появившаяся, и перекрестилась.
— Раз, два… раз, два… раз, два… — еще настойчивее отбивала удары кровь, еще настойчивее повторял голос.
Никто не говорил. Но короткую команду Шеннона уже сопровождала не тишина, а какой-то странный ропот, который он ясно различал. Он с трудом подполз к маленькому телу, продолжая считать. Он знал: стоит смолкнуть его резкому голосу — и погаснет свет, а вместе с ним угаснут во мраке жизнь и надежда. Бедный Обжорка не подавал никаких признаков жизни. Неподвижный кадык выпирал на шее, на раскрытой груди торчали ребра, глаза были неподвижны, рядом с ним натекла лужа воды… [Ценной сел возле него и с вызовом обвел взглядом собравшихся. Едва его взгляд останавливался на ком-нибудь, человек отводил глаза, и ропот смолкал. Но тут же снова возникал за спиной Шеннона.
— Лучше послать за священником, — пробормотал кто-то.
— Мы и сами крещеные, — произнесла все та же старуха. И шепот стал еще явственнее. Люди молились. Шеннону оставалось лишь прервать на миг свой счет и крикнуть всем наперекор:
— Паула! Молись и ты! Чтобы он выжил!.. Раз, два… раз, два… раз, два…
Американец и Сухопарый машинально продолжали делать искусственное дыхание. Американец сбросил сомбреро, пот градом стекал по его лицу. Шеннон посмотрел на часы — прошло сорок минут. Люди молились уже в полный голос, за исключением нескольких сплавщиков. Обжорка был по-прежнему неподвижен. Среди многих голосов Шеннон различал голос Паулы и, казалось, улавливал в нем веру и в себя, Ройо. Четырехпалый, сложив руки крестом и воздев очи к небу, шептал «De profundis». Шеннон продолжал считать, сдерживая людей взглядом, словно укротитель диких животных.
Но и он уже понимал, что долго так продолжаться не может. А что, если битва уже проиграна? Что, если они борются не за живого человека, а за труп? Он наклонился и потрогал мальчика. Мокрое тело уже не казалось таким холодным. И надежда вновь воскресла в Шенноне.
Но она жила только в нем одном. Всеобщая враждебность ощущалась ясно. Возможно, сейчас Сухопарый произнесет мрачные и полные смирения надгробные слова. Кончится битва, и снова закуют в цепи Прометея, и снова орел из мифа сделает труп своей добычей и станет клевать печень героя. Но тут послышался цокот копыт на дороге и над плечами собравшихся показалась голова всадника. Живой, энергичный голос уверенно произнес:
— Что здесь происходит?
Не переставая отсчитывать биение пульса, Шеннон заметил, что люди расступились и притихли, только Паула молилась. Человек в черном направился к нему.
— Это дон Педро, — сказал кто-то.
— Что я вижу! — воскликнул тот, подходя, и в голосе его прозвучало преувеличенное, почти насмешливое удивление. — Неужели вы решили научиться чему-то хорошему?.. А, это вы… Я так и знал, разве им до этого додуматься.
— Он умер, дон Педро, — заявил какой-то крестьянин, снимая с головы берет.
— Что ты в этом смыслить, тупица! Ты не знаешь даже, жив ли ты сам!.. Он долго пробыл в воде?
Американец покачал головой. Шеннон продолжал считать, поверив в успех, он почувствовал, как все возвращаются на землю. Голос этого человека словно разорвал магический круг, вернув событию естественность. Не было больше тайных мыслей и символов; все было просто: дело шло о жизни и смерти. Кто-то очень важный и уважаемый стал его союзником.
— Давно начали? — спросил пришелец, снимая замшевые перчатки.
— Час назад, — ответил Американец.
— Меньше, — быстро проговорил Шеннон.
Пришелец опустился на колени возле мальчика, отстранив Сухопарого.
— Пустите.
Оп взял платок и потянул мальчика за язык более умело, чем сплавщик. Другой рукой он пощупал мокрое тело.
— Уже не холодный, — сказал он.
Шеннон заметил это раньше. Но скажи он об этом, никто бы ему не поверил. Слова же дона Педро встретили взволнованным шепотом. В тишине была слышна лишь молитва Паулы. К ней присоединились и другие; теперь люди уже молились о жизни. Шеннон поднял глаза к небу. Белое облако сияло, словно толстые щеки ангелочка у ног пресвятой девы, словно розовое личико купидона у бедра богини. Победитель понял, что теперь вопрос только во времени.
— Лукас, — приказал он тогда, — возьми у меня в мешке флягу с коньяком.
Парень отправился за коньяком. Доп Педро взглянул на ногу Шеннона.
— Сломана?
— Неважно, — ответил ирландец.
— Кико в два счета вправит, — сказал дон Педро. — Разыщите его, — приказал он, обращаясь ко всем.
— Потом! — отозвался Шеннон, снова принимаясь считать: — Раз, два… раз, два… раз, два…
Затем посмотрел на часы: прошло сорок шесть ми-пут. Когда Шеннон поднял голову, он увидел, что дои Педро склонился к губам Обжорки, велев Сухопарому, стоявшему с ним рядом:
— Разуй его и разотри ему ноги… Очнулся… — коротко прибавил он.
«Я спасен!» — ликовало все в Шенноне, наконец наступил перелом.
Грудь мальчика легонько поднялась и опустилась.
— Жив! — крикнул Сухопарый.
— Конечно, — улыбнулся дон Педро.
А наэлектризованная толпа дружно вскрикнула:
— Чудо! Чудо!
Обжора вскочил, Паула бросилась на колени, рыдая. Четырехпалый перестал молиться, но позы не изменил. Круг людей сомкнулся и тут же разомкнулся, испугавшись окрика дона Педро. Больше Шеннон не считал. Он вдруг почувствовал, что охрип, измучился, не может произнести ни звука.
— Воскрес!.. Чудо!.. Вот она, мудрость-то… — слышалось со всех сторон. А Сухопарый, стоявший рядом с Шенноном, воскликнул:
— Какие же мы болваны, черт возьми!
Вернулся Лукас с флягой. Дон Педро влил немного коньяку мальчику в рот: тот поперхнулся, закашлялся, открыл и снова закрыл глаза. Американец встал, вытер рукавом пот. Почувствовав вдруг сильный озноб, Шеннон еще разобрал, как дон Педро будто где-то далеко-далеко просит принести пледы, чтобы завернуть мальчика, еле услышал его последний приказ и потерял сознание.
Только усилие воли и внутреннее напряжение помогли Шеннону продержаться до сих нор. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что его несут на носилках, как знатного вельможу, а за ним идет свита. Солнце сверкает, вливая жизнь в его продрогшее тело. Рабыня держит над ним зонтик, чтобы лицо оставалось в тонн. Министр, худой, с длинными седыми усами и черными умными глазами, идет рядом с носилками. А позади — множество взволнованных людей…
Держа сомбреро над лицом Шеннона, Паула с беспокойством взглянула на дона Педро.
— У него жар, очень блестят глаза, — сказала она.
Услышав ее голос, Шеннон успокоился. Да, его лихорадило, но это билась в нем жизнь, душу переполняла радость, от того что ему удалось одержать победу над смертью. Спасением мальчика он как бы искупил свои прежние грехи. Бросившись в пламя, он обрел собственное спасение. Что значат теперь боль в ноге и скрип наскоро сделанных носилок! Он улыбнулся такой счастливой улыбкой, что дои Педро посмотрел на Паулу, а затем склонился к нему.
— Как дела?
— Отлично, — ответил Шеннон, с удовольствием отмечая, что вместо галстука на шее у кабальеро повязан черный шелковый шарф.
— Потерпите немного, скоро придем.
И действительно, вскоре они прошли под аркой и, миновав большой двор, вошли в дом. Молодой женский голос сообщил, что Кико уже явился и все готово.
Шеннона поднесли к кровати, Американец и Сухопарый помогли ему раздеться и лечь, стараясь как можно меньше бередить рапу.
— Осторожнее, там амулет! — предупредил Шеннон дона Педро, который складывал его одежду. — Не потеряйте!
— Амулет?
— Привязан к поясу шнурком!.. Коралловый кулачок… Должен быть там!
Но тщетно искал дон Педро, вероятно, амулет исчез в борьбе с рекой. Дон Педро обернулся, чтобы сообщить об этом раненому, и увидел на его лице не досаду, а радость.
«Иначе и не могло быть, — думал Шеннон, — он сделал свое дело». И уже в постели спросил:
— Где я?
— Будьте как дома, не беспокойтесь, — ответил ему дон Педро. — Пойди сюда, Кико, взгляни на ногу… Не бойтесь, в переломах наш пастух разбирается не хуже докторов. Он лечит ноги овцам, которые падают со скалы, и без всяких рентгенов, верно, Кико? Настоящий колдун!
— Обычный перелом, — поставил диагноз старик, тщательно осмотрев ногу. — Кость не очень раздроблена, так что все в порядке. Коленная чашечка гладкая, что твой мрамор.
Мозолистые руки стали ощупывать ногу, и даже сквозь боль Шеннон чувствовал, как безошибочно действуют эти скрюченные пальцы.
— Ну что, Кико? — спросил дон Педро.
— Ерунда… Сломана только берцовая кость… Пусть кто-нибудь подержит сверху… Так… Я буду вправлять отсюда. Помогите… А ты терпи, дружище. Христос не такое терпел на кресте. — Руки старика вцепились в щиколотку, Американец крепко ухватился за бедро, и пастух стал тянуть, легонько-легонько. Шеннон морщился. Но вдруг боль пронзила все его существо, и перед глазами сквозь густой туман проплыли лица, отрезок реки и прекрасная гора… может быть, та самая гора, увенчанная львиной гривой, которая открыла ему врата Испании… Он вскрикнул, что-то щелкнуло в ноге, словно отпустили натянутую пружину… И снова боль, но теперь уже совсем другая.
— Готово, — сказал Кико. — Держите его так, я буду лечить.
Они о чем-то зашептались. Американец отправил сплавщиков к реке, чтобы они занялись лесом и, если надо, разобрали затор.
— Теперь мы Обжорку будем называть Лазарем, — пошутил Балагур. Но Шеннон видел только увлажнившиеся глаза Паулы. «Странно, — промелькнуло у него в мозгу, — прежде взгляд этой женщины значил для меня гораздо больше».
Очистив рану, Кико положил на нее кашицу из какой-то травы, а поверх — шину из коры и дощечек.
— Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть, как ты это делаешь! — сказал дон Педро. — Пусть чужестранец знает, какие у нас пастухи.
— Ради вас, дон Педро, я сделал все, что мог… Эти травы очень помогают. Я собрал их в полнолуние.
Шеннон почувствовал, как его ноги коснулся сок толченых стебельков. И только тогда заметил худенькую, довольно бледную девушку с почти детским лицом и тонкими руками, одетую по-провинциальному старомодно.
— Что случилось, дедушка?
— Ничего, Сесилия. Этот сеньор спас парнишку, а сам сломал ногу. Ее защемило двумя стволами.
Заметив на себе взгляд Шеннона, девушка улыбнулась и слегка покраснела.
— Все в порядке, — произнес Кико. Но, уловив вопрос в глазах дона Педро, добавил: — Неделю придется пожить взаперти, как монаху. Заживет быстро, он молодой. Дайка взгляну на зубы. — Шеннон открыл рот, — И кости крепкие, — заключил он.
Затем приподнял Шеннону веки и виимательно изучил зрачок своими черными, как смоль, маленькими, очень живыми глазками.
— Блестят, как положено… Поживет недельку монахом.
Вскоре Шеннону стало легче, хотя нога горела, как в огне. Все смотрели на него, и, к своему большому удивлению, он прочитал признательность во взгляде Обжоры. Потом заметил в кресле завернутого в пледы мальчика. Тот тоже смотрел на него — широко открытыми глазами, преданно, как смотрят олененок или собачонка на своего хозяина. И этот взгляд был для Шеннона самым важным.
— Привет, Англичанин! — сказал мальчик просто.
— Привет, разбойник! — со счастливой улыбкой ответил спаситель. — Что это ты тут расселся, точно король?
— Мне не дают встать, — ответил мальчик.
— Пусть поднимается, — приказал дон Педро, — раз снова родился на свет. Его вытянули из чрева реки.
Все рассмеялись. Сбросив с себя пледы, Обжорка спрыгнул на пол и подошел к Шеннону.
— Тебе очень больно? — спросил он.
— Ничего.
— Вам нужен покой, — вмешался дон Педро, — скоро вы ощутите слабость. Пусть все уходят, а вы отдыхайте. Если что-нибудь понадобится, вот колокольчик.
Все вышли, кроме Американца и дона Педро, которые помогли Шеннону улечься поудобнее. Затем и они ушли, унеся с собой его мокрую одежду. Вскоре он впал в забытье.
Очнувшись от долгого и глубокого сна, Шеннон почувствовал себя странно, словно куколка бабочки, которая вдруг обнаруживает, что за спиной у нее прекрасные крылья. «Откуда это?» — думал Шеннон.
Голова была совершенно ясная. Он без труда вспомнил то, что произошло вчера: как он, ринувшись в пропасть смерти, спас мальчика. А после, после… Что же было после? Образы дона Педро и девушки расплывались в тумане, от которого он покрывался то потом, то холодной испариной, а где-то на самом дне страшные часы отсчитывали время ударами боли. Столь необычным возвращением к жизни он был обязан не внешним событиям, а своим ярким, могучим видениям. Они пробивались откуда-то из глубины, были длинны и запутанны, нарушали и смещали течение времени и событий его жизни. Но вспомнить их он не мог. У него осталось только ощущение, будто огромные глыбы, пока он шел, расступались перед ним, словно Чермное море из камня. Как смутный осадок от сна на пороге пробуждения, остались в памяти тайные усилия, подобные усилиям земли, рождающей гору. Только и всего. Просто он знал, что гора эта еще передвигается в нем самом, недоступная для воспоминаний, но столь же истинная и реальная, сколь недосягаемая.
Если бы ему удалось хоть что-то вспомнить, он бы ясно увидел себя. На самом ли деле все было так, думал он, или он просто переволновался, потеряв амулет? Пусть это мелочь, но ведь и она что-то значит! Нет, нет, произошло что-то очень важное, чары рассеялись, но какие-то узлы остались неразвязанными. Вот почему, когда он пробудился, ему было так спокойно и хорошо, хотя кровь по-прежнему болезненно пульсировала в ноге. Конечно, он лежал в удобной постели после долгих месяцев жизни под открытым небом; о нем заботились; но это не все, было что-то более значительное, как великое отдохновение, венчавшее тяжкий труд. Он созерцал с какой-то повой внутренней вершины и комнату, погруженную в приятный полумрак (ставни были прикрыты), и комод со статуей святого, и лампочку под абажуром в цветах, и кровать с бронзовыми украшениями; и большое зеркало… Вдруг скрипнула дверь. С большой осторожностью заглянула женщина и, увидев, что он не спит, распахнула дверь настежь и радостно воскликнула:
— Ну! Наконец-то он открыл глаза!
И снова исчезла. До Шеннона донесся ее голос, зовущий сеньориту. Дои Педро и девушка не замедлили явиться, чтобы узнать, как он себя чувствует.
Заметив, что голос его окреп, как и он сам, они распахнули ставни, и свет хлынул в комнату, показавшуюся сразу намного меньше. «Уже почти полдень», — сказали ему. Он крепко спал только с рассвета, а до этого метался.
— Сесилия ухаживала за вами, — сказал дон Педро, — а потом я сменил ее, пока вы не уснули спокойно.
Шеннон поблагодарил девушку — она покраснела — и спросил, не слишком ли он буянил.
— У вас был сильный жар, вы бродили. «Мы в миро, мы в мире», — повторяли вы все время. И что-то говорили про Италию, но я не поняла.
— И еще кое о чем, — засмеялся дон Педро, — судя по рассказам Сесилии. Ну-ка, скажи ему.
Девушка зарделась от смущения.
— Какой ты вредный, дедушка, — проговорила она.
Старик перевел разговор на другую тему. Теперь раненому надо как следует подкрепиться. Завтрак уже здесь. Сесилия села поближе к кровати и пододвинула к нему все необходимое, чтобы он не причинил себе боли лишними движениями. Шеннон узнал, что идальго зовут доном Педро Сальседо и что дом, в котором он находится, как и соляные разработки, принадлежат ему. Выяснив, что Шеннон — доктор словесности, дон Педро представился ему как коллега. В Куэнке он читал на кафедре логики, психологии и других наук курс с бесконечно длинным названием: «Этические и гражданские обязанности и основы права», пока не вышел на пенсию в 1931 году.
Шеннон тоже сообщил кое-что о себе. Давно уже он не завтракал в такой обстановке и говорил с воодушевлением, тронутый их заботой. Ему правилась эта роль больного ребенка, за которым ухаживают взрослые, на душе было светло и радостно. Даже непроходящая боль в ноге лишь еще сильнее подчеркивала острое ощущение вновь обретенной жизни, как тиканье часов подчеркивает тишину. Солнце ушло из комнаты, распахнули дверь на галерею, и сразу же ворвался смолистый дух, полевые шорохи и шум большого дома.
Дон Педро с внучкой отправились завтракать, предупредив, что скоро к нему придут. До сих пор к Шеннону никого не пускали, чтобы не нарушать его покой. Сплавщики уже несколько раз заходили справиться об его здоровье, а люди из села и соляных разработок наведывались, чтобы поглазеть на иностранца, воскресившего утопленника. Эти наверняка придут еще.
И действительно, к вечеру пришло много народу. Комната была битком набита, и Шеннона забавлял вид смущенных сплавщиков, явившихся почти всей артелью и старавшихся ходить и говорить потише. Эта уютная комната с мягкой постелью, статуей святого и романтическим изображением объятого пожаром Карфагена никак не вязалась с тем миром реки, в котором он жил последнее время, и особенно сейчас, когда он оглядывал этот мир с высоты своего возрождения.
Но, пожалуй, лишь одна Паула заметила в нем перемену. Она стояла безмолвно и смотрела на ирландца, как не смотрела никогда прежде. Бывало, она глядела на него с участием, даже с нежностью в те редкие минуты, когда они оставались наедине. Сейчас взгляд у нее был такой, словно она что-то в нем открыла, словно увидела что-то, что еще не укладывалось в ее сознании. Шеннон раненый; Шеннон, неподвижно лежащий в постели. А Шеннон, превозмогая боль, смотрел на нее почти весело. Но смотрел как на постороннюю девушку, только и всего. «Сознает ли он это?» — думала она.
Сплавщики заходили проведать его несколько раз, пока артель, идущая вниз по течению, находилась еще неподалеку от соляных разработок. Навестил его и капитан и растрогал тем, что назвал его сплавщиком.
— Привет, сплавщик! Как нога?
— Хорошо, капитан, — не сразу ответил он. А затем серьезно добавил: — И спасибо вам за то, что вы меня так назвали. Мне это очень приятно. Даже… я даже чувствовать себя стал лучше. И скорее выздоровею.
— Ты и есть сплавщик. Кто же ты еще, если ты спас нам будущего сплавщика?
Навещали его и другие сплавщики, совсем ему незнакомые. Они заходили поговорить с ним, как с товарищем, рассказывали разные истории — о том, например, как кто-то утонул, и сожалели, что его там не было: может, он спас бы утопленника. Разумеется, приходил и Кико, лечивший его рапу. Заживала она не очень быстро, потому что луна еще не достигла той фазы, когда начинается отлив крови. «Сами знаете, луне подвластны море, кровь и женщины». Дон Педро предложил вызвать доктора из Масуэкоса, хотя они отнюдь не дружили. Однако Шеннон заверил его, что в этом нет никакой надобности.
К вечеру второго дня артель пришла с ним проститься. Лукас подарил ему свой багор и сказал: «Ты учил меня читать, а я тебя — сплавлять лес». Шеннон был тронут. Мужчины без лишних слов крепко пожимали ему руку.
— Нечего, нечего! — поторапливал их Американец, не желая затягивать прощание. — Не умирать же идем. Еще увидимся.
— Хе! — вставил свое слово Дамасо. — Теперь паши дороги разойдутся.
— Я приеду в Аранхуэс и дождусь вас там, чтобы посмотреть, как вы доведете лес до места, — пообещал Шеннон, удивленный и резким топом, и предсказанием Дамасо.
— Конечно, черт подери! — воскликнул Сухопарый. — Какой же из него сплавщик, если он не дотянет до конца!
— А не сможешь приехать, — сказал Американец, уходя последним, — ищи меня в башне между Сорнтой и Альмонасидом.
— Обязательно приеду, — ответил Шеннон и, оставшись одни, стал глядеть на багор, прислоненный к степе, словно ото было копье рыцаря из Сориты, соратника Альваро Фаньеса или члена ордена Калатравы.
Паула зашла проститься на следующее утро. И хотя Шеннон ждал ее, его охватило волнение. Они помолчали, пока Сесилия деликатно не удалилась. Паула села в кресло около кровати. Ее щиколотки казались еще белей от черной юбки, как и в тот день, когда они разговаривали у реки. Шеннон был тронут этим воспоминанием. Да, Паула для него все еще много значит… Но, сказав это себе, он подумал, что слова «все еще», так естественно у него вырвавшиеся, разоблачают ого. Он был взволнован, да, но скорее как зритель, созерцающий собственные воспоминания.
— Ты меня будто и не замечаешь, — сказала она, улыбаясь, но с видимым укором. — И выглядишь иначе. Лицо стало другое… Какое-то… поспокойней, что ли.
— Ото потому, что я смотрю на тебя, Паула.
— Вот видишь? Ты уже и разговариваешь со мной, как все. А раньше не мог… Да, ты стал другим… Как быстро ты изменился!
— Ты так считаешь, Паула?
Опа кивнула.
— А если буду замечать, ты меня полюбишь? — спросил Шеннон, удивляясь, зачем он это говорит.
— Нет, — ответила она с грустью. — Ты сам меня уже не любишь.
На какой-то миг все его существо взбунтовалось.
— А зачем тебе моя любовь, если ты меня не любила? — язвительно спросил он. — Ну конечно! Вы, женщины, всегда…
Охваченная внезапным порывом, Паула вскочила с кресла и зажала ему рот, потом, печально глядя на пего, сказала:
— Не надо, Ройо, не говори так. Ты по такой, кат; все. Нет, нет. И я не такая. Мне жаль, что это прошло… Не знаю, как тебе объяснить, как сказать…
Шеннон нежно поцеловал пальцы, лежавшие у него на губах. Паула убрала руку и снова села в кресло.
— Ты права, Паула. Прости меня… И если ты еще оставляешь мне надежду…
Опа молчала.
— Слышишь?.. — Он приподнялся на локте. — Если ты еще оставляешь мне надежду…
— Я не могу тебе ее оставить, — глухо произнесла она. — Как не могла в тот вечер.
Шеннон догадался не сразу.
— Есть кто-нибудь другой?
Паула молча кивнула.
— Почему же ты не сказала?
— Зачем?.. Вот теперь я пришла, чтобы сказать… И сказала бы, даже если бы ты оставался таким, как прежде… Но это лучше, что ты изменился.
Шеннон перебирал в уме сплавщиков. Разумеется, это был кто-то из них. Какие-то мелочи, внезапно представшие сейчас в новом свете, привели его к догадке. Он почувствовал зависть к этому человеку, всегда уверенному в себе, хотя и без особых оснований.
— Антонио?
Паула снова кивнула.
— Как же ты его полюбила? Когда?
— С первой встречи, — коротко ответила она.
Теперь ему стало все понятно.
— И ты не доверилась мне, не призналась? Предпочла обманывать меня и всех остальных?
— Обманывать? — отозвалась она со смирением, скорее горестно, нежели возмущенно, — Да между нами ничего не было, Ройо! Ничего. Просто я пойду за ним, куда он пожелает, хоть на край света. И ты хотел бы, чтобы я поторопилась сказать об этом самому лучшему человеку, какого я знала в жизни? Единственному человеку, который так хорошо относился ко мне?.. Ведь он никогда не будет со мной таким, как ты…
— Тогда…
— Чего ты от меня хочешь? Кто мог это предвидеть? Не знаю, может, пока я его не встретила, я могла бы стать твоей, и с радостью, заговори ты со мной об этом… А теперь… — Ее руки бессильно опустились.
Что теперь поделаешь! Шеннон с печалью и нежностью произнес:
— Паула…
— Я не забуду тебя, Ройо. Мне уже никогда не встретить такого человека, как ты. Да может, и нет больше таких!.. Я могла быть счастлива с тобой, могла спокойно прожить жизнь… Но такая уж я есть… Он покорил меня, ослепил.
Шеннон взял ее протянутую руку, проговорил, глядя на совсем еще детский рот Паулы:
— Я тоже никогда не забуду тебя, Паула. Никогда. И тоже не встречу больше такой женщины, как ты. Ведь в городах, в том мире, где я живу, таких, как ты, не бывает. Они все погрязли во лжи! А ты настоящая! Невинная и виновная, кроткая и отважная… Ты голубка, и ты убиваешь, Паула. Что еще тебе сказать? Ты женщина в полном смысле этого слова. Ты и сама не знаешь, кто ты больше: мать или возлюбленная.
Паула застыла в оцепенении.
— Не сердись. Уж такая ты есть. А я… я все еще люблю тебя, Паула, — заключил Шеннон едва слышно.
— Уже по-другому, Ройо, — прошептала Паула.
Воцарилась долгая, добрая тишина. Великая тишина, наполненная звуками, которые тоже навсегда останутся, в памяти: шелестом ветра в соснах, журчанием воды меж скал.
— А ведь хорошо было, правда? — спросила Паула, совсем как девчонка.
— Да, — признался Шеннон, — слишком хорошо. Ты не могла стать моей. Я тебя недостоин.
Оп приник к ее руке долгим поцелуем. К руке, созданной для ледяной воды и горячей любви; к руке, прятавшей наваху на теплой груди.
— Паула… — произнес он, растягивая каждый слог, — никогда не забуду этого имени.
— А ведь оно не мое. Когда я пришла к сплавщикам, я решила, чтобы меня не нашли, назваться именем моей родственницы, которая давно умерла. Никто не знает моего настоящего имени… Даже Антонио, — проговорила она тихо. И еще тише добавила: — Меня зовут Беатрисой.
— Беатриса! Беатриче! — обрадовался Шеннон. «Имя провожатой в раю, — подумал он, — И еще имя скромной служанки, которая в одном из диалогов Луиса Вивеса{Вивес, Хуан Луис (1492–1540) — испанский гуманист и философ.} отвечает молодому сеньорито, когда тот называл ее уродкой: «Зови меня как хочешь, только не уродкой». Но Шеннон не поддался обаянию этого имени.
— Я рад, — сказал он. — Ведь когда вы дойдете до места, а потом вернетесь, и ты выйдешь замуж… Да, да… Ты будешь для всех Беатрисой. Паулу забудут все, кроме меня. Для меня ты всегда останешься Паулой… Только для меня одного и навсегда! Как и я всегда буду для тебя Ройо, потому что это тоже не мое имя.
— Да, ты останешься моим Ройо.
Они замолчали. Паула встала. У обоих на глаза навернулись слезы.
— Прощай, Ройо. Спасибо за все.
— Прощай, Паула. Спасибо за то, что ты настоящая.
Оп смотрел, как она вышла; услышал, как она спускается по лестнице. Закрыл глаза и представил себе, как она идет по тропе среди сосен легкой, такой естественной походкой. Ему было жаль своих воспоминаний, жаль прошлого. А настоящего? Если бы она еще хотела сказать «да»?.. И все же этот разговор оставил в его душе совсем иной след, совсем иное чувство, нежели их прежние встречи.
Открыв глаза, он вздрогнул: она еще здесь!.. Нет, это Сесилия.
— Простите меня, — сказала девушка, краснея, — я ire хотела заходить раньше, а теперь пришла узнать, не надо ли вам чего… Уже пора завтракать.
Шеннон, все еще взволнованный, не сразу ее понял. И она это истолковала по-своему.
— Не огорчайтесь, — улыбнулась Сесилия, но голос был грустный. — Вы еще увидитесь… Она очень красивая, ваша Надежда! — призналась она почти со вздохом.
— Кто?.. О нет! Ее зовут Паула. А почему вы так сказали?
Девушка смутилась.
— Потому что в ту ночь… Помните, я не посмела вам рассказать, когда дедушка просил.
— Но что?
— Тогда в бреду… Вы все время повторяли: «Надежда, Надежда…» Ну, я и подумала… Простите, ведь я такая глупая.
— Успокойтесь, Сесилия… Я имел в виду другое. А се зовут Паулой, и она вовсе не моя.
Шеннон с удивлением обнаружил, что девушка поторопилась выйти, чтобы он не видел, как раскраснелись ее щеки.
Проходили дни, лес продолжал свой путь. Шеннон видел его с галереи, где сидел, положив ногу на стул: он ужо мог передвигаться без посторонней помощи, не причиняя себе боли. Сплавщики приветствовали его с реки, и Шеннон ощущал, какой напряженной жизнью живет дом у соляных разработок, казавшийся спокойным и уединенным. А разве все сущее на свете не исполнено того же напряженного стремления жить! И в первом крике петуха, и в последнем вздохе филина, который каждую ночь усаживался на дереве у его окна, — в каждом звуке, в каждом движении сосредоточивалась и билась жизнь, как в крохотной Вселенной… Будь то скрюченный ревматизмом старик, или плачущий ребенок, растиравший ушибленную коленку, или же белая ослица, с которой сняли сбрую и которая с наслаждением каталась в пыли… В коночном счете все одинаково ценно, во всем является безграничная, вечная жизнь. Та самая, что бьется в ого ноге, зарубцовывая сломанную кость, в которой, молекула за молекулой, скапливается известь, точно сталактиты в пещерах матери-земли.
Лес прошел. «Замыкающие» разбирали запруды, построенные Американцем и его людьми, и вылавливали «уток», то есть бревна, которые хитрые крестьяне топили по ночам, привязывая к ним камни, чтобы потом, когда сплавщики уйдут, взять их себе. В последний вечер, когда лагерь снимался с места, Шеннон увидел, что к дому направляется кто-то из сплавщиков. Его привели к Шеннону. Это был парень, такой же молодой, как Лукас.
— Эй, Англичанин, — сказал он, — тебе велели передать вот это из артели «ведущих», — и он вручил Шеннону листок, добавив: — А от нашей артели и от всех нас тебе пожелание скорее поправиться.
Парень чувствовал себя неловко в богатом доме и поторопился уйти. Шеннон посмотрел на листок, который держал в руке: темно-бурый прямоугольник бумаги, оторванный от кулька и тщательно разглаженный. На нем детским почерком было выведено карандашом: «Счастья тебе и здоровья от того, кто тебя никогда не забудет, Лукас Мартин».
Шеннон растрогался до слез. Бережно сложил он листок и спрятал его в бумажник. Кончался один период его жизни и начинался другой. Значит, матушка-река не похитила амулета, а лишь заменила коралловый кулачок этим посланием — вот он, этот фетиш, — значит, он, Шеннон, не только спас кому-то жизнь, но и ум, значит, в мире еще множество дел, которыми можно заполнить человеческую жизнь, столько дел и свершений, которые могут исполнить пас великой гордостью и глубоким смирением.
Парень уходил по тропинке, распевая песню.
Приходят сплавщики леса, уходят бог весть куда. Так вот и мы однажды уйдем с тобой навсегда.Его голос долго раздавался в вечернем воздухе, и Шеннон видел, как скрылся за поворотом последний из его товарищей, людей реки.
16 Буэнамесон
Автомобиль, покачнувшись, резко затормозил в тени дерева. Облако пыли, волочившееся за ним, окутало с головы до ног пассажиров, когда они стали высаживаться.
Это были две пары. Девушки в легких цветастых платьях, молодые люди в голубых спортивных туфлях, узких брюках и летних куртках. Волосы у них были зачесаны назад и сильно напомажены.
Владелец автомобиля открыл багажник и начал выгружать оттуда вещи. Одна из девушек, совсем еще молоденькая, углубилась в рощу. И уже у самой реки, в восторге замахав руками, прокричала:
— Сюда, ребята, ко мне! Какая красота!
Ее подруга но замедлила появиться из-за деревьев с парусиновым стульчиком и корзинкой. Она была чуть постарше, гораздо полнее и заметно накрашена.
— Видишь, Консуэло? А ты не хотела ехать! Давай-ка, помоги мне, еще успеем поваляться.
Вчетвером они перетаскали целый ворох разных вещей — настоящее походное снаряжение с американскими этикетками и надписями. «Военные излишки», как выразился владелец автомобиля, считавший, что у американцев солдаты снабжаются лучше, чем местные отдыхающие. Вдруг его приятель присвистнул.
— Молодчина, Хуанита! Люблю расторопных баб!
Слова его относились к девушке постарше, которая стащила через голову платье и осталась в одном купальнике.
— А чего ждать! — воскликнула она, довольная произведенным эффектом. — К чему усложнять жизнь? Сейчас натяну шорты, и порядок!
— Не надо! Ты и так хороша.
— Я загрязню купальник, если сяду на землю. А он импортный.
— Я привез его из Танжера! — Владелец машины сидел на складном стульчике и разглядывал ее смуглые крепкие ноги. Шорты только чуть-чуть прикрыли бы купальник.
Другая девушка вышла из-за кустов тамариска в длинных голубых брюках и белой блузе с короткими рукавами. Она была худая, почти плоская.
— Ты что, хочешь в таком виде принимать воздушные ванны? — смеясь, спросила ее подруга. — Случайно, не забыла надеть пальто?
Владелец автомобиля сказал через плечо приятелю:
— Эй, Маноло, если ты не научишь ее вести себя в обществе, я вас больше никогда не возьму с собой.
— Ничего… Несколько раз съездит с нами, узнает, что такое жизнь, вот увидишь.
— Выпьем немного? — предложила Хуанита, чтобы отвлечь мужчин от этого разговора. Ей было неловко за свою подругу, не научившуюся вести себя в компании.
Из маленького транзистора, который настраивал Артуро, вырвалась танцевальная мелодия. Все засмеялись, обрадовались… Хуанита и Артуро, обнявшись, закружились в танце. Маноло подошел к другой девушке, которая смотрела на реку, стоя ко всем спиной.
— Чего ты на нее уставилась? Музыка-то какая, — сказал он. И видя, как неохотно она идет к нему, спросил: — Да что с тобой? Ты же сама хотела поехать, сама говорила, что любишь деревню.
— Да, да, — ответила девушка, украдкой вздыхая, — очень люблю.
— Так пользуйся случаем, глупая, — и он обнял ее за талию. — Вот что, надо тебе выпить.
В эту-то минуту и появился Горбун с Обжоркой, ведя Каналехаса. Они опередили сплавной лес, собираясь раскинуть лагерь в роще, самой тенистой на этом берегу, напротив переправы Буэнамесон, за усадьбой. Обнаружив, что место занято, Горбун остановился и стал располагаться на небольшом еще незанятом участке в тени.
— Только их тут не хватало! — буркнула Хуанита и хотела было прервать танец. Но Артуро продолжал ее кружить.
— Танцуй. Какое нам до них дело!
Горбун, взяв ведро, направился мимо танцующих пар к единственному в этом месте спуску, чтобы набрать воды. Затем вернулся и стал разгружать и распрягать Каналехаса. Мальчик пялил глаза на танцующих, особенно на ящичек, из которого лилась музыка. Рядом, навострив уши, застыла собачонка.
Заметив, что Сантьяго хочет развести костер, Хуанита резко остановилась.
— Что ж, мы так и будем торчать здесь рядом с ними? Эти мужланы нас закоптят.
— Перестань, — не выдержала подруга.
— Но ведь это деревенщина! Гадость какая…
— Хуже всего, что они нарушили паши планы, — тихо сказал Маноло приятелю. — Рядом с этими… Какой уж тут пикник!
Тогда Артуро подошел к Горбуну и спросил, почему они расположились именно здесь, хотя видели, что место занято.
— Именно поэтому я тут и остановился, — ответил ему Сантьяго. — Уж не хотите ли вы захватить всю тень вчетвером?
— Вы нам мешаете. Разве вам это не ясно?
— А мне, может, мешает ваш бесстыжий вид. Я же ничего не говорю, — вспылил Горбун, вставая перед ним.
— Видал, мы им мешаем! — разозлившись, сказал приятелю Артуро. — Не будь ты несчастный горбун…
— А, сукин сын! — озверел Горбун и вцепился ему в горло.
Консуэло взвизгнула, Сантьяго все туже сдавливал горло противника, не чувствуя ударов, но в эту минуту появился Американец и вмешался в драку. Маноло тоже, пытаясь высвободить приятеля. Мужчины стояли лицом к лицу. Горбун молчал, побледнев и тяжело дыша. Побагровевший Артуро изрыгал брань:
— Скоты! Нет, вы хуже скотов! Вот почему Испания такая отсталая! Они терпеть не могут, если кто хорошо одет… Деревенщина!.. Даже дам не уважают!
— Да эти дамы сами себя не уважают, — усмехнулся Американец, — если приехали сюда с такими нахалами!.. А может быть, она нарочно сняла юбку, чтобы ее больше уважали?
— Послушай… — запротестовал Артуро.
Но Американец не дал ему договорить.
— Вон! — Голос его прозвучал подобно залпу. — Вон отсюда!.. — снова гаркнул он, потрясая багром. — А не то проткну кого-нибудь из вас!
Он уже занес руку вверх, держа багор горизонтально, словно греческий воин копье, и губы его приоткрылись, обнажив золотой зуб. Артуро не двигался с места, но Хуанита потянула его, и он отступил. Ярость Американца была столь велика, что он уже не владел собой. Рука метнула багор, и тот, просвистев в воздухе, с силой воткнулся в тополь, удар эхом отозвался по всей роще. На какое-то мгновение багор вонзился в дерево, но, увлекаемый собственной тяжестью, вскоре упал на землю.
Оба туриста сразу притихли. В смятении они пошептались, стоя перед этими дикарями, а Консуэло не переставала твердить: «Пойдемте отсюда, пойдемте». И, собрав свои пожитки, они направились к машине. Перед тем как сесть в машину, Хуанита подошла к Американцу и со злобой проговорила:
— Будь я мужчиной, вы бы у меня уже купались в реке. Сволочи!
Американец все так же хмуро окинул ее взглядом с головы до ног и жестоко усмехнулся:
— Если верить глазам, вы никак не похожи на мужчину.
Она в ярости сплюнула и побежала к своим товарищам, звавшим се. Автомобиль тронулся с места и удалился по пыльной дороге.
Горбун молча принялся за работу, а Американец с грустью произнес:
— Я плохо поступил, Сантьяго, очень плохо… Во всем виновата моя гордыня… Я — плохой человек.
— Хуже было бы, если бы сюда пришли остальные, вожак, — ответил Сантьяго. — И увидели ее голые ляжки. Тут такое бы поднялось…
— Это верно… Но и мне грош цена… Я-то думал, что стал другим, но сам видишь…
Через некоторое время, когда Американец вернулся к сплавщикам, на дороге со стороны Фуэнтидуэньи появился парень, такой же молодой, как Лукас, и подошел к тем, кто работал чуть ниже по течению. Балагуру его лицо показалось знакомым. И действительно, парень был из Сотондо.
— А! Вспомнил, — сказал Кинтин. — Это ты отвечал Негру на митинге, верно? Еще стоял рядом с тем стариком.
— Да, — ответил парень, гордо вскинув голову. — Я Паскуаль. Поэтому и пришел.
— Что-нибудь случилось?
— А что могло случиться? Просто я хочу работать. Вместе с тем сплавщиком.
— С Негром?
— Не знаю, как его зовут. С тем, кто тогда говорил на площади.
— Он ушел… Мы не знаем куда. В горы.
Парень помолчал. Американец посмотрел ему в лицо, но тот только ниже опустил голову. Такой всегда сумеет скрыть свое разочарование либо волнение, перенесет любое страдание и, если нужно, беззаветно отдастся какому-нибудь делу. Почему никто не ищет покоя? Почему этот бунтарь стоит теперь здесь?
— А работа у вас для меня найдется? — спросил он наконец.
Артельный ответил ему не сразу.
— Почему ты пришел именно к нам?
Парень пожал плечами.
— Если у вас нет работы, я уйду.
Американец окинул взглядом его стоптанные абарки, рваную одежду, пустую котомку.
— Погоди, дружище. Но хочешь мне ответить?
— Тут нет ничего постыдного. — Он снова гордо поднял голову. — Передо мной закрыли все двери. Никто не дает мне работы, а дома делать нечего. Бенигно сказал, что ему в деревне не нужны дурьи головы… Я думал, мне здесь помогут.
— Конечно, помогут. Для начала оставайся с нами поужинать.
— Мне ничего не надо. Я хочу только работать.
— Ну что ж, работай. Я как раз остался без Негра и без Англичанина. Ты пришел очень кстати.
— Спасибо, — поблагодарил парень, снимая плед, который нес на плече поверх котомки. — Можно положить с вашими?
— Конечно. Ведь ты теперь наш.
Глаза его заблестели.
— Я быстро научусь, вот увидите. Мне хочется стать сплавщиком.
В полдень парень вместе со всеми пришел в лагерь и, увидев Паулу, радостно воскликнул:
— Как я рад, что вы здесь! Как рад! Я не смел спросить про вас, думал, вас увели.
— Кто?
— Жандармы.
— А зачем им меня уводить? — спросила Паула, предчувствуя новую опасность.
— Бенигно сказал, что вы украли какое-то золото, когда завтракали у него в доме, что он донесет на вас в жандармерию и вас заставят силой вернуться. Он говорил, что тогда все увидят, кто он такой; а вскоре он уехал в Саседон. Правда… потом по селу прошел слух, будто он говорил, что простит вас, если вы согласитесь прислуживать у него в доме, чтобы отплатить за золото работой.
— Вот подлец!
— Я знал, что он врет. Вы не могли украсть, к тому же вы среди людей, которые не дадут вас в обиду, — небрежно добавил он, желая сгладить неприятное впечатление от разговора.
Только теперь Паула поняла, чем хотел Бенигно припугнуть ее в Сорите. Услышав, как он бахвалился перед соседями, она уже не сомневалась, что он обязательно разыщет ее в Аранхуэсе. Она решила, что встретится с ним наедине и не станет больше путать в это дело Антонио. А тот, услышав слова парня, в тот же вечер, едва представился случай, сказал Пауле, чтобы она после ужина ждала его у развалин старой мыловарни в окрестностях Вильяманрике, чуть ниже по точению.
Спустилась ночь, едва охладив дневную жару. И с ее наступлением стали происходить какие-то странные вещи. После ужина, например, Американец, как обычно, принялся точить крюк своего багра. Но если бы кто-нибудь пригляделся повнимательнее, то увидел бы, что он не точит, а бьет по наконечнику, затупляя его.
Однако никому не было дела до других. Люди были измучены жарой и долго не могли заснуть: лежа прямо на земле, где попало, они ворочались с боку на бок. Наконец усталость взяла свое. Только Американец не спал, все думая о своей утренней вспышке и очень недовольный собой. «Неужели я никогда не совладаю со своим характером?» — думал он и вдруг заметил, как сначала Паула, а затем Антонио скрылись, стараясь уйти как можно незаметнее. Американец решил не упускать их из виду. Он знал: достаточно маленькой вспышки, чтобы в сердцах сплавщиков разгорелся пожар, который уже не уймешь.
Ущербная луна не слишком помогала ему следовать за ними. После жаркого дня небо было тусклым, а множество посторонних звуков — кваканье лягушек, стрекот цикад, журчание воды, тысяча таинственных шорохов и скрипов — заглушали шаги. Вслед за Антонио Американец достиг развалин неподалеку от реки. То была заброшенная мыловарня, когда-то снабжавшая мылом и маслами все рынки округи. По дорогам тогда сновали фургоны и повозки, пока старинный способ производства не был вытеснен современными, к которому многие так и не сумели приспособиться. Но и теперь огромные склады, массивные тиски, служившие червячным прессом, громадные жернова и рычаги, во сто крат множившие силу наполненных черпаков, просторные конюшни и каретные сараи говорили о том, как в свое время работала мыловарня.
Антонио прошел под воротами с двумя колоннами белого камня и пересек патио, от которого уходил вбок еще один внутренний двор. Паула ждала его у входа в помещение, где сквозь местами провалившийся пол виднелись горловины больших, выше человеческого роста глиняных кувшинов. Очевидно, они стояли в подвале, а отсюда в них наливали масло. Паула еще не успела ничего сказать, как послышались чьи-то твердые шаги.
— Кто идет? — окликнул Антонио, загораживая собой Паулу.
— Не стреляй, дружище, — шутка Американца прозвучала невесело. Подойдя ближе, он спросил: — Что все это значит?
Паула опустила голову. Антонио, напротив, гордо поднял свою и ответил:
— Это наше дело.
— Нет, дружище, — возразил Американец. — Наше, — он сделал ударение на этом слове. — Не получи я сегодня утром урока, я сказал бы, что это дело мое и твое… Разве так держат слово мужчины?
— Франсиско! — взмолилась Паула.
— С каких же нор ты нас обманываешь?
Паула стремительно подошла к нему.
— Между нами ничего не было, Франсиско, — сказала она твердо. — Посмотри мне в глаза: ничего не было.
При виде ее бледного лица, поднятого кверху, Американец смягчился.
— У тебя слишком черные глаза, в них ничего не разглядишь. Но я слышу твой голос и, хотя вижу совсем другое, все еще верю тебе и надеюсь, что ты не умеешь лицемерить… Но, голубушка, — и голос его зазвучал строже, — почему ты ничего мне не сказала? Ведь я относился к тебе, как к родной дочери. Почему? Неужели я не заслужил твоего доверия?
Девушка всхлипнула.
— Я хотела, Франсиско, хотела… но не могла решиться. Я знала, что ты хорошо ко мне относишься. Но все-таки ты мужчина н… я не посмела.
Американец молчал. Эта девушка слишком глубоко проникла в его сердце, и теперь, после утреннего происшествия, которое доказало, что он еще не научился владеть своими чувствами, разве мог он знать, как поведет себя в следующую минуту. Молчание его затянулось.
— Почему я должна приносить всем несчастье? Почему? — простонала Паула.
— Ну, ну… — пытался ее успокоить Американец. — Это же опасно, это безумие. Один бог ведает, что произойдет, если артель узнает… Не будь мы так близко к цели, я бы велел тебе уйти. Но если ты останешься, упаси вас бог видеться, даже разговаривать, понятно? Не делайте ничего, что могло бы навлечь на вас хоть малейшее подозрение… Тебе ясно, парень? И запомни, теперь ты не обещаешь всем, ты дашь слово мне одному!
— Да, вожак, клянусь… И простите…
Американец пожал плечами. Он понимал Антонио.
Мужчины решили, что вернутся в лагерь вдвоем, чтобы никто ничего не заподозрил. Паула же последует за ними немного погодя, переждав в развалинах.
Так они и сделали. Но не успела Паула пройти и нескольких шагов, как откуда-то покатился булыжник. Она подняла голову и ужаснулась. На фоне неба, на стоне старого сеновала, расположенного над конюшнями, вырисовывалась обезьяноподобная фигура Дамасо.
— Не пугайся, голубка, — прозвучал его резкий голос. — Это я. Хе! Самый распрекрасный из всех!
Паула только подумала о том, что надо бежать, а он уже спрыгнул вниз и преградил ей путь к выходу.
— Я видел, как вы с ним упорхнули, — продолжал он, — и решил, что настала пора потолковать с твоим невежей… Но меня опередил Американец. А он у нас чересчур добренький, — последнее слово Дамасо произнес брезгливо, — и ничего вам не было. Парочка милуется, а сплавщики с носом…
Паула в отчаянии искала какой-нибудь выход, лазейку.
— Ну, теперь-то здесь кое-что произойдет мне на потеху. Другие пусть сами ищут себе голубок… Ну, голубушка, не чешись.
— Ради твоей матери, Дамасо! — взмолилась Паула, но он по-прежнему наступал на нее.
— Я и ведать-то ее не ведал… Да… Меня подкинули к дверям церкви, ты разве не знала? Какая-то тетка подобрала, а вскормила коза. Хе! Так и рос. То в один дом подкинут, то в другой. А как ходить научился, все сам. Один!.. Вот какую шутку сыграла со мной жизнь! Хе! Чем только она меня ни пугала, чтобы я ничего не боялся! Ну, тебе-то бояться нечего; что я сейчас сделаю с тобой, я умею совсем неплохо.
Паула почувствовала, как ее спина уперлась в стену. Сунув руку за пазуху, она выхватила наваху и крикнула:
— Придется убить тебя!
Однако Дамасо успел схватить се руку и выкручивал до тех пор, пока нож не упал на пол. Тогда он сжал девушку в своих объятиях. Паула окаменела, глядя в похотливое лицо, поднятое к ней. Борода щекотала ей шею.
— Это я тебя убью, так, самую малость… Хе! А потом ты воскреснешь. — И вдруг, взбешенный ее сопротивлением, он изрыгнул, обдавая ее жарким дыханием: — Черт возьми, что, от тебя убудет? Был же у тебя ребенок!
От неожиданности Паула перестала сопротивляться. Этот дьявол все знал. Решительно все. Какой смысл обманывать его?
— Мне сказал об этом слепой, — пояснил Дамасо. — Он почуял по запаху твоего платка… Неужели ты не знала? То-то же, вот такая, тихонькая, ты мне больше нравишься… Увидишь, не так уж я плох… Черт подери!
Паула будто бы совсем обмякла, и когда Дамасо ослабил натиск, выскользнула из его рук. Но выход был закрыт, и ей пришлось отступить к старому складу, обходя кувшины в полу. Она заметила низкое окошко, сообщавшееся с соседним помещением, и устремилась к нему в надежде найти выход. Но Дамасо, словно коршун, ринулся вперед и, опередив ее, загородил собой окно, а затем с торжествующим криком прыгнул навстречу ей. И в тот же миг каким-то чудом, ниспосланным свыше, исчез, точно его поглотила земля. Едва представ перед ней, он провалился вниз с ужасным грохотом, окутанный облаком пыли. Паула бросилась на колони и со слезами возблагодарила Пресвятую Деву.
Дамасо угодил на прогнившую крышку кувшина, продавил ее своей тяжестью и рухнул на дно огромного сосуда.
Какое-то время слышался лишь женский плач. Но вскоре в кувшине раздались звонкие удары кулаков и ног — сплавщик пытался разбить толстую, затвердевшую с годами, крепкую, как камень, глину. А вслед за тем прозвучал нелепый и в то же время страшный хохот, который становился еще громче от гулкого кувшина.
— Ты меня слышишь, Паула? — Паула осторожно приблизилась, чтобы убедиться, что Дамасо не достает до горловины и не сможет вылезти. — А, ты здесь… Ну и большой он!.. Умереть в кувшине из-под вина — еще куда не шло. Но в кувшине из-под масла, да притом пересохшем, — это не для Дамасо!
— Ты не ранен? — спросила она, все еще содрогаясь от этого ужасного голоса.
— Ранен? Я? Хе! Но мне отсюда не выйти, тут никто не бывает, так что жажда и жара доконают меня!
Он снова засмеялся. Паула заглянула в кувшин. В ночной тьме невозможно было что-либо разглядеть в его пустой утробе, которая будто сама вещала, как в сказке.
— Подожди, я помогу тебе.
— Эй, красотка! — крикнул Дамасо. — Если протянешь мне руку, я стяну тебя вниз и тут уж сделаю, что хотел… Отсюда тебе не выбраться!
— Не будь таким, Дамасо, не надо!
— А каким же мне еще быть? Разве ты не слышала, какая у меня была жизнь? Это другим легко!
— Я вытащу тебя, если ты поклянешься никому ничего не рассказывать… Видишь, я тебе доверяю! — проговорила она с грустью и добавила: — Пусть я сумасшедшая, но я не могу тебя там оставить.
— Выйду я или нет, говорить я никому ничего не стану. Зачем? Чтобы другие развлекались? Я работаю на себя!
— Тогда подожди!
— А что до другого… Уж если ты мне попадешься, я тебя больше не выпущу! — кричал он, заметив, что голова Паулы уже не показывается больше в горле кувшина.
Девушка колебалась, нисколько не сомневаясь, что Дамасо на все способен. Она уже хотела вернуться в лагерь, чтобы просить помощи у сплавщиков, но тут ее взгляд упал на багор Дамасо, прислоненный к стене, и ее осенило. Она взяла багор и подошла к кувшину.
— Вот твой багор. По нему ты сможешь вскарабкаться наверх. А если ты причинишь мне зло, когда выйдешь, — дело твое. Прижмись к стенке, я бросаю.
Она услышала, как древко глухо ударилось о глину. До нее долетели слова Дамасо, сказанные напоследок, и сердце ее сжалось от жалости.
— Ах ты, если бы такая девушка полюбила меня!
Но она уже бежала прочь. Она мчалась по полям, раня ноги о чертополох и камни, задыхаясь от быстрого бега и страшась того, что может произойти наутро, если Дамасо расскажет обо всем сплавщикам. И не могла успокоиться, даже когда он вернулся и, как ни в чем не бывало, лег спать.
Дамасо никому ничего не рассказал.
17 Заводь
— Я даже не знаю, какой сегодня день, — говорит Шеннон.
— Как не знаете? — решительно протестует дон Педро. — Летний.
Сесилия на миг отрывается от рукоделия и смеется.
— Дедушкино чудачество… Нет часов, нет календарей.
— Естественно. Я не признаю официального времени. Никакого. Только жизненное. Не стану же я надевать пальто, если в газетах напишут, что сейчас зима. Я надену его, когда мне холодно.
Да, Шеннон уже знает это. Он не мог не заметить, что во всем доме — лишь на лестничной площадке большие часы в старинном расписном футляре. Да и те не ходят. Как говорит Себастьяна, они обречены вечно показывать девять. Она единственная в доме живет по «часам Мадрида», как называет мадридское время дон Педро. И ждет, когда пробьют церковные колокола, чтобы сказать: «Сейчас полдень». Впрочем, Себастьяна того не ведает, что местное время не совпадает с официальным, мадридским, забегающим на час вперед. Следовать в селении мадридскому времени слишком неудобно. Все очень усложнилось бы: не станут же лошади останавливаться в двенадцать, если еще только одиннадцать. Поэтому дон Педро посмеивается над временем Себастьяны.
Время надо измерять так, как измеряли его до изобретения механизмов; например, по утренним звукам: кукареканью, воркованию и пению птиц, мычанию коров, журчанию воды, наполняющей кувшины, шарканью метелок, подметающих дворы, по тому, как меняется цвет стен, неба, солнца. И особенно — по едва заметному, неумолимому перемещению теней.
Доп Педро отдает предпочтение солнечным часам. Лучше всего они показывают время там, где сейчас находятся: у соляных разработок, принадлежавших в старину монастырю Пастраны. Этот патио, где только с двух сторон сохранились арки и пилястры, словно колодец времени. Дни идут за днями, и каждый из них оставляет, точно штрих, свою теневую отметину. Солнце приходит и уходит, откладывая временной пласт на стенах и на земле, мощенной булыжником между квадратными клумбами. И вот эти-то пласты, бесконечно наслаивающиеся один на другой, по словам дона Педро, и есть вечность.
Водоворот несчастного случая увлек Шеннона с пути, которым он следовал вниз по реке, в неумолимом движении времени от зимы к лету, от горных вершин к равнине. За несколько изменчивых часов боли и сна он оказался на берегу дней, однообразно повторяющихся и неизменно ограниченных, как стены и мгла колодца. Шеннон знает, что жив, потому что у него бьется пульс, а не потому, что проходит время. Он живет в незыблемом настоящем. Неважно, что каждый миг меняет что-то, вносит свой особый свет, звук, цвет, запах: оттенки сменяются но кругу, но это колеблет силу настоящего но больше, чем бушующие волны падежную глубину океана.
— Теперь я особенно остро ощущаю перемену, — объясняет Шеннон своим друзьям. — Мне пришлось свернуть с пути, по которому я все время двигался вперед, как река. А ныне я отброшен в сторону и покоен, точно заводь у остановившейся мельницы. Застывшая заводь, отражающая деревья и облака, будто ни вода, ни воздух, ни ветви но двигаются. Невероятное ощущение. Вы, по-видимому, этого уже не замечаете.
— Почему же, — говорит дон Педро, поглаживая усы и хмыкая, — всякий раз, как мы едем в Гвадалахару, не говоря уже о Мадриде. Это какой-то кошмар! Я потом в себя прийти не могу!
— И я тоже, — вставляет Сесилия, не поднимая глаз от рукоделья.
— Потому-то я и ценю вот это, — решительно говорит идальго и вонзает в землю свою трость-рапиру. — Все же оно было просто необходимо. Да, сеньор! Так взвешивается и отсеивается все незначительное и легковесное и мысль сосредоточивается на самом главном, самом важном.
— Несомненно. Но что станет со мной, когда откроется водоспуск, мельница придет в движение и вновь ввергнет меня в пучину реки, которая нас несет? А ведь этот день настанет. Не могу же я вечно пребывать в нынешнем состоянии?
Его вопрос остается без ответа. Доп Педро явно уклоняется. Вероятно, у него есть на то причины, ибо он переводит разговор:
— Себастьяна! Принеси-ка мне газету!
— Я принесу, дед. Старую или новую?
— Сегодняшнюю давай, сегодняшнюю. Надо быть в курсе событий.
Дон Педро смеется и смотрит на Шеннона. Это обычная его шутка — дон Педро называет сегодняшней газету по меньшей мере трехмесячной давности. Когда почтальон приносит местную газету — не из Мадрида, там все они слишком сухие, без провинциальных курьезов, — Себастьяна кладет ее под огромную кипу, чтобы потом для чтения брали самую верхнюю.
— Так мой покой не нарушают никакие слухи о войнах и бедствиях. Через месяц никто уже не вспоминает апокалипсической речи президента такого-то или генералиссимуса эдакого.
— Однажды грянет война — и вы очень удивитесь, — шутит Шеннон.
— Если теперь начнется война, мы о ней и узнать не успеем. К тому же меня давно ничто не удивляет. Человек — поразительная тварь…
— На, возьми, — говорит Сесилия, возвращаясь. — А вам я принесла старую, вы говорили, что они вам больше правятся…
Действительно, Шеннону интереснее читать газеты десяти-, двадцати-, а то и пятидесятилетней давности… У дона Педро их множество, он покупает их у букинистов в Мадриде. Ему все равно, составляют они полный комплект или нет. Не найди Шеннон в старых номерах «Ла Иллюстрасьон» писем и рисунков Пеллисе с театра военных действий, он бы так и не узнал, что храбрый Осман-паша, осажденный в Плевне русскими, был вынужден сдаться в 1877 году.
— Ну что? — спрашивает Сесилия. — Есть что-нибудь интересное?
— Итак… полет самолета Plus Ultra. Это что, ваш испанский Линдберг{Линдберг, Чарльз — знаменитый американский летчик, совершивший первый перелет через Атлантический океан в 1927 г.}? Карамба! Он летел со скоростью почти двести километров в час.
— Господи Иисусе! — удивляется Сесилия. И тут же спохватывается: — Но ведь теперь летают быстрее!
Да, если так читать, все временные представления растягиваются и сужаются, как аккордеон. Все вехи, все рубежи смешиваются. Вчера умер Каналехас{Каналехас, Хосе — испанский политический деятель, убит в 1912 г.}; позавчера провозгласили Республику{Республика в Испании была провозглашена в 1931 г.}… Все наслаивается одно на другое, все одинаково, все ведет к тому, что возникает убаюкивающее и вместе с том беспокойное чувство бесконечного настоящего.
— Намного быстрее. Прежние самолеты нынче кажутся игрушечными. Но вы, Сесилия, еще увидите, какими покажутся наши самолеты лет через двадцать.
— Боже мой! — вмешивается дон Педро, не отрывая глаз от газеты и не снимая очков. — Когда вы будете говорить «ты» девочке? Ведь она совсем ребенок.
— Когда она мне разрешит, дон Педро. Она уже не девочка, а женщина. Прелестная маленькая женщина.
Сесилия вспыхивает и не отвечает. Шеннон смотрит на ее низко склоненную голову и видит, как падает тяжелая, большая слеза. И глухо ударяется о полотно, натянутое на пяльцах, как кожа барабана.
— Ради бога, Сесилия! Я вас обидел? Простите меня! По-испански это невежливо, да?
Сесилия говорит «да». Она поднимает лицо и улыбается. Глаза ее все еще влажны. И, как умеет, объясняет ему, что согласна, что будет очень рада, пусть говорит ей «ты», если хочет. Но она еще глупая, никак не привыкнет, с пей это бывает, не надо обращать внимания… А Шеннон утешает ее и говорит, что если двое обращаются друг к другу на «ты», значит, они друзья.
— Ой, нет! Я вам… никогда! Я не смогу! — спешит возразить Сесилия.
Дон Педро не вмешивается, по-видимому поглощенный провинциальными новостями месячной давности. Тень, доселе неподвижная, переместилась от розового куста к подножию пилястра. «Так проходят часы, дни, — думает Шеннон, — за ними месяцы, годы, столетия, и ничего не происходит. Все остается прежним: и горы, и небо. Только люди сменяют друг друга». Но здесь и об этом думаешь спокойно.
Ничего не происходит, разве какая-нибудь мелочь, вроде сегодняшнего случая с Сесилией. Однако слова, сказанные Шенноном, не банальный комплимент. Нельзя назвать ее красивой, никак нельзя. Она не привлекает внимания с первого взгляда. Но от нее исходит безмятежный аромат какого-то удпвительного, неведомого цветка, едва уловимый и очень нежный. У нее обычные глаза, карие, без блеска, не особенно выразительные, но они то смеются, то кротко глядят в небо, когда она о чем-нибудь задумается. Какие у нее губы? И не скажешь; запоминается лишь скромная улыбка и то, как они чуть-чуть подрагивают, когда она волнуется. Можно прожить рядом с пей год, но закроешь глаза — и по вспомнишь ее черт. Не всегда, конечно, уточняет Шеннон. В часы предвечерних прогулок, в спокойные часы у лампы они запоминаются. А потом, когда ночь заглянет в спальни? Наверное, нот. Как-то раз, сам того не желая, когда Сесилия взбиралась на стул, чтобы убить муху, — она одержима чистотой и панически боится насекомых — Шеннон увидел ее ногу выше колена, но в нем шевельнулась лишь целомудренная нежность. А вот теперь тут, в патио, муха, примостившаяся на ее щиколотке, успела взлететь раньше, чем Сесилия ее вспугнула; и Шеннону захотелось приласкать девушку… Только ли поэтому? Кто знает? Да, в ней даже не угадывалась любовница, но разве этот плод не созреет? Слова, сказанные Шенноном, были искренней данью ее очарованию. Пусть даже только очаровательному портрету, которому он предпочел бы женщину не такую прелестную, но живую.
И в этом неподвижном времени, непонятно, каким образом, настает наконец миг, когда Шеннон чувствует себя настолько лучше, что решается немного пройтись, опираясь на палку: метод Кико гораздо действенней, чем гипс, ибо он сокращает неподвижность, а стало быть, приближает выздоровление. Ужо через несколько дней Кико начал делать массаж и прикладывать новые травы. Шеннон ходит по кухне, садится на скамью, тоже побеленную, как стены, и покрытую циновкой, и развлекается тем, что слушает болтовню Себастьяны. Она всегда говорит очень убежденно.
— Смотри-ка, румба. Ах ты, черт! Все вокруг того и гляди пустится в пляс! — скороговоркой комментирует она, глядя в окно на воскресные танцы. — Я выглянула и вижу — Карола, та, что гуляет с Фаусто. Ох, и танцует же она, говорят! Огонь, да и только! Мужчинам рядом с ней делать нечего! Ну и лихо пляшет! И все одна, одна, смотри-ка!
Ей нравится разговаривать с Шенноном: он для нес — новый слушатель старых историй. Она рассказывает ему о доне Педро:
— Он но родной дед девочке, а браг ее бабки, но она для него все равно как родная. Нет, он не был женат. Когда-то… до той войны; ну той, с иностранцами, он чуть было но женился на одной из Альмагеры. Из хорошей семьи, из благородного дома. Да неровен час, приспичило ому со своим ученьем отправиться в Париж. И на тебе: ни свадьбы, ничего; оттуда он вернулся совсем другой. Я думаю, его обольстили француженки. Священник правильно говорит, что все они… забыла, как он их называет.
— Фривольны? — подсказывает Шеннон, улыбаясь.
— Нет, не то… А, вспомнила: распутницы! С тех пор он и повадился каждый год в Париж, да книжки читал, да письма писал, пока не началась та война. Только она началась — он сорвался как сумасшедший и помчался в свой Париж; помню, еще ему говорили и доктор, и сеньор священник, его звали дон Эпифанио, он хромал немного, чуть-чуть, сперва даже но знали, брать его в священники или нет; так вот, они говорили, что это очень опасно; но куда там, он все равно уехал, и был в Париже, и вернулся. На том все и кончилось. С тех пор он больше никогда никуда не ездил, все здесь жил. Да, потом в Куэнке работал в институте, вышел на пенсию, а теперь снова здесь.
Нога уже выносит тряску, и вчера — а может, не вчера?.. что значит здесь слово «вчера»? — дои Педро отвез их в селение на повозке. Старик правит уверенно, осторожно, а рядом сидит Сесилия, загораживая Шеннона от солнца белым зонтиком, который образует над ним купол прозрачной тени. Звенит бубенцы, заполняя день радостным звоном. Все улицы в селении желтые и сверкающие, устланы соломенным ковром, потому что идет молотьба. А через шесть недель станут темно-лиловыми, сок забрызгает стены, потому что начнется сбор винограда. Едут они к большому другу дона Педро — генералу Гарсия Пиос, уединившемуся в селении в громадном каменном доме с плоским фасадом, почти без окон: только парадный вход, несколько крошечных окошечек под навесом и, уж конечно, огромный балкон с фамильным гербом. Сеньор Гарсия давно уже не генерал. В июле тридцать шестого он командовал в Бильбао и считал своим долгом соблюдать дисциплину и подчиняться ей. Его спасло только то, что он не успел ничего совершить, а до Республики у него был дворянский титул. Генерал — для них, как и для всех обитателей селения, сеньор Гарсия по-прежнему остается генералом — радушно принимает гостей, разговаривает с Шенноном на великолепном английском языке, знакомит его со своей сестрой, весьма изысканной дамой, и всем очень хорошо вместе. Но на обратном пути, когда они едут по оливковой роще — солнце уже скрылось и небо на западе стало пурпурным, — Шеннона охватывает грусть и не покидает до самого сна.
Наутро грусть вновь оживает в нем при звуках старинной мелодии, доносящейся по галерее до его комнаты. Играют на ветхом пианино медленный, романтический вальс конца прошлого века. Шеннон идет но лестнице, неторопливо из-за больной ноги, и, когда спускается вниз, музыка смолкает. Играли в комнате Сесилии; только там стоит пианино. У нее такая же спальня, какая была у его матери. Дверь открывается, и оттуда выходит девушка, очень-очень серьезная. Увидев его, она прикладывает палец к губам, призывая Шеннона к молчанию, и, охваченная какой-то тревогой, несмело берет его за руку и ведет к крытой галерее патио.
— С ним это бывает, — говорит она. — После визита к генералу он всегда просит меня сыграть ему вальс Маркетти «Очарование». Сядет в мое маленькое кресло, уткнется лицом в руки и молчит. Когда я кончаю играть, я прикрываю окно и ухожу… Генерал знает его историю; он был военным атташе во Франции в 1910 году… Я вас огорчила? Правда, все это грустно, но, наверное, красиво… — Она вдруг краснеет, удивленная своей необычной смелостью, и поясняет: — Я хочу сказать… Ах, да что я знаю! Но всю жизнь, всю жизнь…
Опа ведет Шеннона к складу на соляных разработках. Это совсем рядом, но Шеннон там еще не был. Такой склад стоит посетить: это высокий неф, облицованный толстым слоем дерева; огромные ворота — на деревянных, а не железных петлях (соль разъедает железо и только дерево не поддается), на полу горы твердого соленого снега с сильным запахом… Тень здесь густая, и Шеннон идет, опираясь на палку… Они пересекают неф и из других ворот смотрят на груды соли, сверкающие на солнце. Гладкая поверхность поделена на водоемы и маленькие квадраты бассейнов, в которых выпаривают воду из соляного источника, фонтаном бьющего в глубоком овраге. Это шахматное поле из маленьких зеркал: один покрыты металлическим слоем мутной воды; другие уже побелели от соли; третьи ослепительно белы. Как странно видеть этот снег под раскаленным, огненным солнцем! На обратном пути Сесилии приходится предложить ему руку: она боится, как бы он не поскользнулся. Здесь, в густой тени склада, где так резко пахнет солью, особенно приятно оттого, что Сесилия с ним. Они идут молча и встречают дона Педро, оживленного, помолодевшего. Он доволен, что придумал великолепную шутку, которую намерен сыграть с генералом, и объясняет, в чем она заключается.
— Ну, как? — спрашивает он. — Будет Рамон смеяться?
Оп хохочет и закашливается. Его радость трогает Шеннона.
Да, думает он, но эта радость была бы еще трогательнее где-нибудь в другом месте, а не здесь, где равнодушие останавливает время и все теряет свою остроту. Разве сам он не вспоминает Паулу слишком спокойно, хотя это имя все еще вызывает в нем грусть? И как совместить ту бережность, с которой он лелеет все, чему научился у сплавщиков, и удивительное безразличие, с каким вспоминает их? На фоне вечного настоящего стираются грани и соотношения между вещами.
На смену каждой ночи приходит все тот же день. И вдруг его поражает новый запах. В однообразный жаркий воздух вливается живой, сильный аромат. Что это? Оказывается, открыли сарай, где хранится лаванда, и поставили за домом фильтр. Солнце блестит на громадной тыкве перегонного куба, и воздух наполняется густым запахом гор. Шеннон вспоминает последние перед наступлением весны дни в горах, когда солнце еще только вонзало шпоры в розмарин, тимьян, лаванду. Воспоминание это снова оживает в его памяти, когда они беседуют с Кико, который умеет предсказывать погоду по облакам.
— Скоро уже пора будет наблюдать за ними, — говорит старик, — но тому, какими они будут первого августа, можно предсказать январь. У каждого месяца свой день.
— Тогда это легко.
— Ну да! А среди месяца как узнать? Надо последить, куда ветер дует, землю пощупать, посмотреть, как ведут себя облака: сходятся ли, как самочки и самцы, или же разбегаются… Много всего!.. Не так-то это просто, дон Педро. Надо иметь за плечами большой опыт, как у меня… Без этого ничего не выйдет, так и знайте!.. Я вот грамоте не обучен, а в жизни разбираюсь… Конечно, у каждого свое достоинство.
Они продолжают беседовать. Пастух не умеет писать, но навахой он делает надрезы на палке, а потом предсказывает погоду на следующий год. Дон Педро говорит, что предсказания его довольно верпы. Наконец Кико уходит, а Шеннон размышляет над словами, которые когда-то слышал от Балагура: «У каждого человека свое достоинство».
— Эти люди, по-видимому, придают большое значение достоинству, которое я никак не могу определить. Если судить по этим полям и по испанской литературе, его одинаково могут иметь или по иметь и король, и нищий. Откуда оно берется? И почему теряете? Это не видимость и уж тем более оно не зависит от успеха. Можно потерять все и не стать «несчастненьким», как любят говорить здесь, считая это слово чуть ли не бранным, то есть сохранить этот покров достоинства, тайный признак того, что ты еще человек.
— Успех тут ни при чем, — говорит дон Педро. — В сущности, успеху мы не доверяем. Очень хорошо говорит об этом Сенека, а он является эталоном мудрости для моего народа. Насколько мне помнится, уж простите старого профессора, в одном из своих писем к Луцилию он пишет: «Сделаем так: пусть наша жизнь, как любая истинная ценность, обретет не блеск, а весомость».
— На эту тему написано немало современных стихов, — припоминает Шеннон. — Вот, например, у Верфеля: «13 каждом человеке нам обетовано возвращение Спасителя». Или нее у Рильке, чьи стихи так повлияли на меня и юности: «…Их цель была цвести. Иначе процветать. Мы — только вызреваем, а это значит исподволь расти». Да, надо истово служить какому-нибудь делу. Но какому? Десять заповедей тут не помогут: ведь и у преступника может быть достоинство.
— Мне-то все ясно, — улыбается дон Педро. — Жить с достоинством — значит жить истинно. Быть верным своей сокровенной сути. Десять заповедей тут, действительно, не помогут, ибо они велят всем делать одно и то же. А истинность требует от каждого, чтобы он был самим собой. Истинный человек как столп, как завершенное творение, и мы говорим, что он «на своем месте». Вот почему так отличается глубокая уверенность деревенских жителей от легкомысленной суетности горожан.
Шеннон пытается как следует уяснить это для себя: ему не даст покоя то, что он слышал от сплавщиков. И он продолжает расспрашивать:
— Не отдает ли это восточной философией, дон Педро? Не слишком ли долго пребывали на этих полях арабы? Разве ваше рассуждение о достоинстве не фатализм?
— Вы сильно заблуждаетесь, мой друг, очень сильно! — возражает старый идальго, — Достоинство велит добровольно служить судьбе, а не покоряться ей. Фаталиста ничто не трогает, для него все непоправимо. Фаталист покоряется, говоря: «Мне это на роду написано». Настоящий же человек скажет: «Это сделал я». Все зависит от того, что сделано и кем: убийцей или самоубийцей, распутником или святым. У каждого может быть достоинство, но творец не требует от пас, чтобы мы были святыми. В конце концов, яд и бацилла попущены провидением… У всего свой смысл.
Да, вероятно, это так, думает Шеннон. Только так можно принять то, что он видел в Италии. Только так объяснишь то чудовищное глумление, свидетелем которого ему пришлось стать. Он рассказывает об этом дону Педро, когда они идут домой. По обеим сторонам дороги виднеются открытые винные погреба с маленькими дверками, сквозь которые улетучиваются испарения влажной земли, известняковых стен, вина.
— Мне кажется, будто я все это вижу. Они волокли по улице человека, который издевался над ними, как хотел, и гноил их в тюрьме. Они волокли его по земле именем закона и произносили те же громкие фразы, которые произносил когда-то он сам… Его притащили к дому, где он жил, и повесили на фонаре, который торчал из степы. А затем решили сорвать с пес каменную доску со словами благодарности, которую когда-то сам велел им прибить. В доме оставались только служанка и его мать, слепая старуха. Какой-то человек приставил к степе лестницу и стал молотком сбивать плиту. Услышав стук, старуха вышла на балкон и, почти перегнувшись через перила, пыталась дотянуться до того, кто посмел тронуть доску. Толпа визжала, старуха верещала и гримасничала. Труп ее сына болтался на фонаре, но она не могла его увидеть. Мужчина продолжал стучать молотком. Наконец доска поддалась, и тут кто-то крикнул: «Давайте прикончим старуху!» Она чуть было не свалилась. Все затихли. Человек, стоявший на лестнице уже с доской в руках, крикнул старухе: «Ну что, бабка, не дала нам спять, а?» — и начал спускаться вниз, громко смеясь. Люди вокруг тоже захохотали, у дома собралась толпа зевак. Служанке удалось втолкнуть старуху в комнату и закрыть балкон. Остались только пятно на стене и на потеху толпе повешенный. Это было дико, чудовищно, смешно… но удивительно по-человечески, — заключил Шеннон.
— Да, «по-человечески» — это не только благодушно, сочувственно, преданно… — подхватил дон Педро. — Это еще и все самое худшее, прямо противоположное. Вот почему настоящий человек может впитывать достоинство из любых корней: и ядовитых, и плодоносных.
Подойдя к дому, дон Педро здоровается с торговкой, которая развозит глиняную посуду на маленькой повозке и продает или обменивает на старье и железный лом. Себастьяна, поторговавшись, покупает у нее кувшин.
В тот же вечер Шеннон, дон Педро и Сесилия втроем сидят на солнышке. В неподвижном воздухе до них доносится мерный стук веялок. Проходит вереница мулов и ослов, нагруженных мякиной и золотистым зерном. Река сверкает среди вязов и тополей, скрываясь за холмом. Солнце прячется за розовато-перламутровым облаком; постепенно небо становится желтым, пурпурным, темно-лиловым и, наконец, затухает. Почти рядом с двух одуванчиков взлетают ввысь их белые шапки. Стадо черных и белых овец устало бредет по жнивью.
Доп Педро и Шеннон возвращаются к прерванной беседе: для Шеннона это очень важно, а дону Педро, привыкшему к одиночеству, приятно разговаривать с достойным собеседником. Они говорят о «человеческом» — самом главном для дона Педро.
— Я убежден, — повторяет он, — что человек — это мера всех вещей, как сказал древний философ. Но теперь очень модно забывать о нем, хоронить его под грудой разных вещей. Он должен путешествовать с фотоаппаратом, чтобы все снимать; он места себе не находит, если у него нет счета в банке или шикарного автомобиля; он готов доконать себя, только бы приобрести титулы, посты, ордена, разный хлам, лишь бы о нем напечатали в газете… А ведь должно быть наоборот: вещи должны служить человеку.
— Да, это верно. Слишком много вещей окружает пас, — соглашается Шеннон. — Возможно, сплавщики потому такие настоящие, что неприхотливы. И потому же бедные всегда ближе к правде, чем богатые.
Доп Педро уже готов согласиться, это слишком очевидно, но почему-то колеблется, и голос его едва дрожит. Едва-едва! Не будь беседа столь неторопливой, никто бы этого не заметил.
— Так-то оно так, но… Помню одну светскую даму… весьма утонченную… Она не могла обойтись без тысячи разных безделушек: перчаток, носовых платков, зонтиков… И такие изысканные манеры… Но она была великолепна.
Вместе они пытаются разобраться, в чем тут дело. Шеннон почтительно подсказывает, — он заметил, сколь деликатного вопроса касается, — что, вероятно, дама была бы еще прекраснее на картине, ибо она, как художник, творила самое себя.
— Что ж, возможно… — соглашается дон Педро, скорее всего чтобы перевести разговор. — А вообще богач, особенно если деньги достались ему по наследству, всегда лицемернее, дальше от настоящей правды, от хлеба и дружбы, от дома и товарища. Это трудно объяснить. Это ведь жизнь, а жизнь — удивительно странная штука, и неразумная. Ее каждый придумывает для себя, хотя и старается постичь и приспособиться к ней. Каждому приходится все время открывать для себя Америку. Очевидно, — глаза ого загораются, — только так можно обнажить корпи проблемы, самую се суть.
Голос дона Педро звучит вдохновенно, и когда он замолкает, Сесилия украдкой бросает взгляд на Шеннона и улыбается ему. Таким всегда бывает дед, когда спорит с генералом.
— Да, — слегка напыщенно говорит дон Педро. — Корень проблемы — свобода. Невозможно быть верным своей духовной сути, если ты не можешь вести себя так, как хочется, то есть если нет свободы. Свобода! Без нее нельзя быть самим собой, нельзя стать лучше, проявить себя. Только из этого источника человек может черпать достоинство.
Шеннон согласен, но не в силах сдержать улыбки. Доп Педро замечает это и смеется в ответ. Он смеется искренне, разглаживает усы, и глаза его снова вспыхивают.
— Простите, я почувствовал себя в аудитории. В Куэнке, в институте, мои заключительные лекции всегда имели большой успех. Приходили не только студенты, но и горожане поглядеть на чудака. Так они меня называли. Дело в том, что, кончив лекцию, я делал лирическое отступление, которое и венчал священным словом «свобода». И в тот миг, как я его произносил, загоралась зеленая лампочка на лацкане моего пиджака, батарейка лежала у меня в кармане… Да, они смеялись надо мной, называли «отчаянным либералом». А я смеялся над ними, потому что из года в год вбивал это слово в их головы столь необычным способом, что они не смогут его забыть, сколько бы ни прожили… Так я заставлял их глотать эту пилюлю. Без моего чудачества мне бы никто не разрешил говорить такое при диктатуре. А раз я чудак, то и сейчас продолжаю провозглашать это священное слово: свобода!
Он произносит это стоя и улыбается, хотя за его улыбкой легко угадать волнение.
— Но, дон Педро, вам не хватает лампочки, — тоже шутливо говорит Шеннон.
— Вам она не нужна. Вы мой сообщник.
— Хм… Не такой уж я заядлый либерал.
— Как это? Вот те на! Но это невозможно! Убеди его, Сесилия.
— Куда мне! — говорит девушка так, будто хочет сказать: «С мужчинами лучше не связываться». — Пойду посмотрю, как там с ужином.
— А Себастьяна на что?
— Ты же знаешь, дедушка, она все делает сама, но сердится на меня, если я иногда не зайду и не сделаю вид, будто распоряжаюсь, — ласково отвечает Сесилия.
Они молчат, пока старый идальго провожает нежным взглядом внучку. Вечерние сумерки вытесняют остатки дневного света. В домах, виднеющихся на пригорке, вспыхивают едва заметные желтоватые огоньки.
— Я не говорю, что вы либерал; я только сказал, что вы мой сообщник. Я понимаю, что такой человек, как вы, но может быть похож на меня.
Оп смолкает, и кажется, будто перед его мысленным взором проносятся картины минувшей жизни.
— Было время, когда мне показалось, что пора дать новое название идее, пришить новый ярлык, чтобы не отпугивать молодежь, которая не жалует сюртуков, цилиндров и… честно говоря, зеленых лампочек. По этого мало. Кризис слишком глубок. Слишком шатки общественные устои. Это сразу же заметно, едва мы отрываемся от газет, мешающих нам видеть, точно шоры, и сопоставляем все, что там написали за столетия… Я уже не могу быть другим; я стою на якоре своего времени. Но и оттуда я вижу голод, невежество, страдания и не приемлю трусливой отговорки, что так будет всегда. Я не могу с этим смириться, слишком уж удобно это тем, кто не знает нищеты. Я вижу и кое-какие улучшения, во всяком случае, вчерашние бедствия отступили, теперь остается вырвать их с корнем. Нет, негоже говорить, что завтра появятся новые бедствия и человек все равно будет несчастен; для меня это не оправдание, оно не отнимает у меня ощущения, что и я виноват, как соучастник. А раз так, раз механизм износился — долой его!.. Я говорю вам все это, — заключает он, помолчав, — чтобы вы не считали меня черствым сухарем. Я уже не могу стать другим, и тем не менее я готов на все. А это не так уж мало, поверьте мне и не презирайте меня.
— Дон Педро, ради бога! Я всегда восхищался вами! — восклицает Шеннон так искренне, что возразить ему нельзя. — А теперь еще больше… Я хоть и молод, но никогда не смог бы сказать так, как сказали вы только что… Но разве мы можем разрушать, ничего не создавши в мыслях?
— А как создашь, если нынешние телескопы — главная помеха будущему? Это архитекторы могут заранее спроектировать, а жизнь распоряжается по-своему, она ничего не предусматривает заранее. Колумб направлялся в Азию, а открыл Америку. Французская революция стремилась к республике Катона, а к власти пришел Наполеон; Наполеон создавал Империю, а посеял либерализм… И разве варвары помышляли о новом мире? Рим уже не сопротивлялся, он был повержен: они разрушили его, и на месте развалин зародилась Европа. Разве могли это предвидеть римские сенаторы, которые призывали к терпению, пока улаживали свои собственные дела?
— Слушая вас, я вспомнил крестьян из одной итальянской деревушки. Вместо обычных «Долой Муссолини!» и «Долой фашизм!», которые красовались повсюду во время нашего наступления, они написали на степе огромными буквами: «Долой все!»
— Превосходно, просто превосходно… Истинный девиз кельтиберов: «Долой все!»
— Что же получается, дон Педро, выхода нет? Как мы можем действовать, ни во что не веря?
— В человека, в человека надо верить! В его достоинство, произрастающее из его сути и крепнущее в свободе. Разве системы не обречены? Надо вернуться к истоку — к человеку, к существу первозданному, первоэлементу истории! Не сковывая его надуманными ценностями, не строя предварительных проектов. Пусть человек идет своим путем. И он придет!
— К чему?
— Один бог знает! Или вы думаете, что узнали? Человек! Человек — вот моя надежда!
Ужо ночь. Вокруг зажженной лампы кружит мошкара. Шеннон молчит. Да и что сказать?
— Да, это так, — признает он, — В глубине души я тоже верил в него, пока не открыл для себя, что такое настоящий человек… Знаете, почему я высадился в Испании? — взволнованно проговорил он. — Пароход, который вез демобилизованных, пристал к берегу в Аликанте. Я стоял один, мне было очень плохо… И вдруг я заметил, что уже некоторое время наблюдаю за рыбаком, невозмутимо сидящим на пристани. Он неторопливо резал хлеб с уверенным и спокойным видом. «Что, закусываешь?» — спросил я его, движимый каким-то непреодолимым порывом. «Хлебом с навахой», — ответил он мне, с наслаждением вкушая всухомятку, по своей бедности… Нет, не всухомятку, а приправленный солью стали. Неразлучные хлеб и железо, еда и смерть — суть испанской жизни. Как непохож он был на римлянина, требовавшего хлеба и зрелищ!.. И мне захотелось стать таким, как оп; подчиниться, как и он, последней правде: правде хлеба и навахи; постичь тайну жизни. Вот почему я высадился в Испании. Но до этой минуты я так и не смог постичь… Спасибо вам, дон Педро.
Оп понял, что если имя его любви или его страсти — Паула, то у его надежды более высокое имя: человек и его суть; его сила и мятежность; его дух и его свобода.
Сесилия снизу зовет их ужинать. Мужчины пожимают друг другу руку и плечом к плечу спускаются с ночной высоту к спокойствию освещенной столовой; в круг будничной жизни без вспышек; в надежное пристанище Сесилии.
Потом, уже поздней ночью, Шеннон спросит себя, действительно ли его страсть зовется Паула. А может быть, это просто зависть, вызванная тем, что он не смог тоже стать жестоким, простым, непосредственным — крепким деревом в костре жизни? Нет, решит он, Паула заключает в себе все, как земля. Эта женщина из плоти и крови — сама душа сплавного леса, первый посланник богов, который провел его через открытые врата в горе.
А позже — может быть, через день, может, через педелю после того длинного разговора с доном Педро — Сесилия спросит его:
— Вам не надоедает дедушка?
Они совершают недалекую прогулку к оврагу с соляным источником. Шеннон уже может помногу ходить, — ведь прошло столько времени! — хотя и с осторожностью. Тропинка змеится вдоль деревянного желоба для соленой воды между двумя лысыми холмами, и солнечные блики играют на гипсовых кристалликах, словно это маленькие зеркальца для жаворонков.
— Почему? Напротив. Он удивительный человек!
Они выходят на довольно большую замкнутую площадку с гладкой белой поверхностью, будто из отшлифованного мрамора. Сесилия объясняет ему, что это «сжатие»: сульфат натрия от зимней стужи «сжимается», как только на него попадает струя воды из источника, а поваренная соль, растворяясь, оседает в водоемах.
— Будто снег среди холмов, верно? — говорит Сесилия. — Мне нравится ходить сюда, очень нравится.
Шеннону становится жаль се.
— Вам бы понравилось и многое другое… Вы здесь одна, с двумя стариками… Девушке в вашем возрасте…
— О чем вы? — Она смотрит на него изумленными, непонимающими глазами. — Ах, да: пикники, кино, танцы… Все это выеденного яйца не стоит. Мне хорошо здесь с дедушкой. Он очень добрый! Иногда, правда, он говорит о непонятных вещах, но я все равно с удовольствием слушаю.
Они спускаются вниз по другому оврагу, пересохшей теснине. Щебечет птица на одиноком вязе — единственном дереве на залитом солнцем холме. Если посмотреть вверх, видны лишь зеленая ветка да голубое небо. Дрожат темно-зеленые листья с желтыми прожилками. Эти и видит Сесилия, пока молчит, — вблизи зеленое, трепетное, преходящее, а дальше — голубое, нетленное, вечное.
— Знаете?.. — вдруг говорит она. — Когда у меня уже не будет дедушки, я постригусь в монахини…
И Шеннон чувствует, как сгущается в воздухе исходящий от нее аромат, а она торопится предупредить его:
— Ради бога, не говорите дедушке! Он огорчится!
— Не скажу, — обещает Шеннон серьезно и добавляет: — Пусть это будет нашей тайной.
Девушка еще больше краснеет и опускает голову.
Позже, немного поразмыслив, Шеннон все же приходит к выводу, что должен рассказать об этом дону Педро.
— Ничего удивительного, — грустно говорит идальго. — Я предчувствовал, вернее, ждал этого. Что еще могло взбрести в голову бедной девочке с ее нежной душой, если она учится в монастырской школе? Я с удовольствием отдал бы се в другую школу, но здесь только эта… Я тешил себя надеждой, — посмотрел он вдруг прямо в лицо Шеннону, — когда вы к нам попали. Она ведь сразу влюбилась в вас!
— Дои Педро, я бы почувствовал… — начинает Шеннон, испытывая неловкость и желая оправдаться.
— Знаю, знаю, вы не виноваты… Но как вы могли не заметить? Ну конечно, вы думали о другой! Я и это увидел!.. И все же я питаю иллюзию: было бы так прекрасно умереть подле вас двоих… Правда, мне пришлось быстро с ней распроститься. Вы пришли сюда не за любовью. Еще одно чудачество старика!
— Нет, я не влюблен в Сесилию, — говорит Шеннон. И, видя, как огорчился дон Педро, добавляет: — Конечно, это невежливо с моей стороны. Я уверен, что был бы счастлив с вашей внучкой. Чем больше я ее узнаю, тем больше ценю. Рядом с ней все так просто!
— Да, — вздыхает дон Педро, — но это совсем другое.
Шеннон молча соглашается с ним, и старик порывисто продолжает:
— Любовь — это совсем другое. Я хочу вам кое-что рассказать, и сейчас самое подходящее время.
Он ведет Шеннона в свою комнату. Она совсем как келья: стены так белы, что сперва не замечаешь ни этажерки с книгами, ни железной кровати, ни старого кресла, ни старинного стола красного дерева, ни единственной роскоши — куста лимона. Хозяин достает ключ и открывает ящик. В нем ничего нет, кроме маленькой картины в рамке черного дерева. Он показывает ее Шеннону, словно дорогую реликвию. Картина — в духе Мане, а изображена на ней улыбающаяся женщина в саду, на фоне маков, с осиной талией, в зеленом платье с черной отделкой и с зонтиком, тоже зеленым. Она красива, изысканна, очень лукава. С обратной стороны на дощечке сделана надпись: «A Perico, mon âme, pour toujours. Solange»{Перико, моему любимому, навсегда. Соланж (франц.).}.
— Она произносила Перико, — говорит дон Педро, — Перико… Почему я вам все это рассказываю? Наверное, потому, что вы уйдете и никогда не вернетесь… Смешно, не так ли? Посвятить жизнь портрету. Если бы меня призвали в Иностранный легион, я мог бы умереть в четырнадцатом… Как это горько — всех пережить! Рушатся семьи, точно Замки, и непонятно, почему еще стоит одна полу-развалившаяся башня… Да, мне следовало бы исчезнуть, когда исчезли сюртук и цилиндр…
Пока старик благоговейно прячет портрет в стол, Шеннон с уважением произносит:
— Что сталось бы тогда с Сесилией?
— Да, у нее никого нет, кроме меня. Но иногда я задаюсь вопросом: не причиняю ли ей вред вместо пользы? Достаточно ли хорошо воспитываю ее? Ведь я не современен.
— Ну что вы, дон Педро, — прерывает его Шеннон убежденно. — Вы соответствуете любому времени. Нет, этого мало! Никто никогда не говорил мне того, что сказали вы. Вы настоящий человек. Вот вы — «в сюртуке», как вы изволили выразиться, а благодаря вам я увидел дальше, чем видел до сих пор; вы меня опередили… Знаете, я много думал о вас в тот день и вспомнил случай, который всегда привожу, когда слышу, как проповедуют насилие под предлогом охраны традиций. Вот Гойя, испанец из испанцев, никакой велеречивый традиционалист не превзойдет его в этом! И все же он понимал новый европейских дух, занесенный сюда французами, и умер в изгнании.
— Какая похвала, какая похвала! — с притворным ужасом восклицает старик, пытаясь скрыть слезу, навеянную портретом. — Еще бы! Этот арагонский крестьянин видел королевскую семью такой, какой он ее написал, и решил, что Испания от него никуда не денется… Заурядный портрет… Я не заслуживаю такой похвалы.
Они выходят из кельи. Шеннон думает о том, что даже этот колодец, эту мельничную заводь разъедает время. И уже вечером, в патио, он окончательно убеждается в этом. Дни однообразны своей палящей жарой, а ночи — нет. Когда круглая, могучая луна залила поле и селение волшебным сиянием, как замок в Сорите, Шеннон печально произнес:
— Часы дня отличаются звуками, тенью; дни месяца — луной. А годы? Разве не одинаковы они здесь, разве не повторяют одно и то же? Ощутимо ли их движение?
— Кости его чувствуют, — вздыхает дон Педро. — Кости становятся все тверже, кровь — все холодней. Я уже знаю, чем кончится для меня эта заводь, как вы ее называете: обычной смертью.
«А для меня? — задумывается Шеннон. — Как возвращусь я в течение той реки, что нас несет, когда поднимется заслонка и вода потащит мое тело к мельничным жерновам жизни?»
Ответ не заставил себя ждать. На сей раз посланником богов оказался крестьянин в вельветовых брюках, жилетке и рубахе с засученными рукавами. По такому торжественному случаю он надел шляпу, обшитую тесьмой. Фехтуя рукой, будто шпагой, он протянул повестку со штемпелем суда первой инстанции округа Чичон (Мадрид). В суд для дачи показаний такого-то числа вызывали некоего Роя Шеннона, свидетеля происшествий, имевших место в Сотондо. Если по какой-либо уважительной причине его присутствие в этот день… и тому подобное и тому подобное, он должен поставить в известность… и так далее и так далее.
Шеннон несколько раз перечитал повестку. С этим посланником в заводь ворвалось официальное время: сроки, календари, гербовая бумага, механизм, организация. Как будто рука альгвасила из Масуэкоса подняла заслонку мельничной заводи.
И река обрушилась с высоты, увлекая Шеннона в пучину, в стремительное течение, на какой-то миг остановившееся, чтобы он перевел дух, перед тем как с неудержимой силой следовать дальше.
18 Королевские места
Сплавщики с удовольствием созерцали свое последнее творение: запруду перед мельничной плотиной Аранхуэса, у самого подножия великолепнейшего из садов Испании. Запруда облегчала стволам подход к маленькому каналу, пролегающему почти посредине старой плотины, чья широкая наклонная плоскость, покрытая водорослями и залитая блестящей водой, купалась в радужном сиянии. По одну сторону плотины находилась мельница, по другую — большие парадные лестницы и угол бело-розового дворца с красивым свинцовым куполом.
— Ну и красотища! — радовался Балагур, пока они ждали капитана, сидя на пригорке, где стояла мельница.
— Известное дело! — изрек Кривой. — Если пройдешь сквозь горы и выйдешь в долину, попадешь в рай. Какая земля! Даст все, что пожелаешь, и даже больше.
И действительно, едва они вышли в долину, вести сплавной лес было одно удовольствие, будто они совершали увеселительную прогулку вдоль реки под сенью густых развесистых деревьев, склонившихся над руслом, словно для того, чтобы посмотреть на своих мертвых товарищей. На улице Королевы реку пересекает мост, по левую сторону начинаются оранжереи и сады Наследного Принца. Потом она течет мимо Сельского Домика и Морского Дома, где хранится малая королевская флотилия, на которой совершали прогулки короли и королевы. И устремляется к замку из зеленого камня с парком, бойницами и белой сторожевой башней — надежному укрытию любовных забав и придворных интриг… Так и чудится, будто там все еще не умолкли галантные остроты и радостная суета придворной знати. Воздух словно густеет и трепещет от былых страстей и козней, и сплавщики ясно чуют ото, хотя не понимают в чем дело. Как не похож этот запах на запах жнивья, на жаркое дыхание полей, оставшихся позади!
И по всему этому отрезку реки снуют лодки малой флотилии и Сельского Домика, оглашая реку тарахтеньем моторов и гамом туристов.
— Когда я все это вижу, — сказал Сухопарый сплавщикам, ожидавшим капитана, — душа так и ноет. Сколько цветастых платьев, голых рук, накрашенных лиц… Помните тех двух блондиночек, кричавших нам вчера: «Прощайте, прощайте!..» Ну и красотки, черт возьми! Отменные кобылки, так бы и оседлал!
Сплавщики чувствовали себя в центре внимания. На подвесном мосту непрерывно торчали зеваки, восхищаясь их ловкостью. И, как говорил Балагур, приходилось лезть из кожи вон.
— Погодите, погодите, — не унимался Сухопарый, — вот только рассветет — сюда явятся купальщики. Тогда посмотрите, какие тут девушки: что за ножки, грудки… А тело белое, холеное, пахнет душистым мылом… Такие всегда были мне по вкусу.
Сплавщики упивались своим успехом до тех пор, пока не явился капитан со всеми артелями, чтобы совершить последнюю церемонию, завершающую их путь.
— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как вы окунетесь, сеньор Хулиан, — пошутил Балагур, пользуясь его расположением к себе. — Или вы думаете, река не мокрая?
— Я имел с ней дело в молодости, Кинтин. И не один год. Знаю, что не сухая, — ответил капитан, снимая сапоги. — Сейчас увидите, разучился я или нет.
— Говорят, чему смолоду научишься, до старости не забудется.
Капитан обул альпаргаты.
— Что ж, попробую, — заключил он, вставая. — Дайте-ка мне хороший багор.
Он перебрал несколько, придирчиво оглядывая их, сжимая в руке, чтобы примериться, и втыкая в ближайшие стволы. Наконец выбрал один и перевел взгляд на паркет, устилавший реку.
Наступил самый ответственный момент: обычай требовал, чтобы в последний канал Аранхуэса первый ствол провел капитан сплавного леса. Он должен был, удерживая равновесие, вплыть в канал, стоя на стволе. В какой-то мере так подтверждался авторитет, проверялась его жизнеспособность, да и сам он не прочь был покрасоваться перед своими товарищами. Если он падал в воду, как нередко случалось, ему приходилось начинать все сначала, пока, наконец, не приходила удача.
— Вой тот, — коротко произнес капитан, указывая на один ствол.
Затем снял куртку, подтянул потуже пояс, подвернул брючины и направился но плавучим бревнам к выбранному им стволу.
— Не хотите ли спять цепочку с часами? — крикнул ему вдогонку Балагур под шумный хохот остальных. — Намокнут — перестанут ходить!
— Незачем! — уверенно ответил капитан.
Он уже стоял на толстом, прямом и длинном стволе, еще покрытом в некоторых местах потемневшей корой. Покрутив его немного ногами, нашел устойчивое положение. Теперь ему предстояло, минуя другие стволы, выбраться к водоспуску маленького канала. Заслонкой служили две большие доски, вставленные в каменные пазы. Двужильный и Белобрысый уже ждали там, чтобы вовремя поднять ее с двух сторон и открыть проход.
Ствол приблизился к заслонке, на нем твердо стоял капитан.
— Пускайте воду, — приказал он.
Сначала вынули одну доску, и вода медленно потекла в ка пальчик. Затем другую — и река потоком хлынула в каменное русло. Оба сплавщика сдерживали баграми ближайшие стволы, не давая им войти раньше того, на котором стоял капитан. А капитан выжидал, пока немного успокоится первый прорвавшийся вниз поток воды. Наконец он поправил на голове сомбреро, чувствуя, как все взгляды устремились на пего.
— Иду! — крикнул он.
И, словно гондольер, оттолкнул ствол, а тот вошел в канал и какое-то время острием торчал из воды, продвигаясь вперед. Но вдруг покачнулся, наклонился, и вода с силой поволокла его за собой. Капитан откинулся назад, чтобы уравновесить наклон ствола, и впился в дерево шершавыми подошвами альпаргат. Балансируя багром, он стойко сохранял равновесие. Наконец ему удалось преодолеть самое трудное столкновение с пенящейся водой. И вот он уже спокойно плывет на стволе к водонапорной башне. Один среди вод, укротитель Тахо, победитель реки.
Громогласный крик возвестил о всеобщем ликовании. Ствол уткнулся в подножие водонапорной башни, капитан торжествующе взмахнул рукой и стал подниматься на пригорок.
— Можете начинать! — крикнул он. И, приняв поздравления, остался там наблюдать, как сплавщики у водоспуска проталкивали стволы в канал, пока другие спускались вниз, чтобы присмотреть в последний раз за своим стадом, которое проходило метров пятьсот вдоль прекраснейшего сада Испании до песчаного мола — конечной точки пути, где уже дожидались упряжки волов и грузчики, готовые приняться за работу.
— Хороший день, а? — сказал Американец стоявшим рядом с пим артельным.
— Здесь и лета не чувствуешь. Как в раю!
Так оно и было. Сверкающее солнце только напоминало о тех пересохших землях, где полыхало жнивье, где пахло горелой соломой, где трудились опаленные солнцем, почерневшие крестьяне, где стояли бурые мрачные селения. Здесь пахло свежестью, люди были белокожими, земля пряталась под зеленым покровом садов; со всех сторон доносилось журчание воды, а не порывы сухого ветра; огонь цепенел в плену у влаги; все погружалось в бездействие, сон, забвение. И сплавщики предались им. Даже Американец думал, что все заботы позади, что кончились его волнения и тревоги и нечего больше бояться.
Никто не помышлял о том, что и в раю таится змея, а легковерие всегда чревато опасностью. Поверх листьев по-прежнему бушевал огонь — хищная лапа лета; под камнями оттачивали клешни скорпионы. Никому не приходило в голову, что тень и влажность таят западню, притупляя злобу и бдительность. Когда же они ее заметили, все разрушающий огонь уже разгулялся вовсю.
Возможно, именно несчастный Горбун, которого природа наградила за уродство сверхъестественным чутьем, первым что-то заподозрил. Он разводил костер на их последней стоянке, разбитой прямо на пригорке, и вдруг, охваченный внезапной тревогой, спросил:
— А где Паула?
И все сразу подумали о том, что ее давно уже никто не видел. Спуск капитана в канал настолько отвлек их, что даже сам Сантьяго не заметил ее отсутствия. Но Паулы не было. И никто не знал, почему.
Американец поискал взглядом Антонио, но тот стоял рядом и тоже был взволнован. Артельный спрашивал себя, что же могло с ней случиться, как вдруг Дамасо, указав на Четырехпалого, резко сказал:
— Хе! Спросите-ка у него.
Четырехпалый смотрел на сплавщиков своими бегающими водянистыми глазками.
— Я ничего не сделал, я ничего не сделал! — крикнул он. — Я только орудие в руках божьих. Бог тому свидетель…
Антонио замахнулся, собираясь ударить Четырехпалого, но Американец удержал его.
— Что ты сделал? Говори!
— Ничего, ничего, — жалобно заныл он. — Только передал ей то, что меня просили, и посоветовал… Гордыня — грех… Надо принимать кару как спасение…
Голос его срывался на визг, глаза закатывались.
— Что ты ей передал? Говори! — тормошил его Американец, пытаясь добиться ответа.
Но тщетно: Четырехпалый уже ничего не слышал. Он содрогался в конвульсиях, глаза совсем закатились, на губах выступила пена. Он упал с криком:
— Это грех, что она к нам пришла! Грех!.. Она должна была уйти, я говорил… Кара божья… я…
Балагур и другие бросились к нему, чтобы связать. Кинтин, засовывая ему деревянную ложку между зубов, чтобы он не прикусил себе язык, сказал:
— Надо же, бедняга! С ним и раньше бывали такие приступы, в деревне…
— Бедняга?! — прорычал Антонио, норовя пнуть его ногой. Американец сдерживал его, пытаясь понять, что могли значить бессвязные выкрики эпилептика.
Тут Обжорка потянул артельного за куртку, глядя на него своими ясными, печальными глазами.
— Сегодня утром Четырехпалый разговаривал с каким-то рабочим.
Американец оставил сплавщиков, занятых Четырехпалым, и, позвав с собой Антонио и Дамасо, бегом кинулся вдоль мельничного канала мимо первых купальщиков, которые с удивлением наблюдали за ними. Когда они добежали до мастерских, мальчик показал на человека, работавшего у станка. Тот объяснил, что накануне какой-то мужчина попросил его передать кое-что девушке, идущей вместе со сплавщиками. Но ее на месте не оказалось, и он передал все кому-то из сплавщиков. Больше он ничего не знает.
— Такой коренастый, плотный, с толстой золотой цепью? — спросил Антонио. — Надутый, как индюк, да?
— Точно. Он сказал, что он ей дядя.
— Бенигно! — пробормотал Американец. — Что он велел ей передать? Скорее!
Рабочий сказал, и все трое бросились к выходу; мальчик неотступно следовал за ними. В голове Американца роились тревожные предположения.
Четырехпалый действительно передал Пауле то, что его просили, и еще посоветовал пойти на свидание. Она никому ничего не сказала, решила встретиться с Бенигно одна, чтобы не впутывать Антонио, хотя и знала, что идти опасно. Поэтому она незаметно скрылась за мельницей и только тогда переправилась на другую сторону Тахо, ближе к городу. На миг она остановилась на подвесном мосту, чтобы издали посмотреть на людей, с которыми бок о бок прожила столько месяцев. Увидит ли она их снова? Как и когда? А вон и ее Антонио смотрит на капитана!
Она прошла мимо прекраснейших садов Испании. За решеткой виднелся белоснежный фонтан: один мужчина борется с другим, душит его своими мощными руками. Потом свернула на площадь Святого Антония с каменными и кирпичными арками и неоклассическим собором в глубине, перед которым стоит фонтан Марибланки. Ей передали, что, взяв вправо от арок, она должна свернуть в патио одного из домов, в которых раньте жили придворные, там будет ее ждать Бенигно.
Он уже ждал. Напыщенный индюк с душой мокрой курицы. Паулу охватила ярость, и она ринулась к нему. Она пришла, чтобы снасти своего Антонио.
— Я здесь, — сказала она. — Говори, что хотел сказать мне, слизняк.
Они стояли вдвоем в тихом пустынном патио. Бенигно поморщился.
— Если будешь так со мной разговаривать, мы не поладим.
— Нам незачем ладить, ты знаешь.
— Тогда тебе придется ладить с жандармами.
Бенигно пустил в ход свой козырь. Но он чувствовал себя не совсем уверенно и не сумел сделать это с нужной дерзостью.
— Мне? Доноси, а там посмотрим! Я знаю, ты болтал, будто бы я у тебя что-то украла, но это ложь! Ну, пошли в суд, ты там ничего не докажешь, мошенник.
— Доказательств хватит, — сказал он, пытаясь вернуть утерянные позиции. И прибавил, вспомнив совет слепого: — Там выяснится и еще кое-что. Твоему дружку не поздоровится. Не думай, что он выйдет сухим из воды.
Паула побледнела и сразу потеряла всю свою выдержку. Она уже не могла ни о чем здраво судить и отличить пустую угрозу от реальной опасности. Бенигно заметил это и воспрянул духом: она у него в руках.
Язык его тотчас развязался. Он совсем не хочет причинить ей зло; но он не может потерять уважение односельчан. Ее там должны увидеть, а сам он ничего от нее не требует. Он клянется именем своих родителей, что будет относиться к ней с почтением. И, заметив на ее лице презрение, поторопился заверить: хорошо, хорошо, он знает, что она умеет постоять за себя. Да он и не собирается никого неволить. Не хочет — не надо. Пусть только поедет с ним в село. Без нее он не может вернуться. Если хочет, может взять с собой сестру или кого-нибудь еще из своих родных. Они приедут вместе, она пробудет у него в доме несколько дней, а потом втроем уедут, чтобы все видели. Не так уж много просит он за тот ущерб, который она ему причинила…
Паула слушала, не вникая как следует в его слова, и в отчаянии пыталась найти выход. Она смутно начинала понимать, что от нее требуют не так уж много, что за безопасность Антонио можно потребовать и больше. Предложение могло быть куда опаснее, а оно оказалось неожиданно простым. Бенигно все говорил, боясь, как бы Паула не заподозрила, что он ничего не знает о прошлом ее дружка, не догадалась бы, что он лишь пользуется догадками слепого. Паула уже готова была вступить в сделку, которая все больше походила на обычный деревенский торг, как вдруг в патио ворвались три сплавщика.
Будь Бенигно в спокойном состоянии, все было бы иначе. Но он не мог забыть своей грозной сестры Хесусы, кричавший ему, когда он отправлялся в путь: «Без нее не возвращайся! Будешь не мужчина, а тряпка, если не притащишь ее!» И вот теперь, когда дело, можно сказать, на мази, все летит кувырком! В нем вспыхнула ярость слабых, когда он увидел ненавистное лицо Антонио, бегущего вместе с другими к нему.
Все произошло мгновенно. Бенигно, оттолкнув Паулу, выхватил пистолет. Прозвучали только два выстрела: багор, брошенный Дамасо, угодил Бенигно в висок, и он свалился без сознания.
Остальные посмотрели друг на друга. Ничего. Нет… Американец остановился на бегу, словно вспомнил, что забыл что-то сделать. Слегка повернул голову назад, будто его кто-то окликнул. Паула заметила на его лице странное выражение, словно он силился вспомнить: «Чей же это голос? чей голой?»; увидела, как он улыбнулся, точно вспомнил, и еще с беспокойством заметила, как блеснул его золотой зуб.
Но Американца никто не звал. В патио раздались лишь выстрелы да встревоженный скрип распахнувшихся ставень.
Нет, его никто не звал: только земля. Он упал ничком, всей тяжестью своего тела. Казалось, земля внезапно притянула его к себе. Он упал не на нее, а к ней, в ее объятия. К вечной матери и могиле людей.
Паула и Антонио опустились возле него на колени. Дамасо подошел к Бенигно и увидел, что тот моргает. Похотливый рот растянула жуткая улыбка. Он рывком схватил багор, сжал его в кулаке и приставил острие к груди лежавшего. Тот постепенно приходил в себя и сквозь туман, застилавший глаза, различил древко и острое железо, увидел дикое лицо: лицо быка с навахами! Дамасо хладнокровно ждал, пока его жертва окончательно придет в себя. Паула и Антонио тем временем занимались Франсиско. Но вот он заметил, что глаза Бенигно расширились от ужаса и холодный пот градом стекает с его лба.
И тогда Дамасо всем телом надавил на багор, уставившись себе под ноги. Предсмертный вопль потряс патио. Дамасо почувствовал, как железо и дерево с хрустом проломили ребра и, пройдя сквозь губчатую мякоть легких, наткнулись на что-то более твердое. Он подождал, пока последняя судорога сердца сомкнется вокруг железа, впиваясь в пего, будто какой-то странный зверек. И когда сердце замерло, — Бенигно тоже застыл, а Паула, Антонио и мальчик окаменели от ужаса, — он еще раз надавил на древко, и проткнув туловище насквозь, ощутил, как острие багра через спину вонзилось в землю.
— Вот тебе, сволочь, за Американца!.. — выдохнул он и выпустил багор, который остался стоять, пригвоздив Бенигно к земле. — Жаль, что справедливости ради пришлось убить…
И медленно направился к Американцу. Ужас Паулы и Антонио он принял как восхищение и, переведя взгляд на Обжорку, смотревшего на него во все глаза, проговорил:
— Хе! Хорош был удар! Настоящий удар сплавщика!
КАНЬ
это вода, колесо, луна, тоска и кровь, натянутый лук, стремленья. Это запад, это осень. (Комментарии к «Ицзин», «Книге перемен»)Река людей
В Чичоне я встретил Дамасо. Он поторопился сообщить мне, что Бенигно убил Паулу, и пошел прочь, громко хохоча. Я вспоминаю тот миг как самый страшный в моей жизни: мне казалось тогда, что я умру от тоски.
Да, в моей жизни, в моей. Разве не попятно еще, что Шеннон — это я, скрывающийся под псевдонимом, которым я и подпишу это повествование? Разве на страницах этой книги есть еще хоть один городской, образованный человек? И разве кто-нибудь другой так внимательно приглядывался бы ко всему вокруг, чтобы поведать историю своей жизни. Кто? Сплавщики? Да ведь у них не хватало времени даже на жизнь!
Теперь я срываю маску и пишу правду. Это я бежал из своего мира, когда раскрылась расщелина в скале; я полюбил Паулу; я встретил ее и потерял. Вот почему, когда я узнал о ее смерти, во мне разом всколыхнулось все, чем я когда-то жил. Обессиленный, приник я к колонне и закрыл глаза, желая лишь одного: никогда больше их не открывать. Там, на залитой солнцем площади, над которой высился замок. «Паула полыхала, как костер, и Потому так быстро сгорела, — подумал я. — Рядом с ней мы все были детьми. Мужчина только иногда походит на землю, а женщина способна быть самой землей — раздольной, глубокой, плодородной. Паула была именно такой: неколебимой, как скала; чистой, как воздух; непримиримой, как огонь. Сильная и нежная; сверкающая и непроглядная, как сама земля».
Я подумал было не ходить в суд, уехать куда-нибудь подальше, на край света. Поступи я так, я бы всю жизнь считал, что Паула умерла, как сказал мне Дамасо. Но сам не зная почему — оттого ли, что у меня не было сил уйти, а может быть, потому, что мне стало все безразлично, — я явился в суд и там узнал правду. Я узнал также, что были учтены доводы в защиту Дамасо, и все разрешилось к общему благополучию. Даже против Антонио не оказалось никаких улик, так как зятя он ранил не тяжело и тот на него не донес.
Американец не умер. Ему еще не разрешали говорить, когда я зашел навестить его в убогую больницу. Но мы понимали друг друга без слов. Еще с того вечера в Сорите, когда мы стояли в замке на вершине холма, я уже знал, что его жизнь замкнулась, как круг; что скоро появится другой Американец, который поселится в старой башне и будет кормить птиц хлебом в ожидании мира.
Я простил Дамасо тот удар, который он мне нанес. Хотя из-за него оказалась бессмысленной и даже смешной моя боль. Но он и открыл мне, что я согласился со смертью Паулы, потому что хотел в глубине души, чтобы она не досталась никому другому. Что поделаешь, таким уж я был!
Теперь мне кажется, что это к лучшему, что жизнь втягивает даже таких, как она, и теперь она целует Антонио, а он торопливо владеет ею, уставши от тяжелой работы, и разлюбит ее, и наплодит детей. Да, ее дети не будут моими… Вздохнет ли она когда-нибудь, вспомнив своего Ройо? Не знаю! Но я пихну не для того, чтобы возвеличивать свою печаль. Нет. Какой бы суровой и благородной ни была моя тоска — хотя она и очищает меня от высокомерия, учит смирению и исполняет меня мудрости на склоне лет, — я пишу не для этого.
Я пишу для того, чтобы рассказать историю моей надежды. Я пишу о том, как я нашел надежду среди людей реки и как она стала основой всей моей жизни. Я пишу для тех, кто задыхается в городских трущобах; кто слушает, как термиты точат дом, пока на него нашлепывают нелепые гипсовые заплаты, кого не купишь машиной или орденом, кто не довольствуется фильмами «для взрослых» и передовицами благонамеренной прессы, потому что остается ребенком. Я возлагаю свою надежду на тех, кто верит, что хлеб — это важнее, чем коктейль, а наваха справедливей судебного протокола; на тех, кто не станет соучастником и даже свидетелем; на тех, наконец, кто не принимает жалкого сока тепличных растений за красную и горячую кровь жизни.
Я хотел рассказать о надежде дона Педро, которая прочно вошла в мое сердце, потому что уже пятнадцать лет я вижу, как она не сдается. Сначала я принял предложение работать в Британском институте в Лиме (чтобы слышать язык Паулы и ее народа), но вскоре начал посылать хронику в Лондон и стал газетным корреспондентом. Это позволило мне увидеть неутомимый людской муравейник, воздвигавший гигантские дамбы на реке Желтой; увидеть, как восстанавливались, еще не сосчитав погибших, греческие острова, разрушенные за пятнадцать секунд землетрясением; увидеть сотни тракторов, убиравших урожай на полях Сибири; увидеть, как убивают в Корее, как трудятся в Бразилии, как тонут во время наводнений в Италии; побывать в шести странах на праздновании Дня независимости. И повсюду люди любили и умирали, помогали друг другу и воевали, сочувствовали и спотыкались… Спотыкались… спотыкались… но шли вперед. Река людей бесчисленными волнами движет историю вперед, невзирая на время, устремляясь к неведомому океану — конечной своей цели, то признавая, то не признавая речей, революционных плакатов или музейных знамен. И тем, кто говорит, что у них самих или у их прапредков есть готовые рецепты жизни, надо крикнуть во всеуслышание, что сотворение мира не кончилось. Еще многие системы рухнут и многие родятся из человека и его тайн. Из этого сырья, из этой глины, из первородной грязи, простой и животворной, как миллионы лет назад, когда она породила первый пузырек жизни.
И вот когда я попытался вернуться назад во времени и пространстве, задумав совершить паломничество к часовне Надежды, мне было горестно узнать, что это невозможно. Поднимаясь к Саседону со стороны Ла-Панхии, Тахо пересекает мост почти тысячелетней давности, и оттуда хорошо видно, как огромный котлован Энтрепеньяс зарубцевала гигантская новая стена, гладкая и белая. С ее высоты обозреваешь водохранилище, чьи воды простерлись на сорок километров вокруг, поглотив реку и оставив только остров, который был когда-то вершиной Монте-Абахо. И в этих водах исчезла часовня, где я просил у Паулы надежды и где она мне ее дала, сама того не желая и не зная. Теперь эта часовня станет пристанищем для рыб, которых подстерегает вечная опасность; тут будет зарождаться их жизнь.
Прекрасна была округлая гладь воды, спокойно блестевшая в свете заходящего солнца. Моя жена и дочь созерцали ее вместе со мной, потрясенные силой природы, чистотой земли, воды, неба.
— И оттуда ты спускался вниз? — спрашивает дочка.
Я начинаю рассказывать ей о сплавном лесе. Старик, ухаживающий за цветами около туннелей нового шоссе, прислушивается к моим словам.
— Сплавной лес? — восклицает он. — Теперь он здесь не проходит. В последний раз он прошел лет пятнадцать назад, когда плотину уже наполовину закончили. Ух ты… сколько она всего натворила! Молодежь уходит, сеньор, ей неохота таскаться за упряжкой волов или за овцами, как мы. Да и девушек нынче не сыскать для работы. Никто не желает больше прислуживать… Видите, видите, это все городские: раньше-то ведь мы разве что ванны принимали в Мантиеле от ревматизма. Чтобы кто-нибудь купался? Упаси боже! Да это ведь неприлично!.. А теперь, гляньте-ка, гляньте… Этот мир для молодых, уж вы поймете меня.
Посмотрев туда, куда нам показывал старик, мы увидели несколько юношей и девушек в купальных костюмах. Судя по всему, одну из девушек новые веяния только что коснулись — до локтя руки у нее загорели, а выше были белые, она до недавних пор стеснялась снять платье. Однако сейчас все они весело плескались в воде. Я подумал о том, что воды эти могут достичь там, в глубине, убогих купален и той скамьи, на которой сидела Паула, когда я на нее смотрел в тот вечер…
Прежде чем уйти, я напряженно вгляделся в берега по обе стороны плотины. Сверху текла река — широкая, просторная, укрощенная силой машин, к радости купальщиков. Внизу, как в пропасти, виднелись мрачные скалы, а в глубине — извилистое, узкое русло, тягостный мир людей реки; развалины никому не нужной теперь электростанции. Плотина подняла все это до самого горизонта и расширила реку людей.
Да, часовня моих воспоминаний исчезла. Но не стоит из-за этого плакать. Надежда моя превратилась в глубокую тайну водохранилища, в обильные воды, питающие поля и освещающие селенья. Это хороший конец. И еще лучшее начало.
ХОСЕ ЛУИС САМПЕДРО
РЕКА, ЧТО НАС НЕСЕТ
РОМАН
Перевод с испанского С. Вафа
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1977
ПРЕДИСЛОВИЕ Елены Айала
РЕДАКТОР Л. Борисевич
© Перевод на русский язык и предисловие «Прогресс» 1977
С 70304-110 117—77
006(01)—77
ХОСЕ ЛУИС САМПЕДРО
РЕКА, ЧТО НАС НЕСЕТ
ХУДОЖНИК А. В. Сапожников
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР А. П. Купцов
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР С. Л. Рябинина
КОРРЕКТОР P. X. Пунга
Сдано в набор 5.02 1976 г. Подписано в печать 9.06 1976 г. Формат 84×1081/32. Бумага типографская № 2. Условн. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 18,87. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3889. Цена 1 р. 18 коп. Изд. № 18967.
Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Москва, 113054 Валовая, 28
Примечания
1
Перевод Ф. Кельина.
(обратно)2
Стихи в переводе Е. Маркова.
(обратно)3
Лесенка (исп.).
(обратно)4
Имеется в виду восстание в Марокко, во главе которого встал вождь Абд-эль-Керим. В июле 1921 г. испанцы потерпели поражение в битве с марокканцами, — Здесь и далее примечания переводчицы.
(обратно)5
Пабло Иглесиас (1850–1925) — руководитель социалистической партии. Первый социалист, избранный в 1910 г. в кортесы.
(обратно)6
С вами (лат.).
(обратно)7
Хлеб… девочка (итал.).
(обратно)8
Requiescat in расе — да почиет в мире (лат.).
(обратно)





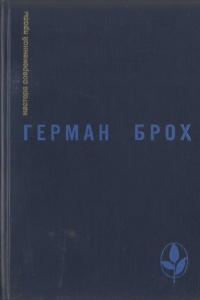

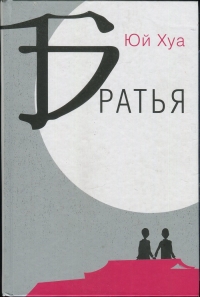




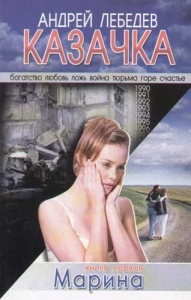
Комментарии к книге «Река, что нас несет», Хосе Луис Сампедро
Всего 0 комментариев