Любовь Стратегического Назначения Олег Гладов
© Олег Гладов, 2014
© Екатерина Александрова, фотографии, 2014
© Екатерина Александрова, иллюстрации, 2014
РедакторАнастасия Контарева
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Любовь Стратегического Назначения
— Вдох!.. Не дышите!..
У медсестры Светы из рентгенкабинета самая большая задница из тех, что я видел.
— Дышите!.. Следующий!..
Я надеваю футболку, и пока Света, опершись на стол, заполняет мою карточку, ещё раз смотрю на её тыл… М-да…
Обширные ягодицы Светы не дают покоя Шамилю, который занимает одну из коек в моей палате, а до этого её хотел трахнуть электрик Шевченко из четыреста двадцатой. Информацию о том, кто кого хочет, можно получить в мужском туалете, где, окутанные табачным дымом, встречаются пациенты травматологического отделения. Среди которых и я.
— Садись в это кресло… Клади голову на эту штуку… Так… Не шевелись!
Специальным рентгенаппаратом, который позволяет сделать подробный снимок черепа, управляет Юра. Он фотографирует содержимое моей головы каждые четыре недели. Так надо. Поэтому я усаживаюсь в кресло и жду, пока настраивается сложная техника.
Когда молоток бьет по гвоздю, загоняя его в доску, происходят необратимые физические процессы, в результате которых шляпка гвоздя деформируется, теряя свою первоначальную форму. Это физика. И для определения степени деформации существует какая-то простая формула. Я нашел растрепанный учебник физики в туалете. Но формулу не запомнил.
— Неудобно тебе, дружище, будет летать самолетами, — говорит Юра, нажимая необходимые кнопки.
— Почему это? — спрашиваю после секундной паузы.
— А как ты через детектор металла в аэропорту будешь проходить, подумал? Они же задолбаются тебя обыскивать.
Когда молоток ударил по моей голове, простая формула из учебника физики продолжала действовать. Затылочная кость треснула — деформация произошла по всем правилам. Профессор Васильев, который делал мне операцию, вставил мне в голову пластину из специального титанового сплава. Постоянный легкий холодок в затылке — напоминание об этом.
— Тебя разденут. Даже, наверное, поищут в заднице какой-нибудь металлический предмет: вдруг ты по ошибке засунул в задний проход стальной «Parker»? А детектор все равно будет тренькать. Откуда им знать, что у тебя кусок железа в голове?
Я молчу. Юра продолжает манипуляции с медицинской машиной.
* * *
Говорят, меня нашли километрах в пятидесяти от города. В машине, которую за четыре дня до этого угнали в Тюмени. Непонятно, как эта раздолбанная в хлам тарантайка проехала полторы тысячи километров, но…
Говорят, машину обнаружили ненцы. Два коренных жителя этих безграничных гектаров белых сейчас пастбищ. Они ехали куда-то по своим сугубо ненецким делам на добротных нартах: погоняли оленей, покуривали крепкие сигареты и вдруг наткнулись на белый «жигулёнок»…
Говорят, место это, особенно в середине ноября, пустое. И не собирались Хотяко и Сергей тут проезжать. В последний момент решили заскочить к родственникам. Летом тут, бывает, копошатся рабочие с техникой — строят дорогу в сторону Ханты-Мансийского округа. Но сейчас, когда ртуть в термометре опустилась за отметку минус тридцать пять градусов по Цельсию, никого тут не было. И не должно было быть.
Хотяко и Сергей говорили о своем и сначала, увлекшись беседой, проехали мимо. Но потом один из них вдруг остановил оленей, развернул нарты, и они вернулись на полкилометра назад.
— Машина, — сказал Хотяко.
— Как заметил? — удивился его спутник.
— Сразу заметил. С тобой говорил — все время думал…
— «Жигули».
— Да…
Они, проваливаясь по щиколотку, подошли к полузанесенной белой «копейке» и, помедлив немного, смели снег с лобового стекла.
Примерно с минуту ненцы молча смотрели в салон. Потом выбили стекло в левой задней двери и смогли проникнуть внутрь. В хрустящую, уже слегка прихваченную морозом пластмассово-кожзаменительную внутренность «жигуленка».
— Живой, — сказал Сергей, — кажется…
* * *
Автомобиль был пуст. Вернее, никого кроме меня в салоне не наблюдалось. Меня и молотка, завалившегося между сиденьями. Кто-то взял этот инструмент, стукнул меня по голове и оставил в работающем на холостых оборотах «жигуленке».
Говорят, бак был пустой: машина тарахтела на холостых, пока не закончился бензин…
Может, я был непослушным пассажиром? Может, рассказывал несмешные анекдоты?.. Такие версии выдвигает Юра, когда мы с ним по вечерам пьем чай с молоком в его кабинете.
Я не могу ответить на эти вопросы. Потому что не помню подробностей своего появления в этом авто. Я вообще ничего не помню. Юра говорит, что так обычно бывает в романах у писателей, которые не могут придумать интересную судьбу своему герою. Эти писатели в самом начале отшибают персонажу память, а потом по ходу придумывают что-нибудь закрученное: герой оказывается, например, шпионом, в последний момент вспоминает о своих сверхспособностях и спасает мир.
Юра уже пытался проверить, умею ли я метать нож? Или понимаю ли я смысл того стука, который он производит карандашом об стол, называя это «азбука Морзе».
Ни нож, ни Морзе никак себя не проявили в тупой пустоте, называемой моей памятью…
Известно следующее: говорю я на обычном русском языке, без какого-либо заметного акцента, присущего определенному региону страны или ближнего зарубежья (Юра считает, что так, как говорю я, могут общаться в любом уголке России. Поэтому выяснить, откуда я конкретно — очень трудно). У меня нет каких-либо заметных шрамов (кроме затылка), отпечатки не значатся в картотеке правоохранительных органов. Юра объяснил мне, что существует некая информационная сеть (?), где можно узнать все, что угодно. Однажды он принес маленькую жужжащую штуковину и подровнял мои волосы (на затылке они росли весьма неохотно), одноразовым станком сбрил растительность на лице, посадил на фоне белой стены и (сфотографировал?).
— А теперь повернись в профиль! — командовал Юра.
— Это как? — спрашиваю я.
— Ухом ко мне.
— Каким?
— Любым! — и моргал на меня вспышкой.
Затем Юра разместил мое фото в Сети (?) и примерно месяц азартно ждал, что кто-нибудь сообщит обо мне НЕЧТО.
— Вдруг ты криминальный авторитет, и тебя разыскивает Интерпол, а? Тогда за твою голову наверняка вознаграждение. Я тебя сдам — и срублю капусты, понял?
Я ничего не понимал, но вежливо слушал и кивал; мне нравилось сидеть в этом уютном кабинете и пить чай с молоком, а не валяться в палате с храпящими и плохо пахнущими пациентами.
— Нет… — размышлял Юра, — для криминального авторитета ты молод слишком… А может, ты террорист? А?
Так ползли неделя за неделей. Ничего не происходило. Никто не знал, что за парень в белой футболке изображен на фото.
Тогда Юра, как он объяснил мне, для смеха раскидал (?) мое лицо по нескольким сайтам (?) самой разной направленности: «Познакомлюсь», «Проверь, насколько ты сексуален», «Банк спермы».
— Прикинь! Приглянешься ты какой-нибудь пиндосовской миллионерше. Я ей твою сперму толкну и свалю с этого долбаного Севера… Так что смотри! Если вздумаешь дрочить — сперму в стакан! Неси сюда — я ее хранить в морозилке буду! Понял? Я заведу журнал. Буду вести отчетность. Строгую! Мы потом тете оптом впихнем! Пару канистр!!! — Юра, смеясь, хлопал меня по плечу. Я тоже вежливо улыбался, мало что понимая. Почти ничего не понимая…
* * *
Жизнь здесь течет своим чередом. «Здесь» — в огромном больничном комплексе. Втором по величине в стране и первом на этих бескрайних белых просторах. Как мне объяснили, место, где я нахожусь — это Приполярье. Край земли. Тут несколько населенных пунктов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Один из самых крупных городов обзавелся современным медпунктом немыслимых размеров: терапевтический комплекс, роддом, инфекция, неврология, операционные. В одной из них мне латали голову. В другом помещении — палате № 417 — я теперь живу. 12 этажей, сотни палат, коридоры, лифты. Люди в белых халатах… Это мой мир. Моя Вселенная. Ибо кроме этого — я ничего не видел.
Иногда я смотрю в окно. Вижу: белое до рези в глазах. Все белое. Только ночью появляется черное — небо.
Юра говорит, что скоро начнутся белые ночи. Потом растает снег и все изменится.
После того, как я пришел в себя в реанимации, весь утыканный капельницами и датчиками — прошло несколько месяцев. Сначала я не мог ходить и плохо говорил. Потом меня перевели в отдельный бокс. Я долго лежал в Отделении Пограничных Состояний. Затем меня определили в 417—ю палату. Через какое-то время мне разрешили вставать с постели и смотреть телевизор.
И всё это время, все эти дни, недели, месяцы — за окном БЕЛОЕ…
Иногда в коридоре, в хирургическом отделении, я встречаю мужчину, который подмигивает мне и спрашивает:
— Как дела, Дровосек?
Это профессор Васильев. Он всегда спешит. Я спросил Юру, почему Дровосек.
Он сказал, что есть такая сказка: человек, занимавшийся тем, что рубил деревья в лесу, постепенного превратился в железного. Ему заменяли металлическими те части тела, которые почему-то отваливались.
— Сифилитик, наверное, был, — говорит Юра, задумчиво стуча по клавиатуре, — в последней стадии. Время глухое было, древнее. Пенициллина на всех не хватало…
Юра инженер. Он «редкий специалист» (?), и это — «круто» (?).
— Я единственный, кто повелся приехать в такую даль, чтобы просвечивать мозги ненцам и вахтовикам, фак их так!
По совместительству Юра «ведущий программист» (?) комплекса. У него для этого есть свой отдельный кабинет, в котором он проводит всю вторую, свободную от рентгена половину дня, а иногда и часть ночи. Я с ним. Ему хочется, чтобы в момент, когда я вспомню, КТО Я, он был рядом. А мне просто не спится. Юра с кем-то общается в Сети. Я пью остывший чай и смотрю на экран, где сменяются символы. В сети у каждого есть второе имя. Юра там — URAN.
URAN: Hi, все:)
SWAN: И поэтому цветы символ?
MORDA: Привет, URAN:)
LULU: А что по твоему символ? Эрекция, которую я замечаю у каждого парня на второй минуте знакомства в REALе? Где романтика? Одни пистоны: (((
SWAN: Hi, URAN:) Где пропал?
URAN: О чем TALKуете, братья & SISTERS:)
LULU: Hi, URAN.
ALLA: О том, что современные мужчины растеряли все накопленное за века их отцами и дедами. Не говорю уже об искусстве выживать в EXTREML ситуации — просто проявить себя самцами иногда не в состоянии: (
MORDA: Одно и тоже. Вы весь ХХ век об этом. О деградации мужчин etc.
LULU: Я пока не убедилась в обратном. Мой милый DADDY и братец JR — яркие представители. Уроды редкие. Барт и Гомер Симпсоны в кубе. Так что примеры у меня перед глазами почти круглосуточно: (
URAN: Если все имбецилы, уроды, ублюдки etc, то кто же тогда занимается с нами ммм… SEXом?:)
SWAN: Точно! Я ведь всегда могу найти симпатичную PUSSY на пистон:) и она с удовольствием раздвинет ноги и отFUCKает меня по всей программе:)
MORDA: BLACK PUSSY! YELLOW PUSSY! HOT PUSSY! COLD PUSSY!
ALLA: Прекрати, MORDA
MORDA: CAT PUSSY! SLIM PUSSY!
LULU: Не обращай внимания, ALLA. Обсмотрелись TARANTINO, уроды. Не смешно.
ALLA: Вот… Ещё одно доказательство нашей правоты.
SWAN: Какое доказательство? Вы, женщины, не чувствуете меры в кокетстве. Если мужчина вам понравился — это сразу заметно. Ваше (как вам кажется) утонченное кокетство имеет другое название — б… дское поведение (да-да!) Это только для малолетнего дрочилы бабские ужимки — кокетство и утонченная игра взглядами. Для опытного MACHO (другими словами @баря) ваше кокетство — знак: «Эту я сейчас трахну». А потом вы сами удивляетесь — надо же, поимел меня в первый же вечер!
MORDA: Точно! Так их, SWAN!
МУХА: Бабы, которые вам дают — тупые и сраные суки
URAN: Упс. Who are you?
SWAN: Ты кто? Невежливая МУХА?
MORDA: Hi, МУХА:)
МУХА: Fuck off MORDA. Я смотрела тут, как вы общаетесь последние 20 min. Повторяю: те, кто вам дают — тупые и сраные суки. Они не люди. Они НЕЛЮДИ. Мутанты. Ходит такой мутант — пи@да на двух ногах. Ноги раздвинула — вот она я. Трахайте. ненавижу.
SWAN: Полегче, красавица!
MORDA: SWAN — ты Капитан Очевидность, а МУХА просто тролль-бот)))
МУХА: FUCK YOUR SELF. Не могу больше смотреть на эту по@ботину. Прощайте, имбецилы…
LULU: Так их, МУХА!:)))
ALLA: Молодец МУХА!:)))
SWAN: Вот, сука!
— Вот, сука! — сказал Юра, выходя из Сети.
— Что? — спросил я.
— Не что, а кто, — Юра отхлебнул остывший чай и ухмыльнулся. — Уделала SWANа. Всё равно, дети все…
— Кто? — спросил я.
Юра внимательно посмотрел на меня и произнес после паузы:
— Может, тебя из-за этого стукнули по башке? А? Дровосек?
— Что? — спросил я.
* * *
Еду дают три раза в день. В большой столовой около полусотни человек берут подносы и, двигаясь вдоль полок, уставленных тарелками, собирают урожай — расфасованный, порционно-нарезанный — и идут за столы. Подобные залы для принятия пищи есть в каждом отделении, только в реанимации нет.
— И в морге… ха-ха! — сказал как-то Юра, рассказывая мне об устройстве больничного комплекса. Обычно в столовой шумно: все переговариваются, шутят, гремят ложками — постоянный фон, который, смешиваясь с запахами кухни, ассоциируется у меня с едой. Сегодня все как обычно. Я беру пустой черный поднос из горки таких же и становлюсь в быстро движущуюся очередь. Каша… Яблоко… Компот…
Я, крепко обхватив стакан, перемещаю его с полки на поднос. И в этот момент кто-то, находящийся сзади, задевает меня локтем. Толчок сильный — половина стакана выплескивается на тарелки огромного мужика, стоящего впереди.
(Брызги разлетелись в стороны, разнося с собой частички пищи).
— Что за…! — мужик повернулся и зло смотрит на меня.
(Гречка на моих штанах, полу, ботинках мужика.)
— Извините… — лепечу я, высоко подняв стакан правой рукой, а левой пытаясь стряхнуть капли со своего живота.
Мужик, чертыхаясь, отряхивается и убирает забрызганные моим компотом блюда обратно на полку. Очередь застопорилась. Я все еще держу стакан в руке, не понимая, что мне с ним делать. И тут слышу хихиканье позади. В этот же момент кто-то тяжело, всем весом, явно специально наступает мне на ногу.
Я поворачиваю голову влево. Так и есть. Это Гапонов. Злобный смешок выдал его за несколько секунд до этого. Я не знаю, кто он и чем занимался раньше. Я знаю другое — как только Гапонов появился в нашем отделении с колотой раной в области живота — он принялся всячески испытывать мое терпение. Он ставит мне подножки, толкает в спину, сыплет перец в мою еду, и вот в очередной раз решил повеселиться. Я смотрю в его светлые пустые глаза. Он улыбается. Улыбается все шире и шире. Я отворачиваюсь.
— Чухан, — говорит он вдруг ласково, — будешь мне яйца лизать.
Он говорит это негромко. Но по наступившей тишине я понимаю: услышали все до единого посетители столовой. В этой тишине отчетливо слышно, как я беру с мокрой стойки еще один стакан, с вязким «чмок» он покидает своё место и опускается на мой поднос. Боковым зрением я вижу, что люди с обоих концов очереди внимательно смотрят на меня. Я — точка преломления их взглядов. Они чего-то ждут. Наверное, я что-то должен сделать сейчас. Но я не знаю, что именно, и просто смотрю на новый, полный компота стакан. Гапонов, который, как художник, решил довести вылепленную им ситуацию до завершения, наклонился и с явным удовольствием плюнул в мой стакан. «Гений осквернения», — пронеслось в моей голове непонятное словосочетание.
«PAUSE»:… Я вспомнил книгу, которую читал примерно за неделю до случая в столовой… Книга называлась «Библия», и там был такой совет: «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую».
И я вдруг подумал: «Если Гапонов плюнул в мой компот, может, мне нужно взять другой стакан? Пусть он и в него плюнет? Может, этого все стоят и ждут?»
Я поставил стакан с плавающей на поверхности компота слюной на полку и взял взамен новый.
— Извините, — сказал я стоящему впереди огромному мужику, — можно пройти?
Мужик секунды две задумчиво смотрел на мое правое ухо. Потом повернулся к стоящему впереди:
— Ну ты думаешь шевелить булками?
Булками зашевелили все, и живой конвейер снова пришел в движение. Я заметил: облегченно переглянулись две поварихи, и, выбравшись из очереди, натолкнулся на острый взгляд молодой медсестры, которую время от времени встречал в коридорах. Кое-что в ней было: слишком — слишком черные глаза, слишком черные волосы, слишком темная помада, и белый халат только подчеркивал этот контраст. Она смотрела мгновение, потом повернулась и вышла, прижимая объемистую папку с бумагами к животу.
Стучали ложки. Все сосредоточились на еде. Хотя, нет. Время от времени я ловил на себе странные взгляды.
Гапонов сел так, чтобы я его видел, и улыбался, демонстративно облизывая ложку со всех сторон.
— Ну ты, браток, мальчиш-тормозиш… — за мой столик, шумно дыша, присел Петрович (так его все тут называют). Он рыхлый такой себе дядька с отдышкой. Я понял, что мой завтрак пройдет немного не так, как я хотел.
— Гапон же на тебя наехал… при всех… — паузы в его речи возникали в тот момент, когда Петрович хватал воздух ртом, отправляя кислород в свои зажатые обширным телом легкие. Одышка — не единственная особенность Петровича. У него еще не в порядке с чем-то в животе. Отчего он систематически попукивает. Ко всему прочему он вечно старается вникнуть в проблемы других, помочь советом… Всезнающий, всё понимающий, сердобольный Петрович. Вот так вот, сердобольно попукивая, он и подсел за мой стол.
— Он же тебя оскорбил… а ты… не ответил…
Я молча отодвинул поднос с едой. Особенности пищеварения моего непрошеного соседа активно воздействовали на мои органы обоняния и, возможно, зрения; мне вдруг показалось, что воздух вокруг нашего столика начал сгущаться. «Всё, — подумал я, стараясь дышать через рот, — позавтракал».
— Ну? — сдавленно произнес я.
Петрович, чавкая, пережевывал кашу. Губами при этом он выделывал нечто странное — складывалось такое впечатление, что эта часть лица живет сама по себе, отдельно от всего остального: носа, ушей, глаз…
— Что, ну? — роняя гречку изо рта, спросил он. — Нужно было ответить!
— Подставить другой стакан? — спросил я, внимательно глядя на крупинку, прилипшую к подбородку Петровича.
— Что? — Петрович перестал жевать.
— Ничего…
— Нужно было послать его подальше… — Петрович отодвинул пустую тарелку и придвинул следующую. Делая вид, что оглядываюсь по сторонам, я отвернулся и сделал отчаянную попытку вдохнуть как можно больше кислорода: мне уже стало казаться, что соседние столики начинают искажаться в струящемся воздухе.
— Или послать… Или дать ему по морде… Или по яйцам… — советовал Петрович, вытирая тыльной стороной ладони рот.
— Зачем? — спросил я и увидел Гапонова, который уходил из столовой, оглядываясь на меня.
— Вот дурак… Все будут думать теперь, что ты слабак, понял? Уважать перестанут… Заставят носки стирать…
— Нет, — подумав, произнес я, — носки стирать я не хочу.
— Будешь! — убежденно сказал Петрович. — Обязательно будешь, если не отмудохаешь теперь его.
— Кого?
— Гапона, тормоз! — Петрович посмотрел на меня круглыми глазами. — Тебе нужно отфуярить его, как мамонта, понял?
— Да, — сказал я. — Понял…
* * *
Человек, которому ставят клизму — трогателен и беззащитен. Господин Эсмарх, придумавший свою простую, но незаменимую в деле промывания кишечника одноименную кружку, при её испытаниях насмотрелся и, наверняка, нанюхался всякого. Медсестра Наташа за свою пятилетнюю медицинскую карьеру насмотрелась не меньше, чем г-н Эсмарх. Она как раз собралась промыть кишечник пациенту перед завтрашним рентгеновским снимком. Сделала необходимые манипуляции: сунула шланг с краником в задний проход, кружку вручила пациенту, чтобы он держал её на вытянутой руке как можно повыше, а сама ненадолго вышла. Фамилия пациента была Гапонов, и он добросовестно держал кружку Эсмарха, контролируя поступление жидкости в организм. И тут вошел я.
Бить его при добрых поварихах и медсестрах я не стал. Просто дождался вечера. Я знал, что Гапонова ожидает клизма перед сном. Знал я и то, что у Наташи есть привычка выходить на пару минут во время этого процесса. Как только она выпорхнула из процедурной, в комнате оказался я.
И вот лежит себе Гапонов с трубкой в жопе, весь сосредоточенный, что-то светлое у ублюдка недоразвитого мелькает в момент клизмирования в глазах… Наверное, ожидает невероятного внутреннего очищения, описанного в книжке, которую я недавно читал.
Легкий складной стул бесшумно перекочевал с пола в мои руки.
— Эй, Гапонов, — говорю я. И бью его по спине, животу, рукам, которыми он прикрывается… Шланг из него выскочил, и дерьмо хлещет на пол… Я целенаправленно бью его несколько раз по голове и бесшумно выскальзываю из кабинета. Здесь Петрович. Он сказал, что постоит «на стрёме». Уже слышен стук Наташиных каблучков, и мы быстро сворачиваем за угол. Потом бежим по коридору. Минуту спустя Петрович, пытаясь отдышаться после такого серьезного испытания, как бег, начинает смеяться. Я недоумённо смотрю на него. Задыхаясь, он машет рукой и всё равно хохочет. Наконец произносит:
— Выбил ты из него дерьмо в самом прямом смысле.
Я молчу. Петрович держится за грудь и натужно дышит. Потом говорит:
— Отфуярил ты его добряче…
— Как мамонта? — спрашиваю я.
— Лучше, — коротко ответил Петрович.
* * *
Потом мы расходимся в разные стороны. Петрович идет в свою палату, а я на пару этажей выше — к Юре, который сейчас наверняка торчит в Сети. Переступая через ступеньки, я вдруг вспомнил странный автоматический жест, который сделали мои руки в процедурной: перед тем как поднять стул, я, не задумываясь, втянул ладони в рукава и только после этого взялся за спинку.
Я остановился на последнем пролете и посмотрел на свои руки: кое-что я теперь о них знаю. Например, то что они не хотят иногда оставлять отпечатков на предметах. Ко всему прочему, судя по тому, как прошло мероприятие по наказанию Гапонова, я умею делать одну замечательную вещь — планировать.
— Чупа пихас! — громко приветствует меня Юра, смотря прямо в глаза.
— Что? — спрашиваю я.
— Чупа пахэро? — вопросительно произносит он, недоверчиво и в то же время хитро глядя на меня.
— ??? — я тоже пытаюсь изобразить нечто мышцами лица. Очевидно, получается не очень, потому что голос Юры, произносящий непонятные фразы, становится угрожающим и даже обвиняющим:
— Пахэро де мьерда?
— Чего? — я совсем растерялся.
Юра молчит и какое-то время, хмурясь, смотрит на меня. «Узнал о Гапонове», — проносится в голове. Вдруг Юра неожиданно улыбается:
— Расслабься… Это я проверял, может, ты случайно испанский знаешь?
Через минуту я отхлебываю из большой кружки горячий чай. Юра стучит по клавиатуре:
JOOD: Не-е… Я в армию не ходил. По идейным соображениям.
SWAN: И я не был в рядах доблестных ВС. Я сторонник формулы SEX & DRUGS & ROCK-N-ROLL. А два года строевой подготовки в неё не входят:)
URAN: Война вообще занятие для быков. Вот битлы тогда пытались протестовать против мочилова вьетнамцев и все такое.
MAXIMUS: Битлы — вообще круто. Все остальные — жалкое подобие. Эти педерасты с MODERN TALKING во главе.
JOOD: Да. Мы — рок-н-ролльный пипл, вообще талантливый пипл. Это попсари тупые. А те, кто воспитывался на Ленноне и компании, стали не последними людьми. Я вот, например, пишу серьезные статьи в научные журналы:)
SWAN: Да, битлы воспитали целое поколение достойных мужчин. Талантливых, неглупых, тех, кому противно любое проявление насилия.
MAXIMUS: Как представлю, сколько мог сделать Леннон, если бы его не застрелил тот психопат: (
МУХА: И правильно его грохнули, этого очкастого, близорукого ублюдка. С его сопливыми песнями.
JOOD: Эй! На святое не замахивайся, МУХА! За это по морде бьют: (
SWAN: Заткните эту стерву. Спихните её из чата: (
MAXIMUS: Это что за идеолог попсы, а?
МУХА: Что святое, JOOD?! Кто святой?! Ваши @баные Битлы, которых вы сделали богами? Иконами? Обожествили четверку наркоманов с гитарами и молитесь на них? Четыре сраных ничтожества — для вас дороже всего в мире. А они писают, между прочим, и какают, как и все остальные люди на этой планете. Ясно? Вот если бы Маккартни испражнялся настоящим апельсиновым соком, тогда ещё ладно бы
SWAN: Эй, давайте все выйдем из чата. Пусть эта дура сама с собой разговаривает…
МУХА: Что, SWAN? Тебе противно насилие? Ты представитель поколения достойных мужчин? Вы — сраные интеллектуалы с прищуром умных и добрых глаз, с упитанными белыми телами, жировыми складками, недоразвитыми сисястостями. Отвратительные сиськи — пародия на женскую грудь. Мне пох!!!! й ваши поэзия, проза и научные статьи в @баных научных журналах. Вы ничтожества. Вашего @баного Белого Бима с его Черным Ухом нужно было пристрелить в начале первой же главы, а потом издеваться над трупом ещё двести страниц. Любой парень из рабочих предместий шахтерских городов стоит десяти таких, как вы, уроды, сидящие за компьютерами по всему миру. Вы не сможете постоять за себя в уличной драке. Вы брызгаете в свои потные подмышки дорогой парфюм — но он не может отбить вашего отвратительного запаха — разложения, дерьма, затхлых мозгов и потных яиц.
— С ума сойти, — сказал Юра. — Такое ощущение, что человек ненавидит все формы жизни на планете Земля.
МУХА: Ладно. Пока, уроды… тролль-бот покинул здание
MAXIMUS: Что это было?
Утром огромный вахтовик Шевченко из соседней палаты многозначительно заглядывает в глаза здороваясь со мной. Я стою в коридоре и смотрю в окно: сегодня светит солнце и видно несколько высотных домов в отдалении. Это один из районов города. Именно этому городу принадлежит больничный комплекс, в котором я нахожусь сейчас. Город называется Тихий. Как мне объяснил Юра, это одно из самых северных поселений в стране. Здесь недалеко добывается газ. И Тихий — перевалочный пункт между Югом и Северными месторождениями. Постоянных жителей в городе около пятидесяти тысяч. Остальные — наемники, работающие вахтовым методом. Большинство пациентов в больнице — это как раз вахтовики. Есть жители ближайших городков и поселков. Есть аборигены, но они идут сюда неохотно.
— Что, Дровосек? — спрашивает меня невысокого роста мужичок. — Как оно?
Я смотрю на него. Мужик улыбается, жмет мне руку и идет дальше. Я опять отворачиваюсь к окну. Вижу, как снегоуборочные машины расчищают дорогу. Внизу, во дворе больничного комплекса несколько автомобилей с красными крестами. От них отрываются маленькие быстро тающие облачка дыма. Как я уже знаю, двигатели автомобилей скорой помощи на Севере не глушат. Иначе остывший движок потом не заведешь.
— Откуда дровишки? — спрашивает вдруг знакомый голос. Обернувшись, я вижу Петровича. И не только вижу. Другие органы чувств тоже включаются в процесс опознавания. Например, обоняние.
— Из лесу, вестимо… — отвечает медсестра, проходящая мимо. Она несет большие хромированные цилиндры и, одарив нас улыбкой, быстро удаляется по коридору. Мы смотрим ей вслед.
— Отец, слышишь, рубит… — задумчиво говорит Петрович, — а я отвожу…
Он достает из кармана штанов конфету и предлагает мне. Я отрицательно качаю головой. Он, задумчиво глядя на меня, разворачивает карамельку и отправляет её в рот. Я вдруг понимаю, что слово «карамелька» только что неожиданно выскользнуло из черной пустоты в моей голове и теперь уже навсегда зацепилось крючками-буковками где-то в мозгу, готовое в любой момент соскользнуть на язык. Я даже чувствую вкус карамели во рту: секундное ощущение сладкой слюны и (ЩЕЛК!) все исчезло. В руках странное покалывание, как будто я отлежал их во время сна. Петрович, перекатывая конфету во рту и причмокивая, вдруг наклоняется поближе и тихо сообщает:
— Гапонов в реанимации.
Я несколько раз сжимаю и разжимаю левую ладонь: она зудит, и я чешу её пальцами.
— К деньгам, — говорит Петрович. Он перекатывает конфету во рту.
— Возникает другой вопрос, — после долгой паузы продолжает он, — на фуя тебе деньги?
Я знаю, зачем бы мне пригодились деньги. Я бы купил себе компьютер, как у Ярика, друга Юры. Ярик — молчаливый парень с длинными, абсолютно белыми волосами. Иногда он приносит свой «лэптоп», и они с Юрой устраивают в сети побоища. Здоровская вещь, этот «лэптоп». Такой… прохладный, матовый, приятный на ощупь… не знаю как сказать. Но… Даже если бы у меня были бы деньги, зачем он мне? И как бы я его купил? Меня ведь никто отсюда не выпустит. На каждом из трёх входов дежурные медсёстры и охрана комплекса. Центральный — для посетителей, приемное отделение — для пациентов (там, скорее всего, и сгружали меня), и третий — для экстренных вызовов. Как-то я побывал там: огромный ангар с воротами высотой в два этажа. Гигантские створки были закрыты, но за ними угадывалось низкотемпературное злобное давление. Это чувствовалось даже в помещении, где стояло несколько странных для меня механизмов. Как потом пояснил мне Юра, я видел снегоходы, специально оборудованные аэросани и гусеничные вездеходы — все они были с красными крестами, все они принадлежали к клану, правящему в этой вселенной. В моей вселенной.
Ко всему прочему есть еще один выход: на самой вершине мира, на крыше. Там находится посадочная площадка для вертолета отделения интенсивной терапии. То есть реанимации. Иногда в безветренные дни или ночи можно услышать его стрекотание и даже, если повезет, увидеть.
В отделении интенсивной терапии лежит себе сейчас Гапонов, подключенный к аппарату, который — пип… пип… пип… — показывает, что он жив, но в сознание прийти не может. Сердце работает — мозг нет. Ай-яй-яй.
Этой же ночью я проснулся оттого, что мои ладони чесались. Они не просто зудели — они зудели так сильно, что невозможно было удержаться и не почесать их. К деньгам? Я скреб их ногтями, тер об одеяло и о пижаму — ладони краснели в свете недалеких наружных источников света, но чесаться не переставали. И увлеченно борясь с этим отвратительно-сладостным зудом, я вдруг понял, что разбудила меня не эта неожиданная чесотка. А мысль, которую я, увлеченный трением и чесанием, не сразу распознал в своей голове. Она (мысль) как бы все время стояла вне круга, который отбрасывал прожектор моего внимания. Но потом быстро сделала шаг и оказалась в зоне визуального контакта. Мысль была простой и странной: мне обязательно нужно побывать в реанимации. Зачем? Неизвестно. Но обязательно нужно. Зуд прекратился так же резко, как и начался. И я, оставив в огромном пустом пространстве, называемом моей памятью, полученную информацию, попытался уснуть. Кстати, постепенно пустота в моей голове переставала быть этой самой пустотой. Появлялись крючочки, на которых вывешивались знания, полученные мною — здесь хранятся имена медсестер, названия предметов и номер моей палаты. Здесь же на отдельном крючочке, особняком от всех, висит слово «карамелька» — непонятный пришелец из черной глубины, всплывший как подводная лодка без опознавательных знаков, и здесь же — мысль о том, что мне обязательно нужно побывать в реанимации. Проинспектировав все это, я провалился в глубины глубин. Я спал без снов.
* * *
Следователь Сергеев появлялся в нашем отделении дважды: первый раз снимал отпечатки с моих пальцев, фотографировал меня в фас и профиль и осматривал всего с ног до головы в поисках татуировок. Второй раз он приехал сообщить, что ничего обо мне разузнать не удалось. Он задавал вопросы, многие из которых были мне непонятными, записывал мои однообразные «не помню» на диктофон и пытливо заглядывал в глаза. Это было пару месяцев назад. Теперь он снова появился в коридоре отделения — белый халат накинут на добротный серый костюм, туфли спрятаны в специальные чехлы. Это для стерильности. Вид у человека в этих зеленоватых чехлах — комический. Сергеев понимает, что это дополнение к гардеробу делает его смешноватым в глазах медсестер, и я отчего-то чувству его состояние. Следователь, слегка помахивая черным чемоданчиком, входит в кабинет к заведующему. Через минуту туда по очереди начинают вызывать всех пациентов отделения. Вскоре выясняется — ищут того, кто отправил Гапонова в реанимацию. Оказалось, никто ничего не видел и не слышал. И я тоже сообщаю Сергееву в присутствии заведующего Николая Степаныча, что спал как убитый и не в курсе. Сергеев протягивает мне ручку:
— Распишись в протоколе…
Я беру её в руку и тупо гляжу в бумагу:
— Что писать?
Сергеев пару секунд смотрит на меня. Потом поворачивается к Николаю Степанычу:
— Действительно, раз он не помнит своего имени… Как вы его называете? Надо бы чего то придумать… Как там в детдомах: Найденов, Кукушкин?
— Его тут называют Дровосек, — заведующий хмыкает. — Васильев придумал…
— Почему Дровосек? — у Сергеева недоумевающее выражение лица.
— Ну сказка… Элли, Страшила, Железный Дровосек… Помните? Желтая дорога, Изумрудный Город.
— А-а-а… — протянул Сергеев с тем же выражением на лице. — Понятно… Но фамилию какую-нибудь надо придумать…
— Об этом не нам беспокоиться… Здесь он «пациент из палаты № 417, тот, который ни хрена не помнит и лежит у окна, как заходишь, слева». Так его обозначают медсестры. Вылечим — дальше не наша забота.
Я слушал, о чем говорят врач и милиционер, а сам внимательно смотрел на свою руку — она знала, как держать самопишущее перо.
После того как Сергеев ушел, я стащил у дежурной медсестры карандаш, заперся в туалете, взяв стопку каких-то старых бланков. Я нашел незаполненную страницу, занес карандаш над ней. Прошла минута. Я знал, что моя рука напишет мне что-то — букву, слово, имя — хоть что-нибудь. Я ждал, что рука нацарапает мне письмо из прошлого, где я прочту себя. Я даже приложил грифель к бумаге — ………………………
Унитаз холодит задницу. Ноги затекли. За дверью кабинки татарин Шамиль рассказывает о том, как он отымеет медсестру Свету. Ничего… Пусто. Лист бумаги остается чистым. Рука, знающая, как держать карандаш, ничего сообщать не хочет. Я комкаю бланк, выкидываю его в урну и, дернув за веревку сливного бачка, покидаю туалет.
По ночам, когда все засыпают, даже дежурные медсестры на этажах, я выхожу в холл, включаю телевизор и, убрав звук, смотрю в экран. Там беззвучно шевелят губами ведущие полуночных программ, бесшумно взрываются заминированные автомобили. Я смотрю, как без единого звука самолеты врезаются в огромные небоскребы, как бородатые мужчины в чалмах деловито стреляют из бесшумных гранатометов в других мужчин. Я вижу музыкантов, исполняющих таинственную симфонию тишины, и дирижер, производящий руками загадочные пассы, — похож на африканского колдуна, который думает, что, размахивая руками, сможет вызвать дождь… В абсолютной тишине известные комики произносят неслышимые шутки, а зрители в зале так же неслышно смеются. Раскрасневшиеся, хватающие разинутыми ртами воздух, они похожи на бьющихся в агонии клиентов газовой камеры… Я нажимаю кнопки на пульте дистанционного управления, переключая каналы до тех пор, пока не наступает тот отрезок времени, когда три часа ночи незаметно превращаются в четыре часа утра. Зевая, я выключаю телевизор и иду спать. Пусто. Холодно. Темно.
Лифты в больнице светлые и просторные. Они снуют вверх-вниз целый день: спешат молоденькие медсестры, прижимая папки с историями болезней к груди, пациенты направляются на разнообразные процедуры… Суета. В кабинки набиваются по десять и больше человек. Кто-то болтает, кто-то молчит. Я еду в флюорографию: прошли очередные четыре недели, надо снова просвечивать мою голову…
Когда думаешь о чем-нибудь, мышцы глаз расслабляются: зрение полностью расфокусировано. Словно смотришь в окуляр бинокля, а резкость не настраиваешь. Вот так вот я размыто видел перед собой белый халат, думая о чем-то своем, когда сквозь смех и бормотание пассажиров лифта услышал:
— Хочешь меня трахнуть?
Расфокусированный бинокль исчез. Я поднял взгляд и наткнулся на черные колючки: глаза. Та самая медсестра. Слишком темные волосы… Слишком темная помада… Смотрит прямо в меня. Я отвожу глаза — все в лифте продолжают заниматься своими делами: говорят, смеются. Никто не услышал этой фразы.
— Так хочешь меня поиметь?
Лифт тормозит — 1—й этаж, все выходят. Она смотрит на целую секунду дольше, чем нужно, и покидает лифт вместе со всеми. Усаживаясь в кресло в рентгенкабинете, слышу голос Юры:
— Это ещё что?
Я переспрашиваю:
— Что именно?
Юра некоторое время молчит. Потом произносит:
— У тебя стоит так, что сейчас штаны порвутся.
Этой ночью, когда все засыпают, я выхожу из палаты. Сегодня я не буду смотреть телевизор. Дежурной медсестры нигде не видно. Я быстро прохожу в туалет и запираюсь в одной из кабинок. Проснулся я от странного, зудящего дискомфорта. Как выразился сегодня днем Юра — у меня опять «стояло». И сейчас, упираясь обеими руками в прохладные кафельные стены кабинки, я, спустив штаны, с интересом и некоторым страхом смотрел на возмутителя спокойствия. Вероломное вмешательство в мою личную жизнь. Ракета пришельцев на привычном ландшафте. С колотящимся сердцем разведчик приблизился к незнакомцу и прикоснулся к обшивке.
Я не знал в тот момент, сколько мне лет, где я вырос и кем был раньше.
Я кончил так оглушительно, что заложило уши, а стиснутые со всей силы зубы чудом не раскрошились. Кем бы я ни был и что бы там ни делал в своей прошлой жизни, перепуганный, скрючившийся на коленях перед унитазом и заляпанный своей собственной спермой, я, в очень странной ситуации, неизвестно в каком возрасте, и в который раз потерял свою невинность.
* * *
ВКЛ… ВЫКЛ… ВКЛ… ВЫКЛ…
Лампы дневного света загораются не сразу: стартеру в матовой трубке требуется какое-то время на то, чтобы воспламенить газ.
ВКЛ… ВЫКЛ… ВКЛ… ВЫКЛ…
Поэтому лампа, прежде чем залить все вокруг бледным неоновым светом, два-три раза неуверенно моргает.
ВКЛ… ВЫКЛ… ВКЛ… ВЫКЛ…
В коридоре травматологического отделения ровно тридцать ламп дневного света. А возле туалета — рубильник с красным рычажком. Верхнее положение «ВКЛ.» — и лампы в абсолютном беспорядке начинают мигать, прежде чем загореться в полную силу. На доли секунды коридор становится частью потустороннего мира — мертвенно-бледное мерцание неона, десятки вспышек в разных концах коридора с характерным потрескиванием и — ЩЁЛК!
ВЫКЛ… Нижнее положение красного рычажка. Полная темнота. Быстро переключать рычажок вверх-вниз:
ВКЛ… ВЫКЛ… ВКЛ… ВЫКЛ…
Лампы не успевают загореться в полную силу. Они все время как бы в полупроснувшемся состоянии. Не могут спать — не могут бодрствовать. Техногенная бессонница. Судороги умалишенных в клинике для потерявших разум подданных Великого Бога Электро…
ВКЛ… ВЫКЛ… ВКЛ… ВЫКЛ…
* * *
KROT: Об этом можно говорить годами…
MAXIMUS: Именно. Всё равно каждый остается при своем мнении.
MORDA: Мужчина может на время изменить свою точку зрения, для того чтобы трахнуть какую-нибудь красавицу:).
ALLA: Тьфу! Противно слушать. Это вы при дамах умничаете на высокие темы и тонко шутите. Уверена: стоит оставить мужиков на полчаса одних, разговоры будут только о сиськах, задницах и минетах. Ещё раз ТЬФУ!
SWAN: Дорогая миссис ТЬФУ. Позвольте не согласиться. По долгу своей службы я работаю в сугубо женском коллективе. Причем коллеги мои — не бесформенные бухгалтерши из лаборатории Гидрометцентра, а как раз наоборот — достаточно сексуально привлекательные объекты…
LULU: Ну-ну… Сдается мне, я знаю, к чему ты клонишь.
MAXIMUS: А я не знаю… Ты к чему клонишь, SWAN, а?:)
SWAN: Так вот. Естественно, я слышу, о чем разговаривают мои коллеги.
KROT: Ну и о чем же?
SWAN: Догадайтесь, интеллектуалы. О чём разговаривают женщины, не стесняясь меня (я как часть мебели)?
MORDA: Прокладки, тампоны, порванные чулки?
KROT: Нечестно, ты знал!
SWAN: Они говорят о мужчинах.
ALLA: Очень надо.
SWAN: Да. О мужчинах. Они ругают их. Или хвалят (что реже). Сходятся в общем мнении, что этот вот — толстяк и воняет, у этого попа — просто супер, этот — психопат. А у этого волосы из носа торчат. Но! Больше других именно «мужчины» — самая популярная тема в сугубо женских коллективах.
MORDA: Вообще-то я догадывался.
ALLA: Зато каждый из вас боится умных, волевых, красивых. Вы боитесь, что вас раздавят интеллектом. Поэтому боитесь даже приблизиться к подобным умницам. И всю жизнь трахаете дешёвых шлюх, а женитесь на коровообразных клушах — потому что они умеют варить борщ и консервировать собственноручно выращенные огурцы.
SWAN: Стоп. Кто боится? С этим я категорически не могу смириться: (
MYXA: Вы, мужчины, со многим не можете смириться.
— Уф! — сказал Юра. — Когда она появляется в чате, у меня прямо мурашки по коже…
MYXA: Например, с тем, что вашу сестру кто-нибудь трахнет. Она начинает встречаться с каким-нибудь парнем, а вы испытываете непонятный дискомфорт. Да. Потому что сами уже насовали свои члены в кучу чужих сестёр. И как представите, что то же самое будет теперь с вашей — дурно становится, да? А с этим придется смириться, милые. Как и с тем, что вашу мать тоже имели. Трахали, @бли, жучили, пердолили…, да-да!.. Иначе, как ты появился на свет, придурок?
— Шиздец! — сказал Юра. — Её нужно издавать подарочным изданием, в кожаном переплёте с золотым тиснением по обложке.
— Точно, — согласился я, — золотым.
Белое пространство. Снег везде: здесь ещё можно различить его структуру — в десяти метрах он уже сливается в сплошное молоко… И так — до самого горизонта. Белое лицо. Испуганные глаза. Крупно. Парень. Без шапки. Бежит изо всех сил. Спотыкается. Падает. Но продолжает бежать. Изо рта — клубы пара. Он в расфокусе — размытое лицо и часть туловища на переднем плане. На заднем — черный снегоход. На нем черная фигура в черной хоккейной маске целится из ружья в бегущего… БАХ!!! Мимо. Погоня. Три снегохода. По двое преследователей в масках на каждом. Один — за рулём, один — стрелок с ружьём. Бегущий в отчаянии, но не останавливается. Вихри снега из-под скоростных механизмов. Фонтаны снега в том месте, куда угодили пули. Преследователи всё ближе. Крупно: хищные прорези на черных хоккейных масках. Тишина. Урчат моторы снегоходов. Сумасшедшие злобные хоккеисты осматриваются по сторонам. Ездят кругами: парень пропал. Следов не видно. Преследователи поводят стволами из стороны в сторону: пусто. Снегоходы срываются с места и исчезают из кадра.
Резкий отъезд. Видно, что место, где только что были снегоходы, — край обрыва. Здесь видна маленькая фигурка человека, вцепившаяся в стену. Резкий наезд. Это парень. Он вынул ремень из своих джинсов и, перекинув его через куст, растущий прямо на отвесной стене обрыва, таким образом и висит. Крупный наезд на бляху ремня. Надпись на бляхе «LEWI’S». Отъезд: довольное лицо парня на фоне стены. Титры.
Титры дублируются низким мужским голосом; таким, чтобы потребители желудком чувствовали: я хочу LEWI’S…
— А? — Ярик достает пакетик и смешивает его содержимое с табаком из выпотрошенной минуту назад сигареты.
— Неплохо, — Юра шуршит папиросной бумагой, заворачивая в неё полученную смесь, — только при чём тут «Ливайс»? Был бы в городе их фирменный магазин? Тогда да… А так…
— Ой, да ёп’тыть. Главное — идея. А идея есть. Северный вариант: снегоходы…, снег опять же… Экстрим, насилие, хэппи энд.
Ярик склеивает языком самокрутку, прикуривает и, затянувшись дымом, говорит сдавленно: «Если что — продам «Коламбии» или «Пепси».
— Будет висеть на одной руке, а в другой держать бутылку? — Юра берёт самокрутку и тоже вдыхает дым.
— Банку. Бутылка — отстой… Вот банка — да-а, 0,33 ёмкостью… Её снимать прикольней. В «неспизамерзнешь» тоже банки снимали.
«НЕ СПИ, ЗАМЕРЗНЕШЬ» — видеоролик, снятый когда-то Яриком. Ярик работает режиссёром на местном телевидении и создаёт то, что сам называет «зашибенная пердула». Ролик «НЕ СПИ, ЗАМЕРЗНЕШЬ» выглядел так: мужик, присевший на небольшой заборчик, пьет пиво, банку за банкой: две, три, четыре… В конце концов у его ног валяется штук десять пустых ёмкостей. Сам мужик, нахохлившись и захрапев, засыпает, сидя на заборчике, и в конце концов падает. Общий план. Мужик, припорошенный снегом, похрапывает. В верхнем правом углу температура: —40ºС. Надпись: «НЕ СПИ», двухсекундная пауза, — «ЗАМЕРЗНЕШЬ».
Тогда в Тихом в течение месяца замерзли несколько пьяных вахтовиков, не рассчитавших свои силы и заснувших прямо на улице. В Приполярье в середине января подобная беспечность стоит жизни или отмороженных конечностей. Поэтому ролик, что называется, «попал в струю». Были сделаны плакаты, развешенные на домах. «Настоящая акция, по-взрослому», — говаривал Ярик. Опыт переняли несколько других северных городов: число замерзающих к тому времени сократилось, и восторженные тётки из управления семейной политики при администрации округа приписали его ролику. Ярик не возражал. В Москве «НЕ СПИ, ЗАМЕРЗНЕШЬ» взял первый приз на фестивале региональных средств массовой информации. Авторские права Ярик продал за приличную сумму. На деньги приобрел самый навороченный «лэптоп» и побывал в Америке.
— У них там папирос нет… Прикинь? Они крутят самокрутки, чтобы «гудулю» дунуть. Меня одна пиндоска научила «джойнт» мастырить. Во… — Ярик быстро и ловко закручивал «джойнт» и предлагал всем желающим. А желающие всегда находились.
В Америке Ярику понравилось: он ходил по jazz клубам, покупал гудулю у чёрных дилеров и трахал американок.
— Без презерватива никого не имел, — сообщал он интересующимся. Интересующихся хватало.
— У них, мля, на самом деле все то же самое, только бабы пострашнее и дома повыше… А пиво, если тебе нет 21—го года, хер продадут. Легче кокс купить у какого-нибудь Педро, чем банку пива. Бардак.
…Находясь в одном из самых больших городов Америки, Ярик, снимая на свою маленькую цифровую камеру местный пейзаж, вдруг заметил низколетящий пассажирский самолёт. Город назывался Нью-Йорк. А происходило всё в сентябре 2001 года. Ярик оказался первым, кто снял врезающийся в здание «Боинг». Когда во второе здание тоже врезался самолёт, Ярик сказал: «Во, мля!» — и кинулся в офис одной из ведущих американских телекомпаний. Через полчаса его кадры пошли во всемирный эфир. А Ярик вышел из кабинета главного редактора с полиэтиленовым пакетом. Вокруг бегали перепуганные американские телевизионщики, весь мир был в шоке. А Ярик улыбался, как талиб.
— Наличными. Они заплатили наличными, — говаривал Ярик, щурясь на лампочку и затягиваясь сигаретой.
— Много? — спрашивали интересующиеся.
— Достаточно, — отвечал он.
Ярик вообще был не бедным человеком. Он сам о себе так и говорил. У него была квартира в Москве и домик в Ялте.
Об этом знал только Юра, как близкий друг.
— Какого хера ты тогда тут торчишь? — спросил его Юра, докуривая обжигающий пальцы джойнт. — Пер бы себе в столицу… Или в штаты. Там и продашь идею «Ливайсам». Гонорар возьмешь джинсами.
— На фуя мне столько джинсов? Придумал! Сделаю джинсовую бомбу!
— Наймешь самолет и скинешь на Пентагон? Пожалуйста! — Юра схватил Ярика за щеки, — скажи «да»!
Они с Яриком захохотали, как сумасшедшие. Я представил себе множество джинсов, падающих с неба, и тоже засмеялся.
— Ты-то… — задыхаясь, просипел Юра, — ты-то чего ржешь?
— А он надышался. И теперь тоже как и мы — парень без глаз, — сказал Ярик, и они снова захохотали. Ярик упал на спину и стучал ногами по полу.
Полчаса спустя, изредка похихикивая, Юра, Ярик и я пили чай.
— Ну, чё, вспомнил что-нибудь о себе? — спросил Ярик.
— Нет, — ответил я.
— Вообще?
— Ага, — я довольно улыбался: все смеялись. Весело было. Мне нравится, когда весело. И чай сладкий.
— Может, дать ему дунуть, а? — спросил Ярик Юру. — Средство для расширения сознания номер один в мире!? А?! Миллионы людей не могут ошибаться! Прикинь: дунет — и как вспомнит, кем был раньше, а? Как зовут, например, а?
— Не надо, — строго сказал Юра. — Он и так знает, как его зовут.
— Да, — сообщил я, — Дровосек.
— Ага, — произнес Ярик, — хорошее, наверное, имя. Только я не могу называть человека таким… э-э-э мм… названием. Может лучше Дро? Старик Дро! — хлопнул он меня по плечу. — Как дела?
— Зашибись! — ответил я и улыбнулся.
— Хороший ты парень, Дро! — Ярик тоже улыбался.
— Да! — сказал Юра. — За это его, наверное, и стукнули молотком по башке.
Память — огромный пустой ангар. Тьма заполняет его осязаемыми черными чернилами. Мое маленькое отупевшее Я стоит посреди гулкого пространства, гадая о его размерах и зная, — пустота огромна. Но не безбрежна. Где-то у неё есть границы. Где-то есть стены. И моё Я медленно, нащупывая ногой каждый миллиметр пути и выставив вперёд руки, слепо движется… Вперёд? Назад? По кругу?
Где-то в этой тьме, может быть, прячутся мои воспоминанья. Как разведчики в приборах ночного виденья, бесшумно кружат они возле Я, рассматривая и не решаясь подойти. Никаких знаков — черная стерильная пустота. Если бы на полу ангара была пыль, то на ней могли бы остаться чьи-то следы… Нет ничего. Даже во тьме я это чувствую… Все ушли? Или здесь никогда никого не было? Никто не забегал сюда выкурить украдкой папиросу и случайно оставить окурок или хотя бы запах табачного дыма? Очевидно, нет…
Хотя мне кажется, что где-то высоко, под потолком, висит дюжина светильников дневного света. Многие лампы перегорели, конечно, но некоторые ещё ничего. И где-то есть рубильник. Однажды он будет включен. И тогда в далеком мерцании поднебесных стробоскопов я увижу… ЧТО? Прежде чем уйти в черную глубину без снов окончательно, я понимаю, что мои ноги замерзают (холодит бетон) и зуд в ладонях стал нестерпимым.
!!! — ледяной волной окатило моё сердце, и я чуть не задохнулся: босой, в одних трусах я стоял на кафельном полу в полутёмном коридоре, держась за стену. Только что я проваливался в сон, чувствуя сквозь дрёму неудобность подушки, и
Без всякого перехода оказался здесь. Невидимый монтажёр по указанию невидимого режиссёра взял ножницы и вырезал кусок плёнки между сценами «Герой ложится спать» и «Герой стоит в коридоре». Во время своих ночных бессонниц я набродил десятки километров, разрабатывая маршруты, чтобы не сталкиваться с медработниками и другими пациентами и беспрепятственно перемещаться по этажам. Я знал, где можно проскочить дежурную, перемахнуть пару лестничных пролётов и, пригнувшись, пробежать вдоль окон. Таких путей у меня было несколько, и сейчас, лихорадочно озираясь, я понял, что нахожусь в конце самого трудного и длинного маршрута — того, который я называл «номер три» и который вёл через всё здание вниз, к отделению интенсивной терапии.
«Ну? — мысленно спросил я у невидимого режиссёра и зачем-то посмотрел на потолок. — Дальше что?»
Сцена «герой стоит в коридоре» должна была чем-то закончиться. Я переступил с ноги на ногу, где-то было открыто далёкое окно на улицу, и я чувствовал сквозняк, холодивший ступни.
Втянув, пахнущий особо, больничный воздух, я отнял руку от стены и сделал первый шаг к двери: за ней длинный коридор с рядом тусклых лампочек. Реанимация в конце коридора направо. А налево — морг. Там хранят мёртвых. Я бесшумно переступаю по кафелю: вдоль стен стоят несколько каталок, на которых возят тяжелобольных, я такие уже видел. Сейчас они пусты. На парочке — смятые простыни в бурых пятнах. Почти всегда это кровь. Ещё одна дверь. Осторожно заглядываю — пусто… Дежурной нет…
…Полутёмное помещение… Ломит виски… Неожиданное ощущение: это со мной уже было. Вспоминаю, Юра рассказывал, что когда ему становится совсем плохо, он спускается в морг и бродит какое-то время между столами, наблюдая за работой знакомого патологоанатома. Потом, выходя оттуда, он чувствует себя совсем другим человеком, и все проблемы кажутся ерундой… Такое у Юры развлечение. А моё, очевидно, шляться ночью по больнице.
…Я вижу стол, на котором лежит опутанный проводами мужчина. Половина его тела покрыта бинтами. Много-много датчиков. «Пип-пип-пип», — попискивает аппарат в углу комнаты. Мои ноги становятся ватными, колени начинают дрожать, и вдруг, протянув руку, я касаюсь желтоватой волосатой ноги, почти свисающей со стола…
PAUSE: Правильное положение красного тумблера. Ровное гудение, за (пииииииииииии…………………..) секунду перерастающее в вой.
Стартер в затылке посылает разряд, и одинокая лампа под потолком огромного чёрного ангара неуверенно делает
ВКЛ! Ослепительная вспышка… Мои глаза смотрят вовнутрь… Я вижу…
У Валентина Николаева, водителя огромного грузовика, было хобби — он давил бегунов. Валентин имел замечательный красный цвет лица и круглый животик, благодаря регулярным вливаниям в себя пива. Он имел свою жену, родную сестру жены, тёщу. И собирался в скором времени приступить к своей приемной дочери.
При виде этой нимфетки с круглой попкой и наметившимися грудками низ живота схватывало лёгкой, сладкой анестезией. Особенно когда удавалось усадить её на колени, погладить по спине и ощущать бёдрами горячую, опасную близость ягодиц. Трахая жену, сестру или тёщу (каждую, конечно же, на её собственной территории), он не раз представлял, что под ним находится Она… Иногда ему приходилось мастурбировать в туалете, избавляясь от охватываюшей его неожиданно похоти. Иногда он рылся в ящике комода, находил трусики и проводил ими по своей щеке, веселый, румяный, хорошо выбритый, в тельняшке и тренировочных штанах, — замечательный муж и отец.
Так вот. Давить бегунов он начал давно. Не нравились они ему — сухонькие пенсионеры в красных спортивных трусах с полосками по бокам. Или молодые строители собственных тел в ультрамодных костюмах с вечно узнаваемым трилистником на спине. Они бежали вдоль автострад, на окраинах огромных мегаполисов, окутанных дымом индастриэл центров, вдоль трасс, пролегающих среди терриконов угольного бассейна. Они бежали ранним утром или поздним вечером с воткнутыми в уши наушниками, вдыхая выхлопные газы и разбрызгивая гальку своими беговыми кроссовками. Они бежали до той точки, где их путь пересекался с огромным грузовиком Валентина Николаева. Поравнявшись, он просто резко двигал руль вправо и, выровняв автомобиль, ехал дальше. Он дальнобойщик. Через полчаса он будет уже в другой области. Через полтора — в другой стране. А завтра утром, может быть, новый бегун…
Ему всегда казалось, что они знают важное — НЕЧТО, предназначенное не для всех. Это НЕЧТО принадлежит к разряду особенных (вещей?) (мест?). Валентин не мог сказать точно. Он думал так: раз это НЕЧТО есть, то на всех его не хватит. А если бегуны движутся в ту же сторону, что и его грузовик, значит НЕЧТО — ТАМ. И чем их меньше туда доберётся, тем на меньшее количество претендентов это НЕЧТО будет поделено. Чем меньше претендентов — тем больше будет каждый кусок. Ему представлялся огромный пирог, и один достойный, единственный пробравшийся к нему — Николаев Валентин, когда переднее колесо грузовика лопнуло — тяжелый трейлер на пустынной приполярной дороге занесло, и Николаев услышал, как треснула его собственная грудная клетка, сминая руль.
/………………… Странный звук… Странный…
ВЫКЛ! /……… Этот странный звук — первое, что я слышу, очнувшись, скрючившийся, на холодном кафельном полу… Мне понадобилось время, чтобы понять: этот звук — мой собственный голос. Почти. На грани слышимости я издаю непрерывный хрип: будто пытаюсь произнести долгую-долгую букву «А»… И даже осознав это, не останавливаюсь, пока в легких не заканчивается воздух… Пауза в несколько секунд. Я парализован. И тут понимаю — моя грудь цела. И мне не хватает кислорода.
ВДОХ! — с шумом, полной грудью. Сердце, остановившееся на несколько мгновений, стучит бешеным ритмом во внутреннюю поверхность барабанных перепонок…
Я чувствую, как кровь приливает к лицу и начинает покалывать пальцы — будто отлежал руку во сне… Выравнивается дыхание. Но я всё держусь за солнечное сплетение.
Только что, на пустынной приполярной дороге был удар о руль, ослепляющий взрыв боли в переломанных костях… А раньше — удовлетворение от удачного манёвра вправо, подскакивания заднего колеса — будто наехал на мешок с грушами… А ещё раньше я чувствовал, как на коленях сидит хрупкая девчонка с копной рыжих волос и даже ноздрями втягивал их волнующий свежевымытый запах и сладкое шевеление ниже живота…
Сейчас, сидя на полу, я особенно остро чувствую, что в моей голове — чужеродный кусок металла, во рту ржавый привкус — это кровь выступила из дёсен… и страх. Как выразился бы Петрович — я «испугался до всрачки». И он был бы прав.
Пробравшись по «маршруту № 3» обратно на свой этаж и бесшумно юркнув в постель, я долго невидяще смотрю в окно. Мне страшно. Мне странно. Мелкие снежинки с тихим шелестом скребутся о стекло… Где-то там, в заполненном чернилами ангаре, включился на время рубильник с маленьким красным тумблером. И сразу выключился. ВКЛ… ВЫКЛ… Зачем? И сейчас, ощущая подкрадывающийся сон, я почувствовал сквозь перекрытия и лестничные пролёты, пустые предутренние коридоры, что где-то там, на столе в реанимации, окутанный проводами лежит Гапонов. С отключенным сознанием, застывшим, словно чёрная вода в заброшенном бассейне. Его бледное, слабое Я бродит с маленьким фонариком по коридорам подсознания. Батарейка в фонарике садится. Лампочка мыслей мигает, и промежутки тьмы становятся всё более длинными…
Проснулся я довольно поздно — мои сопалатники уже давно позавтракали, покурили и теперь, лёжа на своих, застеленных одинаковыми одеялами кроватях, лениво перекидывались словами. Кроме меня в палате № 417 находятся трое: чисто вымытый и обритый наголо молчаливый бомж Коля, которого с пробитой башкой подобрали в каком-то подъезде милиционеры, инженер-бурильщик — медсёстры называют его Михаил Евгеньевич, и Шамиль. Этот неугомонный татарин может говорить о чём угодно, но всё равно беседа сведётся к одной волнующей его теме — медсестра Света. Внушительные размеры её груди и бедёр заставляют Шамиля кружиться возле рентгенкабинета часами и часами же говорить о том «эх-как-бы-я-её-отодрал». Сейчас, зевая и потягиваясь, я слышу, что разговор как раз об этом.
— Была у меня одна такая… — уже в сотый, наверное, раз, довольно жмурясь, рассказывает Шамиль, — повариха на промысле. Горячая деваха, ух, горячая. Я её драл прям в столовой на лавке. Сиськи — во! (Шамиль показывает руками.) Как возьмусь… Ух!!!! — он причмокивает и мотает головой. Все молчат. Мне кажется, эта тема надоела даже бомжу Коле.
— Так возьми и трахни её, — тоже в сотый раз произносит инженер Миша.
— Э-э-эх, — продолжает Шамиль, как будто не слышит обращённой к нему реплики, — а губы у неё какие: пухлые, сочные. Люблю такие. Если у женщины такие губы — значит, минет хорошо делает… Сосёт, значит, хорошо, — поясняет Шамиль, повернувшись к Мише.
Миша фыркает и качая головой смотрит на Шамиля.
— Не надо мне объяснять значение слова «минет», ладно? — Говорит он слегка удивленно. — Достал ты уже озабоченый татарин… Что за чушь? Вы все пэтэушники долбаные. Понапихали себе в башку каких-то грёбаных вымыслов. Какая связь между пухлостью губ и умением делать минет? И как размеры жопы влияют на темперамент, а?
— Не знаешь? Пойди в деревенский клуб, на дискотеку. И смотри на тех, кто танцует. Та, которая ловчее всех вертит жопой, та и в постели подмахивает лучше всех. Так деревенские себе шлюху на пистон выбирают… Не знал?
— Лажа! У меня была не просто танцовщица — стриптизёрша, понял?! На сцене — ураган, а в постели — абсолютно ничего особенного. Зато какая-нибудь скромница такое вытворяет, что потом ночь, проведённую с ней, помнишь всю жизнь…
— Ай! — раздражённо машет рукой Шамиль и отворачивается. — Стриптизёрша — бревно?! Это ты сам неумеха, значит…
— Это значит, что в голове у большинства людей сотни стереотипов. Пухлые губы — хороший минет? Придумать что-нибудь глупее трудно. — Миша тоже раздражённо отворачивается. Некоторое время в палате тихо. Слышно, как в коридоре шаркают пациенты, переговариваются и смеются медсёстры. Работает телевизор. Много обычных больничных звуков. Слышно даже далёкое тарахтенье вертолёта за окном…
— К вопросу о стереотипах… — сказал вдруг кто-то, и я понял, что это бомж Коля. Его голос все слышали в лучшем случае два раза — всё остальное время он молчит, отвернувшись к стенке. Поэтому когда сейчас он начал говорить, Шамиль и Миша уставились на него как на говорящий холодильник — ошеломлённо.
— Я тогда в Казахстане обитал… — продолжал неспешно Коля. — Маленький ещё был. Лет восемь, что ли… Ага… На окраине города жил какой-то казах, и к нему из аула часто приезжал родственник. На верблюде приезжал. Все знают, что верблюды плюются. Вот ты знаешь? — спросил вдруг он у Миши.
— Да, — ответил инженер-бурильщик.
— Вот… — рассудительно продолжал Коля. — Все знают. Откуда знают — неизвестно. Но уверены все: верблюды, когда злятся — плюются и это (пауза) — стереотип. Мы, пацанята, тоже знали об этой особенности верблюдов. Но никто из нас этот самый плевок никогда не видел…
Коля продолжал рассказывать, а я вдруг чётко увидел жаркий азиатский вечер, окраину города, почувствовал запах тлеющей неподалёку помойки и…
(ЩЁЛК!)
Дети дразнили его. Они стреляли в него из рогаток и кидали камнями. Верблюд косился и вздрагивал теми кусочками своего огромного мохнатого тела, в которые попадали злые камни маленьких садистов, но никак не хотел делать то, что от него требовалось. Тогда кто-то выхватил из помойки дымящуюся, всю в искрах, головёшку и стал размахивать её перед мордой животного. Верблюд, свирепея, захрипел и задёргал своей мохнатой шеей.
— Щас плюнет! — закричал известный во дворе хулиган и второгодник Васька Гнездилов.
Но верблюд, испуганный и разъярённый огнём, дымом и криками, дёрнулся, и верёвка, которой он был привязан к столбу, лопнула.
Он не стал плеваться. Он вдруг ринулся на толпу враждебно настроенных маленьких двуногих уродцев, причиняющих ему боль. Уродцы бросились врассыпную. Но один из них — самый маленький — убежать не успел…
Верблюд сбил его с ног и потоптался по маленькому тельцу.
— Этот мальчик чудом жив остался. Всю жизнь потом кривой на коляске ездил: верблюд ему ноги повредил и позвоночник, — сказал Коля и замолчал.
— А с верблюдом что случилось? — спросил Миша.
— Его отец покалеченного мальца из пистолета застрелил. Он в милиции работал…
Повисла тишина. Коля лёг на кровать и отвернулся к стенке — принял своё обычное положение.
— К вопросу о стереотипах, — сказал вдруг Шамиль. — Никакого отношения к пэтэушникам я не имею. У меня диплом Московского Государственного Университета.
«Интересно, — подумал я, — кусок железа в башке — это стереотип?»
* * *
Больничная библиотека находится на шестом этаже. Здесь множество пыльных полок и Марина — симпатичная светловолосая библиотекарша. Долгими часами она сидит среди многотомников, брошюр, оригинальных и переизданных версий, стопок периодики и прочей макулатуры. Попирая кулачком щёчку, она смотрит в окно и вздыхает. Понадобилось минут десять, чтобы объяснить, какая именно книга мне нужна.
— А-а-а… — наконец понимает Марина. — Это там, третий стеллаж от окна, вторая или третья полка сверху.
Я бреду в указанном направлении. Третья полка сверху. Всё верно — это то, что мне нужно. Возвращаюсь назад. У стола какой-то парень явно не больничного вида что-то тихо говорит Марине в ушко. Она, улыбаясь, смотрит в стол и тоже тихо отвечает. Марина берёт книгу и делает необходимые пометки в карточке. Парень в упор смотрит на меня, а я, заметив это, тупо гляжу в пол. Потом, прижав книгу к груди, ухожу, чувствуя их взгляды на спине. Уже почти покинув библиотеку, я слышу как парень спрашивает Марину:
— «Волшебник Изумрудного города» — это типа модный бестселлер?
* * *
Я прочёл книгу за сутки. Потом перечитал ещё раз. Мне стало понятно, почему профессор Васильев назвал меня Железным Дровосеком. Мне было непонятно другое: если я Дровосек, то где же Элли, Лев и Страшила? Где волшебные башмачки и пёс Тотошка? Где Великий Гудвин?
И ещё: ни с кем из героев книги не происходило ничего похожего на то, что творится в моей голове. Я отнёс книгу в библиотеку. Насколько я понял, моя жизнь свернула с Жёлтой дороги. И к Изумрудному городу я дотопаю по своей тропинке. И Валентин Николаев — не первая странная встреча на этом пути. Остаётся узнать: где этот, мать его, Изумрудный город?
— Приподними его.
— Телевизор?
— Это не телевизор, а монитор. Так… Опускай.
Юра разбирает свой компьютер, и я ему помогаю. Кто-то в паутине проводов, микросхем и процессоров перестал выполнять свои функции, и Юра собирается отправить «машину» в ремонт. Нужно перетранспортировать всё на 1—й этаж, и я буду носильщиком. Заниматься мне всё равно нечем, до обеда ещё два часа, и поэтому, взяв кое-как упакованный монитор, я тащусь за Юрой к лифту. Юра тоже, сопя от напряжения, несёт две увесистые коробки: все встречающиеся на пути уступают нам дорогу.
— Что? — за шелестом полиэтилена я не расслышал фразу.
— Я говорю — ставь на пол, глухая тетеря, — повторяет Юра и вызывает лифт. В кабине мы стараемся как можно компактнее установить наш груз в углу: коробка на коробку, сверху монитор и небольшой свёрток с проводами. Конструкция шаткая, поэтому на всякий случай придерживаем это коленями, животами и руками. Юра чуть ли не носом нажимает на кнопку «1—й этаж»: поехали. В больничном комплексе все лифты (кроме скоростного — реанимационного) имеют замечательную особенность останавливаться на том этаже, где нажата клавиша «вызов». А так как любителей бегать пешком по лестницам не так уж и много… В общем, буквально на следующем этаже вошла группа врачей, потом какие-то электрики. Потом врачи вышли, но вместо них появились шумные посетители детского отделения, потом втиснулась группа пациентов вперемешку с медсёстрами…
— Эй! — встревоженно сказал Юра. — Не напирайте! У меня здесь стекло!
Тут кто-то неловко дёрнулся, наступил соседу на ногу, а тот зацепил нашу башню.
— Твою мать! — заорал Юра, удерживая стремительно съезжающий монитор.
Я тоже, проявляя чудеса ловкости, ухватил непонятным образом одну из коробок. Сверху шлёпнулся свёрток — прямо под ноги. Лифт сделал очередную остановку, половина пассажиров вышла — на их место втиснулись новые.
— FUCK! — сказал Юра. — Подними эти херовы провода!
Я нагнулся и, нашарив на полу свёрток, попытался водрузить его на место — то есть на самый верх.
— Куда! — Юра закипал медленно, но неотвратимо. — Хочешь, чтобы они тебе на башку свалились? Держи в руках!
Я послушно смял замотанные в полиэтилен провода, вцепившись в них обеими руками, упёрся задницей в одну из коробок и рассеянно уставился в стену. Лифт с тихим гудением продолжал свой путь вниз.
Расфокусированный бинокль невнимания…
«Хочешь меня трахнуть?»
…исчез в долю секунды. Оказывается Она стоит прямо передо мной. Наверное, вошла с последней группой пассажиров, но я суете не заметил. Она рядом и бесцеремонно, в упор рассматривает меня. Я скашиваю взгляд на Юру — он вцепился в коробки и равнодушно поглядывает в нашу сторону.
— Хочешь меня поиметь?
Запах её духов — совсем не похож на духи Светы из рентгенкабинета (благоухающая цветочная клумба в царстве невидимых лучей) и ни капли не напоминает духи Марины (лёгкий ветерок в пыльном пространстве библиотеки). Её запах — еле уловим даже на расстоянии полушага, еле уловим, но значим. Её запах — контраст, как и Она сама — чёрное/белое — без полутонов и каких-либо сереньких теней. Чёрное. Белое. Запах приближающейся грозы. Запах слабо вибрирующей, готовой взорваться тишины.
— Так хочешь меня поиметь?
Я смотрю в её глаза. Глубокие и колючие одновременно. Она не улыбается, не хмурится, не приподнимает брови и не выказывает каких-либо эмоций. Где-то на самом дне бездонных колодцев мелькнули и погасли искорки: далёкие молнии? Приближение бури? Случайно отразившиеся в зрачках электрические светильники?
Я отвожу взгляд. Лифт замедляет ход: первый этаж. Приехали. Двери расходятся, и многочисленные пассажиры покидают кабину. Она опять — на бесконечную секунду дольше, чем нужно, стоит и смотрит на меня.
— Хватай, — говорит Юра, толкая меня в плечо, и я вот именно хватаю монитор, предварительно запихав свёрток с проводами в карман. Цокая каблуками, она стремительно удаляется по вестибюлю. Я смотрю ей вслед.
— Не тормози, — говорит Юра. — Неси за мной.
Мы идём к выходу: большие стеклянные двери, дежурные, охранник на стуле. Дальше мне нельзя. Я ставлю монитор на пол и ещё раз смотрю в дальний конец огромного вестибюля: там ещё видно мелькание угольно-чёрных волос.
— Хватит пялиться, — произносит Юра.
Пока охрана проверяет его пропуск, он повернулся ко мне:
— Что, понравилась киска?
— Не знаю…
— Не знаю, — ухмыляется он, — а она, похоже, знает. Всю дорогу на тебя глазела.
Юре отдают документы, и он запихивает их во внутренний карман куртки:
— Раз ты ни хрена не помнишь, то наверное и не помнишь, что нужно с бабами делать? Да?
Я молчу. Юра напяливает вязаную шапку и, коротким рывком подняв монитор к животу, наклоняется ко мне:
— Вообще-то боюсь показаться неоригинальным и назойливым… Но у тебя опять стоит. Ты в прошлый раз не с ней ли в лифте ехал? — и Юра быстро уходит в сторону выхода.
На улице он ставит монитор на заднее сиденье небольшого автомобиля и возвращается за коробками.
— Юра… А когда женщина говорит то, что сказала мне она, что это означает?
Юра берёт под мышки коробки. Он спешит.
— А что она тебе говорила? И когда?
— Ну вот, только что… В лифте. Она сказала: «Хочешь меня поиметь?»
Юра останавливается.
— Что?
Я повторяю. Юра смотрит на мои губы. Потом ставит коробки на пол и подходит ближе:
— Она это сказала?
Я киваю.
— И ты это слышал?
Я снова киваю.
Какое-то время он молчит. Потом произносит:
— Слушай, друг. Я стоял рядом с тобой и слышал, как дышит человек в другом конце лифта. И я очень хорошо видел твою черноглазку.
Охранник зевает. Мимо нас проходят два электрика с огромной лестницей.
Юра:
— Как она могла сказать тебе хоть что-то, если всё время молчала?
Я:
— ……???
Юра:
— Ты понял? Всё время молчала!
PAUSE
Только теперь я понял, что меня так смущало: её голос. Я не слышал её голоса.
Ушами.
Он раздавался в моей голове…
Холодок возле сердца (страх?).
Холодок в затылке (я слышу голоса?).
И покалывание в паху: я хочу?
PLAY
Я догнал её в одном из коридоров, которыми заканчивается вестибюль. Вернее не догнал: она стояла возле какого-то стенда со множеством карманов и что-то быстро писала в своей папке длинным чёрным карандашом.
Только что, по пути сюда, в голове сформировались нужные предложения и вот, увидев её, я не обнаружил их следа. Все буквы рассыпались, как взвод пехоты после удачного выстрела снайпера: командир валяется со снесённой черепной коробкой, а перепуганные бойцы рассредоточились в жидких остатках пшеницы. (Я скажу: «Привет. Да! Я хочу тебя трахнуть… нет, поиметь… Мда…»). Поняв, что говорить мне нечего, я остановился. Она пишет. Я стою как столб и смотрю на неё. Всё. Нужная информация перекочевала со стенда в папку, карандаш исчезает в специальном футляре. Сейчас она уйдёт.
Она поворачивает голову и видит меня. Опять отражения лампочек в зрачках? Судорожно сглатываю. Молчание. Мы смотрим друг на друга так пристально, будто играем в игру: кто первый моргнёт, тот проиграл.
— Привет, — говорю я, пытаясь отыскать в своей голове пять-шесть смелых бойцов, спрятавшихся в пшенице.
— Привет, — моргнув (проиграла?), отвечает она. И я понимаю, что голос её мне нравится.
(Что сказать? Что сказать? Что сказать? Что сказать?)
— Э-э-э… — я чувствую, что начинаю глупо улыбаться.
Она, молча, внимательно смотрит на меня.
— Да! Я хочу… — выдавливаю из себя.
Она медленно захлопывает папку. Опускает взгляд, защелкивает клапан и снова смотрит на меня:
— Это, очевидно, что-то должно означать?
Мысленно я начинаю колотить себя головой о ступеньки.
— Я спешу, — говорит она и, повернувшись, делает шаг. От меня. Я иду за ней.
— Говорят, ты ничего не помнишь о своём прошлом? — спрашивает она вдруг, не останавливаясь и не поворачивая головы. — Это правда?
— Да. Не помню… — вопрос неожиданный.
Мы останавливаемся у лифта. И она, нажав на клавишу вызова, поворачивается ко мне:
— Каково это?
Я пожимаю плечами. И вдруг чётко вижу: искорки в её глазах — никакое не отражение лампочек, это внутреннее электричество, разгорающееся от внутреннего реактора. Это то, что заставило её стиснуть папку так, что побелели костяшки пальцев. Она дрожит, и я это чувствую, потому что сам начинаю дрожать.
— Что… — она себя выдала: её голос сорвался, и она несколько раз быстро моргнула. Проиграла?
Абсолютно не помню, как мы оказались в лифте и кто из нас нажал кнопку «стоп». Мы буквально впиваемся друг в друга. Волна узнавания ситуации и себя в ней: с ошеломлением и интересом я наблюдаю за собой со стороны: моё тело знает! В доли секунды понимаю, КАК ИМЕННО ей хочется и, развернув спиной к себе, толкаю к стенке лифта. Когда я задираю халат, она начинает дрожать ещё сильнее…
«Сейчас», — подумал я и сдвинул трусики по замечательно гладким ягодицам вниз.
* * *
— С ума сойти, как ты кончаешь… — шептала она, задыхаясь, какое-то время (минуту? пять? час?) спустя.
Мы в углу лифта. Она оглушительно дышит мне в ухо. Только что моё тело сотрясал высоковольтный разряд такой силы, что ноги мои подкашиваются: слух, зрение и обоняние вернулись буквально секунду назад.
— С ума сойти. Я такого ещё не видела…
Она мягко поглаживает мои волосы. Если бы мы лежали, я был бы сверху. Но сейчас мы стоим. За дверью слышны обеспокоенные голоса: лифт остановился между первым и вторым этажами. Кто-то предлагает вызвать электриков.
— Слушай, — говорит она, — нужно ехать, а то сейчас вскроют двери и увидят нас…
Я прислоняюсь к стене и наблюдаю, как она быстро натягивает трусики, поднимает папку с пола, нажимает кнопку «12» — последнего этажа — и смотрит в зеркало, поправляя причёску.
— Ты мне показался особенным, — она стоит ко мне спиной и видит моё отражение в зеркале, — так и есть…
— Тебя зовут Юля? — вдруг спрашиваю я.
Лицо не изменилось. Только чуть дрогнули ресницы и зрачки стали уже. И голос…
— С чего ты это взял?
…стал немного другим. Не могу же я ей сказать, что за секунду до (!!!!!) в моей голове опять кто-то быстро щёлкнул (ВКЛ/ВЫКЛ) тумблером, и в коротком, но ослепительном мгновении появилась уверенность: Юля.
— Не знаю. Просто…
— Без просто, — её голос снова стал прежним, — моё имя Алёна, ясно?
— Ладно, — сказал я.
«Почему Юля?» (нет ответа).
Ночью я ещё раз задаю этот вопрос. Я спрашиваю неизвестно у кого (не у себя же мне спрашивать), и снова не получаю ответа. Как радист на затонувшем подводном крейсере, я посылаю сигналы «SOS» в чёрную толщу воды, а в динамике только рабочий фон и потрескивание… Мои мёртвые воспоминания плавают в соседних отсеках, задохнувшиеся, отделённые от меня непроницаемыми переборками… Снаружи холодная, как лёд, обшивка и почти осязаемая, вязкая глубина. И моё маленькое заплаканное Я в тельняшке посылает свои «SOS» не известно кому:
S. O. S.… S. O. S.… S. O. S.… S. O. S.…
Приём: (нет ответа).
Моя голова — передатчик. А титановая пластина в голове антенна. СТОП!
Я сел на кровати. Не знаю, как это называется (Ой-ёй-ёй). Но, похоже (не передатчик, нет), моя голова… приёмник?
Я схватился за голову обеими руками:
Приёмник?
Что за передачи (давить бегунов?) я тогда принимаю?
И где этот долбаный (Хочешь меня поиметь?) транслятор?
Умел ли я делать это раньше? Или антенну своими умелыми руками мне врезал профессор Васильев?
НЕ ПОМНЮ
Мои руки отпустили голову и безвольно упали по бокам.
Не помню…
Я медленно ложусь на спину: НЕ ПОМНЮ. И теперь почти уже не знаю, хочу ли вспомнить?
Моё тело само по себе, не дожидаясь сознания, постепенно выходит из анабиоза и вытворяет то, что в прошлой жизни было для него обычным делом: ест кашу в столовой, ходит по коридорам, бьет Гапонова по голове железным стулом и с особым (?) умением трахает медсестру Алёну в лифте…
Её запах — горячий и резкий — преследует целый день. Так пахнут мои руки после того, как я прикасался к ней. Мне нравится этот запах. И уткнув нос в свою ладонь, я медленно проваливаюсь в мягкую пустоту. Меня опять ждёт СОН без снов…
Петрович выписывается. Почки, или что там у него болело, больше не беспокоят: он прошёл полный курс уколов, промываний, прогревания и вообще всяческих терапий — теперь они работают как часы. Зато работа пищеварительной системы Петровича ни капли не изменилась. Даже наоборот, по-моему, в его кишечнике открылся новый завод по производству пропана — я оценил это, как только оказался с ним в одной кабине лифта. От его, на этот раз умиротворённо-радостного, попукивания у меня помутнело в глазах.
«Если однажды рядом с Петровичем окажется неисправная проводка и проскочит искра, — вспомнил я слова инженера Миши, — как минимум, разнесёт полбольницы». Если это случится сейчас, от нас с Петровичем не останется даже зубов.
Я провожаю Петровича. И заодно помогаю ему тащить его вещи: чемодан и пару сумок. Наконец мы вываливаемся из лифта: я — жёлто-зелёный, а он бодрый и не замолкающий ни на минуту. В огромном холле снуют множество людей: всё как всегда. Мы останавливаемся перед большой — во всю стену — картой автономного округа.
— Всё, — говорит Петрович. — Больничный закончился, а через неделю у меня отпуск. Сяду в машину — и попру на Землю.
«Землёй», как я понял, северяне называют те места, где почва — не сплошные болота и пески, как здесь в Тихом и его окрестностях, а нормальная земля, в которую можно «сажать картошку». Именно этим (непонятным для меня) сажанием картошки собирается заняться в своём непонятном отпуске Петрович.
— Я ещё по «зимнику» проскочить успею, — говорит он, смотря на карту, — а через пару недель постепенно растает всё на хер.
Как объяснил мне Петрович, сейчас дорога, связывающая Тихий с «землёй», — это просто укатанные замёрзшие болота. Как только температура воздуха поднимается, зимняя дорога — «зимник» — превращается в кашу. И всё. Покинуть эти места можно будет только по воздуху. Либо когда окончательно растают все реки — на пароме.
Но Петрович собирается «проскочить» по «зимнику», и все его мысли и разговоры крутятся вокруг этого. Тема для меня неинтересная, и слушаю я вполуха, озираясь по сторонам.
Потом он жмёт мне руку, и, навешав на себя сумки и подхватив чемодан, исчезает за стеклянными дверями: там его встречает сын на автомобиле. Люди снуют туда и обратно постоянно. Вот только что вошли, громко стукая о пол ботинками, стряхивают налипший снег два вахтовика-бурильщика. Они, перекинувшись парой слов с охраной, идут мимо меня к лифту. За ними остаются бело-мокрые следы — снег забился в протектор подошв и теперь вываливается при ходьбе маленькими кусочками.
Я наклоняюсь и сжимаю в ладони два белых быстро тающих квадратика. Холодные…
Смотрю на карту. Место, где паромы отправляются на «землю», — речной порт К-420. Второй пункт (прибытия) называется Тарко-Сале. Оттуда тянется жёлтая ниточка — дорога, вплетающаяся в паутину таких же нитей. Странные, ничего не говорящие мне названия. Я раскрываю ладонь: мокрая. Белых квадратиков нет. Скучно. Я иду к лифту. Скоро обед.
* * *
— Как это — не снятся сны? — Ярик явно удивлён. Он и Юра, в очередной раз скручивая «джойнт», пытаются поднять завесу над моим прошлым и задают множество вопросов. Например, что мне снится по ночам.
— Так это, — отвечаю я и поясняю, что сон для меня — лишённый смысла ритуал: вечером я закрываю глаза, а спустя секунду открываю их утром. Между этими двумя мгновениями не происходит абсолютно ничего.
— Как? СОВСЕМ ничего? — спрашивает теперь уже Юра.
— Ага, — не понимаю, что их так особенно удивляет. Мне всегда казалось: СОН — это и есть то, что со мной происходит.
— Да… Персонаж… — Ярик задумчиво почесал макушку и, прикурив самокрутку, отдал её Юре.
— Персонаж же стопудово, да? — Юра кивает в мою сторону, — только из какого фильма? Попроси его, он тебе о голосах в своей башке сейчас расскажет.
— Правда? Голоса? Чё говорят? — Ярик смотрит на меня недоверчиво. Самокрутка вернулась к нему.
— Шутка, — сказал я, — пошутил я так. Хотел посмотреть, что Юра делать будет.
— Ха! — Юра ухмыльнулся. — Если бы я в тот момент не был так занят, то сразу побежал бы вызывать реактивный самолёт из клиники Кащенко. Там такие клиенты всегда нужны. С голосами в башке…
— А клёво было бы, если у Дро бы в башке бы голоса бы были… — Ярик хихикнул. — … Бы…
Юра тоже хихикнул и затянулся.
— Мы бы тогда спрашивали у Дро: «Эй, какие цифры в «Спортлото» выигрышные… Например,»5 из 36»?» Дро бы спросил бы у голосов, те ему ответили бы. Дро нам сообщил. Мы правильные цифры зачеркнули, в Москву на Шаболовку послали, и — хопчик! — деньги в кармане.
— Ага… — Юра опять хихикнул. — А вдруг голоса ему приказали бы принести в жертву какому-нибудь Вуду?
Ярик, который в этот момент втягивал дым, поперхнулся и закашлялся. Потом сказал, обращаясь ко мне:
— И что? Ты бы, Дро, если бы голоса тебе сказали бы нас убить, взял бы скальпель бы и порезал бы нас ломтями? — он хихикнул. — … Бы?..
— Не знаю… — ответил я.
— Очень хорошо! — сказал Юра. — Мы тут его чаем поим с молоком и сахаром, а он нас скальпелем резать собрался!
— Да я…
— Неблагодарный!
— … никого резать…
— Мы для него тут как семья практически, а он нас скальпелем!
— … не собирался я никого резать!
— Да! — Ярик захохотал. — Если мы семья, то кто в ней мама? Ты что ли? Мама Юра? — и Ярик зашёлся в таком приступе хохота, что упал вместе со стулом на пол.
— Да-а… — протянул Юра, смотря на корчащегося в судорогах смеха Ярика, и затянулся маленьким, обжигающим пальцы, остатком самокрутки. — Да-а…
— Такие приступы амнезии случаются часто и густо, — говорит Юра.
Ярик отсмеялся и теперь, помешивая чай ложкой, продолжает разговор:
— Да. Я иногда сам напиваюсь так, что утром прозреваю: лежу раздетый в постели, вещи аккуратно сложены, деньги на месте. Возле кровати — бутылка с минералкой. Как я вчера добрался домой да ещё купил по дороге воду, вошёл в квартиру и всё такое, ни хрена не помню!
— Заткнись, баклан, — Юра стучит по клавиатуре, — я о том, что люди память теряют.
— А я о чём? Вот в Донбассе был случай: мужик попал в аварию. Тоже ни хрена не помнил. Его кормили, поили, сигареты даже покупали. А он взял однажды медсестёр порезал и сбежал.
— Ага… — сказал Юра. — Значит, рядом с нами постоянно находится запрограммированная машина по нарезке медсестёр, — он кивнул в мою сторону.
— Да, — Ярик похлопал меня по руке, — медсестрорезка… Ну как типа хлеборезка…
— Что? — спросил я.
— Ага… — продолжал Юра. — Только чьего производства агрегат?
— MADE IN в смысле?
— Ну да. Где сделан, типа?
— Я подозреваю, ЧЕМ он сделан, но вот кем и где, — Ярик посмотрел мне в глаза.
— Интересно, как тебя на самом деле зовут?
— Дро, — сказал я.
— Да… — Юра захихикал. — Мама твоя, бывало, выглянет из окна и крикнет: «Дро! Сынок! Иди обедать!»
— Чего? — спросил я.
— Только не Кирилл, — сказал Ярик, — я Кириллов не люблю. Они какие-то неадекватные все.
— И не Алёша! — подхватил Юра. — Как представлю, что меня могли назвать Алёшей… Брр! — его передёрнуло.
— А меня бесят Олеги, Антоны и Артёмы…
— Да, — сказал Юра, — и не забудь про Денисов!
— Точно! — Ярик поднял палец, — лучше застрелиться и быть каким-нибудь Юрой — только не Денисом!
— Вот-вот! — сказал Юра. — Лучше позориться всю жизнь каким-нибудь Ярославом, только не Денисом. Спасибо маме и папе.
— Угу, — сказал Ярик. — Имена бывают, местами простона голову не натянешь. В восьмидесятые, когда Советский Союз дружил со всеми этими коммунистическими вьетнамцами, лаосцами и корейцами, лидеры этих стран часто приезжали в гости. В Кремль, в смысле. Вот. И был один лидер, какой страны уже не помню, который особенно часто наведывался. Очень я любил его визиты. Включаешь программу «Время» и слышишь, как абсолютно серьёзный диктор хорошо поставленным голосом говорит:
— Вчера нашу страну посетил добрый друг Советского Союза Ху Йел Бан… Представляете? Миллионы простых советских телезрителей в этот момент с особым удовольствием смотрели новости и удивлялись «как это диктор, натыкав десяток „хуйелбанов“ в эфир, ни разу не засмеялся?»
— Да… — сказал Юра. — Уж лучше Денисом, чем, — он захохотал, — Хуйелбаном!
— Прикинь: Хуйелбан Васильевич Иванов! — сказал Ярик, и у них с Юрой началась настоящая истерика.
— Нет, — сказал я, когда они отсмеялись, — лучше я буду Дровосеком.
Бессонница. Очередная. Я опять не могу спать и поэтому сижу на диване, тупо уставившись в телевизор: по экрану движутся какие-то разноцветные пятна. Я замечал, что люди, особенно дети, с интересом смотрят на это размытое мельтешение. Наверно, какое-то развлечение или терапия. Не могу понять. Поэтому сейчас пытаюсь вникнуть в беззвучное (звук как всегда убран) интенсивное мигание. Тишина. В моей руке пульт дистанционного управления. Я вспоминаю, как недавно Ярик рассказывал о том, что в его ялтинском жилище огромный — в полстены — телевизор и мощная акустическая система. Я даже видел маленький хромированный ключ от входной двери этого дома. Ярик носит его в кожаном футляре, который, в свою очередь, лежит на дне его рюкзака. Телевизор в полстены размером — здорово, наверное…
В том же ялтинском доме Ярика под ванной, в специальном зажиме, спрятан отличный итальянский пистолет «Беретта» — вещь, которую он приобрёл по случаю у одного знакомого.
— Знать, что у тебя есть пистолет, приятно, — говорит Ярик, — пусть он лежит себе за шесть тысяч километров южнее, он даже на таком расстоянии греет мне душу.
Ярик — странный человек. В правом кармане его куртки всегда лежит маленькое шило с куском резины на острие.
Когда я спросил его, зачем, он ответил так:
— Шило — одно из самых полезных штук в мире. Стоит копейки — столько же, сколько пачка овсянки — но польза!.. Пару раз эта фиговина здорово меня выручала. И вообще, я таскаю его с детства — привык. Когда его нет, я чувствую себя голым…
— Я думала о тебе.
Она опять появилась незаметно. Пока я невидяще пялился в мигающий экран, размышляя о своём, она села на одно из кресел справа от меня. Очень белый халат. Очень чёрные волосы. Алёна. Медсестра-стюардесса, устроившая мне незабываемый рейс «1—й этаж — вершина мира».
— У тебя талант подкрадываться незаметно.
— Вот примерно об этом и я хотела с тобой поговорить.
Я смотрю на неё с… c интересом?
— О чём?
— О том, как ты всех дурачишь.
— Я?
— Ты говоришь, что абсолютно ничего не помнишь, а сам щебечешь, как ведущий новостей на радио.
— Алёна…
— Я имею в виду… да вот хотя бы слово «талант». Ты его только что произнёс. Ты знаешь, что оно означает? Конечно, знаешь.
— Я…
— Ты вообще слишком много знаешь и умеешь делать для человека, потерявшего память.
Я промолчал.
— Ты целуешься, как чемпион мира по этому виду спорта… Ты так трахнул меня в… — она осеклась. Потом продолжила:
— Если умеешь это делать, то умеешь всегда. А ты — умеешь….
Молчание. На экране мельтешат разноцветные пятна. Алёна пристально смотрит мне в глаза.
— Ты права, — произнёс я, — я умею это делать. Умею. Но не помню.
Она ничего не ответила, не мигая, рассматривая моё лицо.
— Получается, уметь и помнить — разные вещи, — продолжил я, почему-то слегка смутившись, и закончил, — по крайней мере, в моём случае дело обстоит именно так.
— Тебе больно?
— Нет. Нет. Конечно, нет…
В этой непонятной, полутёмной и пыльной кладовке мы оказались несколько минут назад. Помню её горячую ладонь — она, вцепившись в мою руку, буквально тащила меня за собой, и я чувствовал ещё там, на диване перед телевизором: в ней начинает искрить мощный, уже знакомый генератор. Я видел, как припухли её губы. Я почувствовал, как между её ног стало тепло и влажно. Я почти зримо увидел электричество, хлынувшее по её венам.
И вот теперь она на тюках с постельным бельём пытается привести в порядок дыхание. Только что мы повторили то, что происходило недавно в лифте. Я, вернувшись из ослепительной вспышки (!!!), вдруг заметил слёзы на её щеках. Поэтому и спросил:
— Тебе больно?
Отдышавшись, она поглядывает на меня сквозь полуопущенные ресницы: я лежу рядом с ней, опершись на левую руку. Правая покоится возле её пупка. У Алёны упругий плоский живот, и мне нравится водить по нему кончиками пальцев, едва касаясь.
— Я хочу, чтобы в следующий раз всё было по-другому, — говорит она чуть слышно.
— Как?
— Звучит, конечно, как… — она хмыкнула, — я хочу выкупать тебя в ванной с ароматическими солями, зажечь благовония, свечи. Много-много свечей… И чтобы ты делал всё медленно…
— Благо… что?
— Благовония.
— Я что, делаю всё слишком быстро? — деревянным голосом спросил я.
— Нет-нет, что ты! — она поднялась и провела рукой по моему лицу. Мне показалось, что она слегка смутилась:
— Просто хотела, чтобы тебе было хорошо.
— Мне и так хорошо.
Она совсем смутилась. Рука, поглаживающая мою голову, на мгновение остановилась, потом пальчики снова мягко зашевелились в волосах, разрушая мою и без того помятую прическу.
— А где ты хочешь зажечь… ну, эти свечи… и это… ну, благовония? — спросил я минуту спустя. — В «Водных процедурах»?
Единственные ванны, которые я видел, стояли именно там, в кабинете «Водные процедуры» рядом с «Перевязочной», что в конце коридора. Бело-синий кафель, три чугунных ёмкости, отделённые непрозрачными пластиковыми ширмами. Чуть дальше — душевые кабинки. «С 8:30 до 9:30 — женщины. С 10:00 до 11:00 — мужчины» вспомнил я расписание на дверях кабинета.
— Нет! — она улыбнулась. — Конечно, нет.
— Где же… В «Хирургии»?
— Вообще не здесь. Не в больнице… Понимаешь?
Я молча смотрел на неё.
— Это вполне реально. Достать тебе одежду — и…
Она вдруг села и посмотрела прямо в глаза:
— Слушай…
— Прямо сейчас? — сердце на секунду замерло.
— Нет, но очень скоро.
* * *
— Что?!
Юра смотрел на меня, как на инопланетянина.
Я повторил.
— А что тут такого? — подал голос Ярик. — Дро — парень, можно сказать, интересный. Бабам такие нравятся.
Я промолчал. Юра тоже: поджав губы и нахмурившись, он стучал по клавиатуре, что-то выискивая в недрах компьютера.
— Что ты паришь мозги пацану? — Ярик достал сигарету и щёлкнул зажигалкой. — Ты дашь ему одежду или нет?
Юра строго посмотрел на меня, потом на Ярика.
— Я не парю мозги. Я веду наблюдения за объектом, потерявшим память. У меня тут дневник в «компе». Я спецом прогу написал под него… Сколько весит, что ест, когда срёт, наконец…
— Да? — Ярик изобразил на лице восторженный интерес. — А образцы кала есть?
— И вот, — не обращая на него внимания, продолжил Юра, — объект тут занимается сексом, происходит незапланированный выброс семени, а у меня ничего не отмечено.
— Как ты это назвал? Выброс семени?
Юра посмотрел совсем уж свирепо. Но на Ярика, похоже, это не действовало:
— И кто тебя уполномочил называть Дро объектом, ковыряться в его говне и вообще вести какие-то наблюдения, а? Шизоид?
— Я в говне не ковыряюсь, — пробурчал Юра.
— Неважно. Мужик хочет поиметь свою подругу в нормальных, человеческих условиях. Ему нужна одежда. Он пришёл к тебе. Ты ж ему вроде как мама, или нет?
Юра промолчал. Я на протяжении всего разговора не издал ни звука. Ярик продолжал:
— Так вот. Я ему тоже вроде как семья… И если мама у нас злая, то папа сегодня добрый. И сделает сынуле подарок. Понял? Может, у чела любовь и всё такое… А ты встаёшь на пути его счастия… — Ярик затянулся, выпустил клуб дыма и с удовольствием произнёс. — Фу ты отвратительный! Молофья, вафлист и защекан!
— А если заметят, что его нет? — подал наконец голос Юра.
— Во, мля! Кому он нужен?
Помолчали. Я уже стал жалеть, что начал этот разговор.
— Главное, чтобы он вернулся до утреннего обхода.
— Ну что он, совсем тупой? — Ярик посмотрел на меня. — И Алёна эта, наверное, понимает, что Дро нужно вернуть в срок. Если только не решила сделать его своим рабом, ха-ха. Прикует его к батарее и заставит сниматься в порно.
— Ладно! — сказал наконец Юра. — Когда ты там собираешься понежиться в ароматической ванне и предаться греху при свечах?
* * *
— Ш-ш-ш! — Алёна приложила палец к губам, глянула за угол и, открыв дверь с надписью «Прачечная», шепнула, — быстрее!
Полутёмное помещение, заставленное огромными стиральными машинами, мешками с порошком, пропахшее дикой смесью чистого и ещё не стираного белья. Алёна закрывает дверь и пару секунд смотрит в замочную скважину.
— Пошли! — она ведёт меня за руку, ловко огибая препятствия, возникающие на пути. Ещё одна дверь щёлкает замком, открываясь: в руке моей спутницы небольшая связка ключей с металлической биркой. Каким способом Алёна смогла их раздобыть, мне известно: стащила у сестры-хозяйки.
Коридорчик. Тусклая лампочка под потолком. Из-за двери ощутимо тянет холодком. Там — те безбрежные белые пространства, которые я видел из окна. Там — космос.
— Застегнись, — Алёна надевает шапку, затягивает пояс на куртке. Я неловко орудую молнией на пуховике: одежда моя — это сборный комплект, собранный Юрой и Яриком. Свитер, джинсы, ботинки, тёплое белье. Алёна помогает мне справиться с застёжками, странно поблескивая глазами. Пошли…
Двери, скрипя, отворились, впуская клуб пара. Я глубоко втягиваю обжигающий морозный воздух, отчего слегка кружится голова, — незнакомое пьянящее состояние. Мы быстро идём, скрипя снегом, к недалеко стоящему автомобилю с оранжевым маячком на крыше: такси. Алёна вызвала его по телефону. В верхней одежде она совсем не похожа на медсестру, которую я знаю, и выглядит чужой.
Всё происходящее действует на меня странно, я не могу сосредоточиться на чём-то одном: ходьбе, чёрном бездонном небе. На оставшемся за спиной здании, морозе, щипающем щёки.
Более-менее прихожу в себя на заднем сидении автомобиля. Стремительно приближаясь к городу, такси по дуге огибает больничный комплекс, и я вдруг понимаю, что впервые вижу свой мир со стороны.
Гигантский многоэтажный куб с редко горящими в этот поздний час окнами, разбросанными по всей поверхности. Впечатляет. И я несколько раз оборачиваюсь бросить взгляд через заднее стекло. Чем дальше мы удаляемся, тем величественнее выглядит этот огромный северный медпункт.
В Тихий въезжаем неожиданно: множество огней, каких-то мигающих надписей. Я ошеломлённо смотрю на редких прохожих, встречные автомобили. Наконец машина тормозит у бело-голубой девятиэтажки. Подъезд. Пока ждём лифт, стоим и смотрим друг другу в глаза. Напряжение потихоньку спадает. Словно оттаивая, медленно проявляется улыбка на её лице. И я улыбаюсь в ответ.
Тёплая вода с ароматическими солями оказалась чем-то абсолютно не похожим на всё, что я знал раньше. Странный, но приятный запах от дымящихся по всей квартире палочек — благовония. Колеблющийся свет от множества свечей, когда Алёна проходит мимо, огоньки начинают слегка подрагивать.
Впервые увидел женщину без одежды: её кожа словно светится изнутри белым, матовым светом. И каким-то (…) далёким (… щ-щ) проблеском (щ-щ) проносится мысль (ЩЕЛК): когда-то, в позапрошлой жизни, я нечто подобное видел. Наверное, именно поэтому я понимаю (?), что Алёна хороша: аккуратная грудь, стройные ноги, хрупкие плечи с выступающими косточками ключиц. Хороша… Она делает шаг и переступает борт ванны…
Музыка. Совсем не та, которую ловят своими радиоприёмниками пациенты в палатах больницы: нет рефлекторного щебетанья ди-джеев и рекламных объявлений. Барабаны плетут вязкий узор, незримые голоса и инструменты… абсолютно не представляю, как могут выглядеть предметы, издающие эти нереальные звуки.
Мы лежим в кровати, застеленной белейшими, пахнущими Алёной простынями. Я вдыхаю её запах. Он повсюду: спрятался в складки мятого одеяла, впитался в подушку. Он в её волосах, разбросанных по моей груди…
Всё было так, как хотела она. И закончилось, видимо, так, как ей хотелось. Потому что сейчас её голова покоится на моём животе. И я вижу: она улыбается.
— Что это за музыка? — спросил я, хотя говорить не очень хотелось.
— А как ты думаешь?
— Я не знаю. Она такая… — я остановился, подбирая слова.
— Какая?
— Потусторонняя…
Она подняла голову и, положив подбородок на мою грудь, посмотрела в глаза:
— Верно. Поэтому она мне нравится. Как будто спускаешься по ступенькам, которые ведут вниз, в тёмную глубину…
— А кто поёт?
— Так… Одна шведка. Это мёртвый язык: народа, который на нём разговаривал, уже пару тысяч лет не существует.
Она провела рукой по моему животу и вдруг, сделав неуловимое движение, оказалась сверху.
— Я сама, — сказала она, слегка приподняв бёдра и выбирая нужный угол. — Сама…
Спустя полчаса я ненадолго остался в комнате один. Алёна шумит водой, принимая душ, потом гремит посудой на кухне, распространяя по квартире аромат каких-то пряностей.
Я останавливаюсь у окна: в небе странно перемещающиеся разноцветные облака. Это северное сияние, на которое я уже достаточно насмотрелся во время бессонных дежурств. Поэтому атмосферное мигание надолго удержать моё внимание не может, и я отправляюсь в путешествие по двухкомнатному мирку Алёны. Свечи, расставленные хозяйкой по всей квартире, уже наполовину оплавились, но в их неровном свете всё можно рассмотреть. В спальне, кроме кровати, один вместительный комод и небольшой столик с зеркалом, заставленный флаконами и тюбиками. Я взял наугад один. «Косметика», — мелькнуло в голове. Ещё один флакон — лак для ногтей, а это помада… Я рассматривал все эти чудесные женские вещички с интересом: были они мне незнакомы, но словно в полусне я угадывал их предназначение. Один из футляров, продолговатый и похожий на свечку, узнаваемо лёг в ладонь. Я слегка потянул за колпачок, и половинки разошлись. — Хм… Понятное дело — это же градусник. Самый обычный градусник, который медсёстры таскают с собой в нагрудных карманах рядом с карандашом и при удобном случае меряют пациентам температуру.
Я покрутил эту медицинскую стеклянную палочку и, поймав отблеск света, увидел, что ртуть застыла на отметке 36 и 6.
PAUSE
Что-то было такое, странное. Да. Нечто, связанное с Алёной… С Алёной и с градусниками. Нечто важное… Но как я ни силился, смутные образы не сложились в картинку. Ладно. Наверное, не такое уж важное…
PLAY
Я повертел градусник, закрыл футляр и положил на место. Потом вышел в коридор и, сделав пару шагов, оказался в другой комнате: телевизор, пара кресел, беговая дорожка, гантели, стул… СТОП! Стоп… Я в очередной раз поймал себя на том, что смотрю на предметы и сразу же каким-то образом знаю их названия и предназначение. Точно так же, как когда-то «карамелька», из чёрной глубины вынырнули «косметика», «беговая дорожка», «гантели». Я нагнулся и поднял одну такую гантель. Взвешивая её в руке и глядя на беговой тренажёр (Вот. Опять — «тренажёр»), я понял, почему Алёна выглядела такой: ни единой складочки на животе, бёдрах и спине. Ровная, упругая кожа. Гибкое, словно пружина, тело… Я поставил литую штуковину на пол, взял в руку пульт от телевизора и уселся в кресло: «Power». Экран осветил помещение и сделал каждый предмет в комнате более отчётливым. Я по привычке убрал громкость и, переключая каналы, смотрел немые выпуски ночных новостей, людей, бегающих по ярко-зелёному полю и пытающихся ногами отнять мяч друг у друга… «Футбол» — пронеслось в голове. Следующий канал… Угу. Знакомое мне, но абсолютно непонятное движение цветных пятен по экрану. Терапия — не терапия… Не поймешь.
В этот момент в комнату вошла Алёна, завёрнутая в тёмный халат, с подносом, на котором дымились две кружки и лежала горка каких-то аппетитно пахнущих вкусностей.
— Вот ты где! — она поставила поднос на столик и уселась в соседнее кресло. — Угощайся.
— Спасибо, — Я отхлебнул из кружки («какао») и внимательно посмотрел на маленький золотистый узор, вышитый на халате с левой стороны груди. И (щелк!) чуть не подавился горячим напитком. Потому что золотистый узор вдруг перестал быть просто пересечением линий. И словно проявился в моей голове, как отпечаток фотографии рождается из крошечного негатива, освещенного короткой вспышкой увеличителя: Бах!!!
Я поставил чашку на столик.
— До, — сказал я, пронзительно глядя на иероглиф, вышитый золотом на тёмно-синем кимоно.
— Что? — Алёна недоуменно посмотрела на меня, потом проследила за моим взглядом.
— Иероглиф «До», — медленно сказал я, — «путь».
— Ты знаешь японский? — она тоже поставила своё какао на поднос.
— Нет… Нет… Не знаю… — я почувствовал, как нечто важное стремительной птицей шмыгнуло в мозгу и зацепило крыльями какой-то потаённый уголок моего заброшенного ангара. Секунду я ждал, как «нечто» проявит себя…
— Нет, — сказал я, снова взяв кружку. — Не знаю я японский. Так, просто… В библиотеке книжку брал. Там и прочёл.
Алёна с сомнением посмотрела на меня, потом, очевидно удовлетворённая ответом, тоже взяла свою кружку.
— Вкусно, — сказал я, проглотив кусочек чего-то сладковатого и пахучего. — Это как называется?
— Гренки, — Алёна смотрела в телевизор, — с мёдом и корицей.
— Вкусно, — повторил я и тоже посмотрел в экран. Потом на Алёну. И снова в экран.
Она внимала разноцветному мельтешению с интересом (?!).
— Слушай, — сказал я, допив какао, — что это за цветные пятна?
— Где? — оторвавшись от телевизора, она быстро глянула на стол, потом на обивку кресла и подняла глаза на меня. — Где?
— Ну вот же, — я мотнул головой в сторону телевизора.
— В смысле? — на лице её отпечаталось недоумение.
— В прямом. Что это такое? Терапия?
Алёна посмотрела в экран, потом, не поворачивая головы, скосила глаза на меня:
— Ты о мультфильмах?
— В смысле? — теперь, наверное, то же выражение появилось и на моей физиономии.
— Ты что? Вон заяц… Волк… Не различаешь?
— Нет, — абсолютно уверенно сказал я и, догадавшись, протянул. — А-а-а! Это головоломка, что ли?
— Нет, — помолчав, ответила Алёна, — а что именно ты видишь сейчас на экране?
Она взяла пульт и увеличила громкость на десяток делений больше. Я услышал диалог карикатурных голосов и музыку. Но движение цветных пятен на экране от этого осмысленней не стало. Об этом я и сообщил Алёне.
Она поднялась с кресла, быстро вышла из комнаты и почти сразу вернулась с объемистой книгой в руках. Положив её мне на колени, она устроилась на подлокотнике и, пошелестев страницами, ткнула пальцем:
— Что это?
— Синй цвет… — ответил я.
— Я не про цвет, — нетерпеливо перебила Алёна. — Что нарисовано здесь? Что ты видишь?
Несколько секунд я честно всматривался в лист бумаги так, что почувствовал ломоту в висках. Наконец неохотно ответил:
— Большое разноцветное пятно…
Алёна перевернула страницу:
— А здесь?
— То же самое.
— Может, я ошибаюсь, — после долгой паузы произнесла она наконец, — но, похоже, у тебя напрочь отсутствуют даже намёки на ассоциативное мышление.
Я промолчал. Ломота в висках превратилась в жар. Закололо в кончиках пальцев.
— Ты, точно, самый странный человек, которого я встречала в этой жизни, — продолжила она. — Ты не такой как другие… Не серая геометрическая фигура, а большое разноцветное пятно.
Она протянула руку, погладила меня по голове и вдруг встревожено заглянула в глаза:
— Эй, ты что молчишь? У тебя же температура поднялась!
Она прикоснулась губами к моему лбу, и губы её показались мне ледяными.
— Я сейчас…
Она выскочила из комнаты и отсутствовала, наверное, несколько мгновений, но мне показалось, что прошли часы.
Воздух сгущается. Мне жарко. И холодно одновременно. Тело становится ватным. Немеют мышцы. Что-то со зрением: всё плывёт перед глазами… Или мне кажется?
— Когда же ты успел простыть? — голос Алёны доносится издалека. А вот и сама она появляется из марева…
Она держит в руке маленький хрустальный скипетр и резко машет им сверху вниз… Стеклянная палочка молнией сверкает в полутьме, ловя блики от телевизора… Вверх-вниз…
— Держи, — она протягивает молнию мне. — Нужно измерить температуру.
Я понимаю — это градусник. И мне почему-то не нравится, что он в руках у Алёны. И когда холодная поверхность касается моей горячей подмышки… оглушительно громко щёлкает огромный рубильник, и я падаю куда-то вверх к вспышкам под потолком ангара…
ВКЛ!!!
И всё-таки её звали Юля. Такое имя ей дала мама при рождении.
(Сука стервозная, хватающаяся за ремень по малейшему поводу: опять ты, ТВАРЬ!!!! газовый кран не закрыла! Сколько раз повторять! Не только конфорки! Перестань смотреть телевизор! Где шлялась, ТВАРЬ?!!)
Да. Мать дала ей такое имя, вписала его же в свидетельство о рождении и на этом забыла. Тварь — вот так чаще всего она называла свою дочь. И «Тварь» стало вторым её именем… Домашним… Как родители называют своих детей — светиками, дочами, солнышками? Так и она привыкла к нему, сжилась. Тварь?!!
Она ненавидела всех. Всегда. Сразу.
Одноклассников. Учителей. Соседей…
(Подножкой на лестнице, снежком в спину, кручением пальца у виска прорастали семена).
Она холила и лелеяла эти всходы, поливая их своими ночными слезами в холодной постели. Одинокая везде. Чужая всегда.
Детская неприязнь вырастала в…
…Хотя однажды она любила. Однажды. Любила ли? И после этого — НЕНАВИСТЬ.
Окрепла. Зацепилась корнями в душе.
(Осталась ли ты? почерневшая душонка?)
ПРЫГ-СКОК!!!
Папуля? После того, как развёлся с матерью, дважды побывала у него. Заметила грязный дырявый носок рядом с креслом. Спустя два месяца носок был там же. На том же самом месте.
Сдвинула ногой — под ним оказалось яркое пятно линолеума: весь остальной пол был покрыт слоем пыли…
ГРАДУСНИКИ. У неё было полно градусников. В аптечке. В шкафу среди белья. На полках рядом с книгами. Десятки картонных футляров, стянутых чёрными резинками. Она и не прятала их особо (градусники разве хранить противозаконно?). Поэтому, когда делали обыск, искать-то, в принципе и не пришлось…
Она работала приходящей домработницей в нескольких богатых семьях: бледная, странная немного девушка убирала роскошные квартиры и особняки, гуляла с детьми и собаками, готовила еду…
В еде-то (овощное рагу, кажется) и нашли. Когда хозяин дома (владелец фирмы, поставляющей медикаменты) обнаружил в кастрюле матовые шарики и потребовал объяснений, она в ярости, не раздумывая, воткнула ему в глаз вилку. А пока он корчился на полу, выгребла все наличные из бумажника.
Потом ртуть извлекали изо всех углов: из-под шифоньеров и детских кроваток. Находили в аквариумах с рыбками и в кладовках…
Она посеяла радиоактивные семена своей ненависти, сделав квартиры непригодными для проживания… Она мчалась в поездах, то на север, то на восток. Выскакивала на шумных вокзалах и смешивалась с толпой… Однажды в вагоне она встретила девушку. Звали её Алёна. И была она как две капли воды похожа на неё. Во всяком случае, глядя на фото в её паспорте, можно было смело решить, что это бледная и странная девушка Юля.
И они сошли на какой-то маленькой станции с дурацким названием. А на следующий поезд села только одна из них…
Каин! Где твой брат Авель? Вернее, сестра…
ВЫКЛ!
* * *
Шамиль выписался. Никто теперь не будет доставать всех разговорами о ягодицах Светы и спорить с инженером Мишей, который однажды назло взял и трахнул объект желаний Шамиля на столе возле рентгенаппарата. Я даже знаю, что сделал он это без особого удовольствия. Знаю, потому что приёмник в моей голове начинает работать всё отчётливее, выхватывая в шорохе атмосферных помех сообщения…
Иногда гулкая пустота в моей голове наполняется обрывками сумбурных образов. Будто сотня человек одновременно пытается что-то сказать и — ЩЁЛК!
Тишина. А потом тошнота и головные боли. Я никак не могу привыкнуть к этому. Бессистемно… Непредсказуемо… Я не хочу этого… Но ничего не могу сделать. Потому что не могу прекратить происходящее. Потому что не знаю: где розетка, из которой нужно выдернуть шнур? И тогда радио перестанет работать? А если да? Я хочу этого?
Той ночью две недели назад точно хотел. Когда Алёна (Юля?) рванув меня за ворот куртки, зло прошипела в ухо:
— Никогда так больше не делай!
— Что? — сдавленно спросил я.
На мгновение в её глазах появился странный блеск (будто электричка с сумасшедшей скоростью приближается к самоубийце, стоящему посреди туннеля). Шумно втянув воздух, она изо всех сил ударила меня по щеке. И быстро скрылась за дверью с надписью «Прачечная», оставив меня одного в коридоре. Потом я услышал, как хлопнула ещё одна дверь. Это Алёна (Юля?) вышла на улицу, спеша к такси, которое привезло нас обратно в больницу. Не знаю, что почувствовала она там, в квартире, после того, как попыталась измерить мою температуру. Но я сам, очнувшись в полубессознательном состоянии, уткнувшись носом в ковер, долго не мог прийти в себя. Смутно, ватно одевался, шевелясь как одноклеточное. На несгибающихся конечностях брёл к машине с оранжевым маячком, стоящей возле подъезда. Голова болталась на резиновой шее, и слюна стекала из незакрывающегося рта — язык распух, горло горит и глаза слезятся: обратную дорогу в больничный комплекс помню смутно.
Зато хорошо отложилось: рывок и,
— Никогда ТАК больше не делай!
Злобное шипение в ухо. И огонь приближающейся электрички в чёрных тоннелях глаз.
Клянусь, у меня навсегда осталось ощущение: в эту долгую секунду между моим «Что?» и оглушительной пощечиной решалось — жить мне или умереть на месте…
Я испугался?
Или ТЫ? Юля-Алёна?..
* * *
Вчера была Пасха. Праздник такой. В столовой по этому поводу давали разноцветные яйца и сладкие пироги, которые назывались куличами. Говорили «Христос — Воскрес» и целовались. А вечером напились принесённой в грелках водки и дрались в туалете. Сломали руку водителю трубоукладчика Василенко, которому через день-два пора было выписываться…
Врали потом дежурному врачу, накладывающему гипс, о скользком кафеле в клозете…
MURMUR: Я вот иногда думаю, прикиньте, если ОН действительно существует…
LULU: Конечно, существует. Надеюсь, ты не придерживаешься того мнения, будто Бога придумали попы… Ну типа того, что бы быть посредниками между паствой и своим небесным шефом? И на этом рубить капусту?:)
MURMUR: Да нет. Я типа не против. И даже причисляю себя к христианам. С этим-то у меня всё в порядке: я читаю Библию, молюсь на ночь и вообще духовно очищаюсь… Я вот о чём: что если Бог РЕАЛЬНО существует?!
SWAN: Я чё-то не въеду: ты веришь в Бога или нет?
URAN: Христос Воскрес!
LULU: Воистину Воскрес!
MURMUR: Я вот о чём: каждый верующий, мне кажется, только думает, что верит. Соблюдает всякие ритуалы, типа пост, молитвы, etc. и ждёт билета в рай. Тем более попы постоянно об этом рассказывают. Но на самом деле, каждый понимает — рай, это как фото Мэрилин Монро в «PLAYBOY»: сама давно умерла, поэтому ни трахнуть её, ни пощупать сиськи. Так… Смотри на фото и дрочи… Красивая, но мечта.
URAN: Ништяк! Murmur, ты где такой дури нашёл? Я тоже хочу дунуть и задвигать такие телеги!:)))
MURMUR: И вот на фоне всего этого вдруг окажется, что БОГ РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ! Прикиньте?! И рай существует!!! А значит, можно будет помацать Мэрилин за сиськи и, чем чёрт не шутит, трахнуть её!
LULU: Дурь у чела по ходу серьёзная, прямиком из Амстердама. Чует моё сердце:)))
МУХА: Чёрт не шутит.
SWAN: O, fuck!
LULU: Hi, МУХА!:)))
МУХА: Первые интересные мысли за всё время существования этого флуда. MURMUR, не хочешь ли пообщаться в особой конференции?
LULU: WAW!
MURMUR: Почему нет?:)
МУХА: Давай своё мыло. Сейчас сброшу пароли.
MURMUR: O. K.!
SWAN: Валите, валите…
Вчера Ярик, сосредоточённо скручивая второй «джойнт» за вечер, произнёс:
— Растаманы всё-таки устроились лучше всех.
— Почему? — лениво спросил Юра.
— Ну там… Православные раз в год хлеб едят и вино пьют… Ну типа Христос сказал: «Вино — кровь моя, а хлеб — тело моё». Ну и типа вкушайте и приобщайтесь…
— Это он так сказал? — Юра смотрит в монитор и изредка нажимает клавиши на клавиатуре.
— Ну да, — Ярик затянулся, — так или вроде того…
— И чё? — Юра взял дымящуюся самокрутку.
— Ну а растаманы вселили своего Джа в каннабис и постоянно его теперь вкушают. Приобщаются…
— И чё?
— Ну как «чё»? У них же теперь постоянная Пасха, баклан.
— Хм, точно…
Потом они молча курили потрескивающий «джойнт» и слушали музыку.
— … В Луганске, недалеко от вокзала, стоит памятник Ворошилову, — рассказывал через какое-то время Ярик. — Ну и сидит этот хрен на коне… с саблей вроде бы в руках… Ну для реализма, да? И для реализма же, наверное, скульптор не пропустил такую анатомическую подробность, как вооот такой вот болт, и вооот такие яйца у коня между ног.
— Ха, — сказал Юра, — вот, наверное, на что все посмотреть приходят.
— Наверное… Так вот. Недалеко от памятника — музыкальное училище. И вот, с тех пор как его построили, у студентов появилась одна замечательная традиция…
— На выпускной фотографироваться в обнимку с яйцами коня Ворошилова? — спросил Юра.
— Хуже. На Пасху возле памятника одно время даже милиционера ставили. Но не помогало…
— Что же они такое делали?
— На Пасху студенты пробирались к памятнику и, подождав, когда мент отойдёт отлить, поднимались на постамент…
— И чё?
— Чё-чё? Красили яйца коню Ворошилова гуашью, ясно? А на боку писали «Христос Воскрес», понял?
— Ха! — сказал Юра.
— Чё «ха»? Богохульство…
— А ты такой прям верующий, что ли?
— Да нет, вроде. Просто… Прикинь, если ОН действительно есть? — и Ярик ткнул пальцем в потолок.
— Кто? — спросил я.
— Великий Гудвин, — после продолжительной паузы ответил Юра и выкинул оставшийся от «джойнта» окурок в форточку.
* * *
Белого всё меньше. Снежное покрывало уже не такое ослепительное и бесконечное. Оно неумолимо тает в руках Весны, как когда-то кусочки снега таяли в моих ладонях. Маленькие, бурые островки снега исчезают практически на глазах. Ночью уже не темнеет окончательно. Небо становится тёмно-синим, а через час занимается рассвет. Это начало белых ночей. Как сказал Юра, скоро солнце вообще перестанет садиться и будет висеть в небе круглосуточно. Странно, даже не верится…
— Вот это, мля, будут настоящие белые ночи, а не та серая перда, которая в Питере!
Юра сплёвывает и затягивается сигаретой. Мы стоим на крыльце пожарного входа и провожаем Ярика, который собрался домой.
— Зато в Питере уже давно деревья зелёные, а здесь снег только недавно таять начал, — помолчав, отвечает Ярик.
— Ну и что. Тут деревьев один хрен нет. Зеленеть нечему. Мох, ягель и мох с ягелем…
Помолчали.
— Ну ты, давай, вдыхай запахи весны, озаряйся.
Это уже мне. Я стою и сосредоточенно дышу.
— На хрена? — спрашивает Ярик.
— Ну там… Вдохнёт запах родных полей, испытает неясные томления, а они разбудят спящий после контузии мозг.
Юра пожимает плечами:
— Ну или типа того…
— Хм… — Ярик щелчком отправляет окурок в полёт. — Ну-ну…
Такси должно было приехать несколько минут назад. Но его нет. Опаздывает. Поэтому мы продолжали разговор.
— Тепло. Скоро нужно будет собрать Дро нового шмотья… А то при плюсовой температуре станет в ушанке и пуховике к своей телочке шариться, внимание привлекать…
Я вру Юре и Ярику. Они думают, что иногда по ночам я отправлюсь к Алёне, и поэтому не забирают одежду, которую когда-то дали мне для первого визита.
— Ну да… У меня ветровка «адиковская» где-то валяется. Я всё равно носить её больше не буду.
Зачем я им вру? Не знаю… Алёна-Юля исчезла. С того самого вечера она старательно избегает встречи со мной. Или я с ней? Во всяком случае, мы больше не сталкиваемся в лифте, и я не вижу чёрно-белого мельканья в коридорах.
— Вот он… — видим приближающийся автомобиль. Это опоздавшее такси.
— Ну пока, — Ярик жмёт нам руки и сбегает по ступенькам, поправляя рюкзак за спиной.
— Пока.
Мы заходим в здание и закрываем за собой дверь. У Юры с недавних пор появился ключ от пожарного выхода, и теперь Ярик может задерживаться сколько хочет; раньше охрана комплекса всегда просила удалиться в определённое время, согласно больничным правилам. Теперь он приходит и уходит, когда хочет.
А я знаю ещё один выход из здания и внимательно смотрю, как Юра два раза поворачивает ключ в замке и кладёт ключ в карман белого халата. Правый верхний.
Смена белья. Какая уже по счёту? Не помню… Меняются простыни и наволочки… Меняются пациенты… Сколько их уже лежало на соседних койках? С переломами и ножевыми ранениями. Храпящих, пукающих, стонущих… Один я бессменно занимаю свою кровать у окна. Хранитель и старожил 417—й палаты. Я уже часть мебели. Давно выписались Миша и бомж Коля, и те, кто был за ними. И следующие… Такое ощущение, что обо мне забыли.
— Везёт тебе, — сказал как-то Юра, — как в санатории. Хорошо, что здесь какого-нибудь светила-психиатра нет. Один уволился, а нового спеца пока не нашли. Иначе достали бы тебя собеседованиями и терапиями. А то глядишь, написал бы кто из этих PSYCHO-биллов диссертацию по твоей амнезии.
В моей тумбочке — одноразовые станки для бритья, зубная щётка и паста. Подарок Юры. Я умею бриться. И с удовольствием делаю это три раза в неделю. У меня есть одеколон, карандаш со сломанным грифелем и маленький радиоприёмник. Но в нём сели батарейки. Это мои личные вещи. Как и у всех остальных людей.
— … Воняет на площадке, да так, будто кто-то сдох! Достали! То ли газ где-то пропускает, то ли действительно кошку дохлую на чердаке бросили.
Это новый пациент Вован. Работник больницы. Санитар из гастро сломал руку. Причём как-то неудачно. Лежит в стационаре, а по выходным отправляется домой. Сегодня, в понедельник, утром рассказывает сонному оператору котельной Халидову, какие его соседи свиньи и как ужасно воняет в подъезде. У Халидова сломана челюсть. Он говорить не может. Поэтому хмуро и обречённо внимает Вовану.
Я почти не понимаю смысл звучащих слов. Голос словно фон: назойливый, но уже привычный. Мне неинтересен он сам, его соседи, подъезд и тем более вонь в его подъезде. Мне интересен четвертый человек в нашей палате, лежащий сейчас на спине и тупо смотрящий в потолок. Он появился пару часов назад, сопровождаемый медсестрой Галиной Алексеевной. Поздоровался, представился, лёг на кровать и с того момента не шевельнулся.
И примерно с этой же минуты я напряженно делаю вид, что с упоением читаю позапрошлогодний номер газеты «Северный Урал».
Мой новый сосед — Валентин Николаев. Водитель-дальнобойщик радиостанция, пославшая мне первый по счёту и первый по значению сигнал.
Я не чувствую сейчас ни вибрации, ни ломоты в висках — ничего, что напоминало бы о том ночном (… ЩЁЛК?!)
Я просто посматриваю на молчащего Николаева поверх слегка пожелтевших страниц. Он молчит. Я молчу. Молчит Халидов. Один Вован трещит без умолку.
Чтобы там ни думал сейчас Валентин Николаев, я это услышать и почувствовать не могу: отключен приёмник? Либо передатчик? Либо всё, что было, мне привиделось?
— Я дворнику говорю: «Какого хрена я плачу за коммунальные услуги, если здесь воняет дерьмом и дохлыми кошками?» А этот удод, прикинь, отвечает…
В моей голове уйма информации. Правда, вся она однобокая. С клеймом «Многопрофильный Больничный Комплекс НефтеГазХим» и красным крестом на борту. Красный крест на белом — главный символ моего мира. Герб. Знак посвящённых.
Каста избранных метит им свою территорию. Я вижу его везде: рядом с инвентарным номером на телевизоре, на стендах в коридорах, на малюсеньких штампиках с внутренней стороны пододеяльника и моей пижамы. Он украшает белые шапочки медсестёр, чемоданы врачей и проносится иногда вдоль окон на днище вертолёта.
И всё равно эта уйма информации — всего лишь грязная лужица на дне гигантского аквариума. Пара ящиков с глупыми журналами в огромном, тёмном и пустом ангаре моей памяти. Когда-то это помещение было заполнено чем-то важным и бесценным. Моим. Чем?
Об этом я думаю глубокой ночью, когда все мои соседи засыпают и начинают похрапывать на разные лады. Но как всегда, ни к чему не прихожу. И потоптавшись в гулкой пустоте ангара, я засыпаю. Чернота.
— Слышь, Ярик. У тебя денег много?
Юра целый день чем-то недоволен. И вопрос, адресованный Ярику, — из тех немногих фраз, которые он соизволил произнести сегодняшним вечером.
— С собой? Или вообще?
Ярик отвёл взгляд от монитора и перестал стучать по клавиатуре стоящего на коленях лэптопа.
— Ну… Вообще.
— Много, — не раздумывая ответил Ярик и вернулся к прерванному занятию.
— А чё ты тогда тут задницу себе морозишь? На севере?
— Хочу и морожу.
— Были бы у меня бабки… Я бы даже не думая сел в самоль — и на «землю»… Пофиг куда, лишь бы свалить отсюда подальше.
— Так бери и вали, — Ярик достал сигарету и закурил, — чё, мало зарабатываешь?
— Не… Ну, конечно, больше, чем на «земле». Но на хорошую квартиру в Москве или Питере не хватит. Копить года три надо.
Помолчали.
— Слышь, Ярик, дай денег, а? — сказал вдруг Юра.
— Не-а. Не дам.
— Почему?
— Деньги портят.
— А сам-то?!.. Тогда займи.
— Нет. Не займу. Ты мне их не отдашь.
— Отдам!
— Когда? Через три года? Меня уже здесь не будет давно. В смысле в стране. Закончу дела и свалю. Дела у меня здесь… В Нефтехимпроме, понял? Тоже капусты должно набежать немало. Вот тогда и двину отсюда. А ты потерпи без швейцарских часов и джинсов каждый месяц. Плюс отпускные… И спокойно купи себе домик где-нибудь в средней полосе. Если скромненько — без текилы и ананасов — можно лет пять жить. Книжки умные читать, по лесам бродить, провинциальным студенточкам по ушам ездить и на звёзды смотреть…
— Не, — подумав, сказал Юра, — я так не хочу. Я лучше тогда здесь…
— Тогда сиди и не пи@ди, — неожиданно зло сказал Ярик, ткнув в Юру почти истлевшей сигаретой, и отвернулся к монитору.
* * *
— Нет, я так больше не могу! Достали окончательно! Мало того, что воняет на площадке, так вчера какой-то осёл на чердаке вентиль сорвал. Соседа сверху залило напрочь и меня вместе с ним. И, мля, надо же было мне ремонт недавно делать! Куда теперь пожаловаться, а?..
Опять Вован достаёт всех своими разговорами о соседях-свиньях. Я выдерживаю не больше пяти минут и выхожу из палаты. Кто-то смотрит телевизор. Некоторые пациенты прогуливаются по коридору. Я, не спеша, направляюсь в сторону туалета. Там на окне всегда лежит стопка старых газет. Иногда я, выбрав пару номеров, запираюсь в кабинке и, сидя на унитазе, читаю все статьи подряд… Читальный зал. Вернее зад!
— Эй, постой! — слышу я. — Эй! Лёха!
Оборачиваюсь и замечаю, что мне машет рукой из своей подсобки сестра-хозяйка Марья Ивановна, — Иди сюда!
Я подхожу ближе к её кабинету и вижу сидящую за столом медсестру Галину Алексеевну. Она смотрит на меня, потом на Марьванну:
— Чё это он, Лёха? Его ж неизвестно как звать.
— А он на брата моего Лёху похож. Ну вылитый! Тока тот постарше да потолще будет…
— Чего вам, Марьванна? — я переминаюсь с ноги на ногу.
— Набери в чайник водички, а? Всё равно в туалет идешь.
— Давайте… — я беру электрический чайник и бреду в нужном направлении. Открываю кран. Смотрю, как вода стремительно заполняет покрытые накипью внутренности чайника. Потом, слегка перекосившись, тащу блестящий резервуар обратно в подсобку.
— Ставь сюда, — кивает Марьванна. Она и её гостья заняты: перетасовав колоду карт, сестра-хозяйка гадает Галине Алексеевне. Карта за картой ложатся на белую скатерть. Я втыкаю шнур чайника в розетку и останавливаюсь за спиной Марьванны. Меня не гонят, и я наблюдаю за процессом.
— … И есть у него бубновый интерес… — карты складываются в непонятные мне, но явно знакомые обеим женщинам узоры. Фразы, произносимые при этом, кажутся мне полной абракадаброй, для них же каждое слово наполнено смыслом.
Марьванне часто приходится доставать свою слегка засаленную колоду: сюда, в кабинет сестры-хозяйки, почти ежедневно наведываются желающие послушать про «казённый дом», «долгую дорогу» или тот же «бубновый интерес».
Молоденькие санитарки, умудрённые опытом медсёстры, лаборантки… Бывают и пациентки из нашего или соседних отделений.
— Ничего не скрою, всё расскажу, милая… — приговаривает обычно Марьванна, выкладывая одну карту за другой.
— Галина Алексеевна… — процесс гадания наконец закончен и я пытаюсь привлечь к себе внимание.
— Чего тебе?
— Дайте мне тех таблеток ещё, от которых лучше спать. А то я всю ночь не сплю, а потом днём сплю и «Семейные ценности» пропускаю… — я намеренно называю любимый сериал Галины Алексеевны, который она ежедневно смотрит, как заворожённая.
— Это какие таблетки? — спрашивает Марья Ивановна.
— На «ди» начинается… — говорю я.
— Да «димедрол» это, — отмахивается Галина Алексеевна, — ладно, пошли, дам тебе таблеток, от которых лучше спать.
Через пару минут в своём кабинете она даёт мне бумажную упаковку:
— Здесь восемь штук. Как принимать, помнишь?
— Конечно, — я кладу димедрол в карман пижамы, — одну или две перед сном.
— Но не больше! Понял? А то будет передозировка.
— Это как?
— Заснёшь надолго, вот как. И можешь вообще не проснуться. Понял?
— Понял. Спасибо.
— Пожалуйста. Ладно, иди, мне работать надо.
* * *
— Юра.
— Чего?
— А гадание — это только женщинам разрешено, да?
— Почему это?
— Ну Марьванна, например, которая гадает — женщина. И гадать к ней приходят только женщины… А мужчины — нет. Не приходят…
— Хм… Мужчинам не запрещено вообще-то…
— А чего не гадают?
— О черт, Кэп! Ну потому, например, что считается бабским делом… Как типа маникюр и сериалы. А так, вообще… Мне, например, неинтересно. Тебе-то зачем?
— Так, просто…
— Вон, в «сети», куча подобных фишек. Всякие автоматические, виртуальные гадалки. Вводишь свои данные, и компьютер тебе всякую лабуду рассказывает, повеселее даже карточных будет…
Юра нажал несколько клавиш, на экране появились какие-то узоры:
— Во… Типа шаманские предсказания. Шаманы раньше поганок наедятся и давай по ушам чесать про будущее. Работа такая у чувачков. А это — типа цифровой аналог.
Я придвинулся поближе:
— А давай про меня погадаем?
Юра хмыкнул:
— Ну давай…
Он пробежался пальцами по клавиатуре. На мониторе сменились картинки, появились новые символы.
— Хм… Тут вообще нужно вводить дату рождения, знак гороскопа и остальное вроде того. А я не знаю, когда ты родился. Ладно… Когда тебя нашли?
— В ноябре, — сказал я.
— Точно, тринадцатого… Ладно. Пусть ты будто бы родился 13—го ноября…
Юра ввёл данные в компьютер.
— Так. Цвет глаз, — он наклонился и заглянул мне в лицо. — Чёрные… Волосы… Шатен. Возраст? А фиг с ним, пусть будет 28 лет.
Он, набрав необходимую комбинацию, сообщил мне:
— Ты, короче, типа Скорпион, рождённый в год Тигра, понял?
И запустил программу.
— Так… Про прошлое спрашивать?
Я кивнул.
— Так… Про прошлое… Настоящее твоё итак яснее ясного, и про будущее, да?
Я кивнул.
— Ага. Сейчас он всё посчитает, сопоставит и выдаст инфу… Минуту подожди.
Я сел и стал послушно ждать.
— Результат будет, мягко говоря, приблизительным… — сказал Юра.
Я промолчал.
— Хотя гадание, само по себе очень приблизительный процесс… Странное развлечение. Вроде как разгадывать кроссворд, зная что на последней странице все ответы напечатаны. Это я про то, что для дурака, которому гадалка по ушам ездит — все эти «бубновые интересы» и «казённые дома» — ребусы и кроссворды. Для опытной гадалки клиент — лох, которому она сейчас впарит полную чушь за бабосы. Тот случай, когда копеечная колода и две-три фразы, не имеющие никакого смысла, рождают деньги прямо из воздуха. Волшебство, мля! Политикам только учиться и учиться… Им для достижения цели нужно говорить полные смысла фразы. А тут наоборот: в той чепухе, которую ты намелешь, лохи сами найдут нужный им смысл.
Компьютер коротко пискнул.
— Кажется, готово…
Юра наклонился поближе к экрану, нажал несколько клавиш.
— Во! Сейчас будешь сам в шаманской лабуде разбираться. Смысл искать…
Зажужжал и мигнул зелёным глазком небольшой аппарат в углу комнаты — из него показался край белого листа, усеянный чёрными значками. Когда аппарат затих, Юра вытащил бумагу, пробежал глазами, хмыкнул и отдал мне:
— Я же говорил…
Шаманская цифровая Марьванна, перетасовав колоду и раскинув картишки, выдала мне: «Будет
Две смерти.
Одна уже была, о ней узнаешь после.
Текст/Весть/Письмо/недописано. Прочтёшь. Допишешь сам.
Путь неблизкий.
Искать будешь своё. Найдешь не только.
Хлопот много будет.
Сейчас__ /не было запроса/
Прошлое__ /нет данных/
Я ещё раз внимательно прочёл весь текст.
— Видишь, — Юра откинулся на спинку стула, — сказать, что о прошлом нет данных — легче всего. Типа: «Ой! Твоё прошлое заволокло туманом грехов! Но поступай, как сказали тебе (Юра хмыкнул) священные кроссворды, и всё будет зашибенно!» Понял?
Я молча смотрел в листок.
— А о будущем можно рассказывать сколько влезет. Кто вот знает, когда ты там…
Юра наклонился и заглянул в текст:
— Ну вот, хотя бы…
Он взял лист и монотонно пропел:
— «Искать будешь своё, найдёшь не только!»
Вернул бумагу мне:
— Ну! Понял?
— Кажется… — сказал я и сложил лист вчетверо. Потом сунул его в карман.
— Чай пить будем?
— Ага…
* * *
В этом году больничному комплексу исполнилось 25 лет. Четверть века назад здесь в авральном порядке вбивали сваи в промерзшую насквозь землю, заливали фундамент спеццементом, возводили стены при такой низкой температуре, что градации ртутных термометров просто не хватало. Говорят, лихо было. Весело… С матом и песнями, отмороженными конечностями и трупами. По-боевому. По-молодёжному…
На днях праздновали юбилей больницы.
Похожие друг на друга, одинаково усатые строители многоэтажного комплекса вспоминали свою молодость в обнимку с медсёстрами, пели «Здесь на краю заснеженной земли» и вели себя, несмотря на огромное количество водки в поллитровых запотевших ёмкостях, довольно прилично: драк, так обильно пополняющих наше травматологическое отделение, не было. В общем, двадцатипятилетие отпраздновали «как положено»…
Как сообщил мне Вадим Егорович, 25 лет — весьма серьёзный срок. Не в глобальном (это слово я понял), скорее, в личностном плане.
Все 25 лет истории существования комплекса, вместе с хирургией, терапией и травматологией, существует отдел, возглавляемый Вадимом Егоровичем… У этой структуры и названия своего нет. Так… Один из кабинетов в многодверном этаже, принадлежащем отделению «Интенсивной терапии»…
— Это чем-то похоже на «Стол находок», — говорит иногда Вадим Егорович, — так… Весьма относительно.
«Стол находок»… Когда человек попадает в «реанимацию», он перестаёт быть «человеком». Он — некий организм, имеющий форму человеческого тела. Две руки, две ноги, одна голова. По описанию совпадает…
Пациенты отделения «интенсивной терапии» — это в основном водители грузовиков, не разъехавшихся на межпромысловых трассах (из кабин их извлекают в виде фарша, с еле улавливаемым пульсом), бурильщики с оторванными конечностями, угоревшие в огнеупорных скафандрах спасатели, которые пытались совладать с вырывающейся из земли струёй пламени на аварийной скважине, и другие клиенты в том же роде. В кабинете Вадима Егоровича с добрую сотню небольших железных ящиков. Они занимают три стены помещения. Когда человек в бессознательном состоянии принимает в вены иглы капельниц и электроразряды, стимулирующие сердцебиение, его личные вещи — часы, блокноты, перстни, бумажники и тому подобное — отправляется в один из ящиков «Стола находок». Вадим Егорович запирает вещи на ключ и делает запись в журнале. Всё содержимое ящика вернут хозяину после того, как он придёт в себя. Или не вернут… Если владелец умрёт на столе, не придя в сознание. Иногда, пока где-нибудь на промысле добегут до телефона, пока туда долетит вертолёт «интенсивки», да ещё обратно. Успеют — не успеют…
— Лотерея, короче, — говорит Вадим Егорович.
Личные вещи умерших хранят до тех пор, пока их не заберут родственники, приехавшие за телом. Иногда у погибших нет никого. Их хоронит за свой счёт нефтегазохимический концерн, в котором они работали. В договоре о найме, говорят, на этот счёт особая графа есть.
Человека кладут в ящик и — в яму. Могилы обычно долбят летом — зимой это делать практически бесполезно. Да и летом, как говорят, немногим легче — после полуметрового слоя песка обычно начинают тупиться буры — вечная мерзлота. Подождут мужики, оттает чуть — и вперёд. Потом ещё подождут — опять оттает. Так тут и роют… Заранее. Штук тридцать ям. С запасом.
Человек лежит себе в самой холодной могиле на этой планете, а его вещи ещё долгие семь лет хранятся в кабинете Вадима Егоровича. Почему семь? Неизвестно. Правила такие. По ним же, если за это время никто имущество покойного забрать не соизволил, содержимое ящика выкидывается на свалку. Всё.
Моего ящика здесь нет, потому что положить в него было нечего. Такого, что можно назвать личными вещами. Зато они были у Семёна Викторовича Седашова, умершего в отделении интенсивной терапии ровно семь лет назад. Помощник бурильщика Семён Седашов умер, как следует из больничных записей, не приходя в сознание после дорожно-транспортного происшествия. Он пролежал в реанимации неделю, прежде чем его сердце остановилось. Семь дней — без сознания. Семь лет — в могиле.
Сегодня Вадим Егорович будет освобождать «июньские» ящики. Каждое первое число он очищает ячейки умерших: в этом месяце, семь лет назад. Сегодня очередь «июньских».
Вадим Егорович листает свой журнал. Потом берёт только один ключ и открывает небольшую серую дверцу. Ящик помбура Седашова. Небольшой коричневый бумажный пакет. Вадим Егорович высыпает его содержимое на стол:
— На, забирай…
Юра познакомил меня с Егорычем после того, как я раз пятьдесят, наверное, вслух выразил желание стать обладателем часов. Тикающих, скользящих стрелками по циферблату. Любых.
Я буду носить их. Сверять время. Слушать тиканье. Я буду любить их. Это будут МОИ часы.
— Да понял я, понял, — однажды раздражённо прервал меня Юра и набрал один из внутренних телефонов. — Слышь, Егорыч. У тебя там от жмуриков часов каких-нибудь не осталось? Ага… Когда? Понял…
— На. Забирай…
Часы лежат в небольшой компании: огрызок карандаша, блокнот, чехол с очками. Вадим Егорович двумя пальцами двигает хронометр ко мне:
— Ну, бери!
Тяжелые. Матово блестящие в свете ламп. Холодные… Ремешка нет, да и сами крепления для него отсутствуют…
— «Полёт»… — читаю я на тёмно-синем циферблате.
— Хорошие часы, — говорит Егорыч.
— А как их заводить?
— А вот как… — он щёлкает маленьким ребристым колесиком. — Понял?
— Аа… Спасибо…
— Не за что… Юрке привет, — и он смахивает остальные предметы из ящика в мусорное ведро. Всё.
В коридоре «Отделения интенсивной терапии» я минут десять с удовольствием разглядываю своё приобретение. Егорыч сказал, что со временем стрелки и цифры будут светиться в темноте. Сейчас не светятся. Должны впитать (?) солнечный свет. Здорово: впитатьсолнечный свет…
Я медленно бреду, уставившись в циферблат, не смотря себе под ноги, и вдруг что-то больно впивается мне в живот. Ручка тележки. Голые ступни торчат из-под простыни. Я зажимаю часы в кулаке.
— Чё стоишь, тормоз! Отойди!
Меня отпихивает здоровенный санитар и, повернув каталку поудобнее, прикручивает проволокой к большому пальцу ноги картонную бирку. Откидывает простыню.
Несмотря на восковую желтизну лица и ввалившиеся щёки, я узнаю тело на тележке.
Гапонов. Пролежавший в коме почти два месяца. Ещё тёплый, наверное. С зажившими уже «множественными повреждениями головы». Заблудившийся в тёмных коридорах в поисках выхода. Сели батарейки в фонарике? То-то же…
Веки Гапонова не закрыты до конца и поэтому, когда санитар разворачивает каталку и задаёт ей движение в сторону морга, я вижу свет ламп, отразившийся в потускневших глазах. И пока тележка удаляется по коридору, её пассажир жутковато искрит на меня под скрип колёс отблесками потолочных светильников.
Я разжал ладонь: часы оставили причудливый отпечаток поверх моих линий жизни, ума и сердца.
* * *
Пока я, не спеша, поднимаюсь по лестнице на свой этаж, меня вдруг посещает зыбкое ощущение, будто весь мир замедляется. Не сейчас. А в последнее время. Или я ускорился?.. Вспоминая себя, каким был два месяца назад, я понимаю, что думал и двигался медленнее. Вокруг с бешеной скоростью проносились медсёстры и с пулемётной скоростью сыпались слова из десятков ртов. Теперь я почти такой, как все. Выровнял скорость. Синхронизировал движение.
А вдруг можно?! Хотя нет… Нельзя…
* * *
В палате шумно. К Вовану зашёл знакомый из соседнего отделения. Они размахивают руками, тычут в журналы и громко разговаривают. Иногда в их разговор вклинивается дальнобойщик Николаев. Остальные молчат. Я — потому что ничего не понимаю в предмете разговора, Халидов — потому что не может говорить физически. А ему явно хочется. Поэтому молчание у нас получается разным: моё — равнодушное, его — тоскливое.
— Да чё там, блин, твой «Опель»? Вон, зимой по дороге на «заполярку» не разъехался твой «Опель» с «Тойотой». И чё? Все, кто в «Опеле», — всмятку. Сразу. А в «Тойоте», так, поцарапались. «Эйрбаги» сработали. У японцев с этим всё в поряде!
— Ха! Небось «Опель» был убитый. Какого-нибудь 84—го года выпуска! Давай щас возьмём новый «мэрс» и тюкнем его с новым «японцем», а? Чё там останется от твоей «Тойоты». И «круизёр» у них — одно название, что «джип», мосты целиком на просёлках вылетают.
— Да ладно херню пороть! Твой «мерседес» надёжный? Их щаз тыщами отзывают у диллеров! Ломаются постоянно! Это не тот «мерс» что был раньше, не надо сравнивать!
— Вот возьми, разгонись на своей «Тойоте» и вылети «Гелендвагену» навстречу… Посмотрю я, что от тебя останется… Видел я, как из «Ниссанов» и «Мицубиси» то, что от пассажиров осталось, извлекали. Как вспомню, и сейчас тошнить начинает.
— Тоже видали кое-что, от чего протошниться на всю жизнь можно с таким запасом… — пробурчал Вован. — Раньше я в морге работал, сам знаешь… Насмотрелся. Тут вон, на днях, вспомнить пришлось…
Я прижал часы к уху: «Тик-так. Тик-так…»
— Воняло у меня на площадке. Мы с соседом, ну который напротив, все ящики перерыли и щиток со счётчиками перетряхнули сверху донизу. Думали, мыша где дохлая или ещё чё-нибудь такое же. Ноль… И так странно ещё: то воняет, то нет. Хрен пойми, короче, Колян — ну сосед — говорит ещё: «Может газ где пропускает? От него тоже похожий бывает вонизм…» Позвали из «аварийной» Горгаза. Те пришли, понюхали. «Чё, дураки? — говорят. — Газ так не пахнет. Пропан, в смысле. А вот труп — тот да. Тот именно так и пахнет».
…удары моего сердца не совпадают с тиканьем. Почему?
— Я говорю: «Какой труп, дядя? Где ты труп тут, мля, видишь?» А этот хмырь носом повёл, подошёл к двухкомнатной, ну что рядом с моей, и по двери — «тук-тук» гаечным ключом: «Отсюда тянет, зёма… Чё стоишь? Ментов вызывай».
Правая, а теперь и левая ладони зачесались.
— Ну, короче, вскрыли хату, а там уже… У слесарей из РЭУ с собой респираторы, у ментов тоже… Учёные уже. Потому что, как дверь открылась, так я сразу же и блеванул. Фффу!!!
Вован помотал головой и сглотнул.
Тик — мне в ноздри вдруг проник ужасающий смрад разложения. ТАК — я почувствовал, как завтрак стремительно ринулся по пищеводу вверх. ТИК — и за мгновение до того, как воняющая желудочным соком жижа исторглась из моей глотки — ЩЁЛК. Щёлк.
Ужас. Мрак. Смрад. Холод.
ВКЛ!
Я не узнал бы эту квартиру. Потому что сейчас в ней было светло. В окна проникал дневной свет. Пыль столбами кружилась в широких солнечных лучах.
Так это было.
Тлен. Шокирующий запах падали. Подавляющий. Заставляющий всех присутствующих в помещении неосознанно скалиться под респираторами и тряпками, прижатыми к лицу.
И на полу…
Мне понадобилось мгновение. Я понял почти сразу. Тёмно-синий бархатный халат с маленьким золотистым узором — иероглифом «До» на груди…
А под ним…
ШОК. УЖАС. МРАК. СМРАД. ТЛЕН. ТЛЕН. ТЛЕН. ТЛЕН.
ВЫКЛ!
* * *
— О! Оклемался, я ж говорил, чё ему сделается?!
Очнулся я на кушетке в процедурном кабинете, с пузырьком нашатыря под носом. Поморгал, приходя в себя, увидел склонившихся надо мной медсестру и Вована.
— У него была серьёзная травма головы! — строго сказала Татьяна Алексеевна и гневно посмотрела на Вована. — А не руку он по пьяни второй раз сломал, как некоторые!
Вован перестал ухмыляться и исчез.
— Как ты себя чувствуешь? — Галина Алексеевна положила прохладную руку на мой лоб.
— Не знаю… Вроде нормально…
— Голова болит? Тошнит?
— Чуть-чуть…
— Ну полежи здесь, отдохни, — она убрала руку со лба и успокаивающе потрепала моё плечо и неслышно выскользнула из кабинета, притворив за собой дверь.
Юля.
Черноволосая бледная красавица. С матовой кожей и выступающими косточками ключиц.
Что ты чувствовала тогда, в лифте? Когда тоненько всхлипнула и выгнулась дугой за секунду до (!!!!)… Что тебя так взбесило в твоей квартире? Что ощущала, когда твои потаённые секреты — вспышка! — и стали моими? И почему, одарив меня жгучей пощечиной в полутёмной прачечной, попросила НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАТЬ? Что? Что НЕ ДЕЛАТЬ? Зачем приехала домой, разделась, зажгла оплавившиеся остатки свечей и сосредоточенно съела горсть разноцветных таблеток: давясь и запивая стаканом воды из под крана…
Так это было.
Я знаю.
А знать и помнить — не одно и то же.
Юля — Алёна… Остатки мутной воды на дне аквариума, где среди разлагающихся водорослей и чешуи матово блестят шарики ртути… непроросшие семена…
* * *
— Не ковыряйся в носу!
— Он тебя не слышит.
— Я кому говорю?! Вынь палец из носа!
— Не слышит, говорю же.
— Дро! Глухая тетеря!
— А? — я задумался и не сразу понял, что Юра обращался ко мне.
— Ну что ты на меня смотришь? — сказал Юра. — Ты палец из носа вынимать думаешь?
Я опомнился и выдернул мизинец из правой ноздри:
— Извини…
Дурацкая какая-то привычка. У меня в носу маленькая язвочка и я всё время трогаю пальцем: «не зажила?»
— Да мне-то, в принципе, пофиг… — Юра возвращается к прерванному занятию: поискам в сети цен на медцинское оборудование.
— Мне пофиг, а телочкам обычно не пофиг, — он откинулся на спинку стула. В углу загудел аппарат («принтер», как я уже знаю), распечатывающий найденные сведенья на бумагу.
— Вот будешь ты как-нибудь с девушкой прогуливаться. Тоже станешь в носу ковыряться? Ей будет неприятно, запомни…
— У меня нет девушки, — внимательно рассматривая мизинец, произнёс я.
— Ну когда-нибудь у тебя будет девушка. Она пойдёт с тобой гулять. Увидит, как ты ковыряешься в носу… И ей будет неприятно.
— Не будет у меня девушки, — сказал я.
— Не-не-не! — Юра покачал головой, — Чего это? Будет ясен пень! Не зарекайся… «нагрянет, когда её совсем не ждешь».
— Кто?
— Что — «кто»?
— Нагрянет кто?
— Любовь.
— А это кто?
— Это не «кто», а «что». Ну…
Юра подумал.
— Ну чувство такое… Когда одна, всего одна, женщина начинает нравиться тебе больше других.
— По-моему, — неуверенно начал я, — Любовь — это имя такое. Ну медсестра из «Хирургии» — Любовь Анатольевна такая есть.
— Ну да, — пожал плечами Юра. — Есть такое имя. А ещё чувство такое есть. Понял?
Теперь настала моя очередь пожать плечами:
— Не очень…
— Ярик, объясни ему!
Ярик, до этого молча терзавший клавиатуру своего «лэптопа», поднял голову:
— Чего? А!.. Ну, да: есть чувство такое, «Любовь», и есть имя женское… А есть ещё чувство «Надежда», и имя такое есть. «Надя» сокращённо. Бабулю мою так звали — царство ей небесное… Вот. А есть ещё чувство «Вера» такое. Когда веришь во что-то или кому-то. Богу там, например…
— И имя такое, «Вера», есть? — спросил я.
— Ну да! Видишь! — повернулся Ярик к Юре. — Объяснять надо по-человечески. Вот! Дро всё понял сразу. Да, Дро?
— Да. — сказал я. — Понял.
— Маладесь-карашо! — Ярик отвернулся к монитору.
— Так это, — подумав, произнёс я, — значит, есть такие чувства, как «Ярик» и «Юра», раз имена такие существуют, да?
Ярик издал звук похожий на стон.
— Чувак! Отсыпь нам той дури, которую сам куришь, а? — после паузы произнёс Юра.
* * *
RADIK: Представь себе ситуацию: нужно объяснить представителю другого разума, что такое религия, ностальгия, любовь, etc. Понятия, человеку с детства известные.
URAN: Очень просто представляю. У меня тут есть один знакомый. Вообще ни во что не въезжает. По-моему, марсианину легче всё это объяснить, чем ему:)
ALLA: А что с ним?
URAN: Так… После аварии в больнице лежит. Головой болеет:)
RADIK: Блин! Хватит о шизоидах. Я им ситуацию смоделировать предлагаю, а они о шизоидах: (
LULU: Что ты смоделировать хочешь?
SWAN: Моделист-конструктор, что ли?
ALLA: Ты мне, вот, попробуй объяснить, что это такое — «любовь». Мне хотя бы, а потом уже инопланетянину. Сможешь?:)
RADIK: Ну чё набросились, волки?: (
LULU: А ты не умничай:)
ALLA: Это у нас обычно SWAN делает:)
SWAN: Что делаю?
LULU: Умничаешь:)))
MORDA: Чё вы все заводитесь? Неудачи на личном фронте у всех, что ли? Любимый (-мая) бросил (-а)? Любовь прошла, завяли оливки, фаршированные тунцом:)
JOOD: Ха-ха-ха.
LULU: Ты юморист, да, Морда? Актёр-комик, да? Развеселил всех?
SWAN: Уважил стариков… Порадовал.
ALLA: Я вот вообще тут патсталом: (((
RADIK: Ой-ой-ой! Какие мы тут все циники и скептики!
MORDA: Ыыы)))
URAN: В действительности, как объяснить зелёным человечкам, что такое «любовь»?
JOOD: Да столетиями об этом бакланят. Мегатонны бумаги исписали.
SWAN: Ну если просто подойти к этому, то «любовь» — это когда один человек нравится больше других. Простая формула. Без всех остальных соплей про бессонные ночи и замирание сердца:)
JOOD: Вообще, говорят, любовь — это химическая реакция. Шоколада нажрёшься и получишь подобный же эффект:)
ALLA: Уж я жру этот шоколад, жру, а ни в кого пока что-то не влюбляюсь:).
LULU: Всякие поэты и писатели пытались про любовь начёркать. У них, наверное, лучше всех и получалось.
MORDA: Только не у российских поэтов-песенников. Прикинь, если инопланетянину всю эту ботву из радио включишь? Много он о любви узнает?
SWAN: Да, наши произведения искусства только для нас и предназначены, баклан. Ты много из марсианских песен бы понял?:)
ALLA: Мне, например, с детства нравится «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты; как мимолётное виденье, как гений чистой красоты». Красиво же?:)
MORDA: И опыт — сын ошибок трудных, и кто-то там — парадокса DRUG:)
LULU: Дурак. Это из другого произведения.
SWAN: Вот честное пионерское, не вру, но слышал где-то, что Пушкин написал эти стихи после того, как отодрал одну графиню прямо на полу в своём кабинете.
RADIK: Ну и что? Очень даже может быть.
LULU: Любовь и страсть, а значит, и sex — понятия практически неразделимые.
MORDA: А я, кстати, что-то совсем не могу припомнить произведение о любви, которое произвело бы на меня впечатление. Стихи или еще чего. Слова всё это. Шелуха.
JOOD: Ну да. Мне тоже как-то не очень.
ALLA: А Булгаков? Любовь Мастера и Маргариты!
SWAN: После того, как усатый педофил Николаев, отодравший малолетку Наташу Королёву, спел «Мастер и Маргарита жили в Москве былой», я долго думал, что книга Булгакова — попса махровая с соплями.
JOOD: Королёва давно уже не малолетка. Там такие сиськи, что любо-дорого:)
SWAN: Но отодрал-то Николаев её, когда ей лет 14 было:)
ALLA: Кстати. От того, кто именно подаст тебе информацию, зависит, как ты её воспримешь. Вот скажет Николаев, которого ты не перевариваешь: «Булгаков IS THE BEST», — а ты, наоборот, нос отвернёшь.
RADIK: Фиг его знает. Может так и есть. Если задуматься, серьёзные, уважаемые люди о любви говорят и пишут редко. Ну там, у клёвых музыкантов 1—песня о любви в альбоме. А у всяких «Ноги врозь» — целуй меня везде, 18 мне уже, в каждой строчке:)
JOOD: Я тебя любила— ты меня не любил. Я тебя разлюбила— ты меня полюбил:)
LULU: Вот-вот…: (
MURMUR: Hi, все.:)
ALLA: Всё-таки у классиков много хороших стихов.
SWAN: Hi, MURMUR!
JOOD: Привет, MURMUR:)
MORDA: Ну какие, например? Приведи пример. Пару строчек. Чтобы и меня зацепило.
MURMUR: О чём это вы?
LULU: Да пытаемся выяснить, можно ли словами передать, что это такое — «любовь».
ALLA: Ну Пушкин, например. Чем плох?
RADIK: Всем хорош. Но в школе нас им так пичкали, что сейчас я не могу его воспринимать как нормального чела.
SWAN: Я, если честно, вообще не могу воспринимать поэзию. Читать стихи. Или слушать их. Вот выходит какой-нибудь хрен перед залом и час с лишним читает рифмы. А все рубятся. Как от Мэнсона. Не понимаю.
MORDA: А чё? Маяковский в своё время был типа рок-звезда. Фанаток трахал. И вообще — пулю в башку, как Кобейн. Круто.
RADIK: Маяковский типа рок-н-рольщик, да?:)
SWAN: Да и вообще. Единственная рифма к слову «любовь» — «кровь». Чё тут особо напишешь?:)
LULU: А морковь?:)
MURMUR: Любовь. Пуля со смещенным центром из чистого золота. Вошедшая в сердце и, походя, вскользь, разрушившая всю жизнь.
ALLA: WAW! Неплохо. Это кто придумал?
MURMUR: Любовь — это когда между ног дымит Освенцим. Когда ты хочешь женщину так, что не можешь с собой совладать.
LULU: Ух ты. Клёво:)
MORDA: Ну да. Цепляет.
MURMUR: Любовь, это когда каждый поцелуй не просто механическое действие, а проникающее ранение прямо в сердце. Когда штыком высших сил тебе дырявят грудь. И оставляют рану длиною в жизнь.
SWAN: Ну не сам же сочинил, а? Колись, где прочёл, а?
MURMUR: Любовь — это когда РЕАКТИВНЫЕ чувства разрывают тебя на миллиард маленьких осколков. И каждый, даже самый маленький осколочек, продолжает любить. Вот «это» и есть «ЛЮБОВЬ».
RADIK: Ха! Круто! Это ты сам, что ли?
MURMUR: Ну… Нет, если честно.
ALLA: Правда, неплохо. А кто написал-то?
MURMUR: Кто изначально написал — не знаю. Мужик какой-то. Это я в особой конференции общался с Мухой.
SWAN: С этой припадочной?: (
LULU: Сам ты припадочный, SWAN: (Она клевая!
MURMUR: Я согласен — она странная. Но не дура. Очень оригинально барышня на мир смотрит. И знакомые у неё такие же, кстати.
SWAN: Не знаю, как знакомые, а ей с психиатром пообщаться не помешало бы: [
MURMUR: Подход к жизни у неё такой просто. Мысль о том, что можно поклоняться человеку, её «вымораживает». Как она «Битлов» опускает — наркоманы и всё такое — вы бы слышали:)
MORDA: Да мы-то как раз и слышали. Вернее, читали:) любимого тролль-бота нашего SWANа)))
MURMUR: У неё был один то ли друг, то ли родственник, я не понял толком. Чем он там таким уж занимался я не понял тоже, но, по словам Мухи, он был человеком, серьёзно повлиявшим на её жизнь. И жизнь её семьи. Вот этот-то хрен и сформировал её мировоззрение. Он, кстати, про «Реактивные чувства» и написал.
SWAN: Поэт, мля.
LULU: Кстати, неплохо написано: «И когда реактивные чувства разрывают тебя на миллиард маленьких осколков, каждый, даже самый маленький осколочек, продолжает любить». Неплохо.
JOOD: Да, и мне понравилось:)
MURMUR: Там ещё разные стихи были. Мне один понравился. Но он не до конца. Потому что Муха его и сама до конца не знает.
ALLA: Про любовь?
MURMUR: Скорее, наоборот:)
MORDA: А ну-ка?
MURMUR: «У моей ненависти
Как минимум четыре цвета:
Первый — цвет моего пистолета,
Хранящего холод правой руки.
Чёрный — как цвет моих глаз — смотри». И, короче, дальше она не знает.
JOOD: Неплохо, неплохо. Мне нравится.
URAN: А почему не знает?
MURMUR: Да тот чел его не закончил, этот стих.
SWAN: А где это сама Муха? Чего это она нас тут дерьмом не поливает?
MURMUR: Да она, я так понял, на моря поехала. Отдыхать. В Крым, в Ялту. С племянником, что ли. Так что недели три чатиться не будет:|
SWAN: Ну и слава Богу.
ALLA: Хотя без неё скучновато:)
URAN: Особенно SWANу:)
MORDA: Ха-ха. Это точно)))
LULU: А кто куда летом в отпуск? И когда?
JOOD: Да я, наверное, вообще летом не пойду в отпуск. А вот осенью…
Это темнее самой тёмной темноты, в ней-то хоть есть отблеск далёкого — фонаря, созвездия, молнии, близкой зари — источника света…
Чернее самого чёрного куска черноты, увиденного январской ночью, в том закутке коридора, где нет окон. И рядом — дверь в туалет. И кажется, что там, в этом углу, где происходит макрохимическая реакция теней…
ПРОВАЛ.
ВХОД.
ЗДЕСЬ.
Нет визуального восприятия, нет температурного режима.
Я стою посреди гулкого пространства, гадая о его размерах. Тьма заполняет его осязаемыми чёрными чернилами…
Огромный пустой ангар.
Моя память.
Чёрная стерильная пустота.
Она огромна, но не безбрежна.
Где-то у неё есть границы.
Где-то есть стены.
Где-то высоко, под потолком, висит дюжина светильников дневного света. Многие лампы перегорели, конечно, но некоторые ещё вполне ничего.
Густо покрытые пылью белесовато-молочные длинные цилиндры.
И есть рубильник.
Не где-то. Здесь. У меня под рукой. Прямо сейчас. Я могу сдвинуть рычаг вверх, и тогда медные контакты, позеленевшие в ожидании, блеснут короткой искрой. И, может быть…
Я слишком долго ждал. Я не думаю. Я просто двигаю рычаг вверх. Навстречу.
Секунда — и вспышка выжгла мои глаза, испепелила сетчатку, расплавила хрусталики и роговицу… Даже сомкнутые изо всех сил веки не помогли…
Вспышка.
Меньше мгновения, коему КТО установил рамки? Ты?!
Это сон? «Это» и есть сон?!
Странная зудящая эфирность происходящего?!
Это привиделось?
Эта нереальность?
Я понимаю: я впервые не провалился в чёрное небытие для того, чтобы через мгновение открыть глаза утром.
Мне впервые снится сон.
И снится мне
Ангар.
Огромное пустое помещение.
Стерильное. Герметично закупоренное.
Без следов и запахов.
И под потолком.
Медленно. Очень медленно. Мигает почти перегоревший светильник. И в его неверном свете…
Дверь.
В самом дальнем конце ангара.
Дверь без ручки, щеколды и замочной скважины.
Маленький, свёрнутый в тугой квадратик, лист бумаги. Втиснутый в щель между дверью и косяком.
Жёлтый. Полуистлевший кусок пергамента.
Возьми его.
Разверни, опасаясь, что — тссс! тихо! — и он рассыплется пеплом у тебя в руках.
Разверни и прочти:
Умоей ненависти
Как минимум четыре цвета:
Первый — цвет моего пистолета,
Хранящего холод правой руки,
Чёрный, как цвет моих глаз, — смотри;
Сердце — чёрного льда в груди кусок.
Пуля. Затвор. Ствол. Висок.
ВСЁ…
Оборвался волосок…
Чёрный.
Прочти и пойми — Ты тот, кто однажды, ломая грифель, написал эти строки кривыми буквами на заднем сиденье мчащегося фрррррррррррррррррррррр…
Я заляпал простыню тёмным: кровь пошла носом. Я проснулся и вскочил, хватая ртом воздух, судорожно проскрипев пружинами кровати. Я невидяще уставился в стену и схватился за левую сторону груди. Да. Я проснулся.
Я не испугался.
Я знаю.
Я тот.
Кто написал это стихотворение.
И где-то в далёком Крыме, в Ялте, есть тот, кто знает про меня. Муха.
Я человек, серьёзно повлиявший на её жизнь?
Тогда она должна мне помочь найти мою.
Я должен увидеть её. И я это сделаю.
Прямо сейчас. Меня никто не остановит.
Дежурная по этажу как всегда ушла спать в «Процедурную». Поэтому становлюсь обладателем нужного ключа без проблем. Ящик стола они не запирают. Хм… Всё за меня.
В неверной тьме начавшихся уже белых ночей неслышно передвигаюсь по коридору: обычно светлее, но сегодня весь день небо затянуто тучами. И даже капало сверху. Глянув мимоходом в окно, отмечаю, что белых проплешин снега уже не осталось вовсе. Северное лето вступает в свои права.
Но сейчас не до этого. Вперёд. Мои пальцы не хотят оставлять отпечатков. А ещё я умею делать одну замечательную вещь — планировать.
В кабинете Галины Алексеевны, в одном из отделений шкафа — то, что привело меня сюда. Несколько бумажных конвертиков со штампиком «Многопрофильный Больничный Комплекс НефтеГазХим». Это продукция фармацевтического отделения, расположенного на втором этаже здания.
Не запатентованное пока детище местных фармакологов. Без вкуса. Без запаха. Огромной концентрации. Просто белый порошок. Я знаю о его существовании давно. Его дают вместе с обезболивающим покалеченным, буквально собранным по частям пациентам, не могущим заснуть.
Я беру два пакетика.
Нетерпение подгоняет меня тычком в спину. Но я действую размеренно, шаг за шагом. Ключ — в стол дежурной. Теперь дальше.
— О! Дро, тебе что, не спится?
— Да… Что-то никак.
Юра и Ярик за компьютерами.
— Я посижу?
— Да сиди… — Они увлечены какой-то игрой. Им не до меня. Отлично.
Кружки на столе пустые. Трогаю чайник рукой — почти холодный. Замечательно…
— Чай кто-нибудь будет?
Да оторвитесь же от монитора!
— Ага…
Молодцы.
— Сейчас за водой схожу.
— Ага…
В туалете высыпаю оба пакетика в чайник. Смотрю, как белые крупинки нехотя растворяются в холодной воде. Окунаю палец в воду. Пробую на вкус каплю. Ничего. Вода водой. Надеюсь, после кипячения запаха и вкуса не появится.
Дальше.
Пока чайник закипает, медленно закипаю и я. Зудящий дискомфорт. Почти как при эрекции. Нет, по-другому. Ощущение, что кровь быстрее бежит по венам. И от этого всё происходящее кажется замедленным.
Я бросаю в три кружки пакетики с чаем. Я лью в них горячую воду, зная, что одна из них останется нетронутой. Я смотрю, как Юра и Ярик пьт моё зелье.
Пять минут спустя они спят.
Для этого с лихвой хватило бы во много раз меньшей дозы. Но мне нужно, чтобы наверняка.
Теперь так.
Правый верхний карман белого халата. Ключ от запасного выхода. Я осторожно достаю его. Слегка передвинув Юру, который спит, уронив голову прямо на клавиатуру. Ярик чуть съехал со стула. Поза его неестественна — голова запрокинута назад. Руки плетями висят вдоль тела. «Лэптоп» упал на пол. Не разбился. Он меня не интересует, этот компьютер, не такой уж он… Мне нужен рюкзак Ярика. Здесь его бумажник — я достаю несколько купюр. Деньги. Они мне наверняка пригодятся. Остальное кладу обратно. Натыкаюсь на кожаный футляр. Открываю. Маленький блестящий ключик. С биркой, на которой адрес. От дома с большим телевизором. От дома с большим телевизором в Ялте. Я думаю меньше секунды. Футляр возвращается в рюкзак.
Без ключа.
Пижаму прочь. Вот они, штаны, куртка, ботинки, подаренные мне когда-то для походов.
Второй набор. Летний.
Деньги — во внутренний карман куртки. Часы (сколько там… ага… час ночи) — в правый. Натягиваю кепку. Юра называл её «блейзер», а Ярик «бейсболка». Спорили…
Беру в руку телефонную трубку. Гудок. Звонок через «девятку», если в город. Пока набираю номер, перед глазами — многократно виденная карта округа. Отпечаталось…
«… Через пару недель потеплеет и растает всё на хрен. Потом только паромом или на самолёте…»
Место, где паромы отправляются «на землю» — речной порт К-420. Второй пункт — Тарко-Сале. Оттуда тянется жёлтая ниточка — дорога, вплетающаяся в паутину таких же нитей.
Жёлтая дорога. К изумрудному городу?
Я смотрю на свои ноги. Волшебные башмачки? Ну что же, Элли, Лев и Страшила, встретимся? Великий Гудвин нам поможет?
Гудок. Ещё один.
— Ноль, шесть, шесть, восемь, «Приполяртранс», служба такси. Доброй ночи.
— Доброй ночи. Мне нужна машина к больничному комплексу, через десять минут. Справа от центральных дверей. Возле крыльца запасного выхода.
— Заказ принят.
* * *
Бульк!..
Взвешиваю на ладони очередную, пятую по счёту, ржавую гайку и отправляю её, как и предыдущие, в воду:
Бульк!..
Туман. Сыро. Меня слегка знобит, и через неравные промежутки времени зябкие щупальца, зарождающиеся где-то под лопатками, заставляют зубы выстукивать судорожную дробь. Я знаю, это не от холода. Это признак моего нетерпения. Тлеющего в груди. Нетерпения, свившего гнездо в моём сердце и влекущего меня к югу.
А швыряние гаек в воду — способ успокоиться. Плохой способ. Потому что с каждой секундой мне всё труднее сдерживать себя.
Я сижу на деревянном ящике, хотя мне хочется бежать, прыгать и ломать эти самые ящики, которых здесь, на пристани речного порта К-420, немало. Эти квадратные деревянные контейнеры из-под консервов, очевидно, служат стульями для местных рабочих. Однако сейчас никого, кроме меня, не видно. Я подтягиваю носком ботинка ещё одну гайку и поднимаю её с сырого настила. За поворотом через несколько мгновений скроется паром, уставленный легковыми и грузовыми автомобилями. Он отчалил минут 10 назад.
Бульк!..
Буксир, толкающий перед собой платформу, носит на своём сером борту гордое имя «Отважный». Звук его двигателя, после того как он свернул за песчаный остров, становится глуше.
Меня не взяли. Хмурые, явно с похмелья, мужики, в тельняшках и оранжевых жилетах, загоняли по специальному откидному трапу последнюю машину, красную «девятку», и вполголоса переругивались.
— До Тарко-Сале подкинете? — спросил я бодро, приближаясь к парому.
— Не видишь, местов нету, — буркнул один, мазнув по мне взглядом, — куда мы, твою тарантайку всунем?
— Так я без машины… — дружелюбно произнёс я.
Мужики переглянулись. Один, постарше, с густой щетиной, сплюнул в воду окурок и оглядел меня с ног до головы:
— Чё те надо?
— В Тарко-Сале мне бы…
— Деньги есть?
Я утвердительно киваю.
— Сколько дашь?
Лезу в карман и, нащупав деньги, извлекаю их на свет.
— Одно место — сто «зелёных», — сообщает небритый, скептически осмотрев мой капитал.
— Так я ж без машины… — уже без особого энтузиазма произношу я: денег у меня, очевидно, недостаточно.
— Ну, тады — ой! — говорит второй мужик и гремит лебёдкой, поднимая трап. Потом затарахтел двигатель «Отважного», и паром отчалил. А я остался.
Бульк!..
Справа от меня, кутаясь в клочья тумана, смутно вырисовываются две гигантские непонятные конструкции — портовые краны. Слева какие-то сараи и несколько старых лодок, обративших свои днища небу. Да-а-а…
Я думал, что паром — не самое серьёзное препятствие на моём пути: стоит добраться сюда, и дальше всё пойдёт как по маслу. Я здесь. Где же масло? Ждать следующий паром? Когда он будет? Где гарантия, что меня возьмут на него пассажиром?
Время идёт. Надо что-то делать. Что?
Начинает капать сверху. Я поднимаю капюшон и уныло шмыгаю носом. От капель по воде расходятся круги.
Встаю, отпихнув ящик, оглядываюсь — ищу место, где можно укрыться от дождя — и замечаю свет фар. Через несколько секунд вижу и слышу сам автомобиль. Негромко урча, чёрный и громоздкий, он останавливается у пристани. Опускается стекло. В полумраке салона я вижу сидящего за рулём: на его лице слабые блики огоньков приборной панели. Он теряется где-то в глубинах своего автомобиля и выныривает уже с зажжённой сигаретой в зубах:
— Привет.
— Здравствуйте… — я остановился метрах в трёх от него. Он выпускает дым через ноздри:
— Чё паром? Когда будет?
— Ушёл уже, — сообщаю я.
— Ушёл? — он выглядывает из окна и осматривает берег. — Когда?
— Минут 15 назад…
— Тьфу! — он явно раздосадован.
— Да я сам опоздал, — говорю я.
— Да? — водитель чёрного автомобиля ещё раз осматривает берег. — А где твоя тачка?
— Я так… Пешком.
— А-а-а… — он затягивается сигаретой. — Ну-ну…
Окурок летит на песок, и машина трогается с места. Через несколько секунд она скрывается между построек, сооруженных из остатков корабельной обшивки. Вдалеке пищит движок одинокой моторки.
Я, побродив немного по берегу и ничего не обнаружив, возвращаюсь к своему ящику. Где тут мои гайки?
Бульк!
…Или мне кажется, или туман-таки становится гуще. Он всё плотнее обволакивает еле видимые уже массивные силуэты кранов, истончает их в штриховые наброски. Растворяет в себе… Молочно-ватная пелена постепенно приближается к пристани, скрывая от меня противоположный берег.
Я, порывшись в кармане, достаю часы и всматриваюсь в циферблат. Хронометраж моего великого исхода. Три часа в пути, из них час — швыряние гаек в воду. «Та-а-ак. Сегодня суббота, значит, обхода не будет… Туда-сюда — завтрак… Тоже не должны хватиться… Значит, хотя бы это время у меня есть», — уже в сотый, наверное, раз прокручиваю я в уме возможные варианты и невидяще пялюсь в путешествие секундной стрелки по циферблату. Когда (!!!) неожиданный, громкий, низкий звук возвращает меня в реальность. У пристани, еле видимый в тумане, медленно дрейфует буксир — родной брат «Отважного». Такой же серый и тупоносый.
На нём — места хватило как раз, тютелька в тютельку — чёрный автомобиль. Рядом с ним — хозяин. Перекрикивая шум мотора, он обращается ко мне:
— Ну чё, зёма! В Тарко-Сале тебе ещё надо?
Я подскакиваю с ящика:
— Да!
Водитель кричит что-то в сторону рубки, и катер мягко стукается о причал. Секунда — и я уже рядом с автомобилем.
Плавсредство, дав задний ход, разворачивается по течению, ещё пару мгновений, и буксир, взревев двигателем, отправляется в путь. Фух! Наконец-то…
Парень из автомобиля, молодой, коротко стриженый, крепко сбитый, прикуривает очередную сигарету из красно-белой пачки.
— Куришь?
— Не знаю… — отвечаю я.
— Хм… — он криво усмехается. — Зовут-то тебя как?
Я молчу две секунды:
— Лёха.
— Тёзка, значит… — он протягивает руку, и я крепко её жму.
— Местный, что-ли?
— Не-е… — протягиваю я.
— А в Тарко-Сале зачем?
— Да я, в принцие, дальше собираюсь…
— Куда? Может, по пути?
— В Ялту…
— Ха! — Лёха развеселился. — Ты чё, автостопом что ли?
Я на всякий случай киваю.
— Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из Приполярья автостопом в Ялту добирался. Ну-ну… — мой попутчик посмеивается. Потом включает в машине радио и некоторое время, зажав сигарету в зубах и щурясь от дыма, пытается настроиться на волну. Шум и треск — ничего не получается. Потом начинает глухо и монотонно бубнить мужской голос.
— Мля! Ни одна станция, кроме «Маяка», здесь не ловится, — с досадой говорит Лёха и захлопывает дверцу. Некоторое время мы молча смотрим в туман.
— А как это ты буксир раздобыл? — спрашиваю я некоторое время спустя. — Ты матрос, что ли?
Он опять хмыкает.
— Не-а… Все решается с помощью волшебной бумаги…
— Пропуск, что ли? — произношу я название единственного документа, о котором я слышал.
— Причем лучший… cash money называется…
С лёгким удивлением я соображаю, что понял смысл произнесённых слов — «наличные деньги».
Помолчали.
— Далеко плыть? До Тарко-Сале? — спрашиваю я.
— В километрах не знаю… Не считал. А по времени — часов 8–9. Буксир баржу не волокёт… По течению опять же… Обычно паром, гружёный полностью, около 14—ти часов прёт. А мы «люксом» летим. Бизнес-класс, ха-ха… Ладно, садись в машину — холодно что-то.
Мы ныряем в салон. Здесь практически не слышно урчания буксира — так, лёгкая вибрация. Внутри автомобиль гораздо просторнее, чем казался снаружи. Пока Лёха в очередной раз пытается настроить радио, я осматриваюсь: мягкая обивка сидений, приборная доска, мигающая множеством огоньков. Сквозь затемнённые стёкла еле проникает свет.
— Хорошая у тебя машина, — говорю я, — японская?
Алексей смотрит на меня.
— Ты чё, зёма? Когда это японцы начали под маркой «Дженерал Моторз» работать? Никаких япошек. Я их и так всегда не особо любил, а после того чемпионата мира по футболу, тем более…
Неосязаемое, неслышимое и ещё кто знает какое «НЕ»: Неизвестное… Невидимое посетило меня: иероглиф «До», вышитый на халате… И ещё незримые факты из моего прошлого…
Пару раз вхолостую провернулся тумблер: ЩЁЛК… ЩЁЛК…
Нет. Это вне зоны приёма. Как радио автомобиля.
— Я до сих пор не пойму: как людям могут нравиться все эти кончинючие штуковины, которыми нас пичкают япошки. Караоке? Ты видел тех, кто хватается за микрофоны? А? Вот именно… Развлечение для мутантов. А тамагочи! Дети ещё эти, долбанутые на всю голову: «Купи! Папа-мама, купи! Ещё одного! Ещё…» Сейлормуны… Покемоны… Аниме! Мультфильмы эти, мля, японские! Большеголовые уроды с глазами в поллица! Видел, а?.. Пипец, короче… Ничего, что я так вычурно?
Я хмыкнул. Мультфильмы?
— Машина у меня американская, короче! — Лёха закурил очередную сигарету. — Хотя американцы мне тоже… малосимпатичны.
* * *
Такси, вёзшее меня в Тихий, было раздолбанным и ободранным, какой-то невероятно дремучей моделью «Жигулей». Заднее правое стекло до конца не закрывалось, и ветер постоянно холодил мой висок.
— Куда едем? — спросил меня пожилой седоусый водитель.
— В Южную часть…
Так говорила Юля-Алёна, когда мы с ней совершали партизанскую вылазку, пустившую под откос её жизнь.
Приёмника у таксиста не было. Поэтому музыка, которая сопровождала меня этот двадцатиминутный рейс, — ленивые переговоры ночных диспетчеров по рации, неаккуратно вмонтированной в переднюю панель автомобиля.
В Тихом на улицах редкие машины. Запоздавшая парочка. А вон парень стоит у ночного ларька. Что делать?
На одном из зданий вижу огромный, в три этажа размером, плакат. Задремавший, нахохлившийся на заборе мужик с банкой пива в руке и красные буквы «НЕ СПИ. ЗАМЁРЗНЕШЬ».
— Стой! — сказал я таксисту. — Тормози здесь.
Протянул ему самую крупную купюру. Он молча отсчитал сдачу, потом:
— Удачи.
— Спасибо, — я захлопываю дверь. Сдачу на удачу. Удача мне пригодится. Мне теперь всё пригодится. Где-то в небе гудит самолёт. Скоростная машина, которой всё нипочём. Быстрая. И мне хочется быстрее. Но на самолёте мне нельзя. Мне нужно на пароме. По желтой ниточке затеряться в паутине. А я стою здесь, как столб. Видный на пустых улицах за километр. Два часа ночи. Светло, как в пасмурный день. Так… Дурацкие белые ночи. Вот вы-то мне как раз совсем не нужны. Я вижу проезжающие вдалеке грузовики.
Мне туда.
* * *
— О!
Я вздрогнул. Леха махнул головой:
— Видишь, догнали.
В редеющем уже тумане наш катер уверенно настигает натужно пыхтящий «Отважный», толкающий перед собой плавучую платформу с автомобилями.
Лёха выходит из машины. Я выбираюсь за ним. Прохладно.
— Да, — говорит Лёха, — я бы со своей колымагой сюда не поместился.
Паром действительно уставлен машинами настолько густо, что даже непонятно, как столько машин могло влезть на такую небольшую площадь?
— Халтурят, суки, — выпустив клуб пара изо рта, произносит мой попутчик, — хотят денег побольше срубить. Инструкцию нарушают, козлы. Напихали тачек, как килек в консерву. Там даже двери открыть сейчас нельзя в легковушках, чтобы поссать выйти. Так и будут до Тарко-Сале терпеть ещё часов двенадцать. Или в бутылки из-под минералки мочиться, бардак…
Он достал сигарету, закурил и продолжил:
— А если эти, на буксире, неправильно центр тяжести определили, то сейчас где-нибудь на повороте «камазик», вон тот, — Лёха ткнул пальцем, — тентованный… Перевесит в свою сторону и перевернётся всё это корыто. И конец всем.
Я промолчал. Только засунул руки поглубже в карманы.
— Было уже такое пару лет назад. Частник один купил катер, нанял алкашей каких-то, натромбовал на паром машин и перевернул всю тусню на первом повороте. Человек шестьдесят загубил, урод… Машины потом недели две ещё доставали.
Наш безымянный серый буксир уже начал обгонять своего брата-близнеца. В центре платформы несколько грузовиков. Один рефрижератор с белой надписью по синему «Зап. Сиб. Транс». Такой же подвёз меня от Тихого к речному порту.
— Лёха! — голос со стороны рубки, перекрикивающий гул двигателя. Мы оба поворачиваемся. Один из «оранжевых жилетов» спрашивает знаками: «Курить есть?» Лёха кивает и лезет в карман. Нераспечатанная пачка летит в сторону матроса. Тот ловко ловит её одной рукой. Кивает: «Всю можно?». «Ага, — кивок в ответ. «Спасибо, зёма!» — выставленный вверх большой палец.
— Да ладно, — говорит мой спутник в спину уходящему «жилету», — не жалко.
Потом мне:
— Слышь, тёзка, чё мы так и будем, как дураки, на «Лёху» вдвоём откликаться?
Я пожал плечами.
— Короче, чтобы не путаться, называй меня «Сид», понял? Фамилия у меня Сидоров, поэтому для кентов я с детства Сид, понял?
Я кивнул.
— А меня, сколько себя помню, Дровосеком называли. Дро, то есть…
Сид хмыкнул:
— С чего это?
— Да так…
— Прикольно. Ну чё, здорово, Дро…
Он протянул руку. Я свою.
— Здорово, Сид.
Так мы познакомились во второй раз.
* * *
Через пару часов туман рассеялся. Буксир наш плыл с постоянной скоростью, рождая волны и оставив далеко позади «Отважного». Леха-Сид, покопавшись в настройке радиоприёмника, так ничего и не поймал, выкурил пару сигарет, помочился в реку и, забравшись на просторное заднее сиденье, заснул.
— Если чё, буди… — сказал он прежде.
Вот спит. А я смотрю на проплывающие мимо чахлые леса, осыпавшиеся песчаные берега, небольшие островки… Больше ничего. Но мне всё равно. Главное, что двигаюсь вперёд.
…Где это — Ялта? Наверное, очень далеко, раз Сид ухмыльнулся, когда узнал, что мне туда. Всё равно. Я хочу узнать: кто я?
Муха… Какая она? Как я узнаю её? Хотя, если она помнит мои слова, узнает меня сама. А может, и нет. Не знаю. Хочу знать.
Я начинаю проваливаться в дрёму. Засыпаю. И снится мне.
Обычное.
Пустота.
Чёрная.
Ничего.
* * *
Хлопнула задняя дверь. Это Сид проснулся и стоит, кутаясь в куртку, возле правого борта. В зеркале бокового обзора я вижу, как он прикуривает сигарету. Потом удаляется в сторону рубки.
Смотрю по сторонам. Ничего не изменилось: тот же песок и ёлки. И река. Иногда попадаются небольшие плавучие конструкции. Сид сказал мне, что это буйки, отмечающие глубину. Вернее, мели. Буйки подмигивают красными огнями. На некоторых сидят белые птицы. Смотрю на часы. Через час в больнице завтрак. Понимаю, что хочу есть. И что еды у меня с собой нет. Что ж, потерпи…
Терпеть пришлось недолго. Вернувшийся Сид достал из багажника пластиковую коробку с бутербродами и термос с кофе.
— Ещё часа три-четыре плыть, — сообщает он, проглотив последний кусок колбасы. Самые длинные три-четыре часа в моей жизни. Этой жизни.
Река постоянно петляет. Катер даёт крен вправо… Теперь — влево…
Моё нетерпение словно отступило на расстояние вытянутой руки. Оно не толкает меня требовательно в спину. А просто жёстко прикасается кончиками пальцев к моим плечам.
Словно кто-то Сильный, но НЕ Всепонимающий решил вмешаться.
Потеребил загривок. Чмокнул в щеку. Хлопнул по плечу.
Но НЕ ТАК, КАК НАДО.
Не так.
Ладно…
Просто нетерпение, временно не НЕТЕРПЕНИЕ.
Просто я слегка успокоился.
Просто я жду.
* * *
Музыка заиграла вдруг (!!!) и так громко, что от неожиданности мы вздрогнули: приёмник сам поймал радиоволну, и Сид, до этого случайно выкрутивший ручку громкости на максимальное значение, чертыхаясь, полез исправлять положение.
Когда звуковой шквал перестал атаковать наши уши и шум принял очертания знакомой песни, Сид виновато пробурчал:
— Блин. Всегда путаюсь с этим долбанным цифровым управлением.
Неожиданная встряска разогнала остатки дрёмы, в которой мои мысли вязли последние полчаса.
Впереди по курсу появились две небольшие лодки. Сид, заметивший их, ткнул пальцем:
— Смотри… Ненцы из Тарко-Сале возвращаются. Водкой и сигаретами затарились — и домой.
— А где их дом?
— Везде… Тундра, лес, река… Это же их земля. Где чум поставил, там и живёт.
Моторки стремительно приближались. Уже можно было различить, что в каждой из них сидят по два человека. Ненцев я раньше видел. Пару раз они появлялись в больничном комплексе — привозили своих детей на хирургические операции.
Сид достал какую-то тряпку и, выйдя из машины, стал протирать лобовое стекло. Я тоже покинул салон и подошёл к борту. Ненцы в лодках с мощными моторами почти поравнялись с нами.
— Клёвые катера, — сказал Сид, — эти, наверное, из рода Тасседа. Стоянка у них на озере Ходутэ. У тех деньги водятся. Они рыбой промышляют, и стадо оленей у них немаленькое…
Сид поднял руку, приветствуя пассажиров моторок. В ответ поднялись три. И сразу же остались позади. Теперь они удалялись с той же скоростью. Мы смотрели им вслед.
— Ненцы — нормальные челы, — сказал Сид, — зря их болванами считают. Есть, конечно, которые поспивались и лупят друг друга из двухстволок. Но хватает и пацанов с головой. Я слышал, как кто-то смеялся над ненцами, которые в гостинице на полу спали, а не на кровати. Так ёп’тыть! Зачем им в чуме кровати? Им и так удобно… Я бы посмотрел, как кто-нибудь из города попытался в тундре выжить. За Полярным кругом.
Моторки ненцев исчезли за поворотом.
— У них, кстати, куча интересных обычаев. Если кому-нибудь приснится обнажённая девушка, которая будет звать к себе, нужно проснуться и громко крикнуть нужное слово. И тогда все в племени разожгут костры и будут до утра бегать с факелами вокруг стойбища.
— Зачем?
— По поверьям, это одна из дочерей ненецкого дьявола. И у неё есть имя. Не помню как… В общем, «цинга» по-русски. И они её вот так вот огнём прогоняют.
— Интересно…
— Есть ещё интересные штуковины.
— Какие?
Сид достал сигарету. Прикурил.
— Здесь же до сих пор слоновью кость находят. Ну ты слышал, наверное?
Я на всякий случай кивнул. Сид продолжил:
— Тут в любой музей любого северного города зайди, сразу увидишь поделки из слоновой кости. А откуда тут, мля, на севере слоны? На Ева-Яхе? В Самбурге?
Я промолчал.
— Их тут находят. Не археологи, нет. А обычные ненцы. Бивни откапывают в два — три метра длиной. А ненцы и ханты из этих бивней статуэтки режут. Типа японских «нэцкэ».
Я опять промолчал.
— Слоновья кость пока ещё ценится… И пусть так и будет (тьфу-тьфу-тьфу)… И, в принципе, при желании, ненцы могли бы срубать на ней не меряно капусты. А знаешь, почему? Здесь же, как учёные говорят, раньше тропики были. Лет так с несколько тысяч назад… И слоны, вернее, мамонты, тут спокойно обитали. Потом глобальное похолодание, мамонты умерли, замёрзли — и всё…
Я, ничего не понимая, ещё раз на всякий случай промолчал. Только сделал неопределённый жест плечами и хмыкнул.
— Ну тут у ненцев бивни найденные перекупают и в столице продают дороже. Я и сам как-то крутанулся.
— Удачно?
Сид хмыкнул и, помедлив, махнул головой в сторону машины:
— Ну вот… Внедорожник от «Генеральных моторов» теперь у меня есть…
Помолчали.
— Ненцы говорят, что, если человек специально идёт в тундру искать мамонтову кость, ничего не найдёт. На мамонта натыкаются случайно: на охоте, собирая грибы или заблудившись… Иногда, очень-очень редко, в какой-нибудь сопке находят целого, сохранившегося в вечной мерзлоте мамонта. Бивни отрезают. А мясо… Прикинь. Мясо они перекручивают в мясорубке напополам с олениной и делают котлеты… Прикинь?! Учёные всего мира отдали бы за такой экземпляр из мерзлоты полжизни, а челам пофиг — они жрут котлеты из мамонтятины. Для них это имеет магический смысл… Типа их предки, населявшие Приполярье раньше, ездили на нартах, в которые впрягали этих мамонтов… Ненцы думают, что это прародители их сегодняшних оленей… Вот они и едят мясо тех, кого их прапрапрадеды каслали, пасли то есть. Думают приобщиться таким образом…
— К чему?
— Фиг знает. Свои у них приколы. Что шаман скажет, то и правильно. Шаманы у них там всем сразу заведуют: они ходячая совесть, колдуны и доктора, — ненцы у русских врачей лечиться не хотят. У них шаман с бубном у костра попрыгал — и всё. Типа вылечил, злых духов отогнал…
Про это я слышал от врачей в больничном комплексе. Профессор Васильев как-то ругался, кричал, что можно было спасти какому-то мальчишке ногу, если бы вовремя привезли на операцию. Парень повредил ногу на охоте, и местный шаман принялся его лечить. Дотянули до гангрены. Потом вертолётом доставили мальца в Тихий. Еле откачали. Ногу потерял, а мог и жизнь.
— Хотя нормальные опять же есть шаманы, специалисты типа, — продолжил Сид, — мне вот знакомые ненцы про одного рассказывали: молчит, с духами общается… Самый лучший на своей территории… В прошлом году по осени охотники нашли чувака в машине с проломленной башкой…
Я окаменел.
— Молотком ему кто-то по кумполу настучал и бросил в тачке. А пацаны случайно мимо ехали. Пульс пощупали, вроде, живой. На нарты чувака — и в ближайшее стойбище…
ЩЁЛК.
Запах дыма. Ещё запахи — много, незнакомые. Слова — много, на незнакомом языке. Руки — осторожные… Неподалёку храпят загнанные олени… и ещё…
— А в стойбище тот самый шаман. Начал пацана осматривать. Потом как вскочит — и выбежал из чума. Вокруг стойбища обежал, всё внимательно осмотрел — и обратно. Стал корешки жечь, по бубну стучать, потом опять — прыг из чума. И снова в бубен бить и заклинания читать…
ЩЁЛК.
Так это был бубен, этот странный гул, рождающийся из угла… запахи: тлеющих кореньев, грубо выделанных шкур, рыбы, мяса…
Наконец-то я понял природу этих едва уловимых обрывков, посещавших меня иногда глухими ночами, когда, уткнувшись носом в подушку, я ждал сна. Сейчас я внимательно ждал продолжения, а Сид не молчал:
— … Короче, пацана погрузили на аэросани, которые у соседних геологоразведчиков были — и в Тихий, в больницу… Не знаю, выжил он или нет…
Я промолчал.
— А шаман потом говорит: «Этого парня плохой человек бил по голове. Очень плохой человек. Когда бил его по голове, очень злой был — убить хотел. Но не получилось. Когда парня к нам привезли — он рядом был. Я почувствовал. Выбежал посмотреть — не увидел. Хорошо спрятался. Даже собаки не учуяли. Потом я понял: ушёл плохой человек. А потом русские парня забрали на своих быстрых нартах…»
— Слушай, Сид, — сказал я, — а ты сам в это веришь?
— Во что?
— Ну в то, что шаман рассказывал.
— Я-то? Да мне, собственно, пофиг. Я потом такие истории в Москве или Питере барышням под «мартини» рассказываю… Романтика, северный колорит. Девок цепляет… А мне того и надо.
Мне не пофиг. Найду этого «очень плохого человека» и… что?
И раскрошу ему череп. Так, что никакой Васильев не поможет. Но сначала узнаю, за что это он меня так? Может, я сам напросился? Как Гапонов?
Катер взревел двигателем, вписываясь в последний поворот: на левом по курсу берегу появились постройки. Потом я увидел пристань, буксир и плавучую платформу, на которую люди в оранжевых жилетах устанавливали автомобили: очередной паром готовился к отплытию в рейс «Тарко-Сале — Речпорт К-420».
— Приплыли, — сказал я.
— Пришли, — поправил меня Сид, — плавает только говно в проруби.
— Эй, братва, — к нам подошёл один из команды буксира, тот, что получил пачку сигарет от Сида, — мы вас чуть подальше высадим, возле второго причала.
Матрос ткнул пальцем, куда именно нас собирались доставить. Сид пожал плечами:
— Да мне без разницы, браток. Давайте только поскорее. А то мне до Тюмени ещё переть больше штуки километров.
Спустя несколько минут наш чёрный автомобиль, урча, перекочевал с палубы на деревянную пристань. Сид махнул рукой в сторону катера и выкрутил баранку влево:
— Ну чё, Дро? В Ялту я не еду. Мне в Самару, через Тюмень. А потом в Москву. Ты как?
— Куда довезёшь, туда и поеду, — сказал я.
— Ладно, — Сид двинул рычаг переключения скоростей, — повезло тебе, автостопщику. Занимайте места, согласно купленным билетам. Пристегнитесь. Автомобиль взревел и, уверенно набрав скорость, мягко двинулся по песчаной дорожке. Через минуту Сид вырулил на асфальт. И меня сразу же вжало в сиденье — так резко мы увеличили скорость.
— А?! — победоносно глянул на меня Сид. — Ништяк у меня тачка?!
— Ещё бы! — сказал я, представив себе такси-жигуль, которое развалилось бы на такой скорости.
— Всё хорошо. Только скоро начнётся убитый участок дороги… Километров сто пятьдесят — просто писец. Гравий. Хорошо хоть у меня «внедорожник». Раньше я тут на спортивном «форде» ездил. Всё днище покорежил, блин… Ну теперь-то получше будет. У моего «Джи Эм Си» дно титановое — танк, мля!
Сид с удовольствием похлопал по рулю, сделал погромче звук радиоприёмника и подмигнул мне:
— Поехали?
Я кивнул в ответ. Поехали…
* * *
«Убитый» участок дороги оказался несколько более «убитым», чем ожидал мой попутчик. В течение четырёх часов, непрерывно матерясь, он на небольшой скорости продвигался по пустынной «отсыпке»: гравий барабанил по днищу, пыль поднималась облаками.
Нам встретилась только одна машина — красная «копейка» с хмурой женщиной за рулём. Она неодобрительно глянула, когда мы обогнали её на повороте.
— Ариведерчи… — пробурчал Сид в её сторону.
Но спустя какое-то время настроение его резко улучшилось: под колёсами появились плотно подогнанные друг к другу бетонные плиты, и наш чёрный автомобиль опять набрал нужную скорость. Справа и слева от «бетонки» до границ видимости простирались поблескивающие влагой и лужами зеленоватые поля.
— Болота… — бросил скучающий Сид.
Ни одной машины. Ни одного человека. Пятьдесят, сто, двести километров… Тёмно-бетонные же ответвления вправо и влево с табличками: «Куст 12», «Куст-14», «ГНС-2»…
Время от времени появлялись какие-то монотонно кивающие механизмы. Вверх-вниз… Вверх-вниз…
— Скважина. Нефть качают… — Сид опустил стекло. — Потеплело, да?
Действительно. Стало теплее. В салон ворвался ветер, а с ним запахи и насекомые. Только заметил: кустарник вокруг превратился в деревца, а те, в свою очередь, в деревья.
Кто-то больно укусил меня в запястье. Я осторожно скосил взгляд: крупный комар быстро наполнял моей кровью своё прозрачное брюшко…
Хлоп!!!
Красное мокрое пятно.
Комар.
Брюшко.
Пятно.
Я знаю эти слова.
И чует моё сердце, что я знаю ещё больше.
Гораздо больше…
Сердце — чёрного льда кусок.
Вот именно — в груди.
Вот именно — чёрного.
Ну-ну…
Посмотрим…
* * *
Стоим. Прямо перед бампером — красно-белый шлагбаум. Красный сигнал на светофоре. Рельсы, начинающиеся справа и уходящие в необозримое «лево»… Или наоборот: слева — направо? Неважно… Минута… Две…
— Чё стоим? — спрашиваю я.
Пустой железнодорожный переезд. Ни одного автомобиля, кроме нашего.
— Да поезд сейчас должен быть… — Сид прикуривает очередную сигарету.
— Ты так много куришь…
Сид хмыкнул:
— И чё?
— Ничего…
— Ну да… Много… Мне нравится курить. И всё такое… — он затянулся и выпустил дым из ноздрей. — Я курю утром до завтрака, после завтрака, в туалете, в ванной, в самолёте, на остановке. По идее, мне нужны сигареты раза в два, в три длиннее. Чтобы накуриться за один заход. Одно хреново — во время еды курить не получается. Жевать и курить как-то не очень совмещается. Это обламывает. А так, вообще, не жалуюсь…
Состав, воняющий мазутом, протарахтел мимо: локомотив, влекущий за собой два десятка поржавевших цистерн, двигался, как назло, медленно.
Шлагбаум поднялся. Красный свет сменился зелёным. Окурок вылетел в окно: поехали…
* * *
— О! — Сид пихнул меня в плечо. — Смотри, лось!
Крупное животное перебежало дорогу впереди по курсу и сразу исчезло в лесу. Настоящий лес. Высоченные деревья справа и слева от дороги — не «отсыпки», не «бетонки» — настоящей асфальтовой трассы. Почти идеальное покрытие. Наш чёрный экипаж вот уже часа три мчится на приличной скорости, размазывая по лобовому стеклу мотыльков и прочую мелкую летающую живность. Сид время от времени смахивает их останки «дворниками».
Навстречу стали попадаться автомобили. В основном, грузовики. Легковушки, очень редко, движутся в том же направлении, что и мы.
— Народ в отпуска потянулся, — говорит Сид, обгоняя какую-то машину, тянущую за собой яркий прицеп. Крыша легковушки уставлена вместительными полосатыми сумками. Маленький мальчик успевает показать в заднее стекло розовый язык. Мой спутник усмехается.
«Добро пожаловать в ХМАО!» — огромный транспарант справа по курсу.
— Что за «ХМАО»? — спрашиваю я.
— Ханты-Мансийский Автономный округ, — расшифровывает Сид и глядит на меня.
— Странные вопросы ты иногда задаёшь, — после молчания произносит он.
Я внутренне сжался.
— Ты чем вообще занимаешься? — этого вопроса я ждал. В горле пересохло. Но говорю спокойно:
— В больнице работаю.
— Врач?
— Лаборант… В рентгенкабинете.
— Хм… И чё? Есть на что посмотреть?
— Да, — я ухмыляюсь, — у медсестры во-о-от такая жопа!
Я развожу руки в сторону.
Сид смеётся.
Прокатило.
— Я вообще-то в первый раз на машине в отпуск, — вдохновенно вру я спустя пять минут, — в основном, на самолёте летал…
— Когда последний раз «на земле» был?
— Да уж пару лет не выезжал…
— А я каждый год. Летом стараюсь…
Обогнали пару грузовиков. Ещё один.
— Пару лет безвыездно?.. — он кивает. — Понимаю. Башню сдвигает. Особенно в Приполярье…
Сид, давно снявший куртку, закатывает рукав футболки:
— Видишь?
Татуировка. Шесть букв на фоне какого-то узора.
АРУ
ФПС
Я киваю. Пояснения следуют сразу же:
— Арктическое Региональное Управление Федеральной Пограничной Службы. Два года за Полярным кругом, на мысе Челюскинцев. Самая северная погранзастава, братан… Ноль дней отпуска. Ноль дней в увольнении. Тупо: пятнадцать человек личного состава, два офицера. Бабы только по телеку. Через три месяца женщины-дикторы «Новостей» круче самых ядрёных порнозвёзд.
Мой внутренний приёмник делает «щёлк», и я почти сразу втягиваю морозный воздух, от которого
ВКЛ!
слипаются сопли. Вшестером пешком до отметки и обратно. Полные боекомплекты. Белые маскахалаты. Всё белое, кроме:
Два ДШК и
Антенна рации торчит из белого чехла на спине у Витябы.
Белое.
Белое.
Белое.
Всегда зима.
Только в июле оттаивает море. Тогда из Норвегии в Японию и обратно проплывают корабли.
Тогда русские пограничники смотрят на них в бинокли. А скандинавы — в свою сверхсильную оптику — на погранцов: шестеро в пятнистых комбинезонах. Автоматы. Два ДШК. Две собаки. Рядом — на сопке — каменный холмик. Это местная достопримечательность. Каждый новенький на заставе кладёт сюда булыжник, на котором царапает свою фамилию и год призыва. У каждого в дембельском альбоме фотка: «Я возле со своим камнем».
Но до дембеля ещё… Аж зубы сводит.
Собаки.
Им не дают имена.
Чтоб не жалко было потом,
когда по весне — инструкция такая — лишних убивают. Из АК-47.
Больше двух на заставе нельзя. Инструкция такая. Кинолог раз в году плачет…
Не по инструкции.
Почта — раз в месяц. Вместе с едой, с вертолёта. Письма из дома вместе с тушёнкой. Родители обижаются: редко пишешь.
А чё писать?
Вот вчера спирт пили.
Татуировку сделал.
Все пацаны нормальные — никто не крысятничает. Офицеры тоже, вроде, ничего мужики.
В том месяце, прям перед Старым Новым Годом, генератор накрылся. Сутки света не было, и котельная не работала. Главная радиостанция тоже не работала — пацаны на двести километров от заставы отъехали с мобильной рацией, чтоб в зону приёма попасть. И уже оттуда «вертушку» вызывали. Во где экстрим…
И в альбоме (Санёк как-то незаметно сфоткал)
пять белых фигур
на фоне серого неба.
Маскахалаты.
Чёрные стволы. Два ДШК. Антенна рации торчит из белого чехла на спине у Витябы.
Белое…
* * *
Сид смотрит на приборную доску:
— Заправиться надо…
Через пару десятков километров — заправочная станция. Сворачиваем. Мягко тормозим у одной из колонок. Выходим — я размяться, Сид — заплатить за горючее.
Возвращается. Вставляет шланг в отверстие. Колонка шумит, мелькают цифры на табло.
По соседству останавливается микроавтобус. Водитель — усатый дядька — не спеша, роется в бумажнике. С пассажирского места — прыг! — выпархивает девушка. Совсем молоденькая. Стреляет в нашу сторону взглядом — голубая вспышка на фарфоровом лице — закусила белыми зубками нижнюю губу и ЗЫРК! — ещё раз. Независимо прошествовала в сторону двери с надписью «WC».
— Ух, какая Кися-Ляля, — причмокнул ей вслед Сид и многозначительно посмотрел на меня. Я тоже, насколько смог, изобразил на лице многозначительность.
— Да-а-а… — он повесил шланг на место, — ей лет пятнадцать всего-то, наверное, а смотри какая цаца…
Мы сели в машину. Девушка появилась из-за двери и направилась к своему микроавтобусу, по дороге послав в нашу сторону ещё пару голубых молний из-под ресниц.
— Ну смотри-ка, знает ведь, сучка малолетняя, что красивая. Глазами-то, как уже научилась, а?
Наш автомобиль тронулся, и заправка быстро растаяла в зеркале заднего вида.
— Ух! Была у меня одна такая Кися-Ляля… — сказал Сид. И я приготовился слушать, уже зная, что у каждого мужчины есть подобная история.
— Темнеет, что ли? — я опустил стекло и выставил руку, ловя упругий тёплый ветер.
Цветовая гамма окружающего мира слегка изменилась: сочнее синь неба, чётче линии электропередач на его фоне. И солнце приобретает другой оттенок.
— Ну да, темнеет, — Сид глянул вверх через лобовое стекло. — Мы к Югу уже на приличное расстояние сдвинулись. Наверное, из зоны белых ночей почти ушли. Спать будем в темноте. По-настоящему.
Часа два назад по огромному длиннющему мосту пересекли невероятных размеров реку. Я и не думал, что бывают такие. Буксиры и корабли казались нам сверху чересчур маленькими для настоящих. Сид рассказал, что пока не было моста здесь работала платная федеральная переправа. Весной, в ледоход, её сносило. И вертолётчики из местного авиаотряда зарабатывали немало денег, переправляя автомобили с берега на берег.
— Гений инженерной мысли бьёт по карману мелкому барыге с вертолётом! — засмеялся Сид, завершая свой рассказ.
Всё вокруг перестало быть похожим на то, что окружало меня последние месяцы. Всё — ярче. Цвета, запахи, впечатления… Они настойчиво лезут в глаза, нос, уши. Овладевают моим вниманием, отвлекают от пчелиного роя в душе и хаоса в мыслях… Хватают за уши и тыкают носом: смотри, это трава, а это корова, а так пахнет ферма, на которой корова живёт…
Они пытаются погасить нетерпение, свившее гнездо и тлеющее у меня в груди…
Пусть их. Я, итак, спокоен. Я двигаюсь вперёд единственным возможным сейчас способом. Вперёд. Ибо «назад» для меня теперь просто не существует…
Второй раз заправляемся уже в сумерках. На одинокой «АЗС» посреди хвойного леса. Пока я хожу отлить в отдельно стоящий туалет, Сид успевает заправить авто и купить еды.
Две больших «Колы» и два «хот-дога» — вот как называется еда. И я равнодушно принимаю эту подачку от моей работающей с перерывами памяти. Я знаю, как придерживать сосиску, чтобы она не выскользнула из разрезанной булки. Я знаю, как пить «колу» из соломки. И что? Сейчас меня больше интересует сам вкус еды, а не то, как она называется.
Я вообще перестал удивляться: каждый час память выкидывает мне пару «бонусов». Значит, я на правильном пути. Глядишь, скоро крикну: «Bingo!!!».
Хм… Ну вот, опять… Бинго…
Мы, отъехав на пару десятков метров от заправки, прикончили хот-доги и «колу». Сид достал пачку салфеток и протянул мне:
— В Тюмени пожрём чё-нибудь нормальное. Супа там, пельменей…
Я вытер руки, промокнул губы и по примеру Сида выкинул салфетки и пустые стаканы в окно.
— Сегодня в Тюмень мы уже не успеем, — продолжил Сид. — Спать скоро захочу. Сейчас доедем до первого ментовского поста и заночуем.
«В целях обеспечения безопасности рекомендуем вам останавливаться на ночлег вблизи постов ДПС» — вспомнил я неоднократно виденные в пути дорожные знаки.
— Ну чё?! — Сид повернул ключ в замке зажигания и вдавил педаль газа. — Go?!
— Ага, — сказал я, — Go!
— Чё-то, блин, «кола» придавила на клапан, — сообщил Сид спустя час.
Мы остановились. Он выскочил из машины. Я тоже покинул салон, хлопнул дверью, расстегнул ширинку.
«Лыжная база ПСО» — прочёл надпись над воротами, которые — вот ведь — оказались прямо по курсу. Хм… Когда глаза привыкли к темноте, различил какие-то строения, мелькающие тени… А-а-а… Ладно…
— Эй! Ну ты где? — голос Сида доносится со стороны авто.
— Тут я…
— Поехали?
— Ага…
Вот он — пост. Рядом несколько легковушек. Хлопают двери: «Купи пару кофе», «Я в туалет, папа…», «Не подскажете, сколько время?..», «Эй! Братело! У тебя карта области есть?».
Скучающий «гаишник» помахивает жезлом.
Совсем темно. Сид мостится на заднем сидении: достал подушку из багажника, завёл будильник.
— К утру похолодает… — бормочет он сонно, — ты это… окна не открывай…
Заснул. Спит.
Через полчаса машин становится в два раза больше.
Через час все спят. И я проваливаюсь в черное, чтобы спустя мгновение:
— Тьфу, блин! Проспали что ли?! — проснуться уже утром.
Сид энергично трясёт будильник. Потом прикладывает его к уху.
Открывает окно. Будильник летит в сторону мусорных баков. Бац. Нет больше будильника.
— Дерьмо… — бормочет Сид, роясь в бумажнике. — Купи два двойных кофе, — протягивает он деньги.
Обжигаясь, пьём кофе.
— Дерьмо растворимое, — сообщает Сид. Я согласен.
Умываемся холодной водой из ржавой трубы. Протираем салфетками номера, фары и стоп-сигналы. Мой спутник закуривает первую на сегодня сигарету. Выпускает клуб дыма:
— Садись. Поехали…
Огороды. Бабушки, торгующие молоком. Станция технического обслуживания. Ещё одна. Длинная аллея, усаженная тополями…
Троллейбусная линия… А вот и сам троллейбус… И…
…хоп! — Тюмень.
* * *
— Тюмень… Столица деревень…
Сид крутит баранку, вписываясь в поворот:
— Нам сейчас СТО «Дженерал Моторз» найти надо, — сообщает он.
Находим. Пока техники в одинаковых синих комбинезонах с надписью «GMC» на спине, облепив наш чёрный автомобиль, замеряют уровень масла и остальные параметры, мы «жрём чё-нибудь нормальное».
В первом же кафе Сид покупает две порции пельменей, два кофе. Ещё какой-то еды…
Я внимательно просматриваю внутреннюю картотеку.
«Тюмень:…………….. Пусто…………….».
Смотрю на каждый дом, встречающийся на пути…
Очень хорошо помню: Юра рассказывал, что автомобиль, в котором меня нашли, был угнан в Тюмени.
«………. Пусто………..»
Что? Здесь бонусов не будет?
Ничего из того, что я вижу в Тюмени, не напоминает мне о том, что я здесь когда-то был.
Ну и ладно.
Заправляем автомобиль на большой «АЗС», расположенной на выезде из города. Сид смотрит на часы, потом на счётчик километража:
— Так… Неплохо идём. За сутки полторы штуки сделали. Если в таком темпе будем двигаться, заночуем уже за Уральскими горами…
Всё. Бак полон. Выезжаем на трассу и меня привычно вжимает в кресло. Полдень. Сид достаёт солнцезащитные очки. Тюмень остаётся далеко позади.
* * *
— Ха! Во, блин, название! — Сид тормозит и, высунувшись из окна, сдаёт назад.
Мы только что свернули с большой трассы на узкую, покорёженную тракторами дорогу с остатками асфальта. Перемахнули по шаткому мосту ручей. И тут Сид решил остановиться.
— Не, ну смотри! Прикол, да?
Теперь и я вижу то, что развеселило моего спутника — на указателе название населённого пункта «Чёрное Макарово».
— Ха! — Сид смеётся. — Не поверят же кенты, когда расскажу.
Мы выходим из машины.
— У меня просто дружок есть — Макар его зовут… А жена у него Ленка, в девичестве Чернова, — поясняет Сид. Потом хлопает себя по лбу и ныряет в авто. Назад он возвращается уже с маленьким фотоаппаратом. Вручает его мне:
— А ну-ка… Я вот тут встану… Щёлкни-ка меня. На фоне… Надпись видно?
— Видно… — я поймал знак и Сида в видоискатель.
Он делает зловещую гримасу. Я фотографирую его. Потом ещё раз. Отдаю фотоаппарат. Смотрю на свои руки: хм… И это я, оказывается, умею делать.
Сид с хрустом потянулся. Пару раз присел, разминаясь:
— Садись, поехали…
Поехали…
Солнце ощутимо пригревает. Уже не просто тепло — жарко. Ветер, врывающийся в окна — горячий. Ни капли не освежает. Поэтому Сид поднимает все стёкла и включает кондиционер.
Наш автомобиль легко обгоняет все машины, встречающиеся на пути. Местность вокруг становится нереально плоской, редкие деревья и трава до горизонта.
— Степи, — бросает Сид, — и посмотреть не на что…
Действительно, взгляду не за что зацепится. Иногда встречаются какие-то несуразные, слеплённые из разнокалиберных материалов вагончики-закусочные: пара пластмассовых столиков, маскировочная сеть вместо тента над ними, ржавый мангал и дремлющий шашлычник возле него. Когда вода у нас заканчивается, притормаживаем возле одной такой развалюхи. Я покупаю бутылку минералки (которая, ну может, слегка прохладнее окружающего зноя) и плюхаюсь на пассажирское сидение. Рядом с нами останавливается ещё один автомобиль. Сид смотрит на него несколько мгновений и фыркает:
— Пф! Тоже мне машина… «Паджеро»…
Он презрительно сплёвывает, и мы двигаемся дальше.
— А что это за машина? — я оглядываюсь на удаляющуюся от нас закусочную.
— «Мицубиси»… Японцы.
Я понимающе хмыкаю. Сид продолжает:
— Говорю же: ума вообще нет. Взяли, придурки, и назвали свой внедорожник — «Pajero».
Я пожал плечами:
— И что?
— Да то, что на испанском красивое слово «Pajero» читается, кстати, как «Пахеро» — что-то вроде русского замечательного слова «пидор» или типа того.
Я засмеялся.
— Правда, что ли?
— А то! Представь себе теперь ситуацию: ездить на машине, которая называется «Пидор»!.. Клёво?!
Я снова рассмеялся:
— И что теперь?
— Ничего… продают теперь в испаноязычных странах эту же самую модель, но под другим названием. Представляешь, как сами испанцы рубятся теперь над всем миром?..
* * *
Столбы электропередач: раз… два… три… четыре…
Столбики, отмечающие километры: один… два… три… четыре…
Ровно гудит двигатель. Солнце чуть сместилось. В динамиках — радиостанция другой области. Пустой железнодорожный переезд — миг! — и остался позади. Наш автомобиль, рассекая струящийся от раскаленного асфальта воздух, черной пулей стремительно мчится к Югу. Сид — отличный водитель, и у него отличная машина. Ещё полчаса, и мы с пустынного и ровного, как стрела, шоссе выезжаем на оживленную трассу. Мягко покачиваясь, наш представитель американских «генеральных моторов» легко обходит несколько попуток. Здесь вообще есть кто-нибудь быстрее нас, а?
— Слышь, тезка, тебе зачем в Ялту-то?
— А?
— Я говорю, в Ялту ты зачем едешь? Есть же места поинтереснее. Или ты фанат в Крыму потусоваться?
Я молчу несколько мгновений, лихорадочно перебирая в мозгу заранее приготовленные варианты ответов.
— Да так… Знакомая там у меня одна…
— Живет?
— Не… отдыхает…
— А… Ну-ну… Любовь и все такое?
Я неопределенно хмыкаю.
— Понимаю… — Сид смотрит в зеркало заднего вида, потом ловким маневром обгоняет пару новеньких самосвалов. Продолжает:
— Очередная Love Story: море, ночи южные, звезды… Романтика… Любовь до гроба…
Обгоняем еще несколько автомобилей:
— Меня на Север любовь и загнала.
Сид закуривает.
— После того как отслужил, думал: «Ни за что больше не отправлюсь морозить задницу!» А отправился, да еще по собственному желанию.
— Твою девушку, что, Любовь звали?
Это я. Решил поддержать разговор. Сид недоуменно смотрит на меня, потом ухмыляется:
— Нет… Мою звали Катя… — он хмыкает. — Катерина… Это имя казалось мне самым прекрасным во Вселенной. Я — Я! Циник! — реально втрескался по уши, как малолетний писюн…
Сид помолчал.
— Цветы дарил… В глаза её голубые никак насмотреться не мог… На Восьмое марта ужин при свечах, подарок на всю зарплату… Денег не жалко.
Обогнали длиннющий трубовоз.
— Вот из-за денег-то на Север и подался. Квартиру хотелось свою, чтоб отдельно от родителей со своей Кисей-Лялей жить… Сам-то я с Донбасса… Там после того как «совок» развалился, такой честный фраер, как я, денег на хату заработать на может. Хотя, — Сид хмыкнул, — какой я, мля, честный?
— Ну, говорю, любимая, поехал я на квартиру и мебель заработаю… Она в слезы… Трогательная вся такая… Как в кино: «Не уезжай, родненький!»
— Письма какие писала: длинные, со стихами. А девка-то красивая, видная… Я её фото всегда возле сердца носил. Глядел на него по вечерам… Мучился…
Сид закурил следующую сигарету:
— Друзья говорили: «Не дождется она тебя, найди себе другую». А я упертый — «дождется!». Ни с кем два года — ДВА ГОДА!!! — не трахался, прикинь?! Так я её любил… Никого не хотел…
— В двадцать пять лет приобщиться к прелестям мастурбации — это что-то… Но я по-честному хотел… Верность как, блин, монашка какая-то хранил… Хотя причем тут монашки…
— Как мудак, за Полярным кругом с вахтовиками и ненцами два года проторчал… Семь профессий сменил. Сейчас-то я неплохо устроился, а по-первому нелегко пришлось. Вдали от цивилизации… Но я зубы сцепил — ничего!.. прорвемся! Грела меня мысль, что ждет меня где-то моя Кися-Ляля…
— От тоски напивался, такие вещи вытворял… Многие люди до сих пор не поверят, если им сказать, что Алексей Сидоров — нормальный, в здравом рассудке человек. Потому как вел я себя, как злобный боевой андроид инопланетного происхождения…
— Хотя, наверное, и правильно… Потому что разочаровался я что-то в человечестве…
Сид криво усмехнулся. Я тоже усмехнулся. Он продолжил после недолгого молчания:
— В общем, накопил я денег столько, что две квартиры купить можно было, и на родину, к любимой… А любимая моя-то что-то полгода мне и не пишет уже. Еду себе в Донбасс, переживаю весь… Может, письма её не доходили? Может, случилось что?
Обогнали молоковоз и милицейский «УАЗик».
— Ну да… Случилось… Не дождалась она меня, вот и все. Обычняк. Еле нашел её в городе своем, родном… В ларьке торговала. Умница… Бухгалтером стать хотела… Парикмахером… Ну да — парикмахером… Поговорить — так она и разговаривать со мной не захотела…
Сид снова закурил:
— Предпочла меня другому замечательному молодому человеку… Сделавшему головокружительную карьеру от грузчика на рынке до продавца сигарет поштучно в выездной торговой палатке гастронома «Волна».
Сид зло сплюнул.
— В общем, понял я, что меня банально кинули. Планомерно отымел всех её подружек… и подружек их подружек. И других… и третьих.
Он повернулся ко мне и заговорщицки сообщил бармалейским тоном:
— Сам-то я пацан симпатичный!
Мы оба рассмеялись. Сид снова закурил. Я почувствовал, что он расслабился:
— Наше общество любит красивых людей… — он выпустил клуб дыма, сбил пепел в приоткрытое окно. — Родители подарили мне привлекательную форму черепа. Судьба распорядилась так, что зарабатываю я неплохо… Поэтому мне на хрен не нужно иметь какое-либо особенное обаяние, чувство юмора и талант. Я и так могу трахнуть 95 % всех женщин этой планеты…
Сид опять на секунду повернулся ко мне:
— Другое дело, что — как бы громко это ни звучало — и обаяние, и чувство юмора у меня есть. Плюс мои деньги. А значит, в глазах большинства женщин я почти бог.
Сид выкинул окурок в окно:
— Ничего, что я так вычурно?
* * *
— Твою мать! — выронив монтировку, Сид разражается потоком матерных слов: мы меняем пробитое колесо, и он только что глубоко, до крови, поранил палец.
— Ну вот, всегда так! — он отбегает в сторону, неловко левой рукой расстегивает ширинку и мочится на пораненный палец. Поворачивается ко мне:
— Достань аптечку!
Я достаю черный ящичек с красным крестом. Спрашиваю:
— Ты зачем на палец пописал?
Сид, смахивая капли, смотрит на меня:
— Моча — лучший антисептик в полевых условиях. Это первое, чему учат в армии. Поранился — поссал на рану, потом бинтуй.
Сид достал из аптечки бинт и зеленку. Я помог ему обработать рану. Неловко наложил повязку на палец. Сид придирчиво осмотрел её:
— Потянет…
Мы вернулись к прерванному занятию — менять колесо.
— Вообще моча считается полезной штукой, — продолжил Сид тему, — некоторые её пьют даже, лечатся. Не смотри на меня так. Я её не пью. Не фанат я. Говорю же, некоторые.
Наконец «запаска» встает на нужное место. Я помог Сиду затянуть болты.
— Порядок… Кидай инструменты в багажник.
Через минуту мы снова летим по шоссе с прежней скоростью. День потихоньку клонится к закату. Солнце приобрело красноватый оттенок. Местность вокруг наконец-то изменилась: появились холмы, зеленые рощи.
— Скоро Уральские горы… — бросает Сид.
Мы входим в длинный, затяжной поворот. Мой попутчик хочет пересечь горы одним рывком и отдохнуть уже по ту сторону. Спустя час холмы становятся выше, солнце скрывается за ними сначала на секунды, потом на минуты. Потом исчезает вовсе, оставив о себе напоминание — красную полоску там, где небо соприкасается с горами. Вижу последний отблеск на верхушке огромнейшего высоковольтного столба. Всё.
Мы в горах. Дорога петляет среди скал. Фары выхватывают сплошную стену каменной породы. Километр за километром. Сколько машин! Сид уже не так часто обгоняет попутки. Скалы, скалы, скалы и вдруг… море огней слева внизу.
— Красиво? — спрашивает Сид. Я киваю.
— Это город. Их тут несколько.
Дорога резко идет вверх, и через минуту скалы и деревья скрывают это горное поселение от нас.
Вверх. Вниз. Поворот. Едва освещенная стоянка грузовиков — фух! — осталась позади. Снова подъем.
Вижу голосующего человека, делающего странные знаки руками. Через сотню метров еще одного.
— Автостопщики? — спрашиваю Сида.
— Не… — он усмехается, — это психи… Шизоиды… Тут дурдом где-то недалеко. Они сюда на трассу выходят сигареты стрелять. Я их в этом месте постоянно вижу.
Ещё пара десятков километров осталась позади. Какой-то знак стремительно проносится мимо.
— Что это?
— Отметка… Самая высокая точка Уральских гор. Почти половину проехали.
Он смотрит на часы:
— Неплохо идем.
Меня начинает клонить в сон. Глаза слипаются. Но держусь пока. Ещё одна стоянка дальнобойщиков осталась позади. Фары выхватывают на мгновение две фигуры.
— Это тоже психи? — спрашиваю я.
— Нет, — Сид открывает окно, — это «плечевые». Синявки малолетние. Шлюхи, короче, которые у водил сосут… Чё? Интересует? — он посмеивается. Я пожимаю плечами.
— Шучу. Ты их увидишь — сам испугаешься.
Впереди показался ярко освещенный участок дороги. Несколько «фур». С десяток легковушек. Несколько милиционеров в бронежилетах с автоматами.
«Стоп. Досмотр» — надпись, которую мы, снижая скорость, миновали. У меня внутри все сжалось. Вот и всё. Приехал.
Сид не останавливаясь, объезжает все автомобили и тормозит недалеко от начала очереди. Один из милиционеров приближается к нам.
Я словно кусок холодного камня. Сжимаю кулаки со всей силы. Сид тушит фары. Милиционер вдруг останавливается в трёх метрах от машины. Потом показывает полосатой палкой: «Проезжай!».
Сид спокойно подруливает к поднявшемуся шлагбауму и жмёт на газ. Пост исчезает в ночи. Мы снова одни в ночи.
По слабости во всем теле и затихающим мурашкам в паху понимаю — испугался не на шутку. Перевожу дух и целую минуту медлю, прежде чем спросить:
— Сид, ты что — милиционер?
— Нет. С чего это ты решил?
— А почему твою машину не обыскивают?
Он рассмеялся.
— Ну ты хрен…
Он опять засмеялся. Потом продолжил:
— У меня федеральные номера, дружище. Говорю же тебе, я неплохо устроился.
Я напряженно слушаю, внешне оставаясь спокойным.
— Ненцы, они же граждане Российской Федерации, так?
Я на всякий случай кивнул.
— А значит, как граждане России, имеют право голосовать, так?
Я снова кивнул.
— Ну вот. А так как живут они все хрен знает где, по факториям и по стойбищам, в выборах их заставить участвовать проблематично…
Я слушал, ничего не понимая.
— Нужно ездить с избирательной урной по тундре, заставляя их бюллетени заполнять… Короче, геморрой тот ещё. Работа тяжелая и неблагодарная. И никто за неё браться не хочет. Вот. И я не хотел. Пока не узнал, что председателю избиркома полагается федеральный номер на автомобиле. А тачку с таким номером никто обыскивать не имеет права. Понял?
Я кивнул.
— Вот я и взялся выполнять благое для страны дело.
Сид похлопал ладонью по груди:
— Так что перед тобой, дорогой друг, председатель пусть небольшой, но Территориальной избирательной комиссии, расположенной фуй знает где. А на машине у меня федеральный номер, ясно?
Я снова кивнул. Что ж мне так везет-то, а?
* * *
Через полчаса Сид останавливается отлить, влезая обратно за руль, сообщает:
— Так. Что-то меня выключать начинает. И жрать охота. Сейчас, наверно, тормознёмся, поедим, потом посмотрю по своему состоянию… Может, в горах и заночуем…
Через минут сорок видим очередную стоянку: несколько грузовиков, пара легковушек. Вагончик-кафе. Тормозим чуть в стороне. Захлопываем двери. Сид нажимает кнопку на брелке: авто коротко подмигивает — сигнализация включена. Мы, поеживаясь, идем к вагончику, прохладно. Сид помахивает ключами:
— Сигналка у меня прикольная. Не орет, когда кто-нибудь в тачку полезет. Просто у меня на пейджере пикнет и покажет, какую именно дверь открыли. Я возьму монтировку и по балде козла. А так — сирена его спугнет… Неинтересно.
Я останавливаюсь как вкопанный. (Стоп!) Сид делает ещё пару шагов и оборачивается:
— Эй, тезка, ты чего?
Я пересиливаю тошноту. Сглатываю пересохшим горлом.
— Ты чего? — Сид встревожен.
С трудом делаю первый шаг:
— Ничего…
Мы двигаемся к двери закусочной. Не могу же я ему сказать: «Только что мой внутренний приемник получил сигнал, расшифрованный мной как «лучше в кафе не входить».
Сид толкает дверь. Звякает колокольчик. Мы попадаем в освещенное, прокуренное помещение, орущее на нас радиопесней. Мы входим. И я почти сразу же понимаю: не надо было.
Хотя вначале все выглядело более-менее нормально.
* * *
Четыре столика, два из которых заняты. За одним двое мужиков сосредоточенно хлебают суп из тарелок. За другим — четверо, почти одинаковых, персонажей: пухлые, с красными рожами и одинаковыми прическами. Только цвет волос разный. У этих на столе одноразовое изобилие — куча какой-то снеди в пластмассовых тарелках. Бутылка водки. Пластмассовые же стаканы. Когда мы входим, оживленный разговор за этим столиком смолкает. Рыжий толстяк что-то говорит своим братьям-близнецам. Раздается взрыв хохота. Сид на секунду бросает взгляд в их сторону и подходит к стойке. За ней, в замусоленном фартуке, скучающая женщина с внешностью престарелой порнозвезды.
Сид просматривает меню:
— Два люля-кебаб.
— Люля нету, — женщина убирает звук на приемнике. Из угла раздается:
— Эй, Лида! Сделай погромче!
— Подожди! Щас обслужу клиента! — огрызается Лида.
— Ладно, — Сид кладет меню на стойку, — спрошу по-другому. Что есть?
— Шашлык есть, сосиски в тесте, салат…
— Шашлык долго готовится?
— Почти готов уже…
— Два шашлыка.
— Лидуся! Сделай музыку! — опять голос одного из толстяков. Лидуся добавляет громкость. На пару секунд исчезает в подсобке. Снова появляется.
Сид поворачивается ко мне:
— Я пива хочу, вот чего. А тут как раз безалкогольное есть. Бокальчик сейчас выпью, под шашлычок. А ты будешь?
— Не… Я лучше «колу».
Сид поворачивается к барменше:
— Безалкогольное пиво и «колу».
Порнозвезда Лидуся открывает бутылку «колы», а пиво переливает в большой стеклянный бокал с ручкой. Сид успевает сделать первый глоток, когда:
— Безалкогольное пиво — первый шаг на пути к резиновой бабе! — раздается у нас за спинами. Мы поворачиваемся. Все четверо толстяков, ухмыляясь, стоят рядом с нами. Брюнет, блондин, шатен, рыжий. Последний, похоже, здесь заводила.
— Да? — Сид поставил кружку на стойку. — Как интересно.
— Ага! — рыжий от удовольствия хрюкнул. — Но в твоем случае — первый шаг к границе, за которой начинается баловство с фаллоимитаторами…
— Да-а?! — протянул Сид, с интересом заглядывая в кружку. — И где же эта граница?
Он поднял бокал и посмотрел сквозь него на лампу с таким видом, будто высматривал притаившуюся на дне стаю фаллоимитаторов.
— А вот же… — рыжий снова хрюкнул, — вот же сидит твой дружок-педик, который трахает тебя в задницу… Спроси у него…
И они все засмеялись.
Сид улыбнулся так, что у меня все похолодело внутри.
— Спрошу, — произнес он оскалившись, — обязательно спрошу.
И в ту же секунду его кружка полетела в голову рыжему. А ещё через мгновение я успел подумать, что кружка крепче черепа. После этого — ВСПЫШКА.
* * *
— Стой…
— ………………………….!!!
— Стой, мля! Куда ты гонишь? — Сид шипит от боли справа от меня.
Почему справа?! За рулем
Я?!
Держу в руках баранку. Притормаживаю. Ближе к обочине. И только после этого, словно ожегшись, отдергиваю руки от рулевого колеса. С ужасом смотрю на приборную панель, руль, свои ладони. Что было? Как я здесь оказался?!
Сид стонет, ощупывая свою голову.
— Уроды… суки…
Я потрясенно молчу. Хотя пора бы уже привыкнуть. Очередной бонус. Ладно…
У меня болит плечо. Сбиты костяшки пальцев. Светлая футболка забрызгана чем-то темным — кровь… Сид опять шипит, неловко прикоснувшись к голове. Тянется к приборной панели. Щелкает тумблером, и в салоне становится светло.
— А ну посмотри, чё там у меня…
Он наклоняет голову. Я внимательно осматриваю повреждения:
— Да вроде ничего страшного… Шишка, крови совсем немного… Кожа чуть лопнула.
Сид выпрямляется в кресле. Крутит к себе зеркало заднего вида. Криво усмехается, рассматривая свое лицо. Потом поворачивается ко мне:
— Поели шашлычка…
Тыкает меня кулаком в плечо:
— А ты ничего, держался молодцом…
Да. Молодцом. Поэтому кровь у меня на футболке не моя. Ещё один бонус: память услужливо делает реверанс на полчаса назад, и я отчетливо вижу:
— !!!! — кружка, пущенная по дуге, ломает нос рыжему, и тот, как подкошенный, падает на пол. Краем глаза замечаю, что Сид, в каждой руке которого волшебным образом появились черные, угрожающе шипастые кастеты, легко уклоняется от стула. Бесконечно долгую секунду примеривается. И вдруг наносит три молниеносных удара, круша челюсть и ребра блондина.
Тело, вырывая меня из оцепенения, делает какое-то непонятное движение, и кулак брюнета вскользь проходит по моему плечу. В ту же секунду я наблюдаю, как мои кулаки делают кровавое месиво из лица нападающего. Вот тут-то шатен и огрел Сида по голове вторым стулом. Мой спутник сразу же потерял сознание. Я с удовлетворением отметил, что шатен лишился его же на две секунды позже. Именно об него я ободрал костяшки пальцев. Выволок бесчувственного Сида из кафе. Открыл дверь авто, усадил на пассажирское сиденье. Завел машину.
И вот мы здесь.
— Может, тебе в больницу нужно? — спрашиваю я Сида.
— Не… Не надо…
Меняемся местами. Он садится за руль. Я снова становлюсь пассажиром.
— Что-то мне спать не перехотелось, — говорит Сид, — до первого поста доедем и ляжем, отдохнем… Мутит меня что-то.
Мы трогаемся и через минуту уже летим в ночи. Одно радует, похоже, никто из кафе не видел, на каком автомобиле мы приехали. И уехали… А рану Сиду я все-таки обработал по-быстрому. Йодом.
* * *
— Дэн! Ты чем питаешься вообще, а? — Сид открыл холодильник и недоумённо уставился в его белое нутро.
— А чё такое?
— У тебя тут кроме пива и йогурта ни хрена нету.
Дэн, то есть Денис, — друг Сида. Здоровенный, под потолок ростом, с угрожающей внешностью, но абсолютно не агрессивный человек. В Самаре у Сида несколько друзей. Остановились мы у Дэна. У него жилплощадь позволяет принимать гостей, так мне объяснил Сид. С остальными мы увидимся вечером в каком-то клубе. Дэн показывает комнату, в которой нам предстоит спать, готовит еду, расспрашивает Сида о жизни.
Окно в кухне открыто. Внизу, во дворе, бегают дети, сидят на лавочках пенсионеры. Я с минуту рассматриваю эту непривычную для меня картину, потом иду в ванную. В рюкзаке, который я позаимствовал перед путешествием у Юры, мои личные вещи. Набор одноразовых станков для бритья, зубная щетка, паста, карандаш со сломанным грифелем и маленький радиоприемник. Но он не работает: сели батарейки. Здесь же полотенце с маленьким штампиком в углу — «МБК НГХ». Я беру это напоминание о приполярном медпункте, один станок и запираюсь в ванной. Пока белая емкость стремительно наполняется водой, смотрю на себя в зеркало: последний раз я брился четверо суток назад. Сейчас отросшая щетина слегка изменила мое лицо. Хм… Я провожу ладонью по щеке: может, отпустить бороду? Тогда я перестану быть похожим на того Дровосека, которого помнят в Тихом. Так и сделаю.
Теперь я Леха. Алексей. Фамилию себе надо придумать… Я влезаю в наполнившуюся ванну. Буду-ка я Николаевым… Алексей Александрович Николаев… Иванович? Или Сергеевич? Не… Александрович.
Я мылю голову. Фыркаю. Лежу в горячей воде, пока Сид не стучит в дверь:
— Эй, Леха, ты чего там? В Ихтиандра играешь?
Потом, пока в ванной комнате находится Сид, Денис, помешивая большой деревянной ложкой пельмени в кастрюле, обращается ко мне:
— Что, Леха? Сид говорит, вы в кафе «Привал» размялись слегка? Привалили волков?
Я киваю.
— Молодцом! Так ты, это… Сильно торопишься в Ялту? А то, может, с нами отдохнешь недельку? Шашлык-машлык, в Волге поплаваешь…
— Ну не знаю… — я почесал нос, — может на дня два задержусь…
На самом деле, как только автомобиль остановился возле подъезда Дэна, мое жгучее нетерпение опять активизировалось.
— Молодец, Леха… — Дэн выключил газ и сел напротив меня. — Молодец, что не бросил Сида… Не зассал. По-пацански…
Я промолчал.
— Ты в Ялту как? Автостопом? Или на паровозе? А то Сид говорит, что ты фанат автостопом перемещаться…
— Не знаю, пока… Может, автостопом…
— А что, говорят, сейчас на Украину въезд только по загранпаспортам, да?
Я медленно кивнул. Загранпаспортам? А что это?
Дэн распечатал блок сигарет. Закурил. Выпустил клуб дыма:
— У тебя новый «загран»? А то у меня старый… Собираюсь менять.
Я покрылся мурашками. В недрах своей памяти попытался обнаружить, отделить, извлечь:
…паспорт… что-то вроде пропуска, позволяющего покинуть пределы больничного комплекса. Без него — нельзя…
Пропуск. Паспорт. Загранпаспорт.
Нету. Нет у меня такой штуки.
Чёрт!
И спокойно Дэну:
— Старый… Тоже думаю менять.
Всё. С этой минуты беспокойство селится во мне на «ПМЖ». Постоянное место жительства. Вот, блин… Дурак… Паспорт… паспорт… паспорт… Блин. Где, мать его, я смогу взять себе паспорт?!!
Попасть на паром, а дальше как по маслу?! Дурак…
* * *
— Зашибись…
— Чё — зашибись?
— Я ни фига не могу понять: почему Ленка вышла за тебя замуж? А? Макар? Ты же гопник-гопником…
— А чё? За тебя, что ли, ей выходить? А? Филиппушка?
Макар. Бритый под ноль. В спортивном костюме с тремя полосками на рукавах и штанинах. Внешне спокойный. На деле — ядерная бомба, сметающая все на своем пути.
Филипп. Фил. На голове — черно-сиреневое безумие, торчащее в разные стороны. Штаны со множеством карманов. Футболка с надписью «FUCK THIS WORLD».
Ванька. Барабанщик в оркестре Министерства внутренних дел. Сейчас — сидит на сцене клуба, вдохновенно высекая из своих «там-тамов» шедевральные ритмические рисунки. Скромная рубашка с коротким рукавом… Обычные брюки…
Дэна я уже знаю.
Сида тем более…
Лена.
Елена Макарова. В девичестве — Чернова. Про неё мне рассказывал Сид.
Рассказывал…
Сейчас она танцует с десятком других девушек перед сценой. Но десяток не нужен никому. Все взгляды устремлены на неё.
Мне-то чё?
Мне-то все равно.
Яркая.
Таких хотят.
О таких думают.
Такие лишают сна.
Вот оно. Моё преимущество.
Я принимаю сигналы каждого сидящего за нашим столиком.
И поэтому знаю:
Фил. Хочет Эту Рыжую, с того самого дня, как увидел её впервые.
Сид. Было… О, да! Было… Но погасло…
Дэн. Ха! У Дэна таких Ленок… Хотя… Клёвая она… Повезло Макару…
Макар. Уж он-то всегда знал, что Лена будет его. Одного — бил ногами до тех пор, пока не сломал все рёбра.
Ванька. Ха! У Ваньки и через двадцать лет женой будут барабаны. Хотя… Если надо «выпустить пар» — вот они… Фанатки…
Лена…
Елена… Её чувство — это много маленьких чувств:
Он — классный.
Он — не похож на других.
Он — клёвый.
Он — целуется лучше всех…
Он… Да!.. Оказывается, размер имеет значение…
Он — тот, с которым — «на край света…».
Он — ТОТ, ради которого Я сделаю ВСЁ. ВСЁ, что он пожелает… Даже…
Он умница. Он молодец. Он лучше ВСЕХ…
Он — МОЕ СОЛНЦЕ…
МОЙ…
ОНА его любит, и ОН это знает.
* * *
Пока музыканты отдыхают, Ванька с нами. Пьет пиво. Шутит. Хороший парень.
— Леха, ты чего, алкоголь не употребляешь, вообще?!
Это Фил. Я отвечаю:
— Ну да…
Фил отхлебывает из своей кружки. Закуривает сигарету. Тыкает огоньком в мою сторону:
— Ты ещё один из тех, кого отымели суки-капиталисты?
— Ну, фак, опять начинаешь… — это Дэн.
Я пью «колу». Именно содержимое моего стакана — объект, вызывающий словоизлияния Фила.
— Вот ты что больше любишь — «Коку» или «Пепси», а? — он потирает щеку левой рукой.
— Да мне всё равно… — я оглядываюсь по сторонам…
— Ха! Правильно! — Фил грозит мне указательным пальцем левой руки.
— Чё правильно? — это Сид. — Напился, веди себя прилично…
— А я что?! Веду себя неприлично?!
Фил — пьян. Пиво с водкой, плюс шампанское… Он икает. Криво усмехается:
— Ха! — громко хлопает кружкой о деревянный стол.
Дэн пронзительно смотрит на него. Глубоко вздыхает. Проводит рукой по голове — ото лба к затылку — от затылка ко лбу и обратно… зевает…
Фил подзывает официанта, заказывает ещё пива, обращается ко мне:
— На самом деле никаких компаний «Пепси» и «Кока-кола» не существует. Эти напитки выпускает одна безымянная контора в Техасе, понял? Стоит у них одна цистерна с двумя кранами. Над одним написано «Кока», над другим — «Пепси». Одно и то же разливается по бутылкам. А истории создания двух империй — выдуманы из капиталистических соображений, ясно? Надуманная конкуренция, понял? Чтобы лишить себя настоящих конкурентов. Понял?
Фил отхлёбывает принесённое официантом пиво:
— … Теперь, когда молодой бизнесмен собирается открыть своё дело, возможность выпуска всяких «Кол» и «Фант» он отметает практически сразу. Чё ему делать, если эту нишу уже заняли «Пепси», да ещё и с «Кокой», а?
— Ты чё мелешь? — Сид закуривает. — А кто, по-твоему, тогда «Колокольчики» и «Буратины» выпускает, а?
— И «Дюшесы» с «Тархунами», — это подал голос Ванька.
— Та же самая контора… из Техаса, — помолчав, ответил Фил.
— Да-а… А зачем? — это Сид.
— Чтобы совсем всех запутать.
Через минуту он опять поворачивается к Макару:
— Как это Ленка за тебя замуж вышла? А?
Макар смотрит на Фила:
— За тебя бы она точно не вышла. Хотя… Я вот слышал, в Индии однажды девушку выдали за паровоз…
Все засмеялись. Макар продолжил:
— Если уж за паровозы девки замуж выходят, почему бы за такого мутанта, как ты, не пойти.
Я рассмеялся вместе со всеми, внутренне оставаясь сжатым, как пружина. Я выжидал момент для осуществления своего плана. И через полчаса он наступил: мои соседи направились к сцене танцевать. Я покинул столик вместе со всеми. Потолкался пару секунд на танцполе и затерялся в толпе.
Теперь, так…
…Быстро на улицу. За угол — где стоянка автомобилей. Вот он, черный внедорожник Сида. Увесистый булыжник из ограждения клумбы в руке. Оглядываюсь по сторонам, БАЦ! — крошево стекла на сиденье и частично на асфальт. Открываю дверь изнутри.
Быстро!
Хватаю свой рюкзак, чехол с солнцезащитными очками Сида. Выскакиваю из салона. Теперь — совсем быстро!
Бегу за угол, огибая клуб с противоположной стороны. Бросаю свой рюкзак через забор, чехол с очками отправляется туда же…
Ещё быстрее!
Полностью обежав здание, осторожно выглядываю. Вот он, вход в клуб.
Ну же.
Дверь распахивается. Матерясь и зажав в руке пищащий пейджер автосигнализации, из клуба стремительно вылетает Сид, за ним Дэн и Макар. Как только они скрываются за углом, я быстро проскакиваю в клуб. Смешиваюсь с танцующими. Делаю безразлично-скучающий вид. Притопываю на месте вместе со всеми.
* * *
— Твою мать!
— Лёха! У тебя в машине что-нибудь было?
— Поймаю — убью!
— У меня рюкзак был…
— Как ты их поймаешь? Свалили уже давно!
— Вот уроды! Очки мои фирмовые сперли!
Разговаривают все разом.
— В рюкзаке что-нибудь важное было?
Вот он. Самый главный вопрос. Из-за него-то, собственно, все и произошло. Спасибо, что спросил, Макар. Вслух:
— Да. Деньги были. И документы… Загранпаспорт…
— Мля! Хреново… Ладно, не переживай… Что-нибудь придумаем, — это говорит мне Сид, потом, обращаясь к Макару, — у тебя подвязки в «паспортно-визовой» остались?
Макар кивает. Сид, мне:
— Разрулим с паспортом.
Потом смотрит на свой автомобиль:
— Где тут СТО поблизости?
* * *
К Дэну возвращаемся втроем на такси: сам хозяин дома, я и пьяный Фил. Сид поехал вставлять новое стекло. Макар с женой — домой.
Вызываем лифт. Створки разъезжаются в стороны, но мы в кабину не входим. Прямо в лифте, расположившись на полу, спит мужчина. Двери закрываются. Фил икает, снова жмёт на кнопку вызова. Смотрит на спящего:
— Чего это он?
— Не видишь — спит, — спокойно отвечает Дэн.
— Устал, что ли?
— Наверное.
— Бомж, что ли?
— Нет. Это кондуктор.
Фил недоуменно смотрит на Дэна.
— У тебя… в доме проезд в лифтах платный?
— С чего?
— А кондуктор зачем?
Дэн хмыкает:
— Сосед это мой. Он кондуктором в троллейбусном парке работает. Как напьется — спит в лифте, понял?
Спустя час, лежа в комнате с открытыми глазами, я хвалю самого себя за сообразительность.
Теперь у меня будет документ.
Я на это очень надеюсь.
Ведь я умею делать одну замечательную вещь. Планировать.
* * *
— Знаешь, как сделать «Ёрш-Лайт»?
Мы с Филом сидим в пустой кафешке на набережной. За чугунной оградой — стремительная Волга. За прилавком — скучающая продавщица. Фил пьет пиво, я газировку.
— Не знаю.
— Нужно смешать водку и безалкогольное пиво. Получится «Ёрш-Лайт», понял?
Я кивнул. Мы с Филом гуляем по городу. Дэн на работе. А Сид с Макаром, записав мои данные (Алексей Александрович Николаев, 1974 г. р., место рождения — Москва), поехали в паспортно-визовую службу. Сид сказал, похлопав меня по плечу, после того как забрал мои фотографии из салона «Срочное фото»:
— Не переживай, Лёха. Будет у тебя паспорт. Я заплачу, сколько надо. Ты меня выручил, и я тебя выручу, братела.
Я весь — сплошной очаг нетерпения. Мне не хочется пить здесь газировку и слушать болтовню Фила, а прыгать, громить и переворачивать, как когда-то на пристани речного порта К-420. Разбить витрину, перевернуть холодильник, растоптать микроволновку.
— А ты знаешь, что врачи многое скрывают от обычных людей?
Интересно.
— Что скрывают?
— Ну, например…
Он хлебнул пиво.
— Фишка такая — «Плаценто-маска». Знаешь, что делают? В нескольких клиниках сидят подкупленные врачи. Они берут и говорят какой-нибудь молодухе на шестом месяце беременности: «Очень сожалею, но ваш ребенок родится с ужасной патологией, будет уродом и умрёт в мучениях». Девка, конечно, в слёзы, но делать нечего. Идет на аборт. А плаценту её отправляют японцам. Те из неё делают косметическую «Плаценто-Маску» и предлагают богатым старухам, как средство для омоложения кожи. На шестом месяце беременности — плацента обладает самыми лучшими качествами… Прикинь, сколько по стране убивают таким образом народа? Будущих солдат и классных девок? А сколько мы ещё не знаем, а?!
Ветерок шевелит листья на деревьях, слегка треплет флажки на столбах. Только прическа Фила из-за огромного количества геля остаётся неподвижной.
— Откуда ты столько всего знаешь?
Фил загадочно подмигивает:
— От верблюда.
— Это твой друг?
— Кто?
— Верблюд.
— Почему? — Фил уставился на меня.
Я пожал плечами.
Фил пожал плечами.
Потом допили содержимое своих бокалов.
— Ты побрился неудачно… — Фил ткнул пальцем в мою левую щеку.
Я провел по ней рукой. Да. Пришлось побриться перед тем, как идти фотографироваться. Сид сказал, что бороду я смогу отпустить в следующий раз. А вот сделать за пару дней загранпаспорт на халяву — нет. Я спорить не стал.
Вечером все мы встречаемся в другом клубе. Сегодня здесь выступает Ванька со своей группой. Этот клуб посолидней вчерашнего: официанты в белых пиджаках, большинство посетителей — в костюмах, при галстуках, дамы в вечерних туалетах. Все мои новые знакомые тоже в костюмах. Лена в декольтированном наряде. Только я и Макар одеты по-вчерашнему. И его спортивный костюм притягивает недоуменный взгляды сидящих за соседними столиками.
— Удивляюсь, как тебя впустили. Здесь же «фейс-контроль», — говорит Фил.
Причёсанный, в пиджаке — он совсем не похож на себя утреннего.
— А тут в охране свои пацаны, — равнодушно бросает Макар, доставая сигарету из пачки.
Его жена, извинившись, берет сумочку и идет «попудрить носик». Скоро начнут играть музыканты. В клуб входит новая парочка. Макар кивает в их сторону:
— Никак не могу понять, как это Светка с этим мутантом живет.
Все смотрят на «Светку с мутантом». Хихикают. Фил говорит:
— Тут половина людей в зале сейчас думают то же самое о тебе и Ленке.
— Чего?
— Она вон, блин, красавица. А ты гопник в «адидасовском» костюме…
— И что?
— Ничего… Светкин мутант вон хотя бы в пиджаке от «Валентино» и в туфлях начищенных. Привел вот, видишь, Светку джаз послушать… Культурная программа…
Макар затянулся, выпустил дым:
— А я сейчас что делаю, по-твоему?
Фил пожал плечами. Макар посмотрел в сторону сцены, сделал ещё одну затяжку. Снова повернулся к Филу:
— Понимаешь, дорогой Филипп, — произнес он, — этот утырок носит костюм «от Валентино» и слушает джаз не потому, что это ему особенно нравится. Так надо, потому что «так» — делают все в его круге… На самом деле он бы с радостью ходил с небритой мордой и коричневым пятном на трусах… От плохо вытертой задницы… Его джаз и разговоры об искусстве — маскировка. Он носит костюм от «Валентино», а я от «Ади Даслера», ясно? Мой «адидас», татуировки и причёска — знак своим и врагам. Это я. Мне нечего скрывать. Я такой, какой я есть… И именно поэтому…
Макар затянулся и выпустил клуб дыма в лицо Филу:
— Именно поэтому Ленка — со мной.
Фил промолчал. Зато вставил своё слово Сид:
— Иногда вместе оказываются достаточно разные люди… Это я не про вас с Ленкой, Макар… Вот. У меня есть одна знакомая пара. Она романтическая девушка из приличной семьи. Балерина в Большом. В основном составе… «Лебединое озеро», «Щелкунчик», гастроли в Европе… Все дела, короче…
Сид хлебнул пива.
— А он — её избранник — мелкий дилер, торгующий марихуаной. Реально мелкий: продает на районе «ганж» в розницу. За полтину штакет, пять ядерных ракет. Шестерка на побегушках… Ни денег особых… Ни ума. Хули она, вот, в нём нашла, а? Неизвестно…
Все промолчали. На сцене появились музыканты, стали настраивать инструменты. Сид продолжил:
— Не всегда можно понять, почему ТОТ поступил ТАК-ТО. Можно только догадываться. Знает только ТОТ, кто делает. Бывает же: муж, подозревая, что жена — шлюха и сосёт время от времени у лучшего друга — не то что не разводится — не бьет её и не укоряет даже. Почему? Неизвестно никому, кроме самого мужа… А о причинах его поступков можно гадать годами. А это неблагодарное занятие. Значит, не наше дело.
— Мы лучше пива попьем, — подал голос Дэн.
— Точно, — сказал Макар.
Впервые я задумался, что мне симпатичны эти люди. Что мне нравится находиться в их обществе. Слушать их разговоры. Интересно, смог бы я стать их другом?.. Или нет, не так: были ли у меня такие же друзья, как у Сида? А девушка, как у Макара — жена? А может, у меня и была жена? Или есть? А дети?..
Острое ощущение неуюта пронзило меня. У ВСЕХ есть КТО-НИБУДЬ, у меня — никого. Кусок железа в башке, обрывки воспоминаний — и всё…
Но где-то — в Ялте — сейчас находится Муха с каким-то племянником, или братом. Она должна мне помочь.
А ещё, завтра у меня будет загранпаспорт. И завтра же я куплю билет до Симферополя. И поеду в Крым.
Я хочу вспомнить. Я хочу БЫТЬ.
* * *
— Сорок семь, сорок восемь, сорок девять…
Утро следующего дня. Все, кроме супружеской пары Макаровых, находятся в просторной кухне Дениса. Опухший Фил курит, открыв окно и сидя на подоконнике. Ванька жарит яичницу. Хозяин квартиры и я хлебаем чай из огромных черных кружек. Посреди кухни Сид, облаченный в одни лишь черные трусы, отжимается от пола, считает вслух:
— … шестьдесят один, шестьдесят два…
И так до ста. Встаёт слегка запыхавшийся, потирает ладони. Фил мрачно смотрит на него, выпускает клуб дыма:
— Что ты весь в черном вечно… Трусы черные, машина черная…
Сид отклонился назад, выставил указательные пальцы обеих рук в сторону Фила и произнес голосом, похожим на тот, что читает объявления по радио:
— Потому что Алексей Сидоров — умный, красивый и стильный парень!
Он выстрелил из воображаемых револьверов в Фила, сдул с воображаемых стволов воображаемый дым и спрятал несуществующее оружие в несуществующие кобуры. Потом взял стакан молока, отхлебнул и сообщил:
— У меня черное всё — французские трусы, швейцарские часы, американский автомобиль, английские ботинки, итальянский зажим для денег — всё короче…
Он допил молоко и продолжил поучительно:
— Все аксессуары настоящего мужчины должны быть выдержаны в одной цветовой гамме, ясно? Поэтому ремень, зажигалка и два замечательных кастета — у меня тоже черного цвета.
Фил выкинул окурок в окно:
— Трахал бы тогда черных баб… афро… или брюнеток… Чтобы всё в одной цветовой гамме было… Чего же ты блондинку вчера приволок?..
Сид развел руками, призывая всех в свидетели:
— Ты видел её?
— Видел…
— И учти, в раздетом виде она ещё лучше. А что она вытворяет в постели…
Сид поднял глаза к потолку.
— Да, мы слышали… — пробурчал Фил.
Вчера в клубе Сид познакомился со светловолосой, улыбчивой красавицей и всю ночь из комнаты, в которой они заперлись, доносились соответствующие звуки. Она уехала на такси буквально полчаса назад.
Хм… Неужели в мужской компании все разговоры рано или поздно переключаются на женщин? В «сети», в палате, здесь… Женщины, что, тоже постоянно болтают о мужчинах?
— Вот как ты её зацепил, эту красавицу? Она же тебя в первый раз видела?
Все молча поглощали яичницу с колбасой. Только Сид и Фил обменивались репликами.
— Ну я бы мог тебе проехать по ушам про свой богатый внутренний мир, чувство юмора и обаяние… — сказал Сид, отламывая кусок хлеба. Фил перебил его:
— Ты о «моджо» и об этой, фак её так, «харизме»?
— Ага… — Сид отправил хлеб в рот. — Но об этом говорить не буду. Хотя у меня есть, конечно же, и «моджо», и «харизма»…
Фил хмыкнул. Сид пожал плечами:
— В принципе, отношения с женщиной — это чистая арифметика: тут отнял, там умножил, здесь поделил… Тут улыбнулся, там сделал подарок, здесь вовремя похвалил или, наоборот, поставил её на место, проявил себя как мужик. Математика… Готовые формулы… или составленные тобой… Главное — правильная последовательность… Ну и, соответственно, определить цель, какую хочешь достичь: отличный трах на один раз или долгосрочное, счастливое семейное счастье… Определил приоритеты, вывел в башке нужную формулу — и вперёд…
— А я думаю, всё от размеров члена зависит, — подал голос Ванька.
— Так это она только после первой ночи решит. Ты сначала её в спальню затащи… — сказал Дэн. Сид подхватил:
— Большой член, маленький, — не всё равно? Это как водка… Что «пол-литра», что «чекушка»… от объема суть не меняется… Водка остается водкой… Член — членом…
— Ещё как меняется! — возмутился Ванька. — Выпить литр или стакан! Разница же есть!
Я понял, что мои внутренние детекторы, спустя несколько мгновений, расшифровали мои чувства как
ЗАВИСТЬ.
Вот они — Сид, Ванька, Дэн, Филипп… Сидят и болтают о женщинах, арифметике…
Едят яичницу.
Водят свои автомобили.
И яичницу едят тоже свою.
Захотят — оденутся и пойдут гулять по городу. Захотят — отправятся на пляж загорать… Или вообще ничего не захотят — будут целый день смотреть телик и валяться на диване…
Вспомнив череду одинаковых дней в палате номер 417, хождения по пустым ночным коридорам, пахнущим мочой и лекарствами, одинаково белые халаты медиков, одинаково безликие фигуры пациентов…
…понимаю: сейчас мне гораздо лучше.
Сейчас я в реальном мире.
Но, в отличие от всех сидящих в комнате, я не полноправный его обитатель. Я как таракан, выбежавший из-под дивана и бегущий пока вне поля зрения хозяина квартиры. Вот сейчас Он заметит меня, снимет тапочек и
БАЦ!
Я подпрыгнул на месте.
Дэн держал тапочек в руке, брезгливо рассматривая подошву:
— Во суки! От соседа, по ходу дела, лезут…
* * *
На вокзале меня провожают все. Я придерживаю лямку нового, подаренного Сидом взамен украденного (ну да), рюкзака. Постоянно притрагиваюсь правой рукой к заднему карману: здесь мой (!) паспорт (!) и билет на поезд.
Все — Сид, Макар, Лена, Фил, Дэн, Ванька — курят, похлопывают по плечу, говорят о моей дороге, о гадких таможенниках, о том, что в море купаться прикольней, чем в Волге. О том, что сезон дождей в Крыму, закончился. И, если что, — вот номер телефона… Звони…
Я вполуха слушаю, киваю, улыбаюсь, распихиваю по карманам визитки. С благодарностью принимаю пакет с бутербродами от Лены, а сам с еле сдерживаемым ужасом думаю о том, что сейчас мне придется распрощаться с ними и опять попасть в закрытое (пусть движущее меня к цели) пространство с незнакомыми людьми.
Преодолевать вакуум неловкости.
Хотя я знаю, что лучший способ — это молчать.
Рядом всегда окажется кто-то болтливый. Молчи. И на его фоне ты будешь неприметен.
— Так! Заходим в вагон! — кричит молодая и чрезвычайно полная
«проводница — слово вспомнил только что.
Все по очереди жмут мне руку.
Лена прикасается губами к моей щеке.
Я вскакиваю на подножку. Машу им рукой. Поезд набирает скорость.
Проводница захлопывает дверь.
* * *
До границы ещё далеко.
В пути уже час.
Ровный звук движения поезда. Перестук колес. Гудок локомотива… Резко врывающийся и так же резко исчезающий ШУМ — ВИД — СВЕТ — встречного состава.
Час.
Шестьдесят минут.
Почти всё это время ушло у меня на то, чтобы выровнять дыхание. Успокоить сумасшедший стук во внутреннюю поверхность грудной клетки…
Я пытаюсь взять себя в руки.
Делаю вид, что читаю газету.
Наконец эмиссары Паники, совершив ритуальные пляски, растворились.
Я отложил газету и стал смотреть в окно.
Итак…
Если собрать всё МОЁ, отдалённое во времени, разорванное эмоциями и событиями,
получается:
сначала постепенно, но с каждым днём, с каждым миллиметром
всё быстрее, всё увереннее складывающаяся мозаика,
головоломка без множества
(но складывающаяся же!)
элементов…
Понять, что представляет она из себя в целом, невозможно.
Пока.
Так… Разрозненные цветовые пятна…
Детали общего…
Целого.
— Молодой человек!
Спрятавшись за покрытый мурашками щит отчуждения, я стараюсь как можно дольше не вступать в контакт с соседями по купе.
Что ж.
Придётся…
— Да.
— Вы бы не могли поменяться с нами местами… У вас нижняя полка, а у меня маленький сын. Мне было бы удобно положить его внизу и лечь на соседней полке. У нас два верхних… И одно нижнее место…
Мои соседи — симпатичная темноволосая женщина в тёмной юбке и блузке и её сын — мальчик лет четырёх. Смотрит на меня, взяв в охапку огромного плюшевого медведя.
Столик в купе — деликатно оккупирован: стопка салфеток, бутылка, кружка, пакет с яблоками, несколько ярких журналов…
Только что третий за последние полчаса отправился на вторую полку.
Оттуда — я чувствую это с той минуты, как переступил порог купе, — на меня постоянно направлены два радара.
Впервые решаюсь поднять глаза.
Подпёрла рукой голову, смяла рыжеватую прядь. Лениво перелистывает цветные страницы.
Но ни разу, даже на секунду, не перевела взгляд на полиграфическое изображение.
Лениво смотрит сверху вниз.
Кажется, даже не моргнула ни разу.
Смотрит прямо в глаза и зачем-то — для звука что ли? — шелестит бумагой…
Если поменяюсь местами — буду в полуметре от неё.
Дочь?
— Давайте поменяемся…
Странная…
Из тех, кого Сид называет «Кися-Ляля»…
Не меняя позы и с равными промежутками перелистывая страницы журнала, внимательно следит за тем, как я:
достаю рюкзак,
швыряю его наверх,
карабкаюсь на вторую полку.
Ещё мгновение, и я — зеркальное отражение её.
Подпираю левой, а не правой рукой щеку. Листаю свою газету.
Но не смотрю в строчки и фото.
Смотрю на неё.
Хм…
Взгляда не отводит.
Именно про подобное рассказывал мне Сид. В этом возрасте у четверти — всего лишь у четверти — происходит НЕЧТО, заставляющее не спать по ночам, крепко сжимать коленки днем, долго находиться в ванной вечером…
Глаза становятся глубокими и влажными.
Губы — яркими и припухлыми.
Сущность, опережающая тело.
Желания, обогнавшие возраст.
Она (наконец-то!) опускает глаза в журнал.
Я отворачиваюсь к стенке.
Почти уверенный: где-то я её уже видел.
Или все «Киси-Ляли» похожи друг на друга?
* * *
Нетерпение, влекущее к Югу.
Покатившееся по слегка наклонной плоскости пустоголовым шариком для пинг-понга теперь превратилось в стальной, отполированный и всегда прохладный шар от гигантского подшипника. Шар-победитель, пущенный рукой снайпера по дорожке невероятного боулинга. Стотонный, сверкающий хромом грузовик, мчащийся по встречной полосе на максимальной скорости.
Где я — за рулем.
Или затравленным кроликом смотрю на приближающуюся громаду?
В рюкзаке, который я выбросил тогда через забор вместе с очками Сида, на самом деле ничего, кроме нескольких смятых газет, не было.
А вот в новом, ещё пахнущем магазином, полезного много. Например, бутерброды, сделанные заботливой женой Макара.
Вечером мои соседи, собравшиеся ужинать, приглашают меня к столу. Бутерброды присоединятся к нехитрой снеди, которую Вера Петровна — можно просто Вера — нарезала и разложила прямо на большом листе оберточной бумаги:
— Угощайтесь.
Я беру яблоко: яблоки мне нравятся.
— Меня зовут Лёша, — сообщает вдруг мальчик. — Мне четыре года.
— Меня тоже Лёша, — говорю я, усмехнувшись.
— А тебе сколько лет?
Какой любопытный мальчик.
— Много.
М-да. Если бы я сам знал.
— Так! Лёшенька, не приставай к дяде. Кушай.
Вера вручает сыну кусок сыра. Тот послушно начинает жевать.
Дядя. Ха… Дядя Лёша.
Дядя Дровосек. С железным топором.
Идущий по жёлтой дороге.
В Изумрудный город.
За красным сердцем.
По (ха!) между прочим — железной дороге, железный Дровосек.
— А это Ксюша. Моя старшенькая.
Сидит в углу, забравшись с ногами. Смотрит не мигая.
— Ксюшенька, ты почему не кушаешь?
Берёт яблоко. Кусает. Я пока так и не услышал её голос.
Странная…
Или хочет казаться странной?
За окном стемнело. Под потолком купе зажегся свет.
Беспокойство, связанное с необходимостью общения, улеглось.
Остались другие виды беспокойства.
* * *
— Мама! Я хочу пи-пи!
— Лёшенька, ну ты же десять минут назад был в туалете!
— Хочу опять!
Вера Петровна, читавшая книгу, вставляет закладку на нужной странице, снимает очки:
— Ну раз хочешь — пошли.
Она берёт сына за руку и отодвигает дверь. Через пару мговений их нет.
Тихо. Только перестук колёс. Тени и световые пятна, изредка мелькающие за окном.
В третий раз за последние восемь часов я остаюсь один на один с Ксюшей. За это время она ни разу не произнесла ни звука…
А может, она… (я попытался найти в своём внутреннем ангаре когда-то слышанное слово)
«немая» — вот оно.
Может, она действительно немая.
Дверь отъезжает в сторону:
— Чайку желаете? — это проводница с подносом, на котором позвякивают несколько стаканов.
— Да, — говорю я, — мне один.
Проводница ставит поднос на стол. Я лезу в рюкзак за деньгами. Потом спрашиваю у лежащей на верхней полке:
— Ксюша, ты чай будешь?
Кивнула.
— Тогда дайте четыре. Вдруг остальные тоже будут, — говорю я, протягивая деньги. Располагаюсь на нижней полке. Беру свой стакан, размешиваю сахар.
— Ненавижу, когда меня называют Ксюша.
Значит, не немая. А голос ничего, приятный. Спустилась вниз, села напротив, взяла стакан в обе руки. Смотрит светлыми глазами. Дует на кипяток.
— Меня зовут Ксения. Называй меня так.
— Ладно.
Молча пьём чай, пока не возвращаются Вера Петровна с Лёшей. Малыш сразу тянется к стакану.
— Нет! — строго говорит мама, одергивая сына. — Нельзя тебе чай! Ты меня что, всю ночь будешь в туалет гонять, а?
Ксения едва заметно улыбается. Я тоже — едва.
Потом все укладываются спать.
Я зеваю. Поудобней устраиваю правую руку. И почему-то почти сразу засыпаю.
Просыпаюсь, как всегда, резко. Как будто поспал всего пару мгновений. Но понимаю, что уже глубокая ночь.
Лезу под подушку за часами: так и есть, три часа ночи. Зеваю и бросаю взгляд на соседнюю полку.
Проплывающий за окном фонарь на секунду выхватывает её из полутьмы, словно фотовспышка. Я сразу отворачиваюсь.
И лежу без сна целый час.
Мучительно изнывая от дискомфорта, который доставляет заставшая врасплох эрекция. Вместо того чтобы спать, Ксения в той же позе, в которой читала журналы, лежит и смотрит на меня.
Только на ней абсолютно нет одежды.
Никакой.
«Что? — думаю неподвижный внешне, но мечущийся, словно зверь, внутренне. — И тебе я кажусь не серой геометрической фигурой, а большим разноцветным пятном?!»
«Ну-ну! — с неожиданной злостью думаю я. — Мы это уже проходили! Одна уже пялилась на меня своими чёрными гляделками! И куда это её привело?!»
Неожиданная злость удивляет меня и успокаивает. И я засыпаю.
* * *
— Таможенный контроль! Приготовьте паспорта, пожалуйста! — это проводница предупреждает.
Раннее утро. Вот она — граница. Мощный прилив адреналина: я прямо чувствую, как он шумит, растворяясь в моей крови и убивая остатки сна. Ну что же, я готов.
Достаю свой паспорт и в сотый, наверное, раз просматриваю его. Понимаю: даже если Сид решил подшутить надо мной и всунул какое-то фуфло из магазина сувениров, я знать это не могу. Потому что не знаю, как должен выглядеть настоящий заграничный паспорт. Зато пограничники и таможенники отлично знают. Сейчас и проверим.
Первыми появляются люди в зелёной форме с собакой. Та мимоходом суёт нос в купе.
— Собачка! — восторженно говорит Лёша.
Потом двое с дипломатами. Быстро ощупывают взглядом верхние полки. Просят показать, что под нижними местами.
— Теле, видео, аудиоаппаратуру везёте?.
Мы с Верой Петровной отрицательно покачиваем головами. Уходят.
Вот и те, кому мы по очереди протягиваем паспорта.
Сначала Вера Петровна.
— Дочке сколько лет?
— Пятнадцать… Ксюша, покажи свой паспорт!
Та протягивает красную книжечку. Пограничник смотрит пару секунд. Достаёт печать и —
Щёлк! Щёлк!
в обоих паспортах. Возвращает владельцам.
Я протягиваю свой.
По-моему, у меня вместо крови один сплошной адреналин.
В сотый раз за последние несколько суток.
Пограничник смотрит на фото.
Потом на меня. Листает пару страниц. Я взмок:
Зачем?! У Веры и Ксении не листал! Или листал?! Не помню!!!
Паника. Вой сирен и взрывы — удары сердца.
— Родственники? — кивает на соседей. «Нет», — машу головой. Достаёт печать. Щёлк.
— Ласково просимо до Украины.
Отдают честь и уходят.
Блин! Я скоро привыкну к таким эмоциональным встряскам? Станут для меня обычным делом? Или сдохну от передозировки ужаса и страха?
— А говорили, все вещи перетряхивают, — сказала Вера Петровна. — Ничего, оказывается, не перетряхивают…
Я перевожу дух. Поднимаю глаза на верхнюю полку:
Так тебе пятнадцать, милая Ксения?
Хм… Вспоминаю Сида: «Чует мое сердце — где-то в верхах продвигают свои интересы высокопоставленные педофилы. Смотри: сначала совершеннолетие с четырнадцати, теперь браки разрешены с того же возраста… Похотливые стариканы могут пердолить любую Кисю-Лялю, и ничего им за это не будет. Если по обоюдному согласию. Скоро, мля — инцест узаконят. И зоофилию… А моя-то, ну никак не выглядела на свои четырнадцать. Всё при ней. Я и думал, что ей восемнадцать… Акселерация…»
Поезд трогается. Спать уже никто не ложится: лампы под потолком гаснут, в окно светит солнце. В вагоне поднимается утренний шум. Проводница разносит чай. Хлопают двери купе.
Мда… Если учесть то, что я увидел ночью в короткой вспышке случайного фонаря — акселерация движется полным ходом. Перевыполняя план и выпуская продукцию со «знаком качества».
— Чайку желаете?!
* * *
Симферополь. Несколько сотен пассажиров. Милиционеры. Крикливые смуглые носильщики с огромными тележками. Цыганки, продавцы семечек. На секунду всё это выбивает меня из колеи.
Но только на секунду.
Я привыкаю. И это меня радует.
Я — один из них. Мой шрам на затылке прикрыт отросшими волосами. Я одет как большинство молодых людей вокруг. Я — один из них. Почти.
Помогаю вынести из вагона и дотащить до стоянки такси тяжеленные сумки Веры Петровны и её семейства.
— Ты сам-то куда? — поблагодарив, спрашивает она меня.
— В Ялту…
Выясняется, что через пару дней они сами направляются туда же:
— У меня там сестра двоюродная живёт.
Поэтому получаю подробнейшую словесную инструкцию, как наиболее быстро и дёшево доехать в город Ялта и недорого снять жильё.
Прощаемся. Пока мать усаживает Лёшу на заднее сиденье, Ксения, держась рукой за открытую дверь, стоит
и смотрит.
И продолжает смотреть, пока такси не скрывается в потоке автомобилей.
Уже приближаясь к Ялте по вьющейся среди скал дороге, ещё раз возвращаюсь к мысли: где-то я уже её видел.
Где?
* * *
Город как город. Хотя нет. Столько загорелых и весёлых людей одновременно я ещё не видел. Бреду по каким-то улочкам и — раз! — неожиданно оказываюсь на набережной. Ого!
Это чего — и есть море?
Ни фига себе шумит.
Кручу головой по сторонам: ни фига себе — девчонки же почти голые! Память выбрасывает пару бонусов. Хм… Сейчас проверим… Подхожу по крупной гальке прямо к набегающей волне, опускаю руку в тёплую воду. Облизываю палец:
Точно. Солёная. Это я, оказывается, знал. Смотрю на свою кожу: блин! Ну и бледный же я! Сразу выделяюсь среди местных. Хотя, где мне было загорать?
Я вспоминаю
бездонное чёрное небо,
мороз, щупающий щеки,
гигантский, многоэтажный куб с редко горящими окнами, разбросанными по всей поверхности…
Величественный в своём одиночестве на безбрежных заснеженных равнинах. Громадный северный медпункт.
Меня передергивает.
Не… Назад по своей воле не вернусь.
Так… Ну что же? Найдём «недорогое жилье»?
* * *
С бабой Машей сторговались, когда солнце клонилось к закату. Не потому, что так долго вёлся торг. Просто у всех её соседей постояльцы уже имеются. Двигаясь вверх по улице, я постучался в десяток ворот. В последнем доме возле какого-то пятиэтажного пансионата нахожу бабу Машу. Плачу за десять дней вперёд — это минимум. Получаю в свои владения тесный… как его?..
Бонус: «флигель».
Ага… Флигель. Одна кровать — точная копия больничной, электропечка, стол, стул. В углу — нагромождения красновато-белых цилиндров, медные и хромированные части… Что-то знакомое…
— А это хай тута постоит, ладна? — баба Маша кивает в угол. — Це мово внучка дребедень… Он в мэнэ того…
Она пожевала губами, вспоминая:
— Той, що на барабанах…
Точно. Это барабаны. Как у Ваньки в Самаре. Только там они были аккуратно расставлены. Пожимаю плечами:
— Пусть постоят.
Через несколько секунд остаюсь один. Сажусь на хрустнувшую сеткой кровать. Снимаю рюкзак, бросаю его на пол. Ложусь на спину, раскинув руки в стороны, и смотрю в грубо побеленный потолок:
Ну… Давай… Планируй… Ты это замечательно умеешь делать, вроде бы?
Я слабо улыбаюсь сам себе.
Слышу, как невдалеке шумит море.
Глаза начинают слипаться: дорога и переживания меня изрядно вымотали.
Не… Спать не буду.
Я встаю. Раздеваюсь. Натягиваю плавки. (Да-да! Плавки!) Сид, движимый желанием возместить мою пропажу (ха!), набил рюкзак всем необходимым. Хотя ни плавок, ни носков, ни крема для бритья и много другого у меня изначально не было.
Ну и ладно. Ну соврал.
И мне не стыдно.
Ну что? Пойдём проверим, умею ли я плавать? Тем более, почти стемнело. И если что, всё равно никто не увидит.
Подходя к пляжу, впитывая в себя звуки и запахи, понимаю причину своего почти легкомысленного созерцания окружающего.
Нетерпение, свившее когда-то гнездо в моём сердце и толкающее меня, пинающее ногами, дёргающее за воротник и тлеющее внутри,
потухло. Оставило меня в покое.
Но место его не пустует.
Теперь здесь другой постоялец — ожидание.
А оно, по всем правилам, должно завершиться результатом. Результатом либо положительным. Либо…
«Путь неблизкий», обещанный мне, завершен.
Есть Муха. Есть я. Каждый из нас движется своей дорогой. В своём направлении. Со своей скоростью.
Но где-то наши пути пересекутся. В какой географической точке?
Плацдарм определён.
Мне, как бестолковому насекомому, придётся тыкаться в картонные стенки лабиринта и ползти дальше. Или опытным стратегом я поставлю на карте флажок — здесь! — и назову штабным офицерам час икс?
«Хлопот много будет», — обещали мне.
Да. Есть подозрения, что много.
* * *
— Два пломбира.
Протягиваю деньги, забираю два стаканчика, холодящих ладони. Немедленно откусываю белую, сладкую, сводящую зубы субстанцию.
«Мороженое». Я думал, что уже хватит удивляться, но это… Когда я понял, что здесь за деньги (?!) ПРОДАЮТ СНЕГ?!! Да ещё такими маленькими порциями… Да… Со мной случилась небольшая локальная истерика. Особенно когда я представил себе бескрайние равнины При— и Заполярья.
Полдня я думал, что эти стоящие с холодильниками вдоль набережной люди — жрецы чужого культа, пытающиеся обратить в свою веру местное население. Миссионеры ХОЛОДА с передвижными мини-храмами. Совершающие обряд причастия прямо на месте: «Веришь? Давай деньги! Вот тебе облатка. Причащайся!»
Может, заодно они вылавливают заблудших и возвращают в лоно церкви? Таких, как я? Хватают, садят в рефрижератор и — на Крайний Север. В ледяные вериги. В низкотемпературную келью. Читать псалмы под гул Северного Ледовитого… Чтоб не повадно. А то, ишь! В Ялту он…
Дородная тётка с объемистой грудью хватать меня не стала. И тот парень в белом фартуке. Они вообще на меня не посмотрели. Я даже прошёл мимо обоих два раза. Потом купил первый пломбир. Три дня только им и питаюсь.
Да… Три дня. В первый вечер я вошёл в воду и вдруг…
Поплыл. Шевелил руками и ногами. Нырял. Фыркал. Рассекал абсолютно потрясшую меня тягучую, колышущуюся массу — воду. Плавал, испытывая странное удовлетворение. Потом бродил вдоль ярко освещенных кафе и баров. Не решаясь войти в зону света. Наблюдал за посетителями из темноты. Слушал музыку. Их голоса.
И главное, всматривался, буквально впивался взглядом в каждое женское лицо.
Как она выглядит?
Что она делает?
Так и ходил, почти все два часа, в плавках. Держа в одной руке полотенце, а в другой кроссовки.
Следующим утром я зашёл на самый дальний пляж и начал не спеша продвигаться вдоль линии прибоя. Внимательно всматриваясь в каждого. Вернее каждую. Особенно молодую. Особенно с мальчиком.
Через час я понял, что это достаточно утомительное занятие. Через три — устал. Потом я понял — это бесполезно. Невозможно. Невыполнимо.
Молодых женщин с сыновьями, братьями и племянниками оказалось не просто много. У меня появилось стойкое убеждение, что именно они — основное население планеты Земля. Их сотни, тысячи… Одни лежат, уткнувшись носом в надувной матрас — нельзя рассмотреть лицо. Другие перемещаются с пляжа на пляж. Третьи следят, чтобы далеко не заплыл. Четвёртые, чтобы не упал, катаясь на роликах. Пятые, двадцатые, трёхсотые…
Скоро у меня зарябило в глазах от разноцветных купальников и солнечных зайчиков на воде.
Я купил тёмные очки.
Когда живот стал подавать сигналы голода, съел пломбир.
Солнце раскалило мою голову, и в затылке появилось любопытное ощущение.
Накрыл голову полотенцем.
Через два часа съел ещё одно мороженое. Поплавал, стараясь не спускать глаз с женских лиц. Ходил, выставляя своё на всеобщее обозрение.
Потом село солнце. Я понял, что голоден, что ноги мои больше не хотят переставляться, глаза болят и что я обгорел.
Баба Маша намазала меня кефиром, отругала и дала стакан молока с булкой. Я благодарно съел этот ужин и спал всю ночь на животе, поминутно просыпаясь от жары, насекомых и нестерпимого жжения на подрумянившихся участках кожи.
Утром следующего дня, разбитый и не выспавшийся, я снова отправился на пляж. Хватило меня ненадолго: в полдень, присев отдохнуть под зонтиком, я просто заснул. Проснулся спустя несколько часов: солнце уже утратило злую активность. Детские крики, шум волн и музыка не помешали мне более-менее выспаться. Я поплавал, освежаясь и снова не спеша двинулся по набережной. К концу дня понял, что подобная система малоэффективна. Особенно когда обнаружил закрытые пляжи — собственность санаториев. Побродив для очистки совести по барам после захода солнца, я решил со следующего дня уделить внимание домам отдыха.
И вот он следующий день.
Хорошенько выспавшись, ранним утром я отправляюсь на пляж с вполне конкретной целью: посмотреть на тех, кто ни свет ни заря поднимаются для утренней пробежки. Вспоминая Сида, который каждый день уделял этой процедуре полчаса, — я знаю, что подобные люди существуют. Вдруг Муха относится к их числу?
Да, бегуны действительно есть. Не много, но есть. Я, забравшись на невысокое бетонное ограждение с ногами, внимательно всматриваюсь в каждое лицо: нет… ни одно из них мне не знакомо…
И я им, похоже, не знаком… Вон — равнодушно скользят взглядами.
Глядя одному из них в спину, вдруг испытываю странное ощущение: словно тень мелькнула перед глазами, словно холодок моего титанового затылка стал острее. Странное… Знакомое…
Бегуны. Они бегут вдоль автострад. На окраинах огромных мегаполисов. Окутанных дымом индастриэл-центров. Вдоль трасс, пролегающих среди терриконов Угольного бассейна.
Они бегут до той точки, где их путь пересекается с
…грузовиком Валентина Николаева.
Они знают НЕЧТО, предназначенное не для всех. Это НЕЧТО принадлежит к разряду абсолютно особенных (вещей?) (мест?).
Я ощутил нестерпимый зуд в руках, предшествующий пугающим меня мощным вспышкам.
Вот оно!
Николаев, фамилию которого я взял себе, систематически передавил, уничтожил, расплющил
убил!
десятки бегунов. Если не больше.
И сейчас скрывается от их мести в далёком северном медпункте.
А они рыщут вдоль трасс, разыскивают его, предлагая себя в качестве приманки…
Решение, пришедшее ко мне, показалось мне единственно верным. Гениальным.
Я прямо сейчас скажу им, где Николаев. Сдам его Клану Бегущих. Скажу, где прячется этот убийца их собратьев. Пусть они втопчут его в гравий обочин, в асфальт дорог и спецпокрытие стадионов. Пусть частицы его праха сольются с твердой структурой беговых дорожек всего мира!!! Пусть он будет казнён, истерзан, четвертован!!! Да!!! Да… Я скажу им, где Николаев.
Но в обмен. В обмен на информацию о НЕЧТО. Ведь я почти уверен, что НЕЧТО — это место, где мой путь пересечётся с Мухой.
Отлично.
Я вскочил с бетонного забора и направился к очередному приближающемуся ко мне бегуну. Крепкий мужчина в чёрных спортивных трусах, белых кроссовках и ярко-красной футболке.
— Здравствуйте, — вежливо сказал я, останавливаясь. Он удивленно посмотрел на меня и, замедлив бег, тоже остановился.
— Привет, — оглядев меня с ног до головы, произнёс он.
— Скажите своим, — торжественно начал я, — я знаю, где Николаев.
— Кто? — мужик нахмурился.
— Николаев.
— Какой Николаев? — мужик сделал шаг, собираясь уходить. — Ты меня с кем-то перепутал…
— Тот самый, — придержал я его рукой и выразительно подмигнул левым глазом.
— Ясно, — сказал мужик, — иди протрезвей.
И побежал дальше.
Примерно так же сложились мои диалоги ещё с тремя бегунами.
Мда… Этот пункт не удался.
Ладно. Пойдём совершим экскурс по домам отдыха.
* * *
Санаторий «Нефтяник», Дом отдыха «Золотой Берег», «Богатырь». Я набродил возле каждого из них по часу. Специально засёк. Ну да, есть тут девицы с братьями, племянниками и так далее. В каждом здании по десять — пятнадцать. Ни одна мне знакомой не показалась. Не затронула рубильник моей памяти. А таких заведений по побережью — с полсотни.
— Ну же! — приказал я своему внутреннему Я, — планируй!
Внутренний Я промолчал. Ладно… Муха. Может, это прозвище, образованное от фамилии? Как Сид — от Сидорова? Какая может быть фамилия у Мухи — Мухина?
Я вернулся к первому санаторию и, войдя в здание, подошёл к дежурному:
— Можно увидеться с Мухиной? Она у вас тут с мальчиком отдыхает.
Дежурный, вернее дежурная, строго посмотрел на меня поверх очков.
— Зачем?
Холодный пот выступил по всему телу. Ослабли ноги. Что?! Вот так — сразу?!
— Мне очень нужно с ней поговорить, — выдавил я из себя, начиная дрожать, — очень-очень-очень!
— Нельзя.
— Почему? — чуть не закричал я. — Почему?!
Я почувствовал, что пот стал горячим.
Дежурная с интересом наблюдала за мной пару секунд, потом произнесла:
— У нас такая не проживает.
— Но мне… — начал я и осёкся. Почувствовал как кровь прилила к щекам. Вот ведь. Забыл совсем, что люди иногда шутят…
Я, чуть ли не в буквальном смысле, потух. На минут двадцать. Потерял интерес ко всему происходящему… Пошутила тётя… А я пережил, наверное, самую сильную эмоциональную встряску в моей, итак наполненной взрывами адреналина в последнее время, жизни.
Переводя дух, я посидел на лавочке. Ладно, надо двигаться. И я двинулся. К следующему санаторию. А после — к другому. И вот в этот зашёл, возле которого покупаю сейчас:
— Два пломбира.
Протягиваю деньги, забираю два стаканчика, холодящих ладони. Немедленно откусываю белую, сладкую, сводящую зубы субстанцию.
У дежурных в санаториях и домах отдыха чувство юмора, очевидно, выпускается на одной и той же фабрике. С одним и тем же набором шуток. И фраз: «Зачем», «Нельзя», «У нас такая не проживает».
Последней дежурной, пока она медлила с «У нас такая не проживает», я чуть не разбил на башке вазу с цветами.
«Не проживает…»
Откусив первый кусок пломбира, смотрю по сторонам в поисках свободной лавочки. Нахожу отличное место в тени дерева. Вытягиваю ноги. Не спеша, наслаждаюсь прохладой, ем мороженое. Мимо, вдоль берега, где утром я общался с бегунами, прогуливается множество людей. Я отмечаю про себя, что уже ничем не отличаюсь от большинства: кожа моя приобрела золотистый оттенок. Отлично.
Я принимаюсь за второй пломбир, он начал подтаивать, и мне приходится слизывать сладкие липкие капли с пальцев. С удовольствием наблюдаю за стройными, загорелыми девчонками. Мне нравится. И я знаю, что это — нормально. Знаю, и всё. Две симпатичные, проходящие мимо, улыбаются мне. Я тоже им улыбаюсь. Смотрю им вслед, и это мне тоже нравится. То, как выглядят женщины со спины. Особенно в купальниках…
Так. Что мы имеем? Мы имеем огромное количество санаториев и домов отдыха. Если методично обходить их — понадобится несколько дней. По пляжам можно бродить неделями. Я лично не против. Но не для этого я сюда стремился. Ладно. Буду действовать методично. Проверю все санатории.
Хотя не факт, что она в одном из них находится. И что дежурная захочет её позвать. И что Муха — производное от фамилии Мухина, а не просто nickname — второе имя для общения в Сети…
И тут я просто остолбенел от пришедшей мысли:
С чего это я вообще решил, что Муха — это женщина?!
Подобное открытие просто убило меня. Я тупо уставился себе под ноги.
Дурак. Полный дурак. Имбецил…
Подумать о том, насколько всё плохо, я не успел. Потому что услышал:
— Здравствуй.
Справа от себя. Женский голос. Я повернул голову.
Два радара. Кися-Ляля-Ксения.
Сидит, поджав под себя одну ногу и облокотившись о спинку лавочки. Два цветастых узких куска ткани — купальник. Волосы — в рыжеватый хвост. Маленькое колечко блестит на мизинце. Успела подрумяниться на солнце, как и я.
— Здравствуй, — отвечаю. Принимаю ту же позу, что и она.
— Что делаешь? — она поправила выбившуюся прядь.
— Сижу.
— Ха-ха, — спокойно говорит она, слегка склонив голову набок.
— Вот именно, — отвечаю я. Красивая. А вырастет — ещё красивее будет.
— Ты почему не бреешься? — вдруг спрашивает она.
Я трогаю подбородок. Хм… Действительно, что-то забегался совсем. Щетина. Трёхдневная.
— А что? Нельзя? — спрашиваю я.
— Нельзя. Мне нравится, когда мужчина гладко выбрит, она опять слегка склонила голову.
«Интересно, — подумал я, — а ты сама-то ноги бреешь?» Ибо ноги её — особая история. Ровные, гладкие — не у каждой такие найдутся. За пару дней на пляжах я видел разные. Как у неё — нет.
— Чем тебе мешает щетина? — спросил я.
— Когда целуешься, раздражает кожу.
Спокойно ответила. Спокойно смотрит. Я даже отвлёкся от мысли, что то, как оттопыривается полоска ткани на её груди, мне нравится. Почувствовал себя слегка неловко:
— Как это понимать?
— Как хочешь.
А ей, видно, всё нипочём. Или игра у неё такая? В спокойствие.
Я внимательно смотрю ей в глаза. Или в гляделки? В гляделки я уже с одной играл. Выиграл. А она со мной играла в спокойствие… Проиграла… (Стоп. Лучше об этом сейчас не думать).
Яркие, припухшие губы.
И они тоже мне нравятся.
— Ты куришь? — спрашивает вдруг Ксения.
— Нет, — отвечаю я.
— А я курю, — говорит.
— Поздравляю.
— Но у меня нет сигарет, — невозмутимо продолжает она.
— И что? — ничего не понимаю.
— Пойди попроси вон у того мужчины пару сигарет, она лёгким движением головы кивает в сторону здоровенного дядьки в шортах: он как раз прикуривает от блестящей бензиновой зажигалки.
— Не хочу.
— Алексей, — она выпрямила спину, — дама хочет курить.
— Ладно.
Я подхожу к дядьке, который уже успел удалиться, и прошу пару сигарет. Он не жадничает. Возвращаюсь с уловом обратно, протягиваю ей.
— Вот.
Она смотрит снизу вверх и не делает ни одного движения.
— В моём возрасте курить в общественных местах не принято. Не хочу шокировать публику.
— И что я должен делать.
— Подать даме руку.
Я протягиваю ей руку. Она легко вскакивает со скамейки, взметнув хвостом, поворачивается ко мне спиной и делает шаг в сторону тенистого сквера:
— Пошли.
Зажав в кулак сигареты, следую за ней. Идёт мягко, не виляя бёдрами, как это делает большинство девушек на набережной. На аккуратных ягодицах — две полоски: отпечатались следы от досок скамейки, на которой она сидела. Хороша. Очень понимаю тебя, Сид.
Отходим метров на двадцать в сторону. Скрываемся за кустом. Останавливаемся. Она молча протягивает руку. Даю ей сигарету. Вспомнив, вдруг говорю:
— А как же огонь?
Она слегка улыбается. Разжимает кулачок. В нём малюсенькая зажигалка:
— Всё под контролем, мой Принц.
— Принц?
Она прикуривает и выпускает клуб дыма. Держит сигарету между двумя пальцами правой руки. Смотрит. Молчит. Я тоже молчу. Я могу долго молчать. Она прикуривает вторую сигарету от первой. В тишине приканчивает и эту.
Легко берёт меня за руку. Так — с её прохладной ладошкой в своей — возвращаемся к набережной. Проходим мимо лавочки, на которой уже сидит какое-то семейство.
Она смотрит себе под ноги. Я чувствую себя… неловко? или глупо?.. Нет. Всё-таки неловко.
— Почему ты не приглашаешь меня никуда вечером?
Вот сейчас точно — глупо. Куда? Зачем? Вслух:
— Вечером?
— Мне тут скучно. Я никого не знаю.
— У меня такая же ситуация, — говорю я. А думаю: «Но мне вовсе не скучно».
— Вот видишь. Теперь мы знаем друг друга. Ты единственный знакомый мне мужчина, — говорит она. Потом уточняет:
— Здесь. А я — единственная знакомая тебе дама. Почему бы нам вечером не сходить куда-нибудь вместе?
Действительно. Почему нет?
— Тем более мама меня одну не отпускает. А ты ей понравился. С тобой она отпустит…
Ах вот оно что. Мама не отпускает.
— Со мной отпустит?
— Думаю, да.
Она слегка сжимает мою руку и смотрит в глаза:
— Проводишь меня сейчас домой?
Я пожимаю плечами:
— А я что, по-твоему, делаю?
* * *
Вера Петровна действительно обрадовалась, увидев меня. Захлопотала. Познакомила со своей сестрой, кучей племянников, имён которых я не запомнил. Стала накрывать на стол, за которым уже сидел мальчик Лёша, которому четыре года и сосредоточенно ел варенье, черпая его большой ложкой из трёхлитровки. Он помахал своим черпаком — по-другому и не назовёшь — в знак приветствия. Я потрепал его по голове:
— Как дела?
— Нормально! — ответил он, запрокинув голову, чтобы посмотреть мне в глаза; нос и подбородок у парня тщательно измазаны вареньем. Такое ощущение, что он именно для этих целей использует продукт.
Спустя полчаса сидим за столом. Пьем чай. Вера Петровна кивает на сына:
— Весь в отца. Тот тоже варенье банками лопает.
— А где ваш папа? — спрашиваю я.
Вера Петровна слегка киснет лицом:
— В больнице лежит. Так хотел с нами поехать на море… Да вот незадача. В аварию попал. Ну ничего, сейчас у него дела вроде как на поправку пошли.
Поговорили о здоровье. О хорошей погоде. О том, где я поселился. Удачно? Ну вот видишь — молодец какой…
— Мама, — вдруг сказала Ксения, — можно я с Алексеем пойду вечером на дискотеку.
Вера Петровна глянула на меня.
— С Алексеем? А ты книги, которые на лето задали, прочла?
— Мама!
Вера Петровна рассмеялась:
— Да шучу я, шучу… Можно, конечно… Но не позже одиннадцати — домой.
— Двенадцати, — сказала Ксения.
— Ну хорошо, хорошо… — она подняла руки, сдаваясь. — Не позже двенадцати.
* * *
Я зашёл за ней незадолго до того, как окончательно стемнело. Она сама попросила меня об этом.
Выпорхнула из калитки — простое платье по фигуре, босоножки — и сразу, будто всю жизнь это делала, взяла меня под руку:
— Пошли?
— Пошли…
Мне нравятся её прикосновения. И запах, исходящий от её волос. Хороший запах. Хороший, тихий вечер. Хорошая девчонка. Спрашиваю:
— Куда пойдём?
— Куда хочешь.
— Так я не знаю, какая тут дискотека получше.
— Да не нужна мне никакая дискотека, — спокойно, как всегда, говорит она.
— А что нужно?
— Ничего не нужно, — она всё так же спокойна.
Смотрит в темноте на меня:
— Просто хочу погулять с тобой, мой Принц.
— Я точно твой Принц? — улыбаюсь я.
— Абсолютно точно, — уверенно говорит она.
И мы просто бродим по улочкам, по набережной, снова по улочкам. Болтаем ни о чём. Или молчим, что чаще. Хорошая девочка. Хороший вечер. Потом я покупаю для неё пачку сигарет.
— Зачем целую пачку? — говорит она. — Мне её некуда девать. Мама если найдёт, такой скандал закатит.
— Они будут у меня, — говорю я, — а то я не хочу бегать тут по пляжу, стреляя сигареты, и разбить себе лоб в темноте.
Она рассмеялась. Наконец-то. Хороший смех.
— Пойдём где-нибудь присядем? Я хочу покурить, — попросила она. — У меня на ходу не получается.
— Пойдём…
Долго бредём вдоль аллеи, уставленной скамейками: все они заняты компаниями молодёжи или парочками. Вдруг понимаю — мы тоже парочка. Хм… Интересно.
Наконец в самом дальнем углу парка обнаруживаем пустую скамейку.
Зажигалка щёлкает кремнием, выхватывая на пару мгновений её лицо, — и снова темнота. Только огонёк сигареты в ночи иногда, когда она затягивается дымом, становится ярче.
Потом стремительный росчерк огня — полетел окурок, и — россыпь искр в месте падения его на землю.
Вот теперь наступает полная темнота. В ней белеет лицо моей спутницы. Тьма сильнее загара. Я поднимаю голову и смотрю в небо. Великое чёрное пространство. И эти звезды — миллиард мерцающих огоньков — только подчёркивают это величие: как бы они ни были далеки, границы этой бесшовной тьмы — ещё дальше, неизмеримо дальше… И нет таких цифр, которыми можно исчислить её
— Я знаю тебя, — вдруг говорит Ксения
и жаркая ночь шипит, соприкасаясь с моей похолодевшей кожей.
Что? Я поворачиваюсь к ней, и мы оказываемся лицом к лицу.
— Что? — выдавливаю вслух.
— Ты приснился мне однажды ночью в сверкающих одеждах и с огромным топором в руках, — тихо говорит она, — ты подошел ко мне и поцеловал. Это был САМЫЙ-САМЫЙ поцелуй в моей жизни.
Она придвинулась ко мне вплотную. Сердце бешено застучало, словно двигатель спортивного автомобиля, разгоняющегося в одну секунду до ста километров в час. До тысячи узлов, миль, парсеков, световых лет…
— Почему же ты не целуешь меня сейчас? Почему, мой Принц? — так же тихо произнесла она.
И вдруг — впилась в меня губами. Я не успел ни о чём подумать. Потому что в этот момент невидимый рубильник щёлкнул, посылая разряд в необозримые высоты моего ангара. Лампа неуверенно моргнула и —
ВКЛ!
И я растворился в этой абсолютно невинной с виду синеглазке. В её клубничных, сладких поцелуях и чудо какой коже, пахнущей чем-то запретным. В её стройных гладких ногах, к которым посмел прикоснуться. Я растворился в ней, а она — во мне. Я — горячая дрожь, появившаяся в её теле, от которой онемела её поясница.
И когда прохладные пальчики юной москвички прикоснулись к моему члену, выпрастывая его из (когда?!) расстёгнутой ширинки, у меня осталось пару секунд, чтобы остановить всё это.
Словно почувствовав, она оторвалась от моих губ и прошептала:
— Даже не думай.
Я командор космического крейсера перед посадкой на новую планету.
Она наклонилась вниз и выбрала нужный угол
Я — в ожидании Великого Космического Слияния.
Я — Принц в сверкающих одеждах…
Дальше я думать уже не мог.
Потому что То, к чему она так тщательно примеривалась, оказалось у неё во рту.
* * *
И этой ночью мне приснился второй сон в моей жизни:
Ксения бралась своими пальчиками и шептала:
— Даже не думай.
Наклонялась
и делала ЭТО…
А когда всё заканчивалось, она вытирала губы рукой и шептала:
— Даже не думай.
И снова наклонялась.
И с каждым разом что-то в её лице неумолимо менялось…
…словно проступали другие черты.
И шёпот.
Он тоже менялся.
И однажды вместо Ксении на меня посмотрела совсем другая женщина.
Она вытерла рот и прошептала:
— Думай, мой принц.
И я проснулся. И стал смотреть в потолок на ползущую там
Муху.
— Это ты мне приснилась? — спросил я двигающуюся чёрную точку.
Она не ответила. Я в принципе и не ждал. Предчувствие. (Опустошённость? Апатия? Нет… И в то же время — да.) Что-то произойдёт.
Я потянулся всем телом и вспомнил вчерашний вечер.
Милая Ксения. Я готов быть твоим Принцем.
В ту же секунду я услышал голоса во дворе. Негромкий разговор. Потом баба Маша чётко произнесла:
— Та тута он! У флигели. Спит, мабуть…
Спустя несколько мгновений раздался стук.
— Да, — сказал я и во все глаза уставился на дверь. Силуэт на пороге я узнал сразу.
— Входи… Принцесса…
Подошла, мягко села на скрипнувшую пружинами кровать. Чмокнула меня в щёку, положила руку мне на живот:
— Здравствуй.
— Здравствуй.
Она обвела взглядом мое временное пристанище. Заметила барабаны в углу:
— Твои?
— Нет. Не мои.
Ещё раз посмотрела в угол.
— Смотрю, телевизора у тебя нет…
— Нет, — улыбаясь, ответил я.
— У тети Зои есть, но смотреть его не могу, — сказала моя гостья, — маленький, чёрно-белый. Ничего непонятно, чего он там показывает. Так… радио с экраном.
Телевизор.
Я резко сел. Так резко, что Ксения отпрянула.
— У меня есть телевизор, — сказал я (Большой. Во всю стену телевизор).
— Большой, — сказал я, — во всю стену.
— Где же он? — спросила она. — Здесь?
— Нет, — я протянул руку и, достав из потайного кармана маленький блестящий ключик с адресом на бирке, помахал им перед её лицом:
— Здесь. Сейчас мы туда пойдём.
В большой ялтинский дом с огромным телевизором во всю стену.
В дом Ярика.
* * *
Снова что-то происходит со временем. Всё замедляется? Или я ускоряюсь?
Только что оделся, поцеловал её в щёку
И
FORWARD.
Оказались оба недалеко от дома.
Надпись на его адресной табличке совпадает с надписью на брелке: «Зелёная улица, 13». Одноэтажный. В отличие от соседних домов — никаких заборов. Лужайка с бетонной дорожкой, уходящей куда-то за угол.
По радио объявили полдень. Это — не ночью, на лавочках… Правда, улица — не многолюдна. Если быть до конца честным — встретили только старушку с бидоном.
Так…
Кися-Ляля, уцепившись за руку, вышагивает рядом.
Главное — выглядеть уверенным.
Поэтому сразу сворачиваю на дорожку. Окна. На каждом — по три датчика: сигнализация.
Об этом я помню.
Огибаем дом. Крыльцо. Вокруг высоченные бетонные заборы соседей.
Заранее делаю вид, что зеваю.
Прикрываю рот рукой. Ага… Вот она — камера. Зачерпываю другой рукой кусок грязи и — хлоп! — объектив закрыт.
Ксения восторженно смотрит на меня:
— Мы, что?! Ограбим этот дом?!
Мысли. Действия. Движения. Всё это странным образом начинает путаться. Одновременно появляется сводящая зубы оскомина, ноет в животе, судорогой сводит спину… Причём — это терпимо. Пока терпимо.
— Грабить не будем, — говорю я, и слова даются с трудом.
Теперь в тело будто впились невидимые нити — волокна мышц собираются в нужные пучки, направляя меня. Заставляя меня совершать чёткие, рациональные движения.
Ключ в скважину. Поворот. Ещё один. Там, где у обычных дверей находится глазок, у этой — двенадцать клавиш, прикрытых прозрачной герметичной крышкой. Открываю её.
— Ты знаешь код?!
Ну что за сумасшедшая девчонка. Глаза прямо искрятся.
— Код — на брелке, — говорю я, и смотрю на неё, — диктуй.
Она сразу, без колебаний, становится на колени и, неудобно изогнувшись, перечисляет шесть цифр, выгравированных на бирке торчащего в замке ключа.
Набираю все шесть. Мягкий щелчок.
Тяну за ручку: открыто.
Это уже не бонусы.
Это — знание.
— Проходите, — говорю я, — принцесса.
И мы входим. Неплохо. На каморку у бабы Маши не похоже.
Четыре громадные комнаты. И в последней — вот он — телевизор. Напротив — кровать невероятных размеров.
— Да… — говорит Ксения, — это не тётин Зоин «Фотон».
Она сама находит пульт, нажимает нужную кнопку, и сразу же из невидимых динамиков появляется звук. А на экране — выпуск новостей. Ксения, сделав недовольное лицо, переключает несколько каналов подряд. Находит музыку, вскакивает на кровать: таких бешеных плясок я от неё не ожидал.
Но это меня как раз не волнует.
Я стою посреди комнаты и, как пёс, осматриваю угодья.
Ксения перестаёт прыгать, делает звук тише.
— Что… — я прерываю её, резко подняв ладонь: ещё раз визуальная инспекция помещения.
Вибрация еле слышимая. Уловленная моими внутренними сенсорами. Вот он — в углу. Мигает красной лампочкой. Я тыкаю туда пальцем. Поворачиваю голову к Ксении:
— Что это?!
Она бросает пульт на кровать. Подходит. Смотрит. Пожимая плечами, поворачивается ко мне:
— Телефон-факс. С автоответчиком. Сообщения, наверное, накопились, вот и мигает.
Она делает пару шагов, нажимает какую-то клавишу. Через мгновение женский голос произносит:
— Оставьте сообщение после сигнала.
Писк. Короткая пауза.
— Если ты слышишь это, то значит, ты добрался-таки до Ялты, — раздался вдруг голос Ярика. Я вздрогнул. Ксения изумленно посмотрела на меня. — Это, конечно, кажется невозможным, но вдруг у тебя получилось. Раз тебя не нашли в больнице, не нашли, прочесав чердаки и подвалы в городе, и в реке твой труп не всплыл, значит, ты смог убежать. Зачем ты это сделал, знаешь только ты сам. Мы с Юрой, естественно, никому ничего не сказали: не в наших интересах, чтобы кто-то узнал, что одежду дали тебе мы. Поэтому пижаму спрятали. И теперь все ищут сбежавшего шизоида в пижаме. Хотя, если ты слышишь это сообщение, бояться нечего. Поиски ведут только в районе города. А потом я заметил, что ключа у меня нет. Что ж. Раз ты в доме, не стесняйся. Только не трогай картины на стенах — это оригиналы, и коллекцию пивных кружек, ладно? Камера на входе — фуфло… Жрать у меня ничего нет, но чай и кофе есть. В общем, желаю удачи. Будешь уходить — просто захлопни дверь и нажми клавишу «R». Да… Просьба… Оставь ключ на столике в прихожей. Пока.
Щелчок. Короткое шипение. Всё.
Предчувствие. Второй раз за сегодня. Словно стоишь перед полосатым шлагбаумом и знаешь: приближается поезд. Ни звука, ни дрожания рельсов. Просто — знание. Кися-Ляля смотрит на меня:
— Это тебе сообщение?
Я кивнул. Она подошла к кровати, села.
— А кто это был?
— Хозяин дома. Его зовут Ярик.
Взобралась в центр гигантского ложа:
— Он разрешил тебе тут побыть, да?
— Ну… да.
Лукаво улыбнулась, сверкнула глазами:
— Тогда я хочу кофе в постель, мой Принц. Мне никто никогда не подавал кофе в постель. Ты сделаешь это для меня?
Мешанина мыслей… Что? Кофе?..
Я пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Затылком, спиной чувствую приближение…
— Я жду, мой Принц, — голос её возвращает меня в действительность.
Да-да… Кофе…
— Сейчас, — говорю я.
Иду в соседнюю комнату, в большую белую кухню. Роюсь в шкафчике — вот, полбанки кофе. Пачка печенья. Набираю в электрочайник воды — не впервой мне это делать — жму на кнопку. Пока закипает, выкладываю на небольшой поднос печенье, ставлю чашку с ложкой сухого кофе на дне. Лью кипяток, мешаю ложкой, перемешивая сахар, сухие сливки, кофе… Вот так и мои мысли — одни приторные, другие белые, третьи чёрные и терпкие… Наползают друг на друга… растворяются в единое… Что происходит?
Беру поднос, возвращаюсь в комнату. Стараясь не разлить и не рассыпать, осторожно движусь к кровати.
— Вот, Принцесса… — начинаю я и замолкаю, застыв на месте. В полутёмной комнате она — силуэт на фоне огромного экрана, по которому беззвучно мечутся разноцветные пятна. И это силуэт обнажённой женщины. Платье и купальник — смятым клубком брошены на пол. Она изгибается под слышимую только ей музыку… Тёмная, точёная фигурка на фоне мигающего безумия. Красиво…
— Твой кофе, — говорю наконец я, завороженно наблюдая за ней: хороша. А вырастет, будет ещё лучше. Хотя… Тут уже и так, по-моему, всё в порядке. Акселерация…
— Я не хочу кофе, — она перестаёт танцевать и подходит к краю кровати. Будто всю жизнь передвигается обнажённой. Ставлю поднос на пол. Похоть, пославшая дрожь в мои руки, делает инъекцию и в низ живота.
— Что же ты хочешь? — говорю я.
Ксения протягивает руку:
— Тебя, мой Принц, — говорит просто.
Секунда — и я стою на постели рядом с ней. Мы почти одного роста. Смотрит мне в глаза.
— Я хочу, чтобы это сделал ты. А не какой-нибудь урод.
— Сделал что? — действительно «что?»
И снова её прохладные пальцы умело расстёгивают и хватают.
Джинсы сползают к ступням. Она помогает мне снять майку. Отходит на шаг, проводит рукой по животу:
— Тебе нравится?
Я понимаю, что она имеет в виду: там, где сходятся её ноги — нет волос. Её лобок идеально выбрит. И от этого сходство со статуэткой усиливается.
Из месива мыслей одна наиболее чёткая:
«Где-то я её видел… Где?»
— Да, — выдавливаю из себя, — мне нравится.
Я стою на переезде. Красный огонь семафора. НЕЧТО, словно поезд, приближается. Лёгкая вибрация передаётся шпалам.
— И мне нравится, — говорит она, — а ещё мне нравится, когда мужчина чисто выбрит. И в этом месте тоже.
Она опускает взгляд вниз. Чуть ниже моего живота. Я тоже:
— Ты хочешь, чтобы я сбрил здесь волосы?
— Пожалуйста, мой Принц! Сделай, как я прошу! — говорит она и прижимается ко мне.
— Я сделаю всё, что ты захочешь.
И тут —
ВКЛ!
Так вот откуда я её знаю! Ой-ей-ей!!! Я был бы придушен во сне несколько месяцев назад, а мой член отрезан и выброшен в унитаз, если бы её отец предвидел заранее эту ситуацию.
Хотя не отец он её — отчим.
Водитель дальнобойщик Валентин Николаев. Он имел замечательный красный цвет лица и круглый животик.
Он имел жену, родную сестру жены, тёщу… И собирался в скором времени приступить к своей приёмной дочери.
При виде этой нимфетки с круглой попкой и наметившимися (такой он запомнил её, уезжая почти год назад в рейс), а теперь налившимися грудками, низ его живота схватывало лёгкой сладкой анестезией. Особенно, когда удавалось посадить её на колени… Иногда ему приходилось мастурбировать в туалете, срочно избавляясь от охватившей его похоти. Он ждал удобного случая, чтобы насадить её на вертел… (так он «это» называл).
Знал бы он, что вытворяет эта синеглазка, он бы, наверное, не стал дожидаться…
ВЫКЛ!
«Нет, — со злорадством подумал я, поглаживая её по спине, — тебе, она не достанется. А вот мне она сейчас даст. Причём сама».
(Красный семафор. Вибрация шпал. Далёкий лязг колёс на стыках. Что это? НЕЧТО?)
И другое. Сейчас. Сейчас я избавлюсь от волос в паху и буду, испытывая мстительное наслаждение, старательно трахать Кисю-Лялю. О да! Она будет делать то, что я хочу. Это я понял (почувствовал? впитал?) во вспышках небесных стробоскопов. Она сама этого хочет. Я — тем более.
(Что происходит?)
Я никак не могу сосредоточиться, задержать надолго мысль в прожекторе внимания. Они смешиваются, наползают…
Словно конфеты в жаркий день, спрятанные в карман малолетнего сластёны: ириски, шоколадные, карамельки — все они плавятся, размягчаются, слипаясь в один липкий ком, усеянный крошками…
Но ПОХОТЬ — не из слабых. Она держится увереннее других. Она схватила меня за член рукой Киси-Ляли и не отпускает: давай!
— Я сейчас, Принцесса, — говорю я, сосредоточившись, — сейчас.
Я быстро иду в ванную комнату, дверь как раз справа от телевизора.
Похоть толкает меня.
Ожидание разрастается в груди, споря с беспокойством…
НЕЧТО приближается ко мне бешеной электричкой. Ко мне, намыливающему свой лобок и одновременно стоящему там, не перед — за шлагбаумом.
Прямо на рельсах,
которые гудят, выстукивая сумасшедшую морзянку.
Клок волос отправляется в раковину. Ещё один.
Две… Три… Четыре параллельные линии — вдруг — начинают пересекаться.
Отличный станок. Бреет чисто.
Только успевай споласкивать тройные лезвия.
Ещё клок волос.
Воздух. Он сгущается.
Пунктирные линии маршрутов, красные стрелы на карте НЕЗДЕШНЕГО ГЕНШТАБА сходятся в
географической точке. Где воткнут красный флажок.
Последний клок волос отправляется в раковину.
Мой лобок идеально чист.
Близко. Колебания, вызванные безжалостным локомотивом, который поршнем выталкивает воздух, приближаясь ко мне.
Нет больше переезда и шлагбаума. Нет ГИГАНТСКОГО АНГАРА со светильниками и рубильником.
Всё сузилось до узкого пространства.
Туннель. Ствол шприца.
Мой лобок — идеально чист.
Поэтому на нём хорошо заметны пять точек.
Пять символов.
Пять букв.
ТАТУИРОВКА.
Я наклоняюсь и вверх ногами, задом наперёд читаю слово, в которое они складываются.
Смотрю на себя в зеркало.
Вот оно.
Неведомый магнит тянет меня к цели. В место пересечения линий, бывших некогда параллельными.
Вот оно.
Кися-Ляля на кровати смотрит на меня:
— Что?.. — осеклась испуганно.
Медленно прохожу мимо неё.
Я сам испугался, увидев в зеркале отражение своего лица.
Ускоряю шаг.
Вот оно. Почти.
Из двери дома я уже выбегаю. Куда?! В сторону берега!
Мой внутренний радар ловит непонятный сигнал.
Ускоряя шаг, спускаюсь по пустынной улице.
Набережная. Тысячи людей. Я лихорадочно осматриваюсь на ходу.
Останавливаюсь. Музыка. Смех. Шум воды.
Воды!
Во рту у меня пересохло. Я оглядываюсь, вхожу в первый попавшийся бар. Судорожно глотаю газировку из одноразового стакана.
— Ещё один! — и этот, холодя внутренности, вливается в горло.
Я судорожно сжимаю и разжимаю руки.
Как заворожённый, смотрю в экран висящего в углу телевизора.
Заяц.
Волк.
Ёжик и ослик.
Мультфильм. Не размытые цветные пятна — осмысленные, движущиеся картинки.
Вот ОНО! Сейчас!
Медленно выхожу из прохлады бара в послеполуденный зной.
Тысячи объектов. Смех. Звуки музыки. Плеск купающихся. Гудок теплохода. Мороженщики со своими прозрачными холодильниками, автоматы с «колой», попкорн, музыкальный ларёк. Налево — пляж. Направо — людское море.
Где?
Мысли — липкий ком ирисок и карамелек.
Жжение — на коже ниже живота.
Звуки, голоса, запахи.
Солнце печёт голову.
«Где?»
— Мороженое!
— БУМ! БУМ! БУМ! — магнитофон продавца.
— Семечки, ребята! Покупайте семечки!
Подгоревшая кукуруза. Два подростка на роликах. Парочка, взявшаяся за руки.
— Купи мне этот диск.
— Нет.
— Ну, пожалуйста!
— ет.
— А этот?
— Нет, — просящий голос ребёнка и строгий взрослый. Позади меня.
Я поворачиваюсь.
Возле музыкального ларька, спиной ко мне стоят мальчик лет шести в бежевой футболке и защитного цвета шортах и коротко стриженая темноволосая девушка с рюкзаком за плечами и стеклянной бутылкой «колы» в руке.
— Ну почему мне нельзя купить этот диск? — малыш явно расстроен.
Я делаю шаг к ларьку.
— Потому что при мне, — девушка берёт его за руку, собираясь уходить, — ты никогда не будешь слушать этих обдолбанных наркоманов, на которых молятся всякие уроды, ясно?
Я остановился.
— Ну, пожалуйста! — малыш тянет её обратно к витрине.
— Нет! — резкий высокий голос. — Сопливые песни очкастого ублюдка ты слушать не будешь!
Я громадный кусок льда.
Они делают шаг от меня. Они уходят. И я, разлепив свои судорожно сведённые губы:
— Муха?!
Она повернулась.
И я увидел её лицо.
Электричка сходу врезалась в моё сознание, смяв всё ненужное.
— Бл*дь! — громко сказал я, вспомнив всё. Её реакция была мгновенной. У неё всегда была хорошая реакция.
Бутылка вдребезги об угол ларька, и — острый с неровными краями, смертоносный в её руках огрызок горлышка направлен в мою сторону.
— Два, — приказал я, — подойди ко мне. Два сделал шаг в мою сторону. Вернее, попытался сделать. Свободной от сверкающего стекла рукой она схватила его за плечо.
— Хорошо, — сказал я. И сам пошёл в их сторону.
— Комм nicht nahe! — истерически произнесла она.
— Ха! — сказал я, делая следующий шаг. — Это ты, что ли, меня остановишь?!
— Halt! Комм nicht nahe! — завизжала она.
— Halt die Klappe! — сказал я приближаясь.
— Комм nicht nahe!
— Заткнись! — повторил я останавливаясь. — Стою я! Не видишь?!
Она замолчала. Боковым зрением я заметил, что люди вокруг начали останавливаться и глазеть на нас.
— Wo sind Kри, Смех und die andere?
Она промолчала, с ненавистью глядя на меня.
— Где Кри, Смех и все остальные? — повторил я и сделал следующий шаг. Молчание. Только выше поднялся кусок стекла, направленный в мою сторону. Два заворожено смотрел на меня снизу вверх.
— Mach die Scheisse weg! Убери эту х!!!йню! — сказал я. — Oder millst du noch ein Paar Shrammen?! Или хочешь ещё пару шрамов на роже?!
Она промолчала.
— Два! — опять приказал я. — Иди ко мне!
И снова, вцепившаяся в его хрупкое плечо, рука не дала ему сделать шаг.
— Ладно.
Те едва заметные, белесоватые шрамы на её виске — моих рук дело.
Что ж. Сейчас появится ещё парочка.
Она завизжала от боли, когда я укусил её за руку и ударил локтем в живот.
Хотя всем показалось, что это сделал шестилетний мальчик, которого она сразу же отпустила. Все увидели именно это. На самом деле, его зубами, его рукой я нанёс ей увечья.
От боли и бессильной злобы слезы выступили на её глазах.
— Я предупреждал тебя, Микса, — сказал я.
Да. Микса. Именно так читается «Муха» если знать, что все буквы латинские.
Два подошёл, встал на одно колено и — поцеловал мою левую ладонь.
— Здравствуй, Аспид, — сказал он.
— Здравствуй, Два.
АСПИД. Пять букв, вытатуированных на моём лобке. Так называла меня Кри.
— Где Кри? — в третий раз повторил я свой вопрос. — Где Смех, Скво и все остальные?
Два встал рядом со мной.
Микса, слизывающая кровь со своей руки, вдруг выпалила в мою сторону:
— Они все мертвы! Ты предал нас — и их всех убили! Всех!
— Что?! — датчик моей злобы качнулся.
— Что?!!
— Это правда, — сказал снизу Два.
А он — не врёт никогда. Моя Кри. Моя Кривда. Пуля со смещённым центром из чистого золота. Вошедшая в сердце и походя — вскользь — разрушившая всю жизнь.
Горе мне. Горе.
Первым моим желанием было немедленно умереть. Сразу. Здесь. На месте.
Но я АСПИД.
Таким меня знают мои друзья. Знали… Таким меня помнят мои враги.
О, да… Врагов у меня много.
— Кто?! — датчик моей злобы переместился на несколько делений вверх.
— Кто это сделал?
— Тебе-то что? — зло прошипела Микса.
Люди продолжали пялиться на нас.
— Пошли отсюда, — еле сдерживая себя, сказал я, взял Два за руку и пошёл в сторону большого павильона, уставленного пластмассовыми столиками: сейчас нужно затеряться в толпе. Затылком чувствую — Микса не двигается с места, припав губами к равной ране на руке и прожигая мою спину своими чёрными глазами.
Два, покорно идущий со мной рядом обернулся. Я дёрнул его за руку.
— Извини, — прошептал он.
Кри. Моя бедная Кривда. Неужели ЕЁ больше нет?! Горе мне… Горе…
Я вспомнил ЕЁ глаза. ЕЁ губы. ЕЁ улыбку…
Как же так?! КАК ЖЕ ТАК!!!
— АСПИД, пожалуйста… — тихонько сказал Два. — Ты делаешь мне больно.
Я, оказывается, сдавил хрупкую детскую ладошку в своей руке. Со всей силы. Как я ещё не сломал ему кисть?
— Извини, — теперь Я произнёс это слово. Я! Который никогда, НИКОГДА! Не извинялся!!!
Очевидно, я действительно деморализован. Так. Спокойно… Спокойно.
Мы входим в тень огромного павильона.
На высоченных стойках натянут кусок ткани, оберегающий от жгучих лучей, значительный участок территории: около сотни посадочных мест. Куча людей. Как раз это нам сейчас нужно. Мы стремительно, неровным маршрутом, огибая столики, занятые шумными детьми и ленивыми взрослыми, вклиниваемся в самую гущу народа. Вот он, свободный. Тащу еле поспевающего Два за собой.
Присели. Друг, напротив друга.
Два недостаёт ногами до пола. Положил руки на колени. Послушно смотрит мне в глаза. Я тру лоб рукой. Это для того, чтобы НИКТО не мог увидеть в моих глазах
влагу.
Я не плачу.
Это от боли. От боли — которая гораздо страшнее физической.
Лучше бы мне отрубили руку.
Я бы даже не пикнул.
Два молчит.
Я сижу, прикрыв глаза ладонью.
И когда официант спрашивает:
— Что будете заказывать? — они, впитывающие визуальную информацию, сухи, как пустыня.
Это была даже не слабость. Это — сиюминутное. Сиюсекундное.
Слабость — это Кри.
Была слабостью.
Была Кри.
Моя Кривда. Светловолосая, психованная Кривда.
— «Колу». Два пломбира. Кофе, — говорит Два. Потому что Я сейчас не могу говорить.
Сумасшедшая. Никого не боявшаяся. Плевавшая на всех Кривда.
Неужели — ЕЁ! Больше — НЕТ?!!!
Злоба. Ненависть — знакомые мне состояния кипят в одном котле с Горечью.
Мы молчим.
Вокруг — гомон. Хохот. Стрекотание возле игровых автоматов. Музыка из бара. Работающие, подвешенные к потолку телевизоры. Молчим, когда официант расставляет заказ. Молчим, когда я расплачиваюсь.
Два берёт обеими руками стакан и, поймав ртом трубку, пьёт колу. Смотрит на меня.
— Кто это сделал? — спрашиваю я.
— Он не знает.
Микса.
Всё-таки пришла. В принципе, куда ей деваться? Смотрю ей в глаза:
— Ты знаешь?
— Да.
Она стоит, не смея присесть.
Это правильно.
Пусть постоит.
Пусть подумает над своими поведением.
Она прижимает некогда белый, а теперь набухший от крови платок к своей левой руке.
— Ты же знаешь, что шрам от укуса заживает дольше, — говорит она. В её голосе, остаточные нотки истерики. — Ты специально меня укусил, да?
— Одонтофобия, — чётко и громко произносит Два. Микса смотрит на него, как на заговоривший вдруг пень в лесу.
— Боязнь зубов, — поясняю я.
Она молчит. Переваривает информацию. Или раздумывает, как удобнее меня пнуть?
Наверное, и то и другое.
Два, дуя в соломку, устраивает в стакане «колы» бурю — локальное джакузи для Барби.
Я, не спеша, отхлёбываю кофе из крохотной чашки. Такая себе семья. Только кто-то в ней истекает кровью.
Я знаю, никуда она не уйдёт.
Так и будет тут стоять. Терпеть боль, сдерживая всхлипы. Ибо знает: Два теперь — со мной.
Она любит Два.
Потому что он — часть Кривды.
А Микса любила Кривду. Я любил Кривду. Кривда любила меня. Поэтому Микса бесится. И знает — ничего не изменить.
Два будет со мной.
Я допиваю кофе. Потом медленно, чувствуя, как холод. чуть ли не потрескивая зубами, обосновывается во рту, ем мороженое… Физика…
Микса шмыгает носом.
Ей больно.
Я знаю.
Мне ещё больнее. Мне ТАК БОЛЬНО, как не было больно никому на этой планете с момента её создания. И эта боль в прокушенной руке — пустяк. По сравнению со ВЗРЫВОМ СВЕРХНОВОЙ.
ПУЛЯ В ГОЛОВУ ПРЕЗИДЕНТА — ПУСТЯК.
СО СМЕРТЬЮ КРИВДЫ ИСЧЕЗЛА ПОЛОВИНА МЕНЯ.
Я втягиваю воздух. Просеиваю его сквозь ноздри. Сжимаю со всей силы кулаки.
Под столом.
Никто не должен видеть, как я злюсь. А Я — о да! — Я злюсь.
— Что тебе надо? — не смотря на Миксу, спрашиваю я. — Уходи! Ты мне не нужна.
Она молчит чуть больше секунды.
И сразу.
Падает на колени.
— АСПИД… — слёзы хлынули из её глаз. — Не бросай меня… Ну, пожалуйста…
Она хватает мою руку и, повернув к себе, впивается губами в мою ладонь.
Это урок. Ей.
Люди за соседними столиками поворачиваются в нашу сторону.
Горячие слёзы на моей руке.
По-настоящему горячие.
Горячие губы.
Да. Она испугана.
— Встань, — говорю я.
И она сразу же встаёт с колен.
— Садись.
Она покорно садится на пластмассовый стул справа от меня.
Откусываю очередной кусок пломбира. Долго молчу.
— Итак, — наконец произношу я, — Два не знает. Знаешь ТЫ?
Она кивает, глотая последние слёзы. Успокаивается…
— Кто?
Два пускает пузыри в стакане с «колой».
Микса называет имя.
— Что?!!!
Я так шокирован, что не сдерживаю своих эмоций:
— Что?!!!
Я — Дракон, которого укололи булавкой
— Это насекомое?!!
Микса втягивает голову в плечи.
Не может быть.
Микса смотрит в стол. Боится поднять глаза на меня. После долгой-долгой паузы произносит:
— Когда ты ушёл, все подумали, что ты просто решил проучить Кривду…
Она помолчала. Потом продолжила:
— По-моему, одна Кривда поняла, насколько всё серьезно.
Моя светловолосая, психованная Кривда. Не контролирующая себя. Злая, как чёрт. Нежная, как сама нежность.
Плевавшая на всех КРИВДА. На всех. Кроме меня.
— Я вас предал?
Я умею так. Чтобы фраза — как удар хлыста. Микса ещё ниже опустила голову.
— Ты ушёл… — после долгого молчания, еле слышно сказала она. — И удача оставила нас…
* * *
Микса — всегда была второй.
Во-первых, она родилась под этой цифрой.
Во-вторых, училась на двойки.
В третьих, она была слишком честной.
Разбив вазу, всегда говорила: «Это я».
Кривда никогда не признавалась,
Она всегда говорила неправду.
КРИВДУ.
И никто, глядя на этих двух девчонок, никогда бы не подумал, что они СЁСТРЫ. Родные сёстры.
Кривда никогда не произносила своё настоящее имя.
Микса тоже держала рот на замке.
Их родители погибли в авиационной катастрофе,
Которую организовал я.
По их просьбе.
Девочкам нужны были деньги.
Мне — нет.
Я Аспид.
Я не нуждаюсь в дензнаках.
И наглых, самоуверенных сучках.
А Кривда была как раз такой.
Поэтому все МОИ долго удивлялись.
А МОИ — парни тёртые.
Неужели ИХ нет?!!
Как ОНИ могли позволить убить себя?!!
— Как их могли убить? — спрашиваю я у Миксы. — С ними же был Взор. Он же всегда видел на шаг вперёд. Он же предвидел любую засаду. Что за чепуха?! Неужели он их не предупредил?!
Два оторвался от своего пломбира и, открыв рот, посмотрел в мою сторону.
Микса тоже перестала пялиться в стол.
Перевела взгляд на меня:
— Взор не мог их предупредить, — сказала она.
— Почему? — рассердился я. — Он что — спал?!!
— Нет, — Микса изумлённо посмотрела на меня.
— Тогда почему?! — я окончательно разгневался.
Микса уставилась на меня так, будто я ударил её молотком по голове.
— Почему?!! — я со всей силы сжал её поврежденную руку.
Она зашипела от боли.
И Два, удивлённо переводящий взгляд с Миксы на меня, вдруг произнёс:
— Да ты же сам убил его — Аспид!!!
* * *
Я?!! Убил Взора?!!
И тут же сразу вспомнил:
Да. Именно я.
Я…
Кривда. Светловолосая, разноглазая Кри. Поклявшаяся мне в вечной любви. Выпившая глоток из моей, собственноручно взрезанной, вены.
И Я, слизнувший каплю крови из надреза на тыльной стороне её правой ладони.
— Ты же всегда ревновал, как бешеный… — начала Микса и —
БАЦ!!!
замолчала от пощёчины.
Два отвернулся.
МНЕ ЧТО?! СДОХНУТЬ?!
Да. Ревновал. Ревновал, как бешеный.
Потому что ЛЮБИЛ.
ЛЮБЛЮ…
МЫ БЫЛИ
Не просто любовники,
НЕ МУЖ И ЖЕНА (хотя чувствовали, что Высшие силы обвенчали нас без ненужных обрядов).
Само слово «ЛЮБОВЬ» меркло, не в силах выразить то, что происходило между нами.
Каждую секунду я впитывал малейшие частицы, молекулы, атомы… ЕЁ… Колебания воздуха, особую манеру улыбаться, смотреть…
То, что происходило между нами в постели, нельзя было обозвать существующими у человечества примитивными понятиями:
Секс. Страсть. Похоть.
Обнажённые, мы набрасывались друг на друга и устраивали нечто, не вписывающееся в рамки обычного.
Если Секс, то без ограничений, без правил, на грани острого наслаждения и боли.
Если Страсть, то сметающая всё на своём пути, кричащая в момент экстаза и рвущая зубами подушку, напитывающая простыни — нашим потом.
Если Похоть, то овладевающая сразу, без предварительного и затяжного поигрывания, флирта, поцелуев и ласки. Дымящийся между ног Освенцим. ОРГИЯ. ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ.
Вот чем мы занимались.
И однажды подходящая к пику одновременно со мной Кривда — завизжала так, что в доме лопнули все зеркала.
Она лучшее, что у меня было.
А я — у неё.
Не случайно на её лобке красовалась татуировка «СОБСТВЕННОСТЬ АСПИДА».
И то, что происходило между нами, иногда пугало нас самих. От этого оргазмы наши превращались в мощный выброс энергии.
Чёрным сгустком вырывалась она из нас и уходила в космос, где ей самое место.
Ибо на Земле из этого сделали бы адскую машину, равную по мощности не одному десятку Хиросим.
— Я КОНЧАЮ! КОНЧАЮ! КОНЧАЮ!
Кричала Кривда, завершая каждый наш АКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
И все наши чувства были из этой же серии. С клеймом «РЕАКТИВНО».
Те слова, что я посвящал ей:
«… Когда реактивные чувства разорвут меня на миллиард мельчайших осколков, каждый — даже самый маленький осколочек — будет продолжать любить».
Будет. Буду.
* * *
Да. Я убил Взора.
Потому что — никто не смеет смотреть ТАК на Кривду, кроме меня.
— За что ты его убил?! — закричала тогда Кривда, бросившись на меня.
— А?! — орал беснующийся от ревности я. — Тебе будет не хватать его?! Да?! Он тебя что, пялил лучше, чем я?! Да?!
И я наотмашь ударил её по щеке. И её прекрасные глаза враз потемнели.
— Да! — выпалила она мне в лицо. — Да! Да! Да!
И моя бешеная ревность зашкалила, перевалив за опасную, красную отметку. Мой мозг вскипел. Кровь превратилась в кислоту. А слюна — в яд.
Я стал скопищем скверны.
Я хотел убить. Всех. Каждого.
Не пожалеть стариков. Изнасиловать всех женщин. Вырезать всех младенцев. Сжечь все города. Взорвать все храмы.
Только не ударить её ещё раз.
Последнее, что помню сквозь пелену злобной ревности, — хлопаю дверью, выбегая из квартиры.
А все МОИ смотрят мне вслед.
* * *
Их убили.
Всех разом.
Стёрли с лица земли.
Расщепили на атомы.
— Ты уверена, что это сделал ОН?
— Да, — Микса кивнула, — он единственный, кто остался жив.
Всем остальным в их бренные тела неведомые пока мне убийцы посеяли свинцовые семена.
Предатель. Иуда.
— Но почему Они не почувствовали опасности?
Микса и Два смотрели на меня.
— Ты ушёл. Взор был мёртв. Схема нарушилась. Круг разорвался. Мы перестали быть единым целым. Стали обычными.
Да. В своё время вместе собрались мы не зря. Взор был лучшим Смотрящим Вперёд и, находясь в Круге, наделял своей способностью других. Аэро был специалистом особого рода: когда ему было двенадцать лет, он на спор сбил какой-то американский летательный аппарат… Как же его там называли… Ах да — «Челленджер»…
Мы так привыкли быть одним целым, что когда два звена — Взор и Аспид — неожиданно выпали, все остальные растерялись.
Мы не были преступниками в обычном смысле этого слова. Помню Кривда, поняв, чем мы занимаемся, фыркнула и сплюнув произнесла:
— Это что ещё за стивенкинговские приколы? Или вы все тут из комикса «Люди Икс»?
Мы не нарушали закон. Обычными способами. И в Уголовном кодексе за наши деяния наказаний не предусматривалось.
Мы могли найти скрывающегося человека. Уничтожить самолёт. Заставить упрямца рассказать секреты. Предвидеть засаду и вычислить предателя.
Могли, когда были вместе.
Без пистолетов, взрывчатки и паяльников.
Мы не были уголовниками.
Но убили наших именно они.
Предатель, знавший, что в тот момент все слепы, открыл дверь и впустил убийц. Да, я давно замечал, что он хочет уйти. Но таким способом? Иуда.
Найду. Уничтожу.
Я вдруг посмотрел на сидящих за столом:
— Я так смотрю — вы тоже не мертвы.
Микса сразу повернулась к Два:
— Почему мы вышли из квартиры?
— Мне захотелось поиграть в песочнице.
Спокойно ответил он.
А Два не врёт. Никогда. Мне.
Горе мне. Горе.
Раз с Моими расправились таким примитивным способом, я сделаю так же. Нужно только узнать, кто стоит за предателем. Кому Мы помешали.
А ещё мне нужен пистолет.
Я посмотрел на часы: с момента сцены у музыкального ларька прошло всего пятнадцать минут. Я встал:
— Пойдёмте.
Микса и Два повиновались беспрекословно. Так. Не выделяться.
— Возьми меня под руку, — это Миксе.
Через полминуты по набережной, держась за руки, энергично прогуливается молодая семья. Мама. Папа. Сынок.
«Найти этого Иуду! Где?»
Я роюсь во внутренней картотеке, выискивая факты из прошлого: откуда родом? Где познакомились?.. Примитив… Так не найдём…
— Я хочу писать, — дёргает меня за руку Два. Мы недалеко от платного туалета.
— Микса? — я смотрю на неё.
— Да. Сейчас, — она подхватывает Два и направляется к сортиру.
Я останавливаюсь в тени большого дерева. Смотрю в сторону моря.
Давай, Аспид. Планируй!
— Эй, ты! — за спиной.
Я оборачиваюсь.
Трое. Молодой парень. Отчего-то бледная, не по жаре одетая в тёплый спортивный костюм девушка и крепкий мужчина в чёрных трусах, белых кроссовках и ярко-красной футболке.
Бегуны. Парень и девушка прожигают меня взглядом. Говорит мужик:
— Что ты говорил мне на набережной?
Так. Конфликта мне ещё не хватало сейчас.
— Я?
— Ты.
Я молчу секунду, потом пожимаю плечами:
— Короче, всё закончилось тем, что вы сказали мне «пошёл на хер».
— Извини.
Ничего не понимаю.
— Да я не обиделся. Сам виноват. Приставал к вам, мешал…
Мужик поднял руку, прерывая меня:
— Итак.
— Что — итак?
— Ты сказал, что знаешь, где ОН.
— Кто — он? — спросил я, уже понимая, кто им нужен.
— Николаев. Водитель автомобиля «КамАЗ», государственный номер…
Ох! Валентин. Неужели именно для этого — свела нас судьба? Как ты мне пригодился — Валентин.
Медлю пару мгновений.
— Да. Знаю.
Да, Бегуны, ведающие НЕЧТО — знаю. Скажу.
Но сначала — ответ на мой вопрос.
У меня тоже в запасе «Где»?
Где Иуда?
Мужик отвечает сразу, словно ждал:
— Самара. Развлекательный комплекс «Шесть на шесть». На третьем этаже — «Суши-Бар». Он — владелец.
Я отвечаю тоже сразу:
— Тихий. Больничный стационар «НефтеГазХима». Травматология. Палата номер 417.
Мужик кивает. Я добавляю:
— Это Приполярье.
— Мы знаем…
Через секунду они скрываются в кустах.
Самара! Я был совсем рядом! Ладно.
И краем сознания:
«Не повезло тебе, В. Николаев. Но ты сам виноват. Сполна огребёшь за всё».
А мне сейчас нужен пистолет.
— Мы всё, Аспид.
Микса и Два.
— Готовы? Идёмте.
* * *
Дверь всё ещё открыта. Стремительно пересекаем просторные комнаты. Телевизор включен. На огромном экране — мультфильмы. На кровати — уже одетая Ксения. Я, мельком глянув на неё, прохожу в ванную комнату.
— Почему ты… — начинает она и замолкает, заметив Миксу и Два.
Я закрываю за собой дверь. Становлюсь на колени и начинаю шарить рукой под выпуклым днищем ванны.
Ну же, Ярик! Не окажись треплом.
«Хм… — пальцы коснулись холодного металлического предмета. — Смотри-ка, не трепло…»
Шестнадцатизарядная армейская «Беретта» и два запасных магазина. Плюс — полупустая коробка патронов. Плюс глушитель. Отлично. Извини, Ярик. Мне нужнее.
Ксения сидит на кровати и испуганно смотрит на меня.
Кися-Ляля. Малолетняя нимфоманка, которая чуть не потеряла девственность под «Ну, погоди!»
— Уходи! — киваю я в сторону двери.
— Но…
— УХОДИ, — когда я ТАК говорю, все обычно предпочитают не спорить. Ксюша тоже не стала. Исчезла.
Я бросаю обоймы и коробку на кровать. Шестнадцать патронов в «Беретте». Две запасные обоймы. В коробке ещё тридцать два заряда — вот наш арсенал. Хватит? Нет?
— Закройте двери, — говорю я, — ты, Микса, смотришь в окна юго-запад. Ты, Два, северо-восток. Мне нужно подумать. Ясно?
Два и Микса расходятся в разные комнаты. Я прикручиваю глушитель. Ставлю пистолет на предохранитель и, спрятав его под подушку, сразу же засыпаю. Впадаю в анабиоз.
Мне нужно отключиться от окружающего. Совсем. Напрочь.
В этой глубокой дрёме я размышляю.
Не зря во сне, сменив на посту Кисю-Лялю, ублажающую своего Принца ртом, появилась Кривда, прошептавшая: «Думай, мой Принц».
Да.
Принц.
Принц Тьмы.
Думай. И заодно дай своему телу отдохнуть.
Привыкнуть, что ТЫ в него вернулся.
Когда я выпал, как звено, во мне исчезло всё. Словно разом разрядились аккумуляторы…
Но в аккумуляторе может сохраниться остаток энергии. Чуть-чуть. Для того чтобы лампочка мигнула, чихнул движок, проскочила искра.
Отсюда мои вспышки. И непонятные виденья, и неспособность видеть сны — проскочила искра — и…………………
Остаточное напряжение.
Разорванные куски.
Последние приветы от всех.
* * *
Симферополь. Вокзал.
— Ты что, Микса — куришь?
Раньше никогда не видел её с сигаретой, а теперь нервно дымит одну за одной. Причины её нервозности мне известны: Микса боится большого скопления людей.
— Ненавижу, когда вокруг столько людей, — говорит она, напряжённо смотря в стену. — Ощущение, что все на тебя пялятся.
— Скопофобия, — выдаёт Два, сидящий на чемодане и болтающий ногами.
Обычный с виду первоклассник. С виду.
— Что это ещё? — недовольно скосилась на него Микса.
— Ощущение, что на тебя все смотрят, — прокомментировал он.
Я хмыкнул.
Садимся в вагон. Мы купили все четыре места в купе. Два забирается на стол с ногами и выглядывает в приоткрытое окно. Микса сидит напротив и старательно избегает моего взгляда.
Микса — немка. Как и Кривда, собственно. Свихнувшиеся на идеях «RAF» две студенточки из весьма обеспеченной семьи. Им и деньги погибших родителей нужны были для финансирования RAFовских боевиков. Но они нашли кое-что получше. Нас. Меня.
Все Гансы, Максы и Фрицы померкли в глазах Кри.
Но Кри так и не смогла избавиться от своего акцента. А Микса говорит почти чисто. «Почти» — это маленький крючочек на кончике языка. Лёгкий налёт на русских словах. Похожий на прибалтийский говор.
Да. У Миксы куча комплексов. Можно сказать, что Микса — это и есть Фройлен Комплекс.
Она переживала, что младше Кри и что у той грудь появилась раньше.
Она комплексовала, что Кри — натуральная блондинка. Кри красивее. Кри умнее. Кри — то. Кри — сё…
Хотя сама Микса, если бы была повнимательнее, замечала бы взгляды, которые бросают на неё мужчины: стройная брюнетка с короткой стрижкой, симпатичная, если не сказать привлекательная.
И не Кри была источником комплексов Миксы. Так девчонку зашугали в школе во Франкфурте.
Невзлюбившие почему-то её одноклассники стреляли в Миксу из водяных пистолетов, подкладывали кнопки, вымазывали одежду чернилами. Обычная детская жестокость.
Кри училась в другой школе.
И у неё всё было наоборот. Достаточно просто посмотреть на Кри, чтобы понять это.
Однажды на каком-то школьном празднике мальчик подошёл к нарядно одетой Миксе и выстрелил ей в лицо из пистолета. Из водяного пистолета. Из водяного пистолета, наполненного ещё тёплой мочой. И Микса, зажмурившаяся, в мокром платье, сразу поняла, ЧЕМ именно в неё выстрелили.
— Бедная моя сестрёнка, — говорила мне Кри, рассказывая об этом случае, — она ТАК плакала, ТАК рыдала… Она просила маму больше НИКОГДА не отдавать её в эту школу. Хорошо, что мама послушала…
Да. Микса стояла, зажмурившись, а все дети вокруг смеялись. Потому что Курт заранее сообщил всем, чем заряжен его пистолет.
А перед этим смеялись, подставив ей подножку. А перед этим, когда сломали ей один каблук на туфельке и смотрели, как она, нелепо ковыляя, спешит к выходу. Неделя за неделей, месяц за месяцем…
Вот почему она не любит взгляды и чужой смех. Вот почему боится споткнуться на глазах у всех.
Боится выглядеть смешной.
— Катагелофобия, — сказал бы Два, если бы его спросили. Но его никто не спрашивает. Два мирно сопит в подушку. Уже глубокая ночь. Час назад мы благополучно миновали таможню.
Теперь я лежу на второй полке, глядя на пятна света, врывающиеся в окно и отдающие отблески потолку.
Стук колёс. Тишина. Но я знаю, что Микса не спит. Занимает одно из нижних мест.
— Где ты так долго был? — спрашивает вдруг она.
— Далеко. На Севере, — помолчав, ответил я.
— И что там?
— Ничего. Холодно. Снега много.
Да. Чего там много — это снега. Молчим.
— Ты откуда знаешь мои стихотворения?
— Я? С чего ты взял…
— Микса. Какой-то абсолютно левый чел в «чате» декламировал мои строки, ссылаясь на тебя.
Она долго молчала. Потом сказал тихо:
— Но мне на самом деле нравятся эти слова.
— Какие?
— Все. Особенно про «реактивные чувства».
— Где ты их взяла?
— Прочла у Кри в блокноте.
— Они же были посвящены не тебе.
— Я знаю, — печально сказала Микса и добавила чуть слышно:
— А жаль.
Или мне показалось?
* * *
«Шесть на шесть» — казино, боулинг, двенадцать кинозалов, сотни игровых автоматов, кафе, ресторан и — «Суши-Бар». Весь комплекс — трёхэтажное здание, снизу доверху одетое в чёрное, непрозрачное стекло.
— Так до х!!! я разной байды внутри и всего один грёбаный вход.
Уж что-что, а материться по-русски обе сестрички научились сразу. Микса курит третью за последние четверть часа сигарету. Мы сидим на трамвайной остановке. Прямо напротив развлекательного комплекса. Чемодан на вокзале, в камере хранения.
Я осматриваю плацдарм. Так я это называю. Мне не нужно подходить к зданию близко. Сейчас там маленький мальчик. Он с интересом заглядывает сквозь стекло центрального и единственного входа. Мало ли чего тут толчется этот пацан. Может, мама денег не дала на кино?
Два смотрит. Я вижу:
Металлодетектор. Прямо у входа. Три охранника.
— Ты куда, мальчик? — ловят его за руку, когда он пытается пройти с независимым видом внутрь.
— Я писать хочу, — говорит он жалобно. — А на улице нельзя. Мне мама говорила.
Охранник хмыкает. Присев на одно колено, смотрит прямо в глаза. Мои.
— Ну раз мама говорила, — он показывает пальцем, — вон мужской туалет. Только быстро, ладно?
Два кивает и теряется в толпе. Пятнадцать минут путешествует по этажам. Всё. Хватит.
По подземному переходу возвращается к нам.
— Ну что? — спрашивает Микса.
— Придумал, — отвечаю я, — ты всё ещё носишь те свои лечебные джинсы с медной нитью?
— Да.
— Отлично.
Дурацкие лечебные джинсы. С тончайшей медной нитью в структуре ткани. Штаны, нашпигованные железом. То, что нужно.
* * *
— Пи-и-ип!
— Стойте, девушка! — охранник придерживает посетительницу рукой: сработал металлодетектор, — что у вас в сумочке?
Посетительница смущённо улыбается, достаёт ключи.
— Сигареты и жвачку, если есть, тоже доставайте. Там фольга.
Она достаёт пачку сигарет. Кошелёк с металлическими деньгами.
— Прошу вас.
— Пи-и-ип!
— Стойте! Пройдите ещё раз. Ремень с железной пряжкой?
— Ой, до чего же я глупая! Ну, конечно!
Посетительница смущается ещё больше, вытаскивая ремень.
— Пи-и-ип!
Очередь застопорилась.
— Ой, ну что же это?
Охранник проводит ручным металлоискателем вдоль ног посетительницы — пи-и-ип! — непрерывный сигнал.
Очередь становится всё больше. Люди пришли с детьми отдохнуть, посмотреть кино.
— Что у вас в джинсах?
В отличных голубых джинсах.
— Только я… — густо краснея, произносит девушка. Симпатичная блондинка. — … и трусики… — Она совсем смущается. Охранник, видно, тоже.
— Блин! Да что за дела! — возмущается усатый молодой папаша с ребёнком, стоящий в середине очереди. — Хватит уже! Мы сейчас на фильм опоздаем!
— Но срабатывает же! — бурчит охранник. — Оба детектора причём!
— Может, он у тебя сломался! — говорит папаша.
— Как сломался! — возмущается другой охранник. — На той неделе профилактика была!..
— Кто обслуживает? Что за фирма? — деловито спрашивает посетитель и, распихивая молчащую очередь, приближается, держа за руку сына.
— «Бастион», — сообщает верзила название конторы. Папаша снисходительно хмыкает:
— Блин! Вечно у них косяки! — он поясняет. — Я сам в «Ар-электроникс» работаю. Дай-ка сюда…
Он забирает ручной детектор у охранника. Крутит в руках. Подносит к ногам блондинки:
— Пи-и-ип!
Толпа возле входа принимает угрожающие размеры.
— Наверняка перешкал по чувствительности, — глубокомысленно сообщает специалист из «Ар-электроникс». Он подносит детектор к голове девушки:
— Пи-и-ип!
— Точно, перешкал… А ну? — папаша отдаёт прибор охраннику и проходит под рамкой:
— Пи-и-ип!
Возвращается к верзиле. Выкладывает всё из карманов. Ещё раз под рамку:
— Пи-и-ип!
— Чёрт! — говорит охранник.
На голове у девушки отличный белый парик. Никогда не подумаешь, что это — парик. Так естественно он выглядит. Микса сделала его когда-то из волос Кривды. Сейчас под париком — тонкая стальная проволока. На ногах — лечебные джинсы.
Где она научилась краснеть, не знаю.
Усы купили в магазине сувениров.
Обтягивающие джинсы и футболку, под которыми ничего не спрячешь, в «сэконд-хэнде».
Железную пластину размером с ладонь врезал мне в голову профессор Васильев.
— Пи-и-ип! — пищит детектор у головы коротко стриженого молодого человека в обтягивающей одежде.
Вот ты где мне пригодился, Железный Дровосек.
«Не в башке же у него оружие?!» — явно читается на лицах охранников.
— А ну, напоследок моего охламона проверь! — говорю я весело. Натянутый, как пружина внутри.
Два входит под рамку.
— Пи-и-ип!
— Всё! — говорю я. — Вызывай спецов. Где-то наводка пошла. Сразу на все ваши детекторы.
Беру Два за руку и постепенно отхожу в глубь комплекса:
— Скажи, чтобы проверили чувствительность.
Охранник кивает. Мы поворачиваемся к нему спиной и скрываемся за рядом игровых автоматов.
Фух! Что уж умею делать — так это планировать. Не зря без меня никто из НАШИХ не делал и шагу. Без меня ОНИ были никто. И они об этом знали.
Это если быть до конца честным.
— Два, — говорю я, — иди в туалет и собери пушку… Микса, ты со мной.
Два сразу исчезает. Микса подходит с видом заботливой жены, стирает несуществующее пятно с моей щеки. Произносит, улыбаясь:
— Да, милый. Всё, что пожелаешь, милый.
Разобранный пистолет спрятан на Два. Под мешковатой одеждой приклеены скотчем все детали. Плюс три заряженные обоймы. Сорок восемь патронов.
Микса берёт меня под руку, и мы, не спеша, прогуливаемся вдоль автоматов. Отдыхающая молодая парочка. Сейчас купят эскимо, проиграют на «одноруком бандите» несколько крупных купюр, переведённых в жетоны… Попкорн, кино, потом, может, в боулинг-клуб…
Беспечная парочка влюблённых, не знающая проблем.
Безжалостные убийцы, не знающие пощады.
Он сдохнет.
— Как ты его собираешься выманить из бара? — спрашивает Микса, прижимая к себе мою руку.
— Я знаю, как это сделать, — говорю я, направляясь к лестнице на второй этаж.
Мы поднимаемся на несколько ступеней:
— Главное, чтобы ты вовремя повесила на дверь туалета табличку «Ремонт».
— Я не подведу, Аспид, — сказала она, сжав мою ладонь, — лучше сдохну.
— Не надо, — криво усмехнулся я, — сегодня не твоя очередь.
* * *
Туалет огромен. Огромен и величествен: дорогой тёмно-зелёный кафель, зеркала. Десятки писсуаров и кабинок теряются в перспективе. Всё для того, чтобы множество клиентов одновременно могли исторгнуть свои испражнения.
И где-то в одной из кабинок, затаив дыхание и подняв ноги на унитаз, сидит Он.
Я прошёлся вдоль ряда дверей, подошёл к зеркалу, пригладил рукой волосы и произнёс:
— Хочешь попасть в книгу рекордов Гиннеса? В раздел «существо, максимально длительный отрезок времени просидевшее на унитазе»?
Тишина. Капает плохо закрученный кран. Журчит вода в писсуарах. Позади себя, в зеркале, вижу ряд дверей: ни одна не открылась.
— Кабинок — пятнадцать, — спустя несколько секунд, произношу я. — В каждую из них я пущу по три пули. Нетрудно догадаться, что очень скоро за одной из дверей я найду твой труп… Итак?
Я вытащил пистолет и послал патрон в патронник. Выждал пару секунд:
— Выходи. Поговорим, и, может быть, я тебя отпущу.
Молчание.
Вру. Он это тоже понимает.
— Хорошо… — поднял пистолет и направил на правую крайнюю дверь.
Пут-пут-пут-пут — итальянский глушитель смягчил четыре быстрых выстрела до шёпота. Только четыре звонких удара о кафель — гильзы…
В ту же секунду одна из дверей распахнулась. Он бледный дрожащий ладонями пытается отгородиться от меня:
— Ас-с-пид, — и голос тоже дрожит.
Боится. Правильно. Потому что знает меня. Зачем мы взяли его тогда? Нафиг он нам был нужен? Так неплохой специалист по компьютерам… Нужен был для одного дела. Так и остался…
Ладно. Не об этом речь.
— Что же ты, милый, убил-то всех? — спросил я его ласково. — Чем это мы тебе все не понравились?
Он судорожно взмахнул руками. Наверно, пытается изобразить жест «Чур, меня». Правильно. По адресу.
— Ты чт… Ты что, Аспид?! — заикаясь, произнёс он. — Ты что?! Я никого не убб-бивал!.. Нне уб-бивал. Я…
— А кто? Я? Я их не убивал. И Микса не убивала. И Два тоже.
— Эт-то всё ОН! Он хотел вас уничтожить!.. Давно хотел!..
Я склонил голову набок:
— Кто же этот мифический он?
Иуда не колебался и секунды, сдавая его:
— Роман Петрович…
— Фудзи?!!
Жёлчный пузырь, прорвав оболочку, хлынул своим содержимым в мою кровь.
— Фудзи?!! — я скрипнул зубами. — Любитель буддизма и японской культуры? Хайку, сакэ, честь самурая и всё такое?!
Как я сразу не догадался! Это же он открывает сеть «Суши» по стране. Роман Петрович, который рад, что ему досталось прозвище «Фудзияма». Фудзи.
— Ты теперь тоже любитель Японии, да?!
— Аспид, я…
— Фудзи?! — гнев мешал мне говорить. — Этот уголовник?! Ты что, всю жизнь мечтал быть владельцем столовки и торговать рыбой?!
— Аспид, я…
— Или самураем?!
— Аспид, я…
— Заткнись! — я ударил его ногой в живот. — Заткнись!!!
О, моя бедная Кривда! Зачем я ушёл тогда?!
Иуда задохнулся и скрючился на полу. Он заплакал. Закрыл голову рукавами своего дорогого костюма и заплакал. Как ребёнок, захлёбываясь слезами и судорожно втягивая воздух ртом.
— Это я должен плакать! — закричал я, вспомнив Кри, улыбающуюся во сне, и комок действительно подкатил к горлу.
Он тихо заскулил. Я представил себя на его месте: да, ему сейчас страшно. Потому что он знает меня.
Мне даже стало его жалко: зная меня, он сейчас не просто боится — он в ужасе.
— Встань, — сказал я ему.
И он поднялся, с трудом переводя дыхание и размазывая слёзы:
— Я пп-просто хотел уйти…
— Ты хотел спокойствия?
Он кивнул, всхлипнув.
— И что? — закричал я. — Таким способом?
Он прикрылся руками.
— Ты спокоен сейчас?! А?!
Он промолчал.
— Ладно… — спустя несколько мгновений, произнёс я и подошёл к нему ближе:
— Теперь назови хотя бы одну причину, по которой я не должен тебя убивать.
Он судорожно вздохнул:
— У меня дочь…
— Не принимается, — и я приставил пистолет к его сердцу.
— Нет… — сдавленно произнёс он.
— Умри как мужчина, — сказал я, глядя ему в глаза.
И дважды нажал на курок.
* * *
В поезде, уносящем нас ночью в сторону столицы, мы с Миксой сидим друг против друга. Она, положив локти на стол и подперев щёки обеими руками, смотрит в окно. Два спит рядом с ней. Я держу в руках парик. Светлый парик, сделанный из волос Кри. Когда-то она коротко постриглась и отдала свои локоны Миксе.
И вот теперь я держу этот кусочек настоящей Кривды в своих руках.
Моя нежная Кри. Даже эти волосы сейчас ласково прикасаются к моим пальцам. Словно она сама.
Мне очень хочется провести золотистыми нитями по своей щеке. Вдохнуть их запах — вдруг он ещё остался? запутался в волосах? Хотя бы маленькая частичка, молекула запаха?
Но здесь — Микса. Поэтому я просто сижу и поглаживаю локоны. Поглаживаю мою Кри по голове…
Убив предателя, я не испытал облегчения. На сердце стало ещё тяжелее. Я понял, что легче мне уже не будет. Никогда. Если бы это могло вернуть мою любимую…
Если бы мне сказали: убей тысячу человек, и твоя Кри вернётся, — я бы сразу пустил пулю в лоб Миксе, а потом прошёлся по всем вагонам, стреляя в каждого… Кончились патроны? Я бы взял нож, топор… В поезде недостаточно людей? Я бы спрыгнул на ближайшей станции и добрал норму…
Но беда в том, что так Кри не вернёшь. Никак не вернёшь.
И подобные — вредные, чуждые мне душещипательные измышления меня не остановят. Что? Месть не вернёт мою любимую? Остановиться? Покаяться? Помолиться за спасение её души?
Потом, ладно?
Попозже, ага?
И не я — кто-нибудь другой.
А я, уж позвольте.
Перееб@шу всех.
Отфуярю. Как мамонтов.
Я — АСПИД.
— За что они всех убили? — спросила вдруг Микса. Я вздохнул:
— Обязательно спрошу. Прежде чем отправить Фудзи на тот свет.
— Мы же даже не пересекались с ним, никогда… — Микса посмотрела на меня. — Что-то как-то для него сделали и всё…
Я пожал плечами:
— Обещаю, Микса, — я поинтересуюсь.
Молчание. Стучат колёса. В купе темно.
— Знаешь, Микса, — сказал я, — когда мы были сегодня там, в «Шесть на шесть», я подумал, что ты красивая женщина.
Микса молчала целую минуту, смотря в стол. Потом подняла блестящие глаза:
— Это потому, что я была в ЕЁ парике и напомнила тебе ЕЁ, — сказала она странным голосом.
— Микса…
— А так, ты бы на меня даже не посмотрел! — запальчиво сказала она и, вскочив из-за стола, выбежала в коридор.
И я наконец-то прижал Кри к своей щеке. Частичку её. Маленькую часть настоящей Кри.
* * *
Москва. Дождь. За окнами какой-то проспект. Размытое сквозь стекло изображение мигающих реклам, светофоров, автомобильных огней, несущихся с бешеной скоростью.
Одна из квартир, купленных когда-то через подставных лиц. У Миксы оказались ключи именно от этой. Полупустые комнаты. Два играет посреди прихожей поломанным телефонным аппаратом. Я и Микса на кухне. Пью чай. Она смотрит в окно и курит.
— К Фудзи так просто не подберёшься, — говорит Микса.
— Кеннеди же застрелили, — отвечаю я, прочищая пистолет.
— Там убийце было известно, где будет проезжать президент… — Она затянулась и выпустила дым. — А Роман Петрович в открытом лимузине по улицам не разъезжает. И в туалет без охраны не ходит. И где он живет — тоже неизвестно…
— Если он смог подобраться к нам, — сказал я, — мы к нему тем более сможем.
— Но для этого нам нужно больше, чем один пистолет.
— Кто там?
— Я.
Дверь открыли почти сразу.
— Аспид!
— Тихо, не ори! — я быстро прохожу вглубь этой старой квартиры и смотрю в комнаты, туалет, ванную.
— Нет никого… Я один…
Шушик. Старик в очках, тренировочных штанах и футболке с большими буквами «PSYCHO».
— Здравствуй, Шушик.
— Здравствуй, Аспид…
Кривда, любительница пострелять по пустым банкам из-под пива, купила свой «парабеллум» у Шушика. А потом он снабжал её патронами.
— Я думал вас всех…
— Я тоже думал.
— И твою девочку, да? Бедная… Такая красивая девочка…
— Я тоже бедный и красивый.
Шушик горестно покачал головой, холодно глядя на меня сквозь очки.
— Мне нужен «Глок» с глушителем и гранаты. — сказал я. — Вернее, два «Глока» с глушителями.
Он перестал кивать головой:
— Зачем? Ты хочешь стрелять в тех, кто убил твою девочку?
Я почувствовал как мои губы разъезжаются обнажая зубы. Мне очень хотелось чтобы это было похоже на улыбку. Шушика передернуло.
— Что ты говоришь? — прошипел я сквозь сжатые челюсти и приложил ладонь к уху, — а?
Шушик помолчал. Потом произнёс:
— Потому что, если ты таки будешь мстить за свою девочку и друзей, однажды придут ко мне и спросят…
— Два «Глока», — перебил я его, — и ты же знаешь — никто не придет после того, как я…
Надеюсь он правильно понял мой жест.
Молча смотрел на меня.
— В чём дело, дружище? — оскалился я. — Моё лицо не внушает тебе доверия?
— Оно внушает мне опасения, — сказал Шушик и, повернувшись, ушёл вглубь квартиры — одеваться.
* * *
Сейчас делают такие замечательные игрушки — просто загляденье. Дети стоят перед витринами часами, открыв рот и рассматривая сверкающие модели автомобилей, игрушечных младенцев (смотри, мама — он как живой!) и точно выполненные копии стрелкового оружия.
Все эти «DESERT EAGLE», «ТТ» и «Маузеры» в руках мальчишек, бегающих по коридорам школ, стройкам и улицам, выглядят как настоящие. Обладатели пластмассовых копий не упускают возможности устроить перестрелку в любом месте:
— Бдж-бдж! — орут они, мешая взрослым. Вот сейчас в большом «бистро» несколько сорванцов, поделившись на две группы, играют в интересную игру: «Бандиты ограбили банк, но тут приехали полицейские и бандиты не успели уехать и взяли заложников, и полицейские сейчас всех освободят».
Пока родители поглощают пищу и болтают, «бандиты» и «полицейские» уже по три раза успели перестрелять друг друга:
— Падай давай! Ты убит!
— Я в бронежилете!
— Ага! Хитренький! Бдж-бдж!!!
— Пфф-пфф! Ты давай падай!
— Не буду! Ты же не падаешь! Бдж-бдж!
Большинство столиков в этот час пусты. Посетители расположились по углам и два ряда в середине кафе — место игры. За самым дальним столом, отгородившись ширмой, сидят двое мужчин в чёрных костюмах и, не спеша, ужинают.
«Полицейские» начинают теснить «бандитов». «Бдж-бдж!!!» становится совсем уж несусветным. По проходу между рядами пустых столов, зажав своё оружие в руках и тяжело дыша, в дальний угол прибежал один из игроков.
Он остановился недалеко от столика серьёзных мужчин и приложил палец к губам:
— Тсс!
Мужчины понимающе ухмыльнулись, продолжая палочками отправлять в рот кусочки еды.
— Пацан, ты кто? — спросил один из них.
Мальчишка серьёзно посмотрел на них и нехотя ответил:
— Самурай.
Мужчины глянули друг на друга и хохотнули. Потом один спросил:
— Против кого воюешь?
— Против врагов, — ответил мальчишка.
Мужик хмыкнул и кивнул головой в сторону юного воина, обращаясь к товарищу:
— Смотри. Если бы не сказали, что кусок пластмассы, никогда не подумал бы.
Второй глянул на пистолет в руке сорванца:
— Да… «Беретта»… почти похоже…
— Глушитель, сразу видно, ненастоящий.
— Ага…
Они снова принялись за еду. Мальчишка подошёл на пару шагов ближе, встал совсем рядом со столиком и произнёс:
— Глушитель, как и пистолет, настоящие. Поэтому продолжайте держать руки так, чтобы я их видел.
В полутьме этого угла рассмотреть что-либо со стороны было трудно. Особенно если посетитель «бистро» сидит в скрытой от всех отдельной кабинке.
Один из мужиков перестал улыбаться и полез в карман за зубочисткой:
— Мальчик! Иди отсюда!
— Пиф-паф! — сказал мальчик, одновременно с каждым словом нажимая на курок.
И любитель поковыряться в зубах частично сполз под стол, предварительно забрызгав стену своими мозгами. Второй мужчина сделал движение рукой, но замер. Потому что ствол «Беретты» переместился на него.
— Сиди. И может быть останешься в живых, — проговорил мальчик спокойно. Но глаза его блестели очень странно. Никогда ещё тот, на которого сейчас было направлено оружие, не видел, чтобы человеческие глаза источали такой сумасшедший блеск.
Мой блеск.
Никто в «бистро» ничего не заметил. Потому что никто не мог смотреть сквозь ширму. Кроме меня. И когда Два сказал:
— Сейчас с тобой будут говорить, — мы с Миксой встали со своих мест и быстро прошли в отдельную кабинку.
* * *
Этот боец не был упрямым. Он просто испугался. Он понял, что мы и есть те, кто перелупил половину его «боевых товарищей».
Чтобы он окончательно поверил, что мы «те самые», я назвал ему имена всех убитых нами людей. Честно признался ему, что тех — троих в «мерседесе» — мы взорвали просто так. Для острастки. И как их звали — нам неизвестно. А тебя как зовут, милый?
— Кк-коля, — ответил милый.
— Хорошее русское имя, — сказал я, — ты же не стал брать себе мудацкое погоняло типа «годзиллы»?
Коля отрицательно помотал головой.
— Прикинь, — сказал я, — а некоторые берут и называют себя какой-нибудь Фудзиямой…
Коля вздрогнул.
— Где он?
Коля умоляюще смотрел на нас.
— Можно я выстрелю ему в колено? — спросила Микса.
* * *
Давно я не видел, чтобы она смеялась. Хороший смех. Искренний.
— Это правда? — спрашивает, отдышавшись.
— Что именно, Микса? — я тоже улыбаюсь.
Большой международный аэропорт. Мы сидим в баре на втором этаже и едим большую пиццу, запивая её сладким чаем.
— Я про «Pajero». Это правда?
— Да. Правда.
Она опять прыскает в ладошку.
Голос диспетчера объявляет прибывающие и убывающие рейсы. Люди за соседними столиками постоянно меняются.
— Представляю, если бы по Москве ездили автомобили с названием «Педераст»… — она помотала головой.
— Если бы знал, что тебя развеселит, то давно бы уже рассказал, — я накрыл её руку своей. Она внимательно проследил за этим жестом и перевела взгляд на меня.
— Ты ещё многое обо мне не знаешь, — сказала она.
— А нужно?
Она отклонилась к спинке стула, и её рука выскользнула из моей:
— Не знаю…
Два, пытающийся впихнуть в рот здоровенный кусок пиццы, скосил глаза в нашу сторону. Наконец он додумался, что целиком это проглотить не удастся. Откусил небольшой кусок. Стал жевать.
Микса посмотрела на часы:
— До регистрации ещё сорок пять минут.
Я посмотрел на свои:
— Сорок три…
— Если не будет задержки рейса.
— Ага…
Два, проглотивший наконец кусок, с шумом отхлебнул из своей чашки и повернулся ко мне:
— А что такое «синде морао»? — спросил вдруг он.
— «Синде морао»? — я посмотрел в глаза Миксе. — «Синде морао» на японском означает «извольте умереть». Так говорил обычно самурай, убивая своего врага.
* * *
— Лучше всех в этой части Вселенной я могу делать три вещи: никогда не прощать, Ненавидеть, Мстить, — перечисляя свои замечательные качества, я поочередно загибал пальцы левой руки, потому что в правой держал пистолет, направленный в лоб Фудзияме. Фудзи. Роману Петровичу.
Роман Петрович — чисто выбритый, респектабельный джентльмен с сединой, пробивающейся в волосах. Обычно в дорогих костюмах от «Валентино» и «Зенья». Сейчас — в тёмно-синем домашнем кимоно. Я застал его сидящим в кресле с чашкой чая в одной и газетой в другой руке. Когда я вошёл, он не поднимая глаз от колонки новостей, поинтересовался:
— Ну что, Влад, приготовил машину?
— Влад не готов, — сообщил я, прикрывая за собой дверь.
— В смысле? — Роман Петрович поставил чашку на стол и только потом поднял взгляд. И увидел меня.
— В смысле — готов, — сообщил я ему и демонстративно провёл ребром левой ладони по горлу. Чтобы у него не осталось сомнений о судьбе Влада.
Я подошёл к нему поближе, мельком глянул на стену, где в рамке висело шёлковое полотно с иероглифами.
— «Среди деревьев Сакура. Среди людей — самурай», — перевёл я текст.
— Ты знаешь японский? — спросил он.
— Я много чего знаю, — ответил я, — например, что ты убил моих друзей.
Я кивнул стволом в сторону дымящейся чашки:
— Ты пей чай… Пей… Это твой последний стакан в этой жизни.
Он попытался что-то сказать. Я прервал его взмахом руки:
— Можешь не тратить время. Я всё равно тебя убью.
Он взял чашку и отхлебнул горячую жидкость. Я краем глаза окинул помещение: шёлк с иероглифами на стенах, японские мечи, книги на полках.
— Это ты среди деревьев — Сакура? — спросил я. — Это ты, что ли, среди людей — Самурай?
— Послушай, Аспид! — вдруг заговорил он. — Что за чепуха! С чего это ты взял, что это я убил твоих?! Зачем мне это нужно?! Какие-то левые предъявы… Это же смешно!
— Да? — спросил я. — Почему же ты не смеешься?!
Он замолчал. И в этот момент скрипнула дверь за моей спиной. Я отвлёкся на полсекунды и этого хватило с лихвой: вошедшая Микса прямо с порога всадила ему три пули в живот.
— Что… — начал я и увидел в руке корчащегося в кресле Фудзи маленький пистолет.
Я быстро приблизился и выбил пушку у него из рук. А потом перевернул кресло так, чтобы он скатился на пол.
— Ты обещал спросить у него, — сказала Микса, глядя на Фудзи потемневшими зрачками. Я наклонился, заглянув в побледневшее лицо:
— За что ты убил моих людей? — спросил я.
И Кри. Мою любимую Кри.
Он промолчал. Понятное дело: три пули в пузе — не пряники. Я ткнул его в рану стволом:
— Ну?! За что ты убил их?!
Он захрипел, с ненавистью глядя на меня. И вдруг закашлялся, выплёвывая слова:
— Потому… что вы — ЗЛО! Вы — от Лукавого. То, что вы делали — это ЗЛО! ЗЛО!!! Вы — демоны!.. И мне… за смерть вашу — будет прощение!!! А ты… будешь гореть… в Аду… Вечно!!!
— Да?!!! — закричал я так, что даже Микса отшатнулась. — Да?!!! Ты, мля, @баный самурай! Где в твоём «Миккё» говорится о том, что нужно убить меня?!!! А?!!! Ты уничтожил ЗЛО? Значит, ты делал Добро?! Это и есть — «Добро»?! Да?!! То — что ты делал — это «Добро»?!! Тогда срал я на такое «Добро», понял? Я и без него проживу, понял?!!
— Нами… амида… буцу… — прохрипел он посиневшими губами. Микса изумлённо уставилась на меня.
— Нами… амида… буцу…
Я покачал головой:
— Э, нет, самурай. Не выйдет.
— Нами… амида… буцу…
— Говоришь, мы будем гореть в аду? А сам хочешь остаться в белом и с крылышками?
Фудзи шептал всё быстрее:
— Нами… амида… буцу… Нами… амида… буцу…
— Нет, — сказал я, приставив пистолет к его сердцу, — никакого Рая. Дули-пердули. На этот рейс ты опоздал.
Я выждал секунду.
— Синде морао, — сказал я и нажал на курок.
Отличный итальянский глушитель смягчил выстрел до шёпота.
* * *
Как всё банально. Моя Кри погибла от руки идиота, зарабатывавшего себе индульгенцию. Билет в рай. Надеюсь, ты не попала в него, моя любовь? Иначе, как мы с тобой встретимся? Ведь мне, по умолчанию, — в другую сторону.
* * *
— Чего это он там шептал? — Микса достала сигарету, собираясь идти курить: в аэропорту для этого предназначены специальные места…
— Когда?
— Когда подыхал.
— Нами амида буцу?
— Да.
Я хмыкнул. Отхлебнул остывающий чай.
— Ты же курить хочешь.
— Ничего, потерплю… — она заложила сигарету за ухо. Так, как это делала Кри.
Я повертел чашку. Потом заговорил:
— Ну если кратко, то так: в Японии существовало третье, тайное учение Будды — «Миккё». Его последователи, в отличие от официальной религии, больше интересовались магией, магическим словом и жестом. Самыми ярыми последователями «Миккё» были горные воины из секты «Ямабуси».
Я замолчал и отхлебнул чай.
— Ну? — Микса нетерпеливо заёрзала на стуле.
— Что — ну?
— Чего он там шептал-то?
— А-а-а… Ну, короче, Роман Петрович — ныне покойный — тоже причислял себя к Ямабуси. А каждый воин из этой секты знает: произнеси перед смертью десять раз «Нами амида буцу» — и попадёшь в рай.
— Так ты ему помешал, да?
Я кивнул.
— Молодец! — Микса поднялась и, обойдя стол, поцеловала меня в щёку. — За это я тебя люблю!
Она достала сигарету из-за уха и пошла в сторону лестницы: места для курения располагаются на первом этаже. Через несколько секунд её фигура, затянутая в чёрную юбку и футболку того же цвета, исчезла в толпе. Сегодня Микса целый день цокала каблуками лаковых чёрных же туфель. Я посмотрел на часы — до начала регистрации ещё тридцать минут. Неудивительно, что девушка вырядилась: через несколько часов им с Два предстоит гулять по Парижу. Именно туда через неделю подтянусь и я. Париж выбрала Микса. Сказала, ей там нравится.
— Она говорит правду, — подал голос Два, доевший свой кусок пиццы.
Я потрепал его по вихрам, усмехнулся:
— О чём ты, Два?
Он серьёзно посмотрел мне в глаза:
— Она тебя любит.
Я убрал руку с его головы.
— Вот как?
— Да.
Я посмотрел по сторонам. Заглянул в свою пустую чашку и опять повернулся к Два:
— И давно это у неё?
— С первого дня, как увидела тебя. Ты что, не замечаешь, как она на тебя смотрит?
Послушал бы нас кто со стороны. Сын-первоклассник втолковывает дурню-папаше о том, как вести себя с женщинами.
— … Она и курить начала, чтобы быть похожей на Кривду. И все слова, которые ты посвящал Кри, знает наизусть.
Я молчал. Теперь наконец-то понимая смысл слов, взглядов, жестов Миксы.
— Ты главный приз, Аспид, — сказал Два, — и Микса надеется тебя когда-нибудь заполучить.
Да. Когда рядом была Кри, никаких шансов у Миксы не было. Теперь у неё действительно появилась надежда.
— Аспид!!! — это Микса. В глазах её… Ужас?
Такой бледной она была там — в Ялте, с горлышком бутылки в руке.
— Что?! — я подобрался и быстро глянул по сторонам. Потом переместил взгляд на неё. — Что?
— Там… — она запыхалась. Видимо, бежала сюда на своих неудобных каблуках.
— Что?
— Там… они… эти… самураи… Прочёсывают первый этаж…
Зря. Ох, зря, мальчик Коля, я оставил тебя в живых.
— Быстро. Ты бери сумку, ты — рюкзак. Пошли!
Микса и Два беспрекословно выполнили приказ. На первый этаж нельзя. Значит, не третий. Там был переход в другую секцию.
Блин! У нас только один пистолет с одной обоймой — мой. И граната в кармане куртки. «Беретту» я взял в руку. Сверху накинул куртку. Иду, плотно прижимаясь к плечу Миксы.
— Всем смотреть по сторонам! — у меня сейчас четыре глаза.
Вот она, лестница.
— Они слева, — говорит Два, и я их вижу. Трое в чёрных костюмах и среди них… Коля! Ёптыть, кто бы сомневался.
— Справа четверо, — сообщает Микса, ускоряя шаг, — Ямабуси херовы.
Два смотрит. Я вижу: осматриваются. Медленно идут по огромному холлу второго этажа. Нас пока не заметили.
— Блин! Аспид, почему ты его не убил, а? — бормочет Микса.
— Убью, — обещающим тоном говорю я. Обязательно убью. Только вас, голуби мои, выведу. И — пиф-паф, Коля.
— Эй! Приятель! — голос слева от нас.
— Это тебя, Аспид! — шепчет Два, и я крепче сжимаю рукоятку пистолета.
— Эй, Дровосек! — я поворачиваю голову.
Лицо приближающегося к нам мужчины мне незнакомо. Он одет в костюм цвета «кофе с молоком» и на ходу тянет руку для рукопожатия.
— Это же ты — Дровосек! — говорит он, подходя вплотную.
— Что? — холодно спрашиваю я, посмотрев на вытянутую руку. Незнакомец убирает её. Микса смотрит вправо. Два — влево. Если это враг, он не отвлечёт дозорных. Аспид разберётся с ним сам. Я слегка меняю позу, будто бы меняю опорную ногу. Результат: невидимый незнакомцу символ направлен ему в сердце.
— Мужик! Это же твоя фотка на сайте «Банк Спермы», да?! Первое место в течение двадцати пяти недель! Бабы все хотят от тебя дитёв! Заявок — туева хуча, а самого продукта — нема! Ты у нас под псевдонимом «Дровосек» зарегистрирован!
Фак твою мать, Юра! С твоими, мля, шутками!
— Так это! Где твою сперму-то купить? А? Может с нами контракт заключишь?
Мужик полез во внутренний карман и чуть не лишился жизни: я чудом не нажал на курок. Он просто достал визитку и сунул её мою сторону.
— Ну! Дровосек! Настругаешь девкам детей! Раздашь всем сёстрам по серьгам! А?! Твой? — кивнул он на Два.
— Они нас заметили, — тихо сказала Микса.
— Вы ошиблись, — сказал я.
— Но…
— Иди в жопу, — чётко произнесла Микса.
Мужик закрыл рот и ретировался. Мы быстро переместились за бетонные перила лестницы, ведущей на третий этаж.
Парни приближались полукругом, прячась за мелькающими пассажирами. Судя по положению рук — вооружены. Близко подходить не спешат.
Я быстро оглядел диспозицию. Похоже, их действительно только семеро.
Ладно…
Я наклонился к Два:
— Слушай меня внимательно. Сейчас выйдешь и быстро побежишь наверх по лестнице, понял?
Два кивнул. Я забрал у него рюкзак.
— Это тебе больше не нужно. На третьем этаже перебежишь через секцию с игровыми автоматами и повернёшь направо, понял?
Он кивнул. Два — понятливый мальчик.
— Там будет большое помещение, огороженное синими перилами. Это «Зал матери и ребёнка». Понял?
Ямабуси в нерешительности остановились. Совещаются по мобильникам.
— … Зайдёшь в этот зал и беги в дальний конец. Там игровая площадка. Смешайся с детьми и смотри на выход. Когда я появлюсь, выходи. Ясно?
Два кивнул и сразу же вышел из-за бетонного укрытия. Бойцы в чёрных костюмах дёрнулись. Но не побежали. Короткое совещание. Приняли решение. Двое из них быстро пошли в другой конец зала — там ещё одна лестница, ведущая на третий этаж, пятеро, прячась за людьми, двинулись к нам.
Чёрт! Всего один пистолет!
И лимонка.
— Сохрани меня от силков, поставленных на меня, — прошептала Микса, и я изумлённо уставился на неё. — От тенет беззакония. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду…
Она неловко перекрестилась.
— Ты веришь в Бога? — спросил я.
Она помедлила мгновение:
— Надо же было в кого-нибудь верить, пока не было тебя.
Я взял её за руку:
— Микса, — она пронзительно смотрела мне в глаза, — сейчас мы с тобой побежим в разные стороны. Я перехвачу тех двоих, что пошли ко второй лестнице на третий этаж. Ты — беги на первый. Возьми такси и езжай на Белорусский вокзал. Купи билеты на Брест, ясно?
Она сжала мою руку:
— Аспид… я…
Я поцеловал её в щёку:
— Ты очень красивая, Микса. И смелая.
Она моргнула. Ещё раз.
— Шнелле!!! — закричал я, и побежал в дальний конец зала.
Я летел как пуля. Злая как чёрт. Как я сам — пуля.
Щас я, мля, раздам всем братьям по серьгам!!!
У меня их шестнадцать в пистоле, и столько же запасных.
Уж извините — свинцовые.
Их предупредили по мобильному телефону. Они быстро обернулись — уже с пушками в руках и увидели меня. И это было последнее, что они увидели в своей жизни. Выстрелов никто не слышал. Просто два парня с пистолетами вдруг упали как подкошенные.
— Человеку плохо! — закричал кто-то с той стороны. Но я уже туда не смотрел — оба трупы. Сто процентов. Я смотрел на вторую парочку, бегущую ко мне. Я прекратил движение и спрятался за людьми. Они сразу потеряли меня из виду. Я хмыкнул: объект пропал с экрана радара, да?
В дальнем от меня углу спешили к лестнице, ведущей на первый этаж, трое остальных. Отлично. Значит, Микса уже свалила.
Я достал красную, смятую кепку из кармана куртки и нацепил на голову: ну что, ямабуси херовы? Ищете черноголового меня?
Я смешался с компанией иностранцев в панамах и бейсболках.
Ха! В такие догонялки я ещё ни разу не играл! Обычно мы нейтрализовали врага заранее. Весело!
Вот они. Рассматривают со стороны своих погибших товарищей. Там уже суматоха. Зовут милицию.
Пистолет мой всё ещё накрыт курткой. Я присел на колено возле огромного чемодана. Сделал вид, что поправляю шнурки.
Ох, ты ж простой парень Коля! Извини, я обещал Миксе.
Коля и его безымянный товарищ крутят головами, высматривая меня. Они что, мишенями в тире работают? Четыре неслышных в гуле толпы выстрела. Хороший глушитель. Итого — минус восемь пуль. Коли больше нет. А напарник так и останется для меня безымянным.
— Человеку плохо! Даже двум!.. Ой, Господи! Их же убили!!! — последнюю фразу женский голос уже визжит.
Поднимается жуткая паника. Люди бегут в разные стороны. Слышны свистки милиционеров — ха! Вот и они сами. Так. Теперь нужно забрать Два. Я бегу с паникующими в ту сторону, откуда и прибежал.
Манёвры, мля!
Вот лестница. Главное — не споткнуться. Раз — два — три — четыре, раз — два — три — четыре, раз — два…
Аспид.
Раз — два — три — четыре…
— Аспид.
Раз — два — три — четыре… — давно я столько не бегал… Ха…
— АСПИД!!!
Я поворачиваюсь. По лестнице поднимается и опускается много людей. Но Миксу я узнаю сразу. Она уже почти догнала меня. Вот, на пару пролётов ниже меня. Десять, девять, восемь ступенек. Туфли с каблуками держит в руках. Запыхалась. Раскраснелась.
Догнала. Остановилась, улыбаясь и приводя дыхание в норму:
— Ас… пид… я… от них… убе… жала…
— Умница, — говорю я, быстро глянув вниз, — действительно, никого не видно.
— Пойдём, — я поднимаюсь по лестнице выше. Она быстро надевает туфли и берёт меня под руку.
— Я их… обманула! — радостно говорит она. — Я побежала к такси и свернула за угол, а они…
Она споткнулась и, всхлипнув, повисла на моём плече
— Микса?
Она изумлённо посмотрела мне в глаза.
— Больно, — тихо сказала она, и по щеке её побежала слезинка.
Я обернулся, прикрывая её собой. На лестнице уже визжали женщины, закрыв головы руками, и лежали в неудобных позах мужчины. Двое из парней в чёрных костюмах были ещё далеко внизу, но один — совсем рядом. Теперь он прицеливался в меня.
Я всадил в него три пули, прежде сем он успел выпустить хотя бы одну.
Люди ринулись вниз по лестнице. Никто из них, похоже, не заметил пистолета в моей руке. Зато его заметили милиционеры, которые достали свои табельные стволы и побежали к лестнице.
Я успел уложить ещё одного самурая, прежде чем понял, что больше стрелять не могу.
«Беретту» заклинило.
Милиционеры нетерпеливо ждали, пока схлынет поток паникующих. Последний ямабуси ретировался. Скоро менты будут здесь.
— У мм-меня каблук сломался, — жалобно сказала Микса, и моё сердце, которое я считал куском чёрного льда, сжалось от отчаяния.
— Что ты, Микса, не сломался, — успокаивающе прошептал я, — не сломался.
Она попыталась ухватиться за меня поудобнее и вдруг стала сползать. Я аккуратно подхватил её и, чувствуя горячее и липкое пятно на её спине, помог устоять.
— Они вымазали мне спину чернилами, да? — слёзы текли по её побледневшим щекам. — Да? Аспид?
Я почувствовал, что комок в горле мешает мне дышать.
— Ну что ты, Микса. Никто тебя не вымазал, — прошептал я ей в ушко.
Последние люди сейчас покинут лестницу, и милиционеры побегут наверх.
— Они будут смеяться… — захлёбываясь слезами и задыхаясь, шептала Микса. — Опять смеяться… Я не хочу, Аспид… Не хочу…
— Никто не будет смеяться над тобой, моя девочка, — сказал я, чувствуя, что глаза становятся мокрыми, — пусть только попробуют. Я их убью. Всех. Каждого. Не пожалею даже стариков. Убью всех женщин. Вырежу всех младенцев. Сожгу все города и взорву все храмы. Пусть только кто-нибудь попробует засмеяться. Ты мне веришь, Микса?
Улыбка тронула её губы:
— Да, Аспид… Я тебе верю… Я тебя люблю, — она закашлялась, — мне стоять больно…
По лестнице уже приближались, направив на нас оружие и что-то крича, пятеро милиционеров. Я помог ей опуститься и присесть на ступеньку. Она с трудом держала голову.
— Микса…
— Я люблю тебя, Аспид…
Зачем? Зачем она это сказала?
Менты уже преодолели два пролёта.
— Любовь, — сказал я, — это пуля из чистого золота. Вошедшая в сердце и разрушившая всю жизнь.
— Любовь, — прошептала Микса, — это когда каждый поцелуй — проникающее ранение прямо в сердце… Когда штыком высших сил… тебе дырявят грудь и оставляют рану длиною в жизнь…
Три пролёта.
— Любовь — это когда реактивные чувства разрывают тебя на миллиард маленьких осколков — сказал я, доставая гранату, — и каждый из этих осколков продолжает любить…
— Люблю… — прошептала она, — и кровь пузырями выступила на её губах.
Я выдернул кольцо и протянул гранату ей — она схватила её обеими руками.
— Буду любить… Всегда…
Я поцеловал её в мокрую щеку, почувствовал вкус её слез.
Она уже не могла поднять голову.
— Прощай, — прошептал я, — прощай, моя девочка.
Взрыв я услышал, когда подбегал к «Залу матери и ребёнка».
* * *
— Аспид.
— Чего?
— А правда, что если ты умрёшь, то я стану тобой?
— Да…
Мощный автобус несёт нас по трассе к Франкфурту. Оттуда мы направимся в Париж. Я обещал это путешествие Два. Теперь выполняю своё обещание.
— И мы больше никогда не увидимся?
— Нет.
— Жаль…
Я молчу. Делаю вид, что читаю журнал. Два смотрит в окно и вздыхает.
— А правда, что, когда я взрослею, ты молодеешь, правда?
— Да.
Крутой поворот. И снова прямое, как стрела, шоссе.
— Аспид, ты всегда говоришь мне правду?
— Угу.
— А Кривде ты всегда говорил правду?
Я посмотрел на него.
— В основном. А что?
Два помолчал.
— Но один раз ты ей соврал, да?
Я отложил журнал в сторону:
— Ты о чём, Два?
Он почесал ухо о плечо.
— Ну однажды я слышал, как ты сказал ей, что будешь любить её вечно…
Я внимательно смотрел на него.
— … и она сказала, что будет любить тебя вечно… и что если ты изменишь ей, или она просто заподозрит тебя в измене — то пустит себе пулю в лоб…
Я посмотрел в окно: аккуратные поля, кустики, беленькие домики.
— А ты сказал, что пуля в лоб — это слишком примитивно… Что если ты заподозришь Кри в измене…
Фермер на тракторе. Велосипедисты. Мост через реку.
— Ты уедешь на край земли, возьмёшь молоток и раскрошишь себе череп…
Надпись «Франкфурт».
— Ты соврал ей, да Аспид?
Я помолчал и взъерошил волосы на его макушке.
— Нет, Два. Я не соврал. Именно поэтому мы не летаем с тобой самолётами.
— У тебя аэрофобия? Или акрофобия?
— Нет, — рассмеялся я, — кераунотнетофобия!
— Это ещё что?! — совершенно искренне удивился он.
Я обнял его за плечи.
— Много будешь знать — скоро состаришься.
— Не… — пробурчал Два, — тогда не надо.
— Сам не хочу! — засмеялся я.
И подумал:
— Нет, Кри. Я тебе не соврал.
Новый Уренгой. 2000 годЮка
Я пришло к ней, когда ей было три года.
Я приснилось ей.
Во сне она бежит по бесконечному коридору в белой бесформенной одежде, достающей до косточек на щиколотках. Впереди (прямо перед ней) летит маленький пульсирующий огонек (похожий на пламя движущейся в пространстве свечи), но это не свеча. А если и свеча — то неразличима нить, которая сгорает, обычно питая огонь. Неразличим воск, который содержит в себе эту нить и формирует тело свечи. А может и нить, и воск были настолько черны, что растворились в обрывках неровной тьмы?
Что-то горело невидимое, колыхаясь видимым нервным пламенем. Что-то освещало этот серый коридор с неровными стенами, и этого было достаточно.
Сон был черно-белый. Даже серо-белый. И короткий.
В конце этого сна твердь под её ногами исчезла, и она полетела куда-то вниз.
И, вздрогнув, проснулась.
Возможно (возможно!) ей снились до этого сны.
Но запомнила она именно этот.
И с тех пор помнила его, как Первое Приснившееся ей.
Первое Сновидение.
В ее памяти хранилось странное: помнила — причем отчетливо — явно очень маленькую себя в полной темноте. Она говорила в эту темноту:
— Мама! — и почти сразу, где-то слева, загорался свет. Сквозь деревянные прутья она видела мужчину, встающего с постели. Видела заспанную женщину рядом с ним. Видела бутылку с белым содержимым, приближающуюся к ней. Чувствовала резиново-молочный вкус во рту. Видела, как тух свет. И самое странное — помнила еще три-четыре секунды этой темноты с соской во рту. И это воспоминание было гораздо более ранним, чем сон.
А еще помнила совсем непонятное: молодую маму с большим животом. Видела ее со странного ракурса — очень снизу. Мама возвышалась многометровой глыбой. И в животе у Мамы — была она. Это было не совсем понятно. Даже совсем непонятно.
Хотя бы потому, что беременной мама была до этого только один раз. И видеть молодую беременную маму «очень снизу» мог только старший брат.
Но вот. В памяти ее было так.
И когда я пришло к ней, ей было три года.
Я приснилось ей.
Я было с ней в бесконечном коридоре ее сна.
И когда твердь под ногами и неяркий свет, и сам коридор исчезли — мы вместе полетели куда-то вниз. А может быть вверх.
Мы полетели вместе.
Она дернулась в полудреме, и мы вместе проснулись, не досмотрев этот сон до конца.
Ей было три года одиннадцать месяцев и тридцать один день. Ее звали Юля. Сегодня ей исполнялось четыре.
Мы вместе смотрели, как весь этот длинный-предлинный день мама готовит еду. А внезапно наступившим вечером — гости эту еду едят.
Ей подарили куклу, кубики и зеленую картонную коробку с чем-то тяжелым внутри. Юля ела конфеты, которых было много и которые не помещались в маленькие карманчики ее платья. Взрослые включили громкий музыкальный ящик, и мы смотрели, как крутятся два больших блина с пленкой. Как подрагивают стрелочки в светящихся окошках. Мы слушали, как волшебный женский голос пел волшебные слова под волшебство музыки:
«Я так хочу… Чтобы лето не кончалось… Чтоб оно за мною мчалось… За мною вслед…».
Но самый волшебный подарок был в той самой зеленой картонной коробке. Это был матово блестевший ящичек странной формы с большим стеклянным глазом, похожим на подзорную трубу старшего брата.
Когда все гости разошлись, мама повесила на стену белую простыню и выключила свет в комнате. И тут же в ящичке зажегся огонек.
Маленькая Юля заворожено смотрела на это. Ей казалось, что это маленький домик с маленьким круглым окошком. И из этого окошка на белую простыню попадали красивые цветные картинки с буквами понизу.
Мама читала эти буквы, и мы с Юлей узнавали о путешествиях Гулливера, о приключениях Маленького Мука и скитаниях Калифа-Аиста.
Название у волшебного ящичка было тоже волшебное и трудное: диафильмоскоп. Юля никак не могла его запомнить.
Его запомнило Я.
Я помню все.
Я ее запасная память.
Даже если она забудет, я буду помнить, что в детстве она не могла спать лицом к стене, на которой висел ковер. Ей казалось, что из ковра сыплется пыль и забивается в нос. Она начинала задыхаться, но лежала так до последнего. И только когда пыль забивала и горло, и рот, она, крепко зажмурившись, поворачивалась лицом к темной комнате, в которую проникал свет уличного фонаря. Она не боялась темноты. Она боялась того, кто мог в ней быть.
Однажды, когда она болела стандартной детской болезнью с каким-то недлинным противным названием, у нее неожиданно и опасно поднялась температура. Родители сначала не поняли этого. Но Болезнь и Высокая Температура заставили обратить на себя внимание. Причем не совсем обычным способом. Маленькая Юля и сама не поняла, что происходит. Она сидела на родительской кровати, и ей вдруг очень захотелось пить. Она почувствовала, что пересохло во рту, и собралась сообщить об этом маме — как вдруг заметила на соседней кровати двух медведей. Медведи были огромные. Они лежали обнявшись и смотрели на Юлю. А она, открыв рот, смотрела на них. Больше всего ее поразило, что оба медведя были сделаны из какашек (а к тому возрасту она уже точно знала, как какашки выглядят). Она вдруг ощутила, как загустел воздух и время вокруг нее. Она с непонятной ей самой паникой поняла, что все вокруг замедляется.
И вдруг увидела огромную моль, застывшую во времени. Моль одновременно летела и висела в пространстве. Замерла и двигалась.
Маленькой Юлей овладел такой УЖАС, высыпавший льдом на спине, что она завизжала во всю силу своих детских голосовых связок.
Завизжала так, что у матери, говорившей с отцом, на несколько секунд остановилось сердце, а отец выронил градусник, который держал в руке.
Градусник долетел до пола и разбился.
Юля визжала так, что у родителей кровь стыла в жилах:
— Папа, убей её!!! УБЕЙ ЕЁ!!! УБЕЙЕЁ!!!!
Потом врач говорил, что температура тела, видимо, резко возросла — примерно на четыре градуса за пять минут — и ребенок начал бредить. В те времена детские врачи не использовали слово «галлюцинации» в разговорах с родителями своих пациентов.
Но Медведи и Моль отпечатались в ее памяти навсегда. А испытанный в тот момент УЖАС по-настоящему улегся (или исчез совсем?) спустя двадцать лет…
А еще Юля (когда уже почти выздоровела и ей разрешили играть) нашла на полу комнаты маленькую (со спичечную головку) бусинку. Маленький, тусклый, дрожащий шарик за ножкой шкафа. Она осторожно трогала его карандашом и рассматривала в подзорную трубу, которую можно было (но очень осторожно!) брать для игр из шкафчика брата.
— Интересно, что это? — спросила она, как все дети, обращаясь то ли к себе, то ли еще к кому-то.
Я знаю, что это.
— Пуххх! — сказала она вслух и ударила по шарику чуть сильнее. Шарик вдруг распался на три шарика поменьше.
Юля высунула язык и, стараясь не дышать, приблизила свой правый глаз как можно ближе к полу.
— Что же это такое? — спросила она. Опять обращаясь то ли к себе, то ли к пространству вокруг. Некоторым это помогает. Например, сосредоточиться. Некоторые задают себе вопросы и сами же отвечают на них. Некоторые, делая что-либо, комментируют процесс. Это им помогает. Сосредоточиться. Некоторые настолько сосредотачиваются, что начинают говорить вслух. С собой. Возможно с кем-то еще.
— Что же это такое? — не вслух спросила Юля. Обращаясь к себе или к пространству вокруг.
Я знаю, что это. Это ртуть из разбитого градусника.
— Ртуть, — сказала она. — Ртуть.
Однажды, когда она уже научилась читать, когда пошла в школу, получила первые «хорошие» и «плохие» оценки, побывала на коротких зимних, длинных и любимых летних, и совсем незаметных осенних и весенних каникулах — однажды в кабинете географии она увидела карту своей страны. Огромную карту — во всю стену. Очень подробную: каждый, даже самый маленький, населенный пункт был нанесен на эту карту. Она долго искала свой город и когда нашла, почему-то невероятно обрадовалась. Где-то там, в этой точке с названием, стояла сейчас она. Юля.
Она смотрела на эту карту и вдруг поняла, что видит столько населенных пунктов, что даже столько же человек не знает. Не успела еще познакомиться. И еще она поняла, что и не познакомится за всю свою жизнь с таким количеством людей. Потом позже она смотрела на карту своего материка. Своего полушария. Она смотрела на странный шар Глобус — карту своей планеты — и думала о том, что в каждом, даже самом маленьком, городишке живут люди. И что людей ТАК МНОГО — что даже в голове не укладывается. Она гораздо спокойнее восприняла информацию о том, что Земля похожа на мяч, чем то, что людей ТАК МНОГО. Но это случится позже.
А сейчас, пока родителей и брата не было дома, она приставляла к шкафу стул, влезала на него и доставала зеленую картонную коробку с диафильмоскопом. Она задергивала шторы, аккуратно включала домик с круглым окошком в розетку и направляла его на стену. Она осторожно заправляла пленку в специальный зажим, прокручивала свои любимые картинки и всегда удивлялась: объектив круглый, а картинка квадратная… Чудеса…
Она не умела читать и просто рассматривала красивую одежду героев, в которую вкраплялся рисунок обоев.
Она смотрела на картинки, а Я шептало ей то, что написано под ними. Не то, чтобы Я умело читать — нет, Я научусь этому позже вместе с ней, — но Я запомнило то, что читала мама. Потом, через время, эти символы сложатся в образы, затем в алфавит, а потом и в слова. А сейчас она прокручивает к следующей картинке. И шевелит губами, повторяя за мной.
Я долго не могло понять, знает ли она обо Мне?
Догадывается? Я вслушивалось в окружающее меня пространство, но не чувствовало ничего подобного Мне.
Я было Одно.
С ней. В ней? Вне ее?
Я было. Она была. Мы были вместе.
— Ртуть, — сказала она, пробуя слово на вкус. — Ртуть.
Юля была послушной, доброй девочкой. Она слушалась маму и папу, и старшего брата. Она знала, что Нельзя совать шпильки от маминых бигудей в розетки, что стекло может разбиться и будет «вава», что ножик острый и что огонь больно кусается.
Она знала все, что НЕЛЬЗЯ и все, что МОЖНО.
Но однажды она ослушалась и маму, и папу, и брата. Она гуляла на улице поздним зимним днем. Уже начинало потихоньку (и одновременно быстро — как это обычно бывает зимой) темнеть. Небольшой двор возле общежития, где Юля жила вместе с родителями, был пуст. Все соседи либо уже валялись перед телевизорами в своих комнатах, либо добирались сюда на дребезжащих желтых автобусах со своих далеких, непонятных «работ». Во дворе стояла перекошенная карусель, похожая на ржавый Пентагон с приваренными к нему стульями. Рядом с Пентагоном (через песочницу) стояли качели, которые скрипели так уныло, что на них уже года три никто не присаживался, даже покурить.
У Юли уже мерзли щечки и пощипывало пальчики рук и ног, когда она решила напоследок слепить еще один снежок: только сегодня они начали получаться похожими на настоящие. Она зачерпнула снег своими мохнатыми варежками и стала мастерить снежный шар.
Она не знала, что существуют законы физики и химии, и простейшие понятия о температурном режиме. Что в тот момент, когда брат показывал «Как — Нужно — Лепить Снежок», на улице было «плюс столько-то», и снег был подходящим — рыхлым и липким.
Сейчас было «минус столько-то», и не хотел снег лепиться в нужную форму. Сыпался сухой белой пылью. Как мука был. Хрустел, но не хотел становиться тестом.
— Здравствуй, Юля, — сказал кто-то у нее за спиной.
Она обернулась. Мы вместе обернулись и посмотрели на мужчину, стоящего у нас за спиной.
Как и все взрослые вокруг Юли, дяденька был таким, что смотреть на него приходилось, запрокинув голову.
— Здрасьте, — сказала Юля, сжимая снежок озябшей ладошкой.
Дяденька присел на одно колено, и лицо его оказалось совсем недалеко от Юлиного. У него были большие голубые глаза, как у папы, и белые-белые зубы: дяденька улыбался.
— А смотри, что я умею, — сказал он, и Юля стала смотреть.
Дядя снял перчатки и показал ей пустую ладонь.
— Есть что-нибудь? — спросил он.
Юля помотала отрицательно головой:
— Нет, — сказала она.
Дяденька сжал руку в кулак. Протянул ей:
— А ну-ка, подуй…
Юля дунула на чужие пальцы.
Дяденька разжал кулак. На ладони его лежало маленькое блестящее колечко. Юля смотрела на него, открыв рот.
— А как это? — спросила она вдруг.
— Волшебство, — сказал дяденька.
— А ты, что ли, волшебник?
Дяденька кивнул.
— Взаправдишный?
Дяденька кивнул. Он протянул ладонь, а с ним и колечко Юле:
— Бери…
Она бросила недолепленное снежное тесто себе под ноги. Зубами стащила связанную мамой варежку. Взяла озябшими пальчиками круглую, блестящую желтым, железку:
— Мне???
Дяденька кивнул.
Солнце, которое еще двадцать минут назад висело над соседним парком, исчезло за деревьями.
— У меня еще сережки есть… — сказал дяденька Волшебник, — … с красными камешками… Хочешь?
Юля кивнула. Зажала колечко в правом кулачке. Левый — в варежке — протянула дяденьке. Он поднялся с колен, взял ее за руку и пошел в сторону парка.
— А ты где живешь? — спросила Юля.
Я не слушало, что говорил ей мужчина. Я всматривалось и вслушивалось в него. Я впервые ощупывало другого — тем более взрослого человека — и не знало: получается у меня?
Я вдруг поняло, что у Волшебника за голубыми глазами и улыбкой, за веселым голосом и словами — есть еще что-то. Еще одно. А все вышеперечисленное — тонкий слой скрывающий Это. За этим слоем… Как же это?.. На что-то похоже… Словно… Да! Словно наэлектрилизованный сгусток материи. Невидимое и неосязаемое. Да! Я поняло — это НЕТЕРПЕНИЕ. Сначала Глаза.
Потом Улыбка.
Потом НЕТЕРПЕНИЕ.
Потом…
Я нашло трещину в его НЕТЕРПЕНИИ всего лишь на мгновение. Лишь на мгновение Я увидело, чего он с таким НЕТЕРПЕНИЕМ ЖЕЛАЛ.
Я долго не могло понять — знает ли она обо Мне? Догадывается?
Я вслушивалось в окружающее меня пространство, но не чувствовало ничего подобного Мне. Я было Одно. До сегодняшнего дня.
— Юля! — сказало Я с максимальным напором. — Юля! Ты меня слышишь???
Долгую (длинной в официально принятое летоисчисление) секунду я ждало ответ.
Да, — очень слабо и удивленно ответили Мне.
Я не могло позволить себе удивляться, радоваться или скорбить.
— Юля! — сказало Я. — Ты знаешь этого дядю?
— Не знаю, — ответила она.
— Зачем ты с ним идешь? — спросило Я. — Куда ты с ним идешь?
— Не знаю, — озадачено ответила Юля вслух.
— Что? — спросил мужчина, быстро оглядываясь по сторонам.
— Юля! — сказало Я. — Юля, слушай Меня! Этот дядя Плохой! Ты Меня понимаешь? Он Злой Волшебник! Что тебе говорили мама и папа?
Я почувствовало, как она испугалась. Как она вспомнила самое главное. Самое главное «НЕЛЬЗЯ!».
Но маленькие ножки ее продолжали идти.
— Юля!!! — сказало Я. — Юля, слушай Меня!!!
Из переулка, медленно ступая, вышли две пожилые женщины, тянущие на санках большую плетеную корзину.
— ЮЛЯ!!! — Я поняло, что это последний шанс. — ЮЛЯ!!! КРИЧИ!!!
Тук-тук-тук-тук — ее сердечко.
У дяденьки-волшебника сладко зачесалась розовая кожица под ногтями рук и ног: еще двадцать шагов.
ЮЛЯ!!! КРИЧИ!!!
Это позже Я поняло, что паника может подавить все инстинкты. Самосохранения в том числе. А ребенок? Такая добрая, послушная (непослушная!) девочка?
— ЮЛЯ!!! — если бы Я могло, Я бы зажмурилось. — ЮЛЯ!!! МОЛЬ!!!
Он испугался.
Он испугался так, что я увидело все места, где он закапывал тела.
Он испугался.
Вороны, уже усевшиеся спать на деревьях в парке, взорвали тишину сотнями крыльев и глоток.
Он испугался и, не думая, побежал, бросив ее руку. Бросив ее.
Юля визжала так, что ее мать, дувшая на ложку бульона в общей кухне «Общежития № 5», услышала ее через двор и двойную линию гаражного кооператива «Нефтяник».
В тот вечер она нарушила главные правила из папки «НЕЛЬЗЯ!». Она разговаривала с Незнакомцем. Она взяла у Незнакомца что-то. Она пошла с Незнакомцем. В тот вечер она пообещала родителям, себе (Мне?), что больше НЕ будет так делать.
В корзинке, установленной на санках, завернутые в два пуховых платка путешествовали недавно открывшие глазки котята и их мама — кошка Дуся. А двух пожилых женщин звали Тамара Федоровна и Любовь Федоровна. Они были очень похожи друг на друга, но — и это стало самым удивительным для Юли в тот вечер — были не сестрами, а мамой и дочерью. Юля никак не могла понять: как может одна совсем седая бабушка, быть мамой другой совсем седой бабушки. Но это было так.
Баба Люба и баба Тома привели Юлю во двор, где уже металась перепуганная мама с соседками. Потом все сидели на большой общей кухне и шумно обсуждали произошедшее. Баба Тома и баба Люба развязали платки в корзине, и Юля с подружкой Тасей аккуратно гладили смешных, пищащих котят.
— Юля! — спросила мама. — Ты помнишь, какой был тот дядя? Как он выглядел?
Юля кивнула.
Пришел участковый. Выслушал всех. Задал Юле, Тамаре и Любови Федоровнам несколько вопросов. Записал что-то в папке. Ушел.
Я знаю о голубоглазом Волшебнике все. Но не он меня заинтересовал.
В тот вечер я поняло, что Я не одно. Что есть подобное Мне, но не Я. Что-то скрывающееся за улыбками и глазами. Что-то прячущееся за нетерпением и желаниями. Я не увидело его. Я почувствовало его присутствие. Словно за запотевшим стеклом. Или зеркалом?
Словно за слоем льда есть вода, в которой ты отражаешься. Но где она сейчас? И слой-то этот — та же вода. Вода, в которой ты отражался уже. Но сейчас она не отражает. Сейчас твое отражение (почти ты сам… или ты?) — там. За этим холодным, твердым слоем бывшей воды… Бывшего зеркала… Я почувствовало присутствие.
Как чувствовало присутствие мышей в прогнивших стенах общежития. Их ночные передвижения в подполе и на чердаке.
Еще я поняло, какое мощное оружие Страх. Тем более, Страх, полученный в подходящий момент в неподходящем состоянии.
Юля спала. Спал маленький котенок Васька которому предстояло однажды сменить свое имя. Баба Тома и баба Люба разрешили выбрать одного и Юля выбрала этого — серо-белого и смешного. Жить ему разрешили в маленькой картонной коробке в общем коридоре.
Моль и Медведи отправлялись в бронированный сейф, в самом нижнем погребе подсознания.
Юля собиралась прожить следующий кусок своей жизни. И Я было в самом главном цеху по созданию автобиографии.
А сейчас она спит.
А в спичечном коробке — там, под шкафом, за старыми пластинками и перегоревшими новогодними гирляндами — лежит маленькое, блестящее желтым металлом колечко.
Васька всегда очень пугался пылесоса. Как только мама включала новенький «Вихрь», похожий на робота из мультика, котенок пулей летел под диван. А Юле звук работающего пылесоса нравился. Особенно если поднести ухо как можно ближе к всасывающему шлангу. Тогда похоже на разогревающий двигатели самолет. Юля знала этот звук — каждое лето она летала далеко-далеко, к бабушке в Деревню. Но, то летом…
А пока зима кончилась, Васька чуть-чуть подрос, и началась весна. Весна, сначала пахла тающим снегом. Потом подсыхающей землей. Затем запахло клейкими почками на деревьях и (наконец-то!) по порядку, и в разнобой, сменяя друг друга и смешиваясь, запахло абрикосовым, яблочным, черемухиным цветом.
Юля брала Ваську на руки, шла в общий коридор и звала Тасю. Тася выкатывала свою кукольную коляску (совсем как настоящую, только поменьше). Подружки усаживали Ваську в этот четырехколесный пластмассовый экипаж и шли к автобусной остановке.
Их общежитие стояло на окраине города возле старого полузаброшенного парка. Когда-то по выходным в парке гуляло много нарядного народа, и играли в волейбол. Теперь там были потрескавшиеся асфальтовые дорожки и битое стекло, а в самом глухом месте — почти развалившееся строение с непонятым ржавым механизмом внутри. Юля с Тасей найдут его через два года. Они долго будут гадать: почему эта здоровенная штуковина, совсем не похожая на паровоз и трамвай, стоит на рельсах? Откуда тут вообще этот пятиметровый отрезок железной дороги? Зачем так высоко от земли прикреплено маленькое и тоже невероятно ржавое сидение со спинкой?
А пока они идут с котом Васькой на остановку.
Остановка называлась «конечная» или «кольцо». Здесь заканчивал свой маршрут, отдыхал и ехал обратно жёлтый автобус Единица. Здесь — на «конечной» — зимой и летом, осенью и весной сидели на одинаковых складных стульчиках четверо.
Баба Варя с ведром семечек и двумя стаканами — большим и маленьким. Баба Аня — у неё в ведре плавали в рассоле бочковые огурцы, а сверху «на досточке» лежали кольца домашней кровяной колбасы. И бабушки Тома и Люба, старые знакомые Юли. Они сидели рядышком друг с другом. Перед Тамарой Фёдоровной лежала картонка с надписью, выполненной химическим карандашом: «бурки». У Любови Фёдоровны на картонке значилось «бруки».
Под «бурками» скрывалась обувь, изготовленная из какого-то толстого ворсистого материала. Шил «бурки» сосед обеих Фёдоровн, инвалид Пискунов. Шил вручную, добротно и качественно. Поэтому, кроме пенсионеров, эти немодные, но тёплые боты с удовольствием покупали любители зимней рыбалки. «Бруки» — штаны из какого-то неясного составом и невнятного цветом материала — шил тот же Пискунов. Лишившийся ноги во время войны, он занялся в своё время заточкой инструмента и изготовлением ключей. А теперь вот сидел дома и на модернизированной своими руками швейной машинке шил всё, что шилось. А бабушки Фёдоровны за небольшой процент это «всё» продавали.
Баба Люба и баба Тома всегда радовались, когда Юля приходила к ним.
— Ой! — говорили они. — Наша Юленька пришла!
Они расспрашивали её и Тасю о том, как идут их детские дела. Бабушка Варя насыпала им два больших кулька семечек. Бабушка Аня — отламывала кусочек кровяной колбасы Ваське. Потом все, довольные друг другом, расставались.
— В адном гораде жила парачкааа.
— Муж садовник, жина садавооод…
— И была у них дочка Аллачка,
— Ей ишол питнацатый гоооод… — пели свою самую любимую песенку Юля и Тася по дороге домой. Юля никак не могла запомнить, кто из бабушек Фёдоровн дочка, а кто мама. В глубине души она вообще в это не верила. Она смотрела на свою взрослую маму и на себя, маленькую-премаленькую девочку Юлю, и не могла представить себе, что они когда-нибудь станут двумя одинаковыми, седыми старушками, сидящими вместе на табуретках.
Тася тоже не могла различить, кто из бабушек дочь, а кто мама. В конце концов, две подружки решили, что та Фёдоровна, которая умрёт первой — та и старше. Оставшаяся, значит, будет дочкой. Довольные логичным решением проблемы, Юля и Тася запели следующую «Самую Любимую Песню»:
— Каламбина — так девачку звали!
— Каламбина красивай былааа!
— Да симнацати лет не любииилааа!
— А патом палюбила анаааа!!!!
Однажды Юля долго стояла у трюмо, рассматривая себя. Три зеркала (одно большое по центру и два узких и длинных по бокам), повёрнутые под правильными углами, позволяли видеть себя во всех подробностях. Мама гладила бельё. Время от времени она набирала в рот воду из большой кружки и со смешным звуком разбрызгивала её на наволочки, пододеяльники и всё остальное.
— Мам, — сказала вдруг Юля.
— Да, доча?
— А когда я вырасту, я буду тётей или дядей?
Спустя много лет Юля будет рассказывать человеку, с которым только что познакомилась:
— А ещё я в детстве не могла есть кильку в томате…
— Почему? — спросят её.
— Бабушка рассказывала, что я осторожно заглядывала в банку и говорила: «Я не могу её есть! Она на меня смотрит!»
Но это будет потом. А пока Юлино детство продолжалось. В этом своём детстве она любила:
маму, сидеть в самолёте у иллюминатора, арбузы, фруктовое мороженое, ситро «Пчёлка», папу, апельсины.
Не любила: дыни, то, что жвачку нельзя глотать, пломбир, тушеную капусту, газводу без сиропа, куриные яйца.
Куриные яйца для Юли долго были загадкой. Особенно когда она поняла, что эта хрупкая штуковина появляется у курочки из попы. Потом-таки свыклась с этой мыслью. Но не свыклась со вкусом яиц.
Спустя много лет она будет рассказывать человеку, с которым только что познакомилась:
— Однажды бабушка заметила, что сахар уж очень быстро заканчивается… А его в деревне закупают мешками… На варенье там и вообще… Вот… Смотрит она как-то, я в кладовку иду. Подсмотрела за мной. А я, оказывается, наберу сахару в кулёчек и иду в курятник. Сыплю его в кормушки, в воду… Бабушка моя: «Внученька! Шож ты делаешь?!» А я: «Хочу, чтобы яички у курочек сладкие были!»
Но, то будет потом.
А в ближайшее лето, оставив Ваську на попечение соседей по общежитию, родители завезли Юлю в деревню, старшего брата отправили в летний лагерь, а сами поехали на море.
Лето было длинное-предлинное…
Тёплое-тёплое…
Дни и ночи проводила Юля с бабушкой Надей. Они готовили кушать, собирали малину, ходили купаться на речку… А лето все шло и шло… Все не кончалось…
По вечерам они сидели с соседками по проулку на лавочках. Щелкали семечки, разговаривали. Ждали пастуха с коровами. Когда уже темнело, пригонял он деревенское стадо. Коровы тяжело и неспешно шли по улице, безошибочно определяя свои дворы и усеивая дорогу лепешками. Пастух Федька Зайцев, всегда веселый и выпивший, все норовил стукнуть ладонью по заднице какую-нибудь незамужнюю молодуху.
— Тьфу, прИдурок «(с ударением на первый слог)! — кричали ему. — Иди к Настьке-Ведьмачке целоваться!
Настькой-Ведьмачкой звали девушку с другого края села. Она жила в доме возле самого леса с дяденькой, который называл ее мамой. Настька-Ведьмачка всегда улыбалась и выглядела гораздо моложе этого «сына». Но Юлю подобное не удивляло: уж если две абсолютно одинаковые бабуси — это мама и дочь, то, значит, все может быть в этом странном мире.
Она знала о моем существовании?
Или нет?
Я так и не поняло это.
После случая с Волшебником, я все ждало, когда она позовет меня. Спросит:
— Эй? Ты здесь? Хотя бы поинтересуется ради того, чтобы понять: ей показалось. Никого нет. И не было.
Ни разу.
Ни разу не обратилась она вовнутрь с вопросом.
Ни разу не спросила.
И я молчало терпеливо. Может, не пришло еще время. Может, и не придет никогда. Может, она ничего не поняла тогда. Может, УЖАС стер все из памяти. Может, она забыла?
Я помню все.
Я ее запасная память.
Даже если она забудет — Я буду помнить.
Они пришли с бабушкой в «Центр» — так называлось в Деревне место, где стояли рядышком Почта, Клуб, Сельсовет и Магазин. Именно Магазин интересовал двух родственниц с сорокапятилетней разницей в возрасте. Баба Надя купила Юле стаканчик розового мороженого, надела на нос очки и стала по составленному заранее списку совершать закупку товара.
Она произносила:
— Мыло два куска… — и продавщица тетя Маша лезла за этим мылом в ящик.
— Ага… — говорила бабушка Надя. — Так… Теперь уксуса бутыль…
И тетя Маша шла в подсобку чем-то звенеть и шуршать, выискивая нужный товар.
Так могло продолжаться минут двадцать.
Юле было скучно есть мороженое в такой обстановке и она вышла на улицу. Солнцу оставалось еще примерно полпути расстояния и час времени до высшей точки дня. Что посреди лета в этих широтах означало — уже жарко.
Юля, ковыряя плоской деревянной палочкой содержимое картонного стаканчика, прошлась до угла магазина. Здесь была наклеена афиша нового фильма, идущего в Клубе. Щурясь от солнца, Юля рассматривала дяденек и тетенек нарисованных на ней. Потом развернулась и, продолжая есть мороженое, вернулась к крыльцу магазина. Заглянула в дверь: бабушка еще зачитывала продавщице свой список.
Протарахтел трактор, громыхая пустым прицепом. Тракторист помахал Юле грязной рукой, улыбнулся. Юля облизала плоскую деревянную палочку и помахала ей вслед трактору. Потом решила прогуляться в другую сторону. И прогулялась.
Когда до угла оставалось примерно пять ее детских шагов, она оторвала взгляд от содержимого слегка размокшего стакана, подняла свое перемазанное розовым и липким лицо, посмотрела вперед и остановилась.
Прямо перед ней стояла молодая девушка в цветастом платье по колено и ослепительно белой косынке, повязанной на голову. Девушка была голубоглаза, боса и держала обеими руками перед собой большую пустую авоську.
Девушка улыбалась.
Юля, открыв рот, смотрела на нее.
Я смотрело на нее.
Мы знали, кто это.
Настька-Ведьмачка.
Всякое говорили про нее в селе.
Всякое слышала про нее маленькая Юля.
Но я уже знало: не все, что говорят, нужно слушать.
Слушать нужно другое.
Юля заворожено рассматривала Настьку.
Я смотрело.
Я видело.
За улыбкой Настьки — еще одна улыбка.
А за ней — еще одна. А там — дальше — травы, пахнущие пряно, от чего слабость в коленях, большой пень нагретый солнцем — теплый.
Я слушало.
Я слышало.
За улыбкой Настьки — еще одна улыбка.
А за ней — еще одна. А там — дальше — шорох травинок, листьев на деревьях от легкого ветерка… каждый звук плетет узор ласкового нежного шепота…
Что-то улыбалось оттуда. Что-то было источником, рождающим Спокойствие… от которого, как круги по воде, расходились улыбки, достигали далеких и ближних берегов. Одним из которых была Настя… А мы стояли сейчас на берегу ее глаз и смотрели…
— Ба?.. — позвала Юля, когда они уже улеглись в свои постели и потушили свет.
— Да?.. — баба Надя спала в соседней комнате за ширмой. Зимой это было самое теплое место в хате. Внучка лежала на раскладном диване под иконами. Они всегда разговаривали перед сном, прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи.
— Ба… А Настька красивая…
Баба Надя помолчала какое-то время. Потом произнесла вздохнув:
— Красивая…
Юля услышала, как заурчал холодильник, стоявший на веранде и перекрывающий своим тарахтением все ночные летние звуки.
— Ба…
— Что?..
— А она, правда, ведьма?
Молчание. Потом из темноты, из-за невидимой ширмы:
— Говорят так…
— А это правда?
— Не знаю я, Юленька… Ежели ведьма, то Бог ей судья… Ежели нет — не ведьма значит…
— А кто тогда?
— Дурочка бедная… Спи, Юленька.
— Спокойной ночи, бабушка…
— Спокойной ночи…
Я не одно.
Я не увидела его.
Я почувствовало его присутствие. Там — на другом берегу… Где-то ТАМ от него как круги по воде расходились спокойствие и улыбки, достигали далеких и близких берегов… И я хотело быть таким берегом… Всего мгновение… Но хотело…
Я не одно.
Хорошо это?
Не знаю.
Юле нравился мед.
На вкус, на запах, на вид.
Очень.
Однажды — когда она уже научилась читать, училась во втором классе и мама разрешала ей с деньгами ходить в магазин — Юля с подружкой Тасей Пастуховой пешком пошли в далекий и Большой Универмаг.
Было Воскресенье.
Была Весна.
Светило Солнце.
Девочки шли рядом по широкому тротуару и вслух мечтали о том, какие у них будут платья на Свадьбе. Настроение у обеих было преотличное: они шли за медом. В двух сетчатых авоськах болтались пустые литровые банки с тугими полиэтиленовыми крышками.
Девочки собирались свернуть во двор, чтобы таким образом сократить себе путь, когда сзади раздался тонкий, очень высокий скрип отполированного металла и тупой (БУП!) звук сильного удара.
Они обернулись, и Юлин зрачок фотографически запечатлел момент: чуть просевшая вперед в момент торможения, сверкающая, словно покрытая лаком, зеленая машина и белый мохнатый шар, висящий в воздухе над крышей автомобиля.
Мохнатый шар плавно облетел авто, словно повторяя его контур, и вдруг шлепнулся на дорогу позади зеленой молнии.
Черные длинные отметины на дорожном покрытии выглядели так, словно их провели нереально толстым фломастером.
Зеленый «Москвич» сбил белую собаку какой-то мохнатой породы. А может и вовсе беспородную. От удара она взлетела в воздух и тяжело шмякнулась об асфальт. С таким звуком, что сразу стало ясно — это ВСЕ.
Юля за секунду до того, как обернулась, думала о том, что прежде чем надеть на банку полную мёда крышку, можно облизать стеклянное широкое горлышко.
И обернулась.
Как только она осознала то, что увидела, — Юля испытала шок, словно от удара током, и долго не могла выдохнуть набранный в легкие воздух. Словно вместо весеннего ветерка резко вдохнула жидкий азот. Они выдохнули одновременно с Тасей — плюс-минус полсекунды — и с той же скоростью побледнели. Они одновременно отвернулись и сразу пошли. Чувствуя, как вся кожа, мышцы, тело — враз, до кончиков ушей, — онемели. Они шли, постепенно ускоряя шаг, и уже почти свернули во двор, как тут собака пришла в себя и ощутила, как это — когда в теле не осталось ни одной целой кости. Она издала такой вой, такой вопль Боли и Ужаса — разогнавшийся за секунды из тишины в ультразвук — что две человеческие самки, не достигшие детородного возраста, забыв о том, как звучали и что значат их глупые имена; о том, как разжечь огонь, читать, писать; о том, что Земля круглая, — два живых организма, объятые первобытным СТРАХОМ СМЕРТИ, бросились бежать.
Бежать, не чувствуя ног.
Не видя и не думая: «Куда?»
Они остановились только тогда, когда сердца уже не могли перекачивать кровь еще быстрее, когда легкие разрывались от боли, а ноги исчерпали лимит скорости и выносливости. Ноги гудели так, что казалось — сейчас просто отпадут.
Юля, задыхаясь, увидела, как блюет упавшая на четвереньки Тася.
Даже если она забудет это.
Я буду помнить.
Я ее запасная память.
Время шло.
Для Юли оно, то тянулось длинными, зимними вечерами. То летело последними летними днями перед школой. Юля каждый день, просыпаясь от звона ненавистного красного будильника, садилась в кровати и сидела так — сквозь полуслипшиеся ресницы смотря на очередное новое утро.
Она медленно сползала с постели, вдевала ноги в тапочки с дурацким и нелюбимым сейчас узором. Шла в ванную. Умывалась. Чистила зубы и только потом — промокнув лицо полотенцем — смотрела на себя в зеркало.
Это повторялось изо дня в день. Неделя за неделей. Юля смотрела сначала на свой нос, потом на губы и наконец в глаза. Оценивала их цвет, их неповторяющийся больше нигде в мире оттенок и мелкий рисунок вокруг зрачка.
Юля рассматривала свои брови, потом уши. Потом делала лицо, какое обычно пыталась повторить в фотосалоне.
Их семья любила фотографироваться.
Раз в полгода они все — мама, папа, брат и Юля — шли в ближайшую фотомастерскую и фотографировались на большой «настоящий» фотоаппарат.
На тех снимках менялись их причёски и одежда, выражения лиц и настроение. И самое главное — возраст. И если бы зеркало фотографировало Юлю каждый раз, когда она делала в него соответствующее лицо — то из получившихся негативов можно было бы склеить короткий фильм. Где в инверсии прокрутить бы сорок секунд этого фильма, а потом проявить последний кадр. И увидеть фото уже повзрослевшей на четыре года, но всё ещё маленькой девочки. Третьеклассницы Юли.
Чуть-чуть заострились её черты.
На себя в зеркало утром смотрит девочка с другой длинной волос.
С её щёчек исчезла припухлость.
Девочке Юле восемь лет.
Уже много (очень много!) чего произошло.
Однажды кот Васька неожиданно родил четверых котят. Это стало шоком для всего общежития. Сосед дядя Дима долго смеялся и говорил сквозь хохот:
— Васька?! А кто-нибудь этому Ваське под хвост заглянуть додумался??? Ха-ха-ха!!!
Васька стал Василисой и примерно в это же время исчез из жизни Юли навсегда.
Их семья переехала в большой, новый девятиэтажный дом. Родители очень строго и однозначно дали дочери понять — здесь никаких животных.
Юля в восторге от новой квартиры, пахнущей обойным клеем и линолеумом, от своей (СВОЕЙ!) комнаты, от новой полированной мебели и от совсем не укладывающегося в голове ослепительного, фантастического — Лифта!!!
Она благоговейно смотрит на его большие, круглые, блестящие белым металлом кнопки.
Она ездит в нём со священным трепетом и испытывает нечто нереальное в груди в тот момент, когда ЭТО трогается с места. ЛИФТ! — это Невероятное. Ее брат поступает в Суворовское Училище. Он строгий уезжает со слегка растерянным папой в далекую и непонятную «Казань». И через три месяца они уже всей семьей едут к нему, его «проведывать»! На поезде!
Юле очень хотелось хоть раз проехать на поезде. Самолет никогда не сравнится с волшебством передвижения по железной дороге. В этом Юля убедилась в первые же минуты после того, как попала в купейный вагон.
Лифт померк.
Он потускнел и уменьшился в размерах. И остался таким надолго — коробкой на тросе: вверх-вниз. Вниз-вверх.
Но поезд! Поезд навсегда остался любимым ее средством перемещения в пространстве.
Это было в сто пятьдесят тыщ мильёнов раз лучше самолета.
Здесь можно было сидеть на нижней полке и есть. А валяться весь день, играть, читать, смотреть в окно и спать (!) на второй (!) полке!!!
Здесь был вагон-ресторан.
Здесь был магический звук: стук колес о рельсовые стыки.
Нет. Поезд был определенно лучше.
Юле нравился уже десятый по счету мальчик. Она прочла «Конька-Горбунка» и «Карлсона». На полке стоял «Хоббит или путешествие Туда и Обратно», но пока Юля просто просмотрела в этой книге все картинки.
Когда-то она, засунув в спичечный коробок головастиков, прокатила их на лифте. Потом закопала их в том же спичечном гробу за домом. Теперь ей хотелось пианино и набор железной кукольной посудки, в которой можно готовить настоящую еду. Например, суп из полсосиски. Она была в гостях у новой подружки Саши Ивановой из соседнего подъезда, и Сашина мама помогла им сварить такой суп в такой кастрюльке на Настоящей Электропечке. Юля, просто подпрыгивая от нетерпения, прибежала домой — просить такой же набор у родителей на ближайший праздник.
Она открыла дверь своим ключом и сразу услышала, как родители говорят друг с другом на повышенных тонах.
Это было странно. Юля была на сто один процент уверена в том, что мама очень любит папу.
Юля вошла в зал и родители, увидев ее, замолчали. Папа держал в руках дорожный чемодан. Мама со всех сил сжимала прижатые к бедрам кулаки. Родители смотрели на Юлю. Она на них. Потом папа, как-то не торопясь, но очень быстро прошел мимо Юли. Щелкнул замок входной двери.
Мама смотрела на Юлю. Потом подняла кулаки к лицу и прижала их к глазам. И вдруг со всей силы ударила кулаками по столу. Еще. И еще.
Она завыла, как сбитая машиной собака, — так, будто ни одной целой кости не осталось в ее теле.
Так — что Юля отчетливо поняла — в этот момент ее детство закончилось.
Не тогда, когда мама побила все зеркала в доме.
Не тогда, когда Юле пришлось вызывать «неотложку», чтобы маме вкололи успокоительное.
Не тогда, а именно в эту секунду Юля поняла — детства больше нет.
Юля была права: ее мама очень любила папу.
Она не могла жить без него.
И ей было очень больно.
Мама переживала то, что много позже станут называть умными словами, и чем (еще позже) станет модно, а потом и нормально болеть.
Мама Юли чувствовала, что сходит с ума.
Чтобы не попасть в дурдом, мама занялась привычным делом. Тем, что получается у человечества лучше всего — самоуничтожением. Самоуничтожение вообще прерогатива человечества. Раненый и искалеченный зверь старается выжить во чтобы-то ни стало. Тащит себя зубами с Того Света. Вгрызается в жизнь.
Здоровые физически человеки вдруг начинают убивать себя. Медленно: удушение, прыжок с крыши, вскрытые вены — не входят в их планы.
Они едут в преисподнюю в общем вагоне, медленной скоростью, немодным, но самым популярным рейсом — заливают в себя слоновьи дозы дешевого алкоголя. Сивушных масел и токсичных соединений. Парфюмерные спирты и прочие жидкости технического назначения.
Мама Юли не хотела, чтобы ее мозг погрузился в безумие. Она его разрушила. Выжгла. Вместе с печенью. И если бы каждая бутылка делала фотографию Юлиной мамы, то из каждого десятого негатива можно было бы склеить короткий фильм. В течение которого лицо Юлиной мамы поменяло бы свой цвет, размеры и черты.
Лицо ее изменилось, как это обычно бывает в таких случаях. Юлина мама стала щекастой, рыхлолицей, загорелой и удивленной: брови ее, как и у всех алкоголичек, были приподняты так, будто она непрерывно чему-то удивлялась. Эти брови словно компенсировали то, что внутри Юлиной мамы Никто и Ничему уже давно не удивлялся.
Мама спилась за два года.
Она почернела от водки.
Ее глаза выцвели от количества и качества выпитого.
Для Юли это были бесконечные сто четыре недели. Летящие со скоростью света в обратном порядке семьсот тридцать дней. Стоящие на месте двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать часов. Примерно.
Мама начала самоуничтожение с мрачной решимостью, и ее фотография незадолго до смерти, наверняка, висела на доске «Они — наша гордость» у входа в Ад. Маму словно не волновало, что у нее есть дочь.
Иногда волновало.
Юля не могла бы точно сказать, когда именно происходило что-либо в тот период ее жизни.
Сначала закончились банты. Потом чистые гольфы и трусы. Однажды она обнаружила, что ей стало мало школьное платье.
Первый раз мама накричала на Юлю через два месяца после ухода папы. Первый раз ударила на три недели позже.
Шокированные соседи десятки раз звонили в милицию: мама, иногда выпив пару бутылок красного портвейна, любила включить на всю громкость мощную стереосистему и, размахивая третьей початой бутылкой, орать во все горло, подпевая знаменитой певице:
— Я так хочу!!!
— Чтобы лето не кончалось!!!
— Чтоб оно за мною мчалось!!!
Через полгода, прежде чем лечь спать, Юля подпирала дверь стулом и пододвигала письменный стол.
Иногда по ночам мама ходила по их огромной квартире, прихлебывая пахнущее карбидом вино из картонных пакетов. Разговаривала сама с собой. Иногда плакала.
Иногда у нее в руках был большой нож.
Юля спала с найденным в кладовке молотком под подушкой.
Брат приехал неожиданно.
В своей черной курсантской форме, с алыми погонами и аккуратным черным чемоданом. Утром в дверь позвонили, Юля открыла — и брат был там.
Он долго, словно в какой-то прострации, стоял и смотрел на спящую в этот ранний час мать.
Потом они с Юлей вымыли полы, вынесли мусор и перемыли всю посуду. Брат, переодевшийся в свою пахнущую сыростью «домашнюю» одежду, бесстрашно давил тараканов, и каждый раз Юля вздрагивала от омерзения.
Проснулась мама. Пришла в кухню и минуту с недоумением рассматривала своих детей, потом воскликнула:
— Сережа! — и обняла своего сына.
Она заплакала и стала покрывать его лицо поцелуями. Он терпеливо снес запах ее рта и тела, ощущая на губах вкус ее слез и слюны.
— Я в отпуск приехал, мама, — сказал он.
Мать прижимала сына к себе изо всех сил. Юля смотрела на них сверху, стоя на подоконнике: когда мама зашла в кухню, она как раз протирала влажной тряпкой форточку.
— Все, мама, — сказал брат. — Ты больше пить не будешь.
— Не буду, мой золотой… — пролепетала мама, размазывая слезы и кивая.
К обеду ее стало трясти так, что Юля встревожилась не на шутку. Вечером сын поймал ее возле лифта — она босиком выскользнула из квартиры. Когда он попытался взять маму за руку, она заверещала как взбесившееся животное. Она кричала на сына, чтобы он отстал от нее. Она материлась и плевалась. А потом ударила его изо всех сил в лицо. И замерла замолчав.
Он смотрел маме в глаза секунд десять. Кровь из разбитого носа закапала его футболку с надписью «Спидвей-86. Скорости нашего времени».
Он развернулся, собрал свои вещи, переоделся и ушел ночевать к отцу.
И вот тут-то Юле стало по-настоящему страшно.
На первом же после этого случая медосмотре в школе медсестры из горбольницы добрались и до их класса. Урок был остановлен и тетеньки в белых халатах стали бегло просматривать языки, уши и волосы учеников 6—го «А».
— Ой-ей-ёй!!! — сказала вдруг одна из медсестер. — Это что еще за ужас???
Все повернулись и увидели, что тетя-доктор брезгливо держит рукой в резиновой перчатке длинный локон Юли.
— Вши? — спросила учительница, сидящая за своим столом.
— Да тут, по-моему, все! — сказала вторая медсестра, тоже подошедшая к Юле.
Юля испытала первое, по-настоящему жестокое, унижение в тот момент, когда её заставили собраться на глазах у всего класса. А во время наступившей внезапно перемены две врачихи, помахивая своими квадратными чемоданчиками, на глазах у всей школы провели её к автомобилю с красным крестом…
Уже в больнице она начала вдруг хныкать и отбрасывать от себя чужие руки. Её смогли успокоить, только пообещав побрить наголо и показав огромный шприц для промываний. Она не знала, что этим шприцом уколов не делают. Но сработали оба аргумента безотказно.
Ей втёрли в голову вонючую мазь. Заполнили документы и повезли домой.
Юля обречённо привела медиков в свою квартиру.
На следующий день появились представители Комиссии по делам несовершеннолетних. С Юлей поговорила тетенька, которую все вокруг называли Лара Евгеньевна. С мамой разговаривали какие-то люди и милиционер.
Маме показывали бумаги, и мама в них даже смотрела. Но Юля не могла с такого расстояния определить — видела ли мама эти бумаги вообще.
Мама «успела с утра». Граммов 150 как минимум. Поэтому с полуулыбкой слушала всё, что ей говорят, иногда кивала и даже почти не материлась.
Когда все ушли, Юля привычно закрылась в своей комнате, подпёрла дверь и посмотрела на свой портфель.
Она легла в постель, не выключая свет, и тихонечко поплакала. А потом заснула.
Ей снился хороший сон.
Потому что когда улыбаются во сне — значит, снится хорошее.
А она улыбалась. Я помню это.
На следующий день на пороге школы два первоклассника тыкали пальцем и кричали:
— Вшивая! Вшивая!
Они кричали это очень громко и от переполнявшей их радостной злости их юные голоса вибрировали. Юля вошла в большой холл большой престижной школы в хорошем районе города. Юля вошла в школу и увидела, как несколько десятков голов повернулось в её сторону.
Вихрастых голов и голов с косичками, голов с бритыми затылками и голов с аккуратными проборами, с «конскими хвостами» и чубами до носа.
Юля увидела это и остановилась. Потом развернулась и вышла. Пересекла школьный двор, прошла мимо автобусной остановки, свернула в сквер возле памятника. Прошла и его. Уже здесь услышала звонок на первый урок. Не из своей, а из ближайшей к ней сейчас 22—й школы.
У нее екнуло сердце — впервые она не шла на занятия как все Нормальные Дети.
Она прогуливала (!?) школу.
Значит, она Ненормальный Ребенок? Как все остальные мальчики-хулиганы и девочки-врушки? Интересно! — она, как и все люди, обращалась толи к себе, толи к кому-то еще. — Интересно! А бывают девочки-хулиганы и мальчики-врушки?
— Значит, я Ненормальный Ребенок! — она вдруг заулыбалась. — Я девочка-хулиган!
Настроение у нее улучшилось и она, с разбегу попрыгав по нарисованным на асфальте «классикам», побежала дальше, размахивая портфелем.
Она целый день гуляла по городу. Устала, но почему-то чувствовала себя невероятно легко. Нашла кусок булки и крошила его голубям на площади. Видела группу малышей из детского сада на прогулке. Под вечер, замерзнув, она вошла в большой Дом Культуры и села на одно из многочисленных мягких сидений в фойе. Какие-то дети с родителями переобувались и сдавали одежду в гардероб. Взрослые люди проходили мимо нее в кинозал на первый вечерний сеанс. Дети пришли на занятия в танцевальном кружке. Поэтому скоро удалились в свой «Танц. Зал № 1».
Родители на ближайшие два часа рассосались.
Потом началось кино.
За закрытыми дверями слышались музыка, интересные звуки и дружный смех. В фойе остались только Юля, полулежавшая в большом кресле, и тетенька, проверяющая билеты у входа в кинозал. Тетенька читала какой-то журнал.
«Наверное, про кино», — решила Юля.
— Тебя как зовут? — спросила вдруг контролер громко со своего места.
— Юля, — сказала Юля.
— А что ты тут делаешь? — она смотрела на Юлю поверх очков.
— Сестру жду младшую, — соврала Юля. И добавила:
— Она на танцы ходит.
Тетенька покивала.
— Кино хочешь посмотреть? — спросила вдруг она.
Юля моргнула.
Потом кивнула.
— Да, — сказал она, наконец.
Когда кино закончилось, она вышла со всеми зрителями на улицу и поняла, что уже давно стемнело. Юля остановилась и посмотрела в небо. Она увидела далекие и редкие осенние звезды, с трудом пробивающиеся сквозь зарево города.
Она не спеша шла в сторону дома и видела включенные фары движущихся автомобилей и пар, вырывающийся изо рта идущих навстречу людей.
В окнах домов она краем глаза замечала одновременное моргание тысяч телевизоров, включенных на один (и тот же?) канал. Она видела холодный безжизненный свет ламп дневного освещения под потолком городского бассейна. Видела вспышки электросварки на далекой стройке.
Юля прошла вдоль какого-то кафе и вышла на центральную улицу города. В стороне она увидела памятник танку. Рядом с ней была автобусная остановка. На остановке топталась молодежь с кассетником на батарейках и сидела одинокая бабушка с ведром семечек.
Юля смотрела на эту бабушку, когда к остановке, позвякивая, подъехал автобус с цифрой «1» над водительским местом.
Единица.
Через минуту Юля уже ехала к «конечной».
А ещё через пятьдесят минут стучалась в ворота небольшого частного дома.
Дверь ей открыла баба Люба.
— Юленька! — осветилось лицо старушки. — Заходи, деточка!
Юля обняла её за пояс и, прислонившись к животу, заплакала.
Потом они пили чай.
— Что случилось, Юленька? — спросила, наконец, баба Люба. Юля произнесла несколько предложений. Баба Люба молча выслушала.
— А где баба Тома? — спросила вдруг Юля.
Ещё через несколько секунд Юля узнала о том, что Тамара Фёдоровна Соболева скончалась полгода назад. Так Юля запомнила, кто же из двух одинаковых бабушек оказался дочерью.
Она осталась спать у бабушки Любы. Та простирнула в большом тазе всю Юлину одежду и повесила её над включенной на медленный огонь газовой печкой.
Утром они позавтракали хлебом с маслом и сладким чаем. Один бутерброд баба Люба завернула Юле с собой. Потом протянула ей ключи от входной двери. Юля вышла из дома и, чувствуя затылком взгляд бабы Любы, смотрящей на неё из окна, пошла в сторону остановки.
Она бодро шла по тропинке и вдруг увидела ржавую, перекошенную карусель, похожую на «Пентагон», с приваренными к нему стульями из толстого листового железа. Через песочницу от «Пентагона» стояли остатки качелей, которые когда-то скрипели так уныло, что на них даже покурить никто не присаживался. Теперь скрипеть было нечему. От качелей остался только замысловато погнутый железный столб, похожий на подвергшуюся пыткам букву «Z». Юля стояла в своём бывшем дворе и с удивлением видела, каким он стал маленьким. Каким ВСЁ здесь стало маленьким! Она поняла, что не была здесь пять лет — ого, себе!
Пять лет назад её семья оставила тут Ваську, ставшего Василисой, и переехала в противоположный конец города. Юля перешла в другую школу. И всё. Больше здесь с тех пор она не бывала. Родители даже на большие праздники бывших соседей не приглашали. Тогда Юля думала, что так положено. Так — нормально. Сейчас поняла: нет.
Юля ещё раз оглядела свой двор и пошла дальше.
Она захотела писать и, вспомнив о гаражном кооперативе, свернула к нему. Обошла трансформаторную будку рядом с котельной и увидела двух девочек своего возраста. Они держали в руках сигареты и явно собирались их прикурить.
Юля подумала, что темненькая девочка на кого-то похожа, и тут же поняла, что это Тася Пастухова. С Тасей, очевидно, произошло то же самое.
— Юлька! — завопила вдруг она.
Они подбежали друг к другу и впились друг в друга же глазами, не зная, что сказать. Светленькая ухоженная девочка с мелкими-мелкими кудряшками на голове подошла к ним поближе и сказала, держа сигарету в вытянутых красивых длинных пальцах:
— Меня зовут Стеша.
Потом они гуляли по старому парку, который стал еще более заброшенным. Была глубокая осень. Деревья стояли голые. И если летом листья кое-что прикрывали, то теперь мрачность этого места была очевидна.
Но трём девчонкам было не скучно. Они не спеша шли по аллее с остатками скамеек и разговаривали. Сначала Юля рассказала им про последние события в своей жизни. Стеша, выслушав всё до конца, сказала закуривая:
— У меня такое было.
Она сообщила, что отец бросил их с матерью ещё раньше — когда Стеше было всего три годика. Мама долго жила одна и только недавно у неё появился мужчина. Они полгода назад расписались, и теперь у Стеши новый папа. Хороший. Добрый. На артиста похож. Мама до этого тоже выпивала, но теперь только по праздникам… так что у одиноких женщин всегда появляются мужчины, а значит, у Юли скоро будет новый, хороший папа и всё наладится. Ещё Стеша сообщила, что когда куришь, становишься красивее, и что имя «Стеша» — самое красивое женское имя в мире.
— А Тася? — спросила Юля, стесняясь спросить про своё.
Тася заверила, что «Стеша» гораздо красивее. Так считается «в Америке». Юля решила, что девочкам виднее, и попросила сигарету себе.
— А это не вредно? — спросила она, поднося её к спичке.
— А мы не в затяжку! — успокоила её Тася.
Они гуляли так до обеда.
Юля услышала далёкий звонок — где-то закончился третий урок.
Она спохватилась:
— Вам в школу, что ли, не надо?
— А у нас справка! — сказали в один голос Тася и Стеша улыбаясь. И они все втроём рассмеялись.
Стеша предложила пойти к ней.
Они проехали одну автобусную остановку и вошли в дом очень похожий на Юлин. Через несколько минут они уже уплетали котлеты с яичницей прямо из сковороды.
У Стеши никого не было дома — ни мамы, ни нового папы. Они покушали. Потом достали учебники и тетрадки из портфелей и фигурно выложили их на столе в зале — всё должно было выглядеть так, словно три прилежные ученицы делают уроки после школы.
— А твои скоро придут? — спросила Юля.
— Неа… Но на всякий случай, — ответила Стеша.
Потом Тася что-то шепчет Стеше на ухо. Они о чем-то тихо и быстро говорят. Затем Тася подходит к Юле и тоже почему-то шепотом:
— Пошли… Мы сейчас… Только! — и Тася постучала себя по губам указательным пальцем правой руки. Юля кивнула.
Они пошли в зал.
Стеша на цыпочках сбегала к входной двери. Не дыша, послушала подъезд через замочную скважину и вернулась в комнату. Она влезла на стул, открыла какой-то верхний ящик и достала из его недр видеокассету. Быстро вставила ее в кассетоприемник и нажала кнопку на корпусе аппарата.
Когда Юля поняла, ЧТО она видит — она в секунду покраснела от корней волос до пальцев на ногах. У нее перехватило дыхание: она поняла, ЧТО именно делают дяденька и тетенька на экране. Она вдруг ощутила стыд и странное зудящее чувство, которое раньше никогда не испытывала.
Много лет спустя, вспоминая этот эпизод своей жизни, она расшифрует это чувство — Возбуждение. А пока — она смотрит первое в своей жизни легкое порно, и в одной части ее тела мурашки, а в другой — выступает пот.
Даже если она забудет это.
Я буду помнить.
Когда Юля вернулась к бабушке Любе, та была дома. Она накормила Юлю ужином, и они сели смотреть черно-белый телевизор.
Сначала Юля не могла понять застывшего на лице Любови Федоровны выражения.
Потом поняла: та днем побывала у матери.
— Поживешь пока у меня, — сказала она, расстилая постель.
Юля была не против.
На следующий день выпал снег.
Они позавтракали, и Юля отправилась «в школу». На самом деле она пришла в заранее условленное с Тасей и Стешей место — за котельную.
И так — каждый день.
Они ехали в центр города, в детское кафе «Чебурашка». Или другое — «Золотой ключик». В «ключике» были самые вкусные молочные коктейли, а в «Чебурашке» — пирожные «картошка». Карманных денег им иногда хватало даже на кино.
Через неделю к бабе Любе домой приехала завуч Юлиной школы и Лара Евгеньевна. Лара Евгеньевна, оказавшаяся прикрепленным к комиссии по делам несовершеннолетних психологом, долго говорила с бабушкой. Завуч — с Юлей. Потом они поменялись. Юля кивала, на все вопросы отвечала «да» и со всем соглашалась.
Еще через неделю залили главный каток города.
Юля, безошибочно выбрав время, прокралась в свою квартиру и достала из кладовки коньки. Потом в своей комнате побросала в большой полиэтиленовый пакет теплые вещи.
Потом заглянула в зал: мать спала перед включенным телевизором.
Юля бесшумно покинула свой дом.
Она ещё пару раз встречалась с людьми из комиссии и с Ларой Евгеньевной. Лара Евгеньевна просила Юлю рассказать, как они с мамой и папой жили раньше, какими были отношения с братом. Просила рассказать, что чувствует Юля сейчас. Юля, как могла, неохотно рассказывала. Ей не очень нравилась Лара Евгеньевна. Ей казалось, что Лара Евгеньевна притворяется. Но зато (как и было обещано) психолог посодействовала переводу Юли в её бывшую школу. И куда — в Тасин класс! Стеша училась в параллельном. Вот это была удача!
Юля клятвенно заверила бабушку Любу, что будет ходить в школу.
И пошла. Они отсидели с Тасей два первых урока, непрерывно хихикая и раздражая учительницу математики. Потом встретились со Стешей у доски обьявлений. Там, написанное от руки, висело приглашение на занятия в кружке «карате». Занятия начинались с завтрашнего вечера в школьном спортзале. Подружки решили записаться на карате втроём. Еле досидев до большой перемены, они привычно улизнули из школы, проигнорировав обед в школьной столовой. Покурив на «своём» месте за котёльной, Юля, Тася и Стеша двинулись домой к последней — они решили испечь яблочный пирог, а потом есть его, запивая молоком и смотреть мультфильмы.
Стеша открыла дверь своим ключом и тут же, сделав большие глаза, прижала палец к губам.
— Кто там? — послышался мужской голос из глубин квартиры. — Стефания, ты?
— Да пап, я! — громко сказала Стеша, сделав смешную гримасу. Девчонки захихикали.
— А что так рано? — спросил тот же голос приближаясь. Занавеска, отделяющая коридор от кухни отодвинулась, и появился мужчина с бутербродом в руке.
— О! — воскликнул он. — Здрасьте! У нас оказывается гости! Проходите!
— Здрасьте! — хором сказали гости.
— У нас сегодня соревнования должны были быть, — начала врать Стеша. — Но потом из гороно перезвонили и перенесли на…
Юля, разуваясь, глянула на Тасю. Та подмигнула и показала язык.
Потом подружки месили тесто, резали яблоки и отмеряли сахар.
Стешин папа пообедал, завязал галстук, застегнул пиджак и уехал на работу. К тому моменту, когда пирог пах из духовки на всю квартиру, пришла Стешина мама.
Мама Стеши была высокой, яркой женщиной с длинными светлыми волосами и помадой невероятного оттенка. У Стешиной мамы было потрясающе красивое лицо, узнаваемый профиль, знаменитые цвет и разрез глаз. Мама Стеши была похожа на известную артистку. Это лицо было знакомо миллионам людей. Знакомым оно показалось и Юле.
Мама Стеши и вела себя как артистка — красиво ходила, красиво поправляла волосы, красиво ела и красиво лежала на диване. Мама Стеши всё делала плавно, словно слегка ленясь, и приятно пахла духами. Они все вместе поели пирог, посмотрели мультфильмы. Потом поужинали с вернувшимся с работы папой. Ужин прошёл весело — папа Стеши два раза очень смешно пошутил и все долго смеялись над обеими шутками. Стешин папа тоже был симпатичный. У него тоже было узнаваемое лицо. Он вполне мог быть мужем артистки. Или даже актёром, сыгравшем роль мужа актрисы в одном с ней фильме. Юля даже видела когда-то такое кино…
Потом Тася и Юля попрощались и поехали на Единице в свой район.
На следующий день в шесть часов вечера три подружки, захватив форму для физкультуры, пришли в школьный спортзал. Они переоделись в женской раздевалке и присоединились к остальным тридцати трём пришедшим по объявлению. Здесь были не только знакомые школьники разного возраста, но и люди постарше. Молча разминались у шведской стенки шестеро сосредоточенных пэтэушников в синих и серых кимоно, была пара недавно дембельнувшихся пацанов с района и даже один совсем взрослый дяденька с вьющимися на затылке волосами, пышными усами и круглым пузом, выпирающим из тренировочных штанов.
Потом неожиданно появился лысый мужчина в белом кимоно и все, подражая пэтэушникам, построились. Лысый что-то стал говорить по-русски — но вобще ничё не понятно. Юля переминалась с ноги на ногу и всё ждала, когда станут учить драться. Но учили в тот день в основном бегать, падать и садиться на шпагат. Не смотря на это, два часа пролетели незаметно, и в конце занятия лысый сказал, что его теперь надо звать Учитель и что деньги за месяц он возьмёт только у тех, кто придёт на второе занятие. Обратно подружки шли уставшие, но весёлые. Кричали «кия» и изображали удары руками и ногами. Стеша рассказала, что знает один приём карате: нужно пытающегося обидеть тебя представителя противоположного пола ударить ногой изо всех сил по яйцам. Это между ног.
— Там само больнее, — сообщила Стеша.
Девчонки проводили её до остановки и разошлись довольные, договорившись на следующую тренировку пойти обязательно. Утром Юля еле встала с постели: всё её тело болело, словно всю ночь её били палками. Она еле доковыляла до котельной, где стояли такие же Стеша с Тасей.
Весь день они провели у Стеши, по очереди прогревая мышцы в горячей ванне, охая и валяясь на диванах. На следующее утро, каждая из них только проснувшись, поняла — никакой тренировки сегодня не будет. Юля и Тася пришли к третьему уроку, а Стеша в тот день вообще не появилась в школе. В четверг они сходили в кино на фильм про пиратов. В пятницу ужинали у Стеши дома, и Юля подумала, какие у её подруги замечательные родители. Даже не скажешь, что это не её родной папа.
В субботу вечером они решили пойти на каток. Каждая взяла свои чудесные, белые (как у настоящих фигуристок) коньки, и пошли. На катке было очень много народу, горели фонари и невнятно играла музыка из громкоговорителей на столбах. Девчонки покатались с полчаса и уселись на освободившуюся лавочку. Рядом с ними тот час же припарковалась шумная компания ребят из параллельного класса — одноклассников Стеши.
Спустя много лет Юля будет сидеть за узким столом и курить сигарету. Мужчина, сидящий прямо напротив её, будет внимательно её слушать, потому что она будет говорить:
— В шестом классе один мальчик — Антон — поцеловал меня на катке. Симпатичный мальчик, даже нравился мне. Но тут я от неожиданности вскочила. Он тоже. Я взяла и пнула его коньком по яйцам. Он практически уполз домой, а все — даже некоторые его приятели — смеялись над ним. Все подумали, что это меня так на карате научили, и даже какое-то время побаивались. Но мне было, на самом деле, неудобно перед этим мальчиком. Я ведь его не со зла ударила, а так… Даже сама не поняла почему. Рефлекторно… А через год он позвал меня и ещё двух девочек смотреть «Греческую смоковницу»…
Там был Толя Сахар.
Ему было четырнадцать лет.
У него были татуировки на пальцах и два условных срока.
Чего у него не было — тормозов.
Он был со своим приятелем Дытей.
Им обоим заплатил Антон.
Он целый год вынашивал план мести.
За тот удар по яйцам. За унижение.
Он потерял часть своего авторитета в стае.
Он испытывал боль не только физическую. Физическая — полностью исчезла через трое суток. Он испытывал ярость.
Он отдаёт Толе Сахару и Дыте плейер и двадцать рублей денег. Он зовёт Юлю и её подружек смотреть «Греческую смоковницу».
Поставили немецкое жёсткое порно.
Били в живот.
Заставляли целовать свои торчащие тонкие пиписки.
Пытались изнасиловать всех трёх, но получилось только у Дыти с Тасей.
Они втроём делали всё, что им говорили делать Сахар и Дытя. А мальчик Антон обоссался от страха и только ныл в углу у телевизора, как заведённый:
— Ну хватит уже пацаны… Ну хватит уже…
У Толи Сахара точно никогда не было тормозов. Потому что он вдруг набросился на Антона и стал бить его ногами, крича:
— Да заткнёшься ты, урод, или нет???!!! А!?? Заткнёшься когда-нибудь, а???!!!
Когда Антона начали бить, девчонки чудом выскочили из квартиры голые… И стали звонить во все двери подряд!!! — заорала вдруг Юля, брызгая слюной.
Вся правая щека того, кто сидел прямо напротив неё за узким столом, враз стала мокрой. Он закрыл глаз липкий от ротовой влаги. Он больше не видел. Он слышал:
— Смешно??? — прошипела Юля.
В тот момент её скулы сводило от злости.
Она помнила всё спустя годы.
И даже если она когда-нибудь забудет — я буду помнить.
Следователь был не молод и не стар. Он уже давно не испытывал никакого особого трепета перед своей работой, но ещё не окончательно созрел для увольнения по собственному желанию. Ему было всё равно. Вообще. Ему было всё равно и всё ясно.
Толя Сахар всю жизнь (как говорили тогда и говорят сейчас) искал себе приключений на жопу. Павел Артамонов, известный как «Дытя», бессменно сопровождал его на этом полном интересных событий пути. На обоих висели условные за хулиганку и отобранные у пьяного шахтёра часы. Теперь плюсом шла весёлая история с групповым и полным набором: побои, изнасилование, потом сама организация группы, потом… короче, хватало. Он просмотрел характеристики из Комиссии по делам несовершеннолетних на Артамонова и Сахара. В той же папке на таком же бланке, но без красной полосы лежала характеристика на одну из пострадавших. Через десять минут она должна была войти в этот кабинет для дачи показаний. Поэтому следователь бегло просмотрел документ. Через десять минут Юля вошла. Села на стул. Ещё через десять минут следователь быстро вышел из кабинета и прошёл по лестнице куда-то наверх — вглубь здания. Он зашёл в большую приёмную, взмахом руки прервал тираду секретарши и толкнул тяжёлую дверь с гербом на двери. Очень скоро он и хозяин кабинета быстро спустились на этаж ниже. Зашли в небольшое помещение, где их одиноко ждала Юля, и закрыли за собой дверь на ключ.
— Послушай её! — говорит следователь.
Она сообщает ментам, что узнала его.
— Кого? — спрашивает приведённый мужчина.
Она узнала Волшебника.
Того дяденьку, который уводил её в тот далёкий вечер из двора, обещая наколдовать серёжки с камешками.
— Какими камешками? Что за бред? Ты какое дело ведёшь?
Новый начальник милиции не местный. Поэтому не сразу понимает, о чём ему твердит его подчинённый. Он не помнит шестерых девочек, пропавших без вести несколько лет назад.
Юля утверждает, что абсолютно точно узнала Волшебника.
— И кого!!! — говорит следователь, размахивая указательным пальцем перед носом своего начальника. Он просит Юлю назвать имя. Юля называет.
— Бред! — говорит начальник. Спустя ещё сутки он так не думает.
В ментовке лезут в архив и находят записи участкового девятилетней давности. Там говорится, что свидетель и потерпевшая в одном лице четырёх лет от роду помнит, как выглядит подозреваемый. Каков он на вид, что глаза у него голубые, что волосы светлые и что у него один золотой зуб в верхней челюсти. Этот человек — главный инженер огромного металлургического комбината. В то смутное последнее десятилетие двадцатого века директор этого предприятия был очень неугоден всем в городе. Под него и его команду никак не могли копнуть. Даже стреляли в него как-то. А тут — главный инженер.
Главный инженер на заводе и папа Стеши в личной жизни.
Приёмный папа. Не биологический. Отчим.
Процесс был громкий.
Прокуратура и МВД вцепились в это дело мёртвой хваткой.
— Но это же бред! — говорит адвокат главного инженера.
Стеша ошарашено смотрит на маму.
У мамы истерика.
Главный инженер, которого зовут Андрей Вячеславович, бледный и спокойный даёт показания.
Юле делают с ним очную ставку.
Она ещё раз подтверждает сказанное ранее.
Адвокат Андрея Вячеславовича напрягается.
Весь город узнаёт, что ещё один свидетель обвинения — Любовь Фёдоровна Соболева, старушка с посёлка Административный, — сказала «Хто ево знает, вроде похож».
Адвокат Андрея Вячеславовича расслабляется: «вроде…»
— Да… — говорит следователь как-то вечером. — Это тебе не топор с отпечатками пальцев возле отрубленной головы…
— А на кольце отпечатки могут быть? — спрашивает Юля.
— На каком кольце? — вопросом на вопрос отвечает следователь.
Они с Юлей едут на её квартиру. Мать никак не реагирует на дочь и мужчину, прошедших прямо в обуви в детскую. Следователь понимает, что никаких отпечатков на кольце, конечно же, нет. Но на следующий день, испытывая омерзение от вида самодовольной рожи адвоката, — сообщает тому историю о колечке в спичечной коробке. Адвокат фыркает и разве что не хохочет. Сразу после визита к следователю он отчитывается перед своим клиентом по телефону. Рассказывает, как идут их дела, и уже в конце, чуть не забыв, упоминает о кольце в коробке из под спичек.
На следующий день Андрея Вячеславовича находят повесившимся в собственном кабинете.
Почти никто не знает о кольце. А те, кто знает — не могут точно сказать, были ли на нём отпечатки. И куда оно вообще делось. А было ли? Никто толком не знает.
Зато весь город знает о Юле.
О том, что из-за неё повесился такой уважаемый человек.
Друг не менее уважаемых людей.
Человек, вина которого не доказана.
Человек, много работавший и переживший нервный срыв из-за выдвинутых против него обвинений.
Вернее — НЕ переживший.
Известный в городе детский психолог Лара Евгеньевна выступает однажды в каком-то невнятном ток-шоу на ужасном местном кабельном канале. Между поздравлениями с днями рождения и блоком частных объявлений в прямом эфире Лара Евгеньевна вдруг говорит, что её любимая наука Психология может помочь разобраться в причинах любого, даже очень странного, поступка. Она говорит, что наблюдаемая ей в течение года девочка из неблагополучной семьи, дочь алкоголички, позавидовала семейному счастью и общественному статусу подружки и оклеветала честного человека.
Весь город уверен, что так оно и есть.
Весь город ненавидит тринадцатилетнюю девочку-врушку.
Под этот шум родители симпатичного и мстительного Антона проплачивают кому надо, и дело об избиении и изнасиловании растворяется в пространстве. Толя Сахар и Паша Дытя через год отправляются в колонию совсем по другому поводу без упоминания в их бумагах об этом случае.
Умирает баба Люба, оставив свой маленький домик в наследство Юле. Но какие-то дальние родственники, появившиеся из ниоткуда, очень быстро выгоняют её на улицу.
Юля с неделю ночует в квартире с матерью, почти не выходя не только из дома — из комнаты своей выскальзывает только пописать.
Потом однажды она просто исчезает.
Следующий этап её жизни был настолько скучным и настолько долгим, что иногда становился интересен именно этим. Юля ни за что не согласилась бы пережить его снова и не очень любила о нём вспоминать, но (!) никогда не собиралась забыть ни дня, ни часа, ни минуты из того отрезка своей жизни.
И не забыла. Это я знаю точно.
Так же стопроцентно, как она узнала Волшебника.
А она ведь его узнала.
Потому что его узнало Я.
А Я её запасная карта памяти.
В следующий этап своей жизни Юля научилась спать в любом состоянии, любое количество часов, в любое время суток.
Она выяснила, что если плеснуть человеку горячим чаем в лицо, это может иметь очень серьёзные последствия. Причём не только для того, кому в лицо чаем плеснули.
Она узнала о месячных в общем вагоне поезда Луганск — Симферополь. Конечно же, о своих месячных.
Однажды она ночевала в купе проводника четырнадцать суток подряд. Это был рейс туда и обратно.
Три раза она спала под открытым небом. Два из них осенью. Один — посреди города. Один — днём.
Она знала, что с помощью швабры можно вымыть два этажа за час. Без швабры — нереально.
Она узнала, что может нести два ведра кукурузы четыре километра.
Она знала, что может не есть двое суток точно. Не спать тоже.
Она знала, что иногда может позволить себе промолчать и опустить глаза.
Она знала, что может бежать долго, далеко и ночью. Зимой.
Она могла вести легковой автомобиль. Медленно, но пока не опустеет бак.
Она достаточно быстро поняла, что в категорию «страшненькая» не попадает. Форма черепа? Рост? Какое-то время её это не волнует.
Однажды она понимает, что мужчины её не пугают.
Она знает четверых девочек, у которых в сумочках всегда лежит клофелин.
Два раза она при знакомстве говорит «Света». Четыре раза «Марина». Остальные — «Юля».
Однажды человек, не расслышав, переспрашивает её:
— Как? Юка?
Ей нравится, как это звучит. При следующем знакомстве, она, протягивая руку, произносит:
— Я Юка, — и выслушав очередное имя в ответ, говорит:
— Очень приятно.
Под этим именем её узнаёт немало людей. Ей реально нравится, как это звучит: Юка. Она даже когда думает о себе, называет себя этим именем.
Однажды в вагоне метро она замечает, что симпатичный молодой человек начинает плакать. Она видит, как блестит влага на его щеках, как вздрагивают его плечи — и это зрелище не вызывает у неё омерзения.
Она смотрит на его слёзы.
Она хочет, чтобы Такой вот Красивый Человек точно так же плакал из-за неё.
Разве это не мечта?
Разве это осуществимо?
Ведь то, что неосуществимо, и есть мечта? Да ведь?
Да?
Она вспоминает, что не плакала почти десять лет.
Она вспоминает причину и географическую точку, в которой плакала последний раз. Людей, из-за которых и в присутствии которых она давилась слезами.
Она меняет цвет волос и садится в поезд.
Она едет двое суток и, выйдя в пункте»», покупает все местные газеты. Вечером она курит на балконе снятой на два месяца квартиры. Она смотрит на город. Из окон — тепло от ночников в детских, одновременное и одноцветное моргание в тех квартирах, где смотрят один и тот же телеканал сейчас. И холод — там, где установлены лампы дневного света. Она видит световую разметку на стреле огромного башенного крана в километре от себя.
Ночью она заходит в пустое интернет-кафе на окраине города. Через двадцать минут она угощает сисадмина (некрасивого подростка с красивыми глазами) пивом. Ещё через полчаса она имеет доступ к городской базе данных.
Делая вид, что отвечает на смс, она записывает в мобильник несколько цифр и в два раза больше букв.
На следующий день она стоит на центральном проспекте города возле нового здания с десятком офисов. Она курит сигарету и рассматривает вывески, покрывающие всё пространство вокруг единственного и очень широкого крыльца. На большой входной двери домофон. Юка нажимает клавишу с цифрой «9». Она слышит электронный писк. Потом бодрый мужской голос из динамика:
— Да?
— «Фармация»? — спрашивает Юка.
— Нет… У них офис «четырнадцать»… Четырнадцать набрать надо…
— Ой, — говорит Юка. — Извините.
— Ничего, — отвечают ей устало. — Проходите…
Двери щёлкают. Юка оказывается внутри. Она бродит по этажам и находит офис «№ 14». На его больших прозрачных дверях — стилизованная под медицинскую змею с кубком буква «Ф». Она видит секретаршу, сидящую за высокой полукруглой стойкой прямо напротив этой двери. Из-за конторки торчит только узел из светлых волос на её затылке. Юка видит ещё две двери. Справа и слева от секретарши. Дорогие, из тёмного дерева.
Стоя у автомата с горячими напитками рядом с лифтом, Юка искоса наблюдает за светловолосой секретаршей. Та говорит по телефону, стучит по клавишам компьютера и иногда что-то записывает большим остро заточенным чёрным карандашом. Юке нравится, как быстро и мелко дрожит карандаш в тонких красивых пальцах девушки. Блондинка вдруг встаёт и, взяв какую-то папку, исчезает в одном из кабинетов.
Юка быстро подходит к прозрачному стеклу с огромной «Ф». Она смотрит на табличку той двери, в которою вошла секретарша.
«Игорь Васильевич Реймер», — читает она и смотрит на вторую. Тоже золотую. Тоже на двери из дорогого тёмного дерева. На толстом стекле появляется запотевшее пятно — там как раз её нос.
«Лариса Евгеньевна Реймер».
Юка собирается сделать шаг назад.
В этот момент дверь с «Игорем Васильевичем» открывается, и светловолосая секретарша стремительно появляется в приёмной. Она на ходу кивает Юке и призывно машет, приглашая войти. Юка приподнимает бровь и тыкает себя указательным пальцем в грудь. Секретарша энергично кивает. Настолько энергично, что кажется, будто она очень быстро поклонилась. Юка толкает прозрачную толстую стену. Та мягко поддается, впуская в обезвоженное кондиционерами пространство.
— Здравствуйте! — говорит секретарша, уже усевшаяся на своё место. — Проходите!
Юка проходит. Тихо бормочет радио.
— Вы по объявлению? — спрашивает секретарша и, не дожидаясь ответа. — Присаживайтесь!
Пока Юка думает, по какому это она объявлению и на какое из кресел ей присесть, где-то приглушённо звякают дверцы лифта. Постепенно приближаясь, цокают о мрамор тонкие каблуки.
— Вы вовремя, — говорит секретарша, улыбаясь Юке, и уже кому-то за её спиной радостно и громко:
— Здравствуйте, Лара Евгеньевна! Тут няня по вашему объявлению!
Юка оборачивается.
— Не няня, а домоправительница, — говорит, улыбаясь, холёная женщина в очках. Юка видит её идеально белые зубы. Женщина кивает Юке и указывает на дверь со своим именем:
— Прошу вас…
Лара Евгеньевна. Юка смотрит, как она вешает свой бежевый плащ в шкаф. Как обходит свой массивный стол и присаживается на своё кресло. Как говорит:
— Да что вы стоите! Присаживайтесь.
Подумав пару секунд, Юка выдвигает один из стульев и присаживается. Вполоборота.
— В принципе у меня в объявлении всё указано… — говорит Лара Евгеньевна, сцепив пальцы рук. Юка смотрит на её губы:
— … Уборка каждые три дня, собаку можно только утром и вечером — он у нас терпеливый… Ребёнок у нас самостоятельный… Сама себе хлопья молоком зальёт и яблоко помоет… Всё равно больше ничего не ест… Да! Вы за аквариумом уже ухаживали?
Юка, смотря в глаза Ларе Евгеньевне и выпятив нижнюю губу, медленно покивала.
— Хорошо… Так!.. Чтобы не было недомолвок — как в трудовом законодательстве — испытательный срок два месяца… Зарплата каждую неделю… Идёт?
Юка покивала.
— Вы когда можете приступить? — спросила Лара Евгеньевна.
Юка вздохнула.
— Сегодня, — сказала она, положив локти на стол и улыбаясь. — Сегодня.
Может быть, она пришла просто посмотреть на эту женщину со стороны? Женщину, которая посмела вслух перед тысячами людей сказать, что Юка (пусть в прошлой жизни, но) кому-то завидовала? Завидовала до такой степени, что оклеветала невинного и довела его до самоубийства.
К тому возрасту, до которого дожила, Юка оформила для себя вполне конкретное отношение к суициду. Буквально месяц назад она говорила в пустой накуренной комнате человеку чуть старше её:
— Самоубийство, — это слишком просто. Это в одной папке с онанизмом. Это очень похоже на мастурбацию. Потому что это можно сделать всегда и почти везде. Что подрочить, что повеситься — это просто. Это путь наименьшего сопротивления. Жизнь — это уважаемое решение. Богом, мной, большинством существ на этой планете.
Юка Никогда, Никому не завидовала и не собиралась завидовать.
Может, она хотела сказать это Ларе Евгеньевне, смотря в её глаза? Глаза, которые сразу теряли свой блеск и остроту, как только Лара Евгеньевна снимала с переносицы модные очки в тонкой оправе. Её глаза были тусклыми и пустыми глазами тупой ухоженной жабы.
Лярва Евгеньевна — называла её про себя Юка.
Она пришла посмотреть в её глаза.
Получилось то, что получилось.
Не случайно это… — не вслух произнесла она, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё, — не случайно…
Она докурила последнюю в уходящих сутках сигарету и пошла спать — завтра в семь утра она должна была готовить завтрак семье Реймер.
— Я готова, — сказала она засыпая. Обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё. И заснула.
На третьем этаже полуметровыми буквами написано:
«ПУЗЫРЬ ЖЫРНЫЙ ЛОХ».
На пятом — среди нескольких выделяется «Рэп — это кал».
На площадке седьмого трафарет чёрного цвета: «KILL YOUR LOCAL DRUG DEALER». Рядом чёрным же маркером: «Барыга кв. 198».
Лифт в доме не работает больше десяти лет. Юка каждый день читает свой подъезд с девятого по первый и с первого по девятый. В квартире справа от неё какой-то упорный человек без голоса и слуха учится играть на гитаре. И что самое ужасное — петь.
В квартире слева практически круглосуточно женский молодой голос говорит примерно следующее:
— Да. Куда? Одесса? Когда? Хорошо. Записывайте: Анна-Харитон… Пять пять пять… Четырнадцать… Анна-Николай… Есть? Прицеп: Анна-Харитон… Восемь Семнадцать Четыре Четыре… Светлана-Игорь… Да. Реф. Ман. С поддонами…
На площадке восьмого этажа написано «Я тебя ненавижу».
Это первое, что читает Юка, выйдя из квартиры. Каждое утро. С «Я тебя ненавижу» начинается её день.
Она готовит овсянку и фруктовый салат.
Лара Евгеньевна и Игорь Васильевич. Можно просто Игорь.
Юка накрывает на стол.
Потом моет посуду.
Они уезжают.
На час позже встаёт с постели их дочь Снежанна. Избалованная тринадцатилетняя пухлая сучка с недовольным ртом. Она ест хлопья с молоком и большое яблоко на завтрак. Хлопья и яблоко в обед. Хлопья и яблоко на ужин. За всю неделю она не сказала Юке ни слова.
В большом хромированном холодильнике отражается вся кухня-столовая. Отражается и то, как Снежанна смотрит Юке в спину. Если Юка сейчас обернётся — Снежанна будет смотреть в телевизор. Снежанна, глядящая Юке в спину, живёт только там — в блестящей дверце шведского аппарата по производству холода и льда.
Юка думает о том, что вполне бы могла стать холодильнику сестрой. Иногда ей кажется, что окружающие замечают холодный воздух, вырывающийся из её рта облачками сизого пара.
Юка выгуливает собаку Реймеров — здесь на окраине города целая улица огромных безвкусных особняков из красного кирпича. Собака тоже огромная — ньюфаундленд Лорд. Лорд послушный и терпеливый. Его приятеля — пса непонятной породы по имени Терри — выгуливает девочка из соседнего дома.
Юка сначала принимает её за свою коллегу-домработницу. Потом выясняется, что Оля — хозяйка пса. Каждое утро они курят за трансформаторной будкой в конце улицы: Оля не хочет, чтобы мама её видела с сигаретой. Юка вспоминает, как много лет назад так же пряталась от взрослых. С Тасей и Стешей. Потом вспоминает о матери. Именно в таком порядке.
Вечером, накормив Реймеров ужином, Юка едет в знакомое интернет-кафе.
— Привееет! — радостно говорит ей некрасивый подросток с красивыми глазами. Она ставит на его стол упаковку датского пива. Очень скоро она узнаёт, что Наталья Пастухова выбыла на ПМЖ в Атырау, Казахстан. Судя по дате, вместе с ней туда же листки убытия получили Александра Иванова и Стефания Коваль. О маме в базе данных Юка не нашла ни одного упоминания. Из чего сделала вывод, что общий вагон, в котором ехала мама, уже прибыл к конечной станции.
На следующий день Юка получила свою первую зарплату. Она сказала «спасибо» и, аккуратно сложив пополам пахнущие деньгами новые купюры, засунула их не в кошелёк, а в задний карман джинсов. Она потратила эти деньги в десяти аптеках города, постепенно наполняя свой небольшой рюкзак позвякивающими бумажными пакетами.
Она зашла в магазин «Хозяйственный» и купила там респиратор. Потом прочла свой подъезд с первого по девятый и обратно. Затем уже переодевшаяся и ярко накрашенная зашла в «канцтовары».
Через двадцать минут с планшетом в руке и карандашом за ухом она звонила в дверь, обтянутую дешёвым коричневым дермантином.
Подъезд вокруг неё пах кошками и сигаретами без фильтра. Дверь открыл взлохмаченный мужчина в спортивных штанах.
— Да? — сказал он, глядя на Юкку.
— Гостеплонадзор, — произнесла она заклинание. — У вас как топят? Нормально?
— Нууу… — задумчиво сказал мужчина.
— Исполком решил реконструировать котельную в вашем районе или… Или она итак справляется?
— Не то чтобы очень… — Мужчина почесал живот. Он был без майки, и Юка видела седые волосы на его груди.
— Давайте я сама попробую батареи? — предложила она.
— Давайте! — согласился хозяин квартиры, впуская её внутрь.
Она трогает ребристую батарею в кухне: между секциями многолетне скапливавшаяся пыль, похожая на тонкий войлок. Пыль слегка вибрирует от оконного сквозняка — рамы никто в квартире, готовясь к зиме, не заклеил.
Пыль в доме повсюду: на подоконниках, полках, в складках штор. Попробовав еле тёплые трубы в зале, Юка замечает дырявый носок, лежащий на линолеуме.
— Вы один живёте? — спрашивает вдруг она.
Мужчина кивает. Он что-то рассказывает ей. Юка, наблюдая за его жестами, мимикой и выражением глаз, решает, что мужчина ведёт себя, как человек, переживший много унижений. Ростом он чуть ниже Юки. Поэтому автоматически получается, что смотрит она на него свысока.
Побыв в квартире не более трёх минут, Юка покидает её, сообщив напоследок:
— Мы поднимем температуру завтра на пять-шесть градусов. Потом сделаем ещё один обход. Так что через недельку к вам кто-нибудь из наших… может, даже я, ещё зайдём.
— Хорошо, — мужчина провожает её до дверей. — Спасибо… До свидания…
— Пожалуйста, — говорит Юка, оставшись одна на лестничной клетке. — И до свидания… Папуля…
Вечер.
В квартире справа от неё упорный человек без слуха и голоса, ужасно коверкая украинские слова, пытается спеть «Весну» группы «Вопли Видоплясова». У него выходит настолько ужасно, что Юке становится даже смешно. В квартире слева кто-то громко занимается любовью. Юка понимает, что очень хочет трахаться. Она выкуривает сигарету на балконе. Потом надевает респиратор и достаёт из рюкзака пакеты, пахнущие лекарствами. Минут двадцать в её квартире слышен хруст тонкого стекла. Потом она зажигает свечи и благовония, растворяет в ванне пахучие соли и лежит в постепенно остывающей воде чуть больше часа.
– #####, — говорит она, не открывая глаз, когда вода становится почти ледяной. — #####…
Через несколько дней у Реймеров какой-то праздник. Юка готовит много вкусной еды, подаёт её гостям. За весь день у неё только два перекура по десять минут. В разгар вечера гости — очень похожие на самих Реймеров — восхищаются уткой по-пекински. Лара Евгеньевна хвастается своей домработницей. Реймеры, владельцы фирмы поставляющей медикаменты. Гости — люди их круга. Тоже все занятые до невозможности.
— Ларочка! — говорит женщина с огромной грудью. — Может, ваша Мариночка и мою Радочку будет выгуливать? С вашим Лордом?
Мариночка… — хмыкает про себя Юка. — Да. Мариночка. Мариночка это я, мля…
Так она начинает выгуливать Раду — любимого стаффа семьи Кондратюк. Каждый раз, видя не умещающуюся даже в воображении грудь Галины Кондратюк, Юка думает: «каждая с мою голову точно».
Ещё через неделю Юка начинает вставать а час раньше. Теперь она отводит в частный детсад близнецов семьи Руденко.
Она всё, везде успевает.
Все, пользующиеся услугами «Мариночки», с удовольствием расстаются с мелкими купюрами. Все эти деньги Юка кладёт в задний карман джинсов — отдельно от своего кошелька. На деньги из своего кошелька она покупает себе еду. Иногда ничего не покупает. Иногда она расходует их странным образом.
Однажды она опять звонит в дверь, обтянутую дешёвым коричневым дермантином. Всклоченный мужчина, в тех же самых штанах, но теперь уже в потерявшей первоначальный цвет футболке, открывает ей дверь.
— Здравствуйте! — говорит он. Угол его рта вымазан майонезом.
— Здравствуйте, — говорит Юка, переступая порог. — Ну как? Теплее?
— Да вы знаете, нет… Как было, так и осталось…
Юка идёт за ним в зал. Трогает трубы отопления. На кухне начинает свистеть чайник. Мужчина, извинившись, убегает его выключать. Юка видит на диване книгу с закладкой. Она быстро всовывает между её страниц несколько крупных купюр. Потом выпрямившись, замечает дырявый носок, лежащий на полу. На том же самом месте, где и в прошлый раз. Она чуть сдвигает его ботинком и видит яркое пятно линолеума: весь остальной пол покрыт толстым слоем пыли.
— До свидания, — говорит ей мужчина в коридоре.
— Прощай, — Юка поворачивается и быстро уходит.
На деньги из заднего кармана джинсов Юка покупает градусники. По десять-пятнадцать в каждой аптеке.
Город большой. Аптек много. А аптечных киосков?
Если её спрашивают «зачем?», она бодро рассказывает, что их всемирно известная организация «Красный Крест» решила хорошенько укомплектовать все детдома области. Что в медпунктах этих учреждений нет самого элементарного. В том числе и градусников. Все понимающе кивают. В одной частной аптеке дают несколько упаковок одноразовых шприцов. Юка кладёт их на площадке седьмого этажа под чёрным стильным трафаретом «KILL YOUR LOCAL DRUG DEALER».
На площадке восьмого этажа выцарапано «Я тебя ненавижу».
Это первое, что читает Юка каждое утро, выходя из квартиры. С «Я тебя ненавижу» начинается её день. И тем же заканчивается.
Она ненавидит.
Лярву Евгеньевну, её дочь, похожую на недовольную жабу, её мужа, уделяющего вечером полчаса кривлянию с гантелями у зеркала. У зеркала в полный человеческий рост размерами. У Юки в их доме своё зеркало — её брат. Блестящий шведский холодильник.
В нём отражается всё. Например, то, как жадно Просто Игорь смотрит на её ягодицы.
Юка знает, что у неё от природы очень тонкая талия. Поэтому сзади на нее приятно смотреть — это когда-то рассказал мужчина, от которого ей приятно было это слышать. Поэтому ей втройне неприятно, что муж Лярвы пялится на её задницу. И если она обернётся — Просто Игорь будет смотреть в телевизор. Игорь, рассматривающий её задницу, существует только там — в блестящей дверце шведского аппарата по производству холода и льда.
Она ненавидит их.
На деньги из заднего кармана джинсов Юка покупает ртуть.
Она надевает респиратор и плоскогубцами взламывает тонкие тела термометров. Она большой цыганской иглой осторожно отодвигает мелкое хрупкое стекло и через маленькую воронку для фляжек отправляет тускло блестящие юркие шарики во флакон из толстого, непрозрачного стекла объёмом со спичечный коробок. За полтора месяца флакон наполняется почти до горлышка.
В шкафах, в письменном столе, в диване — ещё несколько десятков стеклянных, разграфлённых по градусам палочек.
Она ненавидит их.
Эту Галину с сиськами, как астраханские арбузы.
Её мужа — жирного борова с необъятным брюхом, которому неудобно сидеть на обычных стульях и для которого специально заказывали кресло в Германии. Галина сообщает это «Мариночке» не без гордости. «Мариночка» уважительно кивает головой улыбаясь. Юка думает о том, что лучше бы этот, сука, кабан похудел.
Она ненавидит их.
Даже близнецов семьи Руденко. Двух избалованных выше всех пределов и норм детей. Двух мстительных, вредных и жадных клонов своего папаши.
Она носит флакон из толстого стекла с собой в сумке.
Она сыпет ртуть за диваны и под огромные кровати в спальнях.
Она сыпет её в аквариумы к дорогим красивым рыбам.
Она сеет семена своей ненависти и испытывает при этом нечто невероятное внутри: ей кажется, что в ней самой закипает холодная ртуть ярости. Через время она начинает понимать, что ей становится физически плохо от общения с Лярвой и её семьёй.
Юка еле сдерживается, чтобы не заорать ей в лицо.
Лара Евгеньевна говорит мужу, что у «Мариночки» какая-то отрешённая улыбка.
На самом деле Юка прилагает неимоверные усилия, для того чтобы заставить мышцы лица приподнять уголки губ. Её улыбка не отрешённая. И даже не имитация.
Её улыбка мертва.
Однажды Юка понимает, что не может заставить себя улыбнуться.
Это была суббота.
Она смотрела на завтракающих яблочной запеканкой Реймеров и думала о том, что человек должен есть так, чтобы его не видели соплеменники. Что едящий человек похож на человека, исторгающего кал. Что исторгающий кал хотя бы прячется в специально оборудованное убежище. А едящий вот он.
Они.
Сидят и жрут. Впихивают в отверстия сырьё для кала.
Юка ощутила, как пищевод её несколько раз сжался. Она быстро вышла в туалет, и её вывернуло наизнанку. Она выблевала весь завтрак и с минуту, тяжело дыша, рассматривала свои глаза. Внутренняя, холодно мерцающая ртуть отражалась в её зрачках. Она изо всех сил сжала веки и несколько раз глубоко вдохнула, с шумом выпуская воздух из ноздрей. Потом сполоснула рот, умылась и вернулась в столовую. Лярва и Лярва-младшая собирались в какой-то магазин за платьем для новогоднего школьного вечера. Они что-то говорили Просто Игорю, стоящему в спортивных трусах и майке, — он собирался провести свои полчаса с гантелями перед зеркалом.
Лярва и Юке что-то говорила. Юка кивала и отвечала «хорошо», «угу», «да-да». На большее она сейчас не была способна: из груди, царапая внутренности крючьями, карабкался вопль.
Злобный и яростный.
Юка почувствовала, как слезятся глаза от бешенства.
Ей показалось, что она сходит с ума.
Когда Лярвы вышли на улицу и побрели к машине, Юка быстро прошла в ванну и впилась зубами в полотенце. Она зарычала в этот кляп, напитывая его своей слюной.
Никто не слышал её.
Злобное рычание запуталось в волокнах махровой ткани.
Она вернулась в столовую. Из маленького импровизированного спортзала доносились звуки, означающие, что Просто Игорь скачет, разминаясь и глядя на своё скачущее и разминающееся отражение. Юка включила горячую воду в кухне и заставила себя вымыть посуду. Ей хотелось уйти немедленно. И она решила уйти. Только закончить последнее прощальное блюдо. Блюдо уже шипевшее в духовке и пахнущее на всю кухню.
Овощное рагу по-ирландски.
С баклажанами.
Она достала флакон из толстого стекла.
Вынула кастрюлю из духовки.
Сняла крышку и вдохнула густой запах горячих овощей.
Она взяла в левую руку открытый флакон и потрясла его над кастрюлей.
— М-м-м! Как пахнет! — сказал в ту же секунду голос прямо за её спиной, и она вздрогнула всем телом. Она чувствовала лопатками и поясницей, как он приближается. Она видела в холодильнике, как он смотрит на её ягодицы.
— А что это? — он подошёл и заглянул через её плечо в кастрюлю. — «Травы Прованса»? Или «Куркума»?
Она могла бы быстро закрыть крышку и что-то сказать.
Она могла бы перемешать содержимое кастрюли большой деревянной ложкой, уже приготовленной для этой цели.
Она могла бы улыбнуться и отвлечь его.
Но не смогла.
У неё больше не получалось улыбаться.
Она замерла с запотевшей крышкой в одной руке и флаконом в другой.
Она стояла и смотрела на его и своё отражения в большой шведской машине по производству холода и льда. Она чувствовала, как её внутренняя ртуть поднимается по её внутреннему термометру вверх.
Он заглянул Юке через плечо и увидел, что это не травы Прованса и не куркума.
Он увидел несколько матовых шариков, лежавших прямо на виду. Всё ещё улыбаясь, он наклонился чуть ниже.
— Что это? — спросил он недоумённо.
Юка молчала, глядя на его лицо, отражающееся в блестящей, как зеркало, прохладной даже снаружи, дверце холодильника.
— Марина! — сказал он. Юка увидела, что его улыбка тает. — Что это?
Юка молчала. Он вдруг схватил её за плечо и, встряхнув, требовательно произнёс:
— Так! Что это такое?!
Если бы он её не трогал, то мог бы остаться целым, невредимым и живым.
От его прикосновения она вздрогнула — судорога (как удар током) проскочила от копчика к лопаткам. Целую секунду ему казалось, что она отворачивается от него. Как только эта секунда закончилась, она распрямилась как пружина и ударила его локтем в лицо. Из-за того что злость и ненависть застилали её глаза, Юка не попала ни в нос, ни в подбородок. Удар вышел смазанным и пришёлся по губам, которые моментально лопнули в нескольких местах. Просто Игорь схватился за лицо. Потом посмотрел на свои окровавленные руки и с каким-то невнятным урчанием кинулся к Юке.
В сверкающей дверце холодильника отразилась вспышка молнии: какой-то металлический предмет в её руке поймал отблеск потолочного светильника за мгновение до встречи с лицом Игоря Реймера.
— Пить что-нибудь будете?
За окнами быстрые серые тени. Непрерывный ритмичный шум вокруг. Позвякивание. Мир плавно покачивается.
— Будете что-нибудь пить?
— А? — девушка, одиноко сидящая за столиком в вагоне ресторане, вздрагивает и поворачивается: наконец-то поняла, что официантка обращается к ней.
— Вы пить что-нибудь будете? — терпеливо повторяет стоящая у стола грузная женщина с блокнотом.
— Пить?
Пить.
Юка знала, как выглядит алкоголь и что он может делать с людьми. Юка видела, как могут выглядеть люди, пьющие его, и что они — эти люди — могут делать с другими людьми. Она много что повидала за свои двадцать три года, много чего сделала — даже убила человека — а вот алкоголя и глотка не попробовала.
Вилка вошла в череп Игоря Реймера сквозь правый глаз с негромким звуком. Звуком, при воспоминании о котором, судорога раз за разом скручивала мышцы спины, проскакивая от копчика к лопаткам и спустя полсекунды — высыпая мурашками за уши.
Он умер, корчась на полу и издавая звуки гораздо страшнее, но Юку передёргивало при воспоминании о чавкнувшем глазе, принимающем в себя четыре блестящих зубца.
Он умирал на полу, а она дрожащими пальцами расстёгивала его портфель. Одним рывком (фххх!) выдернула пачку наличных из пухлого чёрного портмоне. Сунула, неаккуратно сминая холодными пальцами, пригоршню сухо шелестящих купюр в карман куртки. Выбежала через дверь чёрного хода на задний двор. Мимо пустого бассейна, засыпанного снегом, рывком подтянувшись, перемахнула через калитку. Пробежала по узкому переулку и оказалась на соседней улице.
На далёком перекрёстке стоял, ожидая зелёного сине-белый троллейбус. Она, выпуская клубы пара изо рта, посмотрела в другую сторону, сразу же вскинула руку: на противоположной стороне тормознула красная «копейка». Юка, мелко перебирая ногами и два раза чуть не упав, перебежала укатанную в лёд дорогу.
Плюхнулась на сидение. Повернулась к усатому деду в кепке:
— Стаханов… вокзал…
— Это Алмазное, чтоль?
— Да.
— Сто!
— Как скажете… — ей казалось, что всё происходит слишком медленно.
— Ну, поехали… — дед снял машину с «ручника», и они действительно поехали.
Он, поминутно чертыхаясь и кляня дороговизну на хорошую зимнюю резину, умудрялся задавать своей пассажирке какие-то вопросы. Но, видя, что каждый такой вопрос растворяется в воздухе без ответа, успокоился и включил радио.
Минут сорок выбирались из города. Потом больше часа ехали по трассе мимо каких-то маленьких городков и посёлков. Долго плелись вдоль огромного завода, трубы которого упирались в низкие и быстрые серые тучи.
Она не замечала этого. Она невидяще смотрела в боковое стекло, отвернув от водителя своё лицо.
Она ничего не видела и не слышала вокруг.
Юка была в ступоре.
В астральной каталепсии.
В вакууме.
Она бежит — это инстинкт.
Она бежит не перепуганным белковым организмом в никуда. Она знает куда бежит — это навык. Она боится, но не делает глупостей: это и инстинкт, и навык одновременно.
Она знает свой болевой порог. Она знает, что сейчас в шоке. Лёгком ли, тяжёлом — пока не поняла. Знает, что это пройдёт.
Она никак не поймёт, что это за странное ощущение: словно кто-то кричит ей изо всех сил в уши, а она слышит только слабый шёпот. Словно кто-то лупит в полупрозрачную ледяную стену кулаками, а она ощущает только слабую вибрацию. Словно кто-то огромными глазами хочет высмотреть её там — среди инстинктов и навыков. Высмотреть, достучаться, докричаться. Юка расшифровывает это, как:
Что ты делаешь??? Что ты делаешь, Юля??? Что ты делаешь???
Я — ЮКА! — говорит она, повышая свой внутренний голос.
Я! ЮКА! — кричит она внутренняя, заткнув уши изнутри.
Я!!! ЮКА!!! — рычит она, отгораживаясь бронированной стеной от полупрозрачного льда. От мечущейся за ним тени. От крика-шёпота. От огромных глаз. Она отгораживается стеной от всего, что ей сейчас мешает.
Ей нужны инстинкты и навыки.
Навыки и инстинкты.
Больше ничего.
Она суёт деду обещанные «сто» одной хрустящей бумажкой.
— Спасибо, — говорит водила таким тоном, словно до последнего не верил в то, что Юка заплатит.
— На здоровье… — вполголоса буркает она, выбираясь из машины.
Она неожиданно очень (до боли в мочевом пузыре) хочет писать. Вбегает в станционный туалет — воняющее замёрзшим дерьмом и мочой кирпичное строение. Рассадник циститов и простатитов. Юка в тонкой, но тёплой курточке с капюшоном и в джинсах. Она пытается расстегнуть ширинку и вдруг понимает, что на ней всё ещё надет кухонный фартук Реймеров: красный, клеёнчатый кусок ткани с петлёй под голову и «липучками» на пояснице. С тремя белыми пингвинами и буквами «I LOVE MY HOME». Идеально выкроенный и удобный. И торчащий сейчас из под куртки. Словно Юка напялила красную юбку поверх штанов. Она быстро снимает фартук через голову и, свернув его пополам, скатывает затем в тонкую колбаску. Пихает получившееся в покрытое жёлтым льдом очко. Наконец садится и с облегчением писает. Потом, не выходя из туалета и непрерывно куря, ждёт первый попавшийся поезд.
Когда его, наконец, объявляют, когда говорят, на какой путь он прибывает и сколько будет стоять, — Юка бросает под ноги пустую пачку.
Она ждёт, когда поезд полностью остановится. Видит, как проводники открывают двери вагонов — и только тогда, чувствуя, как кончики ушей прижимаются к затылку, — покидает своё укрытие и пересекает открытое пространство до платформы № 2.
Рейс из одной столицы в другую. Народу много — высыпали в станционные ларьки за пивом и просто покурить. Тех, кто пытается впихнуться в плацкарты и купе с разнокалиберным багажом, — тоже хватает. Юка быстро идёт вдоль состава и подходит ко всем проводникам подряд. Договаривается в пятом по счёту плацкартном вагоне. Ей достаётся боковое верхнее. Когда поезд трогается, она заходит в туалет и, закрывшись, снимает с себя куртку и шерстяную кофту на молнии. Под ними — поясная сумка поверх чёрной футболки. Даже скорее широкий пояс с карманами. Такой узкий, что под облегающей кофтой его не заметно. Это — весь её багаж, который всегда с ней. Она быстро проверяет самый большой карман на молнии — паспорт. В соседнем — тонкая пачка денег. Юка быстро пересчитывает мятый комок из кармана куртки. Вращая на животе сумку-пояс, распихивает большинство купюр по маленьким карманчикам. Оставшиеся засовывает во все карманы джинсов. Она моет руки, тяжело глядя на себя в зеркало и выискивая следы паники в мышцах лица и выражении глаз. Потом надевает кофту и застёгивает её до подбородка. Распустив свои чёрные волосы, едва достигающие плеч, заново утягивает их резинкой в тугой хвост. Вернувшись на место, бросает куртку на свою полку.
Она присаживается — отделённая от соседа узким столиком. Она видит на его руке часы и понимает, что в красную «копейку» села (уже? всего?) три часа назад.
Юка ничего не ест весь день: от вида и запаха пищи её мутит. Словно сговорившись, люди вокруг непрерывно едят. Она знает, что никакой это не заговор. Что так всегда.
Поздним декабрьским вечером на большом вокзале она выходит будто бы покурить с компанией таких же табакозависимых, как и она. Назад в вагон, как и в поезд, Юка не возвращается. Проводница замечает её отсутствие только через пять остановок.
Двое суток спустя, бледная, коротко стриженая девушка с модным в этом сезоне оттенком светлых волос вошла в вагон-ресторан фирменного поезда, совершающего один из самых длинных рейсов на материке. Вагон-ресторан был в этот час почти пуст. Девушка, не смотря по сторонам, прошла в центр и села за четырёхместный стол. Официантка, привычно покачиваясь вместе с вагоном, принесла ей меню. Раскрыла. Положила на стол. Девушка, словно не замечая этого, смотрела в окно. Официантка вернулась к кухне: болтать с поваром. Посетительница, колебаясь в одной амплитуде с вагоном, невидяще смотрела в окно. Официантка вернулась через пять минут, открыла блокнот:
— Выбрали?
За окном — быстрые серые тени. Непрерывный ритмичный шум вокруг.
— Вы выбрали, что будете кушать? — громче спросила официантка. Девушка быстро повернула голову и пару раз хлопнула ресницами:
— Что?
— Кушать будете?
Девушка опустила глаза, увидела меню. Ткнула в раскрытую папку:
— Это… Это… Вот это…
И снова отвернулась к окну. Официантка потратила секунд десять на то, чтобы записать заказ.
— Пить что-нибудь будете? — спросила она.
Позвякивание. Мир плавно покачивается.
— Будете что-нибудь пить?
— А? — девушка вздрагивает и снова хлопает ресницами.
«Как спросонья», — думает официантка и терпеливо повторяет:
— Вы пить что-нибудь будете?
— Пить?
Юка не ела двое с половиной суток.
Позавчера попробовала впихнуть в себя стакан чая в потускневшем подстаканнике — не смогла. Пальцы правой руки пожелтели от никотина: она курит по три «Житана» подряд. Затылку и вискам непривычно прохладно. Последний раз она носила такую причёску девять лет назад. Почти такую. Почти девять лет назад.
Пить.
Она ни разу в жизни не пила алкоголь. И не хотелось. И сейчас она собиралась сказать официантке:
— Яблочный сок.
А сказала:
— Водки.
Официантка всякое видела. Видела и такое. Когда сами удивляются тому, что сказали. Спросила:
— Сколько?
— Водки, — повторила Юка, утвердительно кивая самой себе.
— Понятно, — официантка улыбнулась и сунула чёрную папку с меню подмышку. Прочла с блокнота:
— Картофель с грибами, котлета по-киевски, килька в томате и двести граммов водки, правильно?
Юка кивнула. Проследила за уходящей в сторону кухни работницей транспортного общепита. Увидела странную компанию: просто, но со вкусом одетого мужчину лет сорока, подростка примерно тринадцати лет от роду, какого-то дремучего мужика в затёртой форме натовского солдата и мальчика лет семи. Она бы, может, и не обратила на них внимания. Но они обратили: сидели и вчетвером смотрели на неё. Или просто в её сторону? Дядьке в камуфляже и подростку даже пришлось обернуться, чтобы глянуть на Юку. Или за Юку? Они смотрели в её сторону секунд пять — не больше. Потом вернулись к какому-то своему разговору.
Юка оглянулась: прямо за ней сидел мужчина в костюме, но без галстука и просматривал какие-то бумаги. В углу — за двухместным столом о чём-то негромко разговаривали парень с девушкой. Она повернулась обратно. Странной компании больше не было. И со вкусом одетый мужчина, и подросток, и партизан с мальчиком уже ушли.
Юка показала официантке сигарету. Та кивнула.
В тамбуре, выпустив клуб дыма, она понимает, что наконец-то проголодалась. Она хочет есть. Даже не есть — жрать. Но курить тоже хочется. Поэтому она не торопясь докуривает свой «Житан» и читает надписи на стенах тамбура.
ОДЕССА МАМА РОСТОВ ОТЕЦ КТО ТРОНИТ ШОСТКУ ТАМУ ПИ*ДЕЦ!!!
— выцарапано справа от неё.
АЛЧЕВСКИЙ ХАРД-КОР Е*АШИТ В УПОР!
— это слева.
Она прикуривает вторую сигарету от первой. Смотрит в окно. Там уже стемнело.
Когда через двадцать минут она возвращается на своё место, то понимает, что в вагоне-ресторане кое-что изменилось. Во-первых, больше нет «её» места. За этим столом сидит целая семья — мама, папа, сын, дочь — и шумно изучает меню. В помещении вообще стало шумнее — все столы заняты, а из магнитофона, стоящего на барной стойке, доносится прошлогодний хит. Юка пытается найти взглядом официантку, но та сама уже быстро идёт к ней, на ходу делая успокаивающие жесты.
— У нас вон там, в углу, двухместный столик хороший… вы же всё равно одна… А этим, видите, вместе надо… Там у нас девушка одна тоже сидит… Давайте я вас с ней посажу? Так нормально будет? — быстро выдаёт весь этот текст официантка.
Юка смотрит в угол, на девушку, которая «одна тоже».
— Нормально… — говорит она.
— Вот и хорошо, — официантка достаёт блокнот: семья за «бывшим столиком Юки» готова сделать заказ.
— Ваше всё через две минуты принесу, — говорит она и упархивает.
— Здрасте, — говорит Юка, подойдя к столику в углу. — Говорят, мы тут вместе будем ужинать…
— Да-да… — новая соседка улыбается. — Меня предупредили…
Девушка или ровесница, или чуть младше Юки. Они рассматривают друг друга и в этот момент приносят их заказы. Начинают расставлять всё на нешироком столике. У соседки какой-то салатик и тарелка супа. Стакан сока. У Юки шипит жаренная с грибами картошка. Здоровенная котлета по-киевски. Тарелка с килькой в томате. Запотевший графин с водкой. Юка отставляет его в сторону. Они, пожелав друг другу приятного аппетита, принимаются за еду. Сидящие наискосок от них (неприятные Юке даже на вид особи противоположного пола и неопределённого возраста) подмигивают им. Потом один из них подходит, покручивая чётки в левой руке и глядя поверх тёмных очков.
— Приэт, дивчонки, — произносит он, улыбаясь углом рта.
— До свидания! — в один голос говорят Юка и её соседка. Смотрят друг на друга и громко хмыкают.
— А вы чё… подружки?.. — не унимается персонаж.
— Так! — говорит Юка. — Если ты думаешь, что мы тут сейчас будем краснеть и улыбаться тебе, то ты ошибаешься. Тебе понятно? Иди, сядь и ешь свою яичницу с пивом. Ясно?
Персонаж через паузу хмыкает. Улыбка его становится недоброй. Но он возвращается на своё место.
— Меня зовут Алёна, — произносит соседка.
— А меня, как ни странно тоже, — говорит в ответ Юка. Она отправляет в рот кусок котлеты. Смотрит на графинчик: никак не решится выпить. Прожевав и проглотив кусок мяса, Юка вдруг говорит, мотнув головой в сторону водки:
— Будешь?
Алена, помедлив секунду, кивает. Они зовут официантку и просят ещё одну рюмку. Через минуту Юка, налив по полной, подносит свою ко рту.
— За знакомство, — говорит Алёна.
— Ага, — кивает Юка и делает то, что много раз видела со стороны: резким движением отправляет стопку в себя. И сразу же глотает. Она ожидает жжения или чего-то подобного, но первая в её жизни водка мягко уходит по пищеводу в желудок. Юка прислушивается к себе. Чувствует тепло из живота. И вдруг вздыхает. И сама удивляется тому, как это у неё получается — она вздыхает как человек без проблем. Как человек, честно отработавший целый день и усевшийся за стол в своём доме ужинать. Юка с аппетитом уплетает котлету. Потом предлагает по второй. Алёна кивает.
Закусывая вторую, Юка замечает, что тарелки соседки пусты.
— Не стесняйся, — говорит она Алёне, — бери картошку, вон кильку…
Они выпивают по третьей и уже вместе насаживают на вилки мелкую рыбёшку в красном озерце.
Потом Юка обеими руками проводит по своей голове, потягивается и выдыхает:
— Фффуууххх!..
— Меня тоже, — говорит Алёна. Юке с самого начала её лицо кажется неуловимо знакомым. Но сейчас Юка думает не об этом. Сейчас она замечает, что улыбка Алёны слега потухла.
— Что такое? — спрашивает Юкка. — Что случилось?
— Да… — Алёна ставит локоть на стол и вкладывает подбородок в ладонь. — Ничё…
— Так! — говорит Юка фразу, которую неоднократно слышала со стороны. — По третьей и покурим, правильно?
— Мы уже три выпили, — Алёна смотрит на графин.
— А сделаем вид, что нет… — Юка доливает остатки в рюмки. — Ну! За положительные эмоции, да?
Алёна кивает. Четвёртая рюмка отправляется за тремя вдогонку.
— А ты знаешь, я ведь сегодня первый раз пью… — говорит вдруг Юка вслух и удивляется: только же подумала об этом, зачем вслух сказала? А… Фиг с ним… Ничё такого и не сказала…
— Да ладно, — говорит Алёна.
— Да, я тебе говорю, — Юка шумно втягивает воздух носом. — Первый…
— Да ладно…
— Да, правда! — Юка положила локти на стол, звякнув тарелками. — А ещё я в детстве не могла есть кильку в томате…
— Почему? — Алёна посмотрела на плавающую в красном озерце последнюю рыбёшку.
— Бабушка рассказывала, что я осторожно заглядывала в банку и говорила: «я не могу ее есть! Она на меня смотрит!»
Алена хмыкнула. Юка тоже. Через секунду они тихо смеялись, прикрывая рты руками.
— Она и сейчас на нас смотрит… — давясь смехом, тыкала в тарелку Алена, и они опять сотрясались от сдерживаемого хихиканья. Потом они вышли в тамбур покурить. Прикурили. Алена вдруг закашлялась. Потом сказала:
— А я вот первый раз курю сегодня…
— Да ладно… — Юка посмотрела на то, как попутчица нумело держит сигарету и поняла, что Алена не врет:
— Во, блин… Так и не начинай тогда…
— Ага! А тебе, значит, можно!.. — Алена снова затянулась, но уже не кашляла. Выдохнула дым.
Юка почувствовала, как от второй затяжки ватная, мягко щекочущая волна поднялась по ногам до паха и выше — до кончиков пальцев на руках.
Они докурили. Юка подумала, что ей не хочется возвращаться в купе. Ну, хотя бы не сейчас. Чуть позже. А сейчас — хочется еще посидеть с Аленой.
Вдруг в тамбуре появляются двое, тот — в темных очках и с четками — и его приятель с синими от татуировок пальцами. Он покручивает в них связку ключей с большим брелком.
— Ну че, девчонки? Как дела? — спрашивает второй.
— Зашибись, — говорит Юка. — Офигительно. И все как-то без вас.
Алена хохочет. Юка машет обоим рукой, и они возвращаются в вагон ресторан. Пока они идут по проходу, Юка вдруг думает, что водка действует на нее странным образом — лица этих двух болванов тоже какие-то неуловимо знакомые.
— Может еще по одной? — спрашивает она.
— Лучше по три… — говорит Алена. — Или по четыре.
— Дайте, пожалуйста, бутылку водки, — говорит она подошедшей официантке. — И два жаркого, да?
Алена кивает. Говорит громко:
— И яблочный сок!
Через пять минут, они не дожидаясь закуски, пьют ледяную украинскую водку, запивая ее соком.
Мир вокруг Юки меняется.
Все отодвигается на второй и третий планы: музыка, голоса вокруг, сам вагон-ресторан и то, что он в составе поезда, и то, что поезд этот движется. Ей комфортно здесь — за этим столом, с этой Аленой. Есть сейчас только этот стол и эта Алена.
Юка смотрит на свою соседку и в очередной раз думает о том, что та на кого-то похожа.
Они выпивают полбутылки, рассказывая друг другу истории из детства. Чуть ли не впервые в жизни Юке вообще ничего не приходится выдумывать. Она вспоминает, например, как кормила кур сахаром — хотела, чтобы яйца были сладкими, — и они громко хохочут, не обращая ни на кого внимания.
— Да хоть в попу всех расцелуй, для всех хорошим не будешь, — сообщает она Алене.
Юка рассказывает историю о том, как однажды съела все конфеты в доме, а вместо них завернула в фантики пластилин. Вдруг Алена безо всякого перехода начинает плакать. Юка даже не сразу поняла, что происходит, и несколько мгновений продолжала говорить. Она замолчала только тогда, когда закапало на стол и расстеленную свежую салфетку.
Слезы хлынули таким потоком, будто копились пару лет. Алена закрыла лицо руками. За секунду до этого Юка поняла, на кого похожа сидящая напротив.
У них были разные прически, длинна и цвет волос.
Брови у одной сходились на переносице, а у другой были выщипаны в тонкие дуги.
Размеры и узор ушных раковин были явно разными, но (!).
Форма носов, линии скул, губы, подбородки и разрез глаз — все совпадало. Только цвет их был разным. У одной — темные-темные, почти черные колючки. У другой — очень светлые, серо-голубые. Черные колючки удивленно смотрели на то, как серо-голубые исторгали потоки слез.
— Что такое, Аленка? Что случилось? — спросила, наконец, Юка. Люди за соседними столиками посмотрели на них и отвернулись.
Юка пересела на сидение к Алене и обняла ее за плечи.
Владелец четок и его дружок ухмыльнулись. Юка показала им средний палец.
— Что случилось, Алена? — Юка поглаживала свою почти копию по волосам. — Что?
Алена рыдала, уткнувшись лицом в Юкину кофту.
Она любит Его больше всех на свете.
Любит только Его одного. Больше всех на свете. Никого Никогда Так не Любила. Только его любит… Больше всех на свете…
Юка, поняв, что Алену заклинило, свободной рукой наливает им обоим по полной рюмке. Алена, звякнув зубами о стекло, отправляет очередной полтинник в себя. Чуть успокаивается.
Юке кажется, что водка ее больше не берет. На самом деле, ей, действительно, это только кажется.
Она полюбила Его еще в восьмом классе.
— Он мое Солнце!.. — давится слезами Алена. — Я его из армии ждала… У него девушка была, которая его туда провожала… самая красивая на районе… А я его все равно ждала…
Он самый красивый. Самый хороший. Самый лучший.
Она шесть лет пожирала его глазами при каждой встрече: хотела, а не могла отвести взгляда. От звука Его голоса у нее подгибались колени и немела поясница. Если она случайно замечала кого-то, хотя бы отдаленно похожего на него, — сердце пропускало два-три удара.
И вот — спустя шесть лет — ОНИ ВМЕСТЕ!!!
Она в Раю.
Она не верит своему счастью.
Она словно во сне. В хорошем-прехорошем сне:
Он сложен как Бог. Он целуется так, будто это он изобрел поцелуй. Он Веселый, Добрый, Сильный, Умный, Понимающий, Внимательный.
Он постоянно дарит ей милые подарки. А недавно подарил пейджер.
— Чтобы в любой момент сообщать тебе, Как я Люблю Тебя… — говорит он, и она тащит Его в кровать, чтобы он показал Как.
Пейджер очень полезная и удобная вещица. Она быстро привыкает к нему. Любимый её в частых командировках. Но каждый день он обязательно дозванивается оператору местной пейджинговой и диктует что-то очень тёплое. Он обязательно желает ей «доброго утра» и «спокойной ночки».
Пейджер выручает её на экзамене в автошколе — её подружка Настя, подслушав под дверью номер билета Алёны, начитывает оператору ответы из «Правил дорожного движения». Через время Алёна оказывает такую же услугу Насте. Настя возвращается с экзамена красная от злости.
— Спасибо! — говорит она, раздражённо протягивая пейджер хозяйке.
— Что такое?
— Могла бы хоть полстрочки, блин, черкнуть! Я ждала там как идиотка! Лучше бы взятку дала, как все!
Оказывается, Настя не получила ни одного отправленного Алёной сообщения: память пейджера пуста.
— Да блин! — говорит Алёна. — Что за фигня?!
Она быстро набирает номер станции. Говорит в трубку:
— Здравствуйте! Скажите, а что абонент одиннадцать три пять отключен?
Выслушивает ответ.
— То есть и не отключали? Ага… А можно сообщение ему, да?..
Она смотрит на Настю. Пожимает плечами. В трубку:
— Да… Диктую: «Ты лучше всех. Люблю тебя. Хочу тебя…».
Она показывает хмурой Насте язык. Та улыбается. В трубку:
— Подпись? Подпись «Я»… Спасибо… До свидания…
Алёна кладёт трубку. Пейджер вибрирует. Она берёт его в руки и читает всё, что продиктовала.
— Блин!.. Ну вот! Работает!
Она смотрит на подругу:
— Настя, я тебе говорю — я пол учебника переслала тут, блин… Вон книжка возле телефона валяется… Это у них чё-то там, блин, не работает… Ну, блин, не дуйся… С меня шампанское…
Любимый приезжает вчера вечером. Они долго целуются в коридоре. Потом отправив его в ванную, Алёна быстро разогревает в духовке курицу, открывает бутылку вина. И когда уже начинает распаковывать новые бокалы — видит, как он голый, оставляя за собой лужи на линолеуме, входит в кухню.
— Что это значит? — говорит он каким-то не своим голосом.
— Что «это»? — переспрашивает Алёна.
— Это! — сквозь зубы выдавливает он, и Алёна замечает в его руке пейджер. Еле сдерживая бешенство, он подносит его к глазам и читает с узкого, трёхстрочного экрана:
«Ты лучше всех. Люблю тебя. Хочу тебя. Я.».
Алёна пытается что-то сказать, но:
— Кто этот «Я»???!!! — кричит вдруг обнажённый мокрый мужчина. — А???!!!
Она пытается объяснить, но:
— Я так и знал, что у тебя кто-то есть!!! — он швыряет маленькое средство связи в стену, и оно разлетается на мелкие осколки. Он бешено вопит и отпихивает её от себя. Она влепляет ему пощёчину. Он замахивается и Алёна думает, что сейчас он её ударит. Но достаётся холодильнику — он наносит ему удар, от которого сминается дверца.
— Шлюха! — бешено рычит он.
Через минуту Алёна выбегает из дома.
Через сутки рыдает, заливая слезами кофту своей случайной соседки по столику.
Она любит Его. Она любит Его больше всех на свете. Она жить без него не может. Не сможет…
Она всю ночь на него злилась. Обзывала непрерывно про себя самыми мерзкими словами.
А сейчас…
А сейчас рыдает и не может остановиться.
Юка, обнимая Алёну правой рукой, берёт левой бутылку водки и делает хороший глоток. Она пьёт сок прямо из пачки, сминая картон.
— Любишь его? — спрашивает Юка.
Алёна кивает.
Юка делает ещё один длинный глоток из горлышка и протягивает бутылку Алёне.
В этот момент Юка вдруг вспоминает свою мать. Ей кажется, что она понимает… Блин! Да она ВСЁ понимает! Она ВСЁ понимает и знает ЧТО делать!
Юка обнаруживает, что больше не пьянеет. Что сейчас она в том состоянии, в которое приводила себя и без всякой водки.
— Алёнка! — говорит она. — Я знаю, что делать!
— Правда? — спрашивает Алена, с надеждой глядя на неё.
— Правда! — говорит Юка. — Пошли!
Они встают и Юка, схватив Алёну за кисть, тащит её по проходу. В другой руке она держит почти пустую поллитру. Алёна прижимает к животу их мятые куртки.
— Опа! — говорит тот, что с чётками. — «Татушки» нализались и пошли лизать друг у друга!
Его приятель ржёт, запрокинув голову. Юка, развернувшись, бьёт его по голове бутылкой.
Ещё через десять секунд Юка выволакивает Алёну в тамбур. Там — позади них — звуки скандала и драки.
— Да! — кричит Алёна восторженно. — Да!!!
— Алёнка!!! — говорит Юка, отпуская её руку. — Держись!!!
Если порыться в архивах Министерства Путей Сообщения и ЛОВД и найти отчёты об этом рейсе, то можно обнаружить, что за семь дней пути было зарегистрировано четыре черепно-мозговых травмы, один перелом руки, множественные ушибы, ожоги и одни роды. Роды случились уже за Уральскими горами у гражданки Казахстана Сауле Султангалиевой. Всё остальное — в тот день, когда ровно в 21.30 кто-то (предположительно, две неустановленные особы женского пола) сорвал стоп-кран недалеко от маленькой станции РЭП-4.
В результате этого: проводник Андросов, разносящий в этот момент чай в своём вагоне, выплеснул пять стаканов кипятка на двух пассажиров и свою правую ногу; трое мужчин в плацкартах и одна женщина в купейном упали с верхних полок, ударившись о столики; официантка вагона-ресторана Смирнитская, неудачно приземлившись, сломала руку.
В начале одиннадцатого в маленький зал ожидания РЭП-4, возбуждённо говоря на ходу, вошли две не по здешнему одетые и не совсем трезвые девушки. Они подошли к расписанию и узнали, что на этой станции за сутки останавливаются четыре электрички и два пассажирских. Один из них — Симферопольский — будет через полчаса.
— Yes! — громко сказала тёмненькая.
— Вот видишь, — блондинка в капюшоне посмотрела на часы. — Я же говорила…
Она подошла к окошку кассы. Там, закутавшись в фуфайку и платок, сидела женщина. Глаза её были закрыты.
Помещение станции абсолютно пустое. Три стула у стены. Всё.
Юка постучала пальцем по слегка запотевшему изнутри стеклу. Кассирша открыла глаза.
— Здрасьте, — сказала Юка.
Кассирша никак не отреагировала.
— Скажите, — Юка повысила голос. — А здесь бар есть?
Женщина слегка шевельнулась, и рядом с Юкой громко и резко заскрежетало. Она отшатнулась.
— Два. Километра. В посёлке, — прохрипел динамик, искажая голос кассирши: там, за стеклом, она шевелила губами, словно не попадая в свою же фонограмму.
Юка потёрла левое ухо о плечо — от фонящего писка заболела барабанная перепонка.
Кассирша, не мигая, смотрела на неё. Потом опять зашевелила губами и роботоподобный голос перевёл с сурдо на человеческий:
— Билеты. Брать. Будете.
Алёна захихикала, прячась где-то за спиной.
— А надо? — спросила Юка.
Кассирша закрыла глаза.
— Понятно, — сказала Юка и обернулась.
— Блин, ты такая молодец, — Алёна улыбалась ей. — Ты, правда, со мной поедешь?
— Конечно, — Юка потёрла левое ухо о плечо. — А если твой самый лучший тебя не ждёт, мы ему по яйцам надаём.
— Не надо, — улыбаясь, сказала Алёна.
Водка ещё грела обеих изнутри, но Юка чувствовала, как холод потихоньку начинает покусывать пальцы рук и ног. Она ещё не знала, что к ней на цыпочках подкрадывается первое похмелье.
— Блин, а где у них тут туалет? — сказала Алена пританцовывая. — Я писать хочу, пипец!
Они обе посмотрели на кассиршу. Друг на друга.
— Пошли, — сказала Юка и две попутчицы вышли из здания.
Туалет на РЭП-4 был не в пример другим станционным туалетам, которые Юка видела в своей жизни. Он был мал, не разделён на «М» и»», но в окнах его были стёкла. И в нём было тепло. И горела яркая лампочка. Рядом с пластмассовым рукомойником лежал небольшой кусочек хозяйственного мыла и стоял рулон серой туалетной бумаги.
— Вот так вот? — сказала Юка, войдя в помещение вслед за Алёной. Её так удивило увиденное, что она тоже решила пописать — на всякий случай и за компанию. Обе оторвали по кусочку бумаги, расстегнули куртки, джинсы и присели разделённые перегородкой из толстой фанеры. Прямо напротив них, на жёлто-сером поле поблёкшей извести, чем-то (скорее всего толстым гвоздём) было выцарапано: «MC HAMMER».
— Понятно, — сказала невидимая Алёна.
— Что? — спросила Юка.
Алёна хотела ответить, но тут прямо у них над головами послышалось громкое и резкое шуршание, похожее на туберкулёзный кашель и во много раз усиленный человеческий голос произнёс:
— НА ВТОРОЙ ПРИНИМАЕМ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ!!! НАВТОРОЙ ПРИНИМАЕМШИССОТШИСЯТПЯТЫЙ!!!
Потом писк, скрип и — тишина.
— Фу! — после паузы произнесла из-за перегородки Алёна. — Я чуть не укакалась тут!
— Я тоже, — сказала Юка, только теперь чувствуя, что какие-то гинекологически важные мышцы внутри неё, сжавшись от испуга, прервали процесс.
Они поднялись, заправились, застегнулись. Алёна быстро сполоснула руки, сказала:
— Дай сигарету…
Юка достала одну из пачки, прикурила и аккуратно вложила её в Аленины губы — та помахивала мокрыми кистями рук, отправляя крупные капли в полёт по всему туалету. Юка почувствовала, как одна долетела до её щеки.
Алёна развела руки в стороны, присела в реверансе и, развернувшись, вышла на улицу — в декабрьский поздний вечер. В почти ночь. Юка почувствовала маленький зверёк похмелья, вцепившийся коготками-иглами, где-то в районе затылка. Думая о том, что в поезде сразу нужно идти в вагон ресторан, она взяла в руку холодный и скользкий кусочек мыла.
В дверь с улицы ударили с такой силой, что она со звуком пистолетного выстрела хлопнула о стену, отколов здоровенный кусок штукатурки.
— Ну шо, пи*да борзая! — сказал стоящий на пороге человек и сплюнул желтовато-коричневой жижей. — Обосралась?
В его синих от татуировок пальцах не было ключей с брелком.
В них был нож.
Юка услышала визг Алёны из-за его спины. Визг насмерть перепуганной маленькой девочки.
Этот звук снял Юку с ручника и в тот момент, когда человек с ножом сделал шаг внутрь помещения — Юка успела сделать два ему навстречу.
Он получил очень техничный и неожиданный Йоко-Гири в пах и слегка смазанный Маваши в голову. Остальные удары не имели имен, но в них было достаточно силы, чтобы нижняя челюсть треснула в двух местах, а нос свернулся набок.
Когда-то, в старом спортзале на окраине Воронежа, она пролила литры пота, отжалась бессчетное количество сотен раз от плохо покрашенного пола и провела десятки часов в спаррингах для того, чтобы сейчас это впервые по настоящему пригодилось ей для спасения собственной жизни.
В углу туалета стояли облезлая метла и широкая деревянная лопата для расчистки снега.
И лом.
Хороший тяжёлый лом, используемый для борьбы с наледью на ступеньках. Меньше чем через минуту этим ломом Юка проломила череп второму — тому, кто напугал Алёну.
— Нет, — сказала Юкка, словно удивляясь.
Не только напугал.
— Нет, нет, нет, нет… Алёнка!!! — Юка, стоя на коленях, поддерживала её под голову, чувствуя, как тепло уходит из затылка.
Узкой длинной заточкой.
Прямо в сердце.
Убил. Сука. Тварь. Убил.
— НАВТОРОЙПРИНИМАЕМШИССОТШИССЯТПЯТЫЙ!!! НА ВТОРОЙ ПРИНИМАЕМ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ!!! — разрывая ночь и тишину, обрушился с неба во много раз усиленный и совсем не похожий на человеческий голос. Закладывая уши и заставляя сжиматься гинекологические мышцы внутри. Заставляя сжиматься мышцы горла и ощущать в районе голосовых связок лопающийся со скрипом тугой пузырь, наполненный горячим маслом, заполняющим глаза изнутри.
Юка судорожно и коротко втянула ледяной воздух носом и ртом.
Ещё раз.
И впервые за десять лет.
Глядя на лежащую перед ней девушку и чувствуя, как холод овладевает мышцами этого тела.
Она заплакала, молча глотая слёзы.
Снег отражал какие-то далёкие источники света и мягко освещал заострившиеся черты Алёны.
Юка плакала и смотрела на то, как будет выглядеть после смерти.
Она умерла сейчас. Здесь. На станции РЭП-4.
Алена, лежащая перед ней с растрепавшимися тёмными волосами, с закрытыми глазами и приоткрытым ртом была точной её копией. Как отражение в зеркале трое суток назад.
Острый нож, словно отсёк всё лишнее и добавил недостающее.
Беззвучно рыдая и слыша шум приближающегося поезда, Юка расстегнула куртку Алёны и забрала содержимое её внутренних карманов.
Затем она делает то, за что проклинает себя и не может простить уже в тот момент.
Она хватает лом и несколько раз бьёт лежащую на снегу по голове, превращая её лицо в месиво.
Спустя несколько часов труп в туалете и два под мачтой с громкоговорителями найдёт сменщица толстой и сонной кассирши. Такая же толстая и сонная она захочет опорожнить перед работой мочевой пузырь, и через десять минут уже будет вызывать милицию: своя на РЭП-4 появится только после этого случая.
Анатолия Сахара и Павла Артамонова похоронят по месту прописки. Неопознанную девушку на районном кладбище под номером «015».
За всю историю «нового» кладбища под районным центром на нём только шестнадцать раз хоронили нездешних. Было ещё «старое» кладбище, с другой стороны города. Прямо в центре большого железобетонного завода. Предприятие расстраивалось, достраивалось, модернизировалось и расширялось так, что двадцать лет назад полностью огородило собой большое поле, используемое местными жителями для захоронения себя же. В смысле те горожане, которые ещё не умерли, закапывали здесь время от времени тех горожан, которые всё-таки взяли и умерли. Но теперь получалось, что усопшего приходилось вносить через проходную ЖБИ-9, проносить мимо цеха арматуры и хоронить рядом со здоровенным открытым Полигоном Готовой Продукции.
Поэтому двадцать же лет назад появилось новое кладбище. И на нём горожане, все поголовно знавшие друг друга, продолжали хоронить таких же, как они, только умерших. И только шестнадцать раз на этом «новом» предавали земле нездешних.
До такой степени нездешних, что никто из местных не знал их имён. И милиция не смогла выяснить.
Четверо из них были женщинами.
Двое погибли в одну и ту же секунду (то есть одновременно).
Одна была обезображена.
Её тело лежало на полутораметровой глубине под номером «015».
Под номером «016» год и три месяца спустя похоронили неизвестного мужчину непонятного возраста, неприметной внешности и неопределённой национальности.
Я долго не могло понять: знает ли она обо мне?
Догадывается?
Слышала?
Ощущала вибрации?
Теперь знаю: Да.
Я (предполагало? ожидало?) надеялось, что она обрадуется.
Может, удивится.
Может, испугается.
Удивится и испугается.
Или сначала испугается, а потом удивится.
Может, обрадуется.
Может, нет.
Но отреагирует.
Не удивилась.
Отмахнулась, как от назойливой мухи.
Когда Я пыталось докричаться до неё, достучаться — она отгородилась от Меня.
Создала бронированную стену Льда.
Укрылась за свинцовыми щитами Тишины.
Создала зону отчуждения, обнесённую тремя слоями Безмолвия.
Я в бесцветной, безсветной пустоте.
В Нигде.
В бескрайнем тупике.
Пылинка в запаянной коробке из под конфет. В которой даже запаха — и того не осталось.
Ничто в Нигде.
Когда-то одна девочка бросила любимого котёнка. Променяла его на новую комнату, в новой квартире. Была счастлива тогда? Не помнит.
А как подпирала дверь своей новой комнаты новым стулом? Как слышала по ту сторону странный, незнакомый и от этого страшный голос знакомого человека? Стоны и скрежет его зубов? Не помнит.
Память.
Память — это тысячи пылинок, скапливающихся на неподдающейся воображению поверхности. Лишь с двумя ограничителями: «рождение»/ «смерть».
Пылинки. Хаотически падающие и не имеющие практической пользы. Не помогающие. Не мешающие. Обрезки плёнки в мусорном ведре под столом монтажёра.
Молочно-резиновый вкус соски во рту и…
Всё.
Ни места, где это произошло. Ни, в какое время суток. Тепло или холодно было? Ничего. Просто: резиновая соска во рту и вкус молока.
Сильная боль в одной из мышц тела и «ссс!» — словно попытка произнести долгую S, сжав зубы и сильно втягивая воздух в себя.
Хвоя и цитрус — это запах. Причём один.
Вкус помады на губах. Своих? Чужих?
Запах слюны. Явно чужой.
Резь в глазу — ресница попала. Когда?
Руки без варежек с мороза — хвать! Большую кружку с горячим чем-то, и «ссс!» — воздух в себя сквозь зубы. Где?
Обрывок какого-то стихотворения без начала и конца. Без рифмы и смысла. Зачем?
Пылинки.
Скапливающиеся на неподдающейся воображению поверхности. На которой неподдающаяся воображению рука может вывести всё что угодно. Прямо поверх пылинок. А неподдающаяся воображению ладонь может однажды смахнуть все пылинки напрочь. И останется чистая, поддающаяся воображению поверхность. На которую можно горстями сыпать теперь пыль — бесполезно. Всё уже.
Когда-то:
— Ртуть, — говорила она, словно пробуя слово на вкус. — Ртуть.
Пылинка в запаянной банке из под конфет.
Ничто в Нигде.
В не сухом и не мокром. В не светлом, но и не тёмном. Без стен, но.
Можно представить в воображаемом центре этого воображаемого Нигде — крепкий ящик.
Несгораемый и не существующий материально шкаф.
Бронированный сейф.
В котором:
Серые крылья, застывшие во времени;
Серые мерцающие крылья, режущие неподвижное пространство, несущие его и одновременно вязнущие в нём же;
Крылья, замершие и двигающиеся в один и тот же момент.
В котором:
Тонкий и очень высокий скрип отполированного, как зеркало металла, и тупой (БУП!) звук сильного удара.
Было?
Она забывает обо мне.
Делает вид, что Я не существую.
Ей кажется, что Мой голос — это её голос.
Что Я — это Она.
Не самая из лучших её частей — не смелое, не решительное… какое ещё из «не»?
Не?
Ночью? С ножом? В коридоре под дверью детской?
Не было? Железа, пробующего глаз на прочность?
Не было тяжёлого стального лома? Такого холодного, что к нему примерзали отпечатки пальцев?
Чёрные плотные конверты со страшными снами, запечатанные чёрным сургучом.
Вороненые ящички с наборами пробирок, в которые собраны все-все — до единой — слёзы.
Непрозрачные запаянные чёрным воском контейнеры. С безжизненными запахами. Какими?
Привокзальных туалетов вперемешку с хозяйственным мылом;
Овощного рагу пополам с ртутью;
Хватит?
Ничего этого не было. Не было. Нет.
Когда-то одна девочка променяла любимого котёнка на новую квартиру.
Когда-то одна девочка провела ладонью и смахнула всю пыль.
И только одна пылинка чудом забилась под ноготь.
Я.
Ошибка?
вынуть? / форматировать?
вынуть И форматировать?
— Цок! Цок! Цок! Цок! — высокие хромированные каблуки белых туфель по идеально чистому, слегка влажному после недавней уборки, безупречно отполированному мрамору.
Этот звук заставляет реагировать на себя.
Принуждает обратить на себя внимание.
Он как настойчивый строгий сигнал — «Оглянись!».
— Цок! Цок! Цок! Цок!
Компетентный мужской журнал PLAYBOY вывел несколько визуально и эстетически привлекательных для глаза мужчины женских образов. Образов, практически идеально подходящих любому психо-сексуальному типу мужчин. Даже самый извращённый некро-педо-зоо с удовольствием выберет себе одну из Топовой Пятёрки.
Нормальному и ненормальному мужику хотя бы раз хочется трахнуть Стюардессу, Горничную, Училку, Женщину В Форме Силовых Структур, Медсестру.
Медсестру с чёрными до плеч волосами.
С причёской в стиле европейского кино середины шестидесятых.
С причёской, в которой концы волос, едва касающиеся плеч, завиты кверху крупным полукольцом.
Медсестра в белом халате до середины бедер длиной.
В белом халате, аккуратно затянутом на тонкой от рождения талии.
В руках объёмистая папка.
Длинный, чёрный, остро заточенный карандаш в чёрном кожаном футляре.
Стремительные колени разрезают воздух.
На красивой гладкой щиколотке — тонюсенькая золотая ниточка.
Высокие хромированные каблуки белых туфель:
— Цок! Цок! Цок! Цок! — по идеально чистому, слегка влажному после недавней уборки, безупречно отполированному мрамору огромного больничного холла.
На гигантских часах над регистратурой — «18.01».
Минуту назад в Многопрофильном Больничном Комплексе началась очередная двенадцатичасовая смена. Все медработники с крейсерской скоростью движутся на свои определённые КЗОТ и штатным расписанием рабочие места.
Медпункт немыслимых размеров: двенадцать этажей, больше сотни палат, километры коридоров, лифты.
Терапевтический комплекс, роддом, инфекция, неврология, операционные, отделение интенсивной терапии, отделение пограничных состояний, морг.
Многопрофильный Больничный Комплекс.
Второй по величине в стране.
Такой есть только в столице. И здесь.
В Приполярье.
На краю земли.
В городе Тихий.
Здесь не умещающаяся в воображении Станция Экстренной Помощи: снегоходы, специально оборудованные аэросани, гусеничные вездеходы. Здесь на крыше — посадочная площадка для вертолёта реанимации. И сам вертолёт — красно-белый. Нафаршированный Всем Самым.
Здесь недалеко крупнейшее в Евразии газовое месторождение. Недалеко — за Полярным Кругом.
Там где Он (Полярный Круг) начинается — стоит большой знак, сваренный из труб толщиной в человеческую руку. Сюда — за 60 километров от города приезжают свадьбы. Молодожёны завязывают на знаке пёструю ленточку. Фотографируются на фоне. Едут обратно. Такая традиция. Так делают все.
Так сделала со своим мужем медсестра Карина, которая должна была сегодня заступать в 18.00.
С росписью тянуть уже дальше некуда: живот выпирает так, будто там как минимум тройня.
Отпуск по случаю торжественного события, плюс за свой счёт, а там две недели — и рожать.
Счастливая, замужняя и беременная Карина летит сейчас со своим возлюбленным на высоте 10000 метров в Анапу. К маме.
— Цок! Цок! Цок! Цок! — по мраморному полу огромного холла больницы в белых лакированных туфлях на высоких хромированных каблуках — идёт её сменщица.
Алёна.
У Алёны тёмные волосы, тёмные глаза и тёмная помада.
У Алёны белоснежный накрахмаленный халат и бледная, словно светящаяся изнутри, кожа.
Мужчины хотя бы раз, но не могут удержаться и не посмотреть ей в след.
Профессионалы:
Официантки.
Парикмахеры.
Продавцы.
Медсёстры — никогда не работают на каблуках.
Работать на каблуках в этих профессиях — ненавидеть себя.
Медсестру Алёну никто не видел без каблуков. Вне здания больницы — да.
Здесь — нет.
Она никогда не опаздывает.
В бумагах, которыми она занимается, — идеальный порядок.
Она не курит. Не пьёт больше, чем бокал вина на общебольничных праздниках. Никто никогда не замечает, когда именно она с этих праздников уходит. Водитель «Мерседеса», развозящего сотрудников по домам, — Шурик Морозов — однажды хотел помочь ей войти в среднюю дверь автобуса. Он, улыбаясь и собираясь сказать «прошу-с», взял её под локоть. Алёна остановилась. Уже поставив правую ногу на ступеньку, а носком левой собираясь оттолкнуться от асфальта — она повернулась к нему и сказала негромко и чётко:
— Руки.
— Что? — всё ещё улыбаясь, спросил Шурик.
— Руки, — повторила она с той же громкостью и интонацией. Шурик убрал свою ладонь с её локтя и впоследствии даже заговаривать с ней не пытался.
У неё были приятельские отношения с коллективом. Но если бы кто-нибудь из коллег задумался, то сообразил бы, что никто, никогда не звонил Алёне по телефону. И она никому, никогда не звонила вне работы.
В её квартире люди из больницы побывали только один раз: однажды Алёна сильно температурила, и проверить её состояние заезжала бывшая поблизости от её дома бригада «скорой». Ей по профсоюзной линии выписали бесплатные лекарства и сделали хороший укол. Фельдшер с медсестрой увидели скромную не дешёвую спальню, большой телевизор с дорогим «квадро» и беговую дорожку в зале.
Они не заметили, что в доме нет ни одной фотографии. И не задумались — собственная это квартира Алёны? Съёмная?
Сама она об этом точно не задумывалась.
Её утро начиналось с мерзкого электронного верещания. Она просыпалась под ненавистные трели будильника, садилась в кровати и сидела так — сквозь полуслипшиеся ресницы рассматривая очередное Новое Утро.
Она медленно сползала с постели, вдевала ноги в тапочки с дурацким и нелюбимым сейчас узором. Закутывалась в тёмно-синий любимый халат на два размера больше. Шла в ванную, тускло мерцая иероглифом «До» вышитым на левой стороне груди.
«ДО». Путь.
«ДО» — нота. Первая в нотном стане.
«До» — в смысле не «после», а «до того».
В смысле не «after», а «before».
Она принимала горячий, а за ним сразу ЛЕДЯНОЙ душ.
Потом — двадцать минут бега.
Три подхода на пресс.
Через день — отжимания от пола на специальных скобах с прорезиненными рукоятями, удобно впивающимися в ладони.
Ещё один быстрый горячий/холодный/горячий/холодный душ.
Чистила зубы, промывала рот от мятной вспененной пасты, промокала лицо полотенцем — и только потом смотрела на себя в зеркало.
Она смотрела сначала на свой нос.
Потом на губы.
И наконец — в глаза.
Оценивала их цвет.
Их неповторяющийся больше нигде в мире оттенок и мелкий рисунок вокруг глаза.
Словно микроскопический узор на крупной купюре, определяющий одну из степеней защиты.
Алёна рассматривала свои брови.
Потом уши.
Потом сушила волосы феном.
Выпивала на кухне стакан йогурта.
Шла на работу.
На работе она с удовольствием разборчивым крупным подчерком, большим остро заточенным чёрным карандашом — записывает в свою папку важные данные со стендов на всех двенадцати этажах Комплекса.
У неё странная, но очень важная работа.
То сочетание, которое некоторые ищут всю жизнь. Не «интересная» — главный критерий при выборе работы у некоторых персонажей, живущих с нами рядом. «Странная» и «очень важная» — вот, что должно входить в стандартную комплектацию пакета «Счастливая жизнь». Прототипа, проходящего процесс предварительного тестирования. С ч/б менюшкой для инженера. На движке «чуть менее счастливая жизнь». С тарифом «ноль копеек ЗА минуту С Одним Номером БЕЗ платы ЗА соединение ДО конца ЖИЗНИ».
У Алёны странная, но очень важная работа.
Большим, остро заточенным чёрным карандашом она в точности переписывает содержание карточек, заполненных от руки другими сотрудниками МБК.
Уборщица, трущая полы своего этажа 4 раза за свою смену, каждый такой раз своей рукой записывает: «влажн. Уборка. Хлор. 22.15». Потом дата и подпись.
Записи обслуживающего персонала — на карточках бледно-голубого цвета.
Медсестра оставляет запись от руки о планово проведённых уколе, обработке раны, перевязке. Такие данные должны записываться в карточки бледно-розового цвета. Доктора или начальники отделений, проводившие утренний (или экстренный) осмотр, операцию и (не дай Бог!) засвидетельствование смерти пациента, — сообщали обо всём тремя закорючками на бланках бледно-зелёного цвета. Ещё были бледно-жёлтые и белые.
У каждого отделения свой стенд.
У каждой бригады — ряд.
У каждого работника — свой карман на стенде. Каждому присвоен личный номер. Номер, нанесённый на карман стенда. Туда вставляется карточка определённого цвета.
Странная, но очень важная работа.
В МБК был свой внутренний сервер на чердаке, дублирующий его сервер в подвале и восемнадцать километров оптоволокна в подвесных потолках и межэтажных перегородках. Любая информация: о результатах УЗИ, рентгена, занесённых сейчас в гинекологическом кабинете в регистрационный журнал данных о некой Сидоровой В. В. — всё это летело куда надо и там удачно и компактно архивировалось. За всем этим почти круглосуточно наблюдал Юра — главный и единственный сисадмин и ведущий программист МБК. Человек, которого заманили из провинции на астрономическую по меркам его родины зарплату.
Юра носил на голове какие-то крашеные остатки взлохмаченных волос и куцые клочки подбородной растительности. Он бдил всю информационную систему. А когда отсутствовал — бдили созданные его мозгами и пальцами сторожевые псы-программы.
Всё это было очень надёжно.
Но существовала простая массовая традиция. Доведённая до автоматизма и существующая только здесь — черкнул в карточке, пачка которых лежит у тебя в нагрудном кармане вместе с карандашом, — и вставил в Свой кармашек, на Своём стенде, возле Своего кабинета.
Сделал. Черкнул. Вставил. Пошёл дальше.
Раз в час девушка из специального отдела информации обходила все стенды на вверенных ей этажах и переписывала с карточек меняющиеся в течение суток данные. Каждый час. Каждые сутки. Каждую неделю. И так далее.
Карточки сносились в кабинет Специального Отдела Информации и сортировались по папкам. Причём система их сортировки была чрезвычайно монотонна и однообразна. Все папки складывались в специальном кабинете с большими шкафами. Раз в полгода вывозились в специальное хранилище при городской администрации.
На папках было написано «хранить 5 лет». Делали, как написано. Потом сжигали, а пепел отвозили в теплицы Нефте Газ Хим Прома.
У Алёны странная и очень важная работа: она работает деталью самого аналового компьютера в мире. И ей это нравится. Ей нравится слушать, как её каблуки стучат о мрамор. Ей нравится краем глаза смотреть, как быстро и мелко дрожит в её красивых пальцах большой остро заточенный чёрный карандаш, когда она переписывает данные со стенда в свою папку.
Ей нравится.
Она уже два года в Тихом.
Она привыкла к нему.
Это то, что она искала.
Фиктивный брак, два минета и две тысячи «зелёных» — прописка.
Работа в МБК.
При устройстве в отделе кадров предъявлен «Диплом Донецкого Медицинского» на имя Алёны Сергеевны Романовой.
Секс — в единственном отпуске. Неделя бешенного перепиха на Фиоленте в Севастополе с разрисованным с ног до шеи и изумительно сложенным татуировщиком Сашей. Она зачем-то соврала, что её зовут Наташа и что она студентка из Питера. Он звал её Натали и пялил так много, долго и часто — что ей почти хватало. Однажды она, хрипло крича каждый, кончила шесть раз подряд и, лёжа с закрытыми глазами, поняла — отпуск проходит офигительно.
Неделю в Алуште она трахала (и в мозг тоже) московского старшеклассника, похожего на молодого Брандо. В Ялте она быстро перепихнулась с гитаристом «Пи$$тонов», на концерт которых случайно забрела. Она орала вместе с толпой каких-то малолеток:
— Убей! Свою! Любовь! Сделай мне PORNO!
Она скакала под «Смерть из механизма № 17».
Она вздёргивала руку в припеве «Хайль-DISCO!» и подпевала Болту:
— Я читаю «@chtung!»! Я Гипер Злодей!
— Я сделаю секс-зомби! И буду помыкать ей!
Она затащила гитариста за кулисы, и он быстро и качественно вставил ей, перегнув на старом и пыльном пианино.
Если её не спрашивали о презервативах — она тоже молчала. Если спрашивали, повторяла недавно услышанное на пляже:
— Я ультрасекшуал.
— Би-Стволка? — спросил один из «Пи$$тонов», (тот, который гитарист) прежде чем воткнуть в неё член.
Из отпуска она вернулась отдохнувшая и загорелая.
Сделавшая несколько новых открытий для себя. Впрочем, мелких.
Как-то она заметила, что если при совместном с мужчиной просмотре ТВ сказать вслух «Красивые руки у мальчика» (про какую-нибудь очередную поп-звезду, кривляющуюся на экране под ворованную мелодию) — сидящий рядом молодой человек обязательно (тайком или в открытую) станет рассматривать свои руки. Но так и не спросит:
— А у меня? Красивые?
Если бы спросили — она бы ответила. Причём честно. Но никто не спрашивал.
Вообще, мужчины были какие-то все одинаковые.
Несмотря на возраст, причёску, одежду, правильность черт и размер члена — всё равно они были людьми, похожими на Кого-то.
А те Кто-то, в лучшем случае, были похожи на мужчин, которых Алёна уже знала.
Она жила на Крайнем Севере.
И уже чувствовала, как начала действовать местная поговорка — «Сначала отдай Северу два года. Потом Север начнёт давать тебе».
А ещё ей нравилось такое выражение: «Северянин не тот, кто не мёрзнет. Северянин — тот, кто тепло одевается».
В тот день у неё почему-то с утра болела голова.
Въедливая, как кислота мигрень, не беспокоившая её уже восемь лет, вкручивалась в левый висок ноющим тупым сверлом. Она совершала второй за смену обход и переписывала данные со стенда сисадмина.
Из кабинета сисадмина пахло недавно выкуренной каннабиоло-содержащей папиросой. Алёна видела, что за прошедшее время надпись на карточке Юры Урана не изменилась. Там стояло время сегодняшнего прихода его на работу: «11.28».
Юра, как редкий специалист с ненормированным рабочим днём, приходил, когда ему было удобно. В рентген-кабинете он заведовал аппаратом томографии головного мозга. Поэтому эту процедуру все доктора назначали своим пациентам в соответствии с графиком работы Юры: преимущественно после обеда.
Алёна переписала данные со всего стенда (последняя «уборка влажная» была час тридцать назад) и, спрятав карандаш в чёрный кожаный чехол, пошла к лифту: она решила не терпеть больше, а попросить в аптеке обезболивающее.
Алёна подошла к лифту и долго ждала его — лифты в Комплексе были светлые и просторные, но имели одну раздражающую сейчас Алёну особенность: они — останавливались на каждом этаже, где кто-нибудь нажимал кнопку «вызов».
Целых пять долгих минут три кабины курсировали где-то выше и ниже Алёны.
Ноющая головная боль достигла своего апогея: Алёне показалось, что её череп треснул в районе виска и постепенно вдавливается вовнутрь. Она поняла, что ещё секунд тридцать — и выблюет радиоактивные остатки утреннего йогурта.
В этот момент двери среднего лифта неожиданно разъехались, и Алёна увидела себя в зеркале, которое висело в кабине прямо напротив входа.
Она увидела, что её голова не треснула. Имеет нормальную форму. Что висок цел. Череп не вдавливается сам в себя.
— Це другий поверх? — спросил кто-то в лифте испуганно.
Алёна опустила взгляд и обнаружила мальчика, стоящего в кабине и держащего палец на кнопке «2».
— Что? — напряжённо спросила она.
Мальчик, глядя ей в глаза, нажал кнопку. Двери закрылись. Лифт уехал вниз. Или вверх? Алёна со стоном выдохнула воздух сквозь зубы. И сразу же с грохотом раздвинулись двери лифтов справа и слева от неё — почти одновременно.
Алёна сделала шаг вправо.
За секунду до этого ей показалось, что где-то она этого пацана видела. Она доехала до первого этажа и мимо регистратуры процокала в сторону своего СОИ.
В регистратуре оформляли грязного бомжа с окровавленной головой, которого ментовский патруль подобрал в одном из подъездов микрорайона «Мирный». Бомж что-то вяло и невнятно говорил дежурной. За ним нетерпеливо переминались два молодых милиционера. Алёна бросила мимолётный взгляд на эту сцену. Потом ещё раз быстро глянула. Пошла дальше: показалось, что одно из лиц ей знакомо. Она подошла к стенду рентген-кабинета, и ей привиделся гладковыбритый мужчина лет сорока, одетый просто, но со вкусом. Сидящий за столиком вагона ресторана.
Какого вагона? — мрачно подумала про себя Алёна. — Какого ещё вагона? Ну-ка, стоп.
Эти мигрени всегда действовали на неё странно. Надо же… Восемь лет ни намёка и на тебе…
Алёна подошла и увидела карточку Юры Урана — он уже спустился сюда (как-то обогнав её на четыре этажа) и уже совершал «просвечивание мозгов».
Карандаш чуть медленнее, чем обычно, но всё равно быстро и мелко дрожит в её пальцах, скрипя грифелем по бумаге, когда дверь рентген-кабинета открывается и оттуда выходят две медсестры: толстая, наевшая за двадцать пять лет жизни необъятный зад, оператор рентгена Света и рыженькая Лена из Отделения Пограничных Состояний. Они, кивнув Алёне и прикрыв дверь, пошли курить к запасному выходу — помахивая длинными, тонкими сигаретами и говоря постепенно гаснущими по мере их удаления от Алёны голосами:
— Симпатичный мальчик…
— Да… ничего…
— Только не помнит ни хрена…
— А что такое?..
— … амнезия… черепно-мозговой…… ненцы в тундре… молоком…
Алёна подумала, что, скорее всего, не «молоком», а «молотком».
Наверное, сильно, раз амнезия… Она записала данные о начале первого на сегодня сеанса томографии. Потом развернулась уходить. Потом быстро подошла к двери, толкнула её и заглянула в щель.
Она видит молодого человека на кресле-каталке. Его лицо спокойно. Он безо всякого напряжения смотрит прямо перед собой. Его волос (отросших из причёски «под ноль» в причёску «два-два с половиной сантиметра») явно с неделю не касалась расчёска. Он в полосато-голубой стандартной больничной пижаме. Юра Уран колдует с каким-то колпаком, похожим на сушилку для волос в парикмахерской.
— Симпатичный мальчик, — говорит она не вслух, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому то ещё.
Симпатичный мальчик с амнезией после черепно-мозговой вдруг переводит свой взгляд из «в Никуда» на Алёну.
То есть в узкую-узкую щель приоткрытой двери он видит её правый глаз, вертикальную полосочку губ и одну ноздрю. Его взгляд вдруг фокусируется. Словно бинокль наводит резкость. Ей показалось, что она увидела, как в его неподвижных глазах сузились зрачки. Словно сквозняк, всасывающий сам себя из коридора в кабинет. Словно «плюс» магнита вдруг нащупал «минус» в узкой щели.
Алёна осторожно прикрыла дверь.
Она быстро подошла к урне и её внутренности скрутились в спазмах: головная боль вылилась жидкой кашицей через пищевод. И ещё раз. И ещё.
Алёна достала из кармана платок и вытерла подбородок и губы.
«Фуххх», — подумала она сквозь мигрень.
Эти спавшие восемь лет и неожиданно проснувшиеся сегодня вместе с ней головные боли. Они всегда действовали на неё странно. Ей вдруг показалось, что у этого Симпатичного Мальчика — знакомое лицо. Что она встречала его раньше.
Что как-то в вагоне метро он плакал, и она видела, как блестит влага на его щеках. Как вздрагивают его плечи — и это зрелище не вызывало у неё омерзения.
Она смотрела на его слёзы, как на произведение искусства.
Она хотела в тот момент, чтобы Такой вот Красивый Человек точно так же плакал из-за неё.
Алёна понимает, что это невозможно.
Что это бред.
И это её напрягает: каждый раз, когда ей кажется, что «это лицо я где-то видела», — что-нибудь происходит. И каждый раз — вообще не предсказуемо.
Но мальчик ей нравится.
Симпатичный Мальчик.
Она видит пару раз, как его провозят в кресле каталке по коридорам комплекса.
Однажды она едет в большом грузовом лифте в толпе позади его коляски. Ей кажется, что он слегка повернул левое ухо в её сторону.
С компьютера на своём рабочем месте она зачем-то лезет в открытую всем сотрудникам базу данных.
Она узнаёт, что пациент поступил с Тазовской фактории.
Обнаружен местными жителями в тупике на 35 километре недостроенной трассы в сторону Ханты-Мансийского Автономного Округа.
Предположительно 24–27 лет. Черепно-мозговая травма. Сначала полная — затем частичная амнезии: восстановились речевые функции. Затем начал ходить. Долго лежит в Отделении Пограничных Состояний.
— Очень символично, — думает Алёна. — Мне бы туда же…
— Интересно, — говорила она не вслух, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё. — Есть ли у этих Состояний Пограничники? А если есть, то они Отсюда Туда не пускают? Или Оттуда — Сюда? А что пропуск? Варево из равных частей молока, конопли, белены и верблюжьей колючки?
Когда-то два её знакомых луганских планокура вымутили «детку» кактуса-пейота и, пожадничав, съели её всю, разрезав пополам. Очевидно, в двух абсолютно идентичных по виду и по весу половинках было заложено Разное, но Сильное.
Оба из них явно были пропущены пограничниками Отсюда Туда и потом беспрепятственно Оттуда обратно. Сюда.
Один из них стал иеромонахом в мужском монастыре. Другой до сих пор был слегка дурковатым и уже несколько лет отдыхал на областной «дуре» в Сватово.
Симпатичный Мальчик долго лежит в Отделении Пограничных Состояний. Потом его переводят на первую попавшуюся свободную койку, в первую попавшуюся палату.
Ему достаётся место у окна в 417—й.
Голова его, в которую вставили пластину из специального титанового сплава, успешно заживает. Но вспомнить он пока ничего не может.
Однажды, переписав данные о последней уборке четвёртого этажа, Алёна собирается идти дальше и видит пациента из 417—й, сидящего на кушетке перед телевизором. Там же — ещё несколько человек. Все они в больничных пижамах, все на разных стадиях выздоровления. Все смотрят в экран. Кто лениво, кто с интересом, но так как он — никто.
Он смотрит жадно.
Его взгляд: он впитывает.
Его поза: он напряжён.
Она вдруг думает, что, скорее всего, половину из того, что он видит вокруг, по телевизору — он не понимает.
Но хочет понять.
— А нужно ли? — думает Алёна.
Нужна ему она, эта половина?
Он умеет ходить, говорить, есть и (как написано в отчётах) читать и писать.
Физически он почти здоров.
Его не волнуют сейчас карьера, деньги, жена, дети, любовница, новый автомобиль. Его не волнуют войны, цена на нефть, выборы президента.
Он счастливый человек.
Алена, стоя на полпути между стендом и лифтом, рассматривала его профиль.
Да. Он не похож на счастливого человека. Но как должен выглядеть счастливый человек?
И почему «должен» выглядеть? Кому должен?
Счастливый человек ни перед кем НЕ обязан Выглядеть.
Все в этой жизни Выглядят, Хотят Выглядеть или уже Выглядят Как.
Как кто-то другой.
Всем известно, как должен выглядеть секс-символ, рок-звезда, лицо телеканала.
Как выглядит безвкусное, остромодное и классическое.
Алёна вдруг поняла, что тоже Выглядит, Хотела Выглядеть и уже выглядела Как.
Что половина из того, что есть в ней и других, — бесполезный мусор бесполезной информации и спама. Что подобное нужно безжалостно удалять. Или (если всё ЭТО так дорого) — хранить на отдельных носителях. В банке. В сейфе.
Алёна рассматривает профиль Симпатичного Мальчика из 417—й и думает о том, что он — Счастливый Человек.
Она бы тоже хотела не помнить.
Хотя бы половину из того, что было в её жизни.
Возможно не так, как в его случае: кто-то взял молоток и отформатировал его карту памяти слишком радикально. Теперь он не может вспомнить вообще ничего.
Или не хочет? — думает Алёна.
А если он симулирует?
А вдруг?
Алёна очень хорошо симулировала саму себя, поэтому ей захотелось проверить Его.
А вдруг?
А если не симулянт?
Это клад.
Человек свободный от всего: стереотипов, например.
Даже неважно, мужчина он или женщина. Он же совсем по-другому думает. Он же сам Другой. У него же совсем другие желания. Вернее, желания могут быть теми же, но реализовывать он их может по-другому.
Он может Хотеть по другому.
Алёна вдруг подумала, что ей как раз таки важно, что он именно мужчина.
На одном из осмотров профессор Васильев, вставивший ему в голову титановую пластину, вдруг называет Его Железным Дровосеком.
Скоро пациента 417—й палаты так называет весь Комплекс.
Она замечает его иногда в коридорах.
Однажды в столовой Алёна видит, как неприятная ей, даже на вид, особь противоположного пола по фамилии Гапонов дважды плюёт в стакан Дровосека.
Симпатичный Мальчик смотрит в этот стакан, и вдруг она ощущает странное: словно быстрый скачок напряжения в сети. Она даже не успевает подумать о том, Что и Где это было, как вдруг — «Гений осквернения» — промелькнуло в её голове непонятное, никогда ей ранее не слышанное и явно принадлежащее не ей словосочетание. Она вдруг встречается с Дровосеком глазами и понимает, что он тоже почувствовал этот скачок. Короткий всплеск. Совсем лёгкий — предохранители даже не проснулись.
Но что-то мигнуло во всей сети.
Ей кажется, что они слишком долго смотрят друг другу в глаза. Она разворачивается и уходит — работать дальше.
Однажды она заходит в кабину большого грузопассажирского лифта и видит Его, прислонившегося к дальней от неё стенке кабины.
Он стоит, склонив голову. Набок, невидяще смотрит прямо на неё.
— Симпатичный Мальчик, — сказала она, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому то ещё. — Не одинаковый.
Он был одет в одну и ту же пижаму. У него была неопрятная причёска. Но он не был человеком похожим на Кого-то. На Кого-то, кто в лучшем случае похож на него же самого.
Он не был похож на тех мужчин, которых она уже знала.
При других обстоятельствах, в другое время и в другом месте — она бы с ним Смогла.
Алёна рассматривала линию его губ, когда сказала, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому то ещё:
— Что? Небось, тоже хочешь меня трахнуть, да? Симулируешь тут амнезию, а сам на мои сиськи пялишься, да? Хочешь меня трахнуть?
Расфокусированный бинокль невнимания исчез в доли секунды. Он навёл резкость и ткнулся прямо в её глаза. Посмотрел в одну сторону. В другую.
— Так хочешь меня поиметь? — сказала Алена, представляя, как берёт его член в рот.
Его зрачки словно «плюс» магнита опять в доли секунды нащупали «минус».
Он смотрит на неё удивлённо и слегка испуганно.
Она сама удивляется. И в тот момент, когда лифт тормозит на первом этаже, Алёна на целую секунду дольше, чем это положено негласным этикетом в ситуации «незнакомые люди встречаются взглядом», — смотрит в его глаза. Затем поворачивается и быстро цокает из лифта в СОИ.
Она знает, что пациент из 417—й приехал на очередную — шестую по счёту — томографию мозга. Она знает, что Юра называет его Дро. Она знает, что Юра называет всех девушек, работающих в СОИ, — орбитальные спутники. Никто не понимает, почему «орбитальные спутники»? Звучит это странно, поэтому никто не знает — обижаться или нет?
В этот же вечер она, мастурбируя в постели под сольник Лайзы Джерард, вдруг представляет себе Дровосека и неожиданно бурно кончает, мелко задрожав и глубоко всхлипнув. Она чувствует, как свело пальчики на ногах.
Его лицо ещё раз проплывает по ту сторону её глаз.
Она сталкивается с ним ещё раз. Очень скоро и опять в лифте: он помогает Урану перенести к машине сломанный компьютер из бухгалтерии Комплекса. Она входит на восьмом и оказывается прямо напротив Него. Он держит в руках полиэтиленовый прозрачный свёрток с проводами и невнимательно смотрит прямо перед собой.
Алена, представляя себе, как сидя на нём и двигая скользкими от горячего пота бёдрами — впивается своими когтями чуть выше Его сосков. Как оставляет на Его коже глубокие вмятины, с капельками крови на дне каждой.
— Небось, от такого бы ты не отказался, — думает она, глядя на Него и улыбаясь где-то внутри. — Небось, хочешь меня трахнуть?
Он сразу и в упор уставился на неё.
Хочешь меня поиметь?
Алёна увидела, как задрожали Его ноздри, втягивая молекулы запахов, скопившихся в кабине лифта. Она почувствовала, как Его рецепторы обоняния обнаружили её запах и отделили от прочих. Она почувствовала, что её запах Ему нравится.
Так хочешь меня отыметь?
Он смотрит в её глаза, пока лифт не тормозит на первом. Они опять — на бесконечную секунду дольше, чем нужно, смотрят друг на друга. Потом она разворачивается и уходит, заметив, что штаны Его — ровно посередине между правым и левым карманами — оттопыриваются. Как будто кто-то засунул в нижнюю часть пижамы немаленький кусок чего-то твёрдого. Она идёт, спиной чувствуя Его взгляд.
Она ускоряет шаг — ей хочется побыстрее закончить с последним стендом и запереться в одиночном туалете возле регистратуры. Она чувствует, что ей Очень Хочется. Прямо сейчас.
Она быстро переписывает информацию со стенда «интенсивки» в свою папку. Прячет карандаш в чёрный кожаный футляр. Поворачивает голову и видит Дровосека.
Он стоит метрах в пяти поодаль.
Смотрит.
Алёна тоже: смотрит.
Оба упёрлись друг в друга взглядами, будто играют в «Кто первый моргнёт».
— Привет, — вдруг неожиданно говорит Он.
— Привет, — моргнув, отвечает Алёна.
Он вдруг начинает улыбаться. Смущённо. И:
— Да! Я хочу… — выдавливает из себя.
Алёна закрывает свою папку на клапан. Она почему-то совсем ни о чём не может думать. Ни о чём кроме глубоких вмятин чуть выше его сосков. Вмятин с красными капельками на дне каждой. Этого ты хочешь? — говорит она, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё.
— Это очевидно что-то должно означать? — говорит она вслух. Вдруг:
— Я спешу, — и, повернувшись к нему спиной, делает шаг. От Него.
Он на том же расстоянии следует за ней.
— Говорят, ты ничего не помнишь о своём прошлом? Это правда? — говорит Алёна, думая о том, что если Он симулирует, то очень хорошо. Очень удачно симулирует человека, которого она хочет. — Это правда?
— Да. Не помню… — говорит он откуда-то из-за правого плеча. Они как раз подходят к кнопке вызова одинокого лифта в той части больницы, где недавно начался ремонт. Алёна жмёт на кнопку и спрашивает:
— Каково это?
Ей хотелось бы. Сейчас.
Она во все глаза смотрит на Него.
И когда он лишь слегка шевельнулся в её сторону — Алёну бросает в жар. Она не чувствует, как со всей силы стискивает свою папку. Так — что побелели костяшки пальцев. Она видит, как Он отрывает пятку от пола, собираясь сделать шаг в её сторону, — и чувствует одновременные слабость в пояснице и онемение с обратной стороны коленей. Его взгляд.
У неё пересыхает во рту. Даже если и собиралась что-то сказать — поздно. Не получилось.
Она не помнит, как они оказались в лифте, и кто нажал на кнопку «стоп».
Он действует так, как ей хочется — грубо разворачивает её спиной к себе и сильно пихает в угол кабины.
Она знала, что такое оргазм.
Она узнала о нём лет за шесть до того, как впервые испытала его с мужчиной.
Просто однажды вечером перед сном поняла, как оно всё устроено и нажала на правильную кнопку с нужной силой.
Она всё знала о своём оргазме. Знала, что быстрее кончает, если сама сверху. Что когда сверху Он — кончает продолжительно и бурно. Она несколько раз симулировала его во всех знакомых ей позах. Алёна знала, что ей повезло — она испытывала и вагинальный, и клиторальный оргазмы.
Но ТАК она ещё никогда не кончала.
Она всхлипнула, задрожала и громко заскулила, не разжимая сжатых со всей силы губ. Не разжимая сжатых со всей силы глаз. Она дрожала всем телом и барабанила ладонями по стенке лифта.
Они кончили с разницей в пару секунд, поэтому она отчётливо поняла, когда ЭТО началось у Него. Она вдруг почувствовала.
Как там — между её ног — искрит, вырабатывая молнии мощный генератор. Она почувствовала, что он проник в неё невероятно глубоко — словно выдернул самый нижний лист из огромной (под потолок авиационного ангара высотой) пачки бумаги. Словно заглянул в глубокий колодец и снайперски точно зацепил, выхватил тот сладкий зудящий стыд в её двенадцатилетнем возрасте, который она ощутила при просмотре первого в её жизни порно. И вдруг оголённый высоковольтный провод рухнул на неё откуда-то снизу, И!
Она, словно по нарастающей, заново пережила все оргазмы, испытанные ей ранее.
Словно кто-то вырезал их из её жизни и, оставив только точки «входа» и «выхода» в каждый последующий, — склеил их. Точка к точке. Точка «входа», к точке «выхода». Конец и снова начало.
Её тело начало рассыпаться в снопы ослепительно белых искр. И!
Она почувствовало, как одновременно выбило сотни предохранителей, установленных на главном пучке её нервных окончаний. И она, наконец, испытала ОРГАЗМ той МОЩИ, на какую и было рассчитано её тело. Её сотрясал разряд такой силы, что она ощущала, как барабанные перепонки выгибаются в обратную сторону, а зубы громко лязгают друг о друга, словно её бьёт крупный озноб. Она думала, что ЭТО никогда не закончится.
Она знала, что это кончает Он.
А она сейчас словно врезалась примитивным способом в Его сеть. Словно хакнула Его сервер и напрямую подключилась к Его Центральному Нерву.
Если бы она могла видеть их со стороны, то оценила бы, как их (уже обоих) выгнуло дугой и как сорвавшийся в этот момент с их тел пот — брызнул на стену, смешиваясь с вылетевшей из их ртов слюной.
Сюда не подходили понятия «хорошо» или «плохо».
Это было совсем не так, как всегда.
Совсем по-другому.
Она не знала, сколько прошло времени.
Минуту (пять? час?) спустя она открыла глаза и повернулась.
Сначала ей показалось, что он в обмороке.
Ей показалось, что он не дышит и зрачки его закатились. Но у неё даже не ёкнуло сердце — просто не могло больше реагировать на что-либо.
— Ой-ёй-ёй… — подумала она. — Вот это да… Вот это дааа…
Она шевельнулась, и его член выскользнул из неё. Ресницы его задрожали. Тяжело дыша, она обняла его и притянула к себе. Прислонилась спиной к стенке лифта. Поглаживая его по затылку, по спине почувствовала, как он открыл глаза.
— С ума сойти, как ты кончаешь… — прошептала она, задыхаясь. — С ума сойти… Я такого ещё не видела…
За дверью лифта слышны какие-то обеспокоенные голоса. Один из них, знакомый, — вдруг говорит громко и чётко:
— Петрович! Иди к электрикам! Пусть сюда дуют бегом! Тут что-то с лифтом… Клинануло!
Алёна легонько постучала его пальцами по плечу:
— Слушай, нужно ехать… А то сейчас вскроют двери и увидят тут нас…
Он прислоняется к стенке лифта и медленно натягивает пижамные штаны. На его лице странное выражение. Будто он к чему-то прислушивается. Он выглядит как робот, у которого разом сели все аккумуляторы. Алёна наоборот: быстро натягивает трусики, поднимает папку и нажимает кнопку последнего — двенадцатого этажа. Она смотрит в зеркало, поправляя причёску, и видит Его отражение позади себя. Она думает о том, что ожидала всё что угодно, но не то, ЧТО произошло здесь (минуту? пять? час?) какое-то время назад.
— Ты мне показался особенным… — сказала она, трогая волосы на своих висках. — Так и есть.
Алёна хочет ему ещё что-то сказать, но в этот момент:
— Тебя зовут Юля? — вдруг спрашивает он.
Улыбаясь подошел, протягивая открытую ладонь, и вдруг сунул в желудок полуметровый стальной прут. Насквозь. С выходным отверстием в районе позвоночника.
Она смотрела в этот момент прямо себе в глаза. Это помогло ей. Она смогла проконтролировать мускулы своего лица. Только чуть дрогнули ресницы. И зрачки стали уже. Она смогла проконтролировать мимику, но не смогла сделать это с голосовыми связками:
— С чего ты это взял? — спросила она и сама услышала лишние ноты в своей интонации. Ноты чего?
— Не знаю… — он пожал плечами. — Просто…
— Без просто, — сказала она и с облегчением поняла, что снова управляет мышцами своего горла. — Моё имя Алёна, ясно?
— Ладно, — сказал он.
Ночью лёжа в постели и поглаживая себя по плоскому животу, она вдруг понимает, что сегодня там — в лифте — за секунду до ухода в ослепительную (!!!) вспышку, она почувствовала, но не обратила в тот момент внимания — как кто-то словно выдернул из устройства карту памяти и сразу вставил обратно. А потом (!!!)… И где-то там — на идеально вывязанной поверхности её внутреннего мира — теперь появилась выбившаяся петелька: словно незримая материя зацепилась неаккуратно за незримый гвоздик. Маленькая ничего не портящая петелька, которая через время снова сольётся с общей структурой…
За что зацепилась?
Юля.
Какая Юля?
Она поняла, что Он пугает её.
Пугает и притягивает.
Никогда ещё мужчина не внушал ей эти два чувства одновременно.
Она смотрит в потолок и думает о том, что ощущает в себе отголоски и отблески чужого. Понимает, что часть Её наверняка осталась сегодня в Нём.
— Кто же ты такой? — думает она засыпая. — Кто же ты?
И она видит оглушительный и ослепительный сон:
Она видит пациента палаты номе 417.
Он стоит посреди Ничего в Нигде.
На нём не больничная пижама — сверкающие железные одежды и огромный топор в руках.
Она не видит Его лица — безучастная стальная маска скрывает Его черты. Но она узнаёт Его глаза. Глаза того же цвета, что и её — тёмные-тёмные, почти чёрные.
Ей кажется, что Он с удивлением, будто впервые, рассматривает её обнажённое тело. А она — о, да — она обнажена. Она медленно приближается к Нему, а он следит за ней, не поворачивая головы, одними глазами — как животное. Она прикасается к Его железным одеждам и понимает, что это не совсем одежда — это плоть Его. Кожа Его. Тело Его и — одежда тоже.
Она видит то, чего не заметила сразу, — чёрный кованый сундук, который Он прижимает локтем к себе. Она хочет прикоснуться к этому тяжёлому, даже на вид, коробу. Она тянет руку, но Он не даёт ей осуществить задуманное. Он вдруг отстраняется, выставив плечо вперёд и кованый сундук, отодвигается от неё на недосягаемое расстояние.
Она видит, как сверкнули Его глаза по ту сторону узких прорезей маски — ярче, чем Его одежды, которые итак излучают неподдающееся воображению сияние. Она видит Его глаза и чувствует сверкающее жало. Несущее знакомый ментоловый холод боли и молекулы новокаина, от которых немеют поясница и анус. Жало, которое шипит, соприкоснувшись с горячей влагой меж её ног.
— Мммаааа! — разлепляет она слипшиеся губы, выпадая из сна (?) и ещё ощущая судороги мышц влагалища.
Она тяжело дышит, глядя в потолок, и вдруг говорит, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё:
– #######!!!.. ####### ## ###!!!..
И моментально засыпает.
Словно в обмен на ТОТ сон до утра ей уже ничего не снится.
Она просто проваливается в чёрную вату и через секунду открывает глаза уже утром. Сидит на кровати, сквозь полуслипшиеся ресницы рассматривая очередное начало очередного дня, и вдруг:
— !!!!!!!!!!!!!!!! — нестерпимо громко и мерзко пищит её будильник. Она, вздрогнув, понимает, что впервые проснулась раньше него — этого электронного зверька, которого так пугает каждый новый день, что он верещит от ужаса. Под этот тонкий синтезированный вопль страха она сползает с постели и как есть — голая — подходит к окну.
Раннее северное утро.
Рассветёт по-настоящему только часов в десять.
А в два — солнце уже будет касаться горизонта, завершая свой сегодняшний маршрут. Её окна выходят на главный и единственный проспект Тихого. На соседнем здании, на глухой стене торца — огромный, ярко освещённый билборд: сидящий на заборчике мужчина в одежде вахтового рабочего. В его руке банка пива. Ещё штук десять таких же банок лежат у его ног. Мужик, нахохлившись, явно дремает. На его плечах и шапке — тонкий слой снега. В правом верхнем углу — «-40 ° C». Понизу огромные метровые буквы: «НЕ СПИ. ЗАМЁРЗНЕШЬ».
Медсестра Алёна знала, что по статистике в Тихом каждый год замерзало около 10–12 человек. Они могли быть разной национальности, роста, веса и возраста. Объединяло их одно — они упивались алкоголем до состояния близкого к анабиозу и засыпали где-нибудь под ларьком, на остановке или под подъездом. В Приполярье подобный отдых на свежем воздухе в период с октября по июнь заканчивался в лучшем случае ампутацией отмороженных частей тела.
НЕ СПИ. ЗАМЁРЗНЕШЬ.
Автор этого креатива — Ярик. Друг Юры Урана. Человек с длинными белыми, как снег, волосами, которые он заплетает иногда в косу. Когда пару недель не бреется, становится похож на древнего норвежского воина. Он часто навещает Урана, и в эти его визиты гашишем пахнет на весь коридор.
Позавчера Алёна ехала с обоими в лифте с первого по восьмой.
— Прикинь, — говорил Уран. — Тут в лаборатории, короче, делают таблетки для наращивания мозговой массы.
Алёна видела только их затылки.
— Фуяссе! — сказал Ярик. — Это куда ж их есть-то?
— «Куда», фиг с ним, вот «кому» — я знаю.
— Хе-хе… я тоже… А на хрена ему эта перда?
— А хрен его… Может, мозгов больше станет… И чё-нить вспомнит… А то пустая башка вообще у чувака…
— У него тогда просто пустых мозгов больше станет… как наполнитель типа… Ну, нах, эти колёса, чувак… А то у него потом мозги через уши вылезут… Впухнешь потом, как очкарик…
Алёна очень хорошо поняла, о ком они говорят.
Все её мысли занимал собой этот человек.
Пациент 417—й палаты.
Железный Дровосек.
Она отходит от окна.
Натягивает облепляющие её ладную фигуру узкие шортики и майку, всовывает в уши sony sport с антишоком.
Под смертоносную музыку девятерых разгневанных мужчин из города Де Мойн, штат Айова, она становится на беговую дорожку.
Под нечеловеческие голоса, скандирующие на английском «Люди = Говно!!!», Алёна бежит свои первые метры по поверхности невидимой планеты.
Каждое утро она углубляется в пустоту на очередные пять километров. Это показывает счётчик на тренажёре.
Она не верит, что бежит на месте.
Ей кажется, что она знает, куда бежит.
Она бежит от себя.
— Симулирует! — вдруг думает она с неожиданной злостью. — Симулирует. Точно.
Сегодня ей не надо на работу.
Сегодня не её смена.
Сегодня ей не надо никого подменять — сегодня выходной.
Сегодня она впервые придя в Многопрофильный Больничный Комплекс, не надевает белые лакированные туфли на хромированных каблуках.
Два часа после полуночи.
Охрана на центральном входе пьёт чай и смотрит «Место встречи изменить нельзя» по ночному каналу.
Медсестра в «Приёмном отделении» прилегла отдохнуть на кушетку.
Дверь с надписью «Прачечная» в одном из боковых коридоров первого этажа медленно приоткрылась. Там — в прачечной — темно. Там — в узкой щели между дверью и косяком — блестящая точка. Зрачок, поймавший отблеск настенных больничных светильников. Секунда, и
Алёна уже идёт по коридору.
Нет цоканья каблуков. На её ногах — мягкие, удобные белые тапочки. Текстиль и резина. Шаги — словно шёпот. То, что нужно в этот поздний час.
Она быстро шагает, сунув обе руки в карманы чужого белого халата, пахнущего чьими-то духами. В правом кулаке зажата маленькая карамелька в зелёной обёртке — нашла её тут же. В кармане. В чужом кармане.
Она игнорирует лифты, молчащие сейчас, и пешком поднимается на четвёртый этаж. Выглядывает из-за угла: так и есть. Дежурная ушла до утра спать в «процедурную».
Она не спеша вышла на середину коридора и пошла прямо под длинными лампами «дневного света», висящими на потолке.
Она успела сделать двадцать шагов и тут увидела Его.
Сидит на одном из диванов с пультом в руках перед работающим телевизором. Холл отделения пуст. Тишина — громкость на телеприёмнике убрана. На экране — мультфильм. Алёна даже узнаёт его — «Ну, погоди!».
— Погоди… — думает она. — Погоди…
Он смотрит в мигающий экран не жадно. Без интереса. Просто — сидит и смотрит.
Алёна тоже очень просто — не быстро, не медленно, обычным шагом подходит почти вплотную к нему.
Он смотрит в экран.
Достала карамельку из кармана, освободила её из зелёной бумажки и сунула в рот, ощущая мятный холодок во рту.
Она аккуратно свернула фантик пополам. Потом ещё раз. И ещё раз пополам. Получившийся маленький зелёный квадратик положила в правый карман.
Он смотрит в экран. Не мигая.
Она пришла сюда, твёрдо зная, что будет говорить ему, с какой интонацией и громкостью. А теперь стоит и никак не решится открыть рот. Она подошла ещё ближе и мягко присела на кресло справа от него.
Он смотрит в экран.
Видит его?
Она смотрит на Него.
Видит Его.
В животе её какой-то пустой, щекочущий изнутри, пузырь.
Она видела много людей в своей жизни. И только единицы из них были по-настоящему некрасивы.
Человек создан по образу и подобию Творца, и поэтому красив уже по определению. Сидящий в профиль к ней сейчас человек — красив. Очень красив. Он самый красивый человек, которого она встречала. Во сне, даже не видя Его лица, она чувствовала Его Красоту.
Сон.
При воспоминании о нём пузырь в животе увеличился и упёрся в сердце — тук! (пауза) тук! — дальше пошло. Она посмотрела на его руки. И в этот момент он шевельнулся. Щекочущий пузырь (хлоп!) исчез. Алёна неожиданно для самой себя открыла рот и:
— Я думала о тебе, — произнесла достаточно громко. Он вздрогнул и посмотрел на неё.
Такое ощущение, что и не удивился даже. Сказал:
— У тебя талант подкрадываться незаметно.
— Вот примерно об этом и я хотела с тобой поговорить… — она желала, чтобы её голос звучал твёрже и ровнее, но:
— О чём? — спросил он.
И медсестра Алёна поняла, что звук Его голоса сбивает её с мысли. Что от Его тембра, от того, как он резонирует и в каком виде долетает до её ушных раковин, — её начинает потихоньку трясти. Её притягивают Его глаза. Она смущена и возмущена этим, потому что понимает — ещё несколько секунд, и она перестанет себя контролировать. Влажными становятся все маленькие и важные места её тела: в глазах неожиданно оседает внутренний конденсат и они начинают искриться. А там, где сходятся её аккуратные точёные бёдра…
Она хочет Его так, что у неё отшибает память — сколько не силится она на следующее утро вспомнить, о чём же они говорили, сидя на диванах перед беззвучно мерцающим экраном телевизора, — не может. Словно он заразил её новым видом венерической амнезии, передающейся половым путём. А половой путь — о, да — вчера был. Её память включилась в пыльной кладовке со швабрами и вёдрами. С тюками грязного и чистого постельного белья, на которых они оба сейчас лежали.
— Тебе больно? — спрашивает Он.
Алёна чувствует, что её щёки мокры от слёз. Она сама не знает почему. Когда-то она хотела, чтобы красивый человек плакал из-за неё. Теперь она сама в компании красивого человека плачет.
Из-за Него?
Из-за чего?
— Тебе больно?
— Нет, — она попыталась почувствовать себя единым целым. — Нет. Конечно, нет…
Единым целым почувствовать себя не удалось.
Он нереальный любовник.
Она боялась. Что прошлый раз показался ей таким, каким показался из-за длительного воздержания: у неё не было секса уже почти полгода.
Но вот он — второй раз. И опять тоже самое… Нет. Лучше. Она думает — есть ли предел? Или каждый раз с ним будет всё мощнее и мощнее?
Алёна понимает, что к ней наконец-то стопроцентно вернулись её слух, зрение и обоняние: она чувствует запах его пижамы. Он пахнет так же, как и всё вокруг — дезинфекцией, смесью старого и нового белья. Ей хочется отмыть Его. Уничтожить этот хлорировано-антибактериальный аромат, исходящий от Него. Он должен пахнуть по-другому.
Его нужно выкупать в горячей ванне с ароматизированными солями.
Нужно зажечь благовония, чтобы они впитались в Его кожу и волосы.
Нужно зажечь много-много свечей, чтобы они мягко освещали Его тело и грели воздух…
Она говорит Ему об этом и видит, как загораются Его глаза.
Она говорит Ему, что если найти одежду для Него, то можно сбежать на одну ночь к ней.
Он возбуждён. И ей нравится смотреть на Него такого. Она довольна, что тоже может Его удивить.
— У меня есть у кого попросить одежду! — говорит он, похожий сейчас на восторженного красивого ребёнка.
— У Юры? — спрашивает она, теребя своими пальчиками Его взлохмаченные волосы.
— У него… — говорит Он.
Как же ей Его называть? Не «Дро», же?
— Юра единственный человек, которого я хорошо знаю… С ним весело… Интересно… С ним хорошо… И с Яриком хорошо…
— А со мной? — спрашивает она, как можно спокойней, но сжавшись почему-то внутренне. Он словно испытывая её терпение, молчит.
Пять секунд.
Десять.
— С тобой? — говорит он, наконец. — С тобой, по-другому…
Она хочет укусить Его. Не со зла. И не для того, чтобы сделать Ему больно.
— Это с тобой по-другому… — говорит она, слыша какие-то незнакомые нотки в своём голосе. Она вообще всегда думала, что очень хорошо знает свой голос. Но после знакомства с Ним поняла — не совсем.
Только в такси, по дороге домой, она понимает — нотки нежности.
Алёна просит у таксиста сигарету и курит, стряхивая пепел в приоткрытое окно, испытывая удовольствие от каждой затяжки.
— Да… — произносит она не вслух, как и все люди, обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то ещё. — Да. Это с Тобой по-другому…
Всё по-другому.
Совсем по-другому.
В следующую ночь — сразу после двенадцати — она через боковой выход выводит его к такси, на котором приехала сама. У неё целая связка ключей, которую она днём стащила у сестры-хозяйки первого этажа. Это запасной комплект, хранящийся в нижнем ящике стола, — Алёна собирается сделать дубликаты с нескольких ключей и вернуть связку на место. Самые нужные — ключ от двери с табличкой «Прачечная» и от пожарного выхода.
Он одет в сборный комплект одежды, собранный ему Яриком и Ураном. Что он им говорил, Алёна не знает. Но куртка, шапка, свитер, ботинки — всё это волшебным образом оказывается в одном из шкафчиков рядом с огромными стиральными машинами. Она помогает ему одеться, наблюдая лёгкую растерянность в его лице. Завязывает ему шарф, как мама маленькому мальчику — большим узлом спереди. Он послушно стоит, глядя на её руки. Потом они делают короткую перебежку — и такси трогается.
Сидя на заднем сидении, он пару раз оборачивается и пристально смотрит на огромное здание Больничного Комплекса, от которого они удаляются по гнутой, как серп, расчищенной снегоуборщиками дороге. Она не знает, что сейчас ощущает он. Но сама испытывает давно позабытое ей чувство — словно кончики ушей прижимаются к затылку.
Когда они, уже стоя в её подъезде, вызывают лифт, она вдруг чувствует, как её губы независимо от неё раздвигаются в улыбку. И он — тоже улыбается ей.
Они входят в её квартиру, и он издаёт изумлённый вздох: кругом дрожащий свет множества свечей. Воздух в помещении горячий и сухой: в нём плавают тонкие лохмотья дыма от нескольких дымящихся палочек — Алёна создала свой любимый букет, где корица — главная нота.
Она раздевает Его.
Когда добирается до майки — он покрывается пупырышками… Она ведёт Его в ванную и погружает Его в горячую воду, посоленную ароматами… Она медленно протирает Его тело мягкой губкой, и её взгляд постоянно соскальзывает к Его паху — там торчало ещё до того, как они добрались сюда из зала. Она сама возбуждена до предела, но оттягивает всё до того момента, когда уже не может больше терпеть. Она делает неуловимое движение и тёмно-синий халат плавно и быстро сползает по её коже вниз.
Он рассматривает её тело. Переступая борт ванны, она видит своё отражение в большом зеркале. Ей нравится то, что она видит: в плавающем мягком свете трёх десятков свечей её кожа словно светится изнутри белым матовым светом. Она видит свою аккуратную грудь, стройные ноги, хрупкие плечи с выступающими косточками ключиц.
Она быстро переносит вторую ногу через край ванны и впивается в Него поцелуем.
Она не знает, сколько прошло времени.
Она знает, что это ещё не всё.
Они идут в комнату. Она включает «Мёртвые Могут Танцевать», и невидимая Лайза Джерард начинает резать своим голосом воздух в комнате ломтями, отслаивая кости и кожу от мяса.
Она, положив голову на Его живот, лежит так с полчаса, чувствуя, как всё её тело постепенно приходит в норму. Он задаёт ей какие-то вопросы, о которых она забывает тут же, как только отвечает на них. Она слушает Его голос.
Одним движением оказывается сверху.
— Я сама, — говорит она, выбирая нужный угол. — Сама…
И, наконец, делает то, что давно хотела сделать, но берегла на десерт: сидя на Нём и двигая скользкими от горячего пота бёдрами, она впивается своими ногтями чуть выше Его сосков. Она оставляет на Его коже глубокие вмятины. Она, постепенно ускоряясь, продолжает погружать свои остро заточенные, крашенные бесцветным лаком когти в Его эпидермис. Она двигается всё быстрее и быстрее, и в тот момент, когда во вмятинах под её ногтями выступают крошечные капли крови, — она кончает несколько раз подряд. Быстро, коротко и как всегда с ним — мощно.
Будто нереальная фотовспышка ослепляет её каждый раз, и ей кажется, что на сетчатке глаз отпечатывается ярко сияющая, засвеченная и словно смазанная фигура. Словно отслоившаяся от зеркала и быстро приблизившаяся к ней.
Мышцы горла сжимаются синхронно с какими-то гинекологически важными мышцами внутри неё, перекрывая кислород на доли секунды несколько раз подряд.
И она испытывает странное: будто несколько изображений накладываются одно на другое.
Упав на лежащего под ней — она ещё долго вздрагивает всем телом.
Спустя полчаса она, закутавшись в свой тёмно-синий халат и оставив мужчину в комнате, готовит им обоим гренки с корицей.
Кипятит воду.
Насыпая какао в пустые чашки, она спиной чувствует, как Он зашёл в кухню. Улыбаясь оборачивается, и
Никого нет.
Она слышит, как в глубине квартиры включается телевизор. Как Он убирает звук.
Медсестра Алёна слегка пожимает плечами и переворачивает куски хлеба на сковороде. Спустя пять минут она, намазывая на горячие гренки мёд, еще раз резко оборачивается — опять чётко почувствовала кожей спины, затылком, лопатками — кто-то вошёл и смотрит на неё.
Никого.
Покусывая нижнюю губу, ставит приготовленное на поднос и идёт в зал.
Он сидит там, глядя в телевизор.
Они разговаривают, пьют какао, хрустят гренками, пачкая губы в мёд.
— До, — вдруг неожиданно произносит Он, отставив кружку.
— Что? — Алёна поворачивается к нему. Он напряжённо смотрит на золотистый узор, вышитый на халате.
Прямо над сердцем.
— Иероглиф «До», — медленно говорит Он. — «Путь».
Я долго не могло понять: знает ли она обо мне?
Знает.
Догадывается?
Догадывается.
Слышала.
Ощущала вибрации.
Теперь я точно знаю: Да.
Я (предполагало? ожидало?) надеялось, что она обрадуется.
Не обрадовалась.
Не удивилась.
Даже не испугалась.
Отмахнулась, как от назойливой мухи.
Отгородилась от Меня.
Создала бронированную стену Льда.
Укрылась за свинцовыми щитами Тишины.
Создала зону отчуждения, обнесённую тремя рядами колючего Безмолвия.
Я в бесцветной, безсветной пустоте.
В Нигде.
В бескрайнем тупике.
Пылинка в запаянной банке из под конфет. В которой даже запаха — и того не осталось.
Ничто в Нигде.
Не сухое. Не мокрое. Не светлое. Не тёмное.
Без стен, но.
Можно предсавить в воображаемом центре этого воображаемого Нигде — крепкий ящик.
Несгораемый и не существующий материально шкаф.
Бронированный сейф.
В котором?
Я знаю, ЧТО там.
Если бы Я могло, Я бы бесчисленное количество раз рассматривало и перебирало ЭТО… Протирало и аккуратно укладывало в чёрный бархат обратно… Если бы Я чувствовало Время, Я бы делало ЭТО каждую минуту… Но я не чувствую Время… Я не знаю, как долго или коротко, быстро или медленно Я Здесь…
Я знаю, что ТАМ. Там…
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ.
Если бы у Меня были глаза, Я бы зажмурилось.
Сияние, пробивающееся сквозь толщу.
Льда?
Нет Льда.
Нет Свинца Тишины.
И колючего Безмолвия нет.
В бесцветной, безссветной пустоте.
В Нигде.
В бескрайнем тупике.
В сверкающих железных одеждах.
С огромным топором в руках.
С чёрным кованым коробом, поглощающим сияние.
Стоит (летит? горит?).
Он.
Здесь? Со Мной?
Стоит и смотрит на Меня в узкие прорези сверкающей маски.
С удивлением?
А как Я (?) Смотрю (?) на него?
Если бы Я могло дышать или не дышать, сейчас бы Я НЕ дышало.
Я делаю движение.
И Он делает движение.
Я двигаюсь в другую сторону.
И Он движется синхронно со Мной.
Он моё отражение?
Я похоже на Него?
Я так выгляжу?
Откуда Он?
Почему Он здесь?
Кто Он?
— Кто Я??? — его глаза вспыхнули, затмевая сияние Его же плоти. — Это ты кто???
Я не хотело Его оскорбить.
— А Я ХОТЕЛ!!!
Он переполнен яростью.
Она — Его ярость — не может удерживаться в Его «нутри». Она разрядами молний сверкает на Его сверкающих доспехах.
Но, не смотря на всё, — Я чувствую — МЫ чем-то похожи… Может быть, Он Мой брат?
— Холод и Мрак Мои Братья, — говорит Он.
Может быть, Я Его сестра?
— Месть, Злоба и Ненависть Мои Сёстры, — отвечает Он.
Но тогда… что Я?
— Ты? — Он делает шаг ко Мне. И Я — чувствуя невероятные Давление, Мощь и Арктический Минус, исходящие от Него, — делаю шаг назад. Даже из этого ясно, что МЫ не можем быть отражениями друг друга.
— Ты? — Он поднимает свой гигантский сверкающий топор и указывает огромным искрящимся Лезвием в воображаемый центр, воображаемого Нигде. Там — воображаемый крепкий ящик. Несгораемый и не существующий материально шкаф.
Бронированный сейф.
Я знаю, ЧТО там. То, ЧТО там — закрыто от Меня.
Как я закрыто Здесь.
В Нигде.
ТАМ — собрано ВСЁ, ЧТО она не хочет вспоминать.
ВСЁ, ЧТО она хотела бы забыть.
ТАМ.
Чёрные плотные конверты со страшными снами, запечатанные чёрным сугучом.
ТАМ.
Вороненые ящички с наборами пробирок, в которые собраны все-все-все — до единой — слёзы.
ТАМ.
Непрозрачные, запаянные чёрным воском контейнеры с безжизненными запахами. Какими?
Привокзальных туалетов вперемешку с хозяйственным мылом, выскальзывающим из руки за секунду ДО.
Овощного рагу пополам с ртутью.
ТАМ.
Всё, что она не хочет вспоминать.
Всё, что она хотела бы забыть.
Всё, что ей не нужно.
— Ты??? — Он делает шаг, и Ничто вокруг содрогается. — Ты сидишь здесь вместе со всем этим гноем! Со страхами истерической человеческой самки!
Я — То, Что ей не нужно.
— ДА!!! — Он возвышается надо Мной сверкающей, подавляющей горой. — ТЫ — То, Что ей не нужно! Но так не должно быть!
Смотри!
Я вижу Его кованный чёрный короб. Геометрически пропорциональный Куб Тьмы.
— Смотри!!!
ТАМ.
Маленькая фигурка человека в полосатой больничной пижаме.
Он стоит по центру не своего, не собственного Нигде и словно не знает куда идти.
А если идёт — то движется по кругу.
По часовой стрелке.
Против часовой стрелки.
Не вперёд. Не назад.
По кругу.
У него легион вопросов! Ответы — у Меня! Он пойдёт туда, куда скажу ему Я!
Он — оболочка.
Суть — Я!
Если Я захочу — он будет чувствовать себя существом с химически активной кровью.
Если Мне будет угодно — он устроит жестокое избиение собственной психики.
Захочу — и датчик его злобы зашкалит за опасную красную отметку. Тогда он может бить с такой силой, что кафель на стенах превращается в крошево.
Он — это на самом деле Я!
Я! — ВОТ ЧТО ТАКОЕ он.
Так должно быть!
А у тебя — всё наоборот!
— Она держит Тебя здесь в этом ящике как насекомое! Так не должно быть! — свирепо рычит сверкающая и подавляющая собой гора, и со всей силы бьёт своим сверкающим кулаком размером с небоскрёб в крошечный несгораемый и не существующий шкаф, вминая его дверцу внутрь.
Но ведь она… она — та маленькая девочка, которой Я шёпотом подсказывало.
— ЧТО???
Она маленькая девочка…
Запутавшаяся маленькая девочка, которую Я
( люблю)
– ###???
Немыслимые, Гигантские, Сверкающие пальцы хватают сейф, и он трескается как яичная скорлупа.
Он — этот воображаемый, не существующий ящик — рассыпается в воображаемые атомы и, наконец, перестаёт существовать даже в воображении.
— ВОТ!!!
Что ты делаешь???
– ###!!!
Неподдающиеся осознанию Руки, сверкающими горстями хватают чёрные плотные конверты, ломают чёрный сургуч и вытряхивают их содержимое; разбрасывают треснувшие пробирки с кристально чистым содержимым внутри; швыряют хрупкие непрозрачные контейнеры, разлетающиеся в пыль.
— ВОТ!!!
Он зачёрпывает эту пыль и сыпет в свой чёрный сундук.
ТАМ.
Маленькая фигурка человека в больничной пижаме, сидящая в кресле. И маленькая фигурка в синем халате, протягивающая ему сейчас маленький хрустальный скипетр. Тонкую стеклянную палочку, поймавшую отблеск телеэкрана.
Прибор для измерения температуры тела.
Разграфлённый и поделенный на градусы.
Термометр.
Градусник.
— Ты точно самый странный человек, которого я встречала, — сказала Алёна и поняла, что ей давно хотелось это сказать. И что ей приятно говорить это Ему:
— Ты не такой, как другие… Не серая геометрическая фигура, а большое разноцветное пятно…
Ей захотелось обнять Его. Прижать к себе. Она протянула руку и коснулась Его волос.
Его лба.
— Эй! — она вскочила и встревожено заглянула в Его глаза. — Ты чего молчишь! У тебя же температура поднялась!
Его глаза сверкнули и сразу же помутнели. Словно неожиданно сгустился туман, где-то там — по ту сторону Его зрачков.
— Эй! — Алёна тряхнула его за плечо. Он привалился к спинке кресла. Смотрел так, будто не узнаёт её.
Она прикоснулась губами к Его лбу — огонь.
Алёна не на шутку встревожилась.
— Сейчас, — говорит она и быстро идёт в свою спальню. Она хватает со своего столика футляр с градусником и так же быстро возвращается в зал.
Она стремительно ступает своими босыми ногами по ковровому покрытию, но ей кажется — слишком медленно. Словно её тело утратило свои обычные аэродинамические показатели и туго входит в воздух. Трётся о него. И как метеорит в верхних слоях атмосферы — начинает нагреваться.
Пространство становится вязким.
Хватает за голые ступни, которые вязнут в нём как в сгущёнке.
Алёна думает о том, что температуру нужно измерить и ей тоже. Но сначала Ему.
Сначала Ему.
Она несколько раз резко взмахивает термометром, сбивая предыдущие показания, протягивает:
— Держи! Нужно измерить температуру!
Он смотрит так, будто не то, что не узнаёт, — не видит её вовсе. Алёна сама приподнимает его руку и вставляет градусник в его подмышку. Словно ключ в замок зажигания. Ей даже кажется, что она слышит характерный щелчок, И:
— СУКА! ВАФЛИСТКА! ЗАЩЕКАНКА! МИНЕТЧИЦА! — зарычал он ей вдруг в лицо и крепко вцепился в её запястье. Он рывком дёрнул её к себе и пролаял, исторгая изо рта мокроты и запах прихваченного морозом дерьма:
— У ДЫТИ И САХАРА СОСАЛА!!!
Жёлтая слизь попала ей в глаз.
Она зажмурилась. Дёрнулась изо всех сил. Вырвала руку из его мёртвой хватки. Всё ещё ничего не видя, почувствовала, как его ногти сорвали тонкие полоски кожи с её предплечья. Зашипела от боли. Услышала:
— ВШИВАЯ! ВШИВАЯ!
Прямо за спиной:
— ВШИВАЯ! ВШИВАЯ!
Сколько голосов произносят это?
— ВШИВАЯ! ВШИВАЯ!
Она вжала голову в плечи и
Открыла глаза. Он стоял прямо перед ней. Ухмыляясь не своей и от этого страшной улыбкой. Словно не улыбка это — глубокий шрам, прорубленный в черепе. Не своим и от этого страшным голосом он проскрежетал, будто в горло ему напихали толчёного стекла:
— У ГОРЬКОГО ЧЛЕН ГОРЬКИЙ, У ПУШКИНА ЧЛЕН ПУШКОЙ, А У ТОЛИ САХАРА? СПРОСИТЕ ЮЛЮ ИЗ ПЯТОГО ПОДЪЕЗДА!!! ХА-ХА-ХА!!!
И он захохотал ей в лицо не своим и от этого страшным хохотом. Она закрыла глаза.
— Я не Юля, — шёпотом.
— ХА-ХА-ХА!!!
— Я — не Юля, — она зажала уши кулаками.
— ХА-ХА-ХА!!!
— Я! НЕ! ЮЛЯ!!! — завизжала она, ничего не видя и не слыша. — Я! НЕ! ЮЛЯ!!!
Он лежал мёртвый.
Как мёртвый.
Кисти и локти вывернуты под неестественными для живого организма углами.
Она не видит, чтобы его грудная клетка шевелилась.
Она видит его остекленевшие глаза.
Его высунутый язык словно пробует на вкус ковровое покрытие комнаты.
Она видит лужицу слюны.
Она (наконец-то!) видит и
(наконец-то!) делает вдох.
Выдох. Вдох. Выдох.
В руках — незнакомое ощущение. В сухожилиях и ладонях.
Она смотрит на свои сжатые со всех сил кулаки.
В правом — жжение.
Она с усилием раскрывает его. Мелкие осколки стекла, впившиеся в ладонь. В рисунок, по которому некоторые определяют судьбу. В линиях ума, сердца, жизни — торчат хрупкие обломки треснувшего от приложенного усилия термометра. Лопнувшего от непроизвольно сократившихся мышц кисти. Она опускает взгляд и видит обломки его у себя под ногами. Навсегда испорченного прибора для измерения температуры тела. Разграфлённого и поделенного на градусы.
Градусника.
Маленькие матовые шарики.
Тускло мерцающие капли.
Семена ртути.
Она посеяла их здесь.
— Ноль, шесть, шесть, восемь, «Приполяртранс», служба такси. Доброй ночи.
— Проспект Мира семь… Третий подъезд.
— Куда едем?
— МБК… с Южной части…
— Пять минут, машина выезжает.
— …………………………………
— Алло? Девушка?
— Я поняла… Пять минут… Спасибо…
— До свидания.
— …………………………………
Она нажала «отбой» и какое-то время стояла, держа трубку в руке и смотря в противоположный конец комнаты.
Туда, где лежал человек в больничной пижаме.
В ней она привезла его сюда. Теперь его нужно вернуть обратно.
Она, наконец — словно решившись — бесшумно ступая по ковру цвета сгущёнки и ощущая подошвами каждую ворсинку, приблизилась к нему.
Нет. Всё-таки жив.
Ресницы подрагивают.
— Вставай… — негромко произнесла она.
Ноль реакции.
Ей захотелось со всей силы пнуть его в живот.
Минуту назад хотелось придушить.
Пять минут назад боялась. Очень. Его.
Она посмотрела по сторонам: все свечи, догорев ровно до середины, разом потухли. Когда?
В квартире прохладно.
Серо и беззвучно мерцает экран большого телевизора на пустом канале. Именно он даёт этот ровный серый свет в помещении.
Она видит бликующие мелкие осколки стекла в трёх метрах от себя. От этого зрелища подошвы начинают чесаться.
— Вставай, — негромко. Сдерживаясь. А сдерживаться приходится. Иначе она заорёт и действительно пнёт его в живот. Со всей силы. И ещё раз. И ещё.
Она наклоняется и ловит мочку его уха указательным и большим пальцами левой руки.
— Вставай! — шипит она и глубоко вонзает свои ногти в прохладный кусочек кожи.
Семь с половиной минут спустя таксист помогает девушке запихнуть на заднее сидение невменяемого и одетого кое-как молодого человека.
Девушка и сама одета странно — из под синего домашнего халата торчат джинсы. Поверх его — не застёгнутая пуховая куртка.
— День рождения? — спрашивает таксист.
— Поехали, — сквозь зубы говорит девушка.
— Жди, — возле больницы так же сквозь зубы произносит она, и сама тащит парня в один из боковых входов: он кое-как переставляет ноги, но всё-таки идёт. Таксист видит, как мелькнул свет в приоткрывшейся и почти сразу же захлопнувшейся двери.
Дверь с табличкой «Прачечная» рывком распахнулась.
Таким же рывком — РАЗ! — вдёрнула его из пахнущей стиральным порошком полутьмы в коридор.
Пустой. Ночной. Боковой. Ярко освещённый коридор первого этажа.
Она прислонила его к стене и бесшумно прикрыла дверь, почувствовав, как сквозняк шевельнул её локон.
Он, широко раскрыв глаза (растерянно? испугано?), таращился на неё.
Она тяжело — сама чувствуя мышцами лица тяжесть своего взгляда — смотрела на него.
Симулирует. Точно симулирует.
Кого??????
— Никогда. ТАК. Больше. Не делай, — сказала она.
Невидимый нож вырезал в тыкве его лица эту улыбку — глубокий шрам в черепе.
— Что? — спросил он, ухмыляясь, и его губы раздвинулись ещё шире.
Воздух с шумом ворвался в её ноздри.
Коротко выдохнув, она, не сдерживая себя, со всей силы, оглушительно, чуть не вывихнув руку — ударила его открытой ладонью по щеке.
БАЦ!!! — словно мокрая тряпка о кафель.
Миг (!) — и дверь с табличкой «Прачечная» захлопнулась у неё за спиной.
Она поднялась пешком.
Не думая, как робот, размерено ступая по ступенькам с первого на шестой.
Не смогла себя заставить войти в лифт.
Не могла бы объяснить «почему?» даже самой себе: подошла к дверцам, протянула руку к кнопке «вызов» и замерла.
Был самый глухой и незаметный момент суток — когда три часа ночи незаметно превращаются в четыре часа утра. Где-то там — над крышами города, над тундрой вокруг него и разбросанными в замёрзших болотах газовыми факелами — бушевало небесное бледное пламя. Неописуемое, неуловимое, похожее на всё сразу и непохожее ни на что — Северное Сияние.
Здесь — в третьем подъезде на площадке первого этажа — протянув руку к кнопке вызова, стояла она.
Прикоснулась подушечками пальцев к серым железным дверцам. Потом второй рукой. Прислонилась плечом, ухом к ледяной перламутровой поверхности.
Замерла будто прислушиваясь. Или не будто?
Безмолвие просачивалось из шахты лифта сквозь щель между дверцами.
Она, затаив дыхание, слушала. И у неё было ощущение, что кто-то, затаив дыхание, слушает с той стороны.
Она убрала занемевшее ухо. Сделала движение головой ОТ.
ОТстранилась. Подушечки пальцев правой руки покинули холодную серую дверцу. Подушечки пальцев левой руки последовали за всем остальным.
Она сделала шаг назад.
И пошла пешком.
Не думая.
Как робот, размеренно ступая по ступенькам.
С первого на шестой.
Концы её тёмно-синего халата, торчащего из под куртки, касались широких бетонных ступеней.
Она этого не замечала.
Переставляла ноги.
В какой-то момент ей показалось, что она не поднимается.
Опускается.
Вниз.
Остановилась.
Поняла, что находится на площадке своего этажа. Почувствовала себя невероятно уставшей. Сунула руку в карман, нащупала ключи от входной двери.
Она бросает куртку на пол в прихожей. Там же валяются смятые джинсы. Один ботинок застрял в штанине, другой — лежит почти у порога кухни. Она входит в зал, где всё ещё бесшумно мерцает серым пустым каналом экран её большого телевизора.
Она видит на низком журнальном столике кухонную пьезозажигалку. Нажала на кнопку — на конце длинного тонкого ствола имитирующего пистолетный — загорается маленький огонёк.
Она берёт эту зажигалку с фиолетовой пластиковой рукоятью и подносит к толстой, оплавившейся наполовину, свече. И к следующей. И к той, что с ней рядом. И к тем — на полочке с дисками…
Она по неправильному овалу обходит всю комнату, зажигая потухшие свечи. Она никак не может вспомнить тот момент, когда она успела их задуть… И не вспоминает дальше…
Наконец все зажжены… Зачем?
Она оглядывает комнату: в мягкий и тёплый оттенок, который дают свечи, вклинивается безжизненный, бледный поток из экрана. Вносит ноты телехолода в цветовую гамму.
В (такое ощущение) саму температуру, в помещении.
Она зябко поводит плечами и, сунув зажигалку в карман, плотнее запахивает свой халат.
Ищет глазами пульт от ТВ.
Видит его — рядом с диваном.
На полу.
Возле позавчерашней газеты.
Чувствуя себя старше лет на сто, она предпринимает путешествие от последней зажжённой свечи до кнопки «выкл». Тяжело ступая по прохладному ковровому покрытию и чувствуя, как каждый шаг гулом отдаётся в железобетонном межэтажном перекрытии. Всем весом, всей ступнёй: топ. Топ. Шаг правой. Шаг левой. Правой. Левой.
Халат шуршит по ворсу цвета свежей сгущёнки:
Шшшк, Шшшк, Шшшк.
Стоп.
Почувствовала: на что-то наступила.
На что-то маленькое.
на что-то маленькое и холодное.
Обнажённая сенсорная кожа между тем местом, которым ходят «на цыпочках», и грубым участком кожи на пятке определила — что-то ещё холоднее синтетического ковра.
Маленькое и холодное.
Она отставила ногу и, ощущая себя ещё на сто пятьдесят лет старше, наклонилась к полу.
Маленькое, холодное, блестящее.
Она почувствовала лёгкую пульсацию в висках. Это кровь из-за неудобной позы прилила к голове.
Блестящее жёлтым металлом.
Колечко.
Маленькое, холодное, блестящее жёлтым металлом.
Она ощутила его температуру, прикоснувшись к нему кончиками пальцев — теми, которые прямо перед
Ногтями.
Его лучше подцепить ногтями.
Лучше???
Теми же самыми пальцами, которыми недавно бралась за мочку чужого уха.
Теми же самыми ногтями, которыми эти пальцы заканчиваются, — она взяла это кольцо толщиной с десятикопеечную монету и поднесла его к глазам.
Глазам, краями которых заметила бегущие огоньки свечей.
Свечей окружающих её неровным овалом.
Огоньки свечей бегущие ОТ.
Она смотрела на маленькое золотое колечко и боковым зрением наблюдала тающий справа и слева от неё огненный серп. Видимую ей половину неровного овала.
Она подумала, что у резко потушенного воска и стеарина, из которого сделано тело свечи, — очень специфический, узнаваемый запах.
кхххк
Она поняла, что с помощью этой мысли пытается отвлечь себя.
Она поняла, что не может отовать взгляд от кольца. Что она вцепилась в него глазами в надежде и
кхххк
Ужасе.
Что луковицы, сбритых на ногах волос, шевелятся, вставая дыбом.
Что кутикулы вокруг ороговевшего эпидермиса, из которого состоят её ногти, — начинают отслаиваться.
Что её анус вжался так, что она его не чувствует.
кхххк
Что она стоит задом к
Что резь ниже живота почти уже
Что позади неё есть…
— Есть.
Она описалась.
— Есть ещё серёжки.
Описалась как…
— С красными камешками.
Как…
— Хочешь, Юля?
Она выпрямилась.
Чувствуя, как иней осел на её спине, плечах и шее.
Как этот голос взял её за мочки ушей и пригвоздил к застывшему в лёд пространству, и она, чувствуя тёплую влагу на ляжках,
обернулась.
— После того, как порежешь лимон, Юленька, нож нужно тщательно вымыть. Иначе лимоны съедают металл, из которого ножи сделаны. Тебе ясно, Юля?
Она обернулась.
Женщина в клетчатом платье с белым воротничком и в красном переднике нарезала лимоны в экране её телевизора.
— Тщательно, Юля. Иначе лимон съест металл, из которого нож сделан.
Когда-то эта женщина так же улыбалась в фотообъектив, сидя рядом со своей семьёй. У них была традиция такая — раз в полгода они
I LOVE MY HOME белым на красном.
Я не Юля.
Женщина в маске человека, лицо которого поменяло цвет и распухло. Человека, чьи черты изменились так, как это обычно бывает в таких случаях. Женщина в маске человека, почерневшего от водки. Женщина, глаза которой выгорели от количества выпитого.
Женщина улыбалась.
— Я не Юля! — прокричала, стуча зубами от ужаса. — Я не Юля!
Лимоны, пожирающие ножи. Зубами, крепче, чем нержавейка. Зубами, на которых армированная сталь клинков хрустит как стекло.
Я! НЕ! ЮЛЯ!
Мелкое хрупкое стекло. Неровные осколки — такие бывают, если плоскогубцами (КХХХК!
взломать тонкое тело градусника. Стекло. Непрозрачное толстое стекло, из которого флакон объёмом со спичечный коробок. Чтобы наполнить его до горлышка, нужно почти полтора месяца.
Я! НЕ! ЮЛЯ!
— Марина! Что это? Травы Прованса? Или куркума?
Этот голос живёт только там — в блестящей дверце шведского аппарата по производству холода. Холодильника, который может быть братом. Братом девушке по имени
— Марина! Что это?!
Тонкий и очень высокий скрип отполированного, как зеркало, металла, и в сверкающей дверце холодильника отразилась вспышка молнии: какой-то металлический предмет поймал отблеск потолочного светильника заполсекунды до встречи со звуком, при воспоминании о котором судорога раз за разом скручивает мышцы спины, проскакивая от копчика к лопаткам, и спустя полсекунды:
— МАРИНА!!! ЧТО ЭТО???
Из полной тишины в ультразвук вопль Боли и Ужаса. Вой сбитой на скорости сто семьдесят километров в час собаки. Вой существа, в теле которого не осталось ни одной целой кости:
Я! НЕ! МАРИНА! Я! АЛЁНА!
— Нееет… Алёна — это я. Я — Алёна…
Этот голос живёт только ТАМ — в декабрьском позднем вечере на станции РЭП 4. Он живёт ТАМ. Он должен быть ТАМ.
Но он — Здесь.
Как он звучит?
А как он должен звучать после одиннадцати ударов тяжёлым стальным ломом, таким холодным, что к нему примерзают отпечатки пальцев.
Пальцев, которыми тысячу лет назад бралась за мочку чужого уха. Ногтями, которыми эти пальцы заканчиваются разрывать упаковки медикаментов. Расцарапывать фольгу и рвать зубами пластик. Выдавливать таблетки в ладонь. В линии ума, сердца, жизни. В которых торчат мелкие осколки, хрупкие обломки треснувшего от приложенного усилия. Отправлять пилюли в рейс Пищевод — Космос. Бежать в состояние, у которого есть пограничники. Они пропускают Отсюда — Туда? Или Оттуда — Сюда?
Бежать Отсюда, в котором
МОЛЬ.
Огромная МОЛЬ, застывшая во времени.
МОЛЬ, режущая своими крыльями неподвижное пространство, несущая его и одновременно вязнущая в нём же.
(юка)
МОЛЬ, замершая на месте и двигающаяся в один и тот же момент. Сквозь крошево битых кулаками матери зеркал и ртутную пыль.
(ЮКА)
Отсюда — Туда. В Состояние, у которого есть Пограничники.
— Юка?
Этот голос живёт только ТАМ. За смешной занавеской. Там — самая тёплая комната дома зимой. Потому что за печкой.
— Юка?
Прежде чем заснуть, она всегда слышала, как этот голос желал ей Спокойной Ночи. И Ночь после этого всегда была Спокойной.
— Юка?
— Да, Ба…
— Ты где, Моя девочка?
— Я здесь, Ба…
— Иди сюда.
Шуршит в темноте смешная занавеска.
— Ты что, плакала?
— Да… Я боюсь, Ба…
— Моё Сердечко… Иди я Тебя обниму… Иди?.. Ну?..
И Я, наконец, обнимаю Её.
Эту маленькую девочку, которой шёпотом подсказывало буковки под яркими картинками, летящими из маленького круглого окошка в волшебном ящике с незапоминающимся названием.
Я заключаю Её в объятия.
Я дарю Ей Тепло.
Я пришло к Ней во сне. Я последовало за Ней.
Однажды Я заснуло вместе с Ней и уже не захотело просыпаться.
Ей снился хороший сон.
Потому что, когда улыбаются во сне — значит, снится хорошее.
А она улыбалась.
Я помню это.



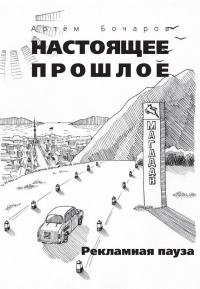


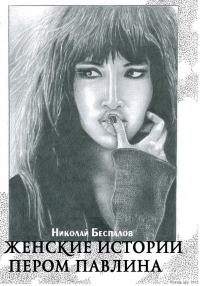





Комментарии к книге «Любовь Стратегического Назначения», Олег Гладов
Всего 0 комментариев