Моасир Скляр Леопарды Кафки
Леопарды врываются в храм и выпивают до дна содержимое жертвенных чаш; так случается каждый раз; в конце концов появление их становится предсказуемым и превращается в часть ритуала.
Франц КафкаСекретное Донесение 125/65
Господин комиссар, настоящим довожу до Вашего сведения, что в ночь с 24 на 25 ноября 1965 года на одной из центральных улиц Порту-Алегри нами задержан подрывной элемент Жайми Кантарович, подпольная кличка Контейнер. Данный элемент, известный университетский активист, в течение двух месяцев находился под наблюдением наших агентов. Около 21 часа Жайми Кантарович, подпольная кличка Контейнер, отправился на квартиру к своей подружке Беатрис Гонсалвис. Другие элементы, общим числом шесть, явились в то же помещение по одному или парами, очевидно, на конспиративное совещание. В 23 часа 30 минут элементы покинули помещение, при этом агент Робервал объявил им, что они задержаны. Семь элементов, в том числе Беатрис Гонсалвис, сумели скрыться бегством, но элемент Жайми Кантарович, так как он при ходьбе подволакивает ногу, бежать не смог. По задержании он был доставлен в Отдел спецопераций, где и был допрошен. При этом применялись такие средства, как электрошок, в ходе чего ток отключался дважды по следующим причинам: 1) неоднократные обмороки элемента Жайми Кантаровича; 2) отсутствие напряжения в сети. Таким образом, допрос не был доведен до конца. Элемент Жайми Кантарович, подпольная кличка Контейнер, несколько раз повторил, что целью сходки было обсуждение литературных произведений и распитие мате. В квартире действительно был обнаружен еще теплый сосуд из тыквы для распития мате и несколько книг, что не отменяет версии о подрывном характере собрания. Элемент Жайми Кантарович, подпольная кличка Контейнер, подвергся досмотру. В его карманах обнаружено: 1) несколько банкнот и монет; 2) грязный и рваный платок; 3) огрызок карандаша; 4) две таблетки аспирина; 5) аккуратно сложенный листок со следующим машинописным текстом на немецком языке:
Leoparden in Tempel
Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opfrekrüge leer; das wiederholt sich immer wieder; schlieslich kann man es vorausberechnen, und es wird ein Teil der Zeremonie.
Под текстом стоит подпись некого Франца Кафки.
Бумага имеет желтоватый оттенок, с виду она достаточно старая. Однако мы полагаем, что это маскировочный трюк, а на самом деле речь идет о сообщении, возможно, шифрованном. В настоящее время мы ждем затребованного нами в срочном порядке перевода текста на португальский язык для более точной оценки. После получения требуемого перевода мы продолжим на его основе дознание в отношении элемента Жайми Кантаровича, подпольная кличка Контейнер, на этот раз делая акцент на его связях с международными подрывными организациями.
Когда открыли архивы спецслужб, работавших в Бразилии после переворота 1964 года, всплыло множество документов, среди них — приведенное выше секретное донесение, копию которого я храню.
Жайми Кантарович, награжденный одним своим приятелем из Рио кличкой Контейнер, приходился мне двоюродным братом. Мы никогда не были близки, но я всегда любил и очень уважал его. Донесение связано с одной невероятной историей, в которой был замешан и сам Жайми, и наш двоюродный дедушка Беньямин Кантарович, и… Франц Кафка.
* * *
Начнем с Беньямина, чью фотографию я как раз сейчас рассматриваю в нашем старом семейном альбоме. Точно такая же, но сильно выцветшая фотография — на его могильной плите на еврейском кладбище. Вид на портрете у дядюшки (так мы его называли) очень испуганный, какой всегда был у него в жизни. Прозвище его было — Мышонок (не подпольная кличка, а самое настоящее прозвище): черноглазый, лопоухий — вылитый мелкий грызун. И не тот веселый Микки-Маус из детских книжек, а как раз наоборот: меланхолический одинокий мышь, не высовывающий носу из норки. В отличие от своего брата, нашего родного дедушки, женившегося и ставшего отцом четверых детей, Беньямин не обзавелся семьей; подозреваю, что у него и девушки-то никогда не было, а отношения с женщинами ограничивались визитами к проституткам с улицы Волунтариус-да-Патрия. Девицы хорошо его знали и обслуживали по льготной цене. Он был бедным, наш Мышонок. Прекрасный портной, он мог бы заработать своим ремеслом много денег, но не сложилось. В первую очередь, потому, что традиционное портняжное дело довольно быстро вытеснялось массовым пошивом, так что с годами клиентов становилось все меньше и меньше, хотя среди них были известные в Порту-Алегри личности: журналисты, политики, футболисты, комиссары полиции. Ну а во-вторых, с возрастом Мышонок стал развивать теорию костюма в довольно своеобразном направлении. Он утверждал, к примеру, что левый рукав должен быть короче правого («Так человеку легче смотреть на часы»), и шил пиджаки в соответствии с этой идеей, что, разумеется, расстраивало, а то и злило многих клиентов. Он, однако, не желал прислушиваться к протестам, клеймил недовольных «ретроградами» и «реакционерами». Надо шагать в ногу со временем, ведь поступь времени — это поступь прогресса. В его риторике слышались отголоски былых левых взглядов, давнего увлечения троцкизмом. Но политикой Мышонок давно уже не интересовался, во всяком случае, той, что заполняет все газеты. Жизнь его вообще была довольно однообразна: из дома — в портняжную мастерскую, из мастерской — домой, в бедно обставленную, забитую книгами квартирку. Мышонок много читал, причем все подряд, от беллетристики до философских трудов. Жизнь его, собственно, и сводилась к работе и чтению. Ни вечеринок, ни театров. Даже телевизор он не смотрел: считал это идиотским времяпрепровождением. Брат и невестка тревожились: им хотелось, чтобы он знакомился с кем-то, дружил, женился, наконец. Что может быть важнее для человека, чем семья? Мышонок, понятно, был далеко не привлекателен, и чем старше он становился, тем быстрее таяли его шансы на брак, но хорошая сваха — чем черт не шутит — могла бы его познакомить с девушкой, пусть даже со старой девой, скорее всего со старой девой. Да вот только Мышонок был совершенно не расположен жениться. Он цеплялся за свой привычный монотонный уклад и не хотел от него отказываться. Когда ему исполнилось шестьдесят пять, мой старший брат устроил для него праздник-сюрприз, к которому мы несколько дней готовились. Как сейчас помню этот злополучный вечер. Мы все — и племянники, и внучатые племянники — собрались у него, надели маски Микки-Мауса и приготовили транспарант: «С днем рождения, Мышонок!» Около восьми дверь отворилась и Мышонок вошел. Реакция его была странной. Сначала он до смерти перепугался, думая, что к нему вломились грабители, а когда понял, что это сюрприз, пришел в бешенство: кретины, вы что себе думаете! В конце концов нам удалось его успокоить, но вытащить в ресторан, как мы собирались, не вышло. Чего тут праздновать, ворчал он, кто я такой, что я такого ценного совершил?
Однако не все и не всегда так уныло складывалось в его жизни: случилось с ним одно невероятное приключение. Приключение, память о котором дядюшка хранил с юности и которое на склоне его лет обрело удивительную развязку. Об этом приключении Мышонок много рассказывал в доме престарелых, где я, молодой врач, наблюдал его. Давно это было, но история помнится мне до сих пор.
Семья Кантаровичей происходила из Бессарабии, области, за которую шла вечная тяжба у России с Румынией. Жили они в маленькой деревушке Черновицкое, километрах в восьмидесяти от Одессы. Собственно, не в деревушке, а в бедном еврейском местечке, таком же точно, как все бедные еврейские местечки Восточной Европы с вечно перепуганным населением, ожидавшим погромов. Стоило случиться кризису, как евреи становились козлами отпущения, а уж кризисов в царской России хватало.
Мой прадедушка, отец Мышонка, был портным. Хорошим портным, но того, что он зарабатывал, едва хватало на семью: если бы не несколько состоятельных русских клиентов, и вовсе бы голодать пришлось. Прадед надеялся, что дети выберут профессии более денежные. Из Беньямина, считал он, вышел бы прекрасный раввин. Выбор вполне разумный — раввины были людьми уважаемыми и даже в самые тяжелые времена на прокорм себе зарабатывали — и не безосновательный: мальчишка любил читать, умом был не обижен. Оставалось только завершить религиозное образование.
Но Беньямин раввином быть не желал. И если даже когда-то и подумывал об этом, решение было не его, а отцовское, и он, естественно, отметал его с порога. Мышонок был строптив, ссорился буквально со всеми: с родителями, с соседями. Ростом не вышел, зато гонору до небес, вздыхала мать, которой никак не удавалось вразумить сына.
Со временем бунтарство Мышонка обрело конкретную цель: он все чаще сталкивался с несправедливостью, которую терпели в окружающем его мире не одни евреи. В том, 1916-м, году Россию раздирали социальные, политические, этнические противоречия, нищета и бесправие народа достигли в стране немыслимых масштабов. Революция, твердили все, — вопрос времени, коммунисты готовились взять власть.
До Черновицкого эти вести дошли не сразу, но дошли и тут же отозвались самым непосредственным образом. В местечке была группа юных идеалистов, собиравшихся тайком и обсуждавших труды Маркса и Энгельса. Руководил группой Ёся, сын резника.
Мышонок был Ёсин друг. Нет, не так: Мышонок боготворил Ёсю. Высокий черноглазый красавец с густой шевелюрой был для него идеалом. Слушал его Мышонок с замиранием сердца, впитывая каждое слово. Ёся говорил о лучшем мире, о мире без богатых и бедных, без угнетателей и угнетенных. О мире без войн и несправедливости. О мире, где никого не будут преследовать, где евреи получат равные со всеми права.
Когда Мышонку исполнилось девятнадцать лет, Ёся подарил ему «Коммунистический манифест» на идише. Стоит ли говорить, что текст этот стал для Беньямина тем же, чем Тора для верующего. Он читал его ежедневно, мог цитировать наизусть. И делал это при всем честном народе: на базаре, даже в синагоге, повторяя, что классовая борьба — единственная форма социального прогресса. Надо, чтобы кровь пролилась, вещал он, только тогда в мире воцарится социальная справедливость.
Некоторых его энтузиазм забавлял. Отца — нет. Мысль о революции пугала бедного портного: молчи, молчи! Полиция тебя услышит, узнаешь, где раки зимуют! Ривка, мать Мышонка, женщина смелая, но весьма скептически настроенная, не принимала революционные настроения сына всерьез. Болтать он горазд, утверждала она, да только все из пустого в порожнее. Ей казалось, что Мышонок и мухи не обидит, куда уж ему участвовать в кровавом перевороте! И это ее нисколько не огорчало: ей вовсе не хотелось, чтобы сын влип в историю.
Ёся и его команда не состояли ни в какой политической партии. Что было объяснимо, если вспомнить, в какой глуши они жили. Объяснимо, но обидно. Ёся жаждал наладить связь с коммунистами. Ему хотелось превратить группу в действующую ячейку, готовую участвовать в революции, которая, как он был уверен, вот-вот вспыхнет. И главной путеводной звездой был для него образ Троцкого.
Ёся знал о Троцком все. Знал, что его настоящее имя — Лев Давыдович Бронштейн, что учился он в Одессе — выходит, совсем рядом, — что был связан с Лениным, что писал статьи и книги. Ёся никогда не видел Троцкого, ведь тот уже несколько лет жил в изгнании, но мечтал когда-нибудь с ним встретиться. На самом деле он спал и видел, как бы стать соратником великого лидера.
Мышонок спал и видел то же самое. Да, он тоже хотел стать коммунистом, он тоже хотел сражаться бок о бок с Троцким в том последнем и решительном бою, о котором написано в гимне «Интернационал» (друзья знали только слова этой песни: они ее никогда не слышали, так что музыку приходилось домысливать самим), в бою за будущее человечества. Имя Троцкого к тому времени уже стало легендарным везде, включая Черновицкое. Все знали, что это вождь революционеров и что он собирается свергнуть правительство. Одних это пугало, других, наоборот, обнадеживало («Если дело с революцией выгорит, Троцкий неплохо устроится»). Для Мышонка речь шла совершенно не об этом. Речь шла о Революции с большой буквы Р, речь шла о том, чтобы изменить мир. И Мышонок мечтал оказаться в авангарде этого процесса. Он делился своими мечтами с Ёсей, который, однако, выслушивал его излияния с подозрительной сдержанностью. Не знаю, созрел ли ты для этого, говорил он.
Созрел ли? А что это значит? Мышонок считал себя достаточно взрослым, чтобы участвовать в революции; к тому же скоро царское правительство должно было призвать его на воинскую службу, и перспектива эта вызывала у Мышонка отвращение. Лучше умереть, чем служить ненавистному режиму. Слова, слова, ронял Ёся и добавлял: мало говорить, товарищ, надо действовать. Как действовать, спрашивал Мышонок. Увидишь, загадочно изрекал Ёся.
В один прекрасный день он исчез. Пропал, никого не предупредив. Родители ударились в панику, односельчане не знали, что и думать. Боялись, что его похитили бандиты и — мало ли, — может, и убили. В те суровые времена такое случалось нередко. Мышонок между тем был уверен, что таинственное исчезновение Ёси как-то связано с делом революции.
Так и оказалось. Ёся вернулся две недели спустя. Родителям что-то наплел, сказал, что ездил в соседнее местечко в гости к друзьям, но, когда Мышонок приступил к нему с настойчивыми расспросами, не смог сдержаться и признался, сверкая глазами и с дрожью в голосе:
— Я был у Троцкого.
Первой реакцией Мышонка было изумление. Потом изумление сменилось завистью, безграничной, пожирающей завистью, завистью, от которой он впал в тоску и которую не смог скрыть. С болью в сердце слушал он рассказ своего друга, рассказ о настоящей одиссее. Ёся все задумал сам, ни с кем не посоветовавшись. Он отправился к Троцкому в Париж, в сам Париж, в Город Света, подмостки, на которых разворачивалась драма Революции 1789 года, в город, повидавший столько славных сражений, в центр интеллектуальной жизни Европы. Троцкий, изгнанник, преследуемый полицией нескольких европейских стран, приехал туда в поисках единомышленников. Ёся, зная об этом, отправился в Одессу, где пробрался — тайком, конечно, — на корабль, идущий в Марсель; в Марселе сел на поезд до Парижа. Там наконец, с помощью одного родственника, он нашел Троцкого, который принял его в маленькой квартирке в одном из предместий, где устроил себе штаб. Ёся, волнуясь, поведал о впечатлении, которое произвел на него Троцкий: маленький, худощавый, растрепанный, с бородкой и пронизывающим взором:
— Он спросил, чего я хочу, я ответил: товарищ Троцкий, я вами восхищаюсь, я прочел все, что вы написали, хочу быть коммунистом, бороться вместе с вами.
— А он?
— Он меня выслушал и ничего не сказал. Смотрел несколько минут молча. А потом задал очень странный вопрос. Спросил, почему бы мне не стать раввином: хорошая, мол, профессия, как раз для тех, кто любит читать, учиться…
— Как это? — Мышонок ничего не понимал. Великий революционер предлагал Ёсе стать раввином? Ёся покровительственно улыбнулся.
— На самом деле он меня испытывал, проверял, насколько я предан революции. И я испытание выдержал. Я ответил, что религия — опиум для народа, что мой долг бороться за освобождение трудящихся, что я за революцию, которую он вместе с Лениным готовит. Ему мой ответ понравился, но он сказал, что слов — мало, надо оценить, каков я в деле. Мне только этого и надо, сказал я, дайте задание, товарищ Троцкий, и я его выполню, даже ценой жизни, если придется.
Он на секунду умолк. Потом поднял на Мышонка полные слез глаза.
— И он дал мне задание, Беньямин. Троцкий дал мне особое задание. Далеко отсюда — в Праге. Если у меня все получится, меня примут в Партию. Он обещал. Думаю, я даже займу важный пост.
Что за задание, Ёся рассказать не мог. Как ни уговаривал его Мышонок, друг оставался неколебим. Это секретное задание, повторял он, о нем никому нельзя рассказывать. Даже друзьям.
— Но в результате всем нам будет польза, — добавил он в утешение. — Я ведь не забыл о нашей группе, Беньямин. Первым делом я создам партийную ячейку здесь, в Черновицком. У меня уже и название готово: ячейка имени Льва Троцкого.
Ячейке имени Льва Троцкого возникнуть было не суждено. Через два дня после этого разговора Ёся заболел. Тяжело заболел: жар, рвота, даже бред временами. Бедные родители не знали, что делать. Выписали доктора из Одессы, для чего пришлось расстаться со всеми сбережениями, но толку никакого: доктор даже диагноза не смог поставить, но прогноз по его мнению был самый мрачный. Он велел родным готовиться к худшему.
В тот же вечер Ёся попросил, чтобы к нему привели Мышонка. Когда друг вошел в комнату, больной велел всем выйти: нам надо остаться одним, сказал он, задыхаясь. Озадаченные и печальные, родители и родственники удалились.
Как только закрылась дверь, Ёся подал знак, чтобы Мышонок подошел поближе, сжал его руку своими потными ладонями и, глядя ему прямо в глаза, прошептал:
— Я должен попросить тебя об одной вещи, товарищ Беньямин, об одной очень важной вещи.
— Я слушаю тебя, Иосиф, — голос у Мышонка дрожал от волнения. — Проси. Я все сделаю, чего бы это ни стоило.
— Задание, — сказал Ёся, — задание, которое дал мне Троцкий. Ты его выполнишь за меня.
— Глупости, — начал Мышонок, чуть не плача, — ты выздоровеешь, ты сам сделаешь то, что поручил тебе Троцкий, все будет хорошо.
Ёся жестом остановил его:
— Зря врешь. Я знаю, дело мое плохо… Послушай. Ты должен поехать в Прагу. Приедешь и остановишься в гостинице «Терминус»: там заказан номер на мое имя. Потом найдешь человека… Погоди. Возьми книгу, она там на столе. Внутри — деньги, билет на поезд, инструкция, документы. И конверт.
Мышонок взял книгу. «Коммунистический манифест», конечно же. Инструкция оказалась подробнейшей, с точным объяснением, как добраться до Праги. Конверт был запечатан.
— В этом конверте — имя человека, которого ты должен найти, и телефон. Не знаю, кто это, никогда о нем раньше не слышал. Знаю, что он еврей, как и мы. Кажется, писатель… Ладно, это не важно. Как приедешь, позвонишь по телефону и скажешь: «Мне поручено забрать текст». Только это. Понял? «Мне поручено забрать текст». Это пароль.
Он замолчал, чтобы перевести дух, потом продолжил:
— Он передаст тебе шифровку. Ключ к шифру — в конверте. Это листок точно того же размера, как тот, который ты получишь в Праге. На этом втором листке вырезаны отверстия и написаны отдельные слова. Когда ты наложишь этот листок на первый, слова, которые окажутся в вырезанных отверстиях рядом с написанными словами и составят настоящий текст, в котором будет указана твоя цель. Это название места. Может, банк, может, завод — я не знаю, да сейчас это и не имеет значения: когда ты узнаешь, где цель, кто-то выйдет с тобой на связь и скажет, что ты должен в этом месте сделать. Так вот: это все срочно, потому что Троцкий уезжает из Франции, кажется, в Америку. Так что отправляться надо немедленно. Завтра вечером — самое позднее. Ты это сделаешь, товарищ Беньямин? Сделаешь это ради меня? И ради общего дела?
Заливаясь слезами, Мышонок обещал все сделать, заверил, что Ёся может на него целиком положиться. От Ёси он тут же побежал домой. Как дела у Ёси, спросил отец. Ничего не ответив, Мышонок заперся в спальне и, рыдая, бросился на кровать.
В конце концов он успокоился. Сидя на кровати с книгой в руке, пытался как-то привести мысли в порядок. Что делать? С одной стороны, хотелось остаться рядом с больным другом, с другой, было задание, о котором рассказал Ёся, какое-то непонятное поручение, такое таинственное, что можно было отнести его на счет жара и бреда. Но документы, билеты, конверт доказывали, что это вовсе не бред.
По словам Ёси, задание было непростое, совсем непростое. Для начала надо сказать, что Мышонок никогда не выезжал из Черновицкого, а теперь предстояло отправиться куда-то в незнакомый заграничный город, где все чужое. С языком, скорее всего, проблем не будет: можно объясниться по-немецки, ведь он сносно на нем говорил, научился от отцовского друга (да это было совсем не трудно: идиш — диалект немецкого). Но вот сама поездка представляла значительные трудности. Ведь шла война, в которой Англия, Франция и Россия противостояли Германии и Австро-Венгерской империи, в состав которой входила Богемия и ее столица Прага. На самом деле, тот, кто разрабатывал инструкцию, был в курсе ситуации, поэтому подробнейшим образом описал маршрут и указал, как обойти воинские посты.
Все в точности отвечало критериям революционной борьбы. Ведь не бывает революционной борьбы без риска. Мышонок был уверен, что речь идет о какой-то важной операции, возможно, об акте революционного террора… В общем, о деле, на котором можно проверить надежность кандидата на вступление в партию. Насилие, говорил Троцкий, — а Ёся постоянно повторял это за ним — полностью оправдано как форма самообороны рабочего класса. Мышонок был согласен. Теоретически. На практике он никогда не держал в руках огнестрельного оружия. Честно говоря, он даже не знал, как выглядит револьвер. Самым опасным предметом, с которым ему приходилось иметь дело, был хлебный нож (он им, кстати, раза два-три порезался).
В дверь постучали. Мать звала его ужинать. Не хочу, сказал Беньямин, я не голоден. Она настаивала: идем, сынок, поешь чего-нибудь, я знаю, что ты огорчен из-за Ёси, но питаться-то надо.
Она так его уговаривала, что Беньямин в конце концов вышел, сел за стол, но съесть так ничего и не съел: кусок не лез ему в горло. Отец, братья и сестры смотрели на него в тревоге, но ничего не говорили. В конце концов он встал из-за стола. Извините, но мне что-то нехорошо.
Он зашел в спальню, разделся, лег. Сна, разумеется, не было ни в одном глазу. Ехать или не ехать — вот в чем вопрос. Выполнить задание и при этом покинуть друга или пренебречь заданием, но остаться рядом с ним? Терзаемый сомнениями, он вспомнил одну историю, которую рассказывал ему отец, историю о диббуке, о душе покойника, которая никак не могла успокоиться из-за невыполненного при жизни обещания жениться. Вселившись в тело возлюбленной, ставшей женой другого, диббук отчаянно сопротивлялся попыткам изгнать его, крича Ich guei nicht arois, я не уйду. Мышонок всегда считал такие вещи глупостями, но сейчас почему-то рассказ никак не выходил у него из головы. Когда он наконец уснул, ему приснился очень тревожный сон. Снилось, что Ёся умер, и его дух вселился в него, в Мышонка. Одержимый этим диббуком, он носился по улицам местечка, но выкрикивал не еврейские проклятия, а коммунистический лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Проснулся он дрожа и плохо соображая. В другое время сон показался бы ему бессмыслицей, навеянной глупым еврейским суеверием, но теперь он видел в этом сне явное послание: на нем лежит долг перед Ёсей. И надо этот долг немедленно исполнить. Он встал, глянул на старые ходики: три часа ночи. Все спали: и отец с матерью, и братья, и сестры. Он тихо оделся, положил несколько смен белья в старый картонный семейный чемодан, взял сумку, положил в нее конверт с адресом писателя вместе со своим экземпляром «Манифеста», отворил дверь и вышел.
Стараясь не шуметь, он прошел по улочкам спящего местечка и вскоре оказался на дороге, ведущей к границе. Шел он быстро, но нос и уши занемели от холода. Вдруг в густом тумане вспыхнуло яркое пятно восходящего солнца, и зрелище это наполнило душу Беньямина безудержным ликованием. Будто рухнули все преграды, будто разом порвались связи с прошлым, исчезли парализующие страхи. Я сумел, кричал он, я выполню задание!
Но рано было радоваться. Путешествие только начиналось, долгое и утомительное путешествие. Крестьянин, спешивший на ярмарку в соседнее село, подвез его на подводе, но остальной путь предстояло проделать пешком. Глубокой ночью подошел он наконец к реке, по которой проходила граница.
Здесь он знал, что делать. Всякий житель Черновицкого знал. В случае чего, каждый готов был бежать из местечка и из страны. Всем было известно, что на реке лодочники за мзду нелегально перевозят беглецов на другой берег. В то тревожное время это стало делом обычным: евреи массово покидали Россию.
Мышонок брел по песчаному берегу, пока не увидел костер. Это и были перевозчики. Двое. Поджидали потенциальных эмигрантов. Неприятные, злобные с виду типы, чего, впрочем, и следовало ожидать. Мышонку, однако, выбирать не приходилось. Он глубоко вздохнул и, подойдя к ним, сказал, что ему надо на тот берег, спросил о цене. Лодочники переглянулись, и один из них назвал цену. Она оказалась немаленькой, но торговаться явно не стоило. Мышонок спросил, где лодка.
— Деньги вперед, — сказал тот, что собирался его везти.
Мышонок вытащил пачку денег из кармана и, под пристальным взглядом обоих лодочников, отсчитал банкноты и передал их перевозчику. Иди за мной, сказал тот. Они дошли до берега. Там в камышах была спрятана лодка. Беньямин не без труда влез в нее. Перевозчик сел на другое сиденье, взялся за весла и отчалил. Лодка двигалась сквозь туман, оба молчали. Лодочник не сводил глаз с Беньямина, тот нервничал и отводил взгляд.
Вдруг мужик бросил весла.
— Что случилось? — встревожился Беньямин.
— Как что? — нагло осклабился лодочник. — Мне уже и отдохнуть нельзя? Я, выходит, должен убиться на веслах, только потому, что ты мне заплатил?
— Но течение, — заметил Беньямин, в испуге глядя на реку, — течение сносит нас!
— И то, — лодочник зловеще усмехнулся. — Течение здесь сильное. Кто его знает, куда нас занесет… Может, в лагерь к царским солдатам? Кто его знает. Течение — вещь капризная.
Беньямин был на грани паники. Он не понимал, чего этот человек хочет от него, понятно только было, что ничего хорошего. Так и оказалось:
— Мы еще можем добраться до того берега. Знаешь, сколько осталось? Знаешь? Деньжат подбросишь, и все. Я продешевил, парень. Думаю, для восстановления сил понадобится еще несколько рублей. А? Что скажешь?
Только теперь Беньямин понял: это был шантаж. Для контрабандистов, перевозивших беглецов-евреев, — обычное дело. Теперь надо было немного поторговаться, чтобы минимизировать ущерб…
Но он торговаться не стал. Лютый гнев вспыхнул в его душе. Вот она, несправедливость, о которой говорил Ёся, вот оно, угнетение: сильный подчиняет слабого, эксплуатирует его, выжимает из него последние соки. Здравый смысл подсказывал ему, что не стоит связываться: в конце концов, он в буквальном смысле в руках перевозчика, но дело тут было не в здравом смысле, речь шла о сопротивлении, может, о революции? Да, речь шла о революции, маленькой, но революции, о его собственной революции, о его личной освободительной борьбе. Побледнев, он вскочил так, что лодка сильно качнулась:
— Греби!
— Ты это что, — начал было лодочник, удивленный неожиданной реакцией тощего парнишки. Беньямин, однако, не собирался вступать в переговоры, время переговоров прошло, наступил момент истины, игра в открытую, пора было брать власть:
— Греби, я тебе сказал! Греби!
— Погоди, — запротестовал лодочник, уже не так уверенно, — это ж моя лодка, что хочу, то и…
— Греби! Греби! Греби!
Мужик уже смотрел на него с явным испугом, как удивленно и радостно отметил про себя Беньямин. В его яростном взгляде, в его сжатых кулаках лодочник увидел вспышку праведного гнева, долго сдерживаемого праведного гнева. Это был гнев человека, которому нечего терять, кроме своих цепей. Гнев того, кто готов умереть. Или убить.
Несмотря на свою напускную наглость, лодочник в глубине души был жалким человечишкой. Он наживался на перепуганных беглецах-евреях, но склонялся перед тем, за кем признавал силу. А сила, смутная, странная, в Беньямине была. Так что мужик взялся за весла и молча погнал лодку к противоположному берегу. Вылез, помог вылезти Мышонку. Прежде чем парнишка ушел, остановил его:
— Хочу тебя спросить кое о чем.
— Спрашивай, — отозвался Мышонок, снова полный недоверия: что-то этот тип опять задумал?
— Ты ведь коммунист?
Этого Беньямин не ожидал. И, как ни странно, вопрос мужика, заданный с тревогой и подозрением, наполнил его сердце радостью: он наконец получил долгожданное признание от какого-никакого, но представителя народных масс. Вот оно, крещение огнем. Он улыбнулся.
— Да, товарищ. Я коммунист. И теперь ты знаешь, как поступают коммунисты. Подумай об этом. Присоединяйся к нам, товарищ. Тебе ведь нечего терять, кроме оков, связывающих тебя с прошлым.
Лодочник смотрел на него растерянно. Явно не понимая, о чем говорит парнишка, он вздохнул, потряс головой и вернулся к лодке. Мышонок двинулся вперед.
Инструкция на всех этапах пути действовала на удивление четко, так что Мышонок скоро оказался в набитом до отказа вагоне второго класса на пути в Прагу. Война заставила сняться с места население целых поселков, беженцы, лишенные крова, странствовали по Европе, ища, где бы укрыться.
Это было парадоксальным образом на руку Беньямину. В толпе легко затеряться. На одной из остановок в вагон зашел вооруженный патруль, но солдаты делали свое дело спустя рукава: проверяли документы не у каждого пассажира. Маленький Мышонок, скорчившийся в уголке, не привлек их внимания.
Но сам он никак не мог успокоиться. Ему казалось, что все только на него и смотрят, да еще и перешептываются: это соратник Троцкого, он выполняет опасное задание. Особенно его беспокоил толстяк в темных очках, сидевший неподалеку. Отчего он в темных очках? Явно русский или немецкий секретный агент. Повернувшись лицом к Мышонку, тип сидел неподвижно, не выражая никаких чувств. Мышонок до того разнервничался, что собрался было пересесть в другой вагон, но за сто километров до Праги поезд сделал остановку на большой станции. Толстяк встал. Взяв под руку какую-то женщину, он нетвердой походкой направился к выходу, опираясь на трость. Слепой, с облегчением выдохнул Мышонок. И вдруг, от усталости и напряжения, уснул.
Тут же ему начал сниться смутный и тревожный сон. Будто он в синагоге, вокруг много народу. Раввин оборачивается к нему, но это не раввин, а Троцкий — Троцкий в молитвенном покрывале, в синагоге, с чего бы? Вдруг все, кто был в синагоге, набросились на Мышонка с криками «Мошенник! Мошенник!» и начали выталкивать его за дверь, а тем временем Троцкий с возвышения смотрел на него с упреком. Мышонок сопротивлялся, не выгоняйте меня, я с вами, я коммунист…
Он проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо. Это был контролер:
— Вставай, парень, приехали.
— Что?
Ошеломленный Мышонок не мог понять, о чем ему говорят.
— Мы в Праге. Прага! Разве ты не в Прагу ехал? Давай, выходи из вагона.
С трудом соображающий, не отошедший еще ото сна, Мышонок схватил с багажной полки чемодан и устремился к дверям. Выйдя из здания вокзала, он оказался в Праге и, застыв в изумлении, уставился на освещенный город — было десять вечера, повсюду сияли огни, — на толпу, на автомобили, на трамваи, на огромные здания. Для того, кто никогда не выезжал из родного местечка, зрелище было восхитительным и пугающим. Мышонок, разумеется, дрожал от страха, но одновременно и ликовал: получилось. Несмотря ни на что, преодолев все преграды, он добрался до цели. Теперь сомнений не было: каким бы ни оказалось задание, он с ним справится. И ему уже мечталось, как, вернувшись назад, в Черновицкое, он рапортует Ёсе: товарищ Иосиф, я оправдал оказанное мне доверие. Мало этого: он был уверен, что Ёся когда-нибудь приведет его к Троцкому и скажет с гордостью: товарищ Троцкий, это Беньямин, настоящий друг, выдающийся революционер, способный выполнить любое, даже самое трудное, партийное поручение.
«Терминус» располагался недалеко от вокзала; Мышонок пошел пешком, снег падал ему на плечи. Гостиница нашлась скоро. Это была маленькая неопрятная гостиница, с фасадом, украшенным зловещими горгульями. Вид удручающий, но Мышонок был не какой-нибудь турист, приехавший, чтобы провести отпуск с комфортом, у него было задание. Он вошел. Человек за стойкой, лысый толстяк с черной повязкой на левом глазу, глядел на него недоверчиво:
— Тебе чего? — спросил он по-немецки.
Наглый тон толстяка смутил Мышонка.
— Я только что приехал… У меня забронирован номер…
— Номер, — толстяк с явным неудовольствием открыл книгу в черной обложке. — И на чье же имя, позволь узнать?
Мышонок на мгновение замешкался:
— На Иосифа… Йозефа Перельмана.
Толстяк заглянул в книгу:
— Йозеф Перельман… Да, верно, забронирован. На неделю. Плата вперед.
Мышонок вытащил из кармана деньги, отсчитал нужную сумму и отдал толстяку. Толстяк пересчитал снова, два раза. Потом вручил Мышонку рваное полотенце и ключ:
— Третий этаж. Лестница там.
Мышонок поблагодарил и уже собрался подниматься, но толстяк подозвал его снова. Предупредить:
— Мне проблем не надо, ясно? Делай, что хочешь, я ничего не знаю.
Мышонок пришел в замешательство. Неужели толстяку что-то известно о его задании? А если известно, играет ли он во всей этой истории какую-нибудь роль? Разумеется, спрашивать ни о чем нельзя. Он взял чемодан и пошел вверх по лестнице.
Комната была маленькая, замызганная — мышь шмыгнула в норку при виде постояльца — и очень холодная. Мебели в ней было: кровать, запыленный шкафчик, умывальник, исцарапанное зеркало. Но этого вполне хватало. Мышонок, хоть и устал с дороги, решил тут же приступить к делу, найти для начала писателя.
И тут он заметил, что сумки при нем нет.
Сумки с экземпляром «Манифеста» и конвертом — той самой сумки не было. Он огляделся. Нет, сумки нигде вокруг не было. Дрожащими руками он открыл чемодан: может, он засунул треклятую сумку туда? Нет. В чемодане лежало только белье.
Он рухнул на кровать, ошарашенный, подавленный. Сумка потеряна. Первой реакцией была злость — злость на себя самого. Ты потерял сумку, несчастный, сумку потерял, идиот, кретин, буржуй сраный.
Он глубоко вздохнул. Подумал: надо держать себя в руках, главное — спокойно подумать. Надо было представить себе все свои последние шаги, пройти заново весь путь, попытаться мысленным взором увидеть то место, где он оставил сумку. Первое, что пришло в голову: стойка администратора. Он бросился вниз по лестнице. Толстяк сидел все там же, с газетой.
— Сумка! — закричал Мышонок. — Где моя сумка?
В первое мгновение толстяк ничего не понял. Не только из-за акцента, но и из-за того, что парень был вне себя. Наконец портье удалось разобрать, чего от него хочет Мышонок:
— Сумка? Нет, ты не оставлял никакой сумки. Может, в поезде забыл.
В поезде. Конечно. В поезде. Внезапно разбуженный, он выбежал сломя голову из вагона, тогда-то и забыл сумку.
Он бросился на вокзал под снегопадом, который все усиливался, повторяя шепотом: сделай так, чтобы поезд еще стоял у перрона, боже, сделай так, чтобы он еще стоял.
Промчавшись через здание вокзала, он вылетел прямо на платформу.
Никакого поезда там уже не было. Да и на платформе никого не было, кроме уборщика, подметавшего мусор. Мышонок подошел к нему, спросил о поезде.
— Поехал дальше, — не поднимая глаз ответил железнодорожник, — уже полчаса как.
— А как же моя сумка? — дрожащим голосом спросил Мышонок, чуть не плача.
Железнодорожник ничего не понял. Мышонок рассказал, что произошло. Железнодорожник почесал в затылке. Сказал, что есть отдел находок, можно там спросить, но, скорее всего, сумку не найдешь. Мышонок побежал к окошечку: нет, те, кто убирает в вагонах, сумки не находили. Девушка записала название гостиницы, но повторила то же, что сказал железнодорожник на платформе: сумка, считай, пропала:
— Тут и раньше была неразбериха, а с войной стало еще хуже.
Убитый горем, Беньямин вернулся в гостиницу.
— Нашел сумку? — с явной издевкой спросил портье.
— Нет, — пробормотал Беньямин, — не нашел.
Он поднялся по лестнице, заперся в номере, не раздеваясь, рухнул в постель и — разрыдался. Ну что он за человек? Не человек, а тридцать три несчастья: еще не приступив к заданию, уже его провалил. А Ёся рассчитывал на него. Бедный, бедный Ёся.
Он плакал и плакал, пока, устав от слез, не уснул.
Проснулся он утром, с тяжелой больной головой и голодный. Решил выйти, чтобы позавтракать и проветриться. Надо было решать, что делать. Может быть, на ходу придет какая-никакая мысль. Он спустился на первый этаж. Портье был на месте, за стойкой. Поднял глаза от газеты:
— Ну как? Сумку нашел?
Мышонок ответил, что нет. Портье посмотрел на него с явным недоверием:
— Напоминаю еще раз. Учти: номер оплачен на неделю и только на неделю. Вместе с сегодняшним у тебя шесть дней. Потом — до свиданья.
Мышонок не ответил. Он вышел на улицу, зашел в маленькое прокуренное кафе напротив гостиницы. Прожевывая черствую булку, пытался привести мысли в порядок и составить план.
Пункт номер один: нельзя терять время на поиски сумки, ведь на это уйдет не один день, а успех сомнителен.
Пункт номер два: надо найти человека, который должен передать ему задание. Он не знал его имени, но знал, что это писатель, еврей, и что он левых взглядов. Что несколько упрощало дело. Даже в таком городе, как Прага, не могло быть много людей, подходящих под это описание. Требовалась только отправная точка, кто-нибудь, кто объяснил бы ему, где искать еврейских писателей левых взглядов.
И кто бы это мог быть? До сих пор он знал только одного человека в Праге, портье «Терминуса». Может, он и знал что-нибудь; может именно в этой гостинице обыкновенно останавливались троцкисты. Но сам он явно не был троцкистом, скорее смахивал на контрреволюционную ищейку. Может, он, конечно, так здорово замаскировался, может, испытывал по поручению самого Троцкого этого приезжего еврейчика. Но мало ли что. На всякий случай, Мышонок решил не задавать портье никаких вопросов, связанных с заданием. Ведь это, кроме всего прочего, означало расписаться в своем поражении, а раньше времени этого делать не хотелось. К помощи портье он прибегнет в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все остальные возможности. Но перед этим стоит поискать другие источники информации.
Может, ассоциация писателей? Нет. Ассоциация писателей не подходит. Не явишься же туда с улицы: привет, мол, друзья, где тут у вас писатели-евреи левых взглядов? Это выглядело бы подозрительно. Нет, надо придумать что-то другое.
Он допил кофе, расплатился и вышел. Шел куда глаза глядят по узким улочкам Старого города. Когда очнулся, заметил, что место ему как будто знакомо: кое-где даже попадались вывески на еврейском языке. Это была Майзелова улица в старом пражском гетто. Он стоял напротив знаменитой Староновой синагоги, громоздкого и мрачного сооружения. Дверь была открыта. Беньямин вошел. Внутри не было ни души. Он стал разглядывать строгий интерьер, старые скамьи, шкаф, где хранились свитки Торы.
— Что вам угодно?
Он обернулся. Древний старик в черном плаще смотрел на него, смешно моргая.
— Я шамес, — представился он, — служка этой синагоги. Вам чем-нибудь помочь?
— Я просто так зашел, — ответил Мышонок на идише, что привело старика в восторг.
— Рад служить вам, — отозвался он тоже на идише. — Я сторожу синагогу и показываю ее посетителям. К нам приезжают со всего мира. Но для меня, — добавил он с гордостью, — это вовсе не проблема. Я свободно владею восемью языками: немецким, английским, французским, испанским, итальянским… — он подмигнул. — Но что я люблю, так это поболтать на идише. Язык моей матери, язык, на котором она пела мне колыбельные… Такое не забывается. Время идет, а память живет.
Он на мгновение замер, молча глядя в пространство. Потом опять обратил взгляд на посетителя.
— А вы? Откуда вы? Из России? Из Польши?
Мышонок колебался. Можно ли довериться старику? Все же решил рискнуть и сказать правду или хотя бы полуправду. Признался, что он из Черновицкого и что в Праге по делу.
Черновицкое? Да, старик знал это местечко. У него даже знакомые жили в том районе. Он предложил:
— Идем, я расскажу тебе немного об истории этой синагоги.
Он взял Мышонка под руку и вывел его на передний двор: здесь, сказал он, похоронен Голем. Объяснил, что Голем — великан, созданный из глины каббалистом равви Левом, чтобы защитить пражских евреев от антисемитов, но он восстал против своего создателя, был уничтожен и сейчас покоится здесь. Потом рассказал еще несколько историй и замолчал, видимо, ожидая чаевых.
У Беньямина денег было в обрез. Но вдруг старик поможет? И Мышонок вынул из кармана и протянул ему несколько монет. Смотритель пересчитал их, не слишком довольный — явно привык к более щедрым экскурсантам, — спрятал и спросил, чем еще может быть полезен гостю. Спросил, конечно, для проформы, но Мышонок решил использовать любой шанс. Да, ему нужна помощь: он ищет писателей-евреев (он не рискнул добавить «левых взглядов»). Не мог бы смотритель подсказать ему кого-нибудь?
— Писателей-евреев? — с любопытством переспросил старик. — Зачем тебе писатели-евреи?
— Я сам писатель, — солгал Мышонок. — Хочу обменяться с ними некоторыми соображениями.
— Хм… — старик задумался. — Писатели-евреи здесь в Праге… Я мало кого знаю. Сам понимаешь, эта публика не очень-то любит заглядывать в синагогу. Но двое заходят иногда. Двое друзей. Один — Макс Брод, обходительный такой. Другой — Франц Кафка. Довольно странный тип…
Странный. В сердце Мышонка затеплилась надежда.
— Странный? Почему вы назвали его странным?
— По разным причинам, — ответил шамес, который явно был не прочь перемыть чужие кости. — Замкнутый молодой человек, говорит мало. В семье у него проблемы: не ладит с отцом. Отец — богатый коммерсант, но человек довольно неотесанный. В общем, Кафка этот бунтует против него.
Бунтует. Вот это интересно. Вдруг он не просто бунтарь, а революционер? Да нет, наверняка он не просто бунтарь, а революционер. Только непримиримый способен изменить общество, только тот, кто не может принять его таким, как есть, только тот, кто не чувствует себя вполне удовлетворенным. И еще фамилия… Кафка — чем не фамилия для революционера? Это повторяющееся К казалось признаком решительности, упорства. Как два Т в фамилии Trotski. И там ведь тоже было это К. Все это, конечно, не более чем впечатления, но что ж еще оставалось, кроме как довериться впечатлениям?
— Где бы я мог встретиться с этим Францем Кафкой?
— Где он живет, я точно не знаю. Но слышал, что у него есть нечто вроде кабинета в старом городе. В древнем таком домишке. На улице Алхимиков, что позади замка в Градчанах.
Улица Алхимиков позади замка? Странное место для писателя-коммуниста, подумал Мышонок. Насколько он помнил, алхимики — это такие типы, которые мечтали научиться превращать всякие металлы в золото, спекулянты, словом, да еще и из худших, из тех, кто смешивает магию со спекуляцией, капитализм с мракобесием. И зачем жить рядом с замком, с этим прошлым или нынешним оплотом знати, символом неравенства?
А может быть, так и задумано? Может, в этом есть особый смысл? Может, название улицы и вид на замок для того и служат Кафке, чтобы усиливать кипение его возмущенного разума, ведь без возмущения революция невозможна.
— Ты мне тоже кажешься бунтарем, — сказал старик, словно заглядывая в самую душу Мышонка.
— Я? — Мышонок тщетно пытался скрыть смущение. — Я, самый смирный человек на свете, похож на бунтаря? Что за ерунда. Как это пришло вам в голову?
Старик улыбнулся:
— Жизнь, дружок, жизнь научила меня разбираться в людях. А ты врать не умеешь, — он подошел поближе, понизил голос. — Ты, парень, меня не обманешь. Никакой ты не писатель. Ты ввязался в скверную историю. Не знаю, в какую, но дам тебе совет: возвращайся в свое местечко и забудь о том, что привело тебя сюда. Знаешь историю о раввине, который приехал в Прагу искать сокровище?
Мышонок этой истории не знал, и старик рассказал ее. Один раввин из польского местечка увидел во сне, будто в Праге у одного из мостов зарыт клад. Сон был такой яркий, что раввин принял его за вещий. И вот он простился с семьей и отправился в Прагу. Приехал, разыскал мост, который ему приснился, и начал копать. Подошел сторож, спросил, что это он делает. Не назвавшись, раввин рассказал ему сон. Сторож рассмеялся: «Сон! Кто верит в сны? Мне вот сегодня приснилось, что под печкой в доме одного раввина из Польши зарыт клад. Представляешь, ерунда какая!» Раввин вернулся домой, стал копать под печкой, так и есть: клад!
Старик помолчал и добавил:
— Ты приехал сюда как раз для этого. Для того чтобы я сказал тебе: вернись домой, там ты найдешь ответ на все свои вопросы. Что я сейчас и делаю. Вернись домой, парень, слушай, что тебе советуют родители. Душевный покой — вот сокровище, бесценное сокровище, поверь.
Он снова помолчал.
— Ты уедешь?
— Нет, — сухо отчеканил Мышонок.
Старик вздохнул.
— Я так и знал, что ты не послушаешь моего совета. В этом ты похож на Кафку. Когда я рассказал ему историю Голема, то предупредил его: не следует создавать того, над чем у нас нет власти. А литература именно такая вещь: мы над ней не властны. Начинаешь писать, сочинять и сам не знаешь, куда тебя занесет. И вообще, зачем писать еще какие-то книги? Все самое важное есть в Торе. Тора…
— А Кафка что? — перебил Мышонок. — Что он сказал?
— Ничего. Ничего он не сказал. Что ему до меня? Я для него — старый дурак, рассказывающий всякие глупости в надежде на чаевые. Да только этот старый дурак знает побольше вашего, учтите, молодежь.
Он опять замолчал, и вид у него был явно обиженный. Потом с недовольным видом обратился опять к Мышонку:
— Кстати о сокровищах и о чаевых, ты мог бы добавить чего-нибудь мне на чай. Я на тебя потратил больше времени, чем на любого другого посетителя.
Этого Мышонок не ожидал. Но отказать у него не хватило духу. Он вытащил из кармана монетку. Старик уставился на нее с видом оскорбленного достоинства.
— И всего-то? После всех объяснений, советов?
Мышонок объяснил, что он беден, что на поездку ему едва хватило и что надо экономить то малое, что у него с собой есть.
— Вечно одна и та же песня, — произнес с кислым видом старик. — Денег у вас нет, кризис у вас, война… А я отдувайся. Но так мне и надо. Так мне и надо, дураку. Не хотел учиться, предпочел стать шамесом в этой синагоге. И знаешь, почему? Потому что всегда любил это место, любил рассказывать истории о Големе. Но истории дело не денежное. Люди слушают, слушают, а когда приходит время раскошеливаться, кроме извинений ничего не дождешься. Ты слышал о таком Фрейде?
Мышонок Фрейда не знал.
— Он слушает, слушает, рассказывает, рассказывает. Прямо как я. Но хорошо за это берет. Он, правда, доктор, а я — неуч. Но знай я себе цену, был бы уже богат. А ты как думаешь?
— Нет, я так не думаю, — раздраженно отрезал Мышонок. — И еще я не думаю, что деньги так уж важны.
Стоило ему начать, он уже не смог остановиться. Выступил, как на митинге: он, мол, не понимает тех, кто жаждет наживы в наше время, когда растет неравенство, когда богатым осталось наслаждаться считанные дни. Когда он опомнился, было поздно. Старик смотрел на него нахмурившись:
— То-то я сразу подумал, что дело не чисто, — сказал он. — Ты, должно быть, из тех сумасшедших революционеров, которые тут бродят повсюду. Вроде Гаврилы Принципа, который застрелил эрцгерцога и начал эту проклятую войну. Одного не понимаю: что тебе в синагоге-то надо? Тут тебе не сумасшедший дом. Шел бы ты отсюда.
Придя в себя, Мышонок понял, какую глупость сморозил. Зачем было спорить с безобидным стариком, который к тому же мог быть хоть немного, но полезен? С вымученной улыбкой он попросил прощения: после долгого пути он так устал, так нервничает… Так что пусть шамес простит его.
— Простить-то я прощу, мне ничего не стоит, — сказал смотритель. — Но если хочешь совета, сдерживайся. Лишнего не болтай. В ссоры не лезь.
Мышонок попрощался и вышел. На улице спросил у какой-то старой еврейки, как найти улицу Алхимиков. Радуясь, что кто-то обратился к ней на идише — тут в Праге евреи уже позабыли свой язык, — она проводила его прямо туда.
Сказать, что улица была странная — это еще ничего не сказать. Узенькая тропинка вдоль стены Старого города, к которой вплотную лепился ряд домишек с печными трубами на крышах. «Домами» эти крошечные строения можно было назвать разве что с натяжкой: двери — не выше метра шестидесяти, а само помещение за ними на вид не более шести квадратных метров. Как тут умудряется жить хоть кто-то, спрашивал себя Беньямин. Дом, где жила его семья в местечке, был, конечно, маленьким, но не до такой же степени. Кафка, должно быть, действительно странный тип.
И в каком же из этих домиков он живет? Не зная ответа, он решил постучать в первую попавшуюся дверь. Мощный здоровяк в очках с толстыми стеклами открыл и неприветливо пробурчал: что надо? Вы Франц Кафка? — спросил Мышонок. Мужчина расхохотался:
— Я? Франц Кафка? Что за чушь! Я — великий писатель, а этот ваш Кафка — путаник. Никак сам себя не найдет. Нет, я не Франц Кафка. Его дом тут рядом, номер 22.
Помолчав, он добавил:
— Но вы его не застанете. Он в это время на работе. Служит, знаете ли. Чиновничает. А почему? Не может прожить на литературные заработки. И не мудрено: того, что он пишет, никто не понимает. Один его шедевр — кажется, «Метаморфоза» называется — о человеке, который превратился в насекомое. Виданное ли дело? Если бы это было для детей, тогда еще понятно, но нет, он пишет для взрослых. Такие мрачные, путаные истории. Знаю-знаю: вы меня ни о чем не спрашивали, но мой долг как писателя — предупредить: осторожнее с этим Кафкой. Он совсем не то, что вы думаете.
Мышонок был удивлен и подавлен. Не таким он представлял себе писателя Кафку. Революционер, думал он, может и даже должен заниматься литературой. Но это должна быть идейная литература, литература, способная поднять массы на революционную борьбу. А тут — человек, превратившийся в насекомое. Что это такое? Тот ли человек Франц Кафка, кого он ищет? Однако, несмотря на сомнения, он решил все же попытаться встретиться с Кафкой. И не ждать до вечера.
— Вы знаете, где он работает?
Толстяк бросил на него горький взгляд.
— Вижу, что предостережение мое не возымело действия. Вам во что бы то ни стало нужен этот Кафка. Я бы пригласил вас к себе, рассказал о своем творчестве, может, подарил бы свою книгу, изданную на собственные, за всю жизнь накопленные средства. Но нет, вам подавай Кафку, Кафку и только Кафку!
Он взял себя в руки и добавил с вымученной улыбкой:
— Так и быть, дам вам адрес. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал.
Франц Кафка работал в Институте страхования рабочих от несчастных случаев. Мышонок помчался туда. Это было огромное здание с богато декорированным фасадом в стиле неоклассицизма. Что опять повергло Мышонка в недоумение. Да, он ожидал от революционера, что он будет поддерживать связи с рабочими, но не через учреждение, олицетворяющее жалкую уступку пролетариату со стороны буржуазии. Однако, возможно, Кафка специально проник в эту структуру. Возможно, его миссия как раз в этом: выйти на связь с покалеченными рабочими, найти среди них потенциальных революционеров, привлечь их в Партию. От калеки, возможно, не будет толку на фабрике, но ничто не помешает ему уцелевшей рукой (даже если эта уцелевшая рука — левая) бросать камни, а то и гранаты.
Это, конечно, домыслы. Но скоро с ними будет покончено. Вот-вот он узнает, тот ли человек Кафка, который должен передать ему шифровку. Если это так, то все остальное: место, где он живет и работает, рассказы, которые пишет, — все это станет неважным.
Он вошел в здание, подошел к консьержке:
— Мне нужен Франц Кафка.
Она гордо глянула на него поверх очков:
— Доктор Франц Кафка, хотели вы сказать.
— Что? — Мышонок не понял.
— Доктор, — сказала женщина с нажимом. — Доктор. Вы разве не знали, что он адвокат? А адвокатов принято называть «доктор». — Она встряхнула головой. — Учишь их, учишь, а все без толку. Кабинет доктора Франца Кафки на четвертом этаже. Вам назначено?
Нет, Мышонку, разумеется, не было ничего назначено.
— Тогда, — торжествующе заявила администраторша, — вас, я думаю, не примут. Без предварительной записи это невозможно.
Мышонок просил, умолял: ему обязательно надо поговорить с доктором Кафкой, дело-то всего на одну минуту. Женщина трясла головой, она была тверда, как скала: только по записи. Институт — это вам не овощной базар, это — учреждение!
Такого Мышонок вынести не мог. Мышонок расплакался. Он старался сдержать слезы, но ничего не получалось: они текли и текли по щекам. Женщина смотрела на него без удивления: видимо, ей было не привыкать к подобным сценам. Но в этот раз что-то в душе ее шевельнулось.
— Слушайте. Пропустить я вас не могу. Но могу дать телефон. Если это действительно дело одной минуты, может быть, хватит и звонка.
Она взяла листок бумаги, быстро написала несколько цифр и вручила Мышонку:
— Вот. Только никому не говорите. Мы не должны давать такую информацию. Я это делаю только потому…
Почему? Потому что угадала в нем идеалиста, борца за лучший мир? Ну, этого уж никак не узнать. Мышонок горячо поблагодарил и вышел.
Он собирался вернуться в гостиницу и оттуда позвонить, но передумал. Там телефон был только у стойки администратора, а звонить под взглядом зловещего толстяка ему совсем не улыбалось. Лучше найти телефон где-нибудь поблизости. За углом он обнаружил аптеку и попросил разрешения воспользоваться аппаратом, но тут возникла новая проблема.
Мышонок не умел звонить по телефону. Он в жизни ни разу не пользовался телефоном: в местечке их не было. Ему казалось, что это нетрудно, но как именно звонят, он представления не имел. Решил попросить помощи у аптекаря, долговязого типа в очках и с бородкой. Не без удивления, но охотно и с улыбкой тот ему показал, что делать. На всякий случай, чтобы не сбиться, Мышонок написал на листочке фразу, которую надо было сказать, пароль. И только тогда попросил барышню соединить его и назвал номер. Удача:
— Франц Кафка слушает, — отозвался с того конца провода равнодушный голос.
Мышонок так разволновался, что уронил свою записку на пол. Он тут же поднял ее, но рука дрожала так, что читать было невозможно. В конце концов ему удалось прошептать:
— Мне поручено забрать текст.
— Как вы сказали? — похоже, Кафка не расслышал.
— Мне поручено забрать текст, — повторил Мышонок с колотящимся сердцем.
— А, текст. Да, знаю, — пауза. — Как вас зовут, вы сказали?
— Йозеф.
— Йозеф. И где вы живете, Йозеф?
— В гостинице «Терминус». Знаете, где это?
— Да, я знаю, где это. Сегодня же пришлю текст.
Мышонок повесил трубку. Он был в восторге от этого лаконичного, но содержательного разговора. Франц Кафка — тот самый человек, в этом не было уже никаких сомнений. Мышонок хвалил сам себя за сообразительность. Конечно, потеря сумки с конвертом — огромный промах, но положение удалось исправить. Теперь он твердо верил, что выполнит задание, каким бы оно ни оказалось. Вернувшись в гостиницу, он встретился взглядом с портье, насмешливо разглядывавшим его единственным глазом.
— А вот и наш гость явился с прогулки. И как? Понравилось тебе то, что ты увидел в Праге?
На первый взгляд, вполне невинный вопрос, но вдруг западня? Не человек — загадка, причем, пока обратное не доказано, неприятная и опасная загадка. Мышонок решил не облегчать ему жизнь, отделался общими любезными фразами и поднялся к себе в номер. По пути в гостиницу он купил хлеба и колбасы, сделал себе бутерброд и съел. Отец умер бы от огорчения, если бы увидел, как его сын лакомится копченой колбасой, запрещенной религиозным евреям, но тем приятнее было ее съесть.
Перекусив, он прилег. Было пять часов вечера, но на город опустилась ночь, черная, вьюжная ночь. Несмотря на усталость, Мышонок никак не мог заснуть. Ожидание завтрашнего дня, ожидание записки, которую ему должны были передать, лишало его сна. Было бы хоть что почитать… Но «Манифест», книга, кроме которой он в последнее время вообще ничего не читал, пропала. «Призрак бродит по Европе, — произнес он еле слышно, — призрак коммунизма». Да, начало он помнил хорошо и все остальное тоже, но книги все-таки не хватало: он привык читать ее каждый день перед сном. Тут ему пришло в голову, что надо бы прочесть что-нибудь этого Франца Кафки, хотя бы из солидарности. Но человек, превратившийся в насекомое… Нет, вряд ли ему понравится. Ворочая так и эдак эту мысль в голове, он в конце концов уснул. Проснулся в испуге: уже восемь! Как его угораздило проспать столько времени? Поспешно одевшись, он спустился вниз. Толстяк со своей газетой был на месте. Мышонок, мгновение поколебавшись, спросил, не приносили ли ему посылки.
— Нет, — сухо бросил портье, не отрывая глаз от газеты.
Ничего не оставалось, как только ждать. Мышонок решил выйти поесть; возможно, его ожидал трудный день, не стоило начинать его на пустой желудок. Он зашел в скромное кафе, заказал плотный завтрак: много кофе с молоком, много хлеба с маслом. Закусив, вернулся в гостиницу. На этот раз у портье для него что-то было:
— Только что тебе принесли вот это.
У Мышонка закружилась голова, когда он взял в руки конверт, на котором аккуратным почерком было выведено: Йозеф. Там внутри записка, которую он ждет. Нет. Там внутри его будущее, его судьба.
Ему опять удалось скрыть волнение. Старательно изображая равнодушие и даже скуку, он сказал портье, что будет у себя в номере. Поднявшись по лестнице, он от возбуждения никак не мог попасть ключом в скважину. Наконец открыл дверь, вошел, заперся и сел на кровать.
Осмотрел конверт. Он был заклеен, но не крепко, так что Мышонок легко раскрыл его. Внутри был листок бумаги, всего один листок. На нем — несколько строк по-немецки, напечатанных на машинке, с подписью Франца Кафки внизу:
Leoparden in Tempel
Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opfrekrüge leer; das wiederholt sich immer wieder; schlieslich kann man es vorausberechnen, und es wird ein Teil der Zeremonie.
Мышонок перечитал текст раз десять. И с каждым разом отчаяние его росло.
Для начала он не все понял: его зачаточных знаний немецкого не хватало. Единственное, что не вызывало сомнений, это заголовок: «Леопарды в храме». Однако, хотя значение слов было ясно, фраза оставалась не менее загадочной.
И что? Он не знал, как расшифровать текст без того листка, который он потерял и который позволял выбрать слова, добавить к ним другие, то есть служил ключом. Без ключа все попытки ознакомиться с посланием обречены на провал. И все из-за его невероятной некомпетентности.
Он встал перед треснувшим зеркалом, посмотрел на себя. Глубоко вздохнул. Спокойствие, сказал он себе, постарайся успокоиться и поразмыслить.
Для начала надо разложить задачу на этапы. Какой будет первый этап? Понять, что там написано по-немецки. Может быть, удастся вычислить слова, которые приведут его к цели. Для такого текста, художественного, как он догадывался, его знаний немецкого не хватало. Надо, чтобы кто-нибудь перевел его на русский, а еще лучше — на идиш. Но кто?
Старик из синагоги. Конечно же! Разве он не хвастался, что знает языки? Разве не предлагал свои услуги? Возможно, за перевод придется заплатить, но оно того стоит. Мышонок решил немедленно идти в старую синагогу. Но прежде он переписал текст на другой листок. Оригинал нельзя было показывать никому. По одной простой причине: там была подпись Кафки. Неосторожность вполне объяснимая, ведь все писатели тщеславны, особенно, писатели буржуазные. Похоже, что доктор Франц — начинающий революционер, как и сам Мышонок, и ему еще учиться и учиться пролетарской скромности.
Когда он пришел в Старонову синагогу, старик стоял перед входом с группой американских туристов. На английском языке со вполне понятным энтузиазмом он рассказывал богато одетым гостям во всех подробностях историю Голема. Мышонок, хоть и сгорал от нетерпения, вынужден был подождать.
Старик закончил рассказ, принял горячую благодарность и щедрые чаевые экскурсантов и обернулся к Мышонку. Нескрываемая ирония звучала в его голосе:
— Вы? Снова? Чему обязан столь высокой честью?
— Хочу попросить вас об одолжении. Мне надо перевести кое-что на идиш…
— Я не переводчик, — отрезал старик.
— Я знаю. Но вы говорите на разных языках… Я только что слышал, как вы рассказывали о Големе по-английски.
— Ну ладно, — вздохнул старик. — Если только текст не очень длинный…
— Нет-нет, — Мышонок достал листок из кармана и протянул старику. — Вот эти несколько строк.
Старик прочел текст раз, другой…
— Очень странная вещь, — проговорил он, заинтригованный. — Что это? Головоломка? Загадка?
— Вот именно, — подтвердил Мышонок. — Загадка. И с денежным призом. Я поспорил с одним типом там, в гостинице. Он говорит, что до сих пор никто не разгадал эту шараду. Я принял вызов. И собираюсь это расшифровать. Вы же знаете: мы, евреи, обожаем словесные игры.
Старик рассмеялся:
— Верно. Я помогу, но только с одним условием: выигрышем поделитесь со мной.
Он объяснил на идише, о чем речь. Мышонок узнал, что леопарды вбегают в храм и пьют все, что находят в священных вазах, и это уже столько раз повторялось… В общем, все уже знают, что так и произойдет, поэтому ужин леопардов превратился в часть обряда.
— Ну? — спросил старик. — Вы понимаете, что тут к чему?
— Нет, — ответил Мышонок, — не понимаю. А вы?
— Я? Да кто я такой? Если бы я был таким знатоком каббалы, как раввин Иегуда Лев, может, и сумел бы помочь: чтобы разъяснить что-то темное, нужен каббалист, они в этом мастера. Но я-то простой служка. Скажу без ложной скромности, человек я, конечно, образованный, полиглот, но признаю, что не все мне по силам. Вам надо поискать того, кто может объяснить, что здесь написано.
— Кого?
— Не знаю, — сказал старик и добавил в шутку: — Разве что Фрейд мог бы что-нибудь растолковать. Он толкует сны, может, и это смог бы расшифровать: очень уж оно похоже на запись ночного кошмара.
Он засмеялся:
— Только вот Фрейд живет далеко, в Вене… Если серьезно, не представляю, кто бы мог вам помочь.
— Ну ладно, — вздохнул Мышонок. — Все равно спасибо вам за помощь.
Он протянул старику несколько монет.
— Нет, вы ничего мне не должны. Я просто хотел помочь.
Мышонок с благодарностью попрощался.
— Приходите еще, — сказал старик. — Только без этих головоломок.
Мышонок вернулся в гостиницу. Портье глянул на него насмешливо.
— Что-то ты выглядишь озабоченным. Похоже, не получилось у тебя уладить дела… — он нахмурился. — Не забудь: у тебя шесть дней. Время идет.
Мышонок поднялся по лестнице, вошел в номер и запер за собой дверь. Он твердо решил не поддаваться унынию. В конце концов, несколько этапов уже пройдены: добрался до Праги, получил шифровку. Правда, у него не было кода, чтобы прочитать ее. Ничего, он сам вычислит код.
Он вытащил из чемодана тетрадку и карандаш и записал на идише текст так, как ему перевел его смотритель синагоги. Потом взял текст Кафки и сравнивал оба до тех пор, пока не убедился, что понимает каждое немецкое слово.
(А понимал ли? Трудно сказать. Путаный человек этот Кафка. Если бы можно было, Мышонок позвонил бы ему по телефону и пожаловался: «Не понимаю, что вы написали, товарищ Кафка. Извините, но совсем ничего не понимаю. Может быть, ваш текст — новое слово в литературе, слово, до которого большая часть читателей еще не доросла. Но позвольте спросить, товарищ Кафка, то, до чего публика не доросла, — это и есть революционное искусство? Возьмем меня. Я не интеллектуал, я простой человек, бедный еврей из местечка, верящий в революцию как в возможность изменить свою жизнь и жизнь своих близких. Разве я не имею права на то, чтобы мне что-то сказали, чтобы до меня донесли прогрессивные идеи? Мы, местечковые евреи — тоже люди, товарищ, нам тоже нужны книги. Займитесь самокритикой и подумайте в следующий раз о нас, прежде чем писать что-то вроде этих „Леопардов в храме“»).
Не потеряй он сумку, он приложил бы листок с ключом к Leoparden in Tempel и расшифровал послание. Отверстия на листке совпали бы с какими-то словами из текста Кафки. Вместе со словами, написанными на листке, эти слова составили бы правильный текст. Но что же делать, если ключа нет?
Можно для начала определить ключевые слова, слова, которые имели бы смысл при описании какого-то революционного задания. Глаголы явно не годятся: «врываются», например, ни о чем не говорит, не указывает никакого пути. Куда врываются? Когда? Как? Зачем? Мышонку нравилось слово, казалось таким дерзким, революционным, но приходилось признать, что само по себе оно не имело смысла. Ни прогрессивное «врываться», ни реакционное «повторяться» ни о чем конкретном не говорили. Лучше сосредоточиться на существительных, с прилагательными и без. В конце концов, все конкретное может быть названо.
После долгих раздумий он подчеркнул «леопарды», «храм», «жертвенные чаши» и «обряд».
Итак, леопарды.
Мышонок никогда не видел леопарда. Ни тигра, ни льва, ни пантеры — ни одного из этих грозных зверей. В местечке много говорили о волках, приезжие их боялись, но даже волка Мышонок не видел ни разу. Его представления о дикой природе ограничивались иллюстрациями в старой детской книжке на русском языке под названием «Путешествие по Африке». На одной картинке, которую он хорошо помнил, были изображены некоторые дикие представители семейства кошачьих. Но который из них был леопард? Понятно, не тот, что с гривой: тот, что с гривой, — лев. И не черный. Черный — это пантера.
Но определить внешний вид леопарда — не самое главное. Главное — понять, как леопарды могут оказаться целью некого действия во благо революции. У Мышонка на этот вопрос ответа не было. Надо было напасть на леопардов? Где? В зоопарке? А есть ли зоопарк в Праге? Да и зачем на них нападать? Что имел Троцкий против леопардов?
Может быть, речь шла о каком-то символическом действии. Леопард — дикий зверь. Капиталисты — настоящие звери, когда речь идет о наживе и об эксплуатации рабочего класса. Убийство леопарда в зоопарке могло показать капиталистам Праги, что их дни сочтены. Но, рассудил Мышонок, рабочие тоже борются, как звери, за свои права, когда объявляют забастовку. Как отличить звериную ярость одних от звериной ярости других? Надо оставить около мертвого леопарда записку, в которой бы говорилось, что животное умерщвлено, дабы служить примером власть имущим?
Но, может быть, речь не о настоящих леопардах? «Леопарды в храме» вполне могло быть кодовым названием — необычным названием, но разве необычное не есть революционное? — какой-нибудь пражской группы троцкистов, группы, которая должна была оказать ему поддержку при выполнении задания. В конце концов, Кафка ведь пишет, что они захватили храм, а не это ли предстояло совершить революционерам? Именно этого требовал от них неумолимый ход истории. Но то, что за этим следовало, несколько расшатывало, да нет, разрушало до основания такое стройное, казалось бы, логическое построение. Потому что леопарды захватывали храм не для того, чтобы снести его, не для того, чтобы прогнать оттуда торговцев, наживавшихся на людской доверчивости, попов, пасторов и раввинов. Леопарды бросались пить что-то из жертвенных чаш. Зачем они это делали? Речь не шла об апологии алкоголизма, потому что Кафка не уточнил, что именно было в чашах. Тогда в чем смысл? Может быть, леопарды были специально выдрессированы для защиты церковников и власти? И тогда не обозначало ли это название какую-нибудь правую группировку?
Если считать, что леопарды — это революционеры, выявляется, кстати, и еще одна несообразность: последняя фраза. Нашествие кошачьих, утверждал Кафка, становилось предсказуемым. Может ли революционер вести себя предсказуемо? Разве неожиданность — не самое важное в революционной борьбе, ведь именно она и позволяет внезапным штурмом захватить оплот власти? Что ж, выходит, леопарды обюрократились — подчеркнем: как и сам Кафка в своем казенном учреждении? Набеги хищников стали привычными и превратились в часть ритуала. Означает ли это принятие буржуазных ценностей? Или в трактовке Кафки звери приходили к власти в составе коалиционного правительства? Вот разве что так… Хм, коалиция… Коалиция — опасная вещь, и это еще слабо сказано. Коалиционное правительство, учил Ёся, возможно только в том случае, если революционная партия ни на йоту не поступается своими принципами, да и тогда коалиция может иметь только временный, переходный характер и создаваться исключительно для противостояния слишком опасному врагу. Но как только атака сильного противника будет отбита, революционерам следует избавиться от временных попутчиков и даже, если понадобится, швырнуть их (в переносном или не совсем в переносном смысле) за борт повстанческого корабля.
Таким образом, эти леопарды — звери как минимум спорные. Как прийти к какому-либо выводу относительно их природы? Мышонок попытался подключить воображение, мысленно заставив их предстать перед Судом Народа, судом, где он был одновременно и обвинителем, и защитником, и судьей. Аргументы сталкивались с контраргументами в настоящем диалектическом поединке. Внезапно явилась истина, и он в роли судьи вынес приговор: текст Кафки обличает леопардов как жестоких грабителей, разрушителей традиционных ценностей. Что ж это за грабители? Буржуазия, разумеется. В «Манифесте» об этом сказано абсолютно четко: буржуазия разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения, она потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности в ледяной воде эгоистического расчета (вроде того расчета, который привел к предсказуемости леопардов). Буржуазия в своем творчестве превзошла египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы — не говоря уж о прочих храмах. Для буржуазии нет ничего святого. Она весь мир лишила священного ореола. Одним словом, вывод таков: текст — метафора, основанная на «Коммунистическом манифесте», и Мышонку не следует искать группу под кодовым названием «Леопарды». Но и убивать настоящих леопардов не надо. Если хищники и должны были фигурировать в окончательном расшифрованном послании, то разве что в качестве некого ориентира. Ориентира для поиска чего? Это он узнает потом. А пока что можно перейти к следующему слову.
Храм. Тут он почувствовал более твердую почву под ногами. Любой храм, католический, протестантский, буддистский, иудейский — оплот религии. А религия — по словам Маркса — опиум для народа. Так что атака на храм имела смысл. Но почему на храм в Праге? Прага не такой крупный религиозный центр, как, скажем, Рим или Иерусалим. Возможно, среди церквей города есть какая-нибудь особо важная. Которая? И в чем ее значение? Это следовало выяснить. Как и значение жертвенных чаш, атрибута языческих храмов. Возможно, если речь идет о католическом храме, аналогом этих чаш могут быть чаши, используемые во время службы. Мышонок знал, что эти золотые и серебряные чаши, украшенные драгоценными камнями, стоят огромных денег — денег, необходимых для революционной борьбы. Состояло ли задание в экспроприации (если речь идет о революции, термин «кража» не подходит) этих чаш? Не исключено. Символический жест и вместе с тем материальный выигрыш. Смысл в этом был.
Оставалось еще слово «обряд». Не было ли целью операции помешать какому-то обряду? Но какому обряду? И где должен был проходить этот обряд? Туманно, слишком туманно. Но можно было исходить из того, что местом проведения обряда должен быть тот самый храм, о котором говорилось в тексте. Это облегчило бы поиски.
Храм, стало быть. Для практических целей — просто церковь. Другой тип храма не подходил для революционных действий. Что делать в Староновой синагоге, к примеру? Похитить старика-смотрителя? Захватить предполагаемую могилу Голема? Глупости. Если цель операции — храм, то это должна быть церковь. Но какая церковь? Надо было провести расследование в этой области, может быть, спросить в туристических конторах или попросить о помощи верующих: диалектика подсказывает, что они сами выроют себе могилу, где их и похоронят.
Он почувствовал, что проголодался: шел второй час дня, а у него с утра маковой росинки во рту не было. Он решил спуститься вниз и перекусить.
На улице обнаружился газетный киоск. Одна из газет, «Право лиду», привлекла его внимание: на первой полосе был рисунок, изображавший рабочую демонстрацию, рабочие шагали, подняв сжатые кулаки. Он спросил киоскера, что это за газета. Тот ответил: орган социалистической партии.
Соцпартия. Это натолкнуло Мышонка на одну мысль. Социал-демократов он терпеть не мог: реформисты, приспособленцы — так презрительно называл их Ёся. Но они, возможно, точно так же терпеть не могли правых. Вдруг у них удастся что-нибудь узнать о храме, где должна проводиться операция.
Он спросил у продавца, где редакция газеты. Оказалось, недалеко. Забыв о голоде, Мышонок направился прямо туда.
В маленьком помещении редакции было пусто. Только один-единственный журналист ожесточенно колотил по клавишам пишущей машинки. Мышонок подошел к его столу.
— Что вам угодно? — спросил журналист, не отрывая глаз от листа бумаги.
— Дело вот в чем… — начал Мышонок.
— Конкретнее, — потребовал журналист. — Ближе к сути. Тут газета, а не исповедальня и не колонка советов для нервных барышень. Время не казенное. Выкладывайте, что вас привело сюда.
Мышонок сказал, что он иностранец, что тоже сторонник социалистических идей (он воздержался от термина «коммунистических») и, проходя мимо, решил зайти, чтобы познакомиться с сотрудниками газеты и попросить кое-какую информацию.
— Какую информацию? — бесстрастно проговорил журналист.
Мышонок, который все еще стоял, будто на допросе, в замешательстве переступил с ноги на ногу:
— Информацию о Праге…
— Догадываюсь. Какую именно информацию о Праге?
— О некоторых местах в Праге…
— О каких местах в Праге?
— О церквах, например… Вообще о храмах…
— О церквах? Вообще о храмах? Что-то я вас не понимаю. Вы разве не сказали, что вы левых взглядов? Те, кто придерживается левых взглядов, насколько мне известно, ничего общего с церквами и храмами не имеют. Ну ладно. Что конкретно вы ищете?
— Мне говорили, — голос Мышонка от волнения стал совсем тонким, — что здесь, в Праге, есть очень богатая, роскошная церковь… Что чаши… Те, что священники используют во время мессы, вы знаете… Очень ценные чаши… Кажется, золотые…
Журналист теперь смотрел на него с явным недоверием. И Мышонок легко мог представить себе, почему. Незнакомец является в редакцию левой газеты и начинает задавать странные вопросы. Журналист имел полное право заподозрить что угодно. Он попытался исправить положение: товарищ, вы можете доверять мне, я на вашей стороне, я тоже стремлюсь к великому идеалу, желаю переделать несправедливый мир, в котором мы живем, построить новое общество, я даже могу прямо сейчас оформить подписку на вашу газету, ненадолго, потому что денег у меня немного, но, скажем, на полгода… Журналист, однако, больше разговаривать не хотел.
— Послушайте, мне все равно, левый вы или правый. Если вам нужно что-то узнать о церквах, туда и идите. Я-то при чем?
— Но…
Журналист вскочил и зарычал:
— Хватит! У меня работы невпроворот, а я с тобой время теряю. Проваливай, или я вышвырну тебя отсюда.
Мышонок вышел из редакции буквально раздавленным. Такой шанс на помощь упущен! Причем по собственной неловкости и глупости. И что теперь делать? К кому обратиться? К самому Кафке? К этому загадочному Кафке? Бесполезно. Кафка уже выполнил свою миссию, отправил текст в гостиницу, причем незамедлительно. Чего же еще у него просить? Бедному еврею из Восточной Европы, бедному еврейчику, творящему одну глупость за другой, просить у Кафки нечего. Идиот, стонал Мышонок, идиот, идиот — и больше ничего, бедный Ёся, нашел кому перепоручить задание, только в бреду могла прийти ему в голову такая нелепая идея.
Так он брел куда-то, как вдруг неподалеку от замка, что в Градчанах, набрел на старинную церковь. Вспыхнула надежда: вдруг это храм, о котором говорилось в шифровке? Зашел.
Ни разу до этого Мышонок не бывал в церкви. Впечатление она произвела на него сильнейшее. Будто из реального мира он разом перенесся в иной, странный, чуждый, подавляющий. Величественная архитектура, алтари, горящие свечи, статуи святых — все пугало его, все внушало трепет. Нет, это не то что маленькая скромная синагога в Черновицком, тем более что она и храмом-то не была, а просто ветхим и старым деревянным домишкой, где евреи собирались, чтобы помолиться, поплясать, поругаться — словом, что-то сугубо неофициальное. К тому же там всегда было шумно. А эта церковь, конечно, и была тем самым храмом. Здесь повсюду ощущалось присутствие невидимого и могущественного существа. Мистицизм пронизывал воздух, которым, казалось, становилось трудно дышать. Не то это было место, где можно действовать в одиночку. Будь рядом Ёся… Или если уж Ёси нет, так хоть «Коммунистический манифест» — и то защита… Но Мышонок был один, беспомощный, растерянный. Пришлось бороться с непреодолимым желанием выбежать на улицу, оказаться, пусть и в незнакомом городе, но среди людей, а не среди незримых и могущественных духовных сущностей.
Однако он не позволил архаичным инстинктам взять над собой верх. Евреи боятся церквей, но он здесь не в качестве еврея, он здесь — политический активист. С большим трудом взяв себя в руки, он с высоко поднятой головой двинулся вперед, к главному алтарю. Ему надо увидеть чаши, надо оценить их — не взглядом революционера, а взглядом ювелира: бывают моменты, когда, в соответствии с законами диалектики, надо совместить революционный взгляд на вещи с коммерческим — и решить, могут ли эти чаши быть целью его революционной миссии.
Он остановился перед алтарем. Самое неприятное, самое печальное, что там на огромном кресте висел Христос, Христос, которого предки Мышонка помогли когда-то к этому кресту пригвоздить. Это был явно не акт революционного насилия: Христос не толстый буржуй, расплачивающийся за то, что всю жизнь эксплуатировал трудовой народ. Нет, Мышонок видел перед собой фигуру тощую, изможденную, израненную, истекающую кровью. Абсурдная, бессмысленная жертва, жертва, которая не взывает к небесам, даже не жертва, а жалоба, обвинение, направленное против Беньямина Кантаровича. И что ж ему теперь делать? Пасть ниц и просить прощения, молить о прощении?
Нет, он не падет ниц. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Он не считал, что «мир голодных» — это про него, хотя в желудке даже и сейчас было пусто, но он из тех, из «проклятьем заклейменных», или, по крайней мере, солидарен с заклейменными проклятьем жертвами несправедливого мироустройства, и одна из этих жертв — замученный Иисус. Так что он, Мышонок, может смотреть ему в лицо без страха. Христос даже может считать его союзником: я на твоей стороне, Мышонок, я революционер, как и ты, я умер за революцию, только вот меня не поняли, понастроили в мою честь гигантских храмов, но мое место не в храмах, мое место на улицах, в полях, на фабриках и заводах; мое место — с массами, я хочу раствориться в массе, хочу быть всего лишь одним из многих, как ты, товарищ Мышонок.
Только Христос такого бы не сказал. Во всяком случае, этот Христос, выточенный из слоновой кости, из бивней слона, убитого в Африке. От этого Христа не дождешься ничего, кроме презрения, отвращения: «Вон отсюда, вонючий жиденыш, вон отсюда, пошлый коммунистишка, здесь тебе делать нечего, марш обратно в местечко, к остальным тварям. Там и сидите, дрожа, вцепившись друг в друга от страха перед погромом, пусть с вами покончат, а я буду отмщен». Но деваться было некуда: Мышонок должен был выстоять против него, против Христа и против церкви. Не с верующими он отождествлял себя, не с кающимися, но с леопардами, которые врывались в храм как победители и в конце концов заставляли с собой считаться, становились частью ритуала.
Открылась боковая дверь и священник — глубокий старик с длинной седой бородой, в очках с толстыми стеклами — вошел в церковь. С его приходом атмосфера стала не такой душной и гнетущей. Мышонок внезапно приободрился. Это был священник, но, как бы то ни было, человек, с ним можно было поговорить, хотя и на ломаном немецком, а не на родном идише. Можно было продвинуться хоть ненамного к решению задачи, расспросив его о чашах.
Священник подошел к алтарю и стал поправлять какие-то вещи, которые там стояли. Мышонок глубоко вздохнул, сделал несколько шагов в его сторону:
— Патер…
Священник обернулся:
— Да, сын мой, — отозвался он приветливо, по-отечески. Настолько по-отечески, что Мышонок растрогался.
— Патер, — повторил он дрожащим голосом, — я…
Голос его прервался. Он чувствовал себя идиотом, ему казалось, что он вот-вот упадет. Он покачнулся, патеру пришлось поддержать его, и вдруг разрыдался. Он громко всхлипывал, эхо его рыданий разносилось по всему пустому зданию, привлекая внимание тех немногих прихожан, что пришли помолиться.
Священник взял его под руку:
— Идем, сын мой, идем.
Он отвел его к исповедальне, поставил на колени. Сам сел на скамью исповедника, открыл окошко:
— Итак, сын мой, я слушаю тебя. Расскажи, чем ты опечален. Говори о своих грехах. Исповедуйся.
Придя в себя, Мышонок осознал всю нелепость ситуации. Он не знал, что сказать. Может, стоило признаться в своих ошибках («Патер, я совершил великую глупость: забыл в поезде сумку с одной важной запиской»), тогда он вышел бы отсюда с чувством облегчения, с чистой душой. Но он не христианин, он еврей левых убеждений, революционер. Не беззащитный слон, а леопард, готовый к схватке, схватке, которая преобразит мир, без всякого Страшного суда, который еще неизвестно, придет ли. Он перевел дух и сказал со всей твердостью, на какую был в этот миг способен:
— Извините, патер, но я пришел не исповедаться.
— Вот как? — удивился святой отец. — А для чего же?
— Просто взглянуть на церковь. Я иностранец, в Праге в первый раз, да вы и сами это поняли по моему акценту. Я много слышал об этом храме, поверьте, я не мог упустить возможность посетить его, — внезапно он почувствовал легкость и свободу, врать оказалось чрезвычайно просто. — Хочу вас поздравить: ваша церковь необыкновенно красива.
— Это правда, — священник не очень понял смысл этих восхвалений, но старался быть вежливым. — Церковь — одна из красивейших в Праге. И одна из самых старинных. Десятый век…
— Чаши, — продолжал Мышонок, стараясь сохранить безразличный тон, — должно быть, прекрасны…
— Чаши? — патер не понял. — Какие чаши?
— Чаши, которые вы используете, когда служите мессу… Вы не используете чаши во время мессы?
Священник начал проявлять нетерпение:
— Послушай, сын мой, тут есть желающие исповедаться, они ждут. Я бы с удовольствием продолжал беседовать с тобой о чашах и обо всем на свете, но лучше в следующий раз. А пока прошу тебя удалиться.
— Но, патер…
— Будь так любезен, сын мой.
— Патер, я…
— Будь добр, пожалуйста.
Настаивать было бесполезно. Мышонок поблагодарил за то, что ему уделили время, попросил прощения за беспокойство и отправился восвояси.
Быстро темнело. Холод был страшный — в тот год Европа переживала одну из самых суровых зим, — а Мышонок был слишком легко одет. Несмотря на это, а может быть, именно поэтому он упорно шел вперед. Он шагал среди толпы по Грабен, главной улице Праги, и злобно разглядывал упитанных богато одетых мужчин, женщин в мехах: буржуазия, сборище паразитов, пиявки. Буржуазия, однако, знала, куда идет: кто заходил в банк, кто в магазин, кто в кафе, а он вынужден был бродить и искать, сам не зная чего.
Так он и шел куда попало, как вдруг ему бросилось в глаза солидное здание с колоннами и тяжелыми, обитыми железом дверями: банк. В голове Мышонка слово «банк» немедленно ассоциировалось с Ротшильдами, знаменитой еврейской семьей финансистов, знаменитой настолько, что их фамилия стала синонимом богатства. Ах, был бы я Ротшильд, вздыхал отец Мышонка, когда мать жаловалась, что нет денег. Ротшильды не были похожи на средневековых ростовщиков-евреев, презренных и гонимых. Нет, они были банкиры, их уважали, даже пожаловали дворянским титулом.
Лишняя причина для Ёси их ненавидеть. Евреи, говорил он, никогда не сбросят путы капитализма, пока верят, что могут стать такими же богатыми, как Ротшильды. Марксизм — одна из форм борьбы с этой иллюзией, способ заменить ее реальной революционной перспективой.
Задание могло заключаться в ограблении банка. Этого банка, например. Почему бы и нет? Риск, конечно, огромен, но разве Троцкий не хотел, чтобы Ёся, подвергшись риску, показал, на что способен? Однако в записке не было ни малейшего указания на этот или на любой другой банк. У банков нет ничего общего ни с леопардами, ни с храмами. Они, конечно, храмы мамоны, но это в переносном смысле. Для очистки совести он решил все же заглянуть в банк: вдруг там обнаружится что-то связанное с содержанием записки. Входить было даже и не надо: из вестибюля, отделенного от царства капитала стеклянной дверью, все было прекрасно видно. Он взбежал по мраморным ступеням, зашел в вестибюль и заглянул внутрь. В роскошно обставленном помещении стояли столы, мягкие кресла, были окошечки, где обслуживали клиентов. Ничего особенного, но хоть одно утешение: в вестибюле работало отопление, и он чуть-чуть согрелся. Так что сразу уходить оттуда не хотелось, и он стоял теперь спиной к роскошному залу, глядя на улицу, на модные магазины напротив.
И тут он наконец увидел то, что искал.
Леопарды.
Их было два. Может, это были и не леопарды, может, тигры или пантеры: для того, кто не знаком с таксономией семейства кошачьих, задача их идентификации не так уж проста. Но у Мышонка не было сомнений: это леопарды, да, самые настоящие леопарды, и он наконец нашел их.
Вон они, на витрине изысканного ювелирного магазина: два величественных, грозных леопарда (два чучела леопардов), освещенные множеством ламп, со сверкающими оскаленными клыками и пристальным стеклянным взглядом. Декоратор воспроизвел руины древнего храма в гуще девственной сельвы. Полускрытые тропическими зарослями, леопарды как бы сторожили ритуальные предметы: маски, статуэтки богов, барабаны, маракасы. Посередине — три золотых вазы, украшенные драгоценными камнями. Леопарды, храм, жертвенные чаши — все было тут.
Взволнованный своим открытием, Мышонок помчался на ту сторону улицы и, не задумываясь, влетел в роскошный магазин.
Это вызвало удивление. Удивление и настороженность. В старой, мятой и грязной одежде, лохматый, с полубезумным взглядом, Мышонок в лучшем случае напоминал наглого нищего, а в худшем — заплутавшего сумасшедшего. Воцарилась гробовая тишина, когда он, сжав фуражку в руке, остановился, озираясь, посреди магазина, не зная, что делать дальше.
— Вам здесь что-то надо, сударь?
Он обернулся. Один из двух швейцаров, крупный мужчина с огромными усами, недоверчиво на него уставился. Смутившись, Мышонок забормотал, что ему ничего не надо, что он просто зашел узнать… Швейцар перебил его:
— Выйдите отсюда немедленно.
И, прежде чем Мышонок успел возразить, схватил его за локоть и потащил к выходу. Мышонок вырвался и прямо посмотрел ему в глаза:
— Я всего лишь хочу задать вопрос. Я не собираюсь никого беспокоить, никому причинять неудобств. Но не выйду отсюда, пока его не задам.
Итак скандала избежать не удалось. Хуже всего, что сцена привлекла внимание посетителей и продавцов, и они, застыв, ждали дальнейших событий. Задетый за живое швейцар расправил грудь и приготовился действовать, причем действовать, без сомнения, жестко.
— Оставьте его, Карел.
Молодая девушка вышла из-за прилавка и направилась к ним. Элегантно одетая, как и все остальные продавцы, тоненькая, маленькая, она не была красавицей: нос и рот великоваты, глаза — с косинкой. Но ее улыбка согрела сердце Мышонка. Она была первой, кто так улыбнулся ему, с самого его приезда. Она была первой, кто не смотрел на него с недоумением, первой, кто смотрел с симпатией.
— Вы хотели задать вопрос, — сказала девушка. — Можете задать его мне.
Мышонок, не спускавший с нее зачарованного взгляда, пришел в себя:
— А, да. Золотые стаканчики, которые на витрине… Что это за стаканчики?
— Стаканчики не продаются. Они — часть небольшой выставки. Знаете, иногда мы используем для этого витрину. В этом месяце тема выставки — религиозная церемония. Предметы, которые вы видите, все очень старинные, двенадцатого века примерно. Они из древнего храма на юге Африки. А сейчас принадлежат одному русскому коллекционеру, графу Иванову. Он нам их одолжил.
Значит, все было правильно. Еще одна деталь головоломки встала на место, причем важнейшая деталь, даже решающая. Стаканчики принадлежали русскому графу. К материальной ценности предметов добавлялась ценность символическая: кража их стала бы наказанием русскому дворянству, демонстрацией того, что длинные руки революции могут достать угнетателей в любой части Европы.
— Вы хотели бы узнать еще что-нибудь? — спросила девушка, бросая на Мышонка взгляд, который показался ему очень многозначительным. Почти заговорщическим. Как будто девушка и вправду ждала его прихода.
— Мне бы хотелось знать, как вас зовут, — Мышонок чуть сквозь землю не провалился от собственной наглости. Но девушку вопрос не удивил, что само по себе было удивительно.
— Берта. Меня зовут Берта, — сказала она. — А вы…
— Йозеф.
— Очень приятно, Йозеф, — после паузы она добавила, подчеркивая каждое слово: — Я к вашим услугам. Если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я здесь целый день. Можете приходить.
Она засмеялась:
— Не бойтесь леопардов. И сторожей тоже.
— Большое спасибо, — ответил Мышонок дрожащим от волнения голосом.
Девушка протянула ему руку, маленькую мягкую и горячую руку, которую он нежно, почти подобострастно пожал, попрощался и вышел.
Он шел к себе в гостиницу, испытывая чувство воодушевления — впервые с самого приезда, — даже радости. Портье удивился:
— Приятель, тебя не узнать. Прямо другой человек. Что случилось? Провернул удачную сделку?
— Да, — ответил Мышонок с торжествующей улыбкой. — Удачную сделку провернул. Или что-то в этом роде.
Он взбежал через две ступени, вошел в номер, задвинул засов. Он ходил из стороны в сторону, страшно взволнованный. Ему казалось очевидным: несмотря на все препятствия, на все проблемы, он пришел к цели. Как леопарды, которые врываются в храм, он готов был к решительному броску. Сомнений быть не могло: все ключевые слова указывали на ювелирный магазин: леопарды, храм, чаша, даже ритуал. Легко было мысленно восстановить послание, которое он прочитал бы, если бы приложил листок с вырезанными фрагментами к тексту Кафки: Ищите ювелирный магазин в центре Праги, где на витрине выставлены два леопарда и старинные предметы из храма, в том числе три жертвенные чаши, которые использовались во время ритуала. Ювелирный магазин — высший символ капиталистической роскоши. Большой ювелирный магазин, выставляющий в витрине жертвенные чаши из коллекции русского дворянина. И последнее, но лишь по порядку, а не по значению: ювелирный магазин, стоящий как раз напротив банка. Нет более жестокого грабителя, поучал Ёся, чем финансовый капитал: ловкий и коварный, как кошка, он готов атаковать где угодно и когда угодно. Банк напротив ювелирного магазина великолепнейшее сочетание: клиенты снимают деньги со счетов, чтобы потратить их на драгоценности.
Судя по названию магазина, «Перлштикер и брат», владели им без сомнения евреи. Что тоже было частью пропагандистского послания Троцкого, ориентированного на бессознательное восприятие. Как и Ёся, он хотел оспорить традиционно сложившийся образ еврея, образ удачливого еврея. Вы должны поменять свои идеалы, как бы говорил Троцкий. Вы не будете приобретать драгоценности, не будете вкладывать средства в ценные бумаги, вы приобретете радикальные идеи, вы вложите силы в революцию. Выбирайте: богатство или марксизм. Буржуазные или революционные ценности. Отлично. Мышонку оставалось только признать: Троцкий и вправду гений. Гений, которому суждено с триумфом вернуться в Россию и взять власть — и это чистейшая правда.
Да, целью операции был ювелирный магазин. И украсть надо было, несомненно, золотые стаканчики. Труднейшая задача. От одной мысли об этом Мышонок содрогался: ведь это было труднее, чем ограбить банк. Или надо было похитить хозяина-ювелира, что соответствовало представлению о революционной справедливости, — как сказал анархист Равашоль, взорвавший бомбу в парижском кафе, невиновных нет, часть вины лежит на каждом (каждый, добавил бы Мышонок, — это леопард, врывающийся в храм), — но было невероятно сложно. Где спрятать похищенного человека? И что делать, если выкуп не заплатят? Сколько времени все это продлится? Нет, украсть жертвенные чаши гораздо разумнее. И опять: ну не гений ли Троцкий! Истолковав смысл шифровки, Мышонок должен был перейти к следующему этапу задания. Надо было найти связного, человека, который подтвердил бы правильность его гипотезы и сообщил бы подробности операции. Кража золотых стаканчиков — задача не для одного, а для группы; он, Мышонок, конечно должен был войти в эту группу, но надеялся играть в ней как можно менее значительную роль. Возможно, ему поручили бы просто следить за обстановкой на улице и предупредить, если появится полиция… Все остальное, без сомнения, было ему не по силам.
Когда ты узнаешь, какова цель операции, кто-то на тебя выйдет, говорил Ёся. Кто-то, но кто? Кафка? Вряд ли. Кафка из своего кабинета едва ли мог следить за тем, где Мышонок бродит. Он не знал, что Мышонок уже нашел ювелирный магазин, что определил цель. Но кто мог следить за ним? Кто знал, что он уже расшифровал записку?
Девушка. Продавщица из ювелирного магазина. Берта.
При этой мысли Мышонок аж вздрогнул. Продавщица из ювелирного магазина — точно! Все, что между ними произошло: беседа, взгляды — все указывало на это. Берта ждала его, несомненно. Именно поэтому она освободила его из лап сторожа, именно поэтому была с ним любезна и говорила так, что показалось — пусть на мгновение, — будто они чуть ли не сообщники. Но могла ли она, продавщица из ювелирного магазина, участвовать в революционном движении?
Естественно, могла. Разве Маркс не был из семьи раввинов, разве он не был женат на богатой? Энгельс, сын фабриканта, разве не управлял отцовским предприятием в Англии? Сам Троцкий был выходцем из зажиточной еврейской семьи. Берта работала на буржуев, одевалась, как одевается буржуазия, но сердцем и умом была с пролетариатом.
Восторг бил таким мощным ключом в душе Мышонка, что он посчитал необходимым остудить свой пыл. Спокойно, Беньямин, спокойно. Не слишком ли ты торопишься, Беньямин? А вдруг ты все это себе напридумывал?
И было отчего напридумывать: девушка ему нравилась. Или, возможно, более чем нравилась. Возможно, он… влюбился в нее? Раньше Мышонок ни разу не влюблялся, он попросту не знал, что это такое, но, честно говоря, стоило ему только вспомнить о девушке, как сердце начинало бешено колотиться. Конечно, хорошо бы иметь такого товарища. Товарища во всех отношениях, и в борьбе, и в работе, и в жизни. Но в первую очередь — товарища в этот решающий момент, в момент выполнения задания. Неужели Берта и вправду тот самый товарищ?
Был только один способ выяснить это: поговорить с нею снова. Но только не в магазине. Где-нибудь, где они могли бы побеседовать без помех и где она посвятила бы его во все детали операции. Можно было бы позвонить, но он не знал телефонного номера магазина, к тому же не хотелось опять иметь дело с дьявольским аппаратом. Самое лучшее — зайти в магазин снова и договориться о встрече. Но успеет ли он до закрытия? Мышонок, нищий, как… ну да, как церковная мышь, часов не имел. Он спустился к портье и спросил, который час. Полшестого, раздраженно отозвался толстяк. Мышонок пожелал узнать, работают ли еще магазины.
— Странно, — сказал портье, — у тебя едва хватает денег на гостиницу, да на еду, а туда же, за покупками собрался. Если бегом побежишь, успеешь.
Мышонок, как угорелый, помчался в центр. Ему повезло: двери магазина были уже закрыты, но сотрудники еще оставались внутри. Он хотел позвонить в колокольчик, но удержался: лучше подождать у дверей банка, пока Берта выйдет. Ожидание показалось ему бесконечным, но вот девушка появилась. Она не заметила его и побежала к трамвайной остановке. Мышонок бросился за ней, догнал, взял за локоть. В первый момент она возмутилась, оттолкнула его: это что еще? Бродяга? Пусти меня! Но тут она увидела, кто это, и с облегчением вздохнула.
— Йозеф, да? Как же вы меня напугали, Йозеф.
Мышонок рассыпался в извинениях. Мне очень надо с вами поговорить, добавил он. Спросил, не согласится ли она выпить с ним кофе. Она посмотрела на часы. Нет, ей нельзя задерживаться.
— У меня больная мама дома. И она будет волноваться, если я не приду вовремя.
Она ненадолго задумалась, потом улыбнулась:
— А почему бы нам не поговорить у меня дома?
Мышонку опять показалось, что этой улыбкой она намекает на то, что они сообщники, а тогда, значит, догадки его — правильны.
Они сели в трамвай и вышли через несколько остановок. Берта жила в старом доме на самом верхнем этаже. Несколько пролетов лестницы Мышонок одолел вприпрыжку, как будто скакал по облакам — в таком он был восторге. Они вошли, девушка попросила, чтобы Мышонок подождал, пока она займется матерью: надо накормить ее, помыть, уложить. Она вошла в спальню, закрыла за собой дверь.
Мышонок ходил по скромной гостиной, рассматривал ветхую мебель. На полках — ничего особенного: безделушки, старые семейные фотографии. Это еще ни о чем не говорило. Было бы неосмотрительно расставлять на видном месте «Коммунистический манифест» и прочие труды Маркса и Энгельса: у какого-нибудь случайного любопытного визитера это могло бы вызвать подозрения. Но ему не понравилось то, что он увидел на противоположной стене, над горкой: старинное распятие слоновой кости. Неприятный сюрприз: революционной литературы нет, а распятие, выходит, есть? Почему? Пережитки не вполне преодоленных религиозных заблуждений прошлого? Но, возможно, дело не в этом, возможно, это просто маскировка, чтобы обмануть тайных агентов полиции. В сомнениях рассматривал он предмет культа, когда дверь открылась и вошла, улыбаясь, Берта: мать уснула, теперь можно поговорить. Она заметила удивление на лице Мышонка.
— Я вижу, что распятие вас заинтересовало. Оно мамино. Она ревностная католичка. Папа-то был евреем, но в синагогу не ходил. — Она улыбнулась. — Что вам предложить? Чай с бисквитами?
Для голодного Мышонка это было очень кстати. Берта пошла на кухню и вернулась через несколько минут с подносом, на котором стоял чайник, чашки и большое блюдо с шоколадными бисквитами.
— Угощайтесь.
Мышонку пришлось крепко взять себя в руки, чтобы сразу не наброситься на блюдо. Он постарался продемонстрировать хорошие манеры, подражая девушке, которая, похоже, была существом утонченным, воспитанным, хотя и бедным.
В первые минуты они говорили на общие темы: о том, как холодно в Праге, о проблемах с общественным транспортом, о чем-то еще. Но вдруг она взглянула ему в глаза и сказала с улыбкой, которая показалась Мышонку полной особого смысла:
— Вы не из Праги.
Он подтвердил: нет, не из Праги. Он из местечка Черновицкого, что в Бессарабии. Рассказал немного о местечке, особо подчеркнув, что оно недалеко от Одессы, города, где учился Троцкий. Он надеялся, что это послужит чем-то вроде пароля, и она наконец скажет: вот и хорошо, теперь я вижу, что вы тот самый товарищ, которого мы ждали, теперь перейдем к нашему плану.
Но не о плане хотела говорить Берта, а о Бессарабии, где, как оказалось, родился и ее отец.
— Он говорил точно так же, как вы. С таким же акцентом. И, как у вас, у него был такой беззащитный вид…
Она смотрела на него с нежностью, глазами, полными слез. И тут Мышонок понял: он все-таки влюблен в нее. Если бы мог, он бы так и сказал: я люблю вас, Берта, я всегда мечтал о такой, как вы, вы любовь всей моей жизни. Если б мог…
Но он не мог. Было не время. Было не время, потому что в первую очередь следовало выполнить задание, и она тоже об этом знала — во всяком случае, он надеялся, что она знает. Так что он набрал в грудь побольше воздуха и перешел прямо к делу:
— Послушайте, Берта, вы ведь знаете, зачем я приехал в Прагу, да?
Мышонок никак не ожидал, что у нее будет такой удивленный взгляд:
— Я? Откуда мне знать? Но давайте, я угадаю, что вы мне сейчас скажете… — она засмеялась. — Ага, готово: вас привел в Прагу неодолимый порыв. Вы приехали, чтобы встретиться со мной…
Мышонок слушал ее с вымученной улыбкой. Конечно, он был очень счастлив, но момент для шуток был самый неподходящий.
— Вы ведь знаете, что у меня задание, Берта? Очень важное задание. Задание, чреватое серьезными последствиями.
Она нахмурилась. Удивление сменилось настороженностью:
— О чем вы, Йозеф? Какое еще задание?
Теперь встревожился он. Значит, она ничего не знает о задании? Как же так? Он сделал еще одну попытку, более робкую:
— Задание, Берта… В ювелирном магазине…
— Ради бога, Йозеф, говорите яснее. Что должно случиться в ювелирном магазине?
Она ничего не знала. Она не знала о задании. Это было ясно по ее удивленно-испуганному выражению лица. И теперь он не знал, что говорить, как выкручиваться.
— Но кто вы такой, в конце концов? — она уже почти кричала. — И что вам надо в магазине?
И тут ей пришло в голову что-то, отчего она вскочила, бледная, с широко раскрытыми глазами:
— Вы вор, Йозеф? Вы хотите обокрасть магазин? Да, Йозеф? Да? Скажите, Йозеф, это правда? Пожалуйста, Йозеф, скажите, это правда? — и, как подкошенная, рухнула снова на диван.
— Раз вы молчите, значит, так и есть, — пробормотала она растерянно. — Вы вор. Хотели разузнать о магазине. Потому и познакомились со мной. Потому и стали заговаривать мне зубы.
— Пожалуйста, — взмолился Мышонок, — не судите так обо мне, вы ошибаетесь, ошибаетесь, все совсем не так, как вы подумали.
Но она уже не хотела ничего обсуждать, а, побледнев от гнева, указывала ему на дверь:
— Вон! Вон отсюда! И больше никогда не подходите ко мне, а то обращусь в полицию!
Опустив голову, Мышонок поплелся прочь. Медленно начал спускаться по ступеням. И вдруг остановился: его охватило бешеное возмущение, нестерпимое желание взбежать вверх по лестнице, выбить одним ударом дверь и крикнуть в лицо Берте: какое ты имеешь право меня выгонять! Я не вор, я революционер, моя задача — экспроприировать богатства, которые твой банк отобрал у бедняков, обратить их на дело преобразования общества.
Но порыв почти сразу иссяк. Он вспомнил о том, какое у нее было лицо, нежное, незабываемое лицо. Я люблю тебя, Берта, простонал он, люблю, пробормотал сквозь рыдания. Открылась какая-то дверь и незнакомая старушка бросила на него подозрительный взгляд. Не дожидаясь, когда она вызовет полицию, Мышонок поспешил выйти из подъезда.
Он оказался на пустынной заснеженной улице. И что теперь? Что делать? Он окончательно растерялся: из абсолютного счастья рухнуть в глубочайшее разочарование — это кого угодно собьет с ног. Еще совсем недавно — революционер с ясной задачей в шаге от славы, и вдруг — запутавшийся недотепа. Только что он был рядом с той, которая могла бы составить счастье всей его жизни, и в следующий миг его вышвырнули на улицу, как шелудивого пса.
Что делать, спрашивал он себя, что делать? Разве что идти, куда глаза глядят. Был канун Рождества, и он видел за запотевшими стеклами семьи, собравшиеся вокруг празднично накрытых столов, отчего чувствовал себя еще более бесприютным.
Но он все шел и шел, пока неожиданно не обнаружил, что забрел в старое гетто. Там стояла та самая синагога, с могилой легендарного Голема во дворе. Там было и древнее кладбище, старые могильные камни, покрытые толстым слоем снега. Все это показалось Мышонку символом его собственного безнадежного положения. Закрытые ворота. Неразгаданные загадки. Лютая смерть, замершая в ожидании. К кому обратиться за помощью? К кому?
Кафка. Найти Кафку, рассказать ему откровенно все как есть: не могу, мол, понять, в чем мое задание, объясните мне, пожалуйста, о чем тут речь, скажите, что я должен делать, и я это сделаю.
Улица Алхимиков была недалеко. Он бросился туда бегом, молясь, чтобы Кафка оказался в своем крошечном домике.
Прибежал, запыхавшись. Дверь и окна были закрыты, но в щели пробивался слабый свет. Да, писатель был дома.
Мышонок постучался, сначала робко.
Никто не ответил.
Мышонок постучал еще раз, сильнее.
Вздох, глубокий вздох услышал он за дверью. Вздох, как будто говорящий: ну чего им от меня надо? Отчего не оставят меня в покое? Почему я не могу тихо сидеть себе и писать свои истории — о леопардах, врывающихся в храмы, о людях, превращающихся в насекомых, — и пусть кто-то считает их абсурдными, но это мои истории, истории, на которые я положил жизнь, что тоже абсурдно, но так уж мне захотелось — что поделаешь? Мало отца-тирана, мало скучной бюрократической службы, мало неудач с невестой — тут еще кого-то принесло!
Вздох смутил Мышонка. Какое право он имел донимать бедного Франца Кафку своими проблемами? Но он тут же осадил сам себя: какого черта, это ведь товарищ по борьбе, хоть и незнакомый товарищ, а товарищи для того и товарищи, чтобы помогать друг другу, к тому же речь идет не о личной услуге, речь о деле, а дело выше всяких мерлехлюндий, выше права интеллигента на частную жизнь — интеллигенты вообще всегда, на взгляд революционера, пока не докажут делом обратного, подозрительны (за редким исключением, как Маркс, Энгельс и Троцкий).
Дверь открылась. Перед Мышонком стоял молодой еще человек, высокого роста (на самом деле для маленького Мышонка все были великанами, но тут рост был действительно выше среднего); с угловатыми чертами лица, с темными волосами и глазами, с большими ушами. И худой. Очень худой. Худоба и пристальный, пронизывающий взгляд произвели особенно сильное впечатление на Мышонка.
— Что вам угодно? — спросил Кафка.
Спросил вежливо, но с некоторым нетерпением, более чем оправданным: через полуоткрытую дверь Мышонок видел стол и пишущую машинку. Он оторвал писателя от работы.
— Я по поводу текста…
— Текста? — Кафка наморщил лоб. — Какого текста?
— Текста, который вы мне прислали…
— А! — теперь он вспомнил. — Это вы мне звонили. — Тут он заметил, что Мышонок все еще на улице, под падающим снегом. — Да вы заходите, заходите. Поговорим в доме.
Беньямин вошел. Внутри дом оказался еще меньше, чем выглядел снаружи. Мебели мало: стол, несколько стульев, лежак, полки, набитые книгами.
— Не обращайте внимания на беспорядок, — сказал Кафка. — Как видите, это рабочий кабинет. Садитесь, пожалуйста. Извините, мне нечем вас угостить… Я здесь не обедаю. Извините за холод: отопление никуда не годится.
— Не беспокойтесь, — ответил Мышонок, — для меня это все не имеет значения. — Он секунду поколебался и добавил: — Дело — прежде всего. Любые жертвы ради дела оправданны.
Он надеялся, что эта фраза послужит зашифрованным посланием. Надеялся, что при этих словах Кафка просияет и воскликнет: да, товарищ, ради дела можно пойти на все, даже на кражу золотых стаканчиков, так давай, давай составим план, обсудим детали. Но хозяин дома не сказал ничего такого: оба сидели молча друг против друга. Кафка все так же пристально смотрел на посетителя, как будто ожидая, что тот скажет, зачем пришел. Молчание становилось тяжелым, напряженным, отчего тоска в душе Мышонка только усиливалась. Почувствовав это, Кафка, который постоянно имел дело с покалеченными на производстве рабочими, решил прийти гостю на помощь. Он задал вопрос:
— Ну, как вам текст?
— Текст? Текст прекрасный… Леопарды в храме… Прекрасный… Леопарды врываются в храм… Действительно чудесный…
— Он годится?
Мышонок не очень понял вопрос. Но ему не хотелось показывать свою растерянность:
— Годится ли? Конечно, годится. Проблема в том, что он…
— Темен, — договорил за него Кафка с легкой улыбкой. — Вы это хотели сказать? Непонятен. Я знаю. Все мои тексты сложны для понимания. Поэтому мне так трудно их публиковать.
Мышонок заерзал на стуле.
— Да… Ну да, это правда. Но я понимаю, что таким он и должен быть… Что текст должен казаться загадочным… В конце концов, учитывая, для чего он написан…
Кафка, казалось, погрузился в собственные мысли.
— Темнота, — проговорил он наконец. — Некоторые считают, что в этом проблема. Для меня в этом — решение проблемы.
— Для меня тоже, — поспешил согласиться Мышонок. — Я думаю, что ясность в этом случае была бы смерти подобна.
Теперь наступила очередь Кафки удивиться:
— Смерти подобна? Ну это, пожалуй, преувеличение…
— Нисколько, — настаивал Мышонок. — Учитывая нынешнюю ситуацию, ясность была бы непростительным риском.
— Вижу, вы радикал, — сказал Кафка с бледной улыбкой.
— Радикал? Да, я радикал. Радикал — это как раз обо мне, — с гордостью заявил Мышонок. Потом понял, что, возможно, переборщил, и поправил себя: — То есть я им стремлюсь быть. Радикалом. Дойти до самых корней. Хочу обличить всех, кто должен быть обличен, хочу разрушить все, что должно быть разрушено.
— Разрушить, — пробормотал Кафка. — Да, возможно, вы и правы. Возможно, творчество — тоже своего рода разрушение.
Мышонок был в таком воодушевлении, что даже не слышал его.
— В этом вопросе я следую идеям Троцкого о перманентной революции. Революция — как образ жизни.
— Троцкий? — Кафка снова нахмурился. — Для вас Троцкий — идеал? Лев Троцкий?
У Мышонка все похолодело внутри. До этого мгновения он был уверен, что Кафка — соратник Троцкого. Но реакция писателя удивила его. Он ошибался? Или за эти дни произошло что-то, что изменило всю ситуацию? Например, раскол в коммунистическом движении? Кто знает, возможно, за это время Троцкий успел создать фракцию, в которую Кафка не вошел и к которой, возможно, он питает смертельную ненависть. У Мышонка с доступом к источникам информации дело обстояло неважно. И не только сейчас. Как прикажете быть в курсе событий, если живешь в заброшенном бессарабском местечке, где народ неделями не читает газет, если вообще их читает? Понятно, когда рядом был Ёся, все обстояло иначе: у друга были таинственные каналы информации, он сообщал товарищам все, что им следовало знать. То же, несомненно, происходило и с Кафкой, у которого был куда лучший доступ к источникам информации: он жил в большом городе, покупал газеты, пользовался телефоном. Мышонку надо было вести себя осмотрительнее. Риск был не только в том, что он мог сморозить какую-нибудь бестактность. Риск был в возможном идеологическом промахе, против чего Ёся его неоднократно предостерегал. Мышонок решил спустить тему на тормозах:
— Я бы сказал, что в некоторых случаях — да. Но только под диалектическим углом зрения. Имея в виду, что революция может быть перманентной, но реально перманентной не является, так ведь? Кстати, «Леопарды в храме», по-моему, произведение, пронизанное диалектикой.
Кафка ненадолго задумался.
— Да. Текст можно рассматривать и так.
Он покосился на часы. Видимо, ему не терпелось закончить разговор и вернуться к работе. Так что он опять перешел к главному:
— Вы так и не ответили на мой вопрос: текст годится?
Вот он — момент истины, подумал Мышонок. Тот момент, когда хочешь не хочешь, а приходится идти на риск. И он был готов. Вернее, он смирился с неизбежным. После катастрофы с Бертой, ему было уже все равно.
— Текст-то годится, товарищ. Это я никуда не гожусь.
Кафка посмотрел на него с изумлением:
— Вы не годитесь? В каком это смысле?
— В том, что я не понял вашего текста. Не понял, о чем там говорится. Даже не догадываюсь.
— Но погодите, — Кафка принялся утешать его. — Мы ведь только что говорили, что смысл тут темен. Вы не обязаны его улавливать. Это зависит от того, отзывается ли в вас что-нибудь при чтении этого текста. Может быть, это просто не ваш текст.
— Но я должен разобраться, о чем там говорится! — в отчаянии воскликнул Мышонок. — Разве вы не понимаете? Я ведь для того и приехал, чтобы прочесть его, чтобы выполнить задание…
— Задание? — Кафка был явно заинтригован. — О чем вы?
— Прошу вас, товарищ, — взмолился Мышонок, — не унижайте меня еще больше, мне и так стыдно. Я обещал товарищу Йозефу, который очень серьезно болен, что возьму на себя его задание. Для этого я и приехал в Прагу, для этого вы и передали мне текст. Беда в том, что я растяпа, идиот. Все, что я до сих пор делал, только больше запутывало ситуацию, ставило ее с ног на голову. Для начала я потерял ваш адрес, с трудом нашел вас. Когда я получил вашу записку, не смог понять, о чем в ней говорится. Или понял неправильно — не знаю. Я вообще ничего не знаю. Думал, что определил место операции, думал даже, что нашел девушку, с которой должен был выйти на связь, но она не была моей связной, а теперь я и насчет места сомневаюсь, я во всем сомневаюсь, мне нужна помощь, товарищ, пожалуйста, помогите мне.
Кафка молча смотрел на него.
— Кто вы? — спросил он наконец.
— Кто я? Разве вы не знаете?
Нет. Кафка не знал. По выражению его лица это было совершенно ясно.
— Я думал, вы работаете в редакции журнала, который издается на идише здесь, в Праге. Я им обещал текст. Теперь вижу, что все не так.
Внезапно в сознании Мышонка вспыхнул свет: он понял, что произошло. Кафку обманул его акцент, акцент русского еврея. Он перепутал его с сотрудником еврейского журнала, одного из тех журналов, с которыми Кафка, живо интересовавшийся иудаизмом Восточной Европы, сотрудничал. Потому просьба о тексте не показалась ему странной. Отсюда и недоразумение.
И что теперь делать? Рассказать ему все?
Нет, Мышонок не мог все рассказать. В конце концов, неизвестно, насколько Кафка заслуживает доверия. Лучше уж выдумать что-нибудь, тем более за последнее время он в этом весьма поднаторел.
Он и выдумал. Да, он работает в журнале, который издается на идише, но не в Праге, а в России. В Прагу он приехал как турист.
— Мой друг Йозеф, редактор журнала, попросил меня, чтобы я, пользуясь случаем, познакомился с одним писателем… Имени я не запомнил… Чтобы встретился с ним и попросил чего-нибудь для журнала. Я решил, что это вы. Но ошибся.
Он вынул из кармана листок с «Леопардами в храме» и протянул его Кафке:
— Вот. Извините за беспокойство.
Кафка пристально смотрел на него. И вдруг закашлялся. Сухим слабым кашлем, который он силился сдержать, но никак не мог, и это настораживало. Мышонок вздрогнул. Ему такой кашель был знаком: это наверняка туберкулез, вечная угроза, наряду с нищетой и погромами, внушавшая ужас всем в еврейских местечках России. Кафка не жил в местечке, но с виду был явно чахоточным: эта худоба, эта бледность, слегка порозовевшие скулы. Что уж говорить про холод в ледяном домике, совсем не подходящий для туберкулезного больного. Глубокая печаль охватила Мышонка, такая же печаль, которая охватила бы его мать, если бы с ним случилось подобное: ты болен, Кафка, очень болен, этот кашель — не шутка, не выдумка, это чахотка, она убьет тебя, как убила уже столько народу, не думай, что тебя спасет степень доктора права, что ты выкрутишься, потому что писатель, эта болезнь не щадит никого, ты должен беречься, больше есть: посмотри, какой ты тощий, ты должен переехать из этого проклятого места, из этой холодной и сырой конуры, незачем сидеть тут и писать, если ты платишь за это жизнью, беги отсюда, пока не поздно, слушай, что я тебе говорю, я ведь тебе добра желаю.
Однако он ничего не сказал. Просто смотрел на писателя молча. В конце концов приступ кашля прошел. Кафка вытащил из кармана платок, вытер пот со лба.
— Извините. Что-то я в последнее время кашляю. Это психологическое, знаете ли, — он грустно улыбнулся. — Возможно, надо проконсультироваться у доктора Фрейда.
— Вот ваш текст, — повторил Мышонок.
— Оставьте его себе.
Взгляд и тон потрясли Мышонка. Как будто Кафка в этот самый миг решил сделать его хранителем чего-то, о чем Мышонок имел очень смутное представление, но чего принимать не хотел.
— Но я не должен…
— Возьмите, — тон на этот раз был таким властным и решительным, что Мышонок испугался. — Возьмите текст себе.
— У вас есть копия?
— Не беспокойтесь об этом. Есть. Есть у меня копия. Возьмите текст себе.
Он встал, открыл дверь:
— Ну а теперь, извините, мне надо работать. На литературу остается мало времени… Я надеюсь, вы понимаете.
— Я понимаю, — пробормотал Беньямин и вышел.
Дверь за ним закрылась. Он подумал, что надо бы вернуться, надо бы сказать Кафке, что текст, хоть он его и не понял, прекрасен. Но, взглянув на закрытую дверь, передумал.
Внезапно почувствовав себя страшно усталым, Мышонок решил вернуться в гостиницу. Он хотел добраться до кровати, все равно до какой. Хотел провалиться в сон без сновидений, чтобы забыть этот злополучный день. Но отдохнуть ему было не суждено.
Подходя к «Терминусу», он заметил полицейскую машину через дорогу от двери. Из осторожности не вошел, а заглянул в вестибюль через стекло.
Внутри было двое полицейских. Похоже, они расспрашивали о чем-то портье, а тот показывал им книгу записи постояльцев.
У Мышонка не было сомнений: пришли за ним. Но кто мог донести? Возможно, сам портье — зловредный тип, возможно (и сердце его от этой мысли сжалось), возможно, Берта.
Надо было срочно бежать. Он не мог даже зайти в гостиницу. Да это было и не нужно. Деньги, документы — с собой. Да и билет на поезд, который он предусмотрительно (как оказалось) решил не оставлять в номере. Чемодан придется бросить, ну ничего. На новую одежду копить и копить, но это не самое страшное. Недолго думая, он бросился бегом на железнодорожную станцию.
Ему повезло: через час отправлялся поезд в Румынию. На этот поезд он и сел. Всю дорогу проспал, проснулся только перед самым прибытием. Тут уж он не забыл проверить, все ли в карманах на месте. Все было цело: деньги, документы. Ах, да, и текст Франца Кафки «Леопарды в храме».
Если не считать того, что по дороге то и дело попадались колонны солдат (война была в самом разгаре), остаток пути обошелся без происшествий. Тот же лодочник переправил его обратно в Россию, на этот раз без комментариев. Когда Мышонок наконец добрался до дома, смеркалось. Он вошел, и все бросились обнимать его. Этот сын меня в могилу загонит, кричала, смеясь и плача, мать, он меня доконает, злодей несчастный.
В конце концов все успокоились, уселись за стол, и Мышонок с непринужденностью, которая его самого изумила, выдал заранее приготовленную историю о том, как искал в другом городе работу. Отец, братья и сестры поверили или притворились, что верят. Как в притче про блудного сына, причина, по которой Мышонок покинул дом, не имела значения. Главное — что он вернулся. Под конец Мышонок с трудом, но вытолкнул застрявший у него в горле вопрос: как там Ёся?
Горестное молчание.
— Ёся умер, — сказал отец. — В тот же день, что ты уехал. Жар усилился, у него случилась судорога — и все.
Мышонок выслушал новость молча, опустив голову. На самом деле, он ожидал такой развязки. Как будто Ёся, благородный Ёся, пожалел его, ушел, чтобы не выслушивать историю его позора. Он провалил задание. Полностью провалил. Ничего не нашел, ничего не сделал, потерял все, даже собственную одежду. Единственное, что осталось от этой поездки, — текст Кафки в кармане и стыд, который будет камнем лежать у него на сердце всю жизнь.
Со смертью Ёси группа юных революционеров распалась. Мать уговорила Мышонка стать подмастерьем у отца. Поначалу работа вызывала у него отвращение, он считал ее слишком заурядной. Но постепенно вошел во вкус и начал находить удовольствие в кройке, наметывании, пришивании пуговиц. В этом все-таки была очевидная логика, ничего загадочного, ничего пугающего. Ах, если бы можно было сшить собственную жизнь, как шьют, скажем, жилетку. Но жизнь сложнее жилетки, а политика куда сложнее жизни. Мышонок решил на время отложить политику и заняться жилетками.
Но революция назревала. Война до предела обострила проблемы России, свирепствовал голод, усугублявшийся суровой зимой. В марте 1917 года царь Николай отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству во главе с Александром Керенским, но оно просуществовало недолго. В апреле Ленин вернулся из изгнания. В октябре большевики взяли власть.
В Черновицкое все эти вести пришли с большим опозданием и вызвали растерянность, если не сказать испуг. Царь был воплощением гнета, но гнета знакомого. Чего же было ждать теперь, когда, казалось, хаос захлестнул Россию?
Многие, тем не менее, были полны надежд, и в первую очередь — Мышонок. Он снова с энтузиазмом взялся за «Коммунистический манифест» и, читая, вспоминал беднягу Ёсю, чья мечта на глазах становилась реальностью: как сказал Ленин, выступая в Зимнем дворце, новое общество создавалось на руинах старого строя. Вернувшийся из эмиграции Троцкий занял в большевистском правительстве важный пост: он стал народным комиссаром по иностранным делам. Когда Мышонок узнал, что его кумир приехал в Одессу, он отправился туда, заняв у соседей телегу с лошадью, чтобы увидеть его. Но не застал.
Новое правительство заключило мирный договор с Германией, но тем временем началась Гражданская война, красные (большевики) сражались против белых, уничтожались целые города и поселки. Черновицкое пострадало не так сильно, но напуганный отец Мышонка решил увезти семью в Бразилию, тем более что там уже обосновались родственники.
Мышонок ехать не пожелал. Мое место здесь, повторял он, я хочу участвовать в революции, в построении нового общества. Таков был его долг перед Ёсей, во второй раз он не имеет права сплоховать, теперь-то он выполнит задание. С матерью случился нервный припадок, она кричала, что покончит с собой, если сын с ними не поедет. Мышонку пришлось уступить. В один прекрасный вечер семья покинула местечко, забрав с собой минимум вещей. Они переправились через реку (их вез тот же лодочник, но на этот раз он помалкивал), в Румынии сели на поезд до Гамбурга. Оттуда на старом грузовом судне отплыли в Бразилию.
Поселились Кантаровичи в Порту-Алегри. Мой дед, Исаак Кантарович, открыл маленькую швейную фабрику. Он предложил брату присоединиться, но Беньямин на это не пошел: он не мог позволить себе присваивать прибавочную стоимость, эксплуатировать наемных работников. Нашелся в городе один портной-троцкист по имени Леополду Рибейру, которому понравилось, как работает Мышонок, и он нанял его в подручные, а потом сделал компаньоном. Многие годы они ловили каждую весточку о Льве Троцком, читали и обсуждали его книги и статьи. Мышонку этого хватало: политика была для него миром идей, миром печатного слова. Леополду стремился к большему. Он жаждал действия, революционного действия, мечтал участвовать в забастовках, строить баррикады, сражаться, штурмовать правительственные здания. Когда вспыхнула гражданская война в Испании, он решил, что его час пробил. Добровольцы со всего мира, в том числе и из родного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, вступали в интербригады, чтобы воевать за республику. Леополду решил последовать их примеру. Жене и дочери, которых его идея повергла в панику, он объяснил, что это его долг, что жизнь бессмысленна, если не посвятить ее делу революции. Он уже купил билет, но за два дня до отъезда попал в больницу с аппендицитом, перешедшим в перитонит. В больнице он пролежал месяца два и, когда вышел, был слишком слаб для путешествия. К тому же скоро стало ясно, что у республиканцев шансов нет, так что он ограничился сбором средств для интербригад и распространением листовки, которую сам сочинил и озаглавил республиканским лозунгом «Но пасаран!»
Не осуществился и другой его план. Порвав со Сталиным, Троцкий отправился в изгнание в Мексику. Леополду был возмущен: Троцкий вынужден покинуть страну, за которую боролся, которой отдал лучшие годы своей жизни. В то же время портному пришло в голову, что можно навестить лидера в его доме в Мехико в районе Койоакан. Друга он позвал с собой. Мышонок думал было поехать, но он панически боялся летать самолетом, а именно этим видом транспорта Леополду намеревался добраться до далекой мексиканской столицы. Так что Беньямин от поездки отказался, но сказал другу, что у него есть к нему просьба.
— Какая просьба? — спросил Леополду.
— Хочу, чтобы ты спросил кое о чем у Троцкого, — он помолчал. — Но прежде мне надо рассказать тебе одну историю.
И он рассказал о своем путешествии в Прагу, о задании, которое так и не выполнил. Когда он закончил, Леополду расхохотался. Он хохотал до слез. Мышонок смотрел на него с удивлением и обидой.
— Извини, Беньямин, — произнес Леополду, не успев отдышаться, — но это ж прямо анекдот. Как ты все перепутал…
И снова расхохотался, чем привел Беньямина в ярость. Леополду опять извинился и наконец спросил, о чем друг хотел узнать у Троцкого.
— Спроси у него, — сказал Мышонок, — какое все-таки задание он хотел поручить Ёсе.
Вдруг посерьезнев, Леополду взглянул ему прямо в глаза:
— Я задам ему этот вопрос, Мышонок. Мне не трудно. Но подумай вот о чем: а если Троцкий мне скажет, что он не помнит никакого Ёсю? Если он уже все это позабыл? Ему через многое пришлось пройти в жизни, ты ведь знаешь. То, что кажется тебе важным, для него, возможно, просто пара слов с юношей, приехавшим к нему в Париж, как многие другие молодые люди, которых он уже наверняка не помнит.
Мышонок долго молчал, опустив голову. Наконец поднял глаза:
— Ты прав, — пробормотал он. — Ничего не спрашивай.
Поездка в Мексику не состоялась. Будучи лицом подозрительным (а это было время диктатуры Жетулиу Варгаса), Леополду с большим трудом добился, чтобы ему выдали паспорт. Когда он в конце концов получил долгожданный документ, было поздно: Троцкий пал от руки убийцы в своем собственном кабинете.
Леополду и Мышонок, разумеется, были не единственными троцкистами в Порту-Алегри. Но другие троцкисты их недолюбливали. Леополду казался им зазнайкой, а Мышонок — размазней. Друзья оказались в изоляции. Их это мало волновало: авангард всегда немногочислен, с гордостью повторял Леополду. Так что они продолжали вдвоем читать и обсуждать за работой труды Троцкого.
— В «Истории русской революции», — говорил Леополду, выкраивая полу пиджака, — Троцкий говорит о великой загадке революции. В чем эта загадка?
Сидя за швейной машинкой, Мышонок без колебаний отчеканивал:
— В том, что первой поставила у власти пролетариат отсталая страна. А где надо искать разгадку этой загадки?
— В своеобразии этой отсталой страны, — с надменной улыбкой парировал Леополду.
Это дружеское соревнование, однако, в конце концов переросло в горячие дискуссии. Друзья на многое смотрели по-разному, будто члены разных фракций. Однажды после особенно горячего спора о диктатуре пролетариата они поссорились и долго не разговаривали друг с другом. Помирились только незадолго до смерти Леополду, в 1944 году, успев еще пару раз обменяться мнениями по несущественным вопросам (врач Леополду не велел ему волноваться). После смерти друга у Мышонка не осталось единомышленников. И работать вместе стало не с кем. Он теперь сидел в ателье один. Тем временем Исаак расширил свое предприятие, женился, у него родились дети, потом появились внуки.
А Мышонок не мог забыть Берту — единственную великую любовь всей своей жизни. Многие годы он разыскивал ее. Ему удалось добыть адрес ювелирного магазина, он отправил туда письмо, которое вернулось с пометкой, что фирма прекратила свою деятельность. Он хотел было ехать разыскивать ее в Европу, брат даже предложил ему денег на дорогу, но Мышонок гордо отказался. Когда он наконец скопил нужную сумму, стало не до поездок: Вторая мировая война была в разгаре. В 1946 году с помощью одной организации, помогавшей беженцам, он наконец выяснил, что стало с Бертой: она попала в концентрационный лагерь Треблинка и умерла там незадолго до освобождения.
Единственной памятью о пражской эпопее оставался текст Кафки. Он стал для Мышонка чем-то вроде реликвии: Мышонок перечитывал его столько раз, что зазубрил наизусть. Он прочел и другие произведения Кафки в оригинале, для чего специально брал уроки немецкого языка.
По правде сказать, такой странной литературы он не понимал. Человек, превратившийся в насекомое — где это видано? А тот тип — главный герой «Процесса», арестованный за провинность, о которой не имел ни малейшего представления? А рассказ «В исправительной колонии», где невиданный аппарат делает татуировки на теле заключенных? Прогрессивный это автор или реакционный? Не умея составить собственного мнения, Мышонок разделял настороженность коммунистов по отношению к творческому наследию Кафки.
Но речь шла не столько о литературе, сколько о драматическом эпизоде его собственной биографии, хранимом в строжайшей тайне. Один журналист из Порту-Алегри каким-то образом дознался, что местный портной Бенжамин Кантарович был знаком с великим Францем Кафкой. Уж как он только не пытался добиться интервью! Но тщетно. Мышонок твердил, что это сугубо личное дело, которое он не намерен ни с кем обсуждать. Журналист настаивал; у него был мощный аргумент: за пару дней до того на аукционе в Лондоне письмо, подписанное Кафкой, было продано за восемь тысяч пятьсот долларов. По цене можно было судить о значительности автора. Один коллекционер из Сан-Паулу предлагал за любой документ, подписанный Кафкой, такую же или даже большую сумму.
— Да, у меня действительно есть автограф Кафки, — признался Мышонок. — Но не спрашивайте меня о нем.
Журналист никак не мог угомониться: это ведь настоящая сенсация, об этом надо трубить во все трубы. Он даже деньги стал предлагать за разрешение на репортаж. Тут Мышонок схватил ножницы и, размахивая ими, обратил беднягу в бегство.
Но одному человеку Мышонок о Кафке рассказал. И этим человеком был Жайми Кантарович.
Внучатый племянник завоевал сердце Беньямина с самого своего младенчества. Племянников, и обычных, и внучатых, имелось у Мышонка хоть отбавляй, но родные были ему, в сущности, до лампочки. Да и семья не очень его жаловала. Странный он какой-то, говорили все. Но Жайми общего мнения не разделял. Возможно, потому, что сам себя считал во многом похожим на Мышонка. Родители Жайми развелись, рос он очень болезненным, из-за родовой травмы ходил с трудом, был слабым, беззащитным, но обладал чрезвычайно острым умом и очень любил читать. Обнаружив, что у двоюродного дедушки небольшая, но тщательно подобранная библиотека, он попросил разрешения навещать его. Любому другому Беньямин бы сказал нет, но маленькому Жайми (которому тогда было лет десять) он не мог отказать ни в чем. Ему даже стало нравиться обсуждать книги с племянником, время от времени он рекомендовал ему того или иного автора.
Но не только любовь к чтению сближала их. Подростком Жайми увлекся политикой, начал участвовать в студенческом движении и вскоре стал признанным вожаком, чем дал Беньямину повод для гордости. Но гордился дядя недолго: племянник считал себя сталинистом, так что Троцкий для него был предателем, принявшим мучительную смерть по заслугам. Они отчаянно спорили. Много раз возмущенный Беньямин выставлял племянника за дверь. Тот обещал больше не возвращаться. Но каждый раз приходил снова. Привязанность к старику была сильнее разногласий.
В отличие от своих товарищей Жайми обожал Кафку. Свободно владея немецким (и английским, и французским), он прочел несколько книг этого автора. Первым оказалось «Превращение». Оно — как сам он признавался — перевернуло ему душу. Это был запредельный опыт, озарение. Однако Жайми растерялся. Ему было известно, что коммунисты Кафку не одобряют, предпочитая ангажированных писателей, чьи произведения, в отличие от книг Кафки, можно использовать в качестве пропаганды.
Однако из-за всего этого отношения дядюшки и внучатого племянника не портились. Наоборот, они чувствовали себя все более близкими по духу. Жайми не ладил с остальными членами семьи — узколобые буржуи! — и мало общался с отцом (тот жил далеко, в другом штате) и с матерью, особой нервной и обидчивой. Но редкий день обходился у него без визита к Мышонку. Часто он приводил с собой подружку, Беатрис Гонсалвис. Она была чуть постарше Жайми. Дочь художника, красивая эмоциональная девушка, Беатрис, как и Жайми, любила читать, обожала Кафку. Втроем они разговаривали часами, пока Беньямин не выставлял влюбленных за дверь.
Когда в 1964 году случился переворот, Жайми было восемнадцать и он учился на первом курсе филологического факультета Университета Риу-Гранди-ду-Сул. С самого начала он принимал участие в маршах протеста против военных властей, его имя вскоре попало в список подрывных элементов Департамента политического и общественного порядка (Депопа). Это парня не испугало. Наоборот, раззадорило. Он подписывал все манифесты, ходил на все шествия. Однокурсник, у которого были связи в Депопе, обнаружил, что имя Жайми фигурирует в нескольких списках подозреваемых и что только по случайности его до сих пор не задержали, и это весьма обеспокоило его товарищей. Было созвано экстренное собрание, на котором решили, что Жайми должен на время исчезнуть, переехать в большой город, скажем, в Сан-Паулу, где его никто не знал. Самому парню идея совсем не нравилась, но пришлось согласиться с решением коллектива.
Только с двумя близкими людьми обсудил Жайми вопрос о переезде. Одной из них была Беатрис. Возлюбленная сказала, что не оставит его, переедет вместе с ним в Сан-Паулу.
Вторым был Мышонок. Для Мышонка, человека далеко не молодого, планы племянника стали серьезным ударом. Детей у Мышонка не было, и Жайми заменил ему сына, стал его единственной привязанностью.
Но, услышав новость, Мышонок взял себя в руки. Он знал, что в Порту-Алегри мальчику оставаться опасно, что переезд в Сан-Паулу может спасти его от тюрьмы. Но возникали другие проблемы. Где он будет жить? И на что? На это у Жайми не нашлось ответа. Он не хотел просить денег ни у отца, ни у других родственников.
— Может, работу найду, — сказал он без особой уверенности.
— А университет? Учеба?
Он пожал плечами:
— Университет, учеба подождут, пока не добуду презренного металла.
Разговор происходил в гостиной маленькой квартирки Беньямина. Дядя с племянником немного помолчали, вид у старого портного был потерянный. Вдруг он встал:
— У меня кое-что есть для тебя. Одна вещь, которая тебе поможет.
Он отодвинул картину, висевшую на стене, за картиной обнаружился небольшой сейф.
В сейфе не было ничего, кроме коричневого конверта, Мышонок достал его и протянул Жайми:
— Думаю, это решит твои проблемы.
Жайми открыл конверт, вынул оттуда пожелтевший от времени листок и, прочтя то, что там было написано, изумленно уставился на Беньямина:
— Но ведь это Кафка!
— Да, это Кафка, — подтвердил Мышонок, улыбнувшись. — Это оригинал текста Кафки. Подпись там его собственная.
И он рассказал всю историю, историю, которую Жайми выслушал, не веря своим ушам, и которая его буквально ошеломила: он и представить себе не мог, что дядюшка пережил подобное приключение. Он снова взглянул на листок:
— Но ведь это драгоценность.
— Да, где-то восемь с половиной тысяч долларов.
— Погоди, Мышонок, — Жайми был потрясен, даже встревожен. — Ты же не думаешь продать этот автограф?
— Нет, — ответил Мышонок. — Я его продавать не собираюсь, тем более что здесь, в Порту-Алегри, вряд ли найдется подходящий покупатель. Это ты его продашь в Сан-Паулу. Я слышал об одном коллекционере, который наверняка хорошо заплатит. И вот тебе презренный металл и решение проблем, по крайней мере года на два.
Жайми помолчал, разглядывая рукопись. Потом поднял глаза на Мышонка.
— Нет, Беньямин, — пробормотал он так, будто ему сдавило горло. — Я это принять не могу. Не потому, что это слишком дорогой подарок. А потому, что в этой записке — часть твоей жизни.
— Глупости, — отозвался Мышонок. — Полная ерунда. То, что там написано, я знаю наизусть от начала до конца, от конца до начала и в любом порядке. Хочешь убедиться?
Он сосредоточился и тут же процитировал на слегка неуверенном немецком:
— Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opfrekrüge leer; das wiederholt sich immer wieder; schlieslich kann man es vorausberechnen, und es wird ein Teil der Zeremonie.
И взглянул на парня с победным видом.
— Видал? Потому мне эта бумажка и не нужна. Я буду счастлив, если она тебе поможет. Думаю, и Кафке это было бы по душе.
Жайми не соглашался:
— Но ведь этот текст так тебе дорог…
— Ты мне гораздо дороже, — кротко возразил Беньямин.
Вдруг Жайми порывисто обнял Мышонка. Так они стояли обнявшись, и плечи парня подрагивали от рыданий. Наконец Жайми выпустил старика из объятий и посмотрел на него:
— Что тебе сказать? — спросил он. — Разве что большое спасибо?
— Не меня благодари. Благодари Кафку. Он уничтожил почти все свои рукописи. Потому его тексты — такая редкость. И стоят, сколько стоят.
Перед уходом Жайми снова обнял Мышонка.
Было восемь вечера. Парень позвонил товарищам с телефона-автомата, назначил встречу дома у Беатрис и тут же отправился туда.
Там вся компания оставалась до полдвенадцатого. Когда выходили из дому, трое незнакомцев, представившись агентами Депопа, объявили, что они задержаны. В начавшейся неразберихе всем удалось унести ноги, кроме Жайми. Зная, что из-за хромоты далеко ему не убежать, он начал драться с полицейскими, и этим помог скрыться остальным. В час ночи Мышонка разбудил нервный стук в дверь.
— Кто там? — спросил он в тревоге.
— Это я, Мышонок, — ответил голос, в котором слышалось отчаяние.
— Я — это кто?
— Беатрис, подруга Жайми. Открой, пожалуйста.
С трудом (по ночам ревматизм терзал с особенной силой) старик поднялся с кровати, завернулся в рваный халат и поплелся открывать. Беатрис стояла перед ним вся в слезах:
— Ах, Мышонок, беда, беда…
И она рассказала ему, что произошло. Когда она закончила свой рассказ, воцарилось тоскливое молчание.
— Положись на меня, — произнес наконец портной. — Я все улажу.
— Ты, Мышонок? — она не смогла не улыбнуться сквозь слезы. — Ты что, в ателье собираешься?
— Это часть моего плана, — ответил Мышонок. — Я знаю, что ты пока ничего не понимаешь. Но не волнуйся: все будет как надо.
— Но Мышонок, Жайми…
— Знаю, девочка, знаю. Но положись на меня. А сейчас иди домой. Отдохни. Завтра получишь добрые вести.
Мышонок шагал по пустынным улицам к старому зданию в центре Порту-Алегри, в свою мастерскую. Сторож, увидев его, удивился:
— Ты здесь? В этот час? Что случилось, Мышонок?
— Срочный заказ, — ответил портной.
— Заказ в четыре утра? — не унимался любопытный. — Не иначе похороны. Или свадьба.
— Свадьба, — ответил Мышонок.
— Ну тогда ничего еще, — заключил сторож и сделал погромче звук своего приемника.
Мышонок вошел в старый-престарый лифт, поднялся на третий этаж, открыл дверь, на которой до сих пор значилось: «Леополду и Бенжамин, портные», вошел, зажег свет. Подошел к шкафу, стоявшему в углу у стены, вынул ключ из кармана и отпер дверцу. И вздохнул: да, там лежало именно то, что надо. Шикарный отрез английского кашемира цвета соли с перцем, роскошная ткань. Мышонок купил его у контрабандиста вскоре по приезде в Порту-Алегри. Думал сшить себе из него костюм, возможно, к свадьбе, если бы судьбе было угодно, чтобы он вновь встретился с Бертой, и если бы она согласилась… Судьба решила иначе, другую женщину он не встретил, отрез английского кашемира так и остался в шкафу, обложенный средствами от моли.
Со сдавленным вздохом разложил Мышонок отрез на столе. Потом, наморщив лоб, полистал старую тетрадь, нашел нужные записи и принялся за работу. Три часа, не разгибаясь, с бешеной скоростью он кроил, наметывал, сшивал, подшивал, пришивал пуговицы. И каждую минуту поглядывал на старые ходики на стене, явно боясь опоздать. Вдруг в самый ответственный момент погас свет. Мышонок продолжал работать при свече, пока не закончил. И, оглядев то, что получилось, не смог сдержать еле слышного победного возгласа. Да, это, без сомнения, был лучший костюм, который он сшил за всю жизнь, его портняжный шедевр.
Он аккуратно положил костюм в саквояж и вышел. В центре по-прежнему не было света, так что пришлось спускаться по лестнице пешком. До первого этажа он добрался еле дыша и был так бледен, что сторож испугался: тебе плохо, Мышонок? Вызвать врача?
Нет, Мышонок не хотел никакого врача. Он вышел и сел в такси на ближайшей стоянке.
— Куда? — спросил таксист.
— В Депоп. Знаешь, где Депоп?
— Вы туда с доносом? — сострил шофер. — Или сдаваться?
— Не говори глупостей. Поехали.
Шофер рванул с места, и через десять минут они были у Депопа.
Мышонок обратился к человеку за стойкой и спросил комиссара Франсиску.
— Как ваше имя? — поинтересовался дежурный.
— Бенжамин. Я его портной…
— Портной? — дежурный нахмурился. — Не знаю, примет ли вас комиссар. Он только что пришел на работу, у него на сегодня все забито, ни одной свободной минуты в расписании.
— Но у меня тут готовый заказ для него, — настаивал Мышонок.
Дежурный снял трубку внутреннего телефона и обменялся парой слов в полголоса с комиссаром. Потом повесил трубку на крючок.
— Проходите. Второй этаж.
Комиссар, мужчина плотный, высокий, усатый ждал его один в кабинете.
— Я бы тебя не принял, Мышонок: у меня дел по горло, но мне стало любопытно, что за заказ. Что это ты такое выдумал?
Вместо ответа Мышонок раскрыл саквояж и достал костюм.
— Это мне? — удивился комиссар.
— Вам. Подарок от вашего портного.
Комиссар рассматривал костюм, не скрывая восхищения: вот красота! Слушай, Мышонок, это лучший костюм из тех, что ты мне шил, а ведь мы не первый день знакомы.
Он примерил пиджак, тот сидел как влитой. Левый рукав был на несколько миллиметров короче правого: Мышонок, пусть чисто символически, оставался верен своим принципам, но полицейский этого не заметил: идеально, повторял он, просто идеально. И вдруг, с подозрением, спросил:
— Но тебе-то чего от меня надо за этот костюм?
Мышонок начал было что-то сбивчиво объяснять: вы, мол, старый клиент, такой хороший клиент, а Рождество, можно сказать, на носу, и вот я решил…
Комиссар перебил его:
— Послушай, Мышонок, меня не проведешь. Чего-то ты от меня хочешь. Так что не будем тянуть резину, а лучше сразу выкладывай, в чем дело.
Пора. Мышонок сглотнул комок в горле и начал:
— Сегодня ночью ваши агенты задержали парнишку…
— Да, точно. Рапорт уже у меня на столе. Как раз собирался читать.
Он взял листок со стола, проглядел, заиграл желваками. Взгляд, когда он поднят его на Мышонка, был совсем не дружеским, а ледяным, пронизывающим.
— Жайми Кантарович — твой родственник?
— Да.
— И ты хочешь, чтобы я его отпустил. — Он швырнул листок на стол. — Не выйдет, Мышонок. Этого я сделать не могу. Этого парня выпускать нельзя.
Чуть не плача, Мышонок стал уговаривать: это несчастный мальчик, родители развелись, сам хромой — удивительно ли, что он всем недоволен? Но вообще-то парнишка совершенно безобидный, ни в какой подрывной организации не состоит. Просто не в меру болтливый студент. Да к тому же он переезжает в Сан-Паулу. Комиссар снова взял в руки рапорт:
— Но он под следствием, Мышонок. Возможно, тут речь идет о международных связях. Агенты нашли при нем документ на немецком, подписанный неким Кафкой. Вот этот документ.
И он показал Мышонку рукопись Кафки.
— Ты знаешь, что это за тип?
— Знаю, — сказал Мышонок. — Это писатель. Он уже умер, но я был с ним знаком, когда жил в Европе. Он сам мне дал этот текст.
— Писатель? — комиссар все еще сомневался. — Никогда не слышал о таком писателе.
Тут ему пришла в голову одна мысль:
— Погоди. У нас тут есть следователь, который что-то там пописывает. Может, он знает.
Комиссар снял трубку, набрал номер:
— Алло, Фелисберту? Это комиссар Франсиску. Нужна информация. Насчет литературы. Скажи, ты слышал когда-нибудь о таком Кафке? Да? Это действительно писатель? Сложный для понимания? На каком языке писал? На немецком? А, ну хорошо.
Он повесил трубку.
— Ты прав, Мышонок. Кафка — это действительно такой писатель. Слушай, ты ведь понимаешь по-немецки, а? Так переведи мне, что тут написано.
Мышонок перевел. Комиссар слушал, в недоумении морща лоб.
— Что за хрень? Леопарды в храме? Какие еще леопарды? Какой храм? А это не условное имя, Мышонок? Типа клички? Леопарды в храме… Похоже на название подрывной группировки.
— Это не группировка, — заверил Мышонок. — Это просто он так пишет.
— Ты уверен? — комиссар казался не вполне убежденным.
— Честное слово.
Мышонок не имел обыкновения лгать, комиссару это было доподлинно известно.
— Ладно, поверю тебе. Надеюсь, ты меня за нос не водишь.
Он молчал, казалось, колебался, но в конце концов решил все же удовлетворить свое любопытство:
— Ты мне вот что скажи, Мышонок. Мы давно знакомы, я знаю, что ты много читаешь. Тебе вот такое нравится? Когда так пишут?
— Нет, — сказал Мышонок. — Дерьмо, а не литература.
— Ну ведь правда? — обрадовался комиссар. — Разве не дерьмо? Ни хрена не разберешь. Леопарды в храме… Кому нужны эти леопарды в храме! Ни складу ни ладу. По-моему, чистый идиотизм. Знаешь что, Мышонок? Да пошли они… эти леопарды со своим храмом!
И, облегчив душу, он удовлетворенно усмехнулся:
— Везет тебе, Мышонок. Я сегодня добрый. Отпущу твоего родственника. Но чтобы и духу его здесь не было, слышишь?
Он взял чистый лист, нацарапал на нем несколько строк и прочел их Мышонку:
— «Доказано, что данный документ является литературным текстом, автором которого является давно умерший иностранный писатель. Элемент Жайми Кантарович отпущен по причине отсутствия доказательств, но остается под наблюдением».
Он снял трубку, набрал уже другой номер:
— Можете выпускать этого Кантаровича. За ним родственник придет. Что? А, понимаю. Ладно. Нет, оставьте как есть.
Он повесил трубку, поглядел на портного:
— Должен тебя предупредить, Мышонок: вид у него не самый презентабельный. Ты ведь знаешь, бывает, следователь во время допроса перестарается и уж приложит так приложит. Так что ты не удивляйся. Тебя ждут у черного хода. Выходи по-тихому.
Он протянул Мышонку текст Кафки:
— Это твое, забирай.
Но прежде чем Мышонок успел протянуть руку, он передумал:
— Ты говоришь, это никакого отношения к подрывной деятельности не имеет. Я тебе верю, но на всякий пожарный…
И он разорвал листок на мелкие кусочки и бросил в корзину для бумаг. Мышонок не шелохнулся.
— Тебе без надобности. Ты ведь сам сказал, что это дерьмо, верно?
— Сказал, — спокойно проговорил Мышонок.
— В таком случае, это бесполезная бумажка, мусор. Я для тебя доброе дело сделал… А теперь иди. И помни: ни слова никому о нашем разговоре. Если узнаю, что ты проболтался, отрежу яйца. Тебя и так уже там укоротили, потеряешь и остальное. Ладно, иди, пока я не передумал.
Мышонок спустился по лестнице, прошел по длинному коридору до заднего подъезда. Там его ждал Жайми в сопровождении агента. Парень представлял собой жалкое зрелище: все лицо в кровоподтеках. Несмотря на уговоры Мышонка, он и слышать не захотел ни о больнице, ни о врачах. Зашел домой за чемоданом, который был сложен заранее. Потом простился с матерью и с Беатрис и отправился прямо на вокзал. Восемь вечера. Спрятавшись за деревом, Мышонок следит за воротами Депопа. Вот вышли служащие, окна одно за другим погасли. Последним, как и ожидал Мышонок, вышел уборщик с большим мусорным контейнером и поставил его на проезжую часть у самого бордюра.
Мышонок подал знак водителю стоявшего неподалеку старенького микроавтобуса. Машина тронулась с места и остановилась перед зданием. Шофер вышел и вместе с Мышонком через задние двери затолкал контейнер в машину. Едем, едем, торопил Мышонок в тревоге. Машина завелась с трудом. Шофер тоже нервничал.
— Во всяких переделках приходилось бывать, — сказал он, — но мусорный контейнер ворую в первый раз.
— Заткнись, — проворчал Мышонок. — Зря я, что ли, столько тебе плачу?
Как было заранее условлено, они покружили по городу, прежде чем подъехать к дому Мышонка. Шофер снова помог дотащить контейнер. На этот раз до гостиной Мышонка. Получив деньги, водитель собирался уйти, но вдруг вернулся:
— Просто из любопытства: ради каких таких выгод старик вроде вас может воровать этот хлам? Да еще и у Депопа?
— Я подрывной элемент, подпольщик, — сказал Мышонок, — и выполняю задание. Суперважное задание.
Шофер смотрел на него недоверчиво, не зная, как на это реагировать. Мышонок засмеялся:
— Вру. Ты и вправду хочешь знать? Так и быть, признаюсь, — он понизил голос. — Никому не рассказывай. Я коллекционирую мусорные контейнеры. Этот — десятый за последний месяц.
Шофер снова посмотрел на него ошарашено, и тут оба расхохотались. Шофер на прощание предложил свои услуги для будущих мусорных краж: мне только свистни! — и ушел. Мышонок принес из кладовки кусок брезента, расстелил его, вывернул на брезент содержимое контейнера и начал тщательно его изучать.
Поиски затянулись на долгие часы. В контейнере чего только не было: рваные бумажки, сожженные и полусожженные фотографии, апельсиновые корки, кожура бананов, пустые бутылки, окурки сигар и сигарет, спичечные коробки, одноразовые картонные тарелки с остатками еды.
Уже светало, когда Мышонок наконец нашел то, что искал: клочок бумаги со словами Leoparden in.
И это все, что осталось от текста Франца Кафки, чешского писателя, родившегося в Праге в 1883 году и умершего от туберкулеза в 1924-м. С этим обрывком, заключенным в рамку, Мышонок не расставался до конца жизни. В последние дни, уже в 1980-м, он стоял на тумбочке в изголовье его больничной кровати. О нем же он думал — и бредил — умирая. Старичку что-то мерещится, он все твердит о леопардах, говорили мне больничные санитары и сиделки. Но я-то знал, что это не галлюцинации, во всяком случае, не просто галлюцинации. В последнюю ночь я сидел у его кровати. Он лежал неподвижно, сжав кулаки.
Он стоял неподвижно, сжав кулаки. За его спиной — кованые ворота, храм, золотые жертвенные чаши, инкрустированные драгоценными камнями ослепительной красоты. И никто их не охраняет: жрецы в панике бежали. Остался один Мышонок. Мышонку страшно, но он не бежит. К храму он не имеет никакого отношения: не верит в тех богов, которым в нем поклоняются или поклонялись. Он вообще не признает религий: для него религия — опиум для народа. Но речь не об этом. Речь о другом, о самом важном для него. И потому он ждет, неподвижно, сжав кулаки. Ждет давно: много дней, может, недель или месяцев, а может, и лет. Да, именно, много лет. Много-много лет. Другой бы уже отступил. Но только не Мышонок. Мышонок уверен: они придут. Однажды он с ними уже встречался. Ему знакома их яростная решимость. Да, они явятся на эту последнюю встречу.
Стемнело, и из мрака голоса зовут его: иди сюда, Беньямин, заходи в дом, ужинать пора. Это родители, братья и сестры. Они переживают за него, не хотят, чтобы он рисковал. Мышонок тронут, но поста своего не оставит. Он дождется последнего боя. Так поступил бы Ёся, его друг Ёся. Ах, если бы Берта могла его сейчас видеть! Он защищает золотые стаканчики, он и не думает их воровать. Теперь она бы ему поверила, поняла бы, что он хотел сказать ей тогда, много лет назад, когда говорил о задании. Нет ни Ёси, ни Берты. Нет Жайми, отважного Жайми, разбившегося насмерть в машине в Сан-Паулу. Он один. Но это не важно.
Вдали слышен слабый шум, невнятное сопение. Он прислушивается: не они ли?
Они. Они спешат сюда по тропинке. Леопарды. Два роскошных представителя ныне исчезающего вида. Они бегут бок о бок, облизываясь. Их мучит жажда: уже много лет они не пили напитка, налитого в чаши, и аромат влечет их.
Увидев Мышонка, огромные кошки замирают. Маленький человек и мощные звери смотрят друг другу в глаза. Вот он, момент истины. Мышонок должен бы бежать: этого ждут леопарды. Пусть смывается, пусть садится в поезд и катится в свое жалкое местечко на юге России.
Но Мышонок не делает этого. Он просто стоит неподвижно, сжав кулаки. Но пасаран, бормочет он сквозь зубы. Но пасаран. Леопарды смотрят на него. Один из них издает громоподобный рык. Но Мышонок и бровью не ведет. Он стоит неподвижно, сжав кулаки. Но пасаран.
Леопарды разворачиваются и медленно исчезают во мраке, из которого и явились. Почти непроизвольно Мышонок громко вздыхает. Леопарды ушли. Где теперь леопарды? Не в храме. Нет, не в храме.
Теперь Мышонку можно и отдохнуть. Затворив врата храма, он уходит.






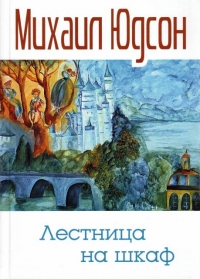
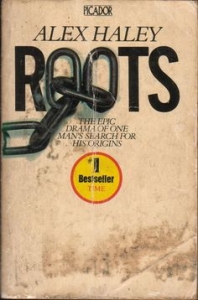
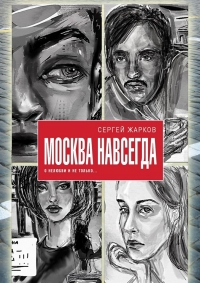
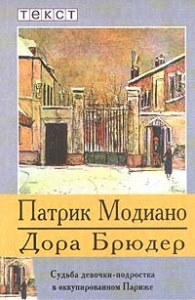

Комментарии к книге «Леопарды Кафки», Моасир Скляр
Всего 0 комментариев