Евгений Орел Черно-белый Чернобыль
Записки обывателя
Слово о книге
...
Воспоминания о Чернобыле Евгения Орла – книга чрезвычайно интересная, и не только потому, что автор был очевидцем чернобыльских событий 86-го года, ведь существуют и другие мемуары – непосредственных ликвидаторов или ответственных лиц, руководивших ликвидацией последствий и эвакуацией. Были опубликованы и документальные воспоминания, и дневники, и стихи на эту тему. Но «Чёрно-белый Чернобыль» – вещь уникальная в том плане, что это одновременно и воспоминания – причём не просто частного лица, а человека, по роду своей работы принимавшего и выслушивавшего сотни людей, и эвакуированных и ликвидаторов. Да и сам Орёл был во время взрыва и следующих нескольких дней непосредственно в Припяти, и приезжал туда несколько раз после взрыва.
Однако это не только воспоминания, но полноценная художественная проза, хоть и с участием не выдуманных персонажей, а живых, настоящих людей, с подлинными фамилиями и судьбами. Просто автор, кроме того, что он очевидец взрыва на ЧАЭС, ещё и талантливый литератор, который пишет прекрасные рассказы, увлекается стихами и переводами, наделён таким редким даром, как живой, бойкий литературный слог в сочетании с искромётным чувством юмора. Поэтому ему удалось создать не документальные мемуары, не газетные статьи, а то, что находится на грани жанров: художественные мемуары или литературные воспоминания, к тому же, насыщенные драматическими подробностями и анекдотическими ситуациями. Можно просто коротко сказать: это книга не скучная. Главное её достоинство – в увлекательности подачи настоящих, правдивых фактов, в ракурсе авторского взгляда – из гущи народной. У всех, кто имел возможность слышать или читать мемуары Евгения Орла, они вызывали горячий отклик и жгучий читательский интерес. А это как раз то, что в первую очередь свидетельствует о силе авторского слова.
Светлана Скорик,
член правления Конгресса литераторов Украины, председатель Запорожского отделения Межрегионального Союза писателей Украины, редактор сайтов stihi.proи literator.in.ua.
От автора
Обычный календарный день – 26 апреля 1986 года – разделил нашу жизнь на «до» и «после». Недавно минуло двадцать пять лет, с тех пор как Мир узнал слово «Чернобыль». Немало уж написано – как по горячим следам, так и позднее, более взвешенно и с оглядкой на время. Авария и всё то, что относится к её последствиям, оказались настолько многомерными и многоцветными, что ни одному человеку не передать той богатейшей палитры граней и красок. Я взялся за сравнительно узкий вариант изложения – «черно-белый», поскольку одно из последствий аварии на ЧАЭС – это раскрытие многих человеческих качеств, как «чёрных», так и «белых».
Отдельно замечу, что техническую сторону аварии на ЧАЭС я освещать не намерен (разве совсем чуть-чуть). Это удел специалистов. Данные записки – воспоминания обычного эвакуированного жителя города Припять, ни больше, ни меньше. У меня, таким образом, своя «ниша». Я стараюсь писать о людях. И о себе, потому что мои приключения и злоключения в чём-то отличны, а в чём-то сходны с поворотами судьбы многих сограждан.
Жизнь после аварии продолжалась и продолжается. В ней всё: и любовь, и трагедия, и порядочность, и подлость… Такова она, жизнь.
Читателям искренне желаю мирного неба, счастья и благополучия.
...
Е. Орел
Глава 1. Пролог в диалогах
– Женечка, сыночек, да там же атомная! – По телефону мамин тон казался ещё более взволнованным, чем в жизни, даже слегка паническим. Ну, это у нас родственное: переживать, изводиться по поводу близких, так что и сами «переживаемые» порой изводятся от нагнетаемых ужасов.
– Ну и что? – недоумевал я.
– Так ведь… мало ли… а вдруг авария!
– Мам, да не волнуйся ты! Я читал, что по теории вероятностей возможность аварии на атомной станции – раз в сто лет! – твердил я, искренне веря, что меня ждёт безмятежное будущее и неуклонный карьерный рост.
Разговор проходил в феврале 86-го, когда я перебирался не только в другую систему (из потребкооперации в минфин), но также из Чернобыля, давшего название атомной электростанции, в Припять – где на самом деле она и находится. Сейчас об этом знает каждый, а прежде многие недоумевали: «При чём тут какая-то Припять? Чернобыль ведь!».
Тогда я даже в сюрреальном маразме не мог предположить, какую шутку с нами сыграет та самая теория вероятностей, в студенческую бытность прозванная «теорией неприятностей», и на которую давеча я ссылался для успокоения родной мамы. Хотя сама теория пред нами грешными не виновата. А вот кто виноват – об этом пускай судят профессионалы и Создатели всего сущего.
– Что это? – услышав звуки, напоминающие взрыв, спросил я Володю-приятеля, с которым делил комнату в общаге. – На грозу вроде не похоже. Может, самолёт разбился?
– Это на станции радиацию выбрасывают, – последовал равнодушный ответ с койки у противоположной стены.
– Да ладно тебе! – я даже не придал значения словам, больше напоминавшим бред, чем что-то здравое.
– Да-да, – Володя гнул свое, – такое в прошлом году уже было.
И за что принять эту настойчивость, как не за поток утомлённого подсознания в районе пол-второго ночи, когда ещё не спишь, но уже и полноценно не бодрствуешь? Поняв, что продолжать разговор нет смысла, я пожелал Вовке спокойной ночи. Ответа не последовало. С того края послышалось мирное посапывание, переходящее в негромкий храп.
Этот странный диалог прозвучал в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое апреля в Припяти – городе энергетиков. Народ отдыхал после недельных трудов. Кто ещё вечером отправился на дачу, кто гулял по тихим городским улицам и пышно-зелёным лесопосадкам, кто оттягивался дома перед телевизором, где-то шумела свадьба… Ни один из горожан и подумать не мог, что позади – последний «мирный» день.Глава 2. Накануне
Выключив свет и подкрутив ручку громкости приёмника (чтобы утром не проспать), я устроился поудобней на стандартной общаговской койке. Мысли о радиации да о том, что «такое уже было», вытеснялись более актуальными вещами.
Вспоминался прошедший день.
Накануне в пятницу в зале горадминистрации проходил семинар для бухгалтеров и экономистов предприятий города. Ведущей или, по-нынешнему, модератором выступала заведующая горфинотделом Людмила Александровна Приймак.
В финотделе я занимал двойную должность: заместитель заведующего / начальник отдела государственных доходов. В семинаре такого уровня участвовал впервые. А уж в президиум тем более никогда прежде не попадал.
С возвышения мне казалось, будто все присутствующие только тем и заняты, что разглядывают меня. Чувство робости не давало сосредоточиться, и я нервно перелистывал текст выступления по вопросу…
(Глубокий вдох)
…подведения итогов проверок на предмет достоверности отражения в отчётности результатов Всесоюзного ленинского коммунистического субботника.
(Хух! Еле выговорил!)
Проверки предприятий я же и проводил, а значит, кому докладывать, как не мне?
По сути мой доклад имел больше моральное значение, поскольку выявленные нарушения не порождали финансовых последствий ни для предприятий города, ни для экономики страны.
Как молодому специалисту, мне жутко не терпелось «себя показать». Вот и старался придать докладу как можно больше весу. Удалось это плохо. Лица слушателей всё больше вытягивались. Зал наполнялся откровенной скукой. Такое, знаете ли, безразличие на грани сплина. Пожалуй, если бы я так же «лицедеял» в каком-нибудь итальянском театре, меня бы забросали помидорами. Наша публика более толерантна. Да и не театр ведь, а серьёзное мероприятие.
Ладно, думал я, исправлюсь. Позади двадцать пять, впереди – вся жизнь, с видами на карьеру далеко не призрачными, даже многовариантными. В недалёком будущем ярко светило место в областном финансовом управлении. Заведующая же не раз намекала, что не против перейти на более скромную должность, а меня видела в качестве преемника. Тоже вариант, хоть и сопряжённый с моральными неудобствами.
После семинара завязался диалог с двумя главными бухгалтерами. Один – точно помню – главбух самой ЧАЭС, а другой… не хочу врать, но, кажется, с Чернобыльской химзащиты. Беседа продолжилась в кабинете заведующей. Позвала она и меня, решив, что мне полезно послушать умный профессиональный разговор. За это я сказал бы Людмиле Александровне отдельное спасибо, да уж более пяти лет как её нет среди живых. По странной иронии судьбы похороны совпали с 26 апреля, только года 2006-го, как раз на двадцатилетие аварии.
Засиделись мы часов до восьми. Говорили о новшествах в бухгалтерском учёте, о так называемых АСУ – автоматизированных системах управления. Главбух атомной гордо сообщил, что скоро вся ЧАЭС будет на этом АСУ, сведя почти до нуля громоздкий бумагооборот, который иногда хотелось обозвать, извините, «бумагопомётом».
В девятом часу я направился из городской «ратуши» в сторону общаги. Не по-апрельски жаркий безоблачный день плавно перетёк в нежный безветренный вечер.
По пути слева кинотеатр «Прометей». А не зайти ли к приятелю, тому самому Володе из общежития? В «Прометее» он работал киномехаником и весьма этому радовался: возможность по много раз пересматривать фильмы, да ещё за это не платить, а получать зарплату – чем не кайф для заядлого киномана! Володя давно приглашал «в гости», да я всё откладывал и даже ни разу не побывал внутри кинотеатра. В тот вечер пообещал себе: «Зайду на следующей неделе»…
Ближе к утру мне снились многоцветные контуры людей, машин, домов. Будто в калейдоскопе, они хаотично перемещались под звуки оркестра Олега Лундстрема, исполнявшего «Полёт Валькирий». Откуда-то взялся украинский народный хор и, перебивая вагнеровский шедевр, несколько раз пропел первую строчку из «Реве та стогне Днiпр широкий». Лундстрем недоуменно взглянул на хористов, подал оркестру знак «стоп», а я… проснулся. В без пяти шесть, как и положено, зазвучал приёмник, работающий от 12-вольтовой розетки (в народе такой аппарат звался «матюгальником», правда, по-украински его именовали более нежно – «брехунець»). В Украине, если кто не в курсе, утреннюю радиотрансляцию начинали троекратные позывные из шевченковского «Реве та стогне…», только без слов.
Глава 3. Утро новой эпохи
Проверив, на месте ли автобусный билет, – кажется, на без десяти семь, – я включил электрочайник и намазал маслом два кусочка хлеба. Холостяцкий завтрак готов. Меня ожидали сто двадцать драгоценных минут досыпания в пути, несколько часов праздного шатания по Киеву, а в шестнадцать ноль-ноль – английские курсы на Жилянской (в то время – улица Жадановского).
Предстоял обычный субботний сценарий. Давно отработанный, хоть и не всегда соблюдаемый. Но в этот раз явка на курсы обязательна, потому что наши активисты задумали игру на вроде «Что? Где? Когда?», буквально так и названную: «What? Where? When?». В ней и мне отвели пусть не первую, но и не последнюю, роль.
Подвести нельзя. Одна преподша обозначила условия, что если меня не будет, то она… покончит с собой. Я догадался, что пафос вызван не значимостью мероприятия и уж тем более не важностью моего участия, а лишь профессиональным любопытством – пойму ли я «to commit suicide» (покончить жизнь самоубийством).
Не могла она знать, что ещё в школе мы с пацанами по крупицам собирали фразочки да словечки, которым в классах не обучают. Обменивались находками, придумывали диалоги. Уже тогда мы знали, как за бугром зовутся, например, «большие шишки» (big shots), как применяется бейсбольный жаргон на любовном фронте – «первая база» (поцеловать), «вторая база» (дотронуться до… гм-гм… ну, не важно) и т. п. Не говоря об «f-words» (примитивных эквивалентах наших матюков), нынче известных чуть ли не каждому ребёнку. А тогда эти «изюминки» не были в открытом доступе, и их буквально приходилось добывать из романов, толстенных словарей, выспрашивать у моряков дальнего плавания и других редких счастливчиков, побывавших по ту сторону границы.
Убедившись, что в портфеле всё на месте, – бумажник, паспорт, расчёска, чтиво на английском и уж не помню, что ещё, – я направился к выходу. Попутно буркнул вахтёрше «доброе утро», заглянул в ячейку «О» на предмет писем. Пусто. И ладно. Как гласит поговорка, отсутствие новостей – хорошая новость. (No news is good news.)
На выходе закурил и, вдыхая смесь утренней свежести и болгарского «Родопи» (сигареты были такие), бодро зашагал навстречу новому дню. Если кто сносно знает город Припять, то, думаю, помнит, что автовокзал находится в паре минут ходьбы от общежития монтажного управления по Дружбы Народов, 4.
На подходе к автовокзалу я заметил что-то неладное. Непривычное скопление людей, на лицах недоумение и тревога.
Ни один автобус не выехал. Первый, шестичасовой, стартовал, но на городской черте его завернули на исходную. Кто и почему, выяснить не удалось. А ведь ничто так не пугает, как неизвестность.
Наивно спрашивать, не задерживается ли мой рейс. Конечно, задерживается!
По улицам разъезжали поливальные машины. Только вместо воды они исторгали какой-то белый пенистый реагент. «Странно…».
В общем столпотворении выделялся толстоватый майор милиции. С лукавым подобием улыбки он многократно повторял всем и каждому, что, мол, не надо волноваться: в городе проходят «учения по гражданской обороне». Видать, такова дана инструкция. Только сомневаюсь, что в эту чушь кто-нибудь поверил. Нет, не похоже на учения. А если да, то какому хорошо больному чиновнику понадобилось вовлекать в эти игры весь город, да ещё в выходной день? Н-да, тут явно что-то не так. Но насколько не так?
Когда же заметил, что со стороны атомной в небо валят неимоверные клубы чёрного дыма, понял, что всё не просто «не так», а полный «не так» . В народе звучали версии об аварии на станции. Говорили о ночном взрыве, о выбросе радиации…
«Что-о-о?!»
«Ай да Вовка! Ну ты, брат, и накаркал! А сам, небось, ещё дрыхнешь!»
Глава 4. На пути в Киев
ЧАЭС находится примерно в трёх километрах от города. Спасибо, хоть не в городской черте! По одной из неофициальных версий изначально станцию думали возводить чуть ли не под Киевом (!). Говорили, будто руководство тогда ещё Украинской ССР «отстояло» столицу. Хотя вряд ли эту версию можно отнести к подлинным. Ведь если бы авария произошла у самого Киева – попробуйте-ка на секундочку представить последствия!
Когда-то один академик заявил, что между энергоблоками можно преспокойно ставить… кровать с молодожёнами. Настолько, по его мнению, безопасны атомные электростанции для человека и окружающей среды. Правда, свою кровать он там не поставил. А надо было! Говорю это не из вредности, а из принципа. Где-то читал, что в прежние времена, когда испытывали новый мост, по нему прогоняли тяжелогружёные повозки, а главный строитель (или как он тогда звался?) стоял под мостом. Понятно, что так мог поступить только уверенный в себе специалист и, к тому же, порядочный человек. Ну, это к слову вспомнилось.
Все эти ёрничанья родились на почве слухов, которыми, как известно, земля полнится. А правда состояла вот в чём. Академик Александров действительно утверждал, что его детище – реакторы типа РБМК – можно возводить даже в Москве на Красной Площади. Его уверенность можно понять. Академик знал, что говорил. Да и не он ставил на Чернобыльской АЭС тот эксперимент, оказавшийся трагическим. И потом, если какой-то водила врезается на «Бентли» в столб, никто ведь и не подумает винить в ДТП основателя компании – Уолтера Оуэна Бентли.
Поговорив с людьми, я понял, что ночной взрыв слышали не все жители города. Многие узнали о случившемся только утром. И, конечно, огненный шар и зарево от пожара тоже видели не все. А кто не видел, так на взрыв и внимания не обратил. Да мало ли что там! Но ЧП на станции – такая мысль едва ли кому пришла на ум. Те же, кто загулялся далеко за полночь, подходили поближе. Ведь такое «кино» бывает не каждый день. Если у кого из окон открывался вид на атомную, то, думаю, и они, увидев загадочное зарево, могли не справиться с любопытством.
Нештатные ситуации возникали на ЧАЭС и прежде. И слова моего приятеля о том, что «такое уже было», далеко не плод фантазии. Да, всякое случалось, но проблемы решались оперативно, в секретном режиме, и в выпуски новостей такие события не попадали.
Тем же утром зарубежные СМИ дали первые сообщения, хоть и не совсем точные и уж явно не исчерпывающие. Ведь ситуация представляла собой уравнение со многими неизвестными. Советские же телевидение и радио молчали, «как рыба об лёд». Насколько помню, шведы первыми дали запрос Москве: что, мол, там происходит, а то у нас (у них, то есть) фактический радиационный фон заметно превысил естественный. И не столь важно, какую лапшу отвешивали загранице, но свои граждане, советские, не получили ни толики даже припудренной информации.
Ловцы западных радиоголосов уже кое-что знали. Но именно – «кое-что». Да и много ли среди нас было такого рода радиослушателей?
Окна моей комнаты выглядывали в противоположную сторону. А иначе, как человек любопытный и слегка безбашенный, я тоже двинул бы поглазеть и, возможно, попытался бы чем-то помочь. Понятно, что при таком сценарии данные строки, скорее всего, не были бы написаны.
Жизнь города продолжалась. Школы работали в обычном режиме (суббота в те времена не являлась выходным днём для учащихся), шла подготовка к детской и юношеской спартакиаде, кто-то ходил по магазинам, кто-то соображал «на троих», дети играли во дворах, в том числе и в песочницах… Кстати, песок «любит» радиацию, а та отвечает ему взаимностью, но об этом знали далеко не все.
Даже когда стало ясно, что на станции авария, мало кто мог определить её масштабы, тем более последствия. Скажи тогда, что завтра весь город эвакуируют – кто бы поверил? А добавь, что авария планетарного масштаба – на смех бы подняли. Мы понимали: случилось ЧП, но над этим работают знающие люди, и вскоре всё наладится. Однако даже посвящённые вряд ли могли представить, что дело затянется на десятилетия, а может и на столетия.
«Наверное, понадобится день-два», – подумал я и, поскольку мои планы никто не отменял, направился к остановке пригородных автобусов на окраине города в надежде поймать попутку на Киев. Ну хотя бы в том направлении. Естественно, коль ни один автобус из города не выехал, то на попутный транспорт посягал далеко не я один. Таких претендентов набралось несколько десятков.
Вскоре к нам присоединились и пассажиры поезда «Москва-Хмельницкий», только что сошедшие на перрон станции Янов, вплотную примыкавшей к городу. Поезд попал в зону радиоактивного заражения, и его дальше не пустили.
...
Месяца два спустя кто-то рассказывал, что за неделю до аварии по Янову ходила странная женщина, без конца твердившая: «Скоро Янов – в яму!»
Четыре машины скорой помощи постоянно курсировали между городом и ЧАЭС. На станцию неслись пустые, назад – забитые людьми. Раз промчались туда-сюда, другой, третий… Честно говоря, уже становилось не по себе. Что же там произошло, если вывозят столько пострадавших?
На остановке мы торчали уже не первый час. Я успел разговориться с двумя-тремя незнакомцами. Один – пассажир московского поезда. Приехал навестить родню в селе Копачи. Это километрах в десяти. В обычные дни туда добирались пригородными автобусами «Припять-Чернобыль», и даже киевскими. Ну, так ведь то в обычные дни.
Другой – бородатый мужчина в тёмных очках – оказался врачом. Его оценка происходящего звучала неутешительно.
– Дело, – сказал он, – гораздо серьёзней, чем кажется. Я всё понял, когда увидел, чем они поливают улицы. В городе повышенная радиация. Очень сильно повышенная. И какую дозу мы получаем, даже трудно сказать. Но получаем – это уж точно.
– А до понедельника хоть управятся? – наивно спросил я, мало придавая значения услышанному.
– Только не до этого, – грустно улыбнулся врач, – может и не до следующего.
Не поверил я, но ничего не сказал.
Время шло. Уже перевалило за девять. Но мне же надо в Киев! Об облучении совершенно не думалось. Беспокоило одно: чем добираться? Если выезд из города заблокирован, то нельзя ли хотя бы обойти «кордон», а уж там сесть на попутку? Ведь покинуть город пешим ходом никто не запрещает.
Мою идею поддержал парень, желавший попасть в родные Копачи. Ну, ему-то недалеко, даже если топать до самого села. Подумаешь – каких-то десять кэ-ме! А вот мне до Киева – все сто двадцать. Конечно, не пообещай я приехать на курсы именно в этот день, то, скорее всего, вернулся бы, и для меня всё сложилось бы по-другому. Притом не обязательно с летальным исходом. Но, уверен, откажись я в тот момент от намеченных планов, у меня бы никогда не случилась встреча, полностью изменившая мою жизнь. Да и не только мою.
Итак, мы двинулись пешком на Копачи. Ну прям путники-странники, только посоха не хватает. Люди нам не встречались ни пешие, ни на колёсах. Не помню, о чём говорили, только случившееся старались не обсуждать. Не очень, правда, удавалось. Ещё долго виднелись клубы дыма, пока мы не отошли на большее расстояние.
Мимо нас на Припять пронеслась колонна пожарных машин (далеко не первая, как стало известно позже). Через время – ещё одна. И ещё одна. И ещё… Тревожно, однако.
У одного из нас оказалась бутылка минералки. Очень кстати, потому что пешая прогулка в жару обезвоживает организм беспощадно. По-братски тот бутылёчек и поделили. От предложенного пирожка с капустой я отказался.
До Копачей дошли часа за полтора. Там же и попрощались. Надеюсь, мой случайный спутник нашёл родных в добром здравии. Я же продолжил путь до ближайшего населённого пункта – Чернобыля. В худшем случае, час ходу. А дальше?
Вскоре за селом показался очередной, как бы это назвать… блок-пост, наверное. Опять же, милицейский. Там-то меня и ждала небольшая удача. Какая-то супружеская чета на мотоцикле с коляской ехала из Чернобыля в Припять, но, конечно же, была остановлена. Пришлось поворачивать обратно. Спасибо, не отказались и меня подбросить, так что прокатился с ветерком. С попутным. А ветерок-то дул со стороны Припяти…
По дороге я в меру понимания рассказывал о происшедшем. От услышанного глаза моих благодетелей стали круглее мотоциклетных фар. Ведь менты, перекрывшие движение, ничего не объяснили, сказав только, что проезд временно закрыт… Хм, временно…
В Чернобыле снова блок-пост. Оказалось, все дороги, ведущие в Припять, были поделены на участки. В пределах каждого можно курсировать, сколько душа пожелает. Но выехать за ближайший блок-пост – даже не думай. Так я и добирался до столицы: пешком, попутками, автобусами, снова пешком. И всем, кого встречал, рассказывал о ЧАЭС, будучи для многих первым источником информации о величайшей катастрофе «мирного атома».
На курсах я появился в шестнадцать-десять. Но с учётом дневных приключений опоздание на жалкий десяток минут – не в счёт. Игра ещё не началась, и я улучил момент, чтобы рассказать о событии дня. Новость восприняли не то чтобы с недоверием, а, скорее, с недоумением – как такое могло произойти, да ещё не где-нибудь, а у нас, под боком? Мы привыкли считать, что большие трагедии случаются где-то далеко. И, конечно, не с нами. Но чтобы здесь, да прямо сейчас!?…
А понимал ли я сам, о чём рассказывал? И разве могла тогда прийти мне в голову крамольная мысль о том, что чёрная стрелка циферблата жизни запустилась в режиме «после», а в «до» пути уже нет?
Глава 5. Встреча с «Мариной». Припятский исход
Вскоре началась долгожданная игра. Интерес к моим новостям утратился. Да мне и самому крепко поднадоела роль «герольда». Ведь с самого утра я рассказывал об увиденном каждому встречному-поперечному! Теперь же мне больше думалось: «Может и в самом деле ничего страшного? И всё образуется до завтра-послезавтра?»
…Дымовой столб ветром склоняет в сторону Киева, перед глазами несутся машины огнеборцев и скорой помощи… а тут ещё мрачные прогнозы бородатого лекаря – и оптимизма поубавилось…
…Нет, чёрт возьми! Не может быть! Атомные станции – самые безопасные! Там же лучшие спецы, передовые технологии! И потом, если в этой стране научились делать атомные бомбы, которые таки хорошо взрываются, то как можно не справиться с мирным атомом? Ну, возможны промахи, но ведь…
…Ладно, а поливальные машины: чем они окропляли асфальт? Тогда, на остановке, кто-то ляпнул: «Дефунгин». Стоп! А при чём тут антигрибковые средства? Нет-нет, совсем не то. Наверное, прав тот очкарик (я снова вспомнил врача на остановке), хотя он не уточнил, что это за белая хрень. Но если, как он говорит, уровень радиации выше нормы… то насколько выше? И как много мы хватанули за те пару часов, что проторчали на выезде из города?…
…Да нет же! Какая к бесу радиация? И, вообще, о чём это я? Мне же в понедельник на атомную, со счётной проверкой! Сама Людка поручила! Доверила, значит! (Людкой я про себя называл нашу заведующую, Людмилу Александровну)…
Игра в разгаре, а я никак не могу перейти с «внутричерепной дискуссии» в более экстравертный режим. Подошла моя очередь задавать вопрос «экспертам» (experts), как их предложили именовать, хотя, думаю, для «знатока» больше подходит connoisseur. Да не суть важно.
О доморощенной версии «Что-Где-Когда» писать особенно нечего. Такая себе имитация популярной телетусовки всезнаек. Только без выхода в эфир и не по-русски. Всё ли там прошло честно, утверждать не берусь, но знатоки, конечно же, выиграли.
После игры – небольшой концерт. В нём отличился и я, исполнив под гитару пару вещей из «Битлз» и «Хелло, Долли!». В конце последней сымитировал самого Луи Армстронга, а именно – прорычал его знаменитый скэт «ба-да-да-де-зей… оооуу йееееессс…». Сорвал бурю оваций. Громче всех аплодировал какой-то чернокожий студент.
Когда всё закончилось, мы вышли на улицу, разбившись на группки «по интересам». Я оказался среди пяти-шести соучеников, обсуждавших новый фильм. Об аварии на атомной никто ни разу и не вспомнил. Так, весело болтая и каламбуря, мы не заметили, как дошли до метро «Льва Толстого», где компашка и распалась. Кто-то остался ждать трамвая, прочие спустились в метро, где опять же разделились по двум направлениям. На Оболонь, что в северной части Киева, мне оказалось по пути с симпатичной однокурсницей.
С удивлением узнал, что с этой девушкой мы уже полгода учились в одной группе, но каким-то образом нам удавалось «разминуться»: то меня нет, то её. Ну, я-то жил за сотню километров и не каждую субботу мог вырваться в столицу. Мою же спутницу, как я понял, интересовали не столько занятия, сколько возможность сменить обстановку, пообщаться с ровесниками.
Одним словом, в тот вечер мы и познакомились. И – надо же! – в метро! Только «познакомились», пожалуй, не совсем точно. Она знала, как зовут меня, но спросить её имя мне казалось не совсем удобным – ведь, по идее, к тому времени должен был усвоить.
Говорили о всяких пустяках, смеялись обоюдным шуткам, обсуждали романы Хейли. Но когда я пересказывал эпизод из «Аэропорта»… «А ведь у неё красивая улыбка…» – не дав закончить фразу, мелькнул в голове насмешливый бесёнок…
Не могу избежать штампа, но в этот момент я ощутил что-то вроде дуги электрического разряда, пронзившей меня от подбородка сквозь диафрагму до, извините, пупка…
Мы смолкли, уставившись друг на друга, как заворожённые…
Чуть не проехали станцию «Оболонь» (в то время «Проспект Александра Корнейчука»).
Выяснилось, что наши дома стоят угол в угол. Хотя «наши» – это я малость хватил. Ведь если моя однокурсница жила в своей квартире с родителями и сестрой, то я гостевал у друзей, принимавших меня всегда и радушно, каждые выходные, когда мне удавалось вырваться в Киев. Это была супружеская чета среднего возраста. Замечательные люди. С ними я подружился через их сына, тёзку, знакомого ещё по Чернобылю, до переезда в Припять. Женя, хоть и работал в ЧРЭБе, [1] но из киевской квартиры не выписывался. А кто помнит, как остро в те времена стоял вопрос киевской прописки, тот меня поймёт. Выписаться проще простого, а вот вписаться обратно – даже если возвращаешься к папе с мамой – это чуть ли не геморрой.
Жекины родители оказались добрыми людьми, и даже когда он исполнял «священный долг перед Родиной», по-прежнему предоставляли мне ночлег. Да и не в ночлеге дело. Мы вместе выходили в город, бывали в кино, ездили на шашлыки, в общем, дружили. Вот и в этот раз я шёл к добрым друзьям, Надежде Алексеевне и Александру Ивановичу, не сомневаясь, что меня примут по высшему разряду.
С новой знакомой я простился у её подъезда. Договорились назавтра вместе пойти в Дом Учителя на музыкальный вечер.
Но меня беспощадно буравил один-единственный вопрос:
– Как её зовут?
За ужином я сообщил о происшествии на ЧАЭС. Как и ожидалось, беспокойства новость не вызвала. Александр Иванович прогнозировал, что всё наладится, пусть не за день-два, но за неделю – уж точно. Надежда Алексеевна, кажется, промолчала.
Когда укладывался спать, из головы не выходила «знакомая незнакомка», встреча с которой в один миг перевернула мне всю душу. Пытался вспомнить, как же к ней обращались на курсах. И – не мог! Уже проваливаясь в сон, я «увидел» её на занятиях и едва не выкрикнул на всю квартиру: «Марина!» Обрадовавшись нежданному откровению, я преспокойно отключился.
Утром первая же мысль – о встрече… с Мариной. Только… «А Марина ли?» Вот глупая ситуация! Иду на рандеву, не знаю, к кому. И в руку ли оказался тот сон, не сон – бог знает, что это было. Хорошо ещё, хоть телефон у неё не спросил. А то позвонил бы – «Здрасьте вам! А можно Марину?» И каков шанс по той же теории вероятностей (вот напасть-то!), что она и в самом деле Марина? Ну, ладно, сегодня встретимся, кто-то окликнет её, тогда и выясню.
В то воскресенье противно дождило (знали бы, чем именно). Морось на улицу не влекла, и почти весь день мы пили чай, болтали о всяком-разном, листали альбомы с репродукциями картин. По телеящику – ни слова о ЧАЭС. Будто всё пригрезилось.
Еле дождался вечера. Около шести подошёл к её подъезду. Марина (ладно, пусть пока так) появилась минут через пять. Но если вчера на ней был темно-синий ансамбль (жакет и юбка), то теперь её прелести (я же глазастый!) скрывало лёгкое летнее платье. Кажется, ткань в цветочках. Вместо строгих закрытых туфель на высоком каблуке – оранжевые босоножки с открытыми носком и пяткой. Бессменной оставалась только английская булавка огромных размеров. Вчера она украшала левый лацкан жакета, а нынче крепилась на платье, там же, слева. «Видать, от сглаза», подумал я, но ничего не сказал.
Не стихала морось, а Маринин зонтик – один на двоих. Так мы и шли к метро: я держал над головами зонт, а Марина – меня под руку. Желая скрыть смущение, старался говорить о чём угодно, только бы не обращаться напрямую. Не люблю я безличные формулы вроде «Ты знаешь…», «Слушай…» и тому подобные. Ведь самое приятное для человека сочетание звуков – его имя. Не я первый изрек эту мысль, но сказано верно, не так ли?
Вечер в Доме Учителя представлял собой театрализованное шоу силами студентов ин-яза и РГФ. [2] С курсов пришло человек десять-двенадцать. Говорили между собой немного, больше внимали сцене. Но желанное имя так никто и не произнёс.
Концерт продолжался, а мне уж подошло время отправляться на станцию «Полесье». Оттуда ходили автобусы на Иванков, Чернобыль, Полесское, что-то ещё, не помню, и, конечно же, на Припять. Прощаясь, мы с Мариной договорились увидеться на следующем занятии. Я уже понимал, что хочу этой встречи, и время ожидания включило посекундный отсчёт.На автостанции случайно встретил знакомых ещё по Чернобылю. Целая семья. Детей, кажется трое. Мама-папа с чемоданами, сумками. Спрашивают:
– А ты куда собрался?
Поначалу от меня ускользнули странные нотки в, казалось бы, нормальном любопытстве.
– Домой. А вы в отпуск? – как ответил, так и спросил: повседневно, чуть даже праздно, не ожидая сюрпризов.
– Ага, хорош отпуск!
«Что за ирония? – смутно-тревожная мысль пронзила беззаботность воскресного вечера. – Хотя, может, показалось?»
– Так а ты, значит, на Припять? – Теперь интонация вопроса не оставляла сомнений: тут какой-то подвох.
– Ну да, – внутренне я съёжился, не зная, чего ждать.
– Тогда не суетись, там уже никого нет. Всех эвакуировали.
– Как это – эвакуировали?
– А так. Весь город. Чернобыль пока нет, это мы сами сбежали.
– Подождите, как это? – не веря ушам, я выдал совершенную нелепость. – Завтра же на работу!
– Какая работа, Женя! – рассмеялись они. – Ты вон туда погляди!
К станции один за другим подтягивались несколько автобусов. Такие вот, длинные, в каждом по два салона, соединённых «гармошкой». Те, что для внутригородских маршрутов....
Для эвакуации власти предоставили 1100 автобусов, причём без разбору, какие только под руку попали. Перебирать харчами (пардон, транспортом) было некогда.
На лицах прибывающих читалось что-то среднее между непониманием и удручённостью. В руках – котомки, чемоданы, у кого-то за плечами рюкзаки. Мужчины, женщины, дети, пожилые – весь набор… Что-то знакомое, где-то я всё это уже видел… А, ну да, в кино про войну… эвакуация мирного населения…
Другая аналогия показалась более точной:
...
Исход !
«Неужели всех вывезли? Не может быть! Ведь это порядка пятидесяти тысяч душ!» – подумал я, а вслух спросил:
– И куда теперь?
– А это уж кто куда. Сказали, что везут только до Киева, а дальше – на все четыре. А ты, кажется, из Полтавы?
– Я-то да, но при чём тут… Это же временно? На несколько дней? – не унимался я.
Ответа не последовало. Мои визави молча наблюдали за странным людским потоком, растекавшимся на рукава, речки, ручейки…
Припять населяли приезжие со всего Союза. И теперь они разбегались, кто куда мог: к родителям, родственникам… где примут. Как стало известно позже, принимали не все. Некоторые боялись, кабы не нахвататься радиации от нежданных визитёров.
Интересно, о чём думали эти переселенцы поневоле? Может, проклинали день, когда решили сорваться с насиженных мест на стройку атомной в живописном уголке украинского Полесья, а затем на новом месте пустили корни? Полагаю, нет. Скорее всего, их больше волновало – «Когда это кончится?» Впрочем, я мыслей не чтец.
Через полчаса я снова у друзей на Оболони. Деваться-то всё равно некуда. Рассказал о том, что узнал и увидел. Теперь мы понимали, что не всё так просто. Самое противное – в новостях по-прежнему ни слова.
...
За неделю до аварии я подарил Александру Ивановичу и Надежде Алексеевне небольшую книжку-альбом с видами моего нового места обитания. Подписал – «Добро пожаловать в Припять!» Не надо уточнять, что воспользоваться приглашением им так и не довелось?
Не понятно, на чём, но теплилась робкая надежда, что завтра-послезавтра всех вернут обратно. Ну, то есть, вывезли, обеззаразят территорию, и – всё. Допустить мысль, что в этот день город фактически «умер», не мог, наверное, даже самый отъявленный пессимист. Я и сейчас не могу понять, что мной тогда двигало, но в тот вечер я твёрдо решил завтра же утром вернуться домой, в Припять. Идею тотальной эвакуации города я органически не принимал. Как в старом анекдоте:
«Должен же кто-то в лавке остаться!»
Глава 6. Жизнь продолжается. Моя незнакомка
В понедельник 28-го я на автостанции. Рейсы на Припять отменены. Интересоваться другими не стал. Да и чего дёргаться? Ведь контрольные посты, через которые продирался третьего дня, скорее всего, не сняты. С навязчивой идеей о возвращении пришлось расстаться. К тому времени я уже смирился с мыслью, что возвращаться – некуда. Разве только на Оболонь.
Попытался вызвонить горфинотдел. Из упрямства, на грани «перебора». Связи, конечно же, нет. Чтобы окончательно расставить точки над «i», набрал межгород (ноль-семь). На том конце провода:
– Связи с Припятью нет по техническим причинам.
Интересуюсь:
– Можно уточнить, по каким именно причинам?
Мне в ухо – дикий ор:
– По техническим!!!
Видать, уже достали бедных телефонисток.
– Извините, – это всё, на что меня хватило, после чего я повесил трубку, решив – достаточно, пора и остановиться.
...
Ещё в субботу, 26-го, междугороднюю телефонную станцию г. Припять отключили по требованию КГБ. На это, в частности, указывает Александр Эсаулов (в то время заместитель председателя припятского горисполкома) в книге «Это горькое слово Чернобыль».
После звонка на межгород стало ясно, что для широкой публики информация по-прежнему закрыта. Небось, телефонистки и сами ничего не знают и отвечают по инструкции. Совсем как тот припятский майор, долдонивший об «учениях по гражданской обороне».
Хорошо хоть додумался позвонить в Полтаву да успокоить родителей. Они-то уже знали, что на ЧАЭС произошло нечто. На слухи полагались мало, хотя и успели «напереживаться» (я же говорил – у нас это родственное). Как мог, пояснил: так, мол, и так, авария, людей пока вывезли, а там видно будет. Старался избегать слова «эвакуация», чтобы не вызывать аналогий с войной. Мама криком кричит – «Женя! Бросай всё и приезжай!», а ещё – «я ж тебе говорила, не надо в Припять!»
«Ах, мама! Как же ты была права! – правильная песня-то! Да только ничего, Женя, ты уж не переделаешь (надо мной будто насмехался параллельный поток сознания), а если что не нравится, утешься кощунственным «всё, что ни делается, то к лучшему». Не получается? Тогда так тебе и надо!»
Любящая мать по природе стремится уберечь свои чада от беды да от погибели. Никакие доводы не действуют, если детям грозит опасность. Материнский инстинкт порой оказывается сильнее долга и даже морали. Можно ли винить в этом мать? Я бы не посмел.
К телефону подошёл отец. Человек, прошедший Вторую Мировую, и вообще по жизни очень смелый, хоть и с крутым нравом, не терпел отступления перед трудностями. Он прекрасно понимал или, скорее, чувствовал возникшую ситуацию, но хладнокровно произнёс: «Решай сам. Поступай, как считаешь правильным». То же он говорил, когда в 82-м узнал, что я подал в военкомат заявление в Афганистан. Меня, правда, туда не взяли, приняв добрую волю за расстроенную психику, но сейчас это уже не важно.
А в Киеве – тишь и гладь, ни паники тебе, ни тревоги. У каждого своя жизнь, свои проблемы. Внешне всё выглядело буднично и спокойно. О случившемся в общих чертах киевляне уже что-то знали. Хотя бы то, что жителей Припяти вывезли из города…
на три дня (?!). Ну, и ладно. Не навсегда же!
...
Где и когда официально звучало, что эвакуация продлится три дня? Ответ – НИГДЕ И НИКОГДА. А недоразумение возникло вот почему. Когда город готовили к эвакуации, в обращении к жителям, помимо прочего, говорилось, что продуктов надо взять из расчёта трёхдневного запаса. Может и чуть другими словами, но суть не в этом. Конечно, мера вынужденная. Никто не знал, как долго это протянется. Да и не скажешь ведь – берите продуктов столько, сколько сможете унести. А так – три дня людям есть чем перебиться, ну а дальше видно будет. Впоследствии я неоднократно слышал упрёки припятчан в адрес должностных лиц:
– Нам же сказали, что вывозят на три дня!
– Неправда! Вам сказали БРАТЬ ЕДЫ НА ТРИ ДНЯ, а на сколько вывозят, никто не говорил.
Всё это будет чуть позже, когда народ предъявит вполне нормальные требования, и чиновникам доведётся отвечать на неудобные вопросы. А пока вернёмся в понедельник, 28 апреля.
Ближе к вечеру советское правительство наконец-то разродилось первым обтекаемым сообщением. Звучало оно, как мне показалось, кощунственно по отношению к эвакуированным, не говоря уж об атомщиках и огнеборцах. Они-то отдавали здоровье и жизни в беспощадной борьбе против атомного джинна, выпущенного вследствие чьих-то ошибок… Хотя – стоп: я же обещал не вдаваться в технические детали.
Несколько дней спустя газеты привели хронологию событий, пестревшую нюансами, неуловимыми для непосвящённых. Так, пресса абсолютно точно отразила время взрыва – час двадцать три. Правдиво сообщалось и об эвакуации горожан в течение двух часов. Упускалась только одна «мелочь»: вывозить людей начали через тридцать шесть часов после взрыва! Надо ли уточнять, что всё это время народ подвергался облучению? А то ведь как получалось – вот авария, а через два часа – в городе ни души? Какая «оперативность»! И ладно, если это лукавство исходило из рупоров официальной пропаганды, – «Правда», «Известия» и прочие, – за то их и держали на довольствии. Но когда подобная чушь появилась на полосах уважаемой газеты «Аргументы и факты» – это уже выходило за грань терпения и предел понимания.
Я не считаю себя вправе объяснять, почему эвакуация началась через полтора суток после взрыва. Полагаю, на то были серьёзные причины. И уж тем более, не собираюсь кого-либо винить. Я же не присутствовал в инстанции, принимавшей решение о вывозе людей. Да и на эту тему достаточно сказано в той же книге «Это горькое слово Чернобыль».
Утром 29-го я собирался в облфинуправление. Да и куда мне? Вышестоящая инстанция, всё-таки.
Пока брился в ванной, по радио звучал Джо-Дассеновский «Люксембургский сад». Из песни я понял только «У меня почти всё хорошо… Жизнь продолжается…»
– Н-да, почти всё и почти хорошо, – срезая трёхдневную щетину, произнёс я вслух, хотя в квартире уже никого не было, – и, главное, la vie continue (фр.: жизнь продолжается)
В облфине мне даже обрадовались – наконец-то хоть кто-нибудь объявился из Припятского «департамента»! А то ведь народ вывезли – и с концами. Меня долго расспрашивали – что и как, и, главное, каким образом я умудрился выбраться «оттуда» до всеобщей эвакуации. Я и рассказывал, мол, ничего особенного, добирался пешком и на перекладных. На занятия спешил. Многие сочли, что я родился в рубашке. Шутили даже: «Молодец, что учишь английский! Видишь, как в жизни пригодилось!»
Однако трёп трёпом, а меня ж надо временно пристроить, чем-то занять. Или, по-Жванецкому, «чтобы мы не хулиганили на улицах, нас надо где-то держать».
Поручили обзвонить районные отделы и записать данные о выполнении плана по госдоходам за апрель. Смысла в этой работе я не видел. Уже двадцать девятое, завтра – последний день месяца, и цифры поступят со дня на день. Хотя для оперативных решений такие методы сбора данных, возможно, и подходили. Но эти вопросы – вне моего уровня. А тут ещё молодой сотрудник давай прикалываться:
– Жека, шо ты дурью маешься? Всё равно эту фигню через неделю пришлют.
– Дык… это… поручили ж… – неуклюже оправдываюсь и продолжаю «трясти» райфинотделы. Во всю ругаю паршивую связь и телефоны, с которыми одна беда, хотя без них – беда не меньшая.
– Да ладно! Поручили ему, видите ли, – эта реплика зависла без ответа: я как раз пробился в один из районов.
Задание выполнял с неистовым рвением, что смахивало на невроз из-за приключений трёх последних дней. Хотелось отвлечься от тревожных мыслей. Очень хотелось. Но ведь чем больше от чего-то отмахиваешься, тем прочнее оно врастает в каждый нейрон.
Наконец, я с достоинством, как бы продолжая игру со стрессом, вручил собранный материал временному начальнику. Тот листал какие-то папки. Завидев меня, вскинул брови от удивления, что я так быстро справился. Молча положил мою бумажку на угол стола и сверху, по диагонали, пристроил карандаш (чтобы сквозняком не сдуло). «Спасибо» я не услышал, а только «бу-бу-бу», в чём едва угадывалось «потом гляну».
(Назавтра я обнаружил сводку на том же месте. Карандаш располагался под тем же углом. «Ну… ладно»)
Вскоре начальник вызвал меня и спрашивает:
– Слушай, ты же раньше работал в потребкооперации?
– Да.
– Вот и славно. Сходи-ка, будь добр, в облпотребсоюз и проверь вот эти показатели, – и дал какую-то таблицу.
В областном потребсоюзе я встретился с ещё недавними коллегами. Их немало удивил факт, что прежде они ездили ко мне с проверками, а теперь мы как бы поменялись ролями.
Начальника финансового управления на месте не оказалось. Пришлось идти на ступень выше – к зампреду по финансам, А. А. Запорожцу, очень уважаемому пожилому человеку, Профессионалу с большой буквы. Я вручил ему «предписание», в котором сообщалось, что такому-то (мне, то есть) следует предоставить для проверки такие-то цифры. Решительно вдавив едва начатую сигарету в пепельницу, зампред недоуменно пожал плечами:
– А зачем вам?
– Мне поручили, вот и выполняю, – я уже испытывал неловкость от визита в своё прежнее ведомство, да притом в амплуа проверяющего.
– Неужели они там не соображают, что сейчас не до этого? А вы сами-то! Вы же у нас недавно работали?
– Да.
– Кажется, Чернобыльский райпотребсоюз? Председатель ревизионной комиссии?
– Да. («Надо же, какая память!»)
– Вы же должны понимать, что сейчас творится! Людей эвакуировали, надо налаживать снабжение. А скоро и ваш район будут вывозить. Мы как раз занимаемся подготовкой магазинов и складов. Вы же помните, сколько там всего.
Я-то помнил. И прекрасно осознавал идиотизм ситуации: явился некстати, не вовремя и, вообще, не к месту. Но, в конце концов, дело есть дело. В одном из кабинетов меня усадили за стол и давай подносить разные талмуды. На память пришли слова бывшего коллеги-ревизора: «Ты запомни, Женя, ревизор никому не нужен: ни тем, кого он проверяет, ни тем, кто его посылает на проверку, а то ведь нароет чего…». Ну, я вряд ли мог бы чего «нарыть», да и пришёл не за этим. Однако сейчас, когда действительно не до проверок, я почувствовал себя ВООБЩЕ никому не нужным.
И тут меня будто перемкнуло: «Сегодня же вторник! На курсах – учебный фильм!» Возможно, в другое время я бы и не вспомнил. Не выходные ведь, значит, в Киев мне всё равно не попасть, разве что в командировку. Но сегодня-то я здесь, так почему и не сходить?… Может, и ОНА там будет…
Быстренько закончив проверку, отнёс материал в облфин. Спросил, не нужно ли чего ещё, и, получив отрицательный ответ, не пошёл, не побежал, а – полетел! И не столько на фильм, сколько на встречу с «таинственной незнакомкой». В мыслях я продолжал именовать её Мариной. Только бы она пришла!
В этот раз мы тренировали восприятие английской речи на слух с помощью фильма… «Пираты 20-го века». Дубляж оказался на высоте. Прежде я и представить не мог, что Вельяминов, Ерёменко, Нигматулин могут так естественно «говорить» по-английски. Когда же фильм закончился, Наталья Анатольевна (преподаватель) спросила у «Марины»:
– Таня, а правда – Женя чем-то похож на Сергея? (Главного героя.)
«СТОП!!!»
«ТАНЯ???»
Я будто перестал понимать происходящее. Ведь уже и надеяться забыл, что кто-нибудь назовёт её по имени. Получилось как по Зеланду: снизил важность желаемого – и всё сбылось.
«Итак, она звалась Татьяна…»
– Ну, наконец-то! – вырвалось у меня вслух.
– Что, Женя? – спросили несколько голосов.
– А, нет-нет… Sorry, I am talking to myself ( англ.: извините, это я сам с собой ).
– Ну да, приятно поговорить с умным человеком, – под общий смех прокомментировал Славик, отличавшийся способностью обхохмить любую ситуацию. В том не раз мы убеждались, особенно во время занятий.
Постепенно разбрелись каждый по своим делам. А меня охватило сладкое ощущение счастья и внутренней лёгкости. Как после трудного экзамена. Но что это я говорю? С чем сравниваю? Такого счастья у меня никогда не было, потому что… НЕ БЫЛО НИКОГДА! Хотелось петь на всю Жилянскую:I got the world on the string
Sitting on the rainbow
Got the string around my finger
What a world!
What a life!
I’m in love… [3]
Я встретился глазами с Таней… с ТАНЕЙ!!!… и мы без слов поняли, что на Оболонь нам и сегодня – вместе… И не только на Оболонь… И не только сегодня…
Глава 7. Скептики-паникёры. Будни-праздники. Розы-гладиолусы
В среду 30-го я опять в облфинуправление. С утра пораньше. Впрочем, это субъективно, а как для меня, так и девять утра это рань-преранняя. Всегда мечтал, чтобы до одиннадцати рабочий день даже не смел начинаться. Ну, не важно. Девять, так девять.
Пока на кухне допивал кофе, в прихожей на тумбочке заливался новостями «брехунець». И всё об одном: как на местах идёт Перестройка. К тому времени это хорошее, но уж больно заезженное, слово порой вызывало тошноту. Чуть ли не каждый чиновник или рабочий, едва дорвётся до эфира, начинает с того, что «мы поддерживаем перестройку», «одобряем политику партии и правительства» и прочая штампованная дребедень. В потоке «одобрямсов» как бы между делом прозвучало, что работы на ЧАЭС ведутся не то в штатном, не то в ином «правильном» режиме. Типа всё нормально, уровень радиации – в основном в пределах нормы. «В основном»? Ну и на том спасибо! Звучали также сравнения с естественным фоном. И, выходит, ситуация не так уж и плоха?… Хм… Ну так… Если всё в норме или около, то на кой ляд вывезли людей? И, опять же, когда это закончится?
...
Года три спустя прочёл, что после аварии все нормы радиоактивного загрязнения – воды, воздуха, почвы и т. п. – были увеличены, притом некоторые чуть ли не во сто крат. Из вторых рук знаю, как перед обнародованием приукрашивались сообщения о радиоактивном фоне в Киеве и области. В 86-м году под словами «в пределах нормы» можно было подразумевать всё, на что хватит фантазии. А уж если писали «незначительно превышает…» – это означало «полный привет».
На улице вроде ничего не изменилось. Внешне. У входа в метро бабульки торговали цветами. Пока торговали. Потом уже милиция начнёт их гонять, когда цветы попадут в разряд злостных разносчиков радиации. И всё же, на пути к метро я не мог не заметить двух отличий даже от вчерашнего дня. Первое – выражения лиц окружающих. Не у всех, правда, но появились черты обеспокоенности, напряжённости. А второе – слова «Чернобыль» и «радиация» слышались чаще, чем «доброе утро».
Официальное сообщение об аварии прозвучало обтекаемо и малопонятно. Приходилось вчитываться между строк. Мы давно привыкли, что СМИ нас попросту дурят. Особенно если дело касается чрезвычайных происшествий, катастроф, прочих событий, способных подорвать престиж советского государства в глазах добропорядочных граждан.
Как тут не вспомнить Куренёвскую трагедию 1961 года в Киеве, унесшую около двух тысяч жизней? Информацию о ней замалчивали до конца 80-х. То есть прежде, до эпохи Гласности, катастрофы «не было». [4] Власть имущих беспокоило не само ЧП, а то, что о нём узнают все. И ничего, если там, «за бугром», что можно списать на буржуйскую пропаганду. Главное – своих держать в неведении, чтобы у них не возникали вопросы и сомнения.
И потом, как я уже говорил, для эвакуации припятчан власти мобилизовали 1100 автобусов. В каждом по 2 водителя, у которых семьи, соседи, друзья, то есть достаточно кому рассказать об увиденном. А далее – по цепочке, из уст в уста: «На атомной что-то случилось. Столько автобусов нагнали! Весь город вывезли!» – примерно так.
Реалии, пусть и пока неочевидные, никак не хотели совпадать с прилизанными официальными сводками. Вопросов меньше не становилось, равно как и оснований для любых выводов.
Влившись в пассажиропоток, я обнаружил, что в народе уже появились «знатоки» атома, охотно делившиеся фрагментами не-понятно-откуда-взятых сведений.
Те, кто относил себя к «незнатокам», составляли две большие группы: скептики и паникёры. Первые уверяли, что вся эта «петрушка» не протянет недели-двух и беспокоиться не о чем. А уж киевлянам – тем более. Вторые – паникёры – предрекали чуть ли не конец света.
Между скептиками и паникёрами локоть в локоть протискивалась узенькая прослойка «реалистов». В какую категорию включить себя, сам не знаю. Да и как ты людей ни классифицируй, темы аварии, радиации, вывоза населения и даже… Хиросимы и Нагасаки (!) неотвратимо заполняли разговорное пространство....
От кого-то я узнал, что при облучении следует пить… йод. Очень удивился: «Как, прямо из бутылёчка?» Выяснилось, что есть такие препараты, – йодистый калий, сайодин, – только принимать их надо в первые часы после заражения радиоактивным изотопом йода. Зачем? А чтобы насытить щитовидную железу нормальным йодом и не дать ей усваивать тот самый изотоп. Ведь свято место пусто не бывает, в том числе и в щитовидке.
Когда речь идёт о «паникёрах», я не вкладываю в это понятие ни йоточки негативного смысла. Скорее, паникёрство можно отнести к особенностям восприятия информации. Да и нельзя списывать со счетов базовый инстинкт самосохранения, действующий у разных людей совершенно по-разному.
...
Позднее, когда руководство страны Советов и Украинской ССР признало серьёзность ситуации, налево и направо полетели неологизмы вроде «радиофобии», а также ярлыки – «безответственность», «паникёрство» и другие. Сам Горби [5] в одной из длинных и нудных речей проронил фразу «некоторые попросту говоря сбежали». Конечно, он имел в виду не простых людей, а партийных и советских руководителей, на которых возлагалась ответственность за проколы первых пост-аварийных дней. Оставлю эти обвинения без комментариев, разве что со ссылкой на знаменитое «Жираф большой, ему – видней».
В облфине поручений мне больше не давали. Да и какие поручения, когда страна готовится отмечать День солидарности трудящихся? В те времена – государственный праздник, между прочим. С двумя красными днями в календаре, с парадами и демонстрациями трудящихся.
На сей раз первое и второе мая попали на четверг и пятницу. То есть, включая выходные, получался такой себе микроотпуск. Это позже мы будем жертвовать уикендами, зависать на работе чуть ли не до первых петухов, занимаясь обустройством эвакуированных, выплатой разовых пособий. Об этом я расскажу в следующих главах. А пока никаких команд сверху не поступало, вот народ и завяз в предмайских хлопотах.
Год 86-й пришёлся на разгар антиалкогольной кампании. И если состояние экономики ещё позволяло решить проблему с закусоном, то покупка «того, чем его запить» порой бывала сродни приключениям. Шутка ли! В стране чуть ли не вдвое сократили производство крепких, креплёных и «слегка разбавленных» напитков. Мало того – заметно урезали временные возможности для их приобретения. Если раньше обыватель мог купить бутылку водки в гастрономе с одиннадцати утра до семи вечера, то теперь – только днём и только с двух до пяти (в последующие годы – до семи). А часы-то эти – рабочие!
Кто помнит пост-андроповские [6] времена борьбы за трудовую дисциплину, подтвердит, что в дневное время по магазинам, кинотеатрам и просто по улице шастали дружинники, группы «Комсомольского прожектора», другие активисты – иногда вместе с милицией или прокуратурой – и требовали объяснений у наугад выловленных граждан, почему те не на работе.
К ликёро-водочным отделам такие патрули не приближались. Ведь там, из-за ограниченного времени продажи, собирались огромные очереди. И отнюдь не из божьих одуванчиков. А подойти к толпе здоровых и обозлённых мужиков с вопросом «что вы тут, а не у станка» вряд ли кто бы решился.
К чему я это рассказываю? Дело в том, что алкоголь (в разумных пределах, конечно) не только «вставляет» для настроения, но и… выводит из организма радионуклиды! Так после аварии нам говорили врачи, но с просьбой – «никому не рассказывайте, что я вам это советовал». Ведь… как бы её лучше назвать… «алкотерапию» (?!) официально не признавали средством от радиации. Да и поди, признай! По всей стране, ПАНИМАЭШ ЛИ, ведётся «мудрая политика партии» по искоренению пьянства и алкоголизма, а тут нa тебе: нахватал радионуклидов – выпей сто грамм, не хочешь нахватать – тоже выпей.
Накануне праздников людям не до профилактики. На уме одно: не осрамиться перед гостями. Порой, для экономии времени, организации делегировали одного-двух сотрудников в ближайшие гастрономы, а когда подходила очередь, сбегались остальные и затоваривались.
Меня же эти проблемы не интересовали. Праздники я собирался встречать в Полтаве, в родительском доме. Благо, билет на поезд куплен заранее, что в этот раз оказалось особенно кстати. Ведь наиболее предусмотрительные киевляне под влиянием слухов о радиации бросились скупать билеты, куда только можно, лишь бы подальше от Киева. Если не удавалось выбраться семьёй, старались отправить хотя бы детей. Уехать, конечно, удалось не всем, а скептики – так те и не порывались.
Вечером, незадолго до отъезда, я встретился с Таней. На фоне общей напряжённости это свидание оказалось единственным лучиком света за весь день. Вот только с цветами не угадал. Потом уж доведался, что Таня обожает гладиолусы, а я-то притарабанил веник из трёх пошлых розочек. Но Таня виду не подала, одарив меня бесподобной улыбкой, и – с оттенком нежности (как мне показалось) – произнесла «спасибо».
Тогда ещё мы оба не понимали, что между нами происходит, но, кажется, жизнь друг без друга уже не мыслилась.
Говорили обо всём. Легко и ненавязчиво. Очень хотелось порвать билет, никуда не ехать, остаться с Таней, но меня не отпускали сомнения, что подача себя в больших дозах в самом начале романа (? – как я надеялся) пойдёт на пользу нам обоим. Да и Таня с пониманием отнеслась к моему желанию явить себя во плоти родителям, успокоить их, особенно маму.
Прямо никто ничего не сказал. Только полунамёками-полувзглядами условились, что в воскресенье 4-го по возвращении в Киев я позвоню, а дальше – как бог даст.
Из Киева до Полтавы поездом – одна ночь. Уснул я не скоро. Перед глазами поочерёдно возникали то припятский автовокзал, набитый людьми, не принимавшими отмазку об «учениях по гражданской обороне», то колонны машин-огнеборцев с разрывающими пространство сиренами, то кареты скорой помощи, то сонный Вова-киномеханик, без умолку зудевший на весь мозг – «это радиацию выбрасывают… да, да, такое уже было».
Вскоре эти ужасы меня оставили.
Вспомнилась Таня. «А ей розы очень идут», мелькнул тот же бесёнок, вернув меня в последний вечер. И тут только я «заметил», что на свидание Таня пришла в обтягивающей футболке и в обтягивающих же брюках. Высокие каблуки подчёркивали стройный стан, что привело меня к мысли – «А ведь у неё красива не только улыбка». И лишь после этого чуть запоздалого вывода я отключился, безмятежно проспав на боковой плацкарте до самой Полтавы.
Глава 8. Полтава. Пасха. Будни по эвакуации. «Плим-плим»
Три дня в Полтаве – сплошь вопросы-ответы. Родители, сестра, бабушка – само собой. Но и соседям надо время уделить. Их много, «часы приёма» ненормированные, всем интересно услышать от очевидца, как там и что. (В те времена, в отличие от нынешних, соседи друг друга знали, в смысле не только здоровались.)
Во дворе или в городе встреча со знакомыми превращалась в «пресс-конференцию». Людям не терпелось узнать всё из первых рук. И хотя мои «руки» далеко не первые, но во всей округе не нашлось никого ближе к тем событиям, чем я.
Полтавчане беспокоились о последствиях аварии даже больше, чем жители столицы. Вроде как странно: от Киева до атомной сто двадцать кэмэ, а от Полтавы – более четырёхсот. Когда же пошли звонки от родственников со всей Украины, я вывел закономерность, доказанную не раз и не только мной: чем дальше от места аварии, тем больше паники. Почему – не знаю.
А вот и сюрприз! Звонок из Северного Кавказа от Лены. Года за полтора до тех событий мы с ней пережили интенсивный роман с нечастыми, но яркими свиданиями, бесконечными телефонными звонками, чуть ли не шекспировскими страстями, но, увы, с неожиданным и до сих пор непонятным расставанием. Лена радовалась, что я вообще жив. К разговору подключилась её мама. Обеих не покидала уверенность, что меня спасло чудо. Признаться, был очень тронут… Вот так Чернобыль всколыхнул мир, что казалось бы навсегда рухнувшие связи вдруг реанимируются, пусть даже на короткое время и только на расстоянии.
Парад и демонстрация 1-го Мая – в то время обязательное мероприятие. Впрочем, кто не хотел идти, тот и не шёл. Никакие увещевания и даже угрозы партийного руководства, а для молодёжи – комсомольского, ничего не меняли.
Одно из первомайских развлечений в те времена – смотрение парада по телевизору. В провинциальных городах телеканалов один-два, ну а в столичных их количество переваливало за три-четыре. Полтава – град не стольный, и здесь перво-наперво телевиделся московский парад на Красной Площади.
На трибуне Мавзолея – высшая советская и партийная геронтократия. Посредине – сравнительно молодой Горби. Мимо них по площади стройно шествуют колонны трудящихся, учащихся и прочих граждан. С обязательными улыбками и криками «ура-а-а-а!» после каждого «Да здравствует… (великий советский народ, ленинская партия и т. п.)», звучащего из очень-громко-говорителей.
Затем показывают «те же яйца, только в профиль» по столицам союзных республик. Начинают, как правило, с Киева. Мавзолея здесь нет, слава богу, но на главной площади [7] трибуна выстроена. Сценарий похож на московский, только вместо «Да здравствует…» звучит родное «Хай живе…». А «ура-а-а-а!» – так оно и в Украине «ура-а-а-а!».
Когда показывали Киев, на душе стало муторно, словно что-то заскребло изнутри. Оказалось, не зря. Ветер-то в те дни дул со стороны Припяти, так что недостатка в радиоактивной пыли не наблюдалось, судя – как мне рассказывали – по першению в горле и другим ощущениям. Почему власти приняли решение всё же провести этот пресловутый парад? Что мешало его отменить? Почему людей не информировали хотя бы о мерах безопасности? Пусть бы ответили те, в чьих руках находилось здоровье жителей столицы, да и не только её.
Утром 4-го мая, в воскресенье, мне обратно в Киев. Мама до последнего надеялась уговорить меня остаться. Или, ладно, поехать, уволиться и – в Полтаву. Я обещал подумать, чтобы не лишать маму спокойствия хоть на время. Но решение принято, и ни о каком увольнении речь не шла. Такой шаг я счёл бы для себя чем-то сродни предательству.
Вот написал и подумал, а не сочтёт ли читатель этот пассаж чересчур пафосным? Однако оставлю, как есть. Ведь я в самом деле был уверен, что уйти не имею морального права.
...
Тогда, в поезде, я не знал, что уже два дня как эвакуировали Чернобыль и несколько сёл Чернобыльского района.
Как мы с Таней и условились, по возвращении в Киев первый звонок – ей и только ей. Неожиданно Таня пригласила меня домой. Так я впервые оказался у неё в квартире. Да ещё с поезда на праздник, со столом и гостями. Чуть не забыл добавить, что на то воскресенье выпали все Пасхи, какие только существуют: Православная, Католическая, Еврейская – больше не знаю.
Среди гостей в основном Танины школьные подруги. Некоторые с мужьями. Меня представили милому обществу, и я быстро почувствовал себя «своим». Познакомился и с Таниными родителями и младшей сестрой.
Обращало на себя внимание, что в квартире – сказочная чистота, какой не бывает даже после генеральной уборки. Чуть позже понял, почему.
В застольные разговоры я не лез. Ведь когда вспоминают не твою школу, говорить особенно нечего.
Вскоре выплыла актуальная тема – об аварии на ЧАЭС. Рассказывали, кто что знал или слышал. Упомянули между прочим и о влажной уборке как средстве от радиоактивной пыли.
«Вот почему так чисто!»
Кто-то предложил сменить тему, чему все охотно последовали. Но время от времени нет-нет – да к ней и возвращались. Смеялись, мол, никак не можем переключиться на что-нибудь поприятней. И народ ведь собрался интересный, есть о чём порассуждать, однако актуальность берёт своё.
...
В те дни многие киевляне считали дурным тоном говорить об аварии, о радиации, но сами же это неписаное правило успешно игнорировали. Да и не мудрено. Попробуй-ка во время войны не сказать ни слова о войне. И я не оговорился. Среди припятчан, как я позднее заметил, чаще употреблялся оборот «до/после войны» вместо «до/после аварии».
На сладкий стол перешли в смежную комнату. Там же стояло чёрное пианино. Среди нас нашлось кому играть и петь, и «тема дня» наконец-то потерпела поражение.
Аккомпаниаторы сменяли друг друга, романсы чередовались как с попсой, так и с шансонами бывшей киевлянки Любы Успенской, завоевавшей эстрадные подмостки эмигрантского Нью-Йорка. Остаток праздника прошёл под живую музыку и с живыми танцами.
Когда гости расходились, Таня подала мне знак остаться. В тот вечер я понял, что куда бы ни попал согласно ещё неизвестному сценарию, меня будут ждать. Значит, есть к кому возвращаться.
Утром, пятого, я снова в облфинуправлении. Благо, на этот раз не один: появилась и Людмила Александровна. Измученная, бледная, даже похудевшая, что выдавала её слегка осевшая любимая кофточка. Встретились мы в кабинете начальника облфина Петра Григорьевича Лисовского.
Кроме заведующей, меня и Лисовского, подошли два зама последнего и какие-то начальники отделов. Тут-то я и узнал, что городские админструктуры отныне будут работать в посёлке Полесское – райцентре Киевской области в 25 км западнее Припяти.
В условиях эвакуации наши обязанности изменились. Точнее, дополнились. Финотделу поручили организацию выплаты пособий по эвакуации, другие вопросы, по мере их появления. На работу нужно было выходить уже на следующий день. Добираться до Полесского – окольным путём, к тому времени уже наработанным: электричкой до станции Тетерев (в сторону Житомира), а дальше – автобусом.
Людмилу Александровну спросили, почему она так поздно приехала и долго не давала о себе знать. Аргумент «отвозила детей» начальство не устроил.
– Вы прежде всего – заведующая горфинотделом, а потом уже – мать! – Лисовский жестко и безжалостно вычитывал Людмилу, упомянув между прочим, что Орел (я, то есть) объявился сразу же после эвакуации (хотя – по правде – на день позже, чем следовало).
Но когда Пётр Григорьевич заявил…
– Ваш заместитель оказался на голову выше вас!
… впервые в жизни комплимент от руководства вызвал во мне жуткую неловкость. Во-первых, в силу его незаслуженности, во-вторых, Людмила Александровна – мать троих сыновей, мал мала меньше. Муж её работал на атомной, что после аварии означало – «спасал наши жизни». А ей надлежало отвезти детей в безопасное место, под чей-то присмотр, а затем уже вернуться на работу. Что она, собственно, и сделала. Окажись я на её месте, думаю, поступил бы так же.
Одного не могу понять: почему тогда смолчал, не заступился? Ведь не из пугливых! И на похвалу не польстился! Никогда начальству в зубы не смотрел, всё чего-то «выступал», за что и доставалось под загривок. Снова выступал, и снова под загривок. А тут… Что ж, оставим это на моей совести. Хотя стыдно и обидно до сих пор.На следующий день, шестого мая, для нас начались будни в условиях эвакуации. Все административные структуры Припяти рассовались вдоль третьего этажа местного райисполкома. Полещукам (так называют жителей Полесья и, в частности, посёлка Полесское) пришлось потесниться, ужаться, чтобы мы заняли хотя бы минимум пространства для себя и посетителей.
Наплыв последних оказался неимоверно велик. Очереди тянулись на улицу, так что и конца не видно. Узнав о местонахождении горисполкома, припятчане валом повалили в Полесское – каждый со своими, но во многом сходными, вопросами. Кто-то оставил в Припяти документы. У кого-то кончались деньги. Другим некуда ехать и негде жить. Но всех интересовало главное: «Когда домой?» Вопрос самый трудный: на тот момент решений по нему ещё не было, да и быть не могло. И любой ответ грозил оказаться неверным.
Людей принимали председатель горисполкома Владимир Павлович Волошко и секретарь Мария Григорьевна Боярчук. На отдельные вопросы отвечала и Людмила Александровна. Не скучалось и другим сотрудникам. Мне же выпали вспомогательные функции: позвонить, выяснить, расселить, составить списки и тому подобное.
Работали на износ, до глубокой ночи. Число посетителей росло по экспоненте. Многие приезжали с вахты на атомной, принося с собой пыль, битком набитую радионуклидами. Ни стиркой, ни одёжной щёткой от них до конца не избавиться.
Влажную уборку в помещениях делали чаще обычного, и в воздухе постоянно висел дух половой тряпки. Что поделаешь? Уж лучше тряпка, чем лучевая болезнь.
Через пару дней началась выплата разовых пособий по эвакуации. Двести рублей на человека независимо от возраста....
Что означали в то время двести советских рублей? Приведу несколько цифр по памяти. Буханка хлеба – 20–25 копеек, кило колбасы варёной – 2–3 рубля, банка рыбных консервов – 30–60 коп., сапоги женские советские – 30–50 руб., импортные – 80-100 руб. Зарплата инженера – 110–150 руб., бухгалтера – 120–140 руб.
Думаю, картина примерно ясна.
Для выплаты пособий были подняты списки жильцов по улицам и домам, организованы спецгруппы по числу микрорайонов. В каждой из них – кассир, бухгалтер, представитель горисполкома или горфинотдела. Для доставки мешков с купюрами выделялись вооружённые наряды милиции.
К одной из таких групп прикрепили и меня, как сотрудника горфинотдела, для разъяснения порядка выплаты пособий.
Дело шло намного медленнее, чем того всем хотелось бы. Очереди стояли неимоверные. Атмосфера неистового раздражения давала о себе знать. И мне, как представителю городской власти, тоже довелось выгребать всеобщее негодование. Одно и то же приходилось втолковывать десятки раз, а людской поток всё нарастал и нарастал.
Разъяснительная работа доставала неслабо. Сначала мне вспомнился попугай, а затем я ощутил себя в шкуре торговца на рынке, без конца долдонившего одно и то же:
– «Почём редиска?» – «По двадцать».
– «Почём редиска?» – «По двадцать».
– «Почём редиска?» – «По двадцать».
И, всё-таки, продавцу этого смачного корнеплода я втайне позавидовал.
У кого-то паспорт остался в квартире. Значит, нужна справка. (Кстати, их тогда выдавали на основании слов(!) заявителя.) Кто-то хочет получить деньги за жену, а для этого нужна доверенность. И вдруг кассир мне:
– Деньги кончаются!
Кто-то прослышал, пустил по цепочке, и все на меня чуть не с кулаками:
– Как?! Нам что, по десять раз приезжать?!
Звоню Волошко: так, мол, и так. А Владимир Павлович:
– Не волнуйся, мы тебе подкинем денег.
У меня чуть не вырвалось – «Мне???»
Наконец, первый сумасшедший день благополучно завершился. Никто никого не убил. Сколько народу приехало, столько и получили. Всем хватило, даже осталось.
Наша группа подводила итоги дня. Пока считали да писали, проверяли списки, разговоры велись о насущном: «Когда домой?», «Что будет с атомной?», «Где детям заканчивать школу?» – и прочее в том же духе.
Кто-то предположил, что в Припять можем вообще не вернуться. Все на него (или на неё, не помню):
– Типун тебе на язык!
– И два прыща!
Припятчане любили свой город. Да и как его не любить! Такую гармонию современной и своеобразной архитектуры, обилие зелени, такую сказочную красоту редко где встретишь. Люди – едва не со всех уголков страны – прекрасно ладили в многонациональной среде. Может, потому что съехалось много молодёжи?
Приезжая в город впервые, не хочется его покидать. Это случилось и со мной в середине 85-го. Очарованный, я уже тогда размечтался, что в ближайшем будущем непременно сюда переберусь. И когда мне предложили место в Припятском горфинотделе, уговоры не понадобились. Прожив там каких-то два с половиной месяца, я, безусловно, считал этот город своим. А что говорить о тех, кто помнил первый вбитый колышек? Что говорить о строителях атомной? Нет, Припять – это святое. И после аварии, когда вставал вопрос «вернёмся или…», вторая его часть не произносилась. Потому так негодующе и шикнули на посмевшего предположить то, что не допускалось даже в мыслях.
С подоконника вещал транзисторный приёмник. После «типуна» и «двух прыщей» воцарилось молчание, тут же заполненное «Балалайкой» [8] Аллы Пугачёвой. После фрагмента припева…
«Плим-плим-плим-плим
Мы не вернёмся туда…»
…кассирша вдруг замечает:
– Вы слышите, что она поёт? «Припять, Припять, мы не вернёмся туда…»
И хотя ясно, что авторы песни вряд ли знали о городе атомщиков на реке Припять, никто не проронил ни слова, а у некоторых на глаза навернулись слёзы.
Глава 9. Законы, открытые через форточку. Смертоносная клубника. Антирадиационный эгрегор. Народное творчество. Решение ПК
Через пару дней выплата пособий вошла в нормальное русло. Ажиотаж спал. Люди поняли, что денег хватит на всех. Правда, нам не полегчало. О восьмичасовом рабочем дне оставалось только мечтать. Бывало и по двенадцать, и поболе, но хоть не за «спасибо»: сверхурочные шли по двойной ставке.
Тогда-то и открылись интересные закономерности. Так, отпахать двенадцать часов в сутки – ещё куда ни шло, терпимо. Но с тринадцатого часа и далее толку от меня всё меньше и меньше. А уж на шестнадцатом возникает острое желание сбежать, принять душ и – в «люлю», если не в петлю. И не надо уже ни двойной, ни даже тройной ставки.
Для себя я вывел экономический закон (!?): с какого-то момента производительность труда начинает падать, притом с каждым часом падение всё круче, и так до нуля. А поработай я хотя бы ещё час – и вот тебе минус, то есть вместо пользы я бы начал приносить откровенный вред.
Что до зарплаты, то начиная с эн-ного рубля каждый последующий представлял для меня всё меньшую ценность и доставлял всё меньшее удовольствие. А с какой-то сверхвысокой суммы зарплата оказывала на меня чуть ли не развращающее действие. Я, конечно, утрирую, но, если хорошо подумать, то зачем перенапрягаться? Девать бабло особенно некуда. Разве что купить свечной заводик? Или земельный участок под страусиную ферму? Может поездить по миру?… При Совке-то?? Размечтался!
А копить впрок – об этом я не задумывался. Видать, по молодости.
Уже в лихие 90-е, когда мы получили доступ к западной научной литературе, я с удивлением узнал, что законы убывающей производительности и снижения предельной полезности открыты задолго до меня. На них основано даже целое направление в экономической теории. Вот так иногда удаётся «открыть Америку через форточку».
Но вернёмся в Полесское.
Среди желающих попасть на приём к руководству я случайно встретил знакомого по общежитию, Сергея, из Строительного Управления ЧАЭС. После «привет-привет», «как дела» и прочее выяснилось, что Серёга оказался на самом опасном, хотя и очень денежном, участке. Показал стопку бумажек – недельную зарплату – и даже в шутку спросил совета, что, мол, с ними делать: пропить на месте или отправить родственникам. Судя по купюрам, денег там было столько, что мне за год не заработать, а ему – не истратить. Конечно, завидовать тут нечему, но, каюсь, этот грешок меня слегка зацепил. Даже захотелось перевестись из финотдела на станцию. Хорошо, что хватило ума понять, какой ценой давались эти астрономические заработки. А ныне, спустя двадцать пять лет, я даже не уверен, жив ли тот «счастливчик» по имени Сергей.
...
После аварии нормы максимального облучения для работников станции были увеличены в 5 раз, а именно – с 5 до 25 бэр в год (бэр – биологический эквивалент рентгена.)
В 86-м фантастически уродила клубника. Продавалась она как на базаре, так и едва не на каждом углу. Беда только, что её отнесли к «рассадникам» радионуклидов! Именно эти два фактора – изобилие и присвоенный статус вредоносности – потянули цены вниз. Если ещё за год до тех событий литровая баночка клубники шла за три рубля, то теперь за те же или меньшие деньги можно было купить её в три раза больше. Покупательский рай – да и только. А вот для продавцов… Мало того, что клубники по самое некуда, так ещё и сбыть её надо поскорее, покуда менты не нагрянули. Те ведь и торговаться не станут: конфискуют и тут же уничтожат.
Торговки этой «ягодой любви» отличались небывалой сговорчивостью. Надо только выждать момент. Случалось, выходим на клубничный ряд:
– Почём банка? – спрашивает коллега.
– Три пятьдесят, – казалось бы, торги не предполагаются. Тем не менее…
– Давайте за три, – это моё предложение.
– Не-е, не пойдёт, – звучит непреклонно и даже пренебрежительно, мол, чего вам ещё надо, цены-то – куда уж ниже?
– Ну, как хотите, – а сам украдкой бросаю косяки по сторонам и, едва заметив приближающийся милицейский патруль, как бы между прочим замечаю:
– А то вон менты идут…
И действительно, какие-то сержанты уже начинают разгон с самого края торгового ряда.
– Ну, ладно, уговорил, за три, – стараясь придать тону черты снисходительности.
– Нет уж, теперь за два пятьдесят, – настал мой черёд диктовать «ценовую политику».
– Да хрен с тобой, бери! – раздражённо и торопливо пересыпает клубнику из трёхлитровой банки в только что сложенный мной бумажный куль, хапает у меня с ладони денежку и – через минуту её как не бывало.
В результате мы – с желанной ягодой и без малейших угрызений совести, а хозяйка – с кровно заработанными два-пятьдесят и с жуткой досадой на меня, на милицию и, пожалуй, на радионуклиды. Кстати, в то время на два рубля пятьдесят копеек человек мог целый день питаться. Пусть и без разносолов, но вполне достаточно для поддержания штанов. А вот о том, была ли состоявшаяся сделка хозяйке в убыток, я промолчу: не мои заботы.
За клубникой мы ходили вместе с одной из инспекторов то ли Госстраха, то ли Собеса – не помню. К сожаленью, имя её тоже ускользнуло из памяти. Зато не забыть её пышную причёску, ставшую предметом шуток как потенциальный разносчик радиации. Ну, о шутках и вообще о пост-чернобыльском юморе я скажу чуть позднее.
Из коллег мало кто разделял нашу клубничную страсть. Однако соблазн сильнее угрозы. Время от времени кто-нибудь, проходя мимо тарелки с опасным лакомством, нет-нет, да и спросит: «Можно ягодку?» Да ради бога! На здоровье!(?) Хе-хе!
В первых числах мая, когда в разгаре огородная кампания, по дачам и усадьбам ходили уполномоченные лица, объяснявшие, что почва «загрязнена», и копать огороды запрещается. Но понять, что такое радиация, радионуклид, лучевая болезнь, мог далеко не каждый из трудолюбивых, но неискушённых огородников. Приходилось объяснять в максимально доступной форме. Вместо «радионуклиды» использовалось народное – «шитики». [9] Откуда оно взялось – никто понятия не имел. Но уж как назвали, так тому и быть. Главное – все понимают, о чём речь. И теперь, если говорили «нахватался шитиков», это означало – «облучился».
Хозяева усадеб эту тему всерьёз не воспринимали. Ведь шитиков не видно, не слышно, да и на ощупь их не распознать. Таково, понимаете ли, коварство радиации. Рассказывают, что на доводы, почему надо отказаться от огорода, одна бабуля возразила:
– Та які там шитики?! Я он весь город перекопала, ні одного не знайшла!
Да и как можно уговорить людей не сажать огороды, если сельские пенсионеры благодаря им только и жили? Притом дело не только в урожае (хотя и в нём, при смешной колхозной пенсии [10] ). Огородничество на селе – это традиция, образ жизни. Если селянка из-за слабого здоровья или старческой немощи не может ухаживать за грядками, она умирает намного раньше ровесниц, покуда способных вести хозяйство. А тут – нa тебе: «не сажайте огороды», говорят. Как это – не сажайте? Что значит – не сажайте? Шитики?? А где они?! Вы их видели?!Первое время мы работали почти без выходных. В День Победы сделали исключение, и я, конечно же – в Киев.
Примерно в те же дни цветы пополнили ряды разносчиков радиации, после чего начались гонения на цветочников. Но при желании купить хороший букет проблем не составляло.
И вот я уже в столице, еду трамваем со станции «Полесье» на Оболонь. В руках – цветы для Тани. Люди от меня отстраняются и перешёптываются, опасливо поглядывая. До ушей долетают обрывки фраз: «цветы лучше не покупать», «на них радиация» и прочие страхи.
Перед входом в квартиру прошу одёжную щётку. На лестничной площадке стряхиваю с себя пыль.
Тане достаётся букет, который «лучше не покупать». Сестра Лена, симпатичная третьекурсница, занята влажной уборкой. Между делом настойчиво советует: «Помойте цветы!». В те дни Лену чаще других можно было видеть со шваброй, тряпкой и ведром. Вот так-то: самая молодая в семье оказалась самой мудрой, и язык не повернётся назвать её паникёршей.
В День Победы мы с Таней выбрались «на природу» в компании с друзьями, о которых я уже упоминал. Праздник удался на славу: солнце, лес, шашлыки, гитара… Впервые в жизни мы оказались единственными отдыхающими на весь лес! Люди не рисковали с выездами на «маёвки» от страха перед пресловутыми «шитиками».
Почему не боялись мы – в категориях разума ни понять, ни объяснить. Может, подсознательно работали на некий «антирадиационный эгрегор»? [11] И даже вчетвером (а для эгрегора чем больше приверженцев, тем лучше) нам удалось игнорировать тотальную радиофобию да притом отлично себя чувствовать. И пусть нас могли слышать только птицы да насекомые, мы на весь лес дружно горланили:И лечусь «Столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться:
Истопник сказал: «Столичная»
Очень хороша от стронция! [12]
Я уже писал, что врачи тайком советовали принимать алкогольные напитки. Прежде всего – красное вино. В его отсутствие хорошо шли и водка, и коньяк, и самогон. Последний – даже в большей степени, чем легальные напитки. Пиво, кажется, не рекомендовалось. Из красных вин самым полезным считалось «Каберне». И народное творчество дало этому объяснение: в названии вина – «каБЭРне» – содержится частичка «бэр» (биологический эквивалент рентгена). То есть шитик несёт потенциальную угрозу, а бэр – это результат её «исполнения». Бэр – это уже полученное, твоё, родное и неотъемлемое.
Народное творчество приходит на выручу даже в самой большой беде. Рассказывают, что во время Второй Мировой войны удачная шутка или частушка служили моральной защитой от бедствий и невзгод. И послеаварийный период, названный в народе «послевоенным», не стал исключением. Одно из четверостиший, автор которого вряд ли кому известен, я и приведу, хоть и в смягчённом виде, то есть без матов:
Українці – сильна нація!
Їм до фені радіація!
А як ще разок рвоне —
Не поможе й «Каберне».
Нельзя не сказать и о том, что радиация отражается на фертильности женщин и потенции мужчин. Последнее особенно смачно обыгрывалось в народных стишках, например:
Якщо з милим щось не те,
То звертайтесь в МАГАТЕ [13]
Отойди, противный!
Ты – радиоактивный!
Для мужчин фольклор создал «защиту»:
Мне море по колено,
Я надел свинцовые трусы.
(Свинец и в самом деле защищает от облучения.)
Поизощрялись народные творцы и на предмет того, почему авария случилась именно в Чернобыле. Роль «виновников» прочно закрепилась, конечно же, за Штатами, извечными конкурентами Советов, будь то в космической гонке или в «холодной войне».
За два месяца до аварии на ЧАЭС в США взорвался космический челнок с очень броским названием «Челленджер». [14] После этого Рейган [15] якобы собрал советников и спрашивает:
– Что у них там на «Че»?
– Чебоксары. Швейная фабрика.
– Нет, не подходит.
– Черкассы. Химзавод.
– Тоже не то.
– Чернобыль.
– А там что?
– Атомная станция.
– Вот! Это – то, что надо! Действуйте!
Шутки шутками, но теракт и диверсия тоже рассматривались как возможные причины аварии. Мне рассказывали, что за несколько дней до роковой даты неподалёку от Припяти кто-то нашёл в лесу… парашют. Правда это или миф, утверждать не берусь. Однако версия внешней агрессии какое-то время гуляла как на официальном уровне (хотя и без огласки), так и в досужих обывательских кругах.
Вскоре начали практиковаться организованные заезды припятчан в покинутые квартиры за документами и ценными вещами. Мне впервые удалось попасть в город 15 мая по заданию завгорфинотделом – «эвакуировать» рабочие документы. Ведь отдельные предприятия, обслуживавшие атомную, продолжали работать и по месту эвакуации. А значит, им надлежало перечислять государству налоги, свободный остаток прибыли и другие платежи – то есть финотдел постепенно возвращался к своим прямым обязанностям, пусть и в урезанном виде.
Командировка ли это? Позвольте, я же фактически ехал к себе на работу! И не только я. Никто из нас в то время даже не думал ни о суточных, ни о командировочных удостоверениях. О том, как нам позднее икнулась эта мелкая недоработка, расскажу в последующих главах. А пока перенесёмся в Припять середины мая 86-го.
Нас привезли микроавтобусом и дали два часа на выполнение возложенной миссии.
Безлюдный город. С чем его можно сравнить? Да ни с чем! Конечно, фильмы вроде «Сталкера» – это интересно, хотя, возможно, и не каждому. Но самому «сталкеровать» среди пустых домов кажется забавным только поначалу. Вскоре становится не по себе. Трудно поверить, что ещё недавно город кипел жизнью. Теперь же в нём воцарилась зловещая тишина, едва нарушаемая птичьими голосами, лёгким ветерком и шелестом берёз и клёнов.
Мимо пробежала плешивая собака. И не то что не залаяла, а будто меня и не заметила.
Вдоль подвальных окон девятиэтажки лениво проковылял кот. Облезлый, измученный, с перебитой передней лапой (а может и перекушенной). На «кис-кис» – ноль внимания. Да и ладно. Угостить-то его всё равно нечем. Больше никаких живых существ я не обнаружил.
Общежитие. Дверь в комнату не взломана. Замок целый, легко поддаётся ключу.
Нахожу военный билет, комсомольский билет, собираю самые ценные книги. Благо, всё это – в закрытых ящиках письменного стола. Из одежды ничего не беру, да и не больно охота. Жутко морят соблазном белый сценический костюм и чёрный кожаный плащ (оба сшила мама). С кровью сердца отказываюсь: увы, дверь платяного шкафа оказалась открытой, равно как и форточка. Сколько пыли, а с ней и «шитиков», налетело в комнату за три недели – поди, измерь.
А вот и припятская ратуша. Финотдел на четвёртом этаже. В угнетающей кабинетной тиши собираю с полок запылившиеся отчёты и ведомости. На моём столе – ежедневник с последней записью на двадцать восьмое апреля: «Счётная проверка на атомной». Оставляю, как есть. Вдруг пригодится.
Все бумаги, что только на виду, сгребаются в один из полиэтиленовых мешков, розданных накануне. Ту же операцию проделываю и в других финотделовских кабинетах. Три мешка «бумагопомёта» набралось.
Перед тем, как покинуть здание, захожу в туалет… С конца апреля в городе отключена вода. Дёргаю рычаг и с грустью наблюдаю, как опустошается полупрозрачный пластиковый бачок… Вода ушла – и тишина. Нет хорошо знакомого свистяще-струящегося звука. Бачок навечно остался пуст…...
В начале июня Правительственная комиссия (ПК) [16] приняла одно из ключевых решений, которое можно свести к четырём страшным словам:
В ПРИПЯТЬ ВОЗВРАТА НЕТ.
Население города энергетиков эвакуировали не на три дня, не на месяц, а – НАВСЕГДА.
Глава 10. Банный конфуз. Секс есть! Чернобыль и творчество. Солдаты и партизаны. Графитовый сувенир
Не иссякал людской поток на приём к руководству. Среди «прихожан», как их окрестил один коллега, встречались и работавшие непосредственно на станции, в самом пекле. Так что радионуклиды поступали к нам с завидным постоянством, нагло цепляясь за одежду, обувь и волосы. Да дело и не столько в атомщиках. Посёлок-то с места не сдвинешь, а находится он в тридцатикилометровой зоне, и, значит, шитиков ему досталось по самое некуда. Ну и нам заодно.
...
Впоследствии эвакуация коснулась и Полесского: из-за радиоактивного заражения жизнь в посёлке не представлялась возможной.
Для спасения от беспощадных шитиков требовалась чистота не только одежды, но и тела. Тем, кому гигиена привычна, как трёхразовое питание, лишний раз принять душ – просто в кайф. Тому же, кто ошибочно считал, что его хронически немытое тело (бррр!!) издаёт аромат Шанели номер пять, пришлось поменять привычки ради собственного же здоровья.
Поселковая баня работала бесплатно и по новому графику – с самого раннего утра до позднего вечера. Раза два-три на день бывал там и я. Тем более, что снимать жильё (тоже, кстати, бесплатное) мне довелось в частном доме, где не было не то что душа, но даже водопровода.
Однажды чуть не попал в глупую ситуацию. Зашёл в душевой зал, все отсеки заняты, так что на меня «уставились» с десяток голых спин и всего прочего. Раздеваясь, я заподозрил неладное: уж больно фигуры «не того формата». Догадавшись, в чём дело, схватил в охапку портфель и всё, что успел с себя снять, и пулей вылетел из зала. Хорошо хоть никто из мывшихся не надумал оглянуться, а то представляю, какой бы поднялся визг. А уж тазика, пущенного вдогонку, я бы точно не избежал. И поди, докажи, что в женский зал попал по ошибке, а не по умыслу. Об этом едва не случившемся конфузе я до сих пор никому не рассказывал.
В конце июня 86-го в одном из телемостов СССР-США на весь мир прозвучало невероятное откровение, по следам которого пошла гулять крылатая фраза – «в СССР секса нет». Совковая мадам, ляпнувшая несусветную чушь, оправдывалась, что имела в виду отсутствие не секса вообще, а только рекламы, использующей эту пикантную тему (таким, кстати, и был контекст вопроса из-за океана). Но кому нужны подробности? Сказано – как воробьём вылетело. А дальше – из уст в уста, из уст в уста…
В Полесском же всё происходило с точностью до наоборот. Романы, флирты на одну ночь, адюльтеры, как мне показалось, случались намного чаще, чем в «довоенное» время. Почему? Скорее всего, коллективное подсознание адекватно реагировало на катастрофу. Ведь радиация несла угрозу роду человеческому, а точнее – возможности его продолжения. И что ни говори, в основе любовных приключений глубоко залегает инстинкт продолжения рода. Потому и мужчины, и женщины с особо ранимой психикой неосознанно пытались доказать (и, прежде всего, самим себе), что есть ещё порох в пороховницах.
Порой доходило до курьёзов. В местной гостинице администратор отказалась подселять жену (притом настоящую!) к одному из ликвидаторов, объяснив, что его «вторую половину» она отлично знает: та, мол, вчера только уехала. Скандал случился неимоверный. Правда, мне смаковать его незачем: я там не присутствовал.Авария на ЧАЭС привлекла внимание журналистов, писателей, поэтов, композиторов и других представителей творческих профессий. Что вполне нормально, ибо где ещё в то время открывался столь шикарный простор для самовыражения? Возможно, я утрирую, но как не воспользоваться таким уникальным шансом сделать себе имя? На чернобыльскую тему писались газетные и журнальные статьи, сочинялись песни, стихи, очерки, художественные романы. Из произведений крупной формы мне наиболее запомнились повесть Юрия Щербака «Чернобыль» и роман Владимира Яворивского «Мария с полынью в конце столетия». Многие другие сочинения, к сожаленью, канули в безвестность. Да и не мудрено. Ведь шедеврами становятся лишь единицы из потока творений души и разума. Однако, не будь золотоносного песка, на каком фоне мы бы отыскали крупинки жёлтого металла?
После взрыва осколки графитового корпуса четвёртого энергоблока разлетелись по территории, прилегающей к станции. Попали и на крышу смежного, третьего, энергоблока. Для удаления радиоактивных ошмётков поначалу привлекали солдат срочной службы. Дело-то не требует специальных знаний. И задача, казалось бы, проста, как три копейки – из серии «бери больше, кидай дальше». Правда, находиться в зоне столь интенсивного облучения нельзя вообще, но, если очень нужно, то можно. Вопрос лишь – как долго? Если память меня не обманывает, на смертоносных участках люди сменялись чуть ли не каждые три минуты. Можно только представить, сколько единиц людских ресурсов потребовалось для очистки территории от осколков графита в условиях таких временн ы х ограничений.
Вскоре через военкоматы началась мобилизация на военные сборы солдат и сержантов запаса (этих вояк неофициально именовали «партизанами»). В мирных условиях смысл такого призыва состоял в повышении воинской квалификации. Но «после войны» повестка из военкомата на двухмесячные сборы нередко означала отправку на ЧАЭС.
С мобилизацией возникали трудности: кто-то являлся пунктуально, а кто-то прикидывался, будто никакого предписания и в глаза не видел. За уклоняющимися приезжали на дом, порой и среди ночи. В народе уж заговорили о незабвенных «чёрных воронках». Бывало, являются к кому-нибудь военкоматовские рекрутёры, иногда вместе с милицией, и строго так спрашивают:
– Здесь проживает такой-то?
– Да, но он уехал, – следует невозмутимый ответ.
– Куда? Когда вернётся?
– Мы не знаем.
– А он получал повестку на сборы?
– Какую ещё повестку? Какие сборы? Ничего такого он нам не говорил!
Сам же искомый мог в это время прятаться на чердаке, у соседки под кроватью или где там ещё. И хоть не факт, что его направили бы именно на атомную, да мало ли что – думал он? (Некоторых из «уклонистов» я знал лично, потому и рассказываю.)
Полагаю, эту призывную кампанию можно расценивать как репетицию НАСТОЯЩЕЙ мобилизации на НАСТОЯЩУЮ войну. А и в самом деле, представьте, чем бы закончилась, например, Вторая Мировая война, если бы народ таким же образом реагировал на призыв защищать Родину. Помимо правовых последствий уклонение от отправки на фронт несло и моральные издержки – пожизненное клеймо позора, да не только на себе, но и на детях, внуках…
И всё-таки, дезертиры, «устроившиеся недурненько» (по Маяковскому), всегда оказывались в меньшинстве. Иначе не видать бы нам ни победы над фашизмом, ни обуздания «мирного» атома. Впрочем, долой сослагательное наклонение. История, как известно, его не терпит.
Среди ликвидаторов попадались очень разные люди, до одурения разные. Порой такое вытворяли, что не вписывается ни в какие каноны разума.
Мне рассказывали, как однажды, во время обычного радиационного контроля, у одного вахтовика очень сильно «зазвенело» левое бедро. Стрелка прибора так зашкаливала, что, будь она способна издавать человеческие звуки, всех, кто там находился, оглушил бы истошный вопль.
Оказалось, чудак вздумал прихватить на память… кусочек графита! Да-да, того самого, с четвёртого энергоблока. Когда он вывернул содержимое левого кармана брюк, у контролёров дыбом встала даже лысина.
Вскоре незадачливому любителю сувениров ампутировали ногу. И я даже не пытаюсь угадать, сколько дней или месяцев он протянул после той, пожалуй, последней вахты в жизни.
В целом же, ликвидаторы – как мобилизованные, так и добровольцы – достойны слов искренней благодарности за их подвиг и пожеланий тем, кто жив, долгих лет и доброго здоровья. А тем, кого нет – царствия небесного и светлой памяти.Глава 11. Нас оставалось только трое… Инстинкт продолжения рода. Компенсация за утраченное имущество. Ощущение безнаказанности
Припятский городской финансовый отдел состоял из инспекций. Их тоже почему-то именовали отделами. У меня это вызывало недоумение: как так? – отдел, состоящий из отделов. Что-то не то в иерархии. Ладно, сейчас не об этом.
После эвакуации горфинотдел выглядел как в старой военной песне – «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Точнее, трое из восьми. Кроме заведующей, Людмилы Александровны Приймак, и меня, её зама, лямку тянула ещё Валя Сапура, формально состоявшая у меня в подчинении. Опыта у неё поболе моего, и мне частенько приходилось с ней советоваться. (После аварии Валя с месяц проходила лечение в стационаре, но, кажется, всё обошлось. Сейчас живёт в Ирпене, городе-спутнике украинской столицы.) Так мы втроём и работали бок о бок с другими припятскими админструктурами до полного их расформирования в июне 87-го.
Остальные сотрудницы (я был в горфинотделе единственный мужчина) в «послевоенное» время нас покинули. По разным причинам. Об их дальнейшей судьбе знаю мало.
Инспектор бюджетного отдела (имя её начисто забыл) незадолго до аварии уехала на майские в Россию, к родителям. Узнав о происшедшем, возвращаться не стала. Возможно, когда через полгода мы в льготном порядке получали квартиры, она об этом пожалела. А может, и нет. Не знаю. В октябре прислала письмо. Интересовалась, что и как, в том числе и квартирным вопросом. Увы, поезд ушёл. Но всё к лучшему: здоровье-то сберегла!
Ещё мне чуть-чуть известно о нашей секретаре-машинистке Римме Геннадиевне Куликовой, которая, к слову будет сказано, очень хорошо знала дело, была исполнительная, корректная в обращении с коллегами. После аварии я с ней не виделся, но от людей знал, что вечером в ту последнюю «мирную» пятницу она ушла с внуком на дачу в так называемой «Нахаловке», неформальном дачно-огородном кооперативе. Её потому так и прозвали, что участки не были зарегистрированы, а нахально (!?) захвачены любителями самолично выращенных овощей и картошки. Чем не подспорье при скромном семейном бюджете?
По воле злых сил Нахаловка оказалась на одном из направлений выброса радиоактивных отходов. Римма Геннадиевна узнала об аварии лишь днём в воскресенье, когда за ней приехали «эвакуаторы». Так она и покинула город: прямо с грядки, в кедах и спортивном костюме. В больнице ей удалили щитовидку. Содержание в крови лейкоцитов, отвечающих за иммунитет, упало ниже всех минимумов. Других сведений о Римме Геннадиевне у меня нет.
Об остальных сотрудницах горфинотдела мне ничего не известно.
Из коллег по горисполкому особенно много шитиков наполучали те, кто двадцать шестого и двадцать седьмого апреля обходили дома и уговаривали жильцов не высовываться из квартир и, тем более, не пускать детей в песочницы (о взаимной «приязни» песка и шитиков я уже говорил).
Хождения по дворам совершались втайне от горкома партии, с завидным упорством блокировавшего выход информации. Ну, чтобы не провоцировать панику. Я не склонен комментировать тактику замалчивания ценой здоровья и жизни людей. Ведь не известно, чем бы всё закончилось, если бы припятчане сразу же доведались о страшной угрозе. Её масштабы не могли оценить даже специалисты. А ну дай людям знать, что вокруг них – смерть! И что дальше? Массовое бегство с таким же массовым разносом по стране радионуклидов да несколькими сотнями инфарктов? Так что здесь не всё однозначно. Однако я бы снял шляпу перед теми, кто, рискуя получить нагоняй от партийного начальства, делал всё возможное для безопасности населения.
В «довоенное» время круг моих друзей-приятелей, а также приятельниц, в основном состоял из холостых и одиноких. Многие из них не воспринимали узы Гименея как нечто обязательное. Может, мы потому и дружили. Ещё бы! Такое объединяющее начало! Конечно, ничего человеческого мы не чурались, однако «дальний прицел» мало кого интересовал. Почему? – На это у каждого свои тараканы. У меня идиосинкразия к маршу Мендельсона развилась после глупого студенческого брака. О нём я никогда не вспоминаю и сейчас рефлексировать не собираюсь.
За внешней бравадой и наслаждением свободой (не понятно только, от чего) скрывалось неуёмное желание быть кому-то нужным, жить не только для себя, дать продолжение фамилии. Мысли о свободе чаще вытеснялись битловским «О, сколько в мире одиноких…» (Ah, look at all the lonely people…). [17] И встреча с Таней, совпавшая с днём гибели мифа о мирном атоме, окончательно развеяла страх перед алтарём. Через месяц мы подали заявление, а ещё через два в скромной оболонской квартире «пела и плясала» скромная городская свадьба.
Чуть позднее с удивлением узнал, что примерно в то же время почти все из нашего «клуба одиноких сердец» галопом рванули под венец! Что это? Результат осознания бренности бытия? Пересмотр жизненных ценностей? И, как следствие, победа инстинкта продолжения рода над гусарством? Значит, спасибо Чернобылю??...
Когда я, устраиваясь в горфинотдел, становился на воинский учёт, заведующая военно-учётным столом Ира Ткачёва, помимо прочего, спросила: «Женат?» Я в ответ: «Холостяк». И после паузы слегка вызывающе: «Закоренелый». Как мне тогда показалось, прозвучало эффектно. Вскинув брови и пробежав по мне оценивающим взглядом, Ирина с улыбкой предостерегла: «Не зарекайся». Я улыбнулся в ответ и, заметив обручальное кольцо на её правой руке, промолчал. Много позднее Ира мне припомнила: «А говорил – закоренелый холостяк». На что я: «Ну да, а ты говорила – не зарекайся». Жаль, не могу разделить с Ирой воспоминания об этом кратком эпизоде. Не стало её через несколько лет после аварии. Онко. А ведь мы с ней почти одногодки…
Медовый месяц пришлось отложить до лучших времён. Из-за дефицита кадров на работу я вернулся уже через неделю после свадьбы. Такая востребованность, с одной стороны, повышала самооценку, а с другой – сыграла не в мою пользу, породив ощущение безнаказанности. Не то чтобы я прежде стелился перед руководством, и не то чтобы вдруг начал наглеть, но появилось – чего греха таить – ложное понимание, что без меня не обойдутся. Впрочем, вот пример.
За время «медовой недели» произошли важные события. Сменилось руководство горисполкома: вместо Волошко председателем поставили бывшего горкомовского секретаря Александра Веселовского. Кроме того, началось оформление компенсаций за оставленное имущество. Для приёма заявлений выделили актовый зал не то клуба, не то дома культуры. Меня направили на «приёмный пункт», а чтобы легче справлялся с наплывом людей, дали в подкрепление коллегу из другого района Киевской области.
И вот сидим, приходят люди, выдаём бланки заявлений, получаем заполненные. На улице – жара несносная. В помещении – не намного лучше. К середине дня мы поняли, что без минералки загнёмся. Решили, схожу я, а мой коллега, если что, прикроет. И надо ж было именно в это время припереться какому-то проверяющему аж из облисполкома! Когда я вернулся с авоськами, из которых в разные стороны торчали горлышки бутылок, мне напарник и сообщает: вот, мол, заезжал какой-то чувак из области, тебя спрашивал, а потом звонил Веселовский и сказал, чтобы ты срочно перезвонил, а лучше – зашёл.
Я начал с телефона. В приёмной звонок перевели на председателя. В трубке долго звучал разговор в кабинете. Так часто поступали руководители советского типа: даже когда отвечают на звонок, то не сразу «аллёкают», а всё ещё продолжают диалог с посетителем. Это чтобы ты, звонящий, уяснил, что председатель – человек занятый, и надо набраться терпения, покуда он не снизойдёт до ответа. Ладно, думаю, не впервой. Меня-то время не давит.
Наконец, на том конце провода раздалось недовольное:
– Аллё?
– Добрый день, Александр Афанасьевич. Это – Орел. Вы хотели со мной говорить?
– А, ты? Зайди ко мне!
Короткие гудки. И ни тебе «здрасьте», ни «пожалуйста». Да и бог с ним, думаю, не убудет меня.
От клуба до исполкома – минут десять пешим ходом. В приёмной через шум-гам посетителей пробиваюсь к секретарше:
– Меня просил зайти (жестом показываю на кабинет).
Мне в лицо:
– Александр Афанасьевич не просил, а приказывал!
Ну, тоже ладно. Особенности восприятия в действии. Да и не до оксфордских манер в такой сумасшедшей обстановке.
Кабинет Веселовского. Тот, как можно догадаться, в главном кресле. За длинным столом для заседаний, образующим букву «Т» с председательским, по одну сторону зампред Кононыхин Владимир Константинович. Напротив него – какой-то дутый крендель, доселе мне неизвестный. По виду – типичный партработник: кабинетное брюхо, губы концами вниз, выражение лица – как в песне: «Но сурово брови мы насупим…» Впрочем, что мне до него? Я же к новому председателю.
На моё «здравствуйте» реакции – ноль. Предложение «присаживайтесь» не последовало. Выдвинул я стул и устроился со стороны зампреда, сложив локти на столе.
Веселовский начал разговор без крика, даже с налётом вежливости, какая только доступна партийно-советским работникам:
– Слушай (это мне), а чего тебя нет на рабочем месте?
– Но ведь вы меня попросили зайти, вот меня там и нет, – отвечаю в той же тональности.
– Не прикидывайся! Ты знаешь, о чём я! – прозвучало чуть строже, с толикой раздражения, вызванного моей развязностью.
– Нет, не знаю. Скажете – буду знать, – реагирую спокойно, в рамках приличия.
– Ты ж на заявлениях по компенсации?
– Ну да.
– С этим… как его… из Макарова…
Председатель не обязан помнить имя рядового сотрудника Макаровского райфинотдела, но и я подсказывать не стал, а давай сразу быка за рога:
– Так а в чём дело? Меня работа ждёт! – мой голос приобрёл чуточку негодования, пусть даже напускного.
– Ты не паясничай тут! Работа его ждёт, – передразнил Веселовский, – там на твоей, как ты говоришь, работе сегодня был представитель облисполкома и, говорит, тебя нет на рабочем месте. Сорок минут, говорит, ждал.
– Я выходил только раз, на пятнадцать минут, за минералкой. А сорок минут – это враньё!
Чиновника, сидевшего напротив Кононыхина, будто передёрнуло. Вскинув брови, он исторгнул на меня поток флюидов ненависти, помноженных на возмущение.
Кононыхин же молча взирал и слушал. Его ошарашенный взгляд то фиксировался на мне, то перебегал на Веселовского, снова на меня, на него… явно избегая «глазного контакта» с киевским начальником.
– Да как ты разговариваешь! – голос председателя всё больше металлизировался, наращивая громкость, – вот человек из области! Он что, по-твоему, выдумывает?!
– Пусть купит себе новые часы! – не уступал я.
Не знаю, какой тирадой готов был разразиться Веселовский, но здесь уже вмешался пузатый чиновник, оказавшийся зав каким-то отделом Киевского облисполкома:
– Что вы себе позволяете?! Как вы себя ведёте?!
«Надо же, – мысленно оценил я, – на «вы», хоть и на повышенных тонах. Столичный уровень, однако». Вслух же я проорал:
– А нечего на меня поклёп возводить! Я сказал – меня не было пятнадцать минут! – Рамки почитания и вежливости безнадёжно трещали по швам и по живому. – Лучше бы людей обеспечили хотя бы водой! А то бросили на отшибе – и сдыхай от духоты!
– Нет, я этого так не оставлю! Я немедленно доложу Плющу… [18]
– Да на здоровье! Хоть Горбачу! – почти в рифму перекрутил я фамилию тогдашнего генсека. Это было чересчур. Но меня несло, как Остапа накануне васюкинского сеанса.
Тут мне вспомнилась поговорка – «незаменимых не бывает». И всё же отступать не к лицу, решил я про себя, хоть и понимал, что в «довоенных» условиях подобный диалог стоил бы мне карьеры.
Областной начальник приступил к давлению на мораль:
– Вы коммунист?
– Этого ещё не хватало!
Сейчас не могу понять, откуда взялась такая дерзость. Год-то ещё 86-й! Надеюсь, комментарии не нужны.
– Но у вас есть хотя бы гражданская совесть? – Мой визави по-прежнему надеялся хоть чем-то меня пристыдить.
– Моя гражданская совесть тут ни при чём! А клеветать на себя я не позволю никому! Ни вам, ни Плющу, ни даже Щербицкому! [19]
– Вы свободны! – и показал рукой на выход.
– Да пожалуйста! – я встал, вышел и, конечно же, хлопнул за собой дверью.
«Ты тоже, м…к, свободен!» – эта фраза прозвучала вне кабинета и только у меня в голове.
Вечером я вернулся в финотдел с внушительной пачкой заявлений. Взгляды Людмилы Александровны и Вали Сапуры не оставляли сомнений, что инцидент в кабинете председателя тайной не является. Валя, покачав головой, молча приняла стопку заявлений. Увещевания Людмилы успели ограничиться тревожным «Как же вы так, Евгений Николаевич?», когда в кабинет вошёл Веселовский. Переговорив с заведующей, он ко мне, словно между прочим:
– Слушай, Евгений, ты так его довёл, что он пил валерьянку. Мы уже думали врача вызывать, – сказал спокойно, даже чуть насмешливо.
Я в ответ только ухмыльнулся. Веселовский о чём-то спросил Валю и вернулся к диалогу с Людмилой. Для себя же я вывел, что Александр Афанасьевич и сам недолюбливал этого непрошеного визитёра, но тогда, в кабинете, вынужден был держать марку.
Вскоре все разошлись по домам. Я уже говорил, что снимал комнату в частном секторе. С меня и копейки не требовали. Да в то время, думаю, во всём Полесском с эвакуированных никто денег за проживание не брал.
Хозяин дома – Коля Карачун – оказался прекрасным человеком, хорошим собеседником и не менее хорошим… собутыльником. Кроме меня, он принял ещё двух командированных. У Коли в доме стояло фортепьяно. Вот мы вчетвером и «зажигали», так что вся округа сбегалась. Весело было! Самогон, девки, песни, танцы…
Если Коля Карачун читает эти строки, то я хотел бы сердечно поблагодарить его за гостеприимство, заботу и пожелать ему и его близким доброго здравия и благополучия.А с председателем горисполкома Александром Афанасьевичем Веселовским у меня в итоге сложились прекрасные отношения. О том злосчастном инциденте мы друг другу больше не напоминали. К сожаленью, в конце 90-х Александр Афанасьевич погиб в автомобильной катастрофе. Светлая память замечательному человеку.
Глава 12. Девятьсот четвёртый счёт. О механизме компенсации за утраченное имущество
В мае 86-го Государственный Банк СССР открыл специальный счёт для пожертвований на ликвидацию последствий аварии. В народе и в масс-медиа его знали как «девятьсот четвёртый счёт». Перечисления шли от юридических и физических лиц. Но первые (предприятия, организации и т. п.) в основном принадлежали государству, и всё сводилось к перекладыванию денег из одного державного кармана в другой, такой же державный.
Иное дело – физические лица, то есть обычные (и необычные) люди. Они-то отдавали государству свои кровные. Совершенно неискушённые задавали наивные вопросы вроде: «А на что конкретно потрачены именно мои деньги?» Как тут объяснишь, что узнать это практически невозможно? Приходилось прибегать к доходчивым аналогиям. Мне больше всего нравился пример с котлом, в который множество людей ссыпает гречневую крупу, а затем из неё варится каша на большую ораву. Вот и определите, спрашивал я, кому из едоков чья гречка досталась. Таким образом, всё становилось предельно ясно, и вопрос снимался.
В предыдущей главе я упомянул о компенсации за оставленное имущество (чаще звучало «за утраченное имущество»). Я не участвовал в разработке механизма выплаты и могу судить о нём только «снизу», как рядовой чиновник.
Прежде всего, о вывозе мебели и прочего нажитого добра речь не шла вообще. Во-первых, накладно. Как по деньгам, так и по времени. Во-вторых, наверняка немалая часть имущества по завязку насытилась шитиками. Спрашивается, зачем людей подвергать дополнительному риску? И отвечается: незачем. Вот и решили выплачивать фиксированную денежную сумму на семью по количеству её членов. Размеры возмещений определялись по простой методике:
...
– семья из 1 чел. – 4000 рублей;
– семья из 2 чел. – 7000 рублей (4000 + 3000);
– семья из 3 чел. – 8500 рублей (4000 + 3000 + 1500);
– семья из четырёх человек – 10 000 рублей (4000 + 3000 + 1500 + 1500);
– ………
На этом и остановимся: каждому следующему члену семьи перепадали те же 1500 рублей.
Приверженцам формально-математического подхода могу предложить следующую формулу:
– семья из N человек – X рублей (4000 + 3000 + [N-2] * 1500) – при N > 2.Была ли в официальных документах эта алгебра, не столь важно. Главное – формула работала, как её ни записывай.
Сказать, что компенсация породила множество недоразумений – всё равно, что промолчать. Мало кто понимал, почему за основу брались именно четыре, три и полторы тысячи. Многие ошибочно полагали, что первые 4000 рублей принадлежат мужу, следующие 3000 – жене, ну и на детей, бабушек и дедушек – по 1500.
Порой женщины спрашивали: «Почему это мужу четыре тысячи, а мне – только три?» А ещё – «Почему на тёщу/свекровь только полторы?» Объяснялось это просто, хотя и понималось не всегда легко: сумма компенсации начисляется в целом НА СЕМЬЮ, а не каждому её члену в отдельности, и принадлежит всем в равных долях.
Люди быстро смекнули, как можно увеличить размер компенсации. Рассмотрим типичный, пример.
...
Семья: муж, жена и ребёнок. На эту «ячейку общества» причитается 8500 рублей.
Помните, да? – 4000 + 3000 + 1500.
Но если супруги в разводе, то компенсация выплачивается на две семьи:
1.) бывший муж – 4000;
2.) бывшая жена с дитём – 7000 (т. е. 4000+3000).Итого – 11 000. А не 8500, как для семьи из трёх человек.
И ладно, если бывшие супруги в самом деле разведены как по душе, так и по документам. Тут без вопросов. Но вот приходит ко мне на приём некий гражданин и спрашивает, можно ли получить компенсацию отдельно от бывшей жены. С ней он, правда, на момент аварии жил в одной квартире. В жизни ведь всякое бывает. Я ему:
– Если вы с ней в разводе, то у вас должно быть свидетельство о расторжении брака.
– Мы не успели, собирались, но тут авария…
– А лицевые счета разделены?
– Тоже не успели. В ЖЭК звонили, а нам сказали зайти после майских. Но тут авария, сами понимаете…
– Ну да, понимаю. А хотя бы подали на развод?
– Да вот… собирались…
– Но тут авария… – подсказываю ему. Он улавливает сарказм и отводит взгляд.
Минут через десять – аналогичный случай. Затем ещё, и ещё… Прям какая-то эпидемия «семейного полураспада»!
Ладно, говорю, соберите письменные показания свидетелей, готовых нотариально подтвердить, что вы с супругой жили порознь, имущество поделили – и тем обрекаю их на бюрократические мытарства. Выслушав столь жёсткие требования, некоторые даже дорогу к нам забывали. Остальные – их большинство – вскоре возвращались, только уже с пакетом собранных документов.
Далеко не в каждом случае мы решали в пользу заявителей. Даже если муж напишет, что жена ему в наглую изменяла, а та – что законный супруг ежедневно её истязал (прости, господи!), ещё не факт, что их раздельные заявления мы не состыкуем. Тогда, кстати, и появилась форма начальственной резолюции – «состыковать». То есть заявления, написанные жильцами одной и той же квартиры, сводятся воедино, и компенсация выплачивается всем проживающим, как одной семье. Ведь пусть и богатеньким было советское государство, но не настолько, чтобы нарушать заповедь известного орденоносца – «Экономика должна быть экономной». [20]
Некоторые из припятчан считали нас, «сидящих на заявлениях», чуть ли не вершителями судеб. Странно, что кому-то могла прийти в голову мысль, будто мы можем ему/ей отказать в приёме заявления. Принимали-то от всех, а уж как рассматривали и что решали – сие было не в нашей компетенции.
Кое-кто пытался с нашей помощью «ускорить» процесс. Мы же объясняли, что от нас ничего не зависит, и отвергали всяческие подношения как неуместные, да притом и незаконные.
Но однажды… Посетитель заполнил бланк и оставил его вместе с пакетом. На вопрос «Что это?» – бросил на ходу: «Это вам» – и быстренько ретировался. Мы даже опомниться не успели. В пакете оказались бутылка водки, шмат сала и батон. И едва я подумал, что надо бы вернуть презент (брать-то не положено), как напарник меня опередил: схватив пакет, выбежал за клиентом, но того уж и след простыл…
В тот день обеденный перерыв мы провели не в столовке, а на рабочем месте. Но никому об этом не рассказывали.
...
30 августа горисполком, горфинотдел, горстрах, горкомы комсомола и партии перебазировались из Полесского в Ирпень (километрах в 20 от Киева). Именно в этом симпатичном городке нам обещались квартиры в новом, тогда ещё строившемся, доме на 3-го Интернационала. И вновь мы оккупировали пол-этажа, только теперь уже Ирпенской городской администрации. Последующие события и эпизоды относятся к «ирпенскому» периоду, длившемуся до расформирования городских админструктур, то есть до июня 87-го.
Не всех устраивали фиксированные размеры компенсации. Да и немудрено. У многих припятчан назначенная сумма далеко не покрывала стоимость оставленного добра. Недовольным предлагалось составить списки с указанием цен на серванты, диваны, телевизоры и прочие элементы нормального быта. Когда же количество заявок набирало некую критическую массу, в назначенный день и час в Припять специальным автобусом выезжали хозяева квартир и члены комиссии по оценке утраченного имущества. В комиссию входили: представитель горисполкома, товаровед, экономист по ценам, а также сотрудник горфинотдела. Меня эта участь тоже не обошла.
Посетить мёртвый город ещё раз – удовольствие сомнительное. Но работа есть работа. Здесь эмоции молчат, как музы во время канонады.
Одна из поездок выпала аккурат на мой день рождения, в конце декабря. До отъезда я никому ничего не сказал, но уже по дороге ненароком проболтался. И когда по завершении работы мы организовали стол (естественно, для профилактики от шитиков!), несколько тостов прозвучало и в мою скромную честь.
Впервые в жизни я принимал поздравления в городе, которого больше не существовало. И потом, в тот день, кроме нас, в Припяти не было ни единого человека, так что на моей днюхе погулял «весь город». Тоже впервые в жизни. Как же такой день можно забыть?
Одна из квартирных хозяек, чьи «мебеля» мы оценили несколько выше, чем она сама же указала в описи, подарила мне портрет Владимира Высоцкого и машинописный сборник его песен. На выезде радиационный контроль, на котором я, впрочем, не настаивал, аномалий на «Высоцком» не обнаружил. Похоже, в тот день радиация проявила ко мне исключительную милость.
Пил столько, сколько наливали. И не хмелел, пребывая в шоке от увиденного за день. Да и было от чего! Немым укором жилые здания смотрели на нас сотнями тёмных оконных глазниц, которым никогда не суждено излучать свет и тепло домашнего уюта. Чуть ли не в каждой третьей квартире входная дверь взломана. Да как взломана! Грубо, надругательски! Наверняка, топором или «кошкой». Вещи разбросаны, на месте люстр – оборванные провода и торчащие из потолков крюки. Вывернутые ящики сервантов не оставляли сомнений относительно цели грабителей.
Ходили слухи, будто припятских мародёров расстреливали на месте. Но я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть.
В одной из квартир обращал на себя внимание детский уголок, явно девичий, судя по мишкам и куклам. Казалось, мама только-только позвала дочку, чтобы угостить конфеткой (а вот и фантик, на полу в прихожей), и дитя вот-вот прибежит обратно, продолжить прерванную игру. Особенно «живой» выглядела кукла «Наташа», точная копия подаренной моей сестре на первый детский юбилей. Эта лялечка ни в какую не хотела верить в произошедшее, а её взгляд излучал беспечность и детскую смешливость, от чего становилось особенно жутко…
В другой квартире я заметил на пианино стопку нотной литературы – этюды Черни, «Лунная соната», «Турецкий марш» – типичный репертуар учащегося музыкальной школы. Сопровождавшие группу молодые сержанты милиции надумали забацать «Собачий вальс» в четыре руки… (расстроенный инструмент едва успел выдать «па-ба-бам – пам-пам»)… но их музицирование прервал умоляюще-отчаянный окрик хозяйки квартиры:
– Не трогайте, прошу вас! Закройте пианино! Пусть всё останется, как есть.
Сержанты уважили просьбу, с трудом скрывая смущение, будто влезли в чужую тайну, а теперь не знают, как её забыть.
А хмель меня пробил уже на подъезде к дому, в форме нервного расстройства от пережитого, на грани истерики. Так далось мне очередное посещение мёртвого города. Любимая утешала меня, как могла, давала успокоительные. Как ни странно, тот вечер я помню очень подробно. Придя в норму, я за чашкой чая поведал Тане об увиденном. А вот «спасибо за понимание» сказал только утром. Но ведь не забыл…
Проживавшим в общежитиях холостякам и одиноким поначалу выплачивали по 4000 рублей. Равно как и тем «бобылям», что занимали отдельные квартиры. Через месяц-два кому-то «наверху» такая щедрость показалась неуместной. Да и вправду: разве можно имущество даже однокомнатной квартиры (стенка, ковёр, телевизор, холодильник и прочее) сравнить с чемоданом барахла, запихнутого под так называемое «койко-место»? И решило начальство, что общаговцам разумнее выплачивать лишь за фактически утраченное имущество. Для этого претендентам на компенсацию надлежало составить списки утраченных штанов, лифчиков, маек и прочего с указанием цен. С тех же, кто успел получить четыре «куска» по старым правилам, возврата денег не требовали – ведь закон обратной силы не имеет.
Вот тут-то и началось. Прежде всего – поток возмущений: «а почему ей четыре тысячи, а мне – по списку?» И потом, чего только не вносили в эти злосчастные списки! И дублёнки, и «пыжики», и костюмы-тройки, и туфли из крокодильей кожи, и, и, и… Но самым забавным оказалось то, что чуть ли не каждый проживавший в общежитии имел в собственности импортный магнитофон. Притом обязательно либо «Шарп», либо «Сони». На то время – верх крутизны!
Как тут не вспомнить знаменитого киношного стоматолога – Шпака? [21] Думаю, если бы ему пришлось составлять подобный перечень, то в него попали бы: «Три магнитофона, три телевизора, куртка замшевая!… три!».
Мы разговаривали чуть ли не с каждым «шпаком». И, если в списке значился дорогущий магнитофон, спрашивали у «владельца»: где приобрёл, за сколько, не сохранился ли чек (впрочем, кто их тогда сохранял?), как включается, как записывается и т. п. После собеседований списки якобы утраченного имущества становились короче, а для государства – дешевле.Жаловались на нас, ох, как жаловались! Иногда и справедливо, что греха таить. Писали в различные инстанции. Хорошо запомнилась телеграмма-молния: «Москва. Кремль. Горбачёву. Прошу помочь с получением компенсации за утраченное имущество. (фамилия отправителя)». На телеграмме – с десяток резолюций по нисходящей: от секретаря ЦК до председателя горисполкома. Всё, как положено. Всем отвечали. Не все остались довольны. А где вы такое видели, чтобы довольными оставались ВСЕ?
Глава 13. Компенсационные курьёзы. Запорожец – не машина… Жёлтая карточка. Беспроцентные ссуды
Выяснилось, что не всем припятчанам понятен смысл слова «компенсация». Один из «прихожан» спросил:
– А где тут оформляют КОМПЛЕКТАЦИЮ?
Другой выдал похлеще:
– Я к вам по вопросу КОНФИСКАЦИИ.
Хорошо хоть не экстрадиции.
Да что там! Даже «эвакуация» не всем оказалась по зубам! В одном из писем на имя Веселовского читаем: «26 апреля меня вывезли из Припяти после ОККУПАЦИИ». Такие письма зачитывались вслух и сопровождались гомерическим хохотом.
Поначалу смеялся и я. Но когда вспомнил о Припятском исходе и о казавшейся не случайной созвучности слов «оккупация» и «эвакуация», смеяться перестал.
Однако звание лауреата в конкурсе «ляпов» заслужило бы письмо, первые строчки которого не только нарочно не придумать, но и никогда не забыть (грамматика оригинала сохранена):
«Уважаемые (кто-то там, неважно), Я жыла в Прыпяти с (такого-то) года. После УТЕЧКЫ ГАЗА на атомной станции 26 апреля…»
Бывали, впрочем, и другие забавные ситуации, но спустя четверть века вспоминается далеко не всё.
Изначально предполагалось, что проверка заявлений, всякие там оформления, перечисления и т. п. – займут месяца полтора-два. По разным причинам дело растянулось более чем на год. Процесс курировали коллеги из облфинупраления, между делом развлекавшие нас перлами фольклора. Наверное, сами же их и сочиняли. От этих ребят ещё в Полесском я услышал самоироничное двустишье:
Запорожец» – не машина,
Киевлянин – не мужчина.
Ещё они нас «учили», как распознать киевлянина в другом городе:
1.) импотент,
2.) лысый,
3.) в руках торт «Киевский» . [22]
Что до первого пункта – ничего сказать не могу, не знаю. А вот лысые среди киевских кураторов уж точно не встречались. Да и тортикам они предпочитали водку, особенно самопальную, хотя и «государственной» не чурались. Мы тоже не отставали. В меру, конечно: только то, что доктор прописал.В рутинной технической работе нам помогали сотрудники райфинотделов области. В основном молодые. На их фоне даже я выглядел зрелым мужчиной. Вот и назначили меня старшим группы первичной обработки заявлений.
Чего никогда терпеть не мог, так это начальствования над кем-то. Я и сам способен дело запутать, а если ещё людьми руководить – да нет, увольте… Не в прямом смысле, конечно.
Однажды моя подчинённая направила родителям эвакуированного письмо с каким-то запросом. И не беда, что написала от руки (до машинки, одной на этаж, не протолпиться), и не горе, что с «ашыпками», но главное – для письма взяла потёртый тетрадный листок с оборванными краями. И ни тебе «здрасьте», ни подписи. Так в нашу исходящую почту вкрался постыдный образец небрежности и неуважения к людям.
Ответ пришёл неделю спустя. А в конверте – что бы вы думали? Тот же листок, но ещё более помятый, с тем же письмом на одной стороне и с лаконичным ответом корявым почерком – на обратной:...
«Он выихав жыть в Новосибирск».
И всё!
И тоже без обращения и без подписи. В общем, как мяукнуло, так и отмяукалось. Могу представить реакцию зампреда Александра Эсаулова, когда он обнаружил эту сопливую бумагу в папке «На подпись». Да что – представить? Вот она, «реакция», как положено, в левом верхнем углу по диагонали:
...
«Да уж! Каков вопрос, таков и ответ.
Кто писал?!
Тов. Орел! Прошу немедленно разобраться и мне доложить.
А. Эсаулов»
Когда я зачитывал группе столь суровую резолюцию, на молодую коллегу-виновницу было жалко смотреть: вся съёжилась, побледнела, губы дрожат… Остальные зыркали в мою сторону с хрупкой надеждой на выверт из неприятности. Похоже, для них варианты моего поведения сводись к двум: либо я «сдаю» девчонку (вопрос-то конкретный: «кто писал?»), либо… на этом я оборвал предполагаемый ход мыслей, сказав: «Я всё улажу». С напускным равнодушием встал из-за стола и – на расправу к шефу.
Судя по формату газетных колонок, Эсаулов пристально вчитывался в очередное постановление ЦК или Совмина.
– Александр Юрьевич, – начал я с порога.
Эсаулов неохотно оторвался от текста и перевёл на меня усталый взгляд человека, у которого начальство зажилило отпуск года за три, не меньше. Я уж подумал выйти. Но Александр Юрьевич коротким жестом указал на кресло у стены, пробегая по мне вопросительно-отсутствующими глазами.
– Я по поводу того смешного письма… – и занимаю предложенное кресло.
Услышав, зачем я здесь, зампред будто стряхнул с себя мучившую его мысль, и я понял, что взятый мной ироничный тон пришёлся некстати.
– Женя, а что тут смешного? – сдерживая гнев, перебил Эсаулов, – Это же наше лицо! Чем вы там думаете?
– Извините, – осёкся я, – в общем… мы между собой разобрались. И я обещаю, что такого больше не повторится.
– Хорошо, принято. Ну а всё-таки, кто это написал? Мне просто интересно, – настаивал зампред.
– Ну, мы… этот вопрос решили… – я плёл что-то несвязное, дабы отвертеться от прямого ответа на прямой вопрос. К счастью, Александр Юрьевич «пытать» меня не стал. Да и не в его стиле издеваться над подчинёнными.
– Ладно, не хочешь – не отвечай. Я тебя понимаю. Но учти, ещё раз что-нибудь подобное – получишь взыскание. Понял?
– Понял.
Куда уж понятней!
– Иди, работай, – уже спокойным тоном добавил зампред, после чего, будто меня и не существовало, с головой погрузился в чтение.
Вернувшись в кабинет, я объявил, что вопрос решён по-доброму, однако без жёлтой карточки не обошлось. «Так что, – теперь настала моя очередь давать нагоняй, – учтите на будущее, а не то – следующая карточка будет красной». Общий вздох облегчения – и группа вернулась «к нашим баранам».
А каких нервов стоила нам эта бодяга с компенсацией! Работа с людьми – дело вообще «нервоёмкое» (кажется, такого слова нет, но, надеюсь, читатель меня понял). И ведь недолго сорваться, когда тебя целыми днями задалбливают «прихожане», как их называл Александр Григорьевич Пухляк, горисполкомовский парторг. И как ни горько признавать, но порой срывался и я. Случалось, и хамил. Пусть даже в ответ на грубости, но ведь не имел права. Ни по должности, ни по этике.
Одна радость: приду домой, а там – любимая жена. Улыбнётся мне Таня – и весь негатив долой.
Наверное, мужчина должен вести себя на работе – как дома, а дома – как на работе. Но прежде надо привести в равновесие внешнюю среду с внутренним миром (или наоборот). Порой это не удаётся, особенно при дисбалансе рабочей атмосферы и семейного уюта. В таких случаях одни держатся в рамках приличия на работе, зато сгоняют злобу на домашних. Другие – напротив – по полной отрываются на «прихожанах», сотрудниках, но домой приходят «разрядившиеся» и даже ласковые. Я по натуре тяготел ко второму типу, и на моём счету оказалось множество резких выходок как по отношению к посетителям, так и в конфликтах с коллегами. Пользуясь возможностью обращения к читателям, я искренне прошу прощения у всех, кому когда-либо успел нагрубить.Помощь со стороны государства не ограничилась компенсацией за имущество. С начала зимы 86-го эвакуированным выдавали беспроцентные ссуды на 15 лет в размере 5000 рублей на семью. Формальное назначение ссуды – «на хозяйственное обзаведение». А именно – приобретение мебели, автомобилей, домашней утвари, прочих предметов необходимости, пусть даже не первой. И я не помню, чтобы кого-нибудь проверяли, а не пропил ли он ссуду. Никто не спрашивал, на что мы её транжирим. Главное – вовремя погашать долг.
На моей памяти это самая гуманная дача денег взаймы. А уж со стороны государства – тем более. Легко подсчитать, что сумма ежемесячного погашения составляла каких-то двадцать восемь рублей. При окладе в сто пятьдесят – тяжеловато, но посильно, учитывая, что не надо копить на мебель и прочие атрибуты. Тогда я впервые ощутил преимущества кредита по сравнению с накапливанием. Да, берёшь чужие деньги, а отдаёшь свои. Но ведь желаемые предметы уже есть! И нет нужды копить годами, отказывая себе в удовольствиях жизни и не зная, насколько взлетят цены.
И пускай где-то там, через бухгалтерию, ссуда потихоньку погашается – а тем временем один из предметов ты включаешь и смотришь, из другого достаешь охлаждённое пиво, с которым интересней смотреть первый. И даже если в итоге заплатишь больше текущей цены, так ведь не сейчас, а – потом, когда и деньги чуть обесценятся, и зарплата подымется, пусть даже номинально. А если ещё и процентов не берут – грех не воспользоваться такой державной милостью. Конечно, даже на таких сказочных условиях возвращать не хочется, но с этим уж смиряешься, как с неизбежным. И никуда не денешься – ведь у государства руки длинные.
Интересно, что с 92-го платежи по ссуде больше не взимались. То есть примерно две трети от 5000 нам любезно «амнистировали». Правда, таким подарком мы обязаны не доброте государственных мужей, а их радению о государственных же интересах. Все мы помним, что первая половина 90-х ознаменовалась не только крахом Союза, но и нарождавшимся капитализмом. Наибольшим злом обывателю казалась гиперинфляция. В 93-м украинский купоно-карбованец обесценился на 10000 % (!) за год. До введения гривни (2 сентября 96-го) зарплаты исчислялись миллионами, правда, цены – тоже. И что такое 28 рублей при таких номинальных зарплатах и масштабах цен?
Ещё Адам Смит [23] указывал, что накладные расходы, связанные с налогообложением, не должны превышать сумму собираемых налогов. То же относится и к ссудам. Когда гиперинфляция превратила нас в «миллионеров», а цены на всё-всё ниже пятиразрядных даже не спрашивай – какой смысл собирать по 28 рублей, ставших дешевле прежней копейки? Вот почему та ссуда и была списана: овчинка не стоила выделки.Глава 14. Апельсины и Примадонна. Первый фильм комом. Небрежные журналюги
В районе эвакуированного села Страхолесье вырос небольшой вахтовый посёлок для работников атомной и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (чаще называемых просто – «ликвидаторами»). Смущало только имечко, чёрт возьми – Страхолесье. Возможно, из-за болезненных ассоциаций с «рыжим лесом». (Таким причудливым цветом окрасилась листва под мощным потоком радиации в первые часы после взрыва.) Над новым именем голову ломать не пришлось: позаимствовали у соседней базы отдыха. Так посёлку досталось позитивное название – Зелёный Мыс.
Из вторых рук узнал, что когда у вахтовиков спросили, не хотят ли они чего-нибудь «такого, особенного», в ответ почти единодушно прозвучало: апельсины и… Пугачёву. Ну, с Аллой Борисовной понятно. А вот апельсины… Вспомним однако, что 80-е – это ещё «совок», а значит, хронические дефициты. Сейчас в любом супермаркете всё в изобилии, в том числе и цитрусовые. Кати себе тележку да наполняй, покуда кошельку по силам. Апельсины, бананы, ананасы, киви… прям по царю Дадону: «кроме птичья молока, всё найдётся для дружка». А в те не совсем уж и далёкие времена апельсины не покупали, а «доставали», по очень большому блату. Но не будем отвлекаться.
В сентябре 86-го резиденты Зелёного Мыса получили долгожданный подарок: приехала сама АЛЛА ПУГАЧЁВА! Событие историческое и знаковое: до Аллы никто из артистов не решался на «чернобыльские» гастроли. Концерт Примадонны – благотворительный, что, не в обиду ей будь сказано, больше нужно было самой певице, чем вахтовикам. Те ребята зарабатывали достаточно, чтобы чуть ли не ежедневно платить за выступления знаменитостей.
Часть концерта я случайно поймал по телеку, как раз когда звучал хит 85-го «Без меня тебе, любимый мой…». Алла Борисовна вытащила из публики мужчину в спецовке для медленного танца. Смущённый, он едва держал Диву за талию, от волнения не в силах вести звёздную партнёршу. Певица возложила одну руку ему на плечо, в другой устроился микрофон. Публика – в тихом восторге! В зале я узнал одного-двух горисполкомовцев. Почему сам не поехал – не помню. Может, из-за недостатка пиетета перед Примадонной. Или что-то помешало. Ну, ладно.
...
Много лет спустя в одном из откровений Пугачёва поведала, что после Зелёного Мыса у неё возникли серьёзные проблемы с горлом. И я ей верю. Более того, голосовые связки как источник хлеба с маслом пострадали не только у неё и не только в 86-м году. Помнится, когда следующим летом в Киеве гастролировал молдавский оперный театр, многие солисты жаловались на неприятные ощущения в горле, «треск» и зажатость голоса. Пришлось обращаться к местным (киевским, то есть) педагогам за скорой «вокальной» помощью, что и спасло гастрольную программу. На радость публике. К слову замечу, что из молдавского репертуара мы с Таней послушали только «Золотого петушка», оперу Римского-Корсакова, крайне редко звучащую из-за повсеместной нехватки теноров-альтино (Звездочёт) и крепких колоратурных сопрано (Шемаханская царица).
Концерт Примадонны, как и следовало ожидать, прошёл с потрясающим успехом, и о нём ещё долго вспоминали. Да и сейчас, едва речь зайдёт о Чернобыле, нет-нет – и выскочит строчка-две об отважной певице, всенародной любимице. Позже, по проторенной дорожке, приезжали и другие. Однако первой была и останется именно Алла Пугачёва. Это как освоение космоса: полетать-то многие спромоглись, но Юра Гагарин – навсегда Первый.
...
Кажется, давненько я не «заглядывал» на станцию.
А ведь там что ни день, то подвиг. Только вряд ли об этом задумывались те, кто заступал на очередную смену. Для них дело обыденное, будь то «саркофаг» (Объект «Укрытие» [24] ) над 4-м энергоблоком, возобновление работы других энергоблоков. [25] Увы, не обходилось и без трагических событий. Так, 2 октября вертолёт Ми-8 зацепился за подъёмный кран около 4-го энергоблока. Весь экипаж – 4 чел. – погиб.
В августе Правительственная комиссия приняла решение об эвакуации ещё нескольких сёл и посёлков.
В сентябре ПК издала циркуляр, по которому подлежали засекречиванию данные об ухудшении работоспособности атомщиков и ликвидаторов. [26]
Той же осенью центральное телевидение «порадовало» едва ли не первым документальным фильмом об аварии. Хотя лучше б не «радовало». Фильм получился так себе. А главное – авторы занизили роль горисполкома, службы гражданской обороны и других учреждений. В картине буквально прозвучало, что они (мы, то есть) оказались бессильны, чуть ли не беспомощны перед катастрофой века. И, мол, вопросы решались только благодаря горкому партии, взявшему на себя руководство и ответственность за ситуацию. Замалчивалось то, что партийное руководство города попросту связало руки всем-всем-всем и, в частности, той же службе гражданской обороны, что особенно возмущало начальника городского штаба ГО – Валерия Семёновича Иващенко.
Думаю, позиция создателей фильма вполне объяснима. К тому времени ещё действовала пресловутая шестая статья Конституции СССР о компартии как «руководящей и направляющей» силе советского общества. Однако уже год как по стране шагала Перестройка, а вместе с ней и Гласность, благодаря которой заметно пошатнулся авторитет единственной советской партии. Отсюда и неуклюжие попытки укрепления позиций КПСС в общественном сознании, в том числе и столь некорректными методами, в ущерб истине. Впрочем, это не более, чем моё предположение, поскольку мне неизвестны мотивы создателей фильма.
Картина вызвала бурю негодования среди посвящённых. Шутка ли! В таком свете выставить нас на весь Союз! Да что там! На весь мир! Ведь только мы знаем, как всё происходило на самом деле. После просмотра фильма группа активистов подготовила гневное письмо, но в какую инстанцию – память не удержала. Главными подписантами выступили председатель горисполкома, его зам, а также Валерий Семёнович. Не знаю, по каким причинам, но письмо так и не ушло. Могу лишь догадываться, что идею в принципе не одобрил кто-то из верхнего эшелона власти.
Время от времени печатные издания развлекали публику всякого рода нелепостями. Особенно «отжигали» зарубежные масс-медиа. Ещё в первые «послевоенные» дни одна из советских газет поместила фотокопию не очень, мягко говоря, умной статьи из какого-то «таймса» или «геральда». Автор, изучая – как он думал – чернобыльские материалы, скорее всего, ограничился школьным глобусом: Чернобыль у него оказался… в Киеве. Впрочем, если даже в этой стране далеко не все и не сразу разобрались, что Припять не Чернобыль, то что спрашивать с забугровых журналюг? Зато какая получилась арифметика – отпад! Из населения Киева автор тупо вычел общее число эвакуированных из 30-км зоны и получил:
...
3 млн. – 115 тыс. = 2,9 млн… погибших (!)
А что? Ведь, думал он, раз вывезли чуть больше ста тысяч, значит, остальные пали жертвой атомной катастрофы. Мрак, да и только! Даже не знаю, получил ли заокеанский писака нагоняй за подобную «небрежность», но сенсация-однодневка ему удалась.
Другой пример. Год спустя после аварии мне попался в библиотеке январский (87-го) номер швейцарского журнала. Название – что-то там о фермерстве, не помню. На первых страницах – материал о Чернобыле, притом не столько о катастрофе, сколько об её последствиях для рынка продовольствия. Читаю – вроде всё логично: в Европе отдельные поля выведены из севооборота, частично пострадали пастбища, а значит, сельхозпродуктов ожидается меньше и цены слегка рванут в гору… Так упрощённо выглядел журналистский прогноз.
Но вот авторам надумалось поумничать за пределами рынка, в результате чего я «узнаю», что на ЧАЭС произошёл… ядерный взрыв (nuclear explosion). Именно ядерный, а не химический, как на самом деле. На всю статью этот прокол оказался единственным, но достаточным, чтобы я прыснул со смеху. Привычная тишина читального зала враз нарушилась. Немногочисленные посетители удивлённо оглянулись, а пожилая библиотекарь сделала мне строгое увещевание, добавив:
– Вы что там, «Перец» [27] читаете?
А я, пересмеявшись, в ответ:
– Нет-нет, я только радуюсь, что остался жив.
Разумеется, никто ничего не понял, и вскоре обо мне забыли.
Глава 15. Отдельно взятое утро
Поток прихожан шёл на спад, пусть и не так быстро, как хотелось. Руководство решило, что коль народу поубавилось, пора вернуться к привычному недельному графику – пять дней по восемь. По факту же работе отдавалось и десять и более часов, пока не иссякала «дневная доза прихожан». Вот только за сверхурочные больше не платили: их как бы не существовало. Надо ли пояснять, какой это анти-стимул?
Прежнее рвение постепенно замещалось прохладцей, вплоть до саботажа. Я сейчас о себе и, возможно, о тех, кто никогда всерьёз не принимал девиз «нам хлеба не надо, работу давай». Как результат – противоречие между оплатой и затратами труда постепенно переросло в вялотекущий, но перманентный конфликт между мной и системой (!). Тьфу ты, прости господи! Как же пафосно звучит – между мной и аж целой системой!
Рабочий день начинался в девять. Прихожане подтягивались часов с шести-семи. Надумал и я однажды прийти в семь утра – навести порядок в бумагах. Да где уж! Народ, завидев «ответственное лицо» (?! – это я о себе), давай ломиться в кабинет. Вроде неудобно сказать: «подождите, граждане, до девяти». Но – решился. И получил:
– Да вы что, издеваетесь?
– Мы тут ехали аж… (откуда-то из очень далека)
– Нам на работу!
– Нам что, по десять раз приезжать?!
И т. п.
Сжалился над теми, кто привёл доводы вроде «малого не на кого оставить». А тем, кто грозился писать чуть ли не в ЦК, посоветовал дождаться девяти утра и начать «процедуру обжалования» с местного руководства.
Не знаю, строчил ли кто на меня доносы, но неприятности прошли стороной. Если даже получал нагоняй, то слишком мелкий, чтобы помнить.
А в одно прекрасное утро – тупо проспал. Не позавтракавший, недобритый, «недоумытый», запыхавшийся – прибежал… нет, прилетел… чуть ли не в пол-одиннадцатого.
Перед исполкомом беру паузу – отдышаться. «Зачем им думать, будто я СПЕШИЛ? Притом на работу!» – вот такое пижонство, пацанячий гонор.
Рука машинально тянется в карман за сигаретой, но с полпути возвращается, и – лёгкий взмах:
– Ай, ну его!
К чертям перекур – и дыхание восстанавливается. Оказалось, это самое «ай-ну-его» я озвучил. У входа – сотрудники местного исполкома. Что-то обсуждают, раз за разом выдавая взрывы хохота. Нормальные мужики во время перекура. Кто-то интересуется:
– Жень, а что такое? Случилось чего?
– Да нет, всё нормально, – пытаюсь придать словам как можно больше безразличия. Но, видать, на образ «пофигиста» духу не хватило, и уверенности в голосе поубавилось. – Вот… на работу иду…
– А не рано? – иронизирует тот же исполкомовец.
– А ты ничё не забыл? – вставляет другой.
Общий гогот – непонятно, с чего. Не злобно, а так, по-приятельски. Причина открылась чуть позже.
В здание вхожу на ровном дыхании, с натянутой улыбкой. По коридору снуют чиновники, посетители, уборщица со шваброй и пустым ведром. Два милиционера мягко выпроваживают злого гражданина, не получившего доступ к председателю в неприёмные часы…
А навстречу… Володя-киномеханик! Тот самый, из общаги по Дружбы Народов. Идёт, ничего не замечая, мысли где-то «там»… Я ему:
– Вова! – По вскинутым бровям и широкой улыбке понимаю, что он удивлён не меньше моего.
– Жека? Привет! – и после крепкого рукопожатия: – А ты чё тут?
– Да я тут… хм… на работе, – неуклюже реагирую и, не желая расспросов, перевожу стрелки: – А ты что, Володь, компенсацию оформляешь?
– Уже оформил, – самодовольно в ответ, – через месяц-полтора, сказали, получу на сберкассу. А щас я тут по другим делам. Недавно женился.
– Поздравляю! Это ж мы не виделись с того, как ты сказал, что «радиацию выбрасывают»? – припомнил я последнюю ночь доаварийной эпохи. – Слушай, а как ты это сделал?
– Я сам не знаю! – с гримасой неподдельного удивления пожал плечами Володя. – Чёрт его… ляпнул сдуру – вот те…
– И прямо в точку! Пророк ты наш великий!
Ещё пара мелких реплик, шуток, обмен телефонами, чтобы никогда не созвониться – и на том распрощались.
Наконец-то попадаю в кабинет. Моё бойкое «доброе утро!» принимается неоднозначно. Кто-то из посетителей отвечает тем же. Коллеги бурчат: «Уже день давно!»
Как назло, именно в те минуты в кабинете оказался Веселовский (председатель горисполкома):
– Ну, Евгений Николаич, ты уж прям как министр, – и ворчливо, себе под нос: – Спасибо, хоть вообще пришёл.
– Извините, Алессан Афанасич, задержался, – вроде как прощения прошу, но держусь нагловато. Ожидаемого клише – «задерживается только начальство» – не последовало. Веселовский уходит. Дел у него и без меня под завязку.
Прихожане с удивлением взирают на самоуверенного типчика (на меня, то есть), в пиджачишке не по сезону и нараспашку, в цветастой рубахе с двумя расстёгнутыми пуговицами (притом не верхними), в неуместных джинсах (исполком таки, госучреждение) и… с наполовину застёгнутой змейкой!.. Ну не дотянул чуток! Спешил! К вам же летел, чтоб скорее решить ваши проблемы…
Пока вальяжно добирался до персонального полукресла, кто-то из посетителей незаметно для остальных ткнул меня пальцем в плечо и одними глазами указал на «причину конфуза». Я тихо издал звук «А!», но не на выдохе, а на вдохе. Гримаса – как после отрыжки на светском рауте.
Теперь-то я понял, почему на меня так странно поглядывали редкие прохожие и над чем подтрунивали исполкомовцы, когда спрашивали, не забыл ли я чего. Исправив неприятность, я вслух заметил:
– Нагрузки не выдерживает.
Мало кто что понял, а я, словно буратино, повращав улыбкой во все стороны, сел за стол и как ни в чём не бывало – первому из очереди:
– Слушаю вас?
День, обычный день, начался и для меня.
Глава 16. Квартирный вопрос
С середины лета припятчане разъезжались в новые квартиры по Украине и другим республикам Союза. Кто не претендовал на столичные города, ещё в июле-августе мог насладиться звоном ключей. Кто не вцепился за первую же возможность, дождался более интересных вариантов или… попал на «разбор шапок».
Семьям атомщиков и строителей ЧАЭС досталось жильё в стольном граде Киеве, что нанесло моральный ущерб местным жителям, годами ждавшим заветного ордера. Для молодых поколений поясню, что речь идёт об ордере на получение жилья. Когда эта выстраданная бумага наконец-то попадает в руки претендента на квартиру, тот законно вселяется, и уж ни одна инстанция не имеет права «передумать» и отнять ордер, а вместе с ним и жильё. Таков порядок и закон.
Известно, что нет правил без исключений. Последних допускалось немало именно осенью 86-го при распределении жилья. Рассказывают, что у отдельных киевлян, выждавших десятки лет в очереди на «квартучёте» и, наконец, получивших ордера, их едва из рук не вырывали в пользу эвакуированных. Людей приглашали в различные инстанции, беседовали, взывали к сознательности, гражданской совести:
– Понимаете, возникла государственная необходимость ещё на годок-два подвинуть вашу очередь, чтобы расселить пострадавших. А потом вам обязательно дадут жильё. Вот, смотрите – генплан. Тут есть и ваша квартира, но… ещё немножко потерпите. Сколько вы на квартучёте? А, двадцать лет… Ну, ещё годик или чуть больше – и непременно, безотлагательно получите квартиру. Обещаю! Слово коммуниста!
Тогда ему (слову) ещё кто-нибудь, да верил.
Переселение в Киев имело и другую сторону. Знакомые рассказывали, что даже при полном праве на жильё в столице их приглашали не куда-нибудь, а в КГБ! На беседу. Вопросы – вполне ожидаемые для того времени:
– А почему вы хотите жить именно в Киеве? Не устроит ли вас другой город?
На простые вопросы давались незамысловатые ответы:
– У меня растут дети. Хочу, чтобы они получили хорошее образование. Да и для карьеры Киев более перспективен.
– В другой город? Нет, не хочу. Я на Киев имею право, им и воспользуюсь.
Не знаю, может, кто и поддался мягкому прессингу кагебистов, но таких не встречал.
Счастливцы, наконец-то пересёкшие порог нового жилья, узнавались по глазам, по выражению лиц, да и не только. Своя «хата» давала свободу и от своих же «домашних» (?!). Странно вроде звучит, но как-то подходит ко мне одна из молодых новосёлок и давай издалека – мол, квартиру получила, скоро уволится из… (не буду называть учреждение), муж на вахте до конца месяца, а затем – с места в карьер:
– Женька, приезжай в гости. В субботу. У нас компашка намечается. – И, едва не умоляюще: – Приезжай, а?
– Ладно, – говорю, – приеду. Только можно с женой?
На лице разочарование, сменяющееся задорным:
– А привози и жену! Мы ей тоже кого-нибудь найдём!
Вот те на-а!.. Попал в одноходовую ловушку. Но, конечно, никуда не поехал.
Жильё в столице обещалось и сотрудникам госучреждений, в том числе и финотдела. Да не случилось. Некий припятский чиновник заверил вышестоящие инстанции, что служащие горадминистрации претендовать на Киев не будут. Якобы в порыве сознательности. Правда, с нами никто не советовался и мнения не спрашивал. Вот и довольствовались незаказанной синицей в руке. Что до журавля в небе, то в неформальной беседе (в смысле, за бутылкой) один из высоких начальников сказал: «Женёк, если когда-нибудь захочешь обматерить того, кто не дал тебе квартиру в Киеве, то знай: это…».
Нет, нет, и – нет! Переступить этический порог и озвучить имя «виновника» – даже не просите! Среди живых его давно не осталось. И ни подтвердить ему, ни опровергнуть сказанное, ни одобрительно похлопать по плечу, ни в дыню врезать, если есть за что. Да и материть кого-либо оказалось без надобности. Мне понравилась ирпенская квартира, хоть потом и напрягали ежедневные поездки на работу в Киев.
В октябре-ноябре 86-го начались долгожданные новоселья и у нас. Дом девятиэтажный. Уже не «хрущёвка», но ещё не «евро». С пластмассовой канализацией, но спасибо – водопровод металлический. Строение панельное. Стены прослушиваются. Хорошо, хоть не проглядываются.
В квартиру мы с Таней впервые попали в ноябре. Жаль, под рукой не оказалось кошки, чтобы вперёд запустить, согласно традиции. Но один из обычаев соблюсти удалось: отперев замок и открыв дверь, я подхватил Таню на руки…
– Ай! Что ты делаешь? – не поняла она моих намерений.
– Так надо, – говорю, – традиция.
…и торжественно внёс её в наш первый рай-шалаш. С тех пор Таня мало изменилась, и подобный трюк я смог бы повторить хоть сейчас. Дело лишь за новым «шалашом».
В тот же день на кухне появились две табуретки, ящик из-под яблок в качестве стола, а в комнате – раскладушка. Её, правда, вскоре пришлось выбросить: ткань порвалась, да в самый неподходящий момент… Ну, не будем уточнять.
Не обошлось без неполадок. Дом-то строился спешно. На строителей мощно давили сверху: партийным и советским органам надлежало срочно отчитаться о решении жилищной проблемы переселенцев. Поговаривали, будто акт на сдачу дома был подписан досрочно, с условием, что подрядчики в течение тридцати дней устранят все недоделки.
Они сдержали слово, и целый месяц жильцы, не выходя со двора, могли найти любого спеца – будь то сантехник, столяр, электрик. Да и как без них, если то дверь не вписывается в проём, то в стекле дыра с пятак, а то и унитаз со щербиной, точно зуб, поражённый кариесом. И по первому зову, без малейших возражений, приходили и столяр, и сантехник, и электрик. Подправили в ванной раковину, а то шаталась, как с бодуна.
Жуткая зима – 35°-37° по Цельсию – легко вскрыла другие недостатки. Да мы уж сами справились.Кто помнит те времена, возможно, заметил, что квартира мне досталась в очень молодом возрасте. Так везло далеко не всем. Многие из однокурсников надолго застряли в очередях квартучёта. И это несмотря на льготы для выпускников, если они работали не по прежнему месту жительства, а в других городах по вузовским направлениям.
В моём случае главную роль сыграло то, что я оказался в гуще событий, связанных с аварией на ЧАЭС. А не случить глобальной катастрофы – когда бы, интересно, я перебрался из общаги «под крышу дома своего»?
В горфинотдел пришёл я в феврале 86-го. Переход из «родной потребкооперации» в другую систему – Минфин – изменил отношение государства ко мне как претенденту на жильё. Ведь до финотдела я считался «молодым специалистом». Достоинства такого статуса следующие:
– молодой человек получает гарантированное место работы на три года;
– никто не может уволить его/её в течение трёх лет. Вернее, может, но для этого нужны ТАКИЕ основания – что не дай вам бог;
– по приезде ему/ей платят «подъёмные» в размере месячного оклада. Это просто так, ни за что, лишь бы мог купить самое необходимое: вилки, ложки, сковородку, простыни и т. п.;
– постановка на квартучёт в льготном порядке, т. е. «вне очереди»;
Других преимуществ уж не припомню, да и не в них дело.
Недостатки распределения часто являлись обратной стороной достоинств, а именно:
– невозможность уволиться в течение трёх лет (!!!),
– полная зависимость от руководства в вопросе получения жилья (!!!), что на практике могло обернуться смещением в очереди на более поздний период – и притом всё делалось законно, так что и не придерёшься.
Очень мало кто дожидался жилья, так называемой «отдельной квартиры», и, отработав положенные три года по направлению вуза, многие уезжали в другие места. Особенно из глухих районов.
Перейдя в другую систему, я утратил статус молодого специалиста и связанные с ним льготы. Особенно жалел о квартучёте. Ведь теперь предстояло отрабатывать три года, чтобы меня только поставили на очередь! И не в льготном, а в общем порядке! Правда, в Чернобыле нового строительства я не наблюдал, так что квартирная перспектива мне одинаково не улыбалась ни там, ни в Припяти. Одно только нравилось: Припять – сказочно красивый город… Увы, был.В первые дни новоселья встретился с другом детства. Не терпелось за пивом поведать хорошую новость. А он – нет, чтоб поздравить – без обиняков, заметил, что квартиру я получил благодаря аварии на ЧАЭС.
– Ну да… – ответил я, понизив голос и опустив глаза.
Спорить с обывательской логикой нелегко. Да и верно говорят: не рассказывайте друзьям о своих радостях, поберегите их нервы.
А если серьёзно, то припятчане, до аварии жившие в квартирах, почти ничего не «выиграли». А кто-то и проиграл, из-за чего поговорка «кому война, а кому и мать родна» получила новое хождение.
Повезло (?) тем, кто из общаг – со смутными видами на жильё – въехали в отдельные апартаменты. Но можно ли в самом деле считать это выигрышем? Не лучше ли – частичной компенсацией за пережитые стрессы и утраченное здоровье? Оставляю риторику на суд читателей.В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС решающую роль сыграла государственная система с жёстко централизованным управлением. Порой ностальгирующие по «совку» рассуждают, что случись нечто подобное в нынешнее время, последствия оказались бы намного ужасней, в том числе и для переселенцев.
Что им ответить? Пожалуй, любая система способна мобилизоваться и самоорганизоваться, если ей грозит большая беда.
Я не вижу смысла гадать, справились бы нынешние, пропитанные либеральными идеями, власти с такими вызовами, к счастью, гипотетическими. Могу лишь пожелать всем нам, чтобы такая «база сравнения» никогда не появилась.Глава 17. Когда кончается война. Эвакуированные, ликвидаторы и лже-ликвидаторы. Заложники мирного атома
Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС – понятие более широкое, чем остановка реактора, возведение саркофага, дезактивация грунтов. Утраченный кров, оставленное имущество, подорванное здоровье – чем не последствия? И разве не подлежат они… ликвидации? Я не касаюсь политической подоплёки трагедии, престижа страны и репутации атомной энергии как самой безопасной. Не моя компетенция. За скобки вывожу и вопрос об эрозии доверия органам власти, о дискредитации «руководящей и направляющей» [28] (не случайно катастрофа на ЧАЭС фигурирует среди основных причин развала СССР).
Хорошо известны слова Александра Суворова: война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат. Как мы помним, отрезок времени от 26 апреля и далее назывался послевоенным. Даже с высоких (и не очень) трибун эта аллегория нет-нет да и проскальзывала. И хотя в классическом смысле аварию на ЧАЭС никак не назвать войной, её последствия – сродни военным. Их постепенно ликвидировали. Пострадавшие получали то, из-за потери чего их и называли пострадавшими. Людям предоставлялось жильё, облучённым – лечение, пересадка костного мозга по методике доктора Гейла. [29] Тем, кто собирал осколки графита, обеззараживал территорию, – ликвидаторам то есть, – назначались досрочные пенсии, выдавались путёвки в санатории, прочие блага.
Вот о ликвидаторах и следует сказать особо. Как показали события двухлетней давности, – забастовки «чернобыльцев» в Украине, вызванные урезанием льгот, – их проблемы решены не до конца. А значит, если вернуться к суворовской максиме, война не окончена.
На устранение последствий аварии направлялись не только призванные военкоматом, но и добровольцы. Им без проблем присваивали статус ликвидатора на основе командировочного удостоверения. С нами же, служащими горадминистрации, дела обстояли хуже. Не составляло труда доказать чиновникам, что мы – эвакуированные: вот паспорт с пропиской, справка об эвакуации. Но убедить, что и нам доводилось посещать город-призрак, оказалось невозможным.
Прежде я упоминал, что мы ездили в Припять за рабочими документами, входили в состав комиссий по оценке утраченного имущества – то есть в устранении последствий аварии участвовали (так нам объясняло руководство, хотя за язык его никто не тянул). Конечно, не рядиться нам с атомщиками, огнеборцами и вертолётчиками, засыпавшими энергоблок песком. Но мы тоже работали в «запретной зоне» и подвергались облучению. Вот только удостоверений командировочных нам никто не выписывал. Считалось, что мы едем к себе на работу, а не в командировку.
Беда в том, что обещания начальства не отразились на бумаге. Я не видел документов, гарантировавших нам словесно обещанный статус. Когда же обратился за «корочкой», с меня потребовали… командировочное удостоверение.
– А раз его нет, – говорили мне в любой инстанции, – значит, никуда вы не ездили и никакого ликвидатора вам не полагается.
Так мне отвечали в конце 80-х при Совке, а затем и в 90-х при Незалежной. Отсюда претензии к обоим государствам. С первого, ясно, как с гуся вода. А второе кивнуло на первое и тоже не шевельнулось. Вот и остался я (да разве я один?) со статусом обычного эвакуированного. Его-то, надеюсь, никто не отымет. Хотя… разве есть что-то невозможное для государства?
Поначалу не сдавался. В архиве взял копии ведомостей о пятикратной зарплате за дни пребывания в Припяти, ещё какую-то справку. Не хватало приказа с подписью руководителя и главбуха по месту работы. А его и быть не могло! Да и где оно, место работы? Горфинотдел давно не существовал. Облфин отказался от функций правопреемника. Архив таковым не является по определению. В результате я впервые споткнулся о канцелярскую формулу «дайте справку, подтверждающую вашу справку». Прежде считал её утрированной, чем-то вроде анекдота.
Вскоре появились и псевдо-ликвидаторы. Ведут себя тише воды, льготами пользуются, вздрагивая каждый раз от слухов об очередной проверке. Да и чего распространяться? Иногда, правда, вешают лапшу на уши непосвящённым, но не подозревают, что разоблачение может выплыть самым неожиданным образом. Простейший пример:
– Я вот на днях ликвидатора получил.
– Какого ликвидатора?
– Чернобыльского. Я ж месяц там отпахал.
– В самом Чернобыле? На атомной? – крадётся вопрос-ловушка.
– Ну да, в самом Чернобыле, на атомной, – искренне удивлённый лже-ликвидатор и не ждёт подвоха.
– А в Припяти?
– А что в Припяти?
Вот и вся разгадка. Хотелось бы надеяться, что псевдо-ликвидаторы всё же в меньшинстве.
Ближе к эпилогу
Год назад я мне пришло письмо от друга, ныне живущего в далёкой стране. В 89-м Игорь (так зовут моего корреспондента) работал в одном из киевских НИИ. Тогда и получил задание в порядке шефства оказать помощь какому-то колхозу. Игорю не сказали, что объект находится близ 30-километровой зоны отселения. Только утешили:
– Вас и ещё троих сотрудников отвезут микроавтобусом. Так что не заблудитесь.
Поначалу шефы обрадовались возможности хотя бы на день, да за обещанные отгулы, оторваться от городских будней, вдохнуть чистого воздуха, может, где и молочка парного испить.
По мере отдаления от Киева, пишет Игорь, скучнее и мрачнее выглядели придорожные сёла. Всё чаще на глаза попадались усадьбы без признаков жизни. А на подъезде к месту назначения – недостроенные дома без крыш, заставленные лесами. Вокруг кирпич, вёдра, носилки. «Куда же нас везут?» – догадки сменяют одна другую. Вдоль дороги тянется забор из колючей проволоки. Кое-где таблички «Запретная зона». Тогда-то все и поняли, что «попали».
А вот и объект. Кирпичный заводик. Из рабочих – только женщины. Вручную формуют кирпич-сырец, укладывают на вагонетки, вручную же толкают их в печь. Игорь выпытывает у председателя колхоза, мордастенького крупного мужичка:
– А как у вас с радиацией?
Тот широко и немного лукаво улыбается:
– Мы за тридцатикилометровой зоной. У нас если что и есть, то в пределах нормы. Это там… – Указывает на забор.
– Так-так. За «колючкой», значит, радиация есть. А тут – вроде как нет? Ну-ну… – иронически замечает Игорь. Ответа не последовало.
Сделали шефы то, зачем приезжали, сняли необходимые размеры, что-то там ещё. Покормили их в колхозной столовой. Бесплатно. Шикарный обед – борщ с пампушками, жареная свинина с картошкой – оказался для Игоря единственным приятным воспоминанием о поездке.
Интересно, а радиация знает, что ей отвели только тридцать километров радиуса действия? А люди – в курсе? Они тут завод модернизируют, быт налаживается помаленьку, домики строятся полным ходом.
– И сколько ж таких сёл, – думал Игорь на обратном пути, – где «всё в пределах нормы»? А народ себе обживается, дети вырастают, но никто не ведает, что попал в заложники мирного атома.
Глава 18. Эпилог
Мемуары Александра Эсаулова. Трудоустройство эвакуированных.
В Припять 25 лет спустя. Черно-белый день
Зимой 2010–2011 на сайте Проза.ру я обнаружил ссылку на знакомое имя: Александр Эсаулов. Там же упоминались мемуары «Это горькое слово Чернобыль». Сомнений не возникло: автор – наш зампред горисполкома и никто иной.
С начала 90-х ни с кем из припятчан-сослуживцев я не общался. С удовольствием возобновил знакомство. И хотя я редко затрагиваю обстоятельства катастрофы и события на станции, благодаря уточнениям и комментариям Александра Юрьевича мне удалось избежать неточностей в части фактажа. Если какие-то огрехи всё же остались, то вину за них я принимаю на себя и только на себя.
Припятские админорганы подлежали расформированию в июне 87-го. Оставалось ещё множество нерешённых вопросов по компенсации за имущество. Их возложили на созданную при Ирпенском исполкоме оперативную группу, в которую вошли человека четыре или пять из наших админструктур.
Руководство активно занималось дальнейшей карьерой сотрудников. Когда мне предложили должность в опергруппе…
– Да ни в жисть!
…ответил я, по горло сытый бумагами, резолюциями да ни в чём неповинными «прихожанами».
Местное бюро по трудоустройству тоже подключилось. Ох, эти ребята и насмешили! Вакансии – одна тупее другой. Что именно предлагали мне, я начисто забыл. И, думаю, никогда бы не вспомнил, не попадись мне книга Эсаулова. Вот что он пишет:...
«Вскоре нашего Женю Орла, заместителя заведующего горфинотделом, начальника отдела госдоходов, пригласили в Ирпенское бюро по трудоустройству и, словно в насмешку, предложили выбрать между должностью главного бухгалтера медвытрезвителя и главного бухгалтера психбольницы.
– Я понимаю, – сказал Женя после того, как оправился от лёгкого шока, – что не место красит человека, но это как-то вроде не то… Нет, уж, спасибо вам «за таку ласку», но я поищу что-нибудь сам, – и через неделю уволился, найдя место экономиста в каком-то НИИ».
Прочёл – и глазам не поверил. «Что за вздор? – думаю (простите, Александр Юрьевич). – Неужели это обо мне?»
Спрашиваю жену:
– Тань, ты не помнишь, мне работу в Ирпене предлагали?
Ответ на удивление совпал с тем, что написано Эсауловым:
– Да, что-то было. Не то дурдом, не то вытрезвитель.
Поверить-то поверил. Удивило только, что из памяти будто кто посудным ёжиком выдраил столь необычный факт биографии. Впрочем, следующая мысль меня вполне утешила: «Хорошо, что отказался! Иначе завяз бы в бухгалтерии всерьёз и надолго. И не случилось бы у меня той интересной и насыщенной жизни, какую прожил. Ещё не всю, конечно».
Дела оперативной группы меня всё-таки зацепили. Хорошо, что только однажды. Осенью того же 87-го, когда я безмятежно занимался наукообразием, в одно прекрасное утро мне передали трубку телефона. «Это вас», – говорят.
– Евгений Николаевич?
– Да, слушаю.
– Я по вопросу компенсации.
Как же меня передёрнуло! Давно забытая фраза, прежде слышанная сотни раз вместо «здрасьте», будто воскресила пекло в отдельно взятой голове. Воспоминания о кабинетных ужасах, как металлом по стеклу, царапнули давно умиротворённую психику.
– Да вы что, с ума сошли?! – проорал я в трубку, от чего передёрнуло уже моих новых коллег. – Я там давно не работаю!
– Я знаю, – вежливо парировал вспышку гнева этот невесть откуда взявшийся «пришелец из прошлого». – Извиняюсь, конечно. Вы ещё весной написали мне резолюцию «К оплате», а жена подала в суд, и я прошу вас…
Детали не столь интересны.
Пришлось ехать в Страхолесье на заседание суда. Благо, только в качестве свидетеля. Помог я тому прихожанину, убил на его проблемы целый день, притом субботу. А он, зараза, хоть бы бутылку поставил. Да ладно, бог с ним.
Больше никто и никогда подобными звонками меня не тревожил.Приближалось 26 апреля 2011-го, четверть века со дня аварии. Ещё в 92-м я перебрался из Ирпеня в Киев и утратил контакт с бывшими коллегами. Вовремя созвонился. Оказалось, на двадцать пятую годовщину набиралась группа для поездки в Припять. Я присоединился. Не мог упустить шанс хоть на день окунуться в прошлое, одновременно приятное и трагичное.
Рад был столько лет спустя увидеться с парторгом исполкома Александром Григорьевичем Пухляком, секретарём Марией Григорьевной Боярчук, инструктором горкома комсомола Светой Глушенковой, другими согражданами и коллегами. Ну и, конечно, с Александром Юрьевичем Эсауловым, давно обретшим публичность благодаря повести «Чернобыль» Юрия Щербака и в качестве прототипа главного героя – Юрия Осауленко – в романе Владимира Яворивского «Мария с полынью в конце столетия». Именно Александр Юрьевич организовал эту сталкерскую вылазку в «мёртвый город». Выбил пропуска, нашёл водителя с автобусом, такого же, как мы, ловца острых ощущений.
Утро 26-го выдалось солнечным, хоть и не столь тёплым, как двадцать пять лет назад. Выехали из Ирпеня. Путь до Припяти пролегал через КП, где довелось выждать очередь легковушек и автобусов. К тому времени давно и шустро дельцы заполнили шикарную нишу турбизнеса: любителей поглазеть на безлюдный город оказалось предостаточно, и не только среди соотечественников. Данный вид туризма вызвал неоднозначные оценки в масс-медиа, но не будем отвлекаться.
Среди нас оказались и молодые люди, родившиеся незадолго до и вскоре после аварии. С интересом слушали воспоминания и комментарии участников поездки. Особенно много поведал Александр Юрьевич, досконально изучивший причины аварии, [30] действия атомщиков, ликвидаторов. Не преминул зампред коснуться и финансирования украинской энергетики, обещанного западными странами взамен на закрытие ЧАЭС.
Приближаемся к атомной. От Чернобыля до Припяти трасса отменная. Европа, да и только. Справа по курсу жалко и скорбно смотрятся на горизонте недостроенные пятый и шестой энергоблоки, будто понимают, что брошены навсегда.
Неподалёку от третьего блока и того, что раньше являлось четвёртым, – двухэтажное управление станции. Там же разместились европейские эксперты, изучающие влияние радиации на окружающую среду.
На станцию вообще много кто ездит. И высокие гости, и ещё выше. Отсюда и прекрасные дороги, не сочетаемые с дураками, чтоб не ляпаться в грязь лицом перед заграницей.
В сотне метров от станции – пруд с технологической водой. У поверхности копошатся здоровенные рыбы. Об их сказочных размерах я слышал и прежде, но видеть довелось впервые. Легенды не врали. Самый крупный – сом по кличке Федя, ростом с меня. Кормят рыб, чем придётся. Не для убоя, конечно, а так, из гуманных соображений. Едят они всё, что и люди. Один из служащих в униформе бросает в воду белую буханку – и сию же секунду хлебушек исчезает в Фединой пасти.Город встретил нас одичало и неприветливо. Давили на психику суженные дикими зарослями улицы, угнетала серость и безликость домов. Зрелище что-то напоминало. Но что? Ах, да! Запущенное имение из «Дикого помещика» Салтыкова-Щедрина. Там, как помнится, помещику надумалось избавиться от крестьян, чтоб мужицким духом не пахло. Через год имение пришло в упадок, покрылось дикими зарослями с воющими волками. Давно немытое тело помещика обросло шерстью, он потерял человеческий облик и вместо речи выдавал мычаще-рычащие звуки. Но на то была его глупая воля – изгнать дух мужицкий. А город никого не выгонял. Люди ушли сами, предав его запустению. Может, где-то в архивах и до сих пор хранятся карточки с именами жильцов по улицам Ленина, Курчатова и другим. Да вот… кому всё это сейчас надо?…
Здесь, на первом этаже – остатки магазина. То ли хозтоваров, то ли электро. А дальше – дом быта «Юбилейный». Какая скорбная ассоциация: мы-то и приехали на юбилей, только печальный.
Дворы заполонены дикой растительностью: трава, кустарники, даже деревья, местами проросшие сквозь асфальт.
О мерах безопасности нас предупреждали на въезде в город:
– Ничего руками не трогать!
– Не ходить по грунту, песку и траве!
– Да почти нигде не ходить!!
Но раз приехали, чего уж беспокоиться?Школа. Четверть века на её порог не ступала нога учащегося. День в день двадцать пять лет назад эти стены в последний раз услышали весёлые детские голоса, окрики вахтёрши тёти Мани или, там, тёти Дуси – «Чё вы тут разбегались?! Вот скажу Марь Иванне!»… А ныне взор угнетает серое, мрачное, истерзанное временем и осадками здание. Привыкшая к зимнему отоплению стена со стороны дворового фасада не выдержала перепадов температур и рухнула, как после бомбёжки, оголив перекосившиеся лестничные марши.
Каждый из нас мог наведаться домой, на квартиру, если в таковой проживал до аварии. Не для того, чтоб чего вывезти. «Всё уже украдено до нас!» [31] – пошутил кто-то из группы. А так, предаться нахлынувшим воспоминаниям, заглянуть в угол спальни, где стояла детская кроватка, по-мазохистски скребануть душу мыслью «Эх, как же было хорошо…», если сейчас стало хуже. Я не отрывался от группы и в общагу к себе так и не заглянул. Не тянуло. Вот что значит не своё, временное. Ладно, может, на тридцатилетие зайду…
Очень трогательно выглядели списки жильцов многоэтажек. Десятка три фамилий. Кто они, эти люди? Куда их занесла судьба? Живы ли? Гавриловы из десятой квартиры, Мустафаевы из седьмой… Мои фантазии прерываются кем-то из группы. Гордо-ностальгически тычет он пальцем в строку со своей фамилией:
– А вот и я! Видите? Седьмой этаж, квартира тридцать два. Милости прошу к нашему шалашу. – И жестом приглашает в неработающий лифт.
– А что наливать-то будешь? – подхватывают шутливый тон остальные.
– Наливать будем в кабинете зампреда, – с напускной серьёзностью замечает Пухляк и косится на Эсаулова. Тот принимает условия игры и притворно-официозным тембром чеканит:
– Только в приёмные часы!
Возражений нет, и, завершив экскурсию по местам довоенного проживания, группа направляется к ратуше.Четырёхэтажное здание горадминистрации. В мирное время – не лучше и не хуже сотен других, возведённых по типовому проекту. Но такого, как наше, не найти во всём бывшем Союзе. Целых оконных стёкол даже не спрашивай. Полы в коридорах по слою пыли сродни просёлочной дороге, и сменную обувь можно не надевать. А вот бахилы, полученные при въезде в город, не снимать! Одноразовые они, из полиэтилена, кажется.
Лестничные марши под угрозой обрушения, а значит, по ступенькам с этажа на этаж – строго по одному, из-за чего движение группы замедляется. Но безопасность таки важнее сэкономленных минут.
Побродили коридорами. Каждый мог наведаться в бывший персональный кабинет. Обваленная штукатурка напоминала строительный мусор. Кое-где попадались останки стульев, столов, тумбочек. В моём же финотделовском кабинете не оказалось ни единого элемента офисной мебели (хотя прежде так не говорили). Будто неизвестная ремонтная бригада вынесла всё до последнего табурета, ободрала краску и штукатурку, да, видать, забухали хлопцы по дороге, вот и недосуг вернуться. А ремонт не продвигается.
Каждый из нас, как договаривались, прихватил в дорогу что-то выпить и закусить. Как на поминки. И это не оговорка. В одном из начальственных кабинетов на сваленном на пол шкафу накрыли мы символический стол с нехитрой снедью. Помянули всех, кто не дожил. Отдельно и не раз выпили за прекрасный город, с которым у каждого связаны особые воспоминания. А затем любой желающий под видом тоста рассказывал, как сложилась его или её жизнь в послевоенное время.На обратном пути заглянули в Чернобыль. В городе ныне живут в основном работники станции, различных служб. Здание райпотребсоюза, будто возведённое посреди леса, давно не используется ни в качестве конторы, ни даже под складские помещения.
На одной стороне главной улицы (Ленина, конечно же) дома снесены, на их месте установлены памятные кресты с табличками. Каждая – с названием эвакуированного села. И таких десятки, десятки… Если из села только вывезены люди, табличка белого цвета. Если вслед за эвакуацией село сравняли с землёй, табличка чёрная.
Ещё утром на подъезде к Припяти нам показали место, где прежде и находилось одно из сёл, Копачи, буквально закопанное (простите мой чёрный каламбур). Теперь там сплошные заросли и ни малейшего намёка на то, что здесь прежде кто-то жил, трудился, радовался удачам, гулял на свадьбах, скорбел на тризнах…День подходил к концу. По возвращении в Ирпень мы засели в кафе. Вспоминали, делились новостями, загадывали на будущее. Правда, я надолго не задержался: меня ждали дома, по двойному поводу.
Промелькнуло двадцать пять лет. У меня с Таней две замечательные взрослые дочки. И в памяти – всё только лучшее, а плохого просто не случалось. Видимо, и быть его не могло. Так считать удобней. Если что и царапнуло наши сердца (как же без этого!), то такое мелкое, что и не вспомнить. Двадцать шестое апреля для меня и Тани – чёрно-белый день. И каждую эн-ную годовщину Чернобыльской аварии мы, не чокаясь, поминаем город Припять, всех, кто погиб, спасая человечество от невидимой коварной угрозы. А затем, уже со звоном бокалов, благодарим судьбу за эн-ную же годовщину нашей счастливой встречи, давшей однозначный ответ на вопрос: есть ли на свете любовь.
...
2011–2012 гг.
г. Киев – с. Крамаренки.
Примечания
1
ЧРЭБ – Чернобыльская ремонтно-эксплуатационная база речного флота.
2
РГФ – Факультет романо-германской филологии Киевского Государственного Университета им. Т. Г. Шевченко.
3
Фрагмент из песни, которую, на мой взгляд, лучше всего трактовали Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра:
«Сидя на радуге, я держу
Мир на ниточке, обвязанной вокруг пальца.
Какой Мир!
Какая жизнь!
Я влюблён…»
4
О Куренёвской техногенной катастрофе можно прочесть, например, здесь:
-tragediya-1961-goda-v-kieve-podrobnoe-izlozhenie-foto.html
5
Горби – так на Западе прозвали Михаила Горбачёва (р. 1931 г.), последнего генсека ЦК КПСС, великого реформатора, зачинщика Перестройки, отца Гласности, а впоследствии – первого и последнего Президента СССР. Мне нравится это краткое и панибратское «Горби», возможно, из-за моего к Михаилу Сергеевичу личного отношения, хоть и неоднозначного, но моего, которое я никому не навязываю.
6
Юрий Андропов – (1914–1984) – Генеральный секретарь ЦК КПСС с декабря 1982 по февраль 1984, а с 1983 – ещё и Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Как бывший «силовик» (председатель КГБ СССР с 1976 по 1982 гг.), будучи генсеком и обладая неимоверной властью, занялся повсеместным укреплением трудовой дисциплины. Порой, следуя директивам Андропова, исполнители на местах в неистовом рвении доходили до маразмов, но всё списывалось на «верхи», потому и «низам» практически всё сходило с рук.
7
В то время – Площадь Октябрьской Революции. Сейчас – Майдан Незалежностi.
8
Песня композитора Игоря Николаева и поэта Михаила Танича.
9
«1.) Шитик – небольшое плоскодонное парусное судно, части корпуса которого были сшиты ремнями или виней (прутьями можжевельника и ели). Длина 10 м, ширина до 4 м.
2.) Шитик – разговорное название личинки ручейника.» – Источник: .
«Ручейники – наиболее известные и легко узнаваемые из всех видов насекомых. Однако большая часть рыболовов при слове «ручейник» вспоминают только его ларву (т. е. личинку. – ЕО), которая ползает по дну реки или озера в домике, построенном из песка, мелких камушков и остатков растений. Нахлыстовики же чаще всего подразумевают под этим словом взрослое насекомое, во множестве появляющееся около водоемов с середины весны и до самой поздней осени.» – Источник: .
10
В 1971 году моей бабушке, всю жизнь проработавшей в колхозе, назначили пенсию – 12 рублей в месяц. Год спустя подняли до 20 рублей. Как прожить на такие «доходы», пусть бы рассказали те, кто безмерно тоскует по советскому прошлому. Примерные цены на отдельные товары я приводил в одной из предыдущих глав. Кстати, до 60-х колхозная пенсия даже не существовала. Живи, как знаешь. Власть имущие были уверены, что крестьяне прокормятся за счёт приусадебных участков, на размеры которых, в свою очередь, действовали суровые ограничения.
11
Эгрегор – в эзотерике – «душа вещи, «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.» (Википедия)
12
1.) Из песни Александра Галича «Радиация (Про маляров, истопника и теорию относительности)», написанной в 1961 году.
2.) «Стронций-90 (англ. strontium-90) – радиоактивный нуклид химического элемента стронция с атомным номером 38 и массовым числом 90. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.» (Википедия)
13
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике.
14
От английского challenger, то есть бросающий вызов.
15
Рональд Рейган (1911–2004), Президент США с 1981 по 1989 гг. В молодости – киноактёр.
16
Правительственная комиссия по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
17
Строчка песни Eleanor Rigby. Её русский перевод взят из Антологии британской поэзии 20 века.
18
Иван Степанович Плющ (1941 г.р.), украинский политик. В то время – председатель Киевского облисполкома. Впоследствии дважды избирался спикером украинского парламента (Председателем Верховной Рады). С мая по ноябрь 2007 г. – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Награждён золотой звездой Героя Украины.
19
Владимир Васильевич Щербицкий (1918–1990), украинский партийный и государственный деятель советских времён. В то время – первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины.
20
Высказывание Леонида Брежнева (1906–1982), генерального секретаря ЦК КПСС с 1964 по 1982 гг. Леонид Ильич обожал футбол, хоккей, автомобили, а ещё – ордена и медали, коими награждал себя по поводу и без повода. Большое возмущение среди ветеранов Второй Мировой вызвало вручение «нашему Ильичу» Ордена Победы, коего, согласно положению об этой награде, удостаивались только высшие военначальники, а сам-то он во время войны носил звёзды обычного полковника. Немало иронии вызывали высказывания и поступки Брежнева. Однако к его максиме «экономика должна быть экономной» придраться трудно, особенно в теперешние времена.
21
Из художественного фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (Мосфильм, 1973 г.)
22
Торт «Киевский», с орешками, очень вкусный, в то время – чуть ли не символ украинской столицы. Большинство командированных в Киев считали обязательным купить хотя бы один такой торт, чтобы порадовать домашних.
23
Адам Смит (1723–1790), шотландский экономист, философ, один из основоположников современной экономической теории. (Википедия)
24
Строился с начала июня до конца ноября 86-го.
25
Послеаварийные запуски первого и второго энергоблоков состоялись в октябре-ноябре 86-го.
26
В этом кусочке текста я ссылаюсь не только на собственную память, но и на неофициальный вебсайт города Припять. Руководство сайта любезно позволило мне использовать их материалы, что я изредка и делаю.
27
«Перец» (укр.: «Перець») – украинский сатирико-юмористический журнал. Сродни московскому «Крокодилу», только посмешней да поязвительней. Последнее – субъективное мнение, без претензий на абсолютную истину.
28
Так, словами из шестой статьи Конституции СССР, в то время иронически называли КПСС (Коммунистическую партию Советского Союза).
29
Роберт Гейл (р.1945), врач-радиолог, профессор Университета Беркли, штат Калифорния, США. Основными темами его исследований являются лейкемия и болезни костного мозга. Лечил пострадавших от аварии на ЧАЭС. Методика доктора Гейла и результаты операций, проведённых под его руководством, получили неоднозначные оценки специалистов.
30
О причинах аварии написано достаточно много. Помимо ранее упомянутых мемуаров А. Эсаулова, можно также сослаться на книгу А. Вассермана и Н. Латыпова «Самые интересные факты, люди и казусы всемирной истории, отобранные знатоками». В книгу входит глава «Как взорвали Чернобыль».
31
В прошлом очень популярная фраза из кинофильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».


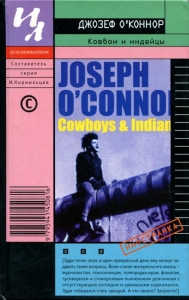
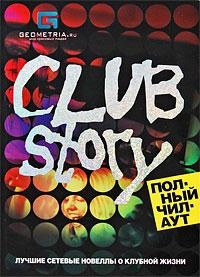
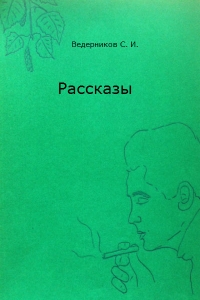
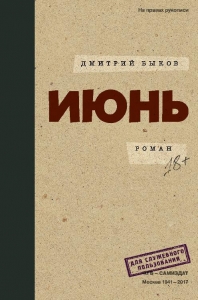

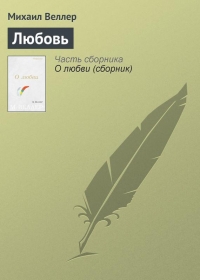




Комментарии к книге «Черно-белый Чернобыль», Евгений Орел
Всего 0 комментариев