Владимир Лорченков Автопортрет художника
Я ЛЮБИЛ ВАШЕ ФОТО
Мне было десять лет, а ей двадцать, и у нас был роман.
Но давайте я расскажу с начала. Когда мы познакомились, мне было десять. Она сидела на корточках у бортика бассейна. У ее ног плескались дельфины. Два дельфина с блестящими носами, умными поросячьими глазками и сайрой во рту. Или треской? Или хеком? В общем, у каждого из них во рту была рыба. Которую, я так понимал, сунула им та самая девушка, сидевшая перед дельфинами на корточках. Крепкобедрая, с сильными, не очень длинными, но и не короткими, ногами. В джинсовой рубашке с коротким рукавом, завязанной на животе узлом. С волосами, разделенными пробором, и каждая сторона перевязана розовой лентой. Красивым, чуть продолговатым лицом, с крупным носом. В розовых плавках-шортиках. Она сидела, поджав под себя ноги, и глядела в сторону Океана, который плескался сразу же за бассейном.
Дельфинов собирались выпускать в Океан, это я прочел к подписи к фотографии.
Я глядел, завороженный, то на девушку, то в бликующий солнечными зайчиками океан. Девушка, океан. Океан, девушка. Потом перевел взгляд на окно. На нем висело серое, отвратительно колючее солдатское одеяло. Я подошел к нему осторожно, и отогнул край.
Нет, чуда не случилось.
За окном не плескался безбрежный Океан. На меня глядели серые, низкие сопки Заполярья. Вдалеке кривлялись карликовые березы. Где-то за ними, я знал, прыгают друг за другом огромные заполярные зайцы. Свет был серым и тусклым, но он был. Как раз наступил гребанный полярный день. Когда мы сюда ехали, нам объяснили, что на Севере бывает Полярный День и Полярная Ночь. Мол, полгода в тебя светит солнце, а полгода за улицей ночь. Так вот. Нас обманули. И полярная ночь оказалась тем же самым, что и полярный день. А полярный день оказался тем же самым, что и полярная ночь. Надеюсь, я вполне доступно объясняю, что никакой разницы между ними нет.
И то и другое – просто сумерки.
Когда уже не светло, еще не темно, и продолжается это одиннадцать месяцев в году. Что? Нет, вполне вероятно, что и все двенадцать, просто на один месяц мы всегда уезжали на юг, к бабушке с дедушкой. Отец оставался служить, и отстреливать, от нечего делать, долбанных лосей из автоматического оружия, а мы с братом объедались в Молдавии виноградом и трындели: как романтично и красиво жить на севере, как клево собирать морошку, похожую на мандарины окраской и тошнотворную морковь с сахаром вкусом, прорывать в снегу туннели, спускаться с гор на саночках, и передвигаться по туннелям под снегом в полный рост, и купаться в Ледовитом океане. Ах, Ледовитый Океан…
Ничего общего с Океаном, который плескался за спиной моей красавицы, у него не было.
Жестокий, холодный, колючий, всегда темный. Проклятый ты Ледовитый Океан, говорил я ему тогда и говорю сейчас. Сейчас, впрочем, такой ненависти я к нему не испытываю. Более того, глядя на безбрежно солнечные воды Средиземноморья, я даже тоскую по тебе иногда, северный океан. Помнишь ли ты меня? Говорят, у воды есть память. Говорят, на ней отпечатывается все, что мы говорим и делаем. Мировой Океан это просто большая пластинка, на которую записывается все, что мы говорим или, того страшнее, думаем. Соглядатай Бога, вот что значит вода. Говорят, если у воды сказать что-нибудь, ну там, «сейчас? Половина второго», или «ягненок с розмарином, отлично», или «иди к черту», ну, или «я люблю тебя», – вода запомнит это навсегда. Ну, так вот, Ледовитый Океан.
Я очень любил ее.
ххх
Забавно, но я мог выбрать не ее.
В той книжке, ну, где я впервые увидел ее фотографию, было несколько снимков. И Сара – а значительно позже я выяснил, что ее именно так зовут, ничего такого, не подумайте, в Америке просто распространено это имя, – вполне могла не дойти до моего сердца. Так и остаться красивой двадцатилетней девчонкой с задумчивым взглядом в океан, и двумя дельфинами у своих крепких ляжек. М-м-м, что за ляжки. Уверен, даже дельфины, – они ведь тоже млекопитающие и теплокровные, как мы! – мечтали вдуть ей, этой девчонке, волосы которой с лентами развевал ветер. И именно в тот-то момент фотограф – я до сих пор, а ведь прошло двадцать пять лет, ревную ее к нему, – нажал на «спуск». Боже, надеюсь, спустил он лишь образно, иначе я не переживу этого. Детские шрамы болят до скончания жизни, не так ли? Ничего не заживает, все это просто чушь. Но тогда я об этом не думал. Мне было десять с половиной, почти одиннадцать! И я отчаянно старался выглядеть и думать как парень постарше, потому что учился с ребятами постарше. Это обязывало. А еще я плавал, и довольно серьезно, поэтому на соревнованиях то и дело выигрывал призы. А так как это был СССР, – к черту стяжательство, – то ничего ценного нам не дарили. То книжки со спортивными очерками, то наборы для занятий физкультурой дома, и много-много всякой всячины. Особенно много нам почему-то дарили книг про море, ныряльщиков и тому подобную чушь. Видимо, они думали, что раз ребята плавают, то и книжки им нужно дарить про воду. Это было все равно что подарить шлюхе фаллоимитатор.
Книгу «Человек-дельфин» я выиграл в Заполярье.
На семнадцатой странице этой феерической чепухи, написанной сумасшедшим французом Жаком Майолем, была фотография японской женщины-ныряльщицы «ама». Эти девчонки ныряют в чем мать родила. У них только веревочный поясок, и пышная, черная мохнатка. У всех. И сиськи. Само собой, первое, что я сделал с книжкой Жака Майоля, дочитав ее до семнадцатой страницы – заперся с ней в туалете, и сдрочил. Аккуратно вытерся, и вышел. Сел у себя в комнате и продолжил читать.
Жак Майоль, как и все французы, был сумасшедшим, восторженным, трахнутым по голове пыльным мешком кретином.
О-ла-ла! Он верил, что люди произошли от дельфинов, любил дельфинов, плавал в американском океанариуме с дельфином, описал историю своих отношений с дельфином Клоун, и, я был в этом практически уверен, он любил эту дельфиниху. Целовался с ней тайком вечерами при свете звезд в океанариуме. И, как и все сумасшедшие, этот Майоль чертов был невероятно везучим. Он погружался без акваланга на большие расстояния, и даже пару раз побил мировой рекорд. Его предел был сто пять метров. Наверное, это секс с дельфинихой его так вдохновил.
В общем, книга мне понравилась.
Я даже прочитал страниц тридцать еще, и подумал, что буду дрочить на фото японской купальщицы. Крепенькой низенькой японской девушки с колючим кустом вместо ног, японки, уходящей в глубину, и болтающей ногами – именно в этот момент ее и подловил фотограф – как случайно перевернул страницу, зная, что она будет последней.
Тут-то я и увидел ЕЁ и японка была безжалостно выброшена из моего сердца. В воду. Бульк.
На меня глядела богиня в розовых плавках-шортиках, джинсовой рубахе, крепкими полными ляжками, крупноватым носом, чуть продолговатым лицом, небольшой, но высокой грудью и ветер дул ей в лицо, а она глядела, полуотвернувшись, в Океан, и я понял, что влюбился. Это следовало обдумать.
Я взял книжку и пошел в туалет.
ххх
При переезде в чертову Молдавию я оставил в этом чертовом Заполярье все свои ценности – коробку с медалями и грамотами. Но книга «Человек-дельфин» была со мной. Сара, – а я узнал, как ее зовут, догадавшись просмотреть перечисление списка изображений и их авторов в конце книги – была со мной. Я уже точно знал, что мы с Сарой поженимся, когда я стану побольше. О, исключительно в плане роста, конечно. С остальным был полный порядок – в раздевалку, посмотреть на чудо природы, приходи парни из девятого класса.
Ну у него и яйца, ну у него и член! – говорили они. – Это в его-то одиннадцать!
Одиннадцать и четыре месяца, – поправлял я, – почти одиннадцать с половиной, значит, практически двенадцать.
Они добродушно смеялись, а на тренировках на меня поглядывали, перешептываясь, девочки.
Но мне было все равно. Я знал, что отдам всего себя Саре, только Саре, исключительно Саре. Я был ее рыцарем. Мне было все равно, что найти ее будет делом трудным, практически невероятным. Но я не мог глаз отвести от ее фотографии. Часами сидел, глядя на нее и Океан за ее плечами, на дельфинов этих чертовых у ее ног, и думал, думал, думал. Как мы встретимся, как я подойду к ней и как сладко сожмется у нее сердце. А пока сжималось оно у меня. Ну, и не только сердце. Конечно, приходилось мастурбировать. Как-то раз я, в качестве эксперимента, спустил прямо на снимок. Ничего особенного, а пятно пришлось затирать. Так что я больше этого не делал. А Сара как была богиней, – чистейшей, красивейшей – так ей и осталась, хоть на ее шортах-трусиках и появилось небольшое пятно.
Только сейчас я понимаю, что это она потекла.
Но и тогда я понимал очень многое. Дети, которые занимаются плаванием, они как сельские. Очень развитые, и даже больше, чем сельские. В деревне детишки с младых лет видят, как коровы любят быка, ну, и тому подобные штуки. А на плавании ты лет с шести-семи видишь обнаженных людей, и прекрасно понимаешь разницу между полами. Тем более, что плывет-то команда на одной дорожке.
Так что я пристраивался за девчонками, – когда те плыли брассом, по лягушачьи раздвигая ноги, – и смотрел. Неотрывно. Тренера даже нервничали. Но мне было все равно. Никто в мире не мог бы обвинить меня в педофилии – я был младше этих тринадцатилетних коров на полтора-два года. Мне нравилось рассматривать их щели. Некоторые, – со складками, – были особенно привлекательны. Но, конечно, никакой конкуренции эти девушки моей Саре составить не могли. Моя двадцатилетняя женщина, она ждала меня, сидя на низком бортике бассейна, залитого морской водой.
И дельфины весело перемигивались у ее ног.
А я дрочил, глядя на нее, дрочил так и этак. Изучил Камасутру – мне надо было быть готовым к тому моменту, когда мы встретимся, прочитал все статьи в журнале «Ровесник» про секс, просмотрел даже тайком в каком-то советском салоне, заплатив за это рубль с полтиной, фильм про секс. Я стал страшно опытный. Я не просто дрочил, но мысленно вытворял с Сарой такие штуки, что….
Уверен, и Саре это нравилось. И, как и все американки, она была не очень ревнива и понимала, что к чему. Так что, когда на соревнованиях в каком-то Североморске, или где там у них подводные лодки целятся карандашами чертовых ракет в подбрюшье НАТО – ко мне в номер пришла девчонка из соседней команды, и спросила, умею ли я трахаться, я сказал – ну, конечно. А что, спросил я. Она уже трахается, объяснила мне девчонка, а ее парень-старшеклассник уехал в Омск на полгода, и вернется только к лету. Лето, зима, какая к черту разница на этом Севере, подумал я. А трахаться ей охота, и ребята постоянно говорят, что у меня большой член и яйца, поэтому давай потрахаемся, продолжила девочка. Я сказал о кей, и отложил книгу «Человек-дельфин». Она легла под одеяло – проклятущее колючее советское одеяло, какое давали во всех проклятущих гостиницах Советского Союза – и разделась под ним. Легла на меня, и мы потрахались. Ей было четырнадцать лет и она была перворазрядницей, мне тринадцати еще не было, и шел я на второй взрослый. Спинист и брассистка. У нее еще были крашеные волосы, она этим гордилась. Нет не внизу, внизу она их сбривала, чтоб из под купальника не выбивались.
Потом мы еще пару раз потрахались, потому что она лишилась девственности всего месяц назад и входила во вкус. Скажешь кому-нибудь, скажу, что ты наврал все, и мой пацан тебя убьет, сказал она. Когда она ушла, я достал «Человека-дельфина», и стал онанировать.
– Что делал? – спросил меня парень, которого подселили ко мне в номер, и который вернулся из города.
– Трахался с Олей из команды «Альфа», ну, у которой парень в Омск уехал, – сказал я.
– Врешь, – сказал он.
– Вот, – сказал я, – она трусы забыла. Потрогай, они еще скользкие.
– Круто! – сказал он, нюхая трусы. – Господи, глазам своим не верю. Ты ТРАХАЕШЬСЯ? О черт, да это всей команде надо рассказать!
– Ну а что здесь такого? – скокетничал я. – Расскажи, конечно!
– Хочешь, сяду на шпагат и достану яйцами рубль? – спросил он.
– Не достанешь, – сказал я.
– Спорим на рубль? – спросил он.
– Давай, – сказал я.
Мы бросили рубль на пол, он снял штаны и сел на шпагат, и яйцами коснулся рубля.
Я проиграл.
ххх
Несмотря ни на что, я был верен Саре. Ну, в смысле душой.
Когда мне было тринадцать, мы перебрались в Молдавию. Случилось ГКЧП. Или случился? Не знаю. Я видел телик. Несколько испуганных дядек сидели за столом перед кучей чертовых журналистов и те издевались над пожилыми людьми. Мне было жаль и тех и других. Потом показали танки и людей которые улюлюкали и бросали в танки бревна.
– Дети, – сказала мать торжественно, – это Демократия свергает режим! Только бы не Совок снова, только не это!!!
После этого она поехала в отцу, на Север, помогать ему собирать пожитки, чтобы вернуться в Демократическую Молдавию. И оставила нам с братом двести рублей на две недели. Тут-то и случилась очередная денежная реформа, и эти деньги обернулись ничем. Мы неделю жрали одну черешню, которую воровали в садах за домом, и поносили от этого, как заведенные, ослабли страшно, я даже дрочить не мог, только лежал в углу на матрасе, мебели-то не было, да постанывал, а брат готовил мне единственное лекарство, которое мы могли тогда себе позволить – крепкий чай.
Но книга «Человек-дельфин» была со мной. Я глядел в нее, когда мне становилось совсем худо.
… По телику показали балет, и мать загрустила. Балет значил, что красные побеждают, а мать не любила красных. Потом показали митинг и мать повеселела.
Я поглядел на телик еще немного, и пошел дрочить, в ванную.
Я выяснил экспериментально, что в ванной – лучше всего. Есть два вида секса с собой в ванной. Первый – когда ты полностью погружаешь член в воду. Для этого нужно прилагать больше усилий, потому что сопротивление воды не позволяет двигать рукой так же свободно, как над водой. Второй – ты держишь в воде ПОЧТИ все. Второй вариант более шумный – ты хлюпаешь. Ощущения хороши и так и этак, но они чуть разнятся. Это как выпить коньяку из широкого бокала, предварительно нагрев, или сделать из него глинтвейн или что там из него делают?
В общем, по настроению.
Я выбрал глинтвейн, и спустил вод водой. В ушах стучало. Это бился в них океан, и Сара – не стареющая, молодая, прекрасная Сара, сотрудница океанариума Мичигана, снятая в 1972 году в дельфинами фотографом Джоном Иврином для книги «Человек-Дельфин» Жака Майоля, тираж 70 тысяч экземпляров, – глядела чуть в меня и чуть в сторону, чуть мимо меня. Мы были знакомы уже несколько лет, но чувства наши были свежи. Мне было уже четырнадцать
Я любил ее.
ххх
Конечно, со временем я изменил Саре не только телом.
Знаете, как это бывает. Шестнадцать – первая любовь, восемнадцать – вторая, двадцать – третья. То, что кажется тебе значимым в детстве, не так важно, когда ты взрослеешь. Ну, и тому подобная конформистская чушь. Чушь, потому что, когда я словно очнулся, и, – мужчина двадцати трех лет, в шрамах, и опытный, – случайно наткнулся на книгу «Человек-дельфин», валяющуюся на балконе, то понял, что у нас все по-прежнему.
Сара была самой красивой женщиной мира. Меня волновала ТОЛЬКО она. Самая красивая девушка в мире. Для меня, и для мира, и для Океана, и для тех двух чертовых дельфинов, что тусили у ее ног. Я мечтал о ее промежности. О ее груди и губах. Я был готов умереть за нее.
Я бы отдал все за то, чтобы лежать в воде у ее ног.
Я уже не плавал и успешно гробил спиртным все то, что подарил мне спорт. Закончил журфак, много курил, много работал, разбивал сердца, свое давно уже потерял где-то. В моей жизни была одна ценность. Одна постоянная величина. Сара. Все остальное – женщины, работа, книги, которые я начал писать – пролетало мимо меня в какой-то бешеной тряске. Мне исполнилось двадцать четыре пять, когда я, крепко поддав, сел в кабинете своего редактора вечером с бутылкой коньяку, и набрал справочную Мичигана. Во мне все трепетало. Ради этого момента я учил английский язык по самоучителю Петровой, и, мать вашу, выучил его.
– Океанариум Мичигана, – попросил я.
Они не торопились, но мне было все равно. Платила-то за переговоры, хоть и не знала об этом, редакция. Мне дали чертовы телефон этого океанариума. После моих долгих сбивчивых объяснений ошарашенные сотрудники океанариума обещали мне узнать все о персонале семидесятых годов.
И, конечно, ничего не узнали.
Мы очень сожалеем, сказали они. Это ужасно трогательная история, сказали они. Можно мы напишем про нее в нашей городской газете? Делайте, что хотите, сказал я, повесил трубку, и разрыдался. Впервые за двенадцать лет я плакал. Учить французский и искать Жака Майоля было бы чересчур. Ну что же, я хотя бы попробовал. Совесть моя была чиста, этот долг можно было закрыть.
Я бросил книгу «Человек-дельфин» на балкон, где хранится весь мусор, и зажил без Сары.
Плохо зажил.
ххх
В тридцать пять я развелся.
Глядя на свадебные фотографии, и отхлебывая пиво прямо из бутылки, я признался, наконец, себе в том, что выбирал жену по степени сходства с Сарой.
Они были очень похожи.
Наверное, мы могли бы быть счастливы с Олесей. Она была так же хороша, как Сара, пригожа, умна, все такое. Но, черт побери, за ее спиной не было Океана, и за ней не светило вечное Солнце, и она не была символом девушки-хиппи, бросившей все ради спасения дельфинов в океанариуме. Господи, Сара, где ты, где ты, моя вечная молодость, где ты, мой океан, где ты, где ты, где ты…
Я вырезал из книги это фото и вставил его в рамку. Поставил на комод. Когда жена – бывшая жена – пришла забирать свои вещи, то спросила меня, что это значит. Я объяснил.
– Ненавижу тебя, – сказала она.
– Ты просто десятилетний пацан, который замер в свои десять у книжки с фотографией, окаменел, и пропустил всю жизнь, – сказала она. – – И был таким все последние двадцать лет.
– Бедный, несчастный, одинокий и развращенный мальчик у берега моря, – сказала она, – а я ведь была вся для тебя. И мы могли бы жить настоящим…
Я закрыл глаза. В уши нам с Сарой бился прибой. Дверь хлопнула и больше я Олесю никогда не видел. Другие женщины в доме появлялись все реже. Зачем? Мы с Сарой достигли в сексе феерических высот. Вы не представляете себе ЧТО можно вытворять, просто глядя друг другу в глаза и лаская себя… А вот во всем, что не касалось секса, все обстояло очень плохо. Дело вообще шло к деградации, я начал пить, бросил писать, курил прямо в постели, и все разговаривал с Сарой. Она была благодатна, как Вселенная, и не осуждала меня, я видел. Но какой-то инстинкт подсказал мне, что умирать еще не время. Так что я отослал свое резюме в пару фирм, пришел на собеседование чисто выбритым, и одетым во все стиранное, и, благодаря своему слабо подзабытому английскому и любви к истории и Гомеру, получил работу экскурсовода в Трое.
Уже через месяц мы с Сарой улетали в Турцию.
ххх
Работа мне нравилась. Жил я в городке километрах в пятнадцати от самой Трои, – вернее, ее развалин, – назывался который Чанаккале. От него до берега Европы было километра полтора, их еще Байрон переплывал. Пару раз переплыл и я. За два года, что я там пробыл, бросил курить, стал плавать, бегал по утрам.
Сара глядела на меня с одобрением.
Персонал гостиницы, – скромной «трешки», но мне хватало, – где меня поселили, к рассказу о погибшей жене, чье фото всегда со мной, отнесся по-турецки сентиментально. Так что меня не трогали особо, и я мог сколько угодно гулять по берегу моря с фото Сары, да два раза в неделю сопровождал группы туристов к Трое.
Вечерами я гулял по набережной Чанаккале, ел рис с соком лимона и мясом мидий из ракушек этих мидий, и сидел на лавочках у черного от ночи Черного моря. Над ним парила дымка. Я не был уверен, что из нее вот-вот не покажется голова Джона Гордона. Ну, или я вдруг увижу за пальмой Сару, кормящую с рук дельфинов.
Здесь все было так… зыбко, странно и удивительно.
Я, как оно в Турции часто бывает, постепенно пропитывался Солнцем, благодушной апатией ко всему, философским отношением к жизни, и умением просто жить, не требуя взамен ничего. Наверное, за это судьба меня и вознаградила.
И я встретился с Сарой.
Настоящей, а не картинкой из книжки.
Я вел группу туристов по дощатому мостику от стены, с которой на головы ахейцев лили кипящее масло, к храму, где заколол жертвы 900 лет спустя сам Александр Македонский, – а навстречу мне поднималась стайка позитивных англосаксонских туристов. Я прошел мимо, и уже спустя пару метров понял, что видел Ее. Я быстро указал своим туристам на поле, по которому Ахиллес таскал за своей колесницей труп Гектора и попросил идти в том направлении. А сам обернулся и прыжком, рискуя сломать шею, – здесь из-за раскопок все ходят по мостикам и доскам, – догнал туристов. Семь жизнерадостных, розовощеких американцев. Да, я не ошибся. Посреди них стояла ОНА, чуть расплывшаяся в бедрах, чуть усохшая в груди, с чуть седыми волосами, но это была она, она, она.
– Здравствуйте, я всю жизнь дрочил на ваше фото, – сказал я.
– Что? – спросила она на английском.
– Вас зовут Сара? – перешел я на английский.
– Да, – недоуменно ответила она.
– Вы работали в океанариуме Мичигана? – спросил я.
– Э-э, да, но очень давно и всего сез… А откуда вы, молодой человек, это знаете? – спросила она.
– Это вы? – спросил я, и показал ей фото.
– Это я, – сказала она весело-удивленно, – но отку…
– Я вас очень любил, – сказал я. – Очень-очень. Вы были божественно красивы.
– То есть, – сказал я, – вы и есть божественно красивы.
– Да, черт побери, – сказал розовощекий американец лет семидесяти пяти, как и она, – я это знаю, недаром я ее муж. Вот уж не думал, что в таком-то возрасте у меня появится соперник.
Пенсионеры радостно рассмеялись. Я улыбался.
– Я надеюсь, вы счастливы и у вас куча детей, – сказал я им.
– О, спасибо, уже внуков, – сказала, все еще не понимая, она.
– Я счастлив, – сказал я. – Я был очень влюблен в вас. Я должен объяснить. Я не сумасшедший. Я вас очень любил. Ну, именно такой, как тут. Ну, мне пора. Кстати, вот ваше фото. Это было в книжке одной, про море… Я увидел ее в детстве и был влюблен, ну, как это у детей бывает, знаете?…
– Про море… – сказала она, начиная что-то понимать. – Какое красивое фото… Я была так молода… Да, как у детей. Картина прекрасной дамы… Понимаю. Я была так молода…
– Вы и сейчас такая, – галантно сказал я.
– Молодой человек, – сказала она, и я понял, что моя Сара осталась моей Сарой, – молодой человек… Лет тридцать-сорок назад…
И подмигнула. Так, как сделала бы эта красивая девушка с фотографии моего детства. Они, и даже ее муж, снова рассмеялись, очень дружелюбно, и я понял, что лет тридцать-сорок назад, может, и правда…
Проблема была лишь в том, что лет сорок назад она, двадцатилетняя и прекрасная, сидела на краю бассейна и ветер Океана развевал ее волосы с розовой лентой. А меня еще не было. А эта, нынешняя женщина, она была уже вовсе НЕ ТА Сара…
Они попрощались со мной за руку все, старушка чмокнула меня в щеку, и они ушли, громко и восторженно обсуждая эту удивительную историю.
Я махал им рукой, улыбался, и на моих глазах выступали слезы.
ххх
Так я увидел Сару и потерял ее.
Но это меня не огорчало. Утром следующего дня я взял автомобиль напрокат и поехал к Трое. Никого не было. Развалины выглядели, как обычные турецкие античные развалины. Много мрамора, камней, скульптур, земли. Много травы, зелени. И ящерицы, которые греются на мраморе. И очень редкие туристы, которые приехали не группой, а сами, остановились в городке неподалеку, и бродят по античным дорожкам, останавливаясь лишь у щитов с указателями. Старательно шепчут, повторяя про себя, куда идти. Гида такие не берут, но я сегодня и не был гидом. Птицы поют. Вдалеке чуть шумит море.
Раскопки пустовали. Я прошел по узким улочкам между крепостными стенами – именно среди них понимаешь, что история про Коня была преувеличением, тут и человек еле пройдет, – и взобрался на холм седьмой Трои.
Всего-то их было двенадцать, и штурму, описанному Гомером, подвергалась четвертая.
Впрочем, извините. Я все сбиваюсь на экскурсию. А я ведь не для того сюда приехал. Я спустился с холма к остаткам пятой Трои, и присел у мраморного столика, за которым сидел еще Македонский, когда остановился здесь почитать что-то из Гомера, ну, перед тем, как покорить Персию. Достал пистолет. Еще одна чудесная особенность Турции состоит в том, что здесь можно свободно купить оружие, не пулемет, конечно, но какой-нибудь скромный пистолет – запросто. Солнце уже начинало припекать, и я почувствовал капли пота на лбу. Надо было торопиться, пока не началась жара.
Я поставил на столик фотографию Сары в рамке. Расстегнулся. Сделал это в последний раз. И стал глядеть на нее. На лицо своей единственной любимой женщины. Время шло, а я все глядел и глядел.
… постепенно ящерки на кусках мрамора пропали, зеленые поля поблизости потемнели и превратились в синие-синие воды Океана, великого океана Любви, и девушка, сидящая передо мной в профиль двадцать пять лет, повернула, наконец, ко мне свое лицо, небо помрачнело и на голову мне что-то капнуло, а потом я понял, что это ветер, великий ветер принес ко мне соль и брызги Океана, и девушка улыбнулась мне, сухо где-то вдалеке щелкнул выстрел, но это не имело уже никакого значения, потому что глаза моей Сары широко раскрылись, и она, девушка с фотографии, ожила, и раскрыла мне объятия, и я упал в них, и ее тело, в короткой джинсовой рубашке и полные ляжки в розовых шортиках – все это потянулось ко мне, и вдалеке закричали чайки, и Солнечный диск взошел над водами, и воды омыли нас с Сарой, и мы стояли, молодые и красивые, обнявшись, прижавшись друг к другу, у кромки Океана, и дельфины плескались у наших ног, и мы глядели друг другу в глаза, и улыбались, и знали, что будем здесь вечно, и будем так вечно, теперь уже вдвоем.
Вместе и навсегда.
МАЙОР ПЕТРОВ ОСТАЕТСЯ
… Глядя остывающими глазами на то, как гаснут огни его подводной лодки, погруженной во мрак на километровой глубине, майор Петров ни о чем не жалел. Он не боялся, не хотел наверх, и ни одна слезинка не выкатилась из его покрасневших и будто натертых песком, – как обычно у пьяниц бывает, – глаз. Он просто сидел в кресле-качалке и глядел в иллюминатор на надвигающуюся тьму. И на то, как мигают, слабея, огни в соседних отсеках. Постепенно темнота сгустилась, огни погасли, – последний перед тем, как исчезнуть, замельтешил, словно в предсмертной дрожи, – и майор остался один на один с великим Безмолвием Тьмы.
Так они и замолчали друг перед другом.
ххх
… служить майор Петров перестал еще в 1986 году, после того, как был пойман на учениях, – в общей офицерской палатке – за неблаговидным для офицера занятием. Если бы это была дрочка или там, порнографический журнал, к примеру, то у майора была бы надежда восстановиться году там к 88—му, когда над страной повеял ветер свободы. Но Петров, к сожалению, не дрочил, и Петров не дрочил, полистывая порнографический журнал. Майор Петров шарил по карманам коллег. Таких же нищих и задроченных офицеров Советской Армии, как и он сам. Более того, многие из них были куда беднее майора Петрова, потому что у всех этих лейтенантов Ивановых, капитанов Сидоровых и младших лейтенантов Козловых зарплаты были куда меньше, чем у майора Петрова. Поэтому майор Петров был нещадно коллегами бит, и выброшен из офицерской палатки прямо на снег, прямо под сопку, прямо под низкое небо Заполярья. Сплевывая через пустоту на месте выбитого зуба кровь, Петров встал, утер лицо снегом и попробовал вернуться в палатку офицерства. Но там майора снова побили. Пришлось идти ночевать к солдатам. Там майору Петрову, как и полагается в коллективе животных – проще говоря, – стае, – пришлось самоутверждаться.
– Заночую тут, – сказал он солдатам, глядевшим на него внимательно, как ватага бродячих собак на старушку с окороком.
Вместо ответа один из срочников хлопнул по койке у входа. Майор прошел мимо, сбросил на пол солдата из самого теплого угла, и присел.
– А, ва, да, – сказал срочник-азербайджанец Рафик Гуссейнов, – да, э, ва!
– Хуй на! – сказал майор, и бросил в голову чурки чурку, которой солдаты отапливали буржуйку.
– А, ва, на, э?! – обиженно сказал боец Гуссейнов.
– Хуй на, – сказал майор Петров.
После чего пошел на добивание. Взял еще одну чурку и бил солдата Гуссейнова до тех пор, пока тому не стало плохо. Землячество не вмешивалось, потому что у майора Петрова был пистолет, и майор Петров все-таки весил сто килограммов. А самое главное, солдаты не очень понимали причину офицерского конфликта. Они не были уверены, что коллеги не вступятся за майора Петрова. А майор Петров был уверен, что за него не вступятся. Но он блефанул, и выиграл все. Ну, или, по крайней мере, одну ночь в палатке, подумал майор Петров, засыпая.
– А это для меня теперь все, подумал он, и уснул.
На следующий день стрельбы продолжились. Майор Петров крутился возле орудий, которые заряжали по четверо доходяг с Кавказа, – снаряд весил сорок килограммов, доходяги каждый по столько же, – но офицеры с ним не заговаривали. И никакого участия в стрельбах принимать майора Петрова не просили. Так что большущий майор, покрутившись еще, и понаблюдав за разрывами на далеком снежном поле в бинокль, пошел в палатку. По пути ему показалось, что его окликнули. Майор Петров обернулся. Это кричала его вчерашняя жертва.
– А, ва, да, на! – жалобно завопил солдат Гуссейнов, который просто обосрался, и остро переживал свое унижение.
– Э, э, а! – орал ему, издеваясь, младший лейтенант Сидоров.
Офицеры посмеивались. Такие случаи редкостью не были. Снаряды были очень тяжелыми, заряжать нужно было очень быстро, а качество человеческого материала в армии СССР конца 80—хх было не низким, а ужасающе низким. Поэтому солдаты частенько не выдерживали, и кто-то на учениях хоть разок, да гадил под себя. Естественно, никакой поблажки бедняге не давали, и он продолжал заряжать.
– Солдат НАТО не даст тебе вытереть сраку, боец, – говорили офицеры.
И несчастный продолжал заряжать. Майор Петров попробовал было посмеяться вместе с коллегами, заискивающе глядя им в лица, но офицеры отводили взгляд. А вечером Петрова отправили – с машиной для грузов – обратно в гарнизон. От полигона до городка было двадцать километров, но занимала эта дорога по времени почти сутки. Майор, сидя рядом со словоохотливым водителем из местных, то засыпал, то просыпался, и весь промок от своего горячего пота. Ехали они ужасающе медленно. В Заполярье наступила зима, а это значило, что вечная зима Заполярья стала еще холоднее, света в сутках было часа два от силы, а дорог здесь не было со времен маршала Маннергейма, объяснил водитель.
– Это сколько лет-то? – попробовал включиться в беседу Петров.
– А нисколько, Маннегрейм-то сюда не дошел! – радостно сказал водитель, и заржал.
Петров снова уснул. Встреча с семьей его не беспокоила: у Петрова никого не было. Давно, очень давно, в позапрошлой, наверное, жизни, у него была дочь. Девчонка, смотревшая на него строгими внимательными глазами, пока он сидел с малышкой, сказавшись больным, а жена-поблядушка шлялась по всему гарнизону. С женой он познакомился, когда учился на последнем курсе военного училища, она заканчивала ПТУ по соседству, и покорила майора тем, что отсосала ему при первом же свидании. А когда дала на втором, Петров решил жениться. Тем более, что выпускнику военного училища и полагалось жениться. К сожалению, свои привычки в прошлом супруга оставлять не хотела, так что ее пришлось прогнать, а девчонку она, конечно же, забрала себе. Майор Петров уже и не помнил своей дочери. Знал только, что из его зарплаты каждый месяц вычитают алименты, знал, что его не послали служить в Польшу имено потому, что он не женат, и знал, что его послали сюда, в Заполярье, именно потому, что он не женат.
Сначала он должен был провести здесь год, потом два, потом пять, а потом стало понятно, что майор Петров обречен жить в Заполярье всегда. Ему выделили квартиру в захолустном гарнизоне Луостари – пять пятиэтажных домов в двадцати километрах от ближайшего поселка, – и он смирился. Начал выпивать – все чаще одеколон – и развлечения ради шарить по карманам коллег, когда ездил на учения. Добром это не кончилось, подумал Петров. Или уже все кончилось, подумал он. Или вот-вот кончится? Петров подумал, что подумает об этом позже, глянул на серый заполярный пейзаж за окном, и увидел огромного зайца.
– Совсем охуели, – сказал водитель.
– Разруха блядь, – сплюнул он на пол кабины.
– Волки говорят уже в города заходят, подвоза все нет, а этот Горбатый, ебаный его рот, все пиздит да пиздит! – возмутился союзными властями водитель.
Скоро волки завоют на улицах градов и весей, и мертвецы начнут свои пляски у нас на груди, хотел было ответить не чуравшийся в молодости чтения Петров, но подумал, что он и так уже перемудрил со своей жизнью. Он сказал лишь:
– Ну дак, ебана.
ххх
Время было действительно непонятное. Наступил 1987 год. Майора Петрова отстранили от службы, но не выгнали из армии. Поручили следить за кочегаркой, от которой зависела жизнь всего гарнизона, и продолжали платить офицерскую зарплату. В гарнизоне с Петровым никто не разговаривал, и майор слегка одичал.
Раз в месяц Петров выезжал в город по соседству, – Печенга, сорок километров, невероятно много, – где отчитывался перед гражданским, почему-то, начальником. После этого они с начальником выпивали бутылку польской водки, – майор тогда вспоминал, что его не послали в Польшу из-за невнятного семейного положения, – и Петров был свободен. В ожидании вечернего рейса, – военного грузовика, – майор прогуливался по улицам Печенги, любуясь подтянутыми суровыми морпехами, которые там дислоцировались. Один из них даже сменял свою тельняшку майору Петрову на бутылку водки. Зачем ему тельняшка, Петров не понимал. Но что-то ему говорило: ВОЗЬМИ ее. Если бы морпех был слабачком, Петров, не задумываясь, взял бы ее силой. Но морпех был примерно с Петрова, и явно меньше пил. Так что пришлось меняться. Удачную сделку Петров обмыл в ресторане, заказав суп с яйцом за три рубля восемнадцать копеек, жаркое по-польски (снова Польша…) и салат винегрет.
– Ваш суп с фрикаделькой, – сказала наглая прошма в белом передничке, и поставила перед Петровым тарелку с супом.
– Я просил с яйцом, – сказал Петров неожиданно для себя сипло, и вспомнил, что молчит месяцами.
– Ой, а я перепутала, – сказала, глядя ему в глаза, курва-официантка.
Петров потянулся к меню, раскрыл, и все понял. Суп с фрикаделькой стоит четыре двенадцать. Делают план, понял Петров, и покорно принялся хлебать суп с фрикаделькой. Та, кстати, оказалась вполне себе ничего. Упругой. Поняв это, Петров вспомнил, что давно не имел секса с женщиной. Интересно, эта столичная штучка – для Петрова из гарнизона с общим населением в полторы тысячи человек, сорокатысячная Печенга была настоящей столицей, – она ебется? Петров хотел было задать ей этот вопрос и даже приготовил пачку денег, которые ему просто не на что было тратить, но заметил, как из угла зала на него глядят двое верзил. Вышибалы, понял Петров. Им тоже надо было сдавать план: по договоренности с милицией такие ребята начинали драки в ресторанах, после чего туда сразу же приезжала менты. Так выполнялся план по «хулиганке». Петров подавил вдох, и, предельно корректно, доел суп. Попробовал поперчить винегрет, но у перечницы – конечно же, – отвалилась крышка, потому что она и не была прикреплена. Весь перец оказался в салате. Вышибалы радостно приподнялись. Петров, не меняясь в лице, доел весь перец с редкими вкраплениями овощей, и расплатился. Даже на чай оставил. Потом ушел.
На остановке грузовика, выполнявшего роль автобуса, майор долго отплевывался и ел снег. Потом хотел было прополоскать рот водкой, но вспомнил, что сменял ее на тельняшку. Выругался. Ну, что же. По крайней мере, память о неудачной поездке, подумал он, и почувствовал мягкий толчок в плечо.
Это подъезжал, скользя по снегу и льду, рейсовый грузовик…
ххх
Наступил 88 год, и майору Петрову уже не нужно было ломать голову над тем, как потратить свои лишние деньги. У него их попросту не осталось. Цены росли, а продукты из магазинов исчезли. Вернее, из магазина. В гарнизоне ведь был всего один магазин, где из еды оставались только белый хлеб и ненастоящий березовый сок из сахара и воды. Офицеры ходили мрачные и угрюмые. Их жены нервничали. Солдаты недоедали, и от этого офицеры были еще более мрачные. Один Петров – деклассированный элемент – не ощущал никаких особых перемен. Проверял себе кочегарку – угля тогда еще было много, и завозили его вовремя, – да выпивал каждый вечер свою бутылку водки или одеколона, а то и спирта, после чего смотрел первый кабельный канал. Особенно Петров любил фильмы про рестлеров. Тогда еще никто не понял, что это борьба понарошку, и майор мечтал, что когда-нибудь получит право уехать в яркую, цветную страну Америку, и сможет заняться там рестлингом. А пока все было черно-белым, и Америка тоже, потому что телевизор у Петрова был черно-белый.
– Купишь хлеба? – спросил его как-то солдат у магазина.
– Э? – спросил Петров.
– С каких это я тебе буду что покупать? – спросил он.
– Да нет, на мои деньги, – сказал солдат.
– Так купишь хлеба? – повторил свою просьбу солдат, и протянул мелочь.
Петров удивился. Но взял мелочь, и пошел в магазин, тем более, что давно туда собирался. Взял две булки хлеба для себя и собрался купить третью для солдата.
– Больше двух в руки не даем, – сказала продавщица.
Так Петров узнал о существовании дефицита. И о том, что солдатам в гарнизонном магазине запретили продавать продукты. От этого служивые упали духом, и, поскольку большинство из них были выходцами с южных окраин – в Советском Союзе полагалось слать с одной окраины на другую, – решились даже на митинги и выступления. Но командование части, постреляв в воздух, и посадив в холодную самых беспокойных, добилось спокойствия и порядка. Одному из самых беспокойных – тот был армянин, – выбили глаз утюгом в качестве профилактики. Тогда в части, на случай повторного бунта солдатни, каждому офицеру раздали патроны. Единственный, кому не дали ничего, был майор Петров. Мрачные сопки Заполярья глядели на гарнизон с угрозой. В свете окон домов майору Петрову чудилось что-то жалкое и просящее. Гарнизон был похож на жалкую куропатку, а Заполярье – на большую, неумолимую, полярную сову. Все рушилось и трещало. Цивилизация отступала. Телеграммы и письма с Большой Земли – речь шла о городе-фантоме, Мурманске, – шли все реже. Поезд шел теперь от Мурманска до Печенги на два дня, как раньше, а неделю. О гарнизонах вроде луостарского речь вообще не шла. А уж тем более, о таких отщепенцах как майор Петров.
Рано или поздно нам конец, понял он.
ххх
Летом 1988 года Маша, дочка спившегося офицера Золотарева, стала давать школьникам и солдатам за бутылку сока и булочку. Все бы ничего, но у нее, во время профилактического осмотра, нашли вшей! Детей из поселка возили в школу в городке Корзуново – он был совсем рядом, всего три часа пути, десять километров, – в одном автобусе, и родители возмутились. Так что Машка первой перестала ходить в школу, начала околачиваться по гарнизону, и давать солдатне за сок и булочку. Это было немало. Маша была не очень чистой, но смышленой, отец ее давно и крепко пил, но до воровства, как майор Петров, не опустился, так что на службу ему ходить еще разрешали. Он, вероятно, даже испытывал нечто вроде гордости. Ведь его дочь Мария стала первым деклассированным элементом этого уголка Советского Союза.
– Как Бродский, сука, тунеядка моя, – говорил он.
После чего избивал дочь за то, что курвится, а потом трахал, если был не очень пьян. Крики Марии доносились до всех уголков гарнизона, несмотря на то, что окна завешивали одеялами – это был единственный способ остановить тусклый, ползучий свет наступившего полярного дня. Наутро офицер Золотарев шел на службу. Дети ехали в Корзуново на автобусе, а Машка выходила к части, и стояла там у забора. Майор Петров, проходя мимо, выразительно посмотрел на нее и щелкнул пальцем по горлу. Мария, не чуждая удовольствий, кивнула и пошла за ним. В квартире с открытыми окнами – а топили так жарко, что окна были везде и всегда распахнутыми, вот вам и парадоксы позднего СССР, – Мария разделась и мелькнула смуглым телом к кровати. Майор Петров не спеша тоже разделся, залез в постель, потыкался наугад, пока Мария, терпеливо и со вздохом, не направила мужчину куда надо. После этого они, – говоря языком Маши, – немножечко поебались. Потом выпили бутылку водки. Потом майору Петрову снова захотелось поебаться, но Маше уже пора было домой, встречать отца. Так что они условились на следующий день. Постепенно Маша перебралась к Петрову. Отец ее не возражал, потому что в мире реальности оставался все реже. В старые времена майору не миновать бы встречи с милицией. Но в конце 80—хх на такие мелочи не обращали внимания.
Тут блядь страна гибнет и ее честь, – сплюнул полковник, командующий частью, – а что нам честь какой-то поблядушки? Пускай ее хоть один ебет…
После чего велел раздать офицерам еще патронов, потому что стукач доложил, что солдаты-армяне хотят пойти резать солдат-азербайджанцев. Стукач не обманул. Стороны были остановлены на пороге бойни, и торжественно помирились лишь после клятвенного обещания офицерства выучить их наилучшим образом для войны в Карабахе у себя на родине, которую каждый считал своей.
– Тут мы мирись-мирись, да, – сказали стороны, – а там мочись на смерть!
– А вы нас учить, – сказали стороны.
– Э, да, а! – сказал полковник.
На том и порешили. Так было подписано первое в истории СССР временное перемирие между Арменией и Азербайджаном.
ххх
В начале 1989 года в гарнизон пришел чукча Ясын Мандысын, пропавший из гарнизона в 1987 году. Парня, считавшегося дезертиром, просто отрезало от всего мира во время двухнедельного отпуска домой, на каких-то островах в Охотском море. Только оттуда до материка он добирался полгода. Страна кряхтела и ломалась, документы и деньги не значили уже ничего. Поэтому оставшееся время своего отсутствия чукча Мандысын потратил на то, чтобы автостопом добраться до другого конца страны, Заполярья. Дослуживать.
На дурачка Мандысына приехало посмотреть даже командование морпехов из Печенги.
Они хлопали чукчу по плечу, кряхтели, матерились, пили водку, и говорили, что понимают теперь, почему СССР победил Гитлера. В награду за лояльность армии, которую оплевывали все, кому не лень – в том числе и сама армия, – боец получил две недели отпуска…
Весной 1989 года солдаты гарнизона поймали машину с женами и детьми соседнего гарнизона (сорок километров, тьма кромешная) , и трахнули всех, кто там находился, включая водителя. Когда в казарму пришли разбираться офицеры, им указали на то, что мирный договор подписывался с офицерством СВОЕГО гарнизона. Аргументы были сочтены резонными, тем более, что никого не убили, а только изнасиловали.
… Летом 1989 года у майора Петрова появились новые соседи: подполковник артиллерии из Молдавии с усталой издерганной женой и двумя сыновьями. Мальчишки были угрюмыми, и Петров часто видел их за гарнизоном с ружьями. Младший постоянно пялился на Машку, и у Петрова не было уверенности, что это ничем не кончилось. Старший забрался на крышу дома и стрелял в вертолет с браконьерами, стрелявшими по лосям. После этого отец забрал у мальчишек ружья, но потом снова выдал, когда прошел слух о новом возможном бунте солдат.
В гарнизон прекратили подвоз, и всем офицерам был роздан НЗ. Три месяца в гарнизоне стоял хруст: это люди ели сухари вместо хлеба, которого не было. Тогда же майор Петров впервые попробовал рыбную колбасу – колбасу из рыбы с кружочками свиного сала. Офицеры ходили охотиться на зайца с автоматами, но получалось невкусно: много свинца и мало мяса.
Пить приходилось уже не водку, а спирт, да и тот стал дефицитом. Офицеры, бравшие отпуска, возвращались все реже, а если и возвращались, то только для того, чтобы забрать семью, и исчезнуть навсегда. Иногда первой наоборот, уезжала семья. Так было у новых соседей Петрова, пробывших в гарнизоне всего четыре месяца.
Осенью 1989 года майор Петров стал популярен у женщин и мужчин. Произошло это неожиданно, прежде всего, для самого майора. Он чудом выбрался в Печенгу. Там он остановился в местной гостинице при Доме культуры, и пошел в бибиотеку. Просто для того, чтобы погреться, потому что в библиотеке еще топили, а в Доме культуры уже нет. Там он увидел странное существо: мужчину с бородой, но в женском платье. Как объяснила майору Петрову библиотекарша, это местная знаменитость. Бедняжка родилась – ну, или родился, – гермафродитом.
– Э? – спросил майор, который давно уже не разговаривал, а просто издавал возгласы с интонацией.
– Алёнка-Васёнка гермафродит, – пояснила библиотекарь, – ну, у него есть половые органы мальчика, и половые органы девочки…
После чего продолжила рассказывать. Алёнка-Васёнка родилась в Печенге же, от него-нее отказались родители, и бедняжка росла в Мурманске. А жилье ему дали в Печенге, комнатушку в общежитии. Вернулась она сюда настоящей столичной штучкой! С подпиской на журналы «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература» и «Наш современник», и автографом Собчака! Понятно, как ей ДУШНО в нашей глуши… Сейчас вот подрабатывает уборщицей в местном ДК, и мечтает сделать себе операцию. Отрезать кое что. Ну, или зашить. Одно из двух, как говорится. Гермафродит очень начитанный, и скромный. Его только местные ребятишки дразнят безустанно, а так его здесь все любят. Еще майор узнал, что Алёнка пишет письма всем модным перестроечным писателям – Распутину, например, – и объясняет им, что они делают не так, а что так…
– И так умно пишет, – шепотом делилась библиотекарь, – что ни один еще не ответил!
– Э… – сказал майор Петров.
Под монотонный рассказ библиотекаря Петров задремал. Из-за тусклого – как всегда и везде на севере, – света в библиотеке хотелось спать. Гермафродит Базукин кокетливо улыбалась. Майор Петров отложил журнал «Советский воин» с приемами самбо на предпоследней странице и подошел к гермафродиту. Выразительно щелкнул себя по горлу. Приглашение было принято.
… потом, проблевавшись после обильной пьянки, Петров, путаясь в одежде, решил все-таки сделать секс.
– Вы будете меня как даму или как джентльмена? – жеманно спросило гермафродит.
– Я буду тебя как в сраку, – угрюмо буркнул майор Петров.
Счастливое уродливое существо захихикало, и майор Петров, страдая от жажды, осуществил свои намерения. Шумели они не очень сильно, так что администратор ДК, конечно же подслушивавшая, не выгнала гермафродита из номера майора Петрова. Сам майор, спустив, отвалился и уснул. Ему снилось окно его номера. Снаружи гостиничный номер Петрова выглядел прямоугольником света, по которому скакали темные точки снежинок. Даже во сне майор Петров не понимал, что он здесь делает. Конечно, шел снег. Конечно, было темно. В Заполярье темнеет рано.
ххх
… Зимой 1989 года снег пошел с такой силой, что заваленными оказались все подъезды, и выйти из них не было никакой возможности. Через две недели, когда заносы все-таки сумели разобрать, командир части уехал в Мурманск, и вернулся месяц спустя. Он объявил, что гарнизон расформировывается дерьмократами этими сраными, и всех нас вывезут колонной. Всех военнослужащих и их семьи, а также солдат. Сначала в Мурманск, а оттуда – в военный городок под Самарой. Кто захочет, конечно. Кто не захочет, тот – кто куда. На сборы дали полтора месяца. Так что собирайте вещи, сказал полковник. Майор Петров подумал, что обойдется чемоданом. Видимо, это как-то проявилось в его взгляде, потому что полковник нехотя сказал:
Тех, кто не служит в рядах армии, переезд не касается.
Так майор Петров узнал, что он уже больше трех лет не майор Петров.
ххх
Нельзя сказать, что майор Петров не пытался каким-то образом изменить свою судьбу. Проблема была в том, что судьба была определена, и изменениям не подлежала. Как снаряд, выпущенный из орудия, наведенного рукой самого Бога, она летела по точно заданной траектории прямёхонько в цель. Поэтому Петров, пытавшийся поначалу найти понимание у командования части, а потом и гражданских властей, смирился. Государство было перед ним чисто: он ведь получил квартиру. И пенсию будет получать – заверили его в части – только выдавать ее будут в Печенге, рейсовый автобус из которой в Луостари больше не поедет…
К тому же, телодвижениям майора помешала еще смерть Машки. Она, глупая, забралась с дружками на сопку, – ребята искали острых ощущений, – и, не удержвшись, упала вниз. Хоронил Марию только майор Петров, потому что отец девчонки уехал на Большую Землю, и слуха о себе не подавал. Сил копать у Петрова не было, трактора с ковшом ему, конечно, не дали, так что майор два дня жег уголь на земле, прежде чем смог вырезать кусок земли глубиной в сорок сантиметров, и уложил туда тело. Потом прикрыл дерном – если это можно было назвать дерном, – Машку, если это можно было назвать Машкой, – и присыпал снегом. Примял, притоптал…
Сомнений в том, что труп найдут и обожрут песцы, у майора не было. Но это уже не имело значения. Когда подводная лодка идет на дно, какая разница, мертвый в ней экипаж или живой. Ведь очень скоро мертвыми станут все. Так что майор Петров спокойно проводил взглядом последние машины, вывозившие из гарнизона людей и их имущество – все остальное бросали наспех, – и стал жить дальше. Первые несколько дней он развлекался тем, что ходил по брошенным квартирам и рассматривал чужие вещи – вывозили лишь самое необходимое, – глядел на чужие фотографии, рылся в чужих шкафах, сидел на чужих креслах. При этом он представлял себя единственным выжившим после ядерной войны. Потом это перестало быть интересным.
Время шло. Животные вокруг гарнизона постепенно наглели, – а вернее, возвращались в размеренное существование до прихода нелепых приматов в форме, – то песец забредет, то следы лося появятся. Уголь постепенно заканчивался. Еды хватило до января 1990—го, который майор Петров встретил в кресле-качалке, глядя в окно, и ни о чем не думая. К февралю из еды него у него оставалось три банки тушенки, и два ящика спирта, украденных у воинской части. В один из дней в его квартиру вошли, осторожно, как по снегу, ступая, трое здоровенных парней в белых маскхалатах, и с автоматами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Парни смеялись, хлопали его по плечу, но майор Петров не шевелился.
– Крейзи факинг рашн, Горби, перестройка, – талдычили парни.
Но Петров не реагировал, глядел в окно, и они, пожав плечами, ушли. Оставили ему только пару пайков, с эрзац-соком и китайской, чересчур розовой, ветчиной.
… Удивительно, но майор Петров дотянул до лета.
Он видел, как стены неотапливаемых домов покрываются плесенью, как зайцы облюбовали плац для своих глупых заячьих забав, как песцы обосновались в подъезде в доме напротив, а на его балконе свила гнездо полярная куропатка. Часто ему представлялось, что брошенный гарнизон – это подводная лодка, опустившаяся на дно в самом глубоком месте океана, а он – капитан этой лодки. Погибший вместе с ней. Если бы майор Петров был тонкой натурой, он бы сравнил с этой лодкой всю свою страну, которой вот-вот не должно было стать. Но майор Петров был алкоголик, и он думал то, что видел. А видел он не страну. Видел он свой гарнизон. Майору казалось, что он плывет в невесомости на огромной глубине. Что лодка, которой он командовал, это его гарнизон, и что он стремительно шел ко дну, а потом ударился и, после первых содроганий столкновения, затих. И что огни лодки сначала мигали – яростно, отчаянно, как будто уцелевший в первые минуты экипаж что-то пытался передать. А потом огни погасли, задрожав, и экипаж погиб: кто задохнулся, а кто застрелился. И постепенно повсюду, как ей и полагается, просочилась вода. Которая всех со всеми помирила.
И что вот-вот к его лицу подплывет невиданная рыба, которая живет лишь на таких вот больших глубинах, и вода от ее движения всколыхнет его волосы утопленника.
Когда майор Петров понял, что это вот-вот случится, ему хватило сил встать, и надеть на себя тельняшку.
КОНЕЦ
ЗНАКОМЬСЯ, ТВОЯ ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА
От малолетки пахло гречневой кашей. А от ее сестры – сиренью. Точнее, дешевыми духами с ароматом сирени. Когда я только познакомился с этими сестричками, и пришел вечером в общежитие, и увидел на столе букет сирени, то чуть не убил соседа.
– На кой дьявол ты ее здесь поставил?! – орал я.
– Мужик, я думал так будет лучше! – вопил Колин.
Подраться мы так и не решились: уж больно сжились в одной комнате. А драка автоматически обозначала расселение. Уж комендантша бы этого случая не упустила. Разгром преступной группировки, вот как она это называла. Уж очень ей хотелось нас расселить, она считала, что мы причина бардака во всем общежитии, хотя бардак там воцарился задолго до того, как построили само здание.
– Ебля абитуриенток, тампоны в сливных отверстиях в душевой, тампоны в крови, в этой вашей омерзительной женской менструальной крови в углах коридоров, говно на кухнях, отбросы под окнами, насильственная ебля абитуриенток, крысы на первом этаже, летучие мыши – на последнем, пьянки каждую ночь – это все я, по-вашему устроил?! – орал я на комендантшу, когда она в очередной раз пыталась нас расселить.
Я-то знаю, почему она нас ненавидела, – три раза в неделю ко мне приходила подружка, Колин выходил на кухню, и подружка орала так, что жильцы соседних домов вызывали «Скорую». Думали, что в общежитии кому-то плохо. Плохо. Лучше бы они себе «Скорую» вызывали, придурки. «Доктор, я трахаюсь тихо и скучно, не могли бы вы мне помочь?» – вот что им надо было бы сказать врачу из «Скорой». А комендантша, – шестидесятилетняя сука, – просто завидовала.
– А-а-а, а-а-а, – орала девчонка, и уже с натугой, – Аа-а-а-АААА!!!
Поначалу я даже боялся, что она обгадится, но потом убедился в том, что анальное отверстие она контролирует, о, еще как контролирует.
– Эй, вы, там, прекратите! Потише! – гавкала старая сука, она подслушивала под окнами.
В ответ я только налегал, и подружка ревела еще сильнее.
– Что она ревет, как будто ей в задницу что-то сунули?! – орала комендантша.
– Ну конечно сунули, а ты как думала?! – ору я в ответ.
Но к тому времени, как меня познакомили с двумя сестрами, от одной из которых пахло гречневой кашей, а от другой – дешевой имитацией сирени, подружка перестала приходить ко мне в общагу. И это создавало определенные проблемы, вернее, одну проблему – полтора месяца я не трахался. А трахнуть кого-то в общежитии автодорожного техникума просто нереально, только если вы не педераст. Почти все жители общежития – мужики.
ххх
Сестрички жили на туристической базе «Дойна», с гостиничном номере с родителями. Их папа защищал целостность республики Молдова, вот как. Так они мне сказали, с гордостью. Он ее защитил, а вот с целостностью собственной ноги не справился, – ему ее оторвало, он наступил на мину.
– Ну и на кой хер надо было лишаться ноги из-за каких-то пидарасов? – искренне удивился я.
– Ты НИЧЕГО не понимаешь! – заявила мне старшенькая, семнадцати лет, – абсолютно НИЧЕГО! Он защищал страну.
– Да я что, я ничего, – пялился я на ее огромные сиськи, – у меня папа тоже воевал в Приднестровье. Он тоже защищал родину!
– Здорово! – восхитилась она.
– Да. Он артиллерист, он этих козлов сотнями мочил! – убежденно соврал я, и ляпнул, – идем играть в волейбол!
– Идем!
Я мысленно извинился перед папой, и отправился с ней на площадку. На Стелле были короткие, в полжопы, джинсовые шорты. На дискотеке турбазы крутили «Леди в красном». У нее была забавно оттопыренная верхняя губа. Я лизался с ней, и мечтал, что она потеребила губой по головке моего члена. Диск-жокей менял кассеты, и говорил:
– А теперь от пацанов с 3—го блока турбазы «Дойна» для пацанов из 5—го блока…
Гребанные девяностые!
ххх
Сестричек звали Стелла и Родика. Меня интересовала старшая, как вы понимаете, Стелла. Сучка не брила подмышек, таскала перед собой сиськи 5—го размера, и постоянно крутила своей жопой перед любым существом с членом. Кузнечик, кролик, стрекозел, мужчина, сенбернар, неважно. Главное, чтобы у вас был хуй. Как только она это понимала, невидимые рычажки и шестеренки в ее заднице включались в процесс, и Стелла начинала вилять бедрами. В ней был непередаваемый сельский колорит. Она была такая… как бы это… ах, да! Она была – парнАя. Еще она была блядью, без сомнения, это я сразу определил, как только ее увидел. Ведь она заинтересовалась мной. А мной интересуются только бляди и сумасшедшие.
За младшенькой, Родикой, лишенной какого-либо очарования, и представлявшей собой классический тип сельской девки, ухлестывал мой приятель. Родика была воплощение села: разве что не мычала. Что приятель в ней нашел, я до сих пор не понимаю. Но он нас и познакомил. На этом, в принципе, его роль с данной истории и заканчивается. Потому я со спокойной душой говорю:
– Пошел на хер, приятель.
ххх
Турбаза «Дойна» была полна отщепенцев. Шел 93—й год, она была заселена семьями вояк, подыхавших за Молдавию в войне у Днестра. Славные ребята, но, увы, трахнутые. Трахнутые навсегда! Когда-то, может, они и были способны на что-то, но к тому времени, как попали сюда, нет. Они могли только нажираться, орать про пролитую кровь, плакать, вопить по ночам от кошмаров, и вылавливать городских мальчонок, пришедших потрахать их славных дочурок, и бить этих неудавшихся трахарей. Одним из таких мальчонок был я.
Теперь вы понимаете, откуда этот седой волос у меня на затылке, доктор?
Да, я совсем забыл. Избивать. Вот что они еще умели, эти славные ребята. Один ветеран с поехавшей крышей мог отправить в реанимацию от пяти до восьми молодых и здоровых ребят, точно вам говорю.
Поэтому приходилось маскироваться. Первым делом я познакомился с одноногим членом, породившим на свет божий эти чудные сиськи с жопкой – Стеллу, вторым делом я подарил букет сирени (ага!) ее мамаше, третьим делом, – много звиздел про чувства и порядочность. Еще я много звиздел про то, какие козлы живут в Приднестровье, и как их надо уничтожать. Еще бы: я же хотел втереться в доверие к ее папаше. Точнее, я просто не хотел получить от него по голове. Послушали бы вы меня тогда, вы бы решили, что присутствуете на выездном заседании Народного Фронта.
– Эти проклятые козлы в Тирасполе, вы даже просто не представляете, как они меня бесят! – разглагольствовал я за чашкой чая в семействе моей кучерявой мохнатки. – Я вам, как сын военного, скажу, что их расколошматить можно за сутки! Это проклятые русские не дали нам выиграть войну! Чтоб им! Ненавижу! Мы, конечно, тоже несколько русские, я этого не скрываю, да, у меня бабушка – русская, но наша родина – Молдова! Надеюсь, мы еще им покажем!!!
К слову, бабушка у меня была самая что ни на есть колированная молдаванка, и до самой смерти так и не научилась внятно разговаривать по-русски, чем меня очень раздражала. Я выдумал ей новую национальность, чтобы придать моменту остроту. Пикантность. Щепотка, понимаете ли, перцу.
Как комедиант, как лицемер, я неподражаем. В результате этот одноногий чувак был от меня в восторге, и даже начал что-то там звиздеть про свадьбу. Срань господня, свадьбу! Мне еще и 15—и не исполнилось.
ххх
– Кусай! Кусай!
Стелла распласталась подо мной на гостиничной кровати. Родителей не было, они должны были вернуться к полуночи, сестренка пошла гулять со своим трахарем, которому еще не давала, а мы слушали сраного Криса Ри, и лизались. На Стелле были розовые лосины, и ничего больше. Она дала мне свои огромные сиськи, и сказала:
– Кусай! Давай же!
Я осторожно помял все это мясо, и начал слегка покусывать.
– Нет, не так! КУСАЙ!!!
Я решился и сжал челюсти. Давление было, скажу я вам, не меньших атмосфер, чем в пасти бультерьера. И чтобы вы думали? Сука блаженно застонала. Ага! Так она извращенка! Так ты извращенка, мать твою?! Я так обрадовался, что нанес ей серию мощных укусов прямо в огромные соски.
– Да, да, так…
Через полчаса она вся взмокла. В смысле, не только пизда. Но и все тело. Она просто вспотела. Но трахнуть себя не дала. Сейчас, вспоминая это, я смущен и задумчив. Выглядели мы, должно быть, смешно. Она, – выше меня на полголовы, и тяжелее килограммов на двадцать, семнадцати лет; я – совсем еще сраный ребенок, худой, как жертва сраного концентрационного лагеря, четырнадцати лет и десяти месяцев от роду. Зато с членом было все в порядке: она была приятно удивлена. Но не дала, нет.
– Не все сразу, не сразу, – бормотала она.
Пришлось ограничиться сиськами.
Сука кончила девять раз.
ххх
– И я попросила, чтобы они тебя не трогали!
Ладони у меня вспотели, но об майку я их не вытирал. Дурной тон, знаете ли. Только что я попробовал поднять Стеллу на руки, но, естественно (я же говорил – разница в весе) , уронил. Чтобы все это выглядело прилично, уронил я ее в кусты, и сам туда повалился. На нее. Тут-то она мне и говорит:
– Есть здесь на турбазе один пацанчик (о, блядь, как же я ненавижу ваш птичий язык!) , и я ему, кажется, нравилась, и вот раз мы с тобой, я решила, чтобы он со своими пацанчиками тебе ничего не сделал, поговорить с ним, и попросить, чтобы они тебе ничего не делали, и…
– Эй, эй, эй! Стоп. Они что-то собирались делать? – спрашиваю я ее.
– Ну, я так думаю, так же всегда бывает, когда тебе нравится какая-то девушка, а другой паца…
– То есть, – мать вашу, я призадумался, – у него, может, и в мыслях-то ничего дурного не было, а тут подходишь ты, и прямым текстом говоришь ему: надо бы моему парню врезать, да ты уж этого не делай!
– Ты что, боишься?
– Боюсь?! – заорал я с испугу. – Да клал я на него! Срал я на этого придурка! Да я таких десятками в гроб укладываю! Срал я на него и на его сраную банду!
Встав, и отряхнувшись, я увидел у самого куста его и его сраную банду.
Слава Богу, вокруг было полно взрослых.
ххх
– Идем на дискотеку! – она прихорашивалась у зеркала.
– Что-то не хочется, – я лежал на кровати.
Мы еще не потрахались. Но должны были. Родители должны были приехать на следующий день. Я был зол на нее из-за того, что эта манда нашла приключений на мою задницу, но не собирался отступаться, пока не суну ей между ног. Не собирался. День был, как назло, чудесный. Как я люблю: чуть пасмурный, с ветром. Тополя гнулись, мы отмахивались на скамейке от налетевшего песка.
– Вечером перепихнемся, – сказала она.
Я ничего не сказал, но мои яйца исполнили румбу. Вселенной не было: была скамейка, был я, Стелла, ее тягучая фраза со словом «перепихнемся» и мои яйца, мои дорогие, обожаемые яйца, мои маленький друзья – яйца, которые исполнили в невесомой Вселенной румбу, будучи подвешены к центру Вселенной – ко мне.
И до вечера мы лизались в ее комнатушке. А вот сейчас ей приспичило на дискотеку. Но пойти надо было, иначе сука бы решила, что я струсил.
Естественно, я струсил.
– Может, здесь посидим? – я попытался в последний раз.
– Хочу танцевать.
– Ну, ладно.
ххх
– Быстрее!
Мы помчались до конца аллеи. Оттуда до корпуса было рукой подать. Вдалеке слышались ругань и топот. Это неудавшийся дружок моей дорогой Стелуцы, в сопровождении десятка приятелей, стремился нас догнать. С дискотеки мы сбежали через минуту после того, как пришли. Едва я успел пригласить ее на медленный танец, она заметила что-то, и потащила меня от площадки.
– Ну, и зачем нам эти неприятности на нашу-то задницы, а?! Сидели бы в комнате!
К счастью, мы добрались до комнаты раньше, чем они. В дверь ребятишки ломиться не стали: на первом этаже сидели дежурные. Но, выйдя на балкон покурить, я увидел их стоящими внизу.
– Поссать на вас, что ли? – спросил я.
– Утром все равно выйдешь, – улыбнулся один из них, самый здоровый.
– Меня зовут Джейн Эйр. Я подумаю об этом завтра.
Закрыв дверь на балкон, я подхватил ее на руки, снова не удержал, и мы упали. До полуночи я кусал ей сиськи. Потом она решилась снять трусы, и мы поебались. Один раз я трахнул ее в подмышку. Там было столько волосни и пота, что большого отличия от мохнатки я не нашел.
К утру я чудом смылся на соседний балкон, и ушел с турбазы «Дойна» навсегда.
ххх
Но Стеллу, Стеллу я еще раз увидел. Она пришла к колледжу, когда мы, – стая банальных молодых самцов с вечно мокрыми концами, – пили пиво на скамейке и ждали результатов экзаменов. Помню, я несколько смутился, и представил ее всем, как свою двоюродную сестру.
– Познакомься, двоюродная сестра, Стелла.
– Познакомься, двоюродная…
– Познакомься…
Все шло отлично, пока я не представил ее своему брату:
– Познакомься, твоя двоюродная сестра Сте…
Из сочувствия никто не засмеялся. Мы отошли.
– Ты меня разлюбил? – спросила она.
– Да нет, что ты. Экзамены, дела.
Говорить нам было не о чем. О, это сейчас бы я говорил, говорил, говорил. Тогда опыта разговоров у меня не было. Совсем. И я, кажется, еще испытывал чувство неловкости.
– Ты меня обманываешь, – она собиралась плакать.
– Нет, просто… – тут мне стало так муторно, что я и в самом деле стал выглядеть как мученик, жертва, – я тебе соврал, и это меня мучает…
– Да? – она даже обрадовалась, о, эта вечная бабская страсть к раз-го-во-рам. – Ну и..?
– Мой отец не воевал в Приднестровье за нашу армию, он…
– Да, – трагически прошептала она. – Он воевал там ПРОТИВ Молдовы.
– Точно, – хрипло сказал я, и судорожно сглотнул, глядя в сторону.
– Но ты меня любишь? – обняла она меня.
– Да, – спокойно соврал я, уж это-то я могу сказать легко и кому угодно.
– Я поговорю с отцом! – сказала она, и засосала долгим поцелуем. – Испугал. Ты меня испугал. Негодник.
Потом я проводил ее до остановки и вернулся к колледжу. Оказалось, экзамены сданы на отлично. Вечером за мной заехал отец, и забрал меня из общежития.
– Ты служил когда-нибудь в армии? – спросил я его.
– Конечно. Два года, связистом. 20 лет назад. А что?
Я молча откинулся на сидение. Объяснять что-либо было без толку. С папашей мы общего языка не находили. Переходный, знаете ли, возраст. У него. Переходный возраст у него длится до сих пор, потому так мы и сосуществуем: без общего-то языка.
– Как ты тут, без нас? – спросил он. – Завел даму сердца?
– Нет, – я покраснел.
– Ничего, – развеселился папаша, – это дело наживное.
Мы выехали за Ворота Города и поехали к морю.
КНОПКИ КЛЕПАТЬ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ
– Кнопки клепать – сплошь удовольствие! – сказал он.
– Да иди ты? – сказал я.
– Ей богу, – сказал он.
– Берешь половинку кнопки левой рукой, другую половинку правой, – сказал он.
– Ах, вот как это делается! – сказал я.
– А как же! – сказал он. – Но это еще не всё.
– Черт побери, я думал, это очень просто, – сказал я.
– Это просто, – сказал он. – Но дай мне закончить.
– Валяй, – сказал брат.
Мы, двое тринадцатилетних подростков, стояли перед каким-то станком. Он был похож на тиски. Станок стоял в подвале трехэтажного дома молдавского олигарха. Если в 1992 году в Молдавии человека называли олигархом, это значило, что у него был трехэтажный дом с нелегальным цехом по производству одежды или носков, автомобиль «девятка» и черные очки, как у Сталлоне в фильме «Кобра».
Кстати, об очках. Я мечтал о таких. А еще о спортивном костюме, как у рэперов, хотя слушал Баха и Битлз, – но это значения не имело, потому что другой одежды тогда попросту не существовало, – и мне пора было новое подводное ружье купить вместо старого. Брату, будущему компьютерному гению этакому, не терпелось купить себе первый компьютер. Кажется, назывались такие «Синтез». Или что-то в этом роде. Не знаю, плевать. Единственная техника, которая меня интересовала – ружья и печатные машинки. Еще он хотел приличный портфель.
– О’кей парни, – сказал олигарх, показывая, как делать кнопку.
– В левой руке левая половинка, в правой правая, а теперь суем их под пресс и сжимаем его, – взяв в левую руку левую половинку, в правую – правую, и сунув их под пресс, и надавив его подбородком, сказал он.
– Бац, кнопка готова! – торжествующе сказал он.
– Замечательно, – сказал всегда вежливый брат.
– Но есть одна проблема, – он был и наблюдателен.
– Как вы вставите эту целую кнопку в рубашку?
– А, совсем забыл, – сказал наш новый босс.
– Все это нужно проделывать, держа между половинками то место рубашки, где должна появиться кнопка, – добавил он.
– Задача все усложняется и усложняется, – сказал я.
– Ну, как? – вкрадчиво спросил он. – Будете работать?
– Это не слишком тяжело? – я с детства беспокоился, как бы не надорваться.
– Нам хорошо заплатят? – с детства беспокоился об оплате брат.
– Нет, да, – ответил он нам обоим, правда, не совсем понятно, кому и что предназначалось.
Но выбора, в общем, не было. Деньги нам нужны были в любом случае. Мы торчали в Кишиневе одни, в стране сменили валюту, и наши двести рублей теперь никому и на хер не были нужны. А родители застряли где-то между Северной Кондапогой и Южным Уралом. Нам попросту нечего было жрать. К тому же олигарх был нашим дальним родственником, а это исключало возможность обмана. Молдаване ведь совсем не как эти русские, – объяснила нам мать, – они родных не обманывают. Как же так, хотел сказать я, ведь я буквально с неделю назад стащил у тебя из кошелька рублей двадцать. Но благоразумно умолчал. Пузатый и одышливый, олигарх провел нас по дому. Везде было много ненужной позолоты, сирийских шоколадных конфет и маленьких упаковок сока. Это считалось шиком. Ну, а в спальне, где над супружеской кроватью – хи-хи – возвышалась стена из пустых пивных банок разных марок, а в нее глядела стена напротив из сигаретных пачек, мы вообще должны были онеметь и пасть ниц. Что мы и сделали.
– Невероятно богатый дом, – сказал я.
– Вот бы его ограбить, чтобы не работать ни хера, – сказал я.
– Будем честно трудиться, – сказал брат.
– Куплю себе компьютер, – сказал брат.
И мы приступили к работе.
ххх
Само собой, не было никаких контрактов, выходных пособий, больничных и тому подобной херни.
– Коммунисты звездоболы, – сказал наш олигарх, ласково глядя, как мы приступаем к работе, – столько звиздели про ужасы детского труда.
– А вот он, труд! – сказал он и поднял палец.
Детский труд. Вот херня. Да нам обоим уже было по тринадцать. Ладно. Мы сели в сраном цеху с окошечком на улицу, в которое были видны ботинки прохожих, и начали работать. Берешь кусок рубашки – редкостного дерьма из псевдо-велюра – и ставишь с обеих сторон половинки кнопки. Напарник сжимает тиски, и все. Сделай так пятнадцать раз, и на рубашке появляется ряд пуговиц. Звучит просто. Выглядит так же. Правда, пуговицы такие держатся не больше десяти дней, мы сами проверяли. Они разлетаются с вашей рубахи, когда вы к ней прикоснетесь, как сухой горох из стручка. Это были псевдо-рубашки.
– Коммунисты звездоболы, – сказал наш олигарх, – столько звиздели про свои ГОСТы.
– А вот они, ваши ГОСТы, – сказал он и хлопнул себя по мясистой сраке.
Кроме пяти таких вот цехов, у него были и десять торговых точек на рынке. Точки были сродни кочующим зенитным батареям, о которых мне рассказывал дед, командовавший такой в Корее.
– У тебя расчет и свобода передвижения, – объяснил он мне.
– И хрен тебя кто нанесет на карту, – сказал он.
– Потому что ты передвигаешься, – сказал он и умер спустя пять лет.
Торговые точки родственника-олигарха передвигались, как кочующие батареи. И вот почему.
Вы покупали рубашку, приходили домой, мерили ее, и две-три пуговицы у вас слетали моментально. Вы шли на рынок к тому месту, где купили рубашку, а там – бамц, никого. О’кей. Вы возвращались домой, носили рубашку пару дней, нещадно матеря тех, кто ее сделал, – очень приятно, давайте знакомиться, – и пуговицы слетали ВСЕ. Вы шли на рынок, но… И так далее.
Это была война кооператоров с покупателями, и покупатели терпели в ней свое первое жестокое поражение.
Носки носились два дня – и протирались не только на пятках, но и на щиколотках. Майки рвались при первой же примерке. Обувь расклеивалась при намеке на дождь. Копченую рыбу делали из протухшей селедки. Старые использованные советские гандоны находили на помойках, сушили, мыли – иногда мыли, а потом сушили – складывали в новые яркие упаковки от западных гандонов и продавали как новые, по цене японских. В западных трахались сами кооператоры, и в западных постиранных и высушенных – они же. Шпроты делались из тюльки, которую работники вылавливали из городских озер, среди мусора и дерьма, эту тюльку солили, заливали крепким чаем, и варили со специями два дня. После этого она пахла, как шпроты. Этого было достаточно. Мир словно обезумел тогда. Творог был из пластмассы, одежда была из говна, все было левое, паленое, поддельное, фальшивое, ненастоящее. Гребанные звездоболы-коммунисты со своими ГОСТами и звиздежом про детский труд шли на хер.
У олигарха было две дочери. Конечно, они не работали. Младшая занималась гимнастикой, японским, английским, и играла с десятью Барби. Старшая ела шоколадные сирийские конфеты, пила сок из пакетиков и изредка заходила к нам в комнату узнать, «не нужно ли чего».
Речь, разумеется, шла о шпионаже.
**
И в самом тылу этой войны сидели мы с братом, в нашем подвальчике, в нашем маленьком персональном окопе на двоих. И клепали кнопки. В первый же день к нам подсадили подставного. Это был молоденький парень в клевых джинсах, заправленной в них рубахе и с цепочкой на запястье. Так было модно.
– Я, пацаны, – сказал он, – зашиб за два месяца работы знаете сколько?
– Сколько? – спросил я.
– Сколько в среднем за час? – спросил брат.
– На два костюма, доску для скейта, четыре посиделки в ресторане с подружкой, часы «Сейко» и два ящика баночного пива! – сказал он.
– Охренеть, – сказали мы.
– Часы «Сейко»! – сказал брат.
– Два ящика баночного пива! – сказал я.
– Вот видите! – сказал он.
Мы заработали энергичнее. Он на следующий же день куда-то пропал. Само собой, этот звиздюк и дня не проработал, а подсадили его к нам, чтобы подстегнуть в работе. Пальцы-то у него были целые. Ах, я не говорил?
Ну, помимо того, что работа эта была очень простая, она была еще и крайне травматична. Когда я сказал, что мы с братом были в самом глубоком тылу в войне с покупателями, то солгал. Мы были примерно в центре. Еще глубже в тылу были какие-то китайские п. доболы, которые делали эти самые кнопки для этих самых гребанных костюмов. Само собой, кнопки были все вразнобой. Двух под размер не найти. Поэтому их приходилось – чтобы не раскрошить прессом – сначала подгонять пальцами. Кнопки подгонялись сложно. Пальцы кровоточили. Держать расходящиеся половинки на куске ткани приходилось очень крепко, даже в момент нажатия пресса. Случалось, пресс срывал кусочек кожи. Ну и так далее. В результате нас попросили надевать на руки целлофановые кульки. Ну, чтобы кровью не пачкать ткань, а то продавцы – ребята на передовой – уже затрахались объяснять, что это расцветка такая.
В подвале, конечно, не было вентиляции. К обеду мы уже задыхались и раздевались по пояс. К вечеру работали в шортах. Все было добровольным, но нормы как-то странно сдвигались в сторону увеличения. Поэтому рабочий день длился по двенадцать часов. Гребанные коммунисты с их звездежом про детский труд шли на хер. Каждый день к обеду я, как самый малодушный в семье, говорил брату:
– Все, уматываем, хватит с меня этой херни.
– Еще немного, – говорил брат терпеливо.
– Блядь, нет сил больше, – говорил я.
– Компьютер, – напоминал брат, – подводное ружье.
– Хер с ними, – говорил я.
– Еда, – напоминал он.
Приходилось оставаться. К обеду заходил родственник-олигарх и рассказывал пару анекдотов про ОБХСС и КГБ. Он находил их – анекдоты, а не организации, – очень смешными. Называл нас своими «племяшами» – только много лет спустя я понял, что он имел в виду, а тогда думал, что это какое-то нежное молдавское слово, – и трепал по головам. Говорил, что мог бы дать нам денег просто так, – ведь мы его любимые родственники, – но безделье и легкие деньги развращают! Это верно, соглашались мы, и он уматывал.
Один раз он пришел в жопу пьяным и долго рассуждал о том, как много пьют русские.
– Мы, молдаване, пьем стаканчик вина и танцуем, – сказал он, – а эти ублюдки жрут водку, а потом рыгают.
Само собой, прозвучало это не так.
– Мэээыээээ пэыыыэ стаэээыыгээээ вээиииааа иэээ таэээнцээээм, – сказал он, – а эээ убуэээии жууууэээт вооооуэээ а паааааом рыыыыы, буэээ!
Потом его вырвало на костюмы, лежавшие горой в углу, и он уснул. Конечно, стирать мы ничего не стали. Просто просушили ткань и наклепали на нее пуговицы. Ее потом продали, как «костюмы британских войск, украденные со склада, поэтому и разводы, это для Бури в Пустыне, вы че, не понимаете ничего?!».
Еще он попросил меня позаниматься с его младшей дочкой английским. Даром.
– Ты же у нас читающий интеллигент, малыш – сказал он, сверкнув глазами.
Много позже я понял, что это была ненависть.
ххх
Через три недели этого ада мы, двое крепких парней-спортсменов, превратились в какое-то подобие развалин. У нас были синяки под глазами, мы не могли разогнуться, в боку что-то кололо, руки дрожали, а в глазах троилось. Нехреновые выдались каникулы.
– Нехреновые у нас каникулы, – сказал я брату.
– Но я, кажется, пас, – сказал я.
– Еще неделя всего, – сказал брат.
– Сколько мы там заработали? – спросил я его.
– На всё почти, что собирались купить, – ответил брат.
– Ладно, – сказал я, – еще неделя, и всё.
Мы встали, кое-как оделись и поехали на работу. Было шесть утра. Июнь. Контролерша смотрела на нас, как на притырков. Да мы ими, наверное, и были. Мы приехали, зашли в подвальчик и сели клепать кнопки.
Кровь из пальцев начала сочиться к девяти утра.
Потекла к десяти. Куски кожи посыпались к обеду.
Кости пальцев показались к трем часам дня. Спину заломило к пяти.
Закончили мы к десяти вечера, потому что нам снова увеличили выработку. При этом наш босс умудрялся каждый раз сказать нам об этом так, что виноватыми чувствовали себя почему-то мы. В десять мы, не разогнувшись, поехали домой, и в одиннадцать бросились на матрацы – мебели у нас никакой не было, – чтобы тревожно поспать до пяти утра. И снова работать. Судя по всему, думал я, на хрен пошли не только гребанные коммунисты, их ГОСТы и ОБХСС.
Весь гребанный мир шел на хер.
ххх
К концу месяца мы получили расчет.
По два доллара на каждого.
– Что это? – спросил я.
– Деньги, – смущаясь, ответил босс.
– Вот ЭТО деньги? – спросил я.
– Ты что, охерел? – спросил всегда вежливый брат.
– Свирепые – неодобрительно сказал он и добавил, – в отца…
Отец был русский, это его пугало и смущало. Отца он побаивался. Но отец был далеко. Барахтался где-то в снегу между Колымой и Восточным Уренгоем, или как там эти дыры зовутся.
– Конец тебе, – сказал я.
Ему было лет сорок, а нам по тринадцать, но это ничего не значило. Работенка на пуговках нас обессилела, но он был жирный тюфяк и звездобол, а мы – два крепких спортсмена. К тому же брат, любивший некоторые эффекты, взялся за столик. Босс понял, что нужно что-то делать.
– Ну, ребята, – смущаясь, сказал он, – давайте все посчитаем…
Мы сели с ним на диван, взяли по чашечке кофе, он достал калькулятор, какую-то бумажку, ручку и начал шаманить. Мы слышали слова «отрез, партия, поштучно, калькуляция, налоги, фактчекинг, ОБХСС» и еще много чего. Ручка мелькала. Бумажка мельтешила. Часы делились на деньги, умножались на километры. Подсчеты вводили в транс. Получалось, что мы еще неплохо заработали, ведь мы вполне могли остаться ему должны! Разумеется, он нас обманывал.
Но тогда, – когда вся страна смотрела передачу «Час фермера» с ведущей Максимовой и истово верила, что можно стать миллионером, сколотив клетку для кроликов и разводя их в ванной, или начав с будки с пирожками, – о, тогда все мы истово верили в Рыночные Отношения.
Правда, по ним получалась какая-то херня.
– Блядь, – сказал я в затруднении. – Получается какая-то херня.
– А вы как думаете, – сказал он, приобняв нас за плечи.
– Рынок только в стадии становления, – сказал он.
– Но я вас премирую, чтобы вы не думали, что вас накалывают, детки, – сказал он.
– Хотя мы вас не обманываем, – сказал он почему-то «мы», хотя был один.
– Пошли, – сказал он.
Мы пошли за ним по лабиринту цехов и наткнулись на тот, где делали носки. Это было ужасно. Чан с чем-то дымящимся, кипяток, пар. В дыму мы еле нашли двух каких-то кретинов лет одиннадцати.
– Внучатые племяши сводной сестры, – приобняв салаг за плечи, сказал босс.
– Любимые! – сказал он.
Я подумал, что примерно то же самое он говорил о нас, когда забредал с кем-то в наш цех, но промолчал. Ребята выглядели ОЧЕНЬ плохо. А у того, что поменьше, левая рука была забинтована. Он поймал взгляд и сказал:
– Кипяток.
– Ерунда, братик попысает, и все пройдет! – ласково сказал босс.
– Нас так бабуля лечила, – сказал он ласково.
Схватил из угла пачку носков, и стремительно вынес нас и их из помещения.
– Это вам! – сказал он торжественно.
– Ну а сейчас пока, – сказал он.
– Не опоздайте завтра на работу, – сказал он на прощание.
– Норма-то увеличилась, – грустно добавил он.
Домой мы ехали молча. Я поймал вопросительный взгляд брата.
– Ладно, – сказал я, – хер с ним, с ружьем, да и очки мне не очень нужны.
– Но нужен же тебе компьютер, – сказал я.
– Хер с ним, с компьютером, – сказал брат. – Но нужно же тебе ружье.
– И все же, – сказал я, – почему ТАК мало?
– Наверное, плохо работали, – сказал брат.
Я глянул на наши пальцы и покачал головой.
На следующий день мы вышли на работу.
Мы были очень упрямы.
ххх
Вопреки нашим ожиданиям, легче работать не стало.
Ну, знаете, все эти пословицы и поговорки про то, что сначала работа гнет спину тебе, а потом ты гнешь спину работе. Все это херня. И тело не привыкало. Спина болела еще больше, пальцы кровоточили еще больше, в глазах плясало ЕЩЕ больше. С выработкой происходила полная херня. Чем больше ты работал, тем меньше зарабатывал. Нормы увеличивались, станки ломались – за них, конечно же, вычитали – кнопки разлетались, покупатели проклинали, мир дрожал. Но босс был доволен. Зато гребанные коммунисты и их гребанный СССР, где запрещали работать детям, пошли на хер.
Через несколько дней к нам зашел наш босс, – продававший нам свои сраные протухшие обеды по цене ресторанных, о чем мы узнали только в день расчета, – и как раз занес поесть. Мы стали обедать прямо на горах кнопок и ткани. Не было сил выйти на улицу.
– Любчики, – сказал он, – как насчет того, чтобы еще и гладить костюмы?
– Ой вей, – сказал я, – а шо такое? Гладильщик помер?
Он состроил обиженную гримасу. Одна из отличительных его черт была в мимикрии под еврея. Причем еврея карикатурного. Он сыпал словечками «шо, я имею сказать за, ой вей, таки да, любчики, Моня, за Одессу», одевался, как карикатурный еврей с гитлеровского плаката, звиздел про свою любовь к фаршированной рыбе и «уважал Израиль». Самое удивительное же состояло в том, что в нем не было ни капли еврейской крови.
То есть, блядь, он не был евреем.
У нас работал один парень, погибавший у него на юбках, – их красили в чанах в подвале краской для пасхальных яиц, работа была адская, – который был Действительно еврей. Как-то я вышел из цеха и пошел к нему. Еврей-красильщик сидел у чана с какой-то бурой херней и грустно глядел, как она булькает.
– Какого хера он себя так ведет? – спросил я еврея.
– Кто? – спросил он.
– Наш босс, – сказал я. – Он что, еврей?
– Откуда мне знать? – сказал он. – Это же ТЫ его родственник.
– У нас блядь ни одного еврея нет в семье, – сказал я, – иначе все бы уже давно свалили в Израиль.
– Вся блядь моя семья, – сказал я. – Они И ТАК ушлее и хитрее всего мира. Если бы блядь они еще и евреи были, это же был бы полный конец всему миру.
– Ясно, – сказал он.
– Настоящие евреи что, все так себя ведут? – спросил я его.
– Как? – спросил он.
– Ой, вей, фаршмак, тырыпыры, Моня-шмоня, я имею сказать за то шо, – перечислил я.
– Нет, конечно, – засмеялся он.
– Он меня уже затрахал этими карикатурными заскоками под Бабеля, – сказал я.
– Под кого? – спросил еврей-красильщик.
– Бабеля, – сказал я.
– Что за хрен? – спросил красильщик.
– Писатель, еврей, – сказал я.
– Я не читаю книг, некогда, – сказал он и продолжил месить одежды в чане, как большой грустный носатый енот.
Говорю же, это был нормальный парень. Потом он, кстати, чудом вырвался и уехал. Я от всей души надеюсь, что его не прихлопнули эти притыркнутые сирийцы, или с кем они там постоянно воюют. Хотя надежды мало. Хорошие парни всегда попадают под самую раздачу. Я похлопал его по плечу и вернулся в свой цех. Само собой, мы взяли на себя и глажку одежды. От этого в цеху повис пар, и мы перекрикивались друг с другом, как гребанные альпинисты-спасатели в тумане где-то в Альпах.
– Работа у вас загляденье, – сказал босс, – и работа, и паровая баня.
Он не шутил.
ххх
К исходу второго месяца мы получили расчет. По десять долларов. В свой единственный выходной в то лето я поехал на рынок и купил на все деньги портфель. Когда приехал с ним домой, брата не было. Я положил портфель на его матрац и прикрыл наволочкой от подушки. Лег, и только тогда заметил, что рядом с моим матрацем лежали очки.
Как у Сталлоне в «Кобре».
ххх
– Любчики, – сказал босс, – я имею вам сказать за шкаф.
– Что? – спросил я, не видя его из-за пара.
– Шкаф, – крикнул он. – У вас нет мебели.
– Да, – крикнули мы.
– Мой друг таки Моня с улицы Ботанической-Агрономической едет в Канаду, у него там серьезный автомобильный бизнес, – крикнул он, – и оставил свои шкафы мне, ему-то не нужны, отдал даром, лишь бы вывез.
– Замечательные шкафы, ОХЕРЕННЫЕ! – сказал он.
– Высший класс, качество супер, – сказал он, – но я отдаю их вам.
– Спасибо! – растрогались мы.
– Берите, лишь бы забрали, – сказал он.
– Спасибо! – растрогались мы УЖАСНО.
– Они с антресолями, – гордо сказал он.
– Любимые любчики, племяши, – сказал он, обращаясь к какому-то херу с папкой, видимо, из налоговой полиции, – дети двоюродной сестры.
– Работают за деньги? – спросил хер с папкой.
– Нет, шо вы такое говорите, – сказал босс. – Говорю же, племяши. Помогают по хозяйству.
– Личному, домашнему хозяйству, – сказал он.
– Все для себя, для большой семьи, а не на продажу, – закончил он.
– Ни хера себе у вас хозяйство, – сказал хрен с папкой.
– Крутимся, – сказал босс.
На следующий день мы поехали к Моне, у которого в Канаде было старенькое такси, и забрали два ужасно старых, калеченных, испещренных сигаретными ожогами шкафа без доброй половины ножек.
И, конечно, антресолей на них не было.
ххх
В конце августа мы пришли за окончательным расчетом.
– Племяши, – сказал он торжественно, – сядем.
Мы сели, и он начал считать. Выходило по пять долларов. Это был полный крах. О’кей. Я сказал:
– Ну что же, хоть по пять.
– Компьютер, – сказал брат и рассмеялся.
– Ну, хоть по пять, – повторил он за мной, и мы на босса уставились выжидающе.
– Ребята, – сказал он виновато, – тут еще момент…
– Какой? – спросил я.
– Ну, вы же купили у меня шкаф, – сказал он.
Мы даже и не удивились.
– Ладно, – сказал я. – А можно мы еще и в сентябре поработаем?
– Конечно, – обрадовался он, – ведь за шкаф вы еще мне немножко должны…
– Ну, а школа? – встрепенулся он.
– Да хер с ней, со школой, – сказал я.
– На хер нужно это сраное образование? – спросил я. – Одни беды от него. Все равно в рынке главное Хватка и Опыт, так?
– Так, – сказал он.
– Ну вот, мы у вас уму-разуму и поучимся, – сказал я.
– Я пас, – сказал брат, который всегда был отличником.
– Ладно, – сказал босс.
– Ты что, трахнулся? – спросил меня брат в троллейбусе.
– Еще месяц этой херни за счет школы? Тебе так нравятся эти кнопки чертовы? – спросил он.
– Мне не нравится школа, – честно сказал я.
– Там хотя бы можно ничего не делать, – сказал брат.
– Ладно, – сказал я, – а вдруг получится заработать?
– Сумасшедший, – сказал брат.
ххх
В киоске на рынке меня ввели в курс дела.
– Значит так, – сказал босс. – Вот носки, вот майки, вот рубашки, вот колготы.
– Ценники на все прикреплены, не вздумай ставить свою цену, – сказал он, – у меня знакомые ходят, проверяют продавцов.
– Да вы что, – сказал я, прикидывая, как обмануть проверяющих.
– Я людей знаю, – сказал он убежденно, – все люди жулики, и ты такой же.
– Верно, – сказал я.
– Главное, контроль, – сказал он.
– Думаешь, я не знаю, почему ты напросился работать? – спросил он.
– Решил, что я мало вам заплатил за кнопки, и намерен кинуть меня на розничной торговле, – сказал он.
– А я все равно тебя беру, а почему? – спросил он и сам ответил. – А у меня контроль. Так что работай, все равно лишнего не получишь.
– Какие проблемы, – сказал я и добавил искренне, – мне бы вашей сметке научиться.
– Умению кидать, – пошел ва-банк я.
– Ты не дурак, – сказал он. – Тогда откровенность.
– Что урвешь тайком, твое, – дал он мне первый урок. – Но урвать получится мало и не сразу. И, чур, не попадаться. Закон торговли.
– И на хер ОБХСС, – сказал я.
– Верно, любчик, – сказал он.
И ушел. Я оглянулся. Маленький, на три квадратных метра, железный киоск. В отличие от цеха, киоск не был адом. Киоск был переносным адом. Летом он раскалялся до плюс 40, зимой леденел. Обогревать его нельзя было. Проветривать – тоже. Повернуться можно было с огромным трудом. Меня поставили торговать колготами, рубахами и носками. Лучше всего шли носки. Поэтому с носков я никакого процента не получал. О’кей. Я закурил и начал торговать. Торговал честно всю неделю, все пятнадцать часов, что надо было сидеть в киоске.
– Молодец, – сказал босс, – приучаешь контролеров к тому, что ценники не перевернуты…
На обратной стороне ценника продавец ставил свою цену, выше обычной. Если удавалось по-быстрому продать рубашку не за 10 баксов, а за 12, два бакса шли в карман тебе. Но горе тем, кого ловили со своими ценниками. Босс думал, что я приучаю контролеров к тому, что у меня все честно, и жду прекращения проверок. А потом наторгуюсь со своей наценкой всласть. Так он думал.
Но мой план был куда проще и элегантней.
В конце недели я просто взял всю наторгованную кассу – долларов пятьсот, – закрыл киоск и выбросил ключ. Бояться было нечего. Разумеется, меня не оформили на работу, меня там, попросту, не было, в этом киоске сраном. Претензии предъявлять было не к кому. А выбивать деньги силой этому говну духу бы не хватило. Ведь это был кооператор, а не бандит.
Я подумал об этом, ухмыльнулся, и ушел с рынка навсегда.
Поехал домой, принял ванную, оделся понаряднее и нацепил на себя свои замечательные темные очки. Оставил половину денег на столе.
Телефон зазвонил.
– Любчик, – сказал босс, – там какая-то недостача, мы волну…
– Ужасно, – сказал я, – но, боюсь, ничем не смогу помочь, ключ я потерял, на работу больше не выйду, а то в школе ругать будут и в угол поставят.
– А деньги я оставил все, как были, – сказал я.
– А гребанные проверки и ОБХСС идут на хер, – сказал я и спросил: – что-то еще?
– Любчик, – помолчав, сказал он, – когда вырастешь, бери меня в долю, не забывай двоюродного дядю.
Это был единственный раз, когда я почувствовал в нем что-то человеческое. Я повесил трубку и вышел из квартиры. Оставалось решить, на что потратить эту невероятную сумму. Мебель? В жопу мебель! Она у нас была. Хоть и потрепанная. Я не спеша шел к парку, и увидел большой ларек с зарешеченным окошком. Так тогда продавали все.
– Что это у вас там в углу? – спросил я продавца.
– Баночное пиво, – сказал он, не оборачиваясь. – Импортное, дорогое, мальчик…
– Весь ящик, – сказал я.
– И три бутылки шампанского, – сказал я. – И пачку «Кэмел».
Он обернулся и, постояв с минуту, молча принес мне пиво, сигареты и вино. Я заплатил и оставил еще чуть-чуть.
– Это что? – спросил он.
– Это на чай, – сказал я.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Тринадцать, – сказал я и открыл одну банку прямо у киоска, и пиво буквально меня оживило.
– Тринадцатилетний пацан берет спиртного на десять баксов, да еще и оставляет мне на чай! – сказал он.
– Теперь-то я верю, что у Рынка и капиталистических отношений есть будущее, – сказал он.
– А как же, – сказал я.
– Можно позвонить? – спросил я.
– Два лея, – сказал он.
Я дал ему десять и жестом попросил не беспокоиться насчет сдачи. Набрал на дисковом телефоне номер одноклассницы. Мы не очень тесно общались. Даже не знаю, почему ей.
– Тоня, – сказал я, – привет.
– Привет, – сказала она.
– Хочешь посидеть в парке? – спросил я. – У меня ящик пива, «Кэмел» и шампанское.
– А еще мы можем покататься на аттракционах, – сказал я.
– А домой я тебя отвезу на такси, – сказал я.
– Ну-у-у, – сказала она.
– Пиво импортное, – сказал я.
– Хол-сте-н, – неуверенно сказал я, прочитав незнакомую надпись над каким-то долбоебом в рыцарских доспехах.
– Жду тебя у колеса обозрения, – сказал я и повесил трубку.
Было очень легко. Я почувствовал – алкоголь это то, что надо.
Оставил банку пива продавцу, рассовал оставшиеся по карманам, взял бутылки и пошел в парк. У аттракционов по верхушкам деревьев скакали, словно большие электрические блохи, лампочки гирлянд. Я открыл еще пива и подумал, что оно быстро заканчивается. И что к ларьку придется вернуться не раз.
Вечер только начинался.
ЦЕЛЬСЯ ЛУЧШЕ
– Целься лучше, – сказал он и поправил мне локоть.
Мы лежали в болотном раю. Не будь я занят, я бы непременно оглянулся, чтобы восхищенно присвистнуть. Это было красивое место. Заброшенное стрельбище, на котором еще немцы расстреливали белорусских партизан, а потом белорусские партизаны расстреливали немцев. А потом оставшихся расстрелял НКВД, а уж тех – МГБ, а оставшихся подчистили из КГБ, ну и так далее. Тем не менее там было очень красиво. Заброшенная поляна посреди красивейшего леса. Настоящего северного леса, а не той чепухи, которую в странах поюжнее выдают за лес. Поляну окружали настоящие огромные ели. Они действительно смыкались где-то там, наверху. Неподалеку было несколько огромных полян, покрытых ковром голубики, ежевики и всякой другой сраной ягоды, которая у них там растет, и ее можно собирать тоннами. На нашей поляне – давно выровненной, но лет пятьдесят приходившей в негодность – кое-где были бугорки земли. До сих пор надеюсь, что не могилы. Но уверенности нет. Итак, бугорки. Я лежал на одном из них, на подстеленной плащ-палатке. В руках у меня была винтовка ТОЗ.
– ТОЗ? – спросил я, когда только увидел ее.
– ТОЗ, – сказал он. И расшифровал: – Тульский оружейный завод.
– Можно называть ее тозовка? – спросил я его.
– Называй как угодно, – ответил он, – научись только ей пользоваться.
И, подумав, добавил:
– Можешь распространить этот принцип на все в жизни.
Ладно. Я распространил. Винтовка была удивительно красивой и даже какой-то… стройной. Я все смотрел и смотрел на нее и ждал выходных, когда мы сможем отправиться на заброшенное стрельбище, чтобы научиться стрелять. Конечно, научиться стрелять из винтовки. Из пистолета Макарова я уже неплохо стрелял. И даже «калашниковым» пользовался недурно, хоть он и был еще тяжеловат для меня. Но, когда отец брал меня на стрельбище, я стрелял лучше любого новичка. Ну или новобранца, как они их там в армии называют. Тем не менее «калашников» я не любил, он был еще слишком тяжелый, и я иногда обжигал руки, забывая, что за металлическую часть браться нельзя. Да и в стрельбе очередями было что-то нечестное.
Зато мелкокалиберная винтовка была идеальным оружием для меня, десятилетнего пацана.
Я вздохнул, медленно выдохнул и сосредоточился на мишени. Металлическая коробка от патронов. Грязно-зеленая, как и все в армии. От снарядов и ящиков, из которых нам при переездах вечно сколачивали столы и стулья и в которых мы с братом, будучи поменьше, прятались, – до формы. Само собой, это неспроста было. Таким цветом мы должны были обмануть силы противника.
– Дьявол! – сказал я, промазав.
– Повтори и будь внимательнее, – сказал отец.
– И не ругайся, – добавил он, – это не прицелит лучше.
Мы были спокойны. В обычных условиях за ругань полагалось наказание. В трех случаях ругаться было можно. Если у тебя сорвалась рыба – а она иногда срывается; если очень больно – и в больнице, куда меня привезли с ожогами лица, которые я получил, бросив в печку полкило артиллерийского пороха, я поразил словарным запасом весь медицинский персонал; и если ты промахнулся – а я сейчас промахнулся.
– Целься лучше, – сказал отец.
И поправил мне локоть. Я вдохнул и выдохнул несколько раз и прицелился невероятно точно. Но этого было мало. Мало прицелиться. Я стал внимательно глядеть на мишень, на эту коробку железную. И вот постепенно Оно пришло. Все вокруг, что мы замечаем своим не всегда нужным в такие моменты боковым зрением, расплылось. И перестало быть. Все вокруг потемнело. Как в подзорной трубе. Темнота, кусочек света, а в нем – как на блюдце – коробка от патронов грязно-зеленого цвета.
– Получилось? – донесся голос отца.
Донесся, потому что во время этого пропадают и звуки. Ладно. Если бы я мог, я бы кивнул. Но я не мог. Тело было расслабленным, но собранным. Это удивительно, но это действительно так. Когда я стал постарше и отдал обычную дань перестроечного пацана увлечению карате, мне все про это объяснил тренер. Ну или сэнсэй, как они сами себя называли, придурки чертовы. Он сказал мне, что в наивысший момент расслабления и приходит невероятная концентрация. Еще он много чего сказал, я, честно говоря, не запомнил. Было что-то про «дао», «ши», «чи» и тому подобную чушь. Отец отнесся к этому, как и к любому тайному Знанию, с юмором.
Наконец я словно нехотя – но палец шел ровно, – спустил курок.
– Звяк, – сказала мишень.
– Бам, – сказал, довольный, я, потому что уже видел, что попал, и как.
Мы отложили ружье, встали и пошли к коробке.
Отверстие было ровно посередине. Папаша подбросил ее в руке. Странное чувство, сказал я ему. Какое, спросил он. Мне словно хотелось уснуть, после того, как я спустил курок, и волнения не было. Это потому, что ты знал, что попал, сказал он. Вернее, уже знал, что попадешь. Точно, сказал я.
После того, как пропало все, кроме мишени, я уже знал, что все равно попаду. Так что дальнейшее могло быть, а могло и не быть. Это как знать, что ты все равно побьешь соперника, и уже не волноваться. Здорово. Мне понравилось.
Вот видишь, сынок, сказал он мне.
Главное – это прицелиться.
Сапоги у него были огромными.
Как-то я даже ночью специально встал, прокрался по коридору той коммуналки, где селили офицеров, еще не получивших жилья, к месту, где стояли сапоги – сапоги были у всех, но у моего отца были самые большие, потому что он был самым крепким, широким и сильным, – чтобы их померить. Лет, кажется, в семь. Я попробовал надеть их. Ничего не получалось. Я пыхтел, сопел, но сапог доставал мне до бедра и мешал ходить. Разве что сунуть в один сапог две ноги? Но тогда все это теряло смысл. Ладно. Я с сожалением отложил эти начищенные до блеска – он их драил сам, даже нас не просил – великолепные сапоги и побрел в комнатку, где мы спали с братом, а за ширмой – родители. Но, конечно, спросонья ошибся. И долго с недоумением глядел на какой-то голый зад, раскачивавшийся прямо передо мной. Потом над задом наклонилась голова. Это была наша соседка, молодая жена какого-то лейтенанта. Она, как я понимаю теперь, спала голой, встала попить водички ночью, тут в комнату и завалился я.
– Мальчик, ты что, подглядываешь за тетеньками?! – взвизгнула она.
Я испуганно молчал. Меня испугала даже не перспектива скандала. Меня подавила ее задница. Огромная голая женская задница, которую я видел так близко впервые в жизни. Если бы я хоть что-то понимал в этой жизни, то открыл бы тогда шампанское. Но вина не было. Был зад и визгливая голова над ним.
– А-а-а-а! – истошно заорал зад.
Я шмыгнул из комнаты, бросился в нашу и скрутился под одеялом рядом с братом. Тот, счастливец, даже не проснулся. Но замять дело не получалось. Задница поорала, включила свет, проснулась вся коммуналка, в том числе и родители. И я был с позором поставлен на табуретку на всеобщее обозрение.
– Ты просыпаешься по ночам, чтобы подглядывать за тетями, – горько сказала мать.
– Нет, – сказал я.
– Смотри мне в глаза, – сказала она.
– Смотрю, – сказал я и стал делать так, чтобы зрачки задрожали, тогда ты ничего не видишь, хотя вроде смотришь в упор.
– Ты подглядываешь за голыми тетями, – сказала она.
– Да нет же, – сказал я.
И получил пощечину.
– Какой позор, – сказала она.
– Я не думаю, что у мальчишки в мыслях такое было, – сказал отец.
– Может, во сне заплутал, а тут эта голая… бегает, – сказал он.
– Кстати, чего это она голая бегает? – спросил он.
Мать посмотрела на него неодобрительно. Отец снял меня с табуретки и велел ложиться спать. Брат так и не проснулся.
В следующем месяце мы переехали в какую-то дыру, которая была в сто раз дыристее той дыры, в которой мы жили раньше. Из дыры в дыру. Так было принято. Дыры назывались гарнизонами. Этот располагался где-то между южной и северной широтой, о которых я и понятия не имел, знаю только, что до Китая было рукой подать, зимой столбик термометра опускался до минус сорока, а летом поднимался до плюс сорока. Там текла какая-то река, которая называлась… – о-о! я наконец-то забыл ее! слава тебе, Господи, – а местные жители были помесью аборигенов и ссыльных каторжан. Их называли гураны.
Они пили водку, совокуплялись и убивали друг друга за щепотку соли.
Как же называлась эта дыра? А, вспомнил. Забайкалье! Да и название реки я вспомнил. Шилка. Это название – как и список всех этих дыр несчастных – будет преследовать меня на смертном одре.
Конечно, нас не ждали.
Конечно, для нас не было жилья, хотя правительство посылало нас в эту дыру еще с полгода назад. Неужели за полгода – коль скоро вы решили послать куда-то офицера с его семьей – нельзя было приготовить хотя бы угол несчастный? Но нас не ждали. НИКОГДА.
Первые четыре дня мы жили в местном клубе офицеров, прямо в холле. Нам с братом дали по креслу – нет, не раскладному, обычные кресла, если свернуться, можно спать, только ноги затекают и болят, – а родители спали по очереди на половинке дивана, которая в клубе этом была вроде как диван. При этом отец ходил на службу.
– Неужели ты не можешь ничего сделать? – спросила на пятый день мать.
– Что я могу сделать? – спросил он, надевая свои огромные сапоги.
– Помогите-ка с ремешками, – попросил он нас, подмигнув.
Мы с братом занялись любимым делом: поправлять и протягивать ремешки всей этой кожаной сбруи, которая его обвивала, как жалкие сраные лианы – могучее дерево. Папаша был огромен. У него и сейчас рука как три моих, а я ведь уже лет пять как прописался в зале. А тогда… Тогда он был просто человек-гора. Мы поправили ремешки человеку-горе, и тот потрепал нас по головам. Мы были счастливы.
– Что, трудновато? – спросил он нас.
– Нет, нет! – сказали мы, глядя на него с обожанием, до слез обожанием, лишь бы не выглядеть нытиками в глазах этого человека.
Неудобства… Да мы бы под поезд оба кинулись, если бы он подмигнул и попросил. Мы бы в пропасть прыгнули, чтобы ему понравиться.
– Ничего, – сказал он, – обустроимся, постреляем…
На следующий день он взял хорошее немецкое ружье – охотничье, еще дедом купленное – и пошел к штабу. Встал возле него и стал стрелять в ворон, или кто у них там, в Забайкалье этом, за крыс играет в воздухе.
– Ты что делаешь? – спросил какой-то чудак из штаба.
– Стреляю ворон, – ответил папаша и выстрелил прямо у чудака над головой.
Все могло бы закончиться для отца плохо, но сверху и в самом деле упала ворона.
Назавтра нам выделили комнату.
– Скажешь ей: эй, тетя, глядите, вот ваша писька! – сказал мне брат.
– А потом? – спросил я.
– А потом суп с котом, – сурово ответил он.
– Потом деру даем, и все, – объяснил он.
– Значит, тетя, вот ваша писька? – спросил я.
– Тетя, вот ваша писька, – подтвердил он.
– Ладно, – сказал я.
И с сомнением поглядел на рисунок на снегу. Кружок, разделенный палочкой. Разве так должна выглядеть писька у тети? Впрочем, неважно. Нас окружала малолетняя братва – человек десять – от четырех до семи лет. Брат был чем-то вроде мозгового центра этой шайки. Мы делали все, что только нельзя было делать, но брат всегда выходил сухим из воды. Рубашка у него была чистая, сам он невозмутим, и манеры у него – аристократические. Никто и заподозрить не мог, что именно этот ангелочек разрабатывал план ограбления военного склада, а ведь оно удалось! Обманув часовых, мы по братовой схеме украли больше ста противогазов, которые носил весь гарнизон. Именно брат подбил нас на то, чтобы насобирать немецких патронов на старых стрельбищах и попробовать стрелять ими из игрушечных пушек, причем все сработало – после чего в гарнизоне с полчаса стояла стрельба, никто не погиб чудом, а какой-то политрук даже обгадился от страха в буквальном смысле.
И это были не самые яркие подвиги моего брата.
Но доставалось всегда нам.
– Итак, – сказал братишка бархатным голосом британского джентльмена.
– Ладно, – сказал я.
Все сыпанули в подъезд. Я дождался, пока мимо пройдет какая-то тетка из магазина для военных – кажется, «Военторга», – и крикнул:
– Тетя, вот твоя писька!
И бросился наутек. Позже брат сказал мне, что я не совсем верно следовал тексту. И что «тыкать» взрослым нехорошо. Надо было крикнуть: ВАША, – укоризненно сказал он. Что за манеры, качал он головой. Но то позже. В тот момент я смывался. Но, конечно, запутался в зимней одежде и упал. Тут она меня и настигла.
– Я ужасно беспокоюсь, – нервно сказала мать, когда скандал был уже позади.
– Сейчас… и тот случай в коммуналке, – сказала она, кусая губы.
– Мальчик идет по плохому пути! – сказала она.
– Это как? – спросил отец, посмеиваясь.
– Он слишком… чувственный, – сказала она.
– А? – спросил он.
– Он… озабоченный, – сказала она шепотом.
– Это я виновата, – сказала она.
– Брала его в женскую баню до трех лет, – сказала она, – вспоминаю теперь, какими глазами он на них на всех смотрел и как они жаловались все, что он их ест глазами.
– А я думала, что это глупости, маленький ведь…
– Какими глазами? – спросил я.
– В какую баню? – спросил брат.
– Замолчите оба, – сказала мать. – Ступайте в свою комнату.
– Успокойся, – сказал отец.
– У пацана ничего дурного в мыслях нет, – добавил он.
– Пообещай мне больше так не делать, и все, забудем это, – сказал он.
Я пообещал. Как всегда, когда дело касалось его, я выполнил обещание. И больше ни разу в жизни не рисовал на земле кружок с палочкой и не бросался наутек, крикнув «тетя, вот ваша писька».
По крайней мере, держусь вот уже тридцать лет.
В Забайкалье он стал учить нас ловить рыбу и стрелять.
Я навсегда запомнил огромные косяки рыб, которые в этой сраной реке – нет, все-таки вспомнил, Шилка – клевали на голую загнутую ложку. Безо всякой наживки. А, чтоб ее. Мы просто бросали в воду леску с этой загнутой ложкой, и рыба клевала! Мы с братом хохотали. Настроение было отличным, мы как раз освоили пистолет, и это было удивительно. Брат, правда, предпочитал сложные механизмы. Все просил отца научить его стрелять в танке или из гаубицы. Папаша обещал со временем подумать. Я же любил ружья и пистолеты. Ружье, оно как изысканное блюдо, которое приготовил ты сам. Смерть у тебя на кончике пальца. Танки, ракеты, вся эта громоздкая чушь– все это оставляло впечатление чего-то бездушного и пластмассового. Как поесть в столовке.
А ружье или винтовка, желательно еще с оптическим прицелом, – это персональный заказ.
Но до ружья еще дожить надо было, начали-то мы с пистолета. Мы как раз обсуждали это с братом, как к мужику, сидевшему неподалеку от нас, подошел другой мужик. Мы и глазом не повели. Туземцы занюханные.
– Ну че, Анюха, – сказал один мужик.
– А че, Кирюха, – сказал другой.
– Я те сказал че если че пристрелю? – спросил Кирюха.
– Ну сказал че ж не сказал а че, – сказал Анюха.
После чего они быстро схватились за ружья – там все ходили вооруженные, – но повезло больше Анюхе. Или Кирюхе. Я так и не разобрался. В общем, мужик, которому не повезло, упал в речку и ушел на дно очень быстро. Головой вниз. Блям, и все. Кровищи не было, ничего не было. Блям.
Я глянул вбок. Отец уже был на ногах, и с ружьем, которым целил в Кирюху. Ну или Анюху.
– А че-че, ты-то че? – сказал тот.
Палец отца шевельнулся. Сам отец молчал, поговорить он никогда не любил, но все было и так понятно. Кирюха опустил ружье на землю.
– Уматывай, – сказал отец.
– В лес или сдаваться? – спросил Кирюха.
– Как угодно, – пожал плечами отец.
– Тогда я в лес, – сказал Анюха.
– Велкам, – сказал отец.
Много позже я узнал, что он когда-то неплохо говорил по-английски. Тогда подумал, что ругается. Удивительно, но Кирюха его понял. А может, он тоже изучал язык Шекспира?
– Мне эт ружье тогда бы, – сказал Анюха.
– Тогда сдаваться, – сказал отец.
– Тогда без ружья, – сказал Анюха. И спросил: – А не пристрелишь?
– На кой мне твоя туша, туземец, – брезгливо сказал отец.
Туземец вроде как обиделся, но ушел. Сначала пятился, потом повернулся и пошел быстрым шагом. Я перевел дух и глянул на отца. Тот подмигнул и столкнул ружье туземцев в воду. Оно ушло туда так же быстро, как убитый. Бульк. Мы закончили с рыбалкой и пошли домой.
В барак для царских каторжных, куда по ночам иногда заглядывали сбившиеся с пути беглые зэки и где у каждого под постелью было ружье.
Мы лежали с братом под одеялом, засыпали, и я вспоминал глаза того мужчины, которого убили. Вернее, пытался. Но не мог. И еще много лет не смог.
Родители говорили.
– Я очень устала, – сказала мать, – очень-очень.
– Я знаю, – сказал отец.
– Я что-то сделаю, – сказал он.
Но, конечно, ничего не сделал.
Мы жили там еще довольно долго. Потом отца перевели в Белоруссию.
Там я получил, наконец, винтовку.
Однажды он разбудил меня, очень рано.
Мы взяли не ружье, а винтовку и пошли к лесу. Километров пятнадцать шли, и уже светало, когда он остановил меня. Показал пальцем вверх. Над деревьями кружились птицы. Он кивнул. Я поднял винтовку.
– Выбирай любую, – сказал он.
Я подумал, это вроде как экзамен. Из ружья попасть в птицу легко, потому что там дробь, и, попади ты рядом, ничего не изменится. Птицу все равно заденет, и она будет подстрелена. Винтовка – совсем другое дело. Я вскинул ее и прицелился. Птиц было много. Я сменил цель и стал водить новую. Постепенно пропало все, кроме этих точек в небе. Я почувствовал, что птица на крючке – БУКВАЛЬНО. Между ней и мной словно леска. Куда бы она ни поворачивала, ствол смотрел туда даже чуть раньше ее. Она была в моей власти. Так было долго.
– Опускай, – сказал отец.
Бессмысленной жестокости он не любил. В осмысленной был мастер. Мы пошли обратно. Я ни о чем не спрашивал, мне все было понятно.
На кончике дула была смерть, и я ей водил.
Моя рука была рукой смерти.
Все было в моей власти.
Когда мне исполнилось двенадцать, все неожиданно прекратилось.
– Ружье, – сказал брат чуть грустно.
– Что? – спросил я, переодеваясь на тренировку.
– Его нет, – сказал брат.
Я не поверил. Полез на шкаф. Ружья и правда не было. Не было и патронов. Обоймы от «макарова» не было в шкафу. Не было «макарова». Ничего не было. Спросить, что происходит, было не у кого. Отца послали в очередную дырку, где он задержался на полтора года, и необычного в этой дыре было лишь то, что в нее не разрешали ехать с семьей. Называлась она Чернобыль. Он приезжал домой два раза, но почему-то на ночь, и мы гадали, какого хрена он нас не разбудил.
– Какого ДЬЯВОЛА?! – спросил я.
– Не ругайся, – попросил брат.
Он был прав. Рыба не сорвалась, не было больно, и я не промазал. У нас просто исчезло все оружие. Но я решил, что раз с нами обошлись против правил, то и я могу правила нарушить. Так что я матернулся. Когда вернулась мать, то ничего внятного сказать не могла.
– Постреляйте в тире, – неуверенно предложила она.
В тире?! Советском тире с кривыми дулами, дальностью стрельбы пять метров и пластилиновыми пулями? Мы лишь посмеялись. Но на душе у меня кошки скребли. Я все ждал отца. Но когда он вернулся, то на эту тему разговаривать не желал. Я спросил: ПОЧЕМУ? Он промолчал, и я понял, что это мы уже никогда не обсудим. Ладно.
Мы были рады, что хотя бы вернулся нормальным. Вертолетчик из квартиры сверху приехал не на своих двоих – его привезли, потому что кости у него размягчились и волосы выпали. Он все орал, а потом умер. Папашу пронесло.
В романах пишут: «время шло». Не стану оригинальничать.
Время, чтоб его, шло.
Я понемногу терял навыки, но стрелял все равно неплохо.
С отцом мы уже никогда не были близки так, как раньше. Между нами было кое-что недоговоренное, а я ужасно не люблю, когда недоговаривают. В тринадцать я его не видел, потому что его послали на Север, а мы остались в Молдавии. Он приехал лишь на пару дней. Когда узнал, что я сдал документы в военный колледж. Молдавия уже была независимой. Я прошел все их несчастные экзамены, подтянулся тридцать раз против нужных десяти и получил лучший результат по стрельбе. Я просто был связан с мишенями и вел пули, словно пальцем, от одной к другой, от одной к другой. Когда я повернулся к этим мудакам, глаза у меня горели, как у Фенимора Купера. Если бы я мог, я бы оперся на ружье.
– Недурно, – сказали они.
– Да я и без вас знаю, – сказал я.
Они смотрели на меня, растерянные. А я вспомнил наконец, какие глаза были у того несчастного дурачка, который упал головой в ледяную Шилку, получив заряд в грудь. И постиг все скорби мира.
– Я без вас все знаю, ТУЗЕМЦЫ ЧЕРТОВЫ, – сказал я им.
– Не слишком ли ты борзый для тринадцатилетнего сопляка? – спросили они.
– Дайте мне только оружие, а с остальным я сам разберусь, – сказал я группке этих напуганных, туповатых и миролюбивых людей.
– Оружие, а уж там я, к дьяволу, выиграю для вас все войны мира, – сказал я.
Они скривились, но решили принимать. Уж больно вступительные тесты были хороши. Видимо, рассчитывали пообломать. Может, у них и получилось бы. Но приехал отец. И без разговоров забрал документы.
– В чем дело? – спросил я.
– Армия отменяется, – сказал он. – Тем более молдавская.
– Считай, что папа и дедушка отслужили за всех, – сказал он.
– Почему? – спросил я. – Снова недоговариваешь…
– Ладно, на этот раз объясню, – сказал он.
– Ты крайний индивидуалист, – пояснил он, – и армия тебя погубит.
– Или ты погубишь ее, – добавил он.
И снова уехал. Ладно.
Значит, в тринадцать я не стал молдавским военным.
В пятнадцать я ненавидел весь мир и не понимал, почему должен делать исключение и для отца.
В шестнадцать я был впервые влюблен, мне было не до него.
В восемнадцать мне показалось, что я нашел свое место в жизни, и меня занимало только это.
В двадцать я, выпив две бутылки коньяка с братом – из которых полторы пришлось на меня, ведь брат так и остался человеком с повадками джентльмена, – узнал, в чем же, собственно, дело.
– В гарнизоне какой-то пацан взял ружье со шкафа, решил почистить, и бац, полголовы снесло, – сказал он.
– Ну, они и перепугались, – сказал он. – Убрали все, что может стрелять. И велели тебе про это не говорить.
– Мне? – сказал я горько. – Неужели он думал, что я поступлю так глупо? Как идиот? Почищу ружье и пальну себе в башку?!
– Они испугались, – сказал виновато брат.
– О, черт, – сказал я. – Они меня сломали этим, понимаешь, сломали…
– Да что там они, это ОН, он меня сломал, – сказал я.
– Тебя ли? – спросил брат.
Я вспомнил глаза отца с определенных пор и заткнулся.
Когда я уже заканчивал университет, он меня навестил.
Позвонил, стоя у подъезда – наверх подниматься не захотел, – и ждал, пока я спущусь. От меня пахло вином и чем-то вроде духов, в квартире, как обычно, было весело. Но он не беспокоился на этот счет, я уже был знаком со своей будущей женой, а ей он доверял. Я вышел и глазам своим не поверил. На нем не было сапог. И вообще формы.
Он стоял в свитере, брюках и начищенных до блеска, но все-таки туфлях.
– Так-так, – сказал я.
– Вот, – сказал он, – документы получил, на пенсии.
– Поднимешься? – спросил я.
– Нет, – сказал он. – Небось, девки, выпивка.
– А как же, – сказал я. – Поднимешься?
– Ну, девки никак, – сказал он. – Хватит в семье и одного озабоченного.
– Ну, а все остальное? – спросил я.
– Нет, – сказал он.
– Почему? – спросил я.
– Завтра на рыбалку, хочу выспаться, – сказал он.
Мы помолчали. Туфли на нем выглядели странно.
– Что делать теперь будешь? – спросил я.
– Ты что, не слышал? – спросил он.
– Поеду на рыбалку, – сказал он.
– А потом? – спросил я.
– А потом вернусь с рыбалки, – сказал он.
– Вот, зашел посмотреть, цел ли, жив ли, – сказал он.
– Ну и как? – спросил я.
– Жив, цел, – сказал он.
– Да что со мной случится? – сказал я.
– Ладно, – сказал он. – Иду.
– Заходи, – сказал я.
– Держи хвост пистолетом, – сказал он.
– А как же, держу, – сказал я и наставил на него два пальца, как будто прицелился.
– Целься лучше, – конечно, сказал он.
– Пиф-паф, – сказал я.
Хотел еще что-то сказать.
Но он уже уходил.
ЗАТО МЕНЯ НАПЕЧАТАЛИ В КОНТИНЕНТЕ
… Семь… восемь… На девятом звонке я не выдержал и поднял трубку. Я всегда не выдерживаю на девятом звонке.
– Лоринков? – поинтересовался старый мужской голос.
– Ну, – недружелюбно ответил я.
– Это Киреев, – старик помолчал, дав почувствовать всю значимость своей фамилии. – Роман Киреев. Журнал «Континент». Мы берем ваш рассказ.
– Рассказ? – не понял я. – Какой рассказ? Я никуда не посылал…
– Вы участвовали в литературном конкурсе «Надежда России»?
– А-а-а… – ситуация начала проясняться.
Я чувствовал, что надоедаю старику с каждой секундой.
Это было тем более странно, что беседовали мы не больше тридцати секунд.
– Ну, так вот, они передали нам ваш рассказ, и мы его берем. В этом году не обещаю, но в первом номере следующего, думаю, мы ваш рассказ опубликуем.
Я взглянул за окно. Туман. Октябрь. До конца года еще пару месяцев.
– Так какого хрена вы мне звоните сейчас?
– Я просто предупредил. И еще, Лоринков. Я меняю название.
– Название?
– Да, черт побери, название! Вы что там, спите еще?
– Простите. И как же вы его меняете?
– Очень просто: убираю старое и ставлю новое.
– А, вы о заголовке?
– Вы что, работаете в газете?
– Да, я работаю в газете.
– Хорошо, я говорю о заголовке, то есть названии! Я его меняю.
– Меняйте, бога ради.
– Я хочу назвать рассказ «Дом с двумя куполами».
– Почему? – просто из вежливости поинтересовался я.
Старикашка вздохнул с облегчением. Ему казалось подозрительным то, что меня вовсе не волновала замена названия. Молодые авторы должны волноваться, когда им звонит из Москвы сотрудник журнала «Континент», Роман Тимофеевич Киреев, и говорит, что их рассказы выйдут через сотню с лишним лет. Теперь ему начало казаться, что я этим взволнован. Это было ему привычно.
– Меняю потому, что ваше, первое название – претензециозное.
– Да нет, не почему меняете, а почему «Дом с двумя куполами»?
– У вас в тексте есть упоминание о доме с двумя куполами.
– Разве?
– Послушайте, Лоринков, это что, не ваш рассказ?
– То есть?
– Вы его писали?! – заорал старикан Киреев. Роман Киреев.
– Я его писал! – заорал с перепуга я.
– Так какого… Впрочем, ладно. В рассказе идет речь о доме с двумя куполами, поэтому я решил назвать его «Дом с двумя куполами». Рассказ „Дом с двумя куполами» выйдет в нашем журнале в начале следующего года. Рассказ „Дом с двумя куполами». В журнале «Континент»…
– Где работаете вы – Роман Тимофеевич Киреев, – заключил я.
– Точно, – самодовольно согласился старик. – И еще. Можно на «ты». Мне всего двадцать три года.
Я положил трубку и пошел в ванную, где принял душ. Побрился, не глядя в зеркало. Потом все-таки взглянул. Я выглядел хорошо. Как всегда, если не пью хотя бы два дня.
ххх
– Остановите у издательства, – попросил я водителя маршрутного такси.
Тот притормозил. Перед тем, как открыть дверь, я наклонился, чтобы поправить джинсы, а на самом деле – поднять с пола пятидесятибаневую монетку. Хуй там – она была приклеена к полу. Специально.
– Ты уже пятый с утра, мужик, – сказал маршруточник. – Уже пятый.
Я хлопнул дверью. Он захохотал и уехал. Туман не рассеивался. Я побежал трусцой в здание издательства. На пресс-конференцию и семинар для журналистов. «Экология Днестра». Что за херня?! Я рассчитывал, что пробуду там пятнадцать – двадцать минут. Планы изменились: у входа меня встретила телка в красном платье, с маленькой грудью, но толстыми, такими, как я люблю, ляжками.
– Лоринков? Здравствуйте! Возьмите! – она протянула мне папку, два блокнота и две ручки.
Какого хрена. Я не побираюсь. Но отказать было невозможно. Она волновалась, и на шее у нее кучерявились волосики. Она была истеричкой, – я сразу понял.
– Идемте покурим? – предложил я.
– Нет, что вы, – она почему-то испугалась.
– Ну, все-таки?
Мы покурили на лестнице, где она рассказала мне, что у нее есть друг, который запрещает ей курить. Он тоже здесь работает. Как только на лестнице слышны были чьи-то шаги, она металась вокруг меня, как танцующий у жертвенного столба ирокез. Пару раз она задела меня своими небольшими сиськами. Лучше бы уж ляжками, такими, как я люблю. Друг оказался маленьким мудаком в кожаной куртке. Он слушал продвинутую музыку, получал деньги от ОБСЕ за то, что проводил долбанные семинары на тему «Экология Днестра» или «Пизда молдавской женщины как объект эксплуатации албанскими содержателями борделей: методы и пути решения проблемы». Он был настолько слеп, что не видел, как я хочу отъебать его истеричную, то и дело краснеющую по поводу и без повода подружку.
Семинар было запланировано проводить до шести часов вечера. С перерывом на обед и брэйк-кофе…
ххх
– … а вы чем занимаетесь?
– Да будь ты проще, – заплетающимся языком сказал я, – проще… На «ты». Со мной все на «ты». Даже Киреев. Знаешь такого?
– Нет, – истеричка в красном платье глядела на меня испуганно и держала бутылку пива в руках так неумело, как девственница – хуй.
Мы сидели в убогой пиццерии в центре города. Я сожрал уже четыре пиццы и изнемогал от предчувствия того, что мой живот сейчас разорвется. После окончания семинара, когда от отупляющего сидения в актовом зале все едва с ума не сошли, я спер ее у дружка в кожаной куртке. Тот так и не понял, наверное, как все это случилось. Он просто пошел закрывать свой кабинет, а я взял ее и притащил сюда.
– Это издатель. Хозяин крупнейшего в Москве издательства. Они покупают у меня книгу. Я сказал – книгу? Нет. Книги. Много книг. Все сразу. Я же писатель. Гениальный писатель. Хочешь еще пива?
Она замотала головой, так, что волосы растрепались.
– Нет, нет! Мне хватит!
– Что, напилась уже?
– Ой, нет, что ты!
Блинная. Кажется, уже блинная. Я сожрал там еще блинов, и мы пили четвертую бутылку шампанского. Открывал я, – официантка призналась, что ей этого делать не доводилось. Чего еще тебе не доводилось делать, детка, – хотел я спросить ее, но не мог. Я был занят истеричкой. Она взмахнула рукой, когда рассказывала мне о своей школе, и опрокинула бокал с шампанским. Скатерть намокла. Официантка косилась.
– Где ты живешь? – спросил я.
– Недалеко.
– Я провожу.
Шли мы долго. Около часа. Пришлось взять ее под руку и тащить, потому что она напилась. Наконец, мы зашли в ее подъезд и поднялись в квартиру. Она думала, что я уйду. Как бы не так. Я раздел ее до трусов, и положил на диван. Пошел в ванную. Когда вернулся, она еще не спала. Она была явно обижена на меня за столь бестактное поведение. Я лег рядом.
– Хочешь, поебемся? – спросил я ее.
– Нет, – сказала она.
Ночью мы поебались.
ххх
… капустный лист на вкус отдавал пылью и горечью. Я жевал его уже час, – надо было кормить грудных хомячков. Вернее сказать, пузатых – сиськи у их мамаши находятся аккурат на пузе. У троих из пяти глаза прорезались. Я погладил голые лапки одного из них и сунул ему в пасть жеваной капусты. Он даже не сплюнул.
Я поискал газеты, чтобы постелить хомякам. Под рукой ничего не было. Ничего. Только письмо. «Господин Лоринков, пришлите письмо с ответами на данные вопросы для участия в трехнедельном семинаре „Свобода прессы“, который пройдет в Венгрии, с 21 по 7 число». «Первый вопрос…».
– Вы что, издеваетесь, бляди? – хрипло шептал я хомячкам, разрывая конверт.
Хомячки посапывали. Цепочку с медальоном святой Девы Марии, кошелек и серебряную серьгу я оставил в ванной. Подумал, и снял кольцо. Вечером предстояла пьянка. Я ее не планировал, но просто ощущал. Я не люблю оставлять образок Девы Марии Пречистой в канавах. Это было бы просто неуважительно с моей стороны. В ванной она в безопасности, – подумалось мне. В безопасности. И, к тому же, охранит моих хомячков.
Я как раз заканчивал бриться, когда в комнату меня позвал брат. У последнего хомячка прорезался глаз. На краешке глаза собралась капля крови, пока, наконец, он не размазал ее лапами. Видимо, глаз чесался. Лапки хомячка были в крови. Мы ликовали. Второй глаз прорезался.
– Словно Лазарь. Нет, тот хмырь воскрес. Словно маленький мохнатый Иисусик, плачущий кровавыми слезами. Вот он кто, наш хомячок.
Мохнатый Иисус.
– Послушай, – сказал брат, – оставим это. К чертям собачьим. Не богохульствуй. У нас и так дела не блестяще, чтобы ссориться с ЭТИМИ.
Он показал рукой вверх.
– Нет. Одна из них – там, – я ткнул рукой в ванную.
Брат прошел туда.
– Серебро от влаги чернеет. Твоя Мадонна станет черной.
– Это будет политкорректная Дева Мария Пречистая, – возразил я. – Думаю, она не станет возражать.
Мадонна промолчала.
ххх
– А вы кто?
– Мохнатый Иисус… Ха…
Девица отвернулась. Это хорошо. В любом случае танца бы у нас не вышло: я еле стоял на ногах. Но еще держался. В туалете прокуренной забегаловки, которую мы же рекламировали как «клуб-андерграунд», ширялся мальчик лет семнадцати. Мы оказались знакомы.
– Будешь?
Я бы обязательно попробовал, но у меня двоилось в глазах. Откуда-то из ванной меня охраняла Мадонна. До моего сознания это дошло уже у стойки. Я поцеловал себе руку.
– Эй, послушай, что это ты делаешь? – уставился официант.
– А что?
– Ну, руку целуешь?
– А я люблю ее. Мы с ней ебемся.
– Что?!
– Позавчера я сделал ей предложение. Она обещала подумать.
Меня выставили, даже не предъявив счета.
ххх
Очнулся я в полночь зале ожидания железнодорожного вокзала. Где-то под потолком шумели голуби. Какой-то мудак бубнил:
– Все женщины мира хотят от меня ребенка. Все дети мира хотят крутить со мной юлу. Мир тесен. Слишком тесен. Для меня, для меня, конечно, не для вас.
Группка бомжей на соседних креслах смотрела на меня с интересом. Оказывается, это я говорил. Иисус… О, мой мохнатый Иисус… Я встал и подошел к тетке, корпевшей над кроссвордом у столика с маринованными орехами, жаренными огурцами, кончиной в шоколаде и еще каким-то дерьмом.
– Есть деньги? – спросил я ее.
Тетка открыла рот, но увидела банкноту. Я просто хотел поменять деньги. Через полчаса я уходил от вокзала наверх. Где-то позади меня окликал патруль. Но я был уже далеко, к тому же, фонари не горели. Они не рискнули.
ххх
– Где это тебя так, парнишка?
Киоскер смотрел участливо. Я сказал ему, что ненавижу это слово – «парнишка», но он ни хрена не понял. Еще бы: я потерял голос. Полчаса назад я очнулся идущим по улице Искры под холодным дождем. В грязи и блевотине. Интересно, омыл бы сейчас кто-нибудь мои ноги? Полчаса ушло на то, чтобы заставить себя развернуться, и, спотыкаясь и падая, дойти до дома. От полиции меня спас дождь. Они просто не вышли на улицу в эту погоду.
ххх
– Ты под каким забором валялся?
Не дождавшись ответа, брат ушел в комнату. Я сполз по стене с банкой шпротов в руках. На джинсах можно было распахать целину. В ушах моих билось море. В глазах моросил холодный дождь. В другой комнате шуршал бумагой Иисус: он укладывался спать, он отходил ко сну. Я знал, что я гений, но не мог объяснить себе этого. В том году меня так и не напечатали. Но я сказал: так, чтобы все слышали:
– Зато меня напечатали в «Континенте».
НЕ ПО ЛИЦУ
От первого удара она сложилась, как книжечка для детей.
Знаете, есть такие. Они вроде как не просто книжки, а объемные. Открываешь, а оттуда выпадает, – нет, не презерватив или сухой лист, или любовная записочка десятилетней давности, – какой-нибудь домик, или сказочный герой, а может даже сказочный ансамбль какой. Не выпадает даже, а вырастает. Объемные книги, так, кажется, это называется. Они легко раскладываются. Но и складываются так же легко. У меня в детстве была такая. Раскроешь, а посреди разворота возникает сказочный городок, с замками, башнями, и белкой, которая грызла то ли алмазы, то ли орехи. Я всегда на нее дивился. Не на белку, на книжку. Казалось бы – перед тобой целое монументальное строение, пусть и из бумаги. Как его убрать, не помяв? Но они так хитро скроены, что, стоит тебе просто напросто захлопнуть страницу, как все исчезает. Пропадает, как морок.
Оксана, конечно, не пропала как морок, врать не буду. Но сложиться – сложилась. Значит, подумал я про себя, хорошо попал. Так всегда бывает, если ударить в солнечное сплетение чуть сверху. А разница в росте мне это позволяла. Удар был отменный. Но ей, конечно, было вовсе не до того, чтобы оценить всю красоту моего совершенного удара. Оксана начала визжать, как свинья.
– Не по лицу, не по лицу, не по лицу, – верещала она.
– Только не по лицу, не по лицу, только не, – завывала она.
– ТОЛЬКО НЕ ПО ЛИЦУ, – орала она на весь дом.
А я в это время, уважив просьбу дамы, бил ее кулаком по спине, намотав на левую руку ее длинные волосы. Начинающие, – кстати, отмечу, – сильно редеть. Она иногда сетовала на то, что выпадают они потому, что Кое-Кто частенько наматывает их себе на руку – трахаясь ли, избивая ли, – на что я советовал ей заткнуться, пока не получила по морде.
Ну, она и затыкалась. Потому что знала, я с этими вещами не шучу. Но что-то зловредное в ней – психологи называют такую штуку «демон», что ли, – вечно подталкивало эту суку гавкнуть мне под руку. Наливаю ли я из чайника в чашку и промахиваюсь слегка, оступаюсь ли, забываю ли закрыть (или открыть? эти гребанные требования постоянно менялись) крышку унитаза, – эта женщина промолчать не может. И, хотя знает, чем все для нее закончится, бросает в мою сторону какое-нибудь глубокомысленное замечание. На что я, так как прекрасно вижу, к чему эта сука ведет, предлагаю ей перейти сразу прямо к делу.
– По морде или в живот? – спрашиваю я, наматывая ее волосы на левую руку, и подбадривая пинком.
– Только не по лицу, – воет она, потому что прекрасно знает, НАСКОЛЬКО это может быть сильным и страшным.
– Сама выбрала, – говорю я.
И, выпрямив ее еще одним пинком, бью ей аккурат в центр туловища, пока она не успела трусливо полуотвернуться, прикрыв корпус руками. После чего она, хватая воздух ртом, складывается как книжка из моего детства – такая же яркая, бестолковая и блестящая, – думаю с горечью я. И оседает прямо на пол. С минуту пытается вздохнуть, а после удара в сплетение это ой как непросто, и, когда понимает, что не может, в панике начинает выть. Оксана, Оксана, укоризненно качаю я головой. И засучиваю рукава.
– И-и-и, – тоненько пищит она, и ползет в сторону кухни.
– Получай, сука, – говорю я, и бью ее ногой в живот.
Она переворачивается пару раз, и, даже не пытаясь плакать, – не для кого, – пытается закрыться в своей комнате. Но меня на мякине не проведешь. Или как там и на чем проводят? Я вставляю ногу в дверь, давлю на нее плечом, и вваливаюсь в комнату, упав прямо на Оксану. Это еще раз выбивает из нее духа. Еще бы. Сто килограммов с лету. А что, отличная идея. Я встаю, и еще разок падаю на нее. Перестаю, когда из нее начинает брызгать кровь. Не знаю, как там снизу, но сверху точно. Из носа потекла. После этого я ее трахаю быстренько, кончаю в нее же, хоть она и умоляет меня этого не делать, карьеристка долбанная, и встаю.
– Утрись, тварь, – бросаю я ей, и взбудораженно дыша, иду принимать ванную.
Не то, чтобы я очень хотел купаться, но из-за шума воды ее скулеж не слышен, вот и отлично.
Почему я себе все это позволял по отношению к женщине?
Ну, Оксана была моей женой.
И я всегда ее ненавидел.
ххх
Жениться я на ней вовсе не собирался.
Оксана, как и я, была сотрудником информационного агентства. Заносчивая тупая коза с привлекательной внешностью. Разыгрывала из себя Непонятую Женщину. Кажется. Аверченко про таких еще писал? Или Тэффи? Неважно. На факультете филологии, где я отучился – моя сука, выпускница профильного журфака, всегда колола мне этим глаза – у меня с этими ребятами Бронзового века всегда были нелады. Да и какая разница. Главное, Оксана. Сука была нервная, дерганная. Вечно блядь гримасничала. Называла себя стрингером. Свистела про опасности ее недолбаться тяжелой профессии… Она носила листочки с новостями из кабинета с телетайпом – да, тогда он еще был, – в кабинет редактора с таким видом, словно профессиональная журналистка несет под пулями сверхсенсационный репортаж про бойню в Газзе. Я, просто наборщик, только диву давался, глядя на то, как эта звезда строит из себя Опытную Профессиональную Журналистку Рискующую Собой.
Чем она рисковала в Молдавии 1994 года, – самом безопасном месте на Земле, населенном миролюбивым и туповатым, как овцы, населением – хер ее знает, мою Оксану.
Тем не менее, у нее были и достоинства.
Говорю об этом нехотя, но умолчать не могу. Как-то же я на ней женился! Так вот, о достоинствах. У Оксаны была сочная, спелая грудь третьего размера, клевая жопа, и длинные крепкие ноги. Наконец, она была смазлива. Не то, чтобы красавица, но привлекательная, да. Само собой, я запал. Мне казалось, да хрен с ними, с ее заморочками про Стрингерство – тем более, для меня это слово навечно было повязано со стрингами, трусами такими, которые в жопу залазят, – может, пройдет со временем. Но на Оксану все равно не рассчитывал. Я был диковатый, туповатый – по всеобщему мнению, – наборщик. Единственное мое достоинство было в массе. Я весил, да и вешу, под сто, но я не жирный. Да, позвольте представиться, мастер спорта по водному поло.
Но для информационного агентства это никакого значения не имело. Оно кишело длинноволосыми кретинами, которые писали Репортажи, а потом бухали в своих кабинетах до посинения, и сочиняли там по ночам Стихи. Оксана таких очень любила. Один такой трахнул ее, когда она пришла в редакцию 16—летней ссыкухой, мечтавшей о Работе Журналиста, – прямо на рабочем столе. Выебал, выебал, выебал. Она называла это красивее – «Сделал Меня Женщиной». Ну, говорю же, выебал. Ей Богу, она сама рассказала. Детка, ты хотя бы получила направление на практику, хотел спросить я ее, но молчал. Я всегда молчал. Другой такой трахнул ее в 17. Потом несколько таких трахали ее в 18 и 19 лет. В общем, кто только не трахал ее в сумрачных, лабиринтообразных коридорах Дома Прессы, где располагались тогда все информационные агентства города. Но ее это не смущало. Она выглядела хорошо, была молода – мы познакомились, когда ей было двадцать два, – и строила из себя представителя Самой Опасной Работы На Свете. Работа и правда была опасной. Многие спивались. Во всем остальном эта работа была безопаснее труда сторожа на складе мягких игрушек. Гребанные журналисты никому на хрен не нужны. Их всегда можно купить.
Скажи я все это Оксане в лицо, боюсь, она бы меня не поняла. Так что я молчал.
А эта звезда, когда заходила к нам в кабинет, порывисто бросала:
– Четверть полосы, срочно в номер, третий кегль, пятый шрифт!
Мы, технический персонал, только смеялись. Она и понятия не имела, о чем говорила. Но мы любили, когда она заглядывала. Платье у ней вечно просвечивало, и мы вечно спорили, кому теперь она дает. Имен технического персонала в списке не было. Все знали, что эта невероятно честолюбивая девка трахается Только с представителями так называемых творческих профессий. Хотя, – думал я, наблюдая за ними, – творческого в профессии журналиста очень мало. Меньше даже, чем в труда охранника склада мягких игрушек. И здорово удивился, когда эта сука осталась после работы – уж они-то работали мало, не то, что мы, – перекинуться со мной парой словечек.
– Дружище, ты сорвал куш, – смеялись ребята из цеха издательства.
– Эта сладкая киска на тебя потекла, – говорили простые суровые ребята из цеха экспедиторов.
– Ерунда, – говорил я, – эта киска и пуговицы не расстегнет, если у тебя нет тетрадочки Стихов, или ты не задумал Поэму, да еще и не состоишь в штате от заведующего отделом и выше.
– Ну так напиши стихов или задумай поэму, – смеялись они.
Я только отмахивался. Но на секс втайне рассчитывал. Все знали, что Оксана – сторонница Свободных Отношений. Эта была вторая ее фишка, после Богоизбранности ее профессии сраной.
– Свободные Отношения это основа счастья и мира, – говорила она.
– Мужчина мне нужен как партнер, как союзник, – говорила она.
– Люди не должны друг друга Связывать, – говорила она.
После чего убегала на пресс-конференцию, посвященную числу подметенных тротуаров с таким видом, будто летела в Бейрут на войну. Вот коза! Но, видимо, вся эта хрень насчет свободных отношений касалась только тех, кто был сам не лыком шит. А я, кажется, был весь из лыка.
Так что, когда она после двух свиданий, непомерно меня удививших, пригласила меня к себе, и мы у нее на диване неловко потрахались, – я все старался не задвинуть как следует, потому что член у меня, как и все остальное, крупный, – заявила, что беременна, то я не сопротивлялся.
И мы поженились. Само собой, она беременна не была. Так оказалось месяц спустя. Доктор был в шоке. Как такая продвинутая баба могла задолбать себя страхом залететь до ложной беременности, думал он, и я видел это в его глазах. Но, я, – несмотря на слухи, – знал, что она не специально. Она и правда думала, что беременна. Видели бы вы ее глаза, когда она думала, что залетела. Она была напугана до смерти, до усрачки. И куда только подевались все эти Твердые Убеждения и Вера в Свободные Отношения? Видимо, в пизду. Жаль только, что больше ничего в этой пизде не было.
– А что же это было? – спросил я.
– Задержка видимо, – стыдливо сказала она.
Я рассмеялся. Вот тварь. Свободная Женщина Двадцать Первого века. Задержки от беременности отличить не в состоянии. А как же тесты, полоски, и куча всякой другой херни, которой вы забиваете себе голову со времен начала движения суфражисток, хотел я спросить ее. Но в который раз в своей жизни промолчал. А она пошла на какой-то блядский фуршет, не взяв, по обкновению, меня. А я отправился в наборную, перепечатывать какую-то фигню, накаляканную корявым почерком одного из этих гениев непризнанных, экс-трахарей моей жены. Все они почему-то смотрели на меня с сочувствием. А я на них – с легким удивлением.
Когда весишь центнер, и это не жир, можно позволить себе поиронизировать над сочувствием.
ххх
У боссов дела шли отлично. В том числе и за счет повышения наших зарплат. Ну, которого никогда не было. Агентство, в котором мы работали, спустя несколько лет стало холдингом. Мы открыли телеканал, ради, и пару газет. Само собой, не мы, а наши хозяева. Но Оксана, которую я тогда еще не бил, всегда говорила «мы». Она всегда увлекалась, эта коза.
– МЫ сделали по рейтингу конкурентов! – радостно визжала она, врываясь в операторскую, где я стал проводить больше времени, потому что мне доверили кое-что на монтаже.
– МЫ сделали то, – говорила она.
– МЫ сделали это, – говорила она.
– МЫ команда! – говорила она.
– МЫ добились увеличения прибыли на двадцать семь процентов! – говорила она.
– Посмотрите, как у нее горят глазки! – говорил кто-то из педерастов-акционеров.
– Вот как надо переживать за судьбу ОБЩЕГО дела, – звиздели они.
Хотя ОБЩИМИ у нас с этими говнюками были только проблемы. Прибыли и акции были НЕ общими, конечно же. Ну, работяги только посмеивались. Ну, и я с ними. Дома я просил ее умерить пыл, но она говорила, что это у меня все от замкнутости. Ну, я затыкался, и ждал, когда она выйдет из душа, чтобы потрахать ее немножко. Получить свое за день унижений и тяжелой монотонной работы.
– Что, ОПЯТЬ? – спрашивала она.
– Только не глубоко, – просила она.
– Нежнее, милый, ты же МУЖЧИНА, – говорила она.
– Ты просто ОБЯЗАН меня беречь, – говорила она.
Так, как будто мужчина это кастрированный кот, который должен массировать пизде клитор, чесать спинку, приносить кефир и повидло из магазина, платить по счетам, и скрываться в своей гребанной корзине всякий раз, когда осточертеет хозяйке. Кстати, о счетах. Оксану – за миловидную внешность – перевели в дикторы телевидения. И она стала зарабатывать чуть больше меня, хотя все равно мало. Но дело было не только в деньгах. Она с ума сошла от важности. Теперь слово ТВОРЧЕСКИЕ во всех его склонениях и падежах не слетало с ее пухлых губ, которыми, кстати, отсасывала она мне не очень охотно, так как я был «чересчур большой». Творчество, мы творческие, творческая, о творчестве, творить, наша творческая… – только и делала что трындела она.
Господи, а ведь она была всего лишь диктор. Долбанный диктор. Говорящая голова. Человек, которому приносят сообщения агентств, и который исправляет в них пару запятых – а может и не править, – и зачитывает их перед камерой.
Но она диссонанса не чувствовала.
– Мы, наркоманы и творцы эфира, – сказала она пафосно как-то на вечеринке, куда попал чудом и я.
Мне стало так стыдно, что я чуть было не дал ей по роже уже тогда.
Но сдержался. Тем более, что она зарабатывала теперь на пять-десять долларов больше, чем я. Для истерички ее типа это был отличный повод порефлексировать. Она тайком от меня звонила в службу психологической помощи узнать, как обращаться с мужчиной, «который унижен своим заработком». Блядь, подслушав, я едва с ума не сошел. Что себе выдумывает эта коза, думал я, И думал, какого черта мы не развелись за пять лет, хотя очевидно было, что она думала, что залетела и как смерти боялась рожать, не будучи в Статусе, а когда угроза отступила, я был ей явно не нужен. Зачем, думал я.
Потом понял. Ей все равно было приятно быть Замужем. Раз уж так получилось, выжмем максимум пользы из ситуации, говорил весь ее облик. Пока муж-недотепа не слишком бросается в глаза, носит чистые рубашки и не пьет, пускай существует, заявляла она всем своим поведением. Да, я был далеко не идеал – я не был ТВОРЧЕСКИМ. И кучи денег у меня не было, и честолюбие этой женщины ничем не подогревал. Зато я давал ей Статус. Сучки, которых перетрахало слишком много народу, чувствуют такое жопой, и вцепляются в мужика, который им позволит это, так же прочно, как коршун в цыпленка. Вот она и вцепилась. Дальнейшее было делом техники. Спрятать меня подальше, иметь вид Семейной Дамы, и проводить время по-прежнему.
– Мой муженек, – говорила она ласково.
– Пусть не блещет талантами, зато свой, – говорила она.
Ах ты коза. Ладно. Я часто приглядывался к ней. Оксана выглядела счастливой. У нее было кольцо и она могла звиздеть про Семейные Ценности. Верила она в них так же истово, как в Свободную Любовь парой лет раньше, и проповедовала она их так же истово.
И, разумеется, так же легко их предавала.
ххх
Сомнений в том, что она мне изменяет, у меня не было с самой свадьбы. Не то, чтобы она была слаба на передок, с этим-то все было как раз наоборот. Несмотря на большое количество партнеров, она толком не была раздолбанна. Еще бы. Секс ведь никогда не был для нее просто способом получить удовольствие. Она зализывала его шершавым языком раны своего честолюбия. Звезда этакая. Поэтому она вечно недовольно сопела – не только подо мной, я разузнал, – пока ее трахали, и все стремилась поскорее закончить. Чтобы потрындеть уже про Наркоманов Эфира (с любовниками) , ну, или про Уютное Семейное Гнездышко (со мной) . Как-то раз, правда, она сменила пластинку.
– Ты такой ленивый, – сказала она.
– Мне куда больше нравилось бы, если бы стал что-то Делать, – сказала она.
– О чем ты, – спросил я, и перевернул ее на спину одним движением кисти, она всегда была легкой для меня.
– Ну, ты мог бы что-нибудь писать, – сказала она, стоически снося мои заигрывания с ее сиськами, видимо, я лапал их недостаточно Творчески и Одухотворенно.
– Или, например, рисовать картины, – сказала она.
– Я набираю тексты и монтирую репортажи, – сказал я.
– Это все так… серенько, – сказала она.
– Вот есть у меня знакомый, Лоринков, – сказала она.
– Гроза старшего курса! – сказала она. – Все мы, все Творческие Девочнки, были в него влюблены!
– Так он и газетчик блестящий, и сюжеты делает, и даже, говорят, книжки талантливые пишет, – перечислила она.
– Он явно Творческий! – сказала она, нервно моргая.
– Явно Гений! – сказал она.
– Так выйди за него замуж, – сказал я, раздвигая ей ноги коленом.
– Не могу, – сказала она с легким сожалением.
По тону я сразу понял, что она с ним трахалась, просто он, как и все остальные 1000 тысяч ее партнеров, использовал ее лишь для перепихона. И ты правильно сделал, парень, подумал я.
– Почему не можешь? – спросил я.
– Он давно уже женат, – сказала она.
– На какой-то обычной, простой девушке – сказала она с яростью.
– И чего он только в ней нашел? – сказала она досадливо.
– Книг не пишет, в газете не работает… у нее даже своего блога нет в жж, где бы она могла написать, как критически относится к свежему тексту Коэльо или причудам дизайна от Карвальон, вся она… не Творческая, какая-то вся… не яркая! – сказала она.
Я преисполнился расположения к этому Лоринкову и его Нетворческой жене.
– Может, она не трахает ему мозги постоянными разговорами про наркоманов эфира? – предположил я.
– Не груби мне, – сказала она.
– Ладно, – сказал я.
И продолжил ее трахать. Да-да. Вы не ошиблись. Мы разговаривали о всякой вот такой ерунде, трахаясь. Вот такого низкого накала страсти были у нас с Оксаной в постели. Конечно, ровно до того момента, когда я не избил ее в первый раз. А после этого не трахнул как следует, не принимая во внимание ее жалкое нытье про «слишком большой» или «я сухая». Кстати, она и правда была постоянно сухая. Не возбуждал я ее, что ли? В любом случае, кровищи было столько, что она вполне могла зачерпнуть у себя под носом и смазать там, внизу. Что я ей и предложил, когда предложил своей женушке встать раком. Это был наш первый раз. Первый раз я ее побил, имею в виду. Ну, и, если уж честно, первый раз я ее и вытрахал, как следует. Два в одном. Бинго.
– Становись раком, сука! – скомандовал я, и она хныкая, встала, окропив комнату кровью.
– А сахааа, – промычала она.
– Что блядь? – спросил я.
– Я сухая, – сказала она более внятно разбитыми губами.
– Отлично, тварь, – сказал я, – так бери кровищу с носа, и мочи себя там внизу.
После чего вдул, и трахал до упора, невзирая на протесты, и, вероятно, ей было больно. Но мне было плевать. В тот день я получил весомые доказательства измены. Она приперлась домой, благоухая, – якобы она была на невероятно трудном задании, – и пошла в ванную. Но мобильный телефон забыла, хотя обычно строго следила за тем, чтобы он, бедняжечка, купался вместе с ней. На качество секса ей всегда было плевать, значит, понял я по ее счастливому виду, ее трахнула какая-то шишка из администрации. Ну, или какой-то представитель Творческой Интеллигенции, который непременно получит Нобелевскую Премию.
Я взял ее телефон и просмотрел два сообщения. Входящее и исходящее. Входящее – от какого-то хмыря, который ее, судя по времени отправки текста, трахал сегодня, – гласило:
«М-м-м, моя сладкая девочка, твоя киска такая тесная, твои ляжки такие упругие, твои груди так подрагивают, когда я трахаю тебя, моя сладкая апельсиново-пшенично-молочная фея, когда мы сможем повторить этот невероятный экзистенциальный опыт с налетом легкого садо-мазо? Будем осторожны, чтобы этот ваш супруг-орк не застиг нас– а то я его боюсь, хи-хи. Твой сатир. Постскриптум. Сделай это еще раз – заглоти мой рог под самый корень, глядя мне в глаза, и я сорву для тебя все звезды мира»
Черт. Я почувствовал, как у меня встал. Эти ребята – ну, писатели и журналисты всякие, – они и правда иногда умеют Сказать. Черт-черт, черт. Ладно. Я глянул исходящее сообщение. Оно, как и вся Оксана, было пропитано пафосом и ложью.
«Мой друг, не слишком ли вы поспешны в своем жадном стремлении иметь лишь секс, секс, и ничего кроме секса? Да мне было хорошо с вами, но ведь именно Душа это ворота в тело, я настаиваю – Душа, а не то, о чем вы постоянно говорите, так что давайте в следующий раз встретимся в менее интимной обстановке, например, сходим в Театр, обсудим что-нибудь связанное с Творчеством. Мне интересно было бы узнать как вы пишете Ваши книги… Всегда Ваша юная фея».
Юная фея двадцати семи лет. Еб твою мать. Бедный парень, подумал я. Он решит, что плохо ее трахнул и она пошла в отказ. А ей просто не нужен секс. И живые люди ей не нужны. Ей нужны дрова в костер ее жадного честолюбия. Того, когда ты даже партнера для простого перепихона выбираешь не из приязни, а по степени его Творческой или Социальной Значимости.
Я надолго застыл, и оцепенение прошло, лишь когда прекратился шум в ванной. Значит, вода набралась. Я зашел в ванную, – несмотря на ее протестующий возглас, она считала это личным пространством, – и глянул на себя в зеркало. Тридцатилетний крупный мужчина в хорошей форме. Обычный. Не яркий. Не-блядь-Творческий. После чего развернулся и ударил ее кулаком по лицу. Вода окрасилась кровью сразу же. Я вытащил ее из ванной, вбросил в комнату, и еще поколотил. А потом поставил раком, и вытрахал, как следует, не оглядываясь на то, что у нее там тесно и узко.
Это был наш первый раз.
После этого она мне, кажется, не изменяла. Но значения это не имело. Я стал избивать ее регулярно и постоянно. За большие провинности и малые. Я бил ее и так и этак. После первого она умоляла меня не бить ее по лицу, и чаще всего так я и делал. Но если я был раздражен чересчур уж, то бил и по лицу, и она тогда врала что-то про падения с лошади – конный спорт был ее любимой забавой, – а то и отлеживалась дома на больничном. И знаете, что.
Люди, которые говорят, что рукоприкладством ничего не добьешься, и что это не способ решения проблем, ни хрена не понимают в жизни. Все решилось.
Когда ты начинаешь беспощадно лупить жену даже за неправильно приготовленный ужин, в доме воцаряются мир и покой.
ххх
Спустя год она меня боялась.
Научилась гримировать синяки. Садиться спокойно и не морщась, как будто ее задница и правда не в кровоподтеках. Дышать легко, несмотря на то, что ребро поломано. Запуганная и затюрканная, бедняжка не могла о разводе даже и помыслить. Меня это смешило. Неужели идиотка думает, что я ее не отпущу? Я бы дал ей развод в любой момент. Но она, курица безмозглая, навоображала себе, что я жестоко с ней расправлюсь, – наверное, точно не знаю, иначе чего она все это терпела, – и о разводе даже и не заикалась. К моему удивлению.
Вообще, она изменилась. Про Творчество и Эфир я от нее и слова больше не слышал. Бедная девчонка даже дыхнуть боялась. Я находил это правильным. Бил ее за малейшую провинность – на мой взглояд провинность – и трахал всякий раз, как и когда захочу. Она иногда жаловалась, уже не претензиями, конечно, а ласково так, нежно. Но мне было все равно.
Я окончательно плюнул на брак, как на союз равных. Это, знаете, работает, когда в браке действительно двое равных.
А у меня в браке был я, и безмозглая кукла, помешавшаяся на эгоизме и честолюбии. Трахаться мирно мы перестали. Я всегда ее шлепал, бил, и унижал. Иногда я ловил себя на мысли, что мне нравится слегка придушить ее, и, пока она испуганно бьется, навалиться сверху. Пора кончать с этим, думал я, иначе задушу эту идиотку на хрен. Но когда женщина покорна тебе во всем, она становится слишком удобной. Можно сказать даже, что я привязался к Оксане. К Новой Оксане, конечно же. В конце концов, женщина и есть раба при своем мужчине. И когда Оксана стала ей, то брак показался мне неплохой штукой. Так что я даже пожалел, когда все закончилось. А закончилось все, как это обычно и бывает, случайно.
Она стояла на кухне в одних только гольфах и переднике – я так попросил, – и готовила жрать. Я приоткрыл казан. Ребрышки. Как я люблю. Тут-то Оксана и совершила ошибку. Женщины ведь не любят, когда заглядываешь под крышку, если блюдо только готовится. Она не сумела скрыть раздражения и фыркнула или прошипела что-то. Не имело значения, потому что я вновь вспомнил ту хрень, которой она меня потчевала лет пять, – и это была вовсе не еда, – и крутанул ее левой рукой. И втопил кулак правой, – как педаль машины ногой, – в живот. Так втопил, что она минут пять вдохнуть не могла. Пяти минут не было никогда. Поздравляю с рекордом, детка, подумал я, сидя над ней на табуретке. А она, вдохнув очень осторожно, буквально пробуя воздух на кончике языка, – ну прям как долбанный турист, который пробует горячую печеную картошку, – засучила испуганно ногами. Можно было ее пожалеть. Но у меня правило. Если уж начал, делай.
Я пнул ее слегка, для пробы и все глядел, как эта коза голая ворочается подо мной, и как блестит ее настоящая пизда в разрезе. И ненависть застила мне глаза. Она что-то заверещала, всхлипывая. Я вслушался.
– Не по лицу, не по лицу, не по лицу, – верещала она.
– Только не по лицу, не по лицу, только не, – завывала она.
– ТОЛЬКО НЕ ПО ЛИЦУ, – орала она на весь дом.
Я, удовлетворяя ее просьбы, стал бить ее по ногам и по корпусу. Она извивалась, а я входил в раж. А потом мой ручной хомячок впервые взбунтовался.
– У меня завтра ЭФИР! – крикнула она с ненавистью.
– Не смей трогать мое ЛИЦО! – заорала она, и разрыдалась.
Не по лицу, так не по лицу. Я спокойно дождался, пока она перестанет всхлипывать, и приподнимется, а потом, глубоко вдохнув, ударил ее ногой в грудь. Изо всех сил. Она всхрипнула и сложилась, прям как складная книжечка. После семи минут мне показалось, что она идет на очередной рекорд. Но результат, в случае гибели спортсмена, не засчитывается. Так что максимум, которым она обходилась без воздуха, остался пятиминутным.
Я ударил ее так сильно, что она умерла.
Это я понял, когда вышел из ванной, и увидел, что она лежит, как я ее и оставил. Не дышала. Тело, – там, где оно соприкасалось с полом, – потемнело. Я смонтировал достаточно материалов о городских убийствах, чтобы понять – это наступает окоченение. В первую очередь там, где ткани с чем-то соприкасаются. Я сел на кухне и собрался с мыслями. Оксана была мертвой. Что же. Значит, настала пора мне оживать.
Я собрался не только с мыслями, но и в дорогу. Постарался вспомнить расписание электричек на Украину, чтобы не звонить и не выдавать направление. Взял все деньги, собрал рюкзак, и присел на дорожку. Потом мне показалось, что Оксана пошевелилась. Я присмотрелся внимательнее. Оксана и правду пошевелилась. Я перевернул ее на спину и она тихонько застонала. Почти убитая жена глядела на меня с ненавистью.
Я сел ей на грудь и сказал:
– Какая-то ты сейчас вся… не яркая.
ххх
В электричке было жарко и шумно.
От гула мне спать захотелось еще до отправки. Я был совершенно спокоен, потому что ключей от нашей с Оксаной квартиры ни у кого больше не было. Когда тело начнет пахнуть, пройдет недели две. Через две недели я буду очень далеко – из Одессы можно уплыть паромом в Турцию, а можно – в Камбоджу нелегалом, а можно и просто остаться там, и жить в деревеньке под городом, без имени и фамилии. У меня масса времени на то, чтобы решить. Летом бы обошлось двумя днями, но ведь сейчас только март. Мне не было жаль Оксану. Просто она сама во всем виновата, подумал я. Во всем. Потом попытался вспомнить, выключил ли я газ и свет? Потом подумал, что это не имеет значения. И наоборот, надо было оставить газ включенным. Едва было не встал, чтобы выйти из поезда и вернуться, чтобы поджечь квартиру. Потом понял, что на при поджоге пожарные и полиция будут у нас дома уже через час-другой. И все мои две недели времени в запасе пропадают.
– Ладно, – сказал я себе, – сделано как сделано, и лучше не переделаешь.
И решил сидеть и не дергаться. Так что я сел и перестал дергаться.
Жирные крестьянки напротив меня хитро мне улыбнулись.
– Что? – сказал я.
Вместо ответа они молча показали мне несколько пластмассовых бутылок с вином.
– Я не пью, – соврал я им.
– Сынок, скажи на таможне, что пять бутылок твои, – сказали они.
– Одна бутылка будет за это твоя, – сказали они.
– Запросто, – сказал я.
Путь предстоял долгий, мне нужны будут силы, а в домашнем вине много витаминов. Я прислонил голову к стеклу и стал думать. Беглец-убийца. Вот как все обернулось. Значит, не зря Оксана говорила, что мне следует желать большего, чем серое существование техника информационного холдинга. Эта жизнь явно утеряна. Безвозвратно. И что за жизнь мне суждена взамен? Я не знал. Оставалось догадываться. В догадках я и уснул, и проснулся только на таможне и на границе. Молдавских таможенников, смуглых, вороватых и мелких, как мартышки в зоопарке, сменили крупные, тупые и медленные, – как гориллы на воле – украинские пограничники. Оксана во сне делала мне отличный минет. На лице и на теле у нее не было больше синяков. Она улыбалась и очень громко сопела. Вагон шумел. От толчка в плечо я проснулся, и понял, что это я сопел. Крестьянка протягивала мне заработанное вино. Я молча взял бутыль и снова уснул. Холмы сменились равниной.
Это значило, что поезд въезжал на Украину.
ПОРА ХУДЕТЬ, ПРИЯТЕЛЬ!
Тут она и говорит мне:
– Жирный ты кусок говна, когда ты уже похудеешь?
На что я отвечаю ей:
– Следи лучше за собой, сучка, с поверхности твоих бедер можно списывать апельсиновую корку.
А дальнейшее представляло собой что-то вроде пинг-понга. Только вместо стола с сеткой у нас был наш кухонный стол, а вместо шарика по нему метались оскорбления. И если она еще какую-то изобретательность проявляла, то у меня особо интереса к этому не было. Просто потому, что за пять лет совместной жизни она меня достала. Несмотря на то, что Лида выглядела неплохо, у нее была мания. Боязнь лишнего веса. Просто потому, что она склонна к полноте. Поэтому моя сожительница только и делала, что бегала с фитнеса на аэробику, да с бассейна в сауну. Я, в принципе, не возражал, потому что, благодаря этим занятиям, она могла во время ебли ногу за ухо задрать. Что мы и проделывали. Но ровно до тех пор, пока не начал толстеть я. Сначала стал весить семьдесят пять вместо своих семидесяти, потом восемьдесят, затем девяносто. Последний раз, когда я взвешивался, стрелка весов остановилась на цифре 100. А потом и Лида начала поправляться, потому что если ты женщина, и у тебя мамаша жирная, то, бегай не бегай, ты все равно начнешь толстеть. Но злость она срывала, почему-то, не на себе, а на мне. Лида просто на говно исходила, глядя на меня.
– Блядский ты урод, сколько ты весишь?
– На себя посмотри, сука сраная.
– Да ты с центнер, наверное, весишь, – говорила она, а я Бога благодарил, что взвесился без нее последний раз.
– Иди в задницу, сучка, – говорил я.
– Передай мне творог, – говорила она.
– Только если ты передашь мне булки, – говорил я.
– Говнюк ты сраный, тебе булок нельзя, – говорила она, – ты же Толстеешь от них.
– Зато это вкусная жрачка, – говорил я. – В отличие от твоего блядь пресного творога, который, сколько ты его не жри, все равно добавляет тебе лишних килограммов.
– Их у меня всего три, – говорила она.
– Я же НОРМАЛЬНАЯ женщина, а не фея из сериала «винс», – сказала она.
– Какая еще на хуй фея?! – спросил я.
– Из мультика для девочек, – сказала она, – там в школе фей все девчонки тонкокостные, длинноногие, ужасно худые и стройные, с огромными глазами.
– Лучше бы порнуху смотрела, – сказал я.
– Дело за малым, – говорил я. – Еще года три, и будешь такой же толстой свиньей, как твоя мамаша.
– Такой же блядь мисс Пигги, – издевался я.
– Хорошо, что ты у нас сейчас мистер Пигги, – говорила она.
– Этот жир заработан в боях и сражениях, – говорил я.
– Мы даже уже стоя ебаться не можем, – говорила она, – из-за твоего пуза сраного.
– Мне плевать, – говорил я, – что поделать, если такова моя конституция.
– Конституция Российской Федерации твоя Конституция, – говорила она.
– Затнись, ты, целлюлитная, – говорил я.
– Сучий потрох, – говорила она.
– Пизда, – говорил я.
– Не могу назвать тебя хуем, – парировала она.
Вас, конечно, может заинтересовать, почему мы, при таком накале страстей и отношений, продолжали жить вместе. Все просто. Мы, как обычная молодая пара из Молдавии – мне было тридцать четыре, ей двадцать пять, – подали документы на выезд в США. И вот-вот должны были быть приглашены на собеседование. Если бы мы развелись, всю эту тягомотину с подачей документов пришлось бы начинать снова. Это отсрочило бы наш отъезд на пять-шесть лет. А сил на то, чтобы оставаться в Молдавии, у нас больше не было. Не помогал даже российский паспорт, полученный мной за то, что я родился когда-то в СССР.
– Наверное, в этом Совке сраном ты себе и испортил иммунную систему, питаясь этими ужасными советскими котлетами и борщами в столовых, – сказала как-то Лида.
– Что ты знаешь о Совке, пизда ты траханная, – сказал я неласково, потому что мы уже ссорились, и очень часто.
– Только то, что там рождались такие уроды, как ты, – сказала она, и ушла в свою комнату.
Я вздохнул и подумал, что все это очень скоро закончится. На собеседование нас вызовут через месяц-другой, а там и путь открыт. А уже в США мы разведемся. И я заживу, как сыр в масле. Сам. Лида, уверен, думала так же.
– Дай мне этот обезжиренный хлебец, – говорила она.
– Пизда ты тупая, – последнее время я только так к ней и обращался, – дело вовсе не в количестве жира в твоих хлебцах сраных. Дело в их количестве. Если ты сожрешь тонну силоса без жира, то все равно потолстеешь ровно на одну тонну.
– У тебя большой опыт в том, как поправиться на одну тонну, – говорила она.
– Ха-ха, – говорил я. – Передай мне яйца.
– Будешь жрать столько яиц, – говорила она, – останешься без своих. Передай мне пастилу.
– Обезжиренную? – с издевкой спрашивал я.
В общем, ситуация накалялась с каждым днем. И мы со дня на день должны были отправиться на собеседование в посольство и, по всем расчетам выходило, что уже через полгода мы можем собирать чемоданы и валить в Нью-Йорк или Арканзас, чтобы, как и все уехавшие молдаване, получать там пенсии, пособия, которые не заслужили, и срать на свою бывшую родину в интернет-форумах. Мне было плевать, что это некрасиво. В конце концов, заслужил я хоть капельку покоя. Ну, кроме капельки майонеза и чесночного соуса?
– Кто жрет чеснок с утра? – спрашивала моя дражайшая супруга.
– Я, – отвечал я угрюмо, поедая гренки с чесноком.
– Свинья, – тупо шутила она в рифму, и отправлялась в фитнес-центр, сгонять бока, которые все равно упрямо появлялись у нее с боков каждое утро.
– Херня, – бросал я ей вслед.
Завтраки и ужины – обедал я на работе – превращались в пытку и испытание. Мы сидели друг напротив друга, как английские лорд и его жена, разделенные длиннющим столом, обмениваясь язвительными репликами. Для полноты картины нам только дворецкого не хватало. Иногда я думал, как мы дошли до такой жизни? Ведь сошлись мы с Лидой когда-то по любви. Правда, я, поглядев на ее мамашу, подумал мельком, что моя супруга с возрастом поправится, но подумал еще, что готов это терпеть. Знать бы, что ей крышу сорвет на почве жратвы и лишних калорий, причем МОЕЙ жратвы и МОИХ лишних калорий. Как лишние двадцать-тридцать кило убили наш брак, думал я, как это блядь, вообще возможно?! Я даже посмотрел по телевизору пару серий этого сериала сраного, про фей «Бинс». Хуйня оказалась полная.
– Послушай, – сказал я ей как-то, – давай просто заткнемся и потерпим друг друга до отъезда.
– Я купила тебе абонемент в спортивный зал, – сказала она.
– Послушай меня, – сказал я. – Ты же не собираешься спорить с тем, что мы друг другу осточертели и не разводимся только потому, что ждем выезда блядь в США?
– Это не имеет никакого значения, – сказала она, – потому что я купила тебе абонемент в тренажерный зал.
– И за полгода, оставшиеся до отъезда, ты приведешь себя в порядок, – сказала она.
– Зачем? – спросил я. – Мы же все равно разведемся.
– Дурачок, – сказала она, – полгода здесь, года два-три там, не сразу же мы разойдемся, нас блядь выкинут попросту оттуда.
– И то, если нас выпустят, – сказала она. – А могут и не выпустить, потому что ты сейчас выглядишь вовсе не так, как был, когда мы начали готовится к отъезду.
– Ты блядь теперь Жирный, – сказала она, – а это Болезнь.
– Итого – три-четыре года с Больным, – сказала она.
– Я не намерена жить столько времени с жирным куском говна, – сказала она.
– Я не хочу, чтобы нас послали на хуй на собеседовании из-за того, что ты жирная тупая скотина с противопоказаниями по здоровью и инвалид жирной первой группы, – сказала она.
– Может пронесет, – сказал я.
– Пронесет тебя, мудак, когда ты обожрешься и снова в туалете на ночь засядешь, – сказала она.
– Ты жрешь и срешь, срешь и жрешь, – сказала она с ненавистью.
– Я не хочу не попасть в США из-за того, что мой тупой муж поленился следить за собой, – сказала она.
– Наконец, я не заслуживаю презрительных взглядов, которыми нас провожают в общественных местах, – сказала она.
– О чем ты, – сказал я, – когда мы последний раз куда-то выходили?
– Почему Я могу прилагать множество усилий для того, чтобы быть в форме, – сказала она, – а некоторые куски говна, которые мне даже называть не хочется, ленятся и обрастают жиром с самого утра?
– Хватит о говне, ты испортишь мне аппетит, – сказал я.
– Твой блядский аппетит не испортит ничто, – сказала она, – ты по пояс в говне будешь жрать.
– Я много нервничаю, – сказал я.
– В том числе и из-за тебя, пизда ты тупая, – сказал я.
– Ты начнешь худеть, причем с завтрашнего дня, – сказала она.
– Господи, – сказал я, – ну почему ты меня не слышишь?
– Он не слышит жирных уебков, – сказала она.
– Я обращался к тебе, – сказал я.
– А не слышу жирных уебков тем более, – сказала она.
– Половина десятого, – сказал я, нервничая, – пора жрать, Лида.
– Закрой рот, – сказала она, – причем во всех смыслах.
– Сначала сгонишь вес анаэробными нагрузками, – сказала она, – потом немного аэробных.
– Гос-п-п-поди, – сказал я.
– Дай мне мой завтрак, – сказал я.
– Никаких завтраков, – сказала она, – только стакан апельсинового сока.
Ну, я недолго думая и выплеснул этот сок ей в лицо.
ххх
Проснулся я от того, что у меня затекли руки.
В принципе, последнее время такое случалось все чаще. Лишний вес, сами понимаете. Опять же, храп. Когда поправляешься, начинаешь храпеть. Никогда не верил в это. Ровно до тех пор, пока не поправился. И не начал храпеть. Лида и в этом случае не смогла проявить сострадания, конечно. Представьте себе, что вас Каждую ночь будят по пятнадцать-двадцать раз хорошим ударом в ребра и шипением:
– Дапрекратитыблядьнахуйхрапетьзаебалужеспатьневозможно!
А у меня так было каждую ночь, несколько лет. Я иногда даже жалел, что мы подали документы на выезд, да было поздно. Слишком много мороки было с тем, чтобы их собрать, говорю же. Так что мы начали спать в разных комнатах. Нет, иногда я ее ебал, конечно – все-таки мой член именно то, из-за чего она и вышла за меня замуж, – но случалось это все реже. Из-за веса я очень уставал стоять за ней сзади, а она обожала именно так. А мои предложения поскакать на моем члене она воспринимала как оскорбление. Она ЛЮБОЕ предложение пойти на компромисс воспринимала, как оскорбление. Ебнутая сучка. А ведь когда-то я ее любил. Ну, или, если честнее, прельстился задницей и сиськами. Они были на заглядение: как у всех баб, которые после тридцати начинают толстеть. Господи, да что ж с того, живут же люди блядь и толстыми в браке?!
Я застонал и потянул руку из-под себя. Не смог. Подумал, что, может, и правда стоит сбросить пару килограмм. Попробовал встать, но упал носом в кровать. Перевернулся и с ужасом понял, что у меня связаны руки.
– Доброе утро, свиненочек, – сказала Лида
Я увидел у нее в руке мясницкий нож и заорал.
ххх
– Успокойся ты, придурок толстый, – сказала она.
– Не собираюсь я тебя убивать, – успокоила она.
– Блядьблядьблядь, – сказал я, – нет-нет-нет, только не ЭТО.
– Что?! – спросила она, и потом поняла и засмеялась. – Нет, ну какой же ты блядь псих-то, а? Ненормальный… Не собираюсь я тебе яйца резать.
– Уф, – сказал я, успокоенный.
– Тогда что происходит? – спросил я.
– Что за блядь, ролевые игры? – спросил я.
– Заткнись, – сказала она, – жирный ублюдок.
После чего сунула мне в рот свой сраный лифчик, присела рядом и излила душу.
… Только представь себе, сказала она, что ты с детства боишься потолстеть, с самого раннего детства, тем более, что родилась ты не в сраном Совке, а в нормальной демократической стране, смотрела перед детским садиком мультик «Винс» про юных фей, каждая из которых нарисована как кукла Барби, то есть так, что, живи такая в реальности, она бы и метра не прошла, потому что ее фигура противоречит ВСЕЙ системе земного блядь притяжения и физиологии, но ты-то смотришь, и вот, глядя на свои ляжки лет в девять в зеркале, думаешь, блядь, я не фея из команды Винс, я толстая и некрасивая, я себя ненавижу, все меня ненавидят, наверное, именно поэтому мама и папа развелись, начинаешь с этим жить, подрастаешь, в юности на пару лет тебя отпускает – ну, в том возрасте, когда любая баба в постель сгодится, от четырнадцати до шестнадцати выебать хотят любую, они свеженькие, – но потом начинается взросление и мучительный страх, и ты блядь истязаешь себя спортом, а потом появляется мужчина, который становится твоим мужем, а потом вдруг он начинает толстеть и жрать, как свинья, и ты глядишь на него, и видишь, видишь, видишь, мучительно видишь, что тебя ждет то же самое, а мужчина, который, по идее, должен быть твоей опорой и поддержкой, оказывается вонючей прожорливой жирной тва…
– Да-а-а-о-о, – говорю я.
– Достаточно? – спрашивает она. – Ладно.
– Да-да, милый, – сказала она.
– Глядя на тебя, я вижу Свое будущее, – сказала она.
– И это меня убивает, – сказала она.
– И меня убивает мысль, что это будущее может быть здесь, в этой Молдавии сраной, а не в благополучных Штатах, – сказала она.
Тут я понимаю, что глаза у нее блестят как-то не очень нормально.
После чего думаю, что она сошла с ума. А она, потрепав меня по щеке, сдирает с меня майку, и протирает бочка спиртом.
– Да-да, – бормочет она.
– Я срежу тебе лишний жирок, милый, – говорит она.
– С твоих омерзительных жирных бочков, – говорит она.
– Порепетирую на тебе, а потом срежу жирок себе, – хлопает она себя по бокам, где жирка совсем еще чуть-чуть, совсем блядь немного, хочу я сказать ей, но проклятый лифчик во рту мешает.
– Но сначала ты, – говорит она.
И, не успеваю я подготовиться, с размаху втыкает нож мне в блок.
Я отключаюсь.
ххх
В следующий раз я проснулся от того, что у меня не затекла рука. Это было так удивительно, и невероятно, что я и проснулся. Пошевелил пальцами, потом согнул руки в локтях. Нет, все движется. Открыл глаза. Руки не связаны. Приподнялся на них, огляделся. Простыня подо мной была вся в крови. Я был в крови. Но, странное дело, ничего не болело. Глянул вниз с дивана, и чуть было не блеванул. На ковре валялись два огромных, омерзительных куска жира. Мои, как я догадался, бока. Серые, в крапинках крови… Рядом валялись два маленьких розовеньких кусочка. Бока Лиды, догадался я. Глянул вправо. Под боком – Образно выражаясь, – лежала она. Невероятно стройная. И красивая. Я пошел в ванную, постоял под душем, смыл кровь. И увидел, что выгляжу теперь, как Аполлон, вздумай тот приобрести квартиру в кишиневской «хрущевке». Я был Красивый.
– Я Красивый, – сказал я, глядя на себя в зеркало.
И это было правда. Последний раз я выглядел так лет в двадцать. Я смочил полотенце водой и вернулся в комнату. Протер тело Лиды. Она постройнела. И открыла глаза.
– Какой ты Красивый, – сказала она.
– Невероятно, – сказал я.
– Ты в домашних условиях провела операцию по удалению жира! – сказал я.
– Да, – сказала она, и, встав, подошла к зеркалу. – И КАК мы теперь оба выглядим.
– Как боги, – сказал я.
– ДА, – сказала она, обернувшись, и пожирая меня взглядом.
– Какой ты Красивый, – сказала она, нервно поглаживая себя между ног.
– Я хочу тебя, – сказала она.
– А я тебя, – сказал я.
– Давай ЕБАТЬСЯ, – сказала она.
Мы бросились бдург к другу и я, подхватив Лиду на руки, присунул ей на весу. Начал бешено раскачивать ее, пока она, враскоряку, обхватила меня ногами. Я держал ее за задницу, и подбрасывал.
– Да-да-да, какой Стройный, – шептала она.
– Какая ТЫ стройная, – говорил я.
– О Боже, – сказал я.
– Ты спустил? – спросила она.
– Ерунда, – сказал я.
– У меня все еще стоит, – сказал я.
– И КАК, – сказала она.
– Говорила же я тебе, что снижение веса сказывается на потенции, – сказала она.
– Говорила же я тебе, что похудание на молекулярном уровне приводит к повышению выброса бета-гормонов в кровь, что вызывает, в свою очередь, резкое увеличение числа кровяных телец, поступающих в пещерис… ой бля ДА, глубже – сказала она.
– Да, – сказал я, встал к стене, прижал к ней Лиду, и продолжил трахать ее на весу.
Минут через десять она кончила первый раз, через двадцать – второй. Третий и четвертый – я засекал – она кончила на сорок пятой минуте, подряд. После полутора часов она кончила восемнадцать раз. На втором часу двадцать первой минуте я поставил ее раком.
– О Боже, да, давай, малыш, – просила она, – ты сейчас такой Сильный…
Через три часа я подобрал с пола кусок своего жира, смазал им член, и трахнул ее в задницу.
… после восьми часов невероятной, фантастической ебли, я отнес Лиду в в ванную, и помыл тепленькой водичкой. Принял душ сам, отнес ее в комнату. Лег, положил ее сверху, и нежно и долго поцеловал.
– У меня спина чешется, – сказала она.
– Лопатки, – уточнила она, – как будто… растет что-то?!
– Точно, – сказал я.
За спиной у нее появилось что-то радужное и сияющее.
– Черт побери, это крылышки, – сказал я, всмотревшись.
– Как у феи из команды «Винс»! – сказал я.
Это и правда были крылышки. Следующими изменились ее волосы – они стали ярко-зелеными. Потом невероятно расширились глаза, и запястья и щиколотки стали неестественно тонкими. Ноги удлинились в два раза, шероховатости с кожи на бедрах пропали. Талия стала очень тонкой… Я не верил своим глазам. На мне лежала фея из команды «Винс»! Я уеду в США с феей из команды «Винс»! Я только что выебал фею из команды «Винс»!
– Я люблю тебя, фея «Винс»! – сказал я.
Она улыбнулась и запорхала под потолком.
САМЫЙ КРУТОЙ СОПЕРНИК В МИРЕ
Если ты пловец, то ты слеп.
Не видишь ты ничего, кроме пузырьков и водоворота из них на поворотах, плитки на дне бассейне – или его потолка, – да изредка силуэтов соперников. Ты только слышишь.
Или гул или Великое Безмолвие.
Когда проходишь дистанцию на соревнованиях, мир звучит очень странно. Гул доносится до тебя в те редкие моменты, когда ты делаешь вдох. Так и проходит вся дистанция: тишина, потом вдох, тишина, потом снова вдох, и во время вдоха – короткий всплеск звуков. Свист, крики, вопли тренера, подбадривающие крики ребят из твоей команды, негодующие крики ребят из другой команды, визг девчонок, которым плевать, выигрываешь ты или нет, им только дай повизжать, ритмичное подсвистывание тренеров… Все сливается в гул. Бум, говорит гул в уши. А потом умолкает и наступает великое безмолвие. Это ты опустил лицо в воду и звук снова выключили.
Дистанцию я проходил красиво.
Двухсотметровка спиной. Одна из моих любимых. Ничего сложного. По свистку прыгаешь в воду. Перед заплывом надо разогреться, делаешь сначала разминку, потом одеваешься в теплый свитер, и носки вязаные на ноги напяливаешь. Чтобы не остыть. Так что, хоть вода на соревнованиях и теплая – по стандарту – но тебе все равно прохладно. Ты успеваешь поежиться. Всплыть, выпустив струю пузырьков, как аквалангист гребанный, – только без ласт, маски, и, собственно, акваланга. Рядом всплывают такие же. Все прыгают ногами вниз, такое называется «солдатиком».
Способ прыжка вниз зависит от моды. Да-да. Некоторое время назад – когда я был не то, что молод, а юн, – модно было прыгать как с обычного старта, головой и вытянутыми руками вперед. Ты прыгал, проплывал пару метров, а потом делал кувырок прям в воде, и возвращался к бортику. Это считалось шиком. Сейчас просто прыгают в воду. Как и пятьдесят лет назад.
В общем, вы всплыли. Подгребли к бортику. Взялись за поручни, повернувшись лицом к тумбочке, и спиной к воде. По свистку согнулись, приготовились. В этот момент пульс зашкаливает. Ну, а потом выстрел. И все толкаются, как только могут, и летят, выгнувшись, дугой – в воду, как можно глубже, потому что чем глубже ты вошел в воду, и чем сильнее бьешь ногами, а это называется поддельфинить, – тем дальше ты выйдешь на поверхность.
А чем дальше ты выйдешь на поверхность, тем быстрее проплывешь дистанцию, потому что под водой сопротивление ее телу меньше, чем на поверхности. Давно, еще когда никто не врубился в эту фишку, один русский проплывал под водой сорок-пятьдесят метров. Все только ртами хлопали, глядя, как он уделывает соперников на дистанции. И поделать с ним ничего не могли. В правилах ничего про это сказано не было. Феерия продолжалась больше года, пока не спохватились разные там комиссии. И длительность прохождения дистанции под водой ограничили.
Так что, если вы войдете Чересчур глубоко, то выплывете Чересчур далеко.
И вас снимут с дистанции.
Если свистка после старта не было, и вам не машут руками, значит, не было и фальшивого старта. Значит, можно плыть. И вы плывете.
Ряд пловцов, идущих дистанцию на спине, завораживает. Вспоминаешь белогвардейские цепи. Силуэты танков в зареве сражений Второй Мировой. Чем дольше ты плывешь, тем больше разгоняешься. И все разгоняются. Вы создаете волну, которая несет вас всех. Вы порождаете цунами. Вы создаете шторм. Вы как циклон. Как конная лава. Горе отставшему или тому, кто плывет с самого краю – его-то волна оттягивает назад.
Восемь спинистов, проходящих дистанцию в темпе…
Со стороны это выглядит, как заход вертолетов с моря в фильме «Апокалипсис».
Конечно, им не очень легко. Вертолеты идут на пределе возможностей, да и вьетнамцы не дремлют. В нос заливается вода, а если использовать зажим, то при поворотах голова раскалывается – это, чтоб его, давление. От поддельфинивания ноги немеют. Плечи выворачиваются. Ты задыхаешься, но благодаришь Бога за то, что выбрал именно спину. Тем, у кого лицо в воде, приходится еще хуже. Тебе тяжело. Но этого не видно. Это как корабль. Суета, черномазые потные механики, пар, обваренные руки, пробоины, ужас, помпы… Все это внизу. Под ватерлинией, или как называется эта штука, разделяющая корабль на ту часть, что над водой, и ту, что Под. Снаружи вы видите махину, которая легко и играючи несется. Рассекает.
Вот и пловцы – такие же.
И если вы думаете, что мне все это легко рассказывать, вы, чтоб вас, ошибаетесь. Потому что я рассказываю и одновременно проделываю все то, о чем вам говорю.
Прохожу дистанцию.
ххх
Главное в любой дистанции – ну, кроме самой короткой, которая всегда лотерея, и поэтому никогда мне интересна не была – не сдохнуть на второй половине.
Ради этого люди и тренируются в бассейнах, залах, рингах, стадионах, годами. Если ты в состоянии проделать вторую половину пути хотя бы чуть-чуть медленее, чем первую, – ну, а уж если так же, как и первую, то ты в дамках, – то дистанция пройдена правильно. И вот как раз с этим в последнее время у меня были проблемы.
Я приподнял плечо и пошел на поворот.
Гул.
Как и со многим другим проблемы, подумал я, перевернулся, и ушел в воду, на поворот.
Безмолвие.
Я толкнулся, и, отчаянно поддельфинивая, вышел на поверхность метрах в пятнадцати от бортика. Слабо, очень слабо. Гул.
Я заработал руками, и наступило безмолвие.
Первые пятьдесят метров я шел за 33 секунды, вторые – за 40.
Гул-безмолвие, безмолвие-гул.
Это был дерьмовый результат. Я мог бы зачастить, но это ничего не меняет. Машешь руками быстрее, а плывешь еще медленнее. Пришлось включать ноги, и выворачивать плечо чуть сильнее. Я работал им как веслом.
Третьи пятьдесят метров я прошел за сорок пять секунд.
Гул.
В принципе, можно было сходить с дистанции. Нет смысла продолжать попытку, если ты облажался, и это уже совершенно очевидно всем,
включая тебя. Продолжал я из-за упрямства. Гул.
Пошли последние пятьдесят метров.
На последнем участке надо выложиться. Это знают все. Пузатые дядьки в трениках говорят, глядя в телик: остался последний раунд, пусть выкладывается. Спортивные молодые люди, которые ходят в зал аж три раза в неделю, морщатся, объясняя подружкам, что бегун-ниггер должен был взорваться на последних метрах. Бездарные кретины в офисах пишут в интернете под рассказами писателей – «в концовке он сдал, а надо усилиться». И все в таком духе. Самое главное, они правы. Они правы, мать их так. На последних метрах и секундах надо взрываться. Это очевидно, это, блядь, совершенно ясно.
Неясно только, за счет чего.
Поэтому последние пятьдесят метров я прошел за пятьдесят секунд.
Итого вышло два тридцать восемь.
Коснувшись бортика, я ушел головой вниз, под воду. Все всегда так делают. Две тридцать восемь. Что-то около второго разряда. Срань. Воздуха не хватало. Но я не торопился выныривать. Безмолвие. Безмолвие, безмолвие.
Тем не менее, я вынырнул.
Безмолвие продолжалось. Я фыркнул, и подтянувшись, уселся на бортик. Над пустым открытым – это значит, что он без крыши – бассейном дымился пар. Небо было еще черным, бассейн освещали фонари. Вода, взбаламученная мной, успокаивалась. В воде, кроме меня, не было ни души. Еще бы.
Какой еще кретин припрется сюда в полпятого утра.
ххх
С чего все началось?
Я был жирным неудачником тридцати семи лет и подумывал о самоубийстве. Никаких эмоций. Все рационально. Плюсы этого поступка перевешивали преимущества жизни. Я уже почти решился, но, к счастью, в тот момент умерла моя московская бабушка. Я поехал на похороны, случайно выяснил, что никого больше у нас не осталось – ни у меня, ни у нее, – и, стало быть, я круглый сирота. Поэтому именно мне выпала честь продать ее квартиру за два дня до того, как меня прирезали бы те, кто претендовал на ее жилье. Я и продал. А после срочно вернулся в Кишинев.
Получается, сорвал куш. Заодно еще и трахнул толстенькую лимитчицу из Одессы, которая жила с бабушкой последние пять лет, вытирая за старушкой говно. Я даже фамилию ее почти запомнил. Надулова, Задулова… Что-то в этом роде. Она перебралась в Москву во время дутого российского изобилия, и подрабатывала в московских газетах и журналах до тех пор, пока их там не трахнул кризис, не прошли сокращения, и ей не пришлось стать тем, кем она и была на самом деле. Украинской прекрасной няней из сериала «Моя прекрасная няня», только не такой стройной, не такой молодой, и не такой прекрасной. В первый же вечер у гроба старушки она рассказала мне, какое ужасное говно эти москвичи, как они ее достали, и как здорово жить где-нибудь в Турции, где-нибудь в Бодруме…
– Где-нибудь в Бодруме во время турпоездки, – хотел сказать я, – хочешь ты сказать, детка…
Но было поздно, мы уже целовались.
Потом мы лежали в углу – квартира была однокомнатая, – и возились на пледе, при полном равнодушии со стороны воскового цвета бабушки. Не думаю, что ей – я, конечно, говорю об одесситке, – понравилось, но для лимитчика игра стоила свеч. Бабке, уверен, было все равно.
Она меня ненавидела и презирала.
Я отвечал ей тем же.
Поэтому, не обращая на тело никакого внимания, продолжил забавляться с девицей. Лимитчица рассчитывала прописаться в квартире, и заполучить ее после смерти бабки или даже при жизни этой пожилой дамы. Наивная. Бабуля до самой смерти была цепка, свежа, бодра, и человеконенавистница, каких свет не видывал.
Единственное, что ее подвело, – вера в собственное бессмертие.
Она не представляла себе, что умрет. Думала, что будет жить вечно. Пункта «смерть» в маршруте ее путешествия не было. Она совершенно серьезно рассчитывала пережить свою лимитчицу, – которую взяла, чтобы потрахать ей мозги, да воспользоваться услугами домработницы – и взять новую. Довольно самонадеянно со стороны бабушки, но что ж поделать. У нас в семье все отличаются оптимизмом. Ну, кроме меня. Да и то, я исправляюсь.
Повезло же мне со смертью бабки!
Итак, я быстренько приехал в Москву, сжег тело бабушки в одном из этих ужасных московских крематориев, закопал его на дальнем московском кладбище (три тысячи долларов за могилу, чтоб вас!) , всплакнул на могилке с лимитчицей – мы уже держались за руки, она бесхитростно рассчитывала, что мы поженимся – и быстренько продал квартиру. Помог одногруппник, который в Москве процветал. Он и объяснил мне, что, или я продам квартиру быстро и недорого, или меня убьют на хер какие-нибудь черные дилеры. Ну, или эта одесская женщина.
– Я вернусь через три дня, любимая, – сказал я, прижимая ее руку к свитеру, а там под слоем бинтов на мне были деньги за квартиру.
– Вот тебе ключи, – сказал я, и дал ей ключи от замка, который сейчас должны были уже снять и поменять на новые сотрудники фирмы моего одногруппника.
– Не шали тут, и уж пусти меня в квартиру, – сказал я чмокнув ее в толстую щеку, и она сделала вид, что растрогана и удивлена, и, кстати, я растрогался, такая она была вся несчастная, неловкая, Нездешняя на этом вокзале…
– Я же не москвичка какая, чтоб так делать, – сказала она, – это они тут все помешаны на жилье своем блядском, ебаный город!…
– Точно солнышко, – сказал я.
– Позвони, как приедешь, – сказала она. – И возвращайся скорее, я так устала среди всех этих москвичей сраных, наконец-то попался нормальный мужик.
– Ту-ту, ту-ту, – сказал я шутливо, чмокнул ее в нос, и вернулся в вагон.
Российские пограничники молдаванами брезговали, украинские – были слишком пьяны, молдавские меня, как русского, боялись – так что я привез все деньги целыми и невредимыми. Пересчитал, и офигел. Выпил на радостях бутылку коньяка с Любой. Я с ней жил тогда, хотя влюблен был, как всегда, в свою бывшую жену, Ирину. Но она от меня давно уже ушла. Вернулась к своему первому мужу. Кишинев. Гребанный гадюшник!
Ладно, к черту Кишинев. Итак, я заполучил денег на два-три года скромного существования. Первое, что я сделал, – совершенно неожиданно для себя – вернулся на бассейн.
– На кой хрен тебе это нужно? – спросила меня Люба, поглаживая перед зеркалом свои большущие, белоснежные, с синеватыми венками, груди.
– В детстве я был чемпионом Северо-Западной Зоны РФССР по плаванию, – сказал я, и сказал, кстати, правду. – И, боюсь, я больше ничего не умею.
– Ты задрот, – сказала она ласково.
– Но дрочишь-то перед зеркалом ты, – сказал я. – Сиськи своим ты ведь дрочишь.
– Выпьем, – сказала она.
Пили мы в ту осень не то, чтобы страшно, но много. И она и я. Она приносила с работы то вискарь, то текилу, потому что работала барменшей. Я никогда столько напитков качественных не пробовал, как в тот год. Ликеры, вина, крепенькое. Жрали литрами. И я все звонил Ирине тайком иногда, – боялся ее чересчур здорового и крепкого мужа, да он блядь даже в десанте служил, и меня, мешок говна с жиром, уделал бы за так – но она ко мне возвращаться не собиралась. И это было очевидно. Любой бы на моем месте сдался, ведь ушла она пять лет назад. Так я и сдался. Я уже ничего не ждал. Этот говнюк, ну, к которому она вернулась, он меня снова сделал. Я был чересчур не мужик для нее. Так что я сдался, сдался, сдался.
А звонил просто так.
Ну, и с плаванием было все то же самое.
ххх
Так вот, насчет бассейна.
Видимо, во мне сработал предохранитель какой-то. Организм встрепенулся и сказал, эй, стоять. Ну я и встал. А потом поплыл, потому что больше никаких видов спорта не знал. А плавал в детстве, потому что родители так хотели. Ну ладно, я поплыл. Купил себе абонемент на самый худший бассейн города, чтобы побыстрее завязать с этой долбанной затеей.
Но я не учел одной своей особенности.
Если я за что берусь, то берусь крепко.
Поэтому уже через год я весил на десять килограммов меньше, чем когда начал, и скачивал в интернете программы тренировок с самых продвинутых страниц для пловцов. Я вспомнил все об анаэробных и аэробных нагрузках, купил лопатки, доску, пояс специальный, резину, три пары плавок, и, что самое удивительное, я этим Пользовался. За день проплывал по пять километров. Люба только посмеивалась. На кой хрен мне это было нужно, я и сам не очень понимал. Но уж если взялся, держись, шептал я, расстегиваясь в туалете перед тем, как пойти в воду. Я ведь пловец, а мы, пловцы, не ссым в воду. Мы в ней Плаваем.
Я не работал, не писал книг, не читал их, ничем не интересовался, и не надеялся ни на что. Ничего такого.
Я просто плавал каждое утро плавал, возвращался домой и трахал Любу, и пил с ней, но пил, правда, все реже, потому что это мешало плавать.
После моего первого года в нашем бассейне начали плавать детская и юношеская сборные страны. Звучит угрожающе, но стоит вспомнить о том, что страна – Молдавия. Так что все было не слишком серьезно. Подумаешь, какие-то мастера спорта и кандидаты в мастера спорта лет семнадцати, да. Я плавал по крайней дорожке, а они беспощадной вереницей муравьев упорно жрали километры на своих центровых дорожках. Волны от них бросали меня на стены бассейна. Я ругался матом в воду, и продолжал плыть. Улучшал технику. Играл с нагрузками. Когда к двум командам добавилась третья – очевидно, запасные, или талантов стало блядь больше – я обнаглел и в одно утро выплыл не на крайней дорожке, где плавали полулюбители типа меня, а на центральной.
– Что этот ублюдок делает на нашей дорожке, – заорала одна тренерша.
– Я смогу плыть так, чтобы не мешать ва…
– А ну пошел на хуй отсюда! – заорала она и швырнула в меня доской.
Я не обиделся. Тренера все психи и все орут – попробуйте-ка поговорить с людьми, которые находятся в воде и в ушах у них вода. Тренера орут, а не разговаривают. В это время вереница ее подопечных, плывущих друг за другом, словно акулы на раненного дельфина, начала идти на поворот. Прежде чем я убрался, минимум трое малолетних засранцев шлепнули мне по голове пятками.
Я покорно уплыл на крайнюю дорожку.
ххх
Через два года я весил на двадцать килограммов меньше, чем когда начинал, плавал в день по семь километров, и плыл наравне с юношеской сборной из озорства. Понятно, что маленькие ублюдки быстрее меня в разы, но у меня было меньше времени на тренировки, так что я не отдыхал в промежутках, как они, да и нагрузки разнились…
В общем, я мог позволить себе выпендриться.
– Что это за хер плавает там? – спросил один из тренеров коллегу помоложе.
Тот что-то негромко объяснил, и я все два часа чувствовал на себе пристальный взгляд. Потом рядом со мной шлепнулась доска. «Арена»– вская, а не мое китайское говно.
– Чувак, – спросил этот тренер, – ты что, чемпионом мира стать хочешь?
– Ну, а если? – спросил я.
– Никак, – сказал он.
– Знаю, – сказал я.
Я был бывший пловец и он знал это. Он был тренер и я знал это. Вся фишка в том – и ее знает любой, кто занимался спортом хотя бы год, но в модных фитнес-залах вам о ней не рассказывают – что после 25 ваш организм умирает. Все. Точка. Остальное говно не имеет значения. Поэтому человек, начавший тренироваться после 25, никогда ничего не добьется. Максимум, затормозит свою смерть. Это как плыть против течения. Ты, если выложишься на все сто, замрешь. Но вперед не поплывешь. Никогда. Я это знал. Но мне было плевать. Я не знал, почему, но я плавал. От хлорки у меня уже изжога была. Я потел хлоркой. Пахнул хлоркой. Совсем как в детстве.
– Послезавтра чемпионат Молдавии, – сказал он. – Хочешь поставлю тебя на крайнюю дорожку прикола ради?
– Да уж будь добр, – сказал я.
– Какой у тебя был результат, когда ты бросил плавать? – спросил он.
– Второй разряд, – сказал я.
– Чего ты хочешь?
– Кандидата в мастера, – сказал я.
– Без тренера? – спросил он.
– Ну, у меня же есть вы, – сказал я.
– Вот придурок, – сказал он.
ххх
На этот раз шум был всамоделишний. Я стоял на крайней дорожке, рядом со мной готовились к старту детишки лет двенадцати. Это было форменным издевательством. Тем не менее. Я был здесь. На чемпионате Молдавии среди блядь юниоров. Только там я понял, что, как бы много не скинул за последние года два, выгляжу все еще дерьмово. В сравнении с любым из этих Аполлонов я был настоящее говно. С валиками по бокам. Что же. Я плеснул на очки водой, чтоб прилипали лучше, и приготовился к старту.
– В воду! – велели нам. – На старт, внимание…
Бахнул выстрел и мы бросились спинами вперед. Конечно, очки подвели. Очки всегда подводят, сколько не подгоняй. Поэтому я сорвал их на первом же повороте через 25 метров, и стал отчаянно работать. Я буквально рвал блядь воду. Шел как на таран. И после пятидесяти метров понял, что трибуны изумленно молчат и дело не в воде. Они просто поражались тому, как я иду! Потому что шел я, чтоб вас всех, феерически. Где-то на уровне кандидата в мастера спорта, определил я, и ошибся, кстати, совсем ненамного. Итак, я чемпион! Я блядь великий! Я!..
Само собой, я сдох уже на следующих пятидесяти метрах.
И оставшиеся сто пятьдесят доплывал не знаю на чем. Потому что соревнования и тренировки очень разнятся. Я буквально остановился метров за двадцать до финиша. У меня не было ни сил, ни желания, ни техники – ни хрена. Я уже решил, что сдаюсь и схожу с дистанции, как моя вялая рука ткнулась во что-то твердое. Боли я не почувствовал. Бортик. Само собой, я заехал в него и головой, как последний новичок. Оглянулся. На мой позор никто внимания не обратил, кое-кто из детей даже доплывали за мной.
– Вылезайте, – скомандовал мужик в белом костюме, – следующему заплыву место освободить!
– Ага, – сказал я.
Но у меня не было сил. Ноги не сгибались. Мне было стыдно в этом признаться, и лишь минут через пять я перевалился боком через бортик, кое как. На коленях – мне было уже по хер – дотащился до скамьи и сделал вид, что отдыхаю. Ко мне подошла медсестра.
– Вам плохо?
– Нет, – соврал я, и пополз в душевую.
Там меня стошнило. Кто-то похлопал меня по плечу. Это был парень лет двадцати трех, один из лучших пловцов страны, явно профессионал, он все понимал. Парень помог мне встать под душ и пустил горячую, очень горячую воду, почти кипяток. Минут через десять я ожил.
… На следующее утро вереница муравьев ползла по дорожке от одного бортика к другому, когда я вышел из раздевалки и положил на край бассейна доску и лопатки. Нацепил очки. Присел и попробовал ногой воду. С улицы в открытый бассейн заходить всегда лучше – вода после воздуха кажется более теплой. Выглядел я после вчерашнего не очень. Да и чувствовал себя примерно так же. Встал у крайней дорожки. Набрал в легкие воздуха и приготовился прыгать. На спортсменов я не смотрел. Мне было все равно. У меня свой счет.
– Дайте этому дебилу место на нашей дорожке, – сказала тренерша своим подопечным.
ххх
Время шло. Я стал тренироваться два раза в день. Проплывал шесть километров с утра и девять вечером. Денег все еще хватало, потому что я тратил минимум – на приличное, а приличное всегда недорогое, питание и оплату квартиры. Я стройнел и суровел. За три года скинул сорок килограммов, и с боков у меня теперь были только мышцы. Как, впрочем, и везде. Даже в душе у меня теперь были стальные мышцы. И еще я понял все про здоровое тело и дух. Оказывается, нас с этим не поимели. Правда, вероятен и вариант того, что дух приоритетен. Впрочем, это уже рассуждения, а я отучил себя от них. Я просто плавал.
На бассейне я был свой.
Пловцы здоровались со мной за руку, знали по имени, меня показывали новичкам плавательных секций, меня уважали качки из тренажерного зала, и я подумывал выбить себе, – совсем как у членов молодежной сборной, – татуировку акулы на предплечье. Правда, чувство юмора мне не изменило. И я предпочел пузатую золотую рыбку. Это оценили. Я плавал на одной дорожке со сборной, и часто выполнял их задания. Это значило, что я Могу выполнять их задания.
Как-то я постепенно перестал пить – нет, не бросил, а просто не хотелось – и Люба от меня ушла.
Я отнесся к этому очень спокойно.
К своему удивлению, я оказался бойцом.
Но бойцом, к еще большему моему удивлению, оказался не только я. Я говорю о той одесситке, ну, Задуловой? Она все же сумела вернуться, пусть не в высшую, а во вторую, лигу, и все-таки зацепилась в московских СМИ. «Голос Вечерней Москвы» или что-то в этом роде. Свои колонки она дублировала в интернете. Из них я узнавал, что дела у нее шли ни шатко, ни валко, и что ни жильем ни русским паспортом она так и не обзавелась, на что регулярно сетовала.
Но духом не пала, отдаю ей должное.
Я даже решил как-то извиниться перед ней за то, что не оправдал надежд, но оказалось, что она меня помнит, и вход в ее живой журнал оказался для меня закрыт. Что же. Вместо этого я скачал статью «Актуальные проблемы в научных исследованиях в спортивном плавании в 90—хх годах». Я плавал, плавал и плавал.
– Будь ты лет на 20 моложе, стал бы великим чемпионом, – сказал мне как-то чужой тренер.
Я отнесся к этому вежливо, потому что ценить нужно только те комплименты, который говорит тебе Твой тренер. Уж ему-то они, комплименты, даются нелегко. Как и тебе то, за что ты получаешь эти сраные комплименты.
– Почему это? – спросил я.
– Ты самый тупой и самый упрямый кретин, которого я когда-либо видел, – сказал он.
– Я знаю, – сказал я.
– Но сейчас тебе уже под сорок, и ты Никогда не станешь, Никем не станешь, – сказал он.
– Знаю, – сказал я, меряя пульс.
– Скажи мне, на хер тебе все это? – спросил он.
– Не имеет значения, – сказал я.
– Трахнутый, – сказал он.
– По сумме пульсов в третьей зоне, – сказал я.
– Значит, надо еще поплавать, – сказал я.
И снова поплыл.
ххх
На четвертый год – мне уже стукнуло сорок один, и как-то незаметно для себя я увел свою бывшую и любимую жену Ирину от ее первого и третьего мужа, экс-десантника, – я как-то пришел на бассейн, и не стал переодеваться.
Вместо этого я собрал трех тренеров, и заставил каждого из них взять по секундомеру.
– Ты что, мать твою, не мог соревнований подождать? – жаловались они.
– Вы же знаете, что от соревнований у меня выброс адреналина, Страшный, – говорил я.
– Адреналин убийца мышц! – смеялся я.
– Давайте бля, – сказал я.
Они вышли на бортик, а я пошел переодеваться. На трибуне был один болельщик. Моя бывшая, она же нынешняя, жена. Спортсменов не было, все умотали на сборы. Я размялся, и вышел в воду. Принял стартовое положение.
Стартовал.
О том, что я проплыву 200 метров спиной по кандидату в мастера спорта, я знал еще с утра, как только проснулся. Так что даже и не удивился. Тем более, что все шло, как надо, и последние пятьдесят метров я был просто уверен в том, что иду с опережением графика. Я с опережением и шел. Они знали, что я плаваю значительно лучше, чем когда начал. Но все равно удивились. Первые сто метров я прошел за минуту и шесть секунд. И вторые сто метров я прошел за минуту и шесть секунд. Они удивились.
А я не удивился. Я просто стоял у бортика, дышал глубоко, и вспоминал заплыв.
Гул-тишина, гул-тишина, гул-тишина.
– На чемпионате Молдавии ты произведешь фурор! – сказал мой тренер.
– Восставшие из ада, – сказал кто-то.
– Ожившие мертвецы, – пошутил я.
Мы еще немножко посмеялись.
Нужно ли говорить, что на чемпионате Молдавии я облажался? На этом чемпионате через две недели я проплыл секунды на три хуже своего нового достижения. Тем не менее, я не пал духом. И уже через полгода-год подтвердил результат на соревнованиях. Потом еще на одних. После чего решил, что соревнований не будет. Но плавать я продолжу. Но никому об этом не сказал. Просто переоделся, посмотрел еще как ребята-юниоры идут полтора километра кролем, и вышел на ступеньки школы, где был чемпионат.
– На кой хрен? – спросил меня там чужой тренер. – На кой хрен тебе это? Ты же Олимпиаду не выиграешь, ты же не думаешь блядь, что ее выиграешь, а, ты же не псих, который так думает?
– Конечно нет, – сказал я.
– Так на хрена? Чувак, в мире знаешь сколько миллионов кандидатов в мастера спорта, а? И это ВСЕГО лишь кандидаты в мастера спорта, это даже не профи, а ПОЛУ-профи.
– Профи с мастера спорта начинаются, – открыл он для меня Америку.
– А полупрофи – миллиарды, – преувеличил он, ведь их все-таки миллионы.
Я сказал:
– Да по херу мне на них.
– И на них и на миллионы и на олимпийские игры, – сказал я.
– Во всем мире есть единственный кандидат спорта, которого я должен перегнать, – сказал я.
– Самый крутой соперник в мире, – сказал я.
Я говорил о себе.
Я ПРИШЕЛ ПЛЮНУТЬ НА ВАШИ МОГИЛЫ
– Ну и что ты там найдешь, на этих могилах?! – орала она.
– Золото, – говорил я.
– Какое золото, ты, псих ненормальный?! – возникала она в дверях ванной с руками, по традиции воткнутыми в бока.
– Слушай ты, вали отсюда, – говорил я, причесываясь.
– Что ты там чешешь, у тебя же волос почти не осталось от пьянок этих, ты же пропил их вместе с мозгами последними! – орала она.
– Слушай, Наташа, не беси меня! – говорил я терпеливо, и открывал пивко о край ванной.
– Не бесите его!!! – орала она, – нет, это же надо!
– А ну пошла отсюда!!! – орал я.
– Заткнитесь вы там, придурки! – орали соседи.
– Пошли вы, недоумки! – орал я.
– Ну все, тебе конец!!! – орал сосед.
И начинал ломиться в дверь. Наташа немножко визжала, выбегала на балкон и орала…
«Людидобрыепомогите Зелинскогодвадцатьтридробьдваквартирапять насубиваетсосед психскореевызывайте полициюа спаситеапомогите!!!!»
На что ей, поскольку все-таки был третий час ночи, кто-то лениво возражал из соседского дома:
– Да заткнись ты, сука!
– Кто, я?! – спрашивала эта сумасшедшая, которая переключалась мгновенно.
– Ты, – говорили откуда-то из темноты, хихикали, и умолкали.
Я, допив пиво, разбивал бутылку, брал в правую руку горлышко с очень – ОЧЕНЬ – неровными краями, и рывком правой распахивал дверь, за которой стоял сосед. Первое, что говорил этот испуганный мужчина:
– Давай выпьем!
– Иди на хер, – говорил я.
Не то, чтобы мне не хотелось выпить. Просто это был мой последний бастион. Я не пил ни с кем в этом доме, расположенном в Кишиневе по улице Зелинского. В одном из многочисленных городских гетто. Так вот, в этом доме я ни с кем не пил. Из принципа. Остатки гордости, что ли. Опять же, тут если с кем выпьешь, примут за своего, а это финал. Я и так в тот год почти не писал, а если бы еще пил с алкоголиками Старой Ботаники – ну, район такой – то вообще бы помер. Хотя и так был близок к этому. По крайней мере, на кладбище собирался. Что очень волновало мою подружку, Наташу. Слава Богу, расписаны мы не были, хоть и собирались. Но я был слишком ослаблен для того, чтобы пойти с ней в загс, как она того хотела. Очень хотела.
– Ну что, ты довольна? – спрашивал я, выпроводив соседа.
– Что довела мужика до слез?! – спрашивал я, хлебнув еще пива.
– Нет волос, говоришь?! – это у меня было позднее зажигание, до меня начинали доходить ее оскорбления по поводу моей скудной на голове растительности, и мне становилось действительно обидно.
– Да, нет волос!!! – орала она.
– Ну тогда смотри, тварь ты этакая! – говорил я, и снимал штаны.
– Фу, застегнись! – кричала она.
– А чего фу, чего фу?! – орал я. – Я же в тебя это Сую!
– Никогда больше не сунешь! – орала она.
– И слава богу! – орал я.
– Вот зашибу золотишка на кладбище, издам пару книжек, и стану мировой звездой, Фитц… Фидж… Фитцдж… Скоттом короче! – орал я.
– Ты и так скот, – орала она.
– Ты даже не знаешь о каком Скотте я говорю, тупица! – орал я.
– Иди к черту и ты, и твои скоты! – орала она.
– Я пойду в зал мировой славы! – орал я. – А ты, ничтожество, умрешь как планктон!
– Да кому ты нужен со своими книжками! – орала она.
– Тебе уж точно нет!!! – орал я.
Глаз у меня подергивался, потому что пил я почти четыре месяца.
Вовсе не так, чтобы запоем, но каждый день. Это налагало определенные обязательства, согласны? Тем не менее, на работу я не торопился – с прошлой оставалось еще денежных запасов на год-полтора. И здоровьишка, не зря же я года два, – пока работал, – бегал по стадиону, да штанги тягал. Я всегда так делаю. Жирка накопишь и в берлогу. Бутылку посасывать, запасы организма растрачивать. Вместе с этой ненормальной, которая все время доставала меня своими «давай поженимся». Но я не хотел, потому что прекрасно видел, из-за чего она с ума сходит и дело лишь в этом. Наташа утверждала, что будет примерной супругой. С чего бы, милая, спрашивал ее все время я, ты же с половиной города переспала, и встреча со второй половиной не за горами. Ну, говорила она, если ты будешь мой, мне никто не будет нужен. Как же, говорил я. Таскаться – это как вирус. Которая таскалась при муже единожды, та будет таскаться до конца дней. Ну и кто ты после этого, спрашивала она, ведь трахал меня, еще когда я была замужем, именно ТЫ. Отвали, говорил я. Ах ты козел, говорила она, ты намекаешь на то, что я на передок слаба и потаскушка последняя? Заткнись, говорил я, я тебе прямо говорю, что ты слаба на передок и ты потаскушка последняя. Сам заткнись, говорила она. Урод, говорила она. О кей, говорил я. Допивал пиво, разбивал бутылку, брал ее за горлышко правой рукой, а Наташу за горлышко левой. Она вырывалась, бежала на балкон, и, пока я пытался разбить стекло, орала:
«Людидобрыепомогите Зелинскогодвадцатьтридробьдва квартирапятьнасубивает моймужик психскореевызывайте полициюаспаситеапомогите!!!!»
ххх
В доме оставаться больше сил не было: как водится, эта «примерная жена», любившая поговорить про свои замечательные кулинарные способности, и побросать в воздух слова «ризотто, кляр, молекулярная кулинария», есть не готовила, уборкой занималась редко, и слово «уют» носило для нас довольно абстрактный характер. Попросту говоря, ничего не значило. Потому что никакого уюта у нас не было. Так что я, побрившись, оделся в свой лучший костюм – ждавший своего часа – и спустился на три остановки к железнодорожному вокзалу. Здесь была чудная забегаловка, в которой я и пил до семи утра в окружении вокзальных проституток, вокзальных полицейских, вокзальных попрошаек и просто людей, ждавших свой ночной поезд. Ну и, конечно, вокзальных проституток. Уже говорил про них? Неважно. Одну, с очень красивым телом, но никаким лицом, я даже сделал героиней своей старой повести. К счастью, она об этом не знала. Иначе, думаю, она бы загордилась и повысила таксу.
В кафе было накурено. Но кое что различить было можно. Мне все время хотелось привести сюда Наташу, чтобы показать ей, что такое НАСТОЯЩИЕ проблемы, а не ее «великие беды», о которых эта идиотка постоянно ныла. Среди перечня этих ужасных Бичей Цивилизации было: то, что я на ней не женюсь, ее чертов поломанный каблук, то, что ее чертовы фотографии с претензией на оригинальность не взяли в какой-то модный молдавский журнал, и тому подобное. Думаю, расскажи я об этом в привокзальном кабаке всем этим псевдо-паралитикам, сифилитичкам, ментам, крышевавшим игровые автоматы, и стрелявшимся иногда из-за сифилитичек-проституток, в которых они влюблялись, подросткам-нищим и прочему контингенту, – от грохота и смеха там упали бы люстры. Хотя я, конечно, вру. Никаких люстр там не было.
В любом случае я Наташу сюда не приводил. И никого не приводил. Ну, кроме своей первой и единственной любимой жены Ирины. Но она разбила мне сердце, так что я не буду о ней говорить.
Итак. Если бы я привел сюда Наташу, она бы с ума сошла от ревности, глядя на ту самую проститутку, о которой уже говорил. Тело у нее было как у Наоми Кэмпбел в лучшие годы. А у Наташи, хоть она и была смазлива, ноги были коротковаты, спина – широковата, и она вечно боролась с лишним весом. Пока получалось, но что будет лет через пятнадцать, было очевидно. Еще один повод не пойти в загс. Так вот, красивая проститутка… Нет, я с ней не спал. Говорю же, триппер был самым безболезненным, что вы могли подхватить на вокзале. Его чудный мир я открыл для себя, когда был студентом, и приходил сюда ночевать в зал ожидания. С тех пор я здесь частый гость. Здесь, да на кладбище, куда любил приходить, чтобы побыть в одиночестве. Кстати.
В семь утра открывалось кладбище.
Перед тем, как туда отправиться, я зашел в туалет, и, обойдя пару куч, глянул на себя в мутное зеркало. Остался доволен. Выглядел я как надо. Как всегда, когда пьешь очень долго, и так, что уже и уснуть не можешь.
Не то, чтобы опустился, но состояние уже сумеречное.
ххх
На кладбище я поехал на такси.
Парень за рулем был мрачный. Судя по всему, обдолбанный.
– Ты, что ли, обдолбанный? – спросил я.
– Ну типа того… – промычал он.
– Тогда останови здесь, – сказал я.
Он остановил. Я зашел в магазин, купил пару бутылок вина, – белого «Траминера», – вернулся к машине и сел.
– Я думал, ты хочешь уйти, – сказал он.
– Почему же ты не уехал? – спросил я, открывая бутылку.
– Ну так я же обдолбанный, – сказал он медленно.
– Поехали, хочешь вина? – спросил я.
– Нет, я лучше покурю, – сказал он.
– Кишиневские таксисты, – сказал я.
– Вы еще потом жалуетесь на то, что вас все за нелюдей считают, – сказал я.
– Работа нервная, – сказал он, выкурил пол-косяка, и мы поехали.
– Чувак, а зачем тебе на кладбище с утра? – спросил он.
Я расплатился и сказал:
– Днем я здесь отсыпаюсь.
– Ты вампир, что ли? – спросил он медленно.
– Хуже, – сказал я.
– А хуже это как? – спросил он непонимающе.
– Езжай отсыпаться, – сказал я.
ххх
Иванов, Петров, Сидоров, Михайлов, Лоринков – читал я фамилии героев Бессарабии, павших во время первой Мировой во славу короля Румынии Михая.
По крайней мере, так было написано на их помпезных могилах.
– Вот идиоты, – сплюнул я. – И ни одной молдавской фамилии…
Впрочем, для человека, откосившего от молдавской армии, я плевался чересчур энергично. Да и никого рядом не было, так что можно было не играть. И я сразу забыл про все это.
Аллея героев была у самого входа. Ворота уже были открыты, так что на территорию я попал вполне легко. Что с вином и с утра – мало ли. Случаи разные бывают. Да и охраны на Армянском кладбище, хоть это и самое мажорское кладбище города, попросту нет. Эти молдаване экономят на всем, чем только могут, подумал я. И сэкономил на цветах, купив в киоске при церквушке свечку. Прогулялся к своим могилкам, зажег там свечушку, выдул литр винца, и стал гулять. Но пришел-то я сюда не за этим. Пришел я сюда за золотишком.
Дело, конечно, было вовсе не в жадности.
Просто, когда пьешь четыре месяца, и работы ближайшие полгода-год не предвидится, ты начинаешь не то, чтобы паниковать, но задавать себе вопросы. Ты спрашиваешь себя: что я буду делать, когда деньги кончатся? И чем дольше ты пьешь, тем отчетливее ты понимаешь, что выходить на работу тебе не хочется. Ты говоришь себе: о кей, так что же делать? В молодости я всегда знал, что, – когда деньги кончатся, а сил на то, чтобы заработать новые не будет – остается самоубийство. С возрастом я, как и все старые трусливые ублюдки, начал любить это гнусное времяпровождение в ожидании конца – жизнь. Поэтому я, проезжая случайно мимо кладбища пару недель назад, вдруг понял.
– Да это же Клондайк! – сказал я соседке в автобусе, которая отодвинулась, потому что от меня пахло.
Нет, только спиртным. Я ужасно чистоплотен, купаюсь по три раза в день. Наташа говорит, что это инстинктивное желание отмыть черную – как печная труба внутри – душу. А по мне так, она тупая дешевка. Впрочем, Бог нас рассудит, Бог да третья мировая война. Так или иначе я, когда раздобуду деньжат, просто-напросто пошлю ее и заживу сам, подумал я и успокоился.
Ладно. Кладбище и в самом деле представляло собой Клондайк. Здесь же похоронены чуваки и тетки со всеми их золотыми зубами, крестиками, банкнотами, которые любящие дикари кладут в могилы… А склепы?! Да каждый склеп просто нафарширован деньгами, я думаю! Вот я и решил, что прошвырнусь немного по склепам, да и разживусь золотишком всяким. Особенно много его, подумал я, – отправляясь за винцом в магазине у кладбища, – в старинных склепах. Наверняка же все эти графы, князья да купцы, клали своих мертвецов в землишку не просто так, а в куче драгоценных камней! Это же престиж, гламур, или как оно там у них все называлось лет двести назад?
– Куча золотишка, – сказал я, вновь заходя на кладбище.
– Старые склепы благородных блядь бессарабских семей, – сказал я, устраиваясь на скамеечке в темной аллее могилок девятнадцатого века, куда редко кто заходит.
– Чертовы драгоценности, не нужные покойникам, – сказал я, достав из пакета бутылки.
– Заодно давно пора стать тем, кто я есть, – сказал я, проталкивая пробку в бутылку.
– Свободным человеком, способным сделать что угодно, как угодно и где угодно, – сказал я, хлебнув.
– Хватить пить, вообще-то, – сказал я, с сожалением выпив половину бутылки.
– С другой стороны, – сказал я, допивая бутылку, – сейчас уже поздно рыться в склепах, утро же, сейчас принесут какого-нибудь жмурика, и увидят меня…
– Не пытайся соскочить, – сказал я себе, откупоривая новую.
– Что ты все пьешь и пьешь, – сказал я.
– Словно в тебе губка, – сказал я.
– Ладно, заткнись! – сказал я себе.
– Сейчас сделаем, – сказал я.
Попил еще. Сказал, обращаясь ко всем покойникам этого чертова кладбища:
– Вы мертвецы и мусор.
– А я живой человек.
– Сверхчеловек, – добавил я.
– Я пришел плюнуть на ваши могилы! – сказал я.
– Это будет акт литературы, – сказал я жмурикам.
– Это авангардизм, а я творец, – сказал я.
– Поэтому я пришел плюнуть на ваши могилы, – повторил я.
И понял, что сказал это чересчур громко. До полного опьянения оставалось совсем чуть-чуть. Пора было решать, что делать. Я выбрал славу и золото. Встал, с сожалением глянул на две пустые бутылки – конечно, я не кретин, и взял четыре, – и пошел к склепу, который выбрал, прогуливаясь. Высокое каменное сооружение, окруженное проволокой– сеткой, кое где порезанной. С бюстом в центре. Какого-то ротмистра, который погиб здесь, в чертовой Бессарабии, на дуэли, в 1864 году. О чем и сообщала надпись на камне у бюста. На бюсте был изображен молодой мужик, с орденами какими-то. Я подумал, что похоронили его, наверняка, с наградами. А их раньше делали из драгоценных металлов. Отлично. Ротмистру было двадцать семь лет.
– Идиот ты ротмистр, – сказал я, и понял, что меня пошатывает.
– Подождал бы ночью возле угла, выстрелил бы блядь в спину тому кретину, который тебя пришил на честной дуэли – сказал я.
– Дурак, – сказал я.
И заплакал. Потому что ниже была еще одна подпись «от безутешной молодой матери», и мне стало дико жаль этого пацана, до слез. Итак, я разрыдался. Потом вытер лицо, открыл еще бутылку и понял, что я набрался серьезно. О кей. Я вылил в себя вино, даже не почувствовав вкуса, отбросил бутылку, и полез в склеп. Зашел в этот сырой, затхлый домик, не чувствуя ничего, – что странно, так как покойников я опасаюсь, – и увидел лестницу из нескольких черных ступенек. Встал на верхнюю. Начал спускаться. Ступенька пошатнулась. Я подвернул ногу. Упал. Сильно ударился головой.
Перед тем, как вырубиться, с облегчением увидел, что последняя бутылка упала со мной и не разбилась.
ххх
Очнулся я часов пять спустя.
Лежал в самом склепе, рядом с покойником. Вернее, тем, что от него осталось. Какие-то тряпки, пожелтевшие кости. Ни намека на червей и мясо, так что я не переживал. Как ни странно, было мне не очень плохо. По мобильному телефону определил время суток и какой день. Конечно, я порылся в останках. Но не нашел, ничего не нашел. Впрочем, на трезвую голову идея обогатиться кладоискательством на кладбище представлялась уже не такой блестящей. Так что я обыскал кости ротмистра проформы ради. Ну, раз уж полез…
Потом пощупал ногу и голову. Все болело, но не очень. Попробовал встать. Получилось. Правда, ударился головой о потолок склепа.
Полусогнутый, вышел по ступенькам, держась руками за стены. Глянул вниз. Обычная черная дыра. Пошатываясь, вышел на свет Божий. Выбрался за территорию склепа, и побрел в укромный угол кладбища, о котором мало кто знает. Полянка, окруженная кустарником за самыми старыми могилами. Встал там, на солнышке, и вдруг понял, что пережил зиму и в городе уже апрель. Все было зеленым, деревья цвели, и пели птицы. Я прилег.
Солнце пригревало, и я впервые за несколько месяцев уснул.
Приснилось мне почему-то сражение персов с римлянами. Я командовал когортой. Шел чуть сбоку от нее, плакал, кричал, просил держать строй – нас атаковала конница – и убил троих всадников. А от копья четвертого увернуться не успел и почувствовал сильный удар ледяного металла в грудь. Проснулся, и увидел, что Солнце садится, и земля уже холодная. Сел. Помассировал виски. Допил вино. Вышел за ворота, вызвал такси. Дома никого не было. Только записка.
«ты самовлюбленная пьяная сволочь, я ухожу от тебя, соскакиваю с тебя как с наркотика, иди к дьяволу, провались ты пропадом, и я вовсе не шлюха, сам ты такой понял? я кинула тебя, ха-ха, я, а не ты!»
Я выбросил записку в ведро, и положил руку на грудь. Сердце ухало, на висках был пот. Так всегда, когда запой заканчивается. Я разделся, и часа три драил квартиру. Когда она, наконец, заблестела, включил радио и лег в ванную. Налил туда колпачок пены. Закрыл глаза. Минут через десять вода набралась, так что я выключил кран. Стало слышно радио.
Передавали Баха.
ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ
– Да это же сам Моклитару!
– Ага, а я сам император Нерон.
– Протри глаза, кретин! Это сам Моклитару!
– Сам Моклитару?
– Сам Моклитару.
– Не может быть!
– Говорю тебе, это Моклитару, лопни мои глаза.
– Выпьешь еще столько же, лопнут.
– Кстати, может, выпьем?
– Давай, за все хорошее. Но, неужели же сам…
– Говорю тебе, сам Моклитару!
– Черт, вот жизнь собачья!
Человек, о котором шла речь, Моклитару, поежившись от утреннего холода – на нем из верхней одежды была лишь майка, – продолжил обход столиков кафе. На каждый клал ручку, переплетенную цветной проволокой, бумажку с ценой на ручку прописью, и отходил. Возвращался минуты через три. Если на бумажке лежали деньги, брал их, и отходил. Но чаще всего ручка так и лежала нетронутой, и тогда ее приходилось забирать.
Вообще-то это был бизнес глухонемых, но их главарь – здоровенный рыжий мужлан, – в молодости обожал балет. Поэтому для Моклитару сделали исключение. И он не всплыл с проломленным затылком где-то в русле кишиневской реки Бык, а продолжил торговать ручками в кафе. Хотя бизнесом-то это и не назовешь, тоскливо подумал Моклитару. И хлопнул первые сто граммов, оглядывая столики. Десять часов утра.
– Может, предложим ему выпить? – подал надежду голос.
– Да ну, он и так алкоголик, зачем усугублять? – убил надежду другой.
– А почему он спился? – слышал он голоса, к которым уже привык.
– Слава, – сказал кто-то.
– Бабы, – ответил кто-то.
– Посиделки с друзьями, – предположил кто-то, на которого зашикали друзья.
Если бы Моклитару хотел, то непременно рассказал бы компании, почему спился.
– Я просто люблю оцепенело смотреть в лицо вечности, – сказал бы он, и только алкоголь позволяет мне отрешиться от всего, что мешает это делать. Это был красивый ответ, рассчитанный на таких вот дурачков в кафе. Но это была и правда. Бывший хореограф с мировым именем – нонсенс для Молдавии, за это его здесь сразу же возненавидели, – Моклитару обожал оцепенело смотреть в лицо вечности, и только алкоголь позволял ему отрешиться от всего, что мешает это делать. Сначала было шампанское после премьер – выпив впервые в жизни в тридцать, Моклитару понял, что родился именно в этот момент; потом коньяк, потом джин и виски, затем водка. Все это стало мешать работе и творчеству и он бросил работу и творчество.
Потому что только пьющий человек в состоянии понять, насколько оно жалко, это ваше несчастное творчество.
Сейчас Моклитару покупал первую выпивку за полтора лея, – десять центов, – и был это самогон самого поганого качества. Сто граммов. Но вкус не имел значения. Главное ведь совсем другое, думал Моклитару. Слава его наступила десять лет назад и прошла пять. Значит, спиваюсь я уже пять, подумал он. Но все это не имело значения. Он не хотел ставить спектакли, не хотел писать, не хотел творить, ничего не хотел. Он вспомнил свой спор с давним приятелем, журналистом Лоринковым, и криво ухмыльнулся.
– Творец должен творить, так хочет Бог! – кричал этот пафосный торопыга.
– Бог его знает, чего он хочет, этот Бог – отвечал Моклитару, – но если он и правда Творец, то одного на весь мир хватит.
– Смирение это перестать пытаться подражать одному единственному творцу в мире, – сказал Моклитару.
– Значит смирение это пить и ничего не делать, – сказал он.
И смирился. Это было давно. Лоринков, по слухам, давно уже в Португалии, моет посуду в ресторанчике своего брата и, по ночам, урывками, все конкурирует с богом, самовлюбленец несчастный.
А Моклитару тут. В кафе.
Утренний холод все не проходил. Бича начала бить легкая дрожь. Компания каких-то выпивох, – по виду то ли интеллигенция, то ли бичи, а в Молдавии выглядят они одинаково, подумал Моклитару, – с сочувствием глядела на бывшего хореографа с мировым именем. Для Молдавии Моклитару был то, что надо. Кому в этой дыре не хочется видеть человека, которого принимали президенты, которого обслуживали лучшие танцовщицы мира, и который все проиграл. Но это они так думают. Я не проиграл, подумал Моклитару. Мир это казино Бога. У казино можно все время выигрывать лишь одним способом, подумал он. Только отойти.
И отошел от стойки, собирать ручки.
ххх
Хореограф Моклитару пересчитал выручку.
Она составила сумму на бутылку дешевого коньяка. На полдня этого вполне достаточно, подумал хореограф и вышел из кафе, слегка пошатываясь. Дела шли не очень. Спиваться приятно, но это приводит к тому моменту, когда спиваться просто не на что. Парадокс, подумал хореограф. Чтобы пить, нужны деньги, но когда пьешь, деньги кончаются. Дьявольская диалектика!
Напротив заведения – средней ценовой категории, с хорошим кофе, и неплохой едой, – зловеще глядело черными окнами здание городского КГБ. Оттуда, пошатываясь, вышел человек в плаще.
– Моклитару? – спросил он почему-то Моклитару.
– Моклитару, – ответил тот.
– Хотите работать на нас? – спросил человек в плаще.
– А что надо делать? – спросил Моклитару.
– Ходить, как и раньше, в кафе, только не просто раскладывать ручки, а подслушивать разговоры и докладывать о них нам, – ответил человек в плаще.
– Кому нам? – спросил Моклитару.
– Такие вещи не разглашаются, – ответил человек в плаще.
– Значит, делать то, что я делал раньше, докладывать об этом черт знает кому и…
– Но-но! – сказал человек в плаще.
– Ладно, – сказал Моклитару.
– Делать то, что раньше, докладывать об этом чер… тем, чье имя не разглашается, и получать за это зарплату?
– Какую еще зарплату? – спросил человек в плаще.
– Пошел к черту, – ответил Моклитару.
– Моклитару! – крикнул ему вслед человек в плаще. – Моклитару!
– Мы думали, вы патриот! – крикнул человек в плаще.
– Патриот и обормот! – крикнул, сделав па, не утративший артистизма Моклитару.
– Моклитару, я прошу вас, остановитесь! – крикнул человек в плаще.
– Иди. К черту, – сказал, не оборачиваясь, Моклитару.
– Ну прошу вас, ладно, давайте забудем неудачное начало, – крикнул человек в плаще.
– Иди к черту, – сказал Моклитару, уходя.
– И все же, я прошу вас, я заклинаю вас именем балета, остановитесь! – крикнул человек в плаще.
Моклитару остановился и обернулся.
– Ну? – спросил он.
Человек в плаще сказал:
– Может быть вы тогда одолжите мне десятку до пятницы?
ххх
Дома хореограф налил в грязную ванную кипятка – купался он два раза на дню, скоро за долги ему отключали и горячую воду, следовало поторопиться получить ускользающие блага – и поставил в старый проигрыватель пластинку Баха. Запись в рижском католическом костеле. Советское еще качество, подумал Моклитару и хлебнул из бутылки. Достал томик Шекспира. Открыл наугад. «Король Лир». Начал читать. На восемнадцатой странице, там, где дочери уже стали предавать старенького отца, Моклитару всхлипнул. Ближе к концу, когда Лир босой и нищий, бродил по полям, хореограф начал плакать в полную силу. Он понял, что обнажил нервы настолько, что принял на себя ВСЕ скорби мира.
Трагедия отца Ахилла была для него жива, как сегодняшняя.
Дети, вырезанные испанцами в Мексике, обнимали его колени.
Маленький турецкий принц, утопленный братом, лежал в его ванной.
Трехлетний еврей бился в обратную сторону стекла его непропитой еще духовки.
На месте пропитой люстры болтался пятилетний английский пацаненок, повешенный за бродяжничество в семнадцатом веке.
Король Лир был для него ЧЕЛОВЕКОМ, а не театрально-литературной мишурой.
Моклитару понял, что принял на себя все скорби мира, и возрадовался.
Но и разрыдался. Прямо как Иисус.
– Господи, Господи, Господи, – приговаривал он.
– Как же так? – спросил он.
– Бедненький-бедненький, – сказал он.
– Бедные дети всего мира всех веков, – сказал он.
– Господи, я прошу тебя, умой их росой и дай покоя, – всхлипнул он.
Выключил проигрыватель, и, оставляя лужи, пошел в комнату и включил радио. Передавали стихи о детях блокадного Ленинграда. Моклитару сел, и, обхватив голову руками, разрыдался.
– Бедные, несчастные дети, – сказал он.
– Как Бог мог допустить это? – спросил он.
Потом подошел к окну, и допив коньяк, спросил:
– Чего хочешь от мя, Господи?
Сверху никто не ответил. Но зазвонил телефон. Моклитару, все еще плача, вздрогнул.
– Знак, – прошептал он и взял трубку.
– Моклитару? – это была бывшая жена.
– Ну? – спросил он, все еще переживая.
– Как насчет алиментов хотя бы за позапрошлый год? – спросила она.
– Твоим двум детям нечего одеть, – напомнила она.
Моклитару знал, что она не преувеличивает. Пацанам и правда нечего было одеть. Да и питались они не так, чтобы очень. В основном горохом, макаронами и хлебом.
– Ну а чем я могу помочь? – спросил он.
– Какой же ты… – сказала она.
– Отцепитесь от меня все, – сказал он резко.
После чего повесил трубку и снова заплакал.
– Бедные детки, – сказал он.
И добавил, чтобы понятнее было:
– Бедные ленинградские детки.
На следующее утро проснулся Моклитару поздно, и, выйдя в кафе, увидел, что вместо него ручки раскладывает какая-то потаскушка. Он уволен, понял бывший хореограф. Оставалась последняя ступень. Ну, что же.
Моклитару начал просить Христа ради.
ххх
– Пятерочки не будет? – интимно шепнул хореограф паре журналистов с главного канала.
– Пошел вон отсю… – обернулся к нему один, и замолчал.
– Да это же сам Моклитару, – услышал хореограф шепот, отходя с пятеркой.
Ему было все равно. Это оказалось, как играть в школьном театре. Сначала дрожь, а потом равнодушие и высокий профессионализм. И прима, упитанная девятиклассница, в качестве главного приза. Конечно, в голосах подающих было удовлетворение. Человек из Молдавии стал мировой звездой и опустился. Бинго. Это оправдывало существование четырех миллионов жителей Молдавии в глазах самих четырех миллионов жителей Молдавии. Но они, конечно, наивны как дети, подумал Моклитару. Думали, что спаивают меня, а я сам шел по своему пути.
Пятероч… – начал было Моклитару, но осекся.
– Моклитару, – сказал человек в плаще, – на кого вы работаете?
– Иди к черту, – сказал Моклитару.
– Иди к черту ТЫ, – сказал человек в плаще и показал ордер на арест с местом под фамилию.
– Садись, – велел он.
Моклитару послушно сел. Он не боялся тюрьмы, но там нельзя пить. Зачем тогда туда садиться? Человек в плаще хлебнул пива.
– На кого ты работаешь? – спросил он.
– Ни на кого, – сказал Моклитару, – что вы не…
– Не компостируй мне мозги, – сказал человек в плаще.
– Ты шаришься по городскому кафе, где шарится вся спившаяся интеллигенция, чтоб ее, – сказал человек в плаще.
– Подслушиваешь их разговоры несчастные, – продолжил он.
– Ты не вербуешься, наконец, – сказал человек в плаще.
– Значит, – сказал он, – тебя уже завербовали и ты стучишь на кого-то другого.
– Осталось выяснить, на кого, – сказал он торжествующе.
– Я просто нищий, – сказал Моклитару, и всхлипнул.
– Я… я… я… – всхлипывал экс-хореограф.
– Соберись, – сказал человек в плаще, – давно пьешь?
– Лет семь, – сказал Моклитару.
– Недолго тебе еще, – сказал человек в плаще.
– Вам тоже, – сказал Моклитару, глядя, как жадно тот допил пиво.
– Я на государственном коште, – сказал человек в плаще, – такие спиваются гораздо дольше.
– Так на кого ты работаешь? – спросил он.
– Клянусь, ни на кого, я нищ, я алкоголик, я опустился, – сказал Моклитару, и снова стал плакать.
– Алкоголики все слезливые, – сказал человек в плаще.
– Так будешь стучать на нас? – спросил он хореографа.
– За зарплату да, – сказал, плача, Моклитару.
– Не вербуется, гаденыш, – сказал человек в плаще.
Встал, и вышел. Моклитару повертел пустую кружку, собирая языком остатки пены, и вытер слезы. В кафе было пусто. Бармен в углу старательно делал вид, что ничего не заметил.
Хореограф вздохнул и стал ждать посетителей.
ххх
Зимой человек в плаще спас Моклитару жизнь.
Намерения, у него, правда, были прямо противоположные.
Когда Моклитару выходил из кафе – уже темнело и сразу за дверьми, окаймленными по периметру мигающими лампочками, начиналась ночь, – его уже ждали. Человек в плаще и еще один человек в плаще.
– Вот ты и попался нам, гад, – сказал человек в плаще.
– Агент иностранной разведки, – сказал еще один человек в плаще.
– Какой еще разведки? – спросил Моклитару, пока они подталкивали его к стене.
– Ты же сам не захотел нам рассказать, – сказал человек в плаще.
– Значит, эта тайна умрет с тобой, – сказал еще один человек в плаще.
– Я требую адвоката, – сказал Моклитару.
Люди в плаще рассмеялись. Старший показал Моклитару завтрашнюю правительственную газету. На ней чернел приговор Моклитару.
«Государственная разведка разоблачила агента иностранных спецслужб! Сопротивляясь, подонок погиб! Разведчики оправдали существование нашей спецслужбы на годы вперед. Подонок подслушивал разговоры национальной интеллигенции в культовом местном кафе! Грим нищего… Легенда алкоголика.. Вербовка.. На кого… Чьи силы…»
– Зачем? Что это? – спросил Моклитару, поняв, что его правда убьют.
– А ты, вражина, думал, что зимний отпуск только у бомжей бывает? – спросил человек в плаще.
– Мы получим за тебя премию, – сказал мечтательно еще один человек в плаще.
– Лично я поеду в Румынию, в горы, – сказал человек в плаще.
– А я в Болгарию, тоже в горы, – сказал еще один человек в плаще.
– Ладно, пора кончать с ним, – сказали хором оба.
– Слушайте, – сказал Моклитару, замерзший, потому что верхней одежды у него, конечно же, не было, – но ведь не делается все это ТАК.
– А как это делается? – спросил, смеясь, старший.
– Ведь врагов государства убирают тайно, – сказал спившийся хореограф, вспомнив пару фильмов, которые смотрел в детстве
– Верно, – сказал человек в плаще. – НАСТОЯЩИХ действительно убирают тайно.
– Вот как дружка твоего, Лоринкова, – сказал еще один человек в плаще.
– Он всех нас так задолбал своей так называемой гражданской позицией, что его пришлось убрать, – признался он.
– Или ты думал, что он в Португалии посуду моет, ха-ха? – спросил Моклитару человек в плаще.
– Да, – сказал помощник, – помню ту операцию…
– Премия и три недели летнего отпуска в Тунисе, – сказал он.
– Но ты-то не настоящий враг государства, – сказали хореографу люди в плащах.
– Поэтому тебя можно замочить явно, и получить за это премию и отпуск.
– Я проте… – начал Моклитару.
Но не закончил. Мужчины деловито пырнули его ножом тридцать четыре раза, и ушли.
Моклитару умер.
ххх
Но какой-то молодой врач больницы скорой помощи, у которого все еще чесалось побыть Айболитом, решил иначе. И Моклитару спасли, зашив все его тридцать четыре дырки, и откачав после двух клинических смертей. Хореограф, лежа в теплой палате всю зиму, без алкоголя, под капельницами, окормляемый диетическим питанием, понял, что его спасли. Во всех смыслах. В больницу, правда, пытались прорваться местные журналисты, но им объяснили, что убитый агент совсем другой, а этот – просто бомж, пострадавший в пьяной драке.
– Повезло тебе гаденыш, – сказали люди в плащах, когда пришли навестить хореографа.
– Живучий, как кошка драная… – поэтично восхитились они.
– Что с моей женой? – спросил вдруг Моклитару.
– А у тебя есть жена? – спросили люди в плащах.
– Я думал, вы знаете всё, – сказал Моклитару.
– Мы знаем все, что нам нужно, – сказали люди в плащах.
– А твое семейное положение нам не сдалось, – огорчили они Моклитару.
И ушли, оставив хореографу сок и булочку.
Моклитару подумал, что у блокадных детей и такого не было, и расплакался.
ххх
Следующим летом, выписавшись из больницы, посвежевший и помолодевший Моклитару стал братом Иеговы. Но ежедневного маршрута не сменил. Ходил все по тем же заведениям, только теперь вместо ручек и жалостливых историй подкладывал на столики Библии.
– Братья мои, – говорил он алкашам, окружавшим его, как голуби окружают туриста на площади Святого Марка.
– Я излечился и вы сможете, – говорил он.
И рассказывал всем свою историю. За небольшими исключениями – пара пьяных и обколотых подростков, жаждавших на новую дозу, вместо людей в плащах, – в ней все было правдой. И звонок от жены, как предупреждение Бога. И слезы о бедных детках. И все такое. Деток Моклитару водил с собой. Двоих пацанов – восьми и десяти лет – в костюмчиках и с папками. Конечно, когда не было уроков. Мальчишки были степенными и важными. Маленькие Свидетели. Моклитару получал за Служение кое какие деньги, так что ребята начали отъедаться. Жена хореографа от счастья потеряла дар речи, и стала разносить с глухонемыми ручки и игрушки по кафе.
Моклитару думал, что сорвал банк во всём.
– Я пришел к вам, братья, как послание, – говорил он.
– Я пришел к вам как предупреждение, – предупреждал он.
– Я пришел к вам, – говорил он.
Кое кто и правда завязывал. В конце концов, пример был более чем убедительный. Все помнили, в каком положении был Моклитару ДО и в каком появился ПОСЛЕ. Все считали, что Моклитару спас сам Бог. И хореограф, раскладывая Библии на замызганные столики кишиневских кафе, иногда думал, что, возможно, Творец хотел бы конкуренции с нашей стороны в чем-то. Хоть мы никогда у него не то, что не выиграем, но даже и не сравнимся с ним. Но он конкуренции все равно хочет и ее поощряет.
Хотя бы просто для того, чтобы быть в форме.
ххх
Спустя четыре года исцеленному было явлено Чудо.
Экс-хореограф и проповедник Моклитару, раскладывая Библии, наткнулся в одном ихз кафе на покойника. Жестоко убитый писатель Лоринков пил кофе, сваренный на песке, неприлично – чересчур неприлично для умершего, – хлюпая.
– Я пришел дать вам… – растерянно сказал Моклитару.
– Чего? – спросил Лоринков, и поднял глаза.
– Ох ты, – сказал он. – Воскресший Лазарь.
– Моклитару, вы бросили пить? – подвинул он стул хореографу.
– Мне сказали, ты давно погиб, – сказал Моклитару.
– Я? – удивился Лоринков.
– Да я мою посуду как заводной, и только и успеваю, что по ночам написать кой чего, – сказал он.
– В Португалии, – сказал Моклитару.
– В Испании, – сказал Лоринков.
– Чертова Молдавия. Всё переврут, – покачал он головой.
– Я думал ты покойник, – еще раз сказал Моклитару.
– Да ничего со мной не случится, – утешил Лорикнов хореографа, и крикнул, – два коньяка и еще кофе.
– Я не пью, – сказал Моклитару.
– Нет проблем, я выпью два, – сказал Лоринков.
– Не стоит пить, – сказал Моклитару.
– Я и не пью, – нелогично сказал Лоринков.
– Давай я тебя угощу, – сказал Моклитару, потянувшись к кошельку.
– Не стоит, – резко сказал Лоринков.
– А в чем дело? – спросил Моклитару.
– Я никогда не позволяю молдаванам себя угощать, – сказал Лоринков.
– Ну, чтоб не спиться, – пояснил он.
– Молдаване всех спаивают, – сказал он, и хищно подвинул рюмку хореографу.
– Ты суеверен, – сказал Моклитару.
– Это имеет резоны, – сказал Лоринков.
Моклитару подумал о себе и вынужден был согласиться.
– Вот, в отпуск приехал, расслабляюсь, – сказал Лоринков.
– Давай расслабимся, читая Библию, – сказал Моклитару.
– Давно это с тобой? – спросил Лоринков.
– Бог спас меня, – сказал Моклитару.
– Бога нет, – сказал Лоринков жестко.
– Я это давно для себя выяснил, – сказал он жестоко.
– Это еще почему? – спросил Поклитару, оживившись в предчувствии спора.
– А как же ленинградские дети? – спросил Лоринков, и выпил коньяк.
Моклитару поник.
ххх
В тот день хореограф впервые пришел на Собрание слегка выпившим.
Но потом держался еще немного. Пить он начал спустя полтора месяца. В первую очередь проданы были Библия и папки. Потом пиджак и галстук. Последними ушли брюки. Жена, – как коллега по работе, – пила вместе с ним, и квартиру они пропили очень быстро. Дар речи к ней так и не вернулся. Когда, выпив, она попала под автобус и ее привезли в больницу, она не смогла сказать, какая у нее группа крови, и умерла.
Моклитару, пьяный, оборванный, на радость публике вновь стал попрошайничать в кафе напротив городского КГБ. Он плясал у столиков, и говорил, что ненавидит Бога и что Бог несправедлив, раз допускает мучения детей. Его дети были уже взрослыми, и с отцом отношения порвали. Моклитару этого, во время своей ссоры с Богом, не заметил. К осени его видели на улицах в одних семейных трусах. Он был настолько грязнен, что его брезговала задерживать полиция.
Холодало и женщины останавливались у витрин меховых магазинов все чаще.
Надвигалась зима.
ЗЕБРА
Взгляд у Иры был тягучий, с поволокой. Каждый раз, когда Ион чувствовал на себе блеск этих всегда влажных органов зрения, в уголках которых, то и дело, появлялась большая слеза, сердце его осыпалось. Прямо так и осыпалось, тонко звеня разбитым об асфальт хрусталем. Еще у Иры была челка, которая тоже разбила Иону сердце. Челка была всегда растрепанная, и парню хотелось подойти к ней и поцеловать. Вообще, Ира обладала очень многим, что разбивало сердце Иона. Парень даже всерьез подумывал над тем, чтобы пойти к врачу. К кардиологу.
– Проверьте, доктор, есть ли у меня еще сердце, – скажет усталый Ион, – или оно разбивалось так часто, что уже не собралось вновь…
А врач улыбнется, и понимающе попросит рассказать, что же это за причина такая, по которой сердце Иона разбито. Хотя, конечно, все будет прекрасно понимать сам. Ведь врачи, – опытные и пожилые, – всегда знают, что лечат не причину болезни. Причина недугов, знал Ион, всегда одна. Любовь. Само собой, в больницу он идти боялся. Во-первых, Ион был в городе человеком новым и людей стеснялся. Да и времени на больницы у него не было: парень работал в зоопарке, и только и успевал, что чистить вольеры животных, косить траву, да убирать территорию. Во-вторых, Ион боялся, что, рассказав врачу-кардиологу, которого он выдумал, всю правду о том, что сердце ему разбила Ира, он, Ион, попадет уже к другому врачу.
Ведь Ира была зеброй кишиневского зоопарка.
Тем не менее, поделать с собой Ион ничего не мог. И, глядя на челку Иры, на ее глаза, – человечьи, внимательные, любящие, – и в особенности на полный зад на тонких, ухоженных задних ногах, все сметал и сметал с асфальта осколки своего сердца. А сзади Ира напоминала Иону изящную полосатую рюмочку: шикарный зад на стройных ножках манил парня даже ночами.
– Безусловно, в этом сказывается ваше детство, проведенное в деревне, – сказал профессор Дабижа, – ведь многие дети, выросшие на природе, совершенно положительно относятся к скотоложству. Более того, это является важной частью их ээээ… сексуального опыта.
– Сами вы, профессор, скот! – обижался Ион.
Профессор не обижался. С Ионом он познакомился, когда парень работал в зоопарке уже год. Профессор Дабижа, – член Союза писателей, известный филолог, и антрополог, – привел в зоопарк внучку. И, глядя, как молодой, лет двадцати, рабочий в синем комбинезоне любовно глядит на зебру, продекламировал:
– Старой Эллады прекрасная страсть…
Когда Ион, робея, признался, что ничего из этих слов не понял, профессор Дабижа охотно отпустил внучку к пруду с персидскими утками и лебедем-шипуном, а сам прочитал Иону целую лекцию.
– Друг мой, признайтесь, вы влюблены в эту зебру? – осторожно начал он. – Да право, не стесняйтесь! В Древней Греции, упомянутой мной, как Эллада, вашу страсть бы не только не осудили, но более того, ей бы восхищались! Поэты слагали бы о ней песни! О ней говорили бы ораторы на площадях!
Ион, ожидавший вызова полиции в худшем случае, а в лучшем – просто насмешек, оттаял. Присел на корточки, и стал слушать. А профессор Дабижа объяснял, – как он сам выразился, – сложившуюся ситуацию. В Греции, говорил он, эпохи Гомера люди понимали, что любовь, – это взаимное притяжение двух душ.
– И все! – поднимал палец профессор.
Только две души. А уж в какой оболочке они существуют в этом бренном мире, неважно. Потому союз мужчины с мужчиной, женщины с женщиной, в Древней Греции предосудительным не являлся. Более того. Мужчина с мальчиком, женщина – с маленькой девочкой, мальчик с козочкой, мужчина со скульптурой…
– Ну, и, конечно, – закончил список Дабижа, скептически пожав плечами, – мужчина с женщиной.
Ион слушал внимательно, и лицо его пылало. Ира, скромно склонив голову, пощипывала траву под оградой, проволока на которой кое-где была размотана, любителями покормить животных с рук.
– Греки понимали, – благовествовал профессор-антрополог, – что любовь есть высшее притяжение. Да, плотским совокуплением единение душ постигается, но оно не суть важно. Поэтому возлюбите того, кого вы любите, отбросив ложный стыд, мой мальчик.
С тех пор профессор Дабижа и работник зоопарка Ион Галустяну не то, чтобы сдружились, но довольно часто общались. И как-то даже парень привел своего мудрого друга в восторг, дав новое определение любви. Любовно поглаживая челку Иры, Ион, мечтательно глядя в небо, сказал:
– Любовь это как жизнь. Любовь это зебра. Чередование черных и белых полос.
После чего, подумав, уточнил:
– Чередование черных и белых полос на самой восхитительной в мире заднице.
Профессор про себя подумал, что Ион духовно очень вырос. И порадовался за парня, но внучку, на всякий случай, в зоопарк приводить перестал. А страсть Иона стала так велика, что ломала купол неба, который трещал и осыпался голубым стеклом на асфальт рядом с багряными остатками сердца Иона. У вольера с зеброй Ирой он проводил почти все свободное время, да и рабочее тоже.
– Я хочу тебя, – сказал он как-то Ире, – хочу так, что изнемогаю, и от томления моего ноги слабеют. Только твое тело меня вылечит, любовь моя.
После чего, оглянувшись, взял морду зебры в руки и поцеловал ее в губы. К счастью, Ира куснуть его не успела: и о поцелуе у Иона остались самые лучшие воспоминания. Губы у Иры были мягкие, как ладонь матери, и окончательно свели парня с ума. Ион после работы не положил ключи, как обычно, в будку сторожа, а спрятал в карман. И вернулся в зоопарк вечером. У охранников это подозрений не вызвало: о том, что работники зоопарка народ ретивый, и служат не за деньги, а из любви к животным, знали все. Потому Ион, улыбнувшись знакомому сторожу, кивнул и стал спускаться к вольеру Иры. Он думал, что, оказывается, два года любви сердце его пощадили: Ион обнаружил, что оно есть, и колотится, как сорока, залетевшая в крытый вольер орлов. Правда, у самого вольера Иры сердце и вправду остановилось. Навсегда. Ион увидел, как на вытоптанной земле резвятся две зебры.
– Откуда… – прохрипел, а может, прошипел, Ион, – это…
– Радость, старик. Молодого самца купили, – радостно хлопнул его по спине молодой ученый из секции млекопитающих, – жеребят, может, выведем! Два часа назад из аэропорта красавца привезли!
Оба они знали, что зебры в зоопарках потомство дают крайне редко. Но ученый, довольно улыбаясь, и гнусно подмигивая, сказал, что зебры вот уже три часа над этим вопросом трудятся. Сейчас вот передышку небольшую взяли…
Ученый, напевая под нос, пошел к озеру, ловить рыбу для пеликанов. Ион стоял у вольера еще два часа. А потом заплакал, последний раз взглянул в глаза Иры, встряхнувшей головой, и кивнул сам себе. Потом повернулся и пошел вверх, часто оглядываясь. Один раз, когда Ира всхрапнула, он едва было не побежал обратно, но увидел, что она ластится к самцу, и тяжело вздохнул. Ясно было, что Ира о нем уже и не вспоминает.
На следующий день Ион Галустяну перешел в секцию пресмыкающихся.
КОНЕЦ
БОЛЬШАЯ ОШИБКА
– Почему ты не спишь со мной? – спрашивал я.
– Почему ты на мне не женишься? – спрашивала она.
– Я женюсь на тебе хоть завтра, – говорил я.
– Завтра у меня дела, – говорила она.
– Ну, вот видишь, – говорил я.
– Ты понарошку все это, у тебя ведь нет серьезных намерений, – говорила она.
– Я совершенно серьезно, – совершенно серьезно говорил я.
– Я тебя люблю, – говорил я.
– Сколько у тебя девушек? – спрашивала она.
– Ни одной, – говорил я.
– Я думаю, с пять – шесть наберется, – смеялась она.
– Это неправда, – говорил я.
Это действительно была неправда. Девушек у меня тогда было всего три. Это не считая ее. Одна из девушек знала о существовании двух других, остальные – нет, ну, а Наталья догадывалась. Что же. Все мы были тогда в возрасте, когда все кажется ужасно простым и понятным – после юношеских-то терзаний, метаний, и прочего дерьма. Нам было по двадцать лет. Так вот. Насчет пяти девушек.
– Это неправда, – говорил я.
– Только позови меня и я брошу все и всех и вся, – говорил я.
– Женись на мне, – говорила она.
– Ты и правда этого хочешь? – спрашивал я.
– Нет, – говорила она.
Оба мы знали, что, женившись на ней, я перестану быть тем, кто ее привлекает. Сраным непризнанным писателем, упорно выдающим рассказ за рассказом, повесть за повестью, – причем никто эту хрень не печатает, и никогда не будет. А чтобы прокормить себя ради подобного времяпровождения, я работал в газетах. А так как лет мне было, повторюсь, двадцать, все это давалось мне достаточно легко. Наташа принадлежала к несколько иным – если блядь вообще не к другому. – слоям общества. Папа ее был крупной руки бизнесмен, катался по городу на «Порше» сраном, изредка злил ее мамашу, приходя с работы благоухающий коньяком и помадой, да строил городки элитного жилья один за другим. От дочки он был без ума, о чем не преминул сообщить мне в первый же раз, как только меня увидел. Как и то, что я ей явно не пара: за Наташенькой, сообщил мне он, ухаживает куча парней с Настоящими целями в жизни.
– Ни хера себе, – сказал я, и отвернулся рассмотреть зеркало в полный рост на первом этаже их особняка сраного.
Но, тем не менее, по дороге домой от этого особняка меня не убили и даже не избили. Из чего я сделал вывод, что папаше в чем-то даже понравился.
– С чего бы это? – спросил я Наталью, когда мы, вдоволь нацеловавшись, валялись у меня на продавленном диване в съемной квартире.
– Он чувствует в тебе стержень, – сказала она, мягко перехватив мою руку.
– О, да, у меня есть стержень, и еще какой, – сказал я, и притянул ее руку к стержню.
– Ну прекрати, – хихикнула она. – Папа чувствует в людях стержень, правда же. Он чувствует, что, пусть ты с виду бездельник и лузер, но у тебя есть Цель. И ты протопчешь к ней путь, словно носорог, а если кто встанет поперек, растопчешь, как гадюку.
– Ну ни хера себе, – поразился я этим матафорам животного мира, и продолжил обжимать ноги Натальи.
– К сожалению, – вздохнула она, – ты и груб, как носорог.
– Ты спала с носорогом? – спросил я.
– Я и с тобой не спала, – парировала она.
– Слушай, может, ты девственница? – спросил я.
– В двадцать-то лет? – спросила она.
– Ой, ну извини, – сказал я.
– Так на кой хрен я тебе нужен? – спросил я.
– Да я люблю тебя, – сказала она, и мне захотелось поцеловать ее.
Что я и сделал. После чего она вывернулась, и уже стояла у зеркала – не такого роскошного, как у нее дома, да, – и поправляла прическу. Выглядела она на все сто. Как, впрочем, любая симпатичная девка при богатых родителях. Умела одеться, подать себя, как надо. Она была красивой, чего уж там. И прическа ее – чересчур видимый беспорядок, такой якобы беспорядок, над которым, как пишут в сраных дамских романах, корпят парикмахеры часами, – сводила меня с ума. Эти локоны… Наташа была блондинка.
Наверное, она и сейчас такая.
Другим моментом, который меня в ней привлекал, была ее самостоятельность. Не наигранная, а всамоделишная. В семнадцать лет она украла у него пару тысчонок, с восхищением поведал мне папаша, и открыла свой бизнес тайком от него. Потом рассчиталась и уже к двадцати владе тремя салонами красоты и двумя магазинами мягкой игрушки. Настоящий пацан в юбке. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Конечно, папа, ответил я. На что получил в ответ скептический взгляд. Он, конечно, чувствовал, что я опасный и упрямый маньяк, но брака, разумеется, не допускал. Даже мысли о нем. На хуя его дочери выходить за какого-то Модильяни – да, он смотрел кино! – сраного, если еще не факт, что этот чувак будет хотя бы как Модильяни. Так он мне и сказал.
– Папаша, вы хотя бы одну картину этого блядь Модильяни видели? – спросил я его.
– А ты ее блядь видел? – оказался он не так прост, как казался.
Мы сошлись на ничьей. Но он особо не злобствовал. Я и сам понимал, что Наташа никогда не выйдет за меня замуж. А если и выйдет, то мне придется изменить в своей жизни все. Начать делать карьеру, например. Поменьше пить. Я не то, чтобы был алкоголик, но заливал крепко. Если ты пишешь, тебе нужно время от времени пить, объяснил я, это как чистить диски. Вовремя не потрешь обилие лишней информации, тебе конец. Но если ты настоящий писатель, то ты хуй сопьешься. Потому что книги важнее всего, даже выпивки. Вот почему Буковски ненастоящий писатель, а, например, Мейлер настоящий.
В любом случае жениться на Наташе должен был другой чувак. Кто-нибудь из этих хорошо выглядящих парней с собственными машинами, в хорошей одежде. Выпускников блядь лицеев. Неплохих, кстати. Я, конечно, говорю о выпускниках, хотя и лицеи ничего. Но я о парнях. Если парню повезло родиться в богатой семье, это ведь вовсе не значит, что он говно. Скажем так, судьба дает ему шанс этим говном стать, но он может им не воспользоваться. Некоторые знакомые Наташи, которые были из богатых семей, относились ко мне даже с вежливостью. Рассматривали как бедного и без шансов, но все же соперника. Они не понимали, что я вовсе не заинтересован в получении ее, как ценного приза.
Я любил ее
ххх
Больше всего мне нравилось ходить с ней на бассейн.
Там я Наташей откровенно любовался, хотя куда уж откровеннее, я и так на нее все время пялился, в одежде ли, без. Фигура у нее была что надо, на животе, плоском и крепком, пару родинок, будивших мои самые блядь грязные желания, и сиськи наливные и крепкие – всего лишь четвертый размер, – стесняясь того, что не пятый, говорила она. Ох уж эти женщины. Для них сиськами мериться, все равно, что мужикам – членами… В общем, она была красива, и красива вдвойне, потому что было ей двадцать лет. И я любил ходить с ней на бассейн. Потому что там все равно, какой лицей ты закончил, и есть ли у тебя машина. Ладно, ладно, признаю. Я блядь комплексовал. И только в воде чувствовал себя неплохо, тем более, что фигура у меня была еще стройная, и плавал я быстро – форсил, нырял, выныривал, словно дельфин блядь, обдавал ее брызгами, а она смеялась и плескала в меня воду ладонями, а потом я подплывал, и она обнимала меня за шею, и прижималась, и я чувствовал, какая она теплая. И спрашивал:
– Почему ты не спишь со мной?
– Почему ты на мне не женишься? – спрашивала она.
– Я женюсь на тебе хоть завтра, – говорил я.
– Завтра у меня дела, – говорила она.
– Ну, вот видишь, – говорил я.
– Ты понарошку все это, у тебя ведь нет серьезных намерений, – говорила она.
– Я совершенно серьезно, – совершенно серьезно говорил я.
– Я тебя люблю, – говорил я.
– Сколько у тебя девушек? – спрашивала она.
– Ни одной, – говорил я.
– Я думаю, с пять – шесть наберется, – смеялась она.
– Это неправда… – говорил я.
Вот такой вот замкнутый круг. Мы понимали, что свадьба это не про нас. Женись я на ней, мне бы пришлось заниматься карьерой. Сдать на права. Купить авто. Обзавестись манерами. Образованием. И я перестал бы отличаться от десяти-двадцати парней, у которых все это было, причем с рождения – так что мне бы никогда их не догнать.
После чего мы расплывались, и я ждал ее в холле, а она, выйдя, сушила волосы под большим металлическим колпаком, и глядела на меня оттуда весело, и выглядела после воды чуть уставшей. Потом отвозила меня домой – среди ее многочисленных достоинств был хороший новый автомобиль, – и мы долго целовались в машине.
Однажды мы пришли на бассейн вечером после закрытия, и я уж думал, что уйдем, не солоно хлебавши. Но Наталья сунула денег какому-то сраному сторожу, и весь вечер бассейн под открыт был открыт только для нас.
Это было как Рождество. Над водой вилась дымка, небо было ужасно звездным, и когда Наташа, тихо смеясь, поплыла ко мне, я подумал, что, может быть, мне стоит рискнуть и попробовать обойтись безо всей этой хуйни. Рассказы там, книжки… Наташе я об этом благоразумно не сказал. Ей бы не понравился мой отказ даже от такой абстрактной цели. Говорю же, она любила пионеров, первопроходцев, и вообще козлов упрямых. Она плавала вокруг меня, словно русалка, воздух был теплым, а вода еще теплее, и я любовался ее полными, крепкими ногами, и лобком – прекрасным, как спуск в преисподнюю – и был счастлив настолько, что мне даже не приходило в голову написать обо всем этом после рассказ.
– Ты умеешь танцевать румбу? – спросила она.
– Что? – спросил я.
– Держи меня за талию, и двигайся, как скажу, – велела она.
Ладно. Мы стали танцевать румбу. В воде получилось медленно и поэтому я справлялся. Хотя даже в воде умудрился наступить ей пару раз на ногу. Она тихо смеялась, и мы были одни. Я на минуту представил, что все люди мира исчезли. И сейчас на планете только мы. Должно быть, занятное зрелище мы представляем с Луны, подумал я.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
Я ответил.
– Чего ты хочешь? – спросила она.
– Свободы, – сказал я.
– А что такое свобода? – спросила она, старательно поворачивая меня за собой, изображая танцевальное па.
– Свобода это полная независимость от всего, – сказал я, – вплоть до отказа от силы притяжения. Когда мы в воде, свободные, кружимся под ночным небом, словно пара дельфинов долбанных, мы свободны.
– Экий ты… – сказала она, и продолжила танцевать.
Я смотрел на ее прекрасное лицо, и думал о том, что лучше женщины мне не найти. Красивая, богатая, фигуристая. Черт побери. Я мог бы жениться на ней, жить за ее счет, и писать книги, подумал я.
– Сколько мы с тобой знакомы? – спросил я. – Ну, с тех пор, как я увидел тебя на улице и спросил, не нужен ли тебе молодой садовник?
– Почти год, – сказала она.
– Зачем я тебе нужен? – спросил я. – Жить ты со мной не хочешь, отпустить не хочешь…
– Иди, – сказала она, с закрытыми глазами.
– Сейчас блядь, – сказал я. – Ну, так все же?
– Ты классный, – сказала она, и прижалась головой к моей груди.
– Если я стану с тобой жить, ты захочешь, чтобы я изменился? – спросил я.
– Да, – сказала она.
– Если я изменюсь, ты по-прежнему будешь интересоваться мной? – спросил я.
– Нет, – сказала она.
– Пат, – сказал я.
– Я люблю тебя, – сказал я.
– Я люблю тебя, – сказала она.
– Чем докажешь? – спросил я.
– А ты чем докажешь? – спросил она.
– Ты единственная, кому я в жизни позволил называть себя зайкой, – сказал я.
– Ах ты зайка, – сказала она.
– Тем не менее, ты меня не хочешь, – сказал я.
– Не в плане поебаться, а вообще, – сказал я.
– Я как раз хотела об этом с тобой поговорить, – сказала она.
– Давай, – сказал я, и у меня сжалось сердце, по-настоящему, без сраных каких-то метафор, я даже легкую тошноту почувствовал.
– Давай будем друзьями, – сказала она.
– Давай, – сказал я.
– Вот и славно, – сказала она. – Поедешь со мной на дачу? Я решила устроить день рождения на природе. Будет куча славных ребят.
– Ну уж нет, – сказал я.
– Ты обиделся, – сказала она.
– Провались ты пропадом, – сказал я.
Она улыбнулась чуть виновато и поцеловала меня в нос. Ну что же. Мне было не привыкать. Я поднял этот блядь свой поцелованный нос повыше и улыбнулся ей тоже. Мы вышли на бортик и пошли в душевую. Она зашла за шкафчики напяливать на себя всю эту их сбрую, а я немного постоял голый, потому что ненавижу вытираться. Я люблю, чтобы вода обсыхала.
– Помоги мне пожалуйста, – сказала она.
Я обернулся полотенцем и пошел к ней. Наташа стояла голая, спиной ко мне.
– Обними меня сзади, – сказала она.
Я нежно обнял ее за плечи.
– Не так, – сказала она.
– Грудь, – сказала она.
Я сглотнул и положил руки ей на грудь. Мы замерли. Я стал опускать руку вниз, и вдруг почувствовал, что она дрожит. Да, рука. Да, Наталья. Ладно. Они обе дрожали. Я повернул ее к себе, и мы неловко, как будто все еще в воде и танцуя какую-то странную румбу, – пошли к кушетке, на которой здесь днем массируют жирных теток.
– Ты этого хочешь? – спросил я по своей вечной привычке пиздеть больше, чем нужно, особенно когда надо молчать.
И выставил себя полным идиотом. Она даже ничего не сказала. Все было по глазам видно. Ну, мы это замяли. Я сел на кушетку, и с минуту любовался ей. Потом потянул ее за руку, она, улыбнувшись, легла рядом. Я ее поцеловал.
Потом мы трахнулись.
ххх
– Форевер янг, ай вонт ту би… – пел я.
И поддавал шампанского, уже вторую бутылку. Хотя мы только-только и выехали из Кишинева. Наташа, в прелестном платьице, смеялась, и – редкий случай – не хмурилась тому, что я поддаю, а потихонечку тянула шампанское сама. На заднем сидении кроме меня, ящика шампанского и Наташи, была еще ее подружка. За рулем сидел какой-то притырок из числа «золотой молодежи» лет тридцати. Старый блядь козел, решил я. Так оно и было. Старый козел блистал какими-то часами, телефоном гребанным с камушками, и вообще смахивал на педика. Поэтому подружка – сидевшая рядом с ним – ужасно смахивала на мальчика.
– Как он меня задолбал, – жеманно вздохнула она, когда парень вышел на заправке прикупить сигарет и еще выпить.
– Так брось его! – весело предложила Наталья.
– Скоро так и сделаю, – сказала малолетка.
Парень вернулся и мне стало его немного жаль. Он, небось, думал, что Бога за яйца ухватил, трахает малолетку, и та влюблена в него по уши. Но я ничего не сказал. Я просто смотрел на всех этих друзей моей любимой женщины из ее мира – и на кавалькаду машин за нами, где в каждом авто сидело по пять таких же, и налегал на спиртное
– Ощетинился, как ежик, – сказала Наташа, и потрепала меня по щеке.
– М-м-м-м, – сказал я, и открыл еще шампанского.
– Не налегай, милый, – сказала она мягко, но я уже представил, как она скажет это властным тоном, лет через десять.
Она это явно поняла и улыбнулась мне. И поцеловала меня. Я подумал, ладно. На следующей остановке малолетка вышла поссать. Девушки составили ей компанию.
– Ну и дети пошли! – сердито сказал старпер, обернувшись ко мне. – ей шестнадцать, а она уже ебется!
– Чувак, но ведь ты сам ее ебешь, – сказал я.
– У меня дочь, ей десять, – сказал он. – Я ей матку вырву блядь, если узнаю, что она дала кому до брака.
– А твоя жена? – спросил я.
– Мы в разводе, – сказал он.
– Неудивительно, – сказал я.
Он не понял, поэтому довольно кивнул. Девушки вернулись. Мы снова поехали. Автомобиль, солнце, скорость, любовь, выпивка. Я был счастлив. Встал, и, высунувшись в люк сраный по пояс, пропел:
– Форевер янг, ай вонт ту би…
Они лишь смеялись. Мне было все равно, потому что мне было хорошо. Единственное, что меня смущало, вещицы на мне были вчерашние. Ночевал я у Наташи же, мы отправились к ней сразу после бассейна. И на фоне всех этих мальчиков сраных я явно проигрывал. Ну, да ладно. Я сел, и открыл еще шампанского.
– Он писатель с большим будущим, – сказала Наташа.
Они понимающе переглянулись.
Видимо, это все объясняло.
ххх
От холода я легко дрожал, но в целом было терпимо. Солнце уже выглянуло, и следовало ожидать, что через минут десять станет жарко. Так обычно летом и бывает. Дача Наташи – трехэтажный, еще один бля, особняк, – торчала вверх башенками. Все блядь молдаване жаждут устроить из своей дачи средневековый замок. Папаша моей возлюбленной не был исключением. Я сплюнул, и хлебнул еще вина. В руках у меня была бутылка на полтора литра. Отлично. Вечеринка прошла на ура. Сначала мы с какими-то мудозвонами сварили картошку, причем они видели, как это делают на костре, первый раз в жизни. Потом я объяснил им, как сделать шашлык без шампуров. Потом поддал еще и научил ребят охотиться за куропатками. Ну, куропаток не было, поэтому мы охотились на кур из соседской деревни. Потом мы выпивали и говорили тосты. Потом я любовался видео-поздравлением, которое папаша Натальи записал для дочки заранее.
– И пусть твои невероятные возможности… – говорил он.
Потом были танцы, потом бассейн. Потом снова охота на куропаток. Парни оказались славными, все – мальчишки в душе. Правда, я был единственный среди них, у кого не было ни подобающего будущего, ни автомобиля, ни классной рубахи-поло. Это удручало, но после очередной порции спиртного, не очень. Я знал, что между нами разница как между ступенями блядь эволюции. Я знал, что, даже если разбогатею, как Крез, все равно буду буднее самого бедного из них. Потому что богатство, это то, что ты получаешь с рождения. А я с рождения – нищий и скучный, которому нет дела ни до чего, кроме своих книг сраных.
Когда я поделился этим с Наташей, он покачала головой, и сама налила мне выпить. Но я видел, что она поняла – так оно все и есть.
Где-то после полуночи Наташа привела меня в комнату, и уложила, потому что я был крепко пьян. Но мы трахались, это я запомнил. И даже протрезвел под утро. А Наташа, наоборот, уснула, уставшая. Я поцеловал ее в лоб спекшимися губами, оделся тихонько, и, перешагивая тела, выбрался на улицу. Нашел бутылку вина, и вышел к дороге. Подождал с полчаса.
Показалась машина. Я выставил руку.
– Я так и знала, – сказала Наташа.
– Покинешь до города, красотка? – спросил я.
– Садись, – сказала она.
Я сел, мы поехали. Она была прекрасный водитель. Я прихлебывал винцо. Видимо, им пахло, так что Наташа открыла окно.
– Я подвезу до края города, а там уж извини, – нарушила она молчание.
– Ага, – сказал я.
– Ты сейчас совершаешь огромную ошибку, – сказала она, не отрывая глаз от дороги.
– Знаю, – сказал я.
– Зачем ты со мной так поступаешь? – спросила она.
– Вчера ты меня стыдилась, – сказал я.
– Нет, – сказала она.
– Да, – сказал я.
– Да, – сказала она.
Машина гудел, ветер, залетая в окно, чуть свистел. Наташа, хоть и после бессонной ночи, была прекрасна, и ничуть не помятая. Вино кислило. В душе у меня играла флейта, нежная и печальная. Чего уж там. В душе у меня играли все флейты мира.
– Ничего, я смогу с этим жить, – сказала она уверенно.
Я молчал и пил.
– Я смогу жить с тобой таким, какой ты есть, – сказала она чуть менее уверенно.
Я пил и молчал.
– Я не буду требовать от тебя измениться, – сказала она еще менее уверенно.
Я молчал да пил, пил да молчал.
– Так что даю тебе шанс, – сказала она, и сказала совсем неуверенно.
Я молча пил.
Мы приехали к остановке автобуса на краю города. Первым делом я обратил внимание на сигаретный киоск, где и пивко продается. Он был открыт. Отлично. День обещал удаться.
– И все-таки, – сказала Наташа, – я предлагаю последний раз, давай попробуем…
– Притормози около киоска, – сказал я.
Она молча глянула на меня и выполнила просьбу.
– Ты сейчас совершаешь самую большую ошибку в своей жизни, – сказала она.
И не проронила больше ни слова.
Я вышел из машины и прислушался к себе. Флейты все еще играли. Настроение было так себе, потому что зубы я с утра не почистил, да и легкое похмелье давало о себе знать. В городе было пустынно и Наташа смотрела уже куда-то в сторону. Забегая вперед, скажу, что, если бы я ушел, то это и правда была бы самая большая ошибка в моей жизни.
Ну, я ее и совершил.
НАЗЫВАЙ ЕЕ КИСКОЙ
– Называй меня киской, – попросила она.
Киской… Вот дерьмо. Ладно. Я снял штаны и приготовился звать ее киской. Особой уверенности в себе, кстати, у меня не было: весила она килограммов на пятнадцать-двадцать больше, чем следовало бы. Да и трахаться нам не очень хотелось. Просто так получилось. Так что я, дурачась, полил себя коньяком – и мне стоило больших трудов сделать вид, что все прошло гладко, хотя на самом деле эта самопальная хрень меня весьма и весьма обожгла – и попросил ее попробовать, как я на вкус. Она не артачилась и это как-то сразу примирило меня с ее лишним весом. Тем более, что пробовала она отменно. Я буквально почувствовал себя мороженым. Причем настоящим, – не нынешним говном с сахарозаменителями, красителями и кучей дополнительной хрени, за которую вы и платите, чтобы почувствовать вкус плохого продукта. Самым, что ни на сесть, настоящим – мороженым за 15 копеек, пломбиром. Вот чем я себя почувствовал. Да еще и купленным любознательной нетерпеливой школьницей, которая уже задумывается кое о чем. Да-да, тем самым старым добрым пломбиром… Или эскимо?… По 15 копеек, это я точно помню. Ну, или за 25 копеек, шоколадное. Или..?
Додумать я не успел, потому что кончил.
И это всего-то через пять-десять минуток после начала. Это было тем поразительнее, что хороший, качественный минет, он как кислородная подушка и физиологический раствор в вены. Лишь улучшает и длит ваше прекрасное состояние. Чем качественнее вам сосут, тем дольше вы бы хотели получать это удовольствие. Когда сосут великолепно, то можно не кончать сутки. А тут – бамц, и все! Черт. Она сотворила чудо, признал я, и похлопал ее по щеке.
– Называй меня киской, – попросила она.
Она, к тому же еще, хотела Нежности. А вот это уже было вовсе не так здорово, как то, что она со мной проделала. Пришлось мне, разворачивая ее к себе, и – сдирая прилипшее белье с ее сырого и чересчур обильного тела, как скотч с картонной коробки, – звать ее киской. Ну, еще малышкой. Это так контрастировало с тем, что мы делали, что я рассмеялся. Надо отдать ей должное, она не обиделась. И даже согласилась на еще разочек в один из следующих дней. А потом еще и еще. Так мы и стали любовниками. Я творил с ней невероятные вещи – чем женщина толще, тем больше вам хочется ее унизить, до определенной степени толще, конечно, – а она терпеливо все это сносила. Но непременно жаждала, чтобы во время встречи, или после, я назвал ее хотя бы разок киской или малышкой. Это было своего рода диссонансом. Непреодолимым противоречием. Из-за таких разводятся пары. Мы, к счастью, женаты не были. Стоило мне подумать о том, что с нами будут жить 20 ее лишними килограммами, как мне становилось дурно. К тому же, я уже был женат тогда. И в семейной жизни – той моей семейной жизни, при всех ее недостатках, – меня устраивало все.
Даже чересчур толстая любовница.
ххх
В глубине души ей всегда хотелось нежности и чувств.
Но Снежана – а звали ее именно так – была создана для простенькой, непритязательной ебли. Она была чересчур просто одета, чересчур просто выражалась, невероятно просто думала, она была чересчур просто создана, наконец. К счастью, ей хватало мозгов это понять. Поэтому она была хорошей шлюхой. Но выдержки и силы духа на то, чтобы хранить лицо все время своего присутствия с мужчинами, ей не хватало. Поэтому она была хорошей шлюхой примерно три четверти проводимого с вами временем. Потом начиналось нытье про то, как ей бы хотелось влюбиться и бегать на свидания в кино или в музей. Музей…
– Когда ты последний раз в музее была? – хотел спросить я ее.
Но понял, что едва не облажался. Поэтому спросил:
– Когда ты ВООБЩЕ в музее была? И была ли?
Конечно, она не была. Но это значения не имело. Так уж создан мир. Все хотят любви. Даже толстоватая шлюха хочет любви. Это даже привлекало. Было, своего рода, червоточинкой в ней. Когда в человеке есть слабость, им легче управлять. Стоило мне намекнуть, что мы с ней трахаемся не просто так, а потому, что я КОЕ-ЧТО к ней чувствую, как она начинала бить рекорды. Думаю, если бы я на ней женился, она бы в благодарность позволяла мне справлять нужду себе на голову. А может и нет. Кто их разберет, этих женщин. Все они сумасшедшие, а шлюхи – сумасшедшие вдвойне.
Так или иначе, в первый раз я трахнул ее прямо на улице.
Как оно со шлюхами и бывает, это оказалось НЕВЕРОЯТНО просто. Мы просто сидели на какой-то вечеринке, посвященной годовщине нашей корпорации – все были в костюмах, дамы в юбках до колена, и приличного вида блузах, – и я думал, кого бы трахнуть. С женой мы уже часто ссорились, развод был не за горами, но пару лет своему браку мы еще давали. Я был задумчив и слегка на взводе. Как всегда, когда в жизни что-то меняется. Жизнь, она ведь для нас как кожа для змей. Старая жмет, значит пора сбрасывать, и обрастать новой. Так я думал, и поглядывал по сторонам. Единственное место, куда я не смотрел, было справа от меня, рядом. Неприлично пялиться на СОВСЕМ уж соседку, согласны? Ну, а когда глянул случайно, ничего особенного не заметил.
Рядом сидела женщина – полная, со вздернутым маленьким носом на приятном лице, и с копной рыжих волос.
В начале вечера, когда официанты разносили жратву на подносах, и услужливо наливали вам из-за плеча, она была слегка зажата и сдержанна, но уже после четвертого тоста стала проявлять игривость слоненка. Знаете, как это бывает. Малыш в сто пятьдесят кило скачет, рвет у мамы из хобота сенцо, и резвится по площадке перед зрителями, и те умиляются. Я тоже умилился. Тем более, что стало понятно: эту-то как раз можно трахнуть. Да она и сама это понимала. Потому что после пятого тоста напряжение ее как рукой сняло, и она начала вести себя вызывающе вульгарно. Вот что значит шлюха, подумал я. Шлюха, она вроде как настоящий писатель, или убийца. Ну, или как 20 кг лишнего весу. Скрывай это в себе, не скрывай, надевай стягивающую одежду, втягивай живот – все равно сядешь, случайно расслабишься, и все вылезет наружу, обвиснет складками.
– Слушай, – сказал я как-то ей, уже много позже, – ты в школе, небось, давала за пирожок?
– В том-то и дело, что нет, – грустно сказала она, – это я попозже такой стала…
Я ужасно не люблю, когда люди недоговаривают. Поэтому поехал к ее школе, нашел ее классную руководительницу, выписал кой какие адреса из журнала, и прошвырнулся по ее одноклассникам. Само собой, она давала в школе за пирожок. Ребята, которые ее трахали, рассказывали мне об этом чуть растерянно и смущенно. Они, вероятно, думали, что я какой-то полоумный, влюбившийся в толстую школьную шлюху, полоумный, решивший разбередить свои раны. Я не пытался доказать обратного, просто потому, что экономил время. Конечно, никаких ран не было, плевать я хотел на эту шлюху – у меня были десятки женщин, намного более красивых, чем она. Просто я не люблю, когда люди врут и пытаются представить из себя большее, чем являются. Поэтому, когда встретил ее с месяцок спустя, и парой фраз затащил в кинотеатр, где она снова распробовала пломбир по 25 копеек, укоризненно сказал ей:
– Вот же ты лживая сучка, конечно же, ты трахалась в школе…
– И за пирожок, и за так, – сказал я.
И даже перечислил фамилии тех, кто ее трахал. Я так понимаю, это была малая часть списка. И что вы думаете. Шлюха нет, чтобы смутиться, она была польщена!
– Милый, – сказала она, – ты ко мне неравнодушен…
– Я неравнодушен к твоему отсосу, – сказал я.
И это было правдой. Ведь секс, как оно обычно бывает при таком избытке веса, качественным никогда не бывает. Ты элементарно не можешь пробиться туда как следует, развести ляжки, как надо, поставить раком, посадить сверху… Она быстро устает, и единственная поза, в которой ты долго можешь трахать толстую женщину – это лечь сверху. Но в таком случае ты чувствуешь себя каким-то блядь судном на воздушной подушке, и эта подушка – ее распластанный под тобой живот. Зато минет… Что может быть лучше, чем сесть поудобнее, откинуться, и перебирать волосы полной женщины одной рукой, другой поглаживая и пощупывая ее невероятные сиськи, пока она трудится над твоим совершенством. Худенькие в этом деле не так старательны, они знают – им есть чем брать и кроме этого. Для толстухи минет – последний шанс. Окончательный и решающий бой. Схватка двадцати панфиловцев с целой бригадой немецких «тигров». Отсоси как следует или он тебя бросит. Соси так, чтобы он твоего жира не замечал. Ложись под гусеницы. Бейся насмерть. И все такое. На мыслях об этом я и кончал. Причем даже с первого раза. Ну, когда на вечеринке для персонала она стала вести себя вызывающе вульгарно, а все хихикали и прятали глаза. Чтобы на следующий день перешептываться, когда несчастная протрезвевшая шлюха будет молча переживать свой позор. Ну, мне было наплевать. У меня к тому времени были проблемы с женой. А в такие моменты вам нужна другая женщина. Другая женщина – отличный способ разобраться со своей. Маленький такой тренировочный полигон для учений и обкатки новых приемов в промежутках настоящей войны. Тренировочная крепость Суворова перед штурмом Измаила. Итак, мне нужна была хоть какая-то женщина. Эта вроде была готова. Я пригласил ее на танец. Мы кружились минуты три.
– А давай потрахаемся, – сказала она.
– Запросто, – сказал я.
Взял ее под руку и под понимающими взглядами коллег увел по дорожке от этого ресторана в центре парка куда-то в темноту. Там прижал к стене – позже оказалось что это детский замок, – и стал лапать.
– Без гандона не дам, – сказала она.
– Боже, как грубо, – стало неприятно мне.
– Да ладно, – сказала она и захихикала.
Я потыкался наугад ей в сырые ляжки, но она была настроена решительно. А презервативов с собой не было. Что же. Я надавил ей на плечи и она начала совершать первый из сотни минетов, которыми меня ублажала. Но я – то об этом не знал, и думал, как бы ее все-таки трахнуть: все-таки сбитый самолет не засчитывается, если дотянул до своего аэродрома. Нужно было пункты хотя бы обязательной программы. Пока я думал, она оторвалась от меня и робко сказала:
– У меня в сумочке есть…
Ага, шлюха, подумал я, и, конечно, взял то, что она мне протянула. Ну, и трахнул ее. Это-то и было ошибкой, потому что трахать ее было удовольствием сомнительным. Так что я стянул резинку, и велел ей продолжать, как в начале. Так мы и закончили. Это было невероятно. Я так и застыл, вцепившись в ее большущую грудь, и покачиваясь – как деревцо под ночным ветерком парка, – и стоял так долго. Мне показалось, вечность. На самом деле прошло, наверное, минут пять, не больше. Потом она оторвалась от меня, старательно вылизала все, что должна была, и, одернув юбку, села на скамейку. Я глядел на нее и видел, как шлюха буквально на моих глазах превращается в Трезвеющую Шлюху. Как оно и водится, начались сожаления, угрызения, и тому подобная ерунда. Приличная женщина никогда не позволит себе усомниться – при тебе и на словах, – в том, что правильно сделала, перепихнувшись с тобой. Она это если и делает, то в одиночестве. Шлюха же устраивает Представление.
Шлюхи вообще сплошь и рядом, едва вынув из себя член, начинают громко рефлексировать на эту тему.
– Падшая я падшая, – горько причитала она.
Я сделал какое-то движение – кажется, просто переступил с ноги на ногу. Это вызвало очередную бурю.
– Что, уже НАДОЕЛА? – спросила она.
– Получил свое и хочешь поскорее УЙТИ?! – спросила она с надрывом
– Да успокойся ты, – сказал я.
Ветерок, покачивавший деревца и пару минут назад меня, прогнал тучу, и я увидел в свете Луны ее глаза. Совершенно безумные. Шлюха явно намеревалась получить все сразу, и назревала истерика. Я велел ей заткнуться, взять меня под руку и вернуться к столам. Мы так и сделали. Малость протрезвев от желания трахаться, я поразился тому, насколько близко от ресторана мы все это проделали. По пути обратно я думал, что связываться с этой психованной шлюхой больше нельзя.
На следующий день, конечно, она уже обрабатывала меня под столом.
ххх
Со временем я привык. В конце концов, нет ничего сложного в том, чтобы назвать киской или малышкой – тем более, никто не слышит, – женщину, которая оказывает вам ТАКИЕ услуги. Снежана работала профессионально, делала все, о чем я попрошу в любое удобное для меня время. Я успокоился, стал вальяжным, и и начал вести себя с женой с твердой уверенностью взрослого мужчины. Это и ее успокоило, и она сдала обороты. Снежана, конечно, иногда хотела кое-чего еще, например, чтобы я поласкал ее ТАМ – но когда я, недоуменно вздернув брови, задвинул ей Туда, смущенно пояснила, что имела в виду совсем другое. Ну, я посмеялся. Черт. Чтобы я отлизывал какой-то там шлюхе? Я только смеялся, и приглашал ее зайти к себе в отдел, когда все уходили в обеденный перерыв. Она заявлялась в нарядной юбчонке до колена, а чаще в джинсах, в какой-нибудь кофте, умело скрывавшей лишний вес, я закрывал дверь, она становилась на колени, я откидывался, она наклонялась. Однажды она сказала мне:
– Я тут прочитала кое о чем…
– Не собираюсь я тебе отлизывать, шлюха клятая, – перебил ее я, потому что уже знал, что она с ума сходит, когда ее так называешь.
– Да нет, – сказала она, – я о минете.
– О, – сразу заинтересовался я. – Тогда валяй.
– Ну, метод новый, называется «огненный хлопок», – сказала она.
– Всю ночь на банане тренировалась, – сказала она.
– А ну-ка, – сказал я.
И она совершила, стоя передо мной на коленях, этот самый огненный хлопок. Так сказать, хлопнула и отожгла. Но это я так, ерничаю. Тогда же я сидел, не шевелясь, словно вспугнуть кого-то боялся, потому что это было чем-то феерическим. Невероятно огненным. А уж когда эта искусница затушила пожар, набрав в рот холодной воды… Я спускал минуты три, не меньше. Она явно обладала способностями экстрасенса. Только вместо воды эта сумасшедшая толстая шлюха с языком вместо лозы находила в вас новые и новые запасы семени. Однажды она пригласила меня домой.
– Прямо вот так домой?! – сказал я, а она лишь смущенно хихикнула.
Я и понятия не имел, какой у нее дом. Но, конечно, пришел. Пришлось даже немного потрахаться – в квартире были мы одни, и нельзя было списать свое нежелание на нее лезть опасностью быть застигнутыми врасплох – а не только наслаждаться минетом. Я, признаюсь, даже оробел слегка, когда, отпросившись с работы, вроде как на больничный, завалился к ней домой.
– Какие большие у тебя комнаты, – сказал я смущенно, зайдя в дом, и глядя на хорошо обставленную квартиру.
– Ты что блядь, рабочий из ЖЭКа? – спросила она.
Мы посидели немного на кухне, пощелкали орешки с незаинтересованным видом. Кроме белого махрового халата и трусов на ней ничего не было.
– Пошли в спальню, – сказала она.
И поволокла меня трахаться. Что же. Я был лишь благодарен ей за то, что она избавила меня от ненужных и смущавших нас пауз. Я потрахал ее немного стоя, чуть-чуть на полу, и оставшееся время мы барахтались в огромной кровати. После того, как мы похерили и это табу, она стала звать меня потрахаться у себя дома все чаще. У меня причин отказываться не было, так что я приходил.
Пока с удивлением не понял, что захожу к ней года два.
ххх
Потом она начала худеть. Поначалу это даже заводило. Тем более, что когда у тебя лишних – двадцать кило, то сброшенные три-четыре ничего не меняют в повадках. Это только в концлагерях у людей характер менялся, уж слишком резво они там худели. Моей пышке ничего такого не грозило. Она просто сбросила сначала чуть-чуть в поясе, потом чуть в животе, затем стало заметно, что худеют руки.
– Меньше жрешь? – спросил я ее.
– Ты такой неласковый… – говорила она.
И просила назвать себя зайкой. Я не соглашался, потому что последние год-полтора узнал о ней много нового. Ну, никак она не была зайкой, эта моя толстая шлюха. Да и толстой переставала быть. А это повышало в ней самооценку. По мере того, как она стройнела, она привлекала мужчин не только минетом – о котором я, конечно же, на работе всем растрындел, – но и просто привлекала. А уж когда она сбросила десять кило, то возле нее стали виться мужчины. До тех пор, пока она не показывала им свое вульгарное нутро, у нее были шансы даже захомутать кое-кого из этих мужчин, думал я с тревогой. Так что я начал сбивать ей самооценку.
– Ты вульгарная шлюха, – говорил я, с удовольствием наблюдая, как ее глаза переполняются тревогой.
– Что толку с твоих сброшенных килограммов, если на тебе еще столько же, – говорил я.
– Скажи спасибо, что я тебя потрахиваю, – говорил я.
Безусловно, это застревало в ней, как занозы. Но, как и занозы, вызывало защитную реакцию организма. Протест вскипал в ней гнойными язвами. Она собрала волю в кулак, сбросила ЕЩЕ десять килограммов, и оказалась вполне ликвидна. Пошла на курсы стилистов, и начала носить короткие юбки. Я вознегодовал. Всем – а в курсе нашего так называемого романа был уже весь офис, и давно, – казалось, что я ревную. Но я-то знал, что не испытываю к ней ровным счетом НИЧЕГО. Но убедить в этом остальных – особенно после того, как она начала спать с мужиками направо и налево, – мне оказалось трудно. Я был в ярости. Мне было плевать кто и как ей присунет, с кем она будет жить, мне было начхать на нее. В конце концов я был женатым человеком! Пусть хоть к дьяволу убирается. Но я хотел получать СВОЁ. Я хотел, чтобы она отсасывала мне в любой момент. Когда я того пожелаю. Минет. Вот и все, чего я хотел от этой паскуды. Она же, осознав, наконец, мою слабость, начала пользоваться ею – увиливать, раздражать, распалять. Затем она уволилась – нашла себе недурную работу, – и мы стали встречаться у нее дома еще реже.
А потом она нагло заявила, что бросает меня.
Даже не заявила. Просто перестала брать трубку. А уж когда я – на сто двадцать какой-то там раз – дозвонился, изволила сообщить это. Вот шлюха тупая. Как ты можешь говорит это, идиотка, если у нас с тобой ничего не было, хотел спросить ее. Как можно бросить, если вы не были вместе? Но уже три дня спустя звонил ей, чтобы спросить, не желает ли она мне отсосать? Она промолчала и повесила трубку. Я устроил новый сеанс телефонного террора. Писал ей смс-ски и все такое. Она, наконец, соизволила со мной поговорить. Я был уязвлен, признаю. Она посмеялась, сказала, что у нее сейчас есть наконец Мужчина, который ее, наконец, Трахает, и посоветовала мне не тратить себя и свое время. Мы обсудили еще кое что.
– Секс у нас всегда был говенный, – сказала она.
– Само собой, – сказал я.
– Ты же толстая, – нанес я ответный удар.
– Как он мог быть хорошим? – спросил я.
Но ее это не очень смутило. Так всегда, если ты успеваешь первым соскочить. Стоило бы мне позвонить ей за час до того, как она позвонила мне, и сказать, что это я решил прекратить, и это ОНА бы чувствовала себя проигравшей. Но характера соскочить у меня не было, уж больно сладко она сосала.
– Ну так и чего ты ко мне ПРИЦЕПИЛСЯ? – спросила она самодовольно.
– Из-за минета, – честно ответил я.
Она посмеялась, но я видел, что слегка уязвил ее. И только-то, говорил весь ее тон. Она, бедняжка думала, что я нарочно. А я просто честно ответил ей, чего хочу от нее. Увы, оказалось, что больше мне этого не обломится. По крайней мере, она в этом меня заверила.
– Отвали от меня, – сказала она.
– НИКОГДА больше я не отсосу тебе, – сказала она.
Я не поверил, а зря, потому что она была права.
Но я всегда был оптимистом.
ххх
Еще четыре года спустя до меня дошли слухи о том, что у Снежаны проблемы.
Это оказалось правдой. Я нашел бедняжку на четвертом этаже больницы, где орут от боли женщины, которых привозят из сел в Кишинев «скорые» с диагнозом – рак на последней стадии. Это было тем более отвратительно, что у Снежаны все было вовсе не так запущено. Девушка городская, она вовремя заметила что-то неладно. Так что врачи ее обнадеживали. Пятьдесят шансов было за нее, пятьдесят против. Половинка на серединку. Ни шатко, ни валко. Она лежала в кровати осунувшаяся, стройная, и улыбнулась мне, несмотря на свои синяки под глазами.
– Привет, «огненный хлопок», – сказал я, и она посмеялась.
Я посидел немного и с каждой минутой глядя на нее, все отчетливее понимал, что врачи будут оптимистами похлеще меня. Снежана, очевидно, думала, что я пришел попрощаться и позлорадствовать. Само собой, мысль о том, что я пришел ее поддержать, ей и в голову не приходила. И правильно. Но я пришел НЕ ТОЛЬКО позлорадствовать и попрощаться. У меня было дело. Когда я перешел к нему, глаза у нее расширились. Само собой, она не согласилась. Не знаю даже, на что я рассчитывал.
– Какая же ты… мразь и скотина, – сказала она.
– Ладно, – сказал я.
Ну, а что здесь такого, в самом-то деле? Я всего лишь предложил. Глаза у нее потемнели, и она сказала мне:
– Проваливай.
– Что, вообще нет? – спросил я.
– Уходи, – сказала она.
– Вот шлюшка, – сказал я с сожалением.
– Уебывай, – устало сказала она.
– Ну, – сказал я, – а если сначала я тебе?
– ПРОВАЛИВАЙ, – сказала она.
Я кивнул, развел руками и встал. С сожалением глянул на пакетик с бананами, соком и кефиром – получается, даром потратился, – и перевел взгляд на нее. Видимо, в глазах моих было что-то вроде надежды, так что она разозлилась еще больше. Мне было плевать. Можно быть каким угодно говном, но этого никто не запомнит. Все в конце концов умирают, и с их смертью распадаются в прах воспоминания о том, как гадко ты себя вел. Главное, всех пережить. Так что я был спокоен. Нет, так нет. Потом подумал, да что, в конце концов, это меняет? И забрал свой кулечек с кефиром и бананами. Она лишь зло усмехнулась.
Я пошел к двери. Уже стоя в них, сказал:
– Пока, киска.
Она ничего не ответила. Она явно берегла силы, чтобы бороться и выжить.
Я пожал плечами вышел в холодный темный коридор, а потом на улицу. Там летал тополиный пух. Я согрелся на солнце, и решил пройтись пару остановок. Дороги перекрыли перед ремонтом, так что можно было идти по проезжей части. Я шел, и постепенно все это вылетало у меня из головы. Спустя две остановки у видел афишу на столбе и остановился с интересом ее прочитать. В город приезжал старый состав «Браво». А в соседнем отделе, вспомнил я, появилась новенькая, крепенькая «разведенка» лет сорока. На афише было написано, что билеты стоят 25 долларов.
Я начал стоить планы.
ЗОВИ ЕГО БЕМБИК
Первые признаки того, что она наставляет мне рога, были похожи на легкий ветерок и легкие капельки, не предвещающие ничего, кроме летнего дождичка. Такие, знаете, после которых в течение получаса небо темнеет, в воздух взмывают фонтаны пыли, а потом наступает Апокалипсис и молнии трахают все вокруг. Только высунись. Трах-трах. А на следующий день сотрудники муниципалитета – те, кто не погиб в борьбе со стихией, – подсчитывают ущерб и оплакивают героев, павших смертью храбрых.
Короче говоря, я видел, что она недовольна мной, но не предполагал, что дело может зайти так далеко.
Ведь Инга была отличной женой, прекрасно готовила, и была, в общем, терпимым вариантом спутницы жизни. Несмотря даже на то, что раз в месяц заставляла меня ходить в гости к ее папочке. Состоятельному бизнесмену, который жил в собственном домище в пять этажей – об этом даже в местных газетах писали репортажи – с бассейном, водными горками и крокодилом. Что удивительно, в доме жила его жена. Что еще удивительнее, это была та самая женщина, на которой он женился лет сорок назад, которую трахал, и которая родила ему дочь. Ага, Ингу. Которая, в свою очередь, выросла, пошла учиться на художницу, и влюбилась в своего сокурсника. Ага, меня. Ну, а я, побывав в гостях телки, которая в меня влюбилась, понял, что лучшее, что я могу сделать – это жениться на ней. Что мы и проделали.
– Думаешь, я не понимаю причину твоего острого желания повести мою малышку под венец? – спросил меня папа, как я немедленно стал называть этого мудака.
– Желания жить на мои деньги, и ни хера не делать? – спросил он, обняв меня покрепче.
– Уверяю вас, я ЛЮБЛЮ вашу дочь, – сказал я ему, причем очень искренне.
Он поглядел на меня недоверчиво, и пошел поздравлять Ингу. С ней, конечно, все было вовсе не так просто, как я говорил ее папаше. То есть, она мне, конечно, нравилась. Ей было двадцать лет, у нее была гладкая на ощупь кожа, веснушки – а меня, знаете, это всегда заводило, – сиськи что надо, и трахалась она с удовольствием. Не знаю, любил ли я ее, но то, о чем я сказал – вполне достаточно для того, чтобы жениться в двадцать лет. Тем более, если ваша избранница – дочь богатейшего чувака в городе. Само собой, я сделал ей предложение, и мы поженились. И ее чертов папаша, делая вид, что обнимает меня, шептал мне на ухо всякие гадости и то, как он мне яйца оторвет, если я посмею обидеть его дочурку и не буду работать, чтобы содержать ее как надо.
– Вы просто ревнуете, папа, – сказал я, глядя на зал самого роскошного ресторана города, снятый на его, конечно, деньги.
– Не называй меня папой, – говорил он, напряженно улыбаясь.
– Ладно, папа, – говорил я, – я не стану называть вас папой больше.
– Идиот, – говорил он, – думаешь ты подцепил дочку богатых родителей, так ты самого бога за яйца поймал?
– В принципе, да, – говорил я.
– Ну, ты хотя бы художник великий? – спрашивал он с усмешкой. – Великий и непризнанный, блядь, гений?
– Боюсь, я ошибся с выбором профессии, – сказал я горько, – и все еще не нашел себя.
– Так что я пока посижу дома, – сказал я.
Он от злости чуть фаршированной рыбой – да, конечно они были евреи, а вы, что, думали, что где-то в мире есть богатейший человек в городе, который не еврей? – не подавился. Так что пришлось мне похлопать его по спине. Все умилялись.
А я улыбался Инге и мял под столом ее задницу.
Она улыбалась мне, и норовила потрепать меня по ширинке.
Ну, знаете, как бывает это в двадцать лет. Я обнял ее покрепче и покраснел на предложение тамады вспомнить, как мы познакомились. Инга глянула на меня и тоже покраснела. К нам в общежитие пришел парень с третьего курса и спросил, кто хочет трахнуть второкурсницу, которая напилась у них на вечеринке и жаждет мужика, но трахаться не по любви отказывается, а с ними со всеми она уже давно перетрахалась, так что ей явно нужно что-то новенькое. Вызвался я. Мужика хотела Инга. Случилось все это с месяц назад.
– Не могу поверить, – сказала Инга, – что мы так быстро нашли друг друга.
– Любимая, – сказал я, – нас вела друг к другу любовь. Боюсь только, твой папа меня не очень привечает.
– Папа меня любит и переживает, – сказала она.
– Я понимаю, – сказал я.
– Люби меня и все будет оки-поки, – сказала она.
– Что? – спросил я.
– Давай потанцуем, – сказала она.
Но мы не успели, потому что к нам подошла мать Инги, привлекательная еще блондинка. И танцевать мне пришлось с ней. А Ингу закружил в танце ее любимый папашка. Я уже начал переживать, не трахаются ли они.
– Вы, очевидно, слегка напуганы напором моего мужа, – сказала добрая женщина.
– Ну, что вы, – сказал я. – Он очень мил.
– Это действительно так, – сказала она и я впервые задумался, что же есть в этом уроде, раз такая бабенка до сих пор живет с ним.
– Жизнь – лучший учитель, – сказала она. – Так что со временем вы сами все поймете.
– Что вы имеете в виду? – спросил я.
– Только то, что сказала, – сказала она.
– Мне бы хотелось сказать вам только, – добавила она, – что Инга у нас девушка с характером…
– И что вы этого, боюсь, не разглядели, – сказал она, глядя мне в глаза.
Я подумал о том, что мамаша и дочурка не в ладах.
Это подавало надежды.
ххх
Как я уже говорил, отец моей Инги жил с одной женщиной в законном браке много лет. Это удивляло. Сами понимаете, мужик, которому стукнуло сорок и который заработал бабла, всегда хочет пошалить. Но только не этот. Супруга его, мамаша Инги, была дородная стройная женщина. Мне казалось, что в ее присутствии папА как-то блекнет и утихает. Инга уверяла мне, что это только иллюзия, и что, мол, всеми делами в их семье заправлял папаша. Ладно. Мне в любом случае было все равно. Ее родители купили нам квартиру в центре города, куда мы и переехали – я из общежития, где сражался с тараканами за кусок позавчерашнего хлеба, а Инга – из отцовского дворца.
Я забрал документы из института искусств, объяснив это тем, что намерен попробовать себя в литературе. Послал документы в Литературный институт и даже поступил на заочное. Но через полгода мне надоело, и я решил попробовать себя в музыке. Купил барабаны, и стучал по ним, пока Инга ходила учиться. Иногда готовил что-то поесть. Когда Инга возвращалась домой, прижимал ее к стенке в коридоре и раздевал. Ну, а потом трахал. Так хорошо и часто, что она даже прощала мне то, что я, по ее словам «маялся дурью». Но так продолжалось до тех пор, пока она не получила диплом, и не начала работать. А я все еще искал себя. Ну, или, если честно, просто отдыхал от бедности. Вот тогда-то на горизонте и появились первые серые пятнышки, грозившие в будущем вырасти в смерч.
Инга начала опаздывать после работы.
Во время наших ритуальных походов к ее родителям она не защищала меня, как прежде, от своего отца, а слушала его обличительные речи про «некоторых бездельников» с некоторым, как мне показалось, удовольствием. Стала рассеянной. Не всегда отвечала на звонки.
Я глянул в интернет – в котором сутками сидел, пока ее не было дома, – и набрал «признаки измены» в поисковой системе. Все совпадало с поведением Инги! Это тревожило. Не то, чтобы я был в нее ужасно влюблен – сами понимаете, когда вы вместе уже лет пять и сошлись только на теме ебли, это совсем не то, что в начале – но это грозило моему безбедному существованию. Никчемному существованию, как говорил ее отец. Хотя мне оно казалось вполне нормальным. В конце концов, человек создан не для того, чтобы сидеть в сраном офисе десять часов в день. Ну, или копать землю эти десять часов…
Короче, человек не создан работать.
И если есть возможность этого не делать, то почему бы ему – владельцу огромного состояния – не помочь своей дочери и ее мужу вести нормальный блядь образ жизни. А он вместо этого озлобился и настраивал свою дочь против меня. И его дочь, кажется, трахалась с кем-то еще.
Оставалось выяснить, с кем.
Я вглядывался в лица наших общих знакомых, тайком следил за ее бывшими парнями – это была работенка ого-го, ведь парней у нее было предостаточно, – подозревал коллег по работе в этом блядь проектном институте, где она рисовала всякие портики и колонады. Я подозревал всех мужчин города.
Но действительность превзошла все мои ожидания.
ххх
Однажды я собрался за город с приятелями по институту. Вернее, по первому курсу – такими же пиздоболами как я, которых повыгоняли за несданные экзамены и проваленные дипломы. Я, кстати, среди них был единственный, кто ушел из института сам. Можно сказать, был сливками нашего общества. И мы договорились поехать за город, на озеро – пивка попить, половить рыбы. Тем более, что никаких других занятий у этих уродов не было: большинство из них сидели без работы. Как и я. Только среди них никто, кроме меня, не был женат на богатой телке.
Я сказал супруге, что на выходных уеду.
Инга отнеслась к этому на удивление спокойно, и я подумал, что дело явно нечисто. И решил неожиданно вернуться домой спустя час после того, как уйду.
Ну, и, конечно, ОН был там. В ее постели. Так что, когда я ворвался в квартиру, расшвыривая все на своем пути, Инга только и успела, что сесть. И прикрыла сиськи покрывалом. А другой конец набросила на него. Блядь такая!
– Немедленно выйти из комнаты, мне надо одеться, – сказала она.
– Сними одеяло, – сказал я, сжимая в руке альпеншток, который купил, когда собирался стать троцкистом, поехать в Штаты, и убить Буша-младшего.
– Не устраивай сцен, – сказала она.
– Сними это гребанное покрывало, – сказал я.
– Ладно, знакомьтесь, – сказала она, и сдернула одеяло.
– Зови его Бембик, – сказала она.
– Что?! – спросил я.
– Бембик, – сказала она.
Передо мной на кровати сидел енот. От неожиданности я едва не упал. Пришлось присесть.
– Блядь, да это же ЕНОТ, – сказал я.
– Это не просто енот, – сказала она.
– Это енот-крабоед, взгляни на его пальцы, видишь, какие они тонки и чуткие? Он опускает лапки в воду, достает из-под камней крабов, и разделывает их пальчиками, – сказала Инга с любовью.
– Гребанный енот, – ошарашенно сказал я.
– ЕНОТ-КРАБОЕД, – сказала она.
– О боже, – сказал я.
– Зови его Бембик, – сказала Инга.
Я смотрел то на нее, то на этого енота хренового. Существо со средних размеров собаку с полосатой окраской, сидело на МОЕЙ кровати, возле МОЕЙ жены, и дружелюбно меня обнюхивало.
– Ты трахаешьсяя с енотом. – сказал я тупо.
– Ну, не совсем так, – сказала она.
– А КАК?! – спросил я.
– Ты что, хочешь, чтобы я тебе ПОКАЗАЛА? – спросила она.
– Да уж будь бля добра, – попросил я.
– Ладно, – сказала она.
Я думал, было, сказать, что передумал, но было уже поздно. Она мне показала. Выглядело это довольно просто: она брала маленького пластмассового краба, которого этот дурень принимал за живого, совала в себя, а он, енот, потом этого краба оттуда ДОСТАВАЛ, Своими ловкими чуткими пальцами. Так долго, что Инга, извиваясь, стала постанывать.
– А ну блядь прекратите ОБА! – сказал я.
– Я же все-таки здесь, – сказал я.
– А? Что? Да?! Прости, – сказала она, и оттолкнула лапу енота.
– Блядь, ну и что мне с вами теперь делать? – спросил я.
– Что. Мне. Теперь. Делать. – спросил я.
Она сказала:
– Зови его Бембик.
ххх
– Объясни мне, почему ты это сделала?! – спросил я Ингу, когда Бембик был водворен в своею корзину. – Я что, мало тебя трахал, да? Мало я тебя ЕБАЛ, что ли?!
– Тут дело не в сексе, – сказала она.
– У вас что, ЧУВСТВА? – спросил я.
– Ну, можно сказать и так, – сказала она и всхлипнула, – понимаешь, когда я увидела его в зоопарке, он была таким… неухоженным. Маленьким. Я подумала, вот сидит маленькое существо в клетке, тянет свои ручки к людям, а они, жестокие, идут мимо…
– Что ты делала в зоопарке? – спросил я. – Трахалась с конем?
– Рисовала пруд, – сказала она.
– Я же не забросила живопись, как некоторые, – сказала она.
– Ладно, – сказал я, – у вас блядь чувства…
– Ну, – продолжила она, – я и подошла к еноту этому поближе, а потом вдруг вижу, он глядит не просто в мою сторону, а именно мне в глаза и я подумала, како…
– Блядь, – сказал я, – что ты меня щиплешь за яйца? Я тебя еще не простил, подстилка гринписовская.
– Я? Тебя?! – спросила она. – Ты что придумываешь?
– А кто еще? – спросил я.
– Ой, – сказала она, глянув вниз, – это же Бембик.
И правда. Засранец Бембик, выбравшись из корзины, сидел у моих ног, и, глядя в сторону – это у них манера такая, как у карманников, – пояснила Инга, – пощипывал мои яйца. Воображал, видимо, что я камень, покрытый мхом, а подо мной есть какое-то питание. Бембик все время хочет жрать, пояснила Инга. Я прогнал его альпенштоком, и мы продолжили выяснять отношения.
– Значит, – горько сказал я, – ты пялишься с енотом…
– Выражайся приличнее, – возмутилась она, – тем более, что это и сексом-то назвать очень трудно.
– А как это назвать? – спросил я.
– Это можно обозначить, как петтинг, – сказала она.
– Ну, еще и как фистинг, – добавила она, подумав.
– Ах ты пизда! – сказал я.
– Я плохо тебя ебал?! – спросил я.
– Нет, – сказала она, – и даже часто, но…
– Но тебе не хватает ЧУТКОСТИ, – сказала она.
– Как у енота?! – спросил я.
– Как у енота-КРАБОЕДА! – сказала она.
– Ах ты пизда!!! – сказал я.
– Ты повторяешься! – сказала она.
И была права.
Я и правда повторялся.
ххх
После этого моя женушка перешла в наступление.
Я был извещен о том, что трахаю ее недостаточно Чутко и слишком Грубо.
Все это время енот Бембик, сводя меня с ума, шарился по нашей квартире, и чесал свои енотские яйца о нашу мебель.
Еще, сказала мне Инга, ее стало раздражать мое нежелание искать себе работу и то, что я живу на деньги, которые выделяет ее папаша.
На этой ноте енот Бембик подошел к холодильнику, открыл его (!) и стал вытаскивать оттуда, – как раз из моего любимого фруктового отсека, – бананы.
Наконец, добавила Инга, она не намерена терпеть меня дальше, если я буду так груб с ней и вербально…
– А, что блядь?! – спросил я.
– В смысле, матерись поменьше! – сказала она.
– Ясно, – сказал я. – То есть, я застал свою жену трахающейся с ено…
– Это ПЕТТИНГ! – сказала она.
– Ладно, – сказал я, – я застаю свою жену, которую трахает во время петтинга какой-то енот-крабоед, а после всего этого, по итогам матча, проигравшим во всем остаюсь я же!
– Ну, почему же, – сказала она. – У тебя ведь есть я.
– Почему тебе не приходит в голову мысль, – спросил я, – что я сейчас зарублю твоего енота, а потом тебя?
– Тебя посадят, – сказала она, – если раньше мой папа тебе яйца не отрежет.
– Я вас сварю, – сказал я, – пока мясо блядь в желе не превратится, а кости сожгу. Что на это скажешь? А твоему папаше скажу, что ты сбежала от меня в Гоа. С каким-то пидором из племени индийцев-крабоедов. Что будет не так уж далеко от истины, не так ли?
– Да, это ты можешь сделать, – сказала она.
– Я не вижу испуга в твоих глазах, енотная ты подстилка, – сказал я горько.
– Ну, а на что ты будешь жить? – спросила она. – Неужели ты думаешь, что мой папаша станет тебя содержать?
– Ты права, сука ты этакая, – сказал я.
– Ну, и что мне остается делать? – спросил я, ужасно жалея себя.
– Веди себя хорошо, – сказала Инга, и тут я вспомнил слова ее мамаши про характер дочки, – и будешь жить по-прежнему, ни хрена не делая…
– Веди себя хорошо, – сказала она, – и мы с Бембиком тебя не обидим.
– ЧТО?! – спросил я.
Вместо ответа она откинула одеяло, сунула в себя крабика, и Бембик молнией шмыганул на кровать. Они начали забавляться. Я попробовал взглянуть на ситуацию не предвзято. Супруга у меня была ничего. Двадцать пять лет. Сиськи. Жопа. Ляжки. Лежит, раскинувшись. Мокрая, блестит. Этот… крабоед ее заводит…
– А-а-а, о, а, – сказала Инга.
– Я сейчас кончу, Бембик, ты такой НЕЖНЫЙ, – сказала она.
– Хр-р-р-р, – сказал Бембик разочарованно, потому что крабик был пластмассовый.
– О, – разочарованно сказала она, – ты поспешил, Бембик.
После чего приподнялась на локтях, и глянула заинтересованно на меня.
– Присоединяйся, милый, – сказала она.
– Заверши то, что начал Бембик, – сказала она.
– Второем мы настоящая Команда, – сказала она.
– Ну, скорей же, – призвала она.
Я подумал, отложил альпеншток, и разделся. Инга, улыбнувшись, раскрыла мне объятия. В коленях у нас путался енот. Я мягко отодвинул его в сторону и сказал.
– Подвинься… Бембик.
CПАСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ТРАХАЛСЯ
Он лежал на прилавке. И был почти не виден из-за креста. Масса, в этом все дело. Когда я был худым заморышем, меня тоже мало кто видел. Можно сказать, моя тень меня заслоняла. И только когда я потолстел, меня стали замечать, уважать и бояться. Этому заморышу, на кресте, ничего подобного не светило. Маленький, худенький, ребристый. Одним словом, Спаситель.
Я задумался об этом и едва не пропустил тот момент, когда он мне начал подмигивать. И если бы я не опустился лбом на прекрасно-ледяное стекло этой витрины, момент бы я пропустил. А если бы я вчера не напился так, что сегодня мне хотелось прижаться лбом к чему угодно, лишь бы холодному, я бы пропустил все на свете. Так что и этим чудесным приключением в своей жизни я обязан алкоголю.
Он мне подмигнул. И что-то сказал.
– Эй, ты что, разговариваешь? – удивился я.
Голова все равно болела. Так что ни хрена это было не чудо. Но маленький серебряный Христос на массивном крестике действительно хотел мне что-то сказать. Это было видно.
– Что?! Говори погромче, черт бы тебя побрал! Здесь же стекло! – шепнул я.
Он, видимо, понял и поднатужился.
– Мужик! Мужик, вытащи меня отсюда, черт бы тебя побрал! – различил я хриплый голос.
Было похоже, будто жужжала хриплая муха.
– Ты разговариваешь, – удивился я.
– Какого хрена ты этому удивляешься, если просил меня говорить погромче, – зашипел он.
На нас начали коситься продавщицы.
– Какого хрена я должен тебя вытаскивать?
– У тебя горе, мужик, большое горе. Как ты думаешь, мать твою, отчего у тебя большое горе?
– Какое горе?!
– Прекрати придуриваться, – заорал он так, что стекло тихонько задребезжало.
Я понял, что придуриваться бессмысленно: у меня действительно было горе, такое горе, что я никому о нем не рассказывал. Моя жизнь потеряла всякий смысл, вот в чем оно состояло, но как бы оно не было, это было мое персональное горе, и я не понимал, почему я должен вытаскивать из этого ювелирного магазина этого маленького говорящего Христа.
– Вытаскивай меня, давай! На то меня и носят, чтобы горя не было. Давай! – умолял он.
– Эй, послушайте, – в наш разговор вмешалась продавщица, – вы что, разговариваете?!
– Да, мать вашу, – у меня кружилась голова, – и это ли неудивительно?!
– Да плевать мне на все удивительное, – завизжала сучка, – разговаривай с чем и с кем хочешь, только убери свой жирный лоб от чистой витрины!
Я так и сделал.
ххх
– Мужик, а, мужик, – канючил Спаситель, висевший на моей шее на цепочке, – встань к солнышку, а?
Я заплатил за него и за цепочку двести леев, и до сих пор не понимал, зачем я это сделал. Мой Христос оказался нудной гадиной, и за час достал меня до самых печенок. Я купил мороженное и дал ему немного полежать в нем, выходил то на солнце (мужик, меня сбацали на этой сраной фабрике семь лет назад, ты что, не понимаешь, что я хочу солнца?!) , то в тень, подходил к киоскам, чтобы он мог полюбоваться обложками с голыми жопами, подходил к музыкальным магазинам, чтобы он мог насладиться последним альбомом «Роллингов»…
– Ты глянь, какая клевая жопа, а, мужик! – радостно заорал он и показал мне на нее пальчиком.
Жопа и в самом деле была клевая.
– Послушай, – спросил я, – как это у тебя получилось?
– Что? – враждебно глянул он на меня.
– Ну, этот фокус. С пальцем. Ты же распят. Или я пропустил что-то интересное?
– Мужик, – скривил он губы, – меня сделали семь лет назад. Отлили меня на этой сраной ювелирной фабрике. Семь лет назад. Не считая того, что распяли меня две тысячи два года семьдесят три дня назад. Интересно, ты бы не задолбался все это время ощущать по гвоздю в ладонях?
Я подумал, и решил, что он прав.
– Так ты можешь слезать оттуда?
– Как бы не так, – погрустнел он. – Как бы не так. Этот гребаный памперс, ну, который выдают за набедренную повязку, он держит меня намертво. Нет, кое-что я оттуда могу вытащить, ха-ха, но за талию я прикреплен намертво.
Наступил вечер. Я пошел к дому.
– Эй, – обеспокоено завертелся он на моей груди, – эй, ты куда?
– Домой. Спать.
– Ты что, не хряпнешь пива?
– Это меня губит, мужик.
– Да какой, на хрен, губит?! Хряпни пива, мужик. Две бутылочки. Тебе не повредит. Обещаю!
– Одну бутылку.
– Ну и ладненько.
Налив пива в бокал, я заметил, что он вылез из под майки и начал дышать испарением. Ну, и хрен с ним. У меня оказался беспокойный Христос.
Ложась спать, я подумал, что прикуплю себе другую цепочку. Эта была слишком коротка. Ночью она закрутилась вокруг шеи и давила. Мне трудно было дышать.
ххх
Утром я понял, что задыхаюсь. Тут до меня дошло. Блядь, я не верил себе, но, стараясь не шевелиться, приоткрыл глаз и глянул вниз. Так и есть! Этот пидар сидел перевернул крест, сел на него, и, упираясь своими микроскопическими ножками, перекручивал на моей шее цепочку.
– Ах ты сука!!! Сука ты этакая!!!! Да ты меня душишь, – заорал я.
Он моментально прикинулся обычным серебряным Христом на крестике. Серебряным, неодушевленным и неподвижным.
– Ах ты сука! Сука!!!
Я побежал в ванную и стал торопливо расстегивать цепочку. Как бы не так…. Я опустился на пол. Сердце колотилось. Только что я понял, как я попал. Меня трясло.
– Ладно, – сказал я, – успокаивая прежде всего себя, – ладно. Сейчас. Сейчас…..
Я заметался по квартире.
– А! Вот оно что!
Тут я поднял крестик к глазам и плюнул в его бесстыжую рожу.
– Глянь, глянь, сука! Видишь этот колпачок от градусника?! От детского градусника! Сидеть тебе там! И не делай вид, мразь, что ты не живой. Ты – живой, и душил меня утром. Меня! Который тебя вытащил из этого гребаного магазина!
Он все еще притворялся. Только когда я сунул его в колпачок, закрыл, и обмотал для верности бинтом, он заскулил и заскребся изнутри.
ххх
– Что это у тебя на груди? – спросила меня подружка, – ты же не носил крестиков.
– А это не крестик, – засмущался я. – Это гильза. Гильза от патрона, который вырезали из моего тела хирурги. Это меня четыре года назад ранило. В командировке.
– Ой, – прижалась она плотнее, – расскажи, а?!
– В следующий раз. Я не люблю вспоминать об этом. Я и на гильзу-то смотреть не люблю. Поэтому обмотал ее тряпкой.
– У тебя такая профессия…
– Да, – гордо сказал я, – да. Что надо. Кровь. Кровь и насилие. Игра со смертью. Я тореадор. Рано или поздно смерть, подкинет меня, как бык тореадора на полотнах Гойи, и подкинет на рога. Я знаю об этом. Но я все равно на арене…
– Милый…
Я уже расстегнул ей шорты, и теребил между ног. Мне было хорошо. Очень.
– Блядь!!!
– Что случилось?!
Маленький паршивец сумел раздвинуть половинки колпачка, чуть-чуть размотал тряпку, и выдернул из моей груди волос.
– Я сейчас.
– Все в порядке?
– Да. Просто рана вдруг разболелась.
– А где она у тебя?
Я продемонстрировал ей шрам на боку. Этот след от гвоздя, на который я напоролся в детстве, упав с велосипеда, неизменно меня выручал. Если бы я придумал единственную версию его появления, и не звиздел об этом каждый раз по-новому, я бы и сам поверил, что шрам – благородного происхождения.
– Ты чего, козел? – зашипел я на Христа в ванной.
Он выглядел вполне мирно.
– Мужик, я чего хочу сказать… Ты извини, я погорячился с утра. У меня характер скверный. Но ты сам пойми – отлили на этом ебаном ювелирном заводе, бросили в коробки с товаром, и пять лет я пылился там, понимаешь, пылился… Как тут не озлобиться, а, мужик?
Он начинал канючить.
– Ну и что?
– Мужик, я же понимаю, что ты сейчас делать будешь. Мужик, нет проблем!
– Ах, спасибо!
– Нет, нет, мужик, ты не нервничай, чего ты такой нервный. Делай что хочешь, только сними с меня этот колпачок херов.
– Да?!! И чтобы ты, сука, меня придушил?
– Мужик, ну я ж извинился. Ну, чего ты, мужик?!
Я выбросил за стиральную машинку колпачок и тряпку.
– Эге-гей, хе-хе, – закрутился мудак на своем кресте, – давай! Давай, мужик! Вдуй ей!
– Ты чего, – зашипел я, – чего орешь?! Заткнись! Не то…
– Ладно, ладно, – захныкал он, – я могила!
– Еще раз скажешь это «вдуй», замотаю в изоленту! Я люблю ее, понял?!
– Да ладно тебе, мужик! Что ты мне прогоняешь?! Ты же не меня трахать собираешься?
Он снова оказался прав. Я прекратил ему прогонять, и вышел в комнату.
ххх
– Ух, ух! Уу-у-у-у-у-у-ххххххххх!!!!
Это было ужасно. Каждый раз, когда я двигал вперед, мудилка на цепочке залетал ей между грудей. Каждый раз. Я отстранил назад корпус и попробовал еще раз. Так и есть. Крестик полетел вперед, как раз между грудей, и мудила с оглушительным для меня воплем залетел ей между грудей. Он ее туда трахал.
– В чем дело?
– Ты ничего не слышишь? – осторожно спросил я.
– Какой ты странный… Нет, ничего.
– Точно?
– Да нет же, боже мой! Давай, давай, продолжай! Давай!
Это было нечестно с его стороны. Но мы снова начали. Я, она, и Христос. Хрень!
Я изловчился и закусил цепочку зубами. Теперь он висел где-то между нами. Так было минут десять. Я вновь перестал себя контролировать, и мудак на кресте, едва не выпав из своего памперса, который набедренная повязка, сумел дотянуться до ее шеи и с наслаждением ее облизывал. Я мотнул головой, и он залетел мне на затылок. Тогда он заскулил и стал молотить меня кулачками в затылок. Но я стерпел, и двигался аккуратно и медленно. Очень медленно. На меня можно было ведро воды поставить, и я ни капли не пролил. Нельзя было, чтобы крестик упал с затылка, повис на цепочке и этот мудак снова начал мне мешать. Как он ни старался, но так и остался на затылке до самого конца.
– Все в порядке?
– Да. Ты сегодня какой-то странный.
– Понимаешь…
– Но мне понравилось. Ты двигался… так… необычно….
– Да. Понимаешь…
– Мне понравилось. Ты вообще меняешься.
– Да. Пони…
– Такой нежный…
– Пони…
– М-м-м-милый…
Я лег на нее, и крестик как раз попал между грудей. Но было все равно. Уже. Он сказал:
– Уу-у-ух!!!!
ххх
– Слушай, Иисус, – я был необыкновенно задумчив. – Мужик, ты почернел.
– Думаешь, я сам не вижу?! Ты же потеешь, мудак, потеешь, как самый распоследний негр!
– Откуда ты знаешь, как потеют негры?
– Да насрать мне, как они потеют! Хорошо, ты потеешь как вонючий козел! И от пота я почернел!
Мы разговаривали в ванной. Он действительно почернел.
– Ну, и что с тобой делать?
– Не знаю! Но что-нибудь сделай! Мне не улыбается быть черным, так, будто я черножопый какой-то! Почисть меня!
– Мужик, я не смогу тебя почистить на цепочке, ты что, не понимаешь?! Она же короткая! Надо снять!
– Ты меня наебешь, – жалобно захныкал Христос, – как пить дать, наебешь…
– Не наебу. Вот тебе крест, не наебу!
– Да пошел ты в жопу со свои крестом, понял?! – заорал обитатель креста.
– Не психуй, мужик. Не наебу. Даю слово.
– Да?
– Я же не похотливый серебряный козел, который ноет все время, постоянно. У меня есть слово, и я умею его держать. Мужик, я же католик, ты что, не знал? Мужик, я католик. Если я тебя наебу, меня всю жизнь будет мучить комплекс вины! Я католик, мужик. Доверься мне.
– Да?
Он, похоже, понял, что я действительно мягкотелый чудак, парадоксальный до того, что принципиально не бывает жестоким в жестоком мире.
– Да. Я католик. Ты мой Бог. Я не наебу тебя.
– Не наебешь?
– Не наебу.
– Точно не наебешь?
– Точно не наебу.
– Даешь слово?
– Да.
– Даешь слово, что не наебешь?
– Даю слово, что не наебу.
– Ладно, – он боялся, – последний раз и все.
– Не наебу. Я тебя не наебу. Даю слово.
Конечно, я его наебал.
ххх
В ломбарде крестик с цепочкой приняли за тридцать леев. Сказали, что это из-за воска, который капнул аккурат на голову Спасителя. Это меня не смущало. Я сам капнул воска на его башку, чтобы он не трепался. Но им об этом не сказал. Я был рад.
Я вышел на улицу и увидел бар «Зодиак». Я зашел туда и пил до вечера. Часам к одиннадцати перебрался на улицу. Там я встретил подружку. В свете фонаря на ее шее блеснула цепочка. Я подошел к ней и внимательно прощупал эту цепочку. К счастью, на ней ничего не было. С меня было достаточно одного Спасителя в жизни.
КРАСИВЫЙ КАК БАНДЕРАС
Где-то во мне всегда прятался Бандерас.
Красивый такой двухметровый чувак, который женился на Мелани Гриффит. Она еще работала – не скажешь же «играла» – в рекламе чулок. Ложилась на багажник крутого автомобиля и напяливала на свои ножки колготки цвета песка. Все это на фоне песков границы с Мексикой, где ее тормозил – за голые ноги, что ли? – американский мент. Ну, она и давала ему. В смысле, давала жару. Да так, что воздух дрожал. Немудрено, что Бандерас захотел на ней жениться. Правда, до этого он уже был женат – как это не удивительно, не на Сальме Хаек. Ну, той мексиканке с роскошным задом, которую он трахал в «Отчаянном». Смотрели? То-то и оно. Он, Бандерас, там не просто ходит, а Танцует. Как тигр. Опасный, красивый, гордый. С двумя огромными пушками сто двадцать десятого калибра.
Жгучий и красивый. Вот такой я Настоящий и есть.
Хотя снаружи – просто кусок бесцветного говна.
Та же самая проблема с голосом. То есть, он у меня есть. Голос, в смысле. В то же время, его у меня нет. Как бы объяснить. В общем, голос у меня есть в прямом смысле, а вот в переносном его у меня нет. Еще проще? Я могу крикнуть «Занято», но спеть не смогу никогда. Когда я открывал рот на уроках пения, учительница выбегала из класса. С возрастом ничего не изменилось. Это особенно унизительно с учетом того, что в душе я Каррерас. Не поверите, но в голове у меня все время играет музыка. Я то пою арии какие-нибудь – ну, не пою, потому что итальянского не знаю, а просто мычу мотивчик, – то песенки модные. Особенно мне нравится «Безответная любовь» певички Мара, знаете такую?
– Бей меня-я-я-я и кус-а-а-а-й, лезвие-е-е-е-е-м острым ре-е-е-е-жь, только-о-о не ух-а-а-ад-и, на-всегд-д-а-а-а!
Что, не понравилось? Ну, еще бы! Я в такт даже за две строки не попаду! Как говорил мой учитель рисования – да-да, с цветом и размером у меня примерно как с внешностью и слухом, – если бы в Париже хранился анти-метр, то меня бы немедленно выписали во Францию.
– А? – спрашивал его я, отрываясь от своего верблюда.
– Ты знаешь, что в Париже есть музей мер и весов? – спрашивал меня этот высокомерный ублюдок, стройный и красивый, отдаю ему должное.
– Нет, – говорил я, ну еще бы, в третьем-то классе, откуда я мог это знать, мать его.
– Надо же, он не знает, – говорил он и торжествующе улыбался, а девочки хихикали.
– Я не знаю, – говорил я, потупившись.
– Так вот, в Париже ЕСТЬ музей мер и весов, – говорила эта блядь в штанах. – И там хранится образец метра, идеальный метр, это, ребята, кусок платины величиной РОВНО в метр…
– О-о-о-о, – говорили девочки.
– Это, девочки, ОБРАЗЕЦ, – говорил он ласково, хотя в классе были и мальчики еще, кроме девочек.
– Так вот, если бы в Париже хранили анти-образец, то в качестве этого анти-образца в Париж выписали бы нашего друга, – сказал он.
– Какого? – спросил я, и все захохотали.
Учитель дал мне легкий подзатыльник, и вернулся к доске, взяв со стола мой рисунок. Ну, а чего вы хотите. Школа была еще советская, и всей этой хрени про права человека, особенно ребенка, мы еще не слышали. Случалось, учеников били. Чаще всех, конечно, били меня.
– Это что за диван? – спросил учитель меня.
– Это верблюд, – сказал я.
Вместо ответа говнюк продемонстрировал верблюда всему классу, и все снова заржали. Да. Рисую я так же отвратительно, как и пою. И выгляжу. В общем, как вы уже поняли, я не состоялся ни в чем. Впрочем, я говорил об уроке рисования. До сих пор слышу это мерзкое ржание в классе…
– Это ДИВАН, – сказал учитель.
– Это ВЕРБЛЮД, – сказал я.
– Иди сюда, – сказал он.
Он был явно сильнее. Я пошел вроде бы к нему, и он расслабился, и я сразу рванул к двери. Поймать он меня уже не смог бы. Поэтому просто проорал в дверь:
– Тебе конец, урод маленький, слышишь? Конец тебе!
Я знал, что мне здорово достанется. И от него и дома. Но мне было все равно. Я уже бежал из школы домой и, нещадно перевирая, напевал про себя какую-то красивую мелодию, под которую в Советском Союзе показывали прогноз погоды. Ради этой мелодии я специально дожидался программы «Время» и смотрел на бегущие по экрану цифры с плюсами и минусами, с облачками и солнышком, вызывая недоумение отца. Матери с нами не было, она умерла, когда мне исполнилось два года. Так что мы сидели у телевизора вдвоем, и взрослый мужчина с недоумением глядел на пацана, завороженно слушавшего какую-то, как мужчина говорил, трынькающую поебень.
Недавно я узнал, что это «Yesterday».
ххх
Нельзя сказать, что я воспринял отсутствие каких-либо талантов как данность.
Я боролся.
Два года посещал студию рисунка, и даже ходил с ними в поход. Мы разбивали палатки в садах за городом и странноватая тетка-скульпторша, заведовавшая кружком, читала нам на ночь эвенкийские народные сказки. Это в Белоруссии-то. Выебывалась, я так понимаю. Тем не менее, в походах было интересно: днем мы шли пару километров, а потом зарисовывали виды. Букашек всяких еще, плоды. У меня, конечно, получалось криво. Тогда я купил себе набор инструментов для резки по дереву. Учительница, смеясь, назвала мои скульптуры идолами. Сейчас – то я понимаю, что это можно было воспринимать, как комплимент. На экзамене, после которого из кружка переводили в художественную школу, я провалился.
Это не имело значения, потому что мы снова переезжали.
В четырнадцать я увидел кино «Отчаянный».
В нем прекрасный мужчина двух метров ростом с черными, волнистыми волосами, стрелял в белый свет, как в копеечку, и каждый раз попадал в десятку. Рядом с ним бежала, заглядывая ему в лицо, прекрасная мексиканская женщина Сальма Хаек. С жопой и сиськами. Ну, я и дрочил на нее несколько лет. Это еще что! Со мной в классе учился парень, который дрочил на фотографию девчонки с дельфинами из какой-то дурацкой книжки про ныряльщиков. Он, как и все мы, плохо кончил. Уехал в Турцию и застрелился. Но это случилось совсем недавно.
А тогда нам было лет по четырнадцать, и я понял, что На Самом Деле, я такой – как Бандерас.
А эта внешность, эта оболочка – она не моя.
Я не то, чтобы был уродом, ничего такого. Но и красавцем меня не назовешь. Ничего особенного. Ничего, чтобы бросилось в глаза. Никакой тебе тигриной грации, никаких талантов…
Вернее, их полно, понимал я, просто мир о них не знает.
К шестнадцати я забил на попытки показать миру, какой красавец находится у меня внутри, и постарался ограничить свои контакты с этим самым миром.
Поэтому после окончания школы пошел в медицинское училище, и к восемнадцати годам устроился в морг. Покойники меня не пугали, я с детства знал, что неприятностей можно ждать только от живых. Мертвецы были молчаливыми, желтоватыми, вовсе не похожими на людей куклами. Я занимался тем, что мыл их из шлангов перед вскрытием, и мыл цементные столы после вскрытия же. Нам, – мне и другим санитарам, – приплачивали родственники покойных, происходило это все в 90—хх, во время бандитских разборок, безработицы и стресса, так что отбоя от трупов не было, и жили мы припеваюче. Отец выбор мой воспринял спокойно, тем более, что ему было не до меня – врачи нашли у него какую-то ужасно неприятную болезнь сердца. И уже спустя год он лежал передо мной на цементном лежаке. Что мне оставалось делать?
Я его помыл.
xхх
Так прошло десять лет.
С Дашей я познакомился к тому времени, когда потерял всякую надежду познакомиться с девушкой.
Это было тем более удивительно, что Даша была младше меня на десять лет, была девушкой и мы познакомились.
Я в романы между людьми с разницей в возрасте не верил. Довольно самонадеянно с моей стороны, ведь романов у меня никогда и не было толком. Женщины иногда были. А романа, настоящего, нет. Поэтому я очень удивился, когда симпатичная молодая девчонка, сопровождавшая кучку рыдающих жирных старух – умер какой-то «новый молдаван», и нам предстояло его Подготовить, – подошла ко мне, чтобы познакомиться. Она так и сказала:
– А давайте познакомимся?
– Ну, давайте, – буркнул я, пряча руки в карманы халата.
– Скажите, а это правда, что вы обмывали семерых мертвых пидарасов? – спросила она, расширив глаза.
– Ну, да, – нехотя сказал я, потому что не любил об этом разговаривать.
История про «Семерых Мертвых Пидарасов» прогремела в нашем городе в 96—м году. Пресса ее так и называла, ну, или сокращенно, «СМП». Их, этих ребят – ну, семерых мертвых – нашли в краеведческом музее города. Все они были голыми, с распоротыми животами, и в каждом из них был бивень мамонта. Причем не в животе…
Полиция, расследовав инцидент, пришла в ужас.
Оказалось, что эти семеро – которых ушлая пресса и окрестила Семью Мертвыми Пидарасами, – создали нечто вроде преступной группировки. Причем, как английские аристократы в 19 веке, исключительно ради забавы. Эти молодые люди, чья сексуальная ориентация вызвала бы в то время массу вопросов – и которую они скрывали – занимались тем, что… жали руки всем авторитетным людям города. Звучит смешно, но на языке блатных это значит «законтачить». И уголовник, которому жали руку эти пидарасы, сам становился пидарасом! Когда бандиты выяснили, сколько человек здоровались с этой «семеркой», то пришли в ужас, собрались на «заседание» и приняли решение «приколистов» уничтожить, и все забыть. Так и сделали.
А семеро молодых пидарсов приняли мученическую смерть в краеведческом музее Кишинева…
Обмывали тела насчастных мы, и только после того, как сходняк принял решение, что в резиновых перчатках – не контачишься.
Поверьте, в Кишиневе 90—хх это было очень важно.
Я вздохнул и сказал:
– Да, но это было давно и я об этом не рассказываю.
– Здорово! – сказала Даша.
Я посмотрел на нее внимательно. Выглядела она не по годам развитой. В мини-юбке, топике… на вид ей было все восемнадцать. А на деле, шестнадцать. Я подумал, чего ей нужно. В сказки я давно уже не верил. А то, что такая сочная девушка хочет познакомиться с непримечательным санитаром морга, и было сказкой. Она улыбнулась и я снова не поверил.
– Так ты зарабатываешь тем, что моешь жмуриков? – спросила Даша.
– Ну, да – сказал я.
– Даша! – позвала Дашу одна из старых жирных родственниц.
– Кстати, меня зовут Даша, – сказала она.
– Очень приятно, – сказал я.
– А тебя как зовут? – спросила она.
– Тот, кто моет жмуриков, – сказал я.
– Какие мы колючие, – сказала она.
– Даша! – сказала, рыдая, одна из старух.
– Скажи ей, пусть не убивается, – сказал я. – Помоем и почистим вашего покойничка, как надо.
– Да ладно, – сказала она, – дядя все равно был говнюк, и бил тетю.
– А ты-то что здесь делаешь? – спросил я.
– Привезла тетю горевать, – похвасталась она, – у меня же права есть!
– Ладно, – сказал я, – что-то еще?
– А можно я приду к тебе вечером? – спросила она.
– Зачем? – спросил я.
– Да так, – сказала она. – Пообщаемся?
– Тупая малолетка, которая играет в отчаянного человека, – сказал я.
Она глянула на меня внимательно:
– Так вот как ты себя идентифицируешь?
ххх
Даша пришла вечером, и оказалась довольно умной малолеткой.
Мне, по крайней мере, с ней было интересно. Пока я чистил одного клиента, споласкивая его мощной струей из-под шланга, она расспрашивала меня о работе. Я видел, что ей правда интересно.
– А почему вода холодная? – спрашивала она.
– Потому что, если их мыть горячей водой, тело станет разлагаться куда быстрее, и к похоронам покойник будет выглядеть как торт, полежавший на солнцепеке, – отвечал я.
– А у них правда растут волосы и ногти потом? – спрашивала она.
– Нет, – отвечал я.
– А вы вырываете золотые зубы у мертвецов?
– Нет, родственники же увидят, – соврал я.
– А вы разговариваете с покойниками?
– Только если собеседник интересный…
– А вы правда трахаете покойниц, если вам привозят молодую и красивую?
– Нет, – соврал я еще раз.
– А вы…
– Помолчи, – попросил я.
– А у тебя есть девушка? – спрашивала она.
– Нет, – сказал я правду.
– Ладно, – сказала она. – Тогда я буду твоей девушкой.
– Ладно, – сказал я. – Тогда у меня есть девушка.
Потом отложил шланг, подошел к ней, взял за подбородок, даже не сняв перчатку, и спросил:
– Ну, а теперь объясни почему?
В смысле? – спросила она.
– Я старше тебя лет на десять, я некрасивый, я мою жмуриков, – сказал я.
– Я беден, – соврал я, потому что ничего не тратил, а все откладывал, и денег бы хватило лет на десять скромной жизни где-нибудь в Чехии.
– Я не отмечен талантами, – сказал я.
– Меня даже не хватило на то, чтобы спиться, – сказал я, – или стать каким-ниубдь сетевым задротом, из тех, что наводят ужас на посетителей какого-нибудь форума в интернете, а в жизни болеют церебральным параличом, – сказал я.
– Я даже церебральным параличом не заболел, – сказал я.
– У меня нет голоса, я бездарен, а когда я попробовал сочинить песню, – вспомнил я, – то рифма у меня получилось даже хуже чем «на грудь – не забудь».
– Поэтому я устроился работать туда, где все такие же покойники, как я, – сказал я, – жмурики, никакие…
– И вот, в морг приходит аппетитная сочная девка лет восемнадцати… – сказал я.
– Шестнадцати, – сказала она.
– Тем более, – сказал я, – шестнадцати. Да к тому же, из богатой семьи. С машиной своей.
– Да, у меня «Гольф», – сказала она.
– И заявляет, что будет моей девушкой, – сказал я.
– Да, я буду твоей девушкой, – сказала она.
– Почему? – спросил я.
– Меня интересует все, связанное со смертью, – сказала она.
– Ты сатанистка? – спросил я. – какая-нибудь эмо сраная? Тебе нужно чтобы я тебе дал сердце покойника? Волосы утопленника?
– Нет, – сказала она. – Я типа христианка, Пасху вот недавно отмечали, яйца красила…
– Мы будем трахаться? – спросил я.
– Ну, конечно, – сказала она.
– Я ведь твоя девушка, – напомнила она.
– Отлично, – сказал я, – сейчас домою жмурика, и поедем ко мне.
– Нет, – сказала она.
– Позже? – спросил я.
– Здесь, – сказала она.
– Блядь, в морге, что ли? – спросил я.
– Ага, – сказала она.
– Так вот в чем дело… – сказал я.
– Бери, пока дают, – сказала она.
– Не думаю, что мы тут найдем укромный уголо… – не договорил я.
– На лежанке, где ты ИХ моешь, – сказала она.
– В смысле? – спросил я.
Она подошла к цементной лежанке, и начала раздеваться.
ххх
Со временем я привык.
К тому же, она потом разрешала бросить на цемент какой-нибудь матрас. Я просто старался не смотреть вправо – на другой лежак – и все было тип-топ. Мы трахались в холодильной камере морга остаток весны, и все лето. Она пришла туда после моря, загоревшая, и пришла ко мне осенью, в школьной форме, с бантами и гольфами. Сняла с себя все, кроме ленты «Выпускной класс».
Мы трахались в морге всю осень. Трахались в нем даже зимой.
Нас никто не тревожил: у нас мало кто соглашался на дополнительную работу, так что вечерами я распоряжался помещением.
Мы трахались всегда и только на лежанке, где в другую смену разделывали трупы, – так что я, когда приходил на дежурство, первым делом старался тщательно ее вымыть. Горячей, конечно, водой.
Следующей весной мы тоже трахались. Я понемножку привык и размяк. Решил было, что мир устроен чуть лучше, чем на самом деле. Это, конечно, оказалось не так.
– О чем ты мечтал в детстве? – спросила как-то Даша.
– О том, что стану мега-звездой, – признался я, – великим оперным певцом, или актером знаменитым и приеду в Кишинев после грандиозного выступления в какой-нибудь «Ла Скалле», или с «Оскаром». ..
– Дальше, – сказала она.
– Выйду из аэропорта, а за ним, ну, где поле, стоит сцена и стул. Я подойду к стулу, сяду на него, а на сцену выйдет Спиваков со своим оркестром, и сыграет для меня, – сказал я.
– И? – спросила она.
– Ну или Мадонна.
– И?
– Ну, или Элтон Джон.
– И?
– Ну, а потом я встану и пойду домой…
– И как ты намерен этого добиться? – спросила она.
– Никак, – сказал я.
– Экий ты никчемный ненужный человек, – сказала она.
– Зачем ты со мной трахаешься? – спросил я.
– Меня возбуждает все это, – сказала она и обвела взглядом морг, в углу которого валялся свеженький парень с огнестрелом в боку, я его сбросил прямо на пол, – так пикантно, необычно…
– А я? – спросил я.
– Ну, член у тебя ничего, – сказала она.
– Ну, а вообще? – спросил я.
– В смысле? – спросила она.
– Ну, ты меня любишь? – спросил я.
– Что? – спросила она.
А потом начала смеяться. Она смеялась, пока я садился, пока одевался, тоже смеялась. Хихикала, глядя на меня, а я думал, стоит ли мне задушить ее шлангом. Потом подумал, что это получится какой-то перебор. Какая-то «чернуха». А у нас – жизнь…
Так что я ее просто выгнал.
ххх
На следующий день она позвонила и извинилась.
Сказала, что не хотела меня обидеть. Но что с моей стороны было наивно полагать, будто бы она намерена связывать со мной свое будущее. Что у меня нет толковой работы, нет интересов, способностей. Что всему свое время. Что она уже должна подумать о высшем образовании, и новой жизни. Что это было увлекательное приключение. Что об этом году у нее останутся самые лучшие воспоминания. Что мне не стоит обижаться. Что всякие «каррерасы» – она так и сказала – которые во мне прячутся, не видны никому, кроме меня. Что мы можем поддерживать дружеские отношения.
Но все это было уже неважно.
Ведь на следующий день я уволился.
Продал квартиру. Снял со счета все свои деньги. Прикинул, на что хватит. Позвонил в Москву. В пресс-службе очень удивились. Но кризис, он как голод, а голод не тетка, а деньги не пахнут. Даже жмуриками. Тем более, что денег было много. Ведь родственники не всегда вспоминают о пломбах на задних зубах. И уже через две недели в поле за кишиневским аэропортом стояли стул и сцена. На сцене пела группа. Ну, эти, которые постоянно поют про колдунов. «Принцы и нищие»? .. Нет, кажется, «Король и шут». Нет, на большее не хватило.
– Привет, Кишинев, – недоуменно сказали они, едва вышли на сцену.
Недоуменно, потому что в поле перед ними никого, кроме меня, не было. Но это тоже не имело значения. Я посмотрел на продюсера. Продюсер посмотрел на них. Они запели и заиграли.
Я, по условиям контракта, мог подпевать во весь голос.
Что и делал, сидя на стуле.
Прямо в поле. Один.
В стильном сюртуке и с сигарой.
Красивый, как Бандерас.
ВСЕ МОИ ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Среди сумасшедших преобладали, конечно, женщины.
Меня это никогда не удивляло. Стоит взглянуть женщине между ног, чтобы все стало ясно. Безумный глаз, намекающий на что-то экстраординарное, завораживающее, и последнее, что вы увидите в жизни. Черная дыра, пульсирующая перед тем, как туда проваливается космический корабль, потерявший всякую связь с землей. До исчезновения объекта как материи осталось пятнадцать минут, так что, будь я капитаном такого корабля, я бы непременно дал отсосать симпатичной штурману, а потом оприходовал заведующую нашим космическим камбузом. Я бы трахнул всю женскую команду своего звездолета перед тем, как мы провалились бы в черную дыру! Ну, конечно, не думали ли вы, что я наберу в кругосветное космическое путешествие команду из мужчин?! Нет. Только женщины. Только те, у кого между ног дыра. Черная угрожающая дыра. Вот что такое женское междуножие, и, понятное дело, если вам повезло уродиться с ТАКИМ, то вы и будете настоящей сумасшедшей. Каждая из них сходит с ума, впервые глянув туда вниз – себе между ног. Женщины. Недаром их сжигали в Реформацию, этих сучек. Поделом. Все они безумицы.
Каковыми, кстати, большинство женщин, приходивших в газету, и были. По двум, отмечу, причинам – а не только потому, что у них между ног пульсировала штука, которой нет у мужчин. Вторая заключалась в том, что они и правда были сумасшедшими. Что, как вы понимаете, напрочь разрушало мою стройную теорию о сумасшествии женщин только потому, что они женщины. Ну, зато я часто пересказывал ее в вольном изложении – то так, то этак, на редакционных пьянках. Женщинам это нравилось, они приятно смущались, считали это вызовом, и некоторые даже трахались за это со мной. Ну, а те, которые приходили – те были просто сумасшедшие. По самой простой причине.
Нормальный человек в газету ходить не станет.
И писать не станет. И читать их не станет. Он не будет их ругать, и про то, что до обеда газеты читать нельзя, тоже не скажет. Человек, который задрочен на том, что все, написанное в газетах ложь, – тоже псих. Человек, у которого есть любимчимки – журналисты, и он зовет жену с кухни почитать ей особенно удачное место из репортажа этого ай да парня – псих. Человек, у которого есть нелюбимчики-журналисты, и который открывает страницу в интернете, чтобы где-нибудь в сраном публичном обсуждении сказать, какое говно этот проклятый писака – псих. Псих, псих, псих. Нормальный человек вообще ничего общего с газетой иметь не захочет, никогда. Для нормального человека газета это что-то вроде человека Уры-Уры из черной дыры – ага, вот и она снова, привет, дыра! – где-то под Нижним Уренгоем, куда свалился блестящий астероид.
То есть, для нормального человека газета это фантастика, человек-обезьяна, икс-файлы, мать вашу. Он ее не знает и знать не хочет.
Я, конечно, только газетами и занимался.
Правда, по ту сторону баррикад. Было мне семнадцать лет и я был уже не то, чтобы стажером, и даже получал зарплату, которой хватало на две недели интенсивных пьянок, как и всем газетчикам. А оставшиеся две недели мы только и делали, что выбивали деньги из всякого говна. Ну там, например, грозили напечатать статью с расследованием о злоупотреблениях и тому подобное, благодаря чему нам часто платили всякие государственные чиновники и бизнесмены средней руки. Иногда у этих ребят терпение лопалось, и кто-то из нас попадал в изолятор Центра по борьбе с экономическими преступлениями. Некоторое время царила тишина, а потом ряды смыкались, и стая продолжала свое хищное прожорливое шествие. И все это – под одобрительные «ступай-ка сюда, я прочту тебе заметку этого удальца» или «этот проклятый говнюк позорит звание журналиста». А в свободное от работы время – а свободны мы были от нее урывками – я общался с сумасшедшими женщинами, ходившими по редакциям.
В общем, все это напоминало школу, или джунгли или коралловый риф. Пестрый, шевелящийся ковер, который издалека представляет собой идиллию. А вблизи здесь каждые две секунды происходит убийство, каждые три – изнасилование, каждые четыре – роды. Джунгли сраные.
Ну ничего, я справлялся.
ххх
Большей частью те, кто приходил в редакцию, представляли собой отбросы общества.
Этот Миллер с его записками почтальона, принятого на пост директора кадровой службы, просто говна кусок против моих сумасшедших. Или почтальоном был Буковски? Неважно. В общем, тот чувак, который занимался тем, что затыкал кадровые дыры в своей фирме и написал потом книжку про то, как трахал какую-то телку и да возьми да и помочись на нее во время танца (что-то связанное с раком, а может это просто ассоциации с трахом из-за слова «рак») – он просто слабак против меня. Потому что ко мне – а занимался общением с ними я, как новичок, – приходили отборные отбросы.
Сливки помоев. Самые сумасшедшие из всех сумасшедших города.
Дедок, который мечтал проложить железную дорогу из города Бельцы в самую глубокую точку Индийского Океана. На кой, правда, хрен, было неясно ни мне, ни ему. Женщина, чертившая Графики Смысла Жизни. Девчонка лет восемнадцати, симпатичная, но уже довольно грязная и оборванная, которая искренне считала, что я представляю интересы издательского дома «Бурда» в Молдавии. И которую трахали после меня охранники Дома Печати: натешившись, я присылал им ее с бумажкой, которую она считала «рекомендацией для приема на работу в журнал Космополитен». Было также много студентов: журфака и других факультетов. Часть из них были вменяемые, а большая – не очень. Сумасшедших и среди них хватало, но я предпочитал журфаковских – тем хотя бы хватило мозгов понять, по какой стороне лучше сходить с ума.
И самое главное – все мои сумасшедшие воняли.
От них всех очень неприятно пахло – самый приличный из них, председатель какого-то самопального общества ветеранов города Кишинева, – благоухал валокардином вперемешку с конским навозом.
– Чем это от вас пахнет? – спросил я, когда он впервые зашел в кабинет с письмом-петицией против жестого обращения с палестинцами в Газе.
– Как будто валокардином и конским навозом, – сказал я неуверенно и срочно закурил, чтобы перебить запах, но лишь обогатил его элементами табачного аромата.
– Валокардином и конским навозом, – сказал он.
– А теперь еще и табаком, – добавил он неуверенно, после чего добавил уже решительнее. – Точно. Конский навоз, валокардин и табак.
– Откуда, чтоб вас, вы взяли конский навоз? – спросил я.
– Мой дом находится рядом с конной школой, – сказал он, – и мы с женой просим ребят отгребать нам навоз, мы им потом грядки удобряем.
– О Боже, – сказал я.
– А валокардин я пью, – сказал он.
– Понятно, – сказал я. – Что там у вас?
– Петиция против жестого обращения с палестинцами в Газе, – сказал он, и заблагоухал навозом, валокардином и табаком еще сильнее.
Я вздохнул. Это была провинциальная республиканская газета сраной Молдавии. С таким же успехом он мог принести петицию в поддержку венериан, или с осуждением агрессии Звездной империи против Люка Скайуокера. В любом случае никто из тех, к кому он обращался, не читали молдавских газет.
– Поймите, – сказал я, а он сделал жесткое, как все они, когда им отказывали, лицо.
– Это провинциальная республиканская газета сраной Молдавии, – сказал я.
– С таким же успехом вы могли бы принести петицию в поддержку венериан, или с осуждением агрессии Звездной империи против Люка Скайуокера, – сказал я.
– Кого? – спросил он, но я не поверил, слух у него был, как у охотника в прериях, и просекал этот товарищ все невероятно быстро и точно.
– Неважно, – сказал я.
– В любом случае никто из тех, к кому вы обращаетесь, не читали молдавских газет – объяснил я.
– Ясно, – сказал он.
– Да мне, в общем, все равно, – виновато сказал он.
– Мне бы гонорар получить, – сказал он.
– Пенсия-то хуйня, – добавил он почему-то матом.
Но я все равно сказал «нет», потому что от меня ничего не зависело. Меня Специально посадили сюда говорить «нет». И принимать колотушки всех этих психов. Даже если бы ко мне заглянул Гоголь и предложил «Ревизора», я бы все равно сказал ему – иди на хер, Гоголь. Потому что меня посадили сюда говорить НЕТ.
Но старикан, в отличие от Гоголя, был цельной натурой.
Поэтому он поднялся на четвертый этаж Дома печати, где перебивалась с хлеба на воду наша сраная редакция, и пожаловался сраному редактору, толстому, тупому и жадному молдавану. Сообщил, что я назвал сраной «нашу цветущую Молдову, наш общий дом, давший крышу русским, молдаванам, евреям, и всем – всем-всем, и вношу национальную рознь». Поэтому молдаван сраный кинул меня на квартальную премию.
– Ты блядь сеешь национальную рознь, Лоринков, – сказал он, вычеркивая меня из списка награжденных. – Этот русский пидор пожаловался на тебя. Так что премии я тебя лишаю. Интересно, что он тут делает, этот русский пидор? Уёбывал бы себе в свою Россию сраную.
– Бля, какую рознь? – спросил я тоскливо.
– Да мне, в общем, все равно, – сказал виновато редактор. – Но если есть повод не заплатить…
Ладно. Я написал гневный пасквиль на частный экономический вуз, тиснул его под фамилиями трех оболтусов, из него исключенных, и поимел скандал с ректором этого вуза. А потом – интервью с ним и три свои зарплаты.
Так что премию я себе сам выписал.
ххх
Было мне, повторяю, всего восемнадцать.
Я и понятия не имел, кто я такой и что я делаю на этой планете. Что мне делать? Чем заниматься? Причем я вовсе не преувеличиваю. Я и в самом деле не понимал, для чего здесь я. И речь идет не о каком-то сраном «смысле жизни», про который любят потрындеть идиоты. С этим-то все понятно. Я родился, чтобы сожрать как можно еды, трахаться с женщиной, родить детей, и умереть. И речь не идет о том, чем заниматься во время этого времяпровождения. Все элементарно с этим. Зарабатывать деньги, чтобы съесть как можно больше еды, натрахаться, родить детей и умереть в комфорте.
Дело было не во времяпровождении, с этим-то я легко разобрался лет с пяти.
Дело было в другом. ЗАЧЕМ я здесь? Что мне блядь, Делать? Неужели вся моя жизнь должна представлять собой непрерывный цикл: пьянка – утренний похмел – выбивание денег из лохов – срач с тупым молдаваном – редактором – общение с сумасшедшими – вечерние пьянки в редакции? Если бы был хоть кто-то, кто сказал бы мне «да», я бы успокоился и делал именно это. Не нужно требовать от себя слишком многого. Почему-то большинство людей – этому меня работа в газете точно научила – полагают, что они Особенные.
Это, конечно, не так.
Подавляющее большинство людей, если не все, – за редкими исключениями типа гениев или сумасшедших типа меня – скучные, обычные, взаимозаменяемые частицы, куски говна, если по честному. Они не интересны никому, даже себе, они глупы, скучны, у них нет талантов, они просто планктон.
Конский навоз, которым господь Бог удобряет свои сраные грядки. Ничтожества.
И я, кстати, не имел ничего против, чтобы быть одним из них.
Неясность представлял только вопрос: действительно ли я такой?
И если нет, то зачем я все-таки здесь?
А сумасшедшие шли и шли.
ххх
– Дайте мне двести долларов, – сказала одна из них.
– Я даю честное слово порядочного человека, что верну вам их через неделю, – сказала она.
Двести долларов. 1995 год. Две мои зарплаты по тем временам. Хер знает кому. Хотя, я несправедлив. Судя по ее словам, двести долларов – порядочному человеку. Что же. Я присмотрелся к ней повнимательнее. Я видел ее первый раз в жизни. Красивая девка лет двадцати, черноволосая, сама, – как сказала, – студентка филфака. Какая-то мутная история с выселением из съемной квартиры, что-то безумное в глазах, по всем признакам – голодная шиза. Я глянул на ногти. Так и есть. Под ними была каемка. С психами всегда так. Они хоть маленькой деталью, да выдадут себя. Хоть в чем-то да будут неопрятны. Я отодвинул свою руку от ее. Потом подумал, какого черта.
– У меня нет денег, – сказал я правду, – все мы тут нищие сраные.
– Дайте мне, я верну! – сказала она упрямо.
– Но, – сказал я недовольный из-за того, что она перебила, – я могу помочь.
– Да? – жадно, по-настоящему жадно, спросила она.
– Выпишем вам эту сумму как гонорар в бухгалтерии, а вы отработаете потом, – сказал я полную херню, потому что меня бы послали, едва бы я приблизился с такой дебильной идеей к дверям бухгалтерии.
– Здорово! – сказала она.
Мы договорились, что она придет вечером. Я даже чуть разозлился. Ах ты пизда! Неужели ты думаешь, что здесь дают денег всем и каждому, а бля свои сотрудники сосут лапу, а? Да, мы ее сосали, но тщательно скрывали этот факт. Ах ты сучка! Ты думаешь, ты можешь прийти, наплести всякой херни про квартиру, сроки, долги, и люди, которых ты видишь впервые в жизни, и которые видят впервые тебя, поведутся на это и дадут тебе двести баксов? Неужели ты всех нас за лохов считаешь? Бля! Так я думал. В это время позвонили из секретариата:
– Есть кто-то из журналистов? – гавкнули, они всегда гавкали, в трубку.
– Ну, я, – сказал я.
– «Нуты»? – гавкнули в трубку. – А кто ты блядь такой, «нуты» долбанный?
– Ну я, – сказал я.
– Так вот блядь «нуты», – сказали из секретариата, – бери лист бумаги и пиши какой угодно херни на сто строк. У нас блядь дыра, понимаешь? Дыра.
– Понимаю, – сказал я. – А что писать?
– А пиши блядь что хочешь, какой угодно херни напиши, – сказали в трубку, – потому что, что бы ты не написал, этот мудак редактор будет недоволен.
– Можно написать рассказ? – спросил я.
– Пиши что хочешь, ты все равно за это по мозгам получишь, так что пиши, что угодно, ты что, тупой? – повторили там.
– И не забудь поставить свою подпись под текстом, «нуты» блядь, чтобы было кого пинать потом, – сказали там и повесили трубку.
Ладно. Я написал.
ххх
Следующим вечером пришла сумасшедшая. Я стал поить ее чаем, стянул с нее розовый свитер, который пах – как сейчас помню – сиренью, и увидел, что и лифчик не очень чистый. Ладно. В семнадцать лет такими вещами не заморачиваешься. И потом, я же сказал. Она была ОЧЕНЬ красивой. Великолепно сложенной. Тоненькой, стройной, но сиськи у нее были здоровенные. При этом не висели. Физика, говорите? В двадцать лет тело срать хотело на вашу физику. Забегая вперед скажу, что оно и в тридцать еще может проделывать такие фокусы, но дается это уже лишь упорным трудом… Я стянул грязный по швам лифчик, и присосался к сиськам. Она завелась, хотя сразу не очень хотела, но явно рассчитывала на деньги. Я повалил ее на две кушетки – мы их принесли с мусорки за Домом Печати, кто-то выкинул – и мы заелозили друг по другу.
– Приподнимите бедра, – попросил я, почему-то на «вы».
– Да-да, – сказала она, и приподняла.
Дальше было легче. Узкие, в обтяг, джинсы, удалось стащить. Трусики… Я не отважился глянуть на ее нижнее белье, и стащил их с джинсами, не глядя. Судя по тактильным – я имею в виду, что пощупал – ощущениям, она текла. И томно закатывала глаза. Что мне оставалось делать. Я лихо спустил штаны и задвинул ей. Завелся. Трахал ее с полчаса то так то этак, в семнадцать все еще хочется повертеться. А потом принавалился сверху, как люблю больше всего, и заработал. Текло из нее так, словно там кран включили. У меня даже ляжки были мокрыми. Глаза у нее были закрыты, и тело безвольно двигалось под моими толчками. Голова каждый раз упиралась в кушетку. Меня это дико возбуждало. Должно быть, я затрахал ее до потери пульса, гордо подумал я.
– Блядь, блядь, ДА! – сказал я.
– Вы уже кончили? – спросила она, не разлипая глаз.
Я глянул вниз. Половина кабинета была в крови. Блядь.
– Ладно, потерпи, – перешел я на ты.
– Да, конечно, – сказала она.
Я подвигался еще немного и кончил. Погнал ее за тряпкой в туалет и заставил вымыть пол, сам кое как помыл ляжки у раковины – не забыв, когда выходил из кабинета, прихватить все свои деньги.
– А за деньгами придите завтра, – сказал я.
– Что? – спросила она так, что сердце у меня дрогнуло, но это ничего не меняло, денег все равно не было.
– Слушай, – сказал я, – ты же не хочешь сказать, что ты правда студентка филфака, которую прогоняют из квартиры…
– Нет, – сказала она и заплакала и залепетала, – я просто проиграла денег в карты парню своей соседки, не знала, что это на деньги, мы просто играли в дурака, а он бандит, и он сказал, что убьет меня, это подстава, непременно убьет, если я не отда…
– Еще хуже, – сказал я. – Еще невероятнее.
– Вот тебе, – с сожалением дал я ей свои последние десять долларов.
– Остальное выпишет завтра бухгалтер, Богом клянусь, – сказал я. – Сегодня просто не успела.
– Спасибо, спасибо, – ревела она, – только не обманите меня, мне так страшно…
– Да я тебе правду говорю! – сказал я.
– Пожалуйста, пожа-аа-а-а-луйста… – ревела она
Я вытолкал ее, и прогнал мимо охранников. Те глядели на девку плотоядно, но я ее пожалел. И больше ее никогда не видел. Взял больничный за свой счет на три дня, и потом полаялся с бухгалтершей, визжавшей, что я нарочно приманиваю сумасшедших, которые утверждают, что им должны двести баксов, а сам сваливаю.
А еще месяц спустя я прочитал в криминальной ленте, что какую-то студентку трахнули и убили за карточный долг.
ххх
За всеми этими веселыми делами я и забыл уже о своей колонке.
Оказалось, зря. Трахнутый молдаван-редактор лишил меня очередной премии за то, что я написал какую-то «оскорбившую всех херню», но, почему-то, велел мне писать ее ежедневно. Мне все равно нечем было заняться. Ну, я и писал. Как раз одну из них писал – предвкушая вечернюю редакционную пьянку – как в кабинет позвонили. Как обычно, присутствовал только я, мне и трубку снимать пришлось. Остальные сотрудники газеты или трахались на съемных квартирах, или бухали, или приходили в себя на съемных квартирах после пьянок. Я был спокоен. Я знал, что займусь этим, как только появится следующий новичок. Все было в порядке вещей. К тому же, вечером намечалась пьянка.
В это время позвонили и я взял трубку.
– Это редакция газеты где работает журналист Лоринков? – спросил голос и назвал газету.
– Ага, – сказал я, и на всякий случай добавил, – с вами говорит его начальник.
– Замечательно, – сказал голос. – Послушайте, эту херню нельзя печатать!
– Да? – сказал я.
– Это полная, невероятная, – он волновался, – херня! Это компиляция. Симулякр! Это закос под Павича.
– А? – спросил я, потому что не очень понимал, о чем оно говорит.
– Это блядь не талантливо, – волновался голос, – это нужно прекратить, слышите, прекратить Немедленно, что это за хер еще такой, который из себя писателя строит…
– Писателя? – спросил я, ужасно удивленный.
– Ну да, – доверительно зашептал голос, – выебывается, строит из себя непризнанного блядь гения.
– Гения? – спросил я, удивленный более чем ужасно.
– Ну да бля! – зашипел голос. – Гения бля литературы!
– Литературы?! – страшно удивился я.
– Ну да бля! – страстно продолжал голос. – Он, этот Лоринков траханный, проныра бля, ему палец в рот не клади, вы же бля оглянуться не успеете, будет бля здесь великим писателем земли молдавской, и что самое страшное, все в это действительно поверят, а ведь это не так, не так бля, это же не человек, это Уебище!
– Вы знакомы? – спросил я.
– Какой на хер знакомы! – сказал голос. – Я всего неделю колонки этого бля психа читаю!
– Потрясающе, – сказал я машинально.
– Ни хера здесь потрясающего нет! – сказал он. – Прикрывайте эту бль лавочку пока его не распиарили! Завтра оглянуться не успеете, как кто-нибудь двигать этого придурка в топы!
– Топы? – спросил я тупо.
– Ну, наверх! – прошипел он. – Двинут в топы! Какие-нибудь московские литературные пидоры! Кто он такой бля чтобы иметь свое мнение и писать бля его?! Вы хотите чтобы этого человека считали молдавской литературой? Да пошла она в пизду, такая литература! Он не талантлив! Гнать его на хуй!
– Бля, – сказал я, совершенно ошарашенный.
– Вот-вот, – по своему понял он мой изумленный возглас.
– О кей, – сказал я, – мы записали ваш отзыв и дадим его в завтрашнем номере.
– Отлично! – сказал голос.
– Как подписать? – спросил я.
– Что? – спросил он.
– Ну, как подписать отзыв, – спросил я.
– «Неравнодушный Читатель», – сказал он, помолчав.
– О кей, – сказал я, – и спасибо вам за честный и искрений отзыв, между нами говоря, я этого мудака Лоринкова тоже недолюбливаю.
– Ладно, – сказал голос. – Тогда куплю завтра газету.
– О, я ваш должник, – сказал я.
Посидел еще. Глянул на определитель, записал номер, посмотрел в телефонной книга. Какой-то блядь «сергей ильченко». Он не соврал. Мы не были знакомы. Это имя мне ничего не говорило. Первое из тысяч ничего не говорящих имен. О кей. Я выпил литр вина – оставалось еще в канистре, присланную председателем колхоза, которого наш специальный отдел расследований от тюрьмы отмазал. Правда, сам же сначала туда едва не посадил… Но про первое председателю знать было не обязательно. Потом я порвал лист с предыдущей колонкой, которая не шла. И легко написал колонку про пидора, который упал в сортир и захлебнулся в своем говне. Человека звали Сергей Ильченко по прозвищу Копашка, которое он получил за то, что любил копаться. В чем именно, нетрудно было догадаться. И все это с примесью балканского мистическкого реализма.
Отнес листки в секретариат. Через час оттуда позвонили.
– Лоринков, ты псих, хармс бля долбанный, – сказали в трубку. – Тебя бля уволят.
– Но мы это даем. Мы все бля со смеху умираем, – сказали в трубку.
– Ага, – сказал я.
– Ты едешь на пьянку? – спросили там.
– Это единственное в моей жизни, в чем я уверен, – сказал я.
В дверь поскреблись. Я тихонько пошел к ней, глянул в щель и увидел толстую тетку, которая всюду носила свои сраные фельетоны и водила шестнадцатилетнюю дочку, которую буквально подкладывала под газетчиков, лишь бы ее говно напечатали. Она не была писателем, не была журналистом. На кой хер ей это нужно было, я не врубался. До недавних пор. Теперь я начал понимать феномен тех, кто звонит и ходит в газеты, тех, кто беспокоится за «топы» и тому подобную херню. Славы хочется каждой твари. Даже такой дешевой славы, как у газетчиков. А когда слава не приходит, приходит ненависть. От которой даже сросшееся сердце криво срастается. Так я подумал. Впрочем, это уже вранье – я так не думал, потому что это фраза из мультфильма «Десперо», а его сняли десятью годами позже. Так что я ничего не подумал. Я просто увидел, что тетка без дочки, и решил не открывать.
На цыпочках отошел от двери, и вылез из кабинета через окно.
ххх
– Я блядь построю величайшую башню мира.
– Я назову ее в свою честь.
– Я буду стоять величественный и гордый, и мои руки будут обращены к Солнцу.
– Когда Солнце будет садиться, оно будет светить вам с моих ладоней.
– Правая моя рука – Гималайский хребет, а левая – Альпы.
– Сам я велик, как планета.
– Я великий. Я блядь гений. Я великий писатель.
– А вы все блядь ничтожества.
Я остановился перевести дух и хлопнул вина, удивляясь, с чего это я вдруг. Аплодисментов не было. Лица вокруг меня горели ненавистью и алкоголем. Все это сборище 30—летних педиков и неудачников только и делало, что разевало рты в порыве единого бля негодования. А ведь начиналось все очень мило. Мы приехали все в дом какого-то мудака, который чертил планы газетных полос, и с его молодой симпатичной вечно веселой женой – то ли хиппушкой, то ли просто любительницей потрахаться, – и стали пить вино. Расхренячивать пробки и пить. Я, чтобы не мучиться, взял бутылочку и пил из горла. Иногда сплевывал крошки, потому что пробку не вынул, а расковырял, и втолкал пальцем в бутылку. Ну, мне так нравится.
Компания была большая, человек двадцать. Все сплошь старперы под тридцать, говорю же. Все сплошь неудачники. Люди Которые Ищут Себя. Интеллектуалы сраные. Они все сидели и пиздели, пиздели и сидели, – разменивали себя на пиздеж ни о чем, – и каждый из них, должно быть, считал себя Уникальным и Исключительным. Все они готовы были написать Великую Книгу, только вот на следующей неделе руки освободятся, или Фильм Гениальный снять, ну, летом, во время отпуска, но, конечно все руки не доходили. А еще они могли бы сочинить Песню покруче «Вечера тяжелого дня», Мелодию лучше, чем у Моцарта, спроектировать здание прекрасней собора Софии, и нарисовать картину лучше Модильяни, а уж про статую лучше микельанджеловской я не говорю. Они все МОГЛИ БЫ. Но все это был пиздеж. И они сами это знали. И они забалтывали все на свете, даже свой пиздеж.
А я пил и пил, наливался и наливался. Пока вдруг не понял, Зачем я.
– Пить да книги писать, – сказал я, и рассмеялся.
Все стало очень просто. Очень легко. В романах пишут про такое «все стало на свои места». Ладно. Я встал на свое место, и, как всегда бывает с вами, когда вы занимаете Свое место, – солдат в строй, Муромец на землю, бегун – правой толчковой на старт, – почувствовал за собой и в себе всю мощь мира. Величие и мощь. Я схватил бутылку со стола, вдавил ее пальцем и рассмеялся. Хлебнул. Все эти пиздоболы глянули недоуменно на меня. Я сказал:
– Я блядь великий писатель и своими словами я построю величайшую башню мира.
– Я назову ее в свою честь.
– Я буду стоять величественный и гордый, и мои руки будут обращены к Солнцу.
– Когда Солнце будет садиться, оно будет светить вам с моих ладоней.
– Я великий. Я блядь гений. Я великий писатель. Через десять лет у меня будет книг двадцать.
– А вы все блядь ничтожества, никчемные блядь импотенты.
Как это обычно бывает, нашлись сомневающиеся. Пара завистливых педерасток – завистливые всегда остро чувствуют, где есть Сила, – верещали, что де, кто я такой, и что блядь писателем себя великим нужно считать, когда хоть что-то напишешь…
– На-следующей-неделе-когда-руки-дойдут-лет-через-сто, как вы? – спросил я, отчего они зазлобились еще больше.
– Да я ебал вас всех! – сказал я очень убежденно, потому что был убежден в этом, да и на самом деле ебал среди них кое кого.
– Вы все говно и неудачники, а я великий писатель и гений, мать вашу, – бросил я.
– Я завтра же начну писать книги, и это то, чем я должен заниматься, – сказал я.
– Идите все в жопу, – сказал я.
От злобы они с ума посходили. А меня уже несло.
– Я блядь величайший, – говорил я, – и я, и все мои великие женщины мира…
– Я и все мои великие женщины… – сказал я.
– Любую женщину делает великой мое прикосновение… – сказал я.
– Последняя потаскушка, которую я ебал, войдет в историю литературы, – сказал я.
– Я это не просто я, и мои женщины это не просто женщины, – сказал я.
– Это великий я и это все мои великие женщины, – сказал я.
– Я как Мидас, к чему не прикоснусь, все будет литературой, – вдруг понял я.
– Он несет какую-то пьяную хуйню! – взвизгнула кто-то из хиппушек.
– Это стихи, блядь, величественные стихи в прозе, – сказал я.
– Я же великий писатель, и я могу ими говорить, – сказал я.
А потом взял бутылку и пятясь – чтобы сзади не ударили – свалил оттуда. Шел, прихлебывал на ходу, да смеялся. Все было очень правильным, понятным и отчетливым.
С той минуты мир стал таким, каким должен.
ххх
Следующим утром я очень равно проснулся в редакции, – где и ночевал – зная, что у меня два часа минимум. Раньше полудня никто не придет. У кого похмелье, кто тупой молдаван-редактор. Я лежал на столе, и глядел в потолок. Проснулся из-за звонков. Телефон звонил, не умолкая. Звонил, должно быть, вчерашний пидор «ильченко». Мне было все равно. Я заправил листки в машинку, закурил и открыл окно пошире. Был май, но с улицы еще тянуло прохладой. Я глянул на бумагу. Снял трубку, чтобы телефон не звенел. Поставил чайник. Глянул на бумагу. Налил себе кипятка на порошковый кофе. Глянул на бумагу. Если бы я знал, ЧТО меня ждет, то вышел бы, не докурив сигареты и не допив кофе и уехал из города, страны, и мира. Но я просто смотрел на бумагу, а потом, – все еще глядя на нее, – подтянул стул, и уселся. Стал осторожно, – как животное пробует лапой воду, – трогать клавиши. Чувствовал себя непривычно, но в норме.
Я объявил себя писателем. Значит, я и был им. Что же.
Оставалось лишь написать.
В ОЖИДАНИИ ВЛАДИВОСТОКА
Он был инвалидом по прозвищу Васяня-Обрубок и из-за него я потерял все.
Потерпел полный крах. Финансовый, моральный, морально-этический, физический, наконец. Это тем более удивительно, что мы с ним толком так и не переговорили ни разу…
Но по порядку. Вот что я узнал об этом человеке, перед тем, как в спешке покинуть страну. Итак, Вася-Обрубок. Обрубком он и был. Во всех смыслах. Наверняка, скажи ему кто в пору его молодости – году так в 70—м, – что его будут звать Васяня-Обрубок, он бы здорово удивился и разозлился. И навалял бы этому «кто» по башке своими здоровыми кулачищами. Услышь он такое году в 80—м, он бы тоже разозлился, но был бы куда менее опасен, потому что уже пил. Наконец, услышь он это в 90—м, то и с места бы не поднялся, потому что пил к тому времени лет пятнадцать.
Василий пережил классическую историю падения кишиневского интеллигента.
Квартира в новострое для молодых ученых, дачка в десяти километрах от города, пластиночка Окуджавы, сборник «Туристическая песня» на полке между не читанным Апдайком ( «Кролик беги», «Ферма», «Кентавр» – обычный советский сборник) и почти прочитанным, – потому что там было про трах, – Амаду ( «Донна Флор», «Капитаны песка») , отдых на Черном море раз в год и на Днестре – два раза в году. Ближе к пику карьеры – еще одна квартира в кооперативе, из-за которой им с женой пришлось отказаться от отдыха на три года, машина «Жигули», и две дачи. А когда Вася, – бывший в местном строительном тресте звездой национального масштаба, – выполнил кое какую халтурку для проектного института в Москве, и купил катер (катер!) , на котором катался иногда по Днестру, все поняли, – жизнь у него удалась.
В этот-то момент струна и лопнула.
Василий начал пить. Пили-то в Молдавии все, но Василий начал не пить, а ПИТЬ. Все больше, все чаще, сначала у костра и с бардами, потом просто с бардами, затем у костра, наконец, он просто пил. Первым был пропит катер, потом кооператив, затем дача… Спохватившаяся жена, отсудив себе оставшуюся квартиру и дачу, выкинула Василия на улицу.
Там он и замерз ночью настолько, что обморозил себе конечности.
И, чтобы спасти бомжа, – а Василий к тому времени стал бомжем, – ему отрезали руки по локоть, и ноги по пах.
Вася не пал духом. Сбежав из дома престарелых, где он и ему подобные умирали в пустых коридорах, в лужах своей мочи и в горах своего говна, он стал прудить и срать на улице. Что же. По крайней мере, на улицах хоть иногда убирали. Правда, все реже. Шел 1991 год. Молдавия стояла, как заброшенный город в джунглях: прекрасный, каменный, но оставленный людьми, он постепенно порастал буйными лианами, и по нему носились толпы обезумевших мартышек. Мартышки срали на улицах, били стекла, мазали говном статуи и соборы. Еще мартышки иногда срали в унитаз, но исключительно, чтобы позабавиться. Мартышка может срать в унитаз, и даже разок-другой смыть за собой – ну, подражая людям, – но пользоваться канализацией на постоянной основе она не станет. В общем, как вы понимаете, брошенный каменный город в джунглях – Молдавию – активно загаживали. И я всегда это говорил.
Наташа, впрочем, говорила, что это у меня обычная мизантропия среднего возраста.
Ну, еще бы, говорил я. Заработаешь тут мизантропию, если твоя подружка забыла все на свете, и готова говно убирать из-под задницы какого-то обрубленного бомжа.
Ты отвратителен в своей мизантропии, говорила она, и уходила из комнаты.
А я оставался в ней, глядя в окно на мартышек, скачущих по улицам цветущего, некогда, города белых людей.
Последний римлянин в брошенной империей Галлии.
Вот как я себя ощущал.
Неизвестно, правда, был ли он, этот римлянин, и была ли у него жена, и, если на то пошло, жил ли у ворот его дома человек без ног и рук.
И звали ли его Васяня-Обрубок.
ххх
По счастливому для него и несчастливому для меня стечению обстоятельств, Васяня, в ходе своих бесцельных с виду – а на деле очень осмысленных, как у муравья, ведомого неизвестным ему самому компасом, – скитаний по городу прибился, наконец, к моим воротам. Небольшого частного домишки, недалеко от Армянского кладбища. Место было стратегически выгодное. Дорога, но пешеходная, на кладбище можно чего-то украсть или выпросить, да и просто переночевать в открытом склепе. Наконец, самое важное.
Человек, к воротам которого прибился Васяня, был тюфяк.
То есть, это я был тюфяк. И Васяня, своим звериным чутьем человек, живущего на улице – таким еще обладают бродячие собаки, – почуял мою слабину. И начал жить у наших ворот. Притащил к ним обоссанный матрац – он тащил его в зубах, неуклюже переваливаясь с обрубка на обрубок, Маресьев хренов, – и стал на нем спать. Двигался Вася с трудом, кряхтел, сопел, ныл, так что я разжалобился. Как-то вынес ему плащ палатку и пару теплых вещей.
– Это ты зачем? – спросил меня Наташа
– Понимаешь, – сказал я, – я вот думаю…
– Что ты думаешь? – спросила она.
– Ну, – боялся я показаться странным.
– Валяй, – разрешила она мне.
– Мне кажется, – сказал я испуганным голосом, – а вдруг это…
– Что? – спросила она.
– Сам Иисус Христос… – прошептал я.
– Кто ты и кто Иисус, – сказала она, смеясь.
Она поглядела на меня с удивлением. Пришлось объяснять.
– Ну, как в притчах этих сраных, – объяснил я, нервничая, – когда к тебе домой приходит нищий в гнойных язвах и просит глотка воды, а ты шлешь его на хер и..
– И?
– … и оказывается, что это сам Иисус приходил проверять твою доброту.
– Я не знала, что ты настолько верующий, – подняла она брови.
– Да я, в общем, не очень верующий, – запутался в объяснениях я.
– Ясно, – сказала она, – ты просто думаешь, что это своего рода послание судьбы, и боишься оплошать перед ней.
– Во-во, – сказал я, и закурил.
– Господи, милый, – сказала она.
– Бог это не ревизор, а ты не проворовавшийся бухгалтер, – сказала она.
– Кто ты и кто я… – сказал я задумчиво.
– Если мы не знаем этого, зачем нам пытаться узнать что-то еще, – сказал я.
Пожал плечами, и вечером вынес Васяня-Обрубку поесть. Он поскулил о том, как ему тяжело дается этот простой, в общем, процесс, и мне пришлось, присев на корточки, перелить ему в жадную пасть всю тарелку супа. Потом, чтобы совсем уж не растрогаться, я убежал в дом, пожелав бомжу спокойной ночи.
Постепенно это – кормить бомжа – вошло у меня в привычку.
Наташа только пожимала плечами. Но отнеслась к этой моей причуде терпеливо. Она у меня была большой молодец. Моложе на десять лет, грудь не очень большая, зато ляжки… Ляжки у нее были чемпионы. Ляжки-Чемпионы. Она это знала и специально разбрасывала их по сторонам от себя на подоконнике той редакции, где работал я и куда она приходила на практику. Наташа увлекалась панком, роком, хиппи, и всей прочей херней, благодаря которой девушки начинают трахаться в тринадцать, сосать в двенадцать, и «успокаиваться» в двадцать. Примерно так вышло и у Наташи – замуж за меня она вышла к двадцати. Бросила плести фенечки и мечту работать в Москве, – почему-то именно в «Нью Таймс», – выучилась на переводчика, и стала порядочной девушкой. Она была ужасно независимой и отказывалась от работы, если до нее было «чересчур далеко ехать». Это в городе, который можно пешком за час пройти, твою мать, Наталья, хотел сказать я ей. Но молчал. Потому что содержала нас она. Меня, как расово неполноценного, уволили из газеты, так что я сидел дома. А Наташа – ну так недаром у нее фамилия была молдавская, Марар, – преуспевала. А я сидел дома, да. Готовил есть, да трахал ее каждую ночь, чтобы не сбежала к кому помоложе. Да постоянно говорил ей о том, как хорошо было бы нам куда-нибудь уехать.
Белозубая молдаванка Наташа только посмеивалась и говорила, что я драматизирую.
– У этой страны есть будущее! – говорила она.
По мне так, это у нее было возрастное. Когда тебе двадцать, у всего в этом мире долбанном есть будущее. Потом все проходит. Будущее мира исчезает и лопается вместе с пузырями твоей личной надежды. А они лопаются с возрастом – истончаются, как стенки сосудов у старика. Кстати, меня совершенно не беспокоило то, что я нахожусь на содержании у жены. Мне было на это наплевать. Я сидел у себя в доме, доставшемся по наследству от уехавшей в Румынию матери и уехавшего в Россию отца, и глядел, как прекрасный некогда каменный город зарастает сорняками.
И где-то под моими воротами беспокойно ворочался Вася-Обрубок.
ххх
Перебрался он к нам в октябре. О том, что это случится, я знал уже в июле. Но продолжал оцепенело ждать, что же произойдет. Само собой, произошло все так, как и должно было. Наступила осень и похолодало. Чуда не случилось. По утрам на асфальте видны были заморозки, и под моими воротами замерзал человек. Поэтому, когда я пришел к Наташе и спросил, не можем ли мы пустить этого бездомного хотя бы на ночь, в прихожую, она тоже не удивилась. Хотя не очень обрадовалась. Еще бы.
Все бывшие хиппи ужасно жестокие и черствые люди.
Не потому, что они плохие, вовсе нет. Мне просто кажется, что они исчерпывают весь свой запас доброты их сраной в юности. Ну, когда они ездят за отсос по миру на чужих автомобилях, ебутся с поставщиками травки, чтобы сэкономить деньги, и плетут свои сраные грязные никому на хуй не нужные фенечки. Но Наташа, кроме того, что была бывшей хиппи, и журналисткой – да-да! – была еще и моей женой. Так что она разрешила мне пускать Вася-Обрубка в прихожую на ночь. Она ведь, помимо переводов, занималась и семейной психологией.
– Твоя помощь этому несчастному поможет тебе отвлечься от собственной депрессии, – сказала она.
– О кей, – сказал я.
Завалил ее на кровать, она обхватила меня своими длинными крепкими ногами, и я ей вдул. Спустил прямо в нее – она у меня была молодая и продвинутая, всегда заботилась обо всем сама, – и вышел покурить за ворота. А там как раз лежал Васяня.
Тогда-то я с ним в первый раз и поговорил.
– Мы можем пускать вас на ночь, – сказал я ему.
– Ох спасибо добрый человек, – обычной бомжовской скороговоркой затараторил он.
– Право, не за что, – мне в то время доставляло особое удовольствие говорить на правильном русском языке.
ЯКОБЫ правильном, конечно. Том самом, на котором будут разговаривать актеры в кино «АдмиралЪ». Но я про такое тогда даже и не задумывался.
Так Вася-Обрубок перебрался к нам поближе. И уже на пятый день мы установили с ним нечто вроде эмоционального контакта.
– Мил человек, – сказал Вася-Обрубок, – ты энто не поможешь ли?
– К вашим услугам, – сказал я.
– Мне б поссать, – сказал он.
– О, – сказал я.
– Дык, – сказал он.
Мы помолчали.
– Мне б поссать, – повторил он.
– А как вы решали эту проблему раньше? – спросил я.
– Чо, – сказал он.
– Как раньше ссал? – спросил я.
– Под себя, – честно сказал он.
Я подумал. Потом, представляя себя пленным немецким офицером, который чистит подвалы Сталинграда от трупов, надел на руки резиновые перчатки, и поднес под Васяню ведро. А может так надо, думал я.
– Ну, ебтыть, – сказал он.
– Чо, – сказал я.
– Направить бы, – сказал он.
– Блядь, – сказал я.
– А то же, – обрадовался он более приемлемому в отношениях двух джентльменов тону и выражению.
Пришлось подержать. Минуты через две – Василий волновался и поэтому никак не мог расслабиться, – в ведерко хлынуло. Напрудив не меньше коня, Василий меня поблагодарил и попросил застегнуть ему штаны. Что я и сделал. И впервые увидел Васин хер. Это было нечто феерическое. Огромный и грязный. Что-то было в нем… Что-то угрожающее… Нет, в некотором-то смысле я смотрел спокойно. Меня, как и любого другого мужчину, беспокоила даже теоретическая вероятность склонности к гомосексуализму. Так что я, женившись на журналистке и психологе, первым делом велел проверить себя на этот счет. Оказалось, я набрал сто из ста. Гетеросексуал – гетеросексуальнее не бывает. Так что взглянуть на его хер я мог спокойно. Но как эстет – беспокоился. Было что-то грозное в этой штуке. Что-то от сомкнутой цепи белогвардейцев было в ней, что-то от неумолимой поступи фаланги… Меня передернуло.
– Ни хера себе хер, – сказал я.
И спрятал Васин хер в штаны, застегнув их.
ххх
Время шло. Кишинев зарастал лианами все больше. Бродячие кошки сожрали всех крыс. Бродячие собаки сожрали всех бродячих кошек. Потом бомжи сожрали всех бродячих собак. А уж пьяных и спящих бомжей пообкусывали вновь расплодившиеся крысы. Город тонул в нечистотах. Сначала пропало уличное освещение, потом централизованное отопление. Наконец, перестала работать очистная станция и в городе запахло говном. Для нас с Наташей это никакого значения не имело, потому что у нас И ТАК пахло говном. Из-за Васи-Обрубка, который спал теперь в прихожей не только ночью, но и днем. Как-то Наташа решила даже обсудить это со мной. Это и еще кое что.
– Тебе не кажется, что для писателя ты чересчур мало пишешь? – начала она осторожно.
– Я вообще не пишу, – угрюмо сказал я, очищая для Васи-Обрубка морковку.
– Тебе не кажется, что немного странно для писателя не писать вообще, – поправилась она спокойно.
– Брось, – сказал я, – писатель это тот, кто пишет книги и раздает автографы.
– А я просто сочиняю истории, чтобы не сойти с ума, – сказал я.
– Выкрикиваю свое безумие, – объяснил я.
Она посмотрела на меня внимательно. Я ответил ей тем же. Почему этот бойкий мужик, трахнувший студентку-практикантку прямо на подоконнике, стал аморфным куском говна, – безусловно, говорила она взглядом. Как это девчонка, только о ебле и думавшая, задрачивается теперь на тему заработка, статуса, и еще тысячи никому не нужных хреновин, – говорил взглядом я. Наверняка она бы выиграла в эти гляделки, но в прихожей заворочался Васяня-Обрубок, и она усмехнулась.
– Давай, социальный работник, – сказала она насмешливо, – иди подержи судно своему бомжу.
– Запросто, – сказал я, – по крайней мере, проявлю милосердие.
– Которого лишены такие вот пёзды с факультетов психологии и социологии, которые пишут рефераты на тему «как я хочу помочь несчастным людям» – сказал я.
И подумал, что это мы в первые по-настоящему ругаемся. Она, видимо, подумала о том же, и поднялась.
– Сиди уж, – сказала она, – а я ПОКАЖУ тебе, что не один ты со своим долбанным милосердием, которым просто сам себя оправдываешь, можешь помочь человеку…
– Обрубку, – поправил я.
Но она уже была в прихожей. Расстегнула Васяню под его одобрительное мычание. И сказала:
– Ого…
– Что? – спросил я, потому что совсем забыл.
Она промолчала, а я и не понял. Подумал, это ее степень загрязненности впечатлила. А о том, НАСКОЛЬКО его хер велик, я уже и забыл. Так что возглас Наташи прошел мимо меня. Я просто сидел на кухне, глядел в окно и ждал своего часа. Сидел и ждал, ждал и сидел.
Ну, он и пришел.
ххх
Наташа изменила свое отношение к Васяне-Обрубку. Стала убирать за ним говно. И уже на следующей неделе сказала мне, что неплохо было бы Васяню-Обрубка вымыть. Это меня здорово удивило, но я решил, что это у нее рецидив хипповой юности такой. А потом вспомнил, какое гнетущее воздействие на меня произвел огромный и черный – прямо как у коня, – хер Васи, и стал нерешительно отказываться.
– Тогда я сама его помою, – сказала она решительно.
Я только благодарно кивнул. Она пошла мыть Васю, который совсем деградировал, и уже даже разговаривать почти не мог. А я продолжил думать о том, как все несправедливо устроенно в этом мире. Ох уж эти молдаване долбанные… Туземцы, недооценившие все блага белой цивилизации! Я даже стихотворение написал.
– Только послушай, Наташа! – сказал я.
Встал у входа в комнату и прочел нараспев:
«… то предание рассказывают индейцы
селения Бельцы
предки которых некогда жили
поблизости от большого озера созданного инопланетными
пришельцами – жителями Атлантиды царившей на землях
нынешней Молдавии
эта Атлантида звалась Молдавская Социалистическая Советская Республика
что значат эти четыре слова
мы до сих пор не знаем
не сумели расшифровать, потому что по некоторым данным
наши предшественники из погибшей культуры МССР
я сокращаю для удобства-
были гораздо более развиты чем мы
и у них были белые волосы и голубые глаза
как на голубом глазу
говорю
как свидетельствуют находки раскопок неутомимых археологов
Академии наук Молдавии
цивилизация, обитавшая на наших землях задолго до нас
отличалась высоким уровнем развития культуры
они были сведущи в земледелии, экономике, сельской жизни
астрономии, машиностроении и прочих областях жизни человеческой
которые для нас теперь лишь пустые слова
слава
Молдавии независимой
уровень развития их науки, культуры и общественной жизни был так высок, что
если сравнивать образно, нынешняя Молдавия в сравнеии
с далекой загадочной МССР это
кусок дерьма красующийся подле алмаза
прошу вас не отчаиваться
ведь теоретически дерьмо может попасть в болото
стать торфом
и через пять миллионов лет давления тонн болотной жижи
стать графитом
а затем
да-да то предание рассказывают индейцы
селения Бельцы
предки которых некогда жили
поблизости от большого озера созданного инопланетными
пришельцами – жителями Атлантиды царившей на землях
нынешней Молдавии
эта Атлантида звалась Молдавская Социалистическая Советская Республика
что значат эти четыре
алмазом
иными словами, не все потеряно, у нас есть один шанс из ста и я прошу
существо с лицом советника президента ткачука внести это в протокол и не называть меня
внутренним врагом государства при составлении очередной речи
президенту для его выступления
продолжу о цивилизации
многие поражаются: это все равно, что грязные арабы
на землях Египта, говорят они
общего у них, Египта фараонов и Египта русских туристов
только земля
ученые недоумевают, каким образом
цивилизация гораздо более развитая, чем наша исчезла с этой земли
нашей же
выдвигаются самые разнообразные гипотезы
некоторые утверждают
что причиной послужила техногенная катастрофа
примерно такая, в результате которой погибла Атлантида Платона
ну, например, прорвало водохранилище Гидигича и вода покрыла
загордившихся от хорошей жизни людей
МССР
другие считают, что причины в загадочной чуме
в поветрии страшной и загадочной болезни
я ничего не считаю
я просто иногда выхожу на окраины города и любуюсь странными сооружениями
обитатели цивилизации МССР называли их
заводами
а как именно они использовали эти культовые, очевидно, сооружения
мы до сих пор так и не знаем… «…
… в голове у меня раздались слышные только мне аплодисменты…
Я замолчал, и раздувая ноздри, постоял немного молча, впечатленный собой.
– Ну, как? – спросил я.
Я был ужасно собой доволен. Первое стихотворение в прозе да пять лет Молчания! Я уже даже представлял себе эти строки в своей автобиографии. «Первое стихотворение в прозе за Пять Лет Молчания… Имярек, прошедший сквозь горнило страданий…». Но Наташа сказала только:
– А-а-а-а…
Причем с весьма отсутствующим видом, который стал находить на нее в последнее время все чаще.
– Что «а»? – спросил я.
– А, ну да, да, – сказала она.
– Что да-да?! – зло спросил я.
– Ну неплохо, – сказала она виновато.
Потом глянула, почему-то, себе на руки, и сказала осторожно:
– Милый, а может, не одни только, по твоему выражению, «молдаване ебучие» виноваты в том, что ты сидишь дома и ничего не делаешь?
– Они выкинули меня с работы! – гордо сказал я.
– Их газеты разорились, причем все, – сказала она.
– Они все СЕБЯ выкинули с работы, – сказала она.
– Ты уже пятый год ничего не делаешь, – напомнила она.
– Так может, пора чем-нибудь заняться? – спросила она.
– Брось, – сказал я, – эти молдаване ебучие перекрыли нам, русским, кислород, дохнуть нечем, где найти рабо…
– У меня знакомый еврей открыл магазин, – сказала она, – и ему нужны экспедиторы.
– Альбац его фамилия, – сказала она.
– Я? – спросил я.
– Экспедитор?! – сказал я.
– Все равно не получится, – сказал я, – обязательно эти молдаване ебу…
– Как же ты узнаешь, перекрыли они тебе кислород или нет, если ты даже НЕ ПРОБУЕШЬ? – спросила она.
Я отмахнулся и спросил:
– Так тебе понравились мои стихи?
ххх
В магазин все-таки пришлось устроиться. Наташа стала нервничать и намекать на возможный уход. Это огорчало и пугало: мужчина в моем возрасте и положении не сразу бы нашел себе замену этой бесплатной машинке для секса. А регулярный секс значил для меня очень много. Само собой, секс чаще всего бывает ТОЛЬКО у женатых. Все разглагольствования на эту тему холостяков просто треп. Снять бабу, потратить на нее деньги, и время, отвести куда-то и оприходовать – если кто-то станет говорить вам, что проделывает такое КАЖДЫЙ день, то это гнусная ложь. Это элементарно затратно и трудно. Женатый же имеет секс каждый день. А может еще и утром, если захочет. Я хотел и утром и вечером. Правда, по утрам теперь пришлось отменить. Ведь я стал уходить на работу рано утром. Работенка была не пыльная, но была в ней одна проблема.
Там действительно нужно было работать.
А это меня всегда отвлекало от действительно важного. Наблюдение жизни. Так что на третью неделю я, вроде случайно, уронил ящик с бутылками, полаялся с боссом, и швырнул ему в лицо свою рабочую кепку – ну вроде как заявление – после чего ушел. Не спеша прогулялся по центру города, стараясь не заходить на центральную площадь – там постоянно шли какие-то митинги, и я проявлял гражданскую пассивность (попросту трусил) , – и побрел домой.
У ворот Васяни-Обрубка не было. Значит, уполз на кладбище, подумал я. Открыл ворота, и зашел в дом, придумывая, что сказать вечером Наташе, когда она вернется. Но так ничего и не придумал, потому что она была дома. Сидела на какой-то подушке и скакала вверх-вниз.
– Дрочим, старушка? – сказал я взбудоражено, и начал было расстегиваться.
Но она так побледнела, что пришлось мне присмотреться к тому, на чём она скакала. И был это, чтоб ее, Васяня-Обрубок.
– Боже, – сказал я, глядя туда, где они сцепились, как завороженный.
– Милый, я должна все объяснить, – сказала она.
– Все и так понятно, – сказал я.
Со стороны это напоминало огромный сук.
– Как, черт возьми, ты в себя это взяла? – спросил я.
– Почему он блядь не реагирует?! – сказал я.
– Мы растягиваемся, милый, – ответила она на первый вопрос.
– Я налила ему из чекушки, – ответила она на второй вопрос.
Я покачал головой.
– Почему ты не на работе? – спросила она.
– Я уволился, – горько сказал я.
– Молдаване, – кивнула она понимающе.
– Типа того, – сказал я и крикнул, – слезешь ты или нет?!
Она покряхтела и жалобно сказала:
– Милый, мне кажется, нас заклинило…
ххх
Дальше начался настоящий ад.
Пока Наташа пыталась соскочить с огромного хера Васяни-Обрубка, я вызывал «Скорую». От ерзания моей молодой супруги в члене Васи что-то щелкнуло, раздулось, и он стал ЕЩЕ больше. От этого Наташа стала кончать. С криками, матерной руганью, и воплями о помощи. Я от этого нервничал еще сильнее, «Скорая» ехала, конечно же, медленно, так что за те три часа, что мы ждали врачей, бедняжка едва не умерла. Я о Наташе, конечно. Василий-Обрубок валялся в отключке… А когда приехали врачи, нам, конечно же, не помогли. Парочку загрузили на носилки и под хохот соседей потащили в машину. Наташа все еще кончала.
– Придется оплатить бензин, – сказал врач, ухмыляясь в сторону.
Я оплатил. И услуги медиков оплатил, стоя в коридоре под градом насмешек всего персонала больницы. Наташе вкололи чего-то в ягодицу, и пока она ВСЕ ЕЩЕ кончала, вкололи что-то в член Васи. Спустя еще часа полтора пара, наконец, расцепилась. Меня позвали взглянуть на член Васи. Под самым его основанием все было перевязано ниткой. Наташа смущаясь, объяснила, что сделала это ради долгой эрекции и просто забыла о нитке. Мне показалось, что она лжет, курва бесстыжая и ей силы воли не хватило слезть с его члена, когда я пришел домой. Пьяный бомж, похрапывая, начал приходить в себя. Хирург подозвал меня к себе и объяснил, что член у Васи стоял чрезвычайно долго и кровь вообще не циркулировала, поэтому разрушительные процессы необратимы. Начнется гангрена.
– Бедняге отрежут и хер? – спросил я.
Он кивнул. После этого я узнал, что обо всяком случае членовредительства врачи обязаны докладывать полиции.
– А членовредительство на лицо, – сказал он хихикая, – вернее, на член…
Мы сошлись на десяти тысячах долларов. Это была стоимость моего дома по тем безумным временам. Он дал мне две недели сроку, и я пошел проведать Наташу Она лежала в палате чуть смущенная, но явно НАТРАХАВШАЯСЯ.
– ЗАЧЕМ? – единственное, о чем я ее спросил.
– Он был такой.. завораживающе-огромный, – ответила она.
– Ну, ты хоть его вымыла? – спросил я.
Она хотела что-то ответить, но я, плача, вышел и больше не видел ее никогда.
Я продал дом, и, зашив вырученные деньги в рубашку, уехал жить в Подмосковье. К сожалению, эти пронырливые молдаване понаехали и сюда, так что толком я не смог устроиться и на новой родине. Работать не стал. Снял квартиру, и начал сидеть у окна. В Москве расстреляли какое-то здание из танков, в Чечне началась первая война, а потом и вторая война, взорвались дома, листья то падали, то зеленели, а я все сидел, и смотрел в окно.
Иногда до меня – из перешептываний местных молдавских дворников, – доходили слухи о том, что происходит в Молдавии. Например, я слышал девичью фамилию Наташи. Оказывается, она стала известной журналисткой, телеведущей и активной участницей национального возрождения. Возненавидела русских. Боролась с ФСБ. А те, чтобы ее скомпрометировать, напоили девушку спиртным со снотворным и подложили ей в постель карлика с невероятно огромным членом. Говорили, этот русский агент-карлик выебал таким образом ВСЕХ активистов национально-освободительного движения…
Еще дворники говорили, будто в Кишиневе стали работать очистные и перестало вонять говном с утра до ночи. Но это была совсем уж фантастика, так что я перестал их слушать.
Просто сидел себе, ждал, пока деньги кончатся, и не задумывался о том, что со мной произойдет, когда они все-таки кончатся. Это было очень наивно. Вроде как ждать зиму, надеясь в глубине души на то, что она все-таки не наступит. Мысли о зиме, в свою очередь, наводили меня на мысли о Васяне-Обрубке. Интересно, как он там, без хера? Мысли о хере навевали на меня мысли о Наташе. Ну, и так без конца. А потом деньги кончились и меня выставили из съемной квартиры. Вещей у меня было всего на одну сумку, из дому-то я почти не выходил. Так что я приехал на какой-то вокзал налегке, и, слегка дрожа от холода, сел в электричку. Что делать и куда ехать, я не знал. Интересно, попаду ли я, пересаживаясь с одной на другую электричку, во Владивосток, подумал я.
Почему Владивосток, я не знал.
Может быть потому, что ехать туда дольше всего?
– Куда ты едешь? – спросил меня человек в форме.
Я задал этот вопрос себе, и меня будто током ударило. Я молчал, потрясенный тем, что ехать-то мне НЕКУДА.
– Кто ты такой? – спросил он.
– Ты пьяный? – спросил он.
– Тебе нехорошо? – спросил он.
– Эй, – позвал он меня.
Я молчал, лишь смотрел на него удивленно.
– Кто ты?! – спросил он.
– Кто ты и кто я, – сказал я медленно.
– Я контролер, а ты? – спросил он с издевкой.
– Я? – спросил я его медленно и недоуменно.
– Ты, – сказал он насмешливо.
И правда, подумал я. Кто я. Мужчина ждал.
– Я поэт, – медленно сказал я ему единственное, что меньше всего смахивало бы на ложь.
Встал на сидение электрички, та тронулась, и я нараспев начал читать:
«… то предание рассказывают индейцы
селения Бельцы
предки которых некогда жили
поблизости от большого озера созданного инопланетными
пришельцами – жителями Атлантиды царившей на землях
нынешней Молдавии
эта Атлантида звалась Молдавская Социалистическая Советская Республика
что значат эти четыре…
Контролер, махнув рукой, пошел дальше. Но я все равно дочитал. Люди в вагоне занимались кто чем, и не обращали на меня никакого внимания. Но когда я закончил, кто-то передал мне какую-то мелочь. Получалось как раз на обед.
Я сел, и, кажется, понял, чем буду заниматься в ожидании Владивостока.
СЕМЬ МЕРТВЫХ
… после этого ужасающего обряда вся охрана была перебита. Их подопечный, мужчина в костюме, сильно дрожа, лишь прижимался спиной к сосне, когда нападавшие, расправившиеся с телохранителями, окружили его. Парни достали из черного футляра огромный, блестящий в рассветном утре, меч. На клинке было выгравировано имя мастера. Такути Икагари.
– Такуги Икагари… – прошептал, бледнея, мужчина у сосны.
– Такуги Икагари, – хором сказали парни, одновременно кивнув.
Хорошо бы это было единственное, что парни сделали бы хором этим утром, подумал мужчина в костюме. Но его надежды развеялись, словно слабенький утренний туман. Нападавшие, продемонстрировав оружие наказания, отложили меч в сторону, и стали расстегиваться. Все как один. А потом – делать хором кое-что, чего опасался мужчина в костюме, который прислонялся к сосне уже не спиной, а лицом, да уже и без костюма… Движения парней были скупы, отточены и синхронны. В другое время жертва – крепкий еще мужчина лет пятидесяти, в хорошем костюме и швейцарских часах, – непременно восхитился бы их единением. К сожалению для него, сейчас единение происходило с ним же… Закусив губы, он страдальчески кричал, и обещал отомстить, без особой, впрочем, на то надежды… Наконец, истязание закончилось.
Семеро нападавших начали одеваться, накинули на головы капюшоны ниндзя, и окружили несчастного.
– Вы – те самые Семеро Пидарасов? – спросил несчастный своих истязателей.
– У тебя есть еще какие-то сомнения на этот счет? – спросили они, застегиваясь.
Несчастный покачал головой. Одевшись, злоумышленники окружили мужчину еще плотнее.
– Меч Такуги Икагари, – сказал один из нападавших…
– Дайте мне его! – гортанно крикнул он, и лесное эхо подхватило его крик.
– Дать тебе Такуги Икагари?! – гортанно крикнул один из людей в капюшонах.
– Да нет, идиот! – гортанно крикнул тот, кто просил меч.
– Такуги Икагари давно уже умер! – крикнул он.
– Дай мне меч Такуги Икагари! – крикнул он.
– Возьми меч Такуги Икагари! – крикнул непонятливый нападающий, и протянул коллеге меч.
Другие бойцы в этот момент стали расстеливать на земле коврик для ритуального самоубийства. Рядом с ковриком были положены свиток, чернильница, перо, и графинчик с водкой. Именно в этот момент мужчина в разодранном костюме понял, что минуты его сочтены. Звали мужчину Олег Варонен, это был молдавский олигарх с двадцатилетним стажем. В том смысле, что трудился олигархом вот уже двадцать лет. Еще каких-то пять – по пенсионной системе Молдавии олигархи могли выходить на пенсию после четверти века выслуги, – и можно было отправляться на покой. Но явно не придется. Судя по всему, понял Олег, запись в его трудовой книжке оборвется на этом, злополучном 2007 году… И пока семеро бойцов – легендарные Семеро Пидарасов, наводившие ужас на все население Молдавии в то смутное время, – готовили все для последнего действа, привязанный к дереву олигарх закрыл глаза, и постарался вспомнить все.
ххх
Свой первый рейдерский захват молдавский олигарх Варонен провел летом 1991 года.
В то время в Молдавии очень сильны были национал-освободительные настроения. Проклятые русские заебали всех своими постоянными придирками, требованиями переходить дорогу на зеленый свет, мыть руки перед едой и воровать не больше половины от того, что присылала Москва. Поэтому крах СССР в Кишиневе отметили, как праздник. Ну, и как полагается во время праздников, в городе нажрались, обблевались, и устроили погром.
– Бей русских и евреев! – первыми закричали предприимчивые евреи, уводя пьяную и обблеванную толпу от своих квартир.
Толпа покружила немного вокруг русских районов, но громить бросилась все равно евреев, потому что русские могли дать сдачи.
Предприимчивый Олег, в то время инженер молдавского строительного завода бетоноконструкций, понял, что наступает момент «икс». И, что или он разбогатеет сейчас, или он не разбогатеет никогда. Олег отобрал мелок у своего младшего сына, и быстро, дрожащей рукой написал на двери соседской квартиры – «ЗДЕСЬ ЖЫВУТ РУСЦКИЕ СВИНЬИ МАЛДОВАНЕ ВПЕРИОД!». Ирония ситуации заключалась в том, что соседями Нику была семья молдаван-националистов, певца Иона-Кристи Гимпу и художницы Насти-Иоанны Морарь. Они очень удивились, когда в квартиру ворвалась толпа, и стала выбрасывать из окон мебель, а потом и самих Иона-Кристю и Настю-Иоанну. Поскольку в холодильнике оказалась банка вина, и нападавшие спешили, а этаж был девятый, то молодые супруги погибли, так и не успев объясниться.
– Румыны, добрые люди!!! – только и успел сказать Ион-Кристя, перед тем, как вылететь из окна, причем сказал он это на хорошем румынском.
– Перед смертью сука блядь даже русский говорит по-румынски на хер, – сказал кто-то из нападавших, причем по-русски.
Позже оказалось, что это – еще один сосед погибших, Иван Задрупайлов, коренной русак, ворвавшийся в квартиру в поисках спиртного. В 1992 году Иван благополучно пропил квартиру и уехал к матери, в Кострому. Но именно его участие в расправе над культовыми героями румынской революции дало основания для конспирологических версий. Поговаривали, что именно русские устроили беспорядки в городе и это жестокое убийство.
Нельзя сказать, что гибель соседей стала для истинного виновника происшедшего трагедией. Скорее, напротив. Олег Варонен, перечитав «Зиму тревоги нашей», которую проходил в школе абы как, понял, что нужно быть жестким. Прочитав «Банкира» и «Финансиста» утвердился в том, что в «Зиме тревоги нашей» все правда. И уже на следующий после погрома день тихонечко поменял замки на дверях погибшей молодой четы, и начал мухлевать с документами на жилье.
В 1992 году Олег квартиру приватизировал и продал.
На вырученные деньги он купил фуру автоматов у молдавских добровольцев, собиравшихся на войну с Приднестровьем – ребятам не хватало вина для храбрости, – и перепродал эту фуру министерству обороны с десятикратной наценкой. Половину отстегнул куда надо.
… постепенно сирота Олег, – а в Молдавии сирота это вроде как безногого, и лучше даже быть безногим, чем сиротой, ну, в Молдавии, конечно, – обзаводился связями, как породистая собака, вышвырнутая на улицу, блохами, паршами и экземами. К середине 90—хх Варонен стал вполне респектабельным бизнесменом. У него было пять трехэтажных домов, сто цехов по производству Всего На Свете – от шпрот до носков, – и масса планов. Он приватизировал туристическую базу, и открыл в ней Художественный Унифицированый Иниститут Нанотехнологической Антропологии. Сокращенно – ХУИНА. Его племянник стал министром приватизации Молдавии. Олег был в зените, ну, или в закате, потому что он постепенно забывал русский и совсем уже забыл значение некоторых слов.
Если бы кто-нибудь сказал Варонену, что в этот момент из далекой точки мира начал свой путь человек, самому Олегу неизвестный, который приведет его к гибели, олигарх бы сказал только одно. Он сказал бы:
– Ха– ха.
ххх
Токуги Икагара был неудачником во всех смыслах.
И, как и все люди Востока, невероятным лгуном, психопатом, выдумщиком и треплом.
В жизни у него ничего не получалось. Начиная с того, что он закончил школу с самыми худшими оценками, и заканчивая тем, что у него всегда были самые слабые удары на занятиях карате. Токуги был невероятным недоразумением. Он не смог даже стать ассенизатором в рыбацкой деревушке, как его отец, или дед. Родители Токуги жалели, что закон о прорежении населения – ну, когда в деревнях душили каждого пятого младенца, потому что еды было мало, – отменили еще в 16 веке. Поэтому они выгнали Токуги, и тот отправился бродяжничать по Японии. В порту он прибился к американцам, и уплыл на танкере в Коста Рику, где и устроился помощником повара в каком-то кафе.
Там, где его никто не знал, Токуги смог, наконец, стать классическим японцем.
Он раздувал ноздри, орал, а не говорил, презрительно хохотал, готовил какую-то неудобоваримую хуйню, заставляя всех ей восторгаться, дрочил на комиксы с широкоглазыми девчонками, и ходил с нунчаками. Все это продолжалось до первой уличной драки, где Токуги избили его же нунчаками. Спасти репутацию после этого было невозможно и Токуги подался в Венесуэлу. Там он устроился помощником повара в кафе, стал презрительно хохотать, орать, а не говорить, носить нунчаки, и… Все закончилось после первой же уличной драки.
Так Токуги Икагара перебрался в Бразилию, оттуда в Чили, оттуда в ОАЭ, а затем в Португалию, а уж оттуда в Бухарест.
Но даже в обтруханном Бухаресте Токуги не сумел, говоря по-японски, сохранить лицо.
Поэтому ему пришлось бежать в Молдавию.
Здесь Токуги понравилось. Его взяли на работу шеф-поваром в ресторан с дебильным псевдо-японским названием «Им-хуй-нет» только потому, что у него был паспорт Японии и он орал, а не разговаривал, да еще и презрительно хохотал по любому поводу. В общем, выглядел типичным японцем. Токуги понял, что Молдавия – его последний шанс. Поэтому постарался не ввязываться здесь в уличные драки, и даже взялся за то, чтобы обучить персонал традиционным приемам карате. Заведение – в гигантском супермаркете аж в три этажа, – пользовалось успехом. Тем более, что у Токуги и правда стали получаться некоторые блюда. Правда, он использовал для этого запрещенные приемы.
– Моя считать так, – сказал он семерым парням, набранным в обучение при большом конкурсе.
– Приема нет запрещеная, есть только та которая побеждать, да? – сказал он.
– Хэй-ха! – сказали хором парни.
– Халасо, – сказал повар, и показал ребятам запрещенный прием.
Спустил штаны, подрочил, и брызнул прямо в мидии.
– Видеть сито мидия выглиадит савсем-савсем свежий типель? – спросил он.
– Как будта пряма сиводня с моля пливезли этат мидия, – восхитился своей работенке Токуги.
Но такая работа, объяснил он помощникам, требует много сил и хорошего питания. Так что кусочек мидии, – до того, как ее освежаешь, – можно скушать. Это будет компенсировано тем, что ты потом в нее добавишь…
– А исе в Малдавия весь зиелень какой-та нисвезый, – сказал Токуги.
– Зелинь абизатильна освизать! – сказал Токуги.
После чего помочился на зелень и взмахнул пучком, встряхивая лишние капли. Семеро официантов переглянулись. Но, видимо, запрещенных приемов действительно не бывает.
Петрушка и правда стала выглядеть посвежее.
ххх
К 2007 году Олег Варонен и Токуги Икагара сделали все для того, чтобы неминуемо встретиться. Если бы японец хоть что-то понимал в боевых искусствах, он бы понял, что их ведет одно Дао. Но японец не понимал в карате ни хрена. И в дзюдо. И в кэндо. Хотя и заказал тайком на фабрике сувениров в Смирне, что в Турции – там когда-то Токуги тоже избили в уличной драке, – самурайский меч с гравировкой своего имени. Когда меч был доставлен и принесен на третий этаж супермаркета «Джамбо», где был ресторан Токуги, все онемели от восторга.
– Я ковать меч тли года и четыле месяц, – соврал Токуги, освежая мидии.
– Невероятно, – сказали хором официанты.
– Потлясаюсе, – сказал довольный Токуги.
– Видили мультик пла Чилипах-ниндзя? – спросил он.
– Уситель чилипах эта уситель-клыса Сплинтел, – сказал японец.
– Так вот, уситель-клыса списали с миня, – сказал он, и спросил, – понятна?
– Да, учитель крыса, – сказал кто-то из учеников.
– Идиот. Я не уситяля-клыса, с миня списали усителя-клыса, – сказал Токуги.
– Я сделать мец, – вернулся он к делу.
– И этот мец есть символ мой путь, я есть основатель усений, а вы есть мой усеник, – сказал он.
Официанты, робея, согласились. Токуги не то, чтобы хотел быть сенсеем, но считал, что каждому японцу так положено. Ну, ученики, секта, и меч. Поэтому Токуги заставил официантов принять Клятву Пути, обещал научить их приемам, – а пока они не созрели для этого, отправил их на курсы самбо и рукопашного боя, – и сообщил главную новость.
– Биратья наси орден абизатильна делать плотский любовь друк с друка, – сказал Токуги.
От удивления официанты даже перестали освежать зелень. Но учитель был непреклонен.
– Любой тайный обсеств в зопу мала-мала да! – сказал он, грозя пальцем.
Официанты были все ребята молодые, продвинутые, носили кеды, майки в обтяг, читали парочку молдавских журналов об искусстве, ходили на вечеринки в клубах, все были звездами молднета, все были непризнанными фотографами и поэтами, все мечтали свалить из Молдавии – как у молдаван положено, без особых на то усилий, – так что они и так, в сущности, были пидарами.
Понимая это, все они согласились.
– В знак новый зизня, – сказал, вытираясь после обряда Токуги, – я дать каздыйтз вас имя посвисёный спициальный толька для обсиств!
– Каздый есть орузие смиртельный, – сказал Токуги, – поэтому каздый полусить имя орузий, логисно, да?
– Ха-ха-ха, – демонически посмеялся Токуги, вспомнивший, что пора демонически посмеяться.
– Ты быть острый во мне как Мец, – сказал он, тыча пальцем в грудь каждому ученику, – ты быть натянутый как Лук, ты тосный как Арбалет…
– Ты долбить как Автомат, – продолжал учитель, – ты быть одинокий как Рузье, ты быть мосный как Пуска, а ты, ха-ха, когда я тебя иницииравать в твою инициадницу, ты пукать и пиридеть гиромка как Базука, ха-ха.
Ученики, которых раньше звали Игорь Белостечник, Сережа Цуркану, Рома Кройтор, Миша Поляньский, Миша Гимьпу, Марик Ткачукъ, и Федя Сорочану, поклонились. Теперь они потеряли свои имена. Теперь это были новые люди с новой жизнью. Каждый из них с уважением подумал о том, на какие жертвы идет ради них учитель Токуги. Учитель ни о чем не подумал, и, конечно, никакой жертвы не приносил.
Просто Токуги был педераст.
ххх
… Олег Варонен в то же время стал одним из богатейших людей Молдавии. Он купил фабрику моющих средств, разорил ее, спустил две тонны стирального порошка в самое большое озеро в центре Кишинева, и когда вся рыба сдохла, пролоббировал выступления «зеленых». Те потребовали слить воду и почистить озеро. Воду слили, «зеленых» закопали живьем, а на месте осушенного озера построили квартал элитного жилья.
Потом Олег посадил в правительство своих людей, и в Молдавии появился закон о запрете на внутреннее производство ВСЕГО. После этого Олегу занялся импортом ВСЕГО. Ну, и постарался отобрать у всех всё. После того, как в его ведение перешли все заводы, рынки, компании и фирмы, Варонен сошел с ума от жадности и организовал рейдерский захват пяти торговых точек по продаже семечек и беляшей. Когда операция увенчалась успехом, Олег подставил последнего независимого бизнесмена города – слепого, бравшего у подземного перехода 5 центов за право взвеситься на механических весах, – и того повязали за наркоту в кармане. В роли наркоты выступил тот самый стиральный порошок. Варонен поимел и механические весы!
После этого он получил торжественное звание «БИЗНЕСМЕН ГОДА В МОЛДАВИИ».
Это следовало обмыть. Олег пошел в «Джамбо», где, глядя на молдавских проституток – единственный разрешенный властями экспорт Молдавии – расслабился и заказал себе в каком-то японском ресторанчике мидии и зелень в комплексном обеде, потому что так дешевле.
Все был так вкусно и свежо, что Олег попросил еще порцию. Особенно ему приглянулась морская капуста с, как было указано в меню, каким-то особым белковым соусом, «стилизованным под слизь рыбы-фугу». Потом Олег позвал управляющего, чтобы похвалить свой ресторан, и с удивлением узнал, что ресторан – НЕ ЕГО. Олигарх велел позвать повара, ставшего в тому времени владельцем.
– Жопа узкоглазая, будешь моим личным поваром? – спросил Олег, скучая, японца.
– Самурай не станет держать чужой пипка чтобы тот делать пи-пи, – ответил сообразительный Токуги, понявший, что его ресторан не покупают, а отбирают.
– Ты есть взрослый и сам держать своя пипка, – сказал японец.
– Я не быть птичка в клетка, – вздернул он нос, надеясь на свой статус иностранца.
Отказать Варонену и не отдать ему даром что-то свое… Этого в Молдавии было вполне достаточно для того, чтобы человека убили без суда. Токуги и убили без суда. Когда японец закрыл дверь ресторана, чтобы пойти домой и еще разок инициировать Арбалета, Ружье и Автомата, его ударили по затылку топором, причем топором в прямом смысле этого слова…
Посольство Японии подняло было скандал, но Токуги в правительственной молдавской прессе объявили шпионом Румынии. А этого в Молдавии было достаточно для того, чтобы убить человека без суда, и получить за это государственную награду.
Тем более, что на всякий случай в оппозиционной прессе – которая, как и правительственная, принадлежала Олегу – японца обвинили в работе и на Россию.
А этого в Молдавии было достаточно для того, чтобы убить человека без суда, и получить за это две государственные награды.
Так что о поваре-неудачнике скорбели только семеро его учеников. Ребята собрались ночью на кухне, и, освежив зелень и мидии – потому что ресторан превыше всего, – поклялись отмстить за гибель учителя.
– Мы будем семеро ронинов, – сказал Арбалет.
– После того, как отомстим, сделаем сеппуку, – сказал Автомат.
– Может, харакири? – спросил Меч.
– А от чего кончаешь дольше? – спросил вечно отстающий Лук.
– Идиот, – сказали ему хором.
Ученики принесли клятву, и отправили коммюнике об этом в местную прессу. Они писали:
«Мы убьем вас, а потом убьем себя, нечестивец Олег Варонен. Мы УЖЕ мертвы, поэтому нам ничего не страшно. Вы позволили себя посягнуть на жизнь нашего учителя. Он растворен в своем Дао. Вы думаете, что ухватили самого Бога за его Дао… Посмотрим, насколько крепки ваши Дао, гнусный вы человек. С гибелью нашего учителя мы уже мертвы. Что же. Добро пожаловать в наш клуб. Клуб семерых мертвых посвященных…».
Молва назвала их Семь Мертвых Пидарасов.
ххх
… Олигарх попробовал освободиться рывком, но у него ничего не получилось. Как глупо попался, с досадой подумал он. Ясно же было, что молва о каком-то сельчанине, у которого есть подпольный цех по производству муки, просто подстава Семерых Мертвых Пидарасов. Но жадность толкнула Олега на то, чтобы рвануть с проверкой сюда, на самый край Молдавии. Тут семеро, поднаторевшие в самбо в ожидании уроков Токуги, и уничтожили его охранников. А сейчас убьют и его…
– Мы дадим вам шанс умереть достойно, – сказал Арбалет.
– Даем вам пять минут, – сказал Меч.
– Вы можете написать предсмертное хокку, а потом пронзить себя, – сказал Автомат.
Олигарх глянул на то, чем ему предлагали себя пронзить. Огромный розовый фаллос.
– После того, как вы это сделаете, – продолжил Лук, – мы, чтобы прервать ваши мучения, отрубим вам голову мечом Токуги…
– Это прекрасная смерть, – хором сказали парни.
Олигарх сел на корточки, и понял, что это конец. Подумал, глядя на рыжеющие осенние поля Молдавии, вспомнил, почему-то, своих давних соседей, последил взглядом за дымом над крышами бедной молдавской деревни… Взял перо, бумагу, и решительно начертал.
«По огненному полю в ловушку из кольев
Бежит молдаван босоногий. Казалось ему
За наценкой спешить будет вечно, попал же в ад…
Молча протянул стихи одному из Семерых. Тот прочел стихи вслух. Семеро Мертвых Пидарасов поощрительно помолчали.
– Мы надеемся, ваша карма улучшится, и предлагаем вам по традиции самураев взять перед смертью в знак очищения и отказа от прежней кармы новое имя, – сказал почтительно один из семерых пидарасов.
– Пусть будет м-м-м-м, – задумался Олег.
– Педик-сан, – предложил Арбалет.
– Я не педик! – воскликнул Варонен.
– Ой ли? – воскликнули семеро.
– Ну-у-у-у, – сказал, вспомнив всё у сосны, Олег.
После чего решительно спустил штаны, и всадил в себя оружие сеппуки. Меч Токуги Икагари, не замедлив себя ждать, отсек голову Педика-сана, в прошлой жизни Олега Варонена, и подарил ему новую карму. Семеро, проводив взглядом прыгающую с пригорка голову, стали прощаться…
… О дальнейшем до сих пор поют под аккомпанемент арфы во всех гей-клубах СНГ, в том числе, и в двух с половиной молдавских. Семеро молодых учеников Токуги Икагари, раздевшись и обнажив свои прекрасные тела, соединились в Живую Цепь Любви. На Земле их ничто не держало, они исполнили свой долг. Итак, они образовали хоровод своими телами. После чего, по очереди, каждый отрубил ритуальным мечом голову впереди стоящего. Последний из оставшихся отрубил себе голову сам, и этот импровизированный хоровод, конвульсируя, опустился оземь и оросил ее прекрасной молодой кровью… Эстеты говорят, что это выглядело, как венок из кроваво-красных одуванчиков. Эстеты, конечно, преувеличивают, а то и просто выдумывают. Но эстеты, они как учителя карате или повара японских ресторанов.
Пока их не избили в уличной драке, они могут позволить себе пофантазировать…
НАШЕ С КУСТУРИЦЕЙ КИНО
– Кустурица?! – спросил я. – Да он же десять лет назад еще исписался!
– То же самое говорят про тебя, чувачок, – сказал Корнел.
– Говори, пожалуйста, по-русски, – попросил я.
– По-русски это как? – спросил он. – Блядь, на хуй, в жопу?
– Да хоть так, лишь бы не «чувачок» этот.
– А чем тебе не нравится это слово, чувачок? – запереживал Корнел.
– Господи, стоит молдавану сраному поехать на Гоа на шару за питание и мелкие услуги какому-нибудь Мхабавате Шранапуте долбанному, как он начинает свистеть, словно хиппи семидесятых, – сказал я то, что говорил ему сотни раз.
– И не Мхабавата, а Мгабавата, – сказал Корнел обиженно. – И не за мелкие услуги, а за помощь в организации поездки.
– Проще говоря, ты тащил им чемоданы.
– И чемоданы тоже, – кивнул он.
– Ненавижу йогов, – сказал я.
– Это еще почему? – спросил он.
– Во-первых, вся эта тема сраная, йогов, просветления и Гоа, она уже лет пятнадцать как не модна, а до вас, молдаване тупые, только сейчас дошла, – сказал я.
– Твое обычное молдоненавистничество, – сказал Корнел, сворачивая сигарету.
– Во-вторых, мне рассказывали про одного кретина, который занимается йогой целыми днями, не работает, а его жена бьется с двумя детьми, а он говорит, что их нужно кормить одной пропаренной гречкой, – сказал я.
– Пропаренная гречка, – сказал Корнел мечтательно, – она славно чистит печень…
– Кури травы поменьше, и бухай, тогда, может, тебе не придется чистить печень, – сказал я.
– В нашем дела главное не формальности, а подлинная вера, – сказал Корнел.
– Представляешь, наши католические попы говорят ту же самую херню, – сказал я.
– Зря ты не пьешь, – сказал он.
– Зря я не пью, – сказал я.
– В общем, – сказал я. – Мое последнее слово. Нет.
– Да, – сказал он.
– На кой тебе это надо? – спросил я. – Ладно, допустим, я соглашашусь, ну и? Нарублю бабла, молдаване напишут про меня в своих газетах сраных, а ты-то здесь при чем?
– Стану агентом, – сказал он, – наработаю клиентуру.
– Ты, укурок, правой руки от Мхабарат Гиты отличить не можешь, – сказал я.
Он лишь кивнул. Корнел – суховатый паренек лет тридцати пяти, – сидел, развалясь, в кресле кафе в центральном парке. Прям напротив меня. Кафе и рестораны я не люблю, ужасно в них нервничаю. Так и хочется спросить официанта, можно ли посидеть еще полчаса? Да и выглядят они, официанты, так, как будто знают что-то такое, что тебе неведомо. Тайну. А вот Корнел, сученыш, был как в своей тарелке. Что удивительно. Он был сейчас нищ, как мифическая церковная крыса, потому что настоящие церковные крысы толстые, упитанные. Прямо как кардиналы. У Корнела вечно не было денег, но было до хрена идей. Он ими фонтанировал еще в университете, где мы вместе напивались вдрызг, прогуливая лекции по фотоделу. Господи… Фотодело. Срань Господня! Я глотнул еще чаю, и осмотрел его прикид. Выглядел он вполне экзотично, но грань не переступал – одежда яркая, но не чересчур пестрая, свободная, но не бомжеватый мешок. Экстравагантный молодой человек. В юности Корнел писал пьесы для румынских театров.
А так как они там все сплошь долбоебы с манией величия – а в Молдавии есть только один гений, и это всегда тот, кто это говорит, то есть, каждый молдаванин, – то Корнел на театр плюнул.
Стал ездить на все эти сраные Ниццы, Ибицы, Казантипы, где еще эти спидозники собираются, чтобы поспать на песке, поесть таблеток и потрахать друг друга в жопу? Недавно вернулся из Индии. Загорелый и с гениальными планами. Он раздобыл где-то денег – исключительно на бумаге – под залог имени своего отца, известного молдавского поэта, который с сыном даже не разговаривал, и пригласил в Кишинев самого Кустурицу. Того самого, который лет десять как исписался. Или как это там у них, киношников, такая штука называется?
– Чувачок, – решил я бить Корнела его же оружием – да этот Кустурица, этот югослав херов, да он же исписался уже давно.
– Он уже лет пять как в полной жопе! – сказал я.
– Чувак, – улыбнулся Корнел, – ты думаешь, молдаване об этом знают?
– Чувак, – сказал Корнел, – давай я тебе кое что объясню. Гляди. Видишь пошла девка в юбке по край трусов?
– Ну, – сказал я, потому что прекрасно видел, давно уже заметил.
– Обрати внимание на ее верхнюю одежду. Майка, кофта, рубашка, как тебе угодно, ты же у нас вещами такими не интересуешься.
– Ну? – сказал я. – ты хочешь сказать, что она одета как прошма? Удивил. Почти все молдавские девки одеваются как прошмы. Это провинциальный наив.
– Дело не в этом, – сказал Корнел торжествующе, – а в том, что на ней майка по моде двухтысячного года.
– Ну и? – спросил я.
– Вот ты тупой, – порадовал он меня, – повторяю, она одета по моде двухтысячных.
– Откуда им знать, что Кустурица вышел в тираж, если они до сих пор здесь все одеты по моде двухтысячных? – сжалился он надо мной.
– Так мы и живем в двухтысячных.. – растерянно сказал я.
– Нет, блядь, сраный ты молдаван – сказал Корнел, – чувачок, мы живем в две тысячи ДЕВЯТОМ…
Я был раздавлен и поражен. Убедительно.
– В общем, он приезжает завтра, – сказал Корнел, закуривая анашу прямо в центре города, средь бела дня, засранец индийский.
– Пару дней протусит, даст мастер-класс.
– Он что правда будет снимать здесь кино? – все-таки удивился я.
– Нет, конечно, – сказал Корнел. – Посмотрит на процесс. Фильм будет документальный. Снимут его пара придурков из Академии искусств. Минут на сорок. Даром, за право снять. Ну, а Кустурица просто вякнет чего-то в камеру да покажет им, как вздрочнуть перед тем, как эту камеру расчехлить.
– Мы ему зальем баки, что это фильм про трагедии неразрешенных конфликтов, – просветил меня Корнел, – Приднестровье, Карабах, Крым, Северная Ирландия, вся эта херня, и он из жалости согласится, чтобы в титрах было указано «при содействии Э. Кустурицы».
– Молдаване обоссутся кипятком и мы продадим им это говно, как шедевр мирового кино, – пояснил мне Корнел.
– Купят, – уверил он меня, – полбюджета потратят, а купят. Они же пуписты, чем меньше страна, тем им больше хочется мировой славы.
– Ага, – вспомнив эстонцев, согласился я.
– Я уже предвкушаю заголовки в местной прессе, – сказал Корнел мечтательно. – «Молдавский кинематограф совершил рывок в мировой», «Звезда Голливуда снимает кино в Кишиневе», «Голливуд, Болли вуд, Молдавуд»! «. Молдавия. Хреновы Нью-Васюки.
– Аферист, – сказал я, смеясь.
– Конечно, без отката не обойдется, потому что молдаване не только славолюбивы, – сказал молдаванин Колин, – но и жадны. Но это ерунда.
– Так мы и заработаем на хлеб насущный, – сказал Корнел, – на пропаренную гречку и на еще одну поездку в Гоа…
– Наркоман сраный, – восхищенно сказал я. – А я-то здесь при чем?
– Ему нужно будет показать тебя, чтобы он не подумал, будто в этом обезьяннике сраном нет людей, которые не в состоянии пары страниц нормального текста написать, – сказал он.
– Чтобы это все не совсем уж на аферу было похоже.
– И потом, мне нужен сценарий. Конечно, за деньги.
– Но главным образом, от тебя требуется просто общение, – развел руками этот запоздавший родиться хиппи.
– Он талант, ты талант, общайтесь! – сложил он руки на груди.
– Положим, я-то Действительно талант, – сказал я.
– Вот и отлично, – сказал он миролюбиво. – Так и покажи это.
– Вот и покажу, – сказал я.
– Будешь изображать всю блядь молдавскую литературу, – сказал он.
– Я и есть вся молдавская литература, – сказал я.
– Молдаван сраный, – сказал он смеясь, – ну и расскажи мне после этого, что вы не одержимы собой.
Возразить было нечего. Он меня уделал.
ххх
Встреча была назначена в том же кафе. Прям посреди парка Пушкина, чей бюст недавно какие-то пидарасы выкрасили в цвета румынского флага. Правда, только наполовину. Видимо, не успели, или передумали.
Трахнутая страна…
В кафе, несмотря на ранний час, было много народу. Все знакомые хари. Куча кретинов из местных газет и телеканалов. Репортерши с микрофонами, которые – репортерши – вот-вот обоссутся от восторга. И в углу сам Кустурица. А рядом Корнел. Остальные держались от них чуть поодаль. Мне сказали, что мэтр ждет меня и завтрак.
Я подошел и хлопнулся рядом.
Как и все югославы, Кустурица оказался небритым, неряшливым, крупным мужчиной, который играл в брутальность. Бандерас для бедных, подумал я. Еще я подумал о том, что он всех уже, и себя прежде всего, задолбал солнцем, вином, и цыганами. С другой стороны, вспомнил я, мои темы тоже не отличаются разнообразием. Так что я просто присел рядом с ним, поздоровался и взял пива. Не люблю, когда на меня давят. Особенно, когда давят те, кто давить не собираются. Он, конечно, сразу же начал выпендриваться. Попросил стопарик местного самогона.
– Мне сказал этот чувак, что ты великий местный писатель, – сказал он, указав на Корнела.
– Херня, – сказал я, – он просто рассчитывает получить с меня сценарий даром.
– Да и потом, слово «местный» здесь лишнее, – добавил я.
– Я просто великий писатель, – блеснул я перед ним.
Он взглянул на меня задумчиво, и я подумал, что, как и все восточноевроепйские интеллектуалы – что само по себе смешно – он чересчур длинно стрижется. Он тяпнул. Я выпил. Репортеры, глядя на режиссера, восторженно шептались и смотрели на меня с ненавистью.
– Есть идеи, парень? – спросил он.
– Конечно, – сказал я.
– Валяй, – сказал он.
– Цыгане, – сказал я, – целый табор цыган.
– Дальше, – сказал он.
– Пусть цыгане ловят кошку, весь фильм, – сказал я. – И поймают, в конце концов. И пусть кто-то из них трахнет кошку.
– И? – спросил он.
– А та – коня, – сказал я.
– И пусть все это время на них падают лепестки подсолнухов, – сказал я.
– Уже было, в «Красоте по-американски», – сказал он. – Только с розами.
– По хер, – сказал я, – я только и делаю, что занимаюсь художественным цитированием.
– Воруешь, попросту говоря, – сказал он.
– Зато, как видишь, не исписался как некоторые, – сказал я.
Он посмотрел на меня мрачно и попросил еще выпить.
– Ты в курсе, что я застрелил на дуэли одного сербского долбоеба? – спросил он.
– Да мне глубоко по херу, – сказал я, – что там у вас в Средней Азии случилось сто лет назад.
– Дурак, – сказал он, – мы, югославы, живем в Европе.
– Сам-то себе веришь? – спросил я.
– Ладно, – сказал он. – Кошка трахает коня, а сверху листья подсолнечника. И?
– Ну, и пусть в это время играет музыка Бреговича, – сказал я.
– Он тут очень популярен, – пояснил я, – а если что популярно, то лучше это задействовать.
– Например, – пояснил я для сравнения, – я в каждом рассказе пишу словосочетание «траханные пидарасы», а так как в Молдавии такой – каждый второй, то мои тексты пользуются определенным общественным резонансом.
– Брегович не пойдет, – сказал он.
– Почему? – удивился я.
– С Бреговичем я давно поссорился, – мрачно сказал Кустурица.
– А я и не знал, – удивился я.
– Молдаване, – встрял Корнел. – Носят шмотки по моде двухтысячного и не знают, что Кустурица поссорился с Бреговичем. Поле непаханное.
– Мне жаль, мэтр, – сказал я.
– Ничего, – сказал Кустурица. – Кстати, правда, что москвичи сняли тут кино про цыган?
– Ага, – сказал я, и стал пить самогон, какая на хер разница, если с утра не задалось поработать, весь день не получится.
– И как? – спросил он.
– Херня, – сказал я.
– Думаешь, у меня получится лучше? – спросил он.
– Нет, – сказал я.
– Почему у них не получилось, как думаешь? – спросил он.
– Температура крови у них не та, – подумав, ответил я.
– А какая у тебя температура крови? – спросил он.
– Сейчас узнаем, – сказал я.
Взял вилку со скатерти и распорол кожу на руке. Наплыла кровь. Кто-то охнул. Какая-то блядёшка с государственного канала.
– Уберите на хер всех отсюда, – сказал Корнел охране.
– Ты правда хороший писатель? – спросил Кустурица.
– Я не знаю, – сказал я устало. – Я работаю…
Мы начали завтракать.
ххх
– Вот так я это сделал, – сказал он.
И показал, как пристрелил на дуэли того серба. Или хорвата. Я уже и не помню, у них, югославов, подвидов больше, чем у какого-нибудь популярного вида мха. Выглядело впечатляюще. Кустурица – большой, мрачный, – стоял метрах в двадцати от памятника Штефану Великому, и на господаре показывал, как пристрелил соперника. В руке у режиссера был пистолет. Незаряженный, как он сказал.
– Пиф-паф, – сказал он.
– Блядь, – сказал Корнел.
– Бум, – сказал Кустурица.
И, почему-то, выстрелил. Кусочек от короны Штефана откололся и упал вниз. Слава Богу, в центре города всегда шумно, да и стемнело уже.
– Уходим, – сказал я.
– Куда? – спросил он.
– Пошли на крышу парламента залезем, – сказал я.
– У вас что, – удивился он, – можно залезть на крышу парламента любому прохожему?
– С недавних пор да, – сказал я.
– Какие-то пидарасы сожгли недавно у нас здание парламента, – объяснил Корнел, позвякивая пакетом с бутылками. – И теперь здание стоит брошенное, сри не хочу…
– У нас это где? – спросил Кустурица.
– У нас это в Молдавии, – сказал я, – азиат ты балканский.
– Не дуйся, – сказал Кустурица, – ты правда гений, кошка ебет коня…
– А то, – сказал я.
– Может, я заради этого и с Бреговичем помирюсь.. – сказал он задумчиво.
Мы подошли к пустому, разгромленному во время каких-то митингов зданию, и пошли наверх по лестнице. Вид с крыши открывался замечательный.
– Слушайте, – сказал Кустурица, отлив, – а чего его сожгли? Ну парламент этот херов?
– Хер знает, – сказал Корнел, снова закуривая, – я как раз был на Гоа.
– Хер знает, – сказал я, – я как раз был на шашлыках.
– Наверное, День Вина был очередной, – предположил Корнел, – это праздник у нас такой.
– Все напиваются, рыгают, и громят все вокруг, – пояснил я.
– Клевый праздник, – сказал Кустурица.
– Приезжай, – скаазали мы хором.
Он снова вытащил пистолет и стал стрелять по голубяям. Из десяти попал в десять. Пух и перья только и кружились.
– Паф, паф, – говорил он, а голуби так и взрывались.
Я малость протрезвел и подумал, что зря с ним выебывался.
ххх
Пили мы два дня, а потом Кустурица уехал.
Кино сняли за три месяца, и даже устроили его торжественный показ в местном кинотеатре.
Постелили длинный красный ковер. На показ собрались все сливки молдавского общества.
Конечно, в майках от двухтысячного года.
Кустурица, само собой, на премьере не был. Фильм длился сорок три минуты, снят был херово, свет плясал, камера дрожала, монтаж был говно. Местные газеты, обосравшиеся от самого факта появления здесь режиссера с мировым именем, написали, что это Шедевр. Государство выкупило это говно за полтора миллиона бюджетных евро, потому что в заставке три раза был показан портрет президента, и вообще было много звиздежа про государственность, наследие, традиции и прочую херню. Я получил кое-что за сценарий. Колин сразу же умотал куда-то в Турцию, на самый длинный пляж Европы, трахать австралиек, встречать рассвет у моря, и закидываться с испанцами. Отколовшийся зубец короны памятника Штефану так и не подлатали. На премьере я не был, ездил на шашлыки. Когда вернулся, и стоял, пахнущий дымом, в прихожей, раздался звонок. По определителю я увидел, что звонят из Югославии.
– Привет, – он, конечно, был выпивши,
– Привет, – сказал я, тоже, конечно, выпивши.
– Что делаешь? – спросил он.
– На шашлыки вот ездил, – сказал я.
– А вообще? – спросил он.
– Рассказы всякие пишу, – сказал я.
– А, литература, – сказал он.
– Нет, времяпровождение, – сказал я.
– Знаешь, прочитал я твою книжку, и вот что скажу, – сказал он.
– Сам ты исписался, – сказал я.
– Не, наоборот, – сказал он, – мне очень понравилось, еще пиши.
– Хорошо, что я тебя не пристрелил тогда, – сказал он.
– Как? – спросил я.
– На дуэли, – сказал он.
– Молдаванин на дуэли? – сказал я.
– Ха-ха, – сказал я.
– Не смеши меня, – сказал я.
Мы еще немножко о чем-то поговорили, а потом я повесил трубку.
Снял одежду и пошел в ванную.
НАШЕ С КУСТУРИЦЕЙ КИНО-2
Отвратительный растворимый кофе. То ли кислый, то ли горький. Но он пробуждает, а сам я уже не просыпаюсь. Возраст. Тридцать. Нужны стимуляторы. Так что я все равно допил чашку, и глянул на экран. Рассказ не шел. Вчера, мысленно, я написал его, и сделал это великолепно. Жаль под рукой не было ни бумаги, ни компьютера. Сейчас – на следующий день, – как это обычно и бывает, все придуманное казалось полным идиотизмом. Идиотизм, идиотизм, идиотизм, думал я, глядя в лист. Зазвонил телефон. Номер был незнакомым. Я, конечно, принял звонок.
– Привет, Лоринков, ты написал клевый текст, – сказал малознакомый голос в трубке.
– Я уже пять лет не работаю в газете, так что идите на хрен, – сказал я.
Нажал на отключение сигнала, и глянул на экран. Плюнуть, что ли, и не писать сегодня? Но белый экран выглядел укоризненно. Отвратительнее всего то, что в такие моменты на нем мигает этот курсор гребанный. Телефон снова зазвонил. Я терпеливо принял звонок, и сказал, не отрываясь от экрана:
– Вот уже пять лет я, к счастью, не работаю в газете.
– Так что идите на хер, – сказал я.
После третьего звонка стало ясно, что звонит или продавец кредитов, или адвентист Седьмого Дня. Только эти ребята бывают так упрямы.
– Ну хорошо, – сказал я. – Слушаю.
– Чудак человек! – сказал голос в трубке, и я поморщился.
– Ты написал клевый текст, но я, конечно, говорю не о газетном! – сказал он.
– А о каком? – спросил я.
– Я говорю о твоей поэме.
– Ты что, не узнаешь меня? – спросил голос.
– Конечно узнаю! – соврал я.
– Я же Мажуров, я же литературный журнал в Молдавии начал выпускать! – сказал он.
– А! – так и не вспомнил я.
Он нашел меня пару лет месяцев. Все они находили меня пару месяцев, дней, или лет назад. Сказал, что собирается выпускать литературный журнал в Молдавии – с таким же успехом он мог начать выпускать журнал про девственность в палате нимфоманок, – и попросил что-то. Ну, я уважаю мужество обреченных. Послал ему какую-то поэму, и продолжил дальше винцо пить, – в последнее время я предпочитаю белое сухое, – да рассказы писать. Он, конечно, пропал, потому что все они полны планов и энтузиазма ровно до тех пор, пока не наступает пора что-то Сделать. Ну, что же. Этому от трепотни до журнала хватило всего полгода. Можно сказать, по местным меркам он был торопыгой. Уникумом. Собираются-то все, а выпустил только этот. Ладно. Поэма была странная, но неплохая. По крайней мере, мне так казалось. Он, похоже, разделял это мнение.
– Ты написал клевый текст, – сказал он.
– Но мы не можем его взять, – сказал он.
– Разумеется, – сказал я, – будь он таким, чтоб вы смогли его взять, я бы его вам хер отдал.
– Ты наверное, хочешь знать, почему мы его не можем взять? – спросил он.
– Нет, конечно, – ответил я.
– Там много мата, – сказал он, понизив голос.
– Да ну, блядь, – сказал я.
– И ты там обосрал Молдову, сказал он, понизив голос
– Ты обосрал Молдову КАК ОБЫЧНО, – сказал он, понизив голос ЕЩЕ.
Я вышел из комнаты на галерею, с которой у нас виден соседский дом, и подставил лицо солнцу. В Молдавии начиналось лето. Собеседник молчал. Это тоже объединяющая их черта: все они звонят по мобильному и пиздят, ну, или молчат, не жалея денег. У людей нет денег ни на что, но зато они говорят ни о чем по телефонам часами. Меня всегда это удивляло. Это же, мать вашу, дорого, разве нет?
– Ты молчишь? – сказал он.
– Ага, – сказал я, лениво загорая.
– Так вот, ты, как обычно, побросал грязью в Молдову, поэтому мы не можем взять текст, – сказал он.
– Говори по-русски правильно, – попросил я.
– Правильно это как, – спросил он, – блядь, на хуй, в жопу?
Мы рассмеялись.
– Я вижу, ты почитываешь то, что я пишу, – сказал я.
– А как же, – сказал он, – ты молодец, огонь!
– Тем не менее, – сказал я.
– Молдавию, а не «Молдову», – попросил я.
– Ладно, Молдавию, – сказал он. – Ты ее очерняешь.
– А мы еще не настолько окрепли, чтобы позволить себе напечатать текст, после которого журнал прихлопнут, – сказал он.
– Очень, очень плохо ты пишешь о Молдавии, – погрустнел он.
– А что в ней хорошего, кроме меня? – спросил я.
– Ты самовлюбленец, – похоже, ему это нравилось.
– С другой стороны, должен же тебя ХОТЬ КТО-ТО любить, – сказал он.
– Пусть даже это ты сам, – сказал он.
Я постарался объяснить ситуацию. Да, в Молдавии меня не любят. Но кто? Не любит еврейская тусовка – люди по полстолетия выстраивают какие-то странные схемы, меняя очередь в кооперативе на диссертацию математика в Академии Наук, а это все – на центнер парной телятины, а ее в свою очередь – на место в Союзе Писателей этой Молдавии сраной. А тут приходит какой-то гой сраный, и бац, срывает бинго. Не любит молдавская тусовка – они еще проще еврейской, и обходятся без лишних звеньев, они начинают сразу с парной телятины. Этих ребят бесит, что сраный русский монополизировал право на всю литературу молдавскую. Наконец, русская… Это единственные из перечисленных, кто здесь умеет есть вилкой и ножом одновременно. Но и они меня не любят – я не ждал своей очереди, и не написал ни одного рассказа про Березы, Матёру, и Тоску по Исторической Родине. А просто взял, да и начал писать, нахал сраный. Про украинские, татарские, немецкие, польские, и прочие клоповники, я вообще умолчу…
– Ну и что в этом хорошего? – спросил он.
– Это все недоэлита сраная, – сказал я.
– Зато меня любит Народ, – сказал я, развеселившись.
– Народ, которому я пишу свои блядь поэмы, – сказал я.
– В которых написано, что Молдавия – пизда мира, – испуганно сказал он.
– Что?! – спросил я.
ххх
От удивления я едва с галереи на крышу второго этажа не свалился. Черт, сказал я, а ну повтори то, что ты сказал?
– В твоей поэме написано, – повторил он
– МОЛДАВИЯ – ПИЗДА МИРА, – сказал он отчетливо.
– Бог ты мой, – сказал я. – Ты уверен?
– Текст у меня перед глазами, – сказал он.
– Ну, а что, неплохое сравнение, – сказал я, подумав.
– Молдавия пизда мира… – сказал я задумчиво.
– А знаешь, очень даже, – сказал я.
– Молдавия пизда мира… – грустно сказал он.
– Ну и что? – спросил я, – Пизда это плохо, что ли?!
– В нее трахают, ей рожают, она центр мира, – сказал я.
– Это комплимент Молдавии, если на то пошло, – сказал я.
– Грубая метафора, – сказал он.
– Я думал, это гипербола, – сказал я.
– Что? – спросил он.
– Не заморачивайся, – сказал я.
– Ты журнал-то видел? – спросил он.
– Да, – соврал я.
– Как он тебе? – спросил он.
– Говно, – искренне ответил я.
– Но разве в Молдавии может быть иначе? – спросил я.
– Спасибо, – сказал он.
Я глянул на таймер. Мы трепались минут уже сорок.
– Если напишешь что поприличнее, пришли, – сказал он.
– Обязательно, – пообещал я.
– Может мы и возьмем, – сделал он попытку улучшить себе настроение за мой счет.
– Почему все, кто у меня что-то ПРОСЯТ, говорят со мной потом так, как будто это я попросил? – не дал я ему сделать этого.
– Твои тексты нравятся моей жене, – пошел он на попятную.
– У нее хороший вкус, – сказал я.
Лицо уже горело от солнца. Я пошел в ванную и сунул голову под кран. Вернулся к столу весь в воде, – зато стало чуть легче, – и уселся. Настроение, как всегда, когда звонят местные литераторы, было испорчено. Они явно наводят на меня порчу. Все эти придурки только и делают, что завидуют мне, говорят обо мне, и задрачиваются на меня же. Лоринков то, Лоринков се. А я такой же несчастный ублюдок, что и они. Только, в отличие от них, мне духу хватает над этим посмеяться.
Телефон снова зазвонил. Это был Колин. Старый знакомый, с которым мы как-то написали сценарий говенного документального кино, приплели в титры слово «Кустурица», – кажется, Колин нашел цыгана с такой же фамилией, – и продали это Министерству культуры Молдавии за пятьдесят тысяч евро. Тщеславные молдаване… Один из них звонил мне прямо сейчас. Я вздохнул и выключил «Ворд». Открыл порнуху. Ясно было, что работы сегодня не будет.
– Чувачок, – вместо приветствия сказал мне Колин.
– Говори, пожалуйста, по-русски, – попросил я, передернувшись от «чувачка».
Он рассмеялся и спросил:
– По-русски это как? Блядь, на хуй, в жопу?…
ххх
– Пизда мира, значит, – сказал Колин.
– Она самая, – сказал я.
– Ну, а что, – сказал он задумчиво, – чем не гипербола…
– Может, метафора? – предположил я.
– Да какая на хуй разница, – сказал он.
Колин только вчера вернулся из Индии. Просветлялся там с какими-то сумасшедшими мандешками, которые готовы отсосать кому угодно, лишь бы познать тайны эзотерических учений. А по мне так, вся тайна этих йогов сраных – в их грязных ногтях и немытой крайней плоти. Колин выкурил косячок, и спросил:
– Хочешь развлечься?
– Давай, только без блядей, – сказал я.
– Перед женой неудобно, – объяснил я под недоуменным взглядом.
– Верный, как лебедь, – сказал он.
– Да мне просто неловко как-то, – сказал я.
– Ты чересчур тактичен для человека, который пишет, что Молдавия это пизда мира, – с удовольствием напомнил он мне.
– Как мы развлечемся? – спросил я.
– Чем ты занят? – спросил он серьезно.
– Пишу рассказы, – ответил я.
– И как? – спросил он. – Ты в форме?
– В наилучшей, – ответил я просто.
– Это хорошо, – сказал он.
– Это плохо, – сказал я и пояснил, – тяжело опускаться.
– Тебе бы всю жизнь куда-то карабкаться, – сказал он.
– Мазохист долбанный, – сказал он.
– Так как ты меня развлечешь? – спросил я.
Он снисходительно улыбнулся и взял со стола мобильный телефон.
ххх
Девушка в длинной юбке, сидя на столе, читала нараспев.
«Полдень, жара, восемнадцать. Четверо сзади, один впереди. Восемь, четыре, пятнадцать. Ну-ка, подруга, еще потерпи. Жадное скользкое семя. Хлынуло в зад мне и в рот. Все, не девчонка теперь я. Замуж никто не возьмет. Небо глядит терпеливо. Словно со мной говорит. Сколько их там? Еще девять? Нет, не свобода манит… Долго еще покряхчу я. Между их скользких телес. Может, еще разрыдаюсь? Это судьба поэтесс… Может, так надо, а, мама? Чтобы по хору меня… Знаешь, теперь я другая! Приму я теперь и коня! Думаю я, и страдаю. А насильники хором кружат. Чу! Тело при-поды-маю. Слышу сирены, на помощь спешат?! Да! Эксадрон полицейских. Едет, хватает их всех. Быстро на нары сажает. Плачут насильники все. Их уж в тюрьме ожидают… В жопы их трахнут, во все!!!Девушка замолчала и все похлопали. Потом стали переговариваться шепотом, потягивая вино из стаканов.
– Блядь, что это? – сказал я.
– Это поэзия, чувачок, – сказал Колин, посмеиваясь.
– И все же? – спросил я, оглядываясь.
Колин привел меня в какой-то поэтический кружок для поэтов среднего возраста. В помещении какого-то лицея сраного. У них даже название было. «Орбита» или что-то в этом роде. Собралось человек двадцать и все читали друг другу свои стихи. Колин очень своеобразно понял слово «развлечь».
– Что это за херня? – спросил я его.
– Понимаешь, когда ей было четырнадцать, она возвращалась домой после полуночи, – сказал он.
– С дискотеки какой-то, тут ее и подловили у дома парней с десяток, пту-шники, – пояснил Колин.
– Всю ночь трахали, – сказал он.
– В рот, спереди, сзади и снова в рот, – сказал он.
– Избавь меня от подробностей, – попросил я.
– Ссали на нее, били ее, снимали это на камеру, – с увлечением говорил Колин, извращенец гребанный.
– Заставляли ТАКИЕ вещи вытворять, – сказал он.
– Я сейчас возбужусь, – сказал я, – давай покороче. Чем все закончилось?
– Короче, она изживает, – пояснил Колин.
– Сочиняет стихи и истории про то, как двадцать-тридцать парней поймали телку, и трахают ее, а потом раз, нагрянула полиция…
– И? – спросил я.
– И полицейские благородные трахают парней в сраку на глазах бедной девочки, – улыбнулся Колин.
– Что за чушь, – сказал я.
– Менты бы просто отдвинули парней и дотрахали бы девку, и попробуй она пикнуть потом, – сказал я.
– А парням бы дали срок за изнасилование, и поделом, – сказал я.
– Про это она тоже писала, – сказал Колин, – ну, про то как насильников трахают в тюрьмах.
– Ее данные устарели, – сказал я.
– Насильников в тюрьмах давно уже никто не трогает, – сказал я.
– Это утешительный миф для изнасилованных девочек, – сказал я.
Колин пожал плечами.
– Их поймали? – спросил я.
– Нет, конечно, – сказал Колин.
– Сколько ей сейчас? – спросил я.
– Двадцать пять, – сказал он.
– Блядь, – сказал я.
Я подошел к девушке. Она была ничего, только дерганная. Преподавала в этой же школе после института. Я попросил ее показать мне лицей. Она радостно согласилась, но уже в коридоре, глядя на мое обручальное кольцо, подавила горький вдох, и чуть ссутулилась. Опять меня трахнет женатый, говорил весь ее вид. Я не стал разубеждать. Я еще не был ни в чем уверен. В каком-то классе она села на парту с ногами, обхватив колени. Так садятся все долбанутые провинциальные поэтессы до 60 лет включительно. Они так Кокетничают. Но мне было не до того.
– Послушайте, – сразу приступил я к самому важному.
– Вы себя одиннадцать лет уже трахаете, мочитесь на себя, и снимаете это все на блядскую камеру.
– ХВАТИТ, – сказал я.
– Забудьте все это, – сказал я, довольный собой.
– А по моему, ты хочешь меня выебать, – сказала вдруг она.
И приподняла юбку. Стали видны ее ляжки. Литые ляжки. Я вдохнул поглубже.
– Послушай, – сказал я, – это тебя калечит.
– Да нет же, ты ЯВНО хочешь меня выебать, – сказала она.
– Не хочу изменять жене, – сказал я.
– Ты уверен, что она не изменяет тебе? – спросила она.
– Никогда нельзя быть уверенным на все сто, – сказал я.
– Так за чем же дело стало? – спросила она.
– Ты прячешься, – сказал я, а она облизала губы.
– Ты просто маленькая изнасилованная мокрощелка, которая прячется сейчас за нимфоманкой, – обрисовал я ее положение.
– А я-то думал тебе помочь, – сказал я, и повернулся.
Она налетела сзади и попробовала снять с моей щеки кусок кожи. Я еле увернулся, и приложил руку к щеке. Кровища капала. Теперь не имело значения, что подумает жена, потому что подумает она одно. Я дал суке пощечину, а потом еще одну. Двинул кулаком справа по корпусу. Она скрючилась и сказала:
– Никто не поверит, что ты меня не трахнул.
– Я тебя ЕЩЕ не трахнул, – сказал я.
Ударил ее еще раз, и, прижав ей голову к парте, задрал платье повыше. Все, что было под ним, наоборот, опустил. И воспользовался указкой, лежавшей неподалеку, в не совсем обычном формате. Плюнул на тупой и округлый конец и задвинул.
– О-о, ты Боже же ты мой, – сказала она.
– Хотя бы протер, – сказала она.
И завиляла задницей. Через полчасика она кончила раз восемнадцать – как раз столько, сколько кончила бы, трахай ее то количество насильников, о которых она явно мечтала. Немудрено. Я работал, как кочегар паровоза в черно-белом кино с убыстренным показом. Туда-сюда, туда-сюда. Угольку подкинуть! Вот она и заполыхала. Я бы работал до утра, но она попросила остановиться, и буквально свалилась. Я присел рядом, держась за указку. Получалось, что я держу ее, словно эскимо какое-то.
– Скажи мне честно, ты специально пошла той ночью мимо ПТУ, или где там тебя трахнули? – спросил я.
– Наверное, да, – тяжело дыша, ответила она.
– Ясно, – сказал я.
– Прости детка, не знаю, что на меня нашло, – сказал я.
– Нашло?! – спросила она.
– Да я люблю тебя, – сказала она.
– Будем встречаться почаще? – спросила она.
– С этим проблемы, я не хотел бы огорчать жену, – напомнил я.
– Ни хера себе верность, – сказала она.
– Ну, я же тебя не трахнул, – сказал я.
– Формально нет, – сказала она.
– Считай, тебя трахала рука Бога, – сказал я.
– Какие сильные и нежные у Него руки, – сказала она.
– Ты выздоравливаешь, – сказал я.
– Пойми, – сказал я, – нет ничего плохого в том, чтобы быть и шлюхой.
– Люди разные, – сказал я. – Если ты сама пошла, значит ты сама и хотела.
– И, значит, – сказал я, – не на что жаловаться и переживать не стоит.
– Плюнь и разотри, – сказал я.
– А о чем я буду стихи писать? – спросила она.
– Как тебя указкой трахнули, – предложил я.
– Это идея, – сказала она.
И попросила:
– А теперь вынь указку, пожалуйста.
ххх
Излеченная поэтесса пошла куда-то подмыться, а я направился обратно. Поэтический кружок слегка разбушевался: они выпили аж по поллитра вина каждый! Я с грустью подумал, что это одна шестая моей былой разминки. Но из принципа продолжил цедить воду.
– Что у тебя с щекой? – спросил какой-то придурок.
– Раны Господни, – ответил я.
– Господень. Господне, Господняя… – сказал он с неудовольствием.
– Бог этот сраный, все это все НЕАКТУАЛЬНО уже, коллеги, – сказал он.
– Прости, я не из Кишинева, я из провинции, – соврал я.
– Не успеваю следить за модой, понимаешь… – сказал правду я.
Он важно кивнул. Потом вдруг сказал:
– Ба, да ты Лоринков!
– Да, конечно, – сказал я.
– Ты недурен, чувак, – сказал он.
– Да, конечно.
– Мне нравятся НЕКОТОРЫЕ твои рассказы, – сказал он.
– Хотя многие и чересчур пошловаты, стиль тяжеловат, – сказал он.
– Да и эта твоя позиция якобы НАБЛЮДАТЕЛЯ жизни… – сказал он.
– Этот твой ЯКОБЫ отрешенный стёб, – сказал он.
– Да, конечно, – сказал я.
– Я, кстати, тоже пишу, – сказал он.
– Да, конечно.
– Хочешь глянуть? – спросил он.
– Да, конечно, – сказал я, отвернувшись.
– Эй, как ты глянешь, отвернувшись? – спросил он.
– Это же НЕВОЗМОЖНО.
– Да, конечно.
– Ты блядь, считаешь себя нереально крутым?! – разозлился он.
– Да, конечно, – сказал я.
– Да ты псих и писать не умеешь! – сказал он.
– Корячишься на потребу этому сраному Рынку, вот ТОЛЬКО ПОЭТОМУ тебя и издают, – сказал он.
– Да, конечно, – сказал я, пытаясь вспомнить, когда меня последний раз издали.
– Хорошо, что ты это признаешь, – смягчился он.
– Да, конечно, – сказал я.
– И эти твои разбитые диалоги… – разбил диалог он.
– Они КАРТОННЫЕ! – сказал он.
– Да, конечно, – сказал я.
– И еще, – пошел на добивание он.
– Ты вовсе не такой крутой раскованный перец, как любишь себя описывать.
– Ты псих, закомплексованный задрот и сволочь, – сказал он.
– У тебя все тексты НЕНАСТОЯЩИЕ, – сказал он.
– Все НАДУМАННО, – сказал он.
– Да, конечно, – сказал я.
– Ты не стоишь того, чтобы читать мои ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ рассказы, – сказал он.
– Да, конечно, – сказал я.
– Блядь, что ты все время твердишь «да конечно»? ! – стал нервничать он.
– Ты что, издеваешься? – спросил он.
Я сказал:
– Да, конечно.
ххх
Вечером я проводил Колина в аэропорт – он вез очередную порцию сумасшедших богатых и распутных девок куда-то в Гималаи, за Мудростью, – и выпил, наконец, в тамошнем баре. Смочил щеку коньяком, и вышел из зала ожидания на улицу. Проводил взглядом самолет, на котором улетал мой друг. Пошел в город пешком. У самых первых зданий встал на высокий холм – местные зовут его Черепахой, – и обернулся к полям. Волнистые, на холмах, как и всё в Молдавии, они напоминали и женский зад и женскую грудь одновременно. А еще – живот, руки, и немного ляжки. Все женское. Все округлое. Все желанное.
Я с наслаждением зажмурился и подставил лицо легкому ветерку.
Присел на корточки и, не открывая глаз, потрогал землю.
Молдавия была теплой и мягкой.
Как и полагается пизде мира.
В НАШЕМ ГОРОДКЕ МАНЬЯКОВ НЕТ
«Сука блядь ненавижу тебя как же ты достал своим сраным самолюбованием урод несчастный ты блядь только и думаешь что о себе и о себе, онанист проклятый, ты бы блядь сожрал все на свете и не подавился, да только у тебя живот маленький, ха-ха, понял, ты блядь просто не вместишь в себя все что хочешь захапать, урод блядь бездарный, чурка блядь тупорылая, вот здорово ты удивишься когда кто-то выключит свет в твоей ебаной голове и ты перестанешь быть а это всего лишь кто-то двинет тебя битой по башке сзади когда ты зайдешь в очередную подворотню отлить после очередного своего пива алкоголик сраный, да перестань ты уже пиздеть всем какой ты блядь писатель великий тем более что ни хуя ты не писатель ни хуя ты не великий просто блядь тварь ебаная ненавижу тебя думаешь пару книжек вышло где-то в этой России сраной так ты уже король да я ебал и тебя и эту блядь москву настоящее признание оно на Западе, вот что значит признание, думаешь блядь дал интервью сраное сраному молдавскому журналу для педерастов и решил что ты блядь на коне да я ебал тебя этот журнал и коня твоего если он только у тебя есть ты писатель? ты хуй! писатель это Дима Быков, вот кто писатель. послушай перестань писать всякую хуйню перестань любоваться собой просто заткнись и уезжай из страны пожалей себя и свою семью блядь ты урод привет тебе тварь ха-ха».
Я перечитал еще раз, отметил пару ошибок – про себя, – и положил письмо в папку. Это было уже четвертое. Первые три были более нежными, что ли. Ха-ха. Пора звонить в полицию. Или подождать? Идея со звонком, конечно, пугала. Скажут, мол, чувак, который пишет крутые матерные рассказы, перессал какого-то онаниста, рассылающего анонимные послания, и сразу побежал жаловаться мамочке. Ну, то есть полиции. С другой стороны, я нервничал. Кто их знает, этих психов. Может, уже завтра кто-нибудь выстрелит в спину с криком «я это ты, а ты это я». Вот вам и песня группы «А-Студио». Интересно, у них, ну, у этих казахов, есть свои маньяки? У меня есть. Я встал, подошел к окну, а потом нехотя вернулся к рабочему столу. Мне не хотелось признаваться себе в этом, но отошел я, втайне опасаясь какой-нибудь неведомой мне херни. Мало ли, стрельнут в окно. А может, это все нервы? Идея с журналом, конечно, была не очень удачной.
А было все так.
Мне позвонили из мужского журнала. Глянцевого мужского журнала, как сказала со значением его редакторша, симпатичная, как оказалось, молдаванка лет сорока. Они прослышали о том, что кто-то в Молдавии пишет книги. Я и до этого получал анонимные письма, но там обычно была всякая херня про то, что я, де, приснился отправителю плачущим кровавыми слезами. Я относил это на счет своих бывших подружек, среди которых и правда была парочка трахнутых на всю голову. Но после публикации в этом сраном молдавском глянце, который даже разверстать правильно не умеют, все маньяки этого города словно ополоумели. Я получил одиннадцать писем, все написанные разным почерком. Все они хотели сжечь меня, как Жанну Дарк. За что они меня ополчились, хрен знает. В этом журнале только и всего-то вышло, что парочка моих фотографий, да несколько пожеванных молью откровений, которые они пытались выдать за взрыв на культурном горизонте нашей страны. Это довольно забавно, учитывая, что никакого культурного горизонта в Молдавии не было. Вернее, он есть и это я.
Как вы понимаете, фразы такого рода в интервью и попали.
Ну, и кого-то это ужасно разозлило. Интервью, которое я дал, пытались вести двое – опытная, как я понял, журналистка лет сорока пяти, и ее молодой друг лет двадцати, которого, без сомнения, она мечтала вытрахать. Дама пыталась сбить меня с панталыку всеми этими якобы провокационными вопросами про то, что, если я такой великий, то почему мои книги не продаются в Молдавии, почему я такой наглый, и тому подобной херней. Конечно, ничего у нее не получилось, и из публикации это было совершенно очевидно.
Ну, а уже после нее пошли письма.
ххх
Следующее письмо я получил, когда одну из моих книг издали, за каким-то хером, в Польше. Какой-то хренов поляк, помешанный на всех этих интеграционных с Европой темах, решил во что бы то ни стало, издать мою книжку о гастарбайтерах. Ну, он уперся рогом и у него получилось. О кей. Господи, Боже ты мой, да это же Польша, Польша сраная. Но письмо пришло.
«Сука блядь ты радуешься как я понимаю да ты блядь великий на хуй вышла твоя книжка на этом сраном Западе и ты блядь возомнил себя неебаться гением, хотя все твои книжки, они бездарны, они неумелы, они блядь написаны без стиля, без меры, без вкуса, это просто похабщина ебанная, за такое нужно сжигать на площадях, блядь, вот из-за таких пидаров как ты мне и приходится писать, мне может и не хочется но блядь приходится, просто потому что обидно за блядь нашу молдавскую культуру за наш блядь молдавский народ за нашу блядь страну, которую похабит на весь свет уебище поучись у Димы Быкова любить свою страну свой народ свою землю долбоеб типа тебя еще раз блядь говорю тебе сука пожалей семью я тебе блядь всерьез говорю ты допиздишься урод ты блядь пиздишь им всем что ты единственный писатель Молдавии что блядь писателей до тебя не было в этой стране да ты охуел здесь как миниум гениев десять и один из них я а ты чмо чмо чмоч чмо чмо чмо чмо я ссу тебе в рот я ссу тебе в рот я ссу тебе в рот я ссу тебе в рот я ссу…».
Я, честно говоря, ничего не понял. Слегка кружилась голова. Господи. Боже мой. Да какой это Запад, это же Польша. Да и потом, это письмо несколько противоречило предыдущим. Я набрал номер знакомого в комиссариате полиции. Рассказал о своей проблеме. Даже зачитал несколько писем.
– Смешно! – посмеялся легавый. – Ну, и что ты собираешься с этим делать?
– Я думал это ТЫ собираешься с этим что-то делать, – сказал я. – Я нервничаю. А вдруг этот маньяк гребаный меня пристрелить вздумает?
– Ну, – сказал мент, – тогда мы похороним тебя с почестями.
Я дождался, пока он проржется, и повторил свой вопрос относительно того, что же мне делать.
– Да хрен его знает, – сказал мент.
– Дьявол, – я был шокирован, – и это говорит мне Полицейский.
– Чувак, – сказал Полицейский, – ты же не заявление написал, ты обратился как знакомый.
– О кей, – сказал я, – я напишу заявление.
– Ну и прибавишь нам бумажной работы, а долбоеба этого как никто не искал, так и не будет искать, – сказал мент.
– Так что же мне делать? – спросил я.
– Ну, – сказал он, – обратись к бандитам.
– Твою мать, – сказал я. – Страж закона.
– Или умасли его! – сказал мент.
– Кого? – спросил я. – Закон?
– Да психа этого! – сказал мент. – Ну, который всю эту херню пишет.
– Каким образом?! – спросил я. – Мне что, перестать писать книги? Застрелиться? Совершенно ведь очевидно, что кретина этого раздражает сам факт моего существования.
– Ну, да, – задумчиво сказал мент.
– Даже если я в ассенизаторы подамся, – горячился я, – он один хрен будет меня ненавидеть. Кстати, если уж в ассенизаторы. Может, мне в говне утопиться, а?
– Нет, надо тоньше, – задумчиво сказал мент, – попробуй передать ему сигнал в СМИ.
– Это как? – спросил я.
– Ну, как в дипломатии этой гребанной. – объяснил он. – Когда какой-то хер из МИДа России говорит в интервью, что ему ужасно нравятся белые антарктические куропатки, а в МИДе Канады сразу понимают, что это тонкий намек на то, что Россия ничего не имеет против раздела Антарктиды по какому-нибудь гребанному меридиану.
– Господи, какой же ты тупой, – сказал я. – Антарктида это на Южном полюсе, а они делят Арктику, которая на Северном.
– Да какая на хер разница? – спросил он. – Ты понял, что я имею в виду.
– Я понял, что ты имеешь в виду, – сказал я.
Я понял, что он имеет в виду.
ххх
Следующее интервью у меня взяли, когда был день писателя, и молдавские редактора погнали своих гребанных стажеров в поля, искать писателей. Все мои безуспешные попытки объяснить им, что я не писатель, а pr-менеджер, который в свободное от работы время пишет книги, не увенчались успехом. Стажеры глядели на меня жалобными глазами и я таял. Ну, не в Союз же писателей их, в самом деле, отправлять. Там симпатичную девку и изнасиловать могут, они же пьяны все время, у них кабинеты изнутри запираются, да и книг они никогда не писали. И потом, я вспомнил идею насчет дипломатических сигналов.
– Я блядь вовсе не считаю себя великим писателем, – врал я, и глядел внимательно на то, что они там записывали, – записали?
– Нет, «блядь» не записывай, ты что, блядь, всерьез считаешь протащить это в печать? – говорил я.
– Я никому не нужен, понимаете, – объяснял я,
– Никому в этой Молдавии сраной. И это хорошо.
– И она мне не нужна. Я просто тусую здесь, зарабатываю на хлеб, пописываю иногда книжки, и еще реже их продают. Я вовсе не успешный писатель.
– Я не знаменитый писатель.
– Я не покорил Запад.
– Восток я тем более не покорил.
– Сейчас каждый может книжку издать, чуваки, каждый, – говорил я.
– Так что все окей, парни, – говорил я.
– Каждый следит за собой и живет своей жизнью.
– Нет, у меня нет своих маньяков, – врал я, – в конце концов, я ж фигура не тех масштабов, парни, да я кто, я не небожитель какой, не Зевс гребаный, и даже не Геракл, я просто сатир, полукозел-получеловек, которому позволено дрочить у подножья Олимпа, и на этом все его соприкосновение с Олимпом заканчивается, просто так уж получилось что мне нравится там дрочить, вот и все, парни.
Ровно через день пришло письмо.
«ах ты ебанат хуев тварь голимая ты сука блядь высокомерен да? ты решил что нас, нашего блядь читательского рынка, нашей Молдовы, недостаточно для такой большой пизды как ты? типа здесь дыра ебаная а ты блядь сука великий Фазиль блядь Искандер осчастлививший туземцев своим появлением? кстати ты не охуел сравнивать себя с Искандером? да ты хуйня против Искандера! более того! ты хуйня против самой хуевой хуйни! сдохни сдохни сдохни тварь ебучая. ты решил что ты неебаться писатель андерграунда, ты блядь Буковски, так вот, иди на хуй, андерграунд это люди которые живут, ничего не требуя от этого ебучего Рынка, на котором ты так задрочен, сука ты ебанная, ты не Селин и не Бодлер, кстати, чмо, да ты охуел сравнивать себя с Бодером или Селином или даже с Димой Быковым, да ебал я ебал я ебал я…»
… Я купил газовый балончик, и по пьяни распылил его в подъезде на пьяного же соседа. Вместе мы чуть не сдохли. На следующем интервью, приуроченном к выходу какого-то моего старого рассказа в Москве, в каком-то литературном журнале, я говорил:
– Ребята, да я обожаю просто Молдавию эту сраную, я без ума от нее!
– Я не андерграунд какой! Я блядь просто чувак, который иногда пишет треш, чтобы его купили.
– Развлекуха, парни! Вот чем я занимаюсь. Я развлекаю себя, и иногда это кому-то нравится настолько, что это покупают. Да и то почти никогда не покупают.
– Я представитель масовой культуры.
– Я пластмассовый Иисус, которого молдаване вешают над холодильниками в кухнях, я блядь попугай из глины, я блядь слоник на телевизоре, я само мещанство.
В ответ я получил письмо, в котором мне популярно объяснялось что я «ебаный мещанин который задрочен на своей ебучей продажности, да, блядь, сука, такие как ты и превратили Литературу и искусство в выжженное поле блядь ебучие продацвы подделок сдохни сдохни сдохни самовлюбленный ебучий свин, ты бляжь жирная тварь я ебал ебал ебал…».
Я купил пистолет, стал возвращаться к двери, чтобы проверить ее еще раз, купил жене электрошокер, взвесился, и решил худеть. За месяц 15 килограммов сбросил. И даже отказал двум молдавским газетам в интервью. Было тихо. Я вздохнул было с облегчением, но тут письмо пришло.
«гандон штопанный решил красавчиком заделаться да, видел тебя на улице, думаешь сука ебанная ты блядь похудел на 100 кг и весишь теперь всего 100 и можешь считать себя блядь секс-символом ебучей литературы, кстати, да ты охуел считать себя секс-символом литературы я ебал тебя в рот и в уши понял ты да, думаешь сука блядь имидж затворника поиметь имидж молчальника да, заткнул свое хайло чтобы стать как Селлинджер да, кстати ты чмо, как ты себе позволяешь сравнивать себя с Селлинджером да ты блядь гнида даже на хуй с Димой Быковым не сравнишься».
Я пожал плечами. Я никогда не сравнивал себя с Селлинджером. Старик Селлинджер – просто говно против меня. Не говоря уж…
– Мне не нравится ситуация с русскоязычным меньшинством в Молдавии, – сказал я, когда мне позвонили газетчики, чтобы набрать какое-то количество строк по этому поводу.
«ту нас тут никаких проблем нет, ты блядь сука пидор считаешь что русский человек в Молдове пидарас только если ему живется здесь легко? какой же ты вафел чмо блядь на хуй» – написал он (она?) мне
– Все зашибись ребята с нацменьшинствами тут, все зашибись, – сказал я следующей газете.
«что блядь, педрила, замалчиваешь на хуй проблему? какой же ты писатель после этого, а, какой же ты голос народа и кстати ты ебанулся тварь считатеь себя голосом народу на хуй я ебал блядь» – написал он (она?) .
Я понял, что у нас – пат. Но с письмами пора было что-то делать. Я набрал мента. Объяснил ему ситуацию еще раз.
– Ты пойми, – серьезно сказал он, – в нашем городке психов нет.
– Ты что имеешь в виду? – спросил я, уже зная, что он имеет в виду.
– Ну, может ты и правда многих бесишь, – сказал он уклончиво.
– Пиздец, – сказал я. – И ты считаешь, что это повод устраивать мне моральный Освенцим, в моей блядь и без того странной жизни?
– Попробуй поговорить с бандитами, – снова посоветовал он. – Потом позвони мне, и скажи, что вы его нашли. Три дня после этого мы не будем принимать заявления на пропажу тела, ха-ха. Это все, что я могу для тебя сделать.
Я был ему благодарен. Он и правда не мог сделать больше. Но и этого было достаточно. Я набрал своего двоюродного брата-бандита.
– А, писатель! – сказал он. – Сто лет сто зим.
– Тут такая проблема… – сказал я.
– Слушай, – сказал он, – ты задолбал, кстати!
– В смысле, – сказал я.
– Я наконец-то прочел эту книжку, ну, которая про меня написана, – сказал он. – Что за херня?!
– В смысле написана про тебя? – тоскливо спросил я. – Ты имеешь в виду книгу, где про тебя пять строк?
– Там написано «брат позвонил и сказал что его в Испанию не пустили, потому что он там в прошлый раз кого-то чуть не убил», – сказал он.
– Ну, – сказал я.
– Так ведь я Убил! – сказал он. – Что обо мне люди подумают?! Я Убил и едва ноги унес от этого Интерпола хренова.
– Уголовник, – сказал я.
– Он не мучался, – сказал он.
– Во втором издании пусть поправят, – сказал он. – И фразу про то, что я помог тебе за деньги, тоже убери. Какие на хер деньги? Ты же мой Брат. Мы одна Кровь.
– Ладно, – сказал я. – Попробую. Но не уверен, что второе издание будет. Еще и первое-то не раскуплено. Кстати, о деле. Тут у меня такая проблема…
– За ваши деньги решим все, – сказал он.
ххх
Я стоял в конце коридора главного почтамта Кишинева и глазам своим не верил. Я представлял себе его иначе. Мне казалось, что это задрот лет четырнадцати, стишки пописывает, в клетчатой рубашке, с гитарой и прыщами. Или старый пердун в тертом кожаном пиджаке, и папкой тетрадных в клеточку листов, заполненных Размышлениями как нам обустроить железнодорожную ветку Резина-Бельцы. Кто-то из советников президента Молдавии, на которых я вечно бочку гоню в рассказах своих. Тщедушная девушка лет двадцати семи. Алкоголик-прозаик. Дерганный пианист с горящими глазами. Хертам. У большого стеллажа с металлическими ячейками для абонентских ящиков стоял Совершенно Обычный Мужчина. Моего примерно возраста. Лет тридцати-тридцати пяти. Звать «влад долохов». С таким же успехом он мог быть «петром скриницким» или блядь «тудором иванитцким». Это не говорило мне Ни Хрена.
– Тебе это имя что-то говорит? – спросил брат.
– Нет, – сказал я искренне.
– Ты трахал его девушку, украл у него мотоцикл, обидел в школе, зарезал собачку, – говорил брат, – может, ты перехватил у него контракт с издательством?
– Какой на хер контракт, какое на хер издательство? – спросил я.
– Давай-давай, вспоминай, – сказал брат.
– Да я даже не знаю, что это за хер! – сказал я.
Я и правда не знал. Это был совершенно незнакомый мне человек. Работал, как мне сказал брат, в каком-то кафе, разносил еду. И который, тем не менее, вот уже два года жил отправкой анонимных писем, в мой адрес. Да еще и совершенно обычный на вид, даже стриженный коротко, прям как я. Не панк, не хиппи, не эмо, не сактанист блядский, не сумасшедший. О, Господи. Я глазам своим не верил. Парень бросил конверт в ящик, и стал уходить.
– Отвернись, – сказал брат.
Он был в спортивном костюме и с битой. Рядом было еще трое таких же. Все вместе они весили больше тонны гребанной, и каждому из них я глядел в подмышку. Это если голову поднять. Работники почты очень удивились, когда мы зашли и встали в конце этого темного коридора. Но промолчали. Было ранее утро. Может, не проспались еще.
– Только не нужно писать потом, как в прошлой книге, что мы сунули ему бутылку в сраку, – сказал брат, и легко пошел за психом, – не нужно сочинительства. Будь реалистом.
– Я буду, – пообещал я.
И отвернулся. Ударов было несколько, они были глухие, первый– словно на асфальт упал кулек с яйцами, второй – будто кулек с мясом шмякнули об стенку, а потом я даже не сранивал ни с чем. Парня стали пинать в живот. Трахать тебя в рот, сказал брат. Еще одно письмо на хер. Я повернулся слишком рано, и увидел еще пару ударов битой. Меня стравило. После этого «влададолохова» обоссали.
Но бутылки в сраке не было, врать не стану.
ххх
Конечно, я сразу позвонил менту.
– Ну как, разобрались? – спросил он.
– Вроде того, – сказал я.
– Ты его видел? – спросил он.
– Да, – сказал я, – как тебя.
– Своими глазами видел, – сказал я.
– Ну, и как он тебе? – спросил мент.
– На вид Совершенно Нормальный парень, – сказал я, – совершенно обычный мужч…
– А я тебе что говорил? – перебил мент.
И добавил:
– В нашем городке психов нет.
Наверное, так оно и было. Я поблагодарил и повесил трубку. Написал рассказ про свой самый лучший секс в том году. Выпил кофе. Пошел обедать. Ждал. Прошло больше года. Письма приходить перестали. Что же. В нашем городке психов больше нет.
МАКАМОНЫ
– Мооз, – говорит он.
– Мороз? – повторяю я.
– Да, Мооз, – втолковывает он.
– Мороз? Дед Мороз? – начинаю понимать я.
– Деда Мооз, – улыбается он из маленькой ванной.
Зубов у него пока еще двадцать, им у него во рту не тесно, поэтому между ними щели. От этого улыбка выглядит очень открытой.
– Хорошо улыбаешься, – говорю я.
– Мооз, – напоминает он.
– Мороз, – киваю я.
– Деда Мооз, – мечтает он.
– Да, – обещаю я. – Дед Мороз. Придет.
– Пидет.
– Придет. На Новый год. Обязательно.
– Игусики, – улыбается он.
– Игрушки, – подтверждаю я. – Принесет игрушек. Много.
– И соник! – кричит он, смеясь.
– И слоник, – говорю я, недоумевая, откуда у Мороза в свите слон.
– Мооз, – снова говорит он.
И будет говорить до тех пор, пока не уснет. Он только начал говорить, и из него прет. Как из щенка – любовь к жизни. Волосы у него взъерошены, и я думаю, что пора бы его постричь.
– Постричь бы тебя, Игнат, – говорю я. – Вон зарос как…
– Не нада сапунь, – пугается он.
– Не будет шампуня, – обещаю я.
Хотя шампуня надо бы, голову мы ему не мыли уже неделю, но стоит ему попросить чего-то не делать, как у меня щемит в груди. По-настоящему, как будто мышцу. И я не делаю. Бабье сердце у тебя, говорит мне дед мальчика. Много вы о бабах знаете, огрызаюсь я. Наверное больше, чем ты, если твоя от тебя сбежала, огрызается он. Ваша дочь, вы воспитали, огрызаюсь я. Но пререкаемся мы несерьезно, потому что оба знаем: прав он.
И куда правильнее будет, если я вымою мальчику голову против его воли. Чем не вымою по ней, формулирую я и вздыхаю.
– Не нада сапунь, – тихо говорит он, внимательно глядя на мои руки.
– Не надо шампунь, – говорю я.
– Мога игусики, – перестает бояться и возвращается к теме подарков он.
– Много игрушек, – подмигиваю я.
– Не нада сапунь, – говорит он напоследок и начинает играть с Микки-Маусом.
– Не надо, – покоряюсь я.
В рейтинге авторитетов у него на первом месте Бэтмен. На втором – Микки. Третье почетное разделяем мы: я и танцующая коровка из музыкального клипа. Не нада сапунь. Ладно. Вымою завтра. На счетчике шесть кубометров. Или пять? Я кряхчу, – он не обращает внимания, потому что чистит Маусу зубы, – и опускаюсь на колени. Сую голову под унитаз, чтобы разглядеть показания. Все-таки шесть и даже шесть с половиной. Ванна отменяется. Вода дорожает каждый месяц. Я дергаю головой, и мне сводит под затылком. Разожрал шею, как у быка, корю я себя и потихоньку высвобождаюсь из-под бачка.
Кем я видел себя несколько лет назад? Писателем с мировым именем? Репортером, ведущим эфир из ада сражений? Молодым философом в окружении полураздетых поклонниц? Угрюмым писателем, который вот-вот состоится, живет уединенно и выходит из дому лишь прикупить продуктов да покачаться на турниках в парке напротив дома? Не помню. Все слилось в какой-то светящийся ком. Все мое прошлое. Я ни в чем не уверен. Кроме одного.
Стоящим на коленях с головой под унитазом я себя точно не видел.
Все у меня могло бы быть. Наверное. Но для этого нужно только, чтобы я был один. А теперь у меня есть он, и он чистит зубы Микки-Маусу, а одна из полураздетых поклонниц, сделавшая мне его, шастает где-то в районе Лондон-стрит. Любовь. Ох, сынок. Не женись. Это ловушка, как справедливо говорит семьянин Гена Букин из юмористического сериала «Счастливы вместе». Ловушка, которую подстраивает природа, чтобы ты размножился. Я, наверное, бормочу, потому что малыш радостно плюхает по воде ладошкой и с улыбкой говорит:
– Ена, Ена…
– Ага, – говорю, – Гена. Сейчас будет.
Мы смотрим Гену. И няню Вику. Мы много чего смотрим. Передачу про то, как стать миллионером. Мультфильм про каких-то японских телок, в принципе, обычных, только уши у них почему-то заострены. Почему, я никогда не узнаю: канал французский, а я по-ихнему не говорю. Кстати, почему на французском канале японские тетки? И с чего я взял, что они японские? Наверное, решил так из-за глаз. Глаза у них неестественно огромные. Японцы так любят рисовать.
– Исую, исую, папа! – довольно окунает кисточку в ванную он.
– Рисуешь, – говорю я.
Становлюсь на колени у ванной и опускаю руки в воду. Хорошо. Тепло. Мокрым пальцем стираю с подбородка Игната засохшую сметану. Я ее в макароны добавляю, чтобы не слишком горячие были. Терпения дождаться, когда они остынут, у него нет. Он вообще нетерпеливый. В мать, наверное. Не в меня точно – я могу ждать часами. Чего там – годами. Только чего?
– Макамоны! – радостно говорит он. – Я.
– Да, ты ел макароны, – повторяю я.
– Я еу макамоны, – важно повторяет уже он.
– Ты ел макароны, – терпелив я.
Только так, сказал мне врач в детской поликлинике, можно научить его хорошо говорить. Позвонила бы Света, я бы ей рассказал. Про то, что он уже говорить начинает, что ест хорошо, что купаемся каждый вечер, только голову не дает мыть, что… Только она не звонит.
– Де моё мами? – спросит он меня, когда мы ляжем.
И я снова что-нибудь придумаю.
В дверь звонят.
ххх
Я спрашивал у знакомых, а что они чувствовали, когда у них появлялся ребенок.
– Ой, радость необыкновенную! – говорили, радостно хлопая глазами, мамаши на прогулках.
– Ничего, – отвечали папаши в спортзале.
– Счастье от того, что наконец-то родился, – делился кто-то на вечеринке.
– Сознание того, что выполнил долг, – даже сказала подруга жены за чаем.
– Ликование! – брякал кто-то в кафе.
Так или иначе, но рады были все. Я оказался моральным уродом. Потому что единственное чувство, которое пришло ко мне с рождением Игната, был страх. Гадкий, парализующий, от которого давление поднимается до горла. Он не покидает меня с тех пор ни на минуту. Я боюсь за него, за этого ребенка. Мне жаль его – мир жесток и несправедлив. Сколько детей страдали в нем? Я мысленно терял своего ребенка на войне и в глобальных катастрофах. Я понадеялся было на Бога, но потом вспомнил, что разве Бог вмешался хоть раз? Войны, голод, жестокость, зверства. Сотни тысяч ублюдков творят ужасные вещи и умирают в теплой постели. Рядом со своими детьми.
– Расплата грядет в другой жизни, – сказал мне знакомый.
Я подумал, но не успокоился. По-моему, решил я, это сказки, которые придумали те, кто виновны, – чтобы расплата их не постигла. В общем, я перестал верить в Бога, когда родился Игнат. А когда через две недели Света собрала вещи и уехала, я про него, Бога, просто забыл. Некогда было.
xxx
Я смотрю на Игната и плещу ему воды на спину. Он морщится, но молчит. Я заставляю себя улыбнуться и смотрю в зеркало на недельную щетину. Встряхиваю пену напрасно – все равно почти ничего не выходит – и тру лицо мылом. Баллон надо бы выкинуть, но тогда будет ясно, что нет пены для бритья. С баллоном ванная выглядит респектабельнее.
Бреюсь. Игнат, конечно, берет старую бритву, из которой я специально вынул лезвие, и водит по лицу. Оно у него гладкое-прегладкое. Кажется, прикоснешься – и поранишь… Я сжимаю зубы и велю себе заткнуться.
Сын мой, не бойся.
Я твержу себе это, как молитву когда-то. Как мантру. В кино про индейцев, Гибсона, что ли, которое недавно брал на диске, старый вождь говорит напуганному взрослому сыну: сын мой, не бойся. Я, кажется, понял, о чем он. Сын мой, не бойся, потому что если нам суждено умереть, то мы умрем: в таком случае наше дело обставить все так, чтобы мы протянули как можно дольше. Сын мой, не бойся. Я говорил это мальчику десятки раз, пока не понял, что вовсе не Игнату это говорю. Я себя прошу не бояться. Потому что, если он увидит во мне страх, увидит, что я боюсь, – то все. Нам конец. Обоим. Игнат роняет бритву в большую пустую ванную и говорит «ой». Испуганно глядит на меня.
xxx
– Сын мой, – мягко, но твердо стараюсь говорить я, – не бойся.
– Мооз, – говорит он, успокаиваясь.
– А как же, – говорю я.
– Игусики, – говорю я.
– И соник! – кричит он.
В дверь звонят, и я не успеваю справиться с собой.
Вздрагиваю.
xxx
Денег катастрофически не хватает на все, особенно – на коммуналку. Слава богу, у Игната своеобразные предпочтения в еде. Обожает макароны и пельмени. И то и другое дешево. Фруктов не ест. Единственная статья расходов – соки, которые он привык пить перед сном. И коммуналка. За квартиру в этом районе, в который мы съехали из прежнего – там было гетто, если называть вещи своими именами, – я плачу две трети зарплаты. Можно вернуться, но я решил, что ребенок не должен видеть все это дерьмо. Драки, коммуналка, туалет на пять квартир, самогонный аппарат на первом этаже и зарешеченное окошечко в квартире на третьем. Постучишь – откроют, протянешь деньги – бросят пакетик. Иногда с травой, иногда с чем-то покруче.
Еще треть зарплаты – еда и сок. За детский сад я одолжил.
А ведь нужны еще и вещи. И лекарства иногда.
И ботинки ему, с досадой вспоминаю я. Зимние ботинки. В старых уже не походишь.
– Мооз, – напоминает Игнат.
– И игрушки, – вспоминаю я.
– Игусики, игусики! – подтверждает он, радостно улыбаясь.
– Тебе не надоест говорить одно и то же, малыш? – улыбаюсь я.
– Тие ни нест аарить ано итоси маыш, – неумело повторяет он слишком длинную фразу и возвращается к главному: – Мооз, игусики!
– Конечно, – говорю я, освобождая лицо от щетины.
Издалека кажется, будто я стираю с розовой маски серый налет. Вижу плохо, поэтому бреюсь все равно на ощупь. Игнат роняет бритву, я наклоняюсь, чтобы подобрать ее, успокаиваюсь, и тут раздается звонок, от которого я вздрагиваю.
Я иду к двери и, выключив свет в коридоре, кошу в глазок.
На лестничной клетке стоит человек в форме.
xxx
– Звонят из газеты, – говорю я. – Местный филиал «МК».
– Чего хотят? – спрашивает Олег.
– Проводят опрос.
– Задолбали своим опросами! – довольно говорит он, потушив «Мальборо» о край стола. – Каждый день.
– Если бы они не звонили, ты бы обиделся, – говорю я.
– Да ладно, – кокетливо тянет он, но нам обоим понятно, что да. Обиделся бы. – Ну, что там за вопрос? – торопит он меня. – Мне еще подводки к сюжетам писать.
– А гражданство какой страны вы бы хотели получить вдобавок к молдавскому? – читаю я по бумажке.
– Никакого. По слогам им зачитай, – самодовольно улыбается он, – ни-ка-ко-го! Я наш молдавский паспорт ни на какой не променяю!
Я иду к своему рабочему месту секретаря телекомпании и диктую в трубку:
– Никакого. По слогам запишите. Ни-ка-ко-го. Я наш молдавский паспорт ни на какой не променяю. Он меня вполне устраивает! Подпись – Олег Новиков, автор и ведущий программы «Дисбаланс».
– Ну, еще бы, – говорит после короткой паузы – видимо, записывал – журналист. – Будь я личным журналистом нашего президента, я бы тоже свое гражданство ни на что не променял! Хорош Новиков! Он небось забыл, когда последний раз через общий зал аэропорта шел или ехал за границу за свой счет, а не в делегации.
– Лоринков… – устало говорю я.
– Да? – говорит он.
– Ты же знаешь, что мне не нужны неприятности.
– Какие это? – дразнит меня он.
– Разные, – кратко отвечаю я.
– Ну да, – язвит мой собеседник, мы с ним учились когда-то вместе, – все мы когда-то были неплохими парнями, но нас испортила закладная на дом.
– Совершенно верно, – говорю я. – Только меня испортил ребенок, а не закладная. Закладной у меня нет. Как, впрочем, и дома.
– Извини, – говорит он, помолчав, но я уже кладу трубку.
Иду выпить чаю в большой кабинет, где отдыхают операторы, журналисты и водители. Посидел, поговорил. Разговоры здесь только об одном. Кто, как и куда уехал, кому повезло с визой, кто перебрался в Россию, а кто в Италию и кому повезло попасть в Штаты. Бегут, бегут, бегут. Бегут все. И у нас тоже – водители, журналисты, операторы…
Впрочем, все они по штату – редакторы. На ТВ столько же редакторов, сколько в Чечне бригадных генералов. Люди телевидения.
Мне тоже предлагали делать сюжеты, но я отказался. Человек, который работает 6 часов и получает 100 долларов, зарабатывает больше человека, который работает 12 часов и получает 120 долларов. Конечно, я так не сказал. Объяснил, что хочу больше времени уделять ребенку.
Тем более что я и правда хотел уделять время ребенку.
xxx
– Верона, – удивительно ясно, как будто из-за спины, сказала она.
– А, – сказал я, – там, где Ромео и Джульетта.
– Вечно ты выдумываешь, – сказала она.
Больше мы не разговаривали. Вот уже два с половиной года. Света уехала вроде как на заработки в Италию, но уже через несколько месяцев вышла замуж за хозяина виллы, которую подрядилась убирать. Необычайное везение. Впрочем, ей всегда везло. Уезжала она, конечно, на год-два. Заработать денег, обустроиться и вызвать нас с Игнатом. Пункт три из программы вычеркнут, думаю я.
«Миграция рабочих рук и разбитые семьи. Двадцатитрехлетняя молдаванка, уехавшая в Италию на заработки, отказалась от своей прошлой семьи ради будущего с новым мужем», – мысленно пишу я подводку. Смешной был бы сюжет. Только таких сюжетов у нас стараются не показывать. В Молдавии все хорошо, а некоторые отрицательные моменты стоят того, чтобы их замолчали. Ради страны. Вы ведь любите эту страну? Не знаю. Наверное.
– Игусики, – говорит Игнат.
– Сын мой, не бойся, – говорю я. – Будут тебе игусики, – говорю я.
Не знаю, как насчет игрушек. Но ботинки будут. У меня пятьдесят долларов. Целое состояние. Правда, в леях, но так даже лучше. Все равно пришлось бы менять. Деньги я взял у своей бывшей соседки. Ну, то есть как взял. Отобрал.
– Гхакх! – только и сказала она.
И повалилась на бок. Но сознания не потеряла, а почему-то засучила ногами по разбитому асфальту. Встретил я ее у пятиэтажки, откуда мы с Игнатом перебрались еще в августе. Соседку звали, – впрочем, почему звали? и сейчас зовут, – Анжелой. У нее трое детей, и это она бросает пакетики с наркотиками через зарешеченное окошко. Участковый знает, он в доле. Анжелу знает и проклинает половина матерей здешнего района: она продает их детям наркоту.
– Мне своих детей нужно кормить, – говорила она мне. – Троих. Понял ты, интеллигент?
– Все мы когда-то были неплохими парнями, но нас испортила закладная на дом, – повторял ей любимую фразу Лоринкова, язвительного, но, в общем, справедливого парня.
Правда, сейчас она уже не кажется мне справедливой. Как и Лоринков справедливым.
Так или иначе, Анжелу Бог наказал, как говорят кумушки. Старшая дочь уехала в Турцию проституткой, младшая недавно вены резала из-за несчастной любви… А пятилетний сын ссытся в штаны прямо на улице. Анжела вся черная, но не сдается. Пакетики в окошко двери так и летают.
– Сын мой, не бойся, – наверное, говорит она.
Вообще-то я рассчитывал не на нее. Я шел к старой торговке спиртом, которая сидит на табуретке на самой автобусной остановке. У таких всегда денег больше всего. По лею-два они за день набирают со ста и больше клиентов. Я наблюдал за такими, когда жил здесь. Деньги мне были очень нужны. Зарплату дали с опозданием на два дня, а при ее размерах это
для меня катастрофа. Я отложил долги и понял, что нам с Игнатом в этом месяце не жить. Никак.
Сын мой, не бойся.
Я поехал к автобусной остановке у своего бывшего дома. Но там было пусто, и я побрел почему-то к своему бывшему подъезду, а там на корточках и спиной ко мне сидела Анжела. Курила. Я, не задумываясь, крутанулся на левой ноге и носком правого ботинка ударил ее изо всей силы в висок. А надо было в затылок. Я, конечно, сглупил. Но мне повезло.
– В кои-то веки тебе повезло, – снисходительно сказала бы мне Света.
И была бы права. Мне редко везет. Но она ничего этого не видела. И никто не видел. Черная от жизненных неурядиц Анжела крутанулась и упала не на спину – тогда бы увидела меня, – а на бок. Упала, засучив ногами. Держалась за лицо. Пыталась встать. Я отскочил чуть, раскрыл пустой – и зачем ношу? пусто же? потом вспомнил, хотел пойти на рынок купить картошки, но денег не было – рюкзак и нахлобучил его ей на голову. Ударил носком в живот. Тут она поняла, что тот, кто бьет, не хочет, чтобы она увидела его лицо, и послушно перестала крутить руками у своего лица. Нет, теперь я уже не боялся. Ведь это мог быть кто угодно из местных. Любой из них сделал бы то же самое не задумываясь. Даже Анжела сама бы так сделала.
Я придавил ей коленом спину, сунул руку в карман и вытащил деньги. Пересчитал. Вообще-то мелочь. Но сейчас – целое состояние. Перекатил ее на живот, заставил положить руки на затылок. Оглянулся, понял, что уже сумерки. Сразу успокоился. Сорвал рюкзак и прыгнул за угол. Быстро рванул в сторону. Метров через триста перешел на шаг, направился к дому пешком – сворачивал на разные улочки. Сердце не билось часто.
Сын мой, не бойся.
xxx
Дома Игнатка бросился на шею, намочил щеку слюнями и стал сам открывать пачку сока. Сразу не получилось, начал ругаться, побежал за игрушечной отверткой. Дыру пробивать. Нетерпеливый он, подумал я. Ничего, подумал я.
– Подзадержался, – сказал тесть.
– Виноват, – просто сказал я и ушел на кухню.
С ним бесполезно говорить. У него на все свое мнение. А я почему-то его, мнения, лишился. Не потому, что у меня его вообще нет. Просто вдруг сотни тысяч вещей, людей и явлений оказались для меня настолько скучными и пустыми, что о них и думать-то ничего не нужно. Дверь скрипит – это тесть уходит. Чурбан бесчувственный. С ребенком хоть иногда сидит, и за то спасибо.
– Пакати! – заорал Игнатка и прыгнул мне на ногу. – Пакати, папа!
– Купаться, – говорю я. – Только сначала поешь, да?
– Макамоны!
– А ничего больше и нет…
Я варю макароны и заливаю их сметаной. Игнат ест, болтает, рассказывает что-то про деда и как они с дедом играли, пьет сок, опять ест, просит воды, болтает ногами, не сидит на месте совсем. Потом я быстро доедаю за ним пару ложек и мою посуду, пока он решительно тянет меня купаться.
Набираю его ванночку, ставлю ее в большую ванную и усаживаю его в воду. Даю Микки-Мауса. Проверяю счетчик. Бреюсь. И тут звонок.
– Игнат, сиди тихо! – говорю я. – К папе пришли.
– Мооз?! – радостно спрашивает он.
– Мооз, – помолчав, говорю я.
Считаю до десяти и открываю.
– Распишитесь.
Он тянет мне бумажку из желтого света подъезда.
– Это еще?.. – не договариваю вопрос я.
– Расписываться будем или нет? – устало спрашивает он.
– По поводу? – грубо говорю я.
– По поводу перевода, – грубо говорит он.
– Ка… – говорю я.
И медленно вдыхаю, стараясь, чтобы незаметно от него. Форма и правда синяя, но светлее, чем у полицейских.
– Почтовая служба ДХО, – терпеливо вздохнув, начинает он бубнить, – первая служба доставки корреспонденции и ценностей в регионе, мы рады приветствовать вас, распишитесь, пожалуйста, здесь и примите… Отправитель – журнал Федеральной службы связи России, – снова становится грубым он.
– Да, – растерянно говорю я.
– Да-да, – киваю я.
– Да-да-да, – припоминаю, что когда-то отправлял пару рассказов, я.
– Да-да-да, – вспоминаю, что они долго молчали и я уж просто решил, что не напечатают и, значит, не заплатят.
– Да, – расписываюсь я.
– Да-да-да, – принимаю конверт я.
– Да-да-да-да, – улыбаюсь, пересчитывая деньги, я.
– Да?! – поражаюсь размеру суммы я.
И еще что-то говорю.
Кажется, снова «да».
xxx
Отблики от телевизора скачут по одеялу, под которым лежат тесть с Игнатом. Малыш причмокивает во сне и бормочет «оз, ооз, мооз, соник». Хихикает, смеется… Тесть начинает похрапывать. Я выключаю телевизор и стою минут пять в темноте.
Жду, пока глаза привыкнут.
Потом иду в коридор, осторожно выхожу в подъезд. Собираюсь пойти в супермаркет поблизости, купить Игнату обувь – мы уже мерили, подошло, были бы деньги тогда. Игрушек еще. Не к Новому году. Сейчас. Закрываю двери, спускаюсь на десять ступенек и останавливаюсь, чтобы взглянуть в междуэтажное окно. В стекле отражаюсь я. Сын мой, не бойся…
Какой я? Крупное, надменное, усталое лицо. Уголки губ чуть вниз. Жестокое, равнодушное лицо. Ничего общего с тем ангелом, что пускает сейчас слюни на подушку в детской. Хотя есть кое-что. Нос. Глаза. Губы такие же…
Постепенно черты Игната начинают проступать в том лице, что я вижу перед собой.
Долго смотрю ему в глаза. Потом отворачиваюсь и иду в магазин.
За слоником.
И МЕРТВЫЕ ВОССТАНУТ
Он был примерно на две головы выше меня. Я смотрел на него, задрав голову. Но это не имело значения, потому что он все равно стоял, а я сидел на скамье в парке. И если бы даже он был ниже меня, мне все равно пришлось бы задирать голову. На нем был теплый – чересчур теплый для конца мая в Кишиневе – костюм, белая рубаха, и у него был портфель. Ясно. Какой-нибудь проповедник сраный. Я хотел было послать его подальше, но у меня не было сил. Я просто сидел и моргал, глядя на него, и чувствуя, как в моих глазах собираются слезы. Так всегда на другой день, если перепьешь. Я попробовал приподнять бутылку с пивом, – два литра, – но у меня ничего не получилось. Он заботливо помог мне придержать пузырек, и нацедил в пластмассовый стаканчик пивка. Я жестом поблагодарил и выпил.
– Вообще-то, – сказал я потом, отдуваясь, – пива я не пью.
– Тем более украинского, потому что украинское пиво это не пиво, а спиртосодержащий напиток с ароматизатором «пиво», – сказал я.
– Но похмеляюсь им с удовольствием, – признался я.
Он принял это за приглашение побеседовать. Все так же стоя надо мной, он спросил:
– Веришь ли ты в Иисуса, брат?
– Ясен хрен, – сказал я, потому что ждал чего-то подобного.
– Только не называй меня брат, – сказал я.
– У меня уже есть брат, и это не говно, типа вас, бездельников-сектантов, а настоящий мужик, нормальный, слышишь, черт тебя побери, – сказал я.
– Вот видишь! – сказал он, и улыбнулся. – Бог есть и Он дал тебе брата!
– Но брат сейчас ДАЛЕКО, – сказал я.
– Как же так получилось, что единственный человек, который меня понимает, находится ужасно далеко, а? – спросил я.
– Кстати, – спросил я, – что ты здесь делаешь? Ладно я работу прогуливаю, но ты-то, ты…
– Я проповедую, – улыбнулся он.
– Открой обзор, – сказал я.
Он присел и я увидел, наконец, небо. Оно было синим, и огромный платан надо мной – ему лет семьдесят, подумал я, не меньше, – перебирал листвой, как карманник серебрянной монетой между пальцами. И таких деревьев в парке было много. Парк был знаком до сантиметра. Я начинал здесь маленьким мальчиком, бегая кроссы в спортивной школе, и закончу от удара во время какого-нибудь особенно страшного похмелья, подумал я. Ох уж эта блядская Долина Роз. Центровое место всей моей жизни, подумал я. И хлебнул еще пива. Проповедник смотрел на меня с интересом.
– Иисус любит тебя, – сказал он.
– Если так, то почему мне так плохо? – спросил я.
– Ты с перепою, – сменил он тон с пафосного на слегка озабоченный.
– Так какого хрена мне плохо, а? – спросил я.
– Все твердят Иисус, Иисус, Христос да Христос, а чтобы взять, да и что-то Сделать, слабо, а? – спросил я.
– Где он, этот Иисус ваш, когда он и ПРАВДА нужен, – сказал я.
– Тебе тяжело? – спросил он участливо.
– А что, не видно? – спросил я.
– Иисус дал тебе пива! – сказал он радостно.
– Думаешь, выкрутился? – спросил я, а он радостно покивал.
– Не считается, – сказал я злорадно.
– Если на то пошло, Иисус ПРОДАЛ мне пиво, – сказал я.
– Ты требуешь чуда, – скорее спросил, чем сказал он.
– Я требую чуда, – сказал я, с сожалением глядя, как бутылка-то пустеет.
Всегда так. Четыре литра взять стыдно, а двух явно не хватает. Никогда.
– Дьявол искушал Иисуса явить чудо, – сказал осуждающе этот богослов сраный.
– Дьявол всего лишь просил его прыгнуть разок со скалы, – сказал я.
– И ты не Иисус, а я не Дьявол, – сказал я.
– Давай поговорим о том, как точно сбылось предсказание в Ветхом Завете о Навуходоно… – начал он.
– Давай не поговорим об этом, – прервал я.
– Чего ты хочешь? – спросил он.
– Чуда, – сказал я.
В это время на аллее появилась тележка, а за ней и жирная тетка, которая стала переворачивать тележку, как столик. Я уж думал, она не придет. У нее всегда можно купить пива. Проповедник глядел на меня вопросительно. Я покачал головой. Конечно, это вовсе не чудо никакое. Тетка могла прийти в парк торговать соком, водой, пивом и воздушной кукурузой, а могла и не прийти. На меня пахнуло молодым потом и я, – насколько мог быстро, – повернулся. Мимо бежали кросс двенадцатиклассницы. К сожалению, я был чересчур не в форме, чтобы подставить ногу одной из них, а потом утащить жертву в кусты. Да и проповедник был не очень подходящей компанией для такого времяпровождения. Я допил пиво, бросил бутылку в урну – попал, к своему удивлению, – и, пробуя силы, приподнялся. Потом встал, и пошел к продавщице пива.
– И все же Господь обязательно явит тебе чудо, – сказал вслед мне этот чудак.
– Непременно, – сказал я.
– Вот увидишь, – крикнул он.
– Обязательно, – сказал я.
– Прямо сейчас! – взвизгнул он.
– На конечно же, – бросил я.
– В сей же момент! – заорал он.
– Всенепременно, – сказал я.
После чего обернулся, чтобы послать его, наконец-то, как следует, но на скамейке никого не было. Если бы я был студенткой филфака и прочитал сто пятьдесят семь раз «Мастера и Маргариту» – а это для них обязанность, вроде как для пограничника уметь бегать с собакой, – то непременно бы вздрогнул. Но это было далеко не первое похмелье в моей жизни. Я знал, что в такие моменты чего только не случается. И никакие дьяволы советского розлива тут не при чем. Алкоголь играет, сказал я себе. И пошел за добавкой, еще поиграть. Но, буквально в двух-трех метрах от столика, хотя все вроде как и продолжало выглядеть обычным, – что-то в атмосфере изменилось. Воздух как будто щелкнул и, судя по тому, как люди в парке продолжали заниматься своими делами, – изменилось лишь для меня. Так что я не стал заострять на этом внимание и купил себе еще пива. Но я уже знал.
Что-то случится.
ххх
И случилось все гораздо быстрее, чем я ожидал.
И никакой подготовки в сиде серного дождя, молний, грома, или еще какой-то этой феерической херни из Ветхого Завета не было. В воздухе просто потемнело и начался дождь. Ну я и спрятался от него под деревом. А там стояла какая-то девушка. Я шел уже на пятый литр, так что можно было и познакомиться. От украинского пива выражаешься всегда выспренно, глупо и провинциально, прям как ведущие светских новостей на ихнем украинском телевидении, так что я начал так:
– Милая незнакомка…
– Милый знакомец, – сказала она, и повернулась.
К счастью, я был уже достаточно пьян. Поэтому не испугался, когда на меня посмотрела Ниночка Приходько. Толстенькая девчонка, – кстати, украинка, – из паралллельного класса, которая была в меня влюблена всю школу. И с которой я трахался, когда поступил в институт и понял, что трахаться нужно со всеми, кто в тебя влюблен, а не строить из себя чистюлю сраного.
Все бы ничего, только Ниночка уже лет десять как была мертва.
Отучилась на бухгалтера, устроилась по профессии и спустя полгода бросилась под поезд из-за какой-то растраты. Помню, все мы дико переживали. Ну, все парни в ее дворе. Ниночка ведь, как и положено всякой Ужасно романтичной в шестнадцать лет девушке, в двадцать пять стала не менее Ужасно доступной. Все это я вспомнил, глядя на нее.
– Сам ты прошма! – сказала Ниночка и улыбнулась.
Но улыбнулась как-то невесело. Ей явно было нехорошо. Алкоголь, подумал я. Какая-то сумасшедшая. Очень похожи.
– Рад, мудак? – спросила она.
– Чему? – спросил я.
– Тому что мне из земли вылезти пришлось ради того, чтобы какой-то мудак уверовал, – сказала она.
– Нина?!!!!!… – сказал я.
– Нет бля, Вася, – сказала она.
И обвела рукой горизонт. Вокруг нас стояло человек двадцать, не меньше, которые, как я точно знал, – поскольку не раз напивался до полусмерти на их похоронах, – сыграли в ящик. Но они были. И они стояли. И все говорили мне:
– Привет, привет!
Я отбежал от дерева и бросился из парка.
К сожалению, в городе ситуация была не лучше.
Еще выходе из парка мне улыбнулся другой мой покойный одноклассник, Федя по прозвищу Вертолетчик. Мы прозвали его так за пристрастие к выбрасыванию с девятого этажа кошек с пропеллером, который он забивал в несчастных скотин гвоздем.
У фонтана стоял мой приятель Раду, который в 92 году сбежал из дому, чтобы подносить патроны воинам-освободителям, поехавшим завоевывать Тирасполь.
До фронта он не доехал, потому что попал под «Камаз».
У дороги я замедлил шаг. Там, взявшись за руки, стояла мертвая парочка, о которой даже в «Экспресс-газете» писали.
Жили они в нашем же дворе. Петька и Ленка Фазановы. Прославились они в узких кругах желтой прессы тем, что – уже после бракосочетания, – поняли, насколько каждый из них ошибался в своих гендерных пристрастиях. Проще говоря, каждый из них оказался гомосексуалистом. Но они любили друг друга. Тогда Петька за двенадцать лет службы в каком-то учреждении скопил денег на смену пола, и тайком от Ленки сделал операцию. Ну, чтобы быть с ней лесбиянкой, пусть и несчастной. В глубине души-то он был «голубой». А Ленка сделала ровно то же самое, чтобы быть пусть и несчастным «голубым», но рядом со счастливым Петькой. Встретившись после операций, они здорово удивились, но дело было сделано. Пришлось им, обменявшись паспортами, – Петька стал Ленкой а Ленка Петькой, – жить и дальше, как гетересоксуальная пара. Чтобы хоть как-то обозначить случившиеся с ними изменения, они сменили фамилию на Петуховых. Увы, это ничего не меняло. Но мучились так они, к счастью, недолго. Обоих убил врач, делавший им операцию. Доктор влюбился в Ленку, когда та была еще женщиной, и уже тогда ревновал ее к Петьке. А уж когда ленка стала мужчиной и Петька, чтобы жить с Петькой, который стал женщиной и Ленкой, чтобы жить с Ленкой, которая…
Доктор понял, что ему проще прирезать их обоих, а не разбираться, кого из них и к кому ему теперь следует ревновать. Жуткая история.
Я бросился от них к ларьку, чтобы купить пива. Но оттуда мне улыбался покойный Хо Ши Мин.
Ну и, наконец, главное чудо.
Мое похмелье исчезло.
ххх
Я даже не удивился, когда на мою попытку вызвать с мобильного «Скорую» ко мне подлетела четверка огненных лошадей, управлял которыми, – стоя в роскошной колеснице, – мой недавний собеседник.
Правда, кроме рук у него были еще и крылья, да и вместо костюма на нем теперь была простыня.
– Туника, а не простыня, дикарь, – сказал он, и подмигнул. – Садись, подвезу.
Я повиновался и мы поехали в парк. Там присели. Он щелкнул пальцами и у меня в руке оказался бочонок пива на пять литров, причем пива хорошего. Ладно. Я нацедил стаканчик. Пока пивко есть, можно и на конец света полюбоваться. Я не сомневался, что Апокалипсис наступил. Иначе на кой вытаскивать мертвяков из могил?
– Ну и как, сын мой, ты уверовал? – спросил он.
– Да как-то так… Ну, в целом… В общем… – замялся я.
– Блядь! – взревел он. – По улицам ходят, между прочим, мертвые!
– У тебя нет похмелья! Мертвяки разгуливают, как живые, – крикнул он трубным гласом.
– И тебе блядь ты такая этого МАЛО?! – разозлился он.
– Нет-нет! – испуганно сказал я.
– Не то, чтобы мало, – сказал я, – просто, ну, как бы…
– Просто, ну, как бы ЧТО? – ждал он.
– Ну, нельзя ли еще какое-нибудь доказательство? – спросил я, в надежде потянуть время, чтобы выжрать все пять литров пивка.
– Говори, что ЕЩЕ? – спросил он устало.
– Ты наверное будешь сердиться, – сказал я.
– Да ГОВОРИ уже, ломака блядь несчастный, – сказал он, и утер пот со лба.
– Клеопатра… – сказал я.
– Что Клеопатра? – спросил он.
– Ну, нельзя ли мне… – сказал я, – ну, Клеопатру…
– Что? – не понимал он.
– Ну, Клеопатру же! – сказал я под его недоумевающим взглядом.
– Что блядь Клеопатру? – спросил он.
– Трахнуть, – пробормотал я.
– ЧТО? – сказал он.
– Ну, нельзя ли мне трахнуть Клеопатру? – спросил я.
– Тогда я точно уверую! – пообещал я.
Вместо ответа он выпустил воздух со свистом – пару платанов сломались, как спички, – и пару минут глядел на меня как-то брезгливо и даже с презрением.
– Значит, БЛЯДЬ, тебе еще и Клеопатру подавай, – сказал он, – наглый ты козел, Фома ты наш неверующий…
– Владимир, – робко поправил я, – Вла-ди-мир.
– Вла-ди-мир хо-че-т вы-тра-ха-ть Кле-о-пат-ру, значит, – издевательски сказал он.
– Если можно, – робко сказал я, – ну, понемножечку, исключительно в качестве подтверждающего экспери…
– Ладно, – сказал он.
– Поражаюсь я своему терпению, – поднял он голову к небесам.
– А ведь Иисус куда терпеливее! – сказал он, подняв палец.
– Верю, верю! – сказал я.
– Верней, вот-вот поверю, – поправился я.
Он досадливо махнул крылом и все куда-то исчезло. Я очутился в сыром холодном помещении, буквально пропитанном сладкими ароматами. Прям восточный базар, подумал я. Откуда-то из под тяжелой ткани, которыми здесь было укутано если не все, то почти все, появилась чрезвычайно смуглая женщина с выдающимися зубами, неправильной формы головой и костлявыми ключицами.
– Что за хрень? – спросил я.
– А-анара барата ме! – сказала она.
– А? – спросил я.
– Бе-бад-езаку-ра! – сказала она.
– Клео, ты? – спросил я.
– Агурда! – сказала она и присела.
Дальше все пошло, как по маслу. Я расстегнулся и она, как это стыдливо именуется в их летописях, сыграла на моей флейте. У меня еще в голове шумело, когда все исчезло, – я только в панике глянул вниз, убедиться, что Клео не прихватила зубами одну мою драгоценность в спешке, – и я очутился перед Гавриилом. Это ведь был архангел Гавриил, я сразу понял.
– Ну, как? – спросил он.
– Ну ничего так, – сказал я.
– НИЧЕГО ТАК? – спросил он.
– Ему, жалкому пьянчужке, делает минет Царица Царей, самая легендарная женщина мира, источник вдохновения, наслаж…
– Брось, – сказал я, – она же не пылесос, а ты не агент, сам понимаешь, все это реклама.
– Ну, в общем, да, – согласился он, – а ты чего ожидал?
– Ну не знаю, – сказал я задумчиво, – может, чего-то этакого…
– Чего этакого? – спросил он, чуя неладное.
– Ну там, – пробубнил, опустив голову я, – Жанну Д Арк или там…
ххх
Бедняга и правда оказался очень терпеливым.
Я оприходовал Жанну Д Арк. Потешился с той девчонкой, которая позировала для Венеры Милосской. Побывал с царицей Савской, поласкал Зенобию, отдохнул с половиной натурщиц Рембрандта, Ван Гона, и, эксперимента ради, Кустодиева. Кустодивевские, кстати, мне не понравились, потому что все понимали по-русски. Неприятно было услышать:
– Девчонки, опять какой-то озабоченный от Гавриила прилетел трахаться…
Поэтому я переключился на иностранок. Императрицу Екатерину тоже навестил, конечно, она ведь была немка. Гаврюша перебросил меня к ней, еще только когда девчонка заезжала на территорию этой ужасной заснеженной России. Прямо в карету, укутанную мехами. Я скрасил ей путь до столицы. Потом отогрелся с Моной Лизой. Ну и так далее. Я только и делал, что прыгал из одной знаменитой постели в другую.
В общем, карусель получилась недурной. Под конец я едва на ногах стоял. И, когда очутился на скамейке в парке с Гавриилом в виде проповедника, даже был ему благодарен. Хватит уже.
– Ну как? – спросил он, глядя в дешевенькую Библию.
– Супер, – сказал я, отдуваясь, и добавил для него, – ВЕРУЮ.
Хлебнул еще пивка, а потом сказал:
– Ну, я пойду?
– Ага, – сказал он.
– Ну, давай, – сказал я, и пошел.
Ноги двигались, но, почему-то, я стоял на месте.
– Что за фокусы? – спросил я.
– А? – спросил он, отложил книжку, и пояснил, – так тебе ТУДА.
«Туда» оказалось лазом под люком на аллее. Я заглянул. Никаких огней, ничего такого. Я увидел дорожку, которая шла, сужаясь, и конец ее терялся за приятным, в общем-то, горизонтом.
– Почему туда? – спросил я.
– Живу-то я там, – показал я рукой в сторону дома.
– Да ты же умер, – сказал он осторожно.
– Ясно, – сказал я, – предполагал я, что тут дело нечисто…
– Все чисто, – сказал он грустно.
– Ты испил свою чашу и выбрал свою меру, – пояснил он, – умер от удара.
– Еще часа три назад, – уточнил он.
– Какие же вы с Ним… обманщики, – сказал я.
– Наебщики, хотел ты сказать? – спросил он.
– Ага, – сказал я, ведь и правда хотел, но перетрухал, зачем нарываться, я ведь теперь в их власти, подумал я…
– Дурачок, – сказал он ласково, – ты и живой был в нашей власти…
– Это неправедливо, – сказал я.
– Чувак, – спросил он, – неужели ты думал, что живой мужик может и Клеопатру трахнуть и Жанну Д Арк, и царицу Савскую?
– Ну да, – сказал я.
– Они же давно уже УМЕРЛИ, а мертвого трахнуть может только мертвый, – сказал он.
– В глобальном смысле, конечно, – добавил он.
Но мне уже было неинтересно. Туда так туда. Я приподнял люк, спустился и ступил на свою последнюю дорогу. Я подумал, что сказать миру напоследок. Гавриил терпеливо ждал. Я покряхтел и полез. Ничего не придумывалось.
– Да пошли вы бля все – сказал я.
ххх
Идти было приятно. Трава под ногами пружинила. Интересно, подумал я, Бог он как Санта Клаус или как Джигарханян? Сбоку кто-то задышал. Я не поворачивал голову из принципа.
– Чувак, – сказал архангел. – Слушай…
– Слушаю, – сказал я.
– Нам жутко неудобно, – сказал он.
– А почему так рано-то? – спросил я.
– Мне же еще и сорока нет, – сказал я.
– Вернее, не было, – поправился я, – так за какие такие грехи?!
Он только посмотрел скептически. И я заткнулся.
– Дело не в грехах, которых у тебя немеренно, – сказал он.
– Если бы мы каждого мудака брали за жопу за его грехи, вас бы пришлось всех убивать с семи лет, – сказал он.
– Дело в ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ, – сказал он.
– Ты свое предназначение исполнил, – сказал он.
– ДА?! – удивился я.
– Помнишь тот рассказ свой, ну, про детей ленинградских, – спросил он, – ты его лет шесть назад написал?
– Смутно, – соврал я, потому что не помнил.
– Ну так это и было твое предназначение, – сказал он.
– А, – сказал я.
– Еще раз прости, – сказал он, – и ОН тоже просил передать, что извиняется.
– Я разочарован, – сказал я.
– Все разочаровываются, – сказал он грустно.
– Да ладно, – сказал я.
– Я вас прощаю, – простил их я.
– Правда? – обрадовался он. – Ну тогда спасибо!
– Прощаемся без обид, – сказал он.
– Прощаемся без обид, – сказал я.
Он пропал, а дорога все длилась. Я прикинул на глаз, получалось, идти несколько дней. Это только то, что видно. А может, у них здесь все так устроено, чтобы идти надо было всегда? В таком случае, надо искать выпить и попутчика.
Хорошо бы это была женщина, подумал я.
ПОЗАВТРАКАТЬ С ТИФФАНИ
Натянутый ветром шарф трепыхался, как флаг. Да это и был флаг. Часом раньше Лоринков купил его в книжном магазине у здания городского КГБ. Не самое лучшее место, подумал Лоринков. Выбирая книги, все время приходится делать вид, что не замечаешь знакомых, которые с незаинтересованным видом выходят из здания напротив. С другой стороны, почему это ему должно быть неловко, ведь это они оттуда выходят. С третьей стороны, лучшего, – чем этот, – книжного магазина в городе нет. Самый крупный специалист по книжным магазинам города, подумал с иронией Лоринков.
– Самый крупный специалист по книжным магазинам города, – сказал Лоринков.
Тиффани лишь улыбнулась сладко, и повела – умопомрачительно, словно ее знаменитая тезка, – ресницами. Короткие, не первый раз заметил он. Но из-за туши, глицерина, воды, – и что там они еще добавляют в смеси для ресниц еще со времен первой Тиффани всех времен и народов, Клеопатры, – ресницы ее выглядели длинными. Но его-то не обманешь. У него самого ресницы длинные. Из-за этого, вспомнил Лоринков, ему никогда не подходили плавательные очки. Ресницы мешали. Приходилось открывать глаза в бассейне. Вспомнив утренние тренировки, и прикосновение холодной воды к коже, он поежился. Машинально потер руки. Тиффани глянула на него вопросительно, и улыбнулась. Прибавила газу. Ну, что за девушка, подумал он. А шарф, сделанный ей из флага Молдавии, все развевался и развевался. Попади он в колесо, подумал Лоринков, никакой трагедии не случится. Ткань слишком тонкая. Порвется. Нынче все рвется. Мы живем в эпоху постмодерна, подумал он. От прежних времен мы оставили лишь открытые автомобили, подумал он. И девушек.
– Красивых, как Тиффани, – сказал он.
Та снова ничего не сказала, картинно лишь поморгала, – ах, как умиляет меня эта ее наивная уверенность в том, что продуманность жеста незаметна, подумал Лоринков, – и переключила рычаг скоростей. Это тоже была примета старого времени. Сам Лоринков, и все его знакомые, и знакомые знакомых, не говоря уж о дамах… все они ездили на автомобилях с автоматической коробкой передач. Дорога пошла под уклон. Начинался самый красивый отрезок пути. В сорока километрах от Кишинева высадили много лет назад тополиные аллеи. Коридор из тополей, окаймленный снаружи орехами и кленами, длился почти полсотни километров. Машины словно играли с деревьями в «ручеек». По обеим сторонам от него опускались – плавно, как крылья самолета, – гладкие зеленые холмы, то и дело расчерченные узорами виноградников. Сейчас, в октябре, это походило на гигантский готический собор, возвездённый природой и «СовзелетрестМССР», посреди огромного версальского сада, разбитого самим господом Богом. Невероятно, как я люблю, подумал Лоринков. Кого только, подумал он. Себя, Тиффани, Молдавию? Из-за вина мысли играли и неслись, но из-за того, что вино было хорошее и его было много, неслись легко и играючи. Словно открытый автомобиль по отличной дороге-аллее в самом красивом месте Молдавии. Кстати, о Тиффани, подумал Лоринков. Глянул на место водителя. Девушка снова переключила скорость. Лоринков улыбнулся и полез на заднее сидение за шампанским. Вернулся, уже откручивая крышку. Надо же. Рычаг переключения скоростей… Иногда ему страшно становилось при мысли, что начнется Вторая Мировая Война.
– Страшно иногда при мысли, что будет вторая Мировая война! – крикнул он Тиффани.
– Почему? – крикнула, улыбнувшись, она.
– Я ведь совсем не умею водить машину с ручным переключением передач! – крикнул он.
– Пропадешь, как фотограф из «Молодых львов», – крикнула, кивнув, Тиффани.
Чудо, как легко, подумал Лоринков. Девушка понимала его с полуслова. Может, мне и начинать говорить не нужно, подумал он. Тиффани крутанула руль на повороте, и они лихо – вовсе не так, как учили на курсах вождения самого Лоринкова, – свернули и продолжили путь. Путь прямой, словно намерения праведника, подумал Лоринков. Рассмеялся. 2 октября 2003 года. Это был самый счастливый день его жизни. Если бы у Лоринкова был револьвер и он был промотавшимся юношей из рассказа Фитцджеральда, то непременно убил бы себя вечером этого дня. Но Лоринков не был промотавшимся юношей из рассказа промотавшегося юноши Фитцджеральда. И у него не было револьвера.
– Но я обязательно убью себя, когда все кончится, – подумал он.
И снова рассмеялся. Ведь если я уйду в день, когда Тиффани со мной, – подумал он, – Тиффани останется со мной навсегда. Внезапно машина затормозила. Это была очень хорошая машина. Автомобиль под старину, с открытым верхом. Очень дорогой. Поэтому Лоринкова даже не бросило вперед. Они просто встали. Тиффани резко обернулась и приложила руку в перчатке к глазам. Лоринков впился взглядом в девушку, как она – в дорогу за ними. Тиффани глядела внимательно. Она буквально позировала для него. Лоринков глянул назад тоже. Шарф – трехцветный, шелковый – трепетал в воздухе. Потом, словно подумав, взмыл ввысь, и поплыл куда-то на запад. Лоринков сунул руку в карман пиджака. Вытащил оставшуюся часть флага. Порвал, стараясь тянуть ровно. Обернул вокруг шеи Тиффани. Девушка, капризно надув губы – но так картинно, что сомнений в том, что она не обижается, у Лоринкова не было, – позволила сделать это. Потом машина тронулась. В путь, подумал Лоринков. В путь прямой, праведный.
– Что? – спросила Тиффани.
– Путь, прямой, словно намерения праведника, – сказал Лоринков.
– Воистину и отныне, – сказала Тиффани.
– Дай-ка, – сказала Тиффани.
Лоринков, всю жизнь боявшийся умереть в катастрофе, неожиданно легко протянул ей бутылку. Тиффани, не глядя, приняла и глотнула, отвлекшись от дороги. Девушка держала тяжелую пузатую бутылку неожиданно легко. Еще один порыв ветра сорвал с нее новый шарф, который они сделали из флага, и взмыл в небо. Вот так. Без флагштока.
– Ему явно не нравится, – сказал Лоринков.
– Да, милый, – сказала Тиффани.
– Ты о ком, – сказала она.
– Ну, уж не о Боге, – сказал Лоринков.
– Фи, – сказала Тиффани.
– В сороковых годах в Бога не верили, – сказала она.
– Верить в бога это так… – сказала она.
– …так современно, – сказал Лоринков.
Наградой ему послужил взмах коротких, но удлиненных искусственным образом ресниц. Но разве я имею право судить, подумал он. Разве не тем же самым я занимаюсь, только вместо туши у меня слова. Как она выглядит без макияжа, подумал Лоринков. Мне хочется узнать о ней побольше, подумал он с удивлением.
– Сколько тебе лет? – сказал он.
– Ах, милый, – сказала она.
– Как тебя зовут на самом деле? – сказал он.
– Ох, милый, – сказала она.
– Ты меня любишь? – сказал он.
Машина снова остановилась. Тиффани приложила к его лицу руку. Он принял ее, словно проигрывающий игрок – свой последний мяч. С усталостью, неверием в удачу, и благодарностью за подаренный шанс.
– Милый, – сказала Тиффани.
– Разве о таком говорят вслух? – сказала она.
– И кто говорит о таком вслух? – сказала она.
– Я говорю, – сказал он упрямо.
И попробовал взглянуть на них со стороны. Как и полагалось. Потому что вели они себя, словно Скотт и Зельда. Ну или Бук и его подружка, обезьянничавшие Скотта и Зельду. Так или иначе, а они снимались, для самих себя.
Декорации в этот раз были великолепные – лучшая трасса Молдавии в красивейших ее местах в лучшее время года. Красный автомобиль, стоящий на обочине, приблизил он к ним воображаемую камеру. Девушка в шляпке, наряде под сороковые, очень молодая и красивая. Но с короткими ресницами. Что, впрочем, лишь подчеркивает ее Настоящесть, подумал Лоринков с внезапной грустью. Шампанское, ящик. Крупным планом скрученная проволочка нескольких бутылок на заднем сидении. Переход через спинку кресла, по редеющим – увы, увы, – волосам, к месту рядом с водителем. Мужчина, молодой, но уже явно за тридцать. Крупные черты лица, синяки, – нет, не драки, нет, просто полукружья, – длинные ресницы, костюм, да, старомодный, но удивительно ему шедший. Постоянно сжатые зубы. Нужно расслабиться, напомнил себе Лоринков. С Тиффани это и получалось. Камеру назад, и вот уже шарф цветов флага Молдавии, который эксцентричная Тиффани пожелала – эксцентрично, как в кино, – а он, словно рыцарь, исполнил… флаг реет в воздухе. Камера глядит на них с высоты флага. Нет, мужчина не склоняется к девушке. Она просто держит руку в перчатке у его лица. Ласково и задумчиво. А мужчина держит ее, и глаза его закрыты, и выражение лица у него, как у спортсмена, неожиданно для себя взявшего последний мяч. Ну, или, – подумал Лоринков, всю юность проведший в университетском бассейне – как у парня, который внезапно выиграл заплыв, хотя в бурунах спурта предполагал, что окажется третьим. И все-таки она не сказала мне, что любит, подумал Лоринков. Но я и так получил уже столько, подумал он. Надо довольствоваться ятем, что есть, подумал он – разве не этому учила его вся жизнь? Ладно, не очень-то надо, подумал он.
– Я люблю вас, – сказала Тиффани
Камера вновь поднялась в небо.
Машина тронулась, и, выбравшись с обочины на дорогу, понеслась стрелой куда-то далеко.
На Запад.
ххх
У Лоринкова не было ни малейшего желания завтракать с Тиффани.
Вся она была сплошной недостаток и он увидел это с самого начала. Лоринков мог бы перечислять их по пальцам, загибая один за другим, но когда он так делал, свои руки начинали казаться ему чужими. Так что он просто мысленно перечислял.
Во-первых, Тиффани была слишком юной, а Лоринков был уже стар. Ему было 35, но он рано начал.
Во-вторых, Тиффани была румынкой, а Лоринков не любил румынскую молодежь с их вежливым интересом к себе, очень уж смахивающим на интерес экскурсии в кишиневском зоопарке к крокодилу. Конечно, еще до того, как кто-то из чересчур уж юной румынской молодежи бросил крокодилу петарду в кролике, и все они – крокодил, кролик, петарда, – взорвались к чертовой матери.
В третьих, Тиффани была чересчур манерной и ломкой. Это выдавало в ней актрису. Лоринков, ни одного слова не сказавший искренне, и всю жизнь ведший себя, словно на сцене, Лоринков, писавший свою жизнь пьесой, лишь время от времени меняя стили, – ненавидел жеманство, актерство и позерство. Он не верил даже искренним людям, потому чам не был искренним.
В чем искренне себе признавался.
В четвертых, Тиффани выглядела преуспевающей, а Лоринков никогда не понимал богатых. Он, конечно, уже неплохо получал за издания, переиздания и переводы, – в конце концов, он был единственный писатель Молдавии, и самый известный ее писатель, – но, чтобы быть богатым, нужно родиться богатым.
– Если бы рожден богатым, то чувствуешь себя им и с долларом в кармане, – любил говорить Лоринков.
– А если ты жил в нищете, то будешь бедняком и с миллионом долларов, – говорил Лоринков.
Он бы не чувствовал себя богачом и с десятью миллионами. Что такое десять миллионов по нынешним временам? То ли дело золотые, полновесные, довоенные доллары. Вот в 30—40—хх годах Лоринков, пожалуй, чувствовал бы себя спокойно, получи он десять миллионов. Так или иначе, а у него не было даже и одного. А у Тиффани, кажется, был. Конечно, не у нее самой, но со дня на день она, – очевидно, – вступала в права владения. Нефтяной бизнес отца в стране, где нет нефти. Золотая жила несуществующих намерений. Куча денег. Отменный материал, подумал Лоринков, когда девушка подошла к его столицу к «Кофе-хаус». Заведение для тех, кто считал себя интеллигенцией. Лоринков любил ходить туда, чтобы своим видом вызывать злость и зависть соотечественников. Хотя для него это было сущей мукой: потом долго болела голова. Конечно, из-за денег. На соотечественников Лоринков плевать хотел. Сугубо практичный, как Рембрандт – еще одна монетка в копилку доводов о гениальности – по-настоящему он мог волноваться только из-за материального. А что может быть материальней денег, спрашивал себя Лоринков. И не находил ответа. Может быть, именно поэтому он развелся, отчего ему, впрочем, легче не стало. Если раньше его беспокоило, будет ли у него достаточно денег содержать жену и детей, то сейчас он переживал, найдутся ли средства обеспечить им приличную жизнь, случись с ним что-то. Жена очень любила Лоринкова. Она вздохнула с облегчением, когда они развелись.
Несмотря на то, что Лоринков преуспевал с каждым годом все больше, его все сильнее мучила мысль о возможном финансовом крахе.
Дошло до того, что он останавливался подобрать оброненные кем-то монетки, прямо на дороге. Прямо на проезжай части. На дороге с шестью полосами движения. Будь в Молдавии дороги с десятью полосами движения, и оброни там кто монетку, Лоринков останавливался бы подобрать ее и на такой дороге. В тот раз его чуть не сбило «вольво». Лоринков отмахнулся. Будь у него ученики, и рисуй эти ученики монетки на полу– как делали ученики Рембрандта, если верить Хеллеру, – Лоринков бы ходил, глядя в землю.
Да он так и ходил.
ххх
Тиффани была очень красивой – пожалуй, только короткие ресницы ее слегка портили – очень смешливой и со вкусом одетой. Действительно, очень богатой. И ничуть не задавакой, как показалось вначале Лоринкову. И вовсе не жеманной. Просто он, как все актеры, постоянно ищет в других признаки актерства, а кто же виноват, что Тиффани – такая на самом деле.
Есть люди, которые говорят, что думают, делают, что хотят, и хотят то, чего нельзя. Но, как только они этого захотят, сразу становится можно.
И Тиффани из их числа.
Так что, когда Тиффани увидала этого Лоринкова, сидевшего в углу кафе с таким видом, будто он мстит кому-то, она захотела подойти. Постояла немного перед столиком, пока мужчина, словно иезуит какой, не поднимал глаз, покрутилась, как перед зеркалом, и спросила:
– Хотите позавтракать с Тиффани?
Он, конечно, не хотел.
ххх
Конечно, спустя несколько часов он втянулся. Эффект сцены, думал Лоринков. Когда к тебе обращаются со сцены, то, рано или поздно, ты начинаешь отвечать. Как-то такое случилось с ним в цирке. Клоун, мельтешащий, словно цветное пятно, где-то внизу, визгливым голосом предположил, будто «ребята плохо учатся».
– Неправда, – закричал, неожиданно для себя, он, совсем еще мальчишка.
Потом был абсурдистский экспериментальный спектакль, куда он пришел с первой женой. Тоже молодым. Актеры по очереди обращались со сцены к зрителям. Выбирали произвольно. Главное было сделать вид, что тебе все равно, а про себя надеяться, что пронесет. Не пронесло. Лоринкову доставались всегда не только последние мячи, но и разрывы гранат, казавшихся камуфляжными. С другой стороны, за все надо платить, знал практичный Лоринков.
– От чего ты плакал в детстве, – спросил актер, отчего Лоринков даже вздрогнул.
И, помолчав минуту, лишь слегка пожал плечами. Зал, приняв это за оригинальность писателя-эксцентрика, разразился рукоплесканиями. Актеры продолжили. Очередная балканская пьеса. Актеры перекидываются гранатой, рассказывают истории, последний должен выбросить. Лоринков не любил Балканы. Паяцев. Актеров. Манерничанье. Нарочитую небрежность к жизни. Позы. Картины. Румын проклятых. Югославов долбанных. Всю эту сентиментальность сраную. Восточную Европу. Пафос. Патриотизм. Рефлексию.
Во всем этом он и барахтался всю сознательную жизнь.
ххх
Помолчать и пожать плечами.
Хороший способ ответить на вопросы. Но Тиффани такой номер не проходил. Девушка задавала прямые ответы и хотела услышать прямые ответы. Она была откровенна до простодушия и простодушна до откровенности. Совсем как Лоринков, который, как писала русская пресса, откровенно до простодушия метил в писатели мира номер один. Но Тиффани была простодушна без умысла. С первых же минут знакомства, когда он, пусть нехотя, но все-таки придвинул ей стул к своему столику.
– Поедемте ко мне, я накормлю вас завтраком, – сказала она.
Он слегка пожал плечами. Нимфоманка? Ну, или лицеистка, которая думает, что талант и нарочитое презрение к жизни передаются половым путем. Лет пять назад он бы согласился. Тем более, что нарочитое презрение к жизни и высокомерие только так и передаются. Но сейчас ему нечем было крыть. Лоринков вздохнул. Поглядел на часы в мобильном телефоне. Проще было откупиться.
– Давайте позавтракаем здесь, – сказал он.
Тиффани улыбнулась, помотала головой, и взяла его за руку.
– Почему вы себя так ведете? – сказал он.
– Вы мне нравитесь, – сказала она.
– Чем именно? – сказал он, еще не веря, но уже зная, что мяч взят.
– Вы обращаетесь ко мне на вы, – сказала она.
– Но нам придется перейти на ты, – сказала она.
– После того, как мы все-таки позавтракаем у меня, – сказала она.
– Как вас зовут? – сказал он.
– Сегодня Тиффани, – сказала она.
– А вы знаете, что книгу про завтрак у Тиффани написал гомосексуалист? – сказал он.
– Я не знаю, что есть книга про завтрак у Тиффани, – сказала она.
– Хотите шампанского? – сказал он.
По дороге к ней домой он научил ее пить шампанское из горлышка, а она купила ему часы.
ххх
Со временем он втянулся.
Оказалось, что если вести себя так, как на самом деле хочется, ты не только заслужишь репутацию эксцентрика, но и освободишь демонов. Выгонишь их куда-то. Главное, как сказала Тиффани, чтобы рядом в нужный момент оказалось стадо свиней, куда бы эти демоны могли вселиться. Уже эта одна фраза изменило его мнение о ней, как о глупенькой лицеистке-нимфоманке. Тем более, что ничего такого между ними в то утро не случилось. Они просто зашли в ее дом – рядом с парком, и окна глядели туда же, – и в лифте он думал было поцеловать ее. Но Тиффани со смехом уклонилась.
Дома она открыла холодильник, и позволила ему готовить. Он закатал рукава. Тиффани улыбнулась кротко, села у стола, – нога на ногу, – и стала глядеть, как он готовит.
– Вы пишете книги? – сказала она, закурив тонкую, длинную сигарету.
– Мне говорили, – сказала она.
– Могу себе представить, – сказал Лоринков.
Стаи девиц и щебет в театральных кафе. Недобрые взгляды постаревших, молодящихся, коллег. Могу представить, представил Лоринков.
– Вы правда гений? – сказала она.
– Я не знаю, – сказал он.
– Я просто много работаю, – сказал он.
– Зачем? – сказала он, выдохнув дым, заставивший Лоринкова пожалеть, что он когда-то бросил курить.
– Только честно, – сказала она.
– Потому же, почему и готовлю, – сказал он честно.
– Это успокаивает, – сказал он.
– И это нравится женщинам, – сказал он.
И постепенно успокоился. Сервировали стол вместе. Омлет, апельсиновый сок, тосты, бекон. Повар специально старался блюсти англо-саксонский стиль. Рубашку пришлось поменять, потому что сок не отмывался. Тиффани лишь позабавилась. Ее это не раздражало.
– Всех не раздражает, – сказал он.
– Но на определенном этапе брака раздражает, – сказал он.
– Причем всех, – сказал он.
Тиффани улыбнулась и положила ему еще омлет. Разрезала на тарелке.
Он, наконец, заметил, что она за ним ухаживает.
ххх
Секс, конечно, тоже был.
Она просто позвонила, когда он работал. Стояла за дверью в сером юбочном костюме, который выглядит так, будто его можно купить за углом, и который привозят раз в год из Лондона. И в легком пальто.
– А еще у меня вуаль, – сказала она то, что он и так видел.
– Фр, – сказала она.
И, дернув углом рта, дунула на вуаль, отчего та приподнялась на мгновение. Стало видно, что Тиффани смеялась. Он взял ее за руку, ввел в дом, и закрыл дверь. Помог снять пальто. Тиффани прошла в большой зал, который Лоринков сделал из трех комнат, отчего дом стал похож то ли на студию, то ли
Прошлась вдоль стены, ведя пальцем. В перчатке, конечно, в перчатке.
– Поедемте со мной в горы, в Румынию, – сказала она.
– Сейчас не сезон, Тиффани, – сказал Лоринков.
– Так это же и чудесно, – сказала она и похлопала в ладони.
– Только представьте себе, мы – одни на весь курорт! – сказала она.
– А какой? – сказал Лоринков.
– Мы найдем что-то, – сказала она.
– Я на машине, – сказала она.
– Все самое необходимое уже там, – сказала она.
– Ящик шампанского, несколько платьев и темные очки, – сказала она.
– Одевайтесь, берите эту свою печатную машинку, если хотите, и поедемте, – сказала она.
– Прямо сейчас? – сказал Лоринков, уже не удивляясь.
– Да, сейчас – сказала она.
Помялась немного, словно что-то забыла.
– Что-то забыла, – сказала она.
– Ах, да, – сказала она.
Сняла шляпку, и расстегнула пуговицу рубашки. Поглядела на него, улыбаясь. Он поглядел на ее лицо, грудь, бедра. Опустил взгляд. Так и не разулась. Лоринкова это лишь забавляло. Но придет час, – знал он, – и это начнет раздражать.
– Придет час и вы станете раздражать меня, – сказал он.
– Придет час и я буду раздражать вас, – сказал он.
– То, что сейчас кажется мне утонченным изыском, станет выглядеть манерничаньем, – сказал он.
– Иногда уже кажется, – сказал он.
Она поставила одну ногу на диван и приподняла юбку. Конечно, это были чулки с подвязками. Тифани положила кисть на подвязку. Тонкие пальцы дрожали, подумал Лоринков. После с раздражением поправил себя – и вовсе не тонкие. Руки у нее были крупноватые. Вот и еще один недостаток, подумал он. И скользнул взглядом по руке вдоль ноги.
– Почему вы так смотрите? – спросила она.
– Стараюсь запомнить, – сказал он.
– Зачем? Я же здесь, – сказала она.
Он подошел. Она положила голову ему на грудь.
– Тиффани, – сказал он шепотом, раздевая ее.
– Что? – шепотом сказала она.
– Научите меня… – сказал он.
– Научите меня жить настоящим, – сказал он.
– Ладно, – сказала она еле слышно.
За окном впервые в этом году осыпались тополя.
ххх
Флаг, купленный по пути, кончился. Так что Лоринков даже уже и не знал, из чего сделать шарф для Тиффани. Несколько раз она останавливала машину и он покупал у неразговорчивых крестьян – уже началась Румыния, – свитера из овечьей шерсти, забивая ими зачем-то машину. Свитера были очень дешевыми, пахли овечьей отарой, и с них сыпалась солома. Один Тиффани надела прямо поверх платья, и ужасно хохотала, увидев себя в зеркало заднего вида. Несколько раз Лоринков садился за руль, но так и не смог толком вести, приходилось снова меняться. Постепенно молдавские тополя сменились румынскими утесами, на дне которых их – Лоринков надеялся, что в отношении них уже можно употреблять слова «их» «нас», – красная машина плыла, как лодка по асфальтовой реке. Вернее, водовороту. Начались серпантины.
Тиффани, не сбавляя скорости, перегнулась и открыла бардачок. Взяла карту. Сверилась. Потом отобрала шампанское и тоже выпила. Вытерла рот – морячкой ухваткой, едва ли не крякнув, – и с очаровательной улыбкой вернула. Лоринков понял, что ему необходимо купить ей моряцкую шапочку. Как для женщина на плакатах Второй Мировой в Америке.
– Что ты сейчас чувствуешь? – спросила она.
– Надежду и страх, – сказал Лоринков.
– Это как? – сказала она.
– Я влюбился, хотя не верил, что смогу еще сделать это, – сказал он
– Это дает мне надежду, – сказал он.
– Но я не уверен, что ты со мной из-за того, что любишь меня, – сказал он.
– Ты эксцентрично играешь, а я пишу книги, это так.. так удачно ложится… – сказал он.
– В сюжет, – сказала она, следя за дорогой.
– В сюжет, – сказал он с облегчением, потому что не услышал в ее голосе недовольства.
– У меня такое впечатление, что ты учишься где-нибудь на модельера и тебе дали задание создать образ Тиффани для коллекции платьев, – сказал он.
– Фото в платье Тиффани, образ Тиффани, завтрак, чтоб его, Тиффани, эскизы нарядов с стиле Тиффани, – сказал он.
– А тут тебе еще и писатель подвернулся, – сказал он.
– Прямо по тексту, – сказал он.
– И это меня пугает, – сказал он.
– Как человека, живущего по тексту, – сказал он.
Тиффани ничего не ответила.
Она просто слегка пожала плечами и промолчала.
Машина, въехав на плато, остановилась. Они вышли, и глянули вниз. От красоты вида у обоих перехватило дыхание.
В окружении гор и сосновых лесов внизу краснело древнее, словно выживший динозавр, озеро. Из труб домиков по его краям не шел дым. Поселок казался вымершим. Так оно и было. Внизу они нашли только смотрителя, давшего им ключ от дома, и магазин, открытый два часа в день. Вечером пришел человек из деревни и включил отопление. Они уснули рано. По утрам Тиффани подолгу лежала в постели, напевая и рисуя, а Лоринков уходил гулять к озеру. Они спали днем, и он даже умудрился написать несколько рассказов. Когда прошло две недели, она спросила его, не хочет ли он остаться еще. Он остался. Потом еще и еще. Они прожили в доме у горного озера всю зиму. Лоринков все больше влюблялся в Тиффани. Некоторые ее привычки раздражали его все больше. Весной она уехала в Италию, продолжать обучение в каком-то модном университете на модельера. Машину она попросила отогнать в Кишинев, а сама вызвала в поселок такси из деревни, и дальше до Бухареста. Оттуда она улетала вечерним рейсом, а такси опоздало, так что прощание вышло скомканным. Как платок, который Тиффни бросила из окна, когда машина тронулась. Лоринков подобрал. Когда он распрямился, такси уже и след простыл, так что он и не успел расстроиться из-за проводов.
Ах, Тиффани, ах, негодница, подумал он ласково. Развернул платок.
На ткани с вензелем «Т» алел отпечаток губ.
Горы оттаивали. По утрам над озером уже не появлялся туман. Птицы щебетали все громче, а как-то к дому выскочили, играя, зайцы Все это значило, что место Тиффани в поселке вот-вот займет весна. Лоринков пробыл в доме в горах еще несколько дней, а потом вдруг засобирался. Уезжая, он вынес из дома печатную машинку и бросил на заднее сидение автомобиля. А все остальные вещи, которыми они обросли за сезон, оставил. Сел на место водителя. Неуверенно поглядел на рычаг. Включил первую скорость. Когда-то он получил права и даже умел водить такие машины, но это было очень, очень давно. Что же, подумал он.
Придется учиться всему заново.
ВТОРАЯ РУКА
– Она такая… красивая, – сказал Первый.
– Чем же она красива? – спросил Второй.
– У нее черные, как смоль, глаза, тонкая длинная шея, грудь выпирает, задком вертит, ножками болтает… – мечтательно сказал Первый.
– Хочешь ее трахнуть? – понимающе спросил Второй.
– Нет, – смутился Первый.
– Ничего такого, – сказал Первый.
– Даже если и хочется, – сказал Второй, – не смущайся ты так…
– Мне доводилось… – признался он.
Мужчины помолчали.
– Что тебе доводилось? – спросил Первый, не отрывая взгляда от утки, о которой они говорили.
– Ну, как что? – сказал Второй.
– Так что? – спросил Первый.
– Трахать утку, – сказал Второй.
– ЧТО?! – спросил Первый.
– Трахать утку, – сказал Второй, – а что в этом такого?
– Черт, – сказал Первый.
– А что здесь такого? – спросил Второй.
– Это несколько.. необычно, – сказал Первый.
– Что необычно? – спросил Второй.
– Трахать утку, – сказал Первый.
– Ну да, – сказал Второй.
– Но ровно до тех пор, пока ты не засадишь утке впервые, – сказал Второй.
Они глянули друг на друга, а потом на утку. Два бомжа сидели на бетонной плите у озера. Неподалеку от них плавала утка. Бомжи звали друг друга Первый и Второй. Познакомились они с час назад на вокзале, у обоих не было ни денег, ни выпивки, и они собирались это исправить. К тому же оба они собирались начать тур по электричкам, и каждому нужен был компаньон. В прошлой жизни у них были имена и фамилии. Но это никакого значения сейчас уже не имело. У каждого за плечами было лет пятнадцать-двадцать некачественного алкоголя и скитаний по миру. И еще КОЕ ЧЕГО. Как раз об этом сейчас Первый и подумал.
– Блядь, где ты это сделал?! – спросил Первый.
– Что? – спросил Второй, хотя прекрасно понял.
– Где ты трахнул утку? – спросил Первый.
– В специальной лаборатории, – сказал Второй.
– Это была специальная лабораторная утка, – сказал он.
– Чем ты занимался, когда платил по счетам за квартиру и жил в ней? – спросил Первый Второго.
– Какая на хер разница, – пресек тот попытку побеседовать по душам и спросил, – так что, рискнем с уткой?
– Рискнем трахнуть утку?! – удивился Первый.
– Нет, рискнем ее поймать, – досадливо пояснил Второй.
– А потом ощипаем, разрежем пополам и сменяем половину на банку вина, – предложил он.
– А другую половину зажарим и съедим, – продолжил предлагать он.
– Может сначала все-таки мы ее убьем? – спросил Первый.
– Ну само собой мы ее убьем сначала, – сказал Второй, – как ты себе это представляешь блядь с живой уткой – порезать, ощипать, зажарить…
– Ты не сказал «убьем», – упорствовал Первый.
– Ты сказал «поймаем, ощипаем, разрежем», – сказал он.
– Слова «убьем» ты не произнес, – сказал он.
– Как ты меня задолбал, – сказал Второй.
– Давай поймаем эту сраную утку, УБЬЕМ ее, а потом проделаем с ней все то, о чем я тебе говорил раньше, – предложил он устало.
– Рискованная затея, – сказал Первый.
Затея была и правда рискованная. В этом парке Кишинева частенько прогуливались блатные подростки и блатные подростки в полицейской форме. Блатных ребят полиция боялась, но прицепиться к двум бомжам могла запросто. Те были беспомощными, и это повышало их привлекательность в глазах кишиневского полицейского. Утка подплыла поближе к плите и стала поклевывать воду. Ждала хлеба, которым ее подкармливали обычно прохожие. Но сегодня по воде раскисший мякиш не плавал. В рабочий день в парке было мало народу. Но полиция все равно появлялась. И блатные. Ведь ни те, ни те не работали.
– Охота в черте города запрещена, – сказал Первый.
– Ну так мы и не собираемся на нее охотиться, – сказал Второй.
– Мы ее просто поймаем, – сказал он.
– А если к нам подойдет полиция, скажем, что просто поймали утку, чтобы ее окольцевать, – сказал он.
– Что? – спросил Первый.
– Окольцевать, – сказал нехотя Второй.
– Это как? – спросил Первый.
– Надеваешь на лапку птице кольцо из металла и оно ей вроде как паспорт, – нехотя сказал Второй. – Так у них, всяких биологов и палеонтологов, принято.
– Так ты что, в прошлой жизни был биологом? – спросил Первый.
– Ну, типа того, – сказал Второй – только еще хуже.
– Ну а конкретнее? – спросил Первый. – Должен же я знать все о человеке, с которым проеду на электричках до Владивостока и вернусь годы спустя в Кишинев.
– Ну, я исследовал микроклимат Европы во времена палеолитического периода, – нехотя признался Второй.
– Ни хрена себе! – сказал Первый.
– Ничего особенного, – сказал Второй, – хотя я, конечно, был молод, хорош собой, умен и интеллектуально развит.
– Как же ты спился?! – спросил Первый.
– Говорю же, – пояснил второй, – исследовал микроклимат Европы во времена пелеолитического периода…
– А, ну да, конечно, – сказал Первый.
– Ну, а ты чем занимался? – спросил Второй.
– Играл на свадьбах, – сказал Первый.
– А почему спился? – спросил Второй.
– Говорю же, – играл на свадьбах, – сказал Первый.
– Значит, тебя турнули из-за пьянок и утки? – спросил Первый.
– Ну и еще кое какие моменты, – сказал Второй, изготавливая кольцо для утки из куска жести от пивной банки.
– Какие? – спросил Первый, приманивая утку движениями пальцев, будто крошаших хлеб в воду.
– Всякие отношения, – сказал уклончиво Второй.
– Ну, еще бы, – сказал Первый, – трахать утку…
– Да нет, – сказал Второй, – в нашей ученой среде народ ко всяким чудачествам терпимый, тут дело было в другом.
– Если дело было не в том, что ты трахал утку, то в чем же ЕЩЕ? – засмеялся Первый.
– Дело было в гендерных моментах, – сказал Второй.
– Что? – не понял первый.
Второй угрюмо пояснил:
– Это был селезень.
ххх
Бичи, смастерив кольцо для маскировки, стали думать, как поймать утку. Следовало поторопиться, потому что умная птица, проведя полчаса возле двух придурков у воды, и не дождавшись хлеба, стала делать какие-то выводы.
– У нас еще полчаса, – предупредил бывший биолог Второй, – они туго соображают.
– Давай поймаем ее на тростник, – предложил Первый.
– Это как? – спросил Второй.
– Намажем тростник клеем и поставим его около утки.
– Ну и?
– Той захочется отдохнуть.
– Ну и?
– Ну, и она прислонится к тростнику, а тростник приклеется…
– К чему?
– К утке.
– И?
– Мы войдем в воду и возьмем утку, которая приклеилась к тростнику.
– Не проще ли войти в воду и взять утку?
– Если она не приклеится к тростнику, то ты ее хер возьмешь.
– Утки ужасно быстро плавают.
– Ладно, а где мы найдем клей.
– Клея нет…
Клея действительно не было. Не было вообще ничего, кроме расколотого на две части кирпича и остатков от жестяной банки, из которой приятели вырезали на хер не нужное ни им, ни утке, кольцо.
– А может показать ей кольцо? – спросил Первый.
– И что? – не понял Второй.
– Ну, если их часто кольцуют, как ты говоришь, – сказал Первый, – то она уже не должна бояться чуваков с кольцами…
– И могут запросто подпускать их к себе! – закончил он.
– Тут-то мы ее и замочим, – добавил он с легким сожалением.
– Ну давай попробуем, – неуверенно сказал Второй.
Приятели снова присели на плиту и стали держать перед собой в руках кольцо из жести от пивной банки.
Утка отплыла на пару метров.
– И все же мне ее жалко, – сказал Первый.
– Это еще почему? – спросил Второй.
– Сейчас ощипаем ее, убьем, разрежем – сказал Первый.
– Во-первых, сначала убьем и она ничего не почувствует, – напомнил Второй.
– Во-вторых, мы ее даже еще не поймали, и, судя по всему, сделаем это нескоро, – сказал он.
– Так чего ее жалеть? – спросил он Первого.
– Она такая красивая… – сказал Первый.
Второй сплюнул и встал. Взял кусок кирпича и вернулся к приятелю.
– Метать умеешь? – спросил он.
– Что? – спросил Первый.
– Икру, – сказал Второй.
– Икру нет, – ответил Первый.
– Я имею в виду ты КИРПИЧ метать умеешь?
– Зачем же ты спрашиваешь про икру? – обиделся Первый.
– Проехали, – сказал устало Второй и поболтал пустым правым рукавом, который появился у него с прошлой зимы, когда он пролежал ночь пьяным на стройке и обмороженную руку отрезали, не спросясь, в санчасти при приемнике для бродяг.
– Ты умеешь метать камни, кирпичи всякие? – спросил он.
– Нет, – признался Первый, – я и на два метра не брошу, ослаб.
– Слабак, – сказал Второй.
– Прошу тебя, не оскорбляй меня, – заныл Первый.
– Мне достался в напарники слабак, – сказал Второй.
– У меня нет правой руки, но ты-то блядь здоров, так неужели ты не в состоянии камень сраный швырнуть так, чтобы он утке в голову попал? – спросил он.
– Да, я не могу, я ослаб, – проныл Первый.
Второй с сожалением цыкнул и оглянулся. На воду налетела рябь. Погода портилась. Утка нахохлилась и собралась плыть к себе в камыши.
– Вот пизда! – сказал Второй.
– Ты же предпочитаешь селезней, – сказал Первый.
– Слушай, у всех нас есть свои маленькие сла… – начал Второй.
– Но мы можем использовать пращу, – сказал Первый.
– Что? – спросил Второй.
– Пращу, какой Давид одолел Голиафа, – сказал Первый.
– Что-то такое слышал, – сказал Второй.
– Это такое приспособление, которое швыряет камень, и он летит в десять раз быстрее и сильнее, – сказал Первый.
– А как оно выглядит? – спросил Второй.
– А хрен его знает, – сказал Первый.
– Знаю только, что им Кидают, – сказал он.
– Ладно, будем импровизировать, – сказал Второй.
Снял с себя рубашку, – очень ловко, одной рукой, – и остался обнаженным по пояс. Второй подумал, что они в парке уже часа два, а полиции еще не было ни разу. Везет. Значит, повезет и с уткой, подумал он, и протянул рубаху Первому. Тот глаз не мог отвести от культи Второго. Вечно мне достаются в напарники слабаки, подумал тот, слабаки и экзальтированные засранцы. Нытыки. Но делать нечего. Второму нужен был компаньон. Руки при его мозгах. Ведь он действительно был когда-то умен и интеллектуально развит. По крайней мере, ему хотелось так думать.
– Как сосиска, порезанная пополам, – сказал Первый, – а еще член напоминает, наполови…
– Кто из нас извращенец? – спросил Второй.
– Извини, – сказал Первый и взял рубаху.
– Стяни ее в жгут, и сделай на конце петлю, – сказал Второй.
– В петлю положи кирпич и попробуй побросать, – попросил он.
Первый сделал все как надо – первый раз за все время общения, отметил про себя Второй, – и встал на краю плиты.
– Не свались в воду, – сказал Второй.
– Утка-утка, уточка, – сказал Первый утке.
Та, глядя на развлекающих ее чудаков, подплыла с интересом. Первый стал крутить вокруг себя самодельную пращу. Сначала медленно, потом сильнее. Еще сильнее. Стал похож на пропеллер. Крутил, улыбаясь. Почти ручная утка, заинтересованная, подплыла к его ногам вплотную. Ее можно было бы сейчас рукой достать, с сожалением подумал Второй. Первый все крутил.
– Какого черта ты ждешь?! – не выдержал Второй.
– Все под контролем, – обернул к нему счастливое лицо Первый.
Второй присел, и подумал, что конец будет один. Идиот бросит камень ему в голову. Или из-за кустов покажется голова патрульного и камень попадет в голову тому. В любом случае, конец ожидался неприятный. Второй закрыл глаза. Потом подумал, какого черта, и открыл. Утка была уже у самых ног Первого, буквально на ботинки ему наступала.
– Хак, – сказал Первый
– Это на каком? – спросил Второй.
– Хак, – сказал Первый и удивительно точно опустил вертящийся кирпич на голову птице.
Та смешно кувыркнулась, хлопнула пару раз крыльями по воде, и удивительно сразу застыла. Второй частенько добывал птицу в общественных парках – как-то в Австрии даже пару лебедей в общественном парке добыл, – но был вынужден признать, что нынешний напарник сработал более чем ловко.
Не такой уж он и нытик, подумал Второй.
Но были сомнения по технике броска.
– Ты уверен, что бросил камень как полагается? – с сомнением спросил Второй.
– Какая на фиг разница? – резонно возразил Первый.
– Согласен, – сказал Второй.
Подошел к воде, сунул в нее левую руку и вынул утку. Подкинул. Вроде бы много, но после того, как ощипаешь, хрен что останется. С другой стороны, в перьях видно, что утка не домашняя. Придется ощипывать. Он оглянулся и присел у воды. Следовало торопиться. Второй сжал коленями птицу и стал выдирать из нее перья. Снова подул ветерок. Май выдался удивительно прохладным. Пора уматывать в Москву, подумал бич, там хотя бы топят по полгода. С компаньоном – осилю. Компаньон это как вторая рука. Пусть и немножко странная.
– Отдай мне рубашку, – попросил он.
– Знаешь… – сказал Первый с сомнением, зайдя за спину напарника.
– Что? – спросил Второй.
– Я сейчас могу забрать у тебя утку и оставить пращу себе, – сказал Первый.
– Это рубашка, – сказал Второй, замерев.
– Это праща, – сказал Первый. – Я ведь убил ей утку.
– Пращей она бы стала, если бы ты бросил камень, – сказал Второй.
– Но ты им просто размахивал, – сказал Второй.
– О кей, пусть это будет кистень, – сказал Первый.
– Ты что, бывший оружейник? – спросил Второй.
– Почему ты так подумал? – спросил Первый.
– Ты сказал «о кей пусть кистень», – напомнил Второй, глядя в воду, и стараясь не шевелиться.
– А кистень это оружие какое-то, – сказал он.
– Почему ты не решил, что я американец? – спросил Первый с улыбкой, которую Второй не видел, но чувствовал.
– Я ведь сказал еще и «окей», – сказал Первый.
– В любом случае верни мне рубашку, – попросил Второй.
– Это ПРАЩА, – сказал Первый.
– О кей, – сказал Второй.
– Ты что, американец, – удивился Первый.
– Случалось, – уклончиво сказал Второй.
– О кей, – сказал Первый.
– А сейчас отдай мне утку, – попросил он.
Второй, не глядя, протянул левой рукой утку за спину. Почувствовал легкость. Птица была принята.
– Знаешь, – сказал Первый, – я думаю, что напарник из тебя не ахти.
– Хуевый, попросту говоря, из тебя напарник, – сказал он.
– Так что извини, – сказал он.
– Я назову нашу утку Боливаром, – сказал он, и, гнусавя, добавил за утку, – а я не вынесу двоих.
– Ладно, – сказал Второй.
– Бери Болливара и пращу, и мы расходимся, – сказал он.
– Не дергайся, – сказал Первый и Второй затылком почуял камень.
– Я еще не закончил., – сказал Первый.
– Хочешь меня убить? – спросил Второй.
– Вовсе нет, – удивился Первый, – хочу просто, чтобы ты показал мне, куда…
– Что? – спросил Второй.
– Ну, утку, – сказал Первый.
– Господи, Боже мой, – сказал Второй.
– Она же не лабораторная, ты же ее потом есть будешь, – сказал он.
– К тому же она уже мертвая, – напомнил он.
– Может это и к лучшему, – сказал Первый.
– Ничего не почувствует, – сказал он.
– В отличие от меня, – хихикнул он.
– О Боже, – сказал с отвращением Второй.
– Давай, давай, – сказал Первый.
Второй, не глядя, принял утку и примял перья там, где следовало. Вернул обратно. Услышал, как несостоявшийся напарник хихикает.
– Извращенец гребанный, – скаазал Второй.
– Спасибо за помощь, – сказал Первый.
И столкнул Второго ногой в воду.
ххх
Погода совсем испортилась, ветер стал дуть очень сильно.
Побарахтавшись на мелководье, Второй сумел выбраться со скользкой части наклонной плиты на ее сухую часть. Посидел чуть-чуть на ветерке, обсох, хотя и замерз. Глянул на озеро. Сейчас оно выглядело бесперспективным. Ни одной утки. Надо будет проверить все камыши, там птицы полно, подумал Второй. Но уже завтра. Поднялся и выбрался на аллею парка. Припустил трусцой, чтобы согреться. За ним припустила пара бродячих собак. Тоже вариант, подумал Второй. Если отрезать концы лап, то можно выдать за молодого козленка. Но и это следовало отложить на завтра. У собак, судя по всему, тоже были кое какие мысли, но на завтра они ничего откладывать не собирались, так что начали покусывать Второго за пятки. Он припустил еще быстрее.
На одной из дорожек едва не налетел на патруль полиции.
К счастью, вовремя заметил и вернул в кусты. Перед патрулем стоял Первый, которого уже начали бить. Второй прислушался
– На кой хер тебе нужна была эта утка которой любовались дети и кормили своими завтраками школьники которых ты лишил одного из их любимцев козел ты несчастный? – спашивал кто-то из полицейских.
– А-а-а-ооо, – неразборчиво бубнил что-то Первый.
– Громче?! – спрашивал полицейский.
– Да ча-э-а в заааэ саауу… – мычал чуть разборчивее Первый.
– Для чучела в зоологическом саду?! – переспросил полицейский.
– Да ты за идиотов нас принял?! – орали легавые Первому.
– Да мы сейчас насмерть тебя забьем, как эту бля утку!
Первый удар дубинкой пришелся бедняге по шее. Дальше Второй смотреть не стал, и побежал по боковой дорожке. Тучи сгущались и начинал накрапывать дождь. Навстречу бичу, торопясь домой, шла после занятий старшеклассница из школы, расположенной за парком. Юбка у нее была очень короткая, ляжки сочными и свежими, и шла она мимо него торопливо, презрительно вздернув нос. Второй вспомнил, что не трахался уже с год, после того, как поймал такую же ученицу в парке Одессы, где коротал прошлое лето. И с этой он, конечно, справился бы, пусть и не так быстро, как с двумя руками. Но поблизости была полиция. Так что он просто запомнил время, когда девчонка возвращается, и отметил место – сорвал у дерева, где она проходила, кусок коры.
Потом отправился на вокзал, чтобы переночевать и найти кой кого.
Он все еще нуждался в напарнике.
ИДИТЕ В Ж…, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
… вот по этим причинам я и занялся политикой. Как видите, основания для того, чтобы залипнуть в этом дерьме, у меня были. Достаточно веские. Общество поначалу восприняло это с одобрением. Ну, вы понимаете. Все эти неудавшиеся артисты, журналисты, политологи, анархисты, бывшие министерские сотрудники, выгнанные за пьянство и коррупцию нынешними пьяницами и корорупционерами, кто там еще? Все? Да, пожалуй. Вся эта публика, да и просто задроты, мечтающие пасть на ступенях президентского дворца, сраженные пулей во время Великого Революционного Путча Сердитой Молодежи. Хотя, конечно, никакой сердитой молодежью они не были. Просто сидели на кухнях и
звиздели. Хорошо, сказал я себе, сяду-ка и я на кухне и стану звиздеть. Но мне не понравилось. Тем более, что все хотели знать мое Мнение о происходящих в мире событиях. Что я мог о них сказаить, если по телевизору у меня дома только мультипликационный канал для сына, а интернет на такое дерьмо тратить не хотелось, успеть бы только парочку порно-фильмов скачать. Так что я делал умный вид, и звииздел, что все в мире непросто, ох, как непросто, и меня слушали.
Были, конечно, еще и другие. Точно такие же артисты, журналисты, политологи, анархисты, бывшие министерские сотрудники, выгнанные за пьянство и коррупцию нынешними пьяницами и корорупционерами, как и те, что слушали меня, раскрыв рот. Только эти – не стану повторять этот изрядно подзадолбавший меня список, ограничусь словом «мудаки» – относились ко мне куда хуже, потому что слегка ревновали. Им самим хотелось сидеть на кухнях и звииздеть о том, какая нынче в Молдавии говенная власть. Они и сидели и звиздели. Но была проблема, маленькая загвоздка. Им хотелось звиздеть, обладая каким-никаким статусом. Всем им хотелось быть писателями, они ими не были, и они меня ненавидели. Им казалось, что, обладай они этим гордым званием – писатель – к их звиздежу прислушается хоть кто-то. Писать книг им не хотелось, потому что это работа, а в Молдавии работают я да София Ротару. А так как София Ротару живет вовсе не в Молдавии, вам все должно быть понятным. Оставалось меня ненавидеть. Такие не слушали меня, а если слушали, то кривили скептически рот, да пописывали в мой адрес анонимные записочки в интернете.
– Господи, – сказала как-то моя жена, – если хотя бы половина из этого дерьма про тебя была правдой, я бы подала на развод.
– Да там все правда, – сказал я.
– Не дождешься, – сказала она.
И ушла в гостиную, обсуждать с хозяйкой вечеринки цвет занавесок и гардинии, или что там у них растет на подоконниках. А я отправился на кухню, пить пиво и звиздеть.
Начинался 2008 год и ситуация была напряженной. Была Молдавия, была ее подзадолбавшая всех власть, еще более подзадолбавшая всех оппозиция, был падающий индекс биржи или от чего там зависели жирные задницы этих уродов, был падающий лей, рост цен, срань, бардак и грязь, в общем, стандартный набор любой азиатской демократии. Самое забавное, что им – ну, тем кто жил в этой срани, – это нравилось. Им нравится жить в говне, говорили мне знающие люди, самым умным из которых был мой брат, но я, – с детства самый большой романтик семьи, – недоверчиво покачивал головой, и шел пить пиво на кухню. Пить пиво и звиздеть. Я опух от жидкости и слов. Тем более, что люди, они-то говорили совсем другое. Они ведь Тоже сидели на кухнях и звиздели. Что их все не устраивает. Ну, или ничегошеньки не устраивает. То не так, это не так. Президенто говно, премьер-министр того хуже, а про спикера мы вообще молчим. Партия власти говноеды, оппозиция говно говном заедает. Все блядь прогнило. Нужны только люди, которые наберутся смелости сказать все, как оно есть, – и уж за ними-то мы все пойдем! Вот что звиздели на кухнях в Кишиневе в 2008 году.
Ну, я и повелся.
ххх
Само собой, когда появилась возможность это реально сделать – ну, начать звиздеть хотя бы не на кухнях, а на всяких там телевизионных передачах, в газетах и на пресс-конференциях, – я слегка сдрейфил. Но на попятную идти было вроде как неприлично. Тогда-то я и еще несколько парней начали развлекаться, как умели. Назвали это Новой Молдавией. Проводили пресс-конференции всякие, и говорили публично то, о чем вся Молдавия говорит на кухнях. Это даже затягивало! Настолько, что я как-то попробовал провернуть этот же номер на кухне у себя, когда там никого, кроме нас с женой, не было. Она глянула на меня с сомнением, и я заткнулся. Приберег порох для публичных выступлений.
Конечно, на нас вылили немножко говна. Отдаю должное, совсем чуть-чуть. Пара-тройка публикаций в правительственной газете, шквал говна в интернете – но это не в счет, интернет и те, кто им пользуются, сам по себе шквал говна, – несколько сюжетов на местных телеканалах, а еще меня не пустили в прямой эфир одногго телеканала. Все было в пределах разумного, так что я не нервничал. Огорчало только, что мы играли в спартанцев. Типа – дерешься дерешься, а обещанной подмоги все нет и нет.
А вот как раз те, кто звиздели – ну Сделайте хоть что-то, и мы включимся, – они-то пошли на попятную. Тогда-то я и вспомнил увещевания брата. Но было поздно. Всем этим ребятам, которые так хотели позвиздеть на кухнях, и вправду Нравилось все, что происходило у них в стране. В противном случае, они бы хоть что-то сделали, не так ли? Господи, даже говенные американские интеллигенты свои сраки от диванов и травки на митинги против войны во Вьетнаме отрывали.
Но в Молдавии все оказалось совсем по – другому. Проституткам нравилось платить по 4 тысячи евро за то, что бы их в мешках картошки вывозили в Албанию, ебаться. Их детям нравилось расти дома под неочевидным присмотром бабушек, ничего не делая и проигрывая мамины деньжата в электронные казино. Чиновникам нравилось обирать детей проституток. Интеллигенции – вернее, пародии на нее, это все-таки не страна, это Молдавия – нравилось звиздеть об этом и о том, как это ужасно. Но никто из них и пальцем не шевельнул для того, чтобы хоть что-то изменить. Даже когда появились парни, которых они так выкликали в свои сраных рассуждениях о том, что Должны Появиться Те Кто Скажет Обо всем Вслух Наконец.
Ну, вот я и сказал. А толку-то?
Тем не менее, я остался. Не скажу, чтобы было очень уютно, но и страшного ничего, как я уже сказал, не произошло. Пару раз меня и еще парочку тех парней, кто тоже сдрейфил, но счел неприличным это показывать, даже показали по телевизору. По городу распространялись слухи. Говорили, что нам выделили 20 миллионов долларов на свержение режима. Ага блядь. Дайте мне десять и я пропаду из вашего поля зрения навсегда, мысленно обещал я, и открывал пивко на кухне. Хотя, конечно, в этом было больше позы. Конечно, ничего бы я не взял и никуда бы не пропал. Уж если изображать из себя порядочного, то до конца, не так ли?
В стране холодало, наступала поздняя осень.
Время шло, зоопарк то открывался то закрывался, крыши домов в этом сраном городе протекали, вороны летели то в парк на ночевку, то обратно – объедать крыс у мусорных баков, в городе ужасно вонялом говном, потому что молдаванам не хватило ума понять, что такое очистные сооружения и как ими пользоваться, в России у меня вышла пара книжек, а на севере Молдавии умерла дальняя родственница, на похоронах которой я выпил три литра ледяного вина, и поэтому сипел, как старый кислородный аппарат, по утрам на улицах от удара об асфальт взрывались ледяные капли, и снега все не было. Света не было, не было, не было. Была тьма. Близилась зима. Близились выборы. Никому на хер мы были не нужны.
Но нас, на всякий случай, не зарегистрировали.
ххх
А в феврале дома раздался звонок. Трубку успел, как всегда, снять первым Матвей.
Пока он рассказывал обо всех этих женщинах в детском саду, а я парочку видел, и буквально уверен в их большом женском будущем, и о том, что Человек-Паук все-таки круче Спайдермена – и не дай вам блядь Бог попытаться доказать, что это один и тот же персонаж, – я все гадал, кто же это позвонил. Одна из бабушек? Приятель из Киева? Электрораспределительная компания? Телефонная служба? Комитет Нобелевской премии? Поклонница, которая давно хотела со мной повидаться? Что же, в таком случае это был не самый удачный ход с ее стороны. Наконец, сын отдал мне трубку и я услышал:
– Алло, Лоринков, это Воронин, ну, президент. Что, удивлен, небось?
– Ага блядь, сейчас только договорю с Путиным по второй линии, – сказал я.
– Путин третий день в Давосе, дико занят – сказал он, – как ты можешь с ним разговаривать?
– А откуда тебе знать, что он в Давосе? – спросил я.
– Так я же президент, – явно теряя терпение, сказал он.
– А я Папа Римский, – сказал я, и повесил трубку.
Второй звонок раздался через минуту. Я мстительно позволил Матвею взять трубку и он повторил курс лекций про Человека-Паука.
– Ну бля? – сказал я, когда пацан выговорился и дал мне завладеть аппаратом.
– Блядь, говорю же тебе это я, президент, – сказал он.
– Ну да бля, – сказал я, – а я Па…
– Хочешь, докажу? – крикнул он, явно опасаясь третьего раза.
– Валяй, – сказал я.
– Ты сейчас стоишь в бирюзовой майке и синих джинсах возле окна, в руке держишь книгу, «Голливуд» Буковски, блестящая такая обложка, рядом твой сынишка, прелестный пацан, только не давай ему трубку больше ха-ха, и в руке у него маска Человек-блядь-Паука, а перед вами табуретка, а на ней тарелка с кашей, и ты морщишься, потому что сосед снизу, пьянь сраная, снова орет на балконе песни…
– Ну и что, – сказал я, – может, ты псих с биноклем, может ты…
– Близко, – говорит голос в трубке, но я все больше понимаю, что это и правда он, – не бинокль, а оптика. И гляжу не я, а снайперы.
– Снайперы? – говорю я. – На хера?
После чего все понимаю, и падаю на сына на пол. А в трубке что-то хихикает, после чего раздаются два хлопка, и пьяная песня соседа прерывается. Телефон пиликает снова. Я приподнимаю голову, и беру трубку. Жму кнопку «принять».
– Глянь теперь с балкона, – говорит он.
– Глянул, – говорю я, глядя на продырявленное тело соседа, валяющееся внизу.
– Это ему, суке, за то, чтоб не шумел под твоими окнами, – говорит президент, – ты ведь писатель у нас, да? Все-таки покой нашего великого земляка надо беречь, так ведь?
– Так ведь, – говорю я.
– Так что, встретимся? – говорит он. – Ну, хотя бы за то, что я подарил тебе вечер тишины.
– Ладно, – говорю я.
Сдаю сына вернувшейся из магазина жене, и еду в президентский дворец. На всякий случай отправяю парням из нашей не зарегистрированной партии сообщение. «Позвал на беседу Воронин, не шучу, если не позвоню после 20.00, звоните в посольства, ООН и похоронную службу».
Ответ со всех телефонов приходит быстро. Одинаковый.
«Блядь, да не сцы ты. Папа просто поговорить желает. Майор госбезопасности Вылку»
ххх
У дворца меня уже ждали – была расстелена потертая ковровая дорожка. По бокам ее даже выставили пару-тройку плюгавых – как все в Молдавии, как САМА Молдавия – карабинеров. А президент выглядел точно таким, как его описывает – и показывает – опозиционная пресса. Одутловатым алкашом, с искривленным, будто от запора, лицом. Небритым, да еще и щетина седая. Я даже потрогал свою аккуратную черную бородку. И Ирину мысленно поблагодарил, потому что она умудряется следить за тем, чтоб я не слишком много пил, закусывал, и не был толстым. Блядь. Иногда мы просто-таки играем в Чарлза и его подружку, как они играли в Скотта и Зельду. Ну, пока я из-за этого не толстею, можно и поиграть. В углу сидел один из советников. Как там его фамилия? Ткач… Ткачик? Ну, что-то в этом роде. Советник явно злился.
– Ревнует, – сказал мне Воронин, и шутливо чмокнул воздух.
– Вы хотите сказать, что все вы здесь пидоры? – решил сразу атаковать я. – А то блядь это новость! Ребя…
– Да хорош митинговать блядь, – поморщился, что его явно не украсило, президент. – Хорош блядь читать нотации, лекции, обращения. Я все, что вы понаписали, читал. Трибуны, блядь.
– И, – говорю я. – Ударение на «и». ТрИбуны. Трибуна это такая хрень из дерева, с которой вы чушь несете.
– А ты, блядь, на моем месте нес бы что-то поумнее? – спросил он, и начал наливать.
Я вспомнил пару своих выступлений на публике. Блядь.
Он был прав.
ххх
После второй – я говорю о бутылке, конечно, – все было значительно проще. Я следил за тем, как он разливает, знаем мы эти фокусы, но, вроде, пили они то же, что и я, так что, если умрем, так вместе. Но Президент не собирался умирать. Он ораторствовал.
– Думаешь, мне блядь приятно? – говорил он. – Думаешь, я не понимаю, что выгляжу, как мудак, говорю, как мудак, думаю, как мудак, и что поэтому я мудак и есть? Конечно, блядь понимаю.
– Конечно, мы понимаем, – поддакнул советник.
– Молчи, мудак! – рявнул Воронин.
– Точно блядь, – злорадно сказал я, – пусть молчит мудак!
Советник вроде как и обиделся, но президент потрепал его по щеке и сказал, что завтра можно будет отыграться, и рассказать в интервью, что он, советник, никому – даже президенту! – не позволяет с собой панибратствовать.
– А сейчас сиди и не пизди, мудак! – сказал он, после чего обратился ко мне. – Так о чем мы?
– Вы мудак, – повторил я, – и сами это прекрасно понимаете.
– Ага! – воскликнул он. – Ну и ты же понимаешь, что у меня нет выбора. Взгляни на них. На эту блядь Молдавию, эту блядь республику, это блядь так называемую страну, на этот блядь так называемый народ. Посади на мое место завтра колхозника какого-нибудь. Или вот любого моего советника. Думаешь, он меньше спиздит?
– Еще больше, – сказал уже оправившийся от обиды советник, и я вспомнил его фамилию, Ткачук.
– Кстати, моя фамилий ТкачукЪ через твердый знак, – сказал он, и протянул мне визитку.
– Блядь, – сказал я. – А зачем с твердым знаком?
– Жидовские фокусы, – сказа Воронин, и мы заржали.
– Вы, молдаване, – с обидой обратился ТкачукЪ к Воронину, а после ко мне, – и вы, русские…
– Да я такой же молдаванин, как он русский, – сказал Воронин, и снова налил, – один среди нас чистокровный…
– …да и тот жид, – закончил он.
Мы снова поржали, а советник расплакался. Принесли пятую бутылку. Было весело. Я подумал, что мне нравится в президентском дворце.
Да, определенно.
– Вы антисемит? – спросил, смеясь, я
– Такой же, как и ты – политик, – сказал он.
– Ясно, – сказал я, – значит, просто придуриваетесь.
ххх
То, что забухали мы крепко, я понял ближе к вечеру, когда не смог встать.
– Я все, все понимаю, – говорил Воронин, – но что делать? Любой блядь селянин на моем месте спиздит в десять раз больше.
– Нет, не пойдет, – сказал я, – мы блядь, новая мол…
– Глупости блядь какие, – Воронин разлил уже на двоих, потому что ТкачукЪа мучительно рвало из окна прямо на карабинеров в карауле, – ну что здесь менять? Зачем блядь?
– Да все! – заупрямился я.
В мои планы входило спорить с дедушкой, пока не кончится коньяк.
– Надо Дело делать, – сказал Воронин, и мы снова выпили. – А ты блядь мечтатель. Романтик блядь. С чем ты борешься?
– Ну, национализм этот ваш бляд… – начал было перечислять я.
– Так ведь они, эти блядь, жители этой страны На самом деле националисты, – просветил меня президент, открыв холодильничек в углу кабинета, оттуда поблескивали пивные бутылки, я вздохнул с облегчением, значит, будет чем отлакировать – они на самом деле коррупционеры, на самом деле хотят отпялить приднестровцев этих, а не жить с ними мирно, ты подумай, какое счастье для них будет, они сейчас в говне, и их все пинают, а завтра будет тот, кого можно пинать им…
– Кто блядь срет у вас в подъездах, кто ворует в школах, кто взятки вымогает в больницах, кто не платит зарплаты нормальные, и налоги блядь, я, что ли? Да нет, это все НАРОД.
– Вы блядь с вашей молдавией сраной, то есть, пардон, новой, пиздите так, как будто этого всех этих недостатков они, жители, лишены, а проблема в нас, управленцах. Да хрен там!
– Если уж вы блядь смельчаки такие, так скажите им Всем, что они блядь говно. А не только те из них, кто наверху, – сказал он.
– Во-во, – промычал Ткачукъ и снова стравил.
Мне снова нечем было крыть. Он говорил правду. Я потянулся к седьмой бутылке, и тут-то все и случилось.
– Так что, я прав? – спросил Воронин.
– Вы правы блядь, – сказал я. – Весь этот народ… Они стоят вас, а вы их.
– Значит, – сказал он, – ты с нами?
Я замер. Мир замер. Ткачукъ, перевесившийся из окна наполовину, замер. Он даже блевать перестал. Я даже не думал. Все было понятно и так. Он говорил правду. Я это признавал. Значит, я был с ними. Но что-то меня останавливало. Что? Мое обычное ослиное упрямство. Других причин я не вижу.
– Нет блядь, – сказал я, и мир пришел в движение, Ткачукъ продолжил блевать, а Воронин выпил, – нет…
– Знаешь, сынок, – сказал президент, – будешь бухать так, как мы, станешь как Буковски. У тебя и сейчас лицо как у Буковски, только тот еще умел слова складывать.
– Во-во, – пробубнил из-за окна советник.
– Поразительно, – сказал я и даже слегка протрезвел, – стоит мне блядь не дать кому-то в Молдавии залезть к себе в карман, как я сразу же слышу, что я плохой писатель. Я же сказал – нет.
– В таком случае мы тебя расст… – начал президент, вставая.
– Идите вы все в жопу! – сказал я.
И отвернувшись, все-таки встал. Покачался на носках, повернулся… В кабинете было пусто.
– Что за…? – подумал я вслух.
Но в кабинете было пусто. До двери было метров пятьдесят, это блядь не кабинет был, а просто зал гимнастический. Секунду назад они были тут. Их нет. Ткачук мог выпасть, ок. Я подошел к окну. Нет, тела не было. Стояли обблеванные карабинеры. Я оглянулся. Пусто. Видимо, прикол такой. Ох. С этими политиками всегда так. Идешь на встречу, надеясь на что-то удивительное, а оборачивается все дерьмом сущим. Я вышел из кабинета и прикрыл дверь.
ххх
– Эй, мужик! – крикнули мне вслед.
– Где, чтоб тебя, президент?! – заорал мужик в форме, и потянулся за пистолетом.
– А я знаю?! – огрызнулся я. – Ищите вашего старого бухарика за занавеской, где он блядь прячется, фокусник сраный…
– Да я тебя сейчас замочу! – заорал мужик.
Ситуация становилась напряженной. Я стоял на ковре у лифта. Ко мне сбегалось человек пятьдесят с автоматами и пистолетами, явно расстроенные пропажей объекта номер 1. Они уже поднимали оружие. Чтьо мне оставалось делать?..
– Да идите вы в жопу! – гордо сказал я напоследок, и зажмурился.
Странно, но меня не убили. Минуты две были тихо. Я осторожно разжмурился. Никаких пистолетов в меня никто не тыкал. В коридоре было пусто. Я начитанный парень, и быстро соображаю. Пошел в кабинет Воронина, взял оставшиеся две бутылки, вернулся к двери. Передумал, снова поешл в кабинет, открыл холодильник, и набрал полный рюкзак пива. Сказал:
– Иди в жопу!
Холодильник гудел. Странно.
– Иди в жопу, холодильник! – уточнил я.
Холодильника как не бывало. Я понял, что исчезают сначала люди, а потом уже предметы, и предметы желательно указывать. Это было сродни волшебству. В жопу пошли шторки, – в кабинет хлынул солнечный свет – а бедные обблеванные карабинеры. В жопу пошлел весь персонал президентского дворца. В буфете у кассы стояла симпатичная блондинка. Она мне улыбнулась. Я улыбнулся ей. Потом вспомнил, что не взял денег. Потом вспомнил про Иру. Пришлось послать в жопу и блондинку.
Зато я поел даром.
ххх
Весь Кишинев пошел в жопу.
Да-да. К одиннадцати часам вечера я улился по самые глаза и послал в жопу весь город. Не уверен насчет Чекан, но Центр и Ботаника, – через которые я шел домой пешком, отхлебывая прямо из бутылок, – были зачищены мной основательно. В жопу пошли патрули полиции, стремившиеся прекратить безобразие с распитием спиртного на улицах, лицеисты, торговцы, парламент, правительство, и просто незнакомые мне люди. О знакомых я уж не говорю. В жопу пошли несколько новых коммерческих центров, заслонивших мне чудесный вид на старинные здания, от которых еще Пушкина тошнило. Кстати, о Пушкине.
– Угораздило же блядь, меня родиться в Молдавии да еще и с талантом, – сказал я с горечью, и выпил еще.
После чего в жопу пошел памятник Пушкину. С его исчезновением город обезлюдел. Но дышать стало легче. Все-таки два гения на один провинциальный городок – пусть один из генив и в виде памятника – это чересчур. Пора была разрядить атмосферу и я это сделал. Потом из города исчезла мэрия. Я был слегка шокирован открывшимися мне новыми возможностями, но не могу сказать, чтобы мне все это было неприятно.
Дома я отдал Матвею набор из трех суперменов, Человека-Паука, Супермена, Бетмена, – дорогой, так что пришлось послать продавца в жопу, – притянул жену и поцеловал в макушку. Это код. Макушка значит высшую степень опьянения. Пошел в ванную.
– Ты есть будешь? – спросила она.
– Угу, – сказал я.
– Есть сырный крем-суп, отбивные с грибами, и японский салат, – перечислила она.
– Угу, – сказал я.
– Что? – спросила она.
– Все, – сказал я.
– Все тянет на полторы тысячи калорий, – сказала она. – А ты свою тысячу выпил. Получишь крем-суп.
– Угу, – сказал я.
Зашел в ванну. Разделся и лег. Она зашла и села на табуретку у стиральной машинки. Я заметил, что она накрасилась и принарядилась. На краю лежала книжка Барнса. Жена принесла. Она молодец. Все как надо при высшей степени опьянения.
– Знаешь, кажется у нас получилось, – сказала она.
– Угу, – сказал я.
– Значит, рожать где-то в июне, – сказала она.
– Ага, – сказал я.
– Ты не заметил ничего странного? – спросила она.
– А что? – спросил я.
– Ты не заметил, в городе как – то пустынно? – сказала она.
– Ага, – сказал я.
– Сотрудник «Молдовы-газ» опять приходил счетчик газовый проверять, – пожаловалась жена. – Все ходят и ходят…
– И зачем только ходят, я только Матвея уложида и сама поспать легла… – сказала она. – А тут звонок этот долбанный.
– Чувак из «Молдова-газ»? – спросил я.
– Ага, – сказала она.
– Да пошел он в жопу., – сказал я. – Пошел в жопу и он и вся его «Молдова-газ».
– Думаешь, чтобы больше он не приходил, этого будет достаточно? – улыбнулась она.
– Ага, – сказал я.
– Ты какой-то молчаливый, – сказала она.
– Ага, – сказал я.
– Если ты быстро, – сказала она, – я пойду сервировать стол.
– Я быстро, – сказал я, – и, кстати, выпить есть?
– Получишь, так и быть, вина, – сказала она.
– Ага, – сказал я.
Включил, наконец, воду, и начал читать.
ЧРЕЗ ТЕРНИИ К ЛУНАМ
Как всегда, он звонит ночью.
– Да, – говорю я, взяв трубку.
– Володя, что это у тебя там играет? – говорит он.
– Какой-то рок-н-ролл, – говорю я.
– Гагарин, я вас любила, ой, – говорю я.
– Выключи эту херню, – говорит он.
– Нет, чтобы что-нибудь приличное, – говорит он.
– И за то, что в апреле Гага-а-рин совершил свой высокий полет? – с догадкой тяну я.
– Тоже херня, – говорит он.
Я его не вижу, но буквально ощущаю, как он морщит лоб. Гладкий, высокий лоб кумира миллионов. Как сейчас говорят, «звезды». Когда мы разговаривали в первый раз, я так и сказал:
– Сейчас вы бы стали «звездой», – сказал я.
А он сказал:
– Что за херня, Володя?
Ну, мы это замяли. Я не стал тратить время на то, чтобы объяснять ему последние 50 лет развития человечества. Какие-нибудь 50 лет из Средневековья объяснил бы. А сейчас… Сейчас нет. Цивилизация развивается стремительно. Еще вчера человек полетел в космос, а уже сегодня – бац, мы пользуемся специальными кондомами из космических материалов, которыми раньше только скафандры выстилали. Кстати, о скафандрах. Я как-то спросил его, как они решали эту проблему. А он сказал:
– Что за херня, Володя, – сказал он.
– Я ведь в космосе-то пробыл всего час, – сказал он.
– С небольшим, – сказал я.
– Верно, – сказал он.
После чего он продолжил рассказывать, а я – записывать. Иногда, когда он уставал, мы развлекались. Он мог рассказать анекдот, забавную историю. Они были все, сплошь, как одна, смешные и озорные – совсем как его улыбка, знакомая миллионам. Или, например, он мог спеть песню. Только песни его мне совсем не нравились. Они были очень старые, скучные и неинтересные. Например, он пел мне «Крутится вертится, шар голубой». Знаете такую песню? И я не знал.
– Как, ты не знаешь «Крутится, вертится, шар голубой?!» – сказал он.
– Нет, – сказал я.
– Ну так я напою, – сказал он.
И голосом, потрескивающим, словно на старинной пластинке, – а ведь сейчас даже уже и кассет нет, – стал петь.
– Крутится, вертится, шар голубой, – пел он.
– Крутится, вертится, над головой, – пел он.
– Крутится, вертится, хочет упасть, – пел он.
– Кавалер барышню хочет украсть, – пел он.
Получалось у него неплохо. Ну, вы понимаете. Как у Утесова. Впрочем, мне Утесов никогда не нравился. Все эти певцы начала 20 века, они ужасно красились для раннего кинематографа, поэтому были похожи на клоунов и педерастов. Их, – ну, педерастов, – он тоже не любит. Ну, хоть что-то у нас общего.
– … тится над мостовой, – пел он.
А я осторожно отвел трубку от уха, и поглядел в окно. Была ночь, мне ярко светили звезды, и кое-где в их россыпях мигали красные точки самолетов и, кто знает, может быть даже ракет?
На одной из таких он и взлетел когда-то ввысь.
Выше неба.
К самим звездам.
А сейчас звонит мне ночами и рассказывает истории, поет песни, и все это – с непередаваемой интонацией человека, которого любили все 5 миллиардов жителей планеты Земля. Наверное, даже у Иисуса фан-клуб был поменьше. С другой стороны, Иисус в космос не летал. Хотя мой собеседник придерживается на этот счет другой точки зрения.
– Конечно, летал! – сказал он мне, когда я поделился своими соображениями.
– Старик, а ты думал, Вознесение это что? – сказал он мне..
Многое после этого стало ясно. Хотя, конечно, поверить в это было трудно. Представляете, Иисус, как космонавт, конструкторское бюро и завод-изготовитель – все в одном лице, – разработал модель космического корабля, сделал, спрятал его в пещерах, и, когда пришло время суда, сбежал, и улетел в космос… Да, звучит нелепо, но…
– Старик, чем это нелепее сказки про Вознесение? – спросил меня он.
И я не нашел, что сказать. Как всегда. Он позволял мне спорить некоторое время, но в решающий момент, когда наступал час «икс» – как все космонавты, он любил обозначать пороговые моменты, – одной-двумя фразами завершал спор. И я ничего не мог с этим поделать. Поэтому наши беседы с ним напоминали мне анекдоты про самонадеянных юнцов и еврейских мастеров спорта по шахматам. Хотя какие, к черту, шахматы спорт?
– Спорт, спорт, старик, – говорил он.
– И эти твои антисемитские штучки… – говорит он.
Я молчу. Свет звезд и Луны выстилают пол моей комнаты безжизненным светом. Я предпочитаю Луну. Он говорит, что это все мое американизированное сознание, что я, мол, пропитан западной, буржуазной культурой. И что на самом деле первый полет в космос был куда важнее высадки на Луну. Я согласен, конечно. Но ничего не могу с собой поделать. Иногда, когда я гляжу на нее, мне так хочется стать тем, кто сделал Это – ступил на ее шероховатую поверхность первым… Космос это слишком абстрактно для меня. А Луна – вот она, конкретная и ощутимая. Я даже знаю, когда она растет и наливается, потому что в эти дни расту и наливаюсь я. И наоборот. Когда Луна идет на убыль, меня буквально скручивает, как табачный лист в пальцах молдавского крестьянина, убившего всю свою жизнь на уборку этого самого табака. Мы с Луной две части одного целого. Вот в чем дело, а не в том, что мне больше нравится «Кола», чем «Байкал». Тем более, что «Байкал» и есть украденная «Кола». Я даже как-то попробовал объяснить. С марксистских, материалистических позиций – ведь по-другому людей, чья молодость пришлась на эпоху Сталинизма, не пробьешь.
– Юрий, – сказал ему я.
– Дело в том, что Луна это часть планеты Земля, – сказал я.
– Она оторвалась во время формирования планеты, и стала спутником, – сказал я.
– Спасибо, что пересказываешь мне учебник астрономии, малыш, – сказал он.
– Значит, Луна это часть Земли, – терпеливо продолжил я.
– А мы тоже ее часть, потому что количество материи постоянно, – сказал я.
– Миллиард лет назад мы были почвой, потом стали растениями, затем животными. А потом снова становимся почвой, – сказал я.
– Так, – сказал он.
– Все, что стало Луной, могло бы быть еще тремя миллионами тонн живой плоти, – сказал я.
– Так, и куда ты ведешь? – сказал он.
– Значит, с Луной унеслась и часть нас, – сказал я.
– Значит мы и есть часть Луны, – сказал я.
– Вот почему я предпочитаю высадку на Луне полету в космос, – сказал я.
– А не потому, что высадка была американской, а полет – русским, – сказал я.
– Советским, – сказал он.
– Советским, – согласился я.
Но это было его единственное возражение. Да и не возражение даже. И это был первый раз, когда уже он не нашел, что ответить. Мне показалось даже, что обиделся. По крайней мере, звонить перестал. И, к моему удивлению, на меня это подействовало ничуть не слабее, чем убывание Луны. По крайней мере, в ушах сдавливало так же. Еще бы. Попробуйте-ка подружитесь с самым известным человеком планеты. Станьте его доверенным лицом и другом. Станьте его Санчо Пансой – ну, без эротического подтекста, конечно, – и секретарем. Причем без каких-либо заслуг с вашей стороны. Вас выбрали случайно. Меня, например, точно. К тому времени, когда я стал доверенным лицом, меня забыли даже те немногие, кто слышал обо мне хоть что-то. Бывший писатель, я просто читал каждый день книги из «Библиотеки военных мемуаров», ходил в спортивный зал, когда здоровье позволяло, и дрочил на рассказы эротического сайта «Стульчик. нет». Жена от меня давно ушла, так что…
В общем, станьте объектом внимания «звезды».
А потом бамц, лишитесь его навсегда. Посмотрю я тогда на вас.
Но он, конечно, позвонил. Как сейчас помню, я сидел на кухне, и ждал, когда боль из правого глаза перейдет в левый – с остановкой у переносицы – и глядел, как тучи в небе завихряются у Солнца. Со стороны это смахивало на Апокалипсис, в котором первый еврейский астроном Иоанн просто напросто описал целый ряд небесных явлений, включая затмения. Это Юрий мне рассказал. Это, и многое другое. Я вообще понял, – общаясь с ним, конечно, – что вся история человечества и была путем к звездам. Тернистым путем. И что это не метафора. Тернистый путь. И мы шли по нему, раздирая одежду и плоть в клочья. Окропляя кровью почву. Хорошо еще, если она была плодородной. А если – песок? Иногда, когда я думаю обо всех этих ребятах, которые отдали жизнь за то, чтобы мы полетели в Космос – Иисус, Гильгамеш, да Винчи, Экзюпери, Жанна, Кеннеди, Далерус, Александр Ульянов, – и историю которых мировые правительства извратили, мне плакать хочется. Собственно, в тот день, сидя на кухне во время мощнейших геомагнитых бурь, я и плакал. И тут раздался звонок. И я взял трубку. И, как сейчас помню, гигантское облако закрыло солнце, из-за чего в небе появилось то, что метеорологи зовут «короной». И голос сказал:
– Здравствуйте, – сказал он.
– Володя, здравствуйте, – сказал он.
– С вами сейчас будет говорить первый космонавт планеты Земля, – сказал он.
– Полковник ВВС СССР, Юрий Алексеевич Гагарин, – сказал он.
В трубке щелкнуло, а потом я услышал уже его голос, голос теплый и дружелюбный, голос надежды и прорыва всего человечества, голос, который свел с ума планету Земля навсегда. И это был голос моего старого друга, Юрия Гагарина, которого я уже не рассчитывал больше никогда услышать, и, который, конечно же, оказался надежным, и честным, оказался настоящим Человеком, каким он и был, каким мы его себе все и представляли. Он и сказал.
– Привет, Володь, – сказал он.
– Сто лет, сто зим, – сказал он.
– Давно не слышались, – сказал он.
– Ну, что? – сказал он.
– Ну, ничего, – сказал я, всхлипывая.
После чего он сказал.
– Поехали? – сказал он.
Тут я разрыдался в голос.
ххх
Юрий Гагарин говорит:
– Подавляющая часть человечества спит, и видит отвратительный сон, в котором они спят, а их со всех сторон обсасывают пиявки, внушающие своим жертвам, что он их сладок, – говорит он.
– Вот что пытаются выдать за коллективное бессознательное человечества буржуазные философы и литераторы, – говорит он.
– В то время как человечество, на самом деле, идет по ослепительной белой, выжженной Солнцем равнине, и все, что происходит с ним, происходит с ним здесь и сейчас, – говорит он.
– Человечество в своем пути ничем не отличается от колонны динозавров, уходивших от зноя и жажды из одного края Гондваны к другому, – говорит он.
– Есть реальность, в которой мы существуем, и она происходит именно с нами и именно сейчас, – говорит он.
– Да, мы отчасти создаем реальность, но лишь как часть ее, мы можем менять реальность лишь в ее рамках и пределах, – говорит он.
– Мы не выдумка и не фикция, а если это и так, то мы выдумка природы, которая существует, и, следовательно, мы есть, – говорит он.
– Записал, Володя? – говорит он.
Разумеется, я записал. Я почти 15 лет работал в газетах, – о чем не раз хвастливо упоминал в своих немногочисленных интервью, когда еще был кому-то интересен – и то немногое, чему меня там научили, было: пить не закусывая, и работать скорописью. Может, поэтому меня и Избрали?
– Нет, Володя, – говорит Гагарин.
– Дальше, – говорит Гагарин.
Первый космонавт планеты, Юрий Гагарин, говорит.
– Да Винчи был тем человеком, который придумал двигатель внутреннего сгорания, – говорит он.
– Мировые правительства, которым выгодно было скрыть изобретения космонавта да Винчи, кардинально извратили его имидж, – говорит он.
– Его сделали чудаком и дурачком, – говорит он.
– Паровой двигатель придумали на острове Крит в 1 веке до нашей эры, – говорит он.
– Это была игрушка, с помощью которой можно было в определенные моменты слушать свисток, наподобие тех, что сейчас на чайниках, – говорит он.
– Первый век до нашей эры, Крит, – говорит он.
– Техническая и промышленная революция могла бы состояться уже в 1 веке нашей эры, – говорит он.
– Но власть имущим выгоднее был труд рабов, так что мы отстали в развитии на 15 веков, – говорит он.
– Все выдающиеся личности планеты имеют отношение к космическому проекту, – говорит он.
– Иисус построил свой космодром на пустынных площадках Кумранских пещер, – говорит он.
– Дублером, ну, вторым астронавтом, должен был быть Иуда, – говорит он.
– Но тот испугался и раскрыл полетные планы Синедриону, из-за чего пуск ракеты пришлось осуществить на несколько лет раньше, – говорит он.
– Поэтому программа была осуществлена лишь на 50 процентов, – говорит он.
– Иисус улетел, ракета успешно поднялась в атмосферу, потом стратосферу, – говорит он.
– Обошла Землю, как мой корабль, – говорит он.
– Но так и осталась на орбите, – говорит он.
– Пролетая мимо его судна, я осуществил стыковку и увидел, что, на самом деле, корабль Иешуа был не так уж и примитивен, – говорит он.
– Из старомодных деталей там был только козий сыр и немного вина, плававшего в пузырях по кораблю, – говорит он.
Я записываю. Первый космонавт планеты Земля, Юрий Гагарин, говорит:
– Сам Иешуа, конечно же, уже давно мертв, – говорит он.
– Его тело мумифицировалось и его лицо спокойно, хотя, нажимая на кнопку «Старт», он знал, что не вернется, – говорит он.
– Стены его корабля изнутри покрыты письменами на арамейском, – говорит он.
– Там всегда полутьма, потому что это древнее финикийское стекло, а оно, хоть и прочное, но еще недостаточно прозрачное, – говорит он.
– Я, Юрий Гагарин, полковник ВВС в отставке, говорю… – говорит он.
Юрий Гагарин говорит.
На самом деле в космосе побывали и Жанна Д Арк, и Жак де Молэ. И Владимир Ульянов, когда понял, что его соратники не собираются спешить с космической программой – а ради этого все и было затеяно, – удрал от них на космодром и, усевшись в специальное кресло космонавта (разработанное Циолковским) улетел ввысь.
– Как китайский мандарин на картинке из книжки про космос, – говорит Гагарин.
Я записываю.
Юрий Гагарин говорит:
– «Апокалипсис» Иоанна это описание первых – не всегда удачных – запусков космических ракет.
– Иисус Навин вовсе не трубил в трубу, а осуществлял космическую стыковку спутников посредством звукового управления.
– Колумб достиг Америки за пару месяцев вовсе не на сраных утлых суденышках – попробуйте-ка сейчас повторить его подвиг, только без двигателя от моторной лодки в камышах «Контикки», – а посредством космического перелета.
– Говоря «она вертится», Коперник подразумевал, разумеется, баллистическую ракету, посредством которой намеревался осуществить свой космический проект.
– Кецалькоатль… Ну, это даже самым тупым понятно…
Я перевожу дух. Я пью еще кофе. Я записываю. Юрий Гагарин говорит.
Никакого крушения корабля, конечно же, не было.
Юрий Гагарина, как и многих участников космической программы, похитили.
Он содержится в гигантском подземном дворце, где-то в пустыне Невады, а может быть, это Аляска (изнутри не поймешь) или Тель-Авив или даже графство Хэмпшир (а может, среднерусская возвышенность?) . Выбирайте, в зависимости от того, поклонником какой версии заговора вы являетесь.
Изредка он выходит со мной на связь благодаря своему тайному другу среди надзирателей, который позволяет ему звонить тайком ото всех по своему мобильному – а мобильники появились уже в конце 19 века, и это даже поздно, с учетом того, что паровой двигатель появился в 1 веке до эры нашей, – телефону.
Кроме него, здесь содержатся и Многие Другие.
И он не сумасшедший, потому что совершенно точно назвал мне одну деталь из жизни Гагарина, знать о которой – ну да, да, деталь, – могли только он и я.
В 1964 году Гагарин, побывав в Молдавии на свадьбе в селе Крикова, замуровал в стене винных шахт, – туда водили и водят на экскурсии всех важных гостей, – маленькое послание.
Тайком ото всех, оторвавшись от делегации.
Это была записочка с парой коротких фраз.
И именно я был тот человек, который случайно нашел эту записочку, когда оторвался от своей делегации.
Разница между нами была в том, что я был в делегации не тем, кого принимают, а сопровождающим. Так что исчезновение меня, в отличие от Гагарина, заметили не сразу. И у меня была куча времени, – а у него считанные минуты, – прочитать то, что он написал в эти считанные минуты. На бумажке, которую я случайно увидел в щели у самого пола, было написано.
«0—9—00—285557777888. „Крутится, вертится, шар голубой“. Поехали! Ю. А. Гагарин».
Нужно ли говорить, что первое, что я сделал дома – набрал номер?
– Да? – сказал голос.
Знаете, в Гагарине самое важное это голос. Он бы стал рок-певцом на Западе. Женщины кончали, слышал его голос. Мужчины плакали. Но когда я позвонил ему, это был голос надежды, который, казалось, утратил надежду. Еще бы. Я позвонил в 2009 году. Он написал записку в 1964. Шар голубой крутился и вертелся почти полвека.
– Крутится, вертится, шар голубой, – сказал я неуверенно, глядя в записку.
Голос помолчал. Улыбнулся. А потом сказал:
– Поехали.
ххх
Иногда я спрашивал его, один ли я такой у него. Он говорил, что да. Хотя, конечно, были и другие, с кем он разговаривал.
– Есть еще один чувачок в Москве… – говорил он.
– … работает литературным критиком в журнале для хипстеров и пидарасов, – говорил он.
– Я ему целую книгу про себя надиктовал, – говорил он.
– Зовут Лев, а фамилия кажется, Дани… Дану. ю.. Данулкин… Данилкин – говорил он.
– Хер их поймешь, москвичей, с их странными фамилиями, – говорит он.
– Сам-то я не москвич, – говорит он.
Хипстеры и пидарасы… Как видите, я подтянул лексикон Юрия Алексеевича до современного уровня. А он взамен диктовал мне то, что должно было взорвать мир. Откровения первого космонавта. Правда об истории человечества. Истина об Иисусе и Пилате, Семилетней войне и Ленинградской блокаде. Я слушал его, и все вставало с головы на ноги. Я был словно человек, приседавший со 100—килограммовой штангой всю жизнь, а потом выполнивший несколько приседаний налегке. Я словно почувствовал лунную невесомость. И даже как-то – он надиктовал мне Откровения о покорении Америки (я знал, что там не обошлось без лазерных ударов) , – от полноты бытия запел.
– Бей меня и кусай, – пел я.
– Лезвием острым режь, – пел я.
– Только не уходи, – пел я.
– На-все-гда, – пел я.
– Что это ты поешь, Володя? – спросил он.
Я рассказал ему о своей любимой певице Маре. Он попросил меня к следующей встрече подготовить ее альбом. Мне приятно осознавать, что и я внес маленький вклад во всестороннее развитие этого уникального человека.
– «Не взаимная любовь», «Дельфины» и «Самолеты» мне понравились, – сказал он.
– А вот «Чё на чём» и «Холодным мужчинам» голимая попса, – сказал он.
И я по сей день с ним совершенно согласен.
ххх
Конечно, идея издать его Откровения была совершенно провальной.
И я честно предупреждал его об этом.
– Поймите, Юрий Алексеевич, – говорил я.
– Книжный рынок идет к упадку, – говорил я.
– Критик Нестеров, ушедший в издательство, так и говорит, что издательства нынче разоряются, – говорил я.
– И нет никакого смысла идти в издательства, – говорил я.
– Ну, разве что для того, чтобы рассказывать, как нынче плохо в издательствах, – говорил я.
– Бездушные издательские монстры… – говорил я.
Меня не издавали уже 15 лет, но из трусости я даже не называл имена этих монстров.
– Ну, Володя, придумай же что-нибудь! – начинал нервничать он.
Само собой, я попробовал. Максимум, который я выжал из литературных агентов, – которые сотрудничали со мной в ту пору, когда я еще что-то писал, – оказалось обещание рассмотреть возможность перспективы издания в серии «Фантастика стран СНГ и Восточной Европы». В мягкой обложке. В сборнике повестей. В 2022 году.
– Пойми, Володя, – мягко сказал мне агент.
– Гагарин, космос… это уже не тренд, – сказал мне он.
– Тренд это исторический детектив, вапмпиры, опять же, – говорил он.
– А как же та херня, что выходит сейчас про Гагарина в ЖЗЛ?! – говорил я.
– Это ведь тоже Он надиктовал, так почему же то, что Гагарин надиктовал о себе какой-то еру… – говорил я.
После чего понимал, что говорю в пикающую трубку.
– Юрий Алексеевич, может, за свой счет? – робко предлагал я.
– Володя, это унизительно, – говорил он.
И я его прекрасно понимал.
– Представь себе Иисуса, который оплатил издание Завета, – сказал он.
– Не могу, – сказал я.
– Вот и я, – сказал он.
– И потом, Володя, – сказал он.
– Писатель, который издает себя за свой счет, просто «хромая утка», – сказал он.
– А что это вы на меня так смотрите, – сказал я.
– А с чего ты решил, что я на тебя смотрю? – говорил он.
Я просил его немного подождать и что я что-нибудь придумаю. Со стороны я, наверняка, напоминал школьника, который ждет экзамена, к которому не подготовился, и утешает себя отговорками. Ну, или на школьника, чья девчонка залетела, у которого нет денег на аборт, и который все ждет и ждет, ждет и ждет… Чего?
Большого космического чуда.
ххх
Потом он перестал звонить.
Я, конечно, прекрасно понимал, почему.
В 2011 году в мире вышло 17 книг о космосе и Гагарине. По общепринятой версии, все дело было в юбилее. Мол, он взлетел ввысь в 1951 году и, так как прошло ровно 50 лет… Но меня, конечно, это не обманывало.
Глядя на то, как Луна прибывает, я, постанывая, перечитывал куски из книг, скачанных в интернете.
Конечно, почти все они были плохо написаны, и почти в каждой было по грамму правды на тонну лжи. Но тем отчетливее я слышал голос Юрия Алексеевича, который на ломанном английском надиктовывал всем этим говнюкам то, что должно было оставаться Только между нами. Между ним и мной. Между первым космонавтом Земли и единственным на земле человеком, для которого Луна не просто спутник, а часть тела.
И Луна эта болела, и передавала своими токами холодную, блестящую боль, в моё тело, изнывающее без своей части. Я страдал, я мучился без нее, и я хотел, чтобы Луна упала, наконец, на Землю. И ко мне вернулась часть самого меня. И я знал, что рано или поздно верну ее. Так или иначе, но мы с Луной окажемся вместе, знал я.
Так что, когда вышла книга про Гагарина в ЖЗЛ, я не сомневался ни секунды.
Я купил билет на самолет и, – ощущая себя мумией Иисуса в космическом корабле, совершающем свое вечное путешествие, – съел континентальный завтрак от «Air Moldova», слушая рев двигателей и чувствуя сухость во рту. Выпил красного вина, – но это зря, носом пошла кровь, – и с безразличным лицом проскользнул мимо таксистов аэропорта Домодедово. Добрался на рейсовом автобусе за 50 рублей до первой станции метро, и снял номер на ночь в общежитии для чернорабочих из Средней Азии. По стене, размахивая усиками, как дворник-таджик – метлой, полз таракан, и я раздавил его без жалости. И уже на следующий день стоял напротив здания, где работал человек, укравший у меня живого Гагарина. Я ждал его, ни о чем не думая.
Он же – мужчина с лицом легата, потерявшего свой легион в битве при Каннах, и пытающегося показным спокойствием скрыть страх перед неминуемой казнью в Сенате, – вышел из здания лишь к вечеру.
И, словно извиняясь за долгое ожидание, сразу пошел мне навстречу.
Немудрено. Ведь в руках я держал его книгу с Гагариным на обложке, и выглядел поклонником, жаждущим автограф. Да я, собственно, автограф и попросил. И когда он, наклонившись над книгой, начал было писать, я быстро и сильно ткнул его в затылок острым металлическим предметом. Еще Гагарин не раз говорил мне в беседах, – ну, когда мы отдыхали, конечно, а не во время работы над Откровениями, – что стиль нужно выдерживать. Всегда и везде. И просил это запомнить.
Я запомнил, поэтому тюкнул своего врага альпенштоком.
Так что мой Лев тоже погиб от орудия альпинистов и тоже, так сказать, во время работы над документами.
Стоя на коленях на мостовой, он держал в руках свою книгу и, глядя на меня недоуменно, заваливался набок.
И я понял, что он похож на сектанта, умирающего с космической Библией в руках, а я – на истового ортодокса, предавшего еретика смерти.
Но главное в средневековых войнах было не убить тело.
Главное было уничтожить душу.
Так что я вырвал у него из рук книгу с портретом Юрия Алексеевича.
И он умер без Гагарина в руках.
ххх
Оказалось, я мог бы этого не делать.
Ведь в книжке, которую я читал, дожидаясь темноты, не было ни слова из того, что диктовал мне сам Гагарин. Это оказалось Житие, но и только. Мой же Завет, полученный от самого Юрия Алексеевича, так и остался между нами. Видимо, – понимал я, глядя на то, как колышется от сквозняков хитиновый панцирь раздавленного мной утром таракана, – Гагарин просто пытался подстегнуть меня.
Или, говоря прямо, являл мне знамения.
Которые я, как ученикам и полагается, истолковал неверно.
Но сейчас это уже не имело никакого значения.
Дождавшись ночи, я вышел на крышу общежития и уселся на стул, к которому привязал несколько газовых баллонов, на которых здесь, – конечно же, нелегально, – готовили еду. Стал ждать Луну. Она, конечно, пришла. Мы вот-вот должны были соединиться, так что оба немного волновались. У меня чуть тряслись руки, она то и дело пряталась за странные, невесть откуда набегающие облачка. Они меня нервировали. Я знал, что вот-вот доставлю себя на Луну, и не желал промахнуться.
Я неумело, – все-таки шесть лет как бросил, – закурил, а потом прижег шнур, и тот зашипел и побежал огоньком к баллонам. Луна засияла очень ярко, повисла прямо надо мной, и мы улыбнулись друг другу. И я увидел и ощутил бесконечное одиночество Луны в великом безмолвии космоса. Она улыбнулась мне ласково, и я успел подумать, что в одном Юрий Алексеевич оказался не прав.
Иисус все-таки оплатил издание Завета и оплатил сполна.
Просто это был безналичный расчет.
СОБАКИНЫ КОСТИ
Первый раз я повел его на бассейн зимой.
Мне казалось, ему понравится то же, что и мне – мы же все-таки отец и сын..
Например, первое теплое касание, которое еще не стало удушливым и жарким, – как в конце тренировки – ведь зимой в воду ныряешь, как в постель в холодной комнате.
Еще – думал я – он обратит внимание на ощущение невесомости. Когда повисаешь между дном и поверхностью, воображая себя космонавтом, с оторвавшимся от станции «Мир» – или откуда они выходили в открытый космос? – тросом. Это ощущение и это зрелище, – зрелище перевернутого мира – так завораживает, что даже на Земле не хочется спасать себя и всплывать.
Лишь инстинкты выталкивают тебя из воды против воли.
Я знал, что у ныряльщиков это называется блаженство апноэ, и сам испытал его не раз, поэтому готов был страховать сына. Наконец, я ожидал, что ему понравится запах хлорки – легкий, неистребимый, я пахну им даже спустя 14 лет после того, как бросил тренировки. Еще… В общем, я нафантазировал многое из того, что вроде бы, должен был сам ощутить в детстве, когда меня, пятилетнего, первый раз привели плавать. Это был мрачный бассейн в здании бывшего монастыря где-то в Белоруссии, раздевалки были оборудованы в цементных кельях и там сильно тянуло по ногам, а над головами мозаичных пловцов – которыми украсили стены, – слабо светились полузатертые нимбы, и из-за узких окон было темно. А бассейн должен быть светлым. Как католическим храм на Рождество. Плавание само по себе депрессивный вид спорта, – ты все время один и ты все время думаешь, – поэтому в бассейнах должно быть много света, солнца, неба, и радости.
Поэтому впервые я привел его в открытый бассейн.
Над водой поднимался пар и я аккуратно придерживал мальчика, помогая работать ногами, и не опустить плечи в воду слишком глубоко. Видимо, не очень внимательно, потому что плечи все равно уходили. Особого значения это не имело. Я знал, что это всего на первых три-четыре занятия, а потом им займется тренер. Так что, придерживая сына, я думал совсем о другом. Например, что именно ему понравится в воде в первый раз. Что же. Моя бывшая жена оказалась абсолютно права, когда говорила, что у меня нет дара предвидения. Все мои предсказания не сорвали банк.
Больше всего ему понравилась Ромашка.
ххх
Ромашка была старой собакой восемнадцати лет. Левая задняя нога у нее была короче остальных на пару сантиметров после того, как ее кто-то ударил. Мне пришлось сказать мальчишке, что она споткнулась и упала, потому что я не хотел его расстраивать. Увечье собаку не озлобило: добрая и грустная, Ромашка встречала всех посетителей бассейна «Динамо», лежа у входа. Вы попадали на территорию бассейна, проходили через двор – там к вам бросался веселый и молодой Мишка, еще один пес, – и поднимались по ступенькам к основному зданию. Там, на тряпке у входа, лежала она. Чтобы зайти, вам следовало ее переступить.
Мальчишке было всего четыре года, и ему для этого не хватило длины шага.
Так что я просто поднял его и перенес. Все это время он смотрел на Ромашку, как космонавт смотрел бы на Землю или какой-другой ориентир, окажись он в свободном пространстве в открытом космосе. Она была для него чем-то вроде точки притяжения взгляда, пока он описал вокруг нее траекторию.
Ромашка даже головы не подняла.
А он не отводил от нее взгляда, пока мы не зашли в раздевалку.
В воде мы провели полчаса примерно, потому что она была холодная. Бассейн «Динамо» работал с перебоями – многие бассейны вообще закрылись, и плавание в Молдавии медленно подходило к концу, и даже в «лягушатнике», куда я его выволок, как на буксире, температура была не больше 24 градусов. Так что уже через полчаса губы у него посинели, и он сильно трясся. Пришлось идти в душевую, греться – там горячая вода в тот сезон еще была. Я поставил мальчика под душ, и он кажется, понял, что такое посттренировочное блаженство – отогреваться в помещении, полном пара. Голову он не поднимал, потому что вода тогда заливала его лицо, и вокруг глаз у него из-за очков были круги, так что выглядел он очень серьезно.
– Ну, что, понравилось? – спросил я.
– А что больше всего понравилось? – спросил я, когда он кивнул.
– Ромашка, – сказал он.
С этого дня все те два месяца, что мы ходили на бассейн по понедельникам, средам и пятницам, мы приносили Ромашке поесть. Обычно это было какое-нибудь мясо второго сорта, я варил его наспех в кастрюле на пару, но, конечно, на диету мы ее не посадили – на диете как раз были мы – всякий раз, когда я чистил курицу, мальчишка забегал на кухню и следил, чтобы я оставил жир Ромашке. У бедняги, почти не осталось зубов и ей трудно было жевать. Так что жир она глотала.
Мишка от жира отказывался, поэтому мы отдавали ему кости.
… Готовить оказалось проще всего. Проще, чем учить читать или кататься на велосипеде. Мальчик жил у меня, его мать уехала, и, чтобы не возиться с готовкой, я вовсю использовал пароварку. Она оказалась довольно простым – даже не механизмом – приспособлением из двух кастрюль, одна из которых вставлялась в другую, с кипящей водой. За двадцать минут там можно было приготовить всё.
Правда, было невкусно.
Но я старался развлекать мальчишку во время ужинов и завтраков – обедал он в детском саду, – разговорами на всякие темы. Правда, он вел беседу пожестче Фила Донахью и Опры вместе взятых. Обычно начинал я, после чего он сворачивал – ума не приложу, как – на свои любимые темы, и болтал весь ужин, без умолку. Я мог бы велеть ему замолчать, но тогда он обратил бы внимание на то, что ест. А жареного ему никак нельзя было – мы еще не смогли тогда вылечить его аллергию, и это была причина, по которой я не хотел брать к себе мальчишку на те два месяца. Стоило ему съесть что-то не то, как ноги его покрывались сплошными ранами, и я несся через весь город с парнем на руках в гомеопатическую клинику, чтобы щедро заплатить за сеанс психотерапевтической помощи. Прежде всего, самому себе. Так мне тогда казалось. И я был не прав – именно они же его и вылечили. Просто это требовало времени. Год-полтора (в его случае – два) . Но когда у вас на руках мальчишка, который толком и говорить не умеет, и идти не может из-за того, что у него из ног сочится кровь, вы не смотрите в будущее с оптимизмом. Так что врачам приходилось успокаивать. Прежде всего, меня. И когда жена попросила меня взять мальчика на два месяца домой, я отказался. Она решила этот вопрос очень просто.
– Ты просто боишься оказаться плохим отцом, – сказала она.
И я согласился. Потому что я и был плохой отец. Так мне тогда казалось. И никакой гомеопатической клиники, врачи в которой убедили бы меня в обратном, в нашем городе не оказалось. Так что я приехал за мальчишкой, трогаясь на перекрестках с третьей попытки – права я получил буквально за день до того, – и погрузил его в машину вместе со всеми наборами его космических воинов, звездных пришельцев, галактических пиратов, вселенских джедаев и прочей чепухи. Я просил его:
– Нравится космос, малыш?
– А ты знаешь, что в космосе бывает, если… – стал говорить он.
Так что я его слушал до самого своего дома, и когда поднял его наверх – традиционно я снимаю мансарды, у меня боязнь оказаться погребенным заживо при землетрясении, и это вовсе не смешно, как считает моя жена с ее вечным особым мнением на любой счет, – и когда мы поужинали, и когда он стал ложиться. Чтобы его перебить, я сказал:
– А знаешь, что на Земле бывают места, как в космосе? – сказал я.
– Как в звездных пещерах Ван Оби? – сказал он и собрался было рассказывать про эти пещеры, но я его перебил.
– Нет, как в невесомости, – сказал я.
– Это как? – сказал он, помолчав.
– Это когда ты летаешь, – сказал я.
– Руками махать придется? – сказал он.
– Нет, ты просто паришь, – сказал я.
– А паришь это как? – сказал он.
– Просто висишь в небе, – сказал я.
Он замолчал, моргая. Было видно, что он представляет.
– А где такие места есть? – спросил он.
– У нас в городе, – сказал я.
– Их правда немного, – сказал я.
Это была чистая правда. В нашем городе было три бассейна. Один, олимпийского стандарта, назывался «Юность», – где я плавал по соседней дорожке с чемпионом Барселоны, Башкатовым, правда, это повод для гордости для пары сотен парней, плававших по соседней дорожке с чемпионом Барселоны Башкатовым, – сделали пляжным, подняв ему дно. Другой, «Молдова», – где я выиграл свое республиканское золото среди юниоров, – просто снесли. Оставались еще какие-то небольшие бассейнчики в школах, но они были крытые. Ну и, конечно, «Динамо».
Последний открытый бассейн, куда я начал ходить за пару лет до развода и продолжил – после него, – чтобы немного развеяться и побыть среди призраков детства. Кричащих, галдящих, шумящих – звонко над водой, и мерно и гулко – под ней.
Если вы все детство провели в бассейне, то уже взрослым станете проплывать в дымке над ним, как затонувший корабль – в Саргасовых водорослях. Вы встретите прошлое.
Может, я за ним в воду и отправился.
В таком случае, лучшего места я бы не нашел. Бассейн «Динамо» постепенно приходил в упадок, как и все в Молдавии. Случались сезоны, когда в душевых не было горячей воды, одно лето ее не было и в чаше – и тогда я смотрел на потрескавшуюся плитку из спортивного зала, вытянувшегося вдоль бортика за витражными стеклами. Все здесь было старым, и изношенным. Но бассейн это как меха. Какими бы они не были, главное это – то, что в них.
А вода там еще была.
Так что я ходил сюда и зимой, и дымок над водой заставлял меня забыть о моих неприятностях, он стирал мою память и мою жизнь, как ядовитые испарения источников ацтекских жрецов – сознание несчастных жертв. Случалось, что подача горячей воды в чашу прекращалась, и тогда температура опускалась до 18 градусов. Однажды я проплыл в такой три километра, и не согрелся. Но было красиво. Поверхность оказалась покрыта листьями, опавшими с деревьев, высаженных вокруг бассейна, и листья были очень красивого цвета.
И за ними и мной внимательно наблюдали с забора белки.
За год до того, как мальчишка переехал ко мне, горячей воды вообще не было всю зиму, и поверхность бассейна сковал лед.
После зала я проламывал его, чтобы окунуться.
Нужно ли говорить, что бассейн в это время был практически всегда пуст? Они иногда и на работу не выходили, оставляли всё открытым, потому что знали, что я рано приду и других психов, которые бы пришли сюда, в городе попросту не окажется.
И я приходил.
На льду, покрывшем воду, я чувствовал себя последним человеком Земли, выжившим после какой-нибудь экстравагантной катастрофы. Ну, вроде удара специальной нейтронной бомбы, которая убивает все живое, а вещи и предметы оставляет. Мне даже казалось, что если я выйду сейчас, – прямо со льда – в город и пройдусь по его заснеженным улицам, то не найду там никого, а только мигающие фонари, пустые улицы и безлюдные супермаркеты. Возможно даже, фантазировал я, что в центральном парке города будут пастись олени, а по главному проспекту – бродить, без тени страха, медведи.
– . . – шь? – спросил он и я очнулся.
– Что? – сказал я.
– Ты мне такие места покажешь? – спросил он.
– Какие места? – сказал я.
– Такие где можно летать, как в космосе, – сказал он.
– Ну, на Земле, – сказал он.
– Конечно, – сказал я.
– Ты даже полетаешь, – сказал я.
– А теперь спи, – сказал я.
Через день мы отправились на «Динамо».
ххх
После нескольких занятий подошел, – как я и рассчитывал – тренер, и мы записали мальчика на водное поло. Это очень удобный и практичный вид спорта, он не требует больших бассейнов, и не развивает в ребенке чрезмерный индивидуализм. Так тренер и сказал. Я был с ним полностью согласен. К тому же, мальчику понравилось, что в воде окажется мячик и им можно будет перебрасываться с другими мальчишками. Я был очень обрадован его реакции.
Что угодно, только не рефлексия и, как следствие, писательство в зрелом возрасте.
Я хотел, чтобы он вырос веселым мальчиком, у которого будет много друзей, а командные виды спорта предполагают, что у вас будет все это. И уже спустя каких-то пару дней я водил мальчишку на водное поло.
И ходить с ним «Динамо» больше не имело смысла. Но мы продолжали, потому что он просил. Там была Ромашка, и ему казалось очень важным ее кормить. Ромашку он очень полюбил. К Мишке он относился, как учительница младших классов – к способному непоседе. Бросив ему кости, мальчик, пыхтя, пробивался по снегу на площадке перед бассейном к крыльцу, где лежала Ромашка. Снега было ему по пояс. Но помочь он не разрешал, это его сердило. Так что я стоял и смотрел, как он проложит дорожку.
Ведь мы, конечно, были первыми посетителями.
Пробившись к ступенькам, он залезал на них, и навстречу ему поднималась Ромашка. Он была совсем уже слабая и ходила, пошатываясь. Казалось, что она здесь и спала. Но меня вялость ее движений не обманывала. Спали собаки в конуре за углом здания, и я знал, что она специально вставала и тащилась сюда, чтобы встретить мальчика. Вероятно, дело было в еде, хотя даже если мы и забывали пакет с жиром и мясом, Ромашка все равно приходила.
Мальчик гладил ее, сняв варежки, и я напоминал себе не забыть вымыть ему потом руки.
Ростом он был чуть выше этой самой Ромашки – нелепого черного пятна на снегу, пошатывающегося, доброго, со взглядом старика, впавшего в детство. Да так, наверное, и было.
Я никогда ничего не чувствовал к собакам – мне не хотелось в детстве, чтобы мне подарили щенка, но я никогда их и не боялся, – поэтому смотрел на мальчика и Ромашку с отстраненным любопытством.
И сейчас так смотрю.
Хотя нет уже ни Ромашки, ни снега, ни бассейна «Динамо». Мальчик, к счастью, есть.
Но он уже не тот.
ххх
Мы, конечно, не сдружились. Я просто водил его на бассейн – то на один, то на другой, – и мы много разговаривали о космосе, бомбах (его интересовало, какая сильнее – атомная или нейтронная) и Ромашке. Как-то он сказал мне:
– Купишь мне собачку? – сказал он.
– Таксу, – сказал он.
– Если мама разрешит, – сказал я.
Мама вскоре приезжала, так что я стал потихонечку собирать его вещи. Он посматривал на это, но ничего не говорил. Просто собирал косточки после ужина – я сварил цветную капусту, а потом кусок индейки, – и говорил:
– Вот, Ромашка позавтракает, – говорил он.
Я кивал, не отрываясь от книги, это были «Супружеские пары» Апдайка, благодаря которым я пережил очередной приступ своего писательского бессилия. Ну, еще позвонил пару раз нескольким своим знакомым, которые, едва лишь узнавали, что я сейчас отец-одиночка, готовы были мчаться ко мне, чтобы составить компанию. В женщинах это будит.
… утром я выходил в угол, где он спал – в студии я просто повесил штору перед его кроватью, – и прислушивался. Меня интересовало, дышит ли он. Он дышал. Я поправлял одеяло – аккуратно приподнимал над ногами и смотрел, нет ли ничего на коже, – и отправлялся в тот угол, где кухня. Вынимал из холодильника пакет для Ромашки и клал в рюкзак. Ждал, когда мальчик проснется. Потом я его кормил и мы шли на «Динамо». Там он бросал мою руку у калитки, еле открывал ее, продавливая в снег от себя, и брел – как полярник навстречу арктическому ветру – к крыльцу. Где уже чернела еле встающая Ромашка.
Жир она просто глотала. А косточки догрызал Мишка.
ххх
В феврале вернулась мать мальчика и, конечно, забрала его.
Это правильно, потому что дети должны жить с матерью, если мать не пьет, не принимает наркотики и не проститутка. Моя бывшая жена не была ни тем, ни другим, ни третьим. Мы просто не могли найти общего языка. Так что мы с ней и не разговаривали, когда она заехала за мальчиком, и ждала, пока тот поест. И слушала его восторженные рассказы про Ромашку.
– А Мишка такой плут! – добавлял он с плутовской улыбкой.
Жена глянула на меня. Мы тоже друг другу улыбнулись. Она забрала мальчика и он на прощание меня обнял.
– Приезжай каждую пятницу, – сказал он.
– Зачем? – сказал я машинально, и спохватился, но оправдываться и извиняться было уже поздно.
– Я обязательно буду приезжать, – сказал я.
Он простил меня очень быстро. Не разнимая рук, сказал:
– За пакетом для Ромашки.
Я стал приезжать к ним каждую пятницу за пакетом для Ромашки. Он называл это «собакины кости» и я не смог объяснить ему разницы. Полтора года каждую неделю, я появлялся, чтобы поговорить с мальчиком и рассказать ему про Ромашку.
– Вчера она крутилась вокруг меня, будто тебя ждала, – говорил я.
– На этой неделе Мишка был не в настроении, – говорил я.
– Собаки ждут не дождутся, когда потеплеет, – говорил я.
– Ромашка подлечила ногу и теперь даже и не хромает, – говорил я.
– Мишка поймал крысу, а Ромашка ее отпустила, – говорил я.
– Ромашка съела все, что ты ей передал, и облизнулась, – говорил я.
Мальчик слушал с восторгом.
Я не решился сказать сыну, что Ромашка умерла спустя неделю после того, как мать забрала его от меня.
Полтора года я сочинял истории про Ромашку и Мишку, – тот хоть и загрустил после смерти подруги, но жил, – расцвечивая их самыми небывалыми подробностями. Ромашка и Мишка спасали бассейн «Динамо» от воров и дружили с белочками, клали мне лапы на руку и и передавали привет мальчику. Весной он хотел пойти на «Динамо», чтобы повидать Ромашку, но я его отговорил, сказав, что там нет горячей воды. Летом сказал, что ее вообще спустили и Ромашка уехала поэтому в деревню, сторожить овец.
Следующей зимой я еще что-то придумал.
За два года мальчишка стал отличным пловцом и вытянулся. Он спокойно встретил известие о том, что Деда Мороза не существует и это родители положили под елку тот настольный хоккей. И что вставать рано утром придется из-за тренировок – тоже. Это ему пригодится, знал я, даже в его шесть-то лет.
А мне уже за тридцать, и я каждое утро, – в пять часов, – поднимаюсь, чтобы пройти через пустой парк, и толкнуть крутящиеся ворота бассейна «Динамо». Откуда-то из-под дерева во дворе ко мне бросается желтое пятно – это Мишка, которому я скармливаю «пакеты для Ромашки», приветствует меня, – и я, почесав пса за ухом, поднимаюсь по ступенькам ко входу. Иногда мне чудится, что у двери на полу что-то темнеет
Но это всего лишь тень дерева.
ДАВАЙ ПОКРАСИМ ПУШКИНА
– Заладили, Пушкин, Пушкин, Пушкин, Пушкин… Да пошел он на хуй, этот ваш Пушкин!
– Точно!
– Сколько себя помню, все меня тычут этим Пушкиным сраным.
– Верно!
– Пушкин то, Пушкин се, управдом краны чинить отказывается, потому что денег нет, просишь починить по-хорошему, а он тебе, Пушкин что ли денег даст, в дверь куда-то войдешь без стука, а тебе – Пушкин стучать будет…
– Верно!
– Да меня еще в школе задолбали Пушкиным! Господи, эта училка сраная, ну, по-русскому, она меня затрахала в свое время им, вечно она приговаривала, что Пушкин это наше все… какое «наше»? Это ИХ все!
– Кого их? Училки по-русскому?
– Русских, кретин!
– А, понятно!
– Понятно ему! Эти блядь русские затрахали всех своим Пушкиным, хотя он вовсе не был русским.
– А кем он был?
– Ты что, совсем тупой?
– У нас не было уроков русского языка и литературы, я же младше тебя, это у вас они были. С каких хренов я должен Сам что-то читать об этом Пушкине сраном?
– Ладно, рассказываю. Пушкин был негр.
– Настоящий?
– Стопроцентный. Как мы с тобой румыны, так и он негр.
– Значит, настоящий негр.
– Стопроцентный, я тебе говорю. Они его с дерева сняли.
– А кто же за него писал эти…
– Стихи? Да у него говно, а не стихи. Конек блядь Горбунек, про деда еще какого-то с длинной бородой, про дядю еще, про то, как этот негр кого-то встретил и у него все из башки вылетело, еще хрень какая-то. Руские говорят, будто бы он великий поэт, а он говно, и никому, кроме самих русских, на хуй не нужен! Но, почему-то, его сраный памятник у нас в румынском городе Кишиневе, а не у них, в их сраной Москве.
– Разве в Москве нет памятника Пушкину?
– Ты его там видел?
– Нет. Но мы строили дом в Бутово, а там я вообще памятников не видел.
– Ну так в Москве и нет памятников!
– Ни одного?!
– Ты хоть один видел?
– Нет, но я же жил в Бутово!
– Ты жил в строительном блядь вагончике, куда тебя, кстати, посадили русские.
– Точно! Ну то есть как… наш прораб, ну, который кинул нас с деньгами, он был молдаванин.
– Он им только назвался. А на самом деле был русский.
– Он говорил по-румынски.
– Значит, выучил по-скорому. Вот видишь на что только не пойдет русский, чтобы кинуть молдаван!
– Точно… ты открыл мне глаза…
– Ни одного памятника на всю Москву, говорю тебе. Это же блядь народ дикарей.
– Поразительно… А у нас, в нашем маленьком солнечном Кишиневе, памятников с тридцать наберется.
– Да, Петрика, ты прав, и памятников кому?! Великим! Титанам! Людям, известным всему миру. Гога, миронеску, виеру, луческу, мандыкану, дойна и алдя теодоровичь, петреску… Мировая Элита! Это тебе не всякая херня типа Пушкина сраного, о котором знают только русские, да медведи, которых они по пьяни потрахивают!
– Вот уроды!
– Вот уроды!
Собеседники остановились, чтобы передохнуть. В вечернем Кишиневе пахло поздней весной. Жара в городе наступила, как всегда, внезапно. Поэтому парни, одетые еще по ранне-весеннему сезону, вспотели. На старшем, Иване Скрипке, была теплая куртка, перчатки, и свитер с горлом, поднятым до середины лица. Младший, Сережка Цуркану, был в строительной куртке с множеством карманов, военных штанах, и берцах. Иван нес стремянку, а Сережка – три ведерка с краской и кисти. Выглядели они как два маляра, что было само по себе удивительно – все маляры, штукатуры, и вообще строители, давно уже уехали в Россиию. Строить в Москве дома, и красить заборы этим диким русским, живущим в городе без памятников. Ивану было тридцать пять лет, он работал программистом, был патриотом Молдовы, и ужасно переживал из-за своих имени и фамилии. Как и все молдавские патриоты с русскими фамилиями, он искупал свою вину тем, что писал на местных форумах в интернете «русские пропили мозги, бухаха», но этого было недостаточно. Поэтому Иван и предложил своему младшему школьному приятелю, Сережке Цуркану, совершить подвиг…
– Давай раскрасим бюст этого сраного Пушкина, который до сих пор почему-то в Кишиневе стоит, в цвета румынского флага, – сказал он.
– Зачем? – спросил туповатый Сережка.
– Чтобы показать этим русским сраным, что Кишинев это румынский город, – сказал Иван.
– Настоящий европейский чистый город, а не какой-нибудь сраный грязный Нижний Тагил, – сказал Иван, споткнулся в выбоине асфальта, которую не разглядел из-за отсутствия уличного освещения, и упав, ткнулся рукой в собачье говно.
– Вот суки, – сказал он, вставая с помощью друга, – все засрали своими русскими собаками…
– Да, полно русских, развелось их тут, – сказал Сережка. – Полный Кишинев русских…
– Их тут нет! – сурово поправил его Иван.
– Верно, – сказал запутавшийся Сережка. – Но откуда тогда здесь собачье говно?
– Они во всем виноваты, но они есть, только когда они виноваты, – сказал Иван.
– Собаки или русские? – спросил Сережка.
– Это одно и то же, – угрюмо ответил Иван.
Парни перекурили и зашли в центральный парк города. Где-то там, посреди клумб и газонов, возвышался бюст ничего не подозревавшего и задолбавшего молдаванина Ивана негра Пушина.
– Может, просто поссым на него, да и все? – негромко спросил Сережа, когда друзья подошли к бюсту.
– Да ему наплевать на это, он же бронзовый, – ответил Иван.
Парни стали расставлять стремянку. В парке никого не было, потому что прогуливаться в нем после шести вечера было довольно опасно. Шалили бандиты. Тех, кто улизнул от бандитов, добивала полиция. Но Сережа и Иван сделали себе фальшивые удостоверения работников городского хозяйства и рассчитывали отбиться и от одних и от других. Иван поглядел на Пушкина оценивающе, сплюнул, и полез на стремянку. Начал он с красной краски и прически. Работа шла споро. Классик глядел на Скрипку с удивлением. Да пошел ты, Пушкин сраный…
– Иван, – негромко окликнул его Цуркану.
– Что, Серега? – спросил Иван.
– Я нахо… – начал было Сергей, но замолк.
Иван обернулся, балансируя, и увидел человека в полицейской форме, который надевал наручники на бесформенно сложившегося на траве Сережку. Полез в карман за удостоверением, и хотел было соврать насчет плановых работ, но полетел на землю. Это легавый выбил ударом ноги стремянку из-под Ивана.
Последнее что увидел Иван перед тем как отключился – бюст Пушкина злорадно подмигнул…
ххх
Первое, что увидел Иван, когда открыл глаза – Серегу без штанов и полицейского без штанов…
– Паритет, – подумал Иван.
Но полицейский был в более выгодном положении. Они с Сережей Цуркану любили друг друга. Это мягко говоря. По правде, полицейский трахал Серегу, привязанного к столу. На лице у Сереги была, почему-то, маска Бетмена, и во рту торчал большой черный шар. Это чтобы не орал, догадался Иван и хотел было закричать. Увы, такой же шар торчал во рту и у него. Надеюсь, подумал Иван, – лихорадочно пытаясь понять, что случилось, – это будет единственным сходством в моем и друга положении в этот вечер…
Сергей беспомощно мычал. Иван огляделся. Он был привязан к стулу. Находились они в каком-то «обезьяннике». В помещении никого, кроме них троих, не было. Мент был довольно крупным – но это не пугало, Ваня и сам был крупный и обрюзгшим парнем, – с шрамом в поллица.
– Отто Скорцени, – подумал Иван, и подумал, что подумал уже второй раз за вечер.
Трахая Сережу, полицейский глядел в глаза Ивана и улыбался.
– М-м-м-м, – сказал Иван.
– Вы нарушили закон республики Молдова, – сказал мент, – и понесете суровое наказание, парни.
– М-м-м, – сказал Иван.
– Потерпи сладкий, – сказал легавый Сереже, и с хлюпаньем рассоединился.
Иван от звука страдальчески поморщился. Мент похихикал и освободил Ване рот.
– Вы не имеете права поступать так с нами из-за вашего сраного Пушкина, засовывать нам в рты эти сраные черные резиновые блядь шары, мы поступали по совести, мы двое бессарбских румын выполняли долг всякого уважающего румы… – затараторил Ваня.
– Остынь, – на хорошем румынском сказал мент, и заткнул Ване рот таким ужасным способом, что бедный парень пожалел, что это было сделано не шаром.
– Да-да, о, да… – сказал задумчиво полицейский, после чего с характерным хлюпающим звуком покинул Ивана и вернулся к Сереже.
Ошарашенный Иван, с которым это случилось впервые в жизни, – причем во всех смыслах, поскольку Флоричика его оральными ласками не баловала, – пустил слюни на подбородок. После чего вдруг дико заорал. Легавый похихикал, снова встал за Сережкой, – изредка отходя к Ивану – и мучения парней продолжились.
Где-то через два часа ребята все поняли.
Они в лапах маньяка.
ххх
– Вы бля пидоры! – сказал мент, когда сделал перерыв, чтобы покурить. – Какое право вы имели в мое дежурство красить этого гребанного Пушкина?!
– Мы хотели доказать свою румынскую идентичность, – плача, ответил Иван.
– Так и доказывали бы не в мое дежурство, – сказал мент.
– Русская сука, – сказал с ненавистью беспомощный Сережка, – мы освободимся и я убью тебя.
– Я румын, – гордо сказал мент, несильно ударив Сережу по спине дубинкой, – а за суку ответишь. Я блядь воевал в Приднестровье, получил контузию второй степени, пока вы, пидарасы, в тылах отсиживались.
– Мы не пидорасы, – без особой уверенности возразил Иван.
– Точно, – сказал мент, – ты еще не совсем.
После чего настала пора Ивана постоять у стола.
– Да-да, – приговаривал мент, – о, да. Да-да-да-бля, как я же вас блядь русских ненавижу…
– Мы румыны, – плача ответил Иван.
– Вы румыны? – спросил мент, орудуя в Ване собой, а в Сереже дубинкой.
– Мы румыны! – плача, ответил Сережа
– Ах вы румыны, – пыхтел мент, – так ведите себя как румыны, а не как говно цыганское.
– А как ведет себя цыганское говно? – спросил изрядно подуставший Сережа, который понял, что дубинка это еще хуже чем…
– Оно воняет и говорит по-цыгански! – заорал мент.
– А еще? – спросил Иван, поскуливая.
– А еще оно задает слишком много вопросов про цыганское говно! – заорал мент, и ударил Ивана по затылку.
Правда, потом объяснил, что это параксизм страсти, и во время оргазма с ним всегда так. Иван понял.
Под утро полицейский заставил парней сделать «бутербородик», и читать стихи Эминеску, пока он их трахает. Потом запер в какой-то каморке, заткнув рты шарами. Вечером все продолжилось…
Время шло. Полицейский называл их своими Шахерезадами… Ребята узнали, что его зовут Джику Мындреску, что он слегка тронутый, любит танцевать голый и в ботинках на столе, ему нравится щекотка – ну, специфическая щекотка кое чем кое где, – стихи Эминеску, и румынский морской курот Байе, куда он даже пообещал свозить Ивана на лето, и купить там ему новый цельный купальник…
На третий день полицейский заставил ребят изобразить позу «Аист несущий рыбу в клюве как рыба, несущая в пасти аиста» под музыку из кинофильма «Криминальное чтиво», со вставками Бреговича, и с чтением произведений Октавиана Гоги нараспев.
Смеясь, легавый называл это «нашей балканской мультикультурностью». ..
На четвертый день на столе Сережа Цуркану сказал шепотом, скосив глаза за спину:
– Знаешь, а он ничего. Ну, чисто в сексуальном плане, я имею в виду.
Иван горько сплюнул.
ххх
На восьмой день Иван задушил полицейского.
Джику всего на мгновение утратил бдительность, и этого хватило. Он ослабил наручники на Иване, попросив «помассировать спинку», пока он обрабатывает Сережу. Делая неутомимому маньяку массаж, и зачитывая вслух из «Воспоминаний детства» Крянгэ, Иван поднял руки повыше к шее и совершил рывок. Терять было нечего, Ваня понимал, что после случившегося мент их не отпустит. Застрелит и зароет где-нибудь…
– Апрых, – сказал Джику.
– Больно же! – сказал Сережа.
– Больно?! – сказал Иван.
– Апрых, – сказал Джику.
– Да мне бля по херу, – сказал Иван, – больно ли педику, который нас блядь неделю трахал, ты что, совсем поехал? Да пусть ему Будет больно!
– Мне больно! – заорал Сережа. – Он же до сих пор на мне!
Иван пригляделся. Получилось и правда неловко по отношению к другу. Но выхода не было, иначе легавый мог бы очнуться. Пришлось додушивать Джику прямо на друге. Джику подергался еще немного – Ивану даже показалось, что стоны Цуркану в этот момент были не только болезненными, но он отогнал от себя эти мысли, – и затих. Ваня попинал немного его труп ногами, а потом расстегнулся.
– Что ты делаешь?! – спросил Сережа.
– Трахну его в жопу! – мрачно ответил Иван.
– Ты что, гомик?! – спросил Петрика.
– Блядь, есть варианты? – спросил Иван.
Сережа подумал слегка, и тоже расстегнулся…
Потом, обоссав труп оттраханного Джику, парни, пошатываясь забрали свою одежду, и выбрались из обезьянника. Был вечер. Смеркалось. Ребята купили по пиву, и выпили по бутылочке. Потом взяли большой пятилитровый баллон. Пиво было невкусным, но ребятам было лень обсуждать этих русских, которые везде нагадили – даже в молдавское пиво ссут. В глаза они друг другу не смотрели…
– Наверняка отпечатки пальцев найдут, – сказал угрюмо Сережа.
– Свалим все на аффект, – сказал Ваня.
– Да и невыгодно им поднимать шум вокруг такого дела, – подумал вслух Иван, – мертвый педик – мент с наручниками в жопе, убитый своими жертвами, которых похитил и трахал…
– Иван, – робко сказал Сережа, – а что мы будем делать теперь со всем этим?
– С чем? – спросил Иван.
– Ну, с Этим… – сказал Сережа.
Парни неловко помялись. Ситуация складывалась и впрямь экстраординарная… Скрипка подумал немного, а потом вдруг порывисто притянул к себе Сергея и поцеловал друга в губы. Растерявшийся Цуркану поначалу застыл, а потом ответил. Все равно Флоричика не делает минет, и готовит дерьмово, подумал Иван, увлекая любимого в темный парк.
… потом новая влюбленная пара, застегиваясь, вышла на аллею парка.
– До рассвета еще целый час, – сказал Сережа. – Что будем делать?
Иван подумал, и предложил:
– Давай докрасим памятник Пушкина!
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
… лятая Москва пылала. Толпы людей выскакивали из горящих домов с криками и воплями, и разбегались, – преследуемые короткими очередями, – кто куда. Если кто-то из стрелков был выпимши, или в свое время не получил полный расчет за ремонт, то очереди были длинными. Но таких старались наказывать, потому что боеприпасы берегли. Не то, чтобы захватчики сомневались в своей победе – сопротивления они не встретили нигде, за исключением двух-трех точек, в которых они и ОЖИДАЛИ это сопротивление встретить, – просто патронов должно было хватить до полного и окончательного решения Московского Вопроса.
Глядя на пылающую Москву, майор Лоринков устало утер пот со лба, и сдвинул на затылок шлемофон танкиста. Выглядело это странно, потому что никакого танка у майора Лоринкова не было. Только планшет с листиками, куда майор наносил – будто картограф план местности – точные, отрывочные наблюдения о штурме Москвы. Конечно, у майора был и пистолет, но воспользовался он им только однажды. Вчера, когда ночевал в квартире какого-то толстого и напуганного москвича, неискренне лебезившего перед майором полночи. Боится, что трахну жену или дочь, брезгливо подумал майор. Где они все были раньше, подумал он еще брезгливее. Потушил свет – по временному закону о маскировке, – и велел всем спать. После чего собрался было трахнуть дочку, но оказалось, что ее у толстого москвича нет. Майор вздохнул, поворочался, и уснул. Утром пристрелил москвича, крадущегося к его постели с битой, и пошел воевать. И уже ранним утром нового дня глядел на пылающую Пречистенку. Или Покровку? Или Битцевку? А может, Малоярославку? Хуй их поймешь, москвичей, с их сраными названиями, все как один, заканчивающимися на «-истенку», подумал майор. Главное, подумал он, утирая со лба гарь, что горит.
Москва горит.
– Вавилон пал, – задумчиво пробормотал майор Лоринков, глядя, как сотни людей в рабочих спецовках, послуживших формой Новой Рабоче-
Крестьянской Армии, штурмуют стены Кремля.
Люди ползли наверх даже не с упорством муравьев, а с неотвратимостью морской волны. Сопротивление было, но руководители Новой Рабоче-Крестьянской Армии, – среди которых был и Лоринков, в отличие от коллег не взявший звание маршала, и оставивший себе майора для кубинского революционного форсу, – знали, что оно будет недолгим. Кремль покинули все, кроме политиков, немногочисленной федеральной охраны, кавказской сотни, да полка ФСБ. Штурмовавших – отчаянный сброд со всех концов СССР, включая и русский – было намного больше, они были голоднее, злее, и среди них было немало военных. Как бывших, так и нынешних. Майор Лоринков с гордостью подумал о том, что именно он воспел первое сражение этой армии – в метро, на станции Пречистенка. Ну, или Нагоренка? Хуй поймешь этих москвичей… Тогда первый отряд НРКА разбил в кровопролитном сражении целй полк московской милиции, и отступил, оставив прикрывать путь отряд из пятиста узбекских гастарбайтеров. Парни погибли все, как один, но основная часть сил восставших ушла. С этого начался Путь…
Лоринков подвинул шлемофон на лоб – он использовал его как защиту от ударов во время уличных схваток, многие жирные моcквичи не желали расставаться со своим добром, и пытались сопротивляться, а кое какие вещички были очень даже, и майор отсылал их с оказиями на Родину, – и мрачно подумал, что перед ним разворачивается новое восстание Спартака.
А с учетом того, что Спартак был родом из Фракии, подумал майор, аналогия становится вообще полной.
Ведь Фракия, подумал майор, располагалась на территории нынешней Молдавии.
После чего, устыдившись собственного бездействия, схватил автомат ближайшего павшего бойца, и забежал на территорию Кремля. Положившись на Бога и свой вихляющий, – из-за профессиональной травмы пловца, нечеткой стопы, – бег, а ни тот, ни другой майора никогда не подводили, он добежал до здания, и, прыгнув в двери, перекатился в угол.
– Что ты блядь Рембо из себя строишь, – сказал ему какой-то веселый мужик в спецовке дворника, перезаряжая винотовку.
– Здесь полтора этажа зачищены, – сказал он, и подмигнул.
– Тра-та-та-та, – сказал вместо ответа майор.
– Ха-ха-ха, – посмеялся шутке мужик.
Но потом перестал. Ведь майор разрядил автомат ему прямо в грудь. Гастарбайтер похрипел чуть-чуть, и, подергавшись, замер. Майор плюнул и перезарядил. Он, конечно, восхищался происходящими событиями, но относительно тех, кто в них участовал, сомнений не испытывал. Ебанное быдло, подумал майор. После чего, не глядя, дал очередь вверх. Оттуда раздалась ругань на чистейшем московском языке ( «а-а-а, с-у-у-к-а-а-а-а-а-а-а-а-а н-н-н-а-а-а-а-а-а») и сверху упал москвич. Майор покачал головой, вытащил из кармана еще рожок, перезарядил, и стал осторожно подниматься наверх. Чутье подсказывало ему, что где-то в здании крупная добыча.
Может, сам вице-мэр Москвы Ресин, подумал майор.
Потом вспомнил, что Ресина молдавские гастарбайтеры замуровали, живого, в нише ванной комнаты, кафелем, и поморщился. Они бесчинствуют, а ты потом оправдывайся перед западными корреспондентами, подумал майор. Но кто же там, наверху? Может, сам мэр павшей Москвы Лужков? Но нет, того, насколько знал Лоринков по слухам, – насколько слух в поверженном городе вообще может быть верным, – связали и бросили в улей с пчелами. Причем, говорят, казнью руководила его бывшая супруга, перешедшая в ряды восставших еще за полгода до взятия города. Это ее не спасло. Кто-то из таджиков узнал экс-мэршу, и ту тоже растерзала толпа… Кровь, толпа, убийство…
Майор Лоринков вздохнул, и, вспомнил домик у реки, который прикупил в прошлой жизни, – курортное местечко, Вадул-луй-Водэ, Днестр, – жену и детишек. Старшой, небось, уже в первый класс пошел, подумал майор. Младшенькая в садик ходит… На мгновение воды Днестра будто потекли по этой кремлевской лестнице и смыли трупы, гильзы, разорванные картины, прожженный местами паркет… Проклятая война, подумал майор. Вместо того, чтобы писать книжки, пить вино в подвале своего дома, издеваться над сетевыми графоманами, качаться в зале, холить и лелеять жену, да растить детей, я здесь бегаю как Рембо сраный…
Но скоро все должно кончиться, подумал он, взяв себя в руки. Кремль почти взят. Еще чуть – чуть. Совсем.
Майор глубоко вдохнул, бросился наверх на один пролет, и, стреляя от бедра, ворвался на третий этаж здания.
Там-то он и получил свою пулю.
К счастью, ранение не было смертельным. По крайней мере, таким не казалось. Так что майор, бросив в направлении предполагаемого противника гранату, быстро перевязал себя, и, чувствуя, как немеет рука, попробовал вызвать подмогу.
– Эй кто-нибудь! – заорал он изо всех сил. – На помощь!!!
– Ка-а-а-а-а-а-я помощь тебе, молда-а-а-в-а-а-а-а-а-нчик?! – спросил, издеваясь, кто-то из фсб-шников, и майор, чувствуя, что теряет
кровь, от обиды едва не заплакал.
– Сейч-а-а-а-а-с па-а-а-а-атроны кончатся, и мы тебя п-а-а-а-д-ж-а-а-а-а-а-рим, – сказал кто-то из невидимых врагов-москвичей.
– Суки блядь, фашисты ебаные, – сказал майор Лоринков.
И подумал, что надо застрелиться. Москвичи пленных не брали. В это время снизу кто-то выстрелил, причем не в майора, и, бухая берцами, пробежал на первый этаж. Значит, подумал майор Лоринков, слабея, подмога в двух этажах.
– Держись, боец! – рявкнул спаситель.
– Я тебе не боец, – сказал, страдая, майор.
– Я майор Новой Рабоче-Крестьянской Армии, Лоринков, – сказал он.
Спаситель замолчал. Зря напугал, подумал майор. Впрочем, это уже неважно. Так всегда, подумал майор. Лучшие солдаты гибнут в последний день войны… Но спаситель не пропал.
– Сынок, – сказал он.
– Сынок! – крикнул спаситель.
– Папа?! – спросил Лоринков.
– Сынок! – крикнул спаситель.
После чего попробовал прорваться, но москвичи, радуясь возможности развлечься, встретили его таким плотным огнем, что боец вынужден был отступить. Майор Лоринков успел лишь на секундочку увидеть его. Конечно, майор узнал отца… И они стали переговариваться через лестничные пролеты.
– Папа, – крикнул он отцу.
– Сынок, – крикнул Лоринков-старший.
– Ты что здесь делаешь?! – крикнул майор.
– Воюю, как видишь, – ответил Лоринков-старший. – Капитаном я…
– С понижением, полковник, – крикнул, радуясь возможности пошутить, майор Лоринков отцу, полковнику советской армии.
– Наше дело маленькое, – смеясь, ответил капитан Лоринков, и посоветовал, – не разговаривай, через полчаса подойдет мой отряд, и мы тебя вытащим.
– Никуда ты его не вытащишь, – крикнул кто-то из москвичей, – мы вам тут семейное кладбище устроим…
– Заткни пасть, сука, – в голос сказали оба Лоринкова.
– Ты давно из дома? – спросил майор отца.
– Три года как, – ответил Лоринков-старший, – я ведь как из Салехарда ехал, свой стройотряд в Молдавию возвращал, так нас под Ростовым и тормознули, сняли с поезда, говорят, мол, гастарбайтеры волнения подняли, война начинается, мы вас на всякий случай в лагерь для перемещенных…
– Я им – у меня гражданство российское, а они мне, а нам плевать, предатель…
– Настоящий концлагерь! – крикнул он.
– Ну я и сбежал! – крикнул капитан сыну.
– Три года, – прошептал тот, чувствуя, как слезы текут по его лицу.
Сам майор не был дома уже пять лет…
– Но я полгода назад с ними связывался, – крикнул капитан сыну.
– Как они? – спросил майор Лоринков чужим голосом.
– Все хорошо, – сказал отец, выстрелив пару раз в москвичей.
– А помнишь, папа, – спросил майор, чувствуя, как начинает кружиться голова, – как мы с тобой за политику спорили?
– Помню, – крикнул отец, – что я тебе говорил, накрылись они медным тазом, эти русские!
– Нет, – упрямо сказал майор, – я все равно верю, что русские это нация будущего…
– Они дали миру Толстого, Чехова, Ломоносова, да Чайковского, наконец!
– Чайковский был пидар, – напомнил Лоринков-отец, чей голос стал, отчего-то ближе.
Сумел перебраться на один пролет, понял майор, и попробовал помочь отцу. Но даже перевернуться на бок не сумел. Главное, разговаривать, подумал майор. Иначе москвичи поймут, что он тяжело ранен, и спустятся добивать.
– Папа, – сказал он раздраженно, – и все равно русские великая нация…
– Сынок, мы же сами русские, чего ты меня грузишь-то, – сказал Лоринков-отец.
– Вот мы – великие, а насчет остальных я в глубочайших раздумьях, – сказал он.
– Да что мы все о политике, – сказал он, помолчав.
– Как там Днестр? – спросил майор.
– Все течет, – сказал отец. – Забор, кстати, покосился, так я его подправил…
– Спасибо, – сказал майор.
– Брат звонил из Штатов, беспокоится, – продолжал капитан, – младшенькая твоя в садик ходит, а старший в школу пошел, все папку спрашивают…
– Детки, – сказал майор, и снова заплакал.
– Пять лет не плакал, – сказал он громче, – а сейчас вот уже третий раз за час…
– Так бывает, сынок, – сказал опытный солдат, Лоринков-отец, и выстрелил.
Москвич, кравшийся к майору Лоринкову, с проклятиями, подстреленный, рухнул.
– Спасибо, папа, – сказал майор, – а дальше, ну, из Ростова?
– Из Ростова я из лагеря для перемещенных гастарбайтеров бежал, – рассказал коротко отец свою историю, – нашел своих работяг, сколотил из них отряд, воевали на юге, под Астраханью, потом на Кавказ зашли, после Пятой Чеченской сожгли Грозный с монголами, а оттуда, как услыхали, что все рабы на Москву пошли, двинулись на север…
– А уж тут влились в НРКА, чин капитана получил, – сказал отец.
– Имею чины и награды, – сообщил он сыну. – Ну и про тебя был наслышан, да только все встретиться не получалось.
– Вот и встретились, – сказал майор Лоринков.
– Вот и встретились, – сказал капитан Лоринков.
– Увидеть бы тебя, – сказал капитан Лоринков.
– Боюсь, я ранен, – признался сын, – все признаться боялся, думал, москвичи услышат, поймут, что сил нет, так ведь их и так нету…
– Держись, – сказал капитан, – и не беспокойся.
– Москвичи все равно по-русски не понимают, – сказал он.
– Фрустрация, дистагивный мальчонка, оп-ля, чоки-поки, деградация художественного смысла, и-и-и, трула-ла, – крикнул москвич, появившийся перед майором Лоринковым внезапно, но тому хватило еще сил нажать на курок.
С криком «эта мой челавеееечек, сегодня туса в Джингло, дав-а-а-а-й на Пречиээээстенкеээээ», москвич полетел с пролета вниз головой.
– Прямо в лоб, – довольно сказал капитан Лоринков, – не забыл уроков стрельбы, сынок.
– Знаешь, папа, – вдруг с детской обидой сказал майор Лоринков, – а ведь я так и не простил тебе, что ты ружья от нас когда-то спрятал…
– А, сынок, вырастешь, поймешь, – сказал беззлобно капитан.
Это было не очень понятно. Тридцатипятилетний майор Лоринков подумал, что поймет, когда вырастет.
– Какого черта они так держатся за это здание?! – спросил он отца.
– Сынок, да это же главная бешня Кремля! – сказал отец.
– Здесь же кабинет главы государства! – сказал капитан Лоринков.
– Мы с тобой штурмуем Рейхстаг и ставку Гитлера одновременно, – сказал он, – я даже флаг прихватил…
– Понятно, почему они так держатся, – сказал майор Лоринков, и глянул вниз, на свой бок, после чего понял все.
– Папа, – сказал он, боясь признаться отцу, как плохо ему стало и, что, похоже, ему конец, – а давай споем, папа?
– Что ты хочешь спеть, сынок? – спросил отец, помолчав, и майор хорошо представлял себе его лицо.
– Как в детстве, – сказал с трудом…
– Ну, когда ты нас с братом себе на грудь сажал, и пел… – сказал он.
Капитан, помолчав, спросил:
– Ты что, ранен?
– Боюсь, более чем, – сказал майор Лоринков отцу.
Получилось так, что именно в этот момент в боевых действиях наступила небольшая передышка. Штурмующие, перед решительным и последним броском, прилегли отдохнуть, перекусить, и выпить. Защитники Кремля, обратив внимание на время, обратились к Мекке и стали совершать последний намаз. Часть нападающих тоже совершала намаз, только праздничный. И только молдавские отряды НРКА не принимали участия во всеобщей передышке – молдаване бродили по захваченным палатам Кремля и усердно срисовывали способы планировки, и откалывали образцы плитки и паркета. Над городом все затихло, как бывает перед последним сражением. И в полной тишине вдруг над Кремлем зазвучала песня.
– Эх, дороги, пыль да ту-у-у-уман… – пел капитан Лоринков своим низким, грубым голосом.
– Холода, тревоги, да степной бурьян, – слабо подпевал ему глухим голосом сын.
Пели они так хорошо, и так душевно, что, казалось, их слушал весь Кремль. Все затихли. И кавказские защитники, все как один с зелеными лентами смертников, и таджикские гвардейцы штурмовых отрядов, и даже помешавшиеся на кафеле молдаване. И сам президент Медведев, мрачно устанавливающий к своем окне крупнокалиберный пулемет. И даже стены древнего Кремля. И призрак Стеньки Разина, который дождался, наконец, того, чтобы НАША, а не ИХ, взяла.
Стих Кремль. Стихла Москва. Стихла Россия.
И неслась над ними песня, любимая песня двух русских молдаван – песня о Забайкалье, – и постепенно булыжники площади перед людьми исчезли, и на их месте зашатался, под суровым забайкальским ветром, степной бурьян…
– В холодах и тревогах…
– Кр-а-а-ай сосновый, – пропел слабеющим голосом майор.
После чего потерял сознание. И отец, не захотевший петь без сына, умолк. И песня смолкла. И мир смолк.
И тишина стала страшной.
Капитан Лоринков встал в полный рост, передернул затвор, и пошел наверх.
За сыном.
ххх
… если бы кто-то сказал писателю Лоринкову осенью 2009 года о том, что впереди его ждет пять лет кровопролитной войны в Подмосковье и Москве, штурм московского Рейхстага и неожиданная встреча там же с отцом, он бы не то, чтобы удивился. Но не поверил бы, это точно.
В Москву Лоринков ехал на три дня.
Принять участие в книжном фестивале, прочитать какой-нибудь рассказ, выпить бутылки две коньяка, да потолковать о литературе с какой-нибудь сведущей в этом вопросе московской дамой. Конечно, Лоринков слыхал, что писателю, вроде как, следовало бы относиться к своему призванию посерьезнее. Ну там, быть совестью нации, и ее пророком, и все такое. Но он был для этого человек чересчур легкомысленный. Поэтому меньше всего Лоринков думал о том, чтобы произвести на весь мир и на свою страну впечатление писателя. Звериная серьезность не относилась к его многочисленным недостаткам.
Симпатичная пограничница спросила его в аэропорту Домодедово о цели визита.
– Участие в книжном фестивале, – сказал он, улыбаясь.
Пограничница, равнодушно глядя на паспорт, поставила печать, и вернула документ. Позже она не раз вспоминала об этой встрече, и думала, что штамп «НеВпуск» в паспорте этого веселого молдаванина вполне мог бы стать для мировой истории чем– то вроде пули Каплан, только еще значительнее. Но прошлого не воротишь, думала пограничница, которую во время второго года войны, – когда пали Шереметево и Домодедово, – взяли в плен киргизские гастарбайтеры, и которую выменяли у киргизов родные на пару верблюдов, которых, в свою очередь, пришлось похитить из и без того разрушенного к тому времени Московского зоопарка. Но до всего этого было далеко, штамп «Впуст» был поставлен, и Лоринков, веселый, стройный, и жаждущий острых, но краткосрочных впечатлений, вышел в зал ожидания московского аэропорта.
… на фестивале была встреча с московскими читателями. Лоринков знал, что в таких ситуациях экзотика всегда полезна, поэтому изо всех сил изображал себя цыгана-молдавана и молдавский партизанский отряд, Надежду Чепрагу, ласкового и нежного зверя, и вообще, алкоголика с Балкан. Само собой, это работало. Лоринков это знал. Как знал он и правильные ответы на вопросы, правда ли, что он цыган, есть ли в Молдавии у каждого в квартире бочка с вином, есть ли в Молдавии кровная месть, и едят ли молдаване ТОЛЬКО ножом в знак своей мужественности. В ответ на все эти вопросы нужно было уклончиво молчать. Остальное доделывало воображение московской публики…
Прочитав ей свой последний рассказ, Лоринков побродил еще немного по выставке, и собрался было в гостиницу.
Тут-то он и встретил свою судьбу. На выходе из павильона перед ним стоял маленький сгорбленный старичок.
– Вот те на, сам Друце! – сказал, поморщившись, Лоринков.
– Вот те на, сам Лоринков, – сказал, поморщившись, Друце.
Классики не любили друг друга. Лоринков оглядел Друце внимательно. Тот, почему-то, был в оранжевой спецовке дворника.
– Занялись, наконец-то, своим делом? – спрсоил Лоринков.
– Нам нужно поговорить, – сказал Друце.
– Ой, у меня сейчас нет денег, я не смогу одолжить, – соврал Лоринков.
Друце смерил его взглядом и увлек за собой. Лоринков отнекивался и возмущался, но Друце проявил настойчивость. Поэтому будущему майору НРКА пришлось пойти туда, куда его тащил за собой молдавский автор средней руки.
В гастарбайтерский городок…
ххх
Вечером теперь уже друзья присели у шалаша.
У костра таджики жарили кошку. Молдаване разделывали собаку на поджарку для мамалыги. Узбеки варили плов из выброшенного из ресторана риса по-восточному с овощами. Дети играли среди мусора. Женщины готовили еду в мотоциклетных шлемах. Неподалеку от них записывал все это на пленку, срываясь на плач, корреспондент НТВ. Лоринков уловил: «благородные лица арийцев… рязанские рожи московских ментов… люди-страдальцы… мы зажрались…». Корреспондент был дерганным, как Петрушка. Ну, или как Парфенов. Когда он закончил, таджики с благородными лицами арийцев отобрали у него камеру, и утопили его с оператором в ручье.
– Мы свидетели катастрофы вселенского масштаба! – сказал Друце.
– Да нет, речь не об этом долбоебе с НТВ, – махнул он рукой.
– Я о гастарбайтерстве, – пояснил Друце.
– Великое Переселение Народов, – сказал он.
– Вот что ждет кисти Художника, – сказал Друце, – в то время как лучший молдавский писатель пишет рассказики про еблю, пьянку и каких-то сетевых пидарасов…
– То есть, мы сошлись на том, что лучший молдавский писатель это все-таки я, а не вы, – уточнил не любивший недосказанности Лоринков.
– Я уже старый, – смущенно признался Друце.
Ладно, – сказал Лоринков, – тогда я готов признать, что в молодости вы были хоть и не так хороши, как я, но тоже ничего так….
– Ну, как писатель, – пояснил Лоринков не понявшим и напрягшимся таджикам.
– Я уже умираю, – сказал Друце, – и хочу, чтобы ты знал, мой мальчик…
– Москва это Рим, а мы, гастарбайтеры, его рабы… Грядет новый Спартак!
– Вы же не гастарбайтер, – сказал Лоринков, – вы же всем в Молдавии говорили что…
– Вот именно, – сказал Друце, – я всем в Молдавии говорил, что…
Лоринков понял и сочувственно помолчал.
– Это еще ничего, – скеазал Друце.
– Композитор Дога моет машины на Пречистенке, или какой-то еще «-истенке», – признался Друце.
– Хуй поймешь москвичей с их названиями, – поморщился Друце.
– А до этого он на Арбате фокусы показывал, а я всегда тут подметаю, – сказал он.
– Ладно, – сказал Лоринков, – хули вы от меня все хотите?
– Вы, молдаване, с вашими проблемами сраными, – сказал Лоринков, – как я их решу?
– Вы обязаны быть пророком, – сказал Друце.
– Мне что блядь, – сказал Лоринков.
– Мне написать книгу про то, как молдаване устраивают крестовый поход куда-нибудь в Италию или Москву? – спросил он.
– Ха-ха, – посмеялся он.
ххх
… Ближе к полуночи московский дворник Ион Друце повел писателя Лоринкова по одному «очень важному адресу». За правдой.
Он писатель, как и мы с вами, – бормотал Друце, ставший, по замечанию Лоринкова, совсем уж каким-то юродивым. – Он за угнетенных, он за народ…
– Новый Горький он, – сказал Друце.
– Вот хуйня-то, – сказал Лоринков, никогда не любивший Горького.
Ему не хотелось себе в этом признаваться, но поселок гастарбайтеров произвел на него гнетущее впечатление. Мужчины стояли перед московский многоэтажкой с железной дверью и кодовым замком. По молдавским меркам это было жилье миллионеров. Друце вызвал в домофон кого-то, и спустя пятнадцать минут этот кто-то вышел. Крепкий молодой человек лет тридцати пяти. Лысый.
– Актер Куценко! – сразу узнал Лоринков любимого актера.
– Захар Прилепин! – поправил его крепыш.
– А вы кто? – спросил он.
– Скажите, – проборомотал Друце, лобзая руку крепыша, – что делать? Куда идти? Смысл? В чем… Мы пришли… Люди, они страдают… – Гастарбайтеры… Путин… Хуё-мое бля…
– Мы из Молдавии, – сухо сказал Лоринков.
– А, – сказал крепыш.
– Сейчас настроюсь, – сказал он и откашлялся.
– Ребятушки, – сказал он, – жизнь она ведь сладенькая как писюнечка, розовенькая, в складочках, ветерком подует, ромашечкой запахнет, она вся такая… восхитительненькая… ну и Наташа Марарь конечно молодец… я так сказать рад…
– Но вернемся к писюнечке… живешь ты ей, родимой, не надышишься, складочки ее пальчиками раздвигаешь, сочком не набалуешь… – продолжил крепыш под все возрастающее удивление Лоринкова.
– А тут придут гоблины злобные, растопчут ромашечку сапогом ментовским злобным, мусором черным душеньку закидают, поля необъятные наши, эх, да что ж вы родненькие затол…
– Восхитительно, – перебил Лоринков, – вы, наверное, еврей?
– Это еще почему? – спросил крепыш.
– Только евреи умеют так восхищаться Россией и русской природой, – сказал Лоринков.
– А вам она не нравится? – спросил крепыш.
– Нет, – сказал Лоринков, – её, как и всего в России, слишком много.
– Батюшка, мы за другое тебя просить пришли, – сказал Друце, поклонившись.
– Мы БУНТ задумали.. – прошептал Друце. – Батюшка, возглавь нас…
– Жидов бить будем, гулять будем… – пообещал Друце.
Лоринков глянул на дворника с удивлением. Но потом подумал, какая в сущности, разница. На свидание со сведущей в литературе дамой он все равно уже безнадежно опоздал. Но вызывал удивление один момент.
– А они-то здесь при чем?! – спросил он Друце.
– Стилистика, – коротко обронил тот.
Лоринков кивнул и подумал, что Друце местами бывает не так уж и плох.
– Бунт, – сказал задумчиво крепыш.
– Нет, ребята, – сказал он. – У меня дела, у меня колонок одних пятнадцать штук, и все как одна про то, какой строй у нас буржуазный…
– Так взломаем его к ебеням, – нездорово оживился Лоринков, который всегда увлекался.
– Не, – сказал крепыш, – в некотором смысле меня в нем все устраивает…
– Противоречивый я, как Русь необъятная, – сказал крепыш.
– А по-моему, это противоречие еще Маркс описал, – сказал Лоринков,
– Ну, в смысле, когда ты ебешь других это для тебя здорово, а когда ебут тебя, это не здорово, и любой буржуа хочет, чтобы ебал только он, но так не бы… – начал объяснять он.
– Значит так, на хуй пошли оба, – сказал крепыш.
– Мне завтра на эфир… – сказал он, открывая подъезд. – Да и сборник писать, рассказов…
– Сборник за ночь?! – в голосе Лоринкова появилось неподдельное уважение, ведь, как и любой мастер, он уважал работяг.
– Ну, – сказал крепыш, – я типа вроде как читаю Толстого, Чехова, отбираю лучшее, и потом мы это сборниками издаем…
– А, – сказал Лоринков и засмеялся.
– Покеда, клоуны, – сказа крепыш, оглядевшись.
– Россеюшка-Россеюшка ты моя засранная да замызганная, – покачал он головой.
Бросил окурок на асфальт и закрыл за собой дверь.
ххх
… в полуобморочном состоянии, лежа на лестнице московского Кремля, майор Лоринков мечтал о глотке воды.
– Лоринков! – крикнули сверху.
– Майор Лоринков! – уточнил кричащий.
По правильному русскому языку, верному ударению в его фамилии, – что еще не удавалось с первого раза ни одному русскому, – и отсутствию московского акцента майор понял, что говорит чеченец. Это был человек с фамилией Сурков и огнеметом.
– Лоринков, – крикнул Сурков, – оно вам надо было?
– Интеллигентный человек… – покривил душой Сурков.
– Попробуйте, хотя бы попробуйте, отыграть все назад, – попросил Сурков.
– А я вас за это на встречу президента с молодыми писателями приглашу, – сказал он без особой надежды.
– Ну, как молодого писателя, – уточнил на всякий случай огнеметчик Сурков.
Майор улыбнулся.
– Двое детей, две залысины, двадцать книг, и глубокая рана в боку, – сказал он.
– Какой я вам на хрен молодой писатель, – сказал он.
– Я давно уже обитатель Олимпа, – сказал он.
– А сейчас я окажусь там во всех смыслах, – сказал он.
После чего разрядил автомат вверх.
Продолжил мечтать, и уже не почувствовал огня…
Майор мечтал о том, чтобы увидеть лицо отца. Вспоминал о зарождении отрядов НРКА, о первых битвах войны, о тяжелых подмосковных зимах, о перебежчиках в ряды повстанцев из армии… О том, как все Великие Писатели Земли Русской, – ну, из ныне живущих и по их версии, – отказались от того, чтобы возглавить Сопротивление. Как плакал и бил земные поклоны поэт Емелин, деловито прекративший делать это после того, как закончилась пленка на видеокамере, установленной в углу храма. Как отказался от того, чтобы возглавить идеологическое крыло НРКА, и он. Все приговаривал, хлопая в ладоши, «эпатаж» и «ох повыбили из нас силушку, нагнули человека русского». Как отказывались все, а Новодворская и Проханов еще и звонили в приемную ФСБ и пришлось убегать через крышу. Что единственным, кто был готов согласиться, оказался Пелевин, – ну так он единственный из них и писать умеет, так что Лоринков не удивился, – но у того уже были планы насчет Дальневосточного ханства, и он их реализовал.
Лоринков еще подумал, что это поразительно.
В очередной раз всемирное восстание рабов в империи мира возглавил выходец из дыры мира.
Чего уж там, подумал Лоринков.
Пизда мира.
Молдавия.
И это оказался он. Ее непутевый сын.
Русский майор Лоринков, который и строевым шагом-то ходить не умел.
Потом майор, вспоминая дом, все же умер. Масштабные боевые действия постепенно возобновились. Кто-то выстрелил, кто-то ответил, кто-то понял, что пора с этим кончать, кто-то по рации вызвал подкрепление, откуда-то подтянулась колонна БТРов и танков.
Майор Лоринков лежал на лестнице до тех пор, пока капитан Лоринков не выбил москвичей из последней башни Кремля, и, обезумев от горя, велел выбросить всех оставшихся в живых защитников прямо на булыжники. Но капитан горевал зря.
Вопреки мнению капитана, всегда переоценивавшего сына, литература не понесла никакой утраты. Ведь люди пишут миллионы хороших книг. И мир не понес никакой утраты. Потому что бабы, слава Богу, рожают миллионы людей. И майору Лоринкову одна вот двоих родила когда-то.
Невосполнимую утрату понес только капитан НРКА Лоринков. Он думал об этом, когда шел по Красной площади и тащил тело о сына, майора Лоринкова. Еще он думал о том, что ради детей сына жить придется долго.
Над кремлевскими башнями сгущались сумерки.
И КИТ ИМ НЕ РЫБА
– Хвойные деревья, произраставшие на нашей планете 900 миллионов лет назад, представляли собой густые папоротники, усеянные семенами, благодаря которым эти папоротники и размножились, став самым распространен…
– Ту-ту-ту-тук…
– Но на самом же деле папоротники были вовсе не деревьями, а растениями совсем другого класса, просто из-за благоприятных климатических условий они смогли по своим размерам приблизиться к нынешним дере…
– Ту-ту-ту-тук…
– Также ученые считают, что теория о периодических катастрофах, после которых исчезало до 90 процентов видов на Земле, нуждается в дополнениях и уточнениях, поскольку наша пла…
– Ту-ту-ту-тук.
– Самое сильное потрясение, которое испытала на себе живая природа нашей планеты, произошло 12 миллионов лет назад, и это время, которое известно ученым как мез…
– Ту-ту-ту-тук….
– Знаешь, почему в Австралии аборигены разрисовывают тела белой глиной? Дело в том, что они таким образом показывают свое отношение к бож…
– Ту-ту-ту-тук…
– Почему вулканы, извергаясь, «плюются лавой»? Это происходит из-за того, что под земной корой находится более горячая субстанция, которую ученые называют магмой, и она под давлением и показывается нам. Когда вулкан извер…
– Ту-ту-ту-тук…
Петрика, проснувшийся из-за настойчивого бормотания соседа, не в ритм наложившееся на стук колес, сглотнул, и поморщился. Как всегда, если выпьешь днем стаканчик вина и уснешь, а потом резко проснешься, болела голова. Шея затекла… К тому же, этот очкарик…
Петрика выразительно глянул на соседа по верхней полке, но тот, счастливчик, еще спал. Соседом по купе у Петрики был Толик, крестный жены. Отличный парень, весельчак и душа общества. Петрика вспомнил, как здорово и смешно Толик довел до слез стюардессу молдавских авиалиний в прошлом году, когда им повезло заработать в Москве на стройке по 600 долларов, так что обратно и полететь можно было. Всю дорогу Толик шутил, смеялся, веселился, приставал к соседям, звонил жене на мобильный во время взлета и посадки, звал стюардессу «Танюшей», хоть у ней на груди и была табличка с надписью «Наташа». .. Эта Таня, ну, которая Наташа, рыдала потом на плече какого-то мудака в кителе и тот все порывался набить Толику морду, но молдаване не такой народ, чтобы дать в обиду своего. Так что пришлось этому летуну долбанному поорать, да успокоиться.
Петрика улыбнулся. Весело было. Только молдаване умеют так веселиться, подумал он, и с огорчением подумал еще, что если бы к ним в купе не подселили этого очкарика с ребенком, то поездка была бы прекрасна. Но очкарик с ребенком были здесь… И поездка грозила быть испорченной. Начать с того, что очкарик, ввалившись в купе под Тирасполем, стал морщиться, и демонстративно открывать окно. А ведь они с Толиком ничего такого не делали, просто покурили на дорожку, закрывшись. Затем очкарик, почему-то, заказал у этого проводника долбанного два комплекта постельного белья, чем поставил Толика и Петрику в неудобное положение. Ведь тем самым очкарик подчеркнул их нежелание брать постельное белье, а почему они должны его брать, если в этом поезде «Санкт-Петербург-Молдова» комплект постельного белья стоит 34 рублей, в то время, как в поезде «Молдова-Санкт-Петербург» такое же белье стоит 27 рублей. А все потому, что поезд русский. Долбанные русские!
– Да, но в молдавском поезде вам за семь рублей дешевле подсунут простыню, у которой в ногах большущая дыра, – попробовал развести ребят на деньги русский проводник.
– Глупый ты человек, – ответил мрачно Толик, – что с того, если я переверну эту простыню, и дыры под моими ногами не будет.
– Но тогда она окажется под твоей головой…
– Но тогда она не будет мне видна, – резонно возразил Толик.
На это проводнику нечего было сказать. Пробурчав что-то про жадность, дикарей и прочую оскорбительную чепуху, он убрался в соседнее купе. Судя по довольному виду, с которым он из купе вылетел, там были не такие умные как Толик с Петрикой люди. Так и оказалось. Проводник занес в купе четыре комплекта постельного белья, чайник, два стакана, и еще печенья. Все это стоило денег, и сразу стало понятно, что в поезде, кроме Петрики и Толика, больше гастарбайтеров нет.
Правда, до границы с Приднестровьем ситуация изменилась: на деревенских полустанках поезд постепенно заполнялся, и Петрика, с облегчением вдыхая воздух, пропахший кислой овчиной, жареной рыбой, чесноком и потом, понял, что нашего полку прибыло. Парень даже начал строить несмелые планы на то, что им в купе подсадят двух нормальных мужиков, и они скоротают время до Москвы за каким-нибудь достойным занятием. Ну например, партией в белот. Но не тут-то было! В купе зашел этот мудила с щенком лет пяти, – проветрил все, хоть его об этом и не просили, – и, что самое отвратительно, начал читать. Петрика глянул на часы, чувствуя слабость и головную боль. Семь вечера. Значит, он читает уже третий час… Петрика приподнялся на локте и с ненавистью поглядел вниз. Очкарик, с довольной физиономией, сидел на нижней полке, держа в руках зеленую книжку. Петрика, шевеля губами, прочитал три буквы сзади на обложке.
– А-С-Т… – тихо прошептал он.
– Ну до чего же тупые эти русские, – подумал он задумчиво, – ведь всему миру известно, что алфавит это АВС…
– Видимо, русские что-то напутали, – подумал Петрика.
– И тут не обошлось без их легендарного пьянства, – решил он.
Щенок смотрел на папашу с восхищением. Сразу видно, ничего хорошего пацан в своей жизни не видел. Тощенький, бледный. Сидит, руки по швам. Нормальный молдавский ребенок, – знал Петрика, взявший в прошлую свою поездку дочь, Настику, – давно бы уже половину поезда разнес. Щенок слушал внимательно, папаша бубнил, а Толик, к сожалению, спал, так что подшутить над ботаником было не с кем. Так что Петрика стал слушать. Постепенно он стал злиться. Ведь то, что было написано в этой долбанной книжке, было чушью чистейшей воды! Ну, например…
– Планета, созданная 4 миллиарда и 600 миллионов лет назад… – читал папаша.
– Да как же вы это блядь посчитали?! – бурчал Петрика.
– Крокодил, утянув добычу под воду, ждет, пока она разложится, и лишь потом приступает к трапезе, а не захлебнуться ему помогает специальная заслонка в горле, которая поз…
– Да всем же блядь известно, что крокодил рыба! – возмущенно думал Петрика. – Как он задохнется в воде-то, а?!
– Почему пчела никогда не теряет дороги в улей? – спрашивал папаша.
– Все дело в том, – читал он, едва Петрика собирался открыть рот и объяснить этому дураку городскому, почему, – что у нее есть природная система навигации, которая и дает пчеле возмож…
– Трутни – нужны они или нет? – говорил папаша.
– Да ка… – начинал бурчать Петрика.
– Оказывается, да! – говорил папаша несносную чушь. – Ведь именно благодаря трутням и происходит размножение пчелиного роя, что позволяет этим удивительным насекомым…
– Интересно, – мрачно думал Петрика, – кто-то из этих говорунов сраных, которые книжку писали, видел когда-нибудь пчел?
– А вот еще, сынок, – говорил обрадованно папаша, – интересное про китов. Хочешь?
– Да! – взвизгивал щенок, и Петрика от огорчения едва не сплевывал.
– Оказывается, – с важным видом, обхохочешься, поднимал палец ботаник, – кит это не рыба, а млекопитающее, которое происходит от таких же млекопитающих как и мы, просто вернувшихся в воду, и там утративших конечности, трансформировавшиеся в ласты…
– И кит им блядь не рыба, – качал головой возмущенный Петрика, от волнения вытащивший из пачки в штанах папироску.
Папаша глядел на штаны неодобрительно. Сами-то они с щенком переоделись, словно дурачки какие. Ну, какой смысл переодеваться в поезде, если в нем равно грязно, потому что здесь никто не переодевается?! Ну, чисто слово, дебилы!..
Петрика сунул в рот папироску, но поймав взгляд ботаника, передумал. Еще проводникам настучит. Русские проводники не то, что молдаване. С нашими можно иметь дело, подумал Петрика, вспомнив, как рассовывали наши проводники под полки коробки с абрикосами. Кстати, как они там, вспомнил Петрика, и полез на третью полку. К счастью, абрикосы были целые, сок не тек… Облегченно вздохнув, Петрика спустился на вторую полку.
– Кстати, об абрикосах, – сказал восторженно папаша-дебил своему щенку, – хочешь, почитаю тебе про них?
– Давай! – вякнул несносный мальчишка, от вида которого у Петрики уже голова болела.
– В косточке такого плода, как абрикос, содержится множество ядовитых веществ, – сказал папаша.
– Блядь, ну что за чушь?! – возмущенно подумал Петрика.
От нервов он решил перекусить, и осторожно обсасывал рыбную косточку, стараясь срыгивать в сторону, а не перед собой. Ну, чтоб самому не пахло. Родика нажарила чудесного толстолоба, только костлявого. Так что Петрика ел рыбу. Глянув вниз, он поймал презрительный и полный отвращения взгляд ботаника. Нет, со вздохом подумал Петрика, город есть город, село есть село. И вместе им не сойтись. Не поймет столичный горожанин, кишиневец вроде Петрики, вот такого вот очкастого сельчанина из Тирасполя. Доел рыбу, собрал косточки в ладонь, приоткрыл окно, ссыпал все туда, закрыл, вытер руки о матрас, потянулся к баклажке. Хлебнул.
– Хочешь? – спросил он ботаника из вежливости.
– Нет, спасибо, – конечно, отказался тот.
Петрика еще раз с сожалением глянул на Толика, но тот все спал да спал. Выпить было не с кем. Что же, оставалось поискать компанию.
– Так вот, абрикосы, – продолжил папаша срывающимся от негодования голосом.
– Хуекосы, – шепотом срифмовал Петрика, который решил развлечься.
– В косточке плода содержатся ядовитые вещества, напоминающие по своему составу цианистый калий…
– Хуялий…
– И достаточно десяти ядрышек орешков абрикосовой косточки…
– Хуесточки….
– Чтобы умер ребенок. И двадцати, чтобы умер взрослый…
– Хуеслый…
– Вот так, – сказал папаша сыну.
– Двадцать абрикосовых косточек, сынок, и взрослый погиб!
– Вот это да, – сказал щенок.
Петрика от негодования едва не подавился ногтем, которым чистил зубы. Ну что за хрень пишут в этих идиотских книгах, а?!
– Значит, – сказал от, негодуя, и сев, – двадцать абрикосов убивают человека, по-твоему?
– Не по-моему, – сказал ботаник, – а по-ихнему.
– По чьихнему? – спросил в ярости Петрика.
– По академие-наук-хнему, одобрившему в печать издание «Мир живой природы для детей», издательство АСТ, – прочитал, издеваясь, очкарик.
– АБС, – в ярости сказал Петрика.
– Что? – не понял очкарик.
– А, – махнул рукой Петрика, и, негодуя вышел.
– Хуй на, – шепотом сказал очкарик.
Мальчишка захихикал.
ххх
Постепенно в вагоне стало хорошо. В нескольких купе пили вино. Во всех кушали жареную рыбу. Проводники носились между купе, но их всюду слали к чертовой матери и это было еще не самое отдаленное место, куда их просили пойти. До русской таможни оставалось еще половина суток. Проснулся Толик, и Петрика раздавил с ним баклажку, рассказав про несусветную чушь, которую нес этот кретин по купе.
Толик только диву давался.
– Значит, двадцать абрикосов и ты покойник?! – не верил своим ушам он.
– Точно тебе говорю! – злился Петрика.
– Ну бля ученые лещи бля копченые! – смеялся Толик.
– Говны копченые!!! – возмущался Петрика.
Дверь купе открылась и мимо них с независимым видом прошел ботаник с сыном. Оба держали в руках… зубные щетки. Толик чуть с откидного стула не упал. Когда ботаник с сыном скрылись в туалете, Толик повернул свое лукавое лицо истинного бессарабца к Петрике и сказал:
– Культура…
После чего беззвучно рассмеялся.
Петрике стало легче. С Толиком все становилось ясным и понятным. Толик быстро соображал и был веселым. Он всегда разбирался, что к чему, и помогал разобраться в этом своим односельчанам. Толика на мякине не проведешь. Петрика был спокоен: если ботаника собрался высмеять Толик, то ботанику не несдобровать. Никому не устоять против лукавой молдавской насмешки. Тем более, какому-то говну очкастому из-под Тирасполя. Парни дернули еще вина, не стесняясь. Впереди было месяца три изнурительной работы на стройке. На сырой санкт-петербургской даче, у какого-то немца, у которого в прошлом году ребята из их села поставили забор. Фамилия у него была странная. Левантон… Левентан? Ну, да неважно.
Важно было лишь то, что климат в Санкт-Петербурге сырой, хозяин пьяных не любил, все время что-то черкал да читал, глаза портил, так что следовало заранее разогреться и напиться вдоволь. Так что ребята купили на украинском полустанке бутылку водки, – ну, чисто погреться. И, конечно, кастрюлю вареников. Продолжать решили в купе. В тамбуре, куда вышли предварительно покурить, стоял крепкий мужик. С серьгой в ухе, фигурой боксера и сумасшедшими глазами, которые не позволили Толику пошутить насчет серьги. Мужчина почему-то пел. Получалось ужасно.
– Молдаване, молдаване, мое сердце под прицелом! – выл он протяжно.
– Офицеры, молдаване, пусть свобода воссияет, – ревел он затем.
– Заставляя блядь огнем сиять сердца! – кричал он, после чего пил из горлышка коньяк.
– Здоров, братишки, – обратился он, наконец к Петрике с Толиком.
– Здоров, – сказали они.
– Закурить есть? – спросил он.
– Есть, – сказали Петрика с Толиком и достали свои папиросы.
– А я бросил! – радостно сказал мужчина.
– Тогда нет, – сказали Петрика и Толик.
– Я лейтенант запаса молдавской армии, – сказал мужчина.
– Так точно, – сказали Толик и Петрика.
Молдаване Толик и Петрика, как всегда, когда с молдаванами разговаривают строго, отвечали негромко, внимательно, и глядели себе под ноги. Мужчина хлебнул еще коньяку, покрутил головой, разминаясь, и сказал:
– Сегодня я отмечаю день Национальной армии, в которой никогда не служил, и это блядь очень характерный для постмодерниста поступок.
Стало понятно, что мужчина нарывается на драку. Вот уже и ругается «дернистом» каким-то..
– Споем?! – спросил он их.
– Ой! – сказал Толик и показал пальцем за спину крепышу.
Тот обернулся, а Петрика и Толик шмыгнули в вагон, а там стремительно бросились в купе. Прислушались. В вагоне кто-то потопал. Потом раздался голос:
– Друзья, где же вы?!
Толик и Петрика переглянулись и заперли дверь.
Опасность миновала, так что друзья снова развеселились. Тем более, что в купе происходили ужасно смешные вещи.
Очкарик учил сына писать.
ххх
Выпив еще вина, Толик с ласковой улыбкой простачка начал атаку. Свесившись сверху, он спросил:
– Пишете?
– Ага, – буркнул папаша.
– Все пишете… – сказал Толик.
– Ага, – сказал папаша.
– А не надоело? – спросил Толик.
– Не-а, – сказал папаша.
– А я его спрашиваю, – ласково сказал Толик.
– Его? – спросил папаша.
– Ну да, – мягко пропел Толик.
– Не надоело? – спросил папаша.
– Нет, – сказал мальчишка, выводивший букву фломастером в блокноте.
– Какой пацан у вас бледный, – сказал со вздохом Толик.
– Вот мой, старший, их у меня трое, он в семь лет уже в поле, работать помогает, а сам весь крепкий, здоровяк, – сказал Толик.
– А ваш… бледный какой-то.
– Это у него кожа такая, – сказал папаша, поправив очки.
– А вот вы кто? – спросил Толик.
– Я? – спросил папаша нервно.
– Ага, – сказал Толик.
– Я библиотекарь, – сказал нервно очкарик.
– Зарплата небось маленькая? – спросил Толик.
– Ну да, – сказал очкарик неуверенно…
– Так езжай в Москву, зарабатывать, – сказал Толик.
– А ребенок? – спросил папаша.
– А что ребенок? – спросил Толик.
– Профессор ты профессор, – пристыдил он библиотекаря, – ребенок твой вырастет и будет стыдиться своего отца, который ему даже кроссовок купить не может.
– Ребенку нужен отец… рядом… – неуверенно сказал библиотекарь, произведенный Толиком в профессора.
Толик улыбнулся. Петрика наслаждался. В почерневшем окне мелькали огни деревенек, потерявшихся в густых черниговских лесах. От тусклого света снова клонило в сон.
– Ребенку нужно, чтобы он был одет не хуже других, и магнитола у него была, и мопед, чтоб девчонку покатать, – сказал Толик.
Профессор снял очки, и негодуя, сказал:
– Будущее это образование!
– Хуезование, – одними губами сказал Петрика, и друзья со смеху едва не подавились.
– Что вы там ржете?! – негодуя, сказал очкарик.
– Вы всю свою жизнь в Подмосковье будете дачи строить, – сказал он, – и дети ваши будут, а все почему? Потому что папы им из Питера и Москвы да Италии мопед привезут, а книжку – нет!
– А зачем нам эти книжки, – мягко спросил Толик, – враньем голову детям забивать?
– Враньем? – чуть не подавился языком очкарик, и Петрика его даже пожалел на мгновение.
– Конечно, – мягко сказал Толик, – чистейшим враньем.
– Чушью про то, что человек от двадцати абрикосов умирает, – сказал Толик.
И презрительно рассмеялся.
Петрика лишний раз подивился тому, как Толик ловко умеет подвести все к нужной ему теме. Толик голова! Безо всяких книг блядских…
– То есть, вы считаете… – растерянно сказал очкарик.
– Я не считаю, – сказал Толик.
– Я в селе рос, профессор, – сказал он, – и абрикосами объедался так, что…
– Срал я от них, что твой Ниагарский водопад, – интимно поделился Толик
Очкарик метнул негодующий взгляд на Петрику. Ну словно проводник – стаканы, позабавился Петрика.
– Это же подтверждено и проверено Академией Наук! – сказал очкарик.
– Чушь все это, – сказал Толик, – лучше бы ты ребенка побегать в коридор пустил…
– Я… вы… да… – возмущался очкарик.
– Петрика, дай абрикосов, – сказал Толик.
Мальчишка заинтересованно глядел на взрослых. Дверь в купе была уже открыта, и в проеме собралось уже с два десятка любопытствующих, привлеченных спором. Даже проводники стояли, бессильные что-то сделать, поэтому они просто расслабились и стали получать удовольствие от потрясающего зрелища. Спор Теории и Практики, Наития и Разума…
Петрика, торжествуя, снял коробку с третьей полки. Ничего от двадцати съеденных абрикосов хозяину не станет. Не заметит он недовеса. Перебьется Левиафан этот, все равно за коробку сразу платит…
– Раз, – сказал Толик, торжествующе, очистив съев абрикос, разбив косточку и сожрав ядрышко.
– Вы хоть помойте их, – страдая, сказал очкарик.
– Зачем? – спросил Толик, пожирая второй и третий абрикосы.
– Там же бактерии… – сказал неуверенно очкарик.
– Это в книжках так написано? – спросил Толик, и вагон радостно заржал.
Не смеялся лишь мужичок с серьгой. Он лишь грустно покачал головой, и ушел в начало вагона, некрепко держась на ногах, и очень крепко – за початую бутылку коньяка. Встал там напротив окна, уперся лбом в стекло и стал о чем-то думать. Не наш человек, подумал с неприязнью Петрика. Слишком много блядь думает.
– Семь, – считал хором вагон.
– Восемь, – звенели голоса все громче.
– Девять!
Очкарик глядел, как абрикосы исчезают в пасти Толика. Как белые, ядреные зубы здорового, цельного молдавского парня дробят и крошат, – словно косточку абрикоса, – все идиотские, оторванные от жизни представления очкариков-вонючек из Академий Наук про настоящую жизнь. Как облетает шелуха псевдо-учености со рта Толика, который запивал каждую абрикосинку и ее ядрышко стаканом чудесного молдавского вина. Того самого, которое делают из сорного сорта бакон. От которого член крепче Эйфелевой башни, а язык – чернее молдавской ночи. Очкарик глядел…
– … надцать! – кричал вагон.
– … тнадцать! – ревели все.
– Двадцать!!! – закончили они.
Толик торжествующе доел двадцатое ядрышко, хлопнул еще стакан и поднял верх руки. Весь вагон аплодировал. После этого двадцать абрикосов – а Левенталь (вот, вспомнил!) ничего не заметит, потому что оставшиеся абрикосы намочим, и коробка отяжелеет, решили парни, – скушал и Петрика. И что? И ничего! Поезд несся. Люди смеялись.
Даже сын глядел на очкарика с презрением.
ххх
Ночью купе разбудили русские пограничники. В спящих тыкали фонариками, трепали за плечи, бегло просматривали документы.
– Эдуард Ильченко… – узнал из уст пограничника фамилию очкарика Петрика
– С какой целью едем? – спросили очкарика.
– Визит к родственникам, – сказал убитый вечерним фиаско очкарик, и Петрика радостно понял, что ботаник не спал всю ночь.
– Поделом тебе, – подумал он. – Сука блядь ученая.
Сел, протянул паспорт служивому. Дверь была распахнута, так что Петрика видел, как проверяют документы в коридоре у крепыша с фигурой боксера и очередной бутылкой коньяку. Какая по счету, интересно, подумал Петрика. Из тех, что он видел, четвертая. Словно в песок уходит, с уважением подумал Петрика.
– Цель визита? – спросил пограничник.
– Сугубо личная, – сказал крепыш, не отрывая лба от окна.
О том, что он выпил, можно было судить лишь по тому, как медленно и четко произносил крепыш слова. Настоящий молдаванин, умеет пить, подумал Петрика. Эх, если бы еще не думал столько, подумал Петрика.
– А поконкретней? – спросил пограничник.
– Поконкретнее? – спросил задумчиво крепыш.
– Поконкретнее, – с усмешкой сказал пограничник.
– Поездка в северную столицу России, город Санкт-Петербург на церемонию вручения литературной премии «Национальный бестселлер» в качестве лауреата, коим я и являюсь по результатам голосования высокого жюри, – проговорил умеющий пить, но чересчур задумчивый молдаванин, глядя в окно
– Ни разу не запнулся, – подумал восхищенно Петрика.
– Гм, – сказал пограничник.
Молча протянул документы, и ушел, оглядываясь.
Крепыш сунул паспорт в карман, не глядя, и хлебнул.
Поезд тронулся.
ххх
Утром, когда остывшие тела умерших от цианида Петрики и Толика вынесли из поезда, а проводники, трясущиеся после допроса, отпаивали друг друга валерианой, очкарика Ильченко с сыном перевели в другой вагон. С очкарика еще взяли расписку о невыезде по приезду.
– Придется дать показания еще, – сказали хмуро два следователя.
Очкарик покивал судорожно, и утащил мальчишку в соседний вагон, где им выделили отдельное купе. Без соседей, от греха подальше…
Вагон мрачно молчал. Смеялся только лауреат премии «Национальный бестселлер», открывавший девятую бутылку. Он называл это «уважить Роспотребнадзор». В проклятое купе, опечатывать которое не было смысла, уселись два следователя, которым все равно нужно было ехать до Москвы. Вздохнули. Покачали головами.
– Долбанные молдаване, – сказал один.
– Долбанные идиоты, – сказал другой.
– Нет, ну блядь… – сказал один.
– Да нет слов, – сказал другой.
– Да я с детства видел, как старое варенье с косточкой выбрасывают… – сказал один.
– Да это же блядь азы, – сказал другой.
– Кретины, – сказал один.
– Идиоты, – сказал другой.
– И вот семеро сирот блядь, – сказал один.
– … – сказал другой.
Помолчали. Огляделись. На верхней полке лежало несколько раздавленных абрикосов. В углу у окна на нижней – рыбные косточки. Пачка папирос «Жок». Один следователь вытащил папиросу, понюхал, брезгливо бросил на пол. Положил ноги в обуви на полку напротив. Почувствовал что-то твердое. Под скомканным полотенцем была книжка.
«Мир живой планеты».
Скучая, раскрыл наугад. Прочитал вслух:
– В очень малых количествах наш организм вырабатывает и такое вещество, как этиловый спирт…
– Да, читал, – вяло откликнулся второй.
– Тот самый, который в больших количествах бывает смертельным веще… – читал первый.
– Ну ясен пень, – сказал второй.
– Смертельная же доза этилового спирта составляет 400 миллилитров на человека…
– А? – сказал второй.
– Четыреста, – сказал первый.
– Что-то они не то, – сказал второй.
– Ну да, – сказал первый.
– Эвон, мне дед говорил, в деревне у них парень выпил два литра самогона, – вспомнил он.
– Убивает за полчаса… – недоуменно прочитал второй.
– Чушь блядь какая-то, – сказал первый.
За окном мелькал подмосковный пейзаж. Мужчины посидели еще полчасика. Книга бросалась в глаза…
– Да прям, – нарушил молчание один
– Чего-то не верится… – сказал другой.
– Херню какую-то пишут, – сказал один второй.
– Детей пугают, – сказал первый.
– Ну да, те же не проверят, – ответил второй.
– Нет, ну напишут же! – усмехнулся первый.
– Свистят как Троцкий! – сказал второй второй.
– А как проверишь? – спросил первый.
– Думаешь, у проводников спирта нет? – спросил второй.
– Есть, – сказал первый.
– Четыреста граммов за полчаса насмерть, вранье, – сказал первый.
– Ну так, – сказал второй.
– А знаешь… – сказал первый…
Мужчины поглядели друг на друга пару секунд.
За окном начинались предместья Москвы. Поезд, медленно покачиваясь, ехал мимо бетонных блоков с граффити и надписями «Бей пидарасов, черных и ментов», «Путин, уходи! НБП», «Русская литература умерла, а я нет», «Русские, Москва это город ночхов!» и «Добро пожаловать в столицу Хачистана, чурки. Русский Союз».
До вокзала оставалось как раз полчаса.
КРОВАВЫЙ СПОРТ
На чемпионат мира меня пригласили внезапно.
Я думал, мне еще лет пять нужно для того, чтобы туда попасть. Но они решили, что я уже готов. Ну, что же. Я как раз бегал в парке.
– Фух, фух, фух, фух, – говорил я.
И уже сбегая с горки:
– Хуф, хуф, хуф, хуф.
Старички, выгуливающие в парке собачонок, глядели на меня с интересом. Им, вероятно, казалось весьма необычным то, что молодой еще – а как же, в их-то сто двадцать лет, – мужик бегает не молча, или страдальчески сопя, а резко говорит на каждом шагу «хуф». Ну, или «фух». Наконец, на моем пятом кругу – в наушниках как раз заиграла «Безответная любовь» отвратительной с виду и по замашкам, но очень голосистой и талантливой певички Мары, – один из стариков не выдержал. Я как раз остановился, чтобы прилечь на лавку и покачать пресс.
– Молодой человек, – сказал он, – я могу спросить вас почему вы так дышите?
– Дедушка, – сказал я, – а почему нет?
– Так и что это вы так дышите? – он глядел на меня все-так же доброжелательно-заинтересованно своими выцветшими, а когда-то голубыми, глазами.
– Как это я так дышу? – спросил я, не останавливаясь в упражнениях.
– Сначала «фух», а потом «хуф», – сказал он.
К нему подошла жена. Такой же Божий одуванчик, как и он. Расслышала в моем голосе что-то неприятное, и инстинктивно прикрывает мужа, подумал я. Выглядело это ужасно трогательно. По качеству спортивных костюмов и по их манере держаться – не постояно-раздраженной, как у всех здесь, а очень мирной и безмятежной – я сразу понял, что они не из Молдавии. Значит, или русские или евреи. В Молдавии было полно евреев, покуда их всех отсюда не выгнали молдаване. Ну, и русских выгнали молдаване. Ну, а потом молдаване повыгоняли и самих молдаван. Никого здесь не осталось. Только такие злоебуче-упрямые придурки, как я…
Но старость нужно уважать. Я постарался сказать максимально дружелюбно:
– «Фух» я говорю, когда бегу НА горку, и это высвобождает энергию чи.
– А «хуф» я говорю, когда бегу С горы, и это высвобождает энергию ци, – сказал я.
– Так просто… – сказал он.
– Ага, – сказал я.
И не стал добавлять, что это я только что придумал. Просто бежать пятнадцать километров, после каждого шага делая одинаковые выдохи, просто-напросто скучно. Я встал, чувствуя, как болит пресс – это сладкая боль, она возвещает о квадратиках на твоем животе, сын мой, – и потянулся.
– Какой приятный молодой человек, – сказал старичок.
– Его лицо мне знакомо, – сказала старушка мужу.
– Он, кажется, пишет книжки, – добавила она.
Я приосанился и с отличным настроением начал было убегать.
– Он?! – удивился старичок.
– Вот этот вот засранец?! – спросил старичок громко.
– Эй, – сказал я.
И остановился, потому что старость нужно уважать до определенного момента. Пока она не села тебе на шею и не сжала костлявыми ногами Смерти. Старичок, отбросив палочку, резво подошел ко мне и схватил за правую руку. Дернул на себя. Я оторопело смотрел на него. Дедулька поменялся на глазах. Сейчас это был пусть не совсем молодой, но крепкий еще МУЖЧИНА. Он подмигнул. Я машинально подмигнул в ответ. Бабулька подлетела ко мне, и я по походке определил, что она не один год занималась боевыми искусствами. К тому же, бабулька сняла на ходу парик, и я увидел, что это бритый наголо мужик лет пятидесяти. Вполне еще в форме.
– Что за херня?! – спросил я, принимая на всякий случай оборонительную стойку.
– Спокойно, – сказал «бабуля» и махнул удостоверением.
– Держи пять, – сказал «дедок», снова взявшись за мою правую руку.
И пока я пытался понять, что происходит, «бабуля» с размаху сунул мне в руку конверт.
Мгновение, и пара уже уходила от меня по боковой аллее. Единственное, что я разглядел, это слово «Моссад» на удостоверении… Над парком завис маленький вертолет и мосадовцы залезли в него по веревочной лестнице. Вертолет покружил надо мной и полетел в сторону района Чеканы.
– Эй, – крикнул я напоследок, махнул рукой и вертолет снова завис.
– Иерусалим-то в ту сторону, – показал я.
– Знаем, дурья башка, – ответили они.
– Но нам-то в Тель-Авив! – крикнули они.
Я помахал рукой на прощание, но парни этого уже не увидели. Вертолет рассыпался на горящие куски. Я оглянулся. Справа от меня какой-то смуглый мужчина в арафатке прятал в футляр от контрабаса металлическую трубу. Гранатомет, понял я. Мужчина снял арафатку и сунул ее в карман. Помахал мне рукой и подхватил на руки футляр. Я помахал ему в ответ и на всякий случай побежал дальше. Как можно дальше от их долбаных разборок.
В конце концов, меня ждала разборка покруче.
ххх
На другой дорожке я развернул конверт, уже зная, что там.
В нем лежало приглашение, отпечатанное на очень плохой – так требовала традиция, – бумаге, украшенной фигурками драконов.
«Боец. Ты стал одним из лучших. Ты признан одним из лучших. Пришла пора доказать это САМЫМ лучшим. Закрытый турнир „Кровавый спорт“ призывает тебя на ринг. Приди и покажи, что умеешь. Помни – явка чревата смертью. Помни – неявка приравнивается к смерти. Смерть впереди и смерть позади. Разглашение места проведения боев карается смертью. Так стоит ли бояться?… Турнир начнется 15 мая 2009 года. Молдавское село Калараш. Местный Дворец Спорта. Лучшие из лучших соберутся там, чтобы определить самого лучшего. Удачи. Фух-хуф!»
Конечно, безо всякой этой китайской херни обойтись они не могли… Что же. Я подумал, что мне придется увеличить нагрузки, и провести пару боев с тенью. До турнира оставалось еще две недели.
Я глубоко вдохнул и продолжил бежать.
ххх
До Калараша в центре Молдавии, этой дыры посреди дыры – своего рода задница в заднице, – меня подбросил словоохотливый водитель «Мерседеса». Парень болтал всю дорогу, чем изрядно меня утомил. У него была Шикарная Тачка с Приборной Панелью, которая вся Мигала. Это парня здорово возбуждала. Он возвращался из Кишинева, где кутил с поблядушками, в родное село. А оттуда – снова в Италию, на заработки.
– А ты чем занимаешься? – спросил он.
– Я литератор, – соврал я.
– Чересчур здоровый ты для литератора, – сказал он.
– Ей Богу, – сказал я, и вытащил из рюкзака пишущую машинку.
– Вот херня, – сказал он, – айда со мной лучше в Сорренто бордель местный крышевать.
– Я боец, и мой путь – путь воина, – сказал я.
– Херня на постном масле, – сказал он, – ты же сам только что сказал, что ты литератор.
– Понимаешь, – попробовал объяснить я, – еще японцы и китайцы считали, что если человек занят каким-то искусством, неважно каким, то он покоряет один и тот же Путь.
– Так, – кивнул он, не понимая, куда я клоню.
– Ты мог рисовать кисточкой херню всякую на рисовой бумаге, мог плавать, мог фехтовать мечом или палкой, мог стихи слагать, это не имело значения, чтобы ты не делал, ты пытался достичь Совершенства, – объяснил я.
– Поэтому литератор, – пояснил я, – ну, тот кто пишет всякую херню кисточкой на рисовой бумаге, он тоже Боец.
– Вот херня-то, – сказал он.
– Феерическая, – подтвердил я.
– Знаешь, – сказал он, – мне такой трепач тем более нужен. Ну, в Сорренто-то. Будешь нас идейно от полиции отмазывать.
– Не могу, дела, – сказал я.
– Ну, а куда ты едешь? – спросил он.
– На турнир «Кровавый спорт», – сказал я.
– Вы там типа сражаетесь, как в кино этом? – мне попался подкованный попутчик.
– Нет, стихи друг другу читаем, – сказал я.
– Но почему ты такой накачанный? – спросил он.
– Да я просто бомбилой при валютке подрабатываю, – объяснил я.
– Странный ты литератор, – сказал он.
– Это для денег, – сказал я, – а Путь для души.
– Ладно, – сказал он, внезапно на что-то решившись. – Я возвращаюсь завтра по этой же дороге, есть одно дельце в Кишиневе, если что, стой у городского супермаркета у дороги, я подберу.
– Буду в хорошей форме, подожду, – сказал я.
– У вас ТАК все серьезно? – спросил он.
Мне не хотелось его пугать.
Так что я даже и не намекнул, КАК у нас все серьезно.
ххх
Мероприятие было замаскировано под праздник весны и земледелия, так что на входе крутились какие-то прошмандовки в национальных костюмах. В волосах у каждой были ленты цвета флага Молдавии. Каждая – прошмандовка, не лента – напоминала одновременно и Чепрагу и Ротару, только помоложе, да поблядовитее. А поблядушка с внешностью Ротару это как проститутка, загримированная под Зыкову.
Национальное оскорбление, подумал я, и разозлился.
Девки встречали приезжих мамалыгой с солью. Я попробовал, сплюнул, и похлопал поблядушку по жопе. Отодвинул охрану и зашел в зал. А уж там никакого антуража не было. Только пара свечей – для духов погибших бойцов, – татами в центре на небольшом возвышении, да зрители вокруг. Зрители в массе своей и были бойцами. Я огляделся. Кивнул парочке знакомых лиц. Ко мне подошел распорядитель.
– Лоринков, Молдавия, – сказал я.
– Ваш бой через пять минут, – сказал он беспристрастно.
Я молча кивнул. Опять эта гребанная китайская страсть к сюрпризам.
– Кто соперник? – спросил я.
– Узнаете на ринге, – сказал он, – разминайтесь.
– Каков порядок боев? – спросил я.
– Мы слышали, вы любите сладкое, – сказал он, и это была правда.
– Так что сильнейшие останутся вам на десерт, – сказал он.
– Если, конечно, вы раньше не попадетесь кому-то, кто любит бифштексы, – сказал он с гадкой восточной улыбочкой.
Херов шутник. Я отвернулся, снял с себя рубашку, – выгляжу я, благодаря подработке, на десять баллов, – и быстро размял суставы. Ударили в гонг. Я вышел.
– Лоринков, Молдавия, – сказал кто-то сверху из судейских.
Я поклонился. Навстречу мне вышел суховатый мужик лет сорока-сорока пяти. Коротко стриженный. По глазам видно, приходилось страдать, да и повидал кое-чего в жизни. Значит, нормальный мужик. Я подавил в себе симпатию, потому что это был соперник.
– Этот год мы объявляем юбилейным, – преподнес сюрприз собравшимся судья.
– По правилам юбилейного года боя проигравший погибает, – напомнил судья правила юбилейного года.
Черт. Я ТЕМ БОЛЕЕ подавил симпатию. Он, судя по его виду, сделал то же самое. О кей.
– Чак Паланик, США, – сказал рефери.
По залу пробежал шепоток. Первый бой с одним из лучших. Вечные фокусы. Ладно, подумал я, с другой стороны, никто не просил тебя залупаться и на каждом углу трындеть о том, какой ты великий. С другой стороны, подумал я, как раз Я-то сейчас, – в отличие от него, – в наилучшей своей форме.
В гонг ударили еще раз.
Мы с Палаником бросились каждый к своей машинке. У нас было по пятнадцать минут. Я написал рассказ про хореографа, который спился, обидевшись на Бога. Чак слажал – вот что значит быть звездой, и не держать себя в форме. Накалякал опять что-то про имплантанты, трансвеститов, мордобой, и рак крови, и как его боится главный герой. Это было похоже на домашнее задание курсов писательского мастерства.
– Победитель Лоринков, Молдавия, – сказал судья то, что и так было всем очевидно.
Чак, надо отдать ему должное, не выпендривался. Коротко мне поклонился, и лег на татами. Я взял машинку – старая, тяжелая, потому и брал, – и в три-четыре удара размозжил ему башку. Тело уволокли. Я позволил себе выдохнуть в полную силу.
– Фух-хуф, – сказал я.
ххх
Они не были оригинальны, и – как в кино «Кровавый спорт» – старались в первых боях стравить сильнейших с новичками, но непременно, чтобы бойцы были похожи по стилю и манере боя. Сначала какой-то какой-то мерзкий носатый француз – то ли Бедродер, то ли Бедбер, – разнес башку толстому, сыроватому на вид парню из России, написавшему херню про офисного работника. Зал покойного справедливо освистал, потому что на «двоечках» бой на выиграешь. Потом пришла очередь французишки: его мастерки уложил блестящим рассказом американец МакКинерни.
– Вуаля, – развел руками носатый, ложась на татами.
Ох уж эти лягушатники. Вечно им хочется повыпендриваться, даже на плахе. Американец поступил с ним гуманно, просто сломал шею точным ударом тяжеленного ноут-бука, ребром прямо между позвонков. Я поаплодировал. Маккинерни мне кивнул. Сам Маккинерни знал меня. Я понял, что мои шансы серьезны.
Следующим моим соперником был Уэлш.
– Лоринков, Молдавия, Ирвинг Уэлш, США, – сказал судья.
Снова американец, подумал я, заходя на татами. Гребанная империя зла! Маккинерни мне подмигнул. Уэлш написал рассказ про тетку, которая была мужиком, и поэтому трахалась только в задницу, потому что искуственное влагалище было у нее в шрамах. Это был явный плагиат у самого себя. Я ожидал чего-то получше. Мне даже жаль стало, что я потратил на него свой рассказ про маньяков в небольшом городке. Уэлш лег, и я спросил его:
– Почему ты не боролся?
– Чувак, меня задолбала наркота и я здорово устал от литературы, – сказал он.
Что же. Сильного соперника надо уважать. Я постарался отправить его на Парнас как можно безболезненнее. Тело уволокли и я вскинул руки. Поймал пристальный взгляд из зала и мне стало неприятно.
На меня в упор глядел Сароян.
ххх
– Ну, что, парень? – спросил он меня, когда мы вышли на татами.
– Пришла пора сразиться с НАСТОЯЩИМ серьезным соперником? – ухмыльнулся он.
– Запросто, – сказал я.
Хотя слегка волновался. Это же, мать вашу, Сароян. Он самого Чехова завалил на прошлом турнире! Но я был готов и на этот случай. Поэтому когда старик Вильям сочинил рассказ в стиле журналиста-Панюшкина, который пытается писать в стиле самого Сарояна – сентиментальную херню ни о чем, с вечными повторениями, смысловыми особенного, – я завалил его превосходным рассказом про отца-одиночку. Жестоким, но грустным. Блюз убийц. Сыграл на его поле.
– Сыграл на моем поле, – сказал он уважительно.
– Если бы ты попробовал сделать что-то в стиле Уэлша или Паланика, ты бы проиграл, – сказал он то, что мы оба и так понимали.
– Но ты молодец, – пожал он мне руку и лег.
Мастера. Тем они и отличаются от всякой херни, что в состоянии оценить замысел и силу соперника. Я избавил от страданий бытия и Сарояна. Следующим был Буковски, и это было очень тяжело. Старый пьяница сопротивлялся, как мог. Попробовал разнести мои позиции, сочинив великолепную историю про пьяницу-почтальона, который приносил всем в конверте вместо денег Дьявола. Но я-то был с Ним повязан, так что мой рассказ был о том, как Бог ждет письма с Дьяволом внутри, ждет, и пьет, совершенно опустившись, валяясь на продавленном диване в одних сатиновых трусах-семейках. Пьет и ждет. Буковски, кстати, – как и все алкаши, – умирать не хотел. Но, как и все гении, понимал, что чувство меры просто необходимо.
Я разнес ему голову печатной машинкой, по которой кровь уже просто стекала, и понял, как устал.
В первом ряду мне вежливо хлопали двое: верзила в свитере и джентльмен в костюме. Хлопали сдержанно и вежливо, Хэм и Фитц.
Все только начиналось.
ххх
Дальше пошел настоящий калейдоскоп. Ну, или мясорубка, как вам угодно. Я лихо расправился с Селином – мизантроп сраный только и делал, что кривился, пока не перестал дышать, – довольно быстро разобрался с Чапеком. Потом был невероятно сильный соперник, Фаулз, но он слишком увлекся постмодернизмом, и, как и все старомодные – не то, что нынешние – англичане, был чересчур выспренним. Потом пришел черед Гари, но глаза у того были как у сломленного человека. Он только начинал пробовать мою оборону чересчур метафоричными – ох уж эти французы – рассуждениями о мире, о-ла-ла, и даже не приступил еще к сюжету, как я, замотав его диалогами, уложил прямым правым – историей воздушного змея с ударным концом.
Следующим был Бабель, и это приятно будоражило. Разговаривать по правилам боев на татами было нельзя, но бойцы это правило нарушали, а рефери особо не заморачивались на этот счет. Так что я мог, наконец, высказать ему все.
– Сейчас ты заплатишь за то, что эксплуатировал южную тему, которую я всегда по праву считал МОЕЙ – сказал я. – Причем делал это лет за сто ДО меня.
– Эта тема должна была дождаться МЕНЯ, – сказал я.
– Ты заплатишь, блядь толстогубая, – сказал я в ярости, а он только посмеивался.
Но он заплатил. Я превосходно изучил все его приемчики, и на «губки-устрицы, мясистый, как губы лошади зад, пестрое покрывало луга» и другие одесские заморочки, ответил выверенной, – и в меру жесткой, – новеллой про молодого человека, который ночует в чужом саду, ест виноград, его проносит, и единственное, чем он может вытереть зад, это страница из книжки его любимого писателя. Бабеля.
– Ну, это хотя бы было предисловие? – спросил он.
Я вежливо улыбнулся, и признал, что он умирает как мужчина. К тому же, когда он уже проиграл, я не мог не признать, что дело еще и в том, что он рассказ по году писал, и пятнадцати минут ему явно не хватало. С другой стороны, на кой хер ты лезешь в клуб лучших, если не в состоянии сконцентрироваться мгновенно?
Я убил и Бабеля.
… В углу, куда я отошел попить воды, бойцы отрабатывали удары и разминались на каких-то несчастных ублюдках. Ублюдки ныли, но даже не пытались сопротивляться. Ползали по полу после легкого удара, плевались кровью, и шептали друг другу «но мы-то все равно крутые перцы, да, парни, да, марта, да, алмат?». Их даже не добивали, они умирали сами.
– Это еще кто такие? – спросил я Маламуда.
– Эти груши? Не заморачивайся, – махнул он рукой.
– Сетевые авторы, – сплюнул он.
Я вернулся к боям.
Гонг звенел все чаще, татами был уже мокрый – каждый раз после проигрыша его чистили мокрыми тряпками, – груда мертвецов в углу зала росла. На мое счастье, Мейлер проиграл Хеллеру, а сам достался Апдайку. Ну, а уж того вполне технично сделал Шолохов.
Кстати, Шолохов я, да Бабель были единственными здесь, кто писал на русском из прошедших первый тур.
– Почему так мало наших на этом турнире лучших? – спросил я кого-то из судей. – Ну, русскопишущих?
– Ты что, чувак, ПРАВДА не понимаешь, почему на этом турнире ЛУЧШИХ так мало ваших? – спросил он.
Я заткнулся.
ххх
Постепенно в зале остались ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сильнейшие.
И среди них я с удивлением – я и правда хорош, но мне никогда не везет – обнаружил себя.
Со Стейнбеком у нас вышла ничья, и нам пришлось отправиться на переигровку.
Мне повезло с заданной темой, да и вторым всегда быть легче, чем первым, так что я легко сделал его повестушкой про гастарбайтеров. Еще бы. В его время и слов-то таких не знали. Но Джон не обиделся.
– Обязательно выпьем, – сказал он.
– Виски, в Монтеррее, на какой-нибудь пустой бочке у причала, – сказал я.
– И чтобы волны бились об камни, и брызги до ног долетали, – сказал я.
– Если они там еще есть, эти бочки и этот причал, – сказал он.
– Если они там еще есть, – сказал я.
Мне стало грустно и я заплакал.
Но у меня не было выбора. Я победил Стейнбека.
А дальше на татами вышел Хэм.
– Привет, малыш, – сказал он.
– Привет, Хэм, – сказал я.
– Вижу, ты учишься, – сказал он.
– А как же, – сказал я.
– Держи нос по ветру, – сказал он.
– Буду, Папа, – сказал я.
– Ты ничего, – сказал он.
– Сейчас увидим каков ты в деле, – сказал он.
– Давай, Папа, – сказал я.
– Ладно, – сказал он.
– Ладно, – сказал я.
– К бою, – скомандовал рефери.
Хэм играл нечестно. Он печатал, глядя на меня со снисходительной улыбочкой и я понял, наконец, почему она так раздражала Фитцджеральда. Это было что-то вроде сигарной вони в лицо сопернику во время шахматного турнира. Ладно. Шахматы так шахматы. Я сделал ход конем. Это был рассказ в стиле раннего Хэма, но с моей начинкой. Скульптура изо льда с бушующим внутри нее серным пламенем ада. Сумасшедшая в теле леди. Шлюха в передке святой. Я обжегся, когда писал этот рассказ. Хэм даже решения судей ждать не стал.
– Ты мужчина, малыш, – сказал он.
– Ты Великий мужчина, Хэм, – сказал я.
– Просто в этот раз мне повезло чуть больше, – сказал я.
– Ни хрена тебе не повезло, – сказал он, и я согласился.
– Я заслужил, – согласился я.
– Ты заслужил, – сказал он.
Из уважения судьи позволили ему еще раз застрелиться.
Мне снова стало грустно. Но это уже не имело значения.
Все они были мне как отцы родные.
Но я пришел побеждать.
Да они и сами себе выбора не оставили.
Это же они и научили меня побеждать.
ххх
Фитцджеральд, позер этакий, вышел в костюмчике.
Ладно, я вытер пот и кровь с торса, и пожал ему руку. Он сказал, не отпуская ее:
– Вы, молодой человек, полагаете, что у меня хер маленький?
– Нет, сэр, – сказал я.
– Вы все полагаете, – сказал он, – потому что Зельда, пизда такая, об этом только и твердила, и внушила мне, а Хэм, пиздобол старый, не удержался и написал…
– Нет, я так не думаю, – сказал я.
– Думаешь, – сказал он и добавил, – поэтому я твои мозги по стенке размажу, говнюк, понял?!
– Я вас понял, сэр, – сказал я.
Я не мог не быть нежным с человеком, написавшим «Ночь нежна». Но я победил и его. Он, как обычно, запутался на подходе к финалу, а я возьми, да и обойдись простотой, но не той, что от убогости, а настоящей великой простой одеяний Древнего Рима. Мой лаконизм превзошел лаконизм Хэма. И все это – напоминаю – с начинкой из кипящего сероводорода Миллера.
– Сэр, я правда думаю, что у вас большой, – сказал я, когда Фитц, стараясь не помять костюмчик, прилег на татами.
– Ну, у тебя, парнишка, еще больше, – сказал он ворчливо.
Он выглядел одиноким и несчастным. Как парень с дыркой в голове, плавающий в бесконечности на матраце посреди своего бассейна в роскошном доме у залива. В доме, не принесшем ему счастья.
Мне опять стало очень плохо, но это, как и раньше, не имело значения.
Из глубины зала на меня с интересом посматривали Гашек, Костер и какой-то немец, сбацавший «Нибелунгов». ..
– Вы, трое, – сказал я.
– Идите сюда все СРАЗУ, – сказал я.
И понял, что потерял чувство меры. Потому что здесь слов на ветер не бросают. Они поднялись все трое. Сразу. Что же. Я сам себе выбора не оставил.
Встал в защиту и принялся ждать…
ххх
Пыль от дороги забивалась в нос, так что я чихнул, прикрыв рот.
Отнял руку, а у дороги уже стоял «Мерс». Вчерашний попутчик. Парень и правда меня не обманул. Я сел в машину, положив на заднее сидение золоченную статуэтку.
– Вижу, ты чемпион, – сказал парень.
– Да уж, я постарался в этом году, – сказал я.
– А где твоя печатная машинка? – спросил он, уважительно глядя на мои перебинтованные руки, синяки на лице, и кровоподтек на виске.
– Пришла в негодность, – сказал я.
– Следи за дорогой, – сказал я.
– А то мало ли что, – сказал я.
– Всякие там аварии, – сказал я.
– Вот так-то вот, – сказал я.
Снова вспомнил Хэма и надолго замолчал. Водитель ждал. Я вытер слезящиеся от боли глаза и только тогда он спросил:
– Так как насчет моего предложения поехать в Сорренто?
– Крышевать проституток? – напомнил он.
– А свободное время там у меня будет? – спросил я. – Я же пишу еще иногда.
– Полно времени, – заверил он.
– Ладно, – сказал я, – позвоню жене уже из Сорренто.
– Разворачивайся, едем, – сказал я.
– Прямо отсюда? – сказал он.
– Прям сейчас? – сказал он.
– Так тебе нужен вышибала? – сказал я.
– Такой – да, – сказал он.
Развернул машину через двойную сплошную, и и мы поехали вслед за Солнцем, на Запад. Я поймал «Классик ФМ», включил радио погромче, и достал из рюкзака книгу. Ее автор в этом году пропустил турнир по семейным обстоятельствам.
«История сотворения мира в 11 с половиной главах»
Я начал читать.
Пора была начинать готовиться к следующему году.
КОНЕЦ
Владимир Лорченков, 2005—2009 гг.










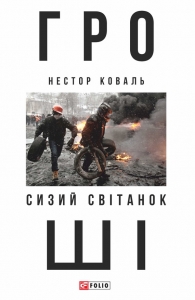


Комментарии к книге «Автопортрет художника (сборник)», Владимир Владимирович Лорченков
Всего 0 комментариев