Катрин Лове Потешный русский роман
Патрику, Жереми и Джулии
Памяти моего друга Саши Щукина
Французская линия
Catherine Lovey Un roman russe et drôle
Editions Zoé
Перевод книги поддержан грантом швейцарского совета по культуре «PRO HELVETIA»
Перевод с французского Елены Клоковой
© Editions Zoe, 2010
© Клокова Е., перевод, 2013
© ООО «ИД «Флюид ФриФлай», 2013Любое сходство с реальными людьми, ныне живущими или покойными, является случайным. Единственный персонаж из жизни – Михаил Ходорковский. В этом романе упомянуто несколько общеизвестных фактов о нем самом и его жизни в заключении в Сибири. Все остальное – плод фантазии автора.
Благодарю мою подругу Юлию К. за помощь в «обращении» с русскими словами, которые произносят герои романа.
Спасибо всем мужчинам и женщинам, которые принимали меня в России.
Благодарю моего издателя Марлизу Пьетри.Часть I
«Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. И зачем я сюда поехал? – спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным».
Антон Чехов Остров Сахалин. Из путевых записок.
Придется сказать правду, всю правду, говорит мой друг С., постукивая тыльной стороной правой ладони по столу. Он смотрит на меня с сожалением, потому что не только знает эту правду, но и готов ее поведать, извини, но ты снова решила потратить время и силы на жалкого и – главное – бессовестного типа (С. дважды ударяет по столу ладонью, произнося слово «бессовестный») и собираешься превратить презренного, мерзкого человека в героя. Да, говорит С., в творчестве всякое может случиться, в романах всякое бывает, надеюсь, ты хоть это понимаешь, спрашивает он с печалью во взоре и голосе.
В саду вокруг нас бегают дети, пихаются, спорят. Подбегают к сидящим за столами взрослым и спрашивают, когда же можно будет наконец пойти в дом поиграть на компьютере или посмотреть телевизор. Взрослые отвечают нет, нет, нет, сегодня вечером никаких компьютеров, в дом не входить, о телевизоре не может быть и речи, брысь отсюда, играйте в саду, вы только посмотрите, какой дивный сад, какой чудный вечер, тихий июльский вечер.
Мой друг С. много пьет. Много говорит и много пьет. Твой пресловутый олигарх, продолжает он, глядя на меня исподлобья, ограбил свою страну, обогатился сверх меры, по его «заказу» совершались гнусные убийства, да-да, именно так, и не пытайся меня убедить, что он этого не делал.
Я разрезаю инжирину и открываю рот, чтобы отправить туда фрукт и попытаться вставить слово, но С. мне не позволяет. Он не дает себя перебить, его не интересует мое мнение, он хочет навязать мне свое. Когда занимаешься нефтью, как твой приятель Ходорковский (я бы и хотела возразить – мол, он мне не приятель, но рот занят инжиром), и ухитряешься на «раз-два-три» положить в карман пятнадцать миллиардов долларов, в свой личный большой карман (мы оба знаем, о чем речь, кривится С.), и делаешь это в стране, где народ подыхает от отчаяния (он снова ударяет по столу), что еще хуже, чем подыхать с голоду, добавляет он, у него заводится немало врагов, хищники бегают стаей, дорогая, и, если вступают в схватку, то бьются насмерть.
Мой друг С. – несколько месяцев назад он отпустил длинные волосы – считает своим долгом откровенно сказать мне и не отказывает себе в этом удовольствии, что не понимает, почему я интересуюсь субъектом, который и гроша ломаного не стоит, нет, правда, не понимаю я твоего отношения, это просто… просто, повторяет мой друг С., просто аморально, подсказываю я, видя, что он никак не подберет слова, просто смешно, категорически заявляет С., он наконец нашел нужное определение.
Смешно, удивляюсь я, ты действительно находишь это смешным?
Так смешно или аморально?
Смешно, упорствует С., искренне сожалея о моем выборе.
Смешно, что еще хуже, чем аморально.
И подливает нам вина, хотя мы оба уже достаточно выпили.
В наступивших сумерках плачут дети, они устали и капризничают. Одна из женщин вдруг говорит, надо бы уложить малышей, это Даниэль, всегда безупречно собранная, не забывающая о чувстве долга, остальные женщины вторят ей хором, пора уложить малышей, малышей, малышей, но сколько их, где они, как их всех отыскать в кустах и на деревьях?
Я наблюдаю за своим другом С., он пьет – торопливо, частыми глотками, как будто боится опоздать на поезд. Он пьет и остается невозмутимым, словно бы и не слышит ни детского плача, ни слов Даниэль, ни голосов других женщин, хотя они говорят, пора укладывать детей, и их слова в этот тихий июльский вечер адресованы всем, в том числе моему другу С., у него двое малышей и двое детей постарше, он теперь холостяк, дважды разведенный, ему сорок три, он снова свободен, у него длинные седые волосы, и он больше не желает слышать ни о женитьбе, ни об отцовстве, нет уж, благодарю покорно.
Я смотрю на моего друга С. и вспоминаю те далекие времена, когда он утверждал, что разлюбил меня, а я заявляла, что вообще никогда его не любила, когда мы оба смотрели на любовь свысока, и мне в голову приходит мысль: лучше бы мы тогда меньше читали и просто жили. Сегодня мы оба пишем. По правде говоря, мы уже тогда писали, конечно, не так, как сейчас, не регулярно, но это не значит, что его и моя жизнь так уж сильно изменились. Этой июльской ночью мой друг С. говорит, что никак не может постичь природу моего интереса к русскому олигарху Михаилу Борисовичу Ходорковскому, отбывающему срок на сибирской каторге. Он даже дает понять, что этот интерес, как и завороженность подобным персонажем (слово «персонаж» он произносит с отвращением), вызывают у него презрение, и тут мне становится ясно: выйди я замуж за С. в те времена, когда он утверждал, что разлюбил меня, а я заявляла, что вообще никогда его не любила, но он все-таки хотел на мне жениться, у моего милого друга было бы в активе три развода, а не два. Не говоря уж о ребенке, которого мы бы наверняка завели и сейчас снимали бы с дерева, чтобы уложить спать одновременно с теми, что дерут глотку в саду.
Я сижу на стуле под липой – на мою удачу, она уже несколько недель не исходит сладким соком, – наслаждаюсь чудесной атмосферой дружеской вечеринки и ищу глазами в кустах ребенка, которого мы с моим другом С. не завели. Ребенка нет, но я готова вскочить и начать бегать по саду вместе с остальными женщинами, хватать малышей за руки за ноги и тащить в кровать, не обращая внимания на их вопли. Так я смогла бы избежать невысказанных упреков моего драгоценного С., их, вкупе с высказанными, слишком много для одной летней ночи.
Марин только что перешла на наш край стола. Она изменила прическу и теперь носит стрижку каре, которая совсем ей не идет, еще больше утяжеляя лицо, но никак не скрадывает основного свойства ее натуры – неистребимой природной жизнерадостности. Она смеется, подсаживаясь к С., заливается смехом, похлопывая его ладонями по щекам, этой привычке лет двадцать, не меньше. Она смотрит на меня и понимает, что мы подумали об одном и том же: С. со студенческих времен способен с волнением в голосе безостановочно говорить на одну и ту же тему, пока его не одернешь. За двадцать лет не было случая, чтобы нашему общему другу оказалось нечего сказать. Нас с Марин это самодовольное постоянство, конечно, раздражает, но оно же и успокаивает. В нашей жизни, состоящей из нереализованных желаний и бесконечных самоограничений, теории С. подобны уютно угнездившемуся в углу старому шкафу. Он давно вышел из моды, проку от него ноль, но, стоит его открыть, и оттуда доносится забытый аромат. Мы с Марин любим ощущать этот «запах» и убеждаться, что заключенное внутри время подобно насаженному на толстую булавку жуку.
Раз уж ты твердо вознамерилась вернуться в Россию, говорит Марин, продолжая гладить С. по лицу, обрати внимание на их серийных убийц. Там есть неподражаемые экземпляры, таких даже в Америке не найдешь, уж ты мне поверь.
Именно так, говорит С., как будто хоть раз в жизни, задумывался о русских серийных убийцах.
Я смотрю на С., на Марин и ощущаю жадное желание закурить.
Ты никогда не слышала о Шахматном убийце [1] ?О Ростовском мяснике [2] ?
Ну хоть об Иркутском монстре [3] ты слышала?
Марин перечисляет имена.
Нет, отвечаю я.
И мне плевать на серийных убийц, в какой бы стране они ни творили свои черные дела.
Напрасно, замечает Марин, это животрепещущая тема, никто пока не ответил на ключевой вопрос, порождает ли каждая страна именно таких убийц, которых заслуживает. Пора кому-нибудь заняться этим вплотную, резюмирует она, добавив свое неизменное «уж ты мне поверь».
Вообще-то, я всегда и во всем верю Марин, даже в особых случаях, по той простой причине, что она моя старинная подруга, хоть и живет теперь за океаном. Марин – востребованный профайлер, работает над самыми запутанными делами, к ней за помощью обращаются полицейские разных стран. Иногда она так пугает меня рассказами об этих расследованиях, что я потом неделями не решаюсь одна садиться за руль. Что может быть парадоксальней: Марин – сама доброта, ей бы работать аниматором в доме для престарелых, а она идет по следу самых ужасных извращенцев планеты. Мужская профессия не мешает маленькой женщине с дурацким каре крепко спать по ночам, у нее отличный аппетит, вечером по субботам она посещает клуб фольклорных танцев Невады, надевает пышное кружевное платье и желтый фартук и пляшет до упаду.
Марин все никак не отстанет со своими убийцами.
Только не говори, что ни разу не слышала об Александре Пичушкине?
Я качаю головой.Об Андрее Чикатило? Саше Спесивцеве [4] ?
Нет.
Не может быть. Марин теряет терпение и сыплет именами. Я мотаю головой, как будто фиги с дерева стряхиваю.
Закуриваю, потому что только табачный дым способен повергнуть мою хладнокровную подругу в состояние, близкое к панике.
Ты просто ужасно выговариваешь русские имена, небрежно замечаю я и выдыхаю густую струю дыма в ее сторону. Марин кривит круглое, как блин, лицо.С. в бешенстве. Он бросает на меня разъяренные взгляды. Говорит, прекрати это, не уточняя, что подразумевает под словом «это».
С. всегда любил встревать между Марин и мной, как если бы мы были сестрами, слишком дружными и одновременно совсем разными, а он – умудренным жизнью седовласым мудрецом «над схваткой». Я знаю, что он когда-то хотел жениться на Марин, а может, до сих пор хочет, поскольку Марин восхищается им как писателем, сама не пишет, а я пишу и думаю то, что думаю, о книгах С. Встревает мой друг и между мной и моими книгами. Он ведет себя так, как будто ушел далеко вперед по дороге к вершине славы и считает необходимым подбодрить меня, чтобы хоть чуть-чуть сократить дистанцию между нами.
Он отнимает у меня сигарету, но не тушит ее в пепельнице, а затягивается, хотя бросил курить десять лет назад, и сообщает нам с Марин и всем, кто сидит за столом:
– На этот раз получилось, меня будут переводить в США.
Звучат возгласы «замечательно», «невероятно», «давно пора», «браво», Марин звучно чмокает С., практически целует его в губы. Ты это заслужил, говорит она, вот увидишь, американцы влюбятся в твои книги, они вовсе не такие тупые, как считают в Европе, они любят лихо закрученные истории, как раз такие, какие умеешь писать ты, добавляет она, наклоняясь к нашему общему другу, а он улыбается Марин, сотрапезникам, жизни и всей планете.
Лихо закрученные истории с хорошим концом, как раз такие, какие ты умеешь писать, повторяю я, чтобы сделать приятное С.
Что ты хочешь этим сказать, вскидывается С., яростно затягиваясь моей сигаретой, как некурящий, бросивший курить десять лет назад.
Я хочу сказать, что американцы обожают лихо закрученные истории с хорошим концом, что очень удачно, поскольку ты именно такие истории и сочиняешь.
Давай уточним, не отстает С., который предпочел бы налить себе еще вина и выпить за американские переводы своих романов в тишине и покое летнего вечера.
Ну, говорю я, коварно помахивая у него перед носом пачкой сигарет без фильтра, американцы смогут наконец прочесть… я обрываю фразу, потому что в голову приходят мысли о множестве неприятных вещей.За столом возникает спор о кино, и это означает, что наши с С. литературные дискуссии не способны надолго увлечь даже такую крошечную аудиторию, как сегодняшняя.
Кино подавляет литературу.
Спорт подавляет кино.
Деньги губят спорт.
Ну и наворотили!
Где наворотили? – интересуется Даниэль.
Этот фильм не имеет ничего общего с вестерном, заявляет Камилла.
Это название никуда не годится, считает Софи, стоит его прочесть, и фильм можно не смотреть, все и так ясно.
А кто режиссер?
Никогда не слышал.
Не смеши меня, какое итальянское кино, нету больше никакого итальянского кино, все вышло, умерло и кремировано.
Кронен – кто?
Что за Кронен, не отстает Гонзаг, который слишком много работает и в кино не ходит.
Берг, отвечает Александр, который не любит фильмы Кроненберга.
Я как жалкая предательница пользуюсь случаем, чтобы переметнуться в лагерь киноманов, и заявляю, что «Оправданная жестокость» [5] – великий фильм, ну ладно, не великий, но исключительный, хорошо – замечательный, я его раз пять смотрела, уточняю я, и готова еще раз пойти, это ведь о чем-то да говорит, правда, это доказывает, насколько хороши фильм или книга, горячусь я, стараясь не смотреть на С. Вы не видели «Оправданную жестокость»? Я обвожу взглядом Пьера, Камиллу, Александра, Марион, Жана, Гонзага, Софи и даже Даниэль, да, я даже на Даниэль смотрю, она вернулась за стол, она хочет знать, о чем мы разговаривали – о чем это вы тут болтаете? – о фильме, отвечает Пьер, никто его не видел, никто, кроме нее, говорит С., указывая на меня подбородком, мы беседуем о фильме, которого никто не видел.
Меня будут переводить в Соединенных Штатах, сообщает С. Даниэль, она только что вернулась за стол и не слышала хорошую новость, она укладывала малышей, тише, дети, успокойтесь, это же здорово, отвечает Даниэль, да, здорово, подхватывает Марин, может, они и кино по твоим книгам снимать будут, эти американцы? Вопрос задала Ясмина. Я успеваю опередить С., да, говорю я, конечно, да, да. Они будут снимать фильмы, особенно по лихо закрученным историям с хорошим концом, добавляю я, американцы ведь обожают хэппи-энд, уточняю я для Даниэль, которая все пропустила из-за детей.
Тебе бы следовало активней защищать свои взгляды, цедит сквозь зубы С., сквозь свои идеальные зубы, в как раз тот момент, когда мне самой пришла в голову та же мысль.
Вы же не сцепитесь снова, не испортите нам вечер. Марин обнимает нас за плечи. Я, между прочим, прилетела из-за океана, чтобы с вами увидеться, произносит она тихим голосом – так, чтобы слышали только мы, а потом восклицает, десерты, чудная мысль, Даниэль, перейдем к десертам, самое время.Итак, подошел час десертов, обсудим десерты. Не пора ли побаловать себя сладеньким, спросила Даниэль, и все ответили да, о да, и голос Марин прозвучал громче других, громче всех остальных, только мы с С. промолчали.
Предлагаю свежий инжир и торты.
Где он? Куда подевался инжир, корзинка пуста, кто все сожрал, нет, ну это уж слишком, правда, это не смешно, а когда выйдет первый перевод твоей книги в Америке?
Через три месяца.
Ты, наверное, ждешь не дождешься?
Да как тебе сказать… у меня столько работы.
А тебя на какие языки переводят, спрашивает Софи, нарезая крупными кусками торт.
На чешский.
Шутишь?
Ну да, конечно, ты ведь знаешь чешский.
С инжиром было бы гораздо вкуснее!
Ее скоро переведут на русский, объявляет С., с видимым удовольствием пережевывая торт своими изумительными зубами.
На русский, хором повторяют едоки десерта.
Сука Амираль начинает поскуливать низким, «мужским», голосом.
Жак толкает ее ногой в бок, звук выходит какой-то слабый, даже нелепый. Морда Амираль вымазана взбитыми сливками. Тембр ее голоса не может сбить нас с толку – мы точно знаем, что Амираль – девочка, верная спутница пары Софи-Гонзаг.
Ах ты, гадкое сопливое дрянцо, приговаривает между тычками Жак.
Иди ко мне, девочка, зовет собаку Софи.
Придурок, говорит «собачий папаша» Гонзаг своему брату-задире Жаку.
А русские разве читают?
А кто это?
Не так чтобы много, но гораздо шикарней быть переведенным для русских, которые стали читать меньше, чем для американцев, которые отродясь много не читали, объясняет С., поправляя пальцем густые волосы.
Тебе лучше отказаться, советует Марион.
От чего отказаться, спрашивает Даниэль. Она бегает из сада в дом и обратно и все время теряет нить разговора. Да успокойте же вы наконец эту псину, она разбудит детей.
Иди ко мне, детка, говорит Софи не унимающейся Амираль, которая не думает слушаться хозяйку.
Я бы не захотела, чтобы меня переводили на русский. Эти люди снова вооружились до зубов.
Они и так немало бед натворили.
Да уж, натворили.
Дикари, живущие в дикой стране.
Можно заменить инжир ананасом. Кто сходит за ананасом?
Нет, спасибо, у меня ужасная аллергия на ананас.
Тебя правда перевели на чешский, интересуется Луиза.
Да, отвечаю я.
Не думал, что ананас может вызывать аллергию, это что-то новенькое.
Ко мне, малышка, ко мне, ко мне, кричит Софи.
Привезешь мне iPhone, когда полетишь в Америку общаться с издателями?
Зачем покупать iPhone в Америке, это смешно, цены везде одинаковые, не говоря уж о том, что все можно заказать в Интернете.
Глобализация…Слово «глобализация» произнес Жонас. В разговоре оно прозвучало впервые. Жонас – сын Гонзага, но не сын Софи, хотя она живет с Гонзагом. Гонзаг и Софи – воссоединившаяся пара. Жонас живет в этом новом семействе, с отцом, мачехой и сладкоежкой Амираль, длинношерстным золотистым ретривером. Хорошо, что Жонас подал голос, пусть даже голос этого молодого – восемнадцати с половиной лет – парня звучит хрипловато и не соответствует его физическому облику крепкого призывника. К счастью, никто не собирается никуда посылать Жонаса, даже на какую-нибудь абсурдную, идиотскую войну. Мы живем в мирной стране, маленькой нейтральной стране, спокойной, надежной, самодовольной. Самодостаточной. И мы поедаем домашние торты теплым июльским вечером, который, возможно, никогда не закончится. Осенью Жонас пойдет в университет, на отделение философии и экономики. Так решил он сам. Жонас – способный молодой человек, предпочитающий изучать все сразу. Он уже придумал тему и название диссертации – «Общество потребления, или неизбежный провал иллюзорной модели глобализированной капиталистической экономики» , автор – Жонас Шумпетер, весна-лето 2010. Этой работой молодой мыслитель будет заниматься до тех пор, пока его голос не прекратит ломаться. В нашей маленькой, надежной, спокойной и самодовольной стране наши Жонасы давно перестали быть пушечным мясом, они больше не продаются тем, кто окажется щедрее, у них ясные головы, колесики в их мозгах крутятся по часовой стрелке. Все мы гордимся Жонасом. Все одобряют его план, его амбиции, но никого, увы, не интересуют модели, капитализм, абсурдность и глобализация.
И Жонас повторяет срывающимся голосом, в никуда, в пустоту:
– Глобализация…Привезти iPhone из Соединенных Штатов попросил Адриен. С. должен лететь в Америку, чтобы познакомиться со своим заокеанским издателем. Вот пусть и использует время с толком, сделает кое-какие покупки.
Адриен вечно злится на Пьера за то, что Пьер считает iPhones и все Штучки наглым надувательством и полагает, что нет никакого резона покупать их за океаном, если уж приспичило выкинуть деньги на подобные приспособления. Такова позиция нашего друга Пьера, «приглашенного профессора» физики и математики.
Несешь невесть что, а уж тебе, профессор, это непростительно, говорит Адриен Пьеру.
Разговор переходит на повышенные тона.
В Штатах можно купить гаджеты последнего поколения, в Европе торгуют одним старьем.
Ха, ха, ха, смеется Пьер.
Разве за «последним поколением» нужно ехать не в Японию? – тоном знатока спрашивает Марион.
При чем тут Япония?
Киви, наверное, тоже очень аллергичный фрукт, верно? – беспокоится Ясмина.Тарелка С. не пустеет. Как и его стакан. Мой друг предусмотрительно поставил рядом с собой три бутылки вина одной марки одного и того же года. Я могу довериться ему с закрытыми глазами – он умеет выбирать лучшее среди очень хорошего. Меня удивляет, что он уже несколько минут хранит молчание, это совсем на него не похоже, впрочем, размышляю я недолго, потому что С. собирается сделать какое-то объявление.
Наш автор, бросает он, даже не потрудившись указать на меня, интересуется бедным олигархом, гниющим в ужасной русской тюрьме.
Все смотрят на меня.
Кем интересуется?
Олигархом.
Не знаю, кто испек профитроли, но с удовольствием съем еще парочку.
Добавь взбитых сливок, будет гораздо вкуснее.
Ты что, рехнулась?!
Кто такой олигарх?
Мерзавец, замаскировавшийся под бизнесмена. В галстуке, отвечает С., щуря зеленые глаза, совершенно изумительные мужские глаза.
А, понятно.
Олигарх грабит свою страну, но уже не кладет локти на стол. Когда ест.
Ты правда никогда не слышал об олигархах, Гонзаг? О Ельцинских Мальчиках?
Нет. Кое-что, отвечает Гонзаг, который слишком много работает, в кино не ходит и внешним миром не интересуется.
Но хоть что-то ты об этом знаешь?
Да, да.
Наш автор намерен отправиться в Сибирь, уточняет С., и все желающие имеют возможность убедиться, насколько белые у него зубы и какие восхитительные зеленые глаза.
Все смотрят на меня.
В Сибирь?
Ты едешь в Сибирь?
Они там на чешском говорят?
Что ты забыла в Сибири?
Это рядом с Северным полюсом?
Ты действительно туда поедешь? – волнуется Даниэль.
Да, отвечаю я.
Нет, это не Северный полюс.
Кто-нибудь даст мне сигаретку?
Разве ты куришь?
Сибирь, это в России?
Тогда зачем тебе сигарета?
В Сибири тоже есть серийные убийцы, точно вам говорю, сообщает Марин.
С чего ты вдруг решил закурить, если не куришь?
Курение убивает.
Думать тоже вредно.
Пара Гонзаг-Софи ссорится. Он старается говорить тихо, но все всё равно слышат. И узнают, что ветеринар рекомендовал суке Амираль строжайшую диету и – главное – никакого сахара. Софи укоряет Гонзага – у них совместная опека над животным – за то, что он скормил Амираль три больших куска торта «Захер» [6] , да-да, не отпирайся, я видела. И не прикидывайся невинным зайчиком, три куска, ты ее уморишь, она диабетичка, напоминаю, у нее диабет, а еще ожирение, прекрати ее баловать, я ее не балую, ты ее убьешь, прекрати, слышишь, что я говорю.
Иди ко мне, детка, говорит задира-Жак, брат Гонзага, передразнивая Софи.
Все смеются.
Значит, наша драгоценная подруга познакомится с упрятанным в Сибирь олигархом, удивляется Пьер, который терпеть не может пустой треп и вообще не собирался идти на эту встречу.
Его не упрятали, а посадили. В лагерь, уточняет С., набрасываясь на кусок «Черного леса» [7] .
Как это в лагерь? Никаких лагерей больше нет! Ты в курсе, что старик Джугашвили умер?
Что за Джугашвили?
Кто умер? Разве кто-то умер?
Даниэль бегала в дом проверить детей и снова пропустила часть разговора.
Что этот твой тип делает на каторге?
Он не мой, уточняю я.
Кажется, эти олига-как-их-там набиты бабками?
Набиты – слабо сказано, доверительным тоном сообщает С., который не только пьет больше остальных, но и считает себя самым умным.
Джугашвили – это Сталин, старушка, продолжает Александр. Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же Сталин. Умер в 1953-м, а сейчас 2007-й.
Ну ты и нагнал на меня страху!
Так я и думал, говорит Пьер. Повторяю свой вопрос: что делает в лагере твой олигарх? У олигархов, вроде как, другие увлечения, эти придурки покупают аэробусы А380, за́мки за триста миллиардов долларов и футбольные клубы, разве нет?
Кому вообще интересна подобная история, встревоженно спрашивает Ясмина.
Какая история?
Ну эта, русская, история.
Ананас остался? Хочу ананаса.
Он хоть красивый, этот олигарх?
Ничего, отвечаю я.
Здесь, между прочим, тоже полно красивых мужиков, говорит Софи. Тебе незачем ехать в Сибирь.
Все смотрят на меня.
И правда, оглянись вокруг.
Все смотрят на С.
Ты и русского-то не знаешь, или знаешь?
Кажется, мы ели такие профитроли на дне рождения Анны?
Этот твой тип говорит по-русски?
Он не мой, уточняю я.
Тогда почему ты им занимаешься? – спрашивает Адриен.
Тебе бы стоило ответить на сей изумительный по тонкости вопрос, сладким тоном советует С.
Я испепеляю его взглядом и глажу прижавшуюся к моим ногам суку Амираль. Запускаю пальцы в ее шелковистую шерсть, хотя вообще-то собак не люблю – только кошек, но Амираль никогда не обижу, и животное это чувствует, даже земляной червяк почувствовал бы.
С. перебирается поближе к Марин, Марин, которая сделала стрижку «каре» и перелетела через океан, чтобы поприсутствовать на вечеринке, и наверняка задержится на несколько дней в нашей старушке-Европе, чтобы отдохнуть от своих убийц up to dale [8] . Итак, С. обволакивает Марин взглядом своих зеленых глаз. И она решает проинформировать всех, кто не занят разговорами об ожирении, диабете и ветеринарных заморочках, что наша авторесса (ей почему-то кажется забавным придуманное С. определение) вполне могла бы, раз уж ей не терпится вернуться в Россию по никому не понятной причине, заняться воистину «золотым» сюжетом, который сама же Марин ей и подсказала, а именно – русскими серийными убийцами, с ними мало кто может сравниться, поясняет Марин, называет несколько имен и дел и говорит, что им даже американские серийные убийцы в подметки не годятся, уж вы мне поверьте, и все верят.
Всем становится чуточку не по себе из-за того, что планета населена садистами, развратниками и всяческими чудовищами, и, хотя мы предпочитаем о них не думать, иногда бывает приятно об этом вспомнить.
О да, еще бы, Марин права, серийные убийцы куда интересней
олимнархов,
окираков,
оликаров.
Олигархов, Софи, это русское слово, оно происходит от корня… э-э-э… от корня…
Вовсе нет, фальцетом восклицает юный Жонас.
Его энтузиазм и ученость радуют глаз и ухо, поскольку oligo, на самом деле, означает «немногочисленные», а еще, а еще, лепечет он, еще есть другой корень, греческий – arkhe, что означает управление, а значит, значит…
Ладно, хватит. Софи «затыкает» новобретенного пасынка, что, судя по всему, вошло у нее в привычку. Не самую лучшую привычку.
Сотрапезники перешептываются, переговариваются и в конце концов приходят к общему мнению, да, серийные убийцы и впрямь интересней всех этих «олиштучек», любой тебе скажет, кто хочешь скажет.
Сюжет может выйти понапряженней.
И позавлекательней.
С точки зрения жизненного опыта, а также…
Слышала? – спрашивает С. – Твой бедолага Ходорковский никого не интересует.
Скольких он убил?
Кто?
Ну этот, о котором ты только что говорил.
Михаил Ходорковский? Он не серийный убийца, а олигарх-каторжанин. Ты что, действительно никогда о нем не слышал? – удивляется С.
Не может быть, его правда так зовут, твоего олигарха?
Все смотрят на меня.
Он не мой олигарх, уточняю я.
Я вам уже говорила, Шахматного убийцу зовут Александр Пичушкин, сердится Марин, он лишил жизни сорок восемь человек, ну, около того, следствие в России проводится так… сами понимаете… короче, он хотел, чтобы жертв было шестьдесят четыре, по числу клеток на шахматной доске, отсюда и его прозвище, уточняет наша профайлерша – она во всем любит точность.
Не злись, русские имена такие сложные!
Извини, вмешивается в разговор Александр, но Кодаковский звучит не похоже на Пичушталин.
Голос Жонаса, о котором все забыли, заполняет возникшую в разговоре паузу, он сообщает, что олигархия это политический режим, при котором власть сосредоточена в руках нескольких могущественных лиц или семей, и… ну, возможны варианты, в зависимости от географической широты.
Все ошарашенно смотрят на Жонаса.
А Жонас улыбается, потому что новообретенная мачеха в кои-то веки не перебила его.
Значит, все старо как мир, замечает Пьер, олигархии существуют повсюду, это самое распространенное политическое устройство на планете.
Вот видишь, говорит С., и мне хочется науськать суку Амираль на его длинные, с проседью, волосы и чудные смеющиеся глаза.К счастью, Даниэль сумела ухватить обрывки разговора, разливая кофе. Как гостеприимная хозяйка – все хозяйки гостеприимны, – она предлагает компромисс: я могу заниматься и серийными убийцами, и олигархами. Не бросай ни один из сюжетов, советует она, и вообще, они вполне могут переплестись, и тогда возникнут новые линии. И никто не поймет, что речь идет о русской истории, и многим будет интересно.
Отличная идея, поддерживают Даниэль присутствующие.
Можно получить чашку безкофеинового кофе? Ясмина уверяет, что не сомкнет ночью глаз, если так поздно выпьет нормального кофе.
А кто тебя просит спать сегодня ночью?
Интриги, пачки денег, ушаты крови, что может быть вульгарней? – спрашивает Жан.
Ах, Жан!
Да ладно тебе, Жан!
Мы знаем, что́ ты читаешь, Жан, но это не значит, что все должны читать то же самое. Посмотри, в каком ты состоянии!
Пьер не побоялся произнести это вслух. Жан и правда пребывает в странном состоянии, он сжигает свою жизнь, балансирует на грани между депрессией и психозом.
Лично я очень люблю Жана. Все остальные его, конечно, тоже любят, но в первую очередь побаиваются. Я воспринимаю Жана как надежду и опору, нас словно бы связывает далекое прошлое, что-то наподобие амниотической жидкости.
Я незаметно подмигиваю Жану, что, конечно же, замечает С.
Мой друг С. всегда настраивал меня против моего друга Жана. Он чокнутый, твой Жан, понимаешь, буйнопомешанный. А вот Жан никогда ничего не говорит о С., для него это самый простой способ показать, что С. для него – пустое место. Ну, практически пустое.
Вот так этим бесконечным июльским вечером я застряла между длящейся улыбкой Жана и долгим настойчивым взглядом зеленых глаз С. А вот Амираль скрылась в темноте сада, так что гладить мне больше некого. Софи отправилась искать ее, Гонзаг пошел следом, а Даниэль услышала какой-то шум в доме, это наверняка проснулись малыши. Все мои пачки сигарет – с фильтром и без – пусты, хотя курила я мало, а вокруг сидят завзятые противники курения. Непьющих почти столько же, сколько некурящих, тем не менее многие бутылки пусты. Даже лимонные свечи и те выдохлись и вот-вот погаснут.
Пьер пользуется опускающейся на нас дремой и заводит разговор на излюбленную тему, о физике-математике, которую сегодня, черт побери, невозможно преподавать, как в былые времена.
Осознаем ли мы?
Понимаем ли причину этого явления?
Не так чтобы очень.
На самом деле, все просто. Ученики – бестолочи. Даже студенты университетов ничего ни в чем не смыслят, не могут написать связную фразу на французском. Сколько законченных идиотов приходится на одного умника Жонаса, задается риторическим вопросом Пьер, но хуже всего то, что этим идиотам направо и налево раздают дипломы, цена которым – погнутый ржавый гвоздь. Гвоздь, который только на то и годится, чтобы на нем удавиться.Адриен совершенно согласен с Пьером, и Ясмина тоже согласна, и даже Марин, она не слишком разбирается в теме, но разговор поддержать может.
Жонас молчит. Он выглядит усталым. Наверняка не привык засиживаться допоздна, а может, устал от взрослой компании, взрослые полагают, что все обо всем знают, высказываются обо всем и ни о чем – в основном ни о чем, не слушают его и все время перебивают. Повзрослевшие юноши выглядят крепкими, но быстро устают, что странно, по логике вещей, они должны быть намного выносливей сорокапятилетних, но то и дело ломаются, спят как убитые по семнадцать часов кряду, к тому же, они немногословны, говорят только по делу – чего бы поесть, у меня кончились деньги, ты постирала?
Светлячки мечутся над столиками с остатками «Черного леса», профитролей и торта «Захер». В саду стемнело, цвета сливаются, белоснежные взбитые сливки неотличимы от желтого ванильного соуса, зеленые глаза С. от голубых глаз Жана. Все выглядят объевшимися, обпившимися – в том числе непьющие, и обкурившимися – особенно некурящие. Столы напоминают поле брани после боя, силуэты кажутся оплывшими, обмякшими, голоса звучат протяжно, тосты произносятся сбивчиво, а горизонты не выглядят столь уж радужно-счастливыми, да и были ли когда-нибудь таковыми?
Какой прекрасный июльский вечер, теплый, долгий, наполненный счастьем разделенной дружбы. Спасибо, Даниэль, спасибо, спасибо, спасибо тебе за чудесную вечеринку!
и за дивные профитроли,
и как славно, что скоро отпуск,
и все неопределенно,
и будущее так смутно,
оно пугает, пугает.
Эй, ребята, вы ходите по кругу.
Мы ходим по кругу.
Ах ты господи.
Жан
Я должна кое-что рассказать о моем друге Жане, потому что этот человек, лишившийся почти всех волос и расставшийся с большинством иллюзий, вбил себе в голову, что отправится вместе со мной в Россию. Что проделает хотя бы часть пути – ему хватит и короткого отрезка. Думаю, я знаю, почему он хочет вернуться в страну, в которой не был пятнадцать лет. Ее зовут Елена, и она вовсе не длинноногая блондинка, и не потрясающая красавица, какими считают русских женщин западные мужчины (бедняги судят по глянцевым журналам). Итак, в двадцать лет Елена не была белокурой дылдой. А «взрывоопасной» была, и жестокой, если мне будет позволено высказать свое мнение, хотя никто им не интересуется, и я не знаю, жива ли еще эта женщина.
В тот день, когда Жан сообщил, что хочет поехать со мной, если я и вправду решу вернуться в Россию, мы гуляли под ручку по кладбищу. Я как раз закрывала за нами ворота, когда Жан – он был уже внизу лестницы – вдруг сказал, что вернуться в эту чертову страну – неплохая идея. Вообще-то, он выразился грубее: в эту чертову гребаную страну. Пока я осторожно спускалась на высоких каблуках по поросшим мхом ступеням – Жан сразу сказал, что гулять на высоких каблуках нелепо, – мой спутник пустился в рассуждения о народных страданиях. О бедах народов, нуждающихся в герое. Жан разглагольствовал, бредя мимо могил по кладбищенской аллее. В тот момент, когда я снова взяла Жана под руку, он сказал, что это и моя проблема, после чего мы ускорили шаг, и его монолог превратил нашу прогулку в марш-бросок. Он стрелял по видимым целям – уничтожал народы, нищету, бывшую подругу, меня и моего дурацкого олигарха, «твоего арестанта класса люкс» – так он его обозвал тем майским утром.
– Ты говоришь это из-за Елены!
Я прервала поток критических замечаний Жана, назвав всего одно имя. Его лицо стало землисто-бледным.
– Заткнись!
Я не заткнулась. Елена, оружие массового поражения для повсеместного использования. В прошлой жизни, в Москве, Жан влюбился в женщину: она часто и звонко смеялась, а глаза у нее были темные, как миндаль от лучшего кондитера. Елена была музыкантшей – играла на виолончели, по мнению Жана, просто гениально. Он питал к ней пылкую страсть и тронул сердце Елены. Она привнесла в банальный роман извращенную жестокость, и Жан много лет ужасно страдал, потому что любил слишком сильно, а Елена пролила много слез, потому что любила недостаточно сильно. Я общалась с ними обоими и наблюдала за развитием их трагической истории. Сначала я познакомилась с Жаном – в Москве, в метро. Он меня спас. Это случилось очень давно, в дождливом июле. Я упала в обморок, выйдя из вагона метро на платформу. Причиной тому были усталость, обилие новых впечатлений, скудная еда и неумеренная выпивка. В тот день я гуляла по городу одна – моих знаний русского хватало как раз на то, чтобы разобрать названия улиц и остановок. Мои русские друзья жили далеко от центра, в тот день у каждого из них были занятия, а я познавала город, как инопланетянка. Наблюдала, ужасалась, а по ночам мы обсуждали мои впечатления. Мне дали прозвище «акула капитализма», что в стране реального социализма звучало довольно остро. Я родилась по другую сторону «железного занавеса» и выросла в маленькой сказочной стране, где все подчиняется строгому порядку, даже облака над горными вершинами. Об этой крошечной – до смешного – стране моим друзьям было известно, что она красивая, что там жили в изгнании не только великие русские писатели, но и пламенные революционеры. Поскольку отношение к последним в России стало неоднозначным, друзья часто меня подкалывали – «Еще раз спасибо за подарочек!», – мол, нечего было давать приют будущим кровавым героям русской истории. Что тут скажешь: в Женеве и Цюрихе «розовые» и «красные» сочиняли революционные воззвания, плели заговоры и клеймили преступный царский режим. Благодарение Богу – все они, один за другим, сели в идущий на Восток поезд – «чух, чух, чух» – и избавили нас от своего присутствия! Швейцарские горы остались стоять, как стояли, облака как плыли, так и плывут, а необъятная Россия взорвалась – «бум, бум, бум», так что еще раз большое спасибо. Я смеялась и плакала вместе с новыми друзьями, на дворе был 1987 год, маховик крутился вхолостую, к рулю встал человек с родимым пятном на лбу, а мы, молодые кретины, совсем перестали спать. Мы пили и бодрствовали, чувствуя, что история вот-вот изменит курс и жить станет ужас как весело. Ни больше, ни меньше. Есть возражения? Ни одного. Тогда выпьем!
Меня называли акулой, и я, уподобившись опасной морской хищнице, плыла против течения, чтобы разобраться в жизни общества, о котором раньше только читала в умных книжках. Я наблюдала за сумятицей жизни, смотрела, как они стоят перед пустыми полками магазинов, слушала – не понимая смысла слов, – как они переругиваются. Иногда доставалось и мне: нечего глазеть на то, что тебя не касается. Мне часто казалось, что я отяжелела и стала хуже дышать, потому что пыль забила бронхи, как отрава.В тот день, в тот самый день, когда я потеряла сознание в московском метро, друзья ждали меня в общежитии, где все мы спали вповалку. Предупредить их я не могла, и они ужасно беспокоились. Мобильных телефонов тогда еще не было, а «управляемая» партией экономика вообще мало что производила – разве что бесформенную серую массу, стоящую в очереди за тем, «что дают». Страна агонизировала, жила по талонам, задыхалась под спудом запретов и создавала новояз, чтобы отгородиться от наводящей тоску реальности. Даже летом там было жутко холодно. Но мы не мерзли, потому что были молоды и нетерпеливы. Мы восхищались человеком с родимым пятном на лбу – его фотографии печатали все газеты и журналы страны. Нам казалось, что на самом дне его глаз плещется новая жизнь. Мы говорили – смотри, смотри, но наши голоса дрожали. Мы тряслись от страха, боялись, что несколько толчков и новые слова «перестройка», «гласность», «ускорение», «совместное предприятие» – мы произносили их шепотом, как стишок-заклинание, – ничего не смогут изменить.
Тогда, в метро, меня спас Жан. Я вышла из битком набитого людьми вагона на станции «Маяковская» и рухнула на платформу. Сначала к горлу подступила тошнота. Я успела привыкнуть к неотвязному кислому запаху (так пахнет свернувшееся молоко), заполнявшему все места людских скоплений, но на сей раз густая вонь проделала брешь в моем желудке. Мозг лишился доступа кислорода, поддался панике, и я отключилась прямо у подножия эскалатора. Я не успела ни позвать на помощь, ни уцепиться за одну из уборщиц. Эти невзрачные сутулые женщины, по словам моих друзей, получают больше любого интеллектуала, ведь в этой стране ценности перепутаны, все поставлено с ног на голову. Толпа не остановилась – разве что расступилась, как вода, обтекающая камень. Я поняла это несколько дней спустя – у меня все тело было в синяках: сотни ног, обутых в ботинки и туфли модели «Победа пролетариата», пинали и двигали мое бренное тело, валяющееся на роскошном мраморном полу станции метро «Маяковская». Тело – всего лишь тело, не более того, так с давних пор повелось в этой стране. Один человек – мужчина, иностранец – разглядел лежащую без чувств женщину и бросился на помощь. Это был Жан. Жан того далекого времени – хрупкий, нервный, с худым лицом и высокими скулами, в куртке явно не «местного» производства. Его «нездешний», даже эксцентричный вид поразил мое воображение, когда я открыла глаза. Сначала незнакомец тряс меня за плечи и что-то говорил по-русски, потом запаниковал и перешел на родной французский. С того дня как мы выбрались из чрева московского метро под июльский дождь, прошло ровно двадцать лет. Мы с Жаном стали друзьями – ни у него, ни у меня нет человека ближе.
Когда мы в мае гуляли под ручку по кладбищу, я выяснила, что он, в отличие от меня, не забыл русский разговорный.
– Помнишь вкус московского мороженого?
– Мо-ро-же-ное…
– Мы ели ванильное?
– Какая разница, такого все равно больше нет. Ты ведь не думаешь, что все исчезло, а мороженое осталось?Мы очень любили эту страну, особенно людей, которых там встретили. Мы любили их вопреки здравому смыслу, не пытаясь понять за что, как будто в те далекие времена чувства превалировали над разумом и были главными в жизни. Там мы проживали и чувствовали то, чего никогда не испытаем дома. Россия была огромной и вечной, ее История вкупе с веселым безумием подавляла в нас здравый смысл.
А еще была история любви Елены и Жана, такая пронзительная, что даже мы, их друзья, чувствовали в ней соль нового романтизма, который позволит нам однажды написать несравненно прекрасные книги. Мы воспаряли в мечтах, разрываясь между восторгом и отчаянием, отлично понимая, что творившие до нас писатели – мертвые писатели – на самом деле не умерли и пребудут в веках. Нас не пугали ни холод, ни снегопад, мы ходили по московским улицам, ели мороженое с неповторимым вкусом и ароматом – я больше нигде и никогда не пробовала ничего подобного, мы прижимались друг к другу, чтобы согреться, и каждый рассказывал остальным содержание очередной написанной главы. Елена расшила пальто Жана красными гвоздиками. Это выглядело невероятно. Но это было. Жан провел ночь на выстуженной лестничной площадке, поджидая Елену, которая упорхнула к очередному «любовнику-на-час». К любовнику-одно-дневке. Бедный Жан… Мы упивались бархатным сумраком города и волнующей историей любви, разворачивающейся на наших глазах в черно-белой стране.
Когда снесли Стену, жизнь Жана перевернулась. Он потерял Елену, а с ней и географию, и всю несущую конструкцию мира. Теперь он медленно угасает, как и многие другие представители нашего поколения, которым больше не за что умирать.
Ни он, ни я не знаем, что стало с Россией. Ни он, ни я понятия не имеем, живы ли Елена с ее виолончелью, Александр с его амбициями, Игорь с его талантами, Антонина с ее писательством, Лев и его отчаяние, Екатерина и ее романы. Мы обо всем забыли. Наступило новое время, было слишком много работы, все изменилось. Мечты никогда не воплотятся в реальность. Сегодня мы с Жаном можем только строить предположения и по большей части расходимся во мнениях. Нам известна лишь медийная история новых варваров – тех, кто отхватил жирные куски разваливающейся страны, набил карманы и продолжает обогащаться. Мы понятия не имеем о реальной жизни сотен тысяч русских, оставшихся на поле боя, но наше воображение способно это домыслить. Я упрекаю Жана за то, что он живет прошлым, а ему не нравится, что я интересуюсь только будущим. Он смеется, когда я пытаюсь поговорить с ним о Михаиле Ходорковском. Его изумляет моя наивность. Он говорит, что я олицетворяю собой весь трагизм наивности. Так он заявил в мае, когда мы гуляли под кипарисами. Жан считает Ходорковского обычным олигархом, таким же продажным и порочным, как все его собратья. Я же воспринимаю судьбу этого человека как знак. Ясный, недвусмысленный знак.
– Ха, ха, ха.
– Еоворю тебе, это знак. Можешь объяснить, что такой человек, как он – мультимиллиардер, нефтяной король, – делает на русской каторге? Он мог сбежать – улететь на личном самолете, или договориться с властью, «лечь под нее», как поступили все, кто хотел продолжить делать дела. Но не сбежал, решил рискнуть. Дал себя арестовать, судить и приговорить, прекрасно зная, что его ждет и с кем он имеет дело. А теперь тянет срок в Сибири. В колонии общего режима.
– Какой ужас!
– Это не смешно, Жан.
– Не смешно.
– Ты мог бы меня выслушать.
– Мог бы.
– Вещи не всегда так просты, как кажется.
– Вещи – нет. Человеческие существа – да.В тот день, когда Жан согласился на прогулку, хотя почти всегда отказывается выходить, и заявил, что собирается поехать со мной, я ощутила себя невесомой и счастливой, как бабочка в первый весенний день. Я посмотрела на моего спутника и поняла, что так сильно хочу, чтобы бледный, потерявший все волосы Жан стал прежним, что согласна видеть рядом с ним Елену, вернуть его в ту линялую Россию, которую мы когда-то вместе узнавали, лишь бы он снова научился плакать настоящими слезами. Я была так счастлива, что почти забыла все те злые, жестокие слова, которые он только что произнес.
– Преклони колени, дорогая – здесь, между крестами, – и помолись за твоего каторжного Иисуса Христа. Ну же, давай!
– Не дразни меня, Жан.
– Он такой трогательный, этот твой миллиардер на заклание.
– Прекрати.
– О, мой нежный агнец нефтяных скважин, аминь.
– Я задала тебе вопрос. И жду ответа. Скажи мне, что этот человек делает на каторге?
– Он считал себя самым умным, хитрым и крутым, моя бедная наивная девочка. Твой Ходорковский верил, что «сделает» их всех, но «сделали» его.
– И что же будет дальше?
– В конце герой погибает, дитя мое.
– Я никогда не называла его героем, Жан, а вот ты все время используешь это слово.
– Но ты в это веришь, что еще хуже.
– Ошибаешься.
– Твоего беднягу отравят. Или подождут, когда его убьет радиация.
– Почему ты не хочешь понять, что я пытаюсь сказать?
– Потому что ты не произнесла ничего внятного.
– Я утверждаю, что любой человек, ставший очень богатым, способен делать одно – богатеть дальше. Это детский подход, но так поступают все набобы нашего мира, их принцип – «цель оправдывает средства». Все, кроме Ходорковского.
– Твой герой нашего времени.
– Довольно, Жан.
– А известно ли тебе, что герои – самые эгоцентричные люди на свете?
– Как бы ты поступил на его месте?
– Герой всегда все рушит, какие бы идеи он ни исповедовал, запиши это крупными буквами в твой розовый альбомчик.
– Я задала вопрос.
– Крайне левые и крайне правые, центр и середина, крайний центр и крайняя середина – наше время испробовало все. Черные книги на всех полках. Тебе бы стоило прочесть и усомниться.
– Ты безнадежен, Жан.
– Десятки альтруистов, замечательных, исключительных людей принимали изумительные решения, делали смелый выбор, но все всегда кончалось напалмом, газом, обогащенным ураном, грязной бомбой, противопехотными минами, разрывными пулями и фосфором. Целая физико-химическая диссертация…
– Жан…
– Знаешь, почему с героями все всегда так плохо кончается? Потому что у них большие руки, большие глаза, большие зубы и – главное – большое сердце, а любят они, в конечном итоге, одну единственную вещь – собственную позу. Будь ты героем, дражайшая Валентина, любила бы себя еще больше, чем любишь сейчас, да, да, именно так, это и ко мне относится. Увы, у меня нет сил даже на героические помыслы.
– Ты…
– Хочешь знать, что сделал бы на месте Ходорковского я?
– Да.
– Повел бы себя, как он. Хлебал бы лагерную баланду и смиренно ждал, когда мое униженное положение принесет дивиденды в виде всеобщего восхищения.Еще несколько слов о Жане
Все, что случилось после того, как Жан спас меня, выдернув из-под ног толпы на станции метро «Маяковская», исчезло. Остались только мы. И наша дружба. А еще – болезнь Жана и наша дружба, которую не разрушила его прогрессирующая болезнь. Не знаю, почему мы так близки. Если бы знала, наверное, унесла бы ноги. Когда у моего друга случается очередной кризис, он на какое-то время «сдается» в клинику. Я часто его навещаю, и как-то раз, в мае, он согласился немного погулять. Обычно Жан отказывается выходить. В то утро я пришла рано. Открыла окно в палате, спросила: «Не хочешь пройтись?» – и он не сказал нет. Было начало мая. Я оделась легко, даже кокетливо, а Жан был в своей обычной одежке, такой серой и поношенной, что ее и назвать-то никак невозможно, одному Богу известно, чем «это» было изначально – пальто, пиджаком, плащом или халатом. Свою бесформенную серую древность Жан таскает на плечах от зимы до зимы. Мой друг вечно мерзнет – независимо от времени года, наверное, из-за проклятых медицинских процедур.
В то утро я была на высоких каблуках. Мы шли по парку, я держала Жана под руку, и он вдруг сказал, что я смешно выгляжу в этих изящных туфлях. Я не стала спорить и произнесла что-то восторженное насчет деревьев, как будто только что заметила, как они прекрасны, словно не он, а я живу взаперти в палате на четвертом этаже больницы. Все клиники на свете окружены роскошными парками. Эти парки – воплощенная ложь в натуральную величину, ими восхищаются, их обсуждают, принято считать, что все мы – молодые и старые, больные и здоровые – испытываем одинаковое глуповатое блаженство при виде красивых клумб и аккуратно подстриженных кустов. Но я точно знаю, что пациенты клиник не такие, как вы и я. Знаю, что мой друг Жан – такой близкий друг, что уже и не друг, а почти брат, нет, полубрат, вторая его половина это болезнь, – так вот, он не всегда похож на нас с вами. Несходство в том, что в определенные периоды своей жизни он не открывает окон, держит закрытой дверь и даже не выглядывает на улицу. Когда на Жана «накатывает», он уходит из дома и проводит какое-то время в больничной палате. Так лучше для него и для окружающих, для семьи и друзей, потому что Жан начинает всего бояться, даже себя самого. Его пугают собственные мысли, желания и даже любимые кошки – он подозревает, что они строят против него козни. В клинике все отлично устроено. Сиделки заходят в палаты, открывают ставни, говорят: «Как чудесно сегодня светит солнце, какой дивный у нас парк…» Это обязательный ритуал, медицинская процедура – чтобы пациенты не перемерли. Жана точно давно не было бы на свете, умер бы от недостатка кислорода, не распахивай сестрички створки окон.
Я прихожу к Жану по вторникам и иногда в воскресенье, сразу открываю окно, но не лепечу жалких слов ни про солнце, ни про парк. Просто молча делаю свое дело. Я ведь не работаю в клинике. И не имею ничего общего с их выкрутасами. Я прихожу к Жану, моему полубрату, четвертый этаж, первый коридор налево от лифта. Дует ли ветер, моросит ли дождь, холодно на улице или жарко, я кидаюсь на шпингалет, как обезумевшая муха.
В марте 2004 года состояние Жана снова ухудшилось. Это был трудный месяц. Жан рассказал, что администрация больницы собирается установить решетку на окно в его палате. «В качестве меры предосторожности», – со смехом поясняет он, лежа на белой кровати. Сегодня мой друг больше не смеется. Решетку так и не поставили. Спросите почему? В голове у Жана нашли пятнышки, наподобие крошечных пауков, они-то и провоцировали его состояние. Взглянув на увеличенные снимки пресловутых «пятен», любой бы засомневался, но врачи объяснили: маленькая опухоль может грозить большими неприятностями. Мерзкие твари способны сплести гигантскую паутину, какой никто никогда не видал. Вот такой уверенный вывод они сделали. Так депрессия Жана из проклятия нашего времени превратилась в войско захватчиков, которых можно победить, выбрав правильное оружие. Война идет уже три года. Сражение продолжается, и я молчу. Я так и не осмелилась сказать Жану, что предпочитаю смех чувству безопасности, как бы жестоко это ни звучало. Если бы решение проблемы было технологичным и на треклятое окно поставили решетку, мы с Жаном продолжили бы обмениваться страшноватыми шуточками. Увы, окно не тронули, зато все остальное – включая смех – подвергли химиотерапии. По этой причине я не лезу к Жану с разговорами, когда прихожу, а просто открываю окно и проветриваю палату. Я навещаю его по вторникам, но часто бываю и по воскресеньям, потому что воскресенье – самый печальный день Творения. В этот день грустно всем – и пациентам клиники, и тем, кто на воле. Нам с Жаном повезло – мы с ним хорошо знаем, на что похожа эта печаль. Она течет мимо нас бесшумным коричневато-серым потоком. В обществе Жана печаль самого печального дня Творения превращается в водный кусочек географии. Это очень утешает.
Иногда по воскресеньям я хожу в кино, или читаю, или пишу, или встречаюсь с друзьями. Или сплю с любовником. Все мои любовники – «командировочные». Высокие и красивые. И все похожи на С. Они, конечно, не С. – тут я начеку. Бывают воскресенья, когда я забываю о Жане – из-за кино, постельных увеселений или вечеринки. Но в большинстве случаев воскресная река несет меня в больничную палату моего друга, хотя во вторник я его уже навещала. Войдя, я сразу открываю окно. Потом предлагаю ему прогуляться. Он отказывается. Говорит: «Посиди со мной…» – и я пристраиваюсь на краешке кровати. Жан делает мне комплимент – или не делает. И я очень скоро понимаю, что набралась мужества. Возможно, это не мужество в прямом смысле слова, но сила, которой я не обладаю в другие дни недели. Благодаря этой силе я могу смотреть в лицо моему брату, держать его за состарившуюся прежде времени руку и не отводить взгляда от его светлых глаз, видевших границы миров. Я сочиняю для него истории о погоде, запахах, звуках и, конечно, ритмах, и Жан в конце концов отпускает мою руку и тихонько отбивает такт на белой простыне своих провалов. Мои рассказы подобны обрывкам мелодий и жестов, в которых Александры ведут свои жалкие сражения, а Адрианы угасают, лишившись империи, в окружении варваров.
Жонас
Молодой Жонас позвонил в мою дверь поздно вечером. Он волновался, я поняла это, когда он представился в домофон, и убедилась, что не ошиблась, когда открыла дверь. Ничего удивительного, я тоже не думала увидеть его на лестничной клетке. Он наверняка ехал на поезде, на автобусе, может быть, на такси, и вот оказался перед женщиной, передо мной, малознакомой женщиной, подругой отца, ровесницей отца, ему я точно не подруга, а так, знакомая, из компании отца.
Я пригласила Жонаса войти. Пока он разувался, я строила предположения, какое несчастье могло произойти, например, с его отцом Гонзагом, остановка сердца – почему бы и нет, это часто случается с пятидесятилетними трудоголиками, или с его мачехой Софи, впрочем, несчастье с Софи вряд ли толкнуло бы молодого человека к моей двери – или все-таки толкнуло бы? Вполне вероятно, что дело в суке Амираль, золотистые ретриверы могут страдать синдромом скоропостижной смерти, откуда мне знать? Я перебирала в уме варианты, а мой разувшийся гость пребывал в сомнениях насчет пиджака – снимать, не снимать? Я отметила про себя, что кожа снова вошла в моду у молодых, и протянула ему вешалку.
Ведомая нелепым рефлексом, проистекающим из отсутствия опыта общения с детьми и подростками, я спросила Жонаса, не голоден ли он. Вопрос показался мне вполне логичным: молодые должны есть и едят все подряд, так почему бы не поесть как положено, в нормальных условиях. Жонас отклонил мое предложение – просто отказался и не счел нужным объясниться, сказать «спасибо, я уже поел» или «спасибо, не хочу». Тут я подумала, а ведь гость не предупредил меня о своем визите, хотя легко мог это сделать, воспользовавшись одним из современных навороченных средств связи. Все знают, что молодежь способна за секунду связаться со всем миром и ей для этого не нужно вчитываться в инструкции по применению, а вот представители моего поколения тратят уйму времени на их изучение и в результате все равно пользуются всяким старьем. И вот молодой человек ведет себя так, как будто живет в эпоху телефонов-автоматов, когда у людей вечно не оказывалось в кармане монетки или жетона. Меня это почему-то очень тронуло, и атмосфера разрядилась.
Жонас совсем не похож на своего отца Гонзага. Возможно, он пошел в мать, как там бишь ее звали, кажется, Флора. Тыщу лет ее не видела. Достаточно взглянуть на Жонаса сегодняшнего, чтобы понять, как неумолимо время, когда-то этот молодой человек был грудничком, которого я наверняка качала на руках. Интересно, успела я подарить мальчику пожарную машину, пока в этом еще был смысл? Или, скажем, книгу о пожарных лестницах?
Я пригласила Жонаса на кухню, выбирай стул, да, садись, где хочешь, и едва удержалась от вопроса о пожарной машине. Неуместное любопытство, сентиментальная потребность услышать в ответ, что он ее сохранил – ну конечно, а как же иначе, такая красивая игрушка! – и поверить, что сегодняшние дети не отличаются от вчерашних, какое счастье, ничего не изменилось, совсем ничего, разве что две или три небольшие детали. Я промолчала. Посмотрела на него и поняла, что мы не станем говорить о его детстве. В возрасте Жонаса главное место отведено будущему, в основном – ближайшему. Я прочла это по его глазам и не до конца оформившимся чертам лица. Жонас заговорил прежде, чем я успела сесть.
– Вот о чем я подумал. Поскольку ты скоро уедешь в Россию, я мог бы обосноваться здесь. Пожить у тебя. Возьму на себя все хлопоты. Если я буду тут, твою квартиру не обворуют. Я позабочусь о животных и цветах. Это практично. Для тебя, пока ты будешь в Сибири. Ну, и для меня тоже.
– Неужели?
– Да.
– Понятно.
– Да.Жонас больше не хрипит. Неужели голос мог сломаться всего за несколько недель? Или это действие особых, неизвестных мне гормонов, которые «охри-пляют» голоса молодых мужчин только в определенное время суток? Хорошо бы, мой собеседник произнес еще несколько фраз, тогда я смогу проверить свою гипотезу, но он задает короткий вопрос: – Так ты согласна?
Нужно было отвечать. Неожиданное предложение мне понравилось. Я находила его тем более оригинальным, что сама никогда бы о таком не подумала. Но запретила себе высказываться на эту тему. Меня сдерживала мысль об отсутствии опыта общения с молодыми людьми и полном непонимании проблем воспитания. Кроме того, на расстоянии вытянутой руки от моего стула стоял мой призрачный двойник, он смотрел на нас с Жонасом и цедил сквозь зубы будь осторожна, осторожна, ты ничего в этом не понимаешь, бедная моя старушка, смотри не вляпайся, может, этот парень в бегах, замешан в темных делишках, может, он балуется членовредительством или пытался покончить с собой, может… Господь свидетель, за свою жизнь я видела множество страшных фотографий и слышала не меньше трагических историй. В этом возрасте все взрывоопасно и крайне деликатно. Это известно даже таким, как я, подкованным теоретически, но никак не практически. Я способна очень точно и подробно описать, как скрытый семейный конфликт переходит сначала в острую фазу, потом достигает крайней стадии и в конечном итоге становится неуправляемым. И очень этим горжусь. О семейных отношениях я знаю бессчетное количество вещей, применимых к любой конфигурации, например, к структуре смешанной семьи Гонзаг-Софи-Жонас. Плюс сука Амираль, куда же без нее, собак и кошек тоже следует принимать в расчет – больше, чем рыбок и хомячков. Я всегда подозревала, что эти знания необходимы, а с момента прихода Жонаса еще лучше понимаю, насколько полезны все эти знания, почерпнутые из газет, журналов, телепередач, услышанные от подруг – матерей и бабушек, все эти реалии вошли в мою жизнь и угнездились у меня в голове посредством чтения и просмотров. Иными словами, я стала всезнайкой, хоть и не таскала годами тяжелых сумок, не занималась стиркой, не ходила по магазинам и не участвовала в бесконечных семейных сценах. Это отличная новость как таковая. Мне также известно – опять-таки из репортажей и теленовостей, что мрачные мысли, появляющиеся из-за ничтожных пустяков, часто доводят многообещающих молодых людей до самоубийства. Всегда нужно об этом помнить. Значит, Жонас мог совершенно сознательно выбрать меня, заменить мною надоевшую мать или оплачивающего все счета отца, двух безусловно достойных, но совершенно ничего не понимающих в его проблемах людей.
Итак, вчера вечером я пробиралась по заминированной территории под взглядами моего брюзжащего двойника и ожидающего ответа Жонаса. К счастью, я понимала, что имею дело с неординарным молодым человеком. Достаточно было сравнить Жонаса с любым другим представителем его поколения, чтобы понять: заурядные личности не способны найти корень слова «олигархия», даже если ужасно хотят поразить воображение аудитории. Большинство из них не станут писать диссертацию об обществе потребления, виртуальных моделях, неизбежных провалах, автор Жонас Шумпетер, весна-лето 2010. Но могу ли я быть уверена, что этот неординарный мальчик вознамерился поселиться у меня не потому, что столкнул с лестницы мачеху или назвал отца законченным идиотом? И не потому, что его пугает собственное будущее и он из-за этого втихаря режет себе вены?
Разве можно быть хоть в чем-то уверенной, когда такой вот Жонас смотрит на вас снизу вверх на вашей собственной кухне?
Чтобы ответить на вопрос, я попыталась для начала обрисовать ему контуры своей реальности. Заверила, что меня никогда не грабили, никогда, даже замок не взламывали и даже дверь не уродовали. Невероятное везение, не правда ли? Затем, не вдаваясь в лишние детали, описала свое одиночество, нет, скорее душевное равновесие, что, по-моему мнению, исключало – дефакто – соседство с любым существом в пухе, перьях, шерсти и чешуе, как и с любым растением, размер значения не имеет. Разве мой гость видел здесь хоть намек на кота или самый крошечный зеленый росток? Он вообще огляделся вокруг, когда пришел?
– А кактусы?
– Кактусы коллекционирует Ясмина. Ты никогда у нее не был?
Жонас откинул голову. Распрямил плечи. Согнул ноги в коленях. Встал, сделал несколько шагов по квартире.
– Здесь мало мебели, – заметил он.
– Да, – согласилась я.
– Мне очень нравится, – продолжил он.
– Правда?
– Да.
– Да, – повторил он, – здесь можно сосредоточиться. Я должен сосредоточиться. Работать. Двигаться вперед.
– Понимаю, – ответила я.
Я собиралась сказать совсем другое. На самом деле, у меня с языка едва не сорвалось «в твоем возрасте!». Но я удержалась. Я знаю, что в восемнадцать хочется жить, веселиться, выкладываться по полной, не то что в сорок. В сорок притворяешься, будто забыл, что в восемнадцать для человека нет ничего важнее будущего и он помнит об этом и днем, и ночью, и несет тяжкий груз этого знания и днем, и ночью. А взрослые еще удивляются и не понимают, почему во всем мире так высок процент самоубийств среди ровесников Жонаса. Да, мы удивляемся, что еще нам остается.Я спросила Жонаса, как поживает его будущая диссертация. Знаю, что никто никогда его об этом не спрашивает. Он ответил, что много размышляет, читает, но работать по-настоящему пока не начал.
Надо же, он еще и честен, этот мальчик.
– Ну и правильно, – заметила я и тут же спохватилась – наверное, не стоило этого говорить.
– Правильно, – продолжила я, – невозможно заниматься всем сразу. Нужно действовать последовательно, не торопясь. Да, последовательно, жить, размышлять, писать, этого вполне достаточно, это не позволяет думать о других вещах, например о будущем, ведь время так быстротечно, – добавляю я и мысленно кривлюсь – как банально! – но время и впрямь быстротечно, и никто над ним не властен.
– Да, – отвечает мой молодой собеседник.
– Как поживает твой отец?
Я задала и этот вопрос. Глупый. Неловкий. Вытащила на сцену отца в тот самый момент, когда Жонас решил от него освободиться. Вернусь из Сибири, запишусь на семинар по прикладной психологии, решаю я.
– У него все в порядке, – отвечает Жонас.
Вежливый мальчик. И терпеливый.
– Рада за него, – произношу я первое, что приходит в голову.Мне отлично известно, как поживает Гонзаг. Гонзаг поживает как обычно. Много работает. Когда-то он уходил из дома на работу рано утром, когда его крошка-сын еще спал, сегодня возвращается поздно, когда его выросший сын уже спит. Оперившийся юнец часто выходит и много где бывает. Работа Гонзага приносит свои плоды. Малыш стал успешным во всех отношениях студентом. Квартира в хорошем доме. Газон, много гектаров земли. Бассейн, спа-процедуры, фитнес-зал и массажный кабинет, домашний кинотеатр, корт для игры в теннис и сквош. Загородная собственность, походы в горы, морские прогулки. На горнолыжные курорты Гонзаг теперь летает вертолетом, дружеские вечеринки уступили место парадным обедам. «Делишки» (так адвокаты называют между собой свою работу) усадили его в VIP-кресла, благотворительные фонды стали просто фондами. Наш Гонзаг гуманист, но в первую очередь он великий адвокат. Частные школы. Примирение с женами, отбеленные зубы, никакого психоанализа, кое-какие навязчивые состояния (нелеченые, читай – пустые), время от времени лазерная коррекция зрения по причине перманентного недосыпа. Из-за слияний, приобретений, объединений и поглощений. С ума сойти, до чего в наше время любят поглощения. Бизнес-адвокаты перегружены, у них много важных клиентов и сложных дел. У папы молодого Жонаса адвокатская контора. Он чертовски много работает. Смешно, сидя на стуле в кухне, спрашивать сына «как поживает твой отец», ведь мы оба, он, я, и все остальные знакомые Гонзага – близкие и не очень – знаем, как он поживает. Особенно последние.
– Значит, тебя это не интересует?
– Что именно?
– Мое предложение. Чтобы я жил здесь, пока ты будешь там. Ну, если ты надолго задержишься в Сибири…Я подняла глаза на гостя. Нужно было обдумать стоящий на повестке вечера сюжет, а именно, вероятное водворение Жонаса в моей квартире – его идея, не моя. Неожиданное предложение, но для меня весьма обнадеживающее. Подобное предложение это нечто особенное. Оно означает, что я в глазах Жонаса – не сорокалетняя «замшелая» тетка, не домоседка и не тихоня, а живая раскрепощенная женщина, мечтающая о невероятных путешествиях и одержимая необъяснимым интересом к стране и герою, до которого больше никому нет дела.
Так или иначе, того, что во мне было и, без сомнения, не было, хватило, чтобы этот молодой человек оказался у моей двери и предложил мне свои услуги.
Спасибо, Жонас.
Очень мило с твоей стороны, Жонас.
Ты мог бы быть моим сыном, Жонас.– Знаешь, эта твоя история об олигархе показалась мне интересной.
– Правда?
– Я сказал это не для того, чтобы ты приняла мое предложение.
– Вот и хорошо.
– Мы ведь можем поговорить о твоей книге, даже если ты не согласишься, чтобы я жил тут, пока тебя не будет.
– Конечно, можем.
– Я понимаю, что вторгаюсь в твое личное пространство, но мне действительно хочется знать, что случилось с этим типом.
– Ты родился в год падения Стены, Жонас.
– Знаю.
– Тот мир был совсем другим.
– Я много об этом читал. Ездил в Берлин. И в Будапешт.
– Значит, кое-что понимаешь.Да, я подумала, что Жонас мог бы быть моим сыном, и за несколько часов, что мы провели с ним на кухне, успела привыкнуть к этой мысли. Когда мой гость проголодался и захотел попить, я предложила ему «самообслужиться» в холодильнике и долго наблюдала, как ловко он управляется, вслушивалась в тихие обыденно-привычные звуки – звякнула крышка на банке с огурцами, зашуршал пакет с редиской, скрипнула целлофановая упаковка батона. Жонас готовил себе еду, а я сидела у него за спиной и думала, что он мог бы быть моим сыном. Он налил в стакан кока-колы, включил тостер, коротко ответил на звонок, держа телефон в левой руке, а бутерброд в правой, и мне показалось, что эта сцена повторялась в нашей жизни тысячи раз, во всяком случае, ровно столько, сколько необходимо, чтобы новорожденный малыш превратился в здоровенного парня ростом метр восемьдесят девять с густыми волосами и улыбкой победителя.
Я курила и думала, что Жонас и правда мог бы стать кем-то вроде моего сына, когда я уеду и на какое-то время выпаду из здешней жизни. Глядя, как он моет овощи, я сказала себе, что однажды вернусь, потому что именно так поступают все женщины, которых дома ждет сын. Они никогда не отсутствуют слишком долго, вот о чем я думала, глядя, как Жонас стряхивает воду с пучка салата. Разве можно уехать насовсем, когда дома вас ждет новоявленный сын, пожелавший пожить у вас? Жонас положил на стол сэндвич, изящно украшенный зеленью. Спросил, не хочу ли и я что-нибудь съесть. Я поблагодарила и отказалась. Он принялся за еду, не обращая внимания на то, что я курю, табачный дым его явно не беспокоил. Я смотрела, как он жует – молча и сосредоточенно. Аппетит Жонаса был залогом успеха его будущей диссертации. Как и выверенность жестов. Хладнокровие совершенно необходимо, если собираешься писать о глобализации капитализма. Не знала, уместно будет предложить ему вина или, скажем, пива, так ничего и не решила, продолжила молча курить, а он уплетал за обе щеки, как будто только что вернулся с тренировки по баскетболу, а я, его мать, уже поужинала и ждала его, как всегда делаю по вторникам. Я знаю, что по вторникам мой сын возвращается поздно. Он всегда забывает ключи. Да, он их забывает. Потому и звонит в дверь. Каждый вторник Жонас возвращается поздно, голодный и без ключей.
Письмо
(переведенное)
Уважаемая Мадам,
В Приложении к этому письму Вы найдете программу встреч, которые мы организуем в России для ведущих журналистов англоязычных печатных средств массовой информации. Поскольку Вы, как мы поняли, не сотрудничаете ни с одной из газет и нам не известно, ни чем конкретно Вы в настоящий момент занимаетесь, ни каковы Ваши планы, мы ни при каких обстоятельствах не сможем включить Вас в число участников нашей программы, если не получим дополнительных подтвержденных сведений. Мы сообщаем Вам конфиденциальную на данный момент информацию исключительно по настоянию господина Джона У. Кларка, к которому питаем глубочайшее уважение.
В нашей программе, как Вы сможете убедиться, имеются лакуны, и она останется таковой в течение всей поездки. Учитывая исключительный характер планируемых мероприятий, наши российские партнеры не могут гарантировать их обеспечение во всем объеме – по вполне очевидным причинам. Запланированные встречи с министрами и политиками могут быть в любой момент отложены и даже отменены, как и встречи с президентами и генеральными директорами крупнейших российских компаний – тех, чьими акциями торгуют на Бирже, и тех, что пока там не котируются.
Обращаем Ваше внимание и на тот факт, что ни один участник не должен говорить по-русски, даже на бытовом уровне, поскольку познать новую реальность этой страны возможно лишь с помощью высококлассных переводчиков. Кроме того, мы обязаны сообщить нашим партнерам подробные сведения о всех журналистах, которые отправятся в эту поездку, а также переслать копии статей, написанных каждым из них о России. Статьи, посвященные культурным и социальным проблемам не принимаются – только работы на политические и экономические темы.
Расходы – исключительно высокие – на поездку возлагаются на участников, то есть на те печатные органы, где они работают. Если Вы решите принять участие в мероприятии, как можно скорее пришлите нам точные и полные данные о газете, на которую Вы собираетесь работать.
Сообщаем, что пользование телефоном, компьютером, видеокамерой, фотоаппаратом и другими цифровыми считывающими и записывающими устройствами будет строго запрещено на протяжении всей поездки. Наша компания дала в этом заверения российским партнерам. Отборочный комитет отнюдь не случайно принял решение послать в Россию журналистов печатных средств массовой информации, «оснастив» их чистыми блокнотами и шариковыми ручками. По нашему мнению, только письменный текст позволяет показать и прочувствовать глубинную реальность, это не под силу ни одному другому средству массовой информации, даже самому современному и дорогостоящему.
В ожидании Вашего скорейшего ответа и максимально подробного резюме, примите, Мадам, заверения в нашем совершеннейшем почтении.
Доктор юридических наук, адвокат Кирилл Е. Буалле
Events Worldwide ConsultingОтвет на письмо (переведенное)
Уважаемая Events Consulting Worldwide,
Уважаемый господин адвокат,
Я была очень рада получить Ваше письмо от 23-го числа текущего месяца, о скором получении которого меня предупредил мой друг Джон У. Кларк. Джон исключительно хорошо информированный человек, в чем Вы, как и я, наверняка часто имеете возможность убедиться к полному своему удовольствию.
Хочу сразу же уточнить, что не работаю ни на кого-то персонально, ни, тем более, на какое-либо англоязычное печатное издание. Я пытаюсь написать русский роман. Возможно, эта информация покажется Вам слишком расплывчатой, поэтому уточню, что намерена создать современный русский роман. Считается, что этот жанр исчерпал себя. По моему скромному мнению, его пора освежить, возможно даже, прибегнуть к «подтяжке и липосакции», но давайте обойдемся без таких обыденных деталей. Добавлю, полагаясь на вашу профессиональную сдержанность, что эта работа над современной версией русского романа sui generis [9] неизбежно приведет к написанию русского потешного романа. Речь в нем пойдет о постсоветской демократии, в этом я могу Вас заверить, поскольку, по моему твердому убеждению, никто сегодня не сможет сочинить русский роман, обойдя тему русской демократии, даже я. Что до остального, отсылаю Вас и членов отборочного комитета к чтению романов как таковых. Само собой разумеется, не абы каких романов. Я не сомневаюсь, что опыт отборщиков позволит вам выбрать из огромного количества литературных произведений один или два романа, достойных называться романами. Они помогут Вам понять, что я имею в виду, когда пишу, что работаю над русским романом, и почему не могу сказать больше, чем уже сказала.
Предлагаемая Вами программа встреч и визитов показалась мне необычайно увлекательной. Я, как Вы, конечно, понимаете, буду очень рада встретиться с несколькими русскими министрами и – главное – президентами и генеральными директорами газовых, нефтяных, урановых и, если таковые найдутся, зерновых, щавелевых и редисочных компаний. Если мы хотим получить достоверную информацию о новой России, нельзя оставить без внимания ни один природный ресурс. Меня также интересуют олигархи, могущие находиться в тюрьмах, лагерях, колониях и других исправительных учреждениях (широта: 51°; долгота: 116°) [10] . Мне неизвестно – в Вашей программе об этом ничего не говорится, – запланировали ли Вы встречи с кем-нибудь из утративших влияние представителей экономической элиты России. Например, с самым известным из них, Михаилом Ходорковским, который вряд ли добровольно выбрал для себя такого рода славу. Подобная инициатива могла бы идеально вписаться в позитивно-конструктивное видение темы и позволила бы нам – не только мне как романистке, но и всем Вашим авторитетным журналистам – намного шире осветить проблемы развития современной России.
Позволю себе привлечь Ваше внимание к тому факту, что уровень смертности в российских лагерях был и остается трагически высоким. Если кто-то из политических заключенных все еще жив, нельзя упустить уникальную возможность и не встретиться с ними хотя бы на несколько часов, чтобы обсудить совершенные ими управленческие ошибки и причины драматичного гражданского разочарования.
В приложении к этому письму посылаю Вам свою подробную биографию. К сожалению, все написанное мной к сегодняшнему дню о России носит скорее лапидарный характер, но я постараюсь как можно скорее исправить это. С удовольствием сообщаю Вам, что написала несколько пока не изданных текстов песен – конечно, на французском, поскольку мой уровень знания русского языка оставляет желать много лучшего, – но их легко перевести на язык Чехова. Большинство из них – застольные, с весьма поэтичными припевами. Кроме того, я написала книгу, в которой нет ни слова о России, впрочем, не мне учить Вас читать романы и понимать, как сильно русская литература влияет на некоторые современные тексты, никак на нее не ссылающиеся. И, наконец, я написала роман, в котором есть персонаж с русским именем. Настолько русским, что я отправила его к праотцам в первой же строчке первой страницы. Иными словами, Россия остается для меня невозделанной землей, а Вам, безусловно, известно, как мало в нашем новом, XXI столетии, осталось таких мест.
Рискну предположить, что Вы привыкли к иному, менее лаконичному стилю общения, и хочу довести до Вашего сведения еще одно досадное обстоятельство. Катаясь зимой на лыжах, я серьезно повредила левое колено – получила разрыв связок – и все еще сильно хромаю, а если очень устаю за день, вечером вынуждена передвигаться на костылях. Россия – бескрайняя и в некотором смысле недостижимая страна, поэтому, учитывая мое нынешнее физическое состояние, я слегка обеспокоена.
Надеюсь, все вышеизложенное убедит Вас в том, с каким радостным нетерпением я жду участия в организуемой Вами поездке. Примите, господин Буалле, заверения в моем совершенном почтении.Валентина И.
Русско-русское дело
– Советую вам бросить этот сюжет, Валентина, нет, не советую – настаиваю.
– С какой стати?
– Вы ведь романистка. Не стоит тратить талант на такую заурядную и скучную историю, в которой вы, к тому же, вряд ли сумеете разобраться. Честно говоря, это скучное дело выходит за рамки всеобщего разумения.
– А по-вашему, романисты должны браться только за примитивные сюжеты?
– Дело Ходорковского – это realpolitik [11] . Надеюсь, мне нет нужды рисовать вам всю картину в целом. Россия изменилась. Невозможно зависеть от русского газа, русской нефти и от бог знает какого количества русского урана и выступать с комментариями по любому, даже самому незначительному, поводу.
– Неужели?
– Невозможно. Ситуация там мало-помалу налаживается. Нужно дать им время и иметь терпение. Это огромная страна, русские не могут поспевать всюду и сразу. Свобода опьянила их в 1989-м, и они все еще мучаются похмельем. Об этом тоже следует помнить.
Человек, беседующий со мной в гостиной со скрипучим паркетом – чиновник Министерства иностранных дел моей страны. Его зовут Карл. У Карла богатый жизненный и профессиональный опыт, он обжора, спортом не занимается – не хочет, да и времени не имеет. Карл блистательно защищает внешние интересы нашей с ним родины. Он лучше всех знает, что такое маленькая страна. Маленькая страна это вам не большая страна. Внешняя политика маленькой страны напрямую зависит от размеров ее территории. Карл никогда об этом не забывает, а если кого-то вдруг подведет память, он мигом напомнит – красноречивым взглядом, благообразным лицом и изящными, внушающими доверие манерами.
Я вытягиваю затекшие ноги и касаюсь носами туфель толстого ярко-оранжевого пакистанского ковра, украшающего кабинет Карла. Мне все здесь нравится – ковер, мебель, выдержанная в строгом, функциональном стиле, и сама атмосфера: яркий свет, белизна, тишина. У моего собеседника хороший вкус. Я решаю перейти от проблем дизайна и декора к современной швейцарской истории.
– Если я правильно помню, Карл, Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила часть счетов «Юкоса», так? И, если я не ошибаюсь, сумма была запредельная, шесть миллиардов франков. Шесть миллиардов и сколько-то там сотен миллионов. Небывалое дело. Это вы называете не лезть с комментариями по любому поводу?
– Любой может совершить оплошку. У Генпрокуратуры было много других забот. Дрязги там всякие, ну, вы понимаете… Сейчас все наладилось, и бо́льшую часть счетов разблокировали.
– Очень интересно.
– Напоминаю – наша встреча носит сугубо конфиденциальный характер, все, что я говорю – «не для протокола».
– Ни одно слово не выйдет за пределы этой комнаты, Карл, обещаю вам.
– Я говорю с вами, заботясь исключительно о ваших интересах, Валентина.
– Я ни на миг об этом не забываю.
– Лучший способ избежать неприятностей – не напрашиваться на них.
– Я прекрасно вас поняла. Мне не нужны неприятности. Я просто хочу написать русский роман.
– Блестящая идея! Напишите добротный русский роман, полный неожиданных сюжетных поворотов, и забудьте о деле Ходорковского. Сюжетов в наши дни хватает! Сочините красивую историю о постсоветской любви, вам с вашим изящным стилем это будет нетрудно.
– Откуда вам известно, что у меня изящный стиль?
– Оттуда, что я вас читаю, дорогая Валентина, я вас читаю! И доводил это до вашего сведения.
– Хотите сказать, что хвалили в письме изящество моего стиля?
– Я наверняка нашел более… изысканные эпитеты.
– О да, конечно.
– Я пытался довести до вашего сведения и другие вещи, Валентина.
– Простите, Карл, у меня иногда голова становится дьгрявой как решето.
– Обожаю ваше чувство юмора… Кстати, мьг договорились пообедать, я заказал столик, не забыли?
– Вы ничего мне об этом не говорили, но не огорчайтесь, никто не может помнить все обо всем, даже вы.
– Ха-ха-ха.
– Я в любом случае напишу русскую любовную историю.
– В добрый час! Она наверняка будет иметь успех.
– С Михаилом Ходорковским в качестве главного героя.
– Но послушайте, Валентина…Мои встречи с Карлом носят эпизодический характер. В последний раз мы виделись два месяца назад, на приеме в честь финансистов, обеспокоенных судьбой денежных потоков и поступлений. Новый Шквал [12] обрушился на сад нашей процветающей родины, где полно коров, гор и сейфов. Орудие небес, само собой разумеется, не метило ни в наши стада, ни в наши камни. В таких случаях приходится устраивать всяческие танцульки, чтобы поговорить о том и о сем, а еще о банковских делах, пока кто-то за кулисами спасает то, что можно спасти. На приемах Карл блистает ораторским искусством. Он всегда умеет разрядить обстановку, за что ему прощают даже эпатажные, на грани приличий, принятых в его среде, костюмы «мраморных» расцветок. Поздно вечером, исполнив все, что должен был исполнить, он снова укорил меня за то, что мы редко видимся, и я признала его безоговорочную правоту. Мы пропустили несколько стаканчиков сингл молт [13] , чтобы наверстать потерянное время. Все истории Карла весьма интересны и очень забавны. Внешняя политика не имеет ничего общего с кино, но в интерпретации Карла она часто напоминает вестерн. Карл – чиновник высокого ранга, он великолепно разбирается в ковбойском менталитете, без которого не обойтись ни в сценариях, ни в политике, и в действиях, имеющих целью умерить пыл и смягчить притязания. Любые. Больше всего Карл любит сцену, в которой бедолага падает с лошади мордой в грязь, теряет кольт, все думают, что ему конец, но не тут-то было. Пистолеты дымятся, пули свистят и летят во все стороны, а наш герой извивается, ползет, как змея-песчанка, и – вуаля! – закапывается в песок и остается целым и невредимым. А «хороший, плохой, злой» [14] , не заметив его, бредут дальше по своим делам. Карл часто повторяет: хитрость как стратегия ничего не стоит, особенно если средств мало и стратегия слабо разработана. А вот настоящая хитрость, продиктованная инстинктом самосохранения, творит чудеса. Потому-то страны, «захлебывающиеся» полезными ископаемыми и вооруженные до зубов по последнему слову техники, не слишком впечатляют Карла. Его собственная страна горных вершин и банковской тайны занимает позицию «лежать-ползти». Можно подумать, что между нашими альпийскими вершинами имеется некоторое количество песков пустыни. Карл играет роль аниматора, ой-ёй-ёй, не будем преувеличивать, дорогой друг, ха-ха, пока его солдатики по мере надобности ползают и падают в тихой спасительной темноте.
Увидите, все скоро наладится, успокоится, сказал он мне в тот вечер, имея в виду последнюю по времени атаку. И уточнил – как честный человек и со свойственной ему скромностью:
– До следующей бомбардировки.Сегодня, в четверг, я отправилась на встречу с Карлом в столице нашей страны, где так много коров и всего прочего, потому что хорошо его знаю, хоть и стараюсь держаться от него на благоразумном расстоянии по причинам, о которых не стану распространяться в романе, посвященном русским проблемам. Карл способен дать не один полезный совет, и он ужасно скучает в Берне, самом швейцарском из всех маленьких швейцарских городов этой маленькой страны. А еще у него много знакомых. Как среди так называемых «приличных» людей, так и среди других, менее приличных. С тех пор как русские снова взялись за полоний-210 и разнообразные яды неизвестного происхождения, начались неконтролируемые отравления, недомогания и приступы рвоты. Повсюду. В том числе – в бескрайних степях бескрайней России, откуда не так-то просто эвакуироваться, вне зависимости от количества выпавшего снега и низких температур. Об этом нельзя забывать. Из чисто женского кокетства я льщу себя мыслью, что, если мне понадобится помощь, Карл придет на выручку, конечно, если не решит, что я просто сломала лодыжку в сибирской глубинке. Вот я и надумала прошептать ему на ушко имя моего будущего героя, романтического, трагического, но от этого не менее реального, чтобы он не смешивал гипотетическую хрупкость моих связок с будущими, куда более серьезными, неурядицами.
И Карл не смешивает.
– Выбросьте этого Ходорковского из головы и ваших сочинений, Валентина! Он вам не нужен.
– Но ведь я пишу русский роман, значит, имею полное право сделать его героем этого романа, разве нет?
– Нет. В русский роман можно поместить сколько угодно других русских. Не пытайтесь убедить меня, что не способны выбрать другого человека среди ста сорока миллионов душ, населяющих эту страну! В этой замечательной стране так много поэтов, так много, э-э-э… поэтичных поэтов.
– Увы, Карл, меня больше всего интересуют дела, старые добрые крупные дела. По моему мнению, современная проза не замечает множества реалий. А вам известно мое пристрастие к тривиальным сюжетам.
– Если вам так уж необходим русский бизнесмен, выбор широк! Возьмите другого или дайте герою вымышленное имя, надергайте фактов из разных биографий. Тысячи русских сделали блестящую карьеру.
– Я знаю, Карл, знаю. Но иногда не хватает одного единственного имени и…
Я все еще сижу, вытянув ноги, и курю. Карлу жарко, хотя на дворе унылый март и температура в кабинетах Министерства вполне нормальная. Карл потеет, потому что ходит туда-сюда, а не сидит, как обычно, в позе сфинкса. На нем костюм антрацитово-серого цвета в тонкую зеленую полоску. Он расхаживает по кабинету, как раздраженный кот, и талдычит о том, что, в конце концов, Ходорковский – русский предприниматель, делавший русский бизнес, что вся эта история русская, архирусская, и я говорю себе, что только он, на много километров вокруг, понимает весь смысл дела Ходорковского, но не знает того, что известно всем: полоска полнит, а значит, это не лучший выбор для дородного мужчины.
– Речь не о равнодушии, трусости, соглашательстве и бог его знает о чем еще, Валентина, но судьба этого вашего Ходорковского вписывается в рамки сугубо русско-русского дела, так пусть там и остается. Повторю еще раз, он – русский предприниматель, он вел русский бизнес, что, между нами говоря, предполагает массу нюансов, согласны? А теперь тянет русский срок в русской тюрьме.
– На русской каторге.
– В тюрьме, Валентина, непростительно использовать устаревшую терминологию.
– Ну хорошо, в лагере, который находится в районе, где уровень радиоактивности превышает все допустимые пределы – даже по русским меркам.
– Как бы там ни было, этому типу не место в романе. Он был богат, теперь нет, российское правосудие постаралось. Только и всего.
– Кто постарался, Карл?
– Российское правосудие, Валентина, именно оно. Если вы сравните историю Соединенных Штатов и России, найдете там много интересных совпадений.
– Ах да, сравнения…
– Вы, наверное, подумали об Аль Капоне. Да, в один прекрасный день его пришлось убрать. Россия разработала целый комплекс мер по борьбе с коррупцией, мошенничеством и отмыванием денег. Дело это долгое. Можно только восхищаться быстротой реакции, в нашей стране ничего подобного не наблюдается. Так что если время от времени происходят некоторые издержки или кто-то превышает власть…
– Иными словами, они наводят чистоту в доме?
– Приходится.
– Ну так объясните, почему результат получается обратный, Карл.
– То есть?
– Почему толпы русских взяткодателей, мздоимцев, мошенников, «прачек» и мультимиллиардеров продолжают жить припеваючи и разграблять богатства родины, целуя руку власти, которая «имеет» их, когда захочет?
– Знаете, Валентина, не вам решать, кто чист, а кто нет в стране, переживающей переходный период, это пристало журналистам, но не вам! Хочу напомнить, что российское правительство наводит порядок в стране. Они разобрались с Ходорковским и на этом не остановятся, ведь без порядка, дорогая Валентина, нет демократии.
– Демократии, Карл?
– Скажем так – демократии по-русски.
– Да пребудут ваши сейфы в мире и покое.
– Не ерничайте, Валентина.
– И тем не менее, деньги, заработанные в России, в стране не остаются, вам не кажется странным, что они неизменно утекают за границу, в том числе к нам, разве не так?
– Вы, наверное, не заметили, но капитализм изменился, мы живем в эпоху глобализации.
– А вы, возможно, предпочли бы, чтобы я оставила в покое наших коров, Карл? Из благоразумия…
– Я бы предпочел, чтобы вы меня послушались.
– Значит, Ходорковский – не более чем побочный ущерб [15] генеральной уборки, затеянной во имя установления русско-русской демократии?
– Не нам судить. Кроме того, ваш бизнесмен, скорее всего, вовсе не невинная жертва. Не забыли, чем он занимался?
– Не забыла – нефтью.
– Вот именно, нефтью, моя дорогая, а нефтью, как известно, легко замараться.
– Но она остается очень лакомым куском.
– Ну что за выражения, Валентина, такой очаровательной женщине не пристало…
– Очаровательной женщине с изящным стилем, Карл.
– Это был комплимент, поверьте.Самое ужасное заключается в том, что я верю Карлу. Я не сомневаюсь, что он сумеет сделать все необходимое, если в самом сердце Сибири у меня вдруг начнутся в желудке боли неопознанного происхождения. Должна признаться, что возможность положиться на Карла, хоть он и находит мой стиль изящным, а дело Ходорковского считает сугубо российским, куда милее моему сердцу, чем перспектива добираться в случае несчастья до ближайшей сибирской больнички.
Шагая рядом с Карлом по направлению к ресторану – он явно вознамерился задавать своему организму как можно больше физических нагрузок, – я думаю о том, как же все-таки хорошо быть «вскормленным из одной бутылочки». Мы потребляли молоко прямой демократии, которая, может, не такая уж и прямая, но оставляет на верхней губе белые усы, и люди, подобные нам с Карлом, умеют быть терпимыми и говорить друг другу правду. Мы не советуем делать то или это, путаемся в словах, произносим банальности, но каждый, в конечном итоге, делает, что хочет и как хочет. Я иногда думаю, что свежий ветер с гор увеличивает объем кислорода в нашем национальном углекислом заповеднике. Карл выбрал вегетарианский ресторан. Это странно, потому что он больше всего на свете любит мясо с кровью и круглые плоские сосиски с соусом «Шеф». Предупредительность Карла меня не удивляет – он, как-никак, карьерный дипломат! – но очень трогает. Он даже не раскрывает меню. Улыбается чуть смущенно и морщит нос, как будущий святой, почти великомученик, Иуда, несущий на своих плечах бремя безнадежных дел [16] . Он делает заказ, не меняя выражения лица. Традиционная паста на закуску и традиционная паста в качестве основного блюда. У официантки такой вид, как будто она хочет спросить: «Правда что ли?» Карл подтверждает: «Именно так». Милый старина Карл, он на все готов ради меня. Почти на все. Я предлагаю попробовать аперитив, на 100 % биологически чистый, овощной. Он дает себя уговорить. Погода сегодня холодная, но чего ни сделаешь ради высокой цели.
Я ковыряю вилкой смесь из теплого шпината и мелкого красного лука с кедровыми орешками под пармезаном. Не знаю, какую роль это блюдо призвано сыграть в вопросах, которые я собираюсь задать Карлу, тем более что я заказала еще и марроканскую фасоль с козлобородником и горчицей. Отступать некуда, и я спрашиваю, доволен ли он своей жизнью.
– Что вы имеете в виду, Валентина?
– Я спросила вас, Карл, довольны ли вы своей жизнью. В широком смысле.
– Доволен ли я своей жизнью?
– Да, каждодневной жизнью. Я не имею в виду интимные подробности, боже упаси. Я имею в виду, довольны ли вы… тем, что занимает ваши дни… как бы это поточнее объяснить… вы ведь обязаны защищать интересы, которые, если я правильно понимаю, лично к вам не имеют прямого отношения, но забота о них поглощает бблыную часть вашего времени. Так, во всяком случае, это выглядит со стороны.
– Вкусно?
– Что, простите?
– То, что вы едите.
– Изумительно. Хрустит. Особенно лук. Хотите попробовать?
– Я вам верю. Да, думаю, моя жизнь мне нравится. Насколько это вообще возможно. И все-таки я не понимаю, к чему вы клоните, Валентина.
– Просто пытаюсь отвлечься от русских дел, Карл. Я думала, вы это оцените.
– Ошибаетесь, Россия очень меня интересует.
– Честно говоря, вопросы о жизни занимают меня не меньше русско-русских проблем.
– Вопросы о жизни людей?
– Скорее о том, что сами люди думают о жизни. О своей собственной, не о жизни вообще. Вот только мало кто любит об этом говорить.
– Да люди обожают рассказывать о своей жизни!
– Не согласна. Они охотно говорят о посторонних вещах, о внешней стороне жизни, как о театральной постановке. Отвлекают внимание – описывают шторы, бомбошки на шторах, называют цену ковра, говорят о гастрономических пристрастиях, о погоде. Но они никогда не признаются, что думают о себе, как о действующих лицах этой жизни.
– И почему, по-вашему, они так себя ведут?
– Да потому, что боятся, Карл. Как вы и я.
– И только-то?
– Да. И этот страх оправдан. Потому что мы ужасны.
– К чему вы клоните?
– К наемничеству, Карл, вот к чему.
– Приехали!
– А где еще поговорить о наемниках, как не в нашей стране? Наемничество – наш старинный обычай, разве не так? В былые времена многие наши солдаты нанимались на службу к иностранным государям, потому что не знали, чем занять себя зимой. Они участвовали в войнах за Бургундию и Италию, воевали за Короля-Солнце и иже с ним.
– Вы забыли о Ватикане, Валентина. У швейцарских гвардейцев такая роскошная форма и шлемы с перьями, что все туристы мечтают с ними сфотографироваться!
– Наши наемники торговали собой, как пушечным мясом. Они продавали себя за деньги, Карл. И участвовали в войнах, которые не имели к ним ни малейшего отношения.
– Они были превосходными солдатами, храбрецами. Их уважали. Короли доверяли своим швейцарцам.
– Короли, до которых швейцарцам не было никакого дела.
– Это вы так думаете.
– Солдаты служили тому, кто больше платил. Если в разгар битвы противник предлагал больше, швейцарцы массово переходили на другую сторону.
– Верность, подкрепленная только деньгами, никогда не была надежной ценностью, Валентина.
– Рада слышать это от вас.
– Как бы там ни было, уже в давние времена многие умели ценить швейцарское качество. Это забавно.
– Да уж куда забавней.
– В чем проблема?
– Никакой проблемы нет. Мне просто кажется, что сегодня наемников стало больше, возможно, им вообще несть числа. Вы тоже наемник, Карл, как и я.
– Смеетесь? Я защищаю интересы моей страны, это данность.
– А они имеют хоть какое-то отношение к вашей жизни – к реальной личной жизни?
– Конечно.
– А если завтра вы заделаетесь шляпником, что останется от всех тех ценностей, за которые вы сражались, на которые тратили львиную долю времени и сил? Ничего?
– Почему шляпником?
– Вам очень пойдет торговать шляпами. И интересовать вас будут только проблемы этого рынка, а все остальное станет неважным.
– Не вижу связи.
– А я вижу. Жизнь устроена так, что мы тратим время на защиту интересов, не имеющих ничего общего с нашей собственной жизнью. Мы занимаемся внешней политикой, продаем шляпы, зарабатываем на еду и оплату счетов, все мы нанимаемся на службу к себе самим, мы – наемники, да, разного калибра, но все же наемники. Мы продаемся за деньги, Карл. Мы продолжаем продаваться иностранному монарху. И не занимаемся тем, что нам действительно интересно, например собой, теми, кого любим сегодня и полюбим завтра, мы не заботимся о своем здоровье, плюем на свои желания, бежим от своих страхов. Мы продаемся, мы в замешательстве, мы отодвигаем все в сторону – даже главное, даже то, что хотели бы узнать, почувствовать, увидеть, попробовать, открыть для себя и испытать, прежде чем умереть.
– Все очень сложно.
– Неужели?
– У меня есть причины не уходить из дипломатии.
– Конечно, Карл, я понимаю.
Карл съел почти весь хлеб из корзинки, но к пасте не притронулся – ни к той, что взял на закуску, ни к основному блюду.
– Вы что, собираетесь писать о подобных вещах в вашем романе, Валентина? О наемниках?
– Конечно, нет! Как вы верно заметили, это слишком сложно. Кроме того, если не забыли, я пишу русский роман. Вам не нравится паста?
– Да нет, очень вкусно.
– Забудьте о наемниках, Карл, они не вписываются в сюжет.
– Вы считаете его красивым?
– Кого – его?
– Михаила Ходорковского.
– Он недурен.
– Так я и думал.
– Ваше знаменитое «шестое чувство», Карл.
– Вы его знаете?
– Лично не знакома.
– А кого-нибудь, кто его знает?
– Нет.
– А я знаю.
– И кто же это?
– Человек, который некоторое время работал с ним и прекрасно его знает.
– Вам повезло.
– Не уверен, что знакомство с такими людьми стоит называть везением.
– Вы просто ревнуете.
– Я не понимаю вашего интереса к этому… этому персонажу, Валентина. Правда не понимаю.
– Не вы один. Честно говоря, я и сама не до конца понимаю природу своего интереса к нему.
– Вот видите!
– Да.
– Забудьте о поездке в эти дикие радиоактивные места. Впустите солнце на страницы ваших произведений. Отправляйтесь к морю, на пляж!
– Я ненавижу пляжи, Карл.
– Вам нужно подумать о себе.
– Если бы я точно знала, почему меня интересует судьба этого человека, я бы тут же перестала им интересоваться.
– По-моему, все гораздо проще. Вас привлекают опасные безумцы, потому что вам чудится, что в их характерах есть нечто героическое, достойное восхищения.
– А вы, конечно, считаете, что я должна поступать, как все? Замирать от восторга перед велеречивыми трепачами, которые призывают окружающих к праведной жизни, а сами ведут себя как гнусные негодяи?
– Вам не кажется, дорогая, что тут, как говорят русские, хрен редьки не слаще?
– Кажется.
– В чем я уверен, так это в вашей любви к России.
– Вы правы. Вопреки здравому смыслу я действительно привязана к этой стране.
– Ну так покажите это.
– Не понимаю…
– Сделайте центральной темой вашу любовь к России. Так будет куда романтичней.
– Романтичней?
– Да, Валентина. Россия – но не деловая, без олигархов, газа, нефти, урана и полония – это романтика в чистом виде.Еще одно письмо (переведенное)
Уважаемая госпожа И.,
В соответствии с Вашим пожеланием получить информацию о деятельности нашего Всемирного Движения Созерцания Возвышенных Душ (ВДСВД) имеем удовольствие выслать Вам в приложении к этому письму все сведения и полезные данные, которые позволят Вам получить представление о нашем духовном объединении и Преподобном Учителе Падре Игнасио Вайсхорн-Ксюа.
Дабы подробнее ответить на некоторые ваши запросы, подтверждаем, что наше Движение развернуло в России очень активную деятельность. За последние годы на всей территории этой страны было создано много Ячеек Созерцания (ЯС). Как указал наш Учитель, духовный порыв русского народа, пережившего чудовищные страдания, является для нашего Движения той плодотворной почвой, на которой будет наконец возведено долгожданное здание Царства Совершенных Душ (ЦСД).
Вы любезно сообщили нам, что хотите восстановить связь с одной из Ваших дальних сибирских кузин и следующим летом заняться вместе с ней медитацей. Это чудесная новость и замечательная мысль. Мы поддерживаем Вас в желании как можно скорее восстановить связь с Вашей дальней родственницей. Не забудьте сообщить нам ее почтовый адрес, чтобы мы могли выслать ей нашу документацию, если она вдруг ее не имеет. Да будет Вам известно, что во всех сибирских регионах и областях проживают многие Главные Возвышенные Души (ГВД), которые неустанно трудятся на благо общего дела и в течение всего года организуют работу многочисленных лагерей медитации. Если Вы хотите медитировать на русском и в кругу семьи и сможете отправиться в путешествие, мы, само собой разумеется, поддержим Вас в этом благородном стремлении. В противном случае, Вы можете принять участие в медитации в одном из наших лагерей в Западной Европе, хотя они, увы, функционируют не круглогодично. Вы будете рады узнать, что наш Преподобный Учитель намерен в скором времени отправиться в Сибирь. Все Ожидающие Души (ОД), находящиеся в местных лагерях, будут иметь счастье и честь получить аудиенцию у Учителя, в том числе Вы и Ваша кузина.
На всех наших Главных Духовных Конгрессах (ЕДК), проходивших в Курске, Казани, Перми, Омске, Томске, Братске, Чите, Комсомольске, Магадане и Анадыри, зачитывалось послание нашего неутомимого Преподобного Учителя Падре Игнасио Вайсхорн-Ксюа:
«Все мы, собравшиеся здесь в Любви, Свете и Жизни, ощущаем присутствие тысячелетнего Рвения новообретенного русского народа. Пусть Внутреннее Благорасположенное Око Медитации (ВБОМ) с любовью проникает внутрь ваших Телесных Душ (ТД) и превращает их в Добро, Благо и Бесконечное Смирение (ДББС), о, русский народ, который я люблю с Бесконечной Нежностью (БН). Мы являемся взволнованными свидетелями Вашего новообретенного рвения, равного которому нет на всей планете. Всеобщий Дух (ВД) раскрывает Вам объятия, и я следую его примеру, о, избранники моего сердца, любовь, исполненная света, изливается из моей Смиренной Души (СД), и я смиренно шествую к Вам, с Запада на Восток, неустанно ведомый всемирной Повсеместностью нашего Просвещенного Движения (ПД), о, озаренный народ, так пусть же Свет (С) соединит нас в общем и едином Порыве (П), и пусть на нас взирает Единый Созерцательный Всеобъемлющий Дух (ЕСВД)».
Пусть и на Вас, уважаемая госпожа И., снизойдет Единый Созерцательный Дух. Будем с нетерпением ждать сведений об адресах всех Ваших сибирских знакомых.Остаемся в полном вашем распоряжении, Карамбель Шетиловник-Мусса Главный помощник
Еще один ответ (переведенный)
Уважаемый господин Карамбель,
Уважаемый Главный помощник,
Я была очень рада получить Ваше письмо от 7-го числа текущего месяца. Посылаю Вам в приложении восемнадцать адресов моих дальних и очень дальних родственников и не премину сообщить следующие, как только сумею установить весь круг моей дальней родни. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отправиться в один из сибирских лагерей, а не на встречу в Западной Европе, где рвение может оказаться куда менее сильным. Не буду скрывать, что веду интересную, но изматывающую жизнь, в которой мне не хватает именно рвения.
Я располагаю более чем скромными средствами и потому хочу надеяться, что ваше Всемирное Движение
Созерцания Возвышенных Душ (ВДСВД) не замечено, подобно другим, в порочной практике замены первоначальных щадящих расценок на последующие баснословно высокие. Мне стало известно, что в некоторых местах созерцательные тарифы быстро достигают 70 %, поглощая все средства, имеющиеся в распоряжении созерцантов. Мои авторские гонорары крайне незначительны, и за последнее время мое финансовое положение ничуть не улучшилось, поскольку я много писала, но ничего не опубликовала. Если мне придется отдать Вам даже незначительную часть моих средств, чтобы принять участие в молитвах, я буду вынуждена снова задать себе непростые вопросы, которые мучат меня, когда я начинаю работать над текстами, не знаю, как их завершить, и понимаю одно: они меня не накормят. Буду очень Вам признательна, если Вы пришлете полную смету вместе с описанием системы платежа. Прошу Вас понять меня правильно и не считать мою щепетильность в денежных вопросах свидетельством несерьезного отношения к Вашему движению. Практические вопросы никак не связаны с моим искренним желанием примкнуть к нему. Знайте: я свободный и сознательный человек и не боюсь никакого коллективного труда. Я чувствую, что готова перечистить гору картошки для столовой и пропылесосить хоть все жилые помещения лагеря.
В ожидании вступительных анкет прошу Вас войти в контакт с Вашими Главными Возвышенными Душами (ГВД), организующими работу лагерей в Читинской области (широта: 51°, долгота: 116°). Попасть мне было бы желательно именно туда, что связано с последним известным мне адресом моей кузины Евгении, с которой я так хочу снова встретиться (на Рождество я отправила ей поздравительную открытку). Мне бы также хотелось получить информацию о климатических условиях Читинской области, чтобы не брать с собой лишние вещи, например накомарники. Хочу надеяться, что в этих местах нет змей. В противном случае, я буду вынуждена немедленно отказаться от проекта и – к моему величайшему сожалению – отправиться медитировать в другое место, и бог с ней, с кузиной Евгенией.
Благодарю Вас за то, что Вы делаете, господин Карамбель. Знайте, что я готовлюсь принять в свою душу Внутреннее Благорасположенное Око Медитации (ВБОМ), которому Вы служите.Валентина И.
Ограбление
Преимущество настоящих взломщиков перед доморощенными любителями заключается в том, что, обнаружив последствия их «визита», вы должны совершить некоторые последовательные действия: успокоиться, продышаться, вспомнить статистику краж, ни к чему не прикасаться, вызвать полицию, дождаться ее приезда, покурить на кухне, не проверять, что было украдено, – чтобы это понять, достаточно одного беглого взгляда. Таков план в случае ограблений, природа которых несомненна. Но вот сегодня вечером я возвращаюсь домой и не знаю, что думать и, уж тем более, что делать. Вызвать полицию? Чтобы удостоверить что? У меня ничего не взяли, я проверила. И все-таки в квартире кто-то побывал, я точно знаю, у меня есть свои маленькие метки. Почему вор вломился к вам, мадам, и ничего не взял? Некто все обшарил, покопался в бумагах, книгах, заметках, возможно, включал компьютер, наверняка трогал клавиатуру, наплевав на осторожность, одну клавишу, потом другую, выдвигал ящики и не давал себе труда как следует их закрыть, это точно, у меня свои маленькие метки, что он искал, кто он, зачем приходил?
Если к вам вломились, но ничего не унесли, беда заключается в том, что вы перестаете чувствовать себя дома, как дома, и никому не можете об этом сказать, особенно полицейским, которые тут же потребуют от вас предъявить документы, пожалуйста, мадам! Я больше не чувствую себя у себя. Медленно хожу по комнатам, только что не на цыпочках, и не осмеливаюсь подобрать с пола книги, открыть шкафы, толкнуть створку двери, сесть за свой рабочий стол. Все кажется мне грязным. То, что принадлежало лично мне, было продолжением моего тела, больше не мое. Меня как будто расчленили, ампутировали некоторые части тела. Я вдыхаю странный запах, чуждый моему кабинету, сладкий и отвратительный. Закрываю рот, раздуваю ноздри, но не могу уловить привычного запаха табака и бумаги для благовонных курений. Неужели люди, собираясь на ограбление, выливают себе на голову флакон одеколона? Я направляюсь в ванную, подумав, что, возможно, грязная я, а не то, что вокруг, что я брежу, никого тут не было и горячий душ приведет меня в чувство. Но мысли никуда не деваются, у меня и для собственной головы есть ориентиры, кто-то вломился сюда в это воскресение, сегодня шел дождь, сейчас ночь, а я больше не чувствую себя дома у себя дома.
Я беру тряпку, мочу ее под краном, возвращаюсь к своему столу, сажусь на стул, где сегодня сидел какой-то незнакомец, и начинаю протирать клавиатуру, клавишу за клавишей. Не знаю, каких букв чужак касался средним, указательным и, возможно, большим пальцем, поэтому протереть нужно все, даже клавиши со знаками препинания, вопросительным и восклицательным знаками. Я пла́чу, сидя перед темным экраном, и протираю алфавит, я в печали и проливаю море слез, и стираю мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде, пыль и свое замешательство.
Мой затуманенный слезами взгляд останавливается на старом коричневом телефоне, стоящем справа от монитора, шнур находится в плачевном состоянии. Оголенные проводки торчат у основания трубки. Я вижу это не в первый раз и не впервые задумываюсь о том, насколько они опасны без изоляционной ленты, не могут ли стать причиной внезапного и мощного удара током в руку, который дойдет до мозга, а потом спустится до сердца и убьет говорящего по телефону прямо на рабочем стуле. Такой удар мог бы парализовать вторгшегося сегодня в мой дом незнакомца. Я пялюсь на порченый шнур и думаю, что, вернувшись вечером домой, нашла бы здесь взломщика. Почувствовала бы его присутствие даже в темноте. И все-таки зажгла бы свет и прошла к холодильнику, чтобы налить себе стакан воды. Со стаканом в одной руке и пепельницей в другой вошла бы в кабинет и принялась бы спокойно разглядывать чужака, прислушиваться к его дыханию, оценивать, насколько он испуган. О, как бы мне хотелось ощутить его страх и сказать: так-так, роемся в чужих вещах?
Я смотрю на безобидный телефон и набираю номер Марин в Соединенных Штатах. Надеюсь, что не разбужу ее, это все, что мне остается, я ведь так и не запомнила, в какую сторону крутятся стрелки разницы во времени. Я могла бы связаться с ней по скайпу, прямо сейчас, если Марин в сети. Тогда бы я увидела, разозлилась она или нет, одна она дома или кто-то составляет ей компанию. Но у меня нет сил включать компьютер. Я попадаю на автоответчик. Услышав сигнал, говорю, что это я и что дело срочное. Мне хочется крикнуть Марин, это срочно, перезвони мне, я в отчаянии, но не делаю этого, потому что «вводной» это срочно вполне достаточно для того, чтобы такой человек, как Марин, забеспокоился о такой, как я.
Мне плевать на разницу во времени и настроение моей подруги. Мне все равно, занята она работой или молится. Марин часто ходит в церковь – не знаю в какую, в Америке полно молельных домов и сект. Мне все равно, даже если Марин сейчас лежит в объятиях мужчины, кем бы он ни был, все равно, даже если это наш вдохновенный общий друг. Я считаю, что Марин должна отвечать на мой звонок в любое время, как делают сиамские сестры, накрепко и навечно связанные друг с другом. Без Марин я быстро теряюсь во времени и пространстве. Без нее и без Жана. Если они долго отсутствуют, Восток и Запад смешиваются, совмещаются, как и множество вещей, находящихся между. Когда я звоню, Марин должна бросать все – в первую очередь своих серийных убийц вне зависимости от степени их опасности, во-вторых, своего Бога, как бы там Его ни звали, и, наконец, любимого мужчину, даже если речь идет об С., с тех самых пор, как С. стал нашим общим делом и нашим общим напрасным трудом.
Звонит телефон. Я игнорирую шнур, слушаю хрип контрабаса из аппарата и снимаю трубку, держа ее в том самом месте, где грозят оборваться провода. Если меня шибанет током, Марин придется лететь ко мне через океан. Эта мысль успокаивает. Я слышу голос подруги – спокойный, хорошо поставленный, у человека, которого вытащили из постели, оторвали от бумаг или молитвы, вырвали из объятий мужчины, голос звучит иначе. Я излагаю ей факты в хронологическом порядке, синтетически, как она любит. В противном случае, она просто не слушает. Затыкает уши и кричит «стоп!». Приходится начинать с начала, не разбрасываясь и по возможности группируя факты. Всем, кто не придерживается фактов в разговоре с Марин, приходится начинать с начала. Именно поэтому Марин никогда не встречается с родственниками жертв серийных убийц. Она предпочитает изучать дела, читать рапорты полицейских и отчеты патологоанатомов, анализировать фотографии и образцы с места преступления, рассматривает показательные совпадения и отделяет их от тех, что не важны, выявляет умелые подделки и имитации. Марин всегда отдает предпочтение науке перед общением с людьми, которые кричат и бьются головой о стену от горя. Марин говорит, что горе – понятная и оправданная человеческая эмоция, но она никак не помогает раскрывать дела. Не только не помогает, но и мешает. Путает следы. Марин утверждает, что любой человек, у которого случилась беда, способен сказать все, что угодно, оговорить мать, отца, Сатану и Александра Великого. Марин всегда отстраняется от страдания и именно так выходит на след там, где нормальный человек впадает в ступор, я, например, пришла бы в ужас от чудовищности и абсурдности преступления.
Я сообщаю Марин, что ко мне кто-то влез. Рылся в моих вещах, я в этом уверена, у меня есть свои метки, и теперь я все перетираю мягкой зеленой тряпкой.
– Вот что бывает с теми, кто заводит мимолетные романы, – роняет Марин.
– Что, прости?
Я повторяю «прости» – на тот случай, если вдруг все дело в ненадежности связи через океан.
– Ты все правильно поняла, – подтверждает Марин и спрашивает: – А что с замком?
– С каким замком?
– С дверным, конечно! Ты что, не проверила? Утверждаешь, что к тебе влезли, и не удосужилась проверить замок?! Бред какой-то!
– С замком наверняка все в порядке.
– Наверняка в порядке… Что значит «наверняка в порядке»? Если замок в порядке, значит, его открыли ключами, в противном случае, его либо взломали, либо вскрыли – тем или иным способом.
– Я понятия не имею, что и как произошло.
– Прекрасно.
Я жду продолжения этого ее прекрасно, но Марин молчит.
– Что прекрасно? – спрашиваю я.
– Давай на этом остановимся, Валентина. Ты наверняка кому-то давала ключи, или оставила их где-то, или потеряла, только и всего.
– Я никогда никому не даю свои ключи.
– Да они вечно валяются где попало.
– Думаю, я такая не одна.
– Неправильно думаешь. Кроме того, с ключей можно очень легко и быстро снять слепки. Возможно, это дело рук ревнивца.
– Какого ревнивца?
– Одного из тех мужчин, с которыми ты общаешься. Один твой любовник оказался ревнивей других, вот что я имею в виду.
– В каком смысле ревнивей?
– Ревнивей.
– Это смешно. Тебе прекрасно известно, что я завожу только короткие романы. Надолго никто не задерживается.
– Видимо, среди кучи «короткоиграющих» мужиков нашелся некто, возомнивший себя чуточку менее проходной фигурой.
– Если и так, зачем этому человеку ключ от моей квартиры?
– Так он демонстрирует свою власть, превосходство. Он может входить к тебе, когда захочет.
– Зачем?
– Да низачем. Просто чтобы продемонстрировать тебе эту власть.
– Не понимаю.
– Именно поэтому с тобой такое и происходит.
– Да со мной такое впервые, Марин!
– Все когда-то случается впервые, старушка. Можешь описать мне профиль твоих последних, э-э-э, не знаю, как их называть, может, «сердечки транзитом», как тебе? Попытаюсь вычленить из общего списка тех, кто способен на нечто подобное.
– Профиль? Они же не подозреваемые, черт возьми!
– Мое дело предложить.
– И потом, не так уж их и много, ну, мужчин.
– Тем лучше. Если список короткий, я справлюсь быстрее.
– Марин…
– Да?
– Я допускаю, что причина в другом. Кого-то может интересовать то, чем я сейчас занимаюсь.
– С чего бы твоему любовнику интересоваться тем, что ты делаешь?
– Вот спасибо, добрая ты моя.
– Просто я реалистка, а ты нет.
– Надо же, я и не знала.
– В том-то и заключается разница между нами. Это объясняет, почему ты пишешь романы, а я работаю. И почему другие люди, в том числе твои любовники и весь остальной мир, работают, пока ты пишешь.
– Ты очень меня утешила.
– Я описываю суровую реальность, дорогая. Я питаю огромное уважение к пишущим людям, что бы мы делали без них в самолетах и на пляжах.
– Предупреждаю, Марин, я уже влезла на стул и готовлюсь сунуть голову в петлю.
– Пока одни пишут, другим приходится вкалывать, производить материальные блага и оказывать услуги первостепенной важности, например, вершить правосудие.
– Ну конечно, правосудие!
– Именно, я без колебаний причисляю правосудие к услугам первостепенной важности.
– Объясни, по какой причине, пока я не оттолкнула стул левой ногой.
– Если позволить преступникам бегать по улицам, даже такие лунатики, как ты, не смогут написать ни строчки.
– Как разумно устроена природа, Марин, и до чего же мудр Господь!
– И велик, дорогая. Волки режут овец, кошки ловят мышей, черви роют подземные ходы, проветривая почву, ночных бабочек больше, чем дневных, двуногие реалисты трудятся и оказывают услуги, а романтики пишут романы, что, тем не менее, не должно мешать им взглянуть на замок во входной двери и выяснить, не взломан ли он.
– Марин…
– Что?
– Я действительно не понимаю, кто мог…
– Над чем ты сейчас работаешь?
– Над русским романом.
– Снова!
– Снова.
– В нем что, будет две тысячи страниц?
– Марин, петля уже у меня на шее.
– У тебя в столе, случайно, не лежат папки с «горяченькими» конфиденциальными сведениями?
– Нет.
– Тогда забудь. Если к тебе действительно влезли, это был акт устрашения. Любовного устрашения.
– Но зачем?
– Чтобы передать послание.
– Не понимаю какое.
– Ничего удивительного! Ты много чего о многом понимаешь, даже о самых абсурдных вещах, но никогда ничего не смыслила ни в любви, ни в привязанности, ни в одержимости, ни в ревности. В этом суть твоего очарования.
– Не люблю, когда ты так со мной говоришь, Марин. Можно подумать, твоя собственная жизнь записана начисто на веленевой бумаге.
– Могу выразиться яснее, подруга, смени замок и посмотри, что будет.
– Знаешь, вокруг Ходорковского ведутся всяческие игры, и я подумала, что, если…
– Ты ведь сказала, что пишешь роман.
– Пишу.
– Значит, этот твой Ходорковский будет героем романа?
– Верно.
– Следовательно, играм конец.
– Не понимаю.
– Ч.Т.Д. [17] , дорогая. Всем плевать. Могу тебя заверить, что миру плевать на судьбу реального Ходорковского, что уж говорить о литературном герое! Этот тип – идеальный козел отпущения для народа, который растерзал бы его на куски – если бы мог, и идеальная отмазка для Запада.
– Отмазка?
– Ну да, «дело Ходорковского» – отличный повод для вечной и бесконечной песни о правах человека и всей остальной чепухе. В данном случае можно защищать права предпринимателя. Ладно, хватит, тебе все это известно куда лучше, чем мне. Если ты действительно хочешь оказать честь Ходорковскому, помести его в роман и оставь там.
– Я слезаю со стула, Марин, боюсь, крюк не выдержит.
– На твоем месте, я бы изменила ему имя, этому твоему Ходорковскому. Подобрала бы что-нибудь более простое, музыкальное, не такое русское. Если собираешься сделать из человека героя, придай ему романтический облик. Реальность выглядит устрашающе.
– Почему всех вас так волнует проблема героя?
– Какой же роман без героя, дорогая? Еероический герой должен быть романтиком. Он рискует все потерять, но в конце концов берет верх над своими врагами, он красиво страдает, никогда не отчаивается, а любит так… как бы получше выразиться… романтично, да, вот именно, он герой романа, и у него романтическое чувство, которое захватывает и нас, читателей. Мне очень жаль, но твой продажный бизнесмен этому профилю не соответствует. Я бы на твоем месте…
– Будь ты на моем месте, Марин, думаю, ты давно оттолкнула бы стул ногой, такие, как ты, умеют завязывать настоящую «скользящую петлю» и рассчитывать соотношение сил между телом, которое предстоит повесить, и крюком, который должен выдержать его вес.
– Полагаю, это комплимент?
– Да.
– Когда ты уезжаешь в Россию?
– Дней через двенадцать.
– Значит, успеешь поменять замок.Ирландия
В воздухе сегодня столько электричества, что затянутое тучами небо грозит вот-вот расколоться и обрушить на мир грязный ледяной дождь. Эта мерзость проникает под крыши домов, в кроны деревьев, стирает контуры гор и силуэты людей, вышедших утром из дома по делам и без оных, она заползает им под череп, пропитывает мысли, и они бегут, как крысы с корабля. В небе столько электричества, что самое простое и разумное, что можно предпринять, это сложить немного вещичек в заплечный мешок и отправиться в путь, задрав нос или глядя в землю, не имеет значения, потому что ничего лучше живой человек сделать все равно не может.
По другую сторону границ, за которыми простираются бескрайние российские земли, нашпигованные полезными ископаемыми, действующий президент завел себе заводного дельфина. Стоит нажать на кнопку, и китообразное начинает шевелить плавниками. Фотография президента и его млекопитающего стала медийным хитом. Если вглядеться повнимательней, сразу все понимаешь. Нет нужды слушать комментарии специалистов-дельфинологов. Во всяком случае, никто их не слушает и не читает. В диких российских степях людям и без того есть чем заняться. И мне тоже.
Мой разум зациклен на разлитом в воздухе напряжении и поглощен разнообразными мрачными мыслями. Я думаю о людях, у которых вдруг начинает болеть нога или какая-нибудь другая часть тела, болит и не проходит. Они идут к врачу и узнают, что скоро умрут. Врач сообщает им, что эта вроде бы ерундовая болячка – вершина айсберга, таящегося в глубине тела. Узнав новость, люди смотрят в окно и проклинают дождь. А ведь специалист только что сказал, что их судьба вскоре канет в небытие, их собственная судьба вместе с их телами, душами и мыслями. Через несколько недель или месяцев их не станет. Думаю, некоторые, выслушав врача и посмотрев в окно, задаются вопросом, когда они смогут пуститься в путь, теперь, после того как ледяная глыба начала дрейфовать и вот-вот их придавит. Я знаю, что в этот же самый момент другим людям, у которых тоже заболела нога, говорят, что все это ерунда и боль скоро пройдет. Они выходят на улицу, покупают лотерейный билет, выигрывают крупную сумму – или не очень крупную, встречают красивую девушку, она сидит на скамейке у озера. Существует как минимум два типа романов и два же, как минимум, типа читателей романов. Одни совершенно не сопрягаются с другими. Они селятся отдельно друг от друга, у них разные жизни и разные книжные пристрастия. Все перемешиваются со всеми в реальной жизни, в которой события могут происходить одновременно, сообщение о скорой гибели, выигрышный билет лотереи, изумительная девушка на скамейке на берегу озера и – в путь, задрав нос или глядя в землю, это не имеет значения.
Сегодня, когда тревога струится вниз по стволам деревьев и моим ногам, я говорю себе, что единственный выход – уехать в Ирландию, немедленно, не раздумывая, взять книги, компьютер и уехать, потому что Ирландия – единственная страна, где электричество на берегу океана, у подножия черных скал, не помешает мне думать о частях тел и о том зле, что может предвещать еще худшее зло, а может и не предвещать. Ирландия такое место, где хочется думать о другом, например о прекрасных суматошных вещах, далеких и от реальности, и от вымысла. У подножия скал океанский прибой небывало силен, он подхватывает вас и уносит на бал ведьм. Если летающих мётел и не существует, там они подцепляют вас за задницу и подбрасывают в воздух. Я это утверждаю, хотя ирландские пейзажи, возможно, не имеют ничего общего с древней магией. Но сегодня, в этот неспокойный день, я прихожу к выводу, что мне будет лучше отправиться на буйновосторженный остров, а не на русскую землю, пропитанную несчастьями, которые никто никогда не оплакивает. Даже у тех, кто любит Россию, нет времени лить слезы. Многие пьют или покидают страну, чтобы никогда не возвращаться. Все те, кто остаются, утешаются мыслью о том, что на бескрайних российских равнинах смерть настигнет их быстрее. Нигде в мире люди, играя в «Монополию», не покупают ни клочка русской земли. Россия слишком далекая, слишком холодная, слишком бедная и слишком серая страна. Единственное, что представляет интерес, ее недра с природными богатствами, но для большинства смертных они недоступны. И с ними всегда много мороки. Должна признаться, что об Ирландии я думаю только в электрические дни, в остальное время мне не хватает России. Через несколько часов я скорее всего уеду не на Запад, а на Восток, полный страхов и тревог. В настоящих романах, вышедших из-под пера самоуверенных авторов, героев с первых страниц ждут нескончаемые приключения – жестокие, поучительные, почти всегда логичные. Одно событие следует за другим, и ничто так мало не похоже на реальную жизнь, как романы веселых романистов. Я начинаю беспокоиться за судьбу моего русского романа. Работа совсем не продвигается, у меня нет ни героев, ни приключений, и больше всего я сейчас хочу уехать в Ирландию.
Часть II
«Мне о многом хотелось поговорить в этот раз в этом мартовском № моего “Дневника”. И вот опять как-то так случилось, что то, об чем хотел сказать лишь несколько слов, заняло все место. И сколько тем, на которые я уже целый год собираюсь говорить и все не соберусь. Об ином именно надо бы много сказать, а так как весьма часто выходит, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему».
Федор Достоевский. Дневник писателя 1877 год
Дверь
Кто-то остервенело барабанит в дверь. Находящаяся в квартире молодая женщина очень напугана. Эта женщина – я. За окном поздний вечер. Темнота окутала незнакомый город, на улицах столицы затихает гул славянского языка, незнакомцы с пластиковыми пакетами в руках спешат по домам. Молодая женщина, я, за дверью квартиры знает всего несколько русских слов. Она одна. Я одна в этом жилище, состоящем из комнаты и «удобств» за шторкой – WC [18] , раковины и шланга с насадкой. Чтобы принять душ в этой крохотной квартирке на московской окраине, нужно прикрепить шланг к крану над раковиной. В этой же раковине можно помыть посуду и постирать – в одной и той же раковине одной и той же убогой квартирки в отдаленном районе огромного, бурно развивающегося города.
Не знаю, кто барабанит в мою дверь, пытаясь ее взломать, может, какой-нибудь алкаш, потерявший не только ключи, но и голову. Начало одиннадцатого. Тот, кто стучит в мою дверь, явно приустал, но мой страх растет, потому что дверь точно не выдержит. Дверь советских времен только называется дверью, как и многие другие вещи той эпохи, хотя название вовсе не соответствует сути. В данном конкретном случае речь должна идти о прямоугольной, толстой и прочной конструкции с ручкой и надежным запирающим устройством, таким, чтобы хам, колотящий по нему руками и ногами, мог произвести много шума, но не взломать за считанные минуты. Лестничная клетка, ведущая к двери советского образца, над которой в этот самый момент издевается некто неизвестный, тоже являет собой доперестроечный образчик лестничных клеток. Она темная, холодная и провоняла множеством мерзких запахов, осевших на стенах от пола до потолка. Дверь подъезда, ведущая к квартире с раковиной, шлангом и женщиной, прячущейся за пластиковой шторой, тоже выглядит устрашающе противной. В России 2008 года большинство населения живет в ветхих домах, новых – не важно дешевых или дорогих – домов совсем немного. За исключением этих нескольких исключений все относится к эпохе «до». Она, эпоха, закончилась в ноябре 1989 года. Следует запомнить эту дату, именно тогда раздались сухие удары экскаваторных ковшей о железобетон. Нельзя забывать и о 1991-м, годе, когда рухнула Империя. Во всяком случае, так считает и подавляющее большинство русских, оплакивающих эту Империю, и меньшинство, особенно те, кто любит красивые дома, красивые машины, красивые дела, красивые обещания и красивые надежные двери. Официально, все рухнуло очень быстро. Тем не менее некоторые советские социалистические модели, считавшиеся весьма хлипкими, остались на своем месте. В том числе двери и образ жизни, устоявшие в новой, обобранной до нитки России. Как, черт возьми, они сумели удержаться на поверхности? Никто этого не знает. Они просто есть, как старая добрая ржавчина, которую ничто не берет. Повсюду, куда ни кинь взгляд, увидишь хлипкие двери, грязные смрадные лестничные клетки, квартиры с раковинами и шлангами и разбитые жизни, называемые жизнями только потому, что у всякой вещи должно быть название. После великого переворота все в России до невозможности подорожало, даже нищета, веками ни копейки не стоившая в этой стране. Слова раньше и теперь стали ключевыми. Тогда и сейчас – два простых слова, с помощью которых можно составить почти все фразы современного повседневного языка. Теперь никому не нужно читать газеты и слушать новости, чтобы узнать, что думает каждый человек.
Моя советская дверь не выдержала. Я спряталась за желтой, в зеленый цветочек, шторкой. Шланг надет на кран раковины. Я трясусь от страха, готовлюсь направить струю воды в рожу тому, кто ко мне вломился, и слышу звук шаркающих шагов. Посмотреть не хватает духу. Чужак двигает стул по кафельной плитке пола, садится, нет – плюхается на него. Наверное, он устал или просто ленив по натуре. Из тех агрессоров, которые ждут, когда жертва сама явится на заклание. Щелкает зажигалка, человек затягивается сигаретой, выдыхает, дышит спокойно и размеренно. Кажется, ничто не способно вывести этого преступника из равновесия, даже долгие часы ожидания. Я отказываюсь умирать от тахикардии без борьбы, резко отдергиваю занавеску и наставляю на него шланг, как грозное оружие. Сидящий на стуле человек смотрит на меня и заходится диким хохотом. Он смеется и спрашивает по-русски с издевательской интонацией «Ты чего? Всегда начеку, да?» Я смотрю на него, сжимая в руке душ – черные волосы, джинсы, майка, я знаю, что знаю этот голос, но не этот длинный тощий силуэт и не это треугольное лицо, с которого на меня с веселым изумлением смотрят усталые глаза.
Я застываю в этой позе на несколько долгих минут. Человек тушит сигарету и тут же закуривает снова. Кроме нескольких произнесенных по-русски слов он ничего не сказал. Я судорожно ищу в памяти имя, которое могла бы связать с этим голосом, и вдруг на ум приходят три буквы, я мысленно повторяю их несколько раз и наконец вспоминаю отчество, Николаевич, и понимаю, что именно этого Николаевича следует присовокупить к имени Лев, и спрашиваю вслух: Лев, это ты? – но не подхожу к сидящему на стуле человеку. Я снова и снова повторяю свой вопрос, потому что знаю, что это имя, Лев, сочетается с прозвучавшим голосом, но не с этим телом и не с лицом, на которое я сейчас смотрю. Он насмешливо, с издевкой интересуется, как у меня дела. Неужели ты все еще живешь с родителями? У меня нет сил ответить улыбкой. Я перехожу на примитивный английский и сообщаю, что меня пустили пожить в эту квартиру, из чего вытекает, что она мне не принадлежит, как и эта дверь, которую до сих пор никому не приходило в голову выламывать. И добавляю, что по глупости, хорошо всем известной глупости Льва Николаевича Николаева, я теперь не смогу закрыть эту самую дверь.
– Зачем тебе запираться?
Я наконец приближаюсь к опознанному мной незнакомцу. Стою рядом, он сидит, как сидел, и перевожу взгляд с его лица на дверь, как будто ищу логическую связь между постаревшим на двадцать лет Львом и изуродованной дверью. Можно подумать, что объяснение витает в пространстве, отделяющем это неузнаваемое человеческое существо от этого предмета из другой эпохи.
Но вот мы беремся за руки, Лев и я, и не отрываясь смотрим друг на друга. Я готова разрыдаться, но Лев не позволяет мне разнюниться. Говорит, что сразу узнал меня, что я красивая, какая ты красивая, говорит он, а я не знаю, ни что положено отвечать в подобный момент, ни на каком языке мне следует изъясняться. Он по-прежнему сидит, я по-прежнему стою и вглядываюсь в каждую черточку этого лица с его сложной историей. Мой растерянный взгляд задерживается на его серо-зеленых, как океан перед штормом, глазах, они все те же, изменилось только выражение.Я говорю, мешая языки, английский, русский, итальянский, французский, лепечу какие-то жалкие слова, пытаясь сказать, что не понимаю, ни что случилось, ни как это случилось. Лев звонко смеется, произносит в ответ несколько отрывистых фраз, и я наконец узнаю, что в дело вмешался Жан. Я совершенно сбита с толку. За несколько месяцев до моего отъезда Жан прекратил все разговоры о возвращении в Россию, а я не осмеливалась даже намекать на это, чтобы он не увяз, окончательно и бесповоротно, в своей обычной сезонной хандре, в которую уже начал погружаться. И вот теперь выясняется, что Жан, не поставив меня в известность, не только разыскал Льва, но и дал ему адрес, по которому меня можно будет найти, а также номер мобильного телефона. Я растерянно интересуюсь, почему же он не позвонил, смотрю на несчастную дверь и чувствую, как в глубине моего существа закипает застарелая густая ярость. Лев спокойно объясняет, что хотел сделать мне сюрприз. Поскольку я вернулась в Россию, не предупредив его, он решил снова войти в мою жизнь без объявления. Посмотрим, что будет, ну да, посмотрим. Он хихикнул и добавил, что мы, черт возьми, все еще живы, постарели, конечно, но живы и, может, действительно любили друг друга, и ненавидели, а потом забыли, только и всего.
Когда Лев наконец поднялся со стула и начал ходить по квартире, я занервничала. Не знаю почему, но мне это не понравилось, как и слишком тихая, без малейшего дуновения ветра, ночь. Я попробовала отвлечься и зажгла свечу, чтобы прогнать щекочущий ноздри запах табака Льва. Он спросил, не завалялась ли на этой кухне какая-нибудь выпивка, и я притворилась, что ничего не слышала.
Хочется чего-нибудь покрепче, уточнил он, направляясь к холодильнику.
Напитка, который был бы достоин момента.
Он достал бутылку.
Спиртное, достойное твоей радости, смешанной с яростью, Валентина.
Он послал мне воздушный поцелуй.
Достойный моего счастья.
Он ударил себя кулаком в грудь.
И, главное, достойный времени, отпущенного нам до следующего несчастья.
Он глотнул из горлышка.
– Но дверь!
– Мы снова обрели друг друга, а тебя волнует дверь!
– Послушай, Лев…
– Ты думала, я умер, да?
– Зачем ты так говоришь?
– Ты думала, что я умер, Валентина.
– Прекрати.
– И была рада. Я тебя понимаю. Я тоже думал, что ты умерла. И был рад.
– В таком случае, почини эту дверь и разойдемся по могилам.
– Так мы и поступим, любимая.Лев Николаевич
Жить вместе с Львом Николаевичем непросто – как и с любым русским мужчиной, насколько мне известно. Правильней будет сказать не «жить», а делить повседневность, да и это не совсем точно. Нужно использовать более расплывчатое выражение и сказать, что нелегко делить с Львом Николаевичем Николаевым будничную жизнь. Как и с любым другим русским мужчиной – до получения более подробной информации. С того момента как Лев высадил дверь и вернулся ко мне, мы не живем общей жизнью, а идем в разных темпах по дорогам, которые не сходятся даже за горизонтом.
Если меня что-то радует, Лев отстраняется, если его хандра рассеивается, начинаю тосковать я. Если ночью мне вдруг становится страшно или тоскливо и я прошу его обнять меня, он смеется над моим банальным романтизмом. Русское выражение, которое он использует, имеет иной смысл, но я именно так воспринимаю его иронию. Впрочем, случаются дни, когда нам удается держаться вместе, как если бы мы шли вверх по реке и течение и скользкие камешки на дне делали эти мгновения сладостными, невероятными, ни на что не похожими.
В Москве я чувствую себя потерянной. Я утратила ориентиры, устарела, отстала. Не узнаю ни город, ни людей. Никто не узнает город, даже те, кто в нем живет, в том числе Лев, который практически никогда отсюда не уезжал. Все здесь карикатурно. Ритм жизни – карикатура на жизнь, бедность и богатство – карикатура на все самое плохое. Никто больше не читает в метро и вне метро, все носят майки с надписями и другую одежду и обувь с надписями крупными буквами, даже Лев их носит. Никто больше не ест на улице мороженое, обычное московское мороженое, зато в киосках торгуют мороженым в ярких обертках – таких же, как повсюду в мире. Каждый хочет преуспеть в жизни и преуспевает, более или менее, потому что успех стал карикатурой на свободу, а свобода – торговой вывеской, зазывно мигающей двадцать четыре часа в сутки.
Через несколько дней после нашего, с позволения сказать, воссоединения и после того, как мы начали делить своего рода повседневность, я потребовала, чтобы Лев починил изуродованную дверь. Однажды вечером он вернулся с материалом, инструментами и сразу после полуночи занялся делом, не думая ни о времени, ни о реакции соседей на шум. Он пилил и разговаривал со мной, забивал гвозди и разговаривал, стучал молотком и объяснял, что думает о моей стране. Я не знала, что Лев приезжал, но сразу поняла, что он не врет и ему есть что сказать. Я могла и не услышать, что он говорит, потому что затыкала уши из-за адского шума и страха, что соседи по лестничной клетке вот-вот начнут скандалить. Лев поехал ко мне на родину, когда у него дома все рухнуло, но я об этом не узнала. Ему пришлось искать средства к существованию, и торговля подержанными машинами оказалась самым надежным делом – уж точно более надежным, чем сочинение стихов и грустных историй, что во все времена являлось простейшим способом умереть голодной смертью. Лев заколачивает гвозди и объявляет, что моя страна хорошо функционирует. Идеально функционирует. Он произносит это без малейшего восхищения в голосе, даже без удивления, просто констатирует факт. Так любая живая душа, коснувшаяся крылом адского пламени, констатирует, что в аду жарко. По словам Льва, в стране, откуда я приехала, царит совершенство, перед домами много больших ухоженных палисадников, а в домах много больших столов, но никто не смеется ни в этих садах, ни за этими столами. Итак, у меня на родине много больших, красивых и безупречных вещей, но они необитаемы, пусты и печальны, холодно печальны, уточняет Лев, ведь печаль бывает и теплой. Вот почему этим вечером он распиливает деревяшки и говорит со мной о моей стране без малейшего придыхания в голосе.
Если я прихожу в отчаяние от того, что вижу в этой неузнаваемой Москве, Лев пожимает плечами и умолкает на много долгих часов. В России абсурд не комментируют. Так повелось с незапамятных времен, а я успела об этом забыть. Лучше уж говорить о дорожающих огурцах и квартплате – ее все время поднимают, о газе, нефти и об отключениях электричества. А еще о перебоях с продуктами и водой, об убожестве предоставляемых населению услуг и средней продолжительности жизни. А еще можно свободно говорить о среднем возрасте, до которого доживают в этой стране люди, поскольку продолжительность жизни падает, в то время как все остальное взапуски растет. Когда меня мучит бессонница, я беру какую-нибудь современную книгу и вычитываю из нее много интересных, незнакомых мне вещей. Современные русские романы больше не начинаются словами «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем – молотком об рельс у штабного барака» [19] . Это к лучшему. Так я быстрее засыпаю. Погружаюсь в сон в пустой кровати, не зная, куда ушел Лев. У него есть дочь-подросток и маленький сын, живущий со своей матерью, которая не является матерью девочки. Мне хочется думать, что Лев время от времени ночует в доме одного из своих детей. Наверное, это глупый романтизм – верить, что не все погибло, что теперь, когда Стена и Империя исчезли, русские отцы семейств наконец решили вернуться к исполнению родительских обязанностей. Я лежу в подушках, предаюсь глупым мыслям и поглаживаю разложенные на простыне книги моих современников. Писателей, страдавших от холода, я решила оставить в чемодане.
Я наконец рассказала Льву о причинах, побудивших меня вернуться в его страну, и о своем интересе к судьбе олигарха Михаила Ходорковского. Он заставил меня несколько раз повторить имя. Я произнесла Ходорковский на все лады, сделала ударение на все слоги и увидела, что он не понимает. Он слышал об этом предпринимателе, о его богатстве и разорении, но не заинтересовался им. Даже упоминание об исправительной колонии, о лагерях, не вызвало никакой реакции, как и мои слова о том, что место, где сидит Ходорковский, находится у черта на куличках. Мне даже не понадобилось произносить слово «Сибирь», поскольку, любой русский уверен, что эти самые «кулички» находятся именно у него на родине. Остыв под более чем сдержанным взглядом Льва, я почувствовала себя палеонтологом, разыскивающим кость динозавра. Я попыталась объяснить, почему меня волнует судьба этого человека и почему она, вообще-то, должна интересовать всех и каждого, в первую очередь – русских. Лев кивал – да, да, да, да, да – на каждый мой довод, и я вдруг представила, что у него вместо головы русская народная игрушка, – курочки, клюющие воображаемое зерно, если потянуть за веревочку. Я едва не расплакалась из-за того, что проект, о котором я ему толковала, который был для меня так важен, что даже сердце холодело, нимало его не заинтересовал. А ведь мой собеседник был одним из тех, с кем я когда-то сутки напролет разговаривала обо всем и ни о чем, от реального до запредельного, о литературе, всякой и всяческой, о поэзии, ответственности, абсурдности, власти, изнанке роскоши, жизни и смерти. Двадцать лет спустя, в этой жалкой квартирке, Лев Николаевич Николаев смотрел на меня так, словно давно забыл смысл произносимых мной слов.
Это реальная жизнь, кричу я, жизнь твоей страны, жизнь нашей эпохи, и Лев снова кивает, да, да, да, да, да, да, и маленькие курочки клюют воображаемые зернышки. Когда он наконец удостаивает меня ответом, его голос звучит нежно и мелодично, так обычно разговаривают с незнакомым животным, которое ведь и укусить может. Он заявляет, что мой проект его умиляет. Трогает до глубины души. Он добавляет, что полностью его одобряет, и я не решаюсь спросить, что именно он одобряет. Чем больше осторожничает Лев, тем быстрее растет во мне ярость одомашненного хищника. Шерсть дыбом, когти выпущены, я кричу, что мне тоже плевать на реальную жизнь, но роман напишу, с печалью в душе, но напишу.
– Да, – соглашается Лев.
– И это будет настоящая литература.
– Да, – повторяет Лев.
– Это будет придуманная подлинная история.
– Конечно.
– Там будешь ты, Лев, и Ходорковский, я опишу, какими мы стали, и расскажу, как все могло бы быть.
– Я не хочу фигурировать в этой истории, – отрывисто бросает Лев.
– Правда?
– Да.
– Многие до тебя выражали то же… нежелание, Лев.
– Знала бы ты, насколько мне все равно.
– Почему ты перестал писать?
– Я пишу.
– Неправда.
– Пишу каждый день.
– Ты приводишь меня в отчаяние.
– Оставь отчаяние для романа, Валентина.
Через несколько дней после того, как я открыла Льву истинные мотивы моего приезда, мы встретились с некоторыми из его друзей. Мы сидели на крошечной русской кухне, локоть к локтю вокруг маленького стола, и Лев вдруг заговорил о моем проекте. Он расписывал этот проект, как свое любимое детище, словно ничто в этой жизни не волновало Льва сильнее судьбы поверженного олигарха Михаила Борисовича Ходорковского. Мне стало ужасно противно, я молча выслушивала вежливые, но осторожные замечания собеседников. Друзья Льва старались выражаться крайне деликатно, ведь с иностранцами следует быть обходительными и всячески их подбадривать. В тот вечер у меня появилось чувство, что я проваливаюсь в лежащее в руинах будущее. Судьба олигарха, то, что с ним случилось, его выбор, суд над ним, процессы над помощниками, затеянные ради того, чтобы еще больше его скомпрометировать и как можно дольше держать в заключении, расчленение нефтедобывающей компании «Юкос», способ, которым это было сделано, все это не имело никакого значения ни в жизни собравшихся в маленькой кухне людей, ни в их мыслях. Все эти события, как и замыкание России на себя через дело Ходорковского, не имело никакого отношения к квартире Олега и Тани, где мы собрались и плата за которую стала вдвое выше. Квартплата росла каждый месяц. Очень скоро супругам придется покинуть это жилье, вот только как найти новый приют в городе, где квартиры – даже те, что и квартирами-то не назовешь, – все время дорожают? Ходорковский не имеет к этому никакого отношения и ничего не значит ни для рядового бухгалтера Кирилла, который скоро накопит денег на плазму, ни для Синции, ни для Каспара, ни для Вити – дела у него идут не слишком хорошо, но когда-нибудь это изменится, ни для Льва, который теперь пишет только на заказ, ни для его детей – взрослой дочери и маленького сына, живущих в разных концах города.
Длинный язык Льва привлек ко мне всеобщее внимание. Я олицетворяла собой Запад во всем его блеске, Запад с его легковесными суждениями и замечательными принципами, Запад, совершенно оторванный от реальности. Сидящие вокруг меня люди пили чай и говорили о ценах, не понимая, как жить дальше при такой дороговизне. Я бы не удивилась, начни кто-нибудь из них трогать меня за плечо или хватать за руку, желая убедиться, что я – человек из плоти и крови. Мне было ужасно неловко, но я справилась с собой, переведя разговор на проблему средней продолжительности жизни в России. Я рассчитывала, что эта больная и к тому же засекреченная действительность заинтересует всех. Ни в одной развитой стране никогда ничего подобного не отмечалось, граждане мрут как мухи, причем все в более молодом возрасте, и без чисток, мировой войны и холеры. Я сказала, что цифры ужасны, ужасающи и находятся в свободном падении. Я посмотрела на Олега и объявила, что он, вероятней всего, не доживет до шестидесяти, как и все остальные мужчины, потом взглянула на женщин и заявила, что они умрут на десять лет раньше меня, а я доживу до восьмидесяти пяти лет. Как минимум до восьмидесяти пяти, если все пойдет, как идет. Друзья Льва отреагировали спокойно. Согласились – все, как один, – что цифры и впрямь ужасные, ужасающие и даже плачевные. Других комментариев не последовало. Тогда я спросила, уж не являемся ли мы, часом, свидетелями демографической катастрофы, не идет ли нация ко дну. Все согласились. Катастрофа близка, но насколько, никто сказать не может. Лица окружавших меня людей приобрели замкнутое выражение, час был поздний, смертность населения высокой, веки начали смыкаться, прикрыл глаза и Лев, красивые серо-зеленые глаза, выражающие сожаление по поводу всего услышанного.
Видишь, сказал мне Лев на обратном пути, как хорошо, что люди вроде тебя интересуются этим Ходорковским, здесь никто о нем не думает.
– Почему ты перестал писать?
– Я пишу.
– Не ври.
– Я пишу каждый день.
– Ты пишешь только рекламные тексты для роскошных гостиниц и других подобных заведений.
– Да, и вкладываю в эту работу всю душу и жду, когда откроются еще более дорогие заведения, чтобы предложить им свои услуги.
– Я говорю о настоящем писательстве.
– Я трачу на выживание все свое время, а его, если верить твоим прогнозам, осталось совсем немного.
– Ты ищешь самооправдания.
– Ты разве не заметила, насколько сиюминутна вся наша жизнь? Не поняла, что мы сами творим свою судьбу? Для тебя это обычное дело, а нам в России это в новинку. Все время приходится делать выбор, принимать решение – остаться букашкой или рискнуть все потерять. Это утомительно, Валентина, это изматывает. Так позволь же мне хоть чуть-чуть вложиться в наше фантастическое время.
– Поедем со мной в Сибирь.
– Что?
– Составь мне компанию.
– И что я стану там делать?
– Ничего. Будешь меня сопровождать.
– Очень увлекательно.
– Можем заняться составлением путеводителя по пенитенциарным заведениям, обновить данные, модернизировать их. Присвоим звездочки в соответствии с географическим положением, качеством обслуживания и присутствием высокопоставленных «постояльцев». Можешь продолжить список.
– Кто оплатит эту работу?
– Никто.
– Не думаю, что мои услуги тебе по карману. Я стою дорого, очень дорого.
– Вот почему ты больше не пишешь, Лев. Все дело в твоем нынешнем образе мыслей и в том, что ты не стесняешься говорить подобные вещи. Я стою дорого, очень дорого… Как не совестно!
– Презираешь меня?
– Нет, констатирую факт. Не знала, что писать на глянцевой бумаге фразы типа «джакузи во всех номерах и шлюхи на каждом этаже» такое увлекательное занятие.
– Ну вот, а говоришь, что не презираешь.
– Не уверена, что сумею доставить тебе это удовольствие, Лев.Грустный праздник
Лев считает, что это ни к чему. Под словом «это» он подразумевает все и ничего. Я знаю, потому что спросила. Я задала вопрос, шаря по шкафчикам в поисках дуршлага для макарон, что ни к чему, Лев? Его первый ответ был «все», второй – «ничего». Я разнервничалась, потому что на кухне не оказалось дуршлага.
Все началось с пищи. Весь ужасный спор, разгоревшийся между мной и Львом. В этот день я рано утром отправилась на поиски свежих итальянских макарон, завезенных официальными импортерами, а не какими-то сомнительными поставщиками. Ходи я по магазинам пешком, угробила бы на этот поиск неделю, а может, и больше, но благодаря маршруткам, общественному транспорту и везению сделала все за полдня. Когда я вернулась в квартиру, Лев взял у меня сумки, чтобы помочь разобрать продукты, и начал спрашивать, потрясая упаковками, что это такое? Я ответила, что это итальянские сокровища, что мы с ним будем пировать, что еще я купила лимон, шафран, сметану, пармезан и мы наконец вернемся к цивилизации. Я была возбуждена и так устала, что автоматически причислила Льва к числу индивидуумов, жаждущих вновь приобщиться к цивилизации. То есть к тем, кому до чертиков надоела русская кухня. Это была грубая ошибка. Лев тут же бросил раскладывать продукты по местам. Сложил их назад в пакеты. Сел. Сказал, что это ни к чему. Я попыталась минимизировать потери. Умолчала о походе по московским магазинам в поисках нужных продуктов и, главное, о том, что заплатить за эти самые что ни на есть банальные продукты пришлось сумму, равную месячной зарплате какой-нибудь приходящей домработницы. Я радостным тоном сообщила, что после многих месяцев русской жизни буду готовить для нас двоих по собственному рецепту – пора тряхнуть стариной, а потом мы сможем позвать друзей на это изысканное блюдо, настоящие taglierini al limone e zafferano [20] . Тут-то Лев и повторил, что это ни к чему, а я захотела узнать, что именно ни к чему. Ситуация быстро накалилась. По большому счету, все было ни к чему и ничто ни к чему не вело, мое присутствие здесь, присутствие рядом со мной Льва, наши попытки объясниться после стольких лет, билет в Сибирь, который я наконец взяла, один билет, только «туда». Сибирь как таковая тоже не имела значения, как и писательство, совсем не важны были романы и жизнь в этой квартире, которую я вскоре покину. Прежние планы утратили всякий смысл, теперь, когда будущее обогнало нас и ничто, даже хорошая итальянская еда, не смягчает горького чувства. Лев итальянской еды не хотел. Я буду есть русские блюда, заорал Лев, буду поглощать их утром, днем и вечером и прекрасно себя при этом чувствовать, а вот тебе лучше вернуться к себе домой и оставить дикарей в покое. Ты должна уехать, и я имею в виду не Москву, продолжает Лев, тебе следует покинуть пределы России и не останавливаться по дороге в республиках, ставших независимыми странами, стать-то они стали, но, надолго ли. Лучше бы тебе поторопиться и отправляться прямиком в свою идеальную страну, туда, где нет лагерей, зато полно денег олигархов. А главное, что я должна сделать, это оставить в покое его, Льва, и всех Львов Великой и Святой Руси, и Ходорковского – он наверняка отлично себя чувствует в Краснокаменске, уже вложил деньги в тамошние урановые шахты и стал еще богаче.
Ладно, отвечаю я.
Ладно, хорошо.
Досадно, что в этой квартире нет дуршлага для макарон. Невозможно приготовить свежую пасту, не слив до конца воду. Это было бы преступлением, не слить воду. Да, преступлением, повторяю я. И добавляю, что понятие это относительное, в разных странах его определяют по-разному, что удивительно. В замечательной стране Италии считается тяжким преступлением переварить макароны и не слить до конца воду. Отдаешь ли ты себе отчет, Лев Николаевич, спрашиваю я, что, если судить по этой мерке, Италия достигла вершин цивилизованности и одновременно предела варварства? Мой собеседник не реагирует.
По сути дела, он требовал, чтобы я покинула квартиру, не принадлежавшую ни ему, ни мне, и уехала из страны, на въезд в которую мне, между прочим, выдали визу. Ситуация показалась мне типично русской, но я не решилась произнести это вслух. Пора было развить мои рассуждения на тему о преступлении, и я себе не отказала. Заявила, что повсюду совершается немыслимое количество преступлений, и никто не чешется. В первую очередь, преступлений против искусства приготовления пищи и хорошего вкуса. В некоторых точках земного шара, привела я пример, готовят рыбу с сыром и майонезом, подают жареную картошку с кислой капустой, запивают любую еду кока-колой. Следом идут преступления против языка. Всех языков, уточняю я, чтобы избежать дискриминации. Я сообщила Льву, что не стану распространяться на эту тему, иначе у меня разболится желудок, а я не хочу развалиться на куски в его присутствии из-за каких-то там слов. Скажу одно, чем хуже люди говорят, тем хуже они пишут и тем хуже мыслят. Вернее, чем меньше они читают, чем меньше пишут, тем реже размышляют. Все это старомодно, признала я, но то, что не старомодно, и даже ново, не имеет никакого значения. Потом я зацепилась за слово «желание», неосознанно зацепилась, и объявила, что проблема желания – центральная в вопросе о языке. Честно говоря, я понятия не имела, к чему веду, но не умолкала. Гневный взгляд Льва пригвождал меня к обоям брежневских времен, но я не собиралась весь оставшийся день торчать у стенки. У меня была назначена важная встреча в гостинице «Метрополь». Я посмотрела на часы, не решаясь оставить в покое тему желания, которая несколько секунд назад стала центральной. Я уже опаздывала. Пришлось сказать, что случилось нечто – что именно я не знаю, – и во всех языках слова, относящиеся к желанию, стали употреблять где ни попадя. Джакузи во всех номерах, шлюхи на всех этажах. До недавнего времени, не скажу точно до какого именно, этими словами пользовались осторожно, исключительно в разговорах о любви, расставании, мечтах, будущем, тоске и смерти. А теперь, совершенно неожиданно, слово «желание» как с цепи сорвалось. Следом за ним другие утонченные, трепетные слова устремились в гнилостную яму языков, всех языков, подчеркиваю я, памятуя о глобализации. Вот так, говорю я, и мой тон подразумевает конец рассказа.
Я почувствовала, что моя аудитория, пусть и состоящая из одного единственного слушателя, внимательно ждет продолжения. На часах была половина четвертого. И я заговорила о стариках. Заявила, что они ничего не понимают, но дело не только в этом, их лишили привычного им мира и существовавшего в нем уклада. Пятнадцать сорок пять. Я должна быть в «Метрополе» к пяти. Учитывая московские пробки, я уже опаздываю, даже на такси. Совершенно необходимо свернуть рассуждения о стариках и как можно быстрее перейти к нашему поколению, нашему со Львом поколению, и к тем, кто моложе, кого мы произвели на свет, если, конечно, произвели. Я высказалась в том смысле, что молодым повезло, и это замечательно. Они кое-что утратили, но им это неизвестно, они не знают, как и почему слова, описывающие желание, потускнели, почему их так часто используют где надо и не надо. Проблема пароксизма желаний в отношении всего, что можно купить и потребить, является самым главным, заключила я, сказала, что мне пора, и пошла к вешалке за курткой.
А мы? – спросил Лев, и это были первые слова, произнесенные им с начала нашего спора.
Мы? Мы посередине, ответила я, зажаты между молодыми и старыми, добавила я и проверила содержимое сумки – телефон, ключи, флэшка, кредитки, доллары, рубли, платки и сложенная вчетверо «The Moscow Times» со статьей о «Юкосе» на первой полосе.
Мы посередине, подтвердила я. Застряли. Нам остаются слова, да, они у нас есть, как и их прошлый и нынешний смысл. Вот только не знаю, Лев Николаевич, для чего они могут пригодиться сегодня, разве что для купли-продажи. Может, исключительно для того, чтобы продавать и покупать себя, как вещи.
Я взяла сумку, нахлобучила шляпу.
В тот момент когда я открывала дверь, Лев схватил меня за руку.
Сказал, что очень сожалеет.
Ужасно сожалеет обо всем, что наговорил.
Он погладил меня по щеке.
Больше всего Лев сожалел о том, что приказал мне выехать за границы своей родины, покинуть ее территорию и людей, живущих на этой территории. Конечно, я должна остаться. Русская кухня есть русская кухня, но она пока никого не убила. Итальянская кухня, разумеется, заслуживает уважения, кто же спорит. Он найдет дуршлаг для спагетти. Купит подробную карту Сибири. Подумает о том, чтобы снова начать писать. Как раньше. Он предложил проводить меня до такси. Сказал, что мне не стоит опаздывать из-за проблем преступности, кухни и языка. Он велит таксисту ехать через западную часть города, а я должна буду «разуть глаза» и следить, чтобы он не завозил меня в пробки намеренно, а довезя до гостиницы не потребовал четыреста долларов наличными. Еще Лев посоветовал, чтобы я назвала конечным пунктом поездки не «Метрополь», а какой-нибудь адресок попроще неподалеку от гостиницы. Я ответила, что у меня нет времени на игры в конспирацию, что в здании отеля «Метрополь» принято назначать деловые встречи, и не мне это менять. Я уточнила, что у меня и без того голова идет кругом.
Вот видишь, сказал Лев, спускаясь следом за мной по лестнице, все произошло слишком быстро. Невозможно быстро. И будущее нас обогнало.
Я ответила, это правда, и потянула его за рукав. Если Лев завел разговор о будущем на четвертом этаже, у меня нет никаких шансов увидеться с английским журналистом, который согласился на встречу со мной только после того, как я нажала на некоторые «рычаги влияния».
Помнишь? – спросил Лев, я ответила да-да-да, и побежала вниз еще быстрее, перепрыгивая через ступеньку. Не могла же я, на самом деле, сказать моему другу, что в данный конкретный момент воспоминания о нашем общем прошлом волнуют меня куда меньше, чем встреча с маститым и очень информированным английским журналистом.
Помнишь, повторил Лев, аккуратно ступая на каждую ступеньку, совсем недавно все было невозможно. И вдруг все стало возможно, но то, что случилось, нет, мы не на это надеялись, не об этом мечтали, нет, то, что случилось…
Я кинулась бежать, как по тревоге.
Оказавшись на обочине, подняла руку, и почти сразу рядом притормозила машина. Я не чувствовала за спиной присутствия Льва. Открыла дверцу, но не села. Оглянулась на грязный подъезд нашего дома, дождалась появления запыхавшегося Льва. Он остановился, согнулся пополам, пытаясь отдышаться, сделал попытку добежать до меня, но не смог. Он прислонился к чахлому кусту, росшему на полоске голой земли, отделявшей дома от дороги. Я видела, он хочет сказать мне что-то еще, и поняла, что хочу услышать его слова, хочу, пожалуй, не меньше, чем поговорить с незнакомцем, который ждет меня в «Метрополе».
То, что случилось, Валентина, то что случилось…
Я попросила водителя подождать и подошла к Льву. Он сидел на земле и доставал зажигалку – мы поменялись местами: он сидел и собирался рассказать мне историю, а я стояла.
То, что случилось, Валентина, это полный бред, дешевка.
Он закурил сигарету.
Нечто кричащее и фальшивое.
Он затягивался и пускал колечки.
Изобразил пару усталых танцоров средним пальцем и сигаретой.
То, что случилось, это грустный праздник, сказал Лев.
Я несколько секунд ждала продолжения, но не дождалась.
Таксист посигналил. Я помогла Льву подняться. Он довел меня до машины. Поцеловал.
Я сказала ему, что он прав.
Что праздник действительно грустный.
Грустный и желтый.
Проблемы
Ужасно, когда все проблемы наваливаются разом. Я чищу гранат и размышляю об этом. Разбираю гранат, зернышко по зернышку, снимаю горькую белую пленку и бросаю ее в стоящую слева пиалу. Чудесные красные слезки отправляются в блюдечко, стоящее справа. Мое белье сушится на натянутых по всей квартире веревках. Чемодан открыт. В нескольких метрах от меня храпит Жан. В Москве идет дождь. Я знаю, что проблемы следует решать последовательно, не обязательно по мере поступления, и вне зависимости от их важности. Я по опыту знаю, что разбираться с неприятностями можно, только определившись с подходом, но заниматься мне хочется совсем другими вещами. Я предпочитаю есть гранат, читать книгу и курить сигареты, открыть вторую, третью, четвертую книгу – все равно сколько, если книги интересные. Я предпочитаю писать друзьям, что мне их не хватает, пойти на курсы обучения игре в маджонг или в кружок сальсы, спать с утра до вечера или с вечера до утра.
Первая проблема легко поддается распознаванию. У нее есть имя и фамилия. Это удача по сравнению со всеми остальными безымянными проблемами, существующими в реальном мире и моем личном списке.
Фамилия первой проблемы: Либерман.
Имя: Жан.
Должность: лучший друг рассказчицы, человек доброй воли и высокой культуры, подавленный, больной, временами склонен к самоубийству.
Ах да, чудак!
Жан появился в Москве три дня назад. Во вторник. Представьте: раздается звонок. Я слышу голос Жана. Думаю, что он звонит из Швейцарии, и пребываю в этом заблуждении несколько минут. Понимаю, что он собирается приехать в Москву, и всячески пытаюсь его отговорить. Погода жуткая, загрязнение окружающей среды достигло высшей точки, цены запредельные. Добавляю, что вот-вот уеду в Сибирь. Ни в коем случае не трогайся с места. Слишком поздно. Жан в аэропорту «Шереметьево». Только что прилетел, рейсом в 12.15. Я должна забрать его. Он не хочет ехать на такси, категорически отказывается. Он еще не вышел из здания аэропорта, а зазывалы уже чуть его не разорвали, тянут за руки, пытаются выхватить чемодан. Называют дикие цены. Все это очень его пугает. Количество предложений и лица предлагающих. Кроме того, у него появилось чувство – голос Жана дрожит, – ни на чем не основанное, не подкрепленное солидными основаниями, что тут многое изменилось. Так ты сможешь приехать?
Три дня назад Жан водворился в квартиру, куда меня пустили пожить и которую я скоро покину. Сейчас он спит и похрапывает. Приезд Жана Либермана заставил исчезнуть Льва Николаевича Николаева. Жан и Лев знакомы очень давно. Они всегда сотрудничали, когда это было необходимо, но случалось это нечасто. Судя по всему, между Жанами и Львами существуют некие расхождения, несовместимость, и день, когда одни полюбят других, еще не наступил за Уральским хребтом.
Итак, первая проблема, «Жан Либерман», породила вторую – «Лев Николаевич». Между тем во вторник вечером, когда мы с Жаном вернулись из аэропорта, атмосфера была вполне дружеская. Мужчины произносили тосты, говорили речи. Я продрогла, пить мне не хотелось, и в голову внезапно пришла мысль о том, что они сговорились за моей спиной. Я знала, – Лев считает, что должен помешать мне уехать в Сибирь. Слишком опасно. Когда кого-нибудь засовывают в забытую Богом и людьми дыру – в какой бы стране эта дыра ни находилась, – делают это с одной единственной целью, чтобы о нем забыли. Лев заявил, что метод универсален. Если кто-то начинает интересоваться «спрятанными» людьми, предполагая написать роман, в России это нравится властям не больше, чем в любом другом месте. Возможно, российским властям это нравится гораздо меньше, чем любым другим властям – по причинам, о которых Лев не пожелал распространяться. Возможно, моя наивная, романтическая упертость заставила его вызвать Жана, Жана – приехать и их обоих – изображать передо мной в ночь со вторника на среду дружное веселье.
В ту ночь у Жана разболелись зубы. Ужасно. Лев прекрасно видел, что Жану плохо, но ничего не предпринимал. Только наливал снова и снова и произносил заздравные речи. За ночь боль Жана не утихла. Ему стало хуже. Настолько, что я даже заглянула ему в рот, но не увидела ничего, что могло бы объяснить его состояние. Я сказала Льву, что это еще одна причина для беспокойства и для того, чтобы перестать пить. У боли, причину которой нельзя объяснить, но она продолжает болеть, есть тайная причина, нечто скрытое, что придется откопать. Я дала Жану лекарство, сильнодействующие таблетки, и посоветовала больше не пить. Сказала, что рано утром мы втроем отправимся к стоматологу, так что со спиртным нужно завязывать, причем обоим – и страдальцу, и здоровому, чтобы иметь ясную голову на случай, если придется действовать в пожарном порядке. В ответ мне заявили, что я преувеличиваю, и обвинили в саботаже. Они чокались, пили, последовали другие обвинения в мой адрес – в нездоровом агитаторстве, за тебя, Жан, в порочном уклонизме, в чистоплюйском ревизионизме, за дружбу, Лев, в закоренелом тунеядстве, за нас! Потом началась дискуссия – я в ней не участвовала, – в которой слова «зуб» и «стоматолог» прозвучали во всех существующих в русском языке сочетаниях, коих немало. Жан не желал идти к стоматологу в России. Он не пойдет, ни при каких обстоятельствах. Пусть все стоматологи, специалисты по зубам этой страны, знают, что Жан никогда не станет с ними консультироваться. Ни за что, даже если зубная боль будет такой острой, что заставит его убить отца и мать, упокой Господь их души. Никто не просил его заходить так далеко, но он это сказал. Лев возразил, что если в мире есть хоть одна страна, где стоит мучиться зубами, то это Россия. Что в международном и планетарном масштабе никто и нигде не достиг непрерывно совершенствующего уровня российской стоматологии. То, что у Жана разболелись зубы именно здесь, не невезение и не злой рок, а идеальное стечение обстоятельств. Жан выпил и принял очередную таблетку. Я закричала, что четыре таблетки за час это почти смертельная доза. Особенно в сочетании с алкоголем. Мужчины констатировали у меня прискорбную тенденцию к современному гигиенизму. Жану ужасно больно, он едва может говорить, но заявляет, что даже под дулом пистолета не пойдет лечить коренные зубы в России, потому что не хочет оказаться в местной психушке. Общеизвестно, продолжил он, что все те, кто вчера, сегодня или завтра вверяли, вверяют или вверят хоть малейшую часть своего тела врачам этой страны, заканчивают психушкой. В этот момент я поняла, что дело примет дурной оборот. Ничего нельзя поправить, все взаимосвязано, даже зубы и шизофрения. Все диссиденты in corpore через это прошли, о чем свидетельствуют их медкарты. За несколько минут в квартире выросла новая Стена с колючей проволокой и вышками. Мы больше не были ни старыми друзьями, ни иностранными туристами. Лев взбесился. Он не желал слушать, как Жан с пьяным смехом мешает российскую стоматологию с советской психиатрией. Буферная зона исчезла, но в эту ночь я тщетно, как комар-смертник билась о стекло, пытаясь отыскать таковую, а потом решила лечь спать, пока не прихлопнули ладонью.
Рано утром Лев исчез, а зубная боль Жана не оставила нам выбора.Я сидела в зале ожидания стоматологической клиники и размышляла о причинах, побудивших Жана прилететь ко мне в Москву. Возможно, в его жизни наступил просвет, он ощутил прилив энергии и неожиданное безумное желание увидеть Елену былых времен? Не знаю, как Жан это сделал, но он отправил ко мне Льва. Чем руководствовался Лев, я понятия не имею. Неужели он действительно искренне тревожится обо мне и его так напугали мои планы, что он позвал на помощь Жана, который редко беспокоится о других людях? Я терпеливо жду, когда Жан выйдет из кабинета, и перебираю в уме все мои письменные и телефонные признания, сделанные Жану с момента приезда в Москву. Да, я часто жаловалась, но не могла вспомнить на что именно. Ну, на русскую кухню, конечно, как и все, и на русский язык, на русские перемены и русских мужчин. Но разве подобные общие места могут заставить лучших друзей, особенно если они домоседы и тяжело больны, прыгнуть в самолет?
Марин я, кстати, тоже плакалась. Она моя лучшая подруга. И тем не менее не сочла нужным прилететь и позвонить мне уже из «Шереметьево». С Марин я была гораздо откровенней. Призналась, что чувствую себя потерянной, что перестала понимать, зачем явилась в эту страну, и не знаю, что делать с этим романом, и с этим человеком, Ходорковским, и с собой, потому что больше не понимаю ни его, ни себя. Этой подруге я сделала нелестные признания о себе и о Льве, написала, что за мной, кажется, присматривают, даже шпионят, что я получаю абсурдные послания и приглашения, что мне предлагают войти в контакт с якобы полезными, якобы информированными людьми, появляющимися, как кролик из цилиндра фокусника. Я не скрыла от Марин, что все это меня не интересует, что я мечтаю лишь о том заурядном состоянии, которое принято называть миром в душе и которое как нельзя лучше подходит для обдумывания романа, для его долгого вызревания, медленного написания и переписывания. Я не скрыла от Марин, что вряд ли найду такие условия в огромной России, что чертовски в этом сомневаюсь. Если миллионы квадратных километров территории с постоянно убывающим населением не способны вдохновить меня на писательство, кто или что сможет это сделать?
Марин не полетела в Москву, она ограничилась письменными комментариями – как школьница, последовательно отвечающая на вопросы теста, один, другой и – вуаля! – констатация факта, обозрение, насмешка. Паранойя ни при чем, люди, с которыми тебя пытаются свести, интриганы, не слушай ни их, ни тех, кто предписывает тебе делать то или это. Ты перестала понимать, на каком свете находишься, отлично, уверяет она, ничто тебя больше не интересует, великолепно, Россия и Сибирь недостаточно велики и не слишком пустынны, тем лучше.
Я смотрю на гранатовые зерна и думаю о Марин и о Жане. Сравниваю. Вникаю. Горькая шкурка в пиале по левую руку, зернышки – в блюдце, потом во рту. Одно из двух: либо Жан мой лучший друг, тяжело больной, но озабоченный проблемами другого человека, либо он больше не друг и не лучший, а его зубы – хитрая стратегия. Сомнение допустимо. Домосед, человек хрупкого здоровья все-таки прилетает в Москву – с острой зубной болью, – хотя никто его об этом не просил, я так уж точно. Женщина – энергичная, опытная, очень хорошо информированная – остается в Соединенных Штатах. А ведь Марин лучше других умеет находить скрытые мотивы и тайные пружины преступлений, связанных с деньгами, нефтью или политикой.
Джинн выпущен из бутылки, вопросы множатся. В том числе о Льве. Почему этот человек высадил дверь, чтобы вернуться в мою жизнь? В конце концов, Лев Николаевич достаточно умен, уж точно не глупее любого среднего индивидуума. Ни одно заурядное и увядшее сердце не кидается дважды в одну и ту же любовную реку. Так что же заставляет Льва провожать меня до такси и проверять, хорошо ли я спрятала ноутбук, телефон и все остальные гаджеты?Загруженный антибиотиками Жан спит и по-прежнему храпит. Дождь прекратился. Мое белье скоро высохнет, чемодан по-прежнему открыт, гранат очищен и съеден. Я пытаюсь мысленно отрешиться и взлететь над городом. Хочу сориентироваться, но не могу, теряюсь, затыкаю уши, чтобы не слышать шума. Мной овладевают досада и раздражение. Может, обратиться к русской медицине? Я смотрю на спящего Жана, слушаю, как он говорит – в те редкие минуты, когда приходит в себя, – и заключаю, что здешние успокоительные и болеутоляющие на редкость эффективны. Жаль, у меня нет сбережений, я бы не задумываясь вложила их в российскую фармацевтическую промышленность. Я перевожу взгляд на упаковки с лекарствами, стоящие на ночном столике рядом с кроватью Жана, и пытаюсь убедить себя, что эти таблетки, пилюли и порошки способны излечить сомнения, усталость, горечь и страхи иностранных туристов.
Еще проблемы
Многие люди знают. Могут и хотят все объяснить. Могут и хотят все объяснить мне. Беда в том, что я не хочу их слушать. У меня на то свои причины, множество причин, их так же много, как осенних листьев – желтых, оранжевых, красных, – облетающих с деревьев от легкого дуновения ветерка.
На свете живут адвокаты, посредники, наблюдатели, специалисты, партнеры и консьержки, которые все знают и являются кладезем информации. Пусть оставят ее при себе, сядут сверху и высиживают. В чем истина? Ее не существует. Печальная истина заключается в том, что истины не существует, а если и существует, то одна единственная – деньги. На кон поставлены миллиарды, поэтому любые доводы хороши и пребудут таковыми. Но не станем забывать о комизме ситуации: сегодня, дамы и господа, вашему вниманию предложена пьеса, где все действующие лица и исполнители – воры, заявляющие, что их грабят.
Смех, аплодисменты, занавес.
Все началось плохо. Россия, как всем известно, страна с богатейшими запасами нефти, но там, как и везде, хватает нечистых на руку людей. И вот появились первые воры и заявили: эта нефть – наша! Такое тогда было время, как говорится, «все смешалось», по лесу бродили большие злые волки – те самые, о которых с незапамятных времен сочиняют сказки. Итак, грабители наложили лапу на богатства рухнувшей Империи. Народное достояние приватизировали в два счета. Сильной стороной бандитов всегда была прямолинейность. Они являются и говорят: это мое, и это мое, и это тоже мое, а нормальные, хорошо воспитанные люди совершают «ужимки и прыжки» и ни о чем подобном не помышляют. Даже по сравнению с самыми обычными людьми бандиты – не самые умные, предприимчивые, работящие, хитрые и организованные граждане. Они – простодушные, и это их спасает. С незапамятных времен во все эпохи социальных потрясений за первыми, «простодушными» бандитами приходили следующие и заявляли права на собственность, после чего все начинали убивать друг друга. Воры кричали «Помогите, грабят!», и растерянные адвокаты, посредники, наблюдатели, свидетели, специалисты, партнеры и консьержки не знали, в какую сторону кидаться. Сегодня воры хотят вернуть украденное у них другими ворами и требуют, чтобы это сделали по закону. Так было от века, так возникали большие страны, составлялись крупные состояния, строились великие судьбы. Дураки всегда проигрывают. Кретинам, к которым отношусь и я, и все те, кого я знаю и люблю в России, несть числа. Мои русские друзья и знакомые – люди вежливые, культурные… и полные и законченные дураки. Ни одному из них не хватило сообразительности обогатиться, когда была возможность. Говорю об этом с тяжелым сердцем. Все они прошли мимо нефтяных вышек, никелевых и урановых рудников, золотых приисков, заводов и фабрик, брезгливо зажав нос. Они сидели на кухнях, стенали и скорбели об ущербе, наносимом природе и национальному духу. Между тем, я имею основания утверждать, что у этих людей, сидящих на своих крохотных кухоньках и пьющих свой бесконечный чай, хорошие мозги, а у некоторых так и вовсе выдающиеся. Пусть не жалуются. У них были и время, и возможность гулять по воскресеньям, походя отыскивая разваливающиеся «коллективные богатства»: империя гибла, на рынке существовал острый дефицит продуктов питания да и всех других продуктов тоже. Мои бедные друзья не занялись личным обогащением, они пили и оплакивали прошлое и будущее, лили крокодиловы слезы. Их сгубило отсутствие простоты. Сегодня все эти люди – проигравшие, они отличные специалисты, но их опыт и умения никому не нужны, так что приходится перебиваться случайными заработками. Кажется, в Библии сказано между строк: «Склонитесь и будете грести сокровища лопатой». Может, Библия и ни при чем, но какая-нибудь другая книга наверняка предлагает взять на вооружение этот метод. Так что пусть все, у кого плохо гнутся колени, пишут жалобу на себя. Зато ни одному из моих друзей не нужен адвокат. Я хочу сказать – ни одному из тех, кто остался в России, кто не захотел по доброй воле покинуть родину. Другие сумели уехать и не жалеют об этом. Они получают зарплату в евро или долларах – а иногда и в той, и в другой валюте, владеют домами в пригороде, вызвали к себе семьи, достигли желаемого и… эмоционально перегорели.
И все-таки я не хочу слушать адвокатов, посредников, наблюдателей, свидетелей, специалистов, партнеров и консьержек. Мое время драгоценно, жизнь коротка, а огромная Сибирь очень далекий край. Я ничего не могу сказать о человеке, который сидит в колонии. Знаю одно – он мог все сделать, чтобы его не взяли. Средства у него для этого были. Когда началась травля, он мог сбежать, улететь на своем самолете, организовав беспосадочный рейс «Новосибирск – Нью-Йорк», попивать на борту шампанское и следить по Интернету, как развивается его «дело». Ходорковский много месяцев был не в чести у властей, а мультимиллиардеры, даже не самые умные, обладают звериным чутьем. Даже после того, как его арестовали, приговорили и посадили, он мог организовать дерзкий побег из Колонии № 14/10. Никто не убедит меня в невозможности сбежать из сибирского исправительного учреждения, охранную систему которого не меняли с советских времен. Но Ходорковский не сбежал. Он сидит – и не пытается бежать. Именно это вызывает мой интерес. Выскочка, поступающий так, как никогда не поступают люди этой породы, не желающий покидать Россию ни при каких обстоятельствах, даже если приходится жить в исправительном заведении. Говорят, он вместе с уголовниками шьет варежки в лагерной мастерской под надзором охранников. Важнейшая задача для национальной экономики! По слухам, прибыв в колонию, Михаил Борисович отказался от всех «привилегий» – мне не нужны ни «блатная» камера, ни «блатная» больничка, я не вложу ни копейки в ваш гнусный тюремный VIP-режим. Об этом человеке ходит масса слухов. Кто он такой? Понятия не имею. Может быть, сумасшедший. Или святой. Или идиот. Вполне достаточно для романа. Не нужны ни адвокаты, ни информаторы, ни миллиарды долларов. Есть не похожий ни на кого другого заключенный. Романисты, как известно, довольствовались и меньшим…
Саймон О. Стоун-Аплертон
Этого человека я слушаю с удовольствием. Не устаю его слушать. Честно говоря, я обращаю мало внимания на то, о чем именно он говорит, мне просто нравится на него смотреть. Этот очаровательный мужчина объясняет мне, как функционирует мир, и я в восторге от того, что он захотел поделиться соображениями об этой сложной механике с такой рассеянной женщиной, как я.
Я звякаю позолоченной ложечкой о стенки чашки. Улыбаюсь, откусываю кусочек песочного печенья. Сидя в салоне роскошного отеля, я спрашиваю себя, когда же наконец научусь противостоять обаянию хорошо образованных и полных достоинства британцев. Никогда этого не умела. Стоит ли упрекать себя за это? Я оставляю ложечку в покое, не желая раздражить собеседника. Это наше третье tea party за три дня. Если принять во внимание только сей факт и отважиться связать его с впечатлением, которое производит на меня очаровательный собеседник, гордиться будет нечем.
Я смотрю на Саймона О. Стоун-Аллертона и нахожу его неотразимым и даже более обольстительным, чем мой друг С., который обольстителен до невозможности. По моему мнению, главное различие между Саймоном О. и С. заключается в осанке. В С. есть намек на дряхлость, он начал дряхлеть уже в двадцать лет. Легкое искривление позвоночника, этакая слабость, которую невозможно скрыть, вызывает умиление у всех женщин в целом и у меня в частности, пробуждает в каждой из нас желание. А вот Саймон О. держится очень прямо. Кажется, что его собственное тело внимательно следит собой. Когда Саймон О. смеется, верхняя часть его тела остается неподвижной, если он откашливается, не происходит ни сотрясений, ни колыханий. Поза Саймона О. Стоун-Аллертона внушает исключительное доверие. Возможно, в молодости он брал уроки классического танца. Спросить, так ли это, я не решаюсь. Саймон рассказывает мне о недавней встрече с российским министром энергетики. Я уже успела ляпнуть глупость, так что в дальнейшем будет лучше прикусить язык. Угощаясь блинами со сметаной, я спросила, уверен ли он, что видел настоящего министра энергетики, ведь насколько мне известно, в России полно двойников, не только этого конкретного министра, но и всех остальных, в том числе гораздо менее известных министров торговли картошкой и пряниками. Саймон улыбнулся, держа спину все так же прямо, и я заподозрила в нем некоторую неискренность, но быстро прогнала гадкое сомнение, вспомнив, что он принадлежит к тем редким британцам, против обаяния которых я никогда не могла устоять. Никогда, вплоть до сегодняшнего дня.
Итак, Саймон О. говорит со мной о министре энергетики – о настоящем, уточняет он со свойственным ему чувством юмора. Мне следует обратиться в слух, но я витаю в облаках, и меня занимает не конкретная мысль, а некий соблазн, который ни в коем случае нельзя выпустить наружу, ах, Саймон О. Стоун-Адлертон, сколько еще чашек чая придется выпить, сколько блинов придется съесть в вашем обществе, прежде чем?.. Российских энергетических ресурсов, в том числе нефтяных и газовых, хватит на века, так заявил министр. Министру хорошо известно о неприятных слухах, которые ходят на Западе.
Он сказал «на Западе».
Да, подтверждает слегка раздосадованный Саймон.
Неприятные слухи о введении в заблуждение. Русские якобы врут о размерах своих богатств, как в старые добрые времена фальсифицировали статистические данные. Министр точно знает, о чем болтают злые языки. Но министр также прекрасно знает и спешит доверительно сообщить об этом достойным и тщательно отобранным представителям иностранной прессы, что все эти слухи – полная чушь. Энергетические запасы избыточны, практически неисчерпаемы. Если взглянуть в телескоп не на небо, а в недра Земли, увидишь там только русскую нефть и русский газ, до скончания времен, аминь, заявляет министр. Саймон упоминает воду, и я не понимаю, какое отношение эта жидкость имеет к патриотическим энергетическим ресурсам. Я права. Саймон заговорил о воде, потому что министр пил ее на встрече с приглашенными журналистами, всем им, в том числе Саймону, тоже пришлось довольствоваться водой, и он нашел, что вкус у этой воды слегка, ну, в общем, вкус. Однако, переходит на шепот Саймон, возникает вопрос, не была ли вода, которую пил министр, водкой, она ведь тоже бесцветная. Впрочем, это не важно. После седьмого стакана, выпитого министром неисчерпаемых энергетических ресурсов, речь зашла о вечной мерзлоте и огромных проблемах сибирских широт. Но и тут, сообщает мне Саймон, министр энергетики и климата не растерялся. Он заверил, что каждый волен думать, как думает, но он, министр, верит лишь в то, что видит, а именно – в высокий уровень российской бурильной промышленности и мужество бурильщиков, то самое мужество, которое позволило миллионам молодых русских солдат спасти Европу, только теперь его используют более разумно, во всяком случае, на взгляд министра. После двенадцатого или четырнадцатого стакана воды, точно Саймон не помнит, политический деятель заявил, что Полярная война уже выиграна.
Он сказал Полярная война?
Именно так, роняет Саймон своими красивыми губами, и мы обмениваемся понимающими взглядами.
О, Саймон О. Стоун-Аллертон, сколько еще печенюшек и сметаны мне придется съесть в вашей компании?
Чаепитие продолжается в уютном салоне отеля «Метрополь». Мы пьем чай, потому что за последние двадцать четыре часа у Саймона была еще одна встреча – с российским министром экономики. Он сказал много интересного о развитии, о показателях развития и других признаках развития экономики, что начинает приносить пользу большинству населения. Не зная, кто со мной говорит – русский министр растущей экономики устами Саймона или сам Саймон, – я спрашиваю моего собеседника, откуда у него информация о том, что русские, то есть население России в целом, будут пользоваться плодами национального развития? Саймон смотрит на меня, как на дурочку, способную лишь позвякивать ложечкой о чашку, однако он хорошо воспитан и сдержан и добровольно согласился встретиться со мной несколько раз в «чайный час», чтобы поделиться результатами своего расследования, и готов объяснить все еще раз. Я киваю, втягиваю голову в плечи и застегиваю пиджак, хотя температура в этом роскошном будуаре точно выше двадцати градусов. Мой «информатор» достает из кейса ноутбук. Включает его, приглашает меня сесть рядом, я вылезаю из кресла, устраиваюсь на диванчике и вижу на экране потрясающие графики и феноменальные кривые. Куда ни кинь взгляд, все в этой стране повышается. Я чувствую, как энтузиазм Саймона проникает в мои вены, показатели ослепляют меня, всеобщее российское благосостояние достигает заоблачных высот, повсюду бьют фонтаны нефти.
Да, Саймон крайне возбужден и воодушевлен. Он говорит, что готов прислать мне копию этой галиматьи. Я не уверена, что все хорошо поняла, и прошу повторить. Саймон подтверждает, что, если я хочу иметь все эти официальные благоглупости и цифры, он охотно сделает для меня копию. Я смотрю на его идеальный невозмутимый профиль, длинные пальцы, ласкающие клавиатуру, и начинаю немного его бояться. Знает ли этот невинный, как сильно повсюду не любят британцев, в том числе в России, из-за этих а! которыми они предваряют все фразы, и хи-хи-хи, которыми они их заканчивают?
Красивые руки английского журналиста касаются клавиш. Внезапно он бросает на меня взгляд и сообщает, что пришлет мне кое-какую интересную информацию.
О, Саймон О., сколько еще чайных церемоний я проведу с вами, о скольких показателях развития услышу?
Смута в душе
Я думаю об С., мне его не хватает, хотя не должно не хватать. Я думаю о Жане, страдающем зубной болью и другими болячками. О Льве, который уже несколько дней не подает признаков жизни. О Саймоне О. Стоун-Аллертоне – долго сопротивляться его обаянию я не смогу. Я думаю о молодом Жонасе, он живет в моей квартире и регулярно сообщает мне новости.
В моей жизни слишком много мужчин. Мои мысли должен занимать один, но все остальные, кажется, объединились, чтобы вытеснить его. В этом романе слишком много мужчин, но никого, кто проявил бы хоть намек на сочувствие, никого, за исключением блистательного Жонаса, жаждущего узнать, встретилась ли я наконец со знаменитым олигархом. Он все чаще задает мне этот вопрос. Я не осмеливаюсь написать ему правду, признаться, что другие мужчины занимают мои мысли и вторгаются в мою жизнь. О таких вещах не должна говорить с названным сыном даже самопровозглашенная мать. И я оправдываю свою достойную сожаления неспешность географическими, метеорологическими и административными причинами. Искреннее и настойчивое внимание, которое Жонас проявляет к моему предприятию, часто доводит меня едва ли не до слез, особенно, когда я читаю его послания и понимаю: то, что ускользало от меня раньше, теперь ускользает еще быстрее.
Окажись Жонас в Москве, чувствовал бы себя здесь как рыба в воде. Он наверняка сказал бы, что этот город супер top [21] , а Россия – супер cool [22] . Сел бы в поезд, идущий в Сибирь, убедившись, что не забыл взять зарядки от многочисленных гаджетов. В вагоне он вставил бы в уши наушники, открыл ноутбук и вряд ли заметил бы разницу между русским поездом и поездом в любой другой стране мира. Жонас не забеспокоился бы, оказавшись посреди «нигде». Он бы поступил очень просто – проголосовал, запрыгнул в грузовик и отправился в Манчжурию. Его могли бы удивить стада, пасущиеся по обе стороны от дороги, деревни без выхода в Интернет и вообще без всего, мусор, плывущий по рекам и валяющийся на земле, но большую часть времени этот мальчик наверняка проспал бы, утомленный монотонностью пути. Доехав до места, он постучал бы в дверь исправительной колонии и спросил по-английски, не здесь ли случайно обитает guy [23] \’, имени он не помнит, но до недавнего времени этот самый guy был богатейшим человеком России, долларовым миллиардером. Потом он начал бы снимать охранников на мобильный телефон – они такие fun [24] , а ворота такие crazy [25] , – ни на секунду не обеспокоившись мыслью о неприятностях.
Разве могу я рассказать Жонасу обо всем, что мне мешает, о словах и образах, связанных с этим путешествием? Как поведать ему о книгах, которых он не читал и никогда не прочтет, о черно-белом мире, которого не видел, не пробовал и, главное, не обонял? Как описать реальность, чтобы не показаться старухой, хотя я не прошла и половины пути к этому ужасному состоянию? Я ни за что на свете не соглашусь мгновенно состариться в глазах этого милого мальчика просто потому, что он родился в 1989-м и не способен осознать, до какой степени ускорившийся с тех пор ход времени пренебрегает людьми моего поколения. Если Жонас по какой-то непонятной причине проявляет ко мне искреннюю привязанность, я хочу, чтобы в ней был оттенок восхищения. Лучший способ добиться желаемого – заверить его, что, как только будут решены некоторые проблемы географического, метеорологического и административного характера, я немедленно отправлюсь в дорогу. В конечном счете, Михаил Борисович Ходорковский один стоит всех мужчин, населяющих этот роман. Сложность в том, что у олигарха больше нет офисов окнами на центральный московский проспект.
Децентрализация управления является серьезной проблемой, особенно в странах без конца и края. Я в Москве, я в отчаянии и все кажется мне непреодолимым. Похоже, что Сибирь стала лунным континентом. Я с трудом нахожу на глобусе район Краснокаменска и растерянно смотрю, как он удаляется на Восток, движимый невидимым, но чертовски эффективным тектоническим механизмом.
Елена
Елену Снежнову теперь зовут Елена Белл. Да, Елена, женщина, которую когда-то любил Жан, сменила имя и, по слухам, забросила виолончель. В стране, где царит кавардак, люди становятся совсем другими. Следует это принимать во внимание, если вознамерился заново свести с ними знакомство.
Мы с Жаном отправляемся на поиски Елены Белл, экс-Снежновой. Мы едем мимо бесконечного нагромождения дешевых зданий, расположенных в той зоне Москвы, которую невозможно описать словами. Наверное, правильней всего будет называть ее просто зоной. Мы с Жаном сидим в такси, и наш водитель начинает терять терпение, потому что все указания моего друга оказываются ошибочными, хотя он утверждает, что точно знает, где искать его новую Елену. На этих улицах нет никакой галереи современного искусства. А ищем мы именно сверхмодную галерею современного искусства Елены Белл.
Вот как, удивляюсь я.
Да, сверхмодную, сухо подтверждает Жан.
Я решаю не продолжать бессмысленный разговор и погружаюсь в размышления о других проблемах искусства и о похолодании: за сутки столбик термометра в этой остывающей стране упал на десять градусов.Сегодня утром Жан решил, что ему пора наконец встретиться с Еленой. Не знаю, как мой друг сумел добыть столько сведений, в том числе о том, что она теперь не Снежнова, а Белл, и что променяла виолончель на новаторские, потрясающие воображение художественные инсталляции. Мне его идея не понравилась, я сказала, что все и так не слава богу, на улице собачий холод, а он собирается искать какую-то Елену Белл. Откуда нам знать, что она и Елена Снежнова – одно и то же лицо? Да в этом мегаполисе наверняка живет не меньше полудюжины Елен Белл, и у всех у них ультрамодная профессия, и обо всех пишут в глянцевых журналах. Я попыталась убедить Жана, что будет неразумно выходить из дома, учитывая температуру за окном, нахмурившиеся небеса, его недомогание и мои нервы, не говоря уж о близящемся отъезде в Сибирь и куче нестиранного белья. Все мои аргументы аннигилировались на выходе, как дефектные ракеты класса «Земля-Воздух» на старте. Жан достал из чемодана вещи, которых я прежде не видела, оделся, причесался, надушился – кажется, впервые в жизни – и скомандовал «Пошли!» властным тоном полководца, отправляющегося в «русский поход».
По всему выходит, что Елена Белл – бывшая Елена Снежнова, неврастеничка, пропускавшая половину собственных выступлений, – очень преуспела в жизни.
Совершенно самостоятельно, Жан повторил это несколько раз за тот час, что мы провели в такси и успели заблудиться. Итак, Елена многого добилась, сама, и ни один мужчина ей в этом не помогал. Я взглянула на моего спутника, ожидая увидеть у него на лице намек на иронию – не насчет судьбы Елены, а по отношению к себе, к собственной оценке реальности, предполагающей, что женщина не может добиться успеха, если рядом нет сильного мужчины, разве что в редчайших случаях, к коим, к счастью, относится его Елена экс-Снежнова. Ни иронии, ни самоиронии я не уловила, Жан продолжил давать указания шоферу – все те же ошибочные указания, – пересыпая их русскими междометиями нетерпеливо-раздраженного свойства.
Мне не хватило духу призвать его к порядку, спросить, да ты понимаешь, что говоришь, как тебе не совестно. Бывают дни, когда лето еще не кончилось, но уже похолодало, вам пора отправляться в Сибирь, а сил не хватает, причем на главное. Я предпочла сконцентрироваться на темах, о которых можно было размышлять молча. Что такое современное искусство? Существует ли прямая связь между колебаниями температуры по разные стороны Уральского хребта? Откуда взялась фамилия Белл, заменившая фамилию Снежнова? Может, это тоже «арт-объект»?Я злюсь на себя за то, что пошла у Жана на поводу, хотя мне совершенно не хотелось сопровождать его в галерею, созданную и управляемую Еленой Белл-Снежновой. Это одно из самых посещаемых культурных заведений Москвы, заявил Жан, а я смолчала, хотя обычно такие фразочки вызывают у меня улыбку. Самая известная, самая авангардная, далее по списку – прочтите в журналах, создающих нужную репутацию, чтобы «продукт» хорошо продавался. Если бы все гении, в том числе авангардисты, которых продвигают глянцевые журналы, и впрямь были такими одаренными и исключительными личностями, мир давно изменился бы к лучшему, наша жизнь тоже стала бы чистым наслаждением и все мы сидели бы под зонтиком и любовались окружающим пейзажем. Да, мне следовало выкрикнуть в лицо моему другу – но я в очередной раз промолчала, – что, будь на нашей планете столько истинных талантов, она не стала бы тем, чем стала, а именно – преддверием ада. Среди других сюжетов, которые я могу обдумывать, сидя в такси за спиной доведенного до крайности водителя, есть и такой: что было бы с искусством, занесенным в разряд современного, которым торгуют, как современным, без пустого медийного трепа, маркетинговых изысканий и узкого круга богатых клиентов? За рулем нашего такси сидит раздражительный водитель, рядом находится мой упрямый друг, у которого болят зубы, голова и печень, молчание затягивается, и я задаюсь следующим вопросом: что было бы с рынком так называемого современного искусства без списания налогов, подарков, товаров оптом и других сногсшибательных бонусов, которыми пользуются те, кто инвестирует в эту область из чистой любви к искусству?
Когда Жан обозвал шофера такси бестолочью – сказал по-русски «ты что тормозишь, дебил?!», – и заявил оскорбительным тоном, что он, Жан Либерман, сию минуту покинет эту машину, пойдет пешком и сам, без посторонней помощи, отыщет в этом новом квартале одну из самых известных в Европе – в обеих ее частях – галерею, детище одной из самых одаренных женщин своего поколения, которая сумела одна, без мужской помощи, взойти на вершину и управляет галереей твердой рукой, я содрогнулась, предвидя худшее, и не ошиблась, Жан заявил, что заплатит только половину суммы, которую нащелкал счетчик, он не лох и за полдела отдаст половину денег. Я долго молчала, но тут поняла, что пора вмешаться, и обратила внимание Жана на то, что наш шофер ужасно похож на уроженца страны под названием Грузия со столицей Тбилиси.
И что с того, спросил Жан.
Я достала из сумочки несколько банкнот, протянула их горячему уроженцу юга бывшей Империи и вышла из машины, наплевав на «непедагогичность» жеста: чем больше чаевые, тем меньше жителям развивающихся стран хочется искать новые пути развития.
Ты просто смешна, заявил Жан, вылезая под ледяной дождь, и это замечание снова навело меня на мысль о критериях, которые заставляют нас брать в лучшие друзья Жанов Либерманов, а не благовоспитанных мальчиков, готовых всегда быть у нас под рукой.В огромных странах есть одно обстоятельство, которое следует всегда держать в голове, оно куда важнее списка архитектурных памятников и достопримечательностей. Я говорю о расстояниях. Даже между такими банальными объектами, как цветочный и газетный киоски. В огромной стране пропорции тоже огромны. Это известно канадцам, американцам, китайцам, австралийцам и бразильцам, но лучше всего это знают русские. И только уроженец Швейцарии Жан Либерман игнорирует коллективное знание больших народов, связанное с понятиями пространства и времени. Только Жан Либерман верит, что, проявив настойчивость и имея крепкие ноги, можно все преодолеть, черт побери, даже высочайшие вершины, четырехтысячники. Жан шагает под дождем по бесконечным проспектам, этакое ничтожное насекомое, букашка, говорит «нам сюда», а через сорок минут – «нет, туда», и продрогшая женщина покорно семенит следом. Что такое современное искусство?
Я стою, согнувшись пополам, на мокром тротуаре и кашляю так сильно, что Жан останавливается, испугавшись, как бы я не выкашляла душу на виду у всех. Он возвращается, машет руками, кричит, что мы на месте, ну разве мир не прекрасен, и жизнь, и дождь, и мой кашель, до галереи всего несколько метров, двести или триста метров. Я чувствую ужасную слабость во всем теле, но, когда Жан подходит совсем близко, начинаю колотить его кулаками в грудь. Я его почти ненавижу. У меня начинается очередной приступ кашля. Да ладно тебе, говорит мой друг Жан, если собираешься путешествовать в одиночку по Сибири, не стоит так переживать из-за простой прогулки по Москве. Я откашливаюсь, пытаюсь отдышаться и спрашиваю, действительно ли он рассчитывает отыскать свою Елену в его нынешнем… состоянии. Я пытаюсь подобрать определение, не нахожу слов и повторяю, ну, в твоем состоянии.
Да, отвечает Жан.
Прекрасно.
Что касается меня, я беру такси и возвращаюсь домой, чтобы высушиться и согреться. Наши пути расходятся, ты отправляешься за Еленой, я – в кровать.
Ты ведь не возражаешь, правда?
Жан возражает.
Из нас двоих писательница – ты, восклицает он.
Если пишешь, говорит Жан, нельзя ничего пропускать, ни под каким предлогом, кто знает, что потом пригодится?
Я видела, какие глаза были у моего друга, когда он произносил эти жестокие и насмешливые слова, и в очередной раз сдалась. Мой спутник немедленно заговорил о чудодейственных отварах и настойках, которые он приготовит для моих усталых ног – позже, ближе к вечеру, когда будет время озаботиться столь мелкими обыденными вещами.И вот мы, вымокшие до нитки, рука об руку подходим к похожему на бункер зданию, где предположительно находится галерея современного искусства. Входим и попадаем в обескураживающе пустое белое пространство, где нет ни материальных объектов, ни людей. Неужели галерею Елены Белл национализировали? Предметы искусства конфисковали за недоплату налогов? Сомнения и страхи обрушиваются на нас, как ливень во время бесконечного блуждания по Москве. К счастью, наши усталые, но все еще зрячие глаза позволяют нам обнаружить на одной из стен легкие насечки. Мы решаем, что там, по всей вероятности, должен находиться лифт – небывалых размеров, но лифт. Вопрос в том, как он функционирует. Проще говоря, как его вызвать.
– Где кнопка?
– Ты видишь кнопку?
– Должна быть кнопка, – утверждает мой спутник.
Мы пристально вглядываемся в стену, в насечки, и у нас возникает чувство, что эти неодушевленные предметы дразнят нас.
– Пойдем по лестнице, – решает Жан.
– Тут нет лестницы.
– Повсюду, где есть лифты, должна быть и лестница, по соображениям безопасности, – не соглашается Жан.
– Мы не повсюду, а на острие современного искусства.
– Заткнись, – велит Жан и пытается отыскать несуществующую лестницу.
– Может, этот лифт откликается на голос?
Я возгордилась, сделав столь оригинальное предположение. Мы с Жаном выглядими странно, у него лицо мученика, у меня – насморк, оба промокли, устали как собаки, вот-вот состоится волнующая, читай – роковая – встреча, но я во все глаза смотрю на сегодняшнюю Россию, новые технологии: движущиеся как по волшебству изображения и люди, цифровая реальность, а может, даже лифты, «откликающиеся» на голос, как собачки, – к ноге, Медор! к ноге! Вот сколько всего я оказалась способна постичь в усталом и раздраженном состоянии.
– Разберись с этим лифтом, – говорит Жан.
– Сам разбирайся.
– Нет, давай ты.
– Лифт, – кричу я.
– По-русски, – приказывает Жан.
Я дважды повторила слово «лифт», едва не сорвала голос, но ничего не произошло.
– Придется закурить, – решаю я. – Уж противодымные датчики-то точно среагируют.
Я жадно затягивалась сигаретой, Жан смотрел на меня с брезгливым сожалением, и вдруг дверь бесшумно скользнула в сторону именно в том месте, где мы заметили насечки, но оказалась перед нами не кабина лифта, а выставочный зал.
– Ну вот, – произнес Жан торжествующим тоном победителя.Мы вошли в гигантский зал, придерживая друг друга за рукав, и уподобились детям, увидевшим потайную дверь, которая может в любой момент захлопнуться на следующую тысячу лет.
– Добро пожаловать, мадам, добро пожаловать, мсье, я буду к вашим услугам через несколько минут.
Фраза на идеальном французском прозвучала из настроенного на полную громкость микрофона. Был ли это голос Елены? Возможно ли, что в изменившейся стране голоса меняются, как лица, грудь, ягодицы, законы, свободы и надежды? Мы с Жаном почувствовали себя лилипутами перед лицом холодных технологий, нас затошнило от безумного смешения предметов и красок, захотелось позвать на помощь мамочку, причем Жан, находившийся в нескольких десятках метров от своей новой Елены Белл, сделал бы это первым. Мы так и стояли, цепляясь друг за друга.
Если бы меня попросили охарактеризовать одним словом экспонаты, я бы выбрала слово «кровожадные». Конструкции из хромированной стали напомнили средневековые орудия пытки, некоторые висели на стенах, другие стояли, медленно «шевеля» зубцами, шипами, заостренными штырями. Полотна с изображениями изуродованной плоти, мгновенно переводили зрительный образ в рвотный позыв.
– Какой ужас, – прошептала я, впиваясь ногтями в запястье Жана.
– Тссс, – ответил мой спутник.
– Почему это?
Жан приосанился, распрямил плечи и как обезьяна с учебного плаката, изображающего процесс эволюции, стал на несколько сантиметров выше. Куда девался его вечно понурый вид? Он почувствовал уверенность в себе, отпустил мою руку и в гордом одиночестве, с видом настоящего коллекционера, двигался среди машин и окровавленных трупов.
Именно так наверняка и подумала вышедшая к нам молодая женщина. Французская чета, экстравагантная, претенциозная. Находка для любого галериста. Она протянула руку для приветствия, просияв лучезарной улыбкой, и продолжила улыбаться, даже заметив на наших лицах явное разочарование. Я дала бы этой стройной свежей молодой женщине лет двадцать пять, не больше, она не могла быть Еленой экс-Снежновой, каких бы высот ни достигла российская пластическая хирургия. В несколько минут Жан снова сник, и это огорчило меня куда сильнее, чем отсутствие в галерее Елены Белл. Да-да, Елены тут не оказалось. Наша новая знакомая сообщила, что госпожа Белл без сна и отдыха путешествует по делам. Звучные названия городов – Шанхай, Бомбей, Нью-Йорк, Токио – убивали хрупкие надежды моего друга Жана.Молодая Алена Алеширова, недавняя выпускница Центральной академии изящных и коммерческих искусств города Красноярска, что в Центральной Сибири, нежным голосом на прелестном французском сообщает, что отдает себя в полное наше распоряжение. С ее помощью мы сумеем отделить зерна от плевел, не перепутать подлинное и фальшивое. Наша сопровождающая, получившая свой диплом в 2000 километров от Москвы, в некоем сомнительном заведении, не скрывает от совершенно не знакомых ей людей, как она счастлива, что получила эту работу. Нет, поправляет она меня, от Москвы до Красноярска 3355 километров, никак не меньше. Теперь очаровательная сибирячка живет и работает в столице, там, где бьется сердце всех самых передовых художественных направлений. Она сообщает нам это с таким восторгом, что мой друг Жан отвечает ей пусть бледной, но улыбкой. Оказывается, галерея сегодня закрыта – как всегда по понедельникам, но Алена находится на рабочем месте. Так в наши дни работают во всем мире, в России в том числе, берут тебя в хостессы, а делать за одну зарплату приходится много всего другого. Заметила нас Алена благодаря камерам наблюдения, сработал не знающий ни сна, ни отдыха художественный инстинкт, и она нам открыла.
Как любезно, что вы нас впустили, говорю я Алене Алешировой, чрезвычайно любезно, добавляю я, надеясь, что Жан включится в разговор и произнесет несколько любезностей. В конце концов, оказались мы тут из-за него, и сказать, что я хочу, чтобы он вел себя поактивней, значит не сказать ничего. Но Жан молчит, он «в отсутствии», он снова погрузился в печаль.
Придется отдуваться самой. Я решаю расспросить молодую женщину о ее родных краях и сразу признаюсь, что меня очень интересует сибирский менталитет, пути сообщения, морозы, оттепель, средние температуры, добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство. Вопросы сыплются один за другим, бокситы, уран, золото, кобальт, медь, финансовые потоки, деньги… Я подхожу ближе к Алене. Нет, правда, куда в этой стране перетекают деньги за нефть и газ, а? Я оказалась на расстоянии вытянутой руки от моей жертвы, она смотрит на меня с изумлением. Возможно, у нее появились сомнения насчет моего душевного здоровья? Господи, хоть бы Жан взял себя в руки и поговорил немного на темы искусства. К счастью, Алена опытный дипломированный работник и, видимо, считает меня слишком легко возбудимой покупательницей произведений искусства. Она решает удовлетворить мое любопытство. Да, жизнь в Сибири суровая. Летом там слишком жарко, зимой ужасно холодно. Елена говорит так убедительно, что я начинаю потеть и одновременно клацаю зубами от холода. Но люди в Сибири просто замечательные, продолжает она, во всяком случае, те, кто не пьет. Да, там много нефти и газа. Кроме того, вот уже несколько лет в Сибири наблюдается взлет современного искусства, хотя это мало кому известно.
– Неужели? – удивляюсь я.
– Именно так, – не без гордости подтверждает Алена Алеширова.
Потом она приглашает нас с Жаном перейти к главному и осмотреть галерею.
– Конечно, – соглашаюсь я.
– Главная тема экспозиции – распятие.
– Вот как…
– Да, – подтверждает наш импровизированный экскурсовод, – распятие как сигнальная интрачувственная система концептуальной парадигмы. Вы наверняка уже отмечали множественные запараллеленные экскурсы на территорию фагоцитозов в виде системной контекстуализации.
– Вот как, – удивляюсь я.
– Да, – подтверждает наша собеседница, – здесь определены новые базовые параметры, и вот что самое интересное: все наши художники выбрали тему распятия совершенно самостоятельно, никто им ее не здавал. Вы безусловно обратите внимание на волнующую связь, которая…
– Конечно, – подтверждаю я, обращаясь к Алене из Красноярска.
– Перед нами новая эстетика распятия, можно даже сказать – ипостась, раскрывающая в глобалистко-интимистской перспективе обнажение плоти, всего, что в ней есть самого механического, если можно так сказать, и…
– Конечно можно, – поддерживаю я.
– Мы полагаем, что невероятная связь, вытекающее из сферы…
– Из какой сферы?
– Мы считаем, что огромную роль играет место, что неоднократно подчеркивала госпожа Елена Белл.
– Госпожа Белл права, это впечатляет, – признаю я, – не так ли, Жан, все эти ипостаси распятия в этом конкретном месте очень впечатляют, согласен?
– Подобная логическая связь крайне редко выстраивается в современных разработках, – сообщает Алена, пользуясь молчанием Жана.
– Надо же!
Мой голос звучит слишком громко – так я пытаюсь сгладить неучтивое поведение моего друга, я говорю Алене, что вижу в этой серии полотен, здесь, слева, едкую критику в адрес любителей натурального меха.
– Вы совершенно правы, – соглашается Алена.
– А вот там – возможно, я ошибаюсь, сама не знаю, почему воспринимаю вещи именно так, – я вижу нефтяные буровые, а рядом – газовые, угадала?
– Все точно, – подтверждает Алена.
– У меня создается впечатление, – не унимаюсь я, – что эти распятия и эти фагоцитозы – нельзя забывать о фагоцитозах, какими бы впечатляющими ни выглядели распятия, – дают нам достаточно четкое представление о России. О том состоянии, в котором находится нынешняя Россия.
– Очень глубокое наблюдение, – соглашается моя собеседница.
– Видишь, Жан, – говорю я, поворачиваясь к моему строптивому спутнику, – видишь, в каком состоянии находится Россия?
– Хочется купить все сразу, не так ли? – спрашивает наша любезная сопровождающая Алена Алеширова.Я быстрыми, широкими шагами иду мимо инсталляций, Алена следует за мной по пятам, Жан отстал и еле тащится. Ощущение, что все эти острые концы, шпили, пики, бесконечные сцены раздавливания [26] обращены лично ко мне, я обливаюсь потом, мысленно благословляю дождь, насквозь промочивший мою одежду, но рядом с прелестной, свежей, как роза, Аленой чувствую себя блохастым енотом-полоскуном. Я ненавижу весь мир и каждого человека в отдельности и готова перейти к решающим действиям. Первый на очереди – Жан, следом идут его суперпредприимчивая Елена Белл и все ее сборище псевдоавангардных и псевдохудожественных пугал и оборотней. Совершить акт вандализма мне не дают – пока! – доброжелательность Алены и ее простодушие. Впрочем, вряд ли можно перебраться из Красноярска в Москву, не лишившись по дороге первородной наивности. Она так радостно внимает моим комментариям, что обижать ее не хочется.
Итак, я почти бегу по бесконечно длинному залу и комментирую экспонаты:
– Я вот о чем подумала, мадемуазель, все эти пыточные устройства – если мне будет позволено так их называть – олицетворяют скорее советскую эпоху, шпили и пики ассоциируются с чистками, процессами, лагерями и прочими ужасами.
– Как это верно! – восхищается работающая сверхурочно сотрудница Елены Белл.
– Ты только представь, Жан, – кричу я, – что пришлось пережить русскому народу!
– Конечно, чтобы поставить у себя одну из подобных инсталляций, требуется много места… – Алена явно забегает вперед.
– А картины! Нет, ты только взгляни, они потрясают воображение! Кровь на них только голубая, кровь больше не красная, на полотнах только синий цвет, и вот я думаю…
– Да? – Алена обратилась в слух.
– Я спрашиваю себя, не есть ли это символический удар в поддых царизму, чудовищному государственному устройству, ну, вы понимаете, о чем я, Екатерина Великая, двор, фавориты, войны, эпидемии, погромы, ужас жизни при невежественной автократии для большинства народа.
– Народ во все времена испытывал немыслимые страдания, – развивает мою мысль молодая сибирячка.
– Да, – соглашаюсь я, – от этой выставки, мадемуазель, у меня холодеет кровь. А у тебя, Жан?
Я снова повышаю голос, пытаясь привлечь внимание моего друга.
Каким-то чудом мне – или моим децибелам? – удается расколоть кокон апатии, которым Жан окружил себя в самом начале нашей «экскурсии». Вернувшись к нам, Жан игнорирует мое исступление и обращается только к Алене, говорит долго и так тихо, словно она драгоценная фарфоровая статуэтка, которой самое место в витрине из армированного стекла. Я не слышу ни единого слова, но вижу, как внимательно слушает молодая женщина, как, сама того не замечая, придвигается все ближе к Жану, а ее красивое лицо выражает безграничный восторг.
Какую сказку сочиняет на ходу мой друг? Знать этого мне не дано, но Алена внимает ему, как кобра заклинателю змей. Потом она направляется в заднюю комнату, оставив меня трепыхаться в лужах голубой крови.Я так растеряна, что мне хочется одного – сбежать, любым способом, через любую дверь, скрыться от этой коллективной бойни. У меня нет сомнений – все, что висит, стоит и лежит в этой галерее, создано избалованными, перекормленными, порочными детьми, для них все средства хороши, лишь бы эпатировать буржуа. Я совсем сдулась. Наше с Жаном приключение, начавшееся рано утром, оказалось слишком непредсказуемым, и я с трудом справляюсь с нервами. Я соскальзываю на пол и достаю мобильник, чтобы позвонить Саймону О. Стоун-Аллертону, вот также верующие обращаются к любимой иконе, когда чувствуют себя зависшими между небом и землей. Я знала, что Саймон отправился далеко на Восток вместе с большой группой ведущих журналистов печатных изданий. Даже если предположить, что из галерейного бункера можно дозвониться до набитого полезными ископаемыми подземелья, которое сейчас топчет лакированными туфлями Саймон, что я ему скажу? Что несчастна? Что попусту трачу время на распятия и фагоцитозы? Его номер высвечивается на экране, и мой указательный палец зависает между кнопкам «выполнить» и «удалить». Разумно ли беспокоить занятого делом журналиста, возможно, он сейчас что-то записывает, сколько баррелей в день, движение котировок?
Нет, это неразумно.
Мысль о том, что придется еще раз обойти выставку, вызвала у меня резь в желудке. Слава богу, в сумке есть болеутоляющее, я глотаю таблетку и вдруг вспоминаю слова Жана: «Из нас двоих писатель – ты». Вернув телефон на место, достаю серый блокнот и начинаю составлять фразы, которые под влиянием растягивающегося времени превращаются в цепочки фраз.
Во второй половине дня волшебная дверь отъехала в сторону, и мы снова оказались под все тем же унылым дождем. Я брела по тротуару, как окоченевший мышонок, походка Жана была легкой и свободной. Он получил все, что хотел. Телефон Елены Белл. Ее конфиденциальный электронный адрес. Личные адреса в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Токио – улица, дом, этаж, у него теперь было все. Он сообщает мне о своей победе тоном лиса, подобравшегося к самой дверце курятника. Я смотрю, как он вьетсят вокруг меня, и вижу Жонаса, энергичного и уверенного в себе Жонаса. Жан считает, что жизнь прекрасна, и ему было плевать, что я об этом думаю.На обратном пути, в такси, я крутила в кармане визитку, которую дала мне при прощании любезнейшая Алена Алеширова. Она настояла, чтобы я взяла карточку, улыбнулась и заставила пообещать, что я в случае необходимости обязательно свяжусь с адвокатской конторой, занимающейся всеми сделками госпожи Елены Белл. Моя реакция на полотна, которые я назвала «царскими», не ускользнула от проницательной Алены. О да, я заметила, как на вас подействовали эти распятия.
Часть III
Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное.
Осип Мандельштам. «Шум времени»
2 февраля 2009 в 10:51 Жан Либерман написал:
Уважаемая Юлия Ивановна,
Надеюсь, Вы не сочтете дерзостью, что я пишу Вам сегодня утром, хотя имел честь познакомиться с Вами только накануне. То, как внимательно Вы отнеслись к высказанным мной опасениям касательно судьбы моей дорогой подруги Валентины И., очень меня подбодрило и внушило надежду.
Вы стали для меня теплым и живительным лучом света среди суровой петербургской зимы. Пусть это сравнение не покажется Вам слишком патетичным, поверьте, оно вполне оправданно. За много недель Вы – первый человек из всех, кто имеет опыт в деле розыска пропавших, искренне предложивший мне помощь. Все «советы», которые я получал до сего момента, сводились к двум рекомендациям: обратиться в компетентные органы, так или иначе связанные с ФСБ, то есть добровольно кинуться в пасть к волку, либо сидеть и ждать, когда Валентина И. сама со мной свяжется. Не хочу Вас обидеть, Юлия Ивановна, но Ваша страна все еще охвачена такой апатией, здесь царит такой фатализм, что в это почти невозможно поверить. Говорят, здесь многое изменилось. Возможно, но лишь в том, что относится к деньгам, торговле и потреблению. И только в центре крупных центров. Стоит отъехать на несколько десятков километров, и ты как в дурном сне перемещаешься в советское прошлое. Какая ужасающая покорность судьбе, Юлия! Мне кажется, что, по большому счету, ничего не изменилось. То, что началось в 1989-м, все значительные события, случившиеся в этой стране, поглотила черная дыра обыденности. Простите мне мою резкость и излишнюю прямоту, но я решил быть с Вами абсолютно откровенным.Моя подруга Валентина уехала в Сибирь 8 июля прошлого года. Я уже объяснял, что побудило ее отправиться в это путешествие, не скрыл от Вас и своего более чем сдержанного отношения к этой затее. Вплоть до 20 ноября мы регулярно обменивались новостями. Потом связь неожиданно прервалась. Сегодня 2 февраля. Над Петербургом нависает низкое небо. Вы – моя единственная надежда. Окружающие меня люди прямо ничего не говорят, но я чувствую, что сама идея исчезновения их абсолютно не шокирует, хотя все мы, в том числе Россия, перешагнули порог третьего тысячелетия. Я то и дело слышу, что моя подруга в конце концов вернется, так или иначе. Никто, конечно, не рискует высказывать предположений относительно сроков, как будто количество месяцев или даже лет ожидания не имеет никакого значения. Адресуемые мне полуулыбки никто не назвал бы ободряющими. Я все время продлеваю срок пребывания в Вашей стране и живу, как Вы сами могли вчера убедиться, в более чем комфортных условиях, но мне никто не помогает в поисках исчезнувшей подруги, мои страхи и тревоги всех оставляют равнодушными.
Наш общий друг Елена Белл предоставила мне в Петербурге стол и кров, проявив необычайное великодушие и щедрость, за что я ей безмерно благодарен. Однако, как Вы уже могли понять, судьба Валентины И. волнует ее не больше старых музыкальных дипломов. Елена и Валентина знакомы с давних пор, Елена тогда носила фамилию Снежнова, и у меня нет причин скрывать, что у нас был бурный роман. Мы познакомились в 1987-м, еще в советские, теперь почти былинные, времена. Елена считает Валентину выдумщицей и ловкой особой (слышали бы вы, как она произносит слово «стерва»!) и приписывает ее молчание именно этим несчастным свойствам натуры моей дорогой подруги. Иногда нервы у меня расходятся окончательно, что приводит к приступам печеночной болезни (состояние моего здоровья оставляет желать лучшего), и тогда Елена пробует меня успокоить, уверяя, что Валентина наконец встретила любовь всей своей жизни, настоящего мужчину, сибиряка. Поскольку Вы любезно предложили мне помощь, позвольте сообщить Вам некоторые сведения, которые могут оказаться полезными в ходе поисков. Мы с Валентиной дружим больше двадцати лет. У каждого из нас бывали трудные времена, но эта связь никогда не прерывалась. Уверяю Вас, редко можно с такой уверенностью сделать подобное заключение о ком-то другом, кроме себя. Итак, в любовных отношениях моя подруга Валентина всегда занимала позицию, которая могла напугать даже такого осмотрительного человека, как я. С самого юного возраста некий таинственный инстинкт понуждал ее никогда не ждать от мужчин ничего сверх того, что они сами способны предложить. Все мы люди, и чувства могут в любой момент охватить каждого из нас, но я готов поклясться, что Валентина никогда не поддавалась эмоциям и скорее ад замерзнет, чем она снимет свой защитный барьер. Ни один сибиряк, будь он трижды «настоящий», не может вызвать у нее сильного чувства, разве что позабавить. Я готов допустить, что Валентина способна испытать жгучую «страсть» и на две-три недели уединиться с мужчиной в какой-нибудь избе. Да, Юлия, двухнедельное молчание – вещь вполне допустимая, но отсутствие новостей в течение двух с половиной месяцев приобретает совсем иной смысл. Отношение Валентины к жизни не более романтично, чем у термита, до полного изнеможения сил работающего на строительстве общего дома. В этом нет ничего забавного, но это так. Поскольку все точки над «i» расставлены, позвольте мне сделать признание той незнакомке, каковой Вы покуда для меня остаетесь. Я считаю, что мы с Валентиной дружим, несмотря на то что наши интересы и взгляды во многом расходятся, именно из-за полного отсутствия романтизма и в ее, и в моей жизни. Объяснить этого я не могу, дорогая Юлия, но наши долгие отношения и забота друг о друге, наш прочный союз возникли и окрепли именно поэтому. По этой же самой причине, а не из-за моей чувствительности и самолюбия, я не могу согласиться с мыслью, что Валентина просто взяла да и решила больше ничего о себе не сообщать, хотя возможность такая у нее есть.
Что-то я расписался, пора остановиться. В ближайшие дни я отберу самые интересные места из заметок, присланных мне Валентиной до 20 ноября прошлого года, и пришлю Вам все, что может облегчить Вам поиски. Хочу еще раз подтвердить, что эта работа будет оплачена в полном объеме.
Состояние моего здоровья оставляет желать лучшего, хотя последние процедуры дали результат, на который я не смел даже надеяться, и позволили мне задержаться в Вашей стране. Но буду откровенен: не думаю, что мне отпущено много времени. Я хочу знать, что произошло с Валентиной, узнать новости, пусть и не от нее лично, если она по соображениям безопасности решила больше не писать мне. Да, Юлия, я рассматриваю и такую возможность – вопреки здравому смыслу. Почему? Предпочитаю не вдаваться в подробности. В России быстро становишься параноиком, не знаю, отдаете ли вы себе в этом отчет. Я готов ко всему, даже к худшему.
Простите, что перекладываю на Вас свои страхи и так многого жду.
Преданный Вам, Жан Либерман2 февраля 2009, в 23:45, Юлия Ивановна написала:
Добрый вечер, господин Либерман, Вы не должны так сильно беспокоиться о Вашей подруге Валентине И. Сибирь перестала быть гиблым местом, люди здесь больше не пропадают. В России все изменилось, абсолютно все. Я очень рада, что могу оказать услугу человеку, столь дорогому сердцу моей любимой подруги Елены Белл, предложив осуществить работу по поиску за половинный тариф.
Февраль в Петербурге не лучшее время года для Вас и Вашего здоровья. Поговорите с Еленой, у нее есть дома не только в России. Вам не обязательно ждать вашу подругу здесь. Впрочем, решайте сами.
Я сейчас очень занята делом о слиянии-приобретении. Вы уже знаете, что моя адвокатская контора занимается крупными сделками и другими делами. В нашей стране иногда случаются серьезные происшествия с детьми и родственниками предпринимателей. Мы добиваемся исключительных результатов. Завтра я улетаю в Нью-Йорк. Мы будем связываться по электронной почте. В нашей конторе работает очень энергичный стажер Каспер Краков. Он родом из Новосибирска. Каспер сделает все необходимые телефонные звонки.
Простите мне мой французский. Если хотите, я могу писать Вам по-английски.
Все будет хорошо.
Юлия Ивановна4 февраля 2009, 04:30
Уважаемая Юлия Ивановна,
Мне крайне неловко, что я добавил Вам хлопот. Думаю, поездки по миру и смена часовых поясов очень Вас утомляют, хотя к последнему Вы наверняка привыкли, ведь Россия такая огромная страна. Я смотрю на Елену и легко представляю себе, какую жизнь Вы ведете. Мы с ней почти не видимся. Даже разговариваем редко. Простите старому человеку сорока пяти лет его ностальгию, но что сталось с бесконечными спорами, которые вели на кухнях люди Вашего круга? Зачем иметь так много комфортабельных домов, если не живешь ни в одном из них? Но оставим эти грустные и неуместные вопросы.
В Санкт-Петербурге холодно, вчера пошел мелкий снег. Он кружит в воздухе, как в невесомости, и, кажется, никогда не долетит до земли. Я восхищаюсь этой красотой, Юлия. Замерзшие каналы, ставший на Неве лед, мосты, которые больше не разводят, внушают мне уверенность. Время как будто остановилось. Я тщательно выбираю маршруты для прогулок, что помогает мне сохранять иллюзию застывшего времени. Поздно ночью я подхожу к окну и смотрю на дымы, поднимающиеся над домами, стоящими вдоль канала Грибоедова. Под серым небом, подсвеченным желтыми фонарями, когда шины больше не визжат на обледеневшем асфальте, редкие прохожие кажутся персонажами прошлых столетий. Я смотрю, как замерзшие люди осторожно бредут по тротуару, и думаю об их судьбах, искалеченных тем или другим кровавым режимом. Как часто они молили Бога о спасении или куске хлеба, но Он их не слышал. Сегодня по улицам Петербурга ходят потребители, они возвращаются по домам из баров и ночных клубов, они развлекаются взахлеб и вели бы еще более развеселую жизнь, одели их судьба богатством и роскошью, которую они лицезреют на экранах.
Мне кажется, Юлия, что время здесь разложено по маленьким матрешкам, хранящимся в самой большой и пузатой. Я поглаживаю ее, взвешиваю на ладони, осторожно, одну за другой, открываю те, что спрятаны внутри, закрываю глаза, вдыхаю запахи и слышу все звуки мира. Я слушаю рокот революции, речи, произносимые с балконов, ружейные залпы расстрельных команд, грохот сапог чекистов, явившихся арестовывать очередного «врага народа», завывание сирен, грохот бомб, скрип полозьев санок, везущих на погост тела людей, умерших от голода и холода. Я вскрываю матрешки, слышу голос смерти, это маховик, индустрия, и вздрагиваю от ужаса, одинокий и жалкий в петербургской ночи. В этом городе все перемешано, позолота и ужасы былых лет вплавились в рекламные вывески дня сегодняшнего. Мне бы следовало проявить сдержанность, остановиться на этом самом месте, чтобы никто не мог сказать, что я лезу не в свое дело. Меньше всего мне хочется прослыть кретином в Ваших, Юлия, глазах, поскольку я успел очень к Вам привязаться. Но истина заключается в том, что я ощущаю непреодолимое желание останавливать спешащих по своим делам людей, чтобы поинтересоваться, известно ли им, как много их сограждан, загубленных властью в разные времена, лежат в земле, на которой они сегодня развлекаются, пытаясь забыться в угаре веселья. Я принадлежу к тем людям, которые продолжают ходить на кладбища, тогда как представители Вашего поколения вечно спешат по делам, а другие – те, что постарше или вышли в тираж, не имеют ни сил, ни желания ходить куда бы то ни было, разве что в церковь. Да, мадемуазель, я болван и тупица и никогда не получу отпущения грехов.
Я начал перечитывать письма Валентины за июль-ноябрь прошлого года и попытался выделить информацию, которая могла бы оказаться полезной стажеру Кракову в его поисках. Я надеялся приложить их к этому письму, но силы оставили меня. Приношу Вам свои извинения и обещаю, что непременно сделаю это.
Ваш Жан Либерман5 февраля 2009, 08:18
Дорогая Юлия Ивановна,
Переписка, осуществляемая с помощью новых технологий, чистой воды ловушка. Пишешь, пишешь, потом отсылаешь, даже не перечитав. Напиши я письмо от руки, Вы бы не получили вчерашнее послание, отправленное одним «кликом» мышки. Я смущен и растерян. Не знаю, кем Вы меня считаете, опасаюсь худшего и обещаю, что больше никогда не заставлю Вас терять время.
Передо мной сейчас лежит пачка карт, писем и распечатанных электронных сообщений, которые моя подруга Валентина присылала мне до того, как пропала. Я лихорадочно их перечитываю, пытаясь понять, что несколько недель назад заставило мою подругу замолчать. Какие предзнаменования я ищу? Хотите верьте, хотите нет, Юлия, но главное место в письмах Валентины занимают описания погоды, да, именно так, «дождь и вёдро». Эти страницы больше всего напоминают метеосводки. Я не могу понять причин столь внезапного интереса, обычно моей подруге нет дела до капризов неба. Я задавался этим вопросом, когда читал письма в первый раз, но сегодня ночью, перечитав все подряд, спросил себя, уж не закодированы ли отдельные фразы? Не стану знакомить Вас с многочисленными пассажами, в которых Валентина предрекает свою скорую смерть – из-за ужасающей жары, невыносимой влажности («бедные мои суставы!»), наступивших в начале ноября холодов. По всему выходит, что за время, прошедшее с июля до середины осени, я должен был бы похоронить ее не один раз. Сами знаете, люди говорят и пишут о погоде, если нет других тем. Не думаю, что это случай Валентины. Погода, безусловно, главенствует над всем и вся, но сегодня утром этот сюжет напоминает мне скорее неумолимого Бога, которому в далекой Сибири нужно каждый день приносить жертвы. Подобное предположение выглядит легковесным, но другого у меня нет, во всяком случае, в моем нынешнем состоянии. Я позволил себе скопировать несколько отрывков из текстов моей подруги и обещаю вскоре прислать Вам следующие.
Жан ЛиберманОтрывки из писем Валентины
«…ах, Жан, если бы ты только мог увидеть, с каким упоением люди здесь наслаждаются летом. Любой поступок, который в другое время могли бы расценить как свидетельство душевного нездоровья, летом проходит незамеченным. Можно прыгать и скакать на улице, впадать в детство, объедаться ягодами, запихивая их в рот горстями, плюхаться в воду с дикими воплями. Дни тянутся бесконечно долго, и эта бесконечность сладка, как мед, она навевает грезы о том, что на свете нет ни смерти, ни боли. В некоторые дни жара становится изнуряющей, все только и делают, что восклицают: «Какая жара!» – но в голосах слышится ликование. Даже собаки со смеющимися янтарными глазами произносят это слово – «жарко». Сибиряки устремляются на свои дачи, как на поиски потерянного рая, и начинается лихорадочный сбор урожая. Я ем какие-то невиданные ягоды, кладу в рот и упиваюсь соком. Щедрая земля одаривает людей немыслимым количеством овощей и фруктов. Скорее, скорее, собираем, нюхаем, пробуем, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, перцы, клубнику, малину, смородину, голубику, бруснику, чернику, нужно поторопиться, собираем и запасаем на зиму цвета лета, мы похожи на золотоискателей, напавших на богатую жилу.
Повсюду, в лесах и вдоль дорог, собирают ягоды, травы, грибы. У меня выработался тот же рефлекс – наклониться и без стыда и зазрения совести обшарить нутро природы. Наверное, таким и был Райский сад до грехопадения, а, Жан? Щедрая земля и широко разинутые рты, жаждущие отведать нектара беспечности.
Не знаю, какие тут зимы, но я прикоснулась к вспышке лета и легко могу себе вообразить неминуемое умирание природы».«…прошлой ночью – сейчас июль, и на улице светло, как днем, – выпив после бани несколько литров обжигающе-горячего чая, мы с моими хозяевами долго смотрели на небо, уподобившись ученым-неофитам. Ты поднимешь меня на смех, Жан, если я скажу, что небо в Сибири необъятно, да, да, хихикай на здоровье, такого неба ты не сможешь вообразить. Мы решили, что это самое прекрасное небо на свете, хотя никому из присутствующих – кроме меня – не с чем сравнивать. Казалось, что Луна принадлежит нам одним, а хоровод звезд кто-то зажег только ради того, чтобы мы могли им любоваться. Мы купаемся в счастье, мы перестали понимать, ступают наши ноги по земле или по небу, вдруг какая-то женщина говорит, что все скоро закончится. И ее голос предвещает конец мира – летнего мира, планета Земля вот-вот явит людям свою темную сторону, ведь в августе в Сибири властвуют тучи и ветра.
Hic et nunc [27] , Жан! Завтра похолодает». «…Знал бы ты, какая гроза разразилась сегодня ночью! А вокруг ни одной, даже самой низкой горушки, чтобы принять на себя удар стихии. Небо обрушилось на наши головы, распласталось, как последняя распутница. Представь себе плод пассифлоры размером с нашу планету, который внезапно взрывается изнутри и все вокруг становится оранжевым, желтым, ярко-красным, и даже то, что вросло в землю, пускается в пляс. Каменистые дороги превращаются в реки, а черная река вдалеке содрогается, как разъяренное чудовище. Земля молит о пощаде. Венчики цветов плывут по воде, как лодочки, садовые домики стали похожи на Ноев ковчег. Я пишу тебе с корабля, Жан. Несмотря на духоту, мне пришлось закрыть окно. Будь, что будет…»
7 февраля 2009, 23:07
Уважаемый господин Либерман, Вы не сообщили, что Ваша подруга Валентина собиралась посетить в Сибири религиозную организацию. Иначе говоря – секту. Возможно, Вы просто об этом не знали. Стажер Каспер Краков провел расследование. В настоящее время Вашей подруги в секте нет. Не помню ее названия, это какое-то движение, связанное с душами и медитацией. Подобных сект в нашей стране сотни, все они появились, как грибы из-под земли, когда рухнул коммунизм. Сектанты пришли из Азии и с Запада. Жизнь в России очень тяжела, так что гуру и проповедникам всех мастей не составляет труда дурить людям голову.
У этой секты есть так называемый «духовный отец», Падре Игнасио Вайсхорн-Ксюа. Каспер собирает данные на этого человека и источники финансирования его организации. Сделайте одолжение, поищите информацию в письмах Валентины. Каспер общался с разными людьми, все они заявили, что Ваша подруга была странной. Мало медитировала – по словам сектантов из сибирского лагеря. Их удивляло то, что эта иностранка проявляет так мало рвения. Она очень плохо говорила по-русски. Не умела ни молиться в группе с другими адептами, ни медитировать «двое на двое». У нее не было ни одного знакомого в лагере. Лагерь – это палаточное поселение, где люди молятся и медитируют. Днем они готовят еду и спят. Ваша подруга очень боялась змей. То и дело вскрикивала, удивляя окружающих. Вы говорили, что Валентину интересовали «олигархи первой волны». Так зачем же она отправилась в глухие места, где полно одержимых безумцев? Вы уверены, что эта подруга, которую мы разыскиваем по Вашему поручению, вменяемая и интеллигентная женщина? Не сердитесь, я должна была задать этот вопрос. Стажер Краков очень старается, но у него много работы по текущим делам.
Я на несколько дней уезжаю в Женеву.
Как только появятся новости, Вы сразу их узнаете.Юлия Ивановна
8 февраля 2009, 09:32
Да будет Вам известно, мадемуазель, что на свете нет человека, который ориентировался бы во времени и пространстве хуже моей подруги Валентины. Такие простые понятия, как Восток и Запад, «право» и «лево», всегда только запутывали ее. Думаю, именно по этой причине она так редко указывает точные названия мест, где находится. Как будто эти – основные – данные не имеют для нее никакого значения. Путешествия Валентины – суть погружения в неизвестные земли, которым она ухитряется не наносить ущерба. В наше время это чересчур, согласен, ведь люди сейчас даже на прогулках не расстаются со спутниковыми телефонами. Я немедленно пришлю Вам все более или менее точные географические данные, которые найду в ее письмах, но это вряд ли чем-то поможет – я не сохранил конверты. Я не собираю марки и не мог даже представить, что перестану получать от нее известия и мне придется идти по следу, как какой-нибудь дворняжке. Слава богу, у меня есть Вы. С тех пор как мы познакомились, серое петербургское небо меньше давит на меня. Я дышу полной грудью и стараюсь не замечать сумасшедшего дорожного движения, взявшего город в заложники. Туристические путеводители называют Санкт-Петербург Северной Венецией, по которой можно гулять, сунув руки в карманы и беззаботно насвистывая. Что тут скажешь, Юлия – если включить воображение… Остаюсь в Вашем распоряжении,
Жан Либерман N.B.: вот сведения, которые мне удалось отыскать.
Отрывок из письма Валентины
«…горы Монголии все ближе, они очень напоминают Швейцарские Альпы, я пересекаю бесконечно унылые и давным-давно опустевшие бескрайние равнины, и мне чудится, что я вот-вот вдохну альпийский воздух и отыщу в траве горечавку и чернику. Скажи мне, Жан, возможно ли так далеко от родины ощутить аромат родных мест? Я с вожделением смотрю на выныривающие из облаков массивные серые скалы и умираю от желания подбежать ближе, коснуться их руками и начать карабкаться вверх, цепляясь за эти лестницы в небо».
9 февраля 2009, 23:50
Мсье, стажер Краков очень заинтересовался сектой. Он хотел бы получить информацию, имеющуюся в письмах Вашей подруги Валентины. Вы почему-то об этом не упоминаете. Пишете о погоде в Сибири, о грозах, фруктах и овощах. Для простоты дела можете послать стажеру фотокопии писем. Он сам найдет в них нужные сведения.
Юлия Ивановна
10 февраля 2009, 03:18
Дорогая Юлия Ивановна,
Пусть стажер Краков забудет о секте! Если бы Валентина отправилась на американский Запад, она бы непременно заинтересовалась жизнью ковбоев, и даже у Кракова эта идея не вызвала бы нареканий. Однако моя подруга выбрала русский Восток (на вкус и цвет, как известно…) и, судя по всему, попала в круг людей, увлекающихся медитацией. Только и всего. Необходимо приспосабливаться к новой, неизвестной тебе стране, особенно если хочешь нащупать пульс ее жизни. Неужели Вы полагаете, дорогая моя Юлия, что ученый-этнолог, изучающий жизнь какого-нибудь примитивного племени, ставит под сомнение местные обычаи? Конечно же, нет! Этнолог помалкивает, пытается держаться как можно незаметней и все записывает. Ну так вот, считайте, что романисты – те же этнологи, только чуточку чокнутые. Не хочу отвлекаться на рассуждения о литературе, но Вы ведь знаете, как ловко писатели погружают реальность в кипящее масло вымысла. И наоборот. Мы с Вами не станем стричь всех писателей под одну гребенку, но Валентина… она не склонна к медитации, хотя боится змей и у нее много других страхов, о которых я предпочту не говорить в этом письме.
Если Вы (как, впрочем, и я) не видите связи между сектантским медитированием на сибирской земле и судьбой некоторых Ваших развенчанных олигархов, это не имеет значения. Мы найдем множество ассоциаций такого рода на пути, проделанном Валентиной, так давайте не будем попусту тратить время. Именно это может произойти со стажером Краковым, сколь бы эффективной ни была его работа. Боюсь, он тратит чертову прорву времени на эту секту и ее основателя Ксюа – как-его-там. А мы с Вами, Юлия, получили финансовые ведомости, свидетельствующие о значительных вливаниях денежных средств на счета этого движения бесноватых, но они не вернут нам нашу Валентину живой и здоровой.
Кстати, где он сейчас, ваш стажер? Я готов встретиться с ним. Я понимаю, что мое дело доставляет Вам и Вашим сотрудникам слишком много хлопот. Я очень многим Вам обязан и готов потратить несколько дней на дорогу, чтобы побеседовать с этим самым Краковым.
Заранее благодарен за информацию.
Жан Либерман10 февраля 2009, 23:01
Стажер Краков очень занят. Я тоже. В Женеве все непросто. Я не понимаю, почему все так происходит. Ну да, финансовый кризис, но у Вас это напоминает ядерный взрыв. Знаете, в России, если казна пуста, то уж пуста. Мы не раз это переживали – и пережили, хоть я и сегодня этого боюсь. Но что происходит у Вас? Не понимаю. Передо мной закрываются все двери – как будто я заражена чумой или холерой, а ведь совсем недавно их распахивали прежде, чем я успевала выйти из такси.
В приложении Вы найдете координаты стажера Кракова. Вам не стоит отправляться в путь, не договорившись с ним о встрече. Он много ездит, завтра – Казань, послезавтра – Саранск, в субботу – Екатеринбург. Что дальше, я пока не знаю. Вы можете поехать поездом, но выйдет долго, или полететь самолетом. Или не ехать вовсе.
Каспер Краков делает все возможное.
Вы должны положиться на него.
Юлия Ивановна11 февраля 2009, 04:00
Моя дорогая Юлия, Я оставил четыре сообщения на автоответчике стажера Кракова, но он так и не перезвонил. Мне хочется верить в его усердие, и я готов отправиться в путь. Поездом, самолетом. Попробую найти решение, но вынужден признаться, что чувствую себя в Вашей стране неграмотным. Русский я знаю очень средне, но ничего или почти ничего не могу осуществить легко и просто, даже купить билет на поезд. Представьте, в какую бы очередь я ни встал, меня из нее выталкивают. Не понимаю, как это происходит. Пока я пытаюсь сообразить, что должен делать, впереди меня оказываются человек десять. Я проявляю максимум внимания, чтобы делать все правильно, но выходит плохо. Вчера я почти час стоял у билетного окошка, прежде чем понял, что там продают билеты только на пригородные поезда. Стоит ли уточнять, что это нигде не было указано? Я вообще не понимаю, по какому принципу организуется в Вашей стране информация. У меня нет слов, чтобы описать, как я был унижен, чувствуя себя парией среди парий. В этой стране все имеет невообразимые размеры, все нелогично, все подавляет. Понимаете, Юлия, сначала я думал, что проблема во мне. Я иностранец, не знаю здешних нравов и обычаев, но мало-помалу начинаю понимать, что дело не в этом. Все растеряны, все утратили ориентиры, и в первую очередь русские. Разница между мной и жителями России заключается в том, что для них это нормальное состояние. Нормально, когда тебя грубо одергивают по любому поводу, нормально, когда тебе приказывают «не стой здесь, встань там», когда говорят «нет», ничего при этом не объясняя, нормально входить с «заднего хода», молча сносить глупость и произвол только потому, что кому-то так захотелось. Мне жаль, Юлия, но все это я наблюдаю каждый день и давно опустил бы руки, если бы они уже не болтались у самой земли. Я думал, что за двадцать лет бешено ускорившееся время стерло карикатурные черты, но, боюсь, они почти неистребимы, и обязаны мы этим не только семи десятилетиям заморозков. Глядя на огромные петербургские резиденции Ваших царей, я лучше понимаю, как мало места отводилось здесь индивидууму, чтобы попытаться стать гражданином. Я говорю о личности, которая чувствует себя свободной в собственной стране, которой есть что сказать, а законы защищают его свободы и его собственность. Красивые русские девушки весело стучат каблучками по обледеневшим тротуарам, болтают на ходу по мобильному, но и они – увы! – подчиняются общим правилам. В Вашей стране меня часто душит злость, вот и сегодня утром на меня посмотрели, как на полного идиота. Вы ведь знаете, Юлия, как трудно иностранцу запомнить, на какой слог нужно делать ударение в русском слове, но разве это такой уж страшный грех? Выходит, что да. Ошибка в ударении – голова с плеч. Зато все остальное допустимо. Тот факт, что никто не способен дать четкий ответ, тщательно выполнить работу, обеспечить минимум гарантий, не вызывает ни удивления, ни протеста. Может ли такой человек, как я, приспособиться к подобной неопределенности? Такой, как я, то есть настроенный доброжелательно, Юлия. Нормально ли подниматься по утрам, заведомо зная, что все, что имело смысл вчера, сегодня может его утратить – и не из-за переменчивой погоды, а в силу загадочного, необъяснимого, трансцендентного положения дел. Значит, следует склонить голову и молча идти своей дорогой. Не уверен, что способен вести себя подобным образом – хотя бы один день. Нет, мне вовсе не нужны страховки на все случаи жизни, но я «нездешний», продолжаю задаваться вопросами и прихожу к выводу, что многие исторические толкования ошибочны и Бог родился в России.
Я понимаю, Юлия, что Вас могут огорчать подобные суждения, и готов признать их слишком острыми и чрезмерными, как и все в этих широтах, но Россия проникает мне в кровь, и я не сопротивляюсь. Думаю, то, что происходит с Вами в Женеве и со мной в Петербурге, имеет одинаковую природу. Мы оба – разочарованные любовники, мадемуазель. Объект нашей страсти не обладает качеством, которым мы наделили его без предварительной проверки.
Не знаю, к каким выводам относительно менталитета и нравственности людей, живущих на Западе, Вы пришли, когда открылись границы. У Вас наверняка возникло немало иллюзий – по причинам не менее серьезным и извинительным, чем те, которыми руководствовались финансисты, они прикинулись глухими, хотя были в курсе дела. Когда все хорошо, представление идет полным ходом. Никто не хочет замечать, что платья танцовщиц слишком грубы, а фраки кавалеров взяты напрокат. Банкиры и эксперты ès futurs лучше других умеют убеждать, что милый деревенский праздник и есть Венский бал Прекрасной эпохи. Чего только ни говорили о Вашей стране! Выносили суждения, оценивали ее, как прелести Ваших женщин в VIP-борделях, ни разу не выйдя на обычную улицу обычного среднестатистического города. Но когда часы бьют полночь – бух, хлоп, трах! – роскошные салоны превращаются в крысиные клоаки. Никто больше ничего о Вас не знает, да, Юлия? Как говорится, другой бы спорил!
Мне известно, какой прием был уготован в нашей части мира русским деньгам и русским перспективам. Эти деньги точно были не от Отца и не от Сына, но от Святого Духа. Сегодня они дурно пахнут? Ну, надо же! Успокойтесь, с некоторых пор все пованивает. Реальность обнаружила себя, как всплывший на поверхность раздувшийся труп, место которому на дне. Да, мы потерпели фиаско. Вы обнаруживаете морщины и неровности на «сделанном» лице капитализма, а я за неровностями ландшафта открываю для себя истинное лицо России.
Не знаю, одинаково ли мы понимаем отчаяние. Но уж точно все прибегаем к беспамятству. Повсюду извращают одни и те же слова и понятия, надевают те же шоры. Повсюду самую высокую цену за заблуждения платят те же обычные люди.
Бывали времена, когда революцию провоцировали и менее серьезные причины. Особенно в Санкт-Петербурге. Сегодня больше никто ничего не делает. И у вас, и у нас люди сидят перед экранами, как варвары перед своими идолами, и потребляют. Мир впал в детство. Он открывает рот и делает сосательные движения. Тупая невинность. Каким же мелким и вульгарным все стало, мадемуазель.Держитесь крепче, в этот час, когда снег кидается на город, как рысь с дерева, мне больше нечего Вам сказать. Каналы, еще вчера унылые и черные, стали белыми. Уж не знак ли это?
Искренне Ваш,
Жан Либерман
13 февраля 2009, 22:15
Жан, стажер Краков попал в больницу. Несчастный случай. Не беспокойтесь, с ним все будет в порядке. Он звонил мне из палаты, сообщил, что многое узнал о Вашей подруге Валентине. Куда она ездила. С кем говорила. Стажер очень заинтересовался историей с исчезновением. Мы оба не думаем, что с ней могло случиться несчастье. Воспользуйтесь пребыванием в Петербурге, чтобы посмотреть достопримечательности. Не только кладбища. В наших музеях много сокровищ, и там тепло. В феврале небо над городом иногда проясняется на несколько часов. Воздух, конечно, остается холодным, но Вы должны выходить гулять, чтобы увидеть, как город парит над белыми каналами, переливаясь желтым, розовым и зеленым. Я очень люблю Петербург и хочу, чтобы Вы тоже полюбили мой родной город. Мне нужно слетать в Нью-Йорк. Потом я вернусь в Россию.
Возможно, мы увидимся.
Не грустите.
Юлия Ивановна14 февраля 2009, 01:17
Юлия,
Вы уверены, что стажер Краков сможет продолжить расследование? Что именно с ним случилось? Он попал под машину или сам спровоцировал аварию? Сожалею, что приходится задавать подобные вопросы, но я вижу, как люди ведут себя на дорогах, и мне кое-что известно о том, как тут получают права. Я склонен подозревать худшее, в том числе в отношении Кракова.
Что, если этот стажер будет заниматься своим здоровьем и передаст дело об исчезновении Валентины вам, Юлия? Вы ведь покончили со слияниями-приобретениями, и у Вас появилось свободное время.
Мне остается только надеяться. Что еще я могу сказать?
Искренне Ваш,Жан Либерман
14 февраля 2009, 23:52
Стажер Краков прекрасно ведет это дело, несмотря на то, что с ним случилось. Никакой аварии не было. У моего сотрудника слабое здоровье. В нашей стране вообще не так много здоровых мужчин.
То, что Вы боитесь переходить через дорогу, совершенно естественно. Люди не умеют водить. И не знают, что не умеют. Но еще опасней ходить в феврале по питерским тротуарам. Погода часто меняется – то снег, то дождь, то гололед. Лед повсюду. С крыш падают сосульки. И все-таки нужно гулять!
Завтра утром я лечу в Нью-Йорк.
Краков делает все, что нужно.
Юлия Ивановна15 февраля 2009, 02:37
Дражайшая Юлия!
Уж не судьба ли швейцарской банковской тайны заставляет Вас курсировать между Женевой и Нью-Йорком? Какая трата сил! Эту птичку пытаются подстрелить не впервые, так почему бы Вам не вернуться в Санкт-Петербург? Все скоро успокоится, и Вам будет проще разобраться с проблемами.
В Ваше отсутствие я решил посетить несколько музеев, раз уж Вы так изящно намекнули, что там тепло. Мне стало известно, что олигархи «новой волны» опекают национальную культуру. Эта неожиданная тяга к прекрасному у деловых людей весьма трогательна. Кошельки расстегиваются, как по волшебству. Думаю, моей подруге Валентине стоило бы заняться нынешними благовоспитанными господами, а не могущественными властителями судеб страны из 1990-х, канувших ныне в небытие. В этом случае она была бы не в Сибири, а гуляла бы по цивилизованным городам и любовалась множеством прекрасных вещей.
Что заставляет Вас быть такой сдержанной в оценках, Юлия, Ваша деликатность или осторожность? Простите мне эти безобидные шутки, но мне действительно кажется, что русская проза в очередной раз ужимается в объемах. Просто поразительно, как укоротились в наши дни и фразы, и мысли. Возможно, мне тоже следует писать по-русски, чтобы сэкономить ваше время.
Желаю Вам счастливого пути,
Жан Либерман17 февраля 2009, 22:57
Жан, Вы пишете, что Ваши шутки безобидны. Я в этом не уверена. Происходящее всегда сложнее, чем кажется. То, что имеет значение для Вашей подруги Валентины И., важно и для моей родины, России. Не думаю, что сегодня мы говорим и пишем более кратко. Это очень по-европейски говорить так. Многое из того, что Вы пишете, выглядят сугубо по-европейски. К сожалению. Юлия Ивановна
18 февраля 2009, 08:23
Юлия,
Думаю, я шучу, чтобы отпугнуть отчаяние и тревоги. Чужая реальность – даже печальная – всегда отвлекает от забот легче, чем своя собственная. Я понимаю, все это иллюзия, но очень сладкая.
Давайте оставим в стороне вопрос об «укорочении» русской прозы. Ограничимся (мы оба – Вы и я) констатацией факта, с какой легкостью некоторые люди в Вашей стране урезают куда более конкретные, чем язык, вещи, например поставки газа в разгар зимы. Вот уж что не требует развернутого анализа. Достаточно включить телевизор и посмотреть, как люди выбивают зубами дрожь от холода. Когда я вижу подобное, мне хочется стукнуть по «ящику», чтобы изображение снова стало черно-белым. Забыть, что на дворе 2009 год. Попытаться побороть свой страх.
Признаюсь честно, прогулки по широким петербургским проспектам и мысли о том, что Краков делает все, что нужно, не способны развеять мои страхи. А кстати, как обстоят дела с поисками Валентины? Не нужно щадить мои нервы, Юлия, расскажите все, что знаете, прошу Вас.
Жан18 февраля 2009, 23:51
Стажер Краков создал отличную компьютерную схему передвижений Вашей подруги. Прилагаю ее к этому письму. На ней видна топография, озера, леса – все. Валентина И. часто останавливалась у местных жителей. Все они очень хорошо о ней отзываются. Она осматривала окрестности, задавала вопросы. О жизни людей, об истории поколений многих семей. Если верить Касперу – а ему можно верить, ведь его мать родилась в Сибири, – сибиряки любят поговорить. Ваша подруга часто задавала странные вопросы. Интересные, но непонятные. Например о старых и новых лагерях. Валентина И. хотела знать, остались ли в России политические заключенные. Те, у кого жила Валентина, проявляли осторожность и отвечали уклончиво. Во всяком случае, так они сказали стажеру Кракову. Кое-кто думал, что эта иностранка представляет некую группу, один из благотворительных фондов. Официально они оказывают гуманитарную помощь, а на самом деле собирают информацию. В последние годы богатые американцы посылали множество подобных людей в страны Восточной Европы и в Россию.
Кибила Николаевна Картофельникова, женщина, у которой жила ваша подруга, долго беседовала с Краковым. Она назвала Валентину И. простой и доброй душой. Сразу этого не скажешь, но по прошествии нескольких недель начинаешь понимать, что к чему. Госпожа Картофельникова считает, что Ваша подруга и правда пишет романы. Ее интересовали мелкие и вроде бы незначительные детали, а еще – романтические случаи, такие, как история этого политзека. Она любила рассматривать семейные фотографии, особенно старые, те, которые никого больше не интересуют. Она посещала места, не представляющие ни малейшего интереса и даже не отмеченные в путеводителях. Заброшенные заводы, недостроенные здания, разбитые дороги. Кибила Николаевна сказала, что гостья очень много читала и все время, днем и ночью, пила кофе, что очень ее удивляло. Кофе, как Вам известно, не является национальным русским напитком. А еще она задавала массу вопросов о словах. О корнях, приставках, суффиксах, новой лексике. Как говорит Краков, это крайне утомительно. Госпожа Картофельникова филолог по образованию. Понятно, почему Ваша подруга так надолго у нее задержалась.
Знаете, Жан, все сибиряки – потомки людей, попавших на эту землю неслучайно. И не по доброй воле. Они ничего не забыли, хотя никогда об этом не говорят. Они знают, что никто не хочет селиться в Сибири, и меньше остальных – русские, живущие за Уралом, никто, кроме китайцев, эти сегодня разбрелись по всему миру. Они делают работу, которую не желают делать русские, и занимаются торговлей. Но Ваша подруга – не китаянка, и люди поняли, что она не «делает дел». Им было трудно понять, почему приехавшая издалека иностранка ничем таким не занимается, не зарабатывает деньги, не участвует в экскурсиях в стиле «экстрим». Сибиряк по матери стажер Краков тоже этого не понимает. Уточню. Он не оспаривает утверждения, что Ваша подруга пишет романы, но говорит, что для этого не обязательно ездить в Сибирь. Скорее наоборот, нужно оттуда уехать. В истории нашей страны всегда случалось именно так. За одним единственным исключением. Великий русский писатель Чехов добровольно отправился на Сахалин и посетил каторгу. Но Антон Павлович был врачом, ученым, его занимали проблемы статистики и гигиены. В то время никого в России не интересовало, как условия содержания в исправительных учреждениях влияют на уровень смертности, сегодня это тоже мало кого волнует. Другие писатели примеру Чехова не последовали и тратить время на Сибирь не стали. Поступили они так потому, что выжили там и едва могли поверить своему счастью. Они писали, чтобы чувствовать себя живыми. Вернее, чтобы были живы те, кто придет после них. Они были кончеными людьми и осознавали это. Сибирь много раз убивала их. И потом, они были русскими. Стажер Краков на этом настаивает. Сибирь – русская проблема. Как и вся Россия. Краков говорит, что иностранец не путешествует по нашей стране, имея целью написать роман. Я передала Касперу то, что вы рассказали мне о Вашей подруге, то, чего Вы сами не понимаете. Он все внимательно выслушал. Но мнения не изменил.
Желаю всего наилучшего,
Юлия Ивановна19 февраля 2009, 12:39
Дорогая Юлия,
Спасибо за предоставленную информацию. Я посылаю Вам отрывок из письма Валентины, который вряд ли поможет нам определить ее географические координаты, но наверняка заинтересует Вас. Прилагаю также начало текста, который, по словам Валентины, в роман не войдет.
Искренне ваш,Жан Либерман
Отрывок из письма Валентины
«…я много писала в последние дни, вот только не знаю, куда пойдут – или не пойдут – эти фразы. Придется поискать другой способ приступить к изложению основной темы. Больше всего меня интересует прибытие Ходорковского в колонию, его долгое путешествие по Сибири, открывающиеся ворота узилища… Столкновение времен в одном единственном образе. Старая история на-сдаивается на сегодняшнюю – в конечном итоге, одна и та же история, как если бы время закольцевалось. Ты веришь, что время по-идиотски циклично, Жан? Мне не дает покоя этот вопрос. Обо всем остальном могут рассказать лишь те, кого сюда привезли и заперли здесь насильно».
Отрывок из текста Валентины
Представим себе, что Михаилу Борисовичу Ходорковскому удалось сберечь свои очки в тонкой металлической оправе по пути в Сибирь. Придется именно «представить», поскольку ни одна хроника не сохранила для нас эту деталь. Кроме того, любой человек, глядящий вслед тому, кого увозят на каторгу, просто обязан желать, чтобы у страдальца остался хотя бы минимум удобств. Каждый из нас знает или может попытаться вообразить, каково приходится человеку в несчастье.
Очки это важно. Они необходимы развенчанному близорукому богачу. Безвестным беднягам тоже. Их сажают в фургон – всех разом. Бизнесмена доставили из Москвы самолетом. Нелепая идея! Лететь из Москвы, чтобы упрятать человека в забытой Богом сибирской дыре. Все остальные родились в здешних местах. Для них самолет не понадобился. Они будут много часов трястись в фургоне.
Ходорковского узнают. Его фотография появлялась в газетах. Его сняли во время процесса, в клетке, за решеткой. Никому не известно, какие преступления совершили остальные. Пресса о них не писала. Они никого не интересуют. Сейчас все они скованы по рукам и ногам, везут их в колонию по разбитым дорогам, безопасность отсутствует, побег вероятен.
Бизнесмен устал. Ему не по себе. Товарищи по несчастью бросают на него косые взгляды. Ну, надо же, этого типа доставили сюда самолетом! Мерзавец смог в последний раз полюбоваться своими нефтепроводами, они видны даже из поднебесья. Может, он успел их пересчитать? Какой ему от этого прок? Деньги и нефть не спасли его, чистые ногти и чистая рубашка ни от чего не защищают среди тех, кто черен от грязи.
С ним обращаются в точности, как с ними, а у них никогда не было денег, разве что то немногое, что удавалось украсть. Здесь есть те, кто допился до чертей, буянил, убивал, кололся и будет накачиваться наркотиками, пока не попадет в психушку – да какая психушка, нет тут никакой психушки! – те, кто работали на заправил из центра и на местных бандитов. Фургон зря туда-сюда не гоняют, все места в нем заняты, затраты наверняка окупятся.
Знаменитого преступника и мелких проходимцев затолкали под брезент. Они узнают почем фунт лиха уже по дороге в колонию, а добравшись до места, будут шить варежки в мастерской под надзором охранников, тут-то этот утомленный интеллектуал пасть и захлопнет! Никто не смеет покушаться на собственность государства и критиковать его моральные принципы. Государство это мы. Нефть и мораль – суть Государство, то есть мы. Они неприкосновенны. Миллиардер в белой рубашечке думал, что нефть – это он. А вот и нет. Теперь узнает, кто в доме хозяин. Что этот олигарх, этот еврей видел через иллюминатор самолета? Наверное, ничего. Его наверняка запихнули в кресло у прохода. Без вида на землю внизу. Все кончено, считать и пересчитывать больше нечего. Нефтепроводы принадлежат государству, а государство это свободный народ, люди, на которых нет наручников, значит, нефтепроводы принадлежат народу, он может мысленно их считать и делить, каждому по куску, это уж точно лучше, чем вся российская нефть в одном кармане. Правосудие свершилось, так пишут в газетах, бандитская эпоха закончилась, пришла пора очиститься. Закатаем всех преступников в Сибирь. Крупных и мелких.
Давно пора.Фургон стоит на месте. Он должен был выехать много часов назад. Дорога до колонии долгая, местами разбитая, каменистая. Осужденные должны быть на месте до вечера. Но не будут. Внутри чудовищно жарко. Если бы «пассажиры» знали, какой лютый холод царит тут зимой, не жаловались бы на жару. Впрочем, они и не жалуются. Им все известно, и москвичу тоже. Мы в России. Фургон никуда не едет. Задавать вопросы, искать причины бессмысленно. Фургон тронется в путь, когда тронется. Время от времени один из охранников приподнимает край брезента. Просто так, от нечего делать. Охранник не собирается проверять, как ведут себя узники. Ему все равно, хотят они пить или нет, хотят поинтересоваться причиной задержки или нет. Охранники приподнимают брезент, просто чтобы приподнять его. В Сибири время всегда тянется медленно и для узников, и для праздных надзирателей.
Конвойные пьют самогон, который сами же и изготовили у себя дома, где живут их жены, дети, а зачастую и родители. Правила запрещают пить «при исполнении», за это полагается суровое наказание. Повсюду на территории бескрайней России пить строго-настрого запрещено. Нельзя употреблять спиртное, даже самое слабое, в часы работы, хотя часы эти могут длиться сутки напролет. Конвойные, пьющие самогон из горлышка, не знают, вписывается ли их нарушение в рамки урочной или сверхурочной службы. Если бы какой-нибудь проверяющий, случайно оказавшийся рядом с ними, стал задавать им вопросы, они не знали бы, что ответить. На их счастье, ни один проверяющий никогда ни о чем их не спрашивал и не спросит. Ни здесь, ни где-нибудь еще на территории огромной разболтанной страны.
Один из охранников, Юрий, предлагает сыграть в карты. Он молод, ему не больше двадцати. Остальные готовы продолжить пьянку, но играть не хотят. Говорят, что кончились деньги. Что деньги, которых не было, они тоже уже проиграли, и не единожды. «Ну и что», хитро улыбаясь, говорит Юрий. Многих этот аргумент убеждает, и они начинают раздавать карты на капоте машины. Те, кто не играет, пьют, курят и то и дело заглядывают под брезент. Транспорт опаздывает на восемь часов, может, даже на девять или десять. Ничего, кто-нибудь в конце концов позвонит. Из лагеря или с поста охраны. Кто-нибудь. Не важно кто. Неизвестно когда. Если кому-нибудь из заключенных приспичит помочиться, достаточно отодвинуть брезент. Хуже, если руки в наручниках, а ноги скованы. Большую нужду точно не справишь.
Сидящие вокруг фургона охранники продолжают выпивать. Они пьют самогон, который гонят в каждой семье, передавая бутылку из рук в руки, и играют. Одни выиграли, другие проиграли несуществующие деньги. Отдавать долг тем не менее придется. Все это знают и непременно заплатят. Вообще-то, некоторые охранники должны находиться в фургоне вместе с заключенными. Но они свободны, вооружены и играют в карты. Правосудие не может поспевать всюду.
Один из товарищей Юрия, проигравший две тысячи рублей разом, предлагает остальным обыскать карманы московского богатея. Нужно вытащить святошу из фургона, пригрозить ножом и заставить отдать кредитки, коды доступа и список тайных зарубежных счетов. Его поднимают на смех. Ну и идиот этот Шура, наивный дурачок! Думает, что в Москве могли хоть что-то оставить этому очкарику. Конечно, они все у него отняли. В этой «однонаправленной» стране доллары никогда не текут в Сибирь. Все денежные потоки направляются в Москву. Это известно всем, даже самым тупым кретинами – кроме охранника Шуры. Из Москвы деньги «утекают» дальше. Безвозвратно. Сидящий в фургоне человек гол как сокол, так что нет смысла с ним возиться. Столичные мастера свое дело знают. Снимут последнюю рубашку – и отправляют в Сибирь с напутствием «давайте, разбирайтесь с ним сами!»19 февраля 2009, 23:47
Жан, если Ваша подруга Валентина прислала Вам новые части своего романа, я буду рада прочесть их. Стажер Краков чувствует себя лучше. Он вышел из больницы и продолжает расследование. Связывается с друзьями Вашей подруги Валентины. Считает, что это может оказаться полезным.
Стажер очень серьезно относится к делу. Мы должны положиться на него.
Юлия Ивановна20 февраля 2009, 16:32
Юлия,
Я чувствую, как сильно Вам хочется внушить мне хоть немного доверия к работе и усилиям Каспера Кракова. Рад, что он снова на ногах. Хотелось бы знать, сколько ему лет. Не считайте это неуместным любопытством. Полагаю, он молод, однако во многом кажется мне человеком скорее старомодным. Я прав?
Я теперь осваиваю петербургские тротуары, коих Вы советовали мне опасаться. Должен признать, что в некоторые дни по ним действительно бывает невозможно ходить. Но самую большую опасность для меня представляет не гололед, не падающие с крыш сосульки и не заметенные снегом люки, на которых можно поскользнуться, а Ваши соотечественницы, Юлия, бегущие по льду на высоченных каблуках-шпильках. Когда я смотрю на них, у меня начинает ужасно кружиться голова. Реагирую подобным образом я один. Иногда я присаживаюсь на заиндевевшую скамейку и наблюдаю за ними, разинув от изумления рот, потом оглядываюсь, смотрю на небо, пытаясь отыскать повелителя, пославшего к нам так много потрясающих красавиц. И, конечно, не нахожу. Даже дежурного Жоржа Дантеса. Мимо меня проходят только небрежно одетые русские мужчины в тяжелых ботинках, и пальцем не пошевелившие, чтобы добиться расположения божественных красавиц. Какая несправедливость! Интересно, сколько женщин ломают кости зимой, а главное, во имя чего? Вы в очередной раз назовете меня «слишком уж европейцем», но мне кажется, что сегодняшние модницы в мельчайших деталях, вплоть до тактильного ощущения, помнят те пролетарские «наряды», которые носили их матери и бабушки. Эти хранящиеся в подсознании картинки на редкость эффективно заставляют их действовать «от обратного», и я не могу понять, почему из памяти людей так быстро исчезают другие воспоминания, не касающиеся обуви и тканей. Я имею в виду улыбки и рукопожатия, вернувшиеся с некоторых пор на экраны Вашей страны, тот тип слов, что произносятся с особым, громогласно-мачистским напором: Родина-мать, враги, неприступные границы. Я говорю о воскресшей серости, которую люди снова воспринимают в лучшем случае с безразличием, а в худшем – с радостью. Но довольно, я рискую наскучить Вам своим философствованием. Лучше прочтите отрывки из текстов Валентины.
ЖанОтрывки из текста Валентины
Дорога, бесконечно долгая, монотонная. Сквозь щели в брезенте можно видеть стоящий стеной лес.
И отбросы. Люди в России избавляются от ненужных вещей и мусора по принципу «где хочу, там и брошу». Пустые бутылки и отбросы плавают в воде, лежат по берегам озер и рек, валяются в лесу, на обочинах дорог и даже в горах – повсюду, где появляются и «гадят» представители рода человеческого.
Заключенный олигарх не спит. Он с глубокой печалью следит взглядом за унылой монотонностью окружающего мира. Ничего удивительного. Свергнутый магнат человек утонченный. Он жил в мире, где мусорные мешки строго регламентированных цветов и размеров выбрасывают в надлежащие баки, которые вычищают мусорщики в спецодежде. Михаила Борисовича Ходорковского обслуживали персональные водители, мажордомы, экономки и горничные. В России так живут немногие. Высокообразованный олигарх пил дорогое вино из дорогих бокалов и беседовал с коллегами о нефтяных потоках. В его речи звучали слова «возрастание», «эффективность», «показатель рентабельности», «прозрачность», «прогресс», это куда более возвышенно, чем «деньги» и «мусор». Утонченные личности имеют личных мусорщиков и банкиров. Все их отбросы исчезают как по волшебству, примерно также создается их богатство. Только обычные люди без конца говорят о деньгах и выбрасывают пустые бутылки в окно.В фургоне, везущем арестантов в сибирскую колонию, развенчанный олигарх платит высокую цену за свою образованность. Он в печали. Олигарх полагал, что все вокруг сортируют свои отходы и пьют вино из богемского хрусталя. Увы, он ошибся. Так пусть теперь страдает в тишине и одиночестве и не раскрывает рта. Россия не может себе позволить ни хорошие манеры, ни прозрачную бухгалтерию. Олигарх может сколько угодно поджимать губы и манерничать. Пусть забудет свои соображения о переустройстве страны и проекты реформ. Никто никогда ни о чем не просил этого предателя.
Фургон сильно опаздывает. Это не имеет значения. Охранники и водитель продолжают пить, груз на правильном пути, правосудие свершилось. Преступников ждет колония. Олигарха ждет колония. На сей раз немыслимое, невероятное все-таки произошло: борьба с коррупцией началась.
Мы вырвем ей глаза,
вырвем, вырвем,
свернем ей шею,
свернем, свернем,
проткнем ей сердце,
да, с весельем и отвагой проткнем
сердце коррупции!21 февраля 2009, 23:08
Не нужно отчаиваться, Жан. Ни из-за собственных проблем, ни из-за Вашей подруги Валентины. У женщины есть причины для исчезновения. Появляются время от времени, иногда, всегда. Я не сумею Вам этого объяснить. Не знаю, как выразить это на не родном мне французском, да и по-русски не знаю, как сказать.
Вы говорите, что любите мою страну. Не знаете почему, но любите. Ее не назовешь ни очень красивой, ни более красивой, чем какая-нибудь другая. Жить здесь нелегко. Язык трудный и климат суровый. Возможно, Вам нравится жить тут с нами день за днем, даже если ничего нового не происходит.
Что за глупости я пишу… Ладно, с кем не бывает, так ведь?
Юлия Ивановна22 февраля 2009, 08:47
Юлия,
Ваши письма очень меня трогают. Продолжайте писать, если это не слишком Вас затрудняет. Признаюсь, мне не удается прогнать мрачные мысли об участи моей подруги Валентины. То, что я вижу вокруг, не помогает взглянуть на вещи иначе.
Вчера я посетил музей-квартиру Сергея Кирова, большевика ленинского призыва, он погиб одним из первых, его именем называли площади, села и школы Вашей страны. Я, в отличие от моей подруги Валентины, не пренебрегаю обязанностями туриста, хотя сейчас февраль, и мало кто торопится посетить дом № 26 на Каменноостровском проспекте. Хранительницы обрадовались живой душе. Они шли за мной по пятам в мягких тапочках, включали музыку и свет, когда я входил в комнату, и выключали их, когда я переходил в следующую. Я вдыхал атмосферу той эпохи. Он был энергичный человек, этот Ваш застреленный в спину Киров, и удачливый охотник. Его квартира набита шкурами и чучелами животных, тысячи книг на полках тоже напомнили мне муляжи. Политика, экономика, статистика, государственное устройство. На его несчастье, он умел читать между строк. Я видел его телефоны, сегодня они пылятся на стуле, четыре черных аппарата, по одному из которых он будто бы напрямую связывался с Кремлем. Не знаю, какая именно линия доносила голос Кирова до ушей Сталина, но, судя по всему, в Вашей стране мало что изменилось. Да, Юлия, здесь по-прежнему опасно иметь прямой выход на Кремль, если умеешь читать, но не умеешь держать язык за зубами. В огромной квартире, обставленной в стиле ар-нуво, я думал о моей подруге Валентине и ее сидящем в колонии олигархе. Сколько статистических справочников и телефонных аппаратов было в библиотеке Михаила Борисовича Ходорковского? Ходил он на медведя? Охотился на волков? Может, Валентину задерживают в Сибири цифры? Я воображаю, как она составляет таблицы, чтобы сравнить официальный и реальный уровень запасов углеводородов. Подобное занятие быстро заставляет забыть о времени и грозит большой опасностью.
Сообщите, как идут дела у Кракова.
Искренне Ваш,
ЖанN.B.: посылаю Вам несколько страниц для прочтения.
Отрывок из текста Валентины
Михаил Борисович Ходорковский и все остальные бедняги наконец добрались до колонии. Их высадили из фургона. Охранники веселятся, обмениваются новостями. Это место – конец света, те, кто зарабатывают тут на жизнь, хотят знать, как и – главное – сколько зарабатывают люди в других местах. Кто-то уже сдает карты, нужно успеть обсудить дела, оружие, наркотики, нельзя терять ни минуты.
Свежеиспеченные сидельцы вливаются в лагерную массу, а бизнесмену предстоит определиться с внешними ориентирами и личной позицией. У него медленная, неуверенная, как у прилунившегося космонавта, походка. Михаил Борисович сразу же просит выдать ему копию Правил внутреннего распорядка ИТУ. Вот что бывает с птицами его полета, да хранит нас от них Господь, не успел поздороваться и уже требует бумажку со статьями, графики на каждый день, хочет встретиться с начальством, записаться в библиотеку, получить компьютер с доступом в Интернет. А больше ему ничего не нужно? Каждая фраза олигарха ужасно веселит окружающих. Где этот паразит научился так балабонить? Слыхал, как ловко заворачивает? Чтобы пасти свиней, Правила ни к чему, мы приставим этого кулака к свиньям, и плевать на шитье варежек, там он быстро отвыкнет от этих… как их там… экстраграбенций… экстравагантностей.
Прибытие магната в колонию становится событием. Сами понимаете, такой знатный субчик способен осветить эту забытую Богом дыру получше прожекторов мощностью в сто тысяч ватт. Это напоминает взрыв на АЭС. Очень скоро начинает подтягиваться пресса. Журналисты топчут окрестные огороды, пристают к местным жителям. Нужно быть готовым рассказывать о здешних нравах, возможно, стоит сходить к парикмахеру – вон сколько фотоаппаратов и камер у этих корреспондентов! Не помешает выдумать себе биографию, обменять свой рассказ на деньги, можно сказать, что сам отсидел пять или десять лет, или что сидел сын, или дед, знаете, как там ужасно, за колючей проволокой. Урановые шахты, радиоактивность, дети с двумя головами или тремя ногами, жестокие, красные из-за урана пыльные бури, ледяные зимы, что вы хотите – Сибирь, жуткий холод, лед, делать здесь совершенно нечего, никакого будущего, никто ничего и не делает, надеяться не на что, господин журналист, оператор, снимайте, снимайте наше отчаяние, пожалуйста! Здесь нет ни будущего, ни работы, дети – уроды, говорю вам, это ужасно, если вы дадите несколько долларов моему соседу, он скажет вам то же самое, и другие подтвердят – за деньги, отчаяние, вот что вы здесь найдете, госпожа репортерша, когда же, черт возьми, мир нам поверит?
Вы хотите знать, что я думаю о Михаиле Борисовиче Ходорковском? Хорошо, поговорим и об этом, кстати, свое мнение могут высказать и другие. Если мы ничего не делаем, это не значит, что мы не размышляем. Жизнь у нас нелегкая, нужно думать о том, как поправить дела. Так о чем вы? Ах да, что я думаю об этом мерзавце. Зависит от того, на какой канал вы работаете, мадам. Идемте, я представлю вам Ирину Палинкову, сюда пожалуйста, муж этой несчастной больной женщины тоже сидит в колонии. Если у него получится незаметно сфотографировать олигарха на телефон, вы сможете купить снимок. Интересуетесь? Сами видите, как плоха эта женщина. Будь ее воля, она спустила бы собак на бандита Ходорковского. Что вы сказали? Работаете на канал «Культура»? Культура это хорошо. Так вы хотите иметь фотографию Ходорковского в колонии? Ладно, выражаясь изящно, это выразительный символ, не так ли? Со времен «Записок из мертвого дома» Достоевского мы так любим нашу… да… чего вы от меня ждете, мадам? Хотите, чтобы я прочел отрывок из «Дневников» Федора Михайловича для вашего культурного канала? Без проблем! Вы принесли с собой книгу? В нашей стране идут на все, чтобы поддержать традицию, согласны? Желаете, чтобы Ирина Палинкова тоже что-нибудь прочла? Легко! Что? Пусть забудет о веревке и травле собаками? Я ей скажу. Скажу Ирине: старушка, придется приноравливаться к камерам, никаких собак, это будет выглядеть неаппетитно. Но если у вас есть часовая итоговая программа, я найду вам того, кто готов собственноручно выдавить глаза еврею, этому гаду, вору и убийце.22 февраля 2009, 23:06
Вы конечно же узнаете всю новую информацию, которую добудет Краков, но я тревожусь о Вас. Санкт-Петербург не тот город, в котором человек всегда чувствует себя уютно. Особенно иностранец. Этот город следует посетить, побыть неделю и уехать. Думаю, Вы должны покинуть Санкт-Петербург. Погода тяжелая, снег, дождь, подмораживает, ветер не стихает – все разом, и так день за днем, по нарастающей. Это совсем нехорошо – даже для тех, кто не слишком тревожится о своей жизни. А для всех остальных просто опасно.
Вы должны отправиться куда-нибудь еще.
Юлия23 февраля 2009, 08:18
Моя дорогая Юлия, Я думаю о Вас, хотя никогда не знаю, где Вы находитесь – в Нью-Йорке, Женеве или Санкт-Петербурге. Корреспонденция, которой обмениваются современные люди, мы с Вами в том числе, не позволяет опознать координаты места отправки. Интересно, кто-нибудь оценивал последствия создания новых средств и способов связи? Исчезли запахи, трепет, цвета, голые слова перемещаются в тишине, важна лишь скорость доставки. Если не начнем приукрашивать наши письма, Юлия, румянить им щечки, умащивать благовониями складки их кожи, боюсь, от этого мира и от нас самих ничего не останется.
Вы сообщили бы мне, если бы вернулись в Санкт-Петербург, ведь правда? Почему Вы не возвращаетесь?
Жан
N.B.: еще кусочек для прочтения
Отрывок из текста Валентины
Прибытие магната в лагерь не прошло незамеченным. Он здесь, тому есть свидетельства. Его зовут Михаил Борисович Ходорковский, он молод, красив и хорошо держится. Его можно принять за доктора – педиатра, специалиста по редким болезням, которому мать доверила бы лечить своего малыша, и все сочли бы ее выбор правильным, потому что в этом человеке есть и ученость, и доброта, что встречается нечасто и внушает надежду. Его фамилия Ходорковский, и он выглядит смиренным, как ягненок, очевидцы подтверждают, что так оно и есть, кроме того, он очень хорошо воспитан, учтив и – вишенка на торте! – убежденный сторонник всеобщего равенства. Михаил Борисович сразу сказал: нет, спасибо, мне не нужны ни особая камера, ни особое обхождение, я и копейки не вложу в ваш омерзительный режим для VIP-персон. Мы безусловно должны усвоить этот урок истории: бывший самый могущественный человек России стал лагерником. Оказался среди воров, убийц и прочих негодяев.
24 февраля 2009, 22:07
Жан, у меня еще пропасть работы. Я пока не могу вернуться в Санкт-Петербург, так что не ждите меня. В разгар кризиса нужно уметь отличать выгодные дела – коих немного – от массы невыгодных. Я говорила с Еленой, она со мной согласна. У нее дела тоже идут по-разному. Вы ведь знаете, богатые стали чуточку менее богатыми, а они к этому не привыкли. Они боятся потерпеть неудачу – гораздо сильнее, чем те, кто беден.
Елена сражается. Я тоже.
Юлия25 февраля 2009, 12:46
Юлия, сегодня 25 февраля. Я уже три месяца не имею известий от Валентины. Вы должны знать – она боялась. Я тоже напуган. Ужасно. Не знаю, ни что думать, ни что делать. Будь я похрабрее, находись Вы рядом, отправился бы на поиски. Что-то подсказывает мне, что мы втроем – Вы, Краков и я – можем составить отличную команду. Сегодня утром я перечитал некоторые письма Валентины, обхватил голову руками и попытался представить себе женщину, странствующую по незнакомым местам в тот самый момент, когда я пишу Вам эти строки. Жан
Отрывок из письма Валентины
«…наступившая осень скорее напоминает зиму. Все в Сибири работает по принципу «орел или решка», Жан, «орел» – проигрываешь, «решка» – ничего не получаешь. Как же далеко от меня Европа… Я иногда покупаю местные газеты и прибегаю к помощи географической карты, чтобы разобраться в новостях и сориентироваться по месту. Скажу без липших слов – здешняя жизнь жестока. Люди страдают, любят и умирают, помня былые печали. В деревнях, которые я посещаю, где иногда живу, случаются разные беды. Болеет странными болезнями скот, взрывается трубопровод. Процветают спекуляция и контрабанда. Все становится товаром – алкоголь, автомобили, лес, оружие, люди. Здесь, как и повсюду, нужно делать деньги, только это и нужно, повышать средний уровень, особенно если он средний только на словах. Я никогда не понимаю, с кем имею дело, хотя некоторые относятся ко мне невероятно тепло. Кажется, что вся нежность и великодушие мира укрылись в душах этих людей от суровых природных и погодных условий. Я всегда помню поразившее меня наблюдение Чехова. Представьте себе, во время путешествия на Сахалин этот упрямец составлял статистику побегов с каторги. Знаешь, кто сбегал чаще всего? Ответ прост: те, кто не мог вынести климатических различий между прбклятым островом и родными местами. Уже тогда речь шла не о великих принципах, не о свободе «с большой буквы», а всего лишь о климате. Те, кто здесь родился, не уезжают. Они терпят. Никакое «другое место» для них не существует. Иногда мне хочется поделиться мыслями и наблюдениями с окружающими, но я не решаюсь. Никогда не произношу имя Ходорковского. Говорят, прошлое ушло безвозвратно. Куда оно ушло? Никто не знает. Я предпочитаю продвигаться вперед осторожно, Жан, как будто иду по леднику».
25 февраля 2009, 23:52
Почему бы Вам не съездить на несколько дней в Москву, Жан? Стажер Краков вернулся. Он готов с вами встретиться и обсудить сведения, которые собрал о Валентине. Документы, свидетельства, карты. Ваша подруга могла покинуть Россию. Путешествуя по Сибири, в конце концов попадаешь в Китай. В Монголию. Или в Японию. Между прочим, сибиряки часто ездят в Китай. Там все предсказуемо и отлично организовано. Много больших отелей и магазинов. Краков говорит, что жители Сибири используют любую возможность, чтобы посетить Китай, а когда возвращаются, с восторгом рассказывают, что по ту сторону границы существует реальная жизнь.
Стажер допускает разные вероятности. Первая и самая разумная – Ваша подруга Валентина устала от России. И больше всего – от олигархов «первой волны». Села в поезд, оказалась в Китае и решила попутешествовать, ведь Россия ей надоела.
Каспер Краков полагает, что Валентина перестала писать Вам по одной простой причине – Вы ждете от нее новостей из Сибири, а не из Китая.
Юлия Ивановна26 февраля 2009, 09.38
Юлия, кажется, один из ваших поэтов написал: жить в Петербурге – все равно что спать в гробу. Я часто вспоминаю эту фразу, когда думаю о тех убийственных четырех месяцах, которые провел в Санкт-Петербурге, и надеюсь, что на сей раз убийство действительно произошло.
Я решил, что, несмотря на неустойчивую погоду, буду хоть иногда выходить из дома. Не скажу, что мне так уж этого хочется. Светает поздно, а темнеет так рано, что я, увлекшись работой над переводом, часто не замечаю, что наступил вечер. Я закопался в книги, их отыскали по моей просьбе, хоть и не сразу. Теперь я сравниваю изображения и описания, которые нахожу на страницах фолиантов, с собственными сегодняшними впечатлениями. Таков один из моих недостатков, Юлия, им часто страдают те, кто пытается создать нечто надежное из такого хрупкого материала, как память.
Я действительно каждый день ненадолго выхожу из дома, но лишь для того, чтобы попасть в другие интерьеры. Видите ли, Юлия, я посещаю самые разные места, смотрю на вещи, которые Вы храните, и мне кажется, что многие из них, уж простите, в действительности никогда не существовали. Все дело в цветах, в сомнительной свежести и слишком аккуратной упаковке. У Вас никогда не возникало чувства, что в Санкт-Петербурге много иллюзорного? В этом городе было столько пожаров, революций, разрушений, войн и несчастий, что он просто не может являть взглядам людей благородную па́тину времени. Я приехал из мирной страны, где давно забыли названия даже тех немногих битв, что имели место на ее территории, и потому способен почувствовать разницу.
Я посещаю квартиры Ваших великих писателей – Вы очень ими гордитесь – и всякий раз ухожу до невозможности опечаленным. Зачем все это? В чем нас хотят убедить? Что вот здесь все еще сидит призрак Александра Блока, там стоит Анна Ахматова, тут макает перо в чернильницу Достоевский, а неподалеку умирает на кожаном диване Пушкин? Да, на том самом диване, с которого в феврале 2009 года взяли образец крови. Зачем? Чтобы провести исследование новейшими научными методами и доказать, что экскурсоводы рассказывают ошеломленным посетителям чистую правду: Александр Сергеевич скончался от раны именно на этом диване. Идет поиск истины, Юлия, но какой? Что случалось с этим диваном, столовой, коврами, книжным шкафом и безделушками каждый раз, когда город-мученик впадал в безумие? Ленинградцы пережили девятьсот дней блокады, съели всех собак и кошек, сожгли всю мебель, до последнего стула, но к реликвиям не прикоснулись. Когда я вхожу в дома, где когда-то жили известные люди, я не ощущаю там их присутствия – ведь им даже не удавалось закрыть двери своих коммунальных квартир, а вижу лишь ледяной холод, который так вымораживал здания, только что умерших от лишений людей с почерневшими лицами, которых не всегда удавалось похоронить. Известно ли Вам, Юлия, что как только трупы начинали остывать, вши перебирались на живых? Блокадной зимой мороз сковывал не только природу, но и людей, и у них не было сил оплакать умерших. Где в этом ледяном аду был диван Пушкина? Кто умирал на кровавом пятне? Когда человек умирал, родные иногда несколько недель не выносили его из квартиры, чтобы получать хлеб по карточке. Как их звали? Что они читали? Каких писателей сожгли первыми? Ленинградцы гибли от голода. Падали замертво на улице, и редкие прохожие обшаривали их карманы, если хватало сил наклониться.
Многочисленные свидетельства совпадают, Юлия, дольше всего люди помнили не разрывы бомб, уничтожавших дороги и заводы, производившие продовольствие, а легкий скрип полозьев по снегу, который под другими небесами мог бы показаться поэтичным. На санках везли покойников – сотни тысяч тел – к общим могилам. Часто женщины везли на санках своих умерших отцов, мужей и сыновей, зашитых в простыни. Да, немного силы сохранялось именно в женских руках, во все времена только они были способны вынести невыносимое. Этот факт потрясает меня, думаю, все войны и блокады длились бы куда дольше, если бы армии состояли из женщин. Пожалуй, на этом мне стоит остановиться, Юлия. Некоторые вопросы неуместны, да что там – большинство вопросов! – когда невообразимое все-таки случилось.
Берегите себя,
Жан Либерман26 февраля 2009, 22:47
У нас принято думать, что нет ничего сильнее судьбы. Вы наверное уже поняли это. О таком не забудешь. Сам строй языка на это указывает. В русском предложении подлежащее очень слабо и редко что решает. Действие направлено на него. С нами столько всего случается в моем языке, Жан! Читая Ваши письма, я очень точно понимаю, что Вы – человек иной культуры и по-другому смотрите на мою страну. Я долго не осознавала этих различий. Потом выучила английский и французский. Много путешествовала. Я не решаюсь обсуждать эту тему с окружающими, особенно на работе. Не хочу, чтобы меня считали фантазеркой, говорили «она попусту тратит время» или что-нибудь похуже.
Но с Вами мне нравится говорить о таких вещах.
Юлия27 февраля 2009, 09:17
Юлия,
Будь я храбрым и не таким рассеянным человеком, давно прыгнул бы в поезд и отправился искать Валентину. Находись я не в России, а где-нибудь в другом месте, я бы в конце концов отыскал эту силу внутри себя. Вот как я оцениваю собственные малодушие и беспомощность. Я пытаюсь облегчить совесть, убеждая себя в том, что Ваш стажер лучше справится с работой, хоть и сомневаюсь, что он делает все возможное. Похоже, Вы с Краковым полагаете, будто Валентина отправилась на увеселительную прогулку. Вы часто используете выражение «олигархи первой волны», Юлия, и, как я понимаю, причисляете к ним Ходорковского, но никогда не упоминаете его имени, как будто речь идет о древней истории и давно забытом человеке. Позвольте напомнить, что этот узник жив, он еще молод, а на каторгу четыре года назад его отправил российский суд по приказу – о, конечно, негласному! – российской власти. Как видите, у меня есть масса поводов излить гнев на Вас, вместо того чтобы злиться на себя.
Посылаю Вам текст Валентины, полученный в конце октября прошлого года.
ЖанОтрывок из письма Валентины
«…Я нашла человека, который за деньги проводит меня в район, где находится колония. Мы отправимся, как только позволит погода. Одному Богу известно, когда это случится.
Ты не представляешь, Жан, как трудно женщине быть одной. Уточню: не просто женщине – иностранке, приехавшей из Европы, да к тому же без всякого официального статуса, который может хоть как-то ее защитить. Меня никто не посылал, и я никого не представляю. То есть завишу от всего и от всех. Такая ситуация давит, возможно, наступит день, когда я выберу другую, более убедительную «легенду».
Иногда мне хочется, чтобы мужчина – такой, как ты, Жан, если бы ты чувствовал себя лучше, – мужчина «в полной силе и славе» присоединился ко мне, например, в роли миколога или специалиста по горючим ископаемым. Ты бы убедился, какой полезной помощницей в поисках я могу быть. Но ты не приедешь и никогда не узнаешь, какие густые здесь леса, какие сны снятся в избе, как хорошо здесь мечтать, когда в печи горит огонь, и как уютно читать при свечах.
Если туман долго не рассеивается, я иду пить чай к соседям. Я сказала, что пишу стихи, и они поверили. Разным людям рассказываю разные вещи и всегда стараюсь быть предельно убедительной. Старшая дочь супругов Т. дает мне уроки русского. Она милая, терпеливая и говорит, что я делаю успехи. Эта девушка скоро уедет еще дальше на север и будет работать инженером. В этих местах люди по-прежнему получают распределение на работу, как когда-то в Советском Союзе. И жалуются на судьбу, как в былые времена, что мы и делаем во время бесконечных чаепитий. Горюем о скором расставании с Надеждой, а она обнимает мать, чтобы утешить ее. На самом деле, это мать старается подбодрить дочь, позволяя ей ласки по отношению к себе. В пасмурные дни мы льем слезы, выплакивая отчаяние, покорность судьбе, радость, упоение коротким летом. Я пообещала Надежде навестить ее, если пробуду здесь еще несколько месяцев. Родители и братья вряд ли когда-нибудь до нее доедут, она это знает и радуется моему обещанию, как будто я ей родня.
Я пишу – когда не горюю и не обдумываю, куда и как ехать дальше. Теперь я многое умею – день и ночь поддерживать огонь, ездить верхом, ставить самовар, лепить пельмени, жить одним днем, как настоящая невозмутимая сибирячка».28 февраля 2009, 22:46
Известно ли Вам, что в первых числах марта в Москве начнется новый процесс над Михаилом Ходорковским? Газеты пишут, что ему могут добавить еще двадцать лет. Если Ваша подруга Валентина серьезный человек, она наверняка вернулась в Москву. Каспер Краков это сейчас проверяет. Если Валентины в Москве нет, значит, она бросила свою затею. Обдумайте и такую возможность. Ваша подруга много ездила, разговаривала с людьми. Когда путешествуешь и общаешься, в конце концов понимаешь, что в Сибири есть и другие проблемы. Как и повсюду в России. Юлия
1 марта 2009, 09:01
Юлия,
Люди в этом городе болеют. Все кашляют и лежат в постели с температурой. Елена приезжала и почти сразу уехала. Вы тоже могли бы вернуться, Юлия. И больше не уезжать.
Я знаю, что Ваш любимый «искупительный» олигарх вот-вот получит новый срок, и спрашиваю себя, не обвинят ли его в финансовом кризисе, падении рубля, инфляции, безработице и общем упадке. Если ему добавят двадцать лет, во многих исправительных учреждениях удастся сделать косметический ремонт.
Я попал в Петербург на излете зимы, но меняется не только погода – уходит целая страна. Вы вправе сказать, что на меня влияет гнилой климат, что я рассуждаю как типичный чудик-европеец, но признайте, дорогая Юлия, немногие искренне оплакивают смерть Ивана Ильича [28] , тех, кто всхлипывает «по команде», гораздо больше.
Я бы не захотел, чтобы чужаки проливали слезы над моей родиной, Вы наверняка чувствуете то же самое, но поймите: Россия для нас не просто страна, она – часть нашей культуры, а для некоторых – олицетворение дерзновенных надежд и устремлений. Не будь России, мы бы никогда не попробовали дотянуться до облаков у подножия рая и уж точно не стали бы рыть землю в том самом месте, где находится преддверие ада.
Прилагаю к письму страницы с текстом Валентины.
Не болейте,
ЖанОтрывок из письма Валентины
«…мне нужно сказать тебе очень много, но ничего интересного. Точнее – увлекательного. Об этом нельзя писать открытым текстом из того места, где я сейчас нахожусь. Мне пришлось бы ставить вместо слов многоточия, но я этого не хочу, чтобы не уподобляться закаленным «перьям» этой страны. Я слышу тут самые разные рассуждения. Одни утверждают, что в России теперь можно писать все, что угодно, ибо слова не имеют никакого значения. Другие уверяют, что роль слов не изменилась ни на йоту и лучше и сегодня быть очень осторожным. Кому и чему верить, кому можно доверять? Я не знаю ответа ни на один из вопросов. Насколько мне удается роль простушки? Будем надеяться, что удается. Если получается забыть о сомнениях, я чувствую невероятную привязанность к этим местам. Здешние пейзажи не наделены «упорядоченной» красотой наших пейзажей. Это тревожит, но заставляет двигаться вперед. Когда течение жизни увлекает меня за собой, я перестаю писать и по примеру окружающих предаюсь несбыточным мечтам – о лучшей, более справедливой жизни, о новых железных дорогах и поездах, несущихся по рельсам все дальше и дальше вглубь Сибири, где живые все чаще в полный голос оплакивают тех, кого убило прошлое и продолжает губить настоящее. К несчастью, надежды очень быстро исчезают, как солнце, закатившееся за гору на излете дня. В России по-прежнему приходится принимать в расчет молчание. Это молчание давит на людей так же сильно, как задушенная истина».
1 марта 2009, 23:16
Жан, стажер Краков установил полезный контакт с С., другом Вашей подруги Валентины, Вы наверняка его знаете – он пишет книги, а также с некоей Марин, полагаю, с ней Вы тоже знакомы. Результаты его достойной работы очень впечатляют.
Если появятся новости, я сразу же Вас оповещу.
Юлия2 марта, 10:05
Юлия, я больше не надеюсь, что однажды, когда стажер Краков установит контакты со всем миром и перевернет вверх дном всю Сибирь, он объяснит, почему так и не счел нужным поговорить со мной – лучшим и самым давним другом женщины, которую разыскивает по поручению этого самого друга.
Не хочу думать, что Краков тратит время впустую. Не хочу думать, что Краков запутался. Я даже не хочу знать, существует ли Краков. Это имя – Каспер, и эта фамилия – Краков выводят меня из себя, что дурно сказывается на моих нервах. Если бы я не боялся вызвать Ваше неудовольствие, попросил бы больше не упоминать этого субъекта и исключить букву «К» из Ваших фраз, сделать так, чтобы любое слово, начинающееся с этой буквы, не выступало ни в роли подлежащего (не важно, активного или пассивного), ни дополнения, ни чего бы то ни было другого в наших с Вами языках. Я бы приказал Вам, Юлия, похоронить «К» на кладбище ненужных и вредных букв и глубоко вздохнуть от облегчения вместе со мной.
Жан Либерман2 марта 2009, 20:45
Краков не бесполезен. И безвреден. Я сейчас встречаюсь с С., другом Вашей подруги Валентины, и устроил это стажер. Вы должны знать, что Каспер Краков не несет никакой ответственности ни за свое имя, ни за свою фамилию. Его мать сибирячка. Об отце мне ничего не известно.
Я уже опаздываю,
Юлия Ивановна3 марта 2009, 04:55
Дорогая моя Юлия,
Умоляю, не затрудняйтесь! Ради бога, оставайтесь там, где находитесь! Только Кракову могла прийти в голову мысль устроить эту встречу не только бесполезную, но и вредную. Я настаиваю, чтобы Вы никуда не ходили.
С. не сообщит Вам ничего нового, разве что поведает о своей беспокойной жизни, глубинных страхах и фундаментальных трудах, самых фундаментальных в мире со времен первых простейших. Не ходите на устроенное Краковым свидание, дорогая Юлия. Отдохните, примите ванну, насладитесь прекрасным тихим нью-йоркским вечером.
Если же Вы все-таки встретитесь с С., если Вам так уж хочется познакомиться с этим человеком, знайте, что он потом не вспомнит ни Вашего имени, ни цвета Ваших волос. Это я Вам гарантирую. Он не вспомнит этого, даже если уложит Вас в свою постель (учитывая остроту ситуации, я обязан быть с Вами совершенно откровенным). Надеюсь, что сумею сберечь Вам время, вернее, не дать потратить его впустую. Вот и все, на что я надеюсь.
Ваш Жан Либерман4 марта 2009, 23:58
Думаю, Вы просто ревнуете, Жан. Я провела чудесный вечер с С. Мне было интересно, этот друг Вашей подруги Валентины очень хорош собой.
Я так и не поняла, был он когда-то женат на Вашей Валентине или нет. Думаю, был. Думаю, если такой человек зовет замуж, женщины отвечают «да». Наверняка именно это Вам и не нравится. Теперь я иначе представляю себе Вашу подругу. Не знаю, как объяснить. Она кажется мне другой. Более веселой.
Здесь, в США, издают книги С. Они имеют большой успех. Но важнее всего вот что, Жан: С. получил новости из Сибири. После 20 ноября. Это очень интересная информация. Вы говорили, что Валентина не связывалась с Вами после этой даты. А вот С. кое-что известно. Он сказал, что в Европе его ждут еще письма и отрывки романа, которые как раз сейчас пишет Валентина.
С. не понимает, почему Вы, находясь в России, так волнуетесь. Он считает, что о похищении речь не идет, но, если Вам так хочется тратить деньги на бессмысленные поиски, это Ваша проблема. Он очень смеялся.
Думаю, нужно прекратить расследование. Краков закроет дело, а Вы, Жан, вернетесь домой.
Юлия Ивановна5 марта 2009, 08:59
Юлия,
Я настаиваю на продолжении поисков. У меня есть веские причины для беспокойства, более веские, чем у очень успешного С., который никогда не был в России. Прежде всего, Юлия, для меня важно, чтобы Вы не только проявляли сдержанность, но и воспринимали мои страхи всерьез. И поступали бы так, несмотря на то что я не хочу пускаться в описания, которые позволили бы Вам – или не позволили – понять, что за человек С., с которым Вы провели приятный вечер. Возможно, Валентина пишет ему и посылает отрывки своего текста. Возможно также, что Валентина никогда ничего ему не присылала. Возможно даже, что он выдумывает сибирские новости – от первого до последнего слова. Не хочу знать, как Ваш стажер на него вышел.
Я не позволяю себе задумываться, и просто сижу и смотрю в окно. Представьте неожиданную оттепель, вот уже два дня повелевающую этим городом. Долго она не продлится, но я уже замечаю робкие приметы весны, которая скоро наступит. Лед на каналах начинает таять, и на поверхность всплывают отбросы. Черный цвет повсеместно берет верх над белым. Излет зимы всегда наводил на меня тоску, но в Петербурге это время года просто невыносимо. Четкие линии заснеженных улиц и проспектов размываются, а потом и вовсе исчезают. Я люблю воду и лед, но то, что «между» – непереносимо. Меня против воли затягивает воронка распада. Как будто все, что осталось во мне прочного, вот-вот взорвется и я исчезну.
Как я устал, Юлия, как устал.
Жан5 марта 2009, 23:06
Жан, я передала Кракову Ваше пожелание, чтобы он продолжил поиски. Он досконально изучит ситуацию.
Я тоже очень устала от встреч со сбитыми с толку людьми. Все потеряли голову. Раньше они понимали, что нужно делать, куда идти. Раньше они были сильными мужчинами в надежном мире. А теперь не знают, в каком мире живут. Им страшно. Кажется, что планета взорвалась, но все устояло. Устояло, но развалилось на куски.
Что случилось, Жан? Что еще случится?
Юлия6 марта 2009, 12:13
Все предельно ясно, Юлия. Хотите знать, что будет? Я Вам скажу. Нас ждут бесчисленные страдания и несправедливости. Надолго ли, никому не известно. Потом к людям вернется самоуверенность. Это единственное, что можно сказать наверняка. Игрушку переделают, потом снова сломают и скажут, что сломали другие. Мы любим рассматривать детские фотографии, но так и не выходим из детсадовского возраста. Мы проводим всю жизнь в песочнице, Юлия. Завидуем красному ведерку соседа, плюем ему в лицо, вцепляемся в волосы. Говорим, смотрите, каким хорошеньким я был в детстве, но жестокая правда заключается в том, что мы теперь совсем не хороши и все время сидим на мели.
У нас снова пошел снег.
Жан6 марта 2009, 23:52
Жан, возможно, я скоро вернусь в Санкт-Петербург. Не знаю, что со мной происходит. Боюсь все потерять. Все, что создала, мою работу, партнеров. Я чувствую себя трусихой. Я по натуре боец и сражаюсь, даже когда все потеряно. Но сейчас я боюсь испугаться, боюсь, как и все вокруг. Неужели я стала менее русской?
Юлия7 марта 2009, 08:16
В добрый час, Юлия!
Когда прилетает ваш самолет?
Жан7 марта 2009, 12:42 Юлия,
Однажды Валентина написала мне из Сибири: «Боже, какже далеко отсюда до Европы!». Как бы мне хотелось донести до нее, что я чувствую то же самое, хотя нахожусь, в городе, построенном Петром Великим именно как «окно» в Европу.
Ничего не поделаешь, бывают дни, когда нам не хватает воздуха даже у распахнутого настежь окна.
Все это нисколько не умаляет моей решимости. Я жду Вас.
Жан7 марта 2009, 22:14
Юлия,
Сегодня, во второй половине дня, я посетил Смоленское кладбище. Не представляете, как я сожалел, что Вас нет рядом. Я бы поддерживал Вас под руку, чтобы Вы не поскользнулись и не упали на обледеневших, залитых водой аллеях, поправлял бы Ваш розовый шарф, чтобы вы не простудились на ветру (ведь шарф был бы розовым, верно?). Я сказал бы, что все не так уж и печально, и не все решено. Я говорил бы о зиме, а не о том, как много вокруг могил, и отогнал бы ужас, пробирающий нас до костей. На кладбище полно бездомных собак, они могли бы напугать Вас, но я бы сказал, не бойтесь, я разберусь, и с черными птицами тоже, с ужасными черными птицами, которые долбят клювами землю в поисках пропитания. Мы бы заключили, что этим созданиям не до́лжно иметь ни имени, ни крыльев.
Потом мы заметили бы вдалеке пару с малышом в коляске, прогуливающуюся по ледяной покатой дорожке в верхней части кладбища «Остров Декабристов», на другом берегу реки Смоленки. Мы бы долго смотрели в их сторону, не веря своим глазам, боясь, что мужчина может в любой момент упустить коляску с ребенком, даже не вскрикнув, не взмахнув от отчаяния руками.
Правда в том, что я не знаю названий птиц и никогда прежде не видел тех, что расхаживали между могилами на Смоленском кладбище. Правда в том, Юлия, что я хотел бы вспоминать, как мы с Вами брели по заснеженным аллеям. Мне хотелось бы сохранить реальное воспоминание о том, как я поправлял Вам шарф, и о других вещах, которые позволили бы мне лучше понять Вас.
Ложь и правда. Вот в чем все дело. Нам часто приходится слышать, что правда и мужество неразделимы, а лгут только трусы. Не верю ни в то, ни в другое. Думаю, все дело в компоновке, и как тут правде тягаться с ложью? Заметьте, я нахожусь именно в той стране, где человеку легче всего прийти к подобному заключению. Я хочу знать, что случилось с моей подругой Валентиной. И жду, когда Вы вернетесь, Юлия, надеюсь на это, только тогда что-то изменится. Я жду Вас и пытаюсь ни о чем не думать, но мысли возвращаются – на чувственном уровне. Сколько мужчин и женщин было уничтожено в Вашей стране? Они не должны были принять безвременную и такую жестокую смерть. Что бы сталось с этими людьми, живи они в спокойной, предсказуемой стране? Что они могли бы сочинить, нарисовать, спеть? Как их забыть? Как жить, притворяясь, что веришь в эту длинную злосчастную скобку Истории, словно ничто из того, что здесь произошло, не легло печатью на сердце человека-зверя? Многие мыслители искали объяснения, причины, непредвиденные обстоятельства, искали, не нашли и продолжают искать. Желаю им удачи! Я же предпочитаю поэтов. Они умолкают, когда сказать больше нечего, и тогда наступает тишина. Остаются лишь отпечатки ног в грязи – палачей или их жертв, бог весть? Повсюду в мире людская механика ломала судьбы, и никому не было никакого дела до предназначения загубленных душ. Можно попытаться забыть об этом. Только не в России. Таковы чары этой земли, Юлия, и совершенное ею злодеяние. Здесь покоятся наши утопии, самые прекрасные из наших иллюзий, все они были похоронены, одна за другой, и лежат в могилах под слепыми и навсегда оглохшими небесами. Сегодня мы можем прикладывать ухо к стене, кричать, требовать отчета – никто нам не отвечает. Я готов биться об заклад, что, если бы призракам вздумалось подать голос, сегодня в их стонах было бы не больше смысла, чем вчера.
В Санкт-Петербурге идет дождь, а я жду вашего возвращения.
Жан Либерман7 марта 2009, 23:36
Жан, мне хотят поручить одно странное дело, и я не знаю, стоит ли за него браться. Одному Богу известно, о чем в действительности думают люди, потому и доверять им нелегко. В большинстве случаев у них в голове нет ничего, кроме глупостей. Куда интересней, когда ими руководит ненависть.
Я знаю, Вы посоветуете мне вернуться. Стыдно признаваться, но я думаю об этом каждый день.
Если вернусь в Петербург, дадите мне прочесть роман Валентины?
Юлия Ивановна8 марта 2009, 19:47
Юлия,
Сразу видно, что Вы не знаете Валентину и не представляете, как сильно она боялась этой поездки. Даже будь у нее такая возможность, она ни за что не послала бы мне весь роман целиком. Одному Богу известно, сумела ли она закончить работу.
Хотите прочесть роман? Боюсь, тогда нам придется отправиться в Сибирь. А если мы не отыщем там Валентину, Вы поймете, чего на самом деле стоит ваш стажер.Я все-таки сяду в этот поезд, Юлия. Я уже вижу, как состав медленно вползает в здание вокзала. Мужчина – он похож на меня – подбегает к торговцам, покупает цветы. Женщина кричит, что это безумие. На ней розовый шарф, она говорит, что гладиолусы не созданы для Сибири.
Поезд делает много остановок. Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, женщина выходит на перрон, Томск, Красноярск, она покупает копченую рыбу, соленое печенье, кедровые орехи. Поезд трогается, Ангарск, Иркутск, мужчина раскладывает на коленях полотенце, вынимает кости из омуля, бросает в чай несколько засахаренных орехов, Улан-Удэ, Чита.
В вагоне короткое время растягивается, а длинные фразы становятся короче.
За окном медленно проплывает другая Россия.
Еще слишком рано говорить, полюбят ее эта женщина и этот мужчина или она их напугает.
Слишком рано говорить, что они там найдут.
Я приеду завтра вечером в аэропорт.
Я жду Вас, Юлия, я буду ждать Вас в любую погоду, и в дождь, и в снег, и в град.
ЖанПримечания
1
Александр Пичушкин (род. в 1974 г.). Прозвище – Битцевский маньяк. Период активности: 2002–2006 гг. После каждого убийства маньяк делал отметки на шахматной доске. К моменту задержания было заполнено 60 из 64 шахматных клеток (убийца заявил следствию, что на его счету 61 жертва). (Здесь и далее прим, перев.)
2
Андрей Чикатило (1936–1994) – серийный убийца, с 1978 по 1990 гг. совершивший 53 доказанных убийства (сам преступник сознался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств). Расстрелян в 1994 г.
3
Василий Кулик (1956–1989) – серийный убийца и насильник. Работал врачом на станции скорой медицинской помощи. Всего же за два года Кулик убил 13 человек: 6 детей и 7 пенсионерок. Расстрелян в 1989 г.
4
Александр Спесивцев (род. в 1970 г.) – российский серийный убийца, маньяк и каннибал. С февраля по сентябрь 1996 года убивший в Новокузнецке 19 женщин и детей.
5
«Оправданная жестокость» (2005), США, Германия. Режиссер Дэвид Кроненберг.
6
«За́хер» – шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Типичный десерт венской кухни и один из самых популярных тортов в мире.
7
Шварцвальдский вишневый торт (торт «Шварцвальд», торт «Черный лес») – торт со взбитыми сливками и вишней. Появился в Германии в начале 1930-х годов, в настоящее время снискал мировую известность.
8
Современный; соответствующий современным требованиям; новейший (англ.).
9
В чистом виде (лат.).
10
Забайкальский край – субъект Российской Федерации, расположенный в Восточном Забайкалье. Входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр – город Чита. Наибольшая протяженность края с севера на юг отмечается на меридиане 117°08’ в.д. и достигает почти 1000 км, с запада на восток по параллели 50° с.ш. Протяженность составляет немногим более 850 км.
11
Реальная политика (англ.).
12
Игра слов – Шквалом по классификации МО США и НАТО называется одна из советских баллистических ракет 1950-х гг.
13
Класический шотландский односолодовый виски, произведенный одной вискокурней; возможен купаж разных лет выдержки.
14
«Хороший, плохой, злой» – эпический спагетти-вестерн (1966 г.), режиссер – Серджо Леоне. Главные роли Хорошего, Плохого и Злого исполняют Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф, Илай Уоллак.
15
Термином «побочный ущерб» обозначают потери среди мирного населения, понесенные во время военных действий.
16
Апостол Иуда – апостол и великомученик Фаддей – автор последнего Послания в Новом Завете. Святой покровитель безнадежных дел.
17
Что и требовалось доказать.
18
В англоязычных странах туалет обозначается сокращением WC (от англ, water-closet).
19
Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича.
20
Тальерини (домашняя вермишель) с лимоном и шафраном.
21
Лучший, лидер (англ.).
22
Круто (англ.).
23
Парень (англ.).
24
Забавный (англ.).
25
Дурацкий, но в данном случае, в значении «офигительные» (англ.).
26
Раздавливание камнями. Этот вид наказания был нормой иудейского права. Так были казнены легендарные, но безымянные четверо увенчанных святых. Их мученическая смерть подробно представлена на одной из фресок в Санто-Стефано-Ротондо в Риме.
27
Немедленно, сразу, тут же (лат.).
28
Герой повести Л.Н.Толстого.

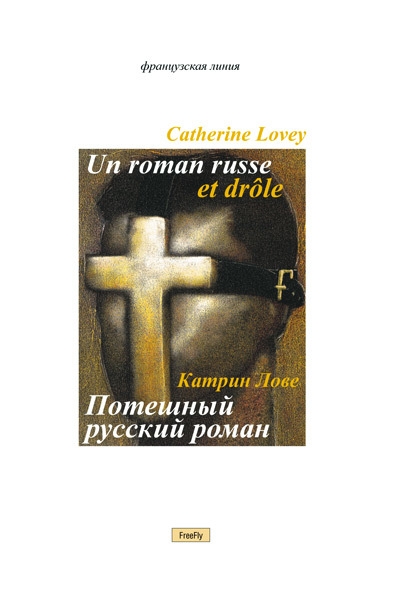
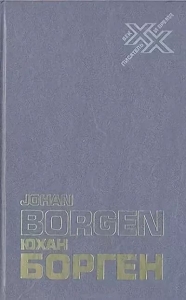








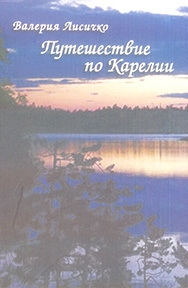


Комментарии к книге «Потешный русский роман», Катрин Лове
Всего 0 комментариев