Эрик Делайе «Переплётчик»
Посвящается А.С.
От автора
Эта книга посвящена переплётному делу. Действие её происходит в Европе семнадцатого столетия, некоторые из упоминаемых персонажей существовали в действительности, но при этом назвать роман «Переплётчик» историческим ни в коей мере нельзя. В нём присутствуют намеренно допущенные анахронизмы, элементы магического реализма, геополитические неточности — и так далее. Тем не менее эта книга имеет право на существование, поскольку описанные события теоретически могли произойти. И я не откажу себе в удовольствии допустить хотя бы крошечную возможность того, что они действительно имели место.
Прежде чем начинать читать эту книгу, следует знать несколько вещей. В частности, названия большинству переплётных стилей были даны в девятнадцатом веке. В описываемую эпоху никакого «стиля Гролье» или «стиля а ля фанфар» не существовало. Такие же термины как, к примеру, «полые альды» или «колёсная басма», широко использовались. Для приведения текста к более или менее понятному и не перегруженному сносками уровню я позволил себе использовать более поздние термины для обозначения различных предметов и стилей, которые в семнадцатом веке уже существовали, но не имели окончательно выверенных названий. Стоит ещё заметить, что слово «антроподермический» в те времена тоже не употреблялось, но мы с вами живём на четыре века позднее и можем позволить себе оперировать нехарактерными для описываемой эпохи терминами.
Часть 1 Шарль Сен-Мартен де Грези
Глава 1 ГОСПОДИН ДЕ ГРЕЗИ И ЕГО НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА
Переплётная мастерская Жана де Грези располагалась в двух шагах от театра Марэ в одном из многочисленных переулков, примыкающих к широкой и людной Старой Храмовой улице. Переулок носил название rue de la Perte, что означало «улица Утраты», и де Грези иногда посмеивался над тем, что живёт в самом мрачном уголке Парижа. Впрочем, он лукавил, потому что театр Марэ, который старик де Грези частенько посещал, специализировался на комедии и веселил честную публику изо дня в день. Ещё полсотни лет тому назад никакого театра не было, только исторический район Марэ, но церковь постепенно теряла свои позиции (в частности, после смерти благочестивого и набожного Людовика XIII), квартал оккупировала знать, а комедианты могли позволить себе возвести в центре города здание, не уступающее по размерам среднему храму. К храмам де Грези относится с определённым скептицизмом. Он был уверен в том, что все они рано или поздно пойдут с молотка, а покупателями будут, несомненно, те самые комедианты. Друзья рекомендовали де Грези не выражать сомнений слишком громко, но после нескольких часов в местном кабачке переплётчик не стеснялся никого и ничего.
Ни светская, ни церковная власть не трогали старого трудягу. Де Грези переплетал книгу за книгой, аккуратно уклонялся от налогов, частенько спорил со старшиной цеха, проводил свои дни равно в работе и праздности, похоронил сначала одну, а затем и вторую жену, и только одна беда была у мастера. Де Грези оставался бездетен. Ему стукнуло уже шестьдесят, и за все прошедшие годы ни одна из жён так и не смогла от него зачать. На мужскую силу де Грези не жаловался, но толку от мужской силы, если она приносит только удовольствие, а наследника нет и в помине. Тем более у старого переплётчика было что передать сыну. Во-первых, он обладал немалым количеством знаний и прекрасно понимал: сделать ребёнка при случае нетрудно и в семьдесят лет, а вот передать ему ремесло при таком раскладе можно и не успеть. Во-вторых, у него была мастерская да ещё склад, где хранилось огромное количество кож, выделанных и не выделанных, а также меха, золото и серебро для тиснения, картон, запас уже заготовленных петель и многие другие запасы, необходимые уважающему себя переплётчику. А в-третьих, у него была книга, в которой он хранил имена и адреса многочисленных клиентов. Пожалуй, ничего ценнее у де Грези не имелось: именно благодаря рекомендациям его слава расползлась по всему Парижу; порой в переплётной мастерской на улице Утраты появлялись даже посланники королевского двора. Де Грези гордился тем, что переплетал Библию для самой Анны Австрийской — правда, он не мог быть уверен, что королева пользовалась именно этим экземпляром, Библий у неё было немало. Книги работы де Грези имелись в собраниях Мазарини[1], Ля Вьёвиля[2], Летелье[3], Гуго де Лионна[4] и прочих государственных деятелей Франции; более того, многие заказы переплётчика уходили за границу — в Англию, Испанию, Венецию. В общем, де Грези процветал, и это процветание следовало кому-то оставить.
Из родственников у де Грези имелся разве что брат Альбер. Будучи на шесть лет младше переплётчика, Альбер вёл беспорядочный образ жизни и к своим пятидесяти четырём годам снискал славу жалкого пьяницы, если, конечно, это можно назвать славой. Некогда Альбер Грези содержал трактир в районе улицы Муфтар, но впоследствии начал спиваться, продал своё заведение и в последние годы существовал на подачки от более успешного брата. Конечно, оставлять переплётное дело такому наследнику Жан категорически не хотел.
Кстати, возникает невольный вопрос, почему перед фамилией переплётчика появилась внезапно приставка «де», хотя к дворянскому сословию семейство Грези никогда не имело ни малейшего отношения. Ответ прост: переплётчик самовольно приписал её, чтобы вывеска над его мастерской лучше смотрелась. Он напропалую врал о том, что его деду было пожаловано дворянство (причём постоянно путался, за какие именно заслуги) и земли, но отец был на редкость беспутным малым и проиграл в карты всё, кроме собственно титула. В зависимости от ситуации и степени опьянения де Грези мог присвоить себе графство, баронство или даже герцогство; впрочем, большинство его друзей и собутыльников прекрасно знали обстоятельства появления упомянутого «де» и просто усмехались в усы, когда слышали байки переплётчика. Цеховые смотрели на чудачества коллеги со снисхождением: когда требовалось продемонстрировать цеховое мастерство и преподнести в дар, к примеру, королю, красивый том, задание выполнял де Грези, и никто иной, поскольку лучшего переплётчика в Париже было не сыскать.
Но шло время, и с каждым днём де Грези всё больше мрачнел, а разговоры его сводились к срочной необходимости обзавестись наследником. Как-то раз старый переплётчик заливал своё горе в кабачке «Рваные удила» на улице Святого Петра. В мастерской его ждали многочисленные заказы, но он решил устроить себе внеочередной выходной и серьёзно подумать над вопросом о поисках женщины, способной от него зачать. Случилось так, что именно в этот день судьба проявила к переплётчику некоторую благосклонность.
За соседним столом сидели и беседовали о жизни в городе трое молодых мужчин. Один из них явно прибыл откуда-то из провинции, потому что говорил с заметным сельским акцентом, остальные двое были парижанами. Так как де Грези сидел в непосредственной близости от компании, он мог слышать практически каждое слово. Один из молодых парижан рассказывал о том, как удачно ему удалось продать на днях груз тканей, прибывший по Сене из порта Брест. Разговор перешёл на тему морских укреплений и кардинала Ришелье, который, собственно, и возвёл Брест в ранг крупного порта (до того это был крошечный городок, не имевший никакого стратегического значения). Потом беседа перетекла в русло внешней политики Франции, потом молодые люди стали ругать иммигрантов-мавров, приезжающих в страну через Испанию, потом перешли к демографическим проблемам. Особенно их беспокоило постепенное загрязнение французской крови, крови короля Карла Великого, различными примесями. Наконец, разговор о демографии логическим образом пришёл к хвастовству собственными отпрысками.
В какой-то момент де Грези отвлёкся от беседы друзей, но вдруг в разговоре промелькнула фраза о том, что чья-то жена никак не может зачать. Переплётчик обратился в слух и через некоторое время понял, что один из парижан бездетен, несмотря на ежедневные попытки сделать ребёнка. И вдруг провинциал хлопнул ладонью по столу и сказал: не мучайся, живи как живётся, а ребёнка усынови. Друзья тут же начали обсуждать, насколько усыновление опасно, нет ли риска взять в семью мальчика с дурными наклонностями. Но де Грези уже не слышал этого, потому что с головой окунулся в собственные мысли. Как же всё оказалось просто! Он никогда не думал о такой возможности, как усыновление. И в самом деле, переплётчик не стремился обзавестись ребёнком, в котором обязательно текла бы кровь семейства Грези; ему нужен был наследник, продолжатель дела, и в такой ситуации ребёнок из приюта мог стать отличным выходом из неприятного положения. Более того, можно было усыновить сразу двухлетнего или даже трёхлетнего мальчика, скостив тем самым срок ожидания того момента, когда сына можно будет обучать переплётному делу.
Де Грези не мог откладывать усыновление ни на секунду. Он бросил на стол монету, заведомо более крупную, нежели требовалась для оплаты выпивки, и выбежал из кабачка. Неожиданно он понял, что не представляет даже, где в Париже находятся детские приюты, потому что никогда не сталкивался с необходимостью их посещения и не пожертвовал на их развитие ни единого су. Тем не менее логики господину де Грези было не занимать, и он справедливо предположил, что уходом за бездомными и брошенными детьми должны заниматься монахи или монахини.
В двух шагах от дома и мастерской де Грези в крошечном косом переулке притулился женский монастырь Святой Катерины. Конечно, монастырю было не место в густонаселённых районах города, но разраставшийся с течением веков Париж попросту поглотил бывшие монастырские строения, часть превратил в жилые дома, лавки и питейные заведения, а оставшиеся были спешно обнесены каменной стеной, чтобы проходящие мимо лоботрясы не глазели на монашек. При монастыре была одна-единственная церковка, а внутри, судя по всему, умещалось едва ли два-три строения да крошечный садик (точно судить де Грези не мог, так как вход в женский монастырь был ему, естественно, заказан). Именно туда и направился наш герой в надежде если не найти сразу же подходящего ребёнка, то хотя бы узнать, где это можно сделать.
Деревянные ворота были закрыты. Де Грези постучал в смотровое окошечко и тут же удостоился сурового взгляда из монастырского нутра. Глаза, которые буравили его через открывшееся отверстие, в первую очередь призывали тут же покинуть улицу и более никогда не тревожить Господних невест. «Добрый день, — как можно более вежливо произнёс де Грези, — у меня есть небольшое дело к настоятельнице». «Какое дело?» — Голос был несомненно женским, но отличался при этом редкой грубостью. «Э-э-э, — помялся де Грези, — насколько я знаю, добрые монахини нередко заботятся о детях, потерявших родителей, я хотел бы усыновить ребёнка». Но договорить переплётчику не дали. Тот же резкий и неприятный голос отрезал: «Приют мадам Корни дальше по улице».
И окошко захлопнулось, поскольку аудиенция была окончена. С одной стороны, де Грези был несколько разочарован служительницами Господа и их отношением к мирянам, но с другой — он всё-таки получил нужную информацию, причём довольно быстро. Кратко возблагодарив провидение за удачу, де Грези двинулся по улице дальше. Так как монастырь стоял в самом её начале, сомнений, связанных с направлением движения, не возникало.
Миновав два дома, переплётчик увидел искомый приют. Конечно, никакой вывески на воротцах не было, но открытая настежь дверь, ведущая во внутренний дворик, подчёркивала публичность заведения, а детские крики, раздающиеся из-за стены, однозначно демонстрировали его характер. Де Грези зашёл внутрь.
С момента основания Венсаном де Полем[5] первого парижского детского приюта подобных заведений в городе расплодилось множество. Если де Поль видел в своей работе благодеяние, то большинство других держателей приютов были влекомы в первую очередь жаждой наживы: ребёнка, достигшего определённого возраста, можно было за приличную сумму продать в рабство. Именно так, вы не ослышались. Несмотря на то что официально рабов не существовало, мастеровые, трудящиеся, например, на кожевенном производстве или в порту, чаще всего находились в кабальном положении. Настоятель приюта приравнивался по статусу к отцу ребёнка; он мог отдать своё «чадо» в услужение сроком, скажем, на десять лет, причём мнение самого отдаваемого не играло никакой роли. Десятилетний кабальный контракт, заключённый через голову работника, приносил доход приюту (деньги), нанимателю (бесплатную работу за еду и кров: обычно зарплата в таких контрактах не прописывалась), и лишь работник оставался ни с чем. Более того, до конца контракта последний чаще всего не доживал. Но вернёмся к нашим героям.
Дворик представлял собой почти правильный квадрат, окантованный крытой галереей. Повсюду носились и играли дети. Де Грези удивило, что наружная дверь открыта. С одной стороны, дети могли сбежать, а с другой — мало ли какие извращенцы бродят по парижским улицам. Впрочем, это было не его дело, и он направился к единственному взрослому человеку, имевшемуся в поле зрения. Это была дородная женщина лет сорока пяти; на руках она держала маленькую голенькую девочку, а к её широкому подолу прицепилось ещё несколько сорванцов.
«Мадам!» — обратился де Грези к воспитательнице, и та повернулась к нему. Нельзя сказать, что её лицо представляло собой образец привлекательности. Особенно противным де Грези показалось отсутствие левого глаза, притом глазница не была прикрыта никакой тряпкой или повязкой. «Да, месье?» — Голос у женщины оказался густым, низким, вполне соответствующим её стати. «Добрый день, мадам, — продолжил де Грези, — я здесь по вопросу об усыновлении ребёнка…» — «А-а, — кивнула женщина, — это вам к мадам Корни. Она сейчас у себя, вон дверь».
Она кивнула головой, показывая на дверь в одном из углов дворика, под крышей галереи. Поблагодарив женщину, де Грези отправился к владелице заведения. Он постучал, хотя не был уверен в том, что через тяжёлую дубовую дверь проникла хотя бы толика его деликатности, после чего потянул на себя массивную металлическую ручку. Дверь открылась. Непосредственно за ней располагался кабинет мадам Корни.
Она сидела за столом и заполняла какие-то бумаги. Это была пожилая дама с хитрецой в глазах и отличной деловой хваткой. Оценив гостя, она тут же догадалась о цели его визита и сразу взяла быка за рога. «Добрый день, месье, — беззубо улыбнулась она, — я так понимаю, что вы хотите усыновить чудесного мальчугана!»
Де Грези был поражён проницательностью дамы. Он не подумал о том, что подобных ему неудачников сюда приходит великое множество и опытная владелица приюта способна определять их по походке и осанке, не говоря уже о выражении лица. Переплётчик ошеломлённо кивнул, не сообразив даже толком поздороваться. Но мадам Корни уже засыпала его целой горой вопросов. Её интересовало, какого возраста должен быть мальчик (мысли о девочке она не допускала), какого роста, с каким цветом волос и так далее. Казалось, в её приюте можно собрать требуемого ребёнка из определённого набора частей тел, с такой скрупулёзностью она подходила к своему делу.
Де Грези изъявил желание усыновить мальчика не старше трёх лет, но и не младше полутора, чтобы самостоятельно умел ходить в туалет и был послушным. Внешние данные переплётчика не очень интересовали, разве что он отказался бы от ребёнка с какими-либо физическими недостатками. Мадам Корни всплеснула руками и сказала, что такие дети, конечно же, являются самым большим дефицитом, поскольку именно в этом возрасте лучше всего усыновлять мальчиков: приёмные родители хотят, чтобы ребёнок умел проситься в туалет, но при этом не помнил впоследствии жизнь в приюте. Но именно сейчас, добавила мадам Корни, в наличии имеются целых два подходящих мальчика, и она тотчас приведёт их.
Когда дама вышла, де Грези принялся обдумывать своё спонтанное решение. Сколько он ещё проживёт? Успеет ли воспитать трёхлетнего малыша, обучить его всем тонкостям своей профессии? Здоровье у де Грези было неплохое, но шестьдесят лет — не шутка, особенно в то время, когда врачи только и умеют что прописывать пиявок. Впрочем, отказываться от мысли о наследнике переплётчик не собирался и через несколько минут утвердился в мысли о правильности своего решения. Окончательно его сомнения были развеяны мадам Корни, которая появилась в комнате, ведя с собой двух очаровательных малышей — блондина и брюнета.
Сначала де Грези показалось, что выбор будет непростой задачей. Оба мальчика были совершенны, обоим стукнуло недавно по два года, оба смотрели на него чистыми глазёнками и будто просили стать их папой. Но потом де Грези обратил внимание на руки черноволосого мальчика. Руки — главное в работе переплётчика. Степень и качество обработки кожи, её мягкость, пригодность для использования в переплетении той или иной книги — всё это определяется исключительно на ощупь. Безусловно, зрение и обоняние тоже играют немалую роль, и даже без слуха и вкусовых ощущений хороший переплётчик не обходится, но осязание важнее всего. Иной раз качественно переплетённая книга поступает в собрание какого-либо богатея, а через несколько лет переплёт идёт волдырями, форзацы вздыбливаются, обложка чернеет из-за неправильного выбора материала и неграмотной его обработки. Только человеческие руки способны превратить грубую телячью кожу в произведение искусства. Огромный потенциал увидел де Грези в руках мальчика. Спроси его в этот момент, что именно он заметил, он не смог бы дать внятного ответа. Бледные, худенькие ручонки ничем не напоминали натруженные руки самого де Грези, испещрённые рытвинами, шрамами, приобретшие странный цвет благодаря сочетанию впитавшихся в кожу красителей. Но переплётчик показал пальцем на черноволосого ребёнка и сказал: «Этот».
«Отличный выбор! — воскликнула мадам Корни, точно речь шла о кочане капусты. — Его зовут Шарль, он очень старательный и умный. Сам за собой убирает, хотя ему всего два года и два месяца. И очень много разговаривает. Скажи что-нибудь, Шарль!»
Но Шарль разговаривать при незнакомом и страшном дяде отказался, поэтому сделка была совершена без его согласия. Второго мальчика тут же увела толстая одноглазая женщина, а мадам Корни выставила господину де Грези счёт за двухлетнее содержание ребёнка, точно это он сдал его некогда в приют, а теперь просто вернулся забрать. Де Грези не был стеснён в средствах, торговаться не любил и потому без споров вручил содержательнице детского дома требуемые деньги. Из личных вещей мальчика ему передали комплект чистой одежды, шапочку, запасные башмаки и маленькую деревянную ладанку, которая была надета на шею некогда подброшенного в приют младенца.
В приюте Шарлю была дана фамилия Сен-Мартен, потому что всех своих воспитанников мадам Корни в обязательном порядке крестила, причём в разных церквях, и фамилии им давала по названию той церкви, где ребёнок получал крещение. Переплётчик решил не лишать мальчика фамилии, которую тот носил два года кряду, и попросту добавил свою в конце. Таким образом, Шарль Сен-Мартен де Грези обрёл отца, новый дом и профессию, в историю которой ему суждено будет вписать своё имя кровавыми буквами.
Глава 2 ДЕТСТВО ШАРЛЯ
Первой проблемой, с которой столкнулся де Грези, оказалась неспособность мальчика прошагать весь путь до мастерской самостоятельно. Уже через квартал переплётчик понял, что с такой черепашьей скоростью они не успеют до темноты, и взял ребёнка на руки. Двухлетний карапуз был достаточно тяжёл, особенно для старика, и, добравшись до двери собственного дома, де Грези порядком запыхался. Уже в прихожей ему пришла в голову мысль о том, что ребёнка нужно чем-то кормить и кто-то должен постоянно за ним присматривать. Слава богу, в материнском молоке Шарль уже не нуждался, но де Грези плохо представлял себе, что вообще кушают маленькие дети. Он раздвинул губы мальчика и убедился, что с зубами у того всё более или менее в порядке — бывают и менее зубастые дети. Это означало, что с яблоком малыш вполне справится. Вручив мальчику очищенное и разрезанное перочинным ножичком яблоко, де Грези задумался о няне, на плечи которой следовало переложить все проблемы кормления, одевания и выгуливания ребёнка.
Пока Шарль медленно кушал лакомство, де Грези взял его на руки и отправился в одну из задних комнат дома, где высунулся из окна во внутренний двор. На его счастье, мадам Бонаме как раз вешала свежевыстиранное бельё, и де Грези окликнул её. Мадам Бонаме была хозяюшкой в лучшем смысле этого слова. Её трое детей давно выросли (не считая ещё троих, скончавшихся в младенчестве), а муж был обувных дел мастером и тачал сапоги не худшие, чем сам де Грези делал переплёты. Мадам Бонаме знала всё и вся на десять кварталов в округе, и де Грези был уверен, что она посоветует ему отличную нянечку.
Так и случилось. Когда де Грези кратко описал мадам своё приключение и продемонстрировал ребёнка, та всплеснула руками, умилилась и сказала, что знает прелестную девушку, которая очень любит ухаживать за детьми и катастрофически нуждается в деньгах, поскольку у неё больная мать, две младших сестры и беспутный старший брат, каковой если и содержит семью, то крайне плохо. Уже вечером, уверила мадам Бонаме, упомянутая мадемуазель будет у дверей дома переплётчика. Де Грези сердечно поблагодарил мадам Бонаме и пообещал ей в подарок сделать великолепный переплёт на любую книгу, какую она пожелает оформить. Конечно, обещание это таило в себе грамотный расчёт: де Грези прекрасно знал, что ни мадам Бонаме, ни её муж в своей жизни не прочли не единой книги и вообще никакой бумаги у себя дома не хранили, за исключением той, на которой сапожник вёл свои финансовые дела. Мадам Бонаме поблагодарила переплётчика в ответ, после чего де Грези отправился в спальню.
Он подумал, что сегодняшнюю ночь ребёнок проведёт в комнате, которую переплётчик собирался предоставить няне, а уж завтра он купит ему и колыбель, и игрушки, и всё остальное, в чём нуждается маленький человечек. Наиболее важными аспектами воспитания малыша де Грези считал ремесленный труд и книги. Но если трудиться мальчику было ещё рановато, то показывать ему картинки в раскрашенных атласах де Грези мог безо всяких проблем. Книг у него дома было достаточно, поскольку он имел договоры с целым рядом типографий и частенько прибирал к рукам по одной-две книги из очередного тиража. В коллекции де Грези были как издания для взрослых (в том числе содержащие иллюстрации сомнительной пристойности), так и детские книги с расписанными вручную красочными гравюрами. Книги, напечатанные на обычной бумаге, на пергаменте, на велени[6], на рисовой китайской бумаге, всё хранилось в сухости и сохранности, и, говоря откровенно, де Грези мог похвастаться библиотекой, не уступающей королевской. Львиная доля книг была переплетена руками их владельца: на собственных томах де Грези отрабатывал новые технологии, ставил опыты с различными прошивками и клеями, проверял стойкость переплётов, их способность защитить книгу от воды или огня.
Конечно, маленький Шарль ещё ничего не понимал, но о лучшем отце он не мог и мечтать. Профессия, которой обладал Жан де Грези, была востребована, хорошо оплачивалась и несла людям свет знаний. Эту профессию должен был получить Шарль — и он получил её, и освоил, и даже превзошёл своего отца. Но не будем забегать вперёд.
Чуть позже, когда уже смеркалось, кто-то неуверенно постучался в двери дома господина де Грези. К тому моменту переплётчик уже проклял всё на свете, потому что ребёнок требовал постоянного внимания. Стоило оставить его без присмотра хотя бы на несколько минут, как он хватал что-либо, тянул в рот, ронял. Любознательность юного Шарля превосходила самые смелые ожидания его приёмного отца; казалось, этот ребёнок рождён, чтобы впитывать знания, подобно губке. Проблемой было то, что давать ему знания непрерывно, при этом чередуя их с едой и походами в туалет, де Грези никак не мог. Поэтому приход нянечки он воспринял как манну небесную.
Девушка, стоявшая перед входом в дом переплётчика, была столь красива, что у де Грези перехватило дыхание. Он тут же пожалел о том, что ему не тридцать лет и он не может сразу, не откладывая, поцеловать эти сочные алые губы. С другой стороны, тридцать лет назад он был заметно беднее, нежели сейчас. Деньги, подумал де Грези, вполне могут компенсировать то, что отобрала у него природа.
Все эти мысли промелькнули в голове переплётчика в мгновение ока. Он даже не дал девушке времени на представления, тут же открыв дверь настежь и отступив внутрь дома, приглашая её войти. Уже в помещении она изящно поклонилась и назвалась Мари, после чего спросила, где ребёнок. Де Грези думал, что девушке придётся что-либо объяснять, но мадам Бонаме, похоже, всё уже объяснила, и переплётчику оставалось только пройти в глубь квартиры, показывая девушке дорогу.
Шарль принял нового человека с интересом. Он ощупал нос и подбородок Мари, улыбнулся и ущипнул её за плечо. «Есть ли дома какая-либо еда?» — спросила Мари. «Только взрослая», — ответил де Грези. «Это ничего, — сказала Мари, — покажите мне». Де Грези отвёл её на кухню и сказал: «Всё, что найдёте, можете использовать; есть фрукты, в погребе (вход вот здесь) — соленья, сыры, мясо, вино, вода — вот в этом бочонке, утренняя, у нас тут водонос регулярно ходит». «Ел ли он сегодня?» «Да, ел, два яблока, грушу, и варёную репу, я сварил ему, как умел, мягкая получилась, и ещё он пил молоко». «Хорошо, — кивнула девушка, — вы всё правильно сделали, а есть ли место, где он будет спать?» «Пока что я не купил колыбель, мальчик появился у меня только сегодня, — ответил де Грези, — но вы сможете одну ночь провести с ним в одной кровати, я приготовил вам комнату». Девушка кивнула: «Конечно, смогу».
Де Грези нравилось в Мари решительно всё. Её лёгкость в общении, покладистость, тихий, но сильный голос. И ребёнок нашёл в ней не няню, а скорее мать. До того мальчик был молчалив и серьёзен, а Мари сразу же заставила его радостно улыбаться. Де Грези пришло в голову, что с самого начала Шарль ни разу не заплакал. С одной стороны, это было странно, с другой — очень приятно. Плач маленьких детей всегда раздражал переплётчика, и на улице он старался отойти подальше от мамаши, не способной удовлетворить потребности собственного ребёнка. Забирая мальчика из приюта, де Грези был целиком и полностью готов ко всем неприятностям, которые могло принести присутствие малыша в доме и мастерской. Но пока что оно приносило только радость.
Он предоставил Мари огромную стопку свежих простынь и выдал ножницы, разрешив выкроить пелёнки для Шарля, если таковые понадобятся. Но, как и говорила мадам Корни, мальчик умел ходить в туалет и при необходимости вполне разборчиво просил отвести его туда. Единственное, чего они не обговорили, это стоимость услуг Мари. Девушка как-то стеснялась поднять эту тему, а переплётчик даже не задумывался о том, что Мари нужно платить. Лишь когда прелестная няня удалилась с мальчиком в комнату, его осенило, и он бросился за ней вслед.
«Милая Мари, — произнёс де Грези, без стука входя в комнату, — мы же совсем не обратили внимания на вопрос вашей зарплаты». Мари стушевалась, поскольку подумывала о том, как бы напомнить работодателю о необходимости платить. Она была рада, что переплётчик сам поднял этот вопрос. Сколько вы хотите, спросил де Грези, и Мари стушевалась ещё больше, потому что она толком не знала, сколько хочет, всякая сумма казалась ей то слишком большой, то чрезмерно маленькой. Заметив её замешательство, де Грези сказал: «Ничего, ничего, я предлагаю вам такой вариант. Я покажу вам, где хранится мой запас ливров, и при необходимости вы будете брать оттуда столько, сколько понадобится, я доверяю вашей честности, потому что вас рекомендовала мадам Бонаме, а она плохого не посоветует».
Мари была поражена щедростью старика и тут же прильнула к его руке. Де Грези стало неудобно, он вырвал руку со словами «что вы, что вы» и вышел прочь из комнаты. Маленький Шарль хладнокровно наблюдал за этой сценой.
С этого момента началось воспитание Шарля Сен-Мартена де Грези и приобщение его к переплётному делу.
Ни разу господин де Грези не разочаровался в Мари, ни разу не усомнился в её способностях по уходу за детьми. Более того, Мари воспринимала маленького Шарля как собственного сына и с каждым днём отдавала ему всё больше тепла, нежности и любви. С финансовой точки зрения (в частности, по мнению самого де Грези) девушка довольствовалась крайне малым, еженедельно забирая из копилки несколько монет, которые переплётчику казались сущей мелочью. О том, что ребёнку необходимо приобрести ту или иную вещицу, Мари оповещала старика заблаговременно и показывала, сколько денег она взяла для совершения покупки. Таким образом, в течение следующих нескольких недель Шарль был обеспечен всем необходимым. У него появилась прекрасная колыбель ручной работы, купленная у знакомого плотника Мари, огромный ворох детской одежды, штанишек, кофточек, слюнявчиков, варежек и так далее, а также множество игрушек, сделанных всё тем же плотником.
С последним, к слову, де Грези познакомился лично, так как хотел знать в лицо человека, снабжающего его ребёнка множеством столь необходимых вещей. Плотника звали Рене Фурни, ему было на вид около тридцати лет, он носил короткую рыжую бородку по испанской моде и вкусно пах свежим деревом. В его мастерской трудились два подмастерья — один вытачивал грубые болванки, должные впоследствии превратиться в произведения искусства, а второй занимался окрасочными и лакировочными работами. Фурни открыл господину де Грези свой маленький секрет: он писал стихи и порой аккуратно выжигал их изящным шрифтом на невидимых, внутренних поверхностях диванов и шкафов. Стихи были не слишком совершенными технически, но светлыми и изящными, и потому владельцу подобная мебель обязана была приносить некоторую удачу.
Фурни удивительным образом сочетал в себе профессии плотника, резчика по дереву, скульптора. Он мог сделать простой стол из ровных обструганных досок или выточить необыкновенной красоты статуэтку, способную вписаться даже в самый роскошный интерьер. Несколько раз Фурни делал заказные гальюнные фигуры для кораблей; одна из них, в виде Астарты, так и осталась в его мастерской, так как за время работы капитан-заказчик успел благополучно утопить свой корабль вместе с командой и, собственно, гальюном. Астарта нависала над входом в комнату Фурни изнутри, пугая посетителей своей массивностью. «Это мой дамоклов меч», — шутил плотник.
В общем, мастер Фурни господину де Грези понравился, и впоследствии они сотрудничали не только на ниве изготовления игрушек для Шарля. В частности, Фурни делал для де Грези деревянные футляры для книг, предназначавшихся особо важным заказчикам. Но вернёмся к нашему главному герою, мальчику по имени Шарль.
Так как основной целью, преследуемой Жаном де Грези, было воспитание ученика, старик решил не откладывать приобщение ребёнка к переплётному делу в долгий ящик. Он понимал, что для качественной работы настоящий переплётчик должен в первую очередь хорошо понимать, что представляет собой его дело и что оно несёт миру. Поэтому каждый вечер старик в обязательном порядке приходил в комнату Мари и Шарля с книгой и читал сказки. Он старался всегда приходить с новой, не вчерашней книгой и садиться как можно ближе к мальчику, чтобы тот мог рассмотреть тонкую работу отца, медные заклёпки, тиснёные на коже узоры и так далее. В маленькой голове интересные сказки, удивительные истории должны были плотно переплестись с внешней оболочкой книги. Без красивого и качественного переплёта нет и внутреннего содержания — такой посыл несли ежевечерние чтения Жана де Грези.
Несколько раз Мари подменяла старика, читая мальчику, — всё-таки де Грези не мог отказаться от своей привычки посещать местные кабаки и выпивать понемногу с друзьями. Те, прослышав, что старик обзавёлся сыном, сначала вовсю его поздравляли (после одного подобного поздравления де Грези пришлось везти домой и укладывать спать, так как самостоятельно он передвигаться не мог), а затем начали требовать, чтобы он продемонстрировал мальчика. Но Жан не был безумцем и понимал, что двухлетнего Шарля вести в кабак, пожалуй что, рановато. Лет через пять-шесть, обещал он собутыльникам, если живы будем.
Время текло, заказов у де Грези хватало с излишком. Шарль взрослел — и к четырём годам научился читать сам — по слогам, медленно, но уже без помощи отца или нянюшки. Особой любовью мальчика пользовался сборник народных французских сказок, составленный несколькими фольклористами специально для сына одного парижского барона; барон заказал у де Грези красочный переплёт для книги, а старик, как обычно, договорился с типографией, чтобы та изготовила для него второй экземпляр. Подобного собрания не было больше ни у кого, и в этом смысле лучшую книгу для воспитания мальчика найти было невозможно.
Помимо сказок, Шарль достаточно быстро перешёл к французским и английским рыцарским романам, коих в коллекции де Грези было превеликое множество. Цикл о короле Артуре и рыцарях Круглого стола был прочитан мальчиком такое количество раз, что от него почти ничего, кроме переплёта, и не осталось: страницы истирались и рвались от многократного перелистывания. Впрочем, де Грези, хоть и приучал сына к бережливости и аккуратности по отношению к книгам, не слишком ворчал. Его безмерно радовала страсть мальчика к чтению — это давало надежду на то, что из него выйдет достойный ученик. Потому что плох тот переплётчик, который не любит содержимое своих работ.
Выучившись читать, Шарль впервые в своей короткой жизни задумался о смысле отцовского труда. Он трогал массивные переплёты с бронзовыми петлями и начинал понимать их назначение. Переплёт не только защищал хрупкие страницы от внешних воздействий — он ещё и рассказывал не меньше, чем сама книга. По переплёту, по корешку, по обложке Шарль научился различать жанры литературных произведений, языки, на которых были написаны те или иные книги, даже ценность внутреннего содержания в значительной части зависела от качества переплёта.
Надо сказать, что Жан де Грези был весьма расчётлив и разумен, и книги, заведомо не подходящие для ребёнка, аккуратно убрал на самые верхние полки и антресоли, чтобы малыш не мог до них добраться. Самым сложным делом была фильтрация рыцарских романов: некоторые из них представляли собой приключения героических вояк в доспехах, и такие произведения очень нравились Шарлю. Но иные отличались редкой непристойностью, эротические услады средневековых господ порой значительно перевешивали их ратные подвиги, а писались многие романы по заказу одиноких и обеспеченных дамочек, и мальчику читать их не стоило. Зато де Грези подсовывал сыну самые простые и более или менее интересные (то есть не обременённые таблицами и рецептами) книги по переплётному делу, а также медицинские справочники. Последние пестрели в основном великолепно выполненными гравюрами с изображениями животных, и де Грези пытался объяснить любознательному мальчику строение телячьей кожи, чтобы от анатомической части перейти к методам подготовительной обработки, дубления, высушивания основного материала для книжных переплётов.
В коллекции де Грези встречались великолепно переплетённые книги по биологии и человеческой анатомии — и De humani corporis fabrica libri septem Андрея Везалия[7], и De humani corporis fabrica libri X tabulis aere icisis exornati Адриана Спигелия[8], и Opera chirurgica Иеронима Фабриция[9], и многие другие, но старик прекрасно понимал, что к подобным наукам лучше приступать не ранее чем лет через пять-шесть, поскольку для переплётного дела они не столь и важны (хотя книги, переплетённые в человеческую кожу, в коллекции де Грези имелись), а напугать ребёнка могут порядком.
Помимо упомянутых, на нижних полках в прямой доступности для мальчика стояло множество трудов по различным гуманитарным и техническим дисциплинам. Большинство из них, несомненно, были слишком сложны для четырёхлетнего и даже пятилетнего Шарля, но де Грези руководствовался очень простым принципом: когда сын созреет, он сам возьмёт с полки ту или иную книгу. Тут были De divina facilitate astrorum in larvatam astrologiam Оффузия[10], Prosodia Хендрика де Смета[11], работы Яна Дантышека[12], Stirpium historiae pemptades sex Ремберта Додунса[13], De Naturae Luce Physica Герхарда Дорна[14] и многие другие книги, порой даже запрещённые.
Конечно, у мальчика были и другие развлечения, помимо книг. Игрушки, которые иногда делал по просьбе Жана плотник Фурни, отличались изобретательностью и остроумием: здесь были повозки, состоящие из множества деталей, сборные и разборные, деревянные лошадки, фигурки людей, кукольные домики и даже странные летательные машины, построенные по чертежам, найденным в книжных развалах де Грези. Правда, в воздух подняться они не могли, но маленький Шарль получил море удовольствия, представляя, как они взлетают и парят среди облаков; он поднимал их на вытянутой руке и издавал фырчащие звуки, имитируя перехлёст парусов под действием ветра.
Фрондистские волнения прошли для семьи де Грези незаметно. Месье Жан был далёк от политических дел, и имя принца Конде[15], не сходившее с языков, для него было не более чем пустым звуком. На парижских улицах стреляли, то Конде, то Мазарини по очереди захватывали власть в столице, малолетнего Людовика возили с одного конца Франции на другой, точно куклу, а де Грези продолжал изготавливать дорогостоящие переплёты для обеспеченных заказчиков и заботиться о сыне (которого взял на воспитание, к слову, в самый разгар фрондистских волнений).
В начале 1655 года, когда Шарлю исполнилось семь лет, Мари и плотник Фурни поженились. Ей было двадцать три, ему — тридцать четыре, они любили друг друга и с точки зрения окружающих являли собой прелестную пару. Мари продолжала работать у де Грези, хотя, судя по округлявшемуся животику, сама в скором времени обещала обзавестись карапузом. Фурни частенько бывал у старого переплётчика; они обсуждали различные деловые вопросы и технические детали, возникавшие на стыке их мастерства. Де Грези нередко использовал в своих переплётах деревянные детали, плотник же постоянно работал с кожей при изготовлении мебели. Порой они так увлекались беседой, что даже Мари не могла вытянуть их из мастерской, зазывая на ужин.
Беременность Мари не смущала Жана де Грези. Шарль к этому времени мог прекрасно позаботиться о себе сам, да и отец уделял ему всё больше и больше времени, посвящая в таинства переплётной науки. Тем не менее эта идиллия вскоре закончилась достаточно неприятным образом: на позднем сроке у Мари случился выкидыш. Она шла с рынка, неся в корзинке свежие овощи и зелень, когда мимо неё пронеслась карета какого-то богатея, задев её выступающим деревянным украшением. Возница даже не притормозил, а Мари упала и потеряла сознание. Добрые люди отнесли её в ближайший кабак, уложили в задней комнате, умыли, вызвали доктора, который наложил шину на сломанную руку девушки, но спасти ребёнка уже не смог. Крошечное тельце было запечатано в ящик и похоронено на заднем дворе дома Фурни, а Мари с того дня много плакала, вся её жизнерадостность испарилась в один миг. Трагедия усугублялась тем, что за два месяца до трагического события скончалась от воспаления лёгких мать Мари, а её старший брат погиб в кабацкой драке ещё за полгода до этого. Сёстры Мари были живы и здоровы: одна уже вышла замуж, вторая работала белошвейкой.
И Рене Фурни, и Жан де Грези, и даже Шарль как могли поддерживали женщину. Рука её зажила, боли пониже живота прекратились, и только одно трагическое последствие имел описанный инцидент. Как ни старались супруги Фурни, к каким врачам ни обращались и какие только травы ни пили, Мари никак не могла забеременеть во второй раз. Рене грустил, но его любовь была значительно сильнее желания заиметь наследника, и потому брак их, несмотря на постигшее девушку несчастье, оставался счастливым.
Примерно в это же время Жан де Грези решил, что подготовительные работы завершены и сын может приступать к серьёзному обучению. Шарль неоднократно видел, как отец изготовляет переплёты, как обрабатывает кожу, дерево и металл, как варит клеящие растворы и тщательно подбирает шнуры и нити. Наступал самый важный период в жизни мальчика: ему предстояло научиться делать всё это своими руками.
Глава 3 УЧЕНИК ПЕРЕПЛЁТЧИКА
Обучение переплётному делу происходило в двух направлениях. Первое, техническое, подразумевало освоение методов обработки кожи, металлов, дерева, картона, работу с прессами для блинтового[16] тиснения, искусство обрезки и прочие дисциплины, позволяющие переплётчику искусно выполнять свою работу. Второе, эстетическое, заключалось в изучении существующих стилей переплётов, а также в их умелом сочетании. Господин де Грези мог великолепно переплести книгу, смешав в одном рисунке арабский стиль и стиль Жоффруа Тори[17]; результат получался отменным — гармоничным, радующим глаз. Немалое значение играло также удобство переплёта. Если основа делалась не из картона, а из дерева (таких заказов было меньше, стоили они дороже, но уважающий себя переплётчик умел работать с любым материалом), то нужно было идеально рассчитать вес, чтобы книгу было более или менее удобно держать в руках.
Обработанную телячью или свиную кожу можно было приобрести, но некоторые виды покрытий для переплётов приходилось создавать самостоятельно, в частности, переплётный пергамент, плотный и прочный на разрыв. Иногда требовалось обтянуть переплёт не кожей, а материей, чаще всего бархатом; такие заказы мастер выполнял, но не слишком любил, считая бархат недостойным материалом. Он предпочитал кожу.
Для работы с металлом в подвальном помещении дома де Грези имелась крошечная кузница, благо книжные украшения по своим размерам были невелики, да и обрабатывать чаще всего приходилось мягкие металлы — медь, серебро и золото. Нужно отметить, что в данном случае цеховой старшина смотрел на действия де Грези сквозь пальцы: если бы представители кузнечного цеха узнали, что переплётчик сам работает с металлом, не имея на то разрешения, мог возникнуть серьёзный межцеховой конфликт. Де Грези пользовался тем, что кузнечный цех был обширен, и помечал металлические элементы переплётов несуществующим клеймом — никто и никогда не смог бы проверить, где изготовлены петли или окантовки окладов, может, де Грези их вообще заказывает в Германии.
С ювелирами было сложнее, поскольку цех их был не столь велик и считался не ремесленным, но имеющим отношение к искусству; потому переплётчик сотрудничал с несколькими парижскими мастерами, закупая у них по невысокой цене драгоценные и полудрагоценные камни.
Работу с кожей де Грези подразделил для Шарля на ряд дисциплин, важнейшей из которых стало искусство тиснения — как простого, так и с добавлением различных элементов, значительно усложняющих процесс. Через некоторое время де Грези стал поручать сыну работы по нетрудным видам тиснения — тот умело выполнял бородавчатое и зернистое тиснение в заданных местах изготавливаемых переплётов и практически не совершал ошибок. Мальчик учился обращаться с прессами, штемпелями, матрицами, пуансонами[18], роликами для получения тиснений самых различных форм. Полные альды[19] Мануция[20], полые альды Майоли[21], штрихованные альды Гролье[22] — всё в равной степени постигалось подмастерьем; юный Шарль запоминал названия, сферы применения и учился обращаться с элементами штампов.
Помимо всего прочего, мальчик учился рисовать, поскольку блинтовое тиснение более чем в половине случаев требовало ручной раскраски. Обучение происходило непосредственно в процессе работы. Выполняя очередной заказ, де Грези отдавал готовый блинтовый переплёт ученику, который наносил самые простые, грубые узоры; тонкой росписью первое время занимался сам старик. Некоторые переплёты требовали введения в процесс искусства инкрустации — в частности, слоновой костью и жемчугом, и здесь старик тоже не сразу доверился своему талантливому наследнику.
Количество стилей переплёта, которым выучился юный Шарль, было поистине бесконечным. Церковный и готический, арабский и персидский, альдов и Гролье, Жоффруа Тори и Генриха II[23], ля фанфар[24] и ле Гаскон[25], веерный и рассеянный, итальянский и монастырский, и многие другие. И главное, Жан де Грези убедился, что ученик чувствует, каким образом можно гармонично всё это многообразие сочетать, изобретая собственные стили, уникальные и прекрасные, как сделать каждую обложку единственной в своём роде, удовлетворив и заказчика, и чувство собственного достоинства.
Как уже упоминалось ранее, де Грези отличался от большинства парижских (да и французских в целом) переплётчиков тем, что львиную долю работы выполнял сам. Большинство мастеров переплётного дела заказывали штампы и ювелирные украшения у сторонних умельцев, а затем настолько активно использовали в своих переплётах плоды чужого труда, что трудно было определить, кто же на самом деле является автором того или иного переплёта. И в самом деле — велика ли работа: заказать штамп в форме некоего цветка, а затем применить методику рассеянного переплёта, наштамповав несколько ровных одинаковых рядов с указанным изображением. По сути, основная работа при таком раскладе ложилась на плечи мастера по изготовлению штампов.
Де Грези был не таков. Когда он хотел изготовить новый, уникальный узор (подобное случалось почти при каждом заказе), мастер всё — от начала и до конца, кроме разве что кожевенных работ, — делал без привлечения сторонней силы. В некоторых случаях он не мог обработать, скажем, жемчужину и тогда обращался к ювелиру, но даже такие случаи происходили нечасто. Правда, де Грези мог позволить себе посвящать много времени сторонним работам: в отличие от многочисленных коллег он не совмещал профессии переплётчика и книготорговца. Он воспринимал свою деятельность как чистое искусство, сторонясь тех, кто превращал книгу в источник наживы.
С течением времени мастер начал поручать ученику делать несложные переплёты самостоятельно. Первый свой переплёт молодой Шарль Сен-Мартен де Грези создал в возрасте девяти лет, а годом позже изготавливал по меньшей мере два переплёта в месяц. Правда, первое время это были довольно-таки простые работы, потому что, например, обработка металла давалась мальчику сложно, и он пока не мог самостоятельно переплести книгу, требующую металлической окантовки или уголков по краям картонной пластины. Зато он научился прекрасно имитировать готический стиль XV века и переплетал небольшие требники, собрания молитв и часословы для монастырей и церквей. Жан не мог нарадоваться сыну: раньше подобная работа отнимала много времени, отвлекая мастера от настоящего творчества. Но она приносила деньги, и уклоняться было нельзя: откажешь одному церковнику — остальные тотчас убегут к конкурентам.
Готический стиль, подобно более позднему рассеянному, чаще всего подразумевал множество одинаковых компонентов, расположенных на поверхности переплёта через равные промежутки, то есть сеткой. При этом он не нуждался в позолоте и мозаичной инкрустации: монахи любили одноцветные переплёты, единственным художественным средством для украшения которых служили выпуклые оттиски. Кроме того, церковники предпочитали деревянные обложки картонным, а Шарль тяготел к дереву, любил его запах и уже к десяти годам искуснейшим образом вырезал всевозможные узоры и фигурки практически из любой древесной породы. Последняя способность Шарля восхищала старого переплётчика, и вскорости мастер стал поручать сыну вырезать штампы и деревянные формы для отливок.
Учёба и работа в мастерской заменила Шарлю игрушки и друзей, став сублимацией нормального детства. Обучение было ему в радость, он тянулся к новым знаниям, был усидчив, слушал внимательно и старательно пытался повторить любое действие отца.
В 1659 году, когда о Фронде все уже позабыли, а совершеннолетний Людовик XIV более или менее научился править собственной рукой, неожиданно умер Рене Фурни. Работая над крупным заказом для какого-то богатея, он неудачно срезал рубанком длинную стружку с нижней поверхности реставрируемого дивана и загнал себе под кожу деревянную иглу длиной порядка трёх парижских дюймов.[26] Кровь хлестала из пробитой артерии, но Мари подоспела вовремя, стремительно выдернула гигантскую занозу и перетянула руку мужа. Казалось бы, всё пошло своим чередом, но рука долгое время не заживала, а затем и вовсе загноилась. Местный хирург сказал: гангрена — и в считаные минуты сделал плотника одноруким, но это не помогло. Зараза распространилась на плечо, затем почернела шея несчастного Рене, а потом его сердце остановилось. Мари стала вдовой.
С удвоенной, утроенной силой она стала работать на господина де Грези. Дом сверкал чистотой, кухня ломилась от еды, а она всё не знала, куда деть свою энергию. Из наивной и хрупкой девушки она превратилась в красивую, чуть полноватую, пышущую здоровьем и силой двадцативосьмилетнюю женщину, способную взглядом сшибать мужчин с ног и часами препираться с продавцом зелени, завышающим цены на лук. Де Грези, которому в том году должно было исполниться семьдесят, порой ужасно сожалел о своём солидном возрасте и мужской немощи. Глядя на Мари, он чувствовал себя моложе на тридцать лет.
В возрасте десяти лет Шарля представили старшине цеха господину Жерому Вилье. Полный и самодовольный старик, Вилье критически осмотрел юного переплётчика, изучил его работы, пробормотал «неплохо» и отвёл Жана де Грези в соседнюю комнату — поговорить. В отсутствие самого ученика Вилье признал его несомненный талант, но заметил, что переплётчиков в Париже хватает, а по эдикту 1618 года количество мастерских строго регламентировано и очередь на посвящение в профессию вытянулась как минимум на пять лет вперёд. Де Грези успокоил Вилье, что он не собирается прямо сейчас поручать мальчику работу над «шедевром», и, кроме того, Шарль вряд ли будет открывать собственную мастерскую, даже когда заслужит статус мастера. «Я готовлю его в качестве своего наследника, и он займёт нишу, которую освобожу для него я, завершив работу по причине немощи или кончины», — сказал он. Вилье успокоился: одной из головных болей старшины было пятеро детей, причём все мальчики, двоих из которых он уже пристроил в цех (одного — переплётчиком, второго — печатником), а вот с остальными тремя возникали проблемы, так как упомянутый эдикт позволял расширять цех не более чем на одну мастерскую в год. С политической точки зрения преемственность переплётных мастерских полностью устраивала старшину, таким образом решавшего вопрос чрезмерного количества переплётчиков в Париже.
В 1660 году случилось важное для Шарля событие: у него появился первый клиент. Заказчики, конечно, понимали, что подмастерье помогает Жану де Грези в работе, выполняя различную поденщину, вроде чистки прессов или вымачивания кожи. Но никто и подумать не мог, что мальчик некоторые, пусть и не самые сложные, переплёты от начала и до конца делает сам. В какой-то момент старик понял, что нужно представить Шарля миру. Ведь, если не продемонстрировать заказчикам способности подмастерья, со смертью мастера тот попросту растеряет всех клиентов — и не по причине плохой работы, но исключительно потому, что никто не будет ему доверять.
Комната, в которой де Грези встречал клиентов, давила роскошью и пышностью. Стены её были отделаны кожей с различными оттисками, повсюду были полки с книгами в золочёных переплётах, а ноги гостя тонули в великолепном персидском ковре. Лучшие работы в рекламных целях были небрежно разбросаны по столу, по диванам, чтобы заказчик сразу понимал, что пришёл к профессионалу высочайшего класса. В практике де Грези случился однажды комический инцидент. Очередной клиент спросил его: «Раз у вас тут столько великолепных работ, значит, у вас много свободного времени для их создания? Значит, у вас мало заказов?» Де Грези смутился и кое-как выкрутился из неловкого положения, но впредь всегда был готов к подобным казусам. На самом деле переплёты для своих книг он делал в свободное время в качестве отдыха. Найди себе работу по душе — и ты не будешь трудиться ни одного дня в своей жизни, говорил Конфуций. Де Грези следовал этим словам всю свою жизнь. Более того, он видел, что сын тоже согласен с китайским мудрецом.
Помимо простых переплётов для монахов, Шарль самостоятельно делал и сложные переплёты — в учебных целях. При выполнении заказов одним из важнейших показателей была пунктуальность, то есть умение уложиться в выделенный срок. Сложность, например, веерных переплётов состояла в том, что одним неверным штрихом можно было уничтожить многодневную, а то и многомесячную работу — а мальчик всё ещё иногда ошибался, и де Грези не доверял ему в полной мере, если дело касалось чего-то дорогостоящего и срочного. Но в процессе постижения законов мастерства Шарль так или иначе работал над различными техниками, и в результате этих его тренировок образовалось некоторое количество прекрасных переплётов, выполненных порой в очень непростом ключе. Именно эти работы и разложил господин де Грези у себя на столе перед визитом очередного клиента.
Последним был герцог де Морни, точнее его представитель, некто де Шартре, вышедший из разорившихся дворян пройдоха, правая рука влиятельного и богатого сеньора, вхожего к самому королю. Де Шартре столь долго торговался и так старательно делал вид, что де Морни ограничил его в затратах, что де Грези не выдержал и предложил послу компромиссный вариант. Для книги стихотворений собственного сочинения герцог хотел мозаичный переплёт в стиле а-ля фанфар (конечно, Шартре подобных терминов не знал, но переплётчик понял, чего желал сеньор, по словесному описанию), причём платить был готов разве что как за блинтовое тиснение без излишеств. Де Грези увидел в этой ситуации свои преимущества: шанс дать Шарлю действительно сложную работу.
И старый переплётчик предложил де Шартре: «Я соглашаюсь на вашу цену, и книга будет готова в срок, и все требования будут соблюдены, только сделан переплёт будет не мной, а моим сыном и подмастерьем Шарлем». Де Шартре тут же согласился, подразумевая, что о подобном «обмане» герцог ничего не узнает. Но де Грези добавил, что самолично отправит герцогу письмо с условиями договора. Такого герцогский посол допустить не мог и начал спорить, после чего в отвратительном настроении и, так ни о чём и не договорившись с переплётчиком, ушёл прочь.
Но де Грези знал, что делал. В тот же день он всё-таки написал де Морни письмо, где обрисовал своё предложение, достоинства сына и поведение де Шартре. Через два дня он получил от герцога ответ с согласием на подобный шаг. Господина де Шартре переплётчик более никогда не видел: скорее всего его перевели на работу, требующую меньшей гибкости и деликатности. Вместе с письмом к де Грези пришла собственно подшивка отпечатанного сборника. Бегло пролистав её и не найдя там ничего скабрёзного (даром что стихи были отвратительны), старик передал работу сыну.
Сроку было — три месяца, что для качественной мозаики а-ля фанфар довольно-таки мало, поэтому юный Шарль взялся за дело немедленно. Как ни странно, непосредственная работа с материалами занимает у переплётчика примерно половину отведенного времени: вторая половина предназначается для продумывания и рисования. Таким образом, порядка двух недель мальчик сидел над бумагой, пыхтел, размышлял, перечитывал герцогскую мазню и постепенно складывал в голове картину будущего переплёта.
Большая часть стихотворений де Морни посвящалась ратным подвигам на различных фронтах. Из поэзии самодовольного дворянина выходило, что он чуть ли не самолично сбросил с коня принца Конде, сражаясь под знамёнами Тюренна.[27] Некоторые стихотворения были посвящены прелестным дамам, и мальчику всё время хотелось своей рукой подправить хромающие размеры и пляшущие рифмы (точнее, созвучия, потому что понятие рифмы герцогу было, судя по всему, неизвестно). Шарль неплохо разбирался в поэзии, так как прочёл существенное количество сборников — как на латыни, так и на французском языке, и был уверен, что любой из шедевров де Морни мог бы переписать гораздо более приемлемым образом. Но выходить за рамки профессии стало бы самым кощунственным из всех преступлений, которые мог совершить переплётчик. И Шарль думал, как сгладить тягостное ощущение от текста путём украшения переплёта.
Мальчик не просто взялся за дело. Он подошёл к нему со всей душой, вложил самого себя в работу над великолепным переплётом. В центр композиции он поместил фамильный герб де Морни, сначала прессованный блинтовым методом, затем раскрашенный вручную. Вокруг него перевивались, наслаиваясь друг на друга, инкрустации с вкраплениями полудрагоценных камней, перламутра, осколков раковин; пространство же между узорами покрывалось тончайшей золочёной сетью. В принципе герцог был бы в восхищении даже от работы, сочетавшей в себе определённый набор давно известных переплётчикам стандартных элементов. Но фантазия Шарля не позволяла ему ограничиться обыденными альдами и им подобными: мальчик хотел сделать по-настоящему индивидуальную обложку: как здание становится памятником не правителю, но архитектору, так и первый серьёзный переплёт Шарля Сен-Мартена де Грези должен был в первую очередь восхвалять своего создателя, а вовсе не владельца.
Поэтому на форзацах появились точёные русалки, оплетающие хвостами пушки, по корешку бежали кони с развевающимися гривами, а над гербом герцога красовался искусно выполненный портрет, скопированный с известной работы придворного портретиста. На портрете де Морни выглядел триумфатором — а кого и зачем он победил, было совершенно неважно. В любом случае читатель, которому попала бы в руки подобная книга, сначала уделил бы пристальное внимание переплёту, и лишь потом (возможно!) перешёл бы к внутреннему содержанию, значительно уступающему наружному.
Когда старик де Грези взял в руки почти готовый переплёт, сделанный учеником, он прослезился. «Ты не просто достиг мастерства своего учителя, — обернулся он к мальчику, — ты превзошёл меня». Шарль потупил глаза, а старый переплётчик продолжал: «Теперь я знаю, что наше дело не пропадёт после моей смерти, что я принёс в мир не просто множество красивых книг, но само искусство их переплетения, и это искусство живёт в тебе, мой мальчик, мой сын. Но, — продолжил старик, — всё-таки задаваться преждевременно, так как несколько мелких ошибок ты совершил». Мальчик испуганно посмотрел на отца, но тот успокоил: «Нет, не бойся, книгу не придётся переделывать, всё хорошо, всё исправимо в считаные часы».
Потом они вместе подошли к рабочему столу, и старик показал место на переплёте, где кожа со временем может отслоиться от картона, так как между заклёпками и проклейкой оставлено слишком большое расстояние: в этом месте придётся нанести ещё один узор, одновременно служащий техническим надобностям. Также в двух местах придётся переделать элементы инкрустации, так как камни, использованные для рисунка, с течением времени изменят цвет и гармония будет утеряна. Но всё это были не более чем ошибки новичка и, более того, человека молодого, не задумывающегося пока что о времени. Здесь и сейчас переплёт Шарля выглядел великолепно, и Жан де Грези не сомневался в том, что герцог пересмотрит свою финансовую политику и заплатит как минимум вдвое относительно заранее оговоренной суммы.
Так и случилось. Правда, не вдвое, а лишь в полтора раза герцог де Морни поднял ставку, придирчиво осмотрев переплёт, полученный лично из рук старого де Грези. Герцог потребовал привести к себе и ученика, создателя книги. Тот стоял перед дворянином, потупивши голову, со страхом в глазах, но де Морни встал со своего кресла, подошёл к мальчику и, взяв его за подбородок, сказал: «Ты достойный ученик своего отца. Он — величайший переплётчик в Париже, ты же будешь величайшим во Франции». Сложно сказать, хотел ли герцог подбодрить мальчика или взаправду думал то, что озвучил, но кое в чём он ошибся. Шарлю Сен-Мартену де Грези предстояло стать величайшим переплётчиком не во Франции, а во всём мире.
Глава 4 ЛИШЬ СМЕРТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ
Так шло время, пролетал день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Шарль возмужал, в 1664 году ему исполнилось шестнадцать лет. Мари по-прежнему вела хозяйство, мадам Бонаме знала все городские сплетни, а на троне сидел Людовик XIV. Только здоровье Жана де Грези становилось всё хуже и хуже день ото дня, и не за горами был тот час, когда смерть обещала явиться за душой переплётчика и забрать её с собой. Де Грези сомневался в существовании загробного мира, но если таковой всё же имел место, то переплётчик несомненно вымостил себе дорогу в ад, так как всю жизнь провёл в достатке, в церковь никогда не ходил и нищим старался не подавать. Шарль понимал, что такое смерть, и уже смирился с тем, что отцу недолго осталось. В Бога парень тоже толком не верил и регулярно убеждался в том, что вера — вещь бессмысленная, в особенности когда слышал пьяные крики королевских мушкетёров за окном, причём в криках площадная брань равномерно перемежалась с поминанием Христа и всех святых. Примерно так же вели себя кардинальские гвардейцы, на что уж люди религиозные по причинам профессиональным. Крепкому словцу и поминанию Господа всуе Шарль предпочитал молчание. Если кто-то обижал его, он давал сдачи, а если последнее сделать не получалось, он просто отступал, что тут поделаешь.
Жан де Грези чувствовал, что час его близок, и послал старшине Вилье официальное прошение о назначении срока экзамена для Шарля. Вилье, уже неоднократно державший в руках переплёты, сработанные подмастерьем де Грези, не стал противиться. Он прекрасно понимал, что молодой человек сделал уже не один десяток «шедевров», то есть экзаменационных работ невероятной красоты и сложности, и потому экзамен в данном случае представлял собой не более чем пустую формальность. Ввиду слабого здоровья Жана Вилье не стал требовать соблюдения всех ритуалов и обязательного присутствия старика с сыном на цеховом совете; в конце марта 1664 года комиссия в малом составе явилась непосредственно в мастерскую, чтобы проверить знания и умения Шарля де Грези.
Цех книготорговцев и книгопечатников, к которому принадлежали и мастера переплётного дела, не относился к числу шести привилегированных гильдий, удостоенных чести нести балдахин над лицами королевской крови, и потому грамота о мастерстве стоила по-божески — четыреста пятьдесят ливров (против шестисот, к примеру, у меховщиков или тысячи семисот у чулочников). Деньги были внесены тут же (путём передачи кошелька господину Вилье), а вопрос об экзаменационном «шедевре» отпал сам собой после демонстрации последних десяти работ Шарля. Надо отметить, что право на изготовление «шедевра» шестнадцатилетнему пареньку могли и не предоставить: свою роль сыграли добрые отношения Вилье и де Грези, а также известность последней фамилии — цех не мог позволить себе потерять знаменитую марку, служившую одним из знаков качества в переплётном деле. Поэтому с молчаливого согласия старшины в документах, поданных руководству цеха, возраст Шарля был завышен на четыре года. В принципе высокий и статный молодой человек вполне мог сойти за двадцатилетнего.
Вопрос о мастерской также отпадал сам собой. Старик уже не мог работать — даже вполсилы, — и молодой де Грези, по сути, получал мастерскую в своё полное распоряжение. Там же в присутствии ряда представителей цеха старшина Вилье вручил Шарлю Сен-Мартену де Грези грамоту о мастерстве.
День 19 апреля 1664 года выдался тёплым и солнечным, хотя предшествующая ему неделя была ветреной и дождливой. Но уже к полудню уличная грязь стала потихоньку подсыхать, настроение парижан улучшилось, а мир вокруг засверкал яркими красками. И только в доме переплётчика де Грези царили тьма и уныние. Побывавший у господина Жана с утра врач сказал, что сделать ничего не может и осталось старику от силы несколько часов. «Пожил, — добавил эскулап, — он прилично, почти семьдесят пять, надобно и честь знать». Исключительно в силу своего спокойного характера юный Шарль не вышвырнул врача из окна второго этажа, где располагалась комната отца.
Жан совсем ослабел. Он не хотел есть и просто смотрел в потолок, иногда надрывно кашляя. Мари, хотя давно уже считалась членом семьи, не смела нарушать единение отца и сына и потому тихо плакала внизу, на кухне, уже подумывая, что нужно прикупить для поминального ужина. Шарль же сидел у изголовья умирающего, ласково глядя в глаза старого переплётчика — человека, который подарил ему не саму жизнь, но её смысл. Впрочем, Шарль не подозревал, что является приёмным сыном. Истиной для него всегда была легенда о том, что мать его умерла при родах, потому и взяли Мари в качестве нянюшки. Сама же Мари, знавшая правду, ни за что бы не проговорилась. Была ещё и мадам Бонаме, известная своей чрезмерной болтливостью, но господин де Грези знал, как заставить её молчать. Он просто регулярно немножко ей приплачивал. И когда она собиралась было развязать язык и разболтать всё какой-либо соседке, она вспоминала, что лишится из-за этого небольшого ежемесячного дохода — и тут же замолкала.
«Отец», — сказал Шарль. И больше он ничего не сказал, так как толком и сам не знал, что хотел произнести в эту печальную минуту. Но своим призывом он пробудил в Жане последние остатки жизни. «Сын, — отозвался тот, — я не буду говорить тебе, что ты всегда был мне опорой, поддержкой и что я счастлив оставить своё ремесло такому ученику, как ты. Я хочу сказать лишь одно, — добавил старик после некоторой паузы. — Я не всему успел тебя выучить, многое тебе придётся постигать самостоятельно. Точнее, я успел выучить тебя всему, чему имел право тебя учить. Остальное…»
И тут старик откинул голову на подушку и затих. Шарль не до конца осознал последние слова отца, так как горе затмило собой их смысл. Молодой человек, содрогаясь от рыданий, упал лицом на грудь мертвеца. Отныне и навсегда парню предстояло самостоятельно идти по избранному пути и решать множество вопросов, которые ранее решал за него Жан. Правда, де Грези научил Шарля самому главному: умению работать с клиентами, и, более того, львиная доля заказчиков мастерской де Грези привыкла к тому, что в ней работают два равных мастера, два великих переплётчика. Ещё при жизни отца слава переплётов работы Шарля разнеслась по Парижу и окрестностям: по настоянию старика молодой человек разработал свою собственную маркировку и всегда ставил её на переплёты, сделанные без помощи учителя (естественно, рядом с учительской: находясь в статусе подмастерья, молодой человек не имел права на собственное клеймо). Эту маркировку хорошо знати клиенты.
Посему никаких финансовых проблем у Шарля не было. Ему не о чем было заботиться, нечего решать — достаточно было продолжать работать, не более того. Но последние слова отца взволновали его — позже, когда он сидел в одиночестве и думал о том, какой огромный кусок его жизни исчез вместе с Жаном де Грези. Как разгадать эту загадку, где ключ к шифру? Что значит «учил тому, чему имел право учить»? Видимо, думал Шарль, в переплётном деле есть что-то ещё, что-то запретное, незнакомое, недоступное — и это можно постичь только самостоятельно, и лишь после постижения можно считать себя настоящим переплётчиком. Более того, развивал молодой человек свою мысль, возможно, это знание вознесёт меня над рядовыми мастерами переплётного дела, превратит в переплётного бога, я сам стану переплётом книги жизни… Фантазия влекла Шарля всё дальше и дальше, а в это самое время тело Жана де Грези омывали на первом этаже, одевали в лучший сюртук, и гробовых дел мастер снова приходил снимать мерку, так как в первый раз, непосредственно после кончины переплётчика, что-то напутал.
Похороны состоялись три дня спустя. Вместе с телом в гроб положили несколько любимых книг мастера. Правда, кое-кто опасался, что воры разорят могилу, чтобы достать драгоценные переплёты, испещрённые драгоценными камнями и покрытые позолотой, но Шарлю это было безразлично. Он знал, что всё сделал правильно. Глядя на гроб, он подумал, что тот — тоже в своём роде переплёт для человека. Только открывать этот переплёт нельзя, потому что внутри — смерть и разложение. Разговаривая с гробовщиком, юный де Грези узнал много интересных вещей. Например, как он выяснил, многие богатеи заказывали себе гробы ещё при жизни, причём внутри последнее пристанище обставлялось порой как настоящий дворец.
Погребение Жана де Грези было не слишком пышным: так решил Шарль. Переплётчика похоронили на кладбище Невинных, на самом краю переполненного некрополя, причём Шарль тщательно проследил, чтобы во время похорон не произошло никаких казусов, связанных с переполнением города мёртвых. Он неоднократно слышал истории о том, как, копая яму для новой могилы, рабочие не обращали внимания на многовековые наслоения — и во время похорон гроб умершего опускали прямо на скелет (или мумию) мертвеца, погребённого за век до того. Пытаясь удовлетворить требования Шарля, рабочие возмущались, мол, нет на Невинных свободных мест, всё одно придётся поверх кого-то класть. Но Шарль настоял, чтобы копатели, даже если наткнутся при работе на чьи-то останки, тщательно очистили яму, хотя бы сымитировав её «свежесть», если можно так выразиться.
Юный переплётчик возвращался домой вместе с Мари. Бывшие собутыльники отца звали его с собой — помянуть Жана в кабаке, но Шарль холодно относился к алкоголю и отказался от сомнительного удовольствия. По дороге к дому он молчал, ни слова не произнесла и Мари. Слёзы состарили её. Она, тридцатитрёхлетняя вдова, ещё вчера выглядела на двадцать пять, а сегодня — на все сорок.
Когда они пришли, Мари разогрела еду, они пообедали. Назавтра должны были собраться ближайшие друзья и соседи де Грези, чтобы вспомнить об ушедшем, а сегодняшний вечер обещал быть самым грустным в жизни Шарля. Молодой человек понуро поплёлся в свою комнату.
Но, как ни странно, именно этот день стал для молодого человека знаковым не только и даже не столько по причине похорон отца. Некоторое время Шарль сидел в своей комнате и смотрел в пустоту, а затем на него обрушилось отчаяние. Он осознал, что больше никогда не увидит старика, никогда не услышит его спокойный голос, никогда не прикоснётся к мудрости, которую приносил отец в жизнь сына. «Никогда» представлялось Шарлю страшным, невыносимым словом; он пытался понять, сколько это: десять лет, сто, тысяча — и понимал, что «никогда» не имеет срока, что оно равнозначно вечности. И Шарль рыдал во весь голос, не стесняясь открытого окна, не опасаясь, что кто-либо его услышит и засмеёт, потому что даже мужчина имеет право на скорбь и на любое выражение этой скорби, в том числе и на плач.
Дверь тихонько отворилась, и вошла Мари. Она села рядом с Шарлем и стала гладить его по голове, по плечам, по спине, а он рыдал, уткнув лицо в ладони, не видя и не понимая, что творится вокруг него. Мари ловила себя на мысли, что смерть Жана де Грези отступила в её сознании на второй план, а на первый вышел сидящий с ней рядом человек — уже не мальчик, но муж, статный, крепкий, с натруженными руками и чистым сердцем, согбенный обрушившейся на него бедой и неспособный справиться с ней в одиночку. Женщина чувствовала под своими руками мужское тело, это тело привлекало, возбуждало её, она проводила руками по плечам и груди Шарля, и чуть пониже её живота уже занимался небольшой огонёк, обещавший при должном подходе перейти в настоящий пожар.
Шарль сперва не обращал внимания на ласки Мари, но затем осознал, что её действия благотворно влияют на его тело и дух: он забывал об отце, о случившей трагедии, о кладбище Невинных, ему хотелось прижаться к женщине, дотронуться до её кожи и волос, уткнуться в мягкую грудь, и его естество, дотоле не знавшее женской ласки, начало твердеть.
Надо сказать, что отношения Шарля со слабым полом не складывались в силу его замкнутого и уравновешенного характера. Девушки любили задор, радость, демонстрацию силы и ловкости, а Шарль большую часть времени работал, да и отдых его заключался в основном в чтении книг у себя в комнате. Он бывал в общественных местах, на театральных представлениях, но когда волей судьбы завязывался диалог с какой-нибудь девушкой, он начинал мяться и стремился как можно скорее исчезнуть. У Шарля толком не было друзей, только знакомые, не было «своей» компании, и потому ему негде было знакомиться, общаться, привыкать к женскому полу. Зато у Жана де Грези была обширная коллекция книг скабрезного содержания, порой богато и интересно иллюстрированных, в том числе изданных на Востоке, где физическая любовь была возведена в ранг искусства. Шарль рассматривал миниатюры, предаваясь порой известному мужскому пороку, и мечтал когда-либо перенести в реальность свои фантазии.
Он никогда не смотрел на Мари как на женщину — она заменила ему мать, и сексуальное влечение к ней было сродни инцесту, подобные мысли отвращали молодого человека, едва только зародившись в его мозгу. Теперь же, когда Мари сама предложила столь странный, пусть и действенный, способ утешения, Шарль не противился, на него снизошла благодать, он забыл о своём прошлом, о своей беде и даже о том, как воспринимал Мари раньше.
Видимо, мебельных дел мастер Рене Фурни был хорошим любовником, поскольку он научил Мари вещам, которых рядовая женщина, тем более малоопытная, знать не могла; более того, даже мысли о некоторых из них казались нарушением всех мыслимых запретов. Когда губы Мари и Шарля слились и её горячий язык проник в его рот, он испугался, но затем отдался на волю своей королевы, и двинулся ей навстречу, и оказалось, что это необыкновенно приятно. А её пухлые руки уже стягивали с него рубашку и развязывали ремень, и тяжёлые груди сами ложились в его ладони.
Пожалуй, далее мы опустим занавес над событиями, происходившими в комнате нашего героя. Думается, у читателя достаточно хорошо развито воображение, чтобы представить себе акт любви между неопытным шестнадцатилетним пареньком и стосковавшейся по мужской ласке тридцатитрёхлетней женщиной.
Лёжа утром в распаханной постели и глядя в потолок, Шарль думал об отце без горечи, спокойно, точно похоронили его не вчера, а несколько лет назад. Ночь любви придала молодому человеку сил, освободила его от скорби. Ум его прояснился, и все помыслы Шарля были направлены в мастерскую, к переплётам, к работе, к дереву и коже, картону и клею, к буквам, складывающимся в слова, и к словам, образующим предложения. Мари ушла, когда на дворе было ещё темно. Видимо, отправилась на рынок, чтобы купить свежих овощей и фруктов.
Он потянулся, обулся и спустился вниз. Светило ласковое солнце, на кухонном столе лежало яблоко. Шарль взял его и надкусил. По не знавшим бритвы щекам потёк кисловатый сок. Шарль вышел в предбанник, открыл наружную дверь и выглянул на улицу. Резвились дети, сухая пыль ничем не напоминала дождливую размазню последних дней, где-то цокали копыта конного патруля. Худший день Шарля внезапно сменился лучшим. Его голова была пуста, в ней были только переплёты, переплёты, переплёты, и ничего более. Сейчас придёт Мари, думал он, мы позавтракаем, и я углублюсь в работу. И ещё мне нужно будет раскопать книжные завалы отца, видимо, где-то в них кроется некий секрет, тайна, которую Жан де Грези не успел открыть перед смертью. Шарль стоял, прислонившись к дверному косяку, и его счастье ничем нельзя было омрачить.
Мари никогда больше не вернулась в дом де Грези. Она оставила после себя шкаф с платьями, немного сбережений, какие-то личные вещи. Её, счастливую, насвистывающую весёлую мелодию, по дороге с рынка затащили в тёмный переулок два бородатых негодяя и, предварительно забрав деньги и дешёвые бусы из полудрагоценного камня, которые Жан некогда ей подарил, изнасиловали. Оставляя за собой кровавый след, Мари доползла до улицы, и там, протянув руку к первому попавшемуся прохожему, испустила дух. Её приняли за бродяжку, забросили в телегу, собиравшую тела отдавших концы пьяниц и убогих, и схоронили в общей могиле за пределами Парижа. Шарль ничего не узнал о судьбе Мари. Видит бог, если бы она осталась жива, всё пошло бы иначе, потому что по дороге к рынку Мари твёрдо была уверена, что носит под сердцем ребёнка Шарля, и была права. Но история не знает сослагательного наклонения.
Как ни странно, Шарль спокойно воспринял невозвращение Мари. Он не влюбился в неё той ночью, ни в коем случае. Просто она стала очередным уроком, новым альдом, новой методикой инкрустации. Он изучил её и не нуждался более в подобных уроках, освоенный материал не требовал повторения.
Целую неделю у него никак не доходили руки до разбора отцовской библиотеки. И не только библиотеки: наибольший интерес для молодого человека представлял стол Жана, многочисленные ящики которого таили в себе ряд секретов, могущих быть весьма и весьма полезными. Стол этот некогда изготовил по специальному заказу переплётчика Рене Фурни. Шарль знал, что в столе есть как минимум одно потайное отделение (однажды он застал отца, когда тот клал туда какие-то бумаги), но подобных ящичков могло быть и два, и три, и даже больше. Вообще, кабинет отца представлял собой кладезь неполученных знаний. Если мастерскую Шарль знал вдоль и поперёк, то в кабинете имел доступ только к книгам, и то не ко всем, поскольку никогда не пытался добраться, например, до второго ряда на самой верхней полке. В первом ряду стояли книги с непристойными картинками.
Восточные книги всегда выделялись на фоне европейских аналогов в первую очередь наличием золотого тиснения против блинтового. Арабский мир тяготел к блеску, демонстрации собственного богатства и власти, при этом избегая конкретных образов. Не то что человеческой фигуры, даже изображения какого-нибудь дворца или храма не встречалось на арабских книгах. Зато искусство каллиграфии было представлено на корешках и форзацах в полной мере — руководствуясь каллиграфическими принципами построения вязи, Шарль научился маскировать в переплётных узорах практически любые послания. Например, переплетая сборник любовной поэзии для одного чванливого графа, Шарль прямо на лицевой стороне переплёта начертил, грамотно спрятав надпись среди прочих элементов, словосочетание «жирная свинья». Аналогичным образом, делая переплёт для книги размышлений о мироустройстве для одной средних лет дамы, он вплёл в узор фразу «бесполезная трата времени». И так далее. Такие шуточки доставляли Шарлю удовольствие, но ещё большее удовлетворение он получал, когда отец, придирчиво изучая очередную работу сына, ни о чём не догадывался и одобрял результат. Если даже величайший переплётчик Парижа не замечал подвоха, что уж говорить о глупых клиентах.
Шарль работал не покладая рук — час за часом, день за днём, не делая перерывов даже на обед (тем более никто ему не готовил и не заставлял его есть), перебиваясь каким-то подножным кормом. За неделю он превратился в призрака мастерской, спал по три часа в день и сделал такой объём работы, какой раньше не дался бы ему и за месяц. Он закончил один собственный заказ и два отцовских; клиентов Шарль не принимал, поскольку хотел сначала разобраться с незавершёнными делами. Когда третий переплёт лёг на полку для готовых работ, Шарль поднялся в спальню, лёг на кровать и проспал четырнадцать часов кряду. Проснувшись, он привёл себя в порядок, прилично оделся и написал несколько коротких писем-оповещений о том, что тот или иной заказ можно забирать. Письма он отдал мальчишке-посыльному, пойманному на улице. Он стёр пыль с отцовского стола и навёл там небольшой порядок. Готовые работы он положил там же, в кабинете. Погрузившись в отцовское кресло, Шарль наконец-то почувствовал себя настоящим переплётчиком. Лучшим в Париже.
Глава 5 В ПОИСКАХ СМЫСЛА
В течение двух дней готовые переплёты были доставлены клиентам. Юный де Грези получил ряд благодарственных писем и приличное количество денег. Следовало браться за более сложные заказы (их оставалось порядочное количество) и принимать новые. Но Шарль должен был хотя бы один день посвятить разбору отцовского имущества. Он выбрал для этого пятницу — дождливую, не по-летнему холодную, самое время для того, чтобы никуда не выходить. Накануне он сходил на рынок, запасся продуктами, сварил курицу и теперь сидел за отцовским столом, иногда откусывая от смачной горбушки хлеба.
Стол имел по три ящика с каждой из сторон и большой выдвижной ящик посередине, над коленями сидящего. Четыре из шести ящиков были заперты, но ключи, которые отец при жизни всегда носил с собой, теперь болтались на цепочке, притороченной к штанам Шарля. В двух верхних ящиках были бумаги по заказчикам — сроки, договора, условия, а также приходно-расходная книга. Шарль имел к ней доступ и раньше — в отдельную её часть он вносил данные по своим работам. В самом нижнем ящике справа находился архив старых договоров — тех, которым исполнилось не более двух лет. Совсем древние отец прятал в комоде у себя в спальне, поскольку там было больше места.
Во втором ящике справа нашлась огромная гора разнообразных безделушек, поделок, кусочков кожи, выщербленных негодных жемчужин и так далее — судя по всему, в этот ящик отец просто сметал всё лишнее со стола. Второй ящик слева оказался пуст. Центральный верхний ящик был заполнен канцелярскими принадлежностями: одних чернильниц Шарль выгреб четыре штуки (две — с трещинами, одна с отколотым краем, одна — просто уродливая). Обглоданные перья, сломанные перочинные ножики и прочее барахло Шарль бросал в заранее приготовленный холщовый мешок, предназначенный для выноса на ближайшую свалку.
Наконец, остался только один неисследованный ящик — нижний слева. Открыв его, Шарль обнаружил бумаги, которые раньше никогда не попадались ему в руки. Они не имели никакого отношения к работе отца, хотя имя последнего там регулярно фигурировало. Все документы были подписаны отцом и некой мадам Корни — Шарль никогда не слышал этого имени. Даты на документах соответствовали лету 1660 года. Шарль углубился в чтение, а через несколько минут, прочтя одну за другой все бумаги, откинулся назад в кресле и закрыл глаза. Значит, отец скрывал от него не только и не столько профессиональные тайны, но кое-что гораздо более значимое. Шарль понял, что Сен-Мартен — это не второе имя, данное ему в честь святого покровителя, а его изначальная фамилия, полученная в приюте. «В моих жилах нет ни капли крови де Грези, — подумал молодой человек. — Я и в самом деле был для Жана в первую очередь учеником и лить во вторую — сыном».
Но эмоции, переполнившие Шарля в первый момент, достаточно быстро сошли на «нет». «И что? — подумал он. — Отец плохо со мной обращался? Плохо меня учил? Не баловал? Он был прекрасным отцом, лучшим на свете. Отец не тот, кто дал жизнь, а тот, кто вырастил и воспитал. — И Шарль аккуратно положил бумаги обратно в ящик. — Пускай хранятся там до поры до времени, авось понадобятся когда-нибудь». Он раскрыл одну из отцовских тайн — теперь предстояло открыть другие.
В глубине ящика что-то звякнуло, и Шарль понял, что бумаги — не всё, что там лежало. Протянув руку, он достал маленькую деревянную ладанку на кожаном шнурке. Повертев её в руках, Шарль догадался, что она досталась отцу из его, Шарлевой, прошлой жизни, видимо, висела на шее у взятого на воспитание мальчика. Открыв её, юный переплётчик нашёл свёрнутый в трубочку клочок плотного пергамента. Развернув его, Шарль увидел выполненный чёрной тушью портрет, очень тонкий, мастерский. На портрете была изображена девушка лет шестнадцати с миловидными, но властными, гордыми чертами лица. Шарль никогда раньше её не видел, но справедливо предположил, что именно она дала ему жизнь, а затем по какой-то причине сдала в приют мадам Корни. Молодой человек ещё некоторое время полюбовался на портрет, а затем свернул его, положил обратно в ладанку и спрятал в ящик. Его сердце билось спокойно, точно ничего не произошло.
Он довольно быстро нашёл секретное отделение, которое некогда уже видел. Для этого нужно было нажать на элемент декора стола — и из-под центрального ящика выскакивал дополнительный маленький элемент, открывая пространство, достаточное для нескольких бумаг и, скажем, небольшой шкатулочки. Последняя, к слову, там и стояла. Открыв её, Шарль нашёл потрясающей красоты драгоценный камень, по виду — алмаз, видимо, очень ценный. Порадовавшись находке, он спрятал его обратно и закрыл тайник.
Второго секретного отделения (сугубо гипотетического) Шарль так и не нашёл. Он простучал все поверхности стола, извлёк ящики и нажал на всё, что хотя бы отдалённо напоминало рычаг или кнопку, но тщетно. То ли второго отделения не было, то ли оно было запрятано так надёжно, что без помощи знающего человека обнаружить его не представлялось возможным. Поэтому через некоторое время Шарль бросил пустое и остаток дня решил посвятить книжным полкам.
Конечно, он понимал, что на разбор отцовской библиотеки может уйти не неделя и даже не месяц, но в первую очередь он хотел добраться до запретных книг, которые по той или иной причине ранее ему в руки не попадали. Приставив стремянку к полкам, он полез на самый верх, где хранились скабрезные восточные тома и европейские книжонки анонимных авторов. Шарль предполагал, что там, во втором ряду, можно найти что-то другое, более занимательное, нежели непристойные приключения любвеобильных шейхов и султанов.
Он не ошибся. Во втором ряду — и на последней, и на предпоследней полках — не было книг неприличного содержания. Там были разные, очень разные книги, с первого взгляда не объединённые никакими общими чертами. Книги по анатомии и философии, мироустройству и ботанике, богословские тома и рыцарские романы — разных форматов, на разной бумаге, с иллюстрациями, выполненными различными способами. Да и переплёты Шарль никак не мог объединить по какому-либо принципу. Готические и арабские, а-ля фанфар и Гролье — переплёты стояли вперемешку, без видимой системы.
Более того, многие книги повторялись — подобные же экземпляры, только иначе переплетённые, встречались и в нижней, «разрешенной» части библиотеки. Последней странностью было авторство переплётов — тут встречались как переплёты, сделанные отцом, так и гораздо более ранние работы, созданные другими мастерами.
Задумчиво спускаясь вниз, Шарль прихватил с собой тяжёлый том De humani corporis fabrica Андрея Везалия. Положив его на стол, он извлёк с одной из нижних полок второй такой же, издания того же 1568 года, как гласила надпись на титульном листе. Разница была только в переплётах. Сравнивая две книги, Шарль надеялся разгадать секрет верхних полок отцовской библиотеки.
Обычную книгу с нижней полки переплетал некто Мерже. Эта фамилия была Шарлю незнакома — и немудрено, изнутри на переплёте была оттиснута дата: 1603 год. Так как переплёт бы сделан на тридцать пять лет позже книги, Шарль предположил, что это второе переплетение. Часто, покупая книгу в старинной обложке, владелец просил сделать для неё новую, менее истёртую и оформленную по его вкусу. Старый переплёт доставался мастеру — и Жан де Грези считал такую практику весьма ценной. В его коллекции были переплёты рукописных книг XIII–XIV веков, стоившие чуть ли не больше, чем вся библиотека, вместе взятая. Что для какого-либо толстосума было всего лишь парой дощечек, обтянутых коровьей кожей, то для многих ценителей являлось уникальной диковинкой, стоящей безумных денег.
Переплёт «тайной» книги был сделан значительно хуже. В нескольких местах на коже виднелись изначальные изъяны, кое-где переплёт «поплыл»: клей подсох, сминая некогда гладкую поверхность. Снаружи на книге не было никаких украшений, лишь тиснёное заглавие и крошечная маркировка переплётчика внизу. Тут-то Шарль удивился по-настоящему: небрежный, некрасивый переплёт был сделан его отцом! Жан де Грези значительное внимание уделял тому, как книга будет выглядеть через годы. Он знал, какая её часть потемнеет от использования, где возможны надрывы, как будет вести себя картонная основа. Мог ли переплётчик такого уровня допустить, чтобы книга уже через полвека выглядела, как извлечённая из помойки? Тем более не просто книга, а Везалий, весьма ценный и снабжённый великолепнейшими иллюстрациями.
Шарль тщательно изучил элементы переплёта и на отдельном листе выписал отличительные черты, обнаруженные им на странной обложке. Приведём этот список здесь.
1) Лицевая сторона. Надпись
Andreae Vesalii
brvxellensis, scholae
medicorum Patauinae professoris, de
Humani corporis fabrica
Libri septem,
выполненная шрифтом антиква-версалиен и точно повторяющая заглавие на первой странице самого издания.
2) Лицевая сторона, нижняя треть. Маркировка «де Грези» в виде фамильного вензеля.
3) Внутренняя сторона, форзац, нижняя треть. Выполненная шрифтом антиква-версалиен маркировка года переплетения: 1637.
4) Внутренняя сторона, форзац. Кожу пересекает странная линия, видимо, присутствовавшая на материале уже в момент обработки. Чуть более тёмная, с неровными краями, серповидная, от верхнего левого угла к центру правого поля.
4) Внутренняя сторона, нахзац.[28] В верхней трети справа — чёрное пятно, изначальный изъян кожи. Диаметр примерно 1/2 парижского дюйма.
5) Оборотная сторона. Ближе к верхнему правому углу — россыпь мелких чёрных точек, изначальный изъян кожи. В нижнем правом углу — продолжение линии с форзаца, отсекает угол переплёта.
Более всего Шарля беспокоили изъяны. Он не помнил случая, чтобы отец, отбирая материал для очередного переплёта, позволил бы себе использовать повреждённую кожу или кожу с цветовыми дефектами, не говоря уж о каких-то серьёзных физических недостатках, например родимых пятнах или родинках. Но в данном случае некачественный материал был налицо. Год создания переплёта не позволял думать, что отец изготовил его, будучи молодым и неопытным — в том году Жану де Грези исполнилось сорок семь.
Шарль поднялся, забрался на стремянку и извлёк с верхней полки ещё две книги — наугад. Первая была рыцарским романом об Александре Македонском; авторство книги указано не было, год издания тоже, но на вид книга казалась достаточно старой, начала XVI столетия. Вторая оказалась справочником по полезным травам более нового издания, начала XVII века. Но содержание крайне мало интересовало юного Шарля. Он лихорадочно сравнивал переплёты обеих книг с Везалием — и находил довольно много общего. Кожа, пошедшая на них, выглядела более хрупкой, нежели коровья или свиная, и выделка её изначально была более тонкой. Тем не менее количество мелких пороков, далеко не всегда заметных непрофессионалу, с точки зрения переплётчика, превышало нормальный процент брака. Кроме того, несмотря на примерно одинаковое качество, все три обложки значительно различались цветом — одна из них (травник) была значительно темнее остальных, и пороки на ней были не столь заметны.
И вдруг, держа в руках одну из книг, проводя пальцами по негладкой, тонкой, неровной коже, Шарль Сен-Мартен де Грези всё понял. Он положил травник на стол, потом прошёлся по нему подушечками пальцев левой руки. А затем провёл ими же по своему правому предплечью — от кисти до локтя. Потом он повторил свои движения ещё раз, и ещё раз, и понимание придавило его к стулу, он почувствовал себя необычайно тяжёлым, неподъёмным, откинулся назад на кресле и закрыл глаза, а пальцы его продолжали ласкать то книги отца, то собственную руку.
Он действительно ничего об этом не знал. Отец тщательно оберегал сына от контакта с подобным искусством, ограничивая его умение работать с кожей, умение обрабатывать её, делать прочной, приятной на ощупь; даже запах кожи играл немалую роль: отец знал, как будет пахнуть та или иная книга через сто лет. Но никогда Жан де Грези не упоминал — а Шарль де Грези не догадывался — о возможности переплести книгу в человеческую кожу.
Он рассматривал свою руку. Сколько возможностей скрывалось от него, сколько новых методик и способов превратить книгу в шедевр. Ведь человеческая кожа гораздо более сложна в обработке, нежели телячья, гораздо более требовательна — и пороки её значительно заметнее, нежели у «конкурентов» из животного мира. И, что самое главное, человеческую кожу можно подвергнуть обработке ещё до того, как она будет использована в переплётном деле — например, татуированная кожа даст один эффект, а вычерненная хной — другой. Кожа старухи и кожа младенца, кожа мавра и кожа европейца, кожа китайца и кожа скандинава — все они разные, все они могут придать книгам новые оттенки, свежие элементы, недоступные прочим переплётчикам.
Удивительно, но, будучи по натуре человеком добрым и отзывчивым, Шарль не чувствовал кощунственность собственных размышлений. Так же спокойно, как исчезновение Мари, он воспринимал необходимость человеческой смерти для создания переплёта-шедевра. Но Шарль не допускал мысли об убийстве — он уже прикидывал, как и где можно добыть человеческую кожу — на кладбищах для нищих, в моргах, в медицинских учреждениях. Впрочем, это было не столь и трудно, благо за определённую сумму достать можно было всё, что угодно, а уж различные части человеческого тела — и подавно. Бесплатных трупов тоже хватало — достаточно было побродить по окраинам Парижа, заглянуть в сточные канавы и под мосты. Другое дело, что для переплётного дела не годилась первая попавшаяся кожа. Шарль ещё не знал точно, но в силу опыта подозревал, что разница между разновидностями кож в человеческой среде гораздо более заметна, нежели, к примеру, между телячьими шкурами.
Помимо сферы технологической, размышления молодого человека уходили и в сферу духовную. В отличие от безликой и бессловесной коровы каждый человек уникален, и его индивидуальность обязана найти воплощение и в соответствующем переплёте. Так, ни в коем случае нельзя переплетать, к примеру, Библию кожей мусульманина (если, конечно, переплётчик не хочет жестоко пошутить над христианским священником, должным этой книгой пользоваться). Томик романтических стихотворений вряд ли чувствовал бы себя хорошо в коже бездомного пьяницы, а свод законов — в коже преступника. Таким образом, человек при жизни так или иначе писал свою собственную книгу — и эта книга post mortem получала переплёт, вмещающий в себя гораздо больше, чем просто портрет или словесное описание покойного.
Причина, по которой Шарль с таким восторгом воспринял новое знание, была проста. За предыдущие годы он — в силу своего таланта и умелой отцовской руки — научился в переплётном деле практически всему. Остальное должна была совершить практика. Если какие-то узоры и принты не получались у него с первого раза, то лишь по причине юного возраста. Теоретически же Шарль знал и умел всё, что только может знать и уметь хороший переплётчик. А всезнание непременно тянет за собой скуку — и Шарль скучал. Даже изобретение новых стилей и рисунков представлялось ему скучным. Он мог сделать любой переплёт, какой бы ни пришёл ему в голову.
Более того, Жан де Грези неоднократно экспериментировал с нестандартными материалами, и Шарль всегда наблюдал за этим процессом. В частности, для одного феодала Жан переплёл охотничий дневник в заячью шкурку с мехом, а для другого — в настоящую леопардовую шкуру (леопарда, лично убитого в Титтери[29], предоставил заказчик). Подобных опытов было немало, и потому даже оригинальные материалы казались Шарлю чем-то обыденным, естественным. Он мог инкрустировать переплёт даже морской галькой или камнями из мостовой, если бы потребовалось.
Но человеческая кожа была чем-то большим, нежели просто новый материал. Она представлялась новой наукой, целым пластом неизведанного, неиспробованного, и Шарль де Грези готовился к погружению в эту глубину.
Глава 6 ИСКУССТВО СВЕЖЕВАНИЯ
Шарль ни в коей мере не собирался превращать антроподермическое искусство (на момент событий этого термина не существовало, но мы позволим себе некоторый анахронизм) в нечто сокровенное. Наоборот, он мечтал о выполнении сторонних заказов по переплетению книг в человеческую кожу. С другой стороны, он стал бояться: если прямо сейчас в его дом войдёт клиент и попросит о таком переплёте, Шарль будет вынужден отказаться, поскольку ранее не имел в подобном деле никакой практики. А второго шанса может и не представиться. И потому Шарль тем же вечером отправился в район Рыбной улицы и соответствующего рынка, поскольку был уверен, что там найдётся чем поживиться. Он прихватил с собой крепкий десятидюймовый нож и тяжёлый литой штамп с удобной рукоятью.
Когда на рыночные районы опускалась ночь, на улицах тут же появлялась всевозможная шваль. Основной её целью было, конечно, подобрать оставшиеся от торговцев остатки пищи и, возможно, мелкие монеты, рассыпанные покупателями. Задачей Шарля был разговор с кем-нибудь из нищих, который мог бы вывести его на поставщика свежих тел с кладбищ или из подворотен. Тела, поставляемые в анатомические театры, в первую очередь поступали из тюрем или прямо с эшафота: такой роскоши переплётчик позволить себе не мог, поскольку вынужден был держать свои намерения в тайне. А вот за копейки нанять нищих, чтобы те доставляли по ночам трупы, было не столь и сложной задачей. Главное — успеть договориться прежде, чем тебя стукнут по голове и заберут к чертям всё, что ты принёс.
Добираться было довольно далеко, и Шарль нанял фиакр[30], благо мог себе это позволить. Возница доехал до пересечения Рыбного моста и улицы Клери, но заезжать в переулки отказался. «Разденут за милу душу, — сказал он, — и вы, хозяин, тоже туда не ходите, живым, может, и вернётесь, а вот штаны точно там оставите». Поблагодарив заботливого кучера, Шарль углубился в трущобы. Освещения тут практически не было, пришлось достать из заплечной сумки припасённый фонарь. Последний достаточно долго не хотел разгораться, а когда, наконец, осветил окрестности, Шарль непроизвольно отшатнулся. Вдоль стен сидели оборванцы и смотрели на нежданного гостя блестящими глазами. Они не разговаривали, не шушукались, почти не двигались, лишь сидели и смотрели. Шарль не знал, что делать. Громко спросить, где тут найти трупы или того, кто может обеспечить их доставку? Такой поступок казался молодому человеку не столько глупым, сколько весьма опасным.
Но сказать что-то нужно было, потому что позади него бродяги медленно перекрывали путь к отступлению. «У меня нет с собой денег, — сказал Шарль, — но я хочу нанять вас и заплатить вам, по столько-то каждому. — Бродяги насторожились. — И буду платить регулярно, если вы будете выполнять небольшую и нетрудную работу. Я специально приехал, чтобы вас нанять», — сказал он.
Они не отвечали. Шарль повторил свои слова ещё несколько раз в разной формулировке. Наконец от массы отделился один человек и спросил: «Чего ты хочешь?» — «Я скажу, — ответил Шарль, — но только тихо и только предводителю». — «Я — предводитель». — «Тогда давай отойдём в сторону». — «Хорошо, пойдём». Предводитель махнул рукой куда-то в глубь улицы, но Шарль покачал головой. «Нет, туда я не пойду. Будем говорить здесь. Если ты предводитель, прикажи им отойти». Бродяга оглянулся и махнул рукой. Его соратники и в самом деле расступились, освобождая место у стены.
«Пойдёт?» — спросил предводитель. «Пойдёт». — «Тогда говори». — «Мне нужны трупы». — «Кто?» — удивился предводитель. «Трупы, мертвецы; свежие, не более одного дня с момента смерти, лучше — два-три часа; одно тело в неделю». Предводитель поскрёб подбородок рукой. «Женские, мужские?» — спросил он. «Неважно, и те и другие, и даже детские пойдут, то есть разные нужны». — «Сколько заплатишь?» — «Столько». — «Хорошо, по рукам. Куда приносить?» Шарль назвал улицу по соседству от своей и добавил: «Там я буду встречать, в три часа ночи, раз в неделю, при каждой новой встрече буду назначать дату следующей». — «Хорошо, — кивнул предводитель, — будет; завтра уже нужно?» — «Уже нужно». — «Хорошо».
Они замолчали. Шарль почувствовал себя так же неудобно, как и в самом начале своего «визита». С одной стороны, нужно было уходить. С другой — бродяги не собирались расступаться, и, кроме того, он не хотел показывать им спину. Слава богу, что Шарль догадался не давать точный адрес. А то кто их знает, бродяг. Они же теперь понимают, что у него есть деньги. И, кстати, могут отследить, куда он будет оттаскивать тела после «товарообмена».
Всё это вихрем пронеслось в голове молодого человека, и он решился. «До завтра», — сказал он и развернулся. «Всё будет», — ответил бродяга. Как ни странно, людская масса разошлась, выпуская Шарля.
Он быстро дошёл до перекрёстка, на котором расстался с кучером. Было очень темно, справа светились фонари стражников — до городской стены было рукой подать. Шарль пошёл налево, надеясь по дороге поймать экипаж, но, как назло, никого не было. Улица Монторгё, по которой он шёл, была достаточно широка, но людей на ней было довольно мало; у домов мелькали неясные тени, видимо, бродяги. Женщина в мешковатом платье помахала Шарлю из-за дерева, он обернулся и увидел, что её платье оставляет оголённой грудь. Проститутка, не иначе. Он ускорил шаг.
«Стой, — раздался тихий мужской голос. Шарль ускорил шаг. — Стой, я сказал». Шарль уже почти бежал, слыша за спиной тяжёлый топот, причём нападающих было несколько человек. Молодой человек на бегу достал из внутреннего кармана штамп, другой рукой вытащил из-за пояса нож, благо куртка была достаточно коротка и движений не стесняла. Нападавшие догоняли. «Стой!» — заорал кто-то из них.
И Шарль остановился. Он остановился резко, точно секунду назад не бежал сломя голову, а шёл прогулочным шагом, и тут же развернулся, одновременно замахиваясь штампом; он видел, что первый нападающий не успевает затормозить, и просто вытянул штамп вперёд, почти не применяя силы, и попал точно в лоб негодяю. Раздался характерный хруст, во лбу бандита образовалась мощная вмятина, а пест вылетел у Шарля из руки и зазвенел по камням мостовой. Нож переплётчик при этом сжимал в руке, но не размахивал слепо перед собой, как делают трусы. Он просто ждал, оглядывая притормозивших и опешивших преследователей. Их было ещё двое, у обоих в руках блестели ножи примерно такой же длины, как и у молодого человека.
«Что уставились? — спросил Шарль. — Хотите, чтобы и вас порешил?» — «Сука, — тихо ответил один, — мы тебя сейчас на ремни порежем». У Шарля не было шансов. С обоими справиться не получится. Шарль присел на корточки у тела упавшего, протянул руку, взял мертвеца за нос и одним движением отрезал хрящевую часть последнего. «Ты что делаешь?» — спросил один из бандитов. Шарль молча положил хрящ в рот и стал жевать. По его губам текла кровь. Бандиты сделали по шагу назад. «Ты что сделал, урод?» — спросил другой бандит, в его голосе прорезались истерические нотки. Шарль выплюнул нос, нагнулся и оттянул мертвецу правое веко.
Бандит, который стоял подальше, развернулся и побежал. Второй нерешительно, спиной, двинулся за товарищем. «Урод, извращенец», — бросил он Шарлю напоследок. Тот уже отхватил у трупа веко и держал его в руке; кровь стекала и капала мертвецу на лоб.
Как только оба бандита исчезли, Шарль с отвращением бросил окровавленный кусок плоти на землю. Ему дорогого стоило сделать то, что он сделал, но это возымело успех. Они боятся психов, потому что все боятся психов. Теперь перед ним лежал мертвец с изувеченным лицом. Некоторое время Шарль смотрел на тело, а затем нагнулся и начал срезать с трупа одежду. Обнажив грудь мертвеца, он провёл по коже ножом, обозначая квадратный участок со стороной порядка десяти дюймов. Надавив чуть сильнее, он прорезал кожу и мясо примерно на полдюйма вглубь. Затем, помогая себе второй рукой, он стал поддевать квадрат, аккуратно, стараясь не порвать, снимая с мертвеца кожу. Через несколько минут всё было кончено. Шарль свернул вырезанный квадрат и запихнул под куртку.
Он весь измазался в крови и грязи — руки, лицо и одежда выдавали в нём убийцу. Первый же стражник, встретивший Шарля на пути, арестовал бы его, не разбираясь, что произошло. А найдя кусок человеческой кожи, стражник уверился бы в своей правоте. Поэтому остаток пути до дома Шарль проделал по мелким улицам, прячась в тени, — то есть там, куда ещё час назад боялся даже заглядывать. Никто его не побеспокоил, никто не окликнул, и через некоторое время Шарль был дома.
Первым делом он спустился в погреб и положил квадрат кожи на открытое место в самой холодной части. У отца был небольшой запас дубильной вытяжки, из которой он порой делал раствор — при необходимости выдубить некий участок сырой шкуры определённым образом, не практикуемым в больших дубильных мастерских. Например, иногда отец нуждался в недосохших кожах, выдубленных не полностью или с пропуском какой-либо из фаз подготовительного процесса — их неровная, морщинистая поверхность использовалась в художественных целях. Шарль неплохо представлял себе процесс подготовки и дубления, но при жизни Жана почти не имел практики, поэтому работа ему предстояла непростая.
Шарль с наслаждением сорвал с себя грязную, покрытую коркой крови одежду и бросился в банную комнату, где вымылся в холодной воде — греть её не было ни времени, ни желания. Более или менее приведя себя в порядок, он почувствовал, что сегодня ничего более делать не может, так как невероятно устал. Шарль поднялся в спальню, свалился на кровать и уснул.
В первые утренние минуты он не мог вспомнить из вчерашнего дня решительно ничего. Потом память начала возвращаться и последовательность событий так или иначе стала восстанавливаться. Сначала Шарль вспомнил о книгах из отцовской библиотеки, потом о своём спонтанном решении нанять поставщика тел, потом о поездке на Рыбную улицу, затем — о драке и убийстве и, наконец, о куске человеческой кожи, лежащем в погребе. На секунду ему стало страшно — но вовсе не из-за своего бесчеловечного намерения, а из-за мышей, которые могли сожрать кожу. Но он тут же сообразил, что мыши у него не водились — ещё отец законопатил все углы и регулярно обкладывал места возможного проникновения быстродействующими ядами.
Шарль оделся, умылся и спустился вниз. Кожа лежала там, где он оставил её вчера. По дороге в подвал он заскочил в мастерскую и прихватил перчатки; теперь он взял окровавленный квадрат, уже не опасаясь испачкаться. Судя по толщине и строению, человеческая кожа требовала гораздо меньших усилий по дублению, нежели телячья, недели в растворе вполне должно было хватить. Правда, кроличьи шкурки отец дубил в течение не более чем трёх дней — но Шарль понимал, что новый материал так или иначе придётся исследовать путём проб и ошибок.
Он налил холодной воды в небольшую ёмкость и поместил туда кожу для отмокания. Каждые полчаса он извлекал квадрат и мездрил[31] его, аккуратно соскабливая с внутренней стороны кожи остатки мяса и жира. У отца была небольшая мездрильная колода: Шарль перекладывал кожу на неё, а затем неумело, но старательно скоблил поверхность мездряком. Параллельно он прикидывал, что ещё придётся делать, прежде чем приступать к дублению. В отличие от невыделанной телячьей кожи человеческая не требовала проводить обезволошение (по крайней мере, данный квадрат — грудь убийцы оказалась безволосой); кроме того, Шарль не был уверен в необходимости пикелевания[32] и прочих подготовительных процедур, обычных для животного голья.[33] Человеческая кожа в только-только снятом состоянии выглядела почти так, как телячья, прошедшая все стадии преддубильной подготовки. Но всё-таки он решил действовать по традиционной методике, не ставя опыты — для этого у него будет достаточно времени в будущем.
Ближе к полудню, оставив кожу на отмоку[34], Шарль вернулся к обыденным занятиям: его ждал переплёт молитвенника для настоятеля одного аббатства под Парижем. Он работал до двух часов, затем ненадолго выскочил на улицу, пробежался по лавкам, залетел на рынок, прикупил еды, а заодно соли, уксуса, конского щавеля для дубильного раствора. На обратном пути Шарль проходил мимо дубильных мастерских и приобрёл уже готового раствора (соль и уксус, подумал он, всё равно понадобятся рано или поздно, например, для пикелевания), квасцов[35] и коры. Нагруженный с ног до головы, он вернулся домой и работал до позднего вечера.
Ночь предстояла непростая. Шарль решил не ложиться, поскольку выспаться всё равно бы не удалось. Последние два часа перед выходом Шарль изучал переплёты из человеческой кожи, найденные в отцовской коллекции. Здесь были и работы отца, и шедевры других мастеров, в том числе самого Гролье (Шарль никогда бы не подумал, что знаменитый переплётчик работал с таким своеобразным материалом) и Николя Эва[36], придворного мастера короля Генриха III.
Некоторой неумелостью отличались только ранние переплёты де Грези, сделанные из человеческой кожи в тридцатые годы семнадцатого века. Начиная с сороковых они становились всё более и более совершенными и к пятидесятым уже ничем не отличались от классических переплётов из животных материалов. Видимо, в тридцатых де Грези впервые столкнулся с человеческой кожей и некоторое время осваивал этот материал. Тот же путь предстояло пройти юному Шарлю.
Всего за полчаса до выхода Шарль нашёл книгу, которая заинтересовала его больше других. Дешёвый картонный переплёт, не обтянутый вовсе никакой кожей, выдавал в ней то ли блокнот, то ли рабочую тетрадь, основной задачей которой было не разваливаться, никакой эстетики хозяин от неё не требовал. Тетрадь стояла среди книг второго верхнего ряда, и, открыв её, Шарль понял, что нашёл искомое.
В тетради Жан де Грези вёл статистику по книгам, переплетённым в человеческую кожу. Каждая книга учитывалась и сопровождалась информацией: когда сделан переплёт, чья кожа использована, где добыт труп и сколько он стоил, каким образом труп ликвидирован, сколько кожи с него пошло в работу, какого она была качества и так далее. Так, изученный Шарлем том Везалия был, как оказалось, всего лишь третьей попыткой Жана де Грези в столь щекотливом деле и потому пестрил многочисленными погрешностями. На его переплёт пошла кожа казнённого через повешение. «Пальмерин Оливский»[37] издания 1619 года получил кожу неизвестного турка из трущоб, «Повесть о Сегри и Абенсеррахах» де Иты[38] издания 1642 года — тёмную кожу испанского мавра, а старый испаноязычный «Амадис Гальский»[39] середины XVI века — кожу, по утверждению де Грези, юной девственницы.
Наиболее интересной графой Шарлю показалась та, в которой указывались источники тел. Как ни странно, Рыбная улица и другие трущобы редко фигурировали в записях Жана де Грези. С чернью и ворами он договаривался в основном на Новом мосту или под ним. Шарль знал Новый мост как злачное местечко, кишащее проститутками (они нередко обслуживали клиентов прямо под мостом), но ввиду открытости и отсутствия зданий настоящие отбросы общества не так часто ошивались в том районе. Некоторое время переплётчик изучал список анатомических кабинетов, кладбищ и небезопасных кварталов, но затем усилием воли оторвался от книги. Нужно было выходить из дому. Взяв с собой обещанную вору сумму и ни одним су более, он покинул дом и направился на условленную улицу.
Узкая и извилистая, Каменная улица была безлюдна даже днём. Экипаж тут проехать не мог, человек приличный считал ниже своего достоинства топтать ногами вонючие отбросы, и Каменную использовали разве что для срезания пути, да ещё хозяйки, кто жил повыше, вывешивали сушиться бельё. Каменная была замощена очень давно, когда большинство улиц имели намеренно вогнутое по центру покрытие — таким образом обеспечивался сток нечистот. Более широкие улицы перемостили в самом начале правления Людовика XIV по приказу кардинала Мазарини, оборудовав их скрытыми стоками, отводящими грязь в канализационные катакомбы. Бросать мусор прямо на мостовую на таких улицах строго запрещалось. Каменная же продолжала выполнять техническую, так сказать, «помойную» функцию.
Шарль привык ко всяким запахам. Он не зажимал нос, идя по Каменной, и внимательно всматривался во тьму, пытаясь заметить воров с товаром. Пройдя улочку до конца, он уверился, что «поставщиков» ещё нет. Но в этот самый момент позади раздалось чуть слышное цыкание. Шарль обернулся. Вор, с которым он разговаривал на Рыбной, стоял в какой-то нише, рядом с ним виднелись ещё две фигуры. У ног воров лежал большой свёрток.
Шарль подошёл. «Мужчина, — сказал вор, указывая на свёрток, — свежий, сегодня днём окочурился». Шарль молча протянул вору кошелёк. Тот спрятал его за пазуху и спросил: «Сами донесёте или помочь?» — «Сам, — ответил Шарль, — уходите, вам тут опасно». — «Да, — согласился вор, — сейчас уйдём; когда следующего? в воскресенье? в понедельник?» — «Нет, — ответил Шарль, — в ночь со вторника на среду, не раньше. Мне с этим ещё разобраться». — «Хорошо, — кивнул вор, — во вторник так во вторник; тут же?» — «Да». Вор ещё раз кивнул, и все трое исчезли во тьме.
Шарль не без труда закинул тяжёлое тело на плечо. Оно было завёрнуто в грязную мешковину, да и без того воняло порядочно. Впрочем, Шарль понимал, что чистым так или иначе остаться не получится. Идти от Каменной до его улицы было минут пять — но без тяжеленного трупа на плече. Тем более Шарль шёл по самым узким и тёмным улочкам, иной раз даже выбирая более дальний путь в целях безопасности. Как ни странно, добрался он безо всяких проблем, не встретив по дороге ни одного человека. В отличие от окраинных кварталов в этом районе жили более или менее обеспеченные граждане, не имеющие привычки шляться по ночам в поисках наживы. Добравшись до дома, Шарль свалил свёрток около порога, открыл дверь и втащил тело внутрь.
Внезапно он понял, как на самом деле устал. Он тянул труп на каком-то диком, рьяном энтузиазме, который теперь истощился, на молодого человека обрушилась вся тяжесть ночи. Он с трудом закрыл дверь, понимая, что тело в любом случае нужно оттащить в подвал. Последняя операция заняла у него чуть ли не больше, чем путь от места приобретения тела до дома. Ноги Шарля подкашивались, но всё-таки перед тем, как рухнуть в постель (на умывание сил не хватало), он развернул мешковину — посмотреть на товар. Как и было сказано, это был мужчина неопределённого возраста, судя по виду, жалкий пьяница. «В следующий раз скажу, чтобы выбирали получше», — сонно подумал Шарль, поплёлся наверх и, не раздеваясь, упал на кровать.
Утром ему было очень плохо. Во рту точно резвились кошки, в комнате страшно воняло, руки и одежда были покрыты грязью и какой-то засохшей дрянью, напоминающей рвоту. Шарль с омерзением содрал с себя вонючую одежду, отправился в туалетную комнату и забрался в бочку с холодной водой, предназначенной для стирки белья (крупные вещи де Грези, безусловно, отдавал в прачечную, но мелкие предпочитал стирать сам). Часть воды выплеснулась на пол. Шарль осатанело тёр себя криво отрезанным куском мыла, раздирая кожу, пытаясь снять её вместе с грязью.
Через некоторое время он понял, что замёрз. Более того, на душе у него скребли мыши. Вчерашние приключения полностью избавили его от иллюзий: работа с человеческой кожей уже не представлялась столь романтичной и прекрасной, как вначале. Более того, постфактум анализируя свои поступки, Шарль проникся к себе откровенным отвращением. Боже, он жевал (пусть в итоге и не проглотил) человеческую плоть, он убил человека и изувечил его труп, более того, ещё один труп лежит у него в подвале! У Шарля возникло мгновенное желание как можно быстрее спуститься вниз и выбросить куда-нибудь тело, сжечь его, уничтожить, чтобы не было этой мерзости в его доме.
Но Шарль умел держать себя в руках. Он спокойно вытерся, оделся и сказал себе: «Я начал, я закончу». Он не привык бросать дела на середине.
Спускаясь вниз, Шарль думал о том, как нужно свежевать труп. Снимать с него кожу так же, как отец учил снимал её с кроликов? Но человек гораздо больше, его кожа тоньше, да и форма тела у него совсем другая! Молодой переплётчик понимал, что с первого раза у него вряд ли что-нибудь получится.
Труп лежал на столе, где переплётчик его вчера и оставил — завёрнутый в полотно, неприятно пахнущий. Шарль бросил на него быстрый взгляд и, оттягивая момент «трупной работы», решил дообработать вычищенный квадрат кожи, снятый с тела грабителя. Участок отмок очень хорошо — значительно быстрее и лучше звериной шкуры. Шарль переложил отмокший квадрат на колоду и довольно быстро отмездрил его до практически идеального состояния. Сменив воду в чане, он вернул туда отмездренную кожу. До золки можно было смело вымачивать кожу ещё по крайней мере два дня, и потому Шарль планировал объединить золку[40] первого участка с золкой свежей кожи, которую предстояло снять с трупа.
Шарль развернул полотно и осмотрел мертвеца. Конечно, следовало поступить с ним, как обычно поступают с животными: сразу после убийства слить кровь и лишь затем приступать к свежеванию. Но к моменту доставки тела кровь уже свернулась, сливать было, по сути, нечего, поэтому Шарлю предстояла довольно грязная работа. Другое дело, что внутренние органы ему были ни к чему, поэтому можно было допустить определённые неточности при свежевании. Он вспоминал, как его отец работал с мелкой живностью. С кроликов старик де Грези сдирал шкуру одним резким движением, предварительно насадив тушку на специальный крюк, вбитый в стену. С человеком подобное бы не прошло, поэтому Шарль принял решение сделать так же, как и вчера, вырезав наиболее подходящие для обработки части кожи. Возможно, в будущем он научится работать более экономно, но пока нужно было освоить хотя бы азы.
Сначала он подготовил ещё несколько ёмкостей с водой, чтобы сразу помещать снятую кожу в отмоку. Это позволяло серьёзно сэкономить время: когда последние участки поступали на отмокание, первые уже можно было более или менее мездрить.
Он сделал аккуратные глубокие надрезы по периметру плеч, отделяя руки от туловища. Затем провёл ножом по бокам от подмышек к бёдрам. Там он разделил кожу бёдер и кожу ног, после чего аккуратно оскопил мертвеца. Таким образом, вся передняя часть тела представляла собой единый пласт кожи, вполне удобный для отделения от мяса. К этому процессу Шарль подошёл осторожно, стараясь не порвать драгоценный материал. Усидчивости ему было не занимать, и через примерно пятнадцать минут слой площадью в несколько квадратных футов[41] уже был у него в руках. Аккуратно разложив кожи по ёмкостям, Шарль приступил к следующему пункту — снятию кожи со спины. Это далось Шарлю несколько проще. Единственным неприятным моментом стала необходимость перевернуть труп. Пришлось накрыть его переднюю часть тряпкой, чтобы не измазать весь стол. Впрочем, телесные соки протекали; много лет спустя разделочный стол Шарля почернел и приобрёл специфический запах — но не будем забегать вперёд.
На спине у мертвеца были шрамы от плети. Били его, видимо, неоднократно, поэтому кожа имела специфический, так сказать, рельеф. Тем не менее Шарль отправил в отмоку и её, предполагая впоследствии использовать для каких-либо украшений переплёта. На этом он остановился. Полагая в будущем более экономно пользоваться поступающими телами, в данном случае он здраво рассудил, что на какие-либо ухищрения ему может попросту не хватить мастерства, а на пару опытных переплётов имеющейся в наличии кожи вполне хватит.
Он завернул тело в тот самый грязный «саван», в котором его принесли бродяги, после чего стал раздумывать о том, как избавляться от трупов. Несомненно, делать это следовало ночью. Возможно, лучшим путём был бы «обмен». То есть бродяги, принося новый труп, как раз могли бы забирать с собой старый. Но такое решение было бы приемлемым в случае достаточной частоты поставок. При редких визитах бродяг тела начинали бы гнить прямо в доме де Грези, чего Шарль допустить никак не мог. Кроме того, целое тело переносить с места на место было довольно трудно. Поэтому Шарль пришёл к выводу, что трупы нужно расчленять.
С непривычки он делал это довольно долго — топором и ножом. В итоге пол в мастерской был забрызган кровью и грязью, но зато тело поместилось в достаточно компактный мешок, который можно было просто отправить в телегу для отбросов, проезжающую по улице два раза в день. Или просто выбросить его, полагаясь на сборщиков мусора.
Самой неприятной работой для Шарля оказалось мытьё пола и стола. Угробив на это кучу времени, Шарль впредь был аккуратнее, застилал всё вокруг тряпьём, кровь сливал, насколько это было возможно, тело перед свежеванием обмывал.
Но в этот раз он очень устал. Солнце уже клонилось к закату, день приближался к вечеру, и Шарль отправился спать, полагая, что утром со свежими силами сможет сделать гораздо больше, нежели сегодня. До первой книги было ещё далеко.
Глава 7 ПЕРВАЯ КНИГА
Как впоследствии обнаружил Шарль, не было в его работе ничего более трудного, чем доставка, свежевание и ликвидация трупа. Человеческая кожа оказалась в мастеровитых руках благодатным материалом, отлично пригодным для любых целей, в том числе, конечно, и для создания переплётов. В ту ночь Шарль проснулся в три часа, оделся и выволок наружу мешок с расчленённым телом. Тащить неприятную ношу пришлось не менее четверти лье[42] — лишь в нескольких кварталах от дома переплётчик решился оставить труп.
Впоследствии он усовершенствовал методику доставки тел. Во-первых, он завёл небольшую тележку, с какой приходят на базар продавцы овощей и фруктов, то есть нечто вроде лотка на колёсах. В нижнюю, закрытую, его часть отлично помещался мешок с расчленённым телом. Когда же Шарль забирал очередной материал у поставщиков, приходилось взваливать тело на верхнюю часть тележки. В таком случае Шарль рисковал попасть в руки патруля, но ему везло. Да и в любом случае, заслышав где-то в темноте цоканье копыт, он на всякий случай скрывался в тени.
Впоследствии он понял, что тело в неделю — это довольно много. Кожи с одного мертвеца хватало на несколько книг, даже с учётом проб и ошибок. Зато Шарль в совершенстве научился обрабатывать кожу в домашних условиях, отбирая хлеб у членов гильдии кожевенников. Отмокала человеческая кожа быстро, мездрилась хорошо. Для ускорения отмоки Шарль стал добавлять в воду соль, в итоге полная отмока и мездрение укладывались в два дня.
В земляном полу подвала пришлось вырыть три небольших зольника, а также добыть порядочный запас извести. Отец крайне редко покупал свежеснятые шкуры, обычно он дубил добытое в дубильных мастерских гольё, уже прошедшее предподготовку. Но Шарль обрабатывал кожу практически в промышленных масштабах — в сравнении с отцом, и, кроме того, не мог воспользоваться услугами кожевенной мастерской. Правда, человеческая кожа и золки требовала совсем несложной: уже через три дня выдержки в известковом молоке кожа приобрела ровный, равномерный окрас, а волосков на ней не осталось после первой же проводки туляком[43]; назвать данный процесс дернением[44] было сложно, так как занимал он от силы несколько минут. Несмотря на кажущуюся простоту предварительной подготовки, Шарль выдержал кожу ещё три дня — к этому моменту подошло время второго «свидания» с поставщиками тел.
За прошедшие дни Шарль организовал компактную дубильню в одном из углов мастерской, прикупил ещё раствора и сконструировал в светлой гостиной второго этажа сушильную машину. Она представляла собой систему тонких дощечек, привязанных перетянутыми через блоки шнурами. Отвязав и ослабив шнур, Шарль мог спустить любую из дощечек вниз; в «рабочем» состоянии они располагались под потолком. Таким образом, Шарль без малейших проблем развесил кожу первого доставленного мертвеца для просушки. Правда, по всему дому начал распространяться характерный запах, но это казалось сущим пустяком по сравнению с перспективами, открывавшимися перед переплётчиком. Дубильня, в свою очередь, была просто купленным на базаре глиняным чаном, вкопанным в землю, — для простейшего ямного дубления. Яму рыть не пришлось — она осталась с отцовских времён, нужно было только расширить её под новый, более крупный, чан.
Промытое после золки гольё Шарль шакшевал[45] с помощью киселей. Достать чистую шакшу было не столь просто: эта чудовищно вонючая смесь из собачьего и куриного помёта продавалась только членам гильдии кожевенников, а собирать по окрестностям пёсьи отходы Шарль желания не имел. А вот ингредиенты для шакшевального киселя продавались на обычном рынке или у булочника — овсяная или ячменная мука, хлебная закваска, квасная гуща, соль. Всё это Шарль замешивал с тёплой водой — и погружал туда кожу примерно на половину суток. В подвале пришлось разжигать огонь, чтобы поддерживать кисель в тёплом состоянии; механизм вывода наружу дыма был обустроен ещё при отце, которому тоже приходилось шакшевать гольё.
Первоначально Шарль хотел устроить в подвале небольшой гашпиль — барабан для механического шакшевания. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как гашпиль требовал постоянного контроля. В кожевенных мастерских его вращали ученики, Шарль же не мог себе позволить тратить на это время. Вообще, с появлением нового занятия у него не оставалось ни одной свободной секунды даже на приведение себя в порядок или на еду. Шарль работал двадцать четыре часа в сутки — выполнял переплётные заказы и параллельно обрабатывал кожу мертвецов. Он уже понимал, что включить в этот график ещё и создание переплётов из человеческой кожи он просто не сумеет, и потому решил чередовать занятия. Сначала нужно было заготовить достаточное количество кожи для пары десятков книг — затем делать переплёты. Потом снова заготавливать — и снова переплетать.
После шакшевания кожу необходимо было промыть (это занимало порядка двух часов), а затем проспиртовать. Высушивать кожу перед дублением не требовалось: при передержке она попросту трескалась и становилась негодной. Далее наступал черёд дубильных экспериментов. Методики обработки различных шкур Шарлю были известны, с человеческой же кожей приходилось продвигаться вперёд методом проб и ошибок. Первая порция кожи, готовая к дублению, состояла из квадрата с груди убийцы и всей кожи, снятой с первого мертвеца. Кожа второго пока что была на стадии золки.
В качестве опытного материала Шарль решил использовать упомянутый квадрат. Остальная кожа могла немного подождать. Шарль расстелил его на верстаке и аккуратно разделил на четыре части. Первую часть, влажноватую, хрупкую, он стал аккуратно натирать смесью заранее приобретённого на базаре бараньего жира и яичных белков. Мерзкое вещество втиралось с трудом, норовило ускользнуть из-под пальцев и заляпать всё вокруг, но Шарль не сдавался. Наконец его затея увенчалась успехом, и промазанный жиром квадрат был уложен на чистую деревянную поверхность на втором этаже дома. Шарль нёс его на вытянутых руках, церемониально, точно предмет необычайной ценности. Дубильный раствор для этого кусочка был не нужен: Шарль на всякий случай решил оценить методику естественного жирового дубления. Кожа должна была некоторое время — до вечера — полежать в развёрнутом состоянии, затем Шарль планировал её свернуть, закатать в мешок и уложить в тёмное место. Чисто теоретически на выходе должно было получиться нечто вроде замши, хотя твёрдой уверенности у юноши не было.
Второй участок Шарль решил обработать по методике получения опойка.[46] Исходный продукт опойка — шкурки телят-сосунков — чем-то напоминал человеческую кожу, в частности, тонкой, однородной, чистой мездрой. Он не требовал пикелевания, да и дубильного раствора хватало весьма слабого. Разведя готовый раствор должным количеством воды и наполнив результатом небольшую лохань, Шарль поместил туда второй и третий куски — и приступил к четвёртому.
Его Шарль собирался не дубить, а подготовить по пергаментной методике, получив тонкую сыромятную кожу. Некоторое время он колебался между пикельной и квасцовой сыромятью, но затем отдал предпочтение второй. На результат пикелевания он сможет посмотреть и на примере третьего обрезка, а вот прямое воздействие дубильных квасцов — без предварительной обработки — могло принести интересные плоды.
Теперь следовало подвергнуть обработке кожу первого мертвеца. Её было довольно много, и Шарль решил не ставить на ней опыты, а воспользоваться проверенной методикой отца, то есть обычным ямным дублением. Засыпав в дубильную яму корьё — сначала старое, откидное[47] примерно на четыре дюйма, а затем свежее, измельчённое, ещё на два дюйма, Шарль поместил туда слой кожи бахтармой[48] вниз, затем прослоил корой, затем слова уложил слой кож, и снова коры — и так до момента, пока кожи не закончились. Воды Шарль налил на два дюйма выше последнего слоя корья — и оставил чан в покое. Толстую коровью шкуру таким образом могли дубить до двадцати дней, но в данном случае Шарль был уверен, что хватит и пяти-семи.
Подготовив опытные образцы, Шарль приступил к главному — попытке неумело, хоть как-нибудь, но всё же изготовить полноценный переплёт. Молодой человек даже не думал тщательно выбирать книгу для подобных целей. Основной своей задачей он видел именно процесс, а не результат. Последний придёт с опытом. Поэтому в качестве экспериментального образца он взял первую попавшуюся книгу из обширной библиотеки отца. Впрочем, сказать «первую попавшуюся» в данном случае было бы некорректно, так как львиная доля книг, безусловно, имела переплёты. Но встречались и книги, лишённые внешней оболочки — те, которые отец отложил «на потом», или те, которые он вовсе собирался выбросить, не переплетая, да всё как-то жалко было. В частности, Шарль нашёл средней ценности сборник политических памфлетов времён первого министерства Мазарини. Именно эта жалкая книжонка стала первой вехой на пути становления великого мастера антроподермического искусства.
Кожи, снятой с груди и живота безымянного мертвеца, хватило бы как минимум на три книги. Но Шарль не знал, как изменяются свойства человеческой кожи после всех процедур. Внимательно изучив подсушенное гольё, он пришёл к выводу, что более всего человеческая кожа напоминает по своей структуре свиную (по крайней мере, значительно больше, нежели телячью или козлиную шкуру). Со свиной кожей молодой де Грези работал значительно реже, чем с телячьей, по очень простой причине: заказчики нередко подчёркивали, что не хотят видеть ту или иную книгу, облачённую в столь низкий материал. Де Грези умалчивал, что они не сумеют даже отличить одну кожу от другой. Деньги не пахнут, рассуждал он, что закажут — то и сделаю. Впрочем, основным преимуществом свиной кожи перед выростком[49] или опойком были технико-эстетические свойства: после дубления она становилась практически белой и была наиболее удобной для раскраски.
Для обработки свиной кожи обыкновенно применялись квасцы. Запас оных у Шарля, как уже упоминалось, был, и потому процесс закладки кожи на дубление занял не так и много времени. Вырезать соответствующий участок для переплёта предстояло уже после окончания процесса.
Сделав заготовку, Шарль некоторое время думал о том, стоит ли всё-таки сохранить изувеченную плетью кожу со спины мертвеца. Но в итоге он также уложил её дубиться в раствор — на всякий случай.
Шарль уже перестал чувствовать себя усталым после работы с человеческим материалом. Он понимал, что его прежняя усталость была чувством скорее психологическим, нежели физическим, и теперь, попривыкнув, он стал воспринимать работу с кожей гораздо более спокойно.
Пожалуй, следующие несколько дней стоит описать вкратце, так как события, их занимавшие, были не столь значительны, сколь последовавшие за ними. Во-первых, за эти дни Шарль забрал очередного мертвеца — на этот раз женщину, судя по всему, шлюху. Кожа у неё была белая и гладкая, не считая неприятных складок под ягодицами, но Шарль мог себе позволить использовать не весь доставшийся ему материал. Во-вторых, он выполнил достаточно высокооплачиваемый заказ для одного дворянина, пожелавшего остаться неизвестным, — алтабасовый[50] переплёт молитвенника, составленного индивидуально для заказчика. Работа с тканью всегда казалась Шарлю, как, впрочем, и его отцу, слишком простой, чересчур примитивной, недостойной настоящего переплётчика. Но заказчики любили аксамитовые[51] или атласные переплёты, в особенности на книгах, предназначенных для женских глаз. Иногда с некоторым трудом их можно было переубедить, что сафьян, как компромисс между тканью и кожей, будет смотреться значительно лучше. Но такие вещи позволял себе старик Жан. Шарль с клиентами не спорил.
К концу одного из дней он почувствовал, что свиная кожа готова. Одновременно он вынул из дубильных составов квадраты, вырезанные из случайно доставшегося ему куска кожи; лишь первый участок, подвергнувшийся жировому дублению, ещё «не созрел». Шарль обмыл дублёную кожу; он решил ничего не додубливать, поскольку стоило проверить результат на текущей стадии. Ещё сутки понадобились на иссушение кожи. Все участки, как ни странно, смотрелись неплохо и обладали достойными механическими качествами. Правда, совершенно разными — но того и добивался юный переплётчик.
Ясным летним днём 1664 года Шарль Сен-Мартен де Грези приступил к работе над первым своим переплётом из человеческой кожи.
Он не планировал использовать для украшения последнего ничего, кроме блинтового тиснения самого простого свойства — пройтись несколько раз колёсной басмой[52], и достаточно. Гораздо больше вопросов вызывал способ крепления кожи к картонной основе. Не повредит ли малоизученному материалу обычный клей?
Сборник памфлетов представлял собой четыре тетради по 48 листов в каждой. Аккуратно их измерив, Шарль подобрал подходящие крышки из заготовленных заранее — серый дешёвый картон без каких-либо изысков, без скосов и пропилов (впрочем, на картоне последние встречались крайне редко). Формат был подобран; Шарль наложил картонные шаблоны на расстеленную на столе кожу и аккуратно, по давно изученной методике, быстро расчертил материал под стандартный цельнокожаный переплёт, после чего в считаные минуты вырезал выкройку. Шарль всегда считал, что в случае, когда работа не несёт серьёзного риска, нужно всё делать быстро и уверенно. Подобно тому, как человек, двигаясь по канату с малой скоростью, рискует упасть каждую секунду, а пробегая по тому же канату со скоростью значительно большей, практически не раскачивает под собой бечеву и имеет лучшие шансы на достижение цели.
Умелыми движениями Шарль завернул внутренние края кожаного листа внутрь и временно закрепил их. Всё сошлось: можно было проклеивать. Такими темпами Шарль рассчитывал уже завтра приступить к украшению — ведь одним из важнейших вопросов был: насколько хорошо человеческая кожа поддаётся финальной обработке? Легко ли её окрашивать? Насколько равномерно распространяется блинт при прокатке колёсной басмой? И так далее.
Он снова развернул кожаный лист.
Внезапно Шарль понял, что может работать даже с закрытыми глазами. В его сердце вонзилась тупая игла и медленно шла через изображённые Иоганном де Калькаром[53] ткани, пробивалась через витиеватые описания Везалия, через странные слова Парацельса, через многочисленные ошибки Галена, через собачьи головы и глаза по центру груди. Она растекалась жидким металлом, меняла форму и снова превращалась в иглу, и руки Шарля обращались в пепел, рассыпавшийся бесформенными клочками по столешнице, пропитывая её, задевая по пути лампы и свечи, оплавляя зеркала, ритмы и обугливая потолочные балки. Время остановилось, застыло, превратилось в патоку, в желеобразную массу, через которую медленно летели шестикрылые голуби, и архангел Гавриил, похожий на чёрную лодку, трубил, сидя на облаке из пепла рук переплётчика. Теперь Шарль твёрдо знал, что он никогда не станет старше отца, что единственная доступная ему дверь в жизнь закрыта, завалена, запечатана звуками трубы, и остаётся лишь смерть, раскалённым жалом ползущая по его телу, внутри него.
Под веками Шарля в этот момент не было глаз, но видел он более, чем все люди на Земле, вместе взятые. Видел он, как чёрные овцы идут по наклонной всё ниже и ниже, и только одна, белая, стремится вниз. Видел он, как сменяется секунда за секундой, минута за минутой, час за часом, день за днём, месяц за месяцем, год за годом, как в огромном море бурлящей крови утопают две короны — мужская и женская, и падает вниз остро наточенный нож со скошенным лезвием. Видел он, как маленькая человеческая фигурка идёт среди великанов, и расталкивает их, и вдавливает в грязь, и приходит к огромной пещере, и зовёт на бой последнего великана, а тот всё не выходит и не выходит, и тогда фигурка исчезает во тьме, и всё заканчивается. Видел он, как падает один штандарт за другим, как страшные рычащие звери давят людей в разноцветных одеждах, и видел он огромное красное полотно, покрывающее, как книгу, всю известную Шарлю часть мира. Видел он копоть на лбу израненного солдата, и съеденное рыбами лицо утопленника, и горящие города, и рушащиеся деревни, и всё это не прижимало его к земле, не делало слабым, но, напротив, наполняло руки Шарля чудовищной, невероятной, невыносимой силой.
И вдруг последнее, самое главное видение посетило переплётчика. Вокруг расстилалась такая тьма, что не было ей ни числа, ни имени, и не демоны породили её, но люди, и в этот самый момент из чёрного облака, заливаясь серебряным смехом, вышла на свет женщина в простом холщовом платье, и Шарль долго пытался понять, где он видел её, откуда он знает это прекрасное лицо, и лишь когда она подошла ближе и опустила руку на его голову, он понял: это женщина, изображённая на портрете из ладанки.
«Не плачь, мой мальчик, — сказала она, — ты только что видел чужие жизни и чужие смерти, но ты не видел — и не увидишь — своей, поскольку она будет так прекрасна — и жизнь, и смерть, — что любой ослепнет, взглянув на неё хотя бы краем глаза». С этими словами женщина развернулась и пошла прочь, и Шарль понял, что её платье сзади разорвано, что спина её в синяках и кровоподтёках, что ягодицы её истерзаны и что лоно её никого уже не сможет из себя исторгнуть, потому что оно сделало свою работу шестнадцать лет назад, тем самым бесповоротно изменив мир.
В этот момент Шарль открыл глаза и увидел перед собой великолепную, изящную книгу в переплёте из человеческой кожи. Глаза его снова закрылись, и он упал лицом на столешницу.
Глава 8 ЖЕНЩИНА
Три года минуло с той поры. Шарль делал в среднем по одному переплёту из человеческой кожи в месяц (хотя случалось и поболе) и, обладая всеми навыками по работе с прочими материалами, быстро достиг совершенства в антроподермической области. Он научился добиваться результата, идеально соответствующего задумке, и примерно через полтора года после начала практики стал не просто тренироваться, но тщательно разрабатывать концепцию каждого переплёта. К сожалению, человеческий материал, аккуратно поставляемый бродягами, чаще всего был не слишком высокого качества. Шарль был вынужден отталкиваться от кожи — и подбирать книгу под переплёт, а не наоборот, как следовало бы делать.
В частности, дважды ему попадались тела людей вполне приличных, ухоженных, скорее всего купеческого сословия, у одного рука была покрыта характерными мозолями, видимо, он постоянно совершенствовался в искусстве фехтования. Судя по тому, что убит он был ударом колющего оружия, скорее всего кинжала, это ему не слишком помогло.
У обоих была ухоженная, аккуратная кожа, почти безволосая и сходная по структуре. Шарль сделал из «купцов» два переплёта in octavo[54], причём на каждый пустил по участку кожи от каждого мертвеца. Добиться одинаковой степени обработки и равномерного распределения пигментации было непросто, но Шарль старался не избегать сложных задач. Мало ли что ему предстояло в будущем. Книги были рыцарскими романами, романтическими и витиеватыми, обильно сдобренными непристойными намёками и показной религиозностью. Один том он оформил в стиле Жофруа Тори, второй — в стиле Гролье, оба переплёта украсил малахитом и золотыми нитями по кантам и кромкам капталов[55] и, что самое главное, прекрасно «сыграл» на естественном строении кожи: оба корешка несли на себе полукруглое украшение, расположенное в верхней части. При ближайшем рассмотрении даже непосвящённый наблюдатель мог догадаться, что это сосок.
За эти годы у Шарля начала расти борода, которую он не брил, чтобы казаться старше, но зато ни разу не было женщины. Он занимался исключительно работой — днём и ночью трудился над переплётами, в основном, конечно, обыкновенными, из свиной или телячьей кожи, и заработанные деньги копились, поскольку тратил Шарль крайне мало, одежду свою латал самостоятельно, а питался самыми простыми продуктами. Но даже если бы он захотел завести слугу или любовницу, он бы не смог. Дом де Грези пропах смертью. Постоянное присутствие в доме хотя бы одного мертвеца и многочисленные кожи, сушащиеся тут и там, создали атмосферу, которую не сумел бы вынести ни один непривычный человек. Старик Жан довольно редко использовал необработанные кожи, предпочитая приобретать готовое сырьё у кожевенных дел мастера. Шарль же превратил дом в подобие дубильной мастерской и заодно — разделочной.
Более того, не только дом пах смертью. Сам переплётчик теперь источал странный, отталкивающий запах. Он знал об этом, и потому несколько комнат, через которые проходили заказчики по пути в кабинет, где Шарль принимал их, держал закрытыми и хранил там запасы душистых трав и прочих ароматических веществ. Заказчик не должен был почувствовать запах гнили. Шарль старательно мылся каждый день, чего ранее с ним никогда не случалось, но вывести чудовищный аромат не выходило. Со временем он и в самом деле привык к собственному «благоуханию», а перед приёмом заказчика натирался ароматным ромашковым настоем, чтобы не пугать клиента.
Со временем он понял, что ему нужно другое место для приёма гостей — такое, где неприятный запах не нужно было бы заглушать терпкими травяными ароматами, и, поторговавшись несколько дней, за скромную сумму купил небольшой узкий дом, примыкающий слева к его собственному. Дом принадлежал ранее какому-то школяру, обучавшемуся в Париже уже, кажется, десятый год и зарабатывавшему на жизнь перепиской документов. Отец школяра, приобретший дом для сына, не ждал, что обучение займёт столько времени, и регулярно требовал от незадачливого отпрыска или окончить, наконец, университет, или бросить его и вернуться в родную провинцию. Сыну в Париже нравилось, уезжать он никуда не хотел, но когда подвернулась возможность без проблем продать дом, он за неё схватился. Вырученных денег хватало, чтобы обзавестись жильём поскромнее, а на остаток гулять как минимум полгода, не работая, не думая об экономии и необходимости снова писать отцу с просьбами выслать средств на существование.
Второй дом Шарль купил в начале пятого года со смерти отца. Он нанял каменщиков и плотников, которые обустроили рабочий кабинет в точном соответствии с нарисованным эскизом. Теперь заказчик попадал в приёмную практически сразу по входе с улицы, минуя лишь небольшую комнатку-прихожую. И, что главное, второй дом не пропитался характерным мертвецким запахом. С главным домом он соединялся посредством небольшой двери в верхнем этаже, практически всегда плотно закрытой.
При перестройке дома Шарль обнаружил интересную вещь. Несмотря на то что дома, как казалось со стороны улицы, состыковывались плотно, без щели, они не имели общей стены. Строили их независимо друг от друга, причём не слишком ровно, и потому, сходящиеся на улице, со двора они расходились примерно на десять парижских футов. Самое большое расхождение наблюдалось на уровне третьего этажа — как раз там, где Шарль хотел соединить дома коридором. Первоначально предполагалось, что последний будет представлять собой небольшой крытый мостик, но переплётчик выбрал более интересный вариант. Клинообразное пространство между домами было очищено, отделено от двора стеной и превращено в жилые помещения на трёх уровнях. Коридор проходил через помещение третьего этажа, на втором же и первом получились потайные комнаты, о существовании которых догадаться было невозможно, поскольку дома были объединены в общую постройку.
Спуститься в потайные комнаты можно было через люк из коридора. Первую Шарль использовал для обустройства дополнительной библиотеки, предназначенной специально для книг в антроподермических переплётах. Вторую он пока ничем не занимал, предполагая, что она когда-нибудь да пригодится. Таким образом расширив свои апартаменты почти в два раза, Шарль избавился от проблем при общении с заказчиками, а также, как ни странно, получил возможность приводить домой женщин.
Но возможность не означает желание, и женщины в жизни молодого переплётчика так и не занимали сколько-нибудь значимого места — вплоть до событий, которые мы обрисуем несколько позже. С памятного момента волшебной ночи, проведённой с Мари, Шарль ни разу не обратил внимания на представительницу противоположного пола. Его интересовало кожевенное дело, деревообработка, ювелирное мастерство, в общем, предметы совершенно бытовые, лишённые чувственной духовности. Мимо женщин Шарль проходил подобно тому, как проходят мимо зданий, совершая привычный ежедневный маршрут. Вроде вот она проскользнула мимо, прелестная, благоуханная, в белом кружевном чепце, но спроси через минуту, видел ли Шарль девушку, он вряд ли смог бы дать толковый ответ. Может, и видел.
Прочие молодые люди в его возрасте только и делали, что хвастались своими сердечными делами и победами (причём привирали более чем в половине случаев). Шарлю же хвастаться было нечем, поскольку он даже близко не мог себе представить, как нужно разговаривать с девушкой, да и не нуждался в этом. Знакомые ровесники у Шарля были, так как он иногда пропускал кувшинчик вина в ближайшем кабаке. Сначала он делал это в одиночестве, но потом так или иначе познакомился с несколькими завсегдатаями и порой присутствовал за большим столом в обществе пяти-шести собеседников. Сам переплётчик всегда отмалчивался, ограничиваясь лишь хмыканьем и кивками.
В один из дней, уже после появления у него второго дома, Шарль шёл по улице и услышал призывную фразу проститутки: «Парень, не хочешь развлечься?» Он слышал такие «манки» и раньше, но никогда не отзывался на них. Теперь же он подумал: почему бы и нет. У него не было желания идти в грязную комнату проститутки, но возник интерес к «репетиции» визита женщины к нему в дом. Если когда-либо (Шарль не исключал такой вариант) встретится женщина, которая в полной мере заинтересует переплётчика, он должен набраться некоторого опыта, чтобы не опозориться перед ней. Руководствуясь этой логикой, он обернулся к проститутке и махнул рукой: пойдём. «Может, ко мне?» — спросила она. «Нет, — он покачал головой, — ко мне».
В какой-то мере Шарль опасался собственного запаха. Запаха разложения и смерти. Этот запах мог отпугнуть кого угодно — впрочем, он ощущался скорее не физически, а духовно, точно некая аура, расползающаяся от тела Шарля. При этом переплётчик понимал, что проститутка всё стерпит, если ей достаточно заплатить, и потому постарался отбросить сторонние мысли, способные помешать его намерению. Они шли по улице вдвоём, и Шарль ощущал некую гордость за то, что он — взрослый человек, снял шлюху и ведёт её к себе, чтобы провести некоторое время в плотских удовольствиях.
Но по пути домой Шарля преследовали и другие мысли. Он ловил себя на том, что оценивает качество кожи проститутки и прикидывает, какую книгу можно переплести в этот белый, гладкий, покрытый редкими родинками материал. О, нет, Шарль был весьма далёк от мысли об убийстве: ему вполне хватало уже мёртвых людей. Но что-то срабатывало в его голове, и он не мог не думать о коже.
Проститутка не задавала вопросов. Он отпер дверь нового дома, впустил сначала её, затем вошёл и сам. Она обернулась, мол, куда идти, и он указал на лестницу: на втором этаже имелась небольшая спальня. Они поднялись, и проститутка практически сразу сбросила с себя одежду. Шарль смотрел на обнажённое женское тело, а видел — книгу из человеческой кожи и никак не мог отогнать от себя это наваждение. Он провёл руками по её груди, животу, талии, бёдрам, посмотрел ей в глаза, и тут она потянулась, чтобы поцеловать его, — но он отстранился, потому что в женщине он продолжал видеть только книгу, и ничего более.
«Уходи», — сказал он и дал ей кошелёк. Там было значительно больше, чем она зарабатывала за одну встречу, но переплётчику было неважно. Она взвесила кошелёк на ладони, быстро оделась и вышла. Она не держала обиды, потому что для неё не играло роли, как относится к ней клиент. Главное, чтобы платил.
Шарль сел на кровать и закрыл руками лицо. Через щёлки между пальцами он видел деревянный пол — и видел в нём книгу, деревянные дощечки, готовые к обтягиванию кожей или тканью. Он поднял глаза на белёную стену и увидел краску, которую можно применить в переплётном узоре. Он перевёл взгляд на дверь, и в дверной ручке он поймал элемент полного штемпеля. Весь мир превратился в один большой переплёт, а о содержании этой книги Шарль не имел ни малейшего понятия.
Именно в этот момент в дверь раздался стук, предопределивший дальнейшую судьбу молодого мастера.
Глава 9 МАДЕМУАЗЕЛЬ АТЕНАИС
Человек, вошедший в дом Шарля де Грези, был приземист, широк в плечах и одет в серое. Серая суконная куртка, серые суконные штаны, даже шляпа и та серая. На улице этот человек, видимо, мог в считаные секунды слиться со стеной или юркнуть в какую-либо дверь так, будто его и не было. Впрочем, ширина плеч показывала, что при необходимости вступить в открытый бой внезапный гость переплётчика не пойдёт на попятную. Да и взгляд его — тяжёлый, но с хитрецой — подтверждал первое впечатление Шарля.
Некоторое время Шарль стоял, не впуская гостя в дом. В первую очередь такое поведение было связано с только что ушедшей проституткой, с шоком от осознания собственной мерзости. «Вы позволите войти?» — спросил визитёр. «Да, конечно». — Шарль отступил в сторону.
Мужчина прошёл мимо Шарля, оглянулся на него. В позе его читался вопрос: куда идти. «Прошу вас, наверх, — попросил Шарль, — в кабинет, — и стал подниматься первым. — Вам нужен переплёт?» — спросил он на лестнице. — «Да, мне нужен переплёт».
Они вошли в кабинет. Шарль занял место за столом, гость уселся напротив.
Как уже говорилось, новый кабинет Шарля не то чтобы сильно отличался от старого. Разве что книг тут было поменьше, а стол был попроще, не заказной, а купленный готовым у одного известного мебельщика. Шарль не стремился окружить заказчика шиком — основную роль в антураже играли, конечно же, переплёты. Молодой мастер тщательно расставил и разложил лучшие «рекламные» работы отца и свои — так, чтобы заказчик или его представитель сразу видели образцы продукции. Такой подход, помимо всего прочего, облегчал переплётчику жизнь: видя красивые стандартные элементы, заказчики нередко показывали пальцем, мол, мне вот это; а многие накладные детали у Шарля были заготовлены заранее. Скорость работы возрастала, и молодой человек мог выгадать ещё немного времени на эксперименты с человеческой кожей.
Этот клиент не отличался от прочих. Он с интересом рассматривал лежащие вокруг него книги (книжные полки имели специальные выступы, которые позволяли расположить определённые книги ближе к клиенту), некоторые брал в руки и листал. Шарль ждал.
Наконец клиент задал вопрос: «С какими материалами вы работаете?» — «С любыми, — ответил Шарль. — Вот это, — он взял одну книгу, — телячья кожа, выросток и опоек, вот это — козья, это — атлас, а вот сафьян…» — «Хватит, — прервал клиент, — я понял. Я хочу, чтобы вы сработали необычный переплёт; я не уверен, что вы сможете это сделать, поскольку вы чересчур молоды, но о вашем отце и о вас идёт добрая слава, а более маститые переплётчики отказались от моего заказа».
Шарль стал немного волноваться. Что же это за заказ, если от него отказались прочие переплётчики. Впрочем, одна догадка тёплой волной уже поднималась откуда-то из желудка прямо в его трепещущее сердце.
«Я хочу, — сказал квадратный человек в сером, — чтобы вы изготовили переплёт из человеческой кожи».
Догадка внутри Шарля собралась в ком, который взорвался, заполнив молодого человека целиком и полностью — его мозг, сердце, печень, лёгкие, желудок. Он едва не пошатнулся, едва не показал свою слабость клиенту.
«Я знаю, — продолжил посетитель, — что цеховые правила не запрещают подобную работу при условии, что источник кожи точно известен, и известно, что для создания подобного переплёта не было совершено преступление, то есть убийство. Книг в подобных переплётах достаточно много, и редкий переплётчик никогда не брался за такую работу».
«Редкий переплётчик, — подумал Шарль. — Какой же я глупец. Конечно, методы обработки человеческой кожи давно известны. Конечно, каждый хотя бы раз сталкивался с подобной необходимостью. Неужто мой отец, как я, покупал трупы у нищих? Может, он работал с человеческой кожей без нарушения божьих и цеховых законов? Но кто из них, кто из этих могучих стариков, членов гильдии, мог достигнуть совершенства, если „честные“ антроподермические переплёты доставались им от силы раз в полгода или около того? Кто из них обрабатывал по трупу в неделю, экспериментировал с кожей мужской и женской, детской и старческой, чёрной и белой?»
Человек в сером тем временем продолжал: «Моя проблема в том, — сказал он, — что я не могу раскрыть источник кожи. Просто вам принесут материал, и вы будете должны сделать из него книгу. Мы не поскупимся».
— Вы сказали: мы.
— Да, я сказал: мы. Я — лишь представитель заказчика.
«Можно было и догадаться, — подумал Шарль. — Слишком прост, слишком прямолинеен».
«Мы заплатим, — продолжил серый, — сколько потребуется. Главное, чтобы книга была сделана в срок и с выполнением всех наших требований».
И тогда Шарль кивнул: «Я согласен». — «Согласны?» — «Да, согласен». — «Вы легко согласились». — «Я люблю работать с этим материалом». — «Вы раньше работали с человеческой кожей?» — «Да». — «У вас есть образцы?» — «Да, конечно, вот эта книга сделана из кожи старика плюс обработана очень жёстким раствором, поэтому она такая шершавая, и структура видна, а эта из кожи женщины, тут всё гладкое и аккуратное, обратите внимание на альды, в центре каждого — сосок, всего четыре штуки, потому что пришлось взять остальные два из другого источника». — «Хватит, я вижу, что не ошибся в вас, в какой срок вы можете сделать переплёт, если материал придёт на этой неделе?» — «Материал придётся обрабатывать, так что нужно оставить хотя бы недели три, лучше — месяц». — «Хорошо, месяц — нормально, мы успеем». — «Что успеете?» — «Неважно».
Серый встал.
«Материал доставят к вам, видимо, послезавтра. Потрудитесь не покидать в это время дом, сами понимаете, всё довольно деликатно, и мы не сможем передать посылку в третьи руки. Если что-то изменится, мы отправим к вам мальчика».
Шарль кивнул: «Да, конечно, так и поступим». — «Позвольте откланяться», — сказал серый. «А как же условия заказа? — спросил Шарль. — Что мне делать с материалом, есть ли какие-либо требования?» — «Они будут в письме», — сказал серый, развернулся и пошёл вниз по лестнице. Шарль не стал спускаться.
Он вернулся в кабинет, сел за стол и вдохнул полной грудью. Первый настоящий заказ. Все предыдущие были лишь подготовкой, игрой в солдатики, а теперь ему предстоит полноценная война. Теперь нужно было с головой углубиться в работу, поскольку любое промедление, любая пауза была мучительной — Шарль предвкушал, волновался, не мог выбросить из головы предстоящую задачу. Эти два дня следовало посвятить рядовым заказам, поскольку заказ серого человека был срочным и требовал отложить всё остальное. Три недели — вполне достаточно для переплёта, Шарль дал себе небольшой запас времени, чтобы сделать всё спокойно, качественно, не торопясь. Ведь один заказ тянет за собой другой — проверено на практике.
Он спустился вниз, закрыл дверь на засов, потом снова поднялся, перешёл в основное здание, добрался до мастерской. Его ждал заказ, который нужно было закончить как раз к послезавтрашнему, — сочинения Руфина Аквилейского[56], Ориген[57] и сборник гомилий[58] в простом деревянном переплёте из расписанных досок, вовсе без применения отделочного материала, стилизация под книги двенадцатого века. Шарль сел за стол, подвинул книгу к себе и стал думать, каким цветом выкрасить искусно вырезанный на доске профиль святого. Одежда уже была покрыта белым, а нимб — золотым.
Два дня прошли для Шарля мгновенно, пролетели, подобно минутам. Он, как никто иной, умел уйти в работу, раствориться в ней, пропасть. Правда, после таких погружений Шарль чувствовал чудовищное измождение, поскольку забывал порой даже поесть. Обычно он просто валился в постель и дрых до следующего дня, затем приводил себя в порядок, полз на рынок, покупал свежие фрукты и овощи, мясо, готовил себе простой, но сытный обед, кушал. С клиентами он старался договариваться заранее, чтобы те не появились внезапно, в разгар работы.
Но в этот раз всё должно было произойти по-другому.
Когда Шарль «вышел из транса», уже светало. Около двух дней — и рассвет предвещал появление курьера с материалом. Шарль был взъерошен, от него пахло потом и краской, и принимать посыльного, будь это даже простой мальчишка (впрочем, переплётчик полагал, что столь ценный груз мальчишке не доверят), никак не мог. Более того, уже следующей ночью предстояло идти за новой «поставкой» от бродяг — значит, нужно было срочно приводить себя в порядок и не спать, ни в коем случае не спать.
Шарль начал с того, что окатил себя ледяной водой из бочки. Нельзя сказать, что это было приятной процедурой, но, по крайней мере, он заметно взбодрился. В погребе нашлась большая копчёная свиная нога и немного вполне съедобной репы. Разведя огонь и вскипятив воду, Шарль быстро бросил последнюю вариться и извлёк с антресолей небольшой пакет с чаем.
Чай в Париже был не то чтобы редкостью — голландских торговцев, постоянно курсирующих на Восток и обратно, хватало. Просто он не пользовался популярностью. Знать употребляла вино, простолюдины — пиво и воду, было множество горячих и холодных отваров и напитков, но восточные травки, придающие кипятку подозрительный цвет и не менее странный вкус, успеха практически не имели. Их заказывали увлечённые восточной модой дворянки и некоторые богатые купцы, гм… пожалуй, и всё. Но переплётный цех имел с Востоком давние и очень прочные связи. Книги, завезённые из арабских стран и Китая, весьма ценились переплётчиками, поскольку могли многому научить, привнести свежее дыхание в мастерство росписи и прочего украшения. Жан де Грези всем напиткам предпочитал вино, но его сын уже после смерти старика однажды столкнулся с чаем, причём весьма и весьма занимательным образом.
Голландцы всегда имели прерогативу на ввоз чая в Европу. Ост-Индская компания, освоив новый товар, провела великолепную «рекламную кампанию», презентовав чай целому ряду знатных особ в качестве лекарства от подагры, мигрени, геморроя и прочих болезней. Молодой Людовик, как ни странно, проникся чайной горечью и постепенно вводил при дворе моду на голландскую новинку; простолюдинам чай был недоступен, поскольку стоил баснословно дорого, а вот купечество пыталось подражать двору, и потому к середине 1660-х годов появились первые французские торговцы, закупавшие чай в обход Ост-Индской компании.
Шарлю же первый опробованный чай достался вовсе не от голландцев и не от купцов-соотечественников. В один прекрасный день, вскоре после восемнадцатилетия, молодому человеку посчастливилось перекупить у какого-то торговца арабскую книгу в весьма интересном переплёте. Его доски, если сложить их одна на другую, по своей толщине превышали толщину самой книги, а при встряхивании становилось понятно, что они служат ящичками для чего-то сыпучего. Некоторое время провозившись с поиском замка, Шарль всё-таки отомкнул одну из досок — она оказалась «шкатулкой с секретом». Внутри были засушенные листочки и палочки со специфическим ароматом. Шарль предположил, что это некое средство для сохранения книжных страниц от влаги или насекомых.
О том, что странную смесь нужно заваривать в горячей воде, Шарль узнал тоже случайно — в один из редких дней, когда он посетил собрание гильдии. Он совершенно не интересовался цеховыми делами и если и появлялся на каких-либо общих мероприятиях, то сидел в самом углу помещения и помалкивал. Таким образом он однажды подслушал разговор двух цеховых — мелкого печатника и литейщика, специализирующегося на готических шрифтах, о новой моде, пришедшей во дворец. Печатник выполнял какой-то заказ для королевского двора и был угощён некой горькой гадостью под названием «чай», описанной как «дрянь какая-то, трава и листья сухие в воде плавают, нет, чтобы вина налить…». Шарль сопоставил полученную от печатника информацию со своей восточной книгой и, будучи по характеру склонным к экспериментам, заварил несколько сухих листочков.
Результат ему понравился. Смесь и в самом деле придавала воде оригинальный вкус сырой земли, горький, неприятный, но неожиданно притягательный. Впоследствии Шарль узнал о чае гораздо больше и стал покупать его понемногу у одного знакомого торговца. Чай бодрил его, придавал сил, позволял работать значительно более эффективно. И сейчас чай был именно тем, что нужно.
Читатель должен меня простить за отклонения от основного сюжета, отвлечения на, казалось бы, ничего не значащие мелочи. Но именно мелочи, именно детали составляют на самом деле настоящий характер персонажа, его истинную сущность. Герой идёт на подвиг один раз в жизни — и навсегда получает статус героя, а его деяние описывается в многочисленных книгах. Но на самом деле подвиг не имеет никакого отношения к реальному человеку, его совершившему. Значительно больше о нём может сказать то, как он застилает постель, что он кушает и какие женщины ему нравятся, какие песни он напевает за работой и на отдыхе, спит в ночной рубашке или без оной. Но вернёмся к нашему переплётчику.
Употребив чашку горячего травяного чая, поев варёной репы с холодной свининой, Шарль почувствовал себя человеком. Усталость не ушла окончательно, но опустилась куда-то на дно разума, не мешая думать и действовать.
Правда, взамен усталости появилось волнение. Шарль предвкушал появление курьера, предвкушал задание, мечтал о нём. Он строил планы, грезил наяву — и время текло невероятно медленно; солнечные часы на здании напротив дома Шарля показывали, что уже в районе девяти часов — а молодому мастеру казалось, что он провёл на кухне весь день.
Ещё через полчаса он перешёл во второй, «приёмный», дом, чтобы не пропустить клиента. Стук в дальнюю дверь был слышен и из основного здания, но довольно слабо, и при работе в мастерской его можно было не услыхать.
И как раз когда напряжение достигло предела, когда Шарль стал ходить по комнатам дома и бесцельно дотрагиваться до предметов, вожделенный стук раздался. Шарль постарался подойти к двери тихо, не вприпрыжку, чтобы произвести на визитёра впечатление солидности. Одет он был в рабочую, но чистую одежду, волосы смочены водой и приглажены, только покрасневшие глаза могли выдать в переплётчике человека, проведшего бессонную ночь. Он открыл дверь. За порогом стоял парень лет двадцати, ровесник Шарля. На нём была суконная куртка с модными вставками из красного шёлка, красные же панталоны и белые чулки. Судя по их идеальной чистоте, молодой человек приехал в экипаже, а не на лошади. В руках у молодого человека был свёрток, который он молча протянул Шарлю. «Вы не пройдёте?» — спросил переплётчик. Тот покачал головой: «Нет». — «Тут всё?» — «Да». — «Инструкции?» — «Там письмо». — «Сроки?» — «Там всё написано». Молодой человек не был настроен на беседу. Он развернулся и пошёл налево, где — Шарль сделал шаг вперёд и посмотрел — и в самом деле стоял фиакр. Вдруг молодой человек развернулся и сказал: «Внимательно прочтите. Самая важная для вас информация — это то, что с вами сделают, если вы не выполните заказ». И всё, он исчез в недрах экипажа.
Шарль отступил в тень комнаты. Угроза? Что с ним сделают? Странные люди, странный заказ. И первый посыльный был весьма необычным, и этот не лучше. Фиакр уже исчез. Шарль закрыл дверь и отправился на третий этаж, чтобы перейти в основной дом и спуститься в мастерскую. Свёрток он бережно нёс перед собой на согнутых руках, чтобы, не дай бог, не уронить его. Он понимал, что хрупких предметов внутри не должно быть, но кто его знает.
Добравшись до мастерской, он понял, что утром забыл тут убраться. Завершённый ночью переплёт небольшого поэтического сборничка по-прежнему лежал на столе в окружении инструментов и материалов. Шарль переложил книгу на стол для законченных работ, а всё остальное просто смёл со стола в сторону — так не терпелось ему приступить к изучению содержимого посылки.
Он развернул внешний слой сукна и обнаружил внутри второй свёрток, большой и бесформенный, поверх которого лежало запечатанное письмо, а также длинный узкий кошель с монетами и аккуратный прямоугольный пакет, видимо, с самой книгой. Шарль сломал печать и развернул бумагу. Текста было много — около восьми страниц, исписанных размашистым, но аккуратным почерком.
«Уважаемый господин де Грези, — говорилось в письме, — мне рекомендовали вас как великолепного мастера и знатока своего дела, и, кроме того, специалиста в той конкретной области знаний, которая в данный момент интересует меня более всего. Поэтому я принял решение обратиться именно к вам. Я уверен, что вы выполните свою работу в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне, а за ценой мы не постоим. К письму прилагается небольшой задаток, должный продемонстрировать вам наши финансовые способности и окончательно рассеять все возможные сомнения».
Шарль взял в руки кошель, почему-то ни разу не звякнувший, когда переплётчик нёс свёрток и разворачивал его. Причина этого оказалась проста: набит кошелёк был так туго, как только можно. Не пересчитывая деньги, молодой человек снова обратился к письму.
«Как вы понимаете, господин де Грези, работа, вам порученная, весьма щекотлива. Исходя из этого, ни одна живая душа не должна узнать о том, что вы выполняли эту работу. Впрочем, вы и сами пострадаете от случайного оглашения обстоятельств нашей сделки, поэтому я не буду дополнять угрозу исключения из цеха и запрета на профессию дополнительными ужасами. Но есть одна вещь, которую вы должны понять и принять сразу же. Ровно через две недели к вам явится тот же человек, который навещал вас в первый раз. Он проконтролирует стадию выполнения заказа и уточнит сроки окончания последнего. Мы настоятельно рекомендуем не занижать эти сроки и не торопиться — качество для нас значительно важнее скорости. В случае утери материала или порчи оного путём создания некачественного переплёта мы будем вынуждены подвергнуть вас серьёзному наказанию, так как указанный материал является уникальным и существует в ограниченном количестве; большая часть имеющегося в наличии материала передана вам для работы. Чтобы в наших намерениях не возникало сомнений, спешим заверить, что в качестве наказания для вас мы избрали смерть. Таким образом, если вы не уверены в собственных возможностях, рекомендуем вам отказаться от сделки — на данной стадии наших отношений такой вариант ещё возможен».
Мороз пробежал по коже Шарля. Заказчик, видимо, и в самом деле относился к порученной переплётчику работе очень серьёзно. Но сдаваться молодой мастер не собирался, поскольку первый заказ, каким бы он ни был, вполне мог повлечь за собой последующие. Он продолжил читать.
«Закончив с формальностями, — продолжал неизвестный, — мы спешим перейти к самой сути вашего задания. Книга, которую вы должны оформить, является отпечатанным в одном экземпляре сборником стихотворений, посвящённых одной и той же женщине, называемой условно мадемуазель Атенаис. Её настоящего имени в книге не упоминается, можете не тратить время на поиски. Ввиду того что вы, несомненно, ознакомитесь с содержанием книги, спешу заметить, что автором большинства содержащихся там произведений является ваш покорный слуга, имя своё я также разглашать не планирую.
Как вы, видимо, уже догадались, обработанная человеческая кожа, присланная вам для работы, принадлежит означенной мадемуазель. Наша прекрасная дама почила в бозе ровно десять дней тому назад. К сожалению, переплётчик, который должен был изначально заниматься данной работой, внезапно скончался на пятый день после мадемуазель Атенаис, и потому мы были вынуждены срочно подыскивать ему замену. Он успел лишь подготовить кожу к последующей обработке, но даже не приступил к созданию самого переплёта.
Нам сложно судить, какая информация поможет вам в вашей миссии. Мадемуазель Атенаис на момент смерти было несколько более тридцати лет, она была полна сил, поэтому кожа её отличается великолепной упругостью и красотой. Нам бы хотелось, чтобы переплёт был светлым, радостным и отражал стремление мадемуазель Атенаис к жизни, к теплу, к любви. Она не любила яркие краски, но теряла голову от украшений, в особенности от драгоценных камней. Некоторые из её любимых экземпляров приложены к пакету, рекомендуем использовать их в работе.
Также в пакете наличествует ранний портрет мадемуазель, выполненный с натуры. Данный портрет мы также рекомендуем разместить на одной из крышек переплёта — на ваше усмотрение. В остальном мы доверяемся вашему вкусу и профессионализму. Наш посланник получил немалое удовольствие от изучения других ваших работ, выполненных из схожего материала, от блестящего соответствия обложки и внутреннего содержания, от качества переплётов и их художественной составляющей. Его мнению мы склонны в данном вопросе доверять безоговорочно.
Когда он посетит вас с визитом, вы вправе задать ему любые вопросы и уточнить любые детали, помимо одной. Ни в коем случае не пытайтесь узнать настоящее имя мадемуазель Атенаис и причину её смерти. Пусть эти сведения останутся за пределами ваших знаний.
С глубочайшим уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, N».
Шарль отложил письмо и начал разворачивать большой свёрток. С самого верха и в самом деле лежал небольшой, буквально три на три фута, холст, где лёгкими мазками, в незнакомой Шарлю манере был набросан портрет юной девушки с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Она была изображена по грудь, и последняя показалась Шарлю не слишком выдающейся; вообще, мадемуазель Атенаис производила впечатление не красоты и лёгкости, а скорее чрезмерной худобы и измождённости. Художник стремился придать её коже аппетитный розовый оттенок, но Шарль видел, что такому сложению скорее соответствовала бы мертвенная бледность.
Тут же находился небольшой пакетик с драгоценными камнями — четырьмя рубинами, двумя бриллиантами, двумя сапфирами и двумя топазами. Все были великолепно огранены, но, судя по едва заметным следам окисления на боках, ранее находились в медных, то есть не очень дорогих, оправах, а после извлечения не подвергались чистке.
Наконец, Шарль приступил к разворачиванию самого главного, самого драгоценного свёртка — того, где хранилась кожа мадемуазель Атенаис.
О, да, это была кожа. Ровная, блестящая, аккуратная, со встречающимися тут и там чёрными точками — родинками. Обработана она была мастерски и пахла именно кожей и ничем иным — любимый аромат Шарля, волшебное благоухание свежеизготовленного переплёта. Для качественного блинтового тиснения кожа показалась переплётчику чрезмерно тонкой — такой блинт будет постепенно сравниваться с остальной поверхностью, и через два-три века рассмотреть рисунок будет практически невозможно. Впрочем, подобные проблемы обходились легко: под тонкий верхний слой подкладывалась вторая кожа, потолще, штамп продавливал оба слоя, закрепляя их сцепление и образуя значительно более глубокий рельеф.
В голове у Шарля уже рождался замысел. Он понимал, что в работе нужно гармонично сочетать желания заказчика и собственный художественный вкус. Просто поместить в центр передней крышки портрет девушки и обвязать его узорами — слишком примитивное решение. Шарль понимал, что в данном случае нужно создать нечто более сложное, по всей видимости, дублюру[59] с четырьмя независимыми, но изящно сочетающимися узорами на четырёх поверхностях переплёта.
Работать с церковными книгами было значительно проще, поскольку церковники радовались любой аляповатости, любым узорам — лишь бы было побольше цветов, камней, украшений. Особенно нравились им эмалированные переплёты в стиле XI–XII веков, например, с использованием перегородчатой эмали, в которую заливались драгоценности; не меньшим успехом пользовалась техника ниелло[60] или просто углублённая эмаль.
Владеть множеством техник недостаточно. Жан де Грези тысячу раз повторял Шарлю, что важнейшим в искусстве переплётного дела является умение эти техники сочетать. Но теперь Шарль понял, что игры с различными стилями и элементами не более чем излишни. Переплёт из кожи мадемуазель Атенаис должен быть простым, невероятно простым, даже примитивным — но при этом таящим в себе некую загадку, тайну, изящество. Шарль закрыл глаза. Портрет Атенаис он видел на передней доске, но не по центру, а в правом верхнему углу, в изящной рамке, занимающей не более четверти общей площади переплёта; портрет должен быть выполнен обычным блинтовым тиснением, и лишь по четырём углам рамки — четыре красных рубина, оттеняющих (с одной стороны) и затмевающих (с другой) изображение девушки. На оборотной стороне — схематическое изображение восхода; края солнечного полукруга, упирающиеся в землю, обозначены бриллиантами. И опять же — ничего более, лишь аккуратная рамка в стиле Тори. Сапфиры и топазы — на корешке; тут к блинтовому тиснению примешивается золотое, но также очень скромное, всего несколько поперечных линий и окантовок инкрустированных в кожу драгоценных камней.
Потому что главное — внутри, хочет сказать Шарль, смотрите, главное — внутри, снаружи — лишь девушка по имени Атенаис и восходящее солнце. А внутри, когда владелец открывает книгу, он попадает в царство цветов — лилии и астры, розы и настурции, хризантемы и годеции, гвоздики и гладиолусы, левкой, тюльпаны и циннии — красивые, великолепные, беспредельные, переплетающиеся и покрытые сверху уродливыми ниспадающими листами обыкновенной полыни. Аналогичным видел Шарль и нахзац.
Параллельно с мыслями о переплёте молодой человек сформулировал и собственную теорию относительно таинственного заказчика. Атенаис, предположил он, могла быть дочерью, любовницей или женой некоего богатого дворянина. Если судить по юному возрасту девушки на портрете и явным признакам чахотки, неумело скрытым художником, она могла быть скорее дочерью, чем женой: любить чахоточную супругу и тем более иметь чахоточную любовницу слишком опасно и не очень-то приятно. Тем не менее указанный в письме возраст дамы (несколько за тридцать) намекал на то, что Атенаис была скорее супругой или, скажем, сестрой заказчика. Развивая свою теорию дальше, Шарль предположил, что некоторое время назад Атенаис скончалась, и её убитый горем родственник решил сохранить память о дочери или возлюбленной таким своеобразным способом.
Правда, эта теория нисколько не объясняла скрытности заказчика: если смерть девушки была засвидетельствована эскулапами как естественная, то участок её кожи, достаточный для изготовления переплёта, нетрудно получить легальным путём. Церковь ничего не имела против подобного использования останков покойного — особенно если Церкви хорошо приплачивали. Может быть, девушку убили? Может быть, её естественный конец каким-либо образом приблизили?
Шарль принялся изучать кожу. Ровные, гладкие участки. Вот этот, видимо, со спины. Этот, судя по наличию круглого дефекта, с живота (дефект, соответственно, это пупок). Третий и четвёртый участки, видимо, сняты с бёдер или с ляжек.
В этот момент теория Шарля начала постепенно рассыпаться. Судя по количеству участков, с девушки сняли всю кожу, вообще всю — а такого церковь не позволит. Единственным способом скрыть подобное кощунство являются тайные похороны, поскольку первый же священник, увидевший столь чудовищно изуродованный труп, сообщит о надругательстве над телом вышестоящим органам — а там недалеко и до подозрений в колдовстве.
Следующим артефактом был скальп. Шарль снимал скальпы и сам, когда занимался сравнением кожи с разных частей человеческого тела. Он пришёл к выводу, что кожа под волосами значительно более хрупкая, тонкая и не слишком пригодна для обработки, после чего отказался от работы с ней. По крайней мере, для переплётов гораздо более подходили участки с живота или спины. Но теперь он видел аккуратно снятый скальп, очищенный, подсушенный и вытравленный в растворе. Волос на нём не было, но Шарль, имея определённый опыт, ни за что не перепутал бы кожу головы с какой-либо другой.
Теория Шарля начала не просто рассыпаться, а деформироваться, обретая новые стороны и краски. Снятие всей кожи с тела, да ещё и столь качественная её обработка, требует, во-первых, предварительного замысла, а во-вторых, мгновенной посмертной работы мастера. Если бы девушка умерла, а кожевенник взялся бы за неё на второй день, едва ли получилось бы спасти такие обширные пласты материала. По всем качествам кожи выходило, что свежевать тело начали практически сразу после смерти, не прошло и нескольких минут. Мастер, по сути, дежурил у постели умирающей, чтобы сразу наброситься на неё с ножом для снятия шкур. Знала ли она о своей посмертной судьбе? Вот этого Шарль угадать не мог. Он допускал даже возможность, что создание книжного переплёта из её кожи было одобрено самой мадемуазель Атенаис. Возможно, она попросила об этом своего отца (мужа, любовника), чтобы сохранить память о себе.
В любом случае все версии Шарля были шиты белыми нитками. Вводных явно не хватало для создания стройной теории, да и молодой человек был не слишком силён в логических конструкциях. Каждому своё: Шарль мог сделать переплёт великолепного качества, проявив чудеса воображения и продемонстрировав высочайший уровень мастерства. Но порой даже объяснить, почему та или иная деталь должна располагаться на том или ином месте, он не мог — не хватало слов. Впрочем, заказчики всё понимали и без объяснений. Шарль умел рассказывать без использования речи.
В пакете была вся кожа, которую только можно снять с человека. Не все детали были применимы, но, похоже, заказчик просто решил дать переплётчику карт-бланш, позволить пользоваться любыми элементами для создания шедевра. Шарль не чувствовал необходимости в подобных излишествах. Ему хватило бы кожи со спины и живота, да даже бедра вполне хватило бы! Впрочем, запас карман не тянет, как говаривал иногда старый Жан де Грези.
Шарль изучал участки кожи медленно, раскладывая их по группам в зависимости от размеров и качества. Он понимал, почему его предшественник разделил кожу на достаточно мелкие участки, а не представил её целиком. Сложно сказать, каким образом он её снимал, но участки явно были подготовлены для изготовления из них каких-либо изделий, в частности переплётов. В работе Шарля с человеческой кожей самым скучным и долгим процессом было именно свежевание и приведение кожи в должное для последующей обработки состояние. Теперь же у него имелось не гольё, а подготовленный материал, работая с которым, можно было чувствовать себя художником, а не мясником.
Шарль провёл рукой по одному из участков кожи — самому крупному, со спины. Такого хватило бы не на один переплёт. Присмотрелся к нему. Расположение родинок показалось переплётчику знакомым. Он соединил пальцем самую большую родинку с другой, поменьше, потом ещё и ещё, и вдруг понял, что портрет девушки скорее всего придётся поместить на внутреннюю сторону передней доски, потому что солнцу на обратной стороне книги должна быть противопоставлена ночь.
Глава 10 ЧЕЛОВЕК В СЕРОМ
Человек в сером появился ровно через две недели, день в день. В десять часов утра (или около того — солнце скрылось за тучами, часы на фасаде напротив ничего не показывали) он постучал в дверь второго дома Шарля. Переплётчик был готов и ждал посланца. Человек в сером вошёл без приветствия и сразу же поднялся на второй этаж. «Как успехи?» — спросил он, уже стоя наверху. «Покажу», — ответил Шарль. Переплётчик понял, что разговаривать с серым стоит сухо, без излишних расшаркиваний. Дело превыше всего.
Серый сел на то же кресло, что и в первый раз, машинально взял в руки одну из лежащих на столе книг, стал её листать. Это было «Короткое напоминание о чуме» немецкого издания 1625 года, медицинский справочник неизвестного автора, безликая книга, которую Шарль счёл правильным украсить классическим изображением смерти в виде скелета в чёрном балахоне. Банально, но справедливо.
— Так что? — Серый поднял глаза.
Шарль выдвинул ящик, извлёк оттуда книгу и положил перед серым.
Всё оказалось не так и просто, как думалось Шарлю в самом начале. Листы книги не были распределены даже по тетрадям — просто набор сложенных стопкой печатных страниц, и не более того. Нумерация, слава богу, имелась, поэтому Шарль сначала распределил листы, проклеил их, а затем прошил одинарными шнурами, скрытыми теперь в желобках. Триста двенадцать страниц книги содержали в себе сто одиннадцать стихотворений различной длины, в основном довольно плохо написанных, но при этом чрезмерно откровенных — такие стихи не мог писать ни отец к дочери, ни молодой человек к возлюбленной. Содержание их наводило на мысль, что автор был редким развратником и адресовал свои послания к самой что ни на есть настоящей шлюхе. Впрочем, переплётчик закрыл на это глаза.
На передней стороне обложки были созвездия. В центре располагалась Дева, звёзды которой были полностью «набраны» драгоценными камнями, прилагавшимися к свёртку с кожей. Но остальные созвездия образовались практически сами собой — лишь некоторые едва заметные «звёздочки» Шарль добавил на кожу с помощью краски. Основные же светила имели естественное происхождение, изначально являясь родинками на теле мадемуазель Атенаис. Южное полушарие было представлено Южным Крестом и Южной Стрелой[61], Северное — Волопасом и Драконом. Конечно, изображения включали не все светила указанных созвездий, а лишь основные, но формы были вполне узнаваемы, и узор родинок удивительным образом напоминал данные астрономические фигуры. Сходство это Шарль поймал случайно — но воспользовался им в полной мере.
Портрет мадемуазель Атенаис расположился на внутренней стороне первой доски. Он был примерно втрое меньше площади доски и располагался посередине. Более никаких украшений здесь не было. На задней стороне переплёта находилось задуманное и описанное ранее солнце, встающее из-за горизонта. И переднюю, и заднюю доски обрамляли изящные рамки-орнаменты в стиле Тори. Наконец, на внутренней стороне задней доски Шарль оттеснил рисунок, который создал сам в подражание неизвестному портретисту, автору изображения Атенаис. На этом рисунке девушка стояла спиной к зрителю, точно уходила прочь, в никуда, в небытие. Переплётчик изобразил героиню так искусно, что, казалось, два художника рисовали её в одну и ту же секунду — один спереди, другой — со спины, и всё это время она ни разу не шелохнулась, идеальная модель, мёртвый манекен, композиция для натюрморта. По краям досок шли тонкие золотые нити, они же прослаивали оба рисунка, подчёркивая контур шеи, линии скул и носа.
Серый придирчиво осматривал переплёт. Его выражение лица целиком и полностью уничтожало всё романтическое настроение Шарля, превращая искусство последнего в простое ремесло. «Неплохо, — изрёк серый, — хотя не мне оценивать». — «Позвольте задать несколько вопросов», — сказал Шарль. «Задавайте». — «Зачем такой излишек материала, даже если бы я испортил несколько пластов, оставшихся с запасом хватило бы на несколько переплётов; при этом в сопроводительном письме мне встретился целый ряд угроз, связанных со случайной порчей материала — а на деле кожи у меня было на десяток попыток…» Серый покачал головой: «Не совсем так, господин де Грези; количество переданной вам кожи обусловлено необходимостью обеспечить вам свободу творчества, тем более мы не могли знать, сколько и какой кожи потребуется для создания переплёта — всё-таки профессионал здесь вы; а угрозы предназначены для того, чтобы вы как можно более экономно относились к предоставленному материалу; я надеюсь, у вас что-нибудь осталось?» — «Да, конечно, — Шарль позволил себе улыбнуться, — я использовал всего два участка; передняя часть сделана из кожи с груди, а задняя — со спины, в этом тоже своя символика». — «Вот и хорошо, — подытожил серый, — значит, вы всё поняли правильно».
Шарль смотрел на серого внимательно, ожидая продолжения. «Да, конечно, — спохватился серый, — оплата вашего труда, она последует, как только заказчик одобрит работу; я так понимаю, что всё закончено и больше времени вам не нужно?» — «Нет», — покачал головой переплётчик. «Вот и замечательно, таким образом, я попрошу вас вернуть все оставшиеся материалы, кроме, — тут он, как ни странно, улыбнулся, — кошелька с задатком; письмо я бы тоже попросил вернуть — я надеюсь, вы помните о его содержании». — «Да, конечно. — Шарль извлёк из-под стола свёрток. — Здесь всё». Серый кивнул: «Я не буду проверять; если заказчику всё понравится, вознаграждение последует тут же, я не берусь сказать, сегодня или завтра». — «А если не понравится?» — спросил Шарль. Серый покачал головой: «Лучше надейтесь, что понравится».
Он встал, покинул кабинет и пошёл вниз — в своей обыкновенной привычке, не размениваясь на лишние слова, даже не прощаясь. Свёрток он держал под мышкой, книгу — просто в руке. «Может, — сказал вдогонку Шарль, — книгу стоит завернуть?» Серый обернулся на полпути: «Если ваш переплёт столь хрупок, что не выдержит и нескольких минут в моей руке, стоит ли он хотя бы одного су?» — «Да, конечно», — кивнул Шарль. Серый вышел.
Переплётчик спустился, запер дверь, затем снова поднялся в кабинет. С момента своего прошлого визита серый значительно изменился. В первый раз он казался не человеком, а големом, лишённым эмоций часовым механизмом, который перемелет любого промеж своих шестерён и даже не поперхнётся. Сейчас у серого неожиданно проявились человеческие черты — он улыбнулся, в его речи проскальзывали разговорные выражения (ранее создавалось ощущение, что он говорил по писаному).
Казалось бы — что осталось у Шарля от проделанной работы? Книга отправилась к заказчику, дополнительные материалы также были возвращены. Деньги? Туго набитый кошелёк с монетами? В принципе оставались ещё непригодные для полноценных переплётов обрезки, которые можно было использовать для украшения других книг: Шарль ничего не выбросил.
Но мастер оставил себе ещё кое-что. Он скопировал портрет. Это было не очень трудно, поскольку художник не трудился над проработкой деталей, и любой человек с более или менее приличной подготовкой и не обделённый талантом смог бы изобразить то же самое буквально за пару часов. Портрет мадемуазель Атенаис стал первым в обширной коллекции. Шарль впоследствии удивлялся сам себе, почему эта простейшая идея не пришла в его голову раньше — сохранять изображения всех тех, чью кожу он использовал в том или ином переплёте. Отныне он не упускал ни единого тела. За две недели работы над книгой Атенаис бродяги доставили ему два трупа — он обработал участки их кожи и в обязательном порядке зарисовал внешний вид. Книги, снабжённые подобной иллюстрацией, становились глубже, обретали новые слои. Более того, в какой-то мере такая практика придавала книгам одушевлённость. Кожа — это материал, но человек — это нечто несоизмеримо большее, это не только тело, но и душа. Мадемуазель Атенаис стала первым экземпляром в коллекции человеческих душ Шарля де Грези.
Два последующих дня прошли в напряжённой работе, поскольку заказов хватало, а на третий день снова появился таинственный посланник в сером. Утром к Шарлю забежал дворовый мальчишка и сообщил, что переплётчику надлежит оставаться дома и ждать визитёра, а около полудня появился и сам серый. На этот раз он не стал подниматься в кабинет, а остался стоять в узкой прихожей. Шарль стоял напротив.
«Он очень доволен», — сказал серый. «Заказчик?» — «Да, ему всё понравилось. Он считает, что вы прекрасно и, что самое важное, честно выполнили свою работу, ничего не утаили, не требовали ничего лишнего и проявили себя как мастером высокого класса, так и человеком достойным; исходя из этого, вот ваша плата». Человек в сером отвесил Шарлю весьма солидный кошель. «Сколько там?» — «Я полагаю, вы сами сможете пересчитать». — «Конечно, смогу». — «Засим я спешу откланяться». — Человек в сером приподнял шляпу, которую не снял, входя в дом, и вышел прочь. Шарль шагнул было за ним, но остановился. Ему представлялось, что принятие его работы будет каким-то более торжественным, что заказчик напишет второе письмо, в котором изложит свой взгляд, даст свою оценку. Но письма не было — лишь квадратный приземистый посланник и кошель, свидетельствующий о том, что работа Шарля не прошла даром.
Внезапно Шарль ощутил пустоту. Дело было сделано: первый заказ на переплёт из человеческой кожи выполнен. Снова возвращаться к рутинной обработке трупов? Шарль подумал о том, насколько приятна непосредственная работа с уже готовой кожей и насколько противна всё-таки процедура свежевания. Тем не менее он понимал, что заказы так или иначе не посыплются как из ведра. Варианта всего три: через какое-то время некто снова выйдет на Шарля в поисках специалиста по антроподермическим переплётам; таинственный заказчик решит сделать ещё один переплёт из кожи Атенаис или другого человека; таинственный заказчик порекомендует Шарля кому-нибудь из своих знакомых. Все три варианта казались молодому мастеру исключительно натянутыми, неестественными. Он выдавал желаемое за действительное, не более того.
Вернувшись в кабинет, он высыпал на стол деньги из кошеля — золотые, сплошь золотые. И, как ни удивительно, вместе с деньгами на столешницу вывалилась небольшая записка, свёрнутая в трубочку и запечатанная, судя по размерам оттиска, перстнем. Шарль тут же сломал печать, развернул записку и прочёл.
«Добрый день, господин де Грези. Наш посланник должен был сообщить вам, что мы крайне довольны вашей работой. Мы надеемся, наше вознаграждение не показалось вам чересчур скромным, и уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится. Насколько я понимаю, вы заинтересованы в подобных заказах. Что ж, они у вас будут. С уважением, N».
Шарль откинулся на спинку кресла. У него будут заказы — настоящие заказы на антроподермические переплёты. Он понимал, что радость в данном случае преждевременна, что стоит дождаться хотя бы второго заказа, но ничего не мог с собой поделать, поскольку его прямо-таки разрывало изнутри, хотелось вскочить и плясать прямо по кабинету, по лестнице, по прихожей, выбежать на улицу и сообщить о своей радости каждому случайному прохожему. Но Шарль умел себя сдерживать. Он просто аккуратно сложил деньги в кошель, а записку положил в стол. Предстояло много работы.
Глава 11 ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Потом прошло шестнадцать лет. Читатель скажет: как же так, то ты до безумия подробно останавливался на ничего не значащих мелочах, описывал, как Шарль пьёт чай, как свежует труп, как приводит к себе проститутку — а тут вдруг минуло шестнадцать лет, как будто ничего и не случилось за эти годы, ничего не изменилось! Нет-нет, так не пойдёт, скажет читатель.
Но я позволю себе возразить. Из предыдущих десяти глав можно составить достаточно цельную картину характера Шарля де Грези, понять его пристрастия, почувствовать, как внутри него сражаются две личности: юный паренёк, совершенно не знающий жизни и жаждущий новых открытий, и хладнокровный переплётчик, член гильдии, работающий днём и ночью, чтобы не только (и не столько) заработать себе на хлеб, сколько прийти к созданию настоящего шедевра. Переплёта, который будет поистине прекрасен и совершенен не в глазах окружающих, цеховых или клиентов — а в его собственных глазах.
Стоит ли так же подробно описывать последующее десятилетие? Полагаю, не стоит. Наступил 1683 год, Шарлю стукнуло тридцать пять. Незамеченными для него прошли деволюционная война[62] между Францией и Испанией, почти не обратил он внимания и на Голландскую войну.[63] Вышел целый ряд новых книг нового типа — достаточно далеко ушедших и от средневековых рыцарских приключений, и от церковных трактатов. Шарлю приходилось переплетать «Португальские письма» Гийерага[64], «Зайду» Жана де Сегре[65], сборники пьес де Скюдери[66] и Мольера[67], «Сатиры» Буало-Депрео[68], стихи Шаплена[69] и Лафонтена.[70] Шарль читал все эти удивительные произведения и постепенно набирался ума — не из жизненного опыта, не из реальных ощущений, а из книжных залежей, из воображения гениев и бумагомарак.
Уже через год после памятного заказа книги из кожи мадемуазель Атенаис Шарль окончательно отказался от услуг бродяг. Ему были не нужны безымянные трупы пропойц и проституток, потому что один за другим на него посыпались заказы, за которые платили, заказы на книги из человеческой кожи. Таинственный клиент не обманул, и уже через месяц после первой работы пришла вторая — от него же (по крайней мере, посланец был тем самым молодым человеком, который доставил кожу в первый раз), а ещё через две недели — третья, от другого человека, по рекомендации. Рекомендации множились, количество желающих приобрести своеобразную память о дорогом человеке росло, как снежный ком. Заказывали книги из кожи умерших родственников и возлюбленных, преданных слуг и друзей. Были и весьма своеобразные заказы: один дворянин, например, содержал при своём поместье цирк уродов, и когда кто-либо из актёров умирал (что случалось по крайней мере раз в год, а то и чаще), он в обязательном порядке заказывал своему писарю создать краткую историю жизни актёра, которую переплести надлежало в кожу умершего.
Некоторые стремились сохранить инкогнито, но далеко не все. Большинство заказчиков предпочитали хранить подобные книги на почётных местах в своих библиотеках и ни в коем разе не скрывали их происхождения.
Из-за этого Шарлю пришлось столкнуться с конкуренцией. С одной стороны, среди парижских переплётчиков ему не было равных в антроподермической области, но с другой — такая работа очень хорошо оплачивалась, и его собратья по цеху всеми силами стремились заполучить подобные заказы — правда, исключительно легального плана. Шарль же брался и за грязную работу, когда клиент оставался неизвестным, а источник кожи держался в секрете.
Дважды Шарль узнавал — один раз из третьих уст, другой — напоив посланца, — откуда взялась кожа для переплёта, и оба раза был порядком напуган, поскольку чувствовал себя соучастником преступления. В первом случае один богатый самодур очень хотел книгу из кожи одного из своих лакеев, мальчика тринадцати лет, иногда ублажавшего самодура в интимном плане. Кожа стала фетишем богатея, иногда он наносил своему любовнику порезы, которые затем лобзал, а однажды в порыве страсти случайно заколол его тонким стилетом. Не испугавшись содеянного, он приказал освежевать мальчишку, а кожу отправил Шарлю для изготовления кожаного переплёта для книги указанной толщины. Самой книги на тот момент не существовало — Шарль так и не узнал, какие страницы скрыл в итоге переплёт его работы.
Второй случай тоже был связан с убийством, но на этот раз неслучайным. Некий знатный господин привёз из Африки негритёнка, которого демонстрировал гостям. Когда живая игрушка ему опостылела, он задумал обить кожей мальчика своё парадное кресло. Мастер-мебельщик сказал, что кожи будет маловато для полноценной детали интерьера, но можно сделать вставки. По приказу господина ребёнка убили и освежевали, кожа пошла на кресло, но мебельщик немного не рассчитал, и остался порядочный шмат довольно приличного качества. Он и достался Шарлю с поручением переплести в него простой блокнот с чистыми белыми страницами. Шарль не знал, что случилось впоследствии с господином. Видимо, ничего, поскольку чернокожие далеко не всегда считались людьми, а за убийство животного никаких санкций не полагалось.
Конкуренция с другими мастерами была более или менее честной. Шарль, до первого заказа живший внутри своего замкнутого ареала и смутно представлявший, как обстоят дела в окружающем мире, неожиданно обнаружил, что не слишком-то отличается от других переплётчиков. Более того, многие цеховые мастера совмещали искусство переплетения с типографскими и книгоиздательскими работами, из-под их рук выходили не тетради, не брошюры и не переплёты, а полностью готовые книги. Шарль чувствовал, что сам устроился очень хорошо. Он мог позволить себе заниматься достаточно узким делом, сугубо переплётами, и ничем более, что положительно сказывалось на качестве его работы. Впрочем, переплётчиков, работавших по схожему принципу, тоже хватило с лихвой.
Бывали и весьма странные заказы, отличные от других. Сами по себе переплёты из человеческой кожи были работой, уникальной по отношению к прочим переплётам. Но случалось Шарлю выполнять работы, которые выделялись даже на этом пёстро-кровавом фоне. Незадолго до своего тридцатичетырёхлетия Шарль получил очередной тайный заказ на переплетение набора учебников по гуманитарным наукам в человеческую кожу. Кожи было маловато для всех книг, и переплётчик намётанным глазом определил, что вся она принадлежит одному человеку, правда, довольно крупному. Необычной была срочность заказа. Клиент платил очень хорошо, но при этом ставил совершенно невероятные сроки. Качество не играет серьёзной роли, было написано в сопроводительном письме, работайте исключительно на скорость, дубите самым быстрым способом, не делайте никаких украшений, разве что простое узорчатое тиснение, главное — сделать всё как можно скорее. Мальчик-посыльный будет всё время ждать неподалёку, продолжал Шарль читать, как только закончите первую книгу — сразу отправляйте нам, затем — вторую, и так далее, не ждите окончания всех десяти томов. Шарль спокойно относился к причудам клиентов. Но в данном случае приходилось несколько поступиться качеством, ускорить отмоку и мездрение, не говоря уже о самом дубильном процессе. Последующее скоростное высушивание и грубая обработка привели к тому, что долговечность сделанных Шарлем переплётов значительно снизилась — уже через полтора десятка лет кожа должна была потрескаться или пойти волнами. Но в данном случае это было неважно — Шарль выполнил заказ в кратчайшие сроки. В первый и последний раз он выполнил некачественную работу, оправдывая себя пожеланиями заказчика.
Пытался ли Шарль узнать, кем была мадемуазель Атенаис на самом деле? Пытался, конечно. Тайно, незаметно выяснял и расспрашивал у знакомых переплётчиков — крошечная ниточка всё же имелась, поскольку серый, по его собственному признанию, посетил прежде Шарля ряд мастеров. Но никто не сказал ни слова. До поры до времени первый заказ остался для молодого переплётчика тайной, а вперёд забегать мы не будем.
Шарль уже привык к рутине — да он и не нуждался ни в чём ином. Переплёты наполняли не только его время, но и его самого — целиком, полностью, без остатка. Шарль не только не знал, но и совершенно не хотел другой жизни. Он чувствовал себя книгой, на страницах которой имеется некий давно изученный набор словосочетаний и фраз. Книгой в переплёте из человеческой кожи.
Всё изменилось не то чтобы в один день, но в промежуток, по сравнению с шестнадцатилетием могущий показаться достаточно коротким. Всему виной стала, конечно, женщина, поскольку ничто иное не способно поколебать мужчину, ничто иное не способно сломить его, сломать его жизнь, стереть его прошлое и одновременно привести к небывалому величию. Женщина одновременно и указующий перст, и пьедестал, и железная пята, и Шарль попался на эту удочку, его подцепили за сердце и потянули вверх, потом вниз, потом опять вверх, и снова вниз, и снова, и снова — и когда он, наконец, вырвался, он был уже мёртв. И одновременно — велик.
Однажды Шарль вышел из дому около восьми утра, чтобы попасть на базар и совершить свой традиционный ритуал — приобрести овощи, зелень, зайти в лавку мясника, заскочить к булочнику. Шарль питался довольно однообразно, но сытно и вкусно. Он умел готовить несколько блюд, которых ему вполне хватало. Он не толстел, но и особой худобой не отличался — просто мужчина среднего телосложения. Он не был внешне ни видным, ни интересным, в толпе взгляд наблюдателя проскочил бы по его лицу, не задержавшись ни на секунду. Вся необычность, всё отличающее Шарля от прочих таилось у него внутри, но даже во взгляде его нельзя было ничего прочесть. Глаза переплётчика были не то чтобы пусты, скорее загадочны. То, что видел в них сторонний наблюдатель, никак не отражало внутреннего мира молодого человека.
Все торговцы, у которых Шарль покупал продукты, давно были ему знакомы и, так сказать, «прикормлены». Постоянные покупатели во все времена ценились больше случайных, и потому почти все делали Шарлю небольшую скидку. Деньги, к слову, он тратил столь умеренно, что уже в этом, ещё весьма молодом возрасте мог позволить себе уйти в отставку и никогда больше не работать, живя на сбережения.
Пройдя по рынку и обзаведясь примерно половиной запланированных продуктов, Шарль услышал крики и какой-то шум. Через несколько секунд из маленькой улочки на рыночную площадь выскочила карета, запряжённая четвёркой лошадей. Кучера на козлах не было, а лошади явно были неуправляемы. Кто сидел в карете, было непонятно, но её стоило остановить хотя бы потому, что под копытами гибли люди, — Шарль своими глазами увидел, как правая лошадь грудью отбрасывает в сторону пожилого человека, тот ударяется в стену и падает либо бездыханным, либо без сознания.
Шарль никогда не был храбрецом — но причиной этого была не трусость и не зов разума. Просто он ни разу в жизни не попадал в ситуацию, в которой потребовалось бы проявить поистине мужские качества. Слишком размеренным и однообразным было его существование. На лошади он ездил весьма и весьма плохо, собственных лошадей не держал, большую часть времени проводил дома. На короткие расстояния он ходил пешком, на большие — нанимал фиакр. Поэтому Шарль обращаться с лошадьми не умел и представить себе не мог, что делать с несущейся во весь опор четвёркой.
А она неслась прямо на него. Он стоял, растерянный, с холщовой сумкой, прямо посреди рыночной площади, на одном из широких проходов между прилавков, и не мог пошевелиться. Лошади скакали к переплётчику, из-под их копыт вылетали искры, карета тряслась и дребезжала, любой случайно задетый прилавок отлетал в сторону, разбрасывая овощи и фрукты (хорошо, что не по рыбному ряду, промелькнула у Шарля неуместная мысль).
«Вали оттуда!» — услышал он окрик, но даже не оглянулся, да и не успел бы уже, видимо, свалить, потому что до столкновения оставались считаные секунды, и вот она, смерть, подомнёт его под себя, превратит подкованными копытами и подбитыми колёсами в кровавое месиво — и помчится дальше, за другими жертвами.
В этот момент он закрыл глаза и увидел. Он видел, как на площади незнакомого города сидит в странной позе человек в оранжевой одежде, и языки пламени разлетаются во все стороны, потому что человек горит, и никто не может подойти к нему, огонь высотой в несколько ярдов, а человек недвижим, но он жив, он молится, сложив руки, молится небу, которое смотрит на огонь, исходящий из человека. Он видел, как бегут дети, одетые и голые, по дороге от кошмара, настигающего их, от огня и крови, от страшного жаркого ветра, и как на лицах детей расплываются цветки ужаса. Он видел, как рвутся сухожилия и вены, как вытекают глаза, как кровь бьёт фонтаном из проломленной головы человека в холщовой рубахе, как чудовища настигают детей, как человек в оранжевом становится обугленной головешкой, так ни разу и не шелохнувшись, и в этот момент из-за пелены дыма и тумана снова появилась женщина из ладанки.
«Не плачь, мой милый, не волнуйся, мой хороший, — сказала она, — я с тобой, никто тебя не тронет, покуда я с тобой, я спасу тебя, прикрою от всех горестей и невзгод». Она взмахнула рукой, и страшные видения пропали, все до одного, растворились в пустоте и немоте, и за спиной женщины Шарль видел теперь только запряжённую четвёркой карету, несущуюся прямо на него, но он знал, что женщина не позволит ему погибнуть, потому что она — его мать, его настоящая мать, та, что дала ему жизнь, и та, что никогда не позволит её отнять.
А потом Шарль открыл глаза. Все видения, которые казались ему вечностью, уместились в одно мгновение — четвёрка лошадей по-прежнему была перед ним по центру торговой площади, только двигалась она медленно-медленно, будто сквозь вату, и Шарль поднял руку, приказывая лошадям остановиться, и снова закрыл глаза.
Тёплое, неприятное дыхание заставило его пробудиться. Вокруг стояла невероятная, нечеловеческая тишина, а каурый конь, тот, что справа, обнюхивал лицо переплётчика, а потом лизал его своим большим влажным языком. Шарль сделал шаг назад. Его качало, но сознания, как в прошлый раз при подобном приступе, он не потерял.
Вдруг звуки обрушились на него. Крики торговцев, вой пострадавших, похвалы. Кто-то говорил ему: «Ты молодец, какой смелый молодой человек, смотрите, как он разбирается в лошадях, другой бы сбежал, а этот знал, что делать, и смотрите, спас в итоге кучу народу, как ваше имя — и так далее». Шарль терялся в этом море слов — никогда ещё он не оказывался в центре всеобщего внимания, никогда ему не приходилось одновременно общаться с таким морем народа. Но, как ни странно, ему не хотелось сбежать, скрыться в своём уютном жилище, снова погрузиться в переплёты. Ему было интересно, кто же сидел в карете, кого он всё-таки спас. Двери не открывались, даже занавеси никто не отодвинул. Возможно, подумал Шарль, пассажиры погибли или потеряли сознание, ударившись во время тряски о какой-либо элемент экипажа. Или попросту внутри никого нет.
«Закрыто!» — крикнул кто-то, видимо, попытавшись открыть дверь кареты. Шарль протолкнулся через окружающих его людей и тоже подошёл к двери. Сумку с продуктами он поставил на землю, и одна из передних лошадей тут же запустила туда морду. Переплётчик постучал. «Есть кто живой?» — спросил он. Никто не отозвался. Он постучал ещё раз. «Ломать надо», — заметил кто-то из толпы. «Не надо», — ответил Шарль. Он взялся за ручку, закрыл глаза — и потянул дверь на себя. И она открылась.
Внутри молодой человек увидел двоих. Один — мужчина — лежал на полу кареты. Его парик свалился, обнажив лысину. Изо рта тонкой струйкой текла кровь, но мужчина дышал. Шарль схватил его под мышки и вытащил наружу. Кто-то принял у него тело. Язык прикусил, раздался голос, за ним последовал хохот. Вторая фигура оставалась в тени. Она сидела на диване неподвижно, точно была куклой, фигурой из папье-маше, а не человеком. «Эй, — окликнул Шарль, — вы живы? С вами всё в порядке?» Он сделал шаг, поднявшись на подножку кареты, потом забрался внутрь. Это была женщина, но лица её не было видно в тени. Шарль не смел дотронуться до дамы, по всей видимости, знатной, столь же фамильярно, как он только что вытащил наружу мужчину. «Вы живы, мадемуазель? Почему вы не отвечаете?»
«Я жива». Голос её был тонок и звонок, прекрасен и красочен. Шарль никогда не слышал такого волшебного голоса.
«Пойдёмте, мадемуазель, вам нужно выйти на свежий воздух. Не стоит, прошу вас. Но право слово, нужно. Вашего кучера нет, ваш слуга — если это слуга — без сознания, вокруг рынок, здесь добрые, простые люди, они не тронут вас, они вам помогут». Шарль не был уверен в своих словах, поскольку «добрые простые люди» безо всякой любви относились к представителям знати. Но он надеялся, что к юной девушке они будут милосердны и снисходительны.
«Ну что там», — раздался крик снаружи. «Сейчас», — отозвался Шарль.
«Мадемуазель, люди волнуются, что с вами, и я волнуюсь; прошу, выходите; если вам тяжело, если вы пострадали, я помогу вам; за врачом уже отправились, потому что ваш слуга прикусил язык».
Девушка внезапно рассмеялась. «Луи, глупый Луи, — сказала она, — прикусил язык: так ему и надо, иначе его было и не заткнуть». Шарль тоже улыбнулся. Хорошо, сказала она и подала переплётчику руку. Он сделал шаг назад, спустился с подножки, а за ним из темноты появилась Анна-Франсуаза де Жюсси, герцогиня де Торрон. Ей было шестнадцать лет, и не было во всём Париже никого прекраснее её. Впрочем, так подумал в тот момент Шарль де Грези, потому что прочим она могла показаться чрезмерно бледной, чрезмерно широколицей, нос её был слишком велик, лоб слишком низок — и так далее, и тому подобное. Но у каждого мужчины свой вкус, своё понятие о красоте, и молодая герцогиня воплотила в себе всё то, что мечтал видеть в женщине Шарль.
Дело было в том, что вовсе не лицо, не фигура, не упругая грудь и не лебединая шея имели для переплётчика значение. Всё, что он видел, заключалось в её коже — густо покрытой веснушками, чуть красноватой коже рыжей, точно закатное солнце, женщины.
Часть 2 Анна-Франсуаза
Глава 1 ТРУДНЫЕ РОДЫ
Альфонса д’Обильон, герцогиня де Жюсси, рожала в муках. Это были уже седьмые её роды, и предыдущие были не сказать чтобы удачными. Сначала герцогиня родила мужу толстенького и вполне здорового сына, который спустя полторы недели благополучно скончался то ли от менингита, то ли от какого-то врождённого заболевания. Затем она родила дочь, которую собирались назвать Жанной, если бы та появилась на свет живой. Но этого не случилось. Потом последовательно родились мёртвыми или скончались сразу после рождения ещё трое детей — два мальчика и девочка. В шестой заход герцогиня родила близнецов — одного мёртвого и одного живого. Мальчика назвали Жаном, и тот умер по неизвестным причинам три недели спустя. Герцогский лекарь, господин Мальдоне, с загадочным видом воздел палец к небесам и произнёс что-то на латыни, видимо, название болезни. Для Мальдоне жизнь и здоровье пациента стояли на последнем месте после набивания собственного желудка, пополнения кошелька и приобретения очередной лошади. Лечение как таковое обычно состояло из следующих пунктов: продемонстрировать окружающим свои глубочайшие познания; отогнать от больного всех, кто хоть в чём-либо не согласен с мнением матёрого эскулапа; сделать кровопускание; посмотреть, что произойдёт; если больному стало лучше, состроить умное лицо и, молча, с чувством собственного достоинства, покинуть комнату страдальца; если больному лучше не стало, произнести вслух название болезни на латыни и объявить её неизлечимой. Как нетрудно догадаться из описания данной методики, смертность пациентов доктора Мальдоне была достаточно высока, но при этом все окружающие видели в нём необыкновенно умного и подкованного специалиста.
Но в тот день, когда умер седьмой ребёнок герцога де Жюсси, он призвал к себе Мальдоне и потребовал настоящих объяснений. Не латинскую муть, не витиеватые высказывания, заполнявшие медицинские трактаты, а лаконичный отчёт, исключительно по делу, как, что, почему и что делать дальше. Мальдоне было начал уводить беседу в сторону, вставлять латинские словечки, заговаривать герцогу зубы, и герцог уже вроде как клюнул на удочку велеречивого эскулапа, но оказалось, что он лишь делал вид. Когда словоблудие Мальдоне герцогу надоело, он встал, подошёл к врачу и без лишних слов воткнул ему кинжал в горло. Кровь хлынула ручьём, Мальдоне попытался зажать рану, но через несколько секунд всё-таки упал, ещё полминуты хрипел на полу, а затем испустил дух. «Уберите эту гадость», — приказал герцог.
Ко двору был призван новый врач. Его звали Валери Жарне, он был совсем молод — не более тридцати лет — и отличался не обилием званий и дипломов, а оригинальным подходом к медицине. Собственно, де Жюсси объявил конкурс на звание эскулапа при герцогском дворе, и попытали счастья целых двадцать шесть врачей разной масти. Хотя бы отдалённо похожих на Мальдоне герцог отметал сразу после устного собеседования, и в результате предварительный отбор прошли всего трое. Один, постарше, лет пятидесяти, по фамилии Шако, лечил исключительно народными методами. Он отлично разбирался в травах, умел варить вкусные и полезные отвары, в два счёта избавил одного из пажей от кашля, а служанку герцогини — от насморка. Герцог предложил Шако занять новоучреждённую должность травника, но в основные врачи его не взял, поскольку, услышав слово «хирургия», врач возмущённо сказал: «Чего я, совсем с ума сошёл, внутрь человека лезть».
Второй и третий эскулапы показались герцогу очень похожими друг на друга. Даже имена их как-то перекликались: Валери Жарне и Жан Варель. Варель окончил Падуанский университет, получил степень доктора философии и медицины, но свои университетские знания применял с умом, не выполняя слепо предписания преподавателей, а индивидуализируя подход к каждому больному. Примерно такие же качества проявил и Жарне, только вот дипломом доктора медицины он похвастаться не мог, так как из Сорбонны его выдворили за полтора года до окончания обучения за нетривиальный подход к профессии. Почему же герцог предпочёл дипломированному специалисту недипломированного? Всё просто. Знания оба врача показали примерно одинаковые, умения тоже, но Варель проявил себя значительно хуже на финальном испытании.
Испытание герцог придумал знатное — и жестокое. На улице были подобраны два пьянчуги, обоим герцог лично нанёс аккуратные колотые раны, не способные привести к мгновенной смерти от повреждения внутренних органов, но вызвавшие значительную потерю крови. Медлить было нельзя: чтобы спасти одного и другого, нужно было торопиться. По крайней мере, так всё выглядело снаружи.
Но герцог схитрил. Оба пьяницы получили по небольшой дозе медленнодействующего яда. Как бы ни лечили их врачи, они бы всё равно умерли. Герцога интересовала в первую очередь реакция тестируемых на смерть пациента.
Врачи бились до последнего. Работали они по отдельности и о том, какое задание выполняет соперник, не знали. Не знали они и того, что их пациенты были порезаны намеренно. Они думали, что тех подобрали на улице уже в таком состоянии. Герцогу нетрудно было убедить в этом эскулапов, желающих получить хорошую работу. Оба качественно и быстро определили тип повреждения, аккуратно всё зашили — а пациенты продолжали слабеть. Варель предположил, что внутреннее кровотечение продолжается, Жарне — что всё-таки задет какой-то жизненно важный орган. Оба пошли на повторное вскрытие — и оба практически синхронно потеряли пациентов.
Тут и проявились человеческие качества соперников. Варель, удостоверившись, что бродяга умер, аккуратно сложил инструменты и с каменным лицом покинул импровизированную операционную. «Не спас», — сухо констатировал он. Жарне бился ещё двадцать минут — колдовал над телом, что-то вдувал ему в лёгкие через рот, пытался запустить остановившееся сердце одному ему известным образом — и когда понял, что ничего уже не изменить, тяжело сел и покачал головой. А потом встал, прочитал над мёртвым короткую молитву и вышел, и слуги доложили герцогу, что молодой доктор чуть ли не плачет. В этот момент герцог и принял решение.
Жарне показал себя прекрасным врачом. В паре с травником Шако они могли излечить любую болезнь. Герцог частенько страдал от похмелья после бурных вечерних и ночных возлияний — тут на помощь приходил Шако, изготовляя какой-то волшебный отвар, возвращающий ясность ума буквально за полчаса. Жарне же регулярно зашивал герцогу и его приближённым раны, полученные на охоте или в драках, а также принимал роды, ставил банки и категорически запретил кровопускание в пределах дворца. «Кровопускание, — с жаром восклицал он, — это устаревший метод! Он даёт облегчение, но не приносит выздоровления! Я врач XVII века, а не современник Галена!» Услышь его Сорбоннские преподаватели, они бы не то что выгнали его из университета, а сразу бы и повесили на какой-нибудь близторчащей горгулье. Несмотря на то что ошибки Галена раскритиковал ещё Везалий сто лет назад, римский медик и по сей день пользовался непререкаемым авторитетом среди преподавателей старшего поколения.
Так или иначе, когда герцогиня Альфонса почувствовала схватки и закричала: «Врача, врача, рожаю!» — Валери Жарне был рядом и тут же организовал площадку для родов в лучшем виде. Во-первых, он давно подготовил специальную доску, достаточно широкую и длинную, чтобы вместить двух лежащих на спине людей. Герцогиню приподняли, и под неё прямо на пуховую перину положили упомянутый предмет. Старая повитуха Грация, принимавшая безо всяких докторов (Мальдоне родами как таковыми брезговал) предыдущих детей герцога, ворчала, мол, где же это видано, на твёрдом женщину держать, ей бы перинок ещё штук пять подстелить, чтобы удобненько было. «Заткнись, старая дура», — холодно и зло сказал Жарне. И повитуха ушла, сердитая, как чёрт. Принесли таз с водой, много белых простыней — и приготовились.
При родах, помимо Жарне, присутствовали две девушки-служанки, одна подруга герцогини и, как ни странно, сам герцог. Он очень боялся, но Жарне настоял, чтобы тот сидел рядом и держал жену за руку, успокаивая. Герцогу такая методика казалась кощунственной, но ради получения, наконец, законного наследника или наследницы он был готов на любые сделки с собственной совестью.
Герцогиня рожала очень трудно и достаточно долго — около пяти часов. С герцога сошло семь потов, он то и дело вскакивал и начинал кружить около кровати, а Жарне терпеливо ждал, когда же ребёнок, наконец, пойдёт. На шестой час ребёнок сдвинулся с мёртвой точки, и буквально через пять минут Жарне передал красный пищащий комочек служанке. Тут же появился заботливый Шако, давший герцогине какого-то обезболивающего отвара. Травник пытался сделать это до родов, но Жарне категорически запретил поить герцогиню чем бы то ни было, прежде чем ребёнок родится. «Рисковать нельзя», — сказал он.
Ребёнок оказался девочкой. Герцог, конечно, хотел мальчишку, но в данный момент он был заинтересован в выживании любого ребёнка. В девочке тоже были свои преимущества, её можно было выгодно выдать замуж, например за особу королевской крови или просто за очень богатого дворянина, способного значительно увеличить состояние самого герцога. Он внимательно рассмотрел ребёнка и не нашёл в нём, новорождённом, ничего приятного. «Фи, — сказал он, — она и будет такой же уродливой, когда вырастет?» — «Нет, конечно, — улыбнулся врач, — так выглядят все младенцы, а потом они становятся цветами». — «Ну ладно», — снизошёл герцог.
Ещё за полгода до этого момента было выбрано имя для ребёнка. Если мальчик — то Жан-Франсуа, если девочка — Анна-Франсуаза. Франсуа звали деда герцога де Жюсси, Жаном — деда герцогини, а Анной не звали никого из их знакомых, просто герцогине нравилось это имя. Таким образом, Анна-Франсуаза де Жюсси появилась на свет. Тогда ещё никто не знал ни того, что она выйдет замуж за герцога де Торрона, ни того, что познакомится с талантливым переплётчиком Шарлем Сен-Мартеном де Грези. Собственно, никто не знал даже, что она будет ослепительно-рыжей, поскольку у новорождённой девочки волос на голове не наблюдалось вообще. Так или иначе, у герцога было хорошее настроение.
А потом герцогиня заорала. Она не орала так никогда — ни одни роды не причиняли ей столько боли. Она прижимала руки к животу и кричала, кричала, кричала — и доктор Жарне подскочил к ней практически мгновенно и заглянул женщине в промежность.
Оттуда нескончаемым потоком текла кровь, а вместе с кровью вываливалось, выползало, выбиралось что-то страшное, чёрное, человекообразное. «Двойня! — воскликнул Жарне и принял второго ребёнка. — Тоже девочка!» — объявил он.
Тем не менее радости в голосе Жарне было немного. Связано это было с двумя факторами. Во-первых, сразу после рождения второго ребёнка герцогиня вытянулась, точно сведённая столбняком, а потом расслабилась и испустила дух. Это случилось в считаные секунды — даже самый лучший врач не успел бы ей помочь. Герцог смотрел на смерть жены без ужаса — в конце концов, ей было уже тридцать пять, детей она рожала в основном мёртвых, а развод в высшем обществе ни королём, ни церковью не одобрялся. Поэтому де Жюсси в душе обрадовался убийству сразу двух зайцев: и ребёнок есть (даже двое), и жены нет. А там, глядишь, выдержав положенный траурный срок, можно и молоденькую подыскать.
Но у доктора Жарне была и другая причина для грусти. Вторая девочка всё-таки родилась мёртвой. У неё не было ног, более того, вся нижняя половина её тела была скомкана, сплющена и вдавлена в подбрюшье таким образом, что ребёнок выглядел половинкой человека. Герцог передал здоровую девочку служанке, а сам с брезгливым выражением осмотрел окровавленный комочек плоти на руках у Жарне. «Это тоже моё?» — спросил он. «Да», — кивнул доктор. «Жить будет?» — «Она уже мертва». — «Ну и чёрт с ней, — сказал герцог, — похороните». — «А как назвать? — спросил Жарне. — Надо же будет на могиле какое-то имя написать». — «Назови Атенаис», — сказал герцог. Жарне посмотрел на ребёнка. Слишком уродлива для такого красивого имени. Врач запоздало перерезал тянущуюся из тела матери пуповину номер два.
Герцог уже не обращал на мерзкий трупик внимания. Он был всецело занят первым ребёнком — с виду совершенно здоровым.
Жарне посмотрел на герцогиню. Её лицо, расслабленное и спокойное в смерти, казалось в этот момент красивым. Шестым чувством врач понимал, что для герцога тело, лежащее на кровати, уже ничего не значит. Оно выполнило, наконец, свою функцию (правда, ребёнок ещё сто раз мог умереть, но это зависело опять же не от мёртвой герцогини). Герцог и служанки с ребёнком уже покидали в этот момент комнату. «Да, — обернулся герцог уже в дверях, — приготовьте всё к похоронам герцогини. И ещё, я подумал, незачем этого уродца хоронить как человека; забудьте то, что я сказал, просто выбросьте это где-нибудь».
Шако пожал плечами. «Ну что?» — спросил он. «Ничего, — отозвался Жарне. — Видимо, нужно идти к Дорнье».
Глава 2 ДОРНЬЕ
Господин Дорнье в момент рождения Анны-Франсуазы отдыхал в одной из своих комнат в южном крыле дворца. Делать ему там было совершенно нечего, и вообще, по всем признакам, он обязан был находиться подле герцога всё время, не отходя от того ни на шаг. Но вот беда, за три дня до описываемых событий Дорнье умудрился споткнуться на ровном месте и растянуть связки в ступне. Ходить из-за этого он если и мог, то с большим трудом, превозмогая боль. Для скорейшего выздоровления Жарне потребовал от Дорнье соблюдения постельного режима и ползать через весь дворец к герцогу запретил. Герцог сказал, что временно сможет без Дорнье обойтись.
Кем же был этот столь незаменимый господин? О, он был всем. Номинально Дорнье состоял при герцоге управляющим, но при этом умудрялся засунуть свой длинный нос даже в дела, никоим образом его не касающиеся. Например, он регулярно появлялся на кухне и проверял качество работы главного повара, за что тот его искренне ненавидел. Обладая потрясающей памятью, Дорнье знал всю челядь вплоть до мужика, который приходил опустошать отхожие ямы. Управляющий умело распоряжался чужими вещами, чужими делами и даже чужими жизнями — в случае, когда кто-то становился ему неугоден. В то же время Дорнье был одним из немногих, кто хорошо понимал герцога и мог обуздать его жестокий нрав. Герцог вполне мог убить простолюдина за неправильно склонённую голову и этим сильно походил на феодалов тёмного Средневековья. Дорнье же знал, как отвести герцогское внимание от попавшего под горячую руку страдальца, и всегда помогал избежать хозяйского гнева. Поэтому половина дворца была управляющему обязана, а Дорнье прекрасно знал, как этим пользоваться.
Помимо всего прочего, Дорнье работал у де Жюсси дольше всех прочих. Некогда он служил при доме д’Обильон, но после свадьбы новоявленная герцогиня порекомендовала Дорнье мужу как незаменимого человека, герцог с некоторым неудовольствием принял того на работу и не пожалел. Свой переход из дома в дом Дорнье объяснял тем, что всегда предпочитал выполнять пожелания Альфонсы, нежели её своенравных родителей, да и карьерной лестницы в доме д'Обильонов ему не светило. У де Жюсси он в течение буквально полутора лет поднялся от личного помощника герцогини до управляющего всеми делами герцога.
Герцог ценил своего верного слугу в первую очередь за то, что тот брал на себя абсолютно все обязанности, которые герцогу неплохо было бы порой выполнять самому. Мало кто знал (да и сам герцог был, конечно, не в курсе), что Дорнье порой взваливал на свои широкие плечи даже супружеский долг хозяина, и после подобных экзерсисов герцогиня в течение нескольких дней ходила, лучась, точно солнце. Служанки толковали, что в постели Дорнье дерзок и умел, и главное, он может как-то так извернуться, чтобы избежать беременности, да ещё при этом и удовольствие доставить. Доктор Жарне, чьи успехи на любовном фронте были весьма сомнительны, управляющему завидовал.
Так или иначе, похороны тоже должны были лечь на плечи Дорнье. Эскулап не собирался брать на себя чужие, да ещё и столь неприятные, обязанности. Он придумал для инвалида оригинальный костыль и планировал уже ночью изготовить его из подручных средств, чтобы назавтра управляющий мог снова приступить к выполнению своего долга. Теперь же Жарне шёл к комнатам Дорнье. Тому, конечно, уже донесли о несчастье, обрушившемся на дворец, — и одновременно об успешном появлении на свет девочки.
Жарне появился у Дорнье без предварительного доклада и приглашения. Когда доктор ворвался к больному, тот полулежал на кушетке и листал какую-то книгу.
«Дорнье! — закричал Жарне практически с порога. — У нас проблемы». — «Я знаю, — спокойно отозвался управляющий, — тем более это не проблемы, так, суета сует». — «Смерть герцогини — суета сует?» — «Да, именно так». — «И смерть одного из близнецов тоже?» — «Безусловно». Дорнье продолжал листать книгу, изображая безразличие. Тем не менее Жарне прекрасно знал, что многочисленные шестерёнки в голове управляющего сейчас активнейшим образом вращаются, планируя дальнейшие действия и распоряжения.
«Ладно, Альбер, — сказал врач (наедине они с управляющим переходили на „ты“), — ты знаешь, что делать, но, так или иначе, грядёт определённая несправедливость: герцогиню похоронят со всеми надлежащими почестями, это понятно, но о мёртвом ребёнке не знает никто, кроме узкого круга лиц, и герцог не погнушается просто выбросить его на помойку, ты же его знаешь; а мы всё-таки люди, нужно оставить память об этой девочке».
«Я подумаю», — сказал Дорнье.
В этот момент в комнату ворвался слуга. «Что-то вы все сегодня с ума посходили», — спокойно сказал Дорнье. Слуга, запыхавшись, пробормотал: «Извините, сеньор, но сюда идёт герцог и будет тут от силы через минуту, я подумал…» — «Молодец, — прервал его управляющий, — спасибо, что предупредил, ты свободен». Слуга поклонился и вышел. «Ну вот, — обратился Дорнье к врачу, — герцогу пришла в голову какая-то высокая идея; даже не знаю, уходить тебе или лучше на всякий случай остаться». — «Останусь», — ответил Жарне. «Хорошо, — подытожил управляющий, — посмотрим, что за нелёгкая его несёт». — «Чего смотреть», — начал был эскулап, но в этот момент двери распахнулись в третий раз, и в комнате появился герцог.
«Жарне! — взревел он. Доктор поднялся, дрожа, как осиновый лист. — Ты почему не с Анной?» — продолжил герцог. «С ней всё в полном порядке, она у кормилицы». — «У какой?» — «У Жозефины, вы её не знаете, я сам отбирал, молоко прекрасное, девушка в самом соку». — «Ладно», — внезапно успокоился герцог и повернулся к Дорнье, который, пользуясь своим статусом больного, даже не подумал встать.
«Хорошо, что доктор тут, — сказал де Жюсси. — Мне тут пришла в голову одна занимательная идея, которую вы вдвоём как раз и воплотите в жизнь; я хочу, чтобы в кожу Альфонсы переплели книгу». Герцог замолчал, ожидая реакции подчинённых.
«Гм, — откашлялся Дорнье. — Неожиданно, ваше сиятельство, весьма неожиданно. Но будет исполнено, безусловно, в кратчайшие сроки. Какую книгу вы хотите переплести таким… гм… необычным образом?» — «Мои стихи». Дорнье чуть не поперхнулся. У него с языка чуть не сорвался вопрос: «Вы пишете стихи?» Но в таком тоне с герцогом разговаривать не следовало.
«Вот», — герцог протянул лежащему управляющему книгу, а сам сел на большое кресло напротив. Его свита, состоящая из двух лакеев, встала за спинкой. Управляющий взвесил свежеотпечатанный томик. «Ваше сиятельство, можно узнать у вас несколько вещей, которые позволят господину Бартелеми выполнить свою работу быстро и качественно?» — «Можно. Эта книга только что напечатана — как вы…» — «Я не думал, что Альфонса умрёт, — перебил герцог, — это был подарок ей в честь рождения ребёнка; я считаю, что сейчас это лучший способ почтить её память. У вас есть какие-либо особые требования к переплёту?» — «Нет, пусть Бартелеми сделает так, как считает нужным».
«Э-э-э, — промычал Жарне, — ваше сиятельство, а кому предстоит честь, так сказать, добычи материала?» Герцог сурово посмотрел на молодого врача. «А вот это, — сказал он, — совершенно не моё дело. На то я и герцог, чтобы не решать такие вопросы».
Он встал и сделал несколько шагов к двери. «Да, — обернулся он, — лицо оставьте, чтобы можно было хоронить открыто». И вышел.
«Вот дьявол», — сказала Жарне. «Именно, — подтвердил Дорнье, — зато у меня в ходе этой беседы возникла мысль, как увековечить память девочки». — «И как же?» — «Смешаем её кожу с кожей матери и отдадим переплётчику. Пусть тоже будет там, на переплёте». — «Правильно, — кивнул врач, — вы, как всегда, на высоте». — «Я просто делаю свою работу», — возразил Дорнье.
Переплётчик, господин Франсуа Бартелеми, был вызван к Дорнье тем же вечером. Он явился почти сразу, грузный, одышливый, со смешными висячими усами. Бартелеми был хорошим мастером-технарём, напрочь лишённым воображения. Ему показывали переплёт любой степени сложности и говорили: вот, сделай такой же, только тут кораблик замени на карету, а этот узор сделай полым. Бартелеми без проблем выполнял задачу, ни разу не ошибившись, не сделав ни одного неверного движения и не приложив ни капли вдохновения. Когда герцогу нужен был переплёт для какой-либо книги, он обычно вызывал к себе вездесущего Дорнье и в общих чертах обрисовывал тому задачу. Дорнье придумывал всю концепцию переплёта, подробно излагал в письменном виде и передавал Бартелеми, будучи уверенным, что тот выполнит всё в точности и не отклонится ни на йоту. С одной стороны, иметь под рукой такого исполнителя было неплохо. С другой стороны, Дорнье иногда представлял себе, как ему жилось бы, обладай подобной исполнительной тупостью, например, доктор Жарне. За переплётчика управляющий, обладатель неплохого художественного вкуса, ещё мог что-то решить, но вот принимать решения за доктора он бы не смог. С ужасом вспоминал управляющий доктора Мальдоне, напоминавшего чем-то переплётчика, и тут же отбрасывал это неприятное воспоминание.
Отсутствие воображения у Бартелеми обуславливалось в первую очередь его карьерой. Он вышел из самых низов общества — приютский сирота, ставший учеником кожевенника, оказался обладателем весьма ловких пальцев и со временем перешёл с грубой выделки на тонкую обработку кожи, а потом и на книжные переплёты. Впрочем, Бартелеми выполнял иной раз и другие работы. Будучи от природы туповатым, но умелым и старательным, он читал книги о переплётном деле, старательно изучал и копировал техники других мастеров — но ничего не мог привнести в профессию самостоятельно.
Идея переплёта ещё не сформировалась в голове Дорнье, но он вызвал к себе Бартелеми, чтобы поручить тому первую, самую неприятную работу.
«Из человеческой кожи?» — удивился переплётчик, это не по-божески как-то. «Надо», — сказал с грустью в голосе Дорнье. «Из самой госпожи герцогини?» — «Именно, и придётся тебе, мой друг, вспомнить свои кожевенные навыки, потому что снимать и дубить кожу, кроме тебя, тут умеют только придворные мясники, а поручать такое тонкое дело им как-то совсем не с руки». Бартелеми грустно кивнул. В глубине души он уже давно согласился: раз надо, значит, надо, но что-то внутри толстяка восставало против такого надругательства над телом. «Да, кстати, — добавил Дорнье, — будет и второе тело», — и рассказал переплётчику об умершем ребёнке герцога. Бартелеми молча перекрестился. «Выполняйте, Бартелеми, — в конце концов сказал Дорнье. — Кожа должна быть снята, выдублена и подготовлена к последующей с ней работе».
Бартелеми кивнул и вышел. К сожалению, лишь после того как переплётчик выполнил свою работу, точнее, её первую часть, Дорнье обнаружил, что забыл предупредить его об одной важной вещи: нельзя было трогать кожу на лице и шее герцогини, то есть на частях, должных быть продемонстрированными публике во время похорон. Когда через несколько дней Дорнье явился в переплётную мастерскую при дворце, первое, что он увидел на просушном механизме, это растянутую на тонких нитях комическую маску, некогда бывшую лицом герцогини Альфонсы д’Обильон; большая часть кожи уже была подготовлена и выдублена. Понимая, что за такое герцог самолично снимет шкуру с него самого, Дорнье в мгновение ока решил, как следует поступить дальше. Кивнув подмастерью, помогавшему Бартелеми, он направился к герцогу, где витиевато и аккуратно разъяснил сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что глупый переплётчик поступил самовольно, вопреки указаниям, и всё-таки снял кожу с лица герцогини, видимо, предполагая таким образом устроить некий непристойный обряд или ещё чего похуже. Многословие Дорнье напомнило герцогу манеру общения покойного доктора Мальдоне, но, ослеплённый яростью, он не заподозрил управляющего в ошибке и тут же отправился к Бартелеми высказывать своё недовольство.
Результатом последнего стал окровавленный труп самого Бартелеми и обмочившийся подмастерье, успевший спрятаться за печатным прессом. Вскоре после визита герцога в переплётную наведался и управляющий, наказав подмастерью аккуратно завершить дубильные работы и предоставить всю заготовленную кожу в лучшем виде, иначе не минует и его печальная судьба мастера.
Кроме того, идея Жарне об объединении кожи матери и дитяти в одном переплёте оказалась нереализованной. Бартелеми отложил обработку кожи с детского трупика на потом и попросту не успел обработать мертворождённую Атенаис до начала герцогского гнева. Тельце было обнаружено завёрнутым в тряпицу в мастерской незадачливого переплётчика и негласно предано земле на следующий же день.
Но случившееся возложило на плечи Дорнье сразу две новые проблемы. Во-первых, как-то нужно было оправдать перед высшим светом тайные похороны герцогини. В конце концов, у неё были подруги, которые планировали посетить похороны, да и кто-то из добрых знакомых самого герцога должен был выразить путём проводов госпожи де Жюсси в последний путь свои соболезнования. Впрочем, эта проблема была решаема — так или иначе, хитрец Дорнье нашёл бы предлог избежать публичного погребения. Но значительно более сложной была вторая задача — найти переплётчика, который согласится сделать переплёт из человеческой кожи, не задавая лишних вопросов. Наведя справки, Дорнье выяснил, что ничего противозаконного в такой работе нет, если точно известно, откуда взялась кожа. Но после длительной беседы с герцогом управляющий выяснил, что тот ни в коем случае не хотел, чтобы некрасивая история и его странное пожелание стали достоянием общественности. Таким образом, следовало найти мастера, готового согласиться с анонимностью заказчика. И, что ещё более трудно, мастер этот должен быть очень хорош.
Поручить кому-то стороннему искать переплётчика? Нет, такого Дорнье себе позволить не мог. Он решительно встал и прошёлся по комнате. Как ни странно, боль была вполне терпима. За несколько дней неподвижности и прохладных компрессов нога пришла во вполне приличное состояние. Он мог спокойно шагать и не морщиться от неприятных ощущений. Правда, не очень долго. Но взять экипаж и отправиться на поиски специалиста — почему бы и нет?
Ранним утром следующего дня Дорнье выехал из дворца в город. Первым делом он направился к цеховому старшине Жерому Вилье. Тот, выслушав посланца, сказал, что из цеховых никто не возьмётся за подобную работу, если не будет указано, кому принадлежит кожа, где она взята, своей ли смертью умер её обладатель. Дорнье понял, что здесь искать нечего. Зато из Вилье в процессе длинного, полуторачасового разговора он вытянул ряд весьма полезных имён.
В соответствии со списком, отчасти полученным от Вилье, отчасти составленным исходя из собственных знаний, Дорнье посетил за первый день шестерых переплётчиков, за второй — ещё восьмерых, за третий — ещё семерых. И все отказывались работать с человеческой кожей, не зная источника поставок столь щекотливого материала. Дорнье уже отчаялся найти подходящего человека, когда один из посещённых, пожилой переплётчик Даньон, посоветовал обратиться к молодому де Грези. Даньон сказал: «Этот парень — талантище, каких мало, а заказчиков у него не всегда хватает, потому что молодости не очень-то доверяют. Я иногда по старой дружбе с его отцом подкидываю ему клиентов, которых сам не успеваю обслужить; он, думаю, за любую работу возьмётся, лишь бы хоть какая-то была».
Через пятнадцать минут Дорнье был уже у дома молодого де Грези. Перед тем как выйти из экипажа, он одёрнул свою серую куртку, поправил серые штаны — и направился к дому переплётчика. Серый цвет Дорнье предпочитал по объективной причине: в городе на нём не было видно грязи. Во дворце он носил более вычурную одежду, категорически не идущую к его приземистой квадратной фигуре.
Глава 3 БЕСЁНОК
Анна-Франсуаза росла настоящим бесёнком. Первый раз она сбежала из дворца в возрасте пяти лет, и все няньки сбились с ног, пытаясь поймать непоседливую девчонку. Как оказалось, она умудрилась прицепиться к подножке покидавшей территорию дворца кареты — и таким образом оказалась за оградой. Через полчаса пошёл проливной дождь, ей стало страшно и неуютно, она пролезла через широко расставленные прутья ограды и вернулась назад, кашляя и чихая. Герцог рвал и метал: за пять минувших лет он так и не женился, так и не произвёл законного наследника-мальчишку, и Анна-Франсуаза оставалась его единственной наследницей и надеждой. Впрочем, девочка была крепкой и здоровой, поэтому серьёзных забот у Жарне не было.
Жарне, к слову, женился на одной из служанок. По сословному признаку ему следовало взять в жёны хотя бы купеческую дочку, но сердцу не прикажешь. Он по уши влюбился в юную и совершенно нищую особу по имени Марианна, пристроил её к герцогской челяди, научил манерам — и женился. Марианна была кроткой с виду, но на деле — себе на уме. Жарне она в какой-то мере любила, но не гнушалась интрижками на стороне. Впрочем, родившийся у них на второй год сын явно был докторских кровей — характерный нос и лоб явственно различались даже на пухлом младенческом личике.
Анна-Франсуаза была рыжей. Ярко-рыжей, точно солнце, и вся в веснушках. «Ах, какая красавица!» — восклицали дамы (с раннего возраста герцог — пусть и нечасто — брал дочь на балы, где за ней присматривала компаньонка), а мужчины прикидывали, сможет ли их отпрыск лет эдак через десять посвататься к красивой, богатой и знатной девице. Герцог это прекрасно понимал — и гордился.
Он вовсе не вёл жизнь сексуального аскета. Более того, за минувшие пять лет де Жюсси наплодил как минимум четверых внебрачных детей, которых не собирался признавать. Но жениться он не торопился по двум более или менее объективным причинам. Во-первых, иногда он доставал с полки книгу в переплёте из человеческой кожи, проводил по её поверхности пальцами и думал о том, что вот она, его жена, его женщина, которую он не слишком-то любил при жизни, но теперь, после смерти, осознал, как ему без неё нехорошо. Он не страдал, просто ему не на ком было выместить раздражение, некем было владеть в полной мере, не на кого было опереться и, как ни странно, некому было довериться. Жена знала о де Жюсси вещи, которых не знал никто.
Стихи, составлявшие сборник, и в самом деле были написаны герцогской рукой. Этим он и покорил её когда-то — своей открытой, честной пошлостью, нестеснением похабщины, демонстративным отсутствием манер. Сонеты, посвящённые Альфонсе, насквозь были пронизаны плотской любовью, желанием коитуса, — и они возбуждали её. Герцог знал, что Альфонсе они нравились, и решил сделать ей столь своеобразный подарок. Правда, переплетать книгу он планировал в обычную телячью кожу.
Портрет, использованный для переплёта, был выполнен, когда Альфонсе было шестнадцать, для демонстрации её красоты жениху. Она сильно болела тогда, и художник максимально постарался сгладить недостатки её внешности, — и нарисовал такой портрет, в котором опознать Альфонсу было невозможно никоим образом. Жениху-герцогу в итоге отправили другой, более поздний портрет, строже и искуснее выполненный. Герцог влюбился — насколько он вообще мог влюбиться. Любовь эта проистекала не из высоких материй и сердечного трепета, а из совсем других черт герцогского характера. Во-первых, герцогу нравились деньги, приходившие в семью вместе с невестой. Во-вторых, его возбуждала её аккуратная покорность и способность к послушанию — независимо от сексуальных причуд мужа. Она убеждала себя, что ей нравятся его животные порывы и сложные позы, выисканные в завезённых с Востока иллюстрированных книгах. Герцога же всё устраивало: отсутствие чопорности (по крайней мере, наедине), готовность девушки к познанию нового и совершенствованию в нём.
Рыжий и конопатый плод совместного труда герцога и герцогини де Жюсси полюбился всем в замке — от кухарок и садовников до хитроумного и не способного, казалось бы, на какие-либо человеческие, лишённые расчёта чувства господина Дорнье. Анна-Франсуаза позволяла себе ездить на шее управляющего в прямом и переносном смысле. Его широкие плечи были удобнейшим насестом для маленькой наездницы, и нередко случалось, что Дорнье вместо решения насущных проблем рассекал просторы дворца с гиканьем и ржанием, неумело, но старательно изображая боевого коня.
Девчушка интересовалась всем на свете. Несмотря на категорический запрет герцога, она постоянно прибегала в комнату то к Жарне, то к Шако, а потом, используя вытянутые из них познания, химичила у себя в покоях. Как-то раз, уже в шестилетнем возрасте, она развела на траве в парке костёр, на котором, использовав украденный на кухне котелок, сварила какой-то дикий настой из собранных в округе трав — и додумалась проверить его действие на себе. Если бы не Шако с его лечебными смесями (и в особенности быстродействующими рвотными средствами), герцог лишился бы дочери. Впрочем, наряду с похвалой Шако удостоился порки, потому как само происшествие явно произошло под его непосредственным влиянием.
Сын лекаря Жарне был на три года младше Анны-Франсуазы, но других товарищей по играм на тот момент во дворце не было. У слуг иногда рождались дети, но все были либо значительно старше, либо младше на пять-шесть лет, что не позволяло толком с ними играть. Три года разницы ощущались не столь сильно, и когда маленькому Жану стукнуло четыре, а Анне-Франсуазе — семь, они уже активно играли вместе, причём Анна использовала свои обширные (в сравнении с его) познания окружающего мира для демонстрации превосходства — и получала от этого массу удовольствия.
Всеобщая любовь имела немало отрицательных сторон. В частности, девочка росла крайне избалованной. Она всегда делала что хотела, не встречая ни малейшего сопротивления. По натуре она пошла скорее в отца, чем в мать, и потому в ней присутствовала некая неосознанная жестокость, которая впоследствии могла превратиться в истинный деспотизм. Кроме того, избалованность не могла обходиться без конфликтных ситуаций и порой вызывала крайне неприятные чувства у приближённых к герцогской дочери. Например, Анна-Франсуаза обожала огонь, отдавалась пиромании со всей страстью и несколько раз поджигала как хозяйственные постройки, так и живых людей. В число её постоянных развлечений входило следующее: тихонечко подкрасться к кому-нибудь из челяди с подожжённой заранее соломинкой и запалить, например, нижнюю юбку (если жертва — женщина) или куртку (у мужчин). Упрёки и разъяснения, что это может привести к трагическим последствиям, не помогали. Впрочем, слава богу, обходилось без жертв, лишь однажды конюх опалил себе руку в процессе тушения пылающих штанов.
«Огонь — это потому что она рыжая, — объяснял герцогский астролог месье Жоффруа Сель. — Если бы была блондинка — была бы вода, брюнетка — земля». — «А воздух?» — спрашивали его. — «Воздух, — отвечал Сель, — превыше всех стихий, и овладеть им может человек с любым цветом волос, но для этого требуется отринуть все земные искушения и долго учиться». Откуда месье Сель вывел сию истину, никто не знал, но авторитет астролога был непререкаем. Отчасти потому что его предсказания нередко сбывались (точнее, он предсказывал всё столь туманно, что «подогнать» произошедшие события под его пророчества не составляло труда), отчасти потому что Сель был добрым малым, любителем пропустить стаканчик и поразвлечься с девками — а такие качества всегда относились скорее к достоинствам, нежели к недостаткам.
Другой неприятной чертой девочки была чрезмерная капризность. Если уж что-то было ей не по душе, заставить её это сделать было совершенно невозможно. Как минимум десяток раз Жарне появлялся у герцога с требованием вразумить дочь, которая из-за упрямства подвергала свою жизнь и здоровье опасности. Однажды она, например, категорически отказалась когда-либо в жизни употреблять в пищу что-либо иное, помимо конфет и булочек. От уговоров съесть хотя бы свежее яблочко она приходила в ярость, а насильно герцогскую дочку кормить было никак нельзя. После недели подобной диеты паникующий Жарне пришёл к герцогу и разъяснил, что если девочка не начнёт кушать свежие цитрусовые, то у неё будет не просто запор с кровью (до которого оставались считаные дни), а цинга со всеми вытекающими — выпадением волос, зубов и так далее. Герцог думал недолго. Неплохо зная склочный характер дочери, он приказал запереть её в крошечной комнатушке и подавать на завтрак, обед и ужин только то, что пропишет в качестве рациона доктор Жарне. Три дня еда вылетала из дверного окошка в лицо приносившему её слуге, на четвёртый вылетела только часть, а на шестой девочка снова начала есть то, что дают, а не то, что хочется. После этого она имела серьёзный разговор с отцом в присутствии доктора и больше опасных для здоровья экспериментов не проводила. Зато истаскала маленького Жана Жарне за волосы — потому что никак не могла отомстить Жарне-старшему.
К настоящим неприятностям шалости и привычки Анны-Франсуазы приводили дважды. Оба раза гибли люди, и герцог в ярости отправлял дочь в камеру каземата при замке. В первый раз семилетняя на тот момент девочка провела в тёмном холодном карцере на хлебе и воде четыре дня. Герцог категорически запретил испытывать к дочери жалость, щадить её или подкармливать — но никто и не собирался этого делать, так тяжело отразился на челяди её поступок.
Незадолго до этого Жарне проводил с Анной вступительный урок анатомии. По трудам Везалия он объяснял ей, где находятся различные органы человеческого тела и за что они отвечают. Следующим же вечером девочка вознамерилась самостоятельно убедиться в правоте наставника. В качестве предмета изучения был выбран молодой, тринадцатилетний, служка при поваре, выполнявший различные бытовые поручения из разряда принести воды или развести огонь. Набравшись от Шако знаний, девочка смешала более или менее сносное снотворное, принесла служке попить — якобы потому что относилась к нему с некоторым расположением, а когда он уснул, умудрилась незаметно дотащить его тело до своей комнаты. Впрочем, тащить было недалече: как показало расследование, девочка предварительно заманила служку как можно ближе к собственным покоям.
Няньки в этот момент отсутствовали — одна болела, вторая пошла с каким-то поручением, третья обедала. За последующие двадцать минут вооружённая кухонным ножом Анна-Франсуаза распотрошила несчастного служку и была несколько обескуражена тем, что органы выглядят совершенно не так, как на картинках, да и вообще из-за обилия крови толком разглядеть ничего не получалось. Первая же вошедшая в комнату нянька заорала в голос и выскочила прочь, но, пробежав несколько ярдов, грохнулась в обморок. Вторая оказалась более стойкой: её вырвало, но затем она добралась до покоев Дорнье, где и сообщила о кровавой бойне в комнате герцогской дочери. Дорнье побежал к месту преступления, подробно всё изучил, поговорил с Анной-Франсуазой, взял её за окровавленную ручку и повёл к герцогу. Тот нисколько не жалел о каком-то там служке, но девочку велел строго наказать — вышеописанным способом. Комната была отмыта, останки мальчишки захоронены. Целый месяц Анна-Франсуаза ходила тише воды ниже травы и постепенно вернула доброе к себе отношение. «Она же не понимала, что делает, — говорила челядь, крошечная же совсем».
Годом позже эта милая девочка в процессе изучения устройства кареты отца испортила тормоза. То есть она просто, вооружившись зазубренным кинжалом, за три часа умудрилась открутить тормозные колодки[71] с правой стороны — на переднем и заднем колёсах. Здраво предположив, что её поступок не пройдёт незамеченным, она кое-как приклеила обе колодки на место, позаимствовав клей из переплётной мастерской при дворце. Клей честно выдержал ровно одно торможение. Конюх впряг лошадей в карету и докатил до главного входа в герцогскую резиденцию. Там он затормозил и стал ждать господина.
Следующий раз тормозить пришлось уже на дороге, на достаточно серьёзной скорости, и тут обе приклеенные колодки сорвало. Затормозила только левая сторона кареты, её потащило в сторону и перевернуло. Герцог и Дорнье, ехавшие в карете, отделались синяками, конюх погиб, двух лошадей из четырёх пришлось добить, чтобы не мучились. Анна-Франсуаза снова отправилась в карцер.
Больше развлечения девочки к человеческим жертвам не приводили. Но так или иначе росла она избалованным и злым ребёнком — и одновременно умным и изобретательным. Анну-Франсуазу интересовало всё на свете. Видимо, самым страшным наказанием для неё мог стать недопуск к информации, к знаниям. Понимая это, герцог приставил к ней учителей — и ошибся, потому что учиться в традиционном понимании этого процесса Анна ненавидела. Она никак не могла понять, зачем ей в жизни понадобится латынь, и, что самое смешное, герцог не мог толком ей это объяснить. Читать книги на латыни? Проще заказать перевод, если его до сих пор не существует. Молиться и понимать церковные тексты? «Папа, а ты-то в церкви часто бываешь?» — со смехом отвечала она. И так далее, и тому подобное. Самое страшное, что герцог понимал и признавал её полную правоту. Учить латынь «просто потому, что так принято» Анна не могла и не хотела. Ей нужна была причина.
Дорнье первым понял, как нужно обучать герцогскую дочку, чтобы та выросла если не доброй и милой, то хотя бы умной. Точнее, эрудированной. Дорнье очень чётко разделял понятия «ум» и «эрудиция». Второе слово в его понимании подразумевало объём знаний, умещающихся в голове индивидуума. А первое — умение этими знаниями грамотно пользоваться. Человек, который знал десять языков, но при этом ни разу в жизни не воспользовался своим знанием, в глазах Дорнье был эрудированным глупцом. Человек же, который ни одного языка с академической точки зрения не знал, но постоянно общался с иностранцами на улицах Парижа, нахватывался от них жестов и словечек — и обращал свои знакомства в деньги, назывался в соответствии с терминологией управляющего «безграмотным, но умным». Кроме того, Дорнье считал, что эрудицию несложно обрести: достаточно много читать, слушать других эрудитов, можно учиться в Академии или подрабатывать у какого-либо ремесленника. Знания так или иначе приходили со временем и накапливались, накапливались, накапливались. Ум же обрести было нельзя. Дураками, утверждал Дорнье, рождались и умирали. Дурак вполне мог окончить университет и десять раз стать доктором философии, но ума от этого у него не прибавлялось.
Анна-Франсуаза с точки зрения Дорнье родилась не просто умной, но гениальной. Эрудиции ей не хватало исключительно ввиду малого возраста, и она стремилась впитывать знания — те, которые считала необходимыми. В два счёта умелый спорщик Дорнье втолковал герцогу, что девочку нельзя учить по традиционным методам и программам. Вы же нашли нового, перспективного врача, приверженца оригинальных методик — Анне нужен такой же педагог, утверждал он. Педагог не должен вдалбливать в девочку совершенно не нужные ей латынь и греческий. Где она воспользуется ими? Нигде! Они изучаются лишь по привычке, по традиции. Они считаются необходимыми, не являясь таковыми. Девочка должна изучать то, что ей действительно пригодится в жизни. Живые иностранные языки: английский, голландский, например. Да пусть даже русский, благо специалистов по русскому языку во всей Франции можно сосчитать по пальцам одной руки. Ей стоит также учить анатомию и медицину, астрономию и право, математику и литературу, причём не целиком, а лишь те их разделы, которые вызовут хоть какой-нибудь интерес с её стороны. Де Жюсси усомнился в том, что математика может быть интересной, но Дорнье тут же продемонстрировал ему красивый математический фокус-задачу, и покорённый герцог сказал: ищи учителя.
Дорнье уговаривал герцога не зря. Требуемый педагог уже был у управляющего на примете и буквально вечером того же дня предстал перед будущим работодателем. Учителя звали Альфонс де Ври, он происходил из обедневшего дворянского рода и вынужден был много и тяжело работать, чтобы обеспечить существование — своё и своих пожилых родителей. Старик де Ври, папаша преподавателя, промотал всё состояние, лишившись родового имения и земель, проигрался в пух и прах, а затем ещё и спился. Молодой де Ври всеми фибрами души ненавидел азартные игры и алкоголь: это был один из факторов, говорящих в его пользу.
Но в первую очередь де Ври привлекал Дорнье своими преподавательскими качествами. Хронический недостаток денег де Ври объяснялся в основном новаторскими методами работы с учениками. Многие клиенты не понимали и не принимали манеру де Ври и отказывались от его услуг, заодно снабжая молодого человека весьма негативными рекомендациями. Тем не менее Альфонс не сдавался, отстаивая свою точку зрения и надеясь, что когда-либо его всё-таки заметят. Что же, это произошло.
Во-первых, де Ври был практиком. Он считал, что зачитывание отрывков из трудов великих — это не преподавание, а издевательство над студентом. Чтобы узнать, как складывается два и два, нужно их сложить, а не прослушать трёхчасовую лекцию об особенностях сложения чётных чисел. Он утверждал, что десятилетний срок обучения в Сорбонне катастрофически завышен, что всем необходимым студент может овладеть за два-три года, а прочее — тлен, и не более того. Де Ври умел работать и с маленькими детьми; более того, он придерживался мнения, что детей нужно перегружать чрезмерным количеством информации, причём зачастую для них непонятной, а не сюсюкать с ними. Учение — это тяжкий, но очень интересный труд, говорил он, и Дорнье был с ним совершенно солидарен.
Герцог согласился взять молодого учителя на испытательный срок. Через полторы недели Анна-Франсуаза не только полюбила Альфонса де Ври всем сердцем, но и набралась разноплановых знаний, которые расточала направо и налево. Поймав в коридоре дворца какого-либо взрослого, она рассказывала тому, как зайцы меняют свой окрас в зависимости от времени года, как работает человеческое сердце (в данном случае теория оказалась значительно безопасней и приятней практики), как живут люди в дальних странах, например в Америке, и почему у некоторых чёрная кожа.
Будем честны: де Ври не знал всего. Он нередко заблуждался и ошибался, но в этом не было ничего страшного. Лучше ошибиться, даря знание, чем безошибочно молчать. Де Ври не был уверен насчёт роли нервной системы в организме, а также предполагал наличие некоего эфирного вещества, таящего в себе энергию. Он пытался получить концентрат этого вещества, чтобы обрести могущество, юная Анна-Франсуаза неоднократно присутствовала при его опытах. Преклоняясь перед трудами Бойля[72], де Ври, тем не менее, был уверен в многочисленных ошибках великого химика и не всегда соглашался с, казалось бы, доказанными истинами. Впрочем, в одном он с Бойлем был согласен целиком и полностью — в том, что пламя имеет массу. Пытаясь поймать частицы пламени в хитроумные ловушки, де Ври объяснял Анне-Франсуазе принципы горения и построения различных веществ из корпускул.
В физике де Ври также придерживался новаторских взглядов, вовсю популяризируя учения Декарта[73] и Паскаля.[74] Подобно Гильберту[75], де Ври изучал электрические явления и вывел на этот счёт целый ряд закономерностей, которые могли бы принести ему славу, если бы последняя его хоть сколько-нибудь интересовала. В частности, он сконструировал странную машину из двух вращающихся кругов, между которых де Ври размещал кусок бумаги. Натёртые о бумагу, металлические круги накапливали электрический заряд, который со щелчком переходил с одного контакта на другой. Практического применения электричеству де Ври не знал. Анна-Франсуаза была в восторге от описанного опыта и один раз чуть не засунула между контактов свою белоснежную ручку. Де Ври наглядно продемонстрировал Анне возможные последствия подобной беспечности, подпалив шерсть её игрушки — пушистого набивного кролика. На кролике остались чёрные пятна, Анна же больше никогда не пыталась дотронуться до сверкающего заряда.
Пожалуй, единственной точной наукой, которую Анна-Франсуаза не любила, была математика. Она представлялась ей чудовищно скучной, потому что большинство поднимаемых этой наукой вопросов невозможно было увидеть в осязаемом мире. Но и тут де Ври нашёл к девочке правильный подход. Он наглядно показал ей, как с помощью математических расчётов поставить красивый химический опыт с изменением цвета раствора — и как при нарушении пропорций цвет становится грязно-бурым и в дальнейшем уже не меняется никоим образом. Математика — это язык, на котором говорят физика и химия, объяснил де Ври. Эту фразу услышал находящийся в тот момент в лаборатории Дорнье. Управляющий пришёл от неё в неописуемый восторг и уже через полчаса пересказывал учительские слова Жарне и астрологу Селю.
Но у де Ври были и слабые стороны. В гуманитарных науках он был подкован плоховато. Как бы негативно Дорнье ни относился к бесполезному зубрению философских истин и мёртвых языков, совсем без гуманитарного образования обойтись было невозможно, и потому был найден второй преподаватель — господин Арсен Арсени.
Арсени был не то чтобы полной противоположностью де Ври, но значительно от того отличался. Было ему около сорока пяти (де Ври — всего тридцать), он был толст, не слишком опрятен и чудовищно эрудирован. Он с недовольством принял отказ от обучения греческому, но сказал, что латынь нужна обязательно. «Зачем?» — спросил Дорнье. «Девочка ведь учит медицину, — ответил Арсени, — и так или иначе набирается там латинских слов и терминов. Имеет смысл обучить её латыни, чтобы эти термины существовали для неё в контексте языка». Дорнье этот довод понравился, и Арсени был принят.
Анна-Франсуаза из гуманитарных предметов любила только два: литературу и английский язык. Арсени знал шесть живых языков и четыре мёртвых; из живых он обучал Анну английскому, испанскому и немецкому. «Почему не всем?» — спрашивал управляющий. «Она слишком маленькая, — отвечал Арсени, — шесть языков разом просто перепутаются в её голове».
Проконсультировавшись с де Ври, Арсени, появившийся на несколько месяцев позже, воспользовался опытом младшего коллеги. Он заинтересовал Анну не грамматикой и правилами английского языка, а занимательными рыцарскими романами, которые никогда не переводились на французский. Если ты не будешь знать английский, ты просто никогда не сможешь их прочесть. Переводчик, говорил он Анне, работает с каждым романом по полтора года, а ты будешь читать их в оригинале за неделю. Неужели это плохо? И Анна училась.
Конечно, всё описываемое происходило не в один год. Обучение Анны длилось с семи лет — и на момент её шестнадцатилетия ещё не завершилось, хотя к тому времени у неё появились новые преподаватели, а Арсени исчез насовсем. Но о причинах его исчезновения мы поговорим позже.
У толстяка-гуманитария была масса недостатков. Во-первых, он оказался невероятным бабником. О том, что он обжора, можно было догадаться по одной его комплекции, но вот о его мужских достоинствах с первого взгляда ничего хорошего не сказала бы ни одна женщина. Тем не менее в один из дней Дорнье подслушал разговор двух служанок, бурно обсуждавших половой орган господина Арсени. Одна утверждала, что он составляет порядка восьми дюймов, другая и вовсе настаивала на десяти. Справедливо усомнившись в правоте обеих, Дорнье внезапно появился в коридоре. Служанки замолкли. «Ну-ка, что там у нас с членом господина Арсени? — спросил он. А потом заорал: — Отвечать!» Служанки сказали: «Огромный». После определённых расспросов Дорнье выжал из девушек целую кадушку полезных сведений. Тем же вечером, вызвав к себе учителя словесности, он пригрозил кастрировать его, если тот не прекратит портить служанок. Как выяснилось, Арсени переспал примерно с тремя четвертями женщин, работавших во дворце, да и последней четверти недолго оставалось. Учитель уговаривал девушек, утверждая, что знает надёжный способ избежать беременности. Как ни странно, способ работал: ни одна оприходованная служанка от учителя не понесла.
Другим серьёзным недостатком Арсени была любовь ко лжи по мелочам. Он врал не по-крупному, пытаясь, например, спасти свою шкуру от чего-нибудь или выгадать жалование побольше, а просто так, из технического, так сказать, интереса, переиначивал факты, дополнял их несуществующими подробностями, всевозможными украшениями и рюшечками. Например, он утверждал, что принимал участие в Английской гражданской войне[76], где, собственно, и получил первые навыки английского, а кроме того, был личным другом Джона Пима.[77] Дорнье указал Арсени, что на момент смерти Пима тому едва стукнуло двенадцать лет, и дружба со знаменитым экономистом в свете этого факта представлялась довольно сомнительной. Когда его ложь опровергали фактами, Арсени начинал мяться, уходить от разговора и переиначивать историю в свою пользу. Пим тут же превращался в его троюродного дядюшку, с которым они познакомились только на смертном одре последнего, причём тот успел завещать маленькому Арсену всё своё состояние. Дорнье знал, что Пим похоронен в Вестминстерском аббатстве, где ему приходилось бывать. Два-три наводящих вопроса подсказывали Дорнье, что Арсени аббатство никогда не посещал и могилу Пима не видел, да и при смерти того не присутствовал. Арсени придумывал новые отговорки — и так могло продолжаться бесконечно.
Но Дорнье знал, как остановить Арсени. В один прекрасный момент он вызвал учителя и сказал: «Если из уст Анны-Франсуазы я услышу хотя бы одну ложь, одно искажение истории, одну байку о ваших, Арсени, героических похождениях в чужих землях, я прикажу вас закопать по горло в землю, намажу вашу голову свежей куриной кровью и выпущу псов. Понятно?» — «Понятно», — ответил Арсени и старательно говорил Анне только правду, рассказывая басни лишь доверчивым служанкам.
В общем и целом с учителями Анне повезло. Она не сознавала этого, но благодарить ей стоило в первую очередь заботливого и умного Дорнье, ставшего для Анны отцом в гораздо большей степени, нежели герцог.
Тем не менее один момент в воспитании девочки управляющий всё-таки упустил. Находясь постоянно в замкнутой среде, Анна-Франсуаза с приходом полового созревания так или иначе должна была влюбиться, а точнее, найти себе партнёра. В принципе кандидатов на это место хватало — в основном детей слуг и юных пажей, которые начали регулярно влюбляться в девушку примерно с того момента, когда ей стукнуло тринадцать лет. Анна-Франсуаза никому сердечной взаимностью не отвечала, а вот воспользоваться мужским желанием с определённого момента уже не чуралась. Нельзя сказать, что это не имело последствий.
Глава 4 СТЕЗЯ ПОЗНАНИЯ
Девственности Анна-Франсуаза лишилась сама — при помощи подсвечника. Ввиду отсутствия профильного образования она не очень понимала внутреннее строение половых органов и знала только, что с какого-то момента прикосновение к ним начало доставлять ей удовольствие. Когда руки уже не хватало (тем более целиком ладонь туда не помещалась), в дело пошли предметы достаточно длинные и узкие. Подсвечник с овальным декоративным выступом сбоку оказался очень удобным инструментом — и сразу же был использован для самоудовлетворения. Когда пошла кровь, Анна-Франсуаза испугалась и, сжав зубы и отбросив стыд, отправилась к доктору Жарне. Тот хмыкнул и объяснил ей, что к этому разделу анатомии он не планировал переходить ещё как минимум года два-три, но раз уж такое дело, он ей всё расскажет, — и рассказал. Анна успокоилась.
Возможно, Жарне сделал ошибку. Стоило припугнуть девушку, а Жарне своим грамотным и аккуратным объяснением привёл в действие внутренний механизм: нет ничего страшного, всё можно. Анна-Франсуаза перешла к регулярным самоудовлетворениям (к слову, Жарне порекомендовал ей если и заниматься когда-либо подобными вещами, то хотя бы мыть предварительно предмет страсти), а затем, когда ей стукнуло тринадцать с половиной лет, пришла к выводу, что нужно найти мужчину.
Таковых хватало. Она ещё была костлявым подростком, но уже начинала превращаться в женщину, смотря под каким углом поглядеть. Те пажи, что смотрели под правильным, приходили в восторг и тихонько онанировали в отхожих местах, мечтая о герцогской дочке. Анна-Франсуаза могла позволить себе выбор и была в этом вопросе на удивление скрупулёзна. Её миновали тяготы первой подростковой влюблённости — по крайней мере, в то время. Любовь пришла к ней значительно позже и привела к весьма сомнительным последствиям — но не будем забегать вперёд.
Молодым человеком, удостоившимся первого поцелуя Анны-Франсуазы де Жюсси, стал паж по имени Анри Сар. Конечно, он был красавцем. Высоким, статным, в свои шестнадцать лет уже неоднократно познавшим радости женского тела, с крепкими мускулами и мужественным квадратным подбородком. Про то, что «Анри стоит попробовать», Анна-Франсуаза услышала от служанок и тут же приняла решение воспользоваться этой информацией. Соблазнить молодого пажа ничего не стоило. Самая близкая, личная служанка молодой аристократки, итальянка по имени Джованна Росси, отправилась к Анри и тайно сообщила тому, что Анна ждёт его для обсуждения одного важного дела. При этом явиться он должен был тайно ото всех. Объяснять что-то дважды не потребовалось: в ту же ночь Анри тайно провели в опочивальню Анны, где он и продемонстрировал свои мужские качества, при этом мастерски избежав опасности обрюхатить герцогскую дочку. Благо в этом деле Анри был мастером.
Анне понравилось. Анри пришёл ещё раз — но второй раз почему-то вызвал у неё скуку. Ей хотелось нового, неизведанного. «Неужели это так однообразно?» — спрашивала она у Джованны. Та отвечала: «Ну, в общем, да, есть несколько позиций — на мужчине, под мужчиной, перед мужчиной». — «А почему Анри мне показал только одну?» — «Видимо, ему так удобно, а вы не жаловались».
Анри был вызван в третий раз.
Правда, у самого любовника к тому времени возникла духовная проблема. Ему не очень хотелось Анну-Франсуазу. Та, которая не так давно была вожделенным запретным плодом, всё-таки оставалась в большей мере костлявым и неумелым подростком, и по прошествии эйфории (о, я сплю с герцогской дочкой!) Анри начал несколько тяготиться. Ему гораздо больше нравились девушки чуть постарше его, со сформировавшейся грудью и ягодицами, игривые, умеющие творить в постели удивительные вещи. Учить же Анну-Франсуазу премудростям любви он не то чтобы очень хотел, да и не чувствовал в этом особой необходимости.
Каково же было его удивление, когда Анна сама потребовала от него применить фантазию. «Служанки, — сказала он, — объяснили мне, что можно так, так и эдак — а ты что-то не слишком стараешься». Анри, понимающий, что навлекать на себя хозяйский гнев — дело опасное, постарался на славу и даже сам получил удовольствие. Анна оказалась легко обучаемой, ловкой и гибкой, что в какой-то мере компенсировало её ещё формирующееся тело.
Они были любовниками в течение пяти месяцев. Анне исполнилось четырнадцать. Встречались они не то чтобы слишком часто — всё-таки приходилось скрываться от значительного количества людей. Анна не знала, есть ли среди её служанок шпионки отца или Дорнье, и потому они с Джованной старались, чтобы о встречах девушки с пажом вообще никто не знал. Правда, слухи всё равно начали распространяться по дворцу, и Джованна посоветовала Анне-Франсуазе хотя бы на время отказаться от любовных утех. Анна была не против. В первую очередь потому, что ей к тому времени Анри наскучил окончательно. Рутиной стали и те разнообразности, которыми он владел, — хотелось чего-то нового, неизведанного. И Анне пришла в голову здравая мысль: а нет ли в обширной отцовской библиотеке чего-либо такого, запретного.
В библиотеке она всегда проводила много времени. Воспитатели привили ей любовь к чтению — и с самых ранних лет Анна-Франсуаза с упоением копалась в пыльных томах, выискивая интересные книги. Но только теперь ей пришло в голову, что она всегда интересовалась только определёнными полками, не пытаясь добраться, например, до самых верхних или забраться в политическую часть библиотеки, полную скучнейших трактатов и исследований. Вполне возможно, предположила Анна-Франсуаза, там можно найти и кое-что поинтереснее.
Был и ещё один потенциальный источник книг скабрезного толка — кабинет герцога. Он примыкал к библиотеке, и в детстве Анна часто перебегала из царства книг прямо на отцовские колени, мешая тому работать. Герцог сердился и нередко гнал её прочь, но порой она ловила редкие моменты, когда он находился в благодушном настроении, и тогда она проводила в кабинете достаточно времени, чтобы изучить обстановку последнего.
В первую очередь Анна воспринимала отцовский кабинет как продолжение библиотеки. Большая, украшенная вычурной резьбой комната с несколькими дубовыми шкафами. В одних хранились всяческие украшения и безделушки, в других — записи герцога и рабочие бумаги, в третьих — книги. Что это за книги, Анна-Франсуаза никогда не задумывалась. Прежде она полагала, что они сродни трактатам из политического отделения библиотеки, но теперь в её всё ещё детский разум закрались определённые сомнения.
Первым делом она облазила всю разрешённую часть библиотеки, забираясь даже на самые верхние полки с помощью огромной приставной лестницы. Библиотекарь, господин Менси, охал и ахал внизу. Его надзор не позволил Анне полноценно обыскать помещение, не вызывая подозрений, — и девушка вернулась туда ночью. Эта часть дворца спала по ночам далеко не всегда, потому что герцог нередко засиживался в своём кабинете вплоть до утра. Но Анна выбрала ночь, когда отец был в отъезде, заручилась поддержкой Джованны — и отправилась в экспедицию по запретным томам.
Собственно, на полноценную инспекцию книгохранилища у Анны-Франсуазы ушла не одна ночь, а четыре, причём не подряд, а с перерывами, поскольку не всегда удавалось провернуть тайную операцию без риска быть пойманной. С одной стороны, никакого преступления в ночных библиотечных бдениях не было, с другой — девушка совершенно не хотела придумывать какие-то легенды и отвечать на дурацкие вопросы. Причём более всего она опасалась вовсе не отца, уделявшего дочери не слишком-то много внимания, даром что она была его единственным отпрыском, а Дорнье, дотошного и проницательного.
Если бы библиотеку обыскивала не Анна-Франсуаза, а, скажем, правительственные агенты, они нашли бы у герцога множество книг, запрещённых к печати и распространению по сугубо политическим причинам. Количество подобных изданий вполне позволяло настрочить королю объёмный донос, способный привести к любым последствиям, вплоть до кончины герцога на плахе. Людовик, прекрасный в своём абсолютизме, аккуратно и чаще всего незаметно подавлял в своих дворянах любые амбиции, могущие привести к уменьшению влияния дома Бурбонов на внутригосударственной арене. Он не боялся заговора, поскольку любые идеи, способные стать основой заговора, уничтожались в зародыше. Индекс запрещённых книг рос как на дрожжах, строжайшая цензура ограничивала деятельность печатников и издателей крайне узкими рамками. Правда, прибыли те не теряли, поскольку ужесточение политических границ соседствовало с послаблением границ нравственных. Похабные книжонки, за которые ещё сто лет назад печатник мог лишиться всего, в том числе и головы, теперь издавались и продавались вполне свободно, правда, почти всегда без переплётов, поскольку основой дохода было именно дешёвое бумагомарательство, однодневки, способные развлечь любого умеющего читать и не обременённого грузом морали человека.
Но запрещённые книги Анну-Франсуазу не интересовали, а бульварной пошлятины в герцогской библиотеке не было и в помине. Поэтому через некоторое время Анна пришла к выводу, что нужно идти ва-банк и забираться в отцовский кабинет.
Главной проблемой был ключ, который герцог, как нетрудно догадаться, всегда носил с собой. Тем не менее Анна-Франсуаза не сомневалась, что у Дорнье есть копия. Пронырливый управляющий разбирался в делах дворца значительно лучше самого хозяина и не мог в какой-то момент не получить доступ в святая святых. И, конечно, Дорнье вряд ли спал в обнимку с упомянутой копией. Видимо, украсть её не составляло труда, поскольку управляющий частенько отлучался по делам, и Анна уже давно знала, как проникнуть в его покои.
Как только Дорнье в очередной раз куда-то уехал, девушка пробралась в его апартаменты через плохо закрывающееся окно и приступила к обыску. Работала она аккуратно, освещая помещение одной крошечной свечкой. Анна хорошо знала, где и что находится, так как в преддверии операции провела в комнатах управляющего достаточно много времени — под разными предлогами, да и раньше бывала там неоднократно.
Ключи нашлись. Дорнье хранил их вместе с прочими ключами от дворцовых покоев в одном большом ящике. За несколько дней до этого Анна-Франсуаза пришла в отцовский кабинет и, разговаривая с герцогом, внимательно изучила язычок, потом по памяти примерно зарисовала его — и теперь смогла бы отличить даже среди сотни схожих. Правда, копаться в ящике Дорнье пришлось достаточно долго — там и в самом деле было около полутора сотен ключей. В итоге двухчасового бдения Анна отобрала три, более всего походящих на искомый, достала небольшую коробочку с мягкой глиной и сделала двусторонний отпечаток с каждого из них, после чего аккуратно сложила ключи и покинула место преступления.
На следующий же день Джованна отправилась в город — в мастерскую ключника, должного изготовить ключ по отпечатку. А ещё через неделю новенький ключ от отцовского кабинета уже был в руках у Анны-Франсуазы. Точнее, целых три ключа — какой из них правильный, ещё предстояло выяснить опытным путём.
Но, собственно, до момента попадания в отцовский кабинет пришлось вытерпеть ещё долгих три недели — Анна никак не могла себе позволить рисковать в присутствии отца.
Вся эпопея с обыском библиотеки, добычей ключей и ожиданием момента заняла у Анны порядка двух месяцев, и это время она не теряла даром. По крайней мере, история с Анри Саром в течение этих месяцев завершилась, причём не то чтобы благополучно. При последней встрече Анри был с Анной уж слишком холоден, не стесняясь демонстрировать, что не получает удовлетворения от подобной любви, а просто выполняет предписанные обязанности. Анне это не понравилось, и она передала пажу через Джованну, что больше в его услугах не нуждается. Девушка полагала, что этим дело и закончится, но Анри не удержался и стал распускать язык. Он и раньше хвастался перед другими парнями, работавшими во дворце, что на него положила глаза сама герцогская дочка, но теперь молодой человек перешёл все границы. Джованна выяснила, что Сар, напившись, рассказывал о том, как Анна костлява и холодна, точно бревно какое-то, в общем, травил про неё всяческие нелицеприятные байки. Анну-Франсуазу это взбесило.
Месть её была проста и неизысканна. Она просто пожаловалась отцу, что паж Анри Сар пытался её изнасиловать и почти преуспел в этом — лишь своевременное вмешательство служанки Джованны спасло герцогскую дочурку от трагического исхода. Больше Анна никогда не видела Анри Сара. Собственно говоря, его более никто никогда не видел, поскольку Анри Сар был в тот же день умерщвлён по приказу герцога (и, к слову, предварительно подвергнут кастрации и пыткам) и выброшен в помойную канаву где-то на окраине города. Конечно, Анна-Франсуаза знала, что так и будет. Она не сожалела об Анри, но впредь зареклась решать свои проблемы подобным образом. Она хотела мстить сама, хотела видеть глаза того, кому желала зла. Исчезновение нежелательного элемента её не устраивало, потому что от него оставалось ощущение какой-то недосказанности, незавершённости. Анна хотела не просто быть жестокой к своим недоброжелателям, но самолично воплощать эту жестокость в действие.
Место Анри занял другой паж — смазливый, изящный Лука. Он не был столь изыскан, как предшественник: Анна просто использовала первого, кто попался под руку.
В один прекрасный день герцог де Жюсси уехал по делам. В первую же ночь после его отбытия Анна вооружилась ключом, взяла с собой верную Джованну и отправилась на экскурсию в отцовский кабинет. Главное, что интересовало Анну, находилось на виду, в открытом шкафу, — книги.
К разочарованию девушки, все книги на полках, до которых она могла дотянуться, были рабочими трактатами, политическими рассуждениями и философией. С помощью лестницы она добралась до верхних полок — но там было то же самое. Тогда Анна стала скрупулёзно обыскивать кабинет, что в условиях волнения, временного ограничения и слабого освещения было довольно трудным занятием. В итоге герцогский тайник она нашла только на вторую ночь.
Слишком много времени потратила девушка на поиски в дальних шкафах. Скабрезную литературу герцог держал, как оказалось, в непосредственной близости от себя — в правой части стола. Стол не был заперт: де Жюсси полагался на неприступность кабинета. Там Анна-Франсуаза обнаружила море сокровищ, но насладиться ими сполна смогла лишь на третью ночь, когда уже знала, где искать, и не теряла времени на копание в других местах.
Среди книг, хранимых герцогом в столе, встречались самые разные экземпляры. Тут были и какие-то экономические издания, полные цифр и расчётов, и пособие по борьбе с ведовством, и гаденькие уличные книжонки без переплётов. Но нашла Анна-Франсуаза и несколько весьма интересных изданий, способных поднять эрудицию любого человека, не отличающегося повышенной чопорностью. Одной из них была восточная книга, написанная на арабском языке. Анна даже пожалела, что он не входил в её программу обучения. Но не странная вязь привлекла внимание девушки, а красивейшие цветные иллюстрации, изображающие женщин и мужчин в различных позах. Сколько же всего интересного бывает, думала Анна-Франсуаза и старалась запомнить как можно больше. Она чувствовала, как внизу живота у неё теплеет, как становится уютно и приятно.
Таких книг Анна нашла две — и с каждой перевёрнутой страницей поражалась всё больше и всё больше возбуждалась. Она открыла, что можно одновременно возбуждать ртом половые органы партнёра — притом что он занят тем же самым. Женщина может принимать не то что троих — но четверых мужчин одновременно (Анна-Франсуаза представила, каково это, — и поёжилась), а уж какие немыслимые акробатические позы встречались на иллюстрациях! — Анна не была уверена, что сможет воспользоваться и половиной приобретённых знаний по чисто физическим причинам.
В столе нашлись и французского издания скабрезные романы с иллюстрациями. Изображённые на них соития были значительно менее изобретательными, нежели восточные аналоги, но тоже представляли некоторый интерес. В частности, Анну заинтересовало необычное использование привычных предметов мебели и занятие любовью в одетом виде.
Герцог отсутствовал в течение недели. Ежедневно Анна-Франсуаза в сопровождении Джованны, которая стояла в карауле, посещала кабинет отца и впитывала знания о любви и сексе. И вскоре знала об этом гораздо больше всех пажей, вместе взятых, поскольку книги отца явно были привезены из арабских стран и Китая и стоили баснословно дорого. Подобные издания были доступны лишь аристократам и богатеям-купцам. Анна-Франсуаза ощущала себя учительницей, прекрасно знакомой с теорией и жаждущей преподать её своим ученикам на практике. Главное, чтобы ученик попался прилежный, старательный и умелый. Лука на эту роль, как казалось Анне, не подходил.
Определённая часть эротических фантазий, обрисованных в герцогских книгах, посвящалась однополым соитиям. Анна-Франсуаза тут же подумала о Джованне — согласится ли она на более близкие, нежели сейчас, отношения. Скорее всего, да. Причём не потому, что она — служанка и обязана подчиняться госпоже, а исключительно по собственной воле и желанию.
Некоторые страницы непристойных книг были испорчены, покрыты чуть заметной засохшей корочкой чего-то прозрачного. Анна-Франсуаза догадалась, что это, но отвращения не испытала. В конце концов, много лет назад она сама была частью этого вещества.
Помимо эротических, в столе были другие книги. Некоторые из них относились к запрещённым, некоторые — обычные, просто отец взял их из библиотеки и не вернул на место. Одна книга заинтересовала Анну-Франсуазу. На её обложке были изображены созвездия: Анна-Франсуаза опознала Деву, Волопаса, Южный Крест. Анна знала, что созвездия частенько используются для украшения переплётов, но звёздами в них чаще всего служат драгоценные камни. Здесь же звёзды были нарочито чёрными, причём казалось, что они — неотъемлемая часть кожи, её порок, умело обыгранный переплётчиком.
Раскрыв книгу, Анна увидела портрет матери. Она никогда не видела герцогиню Альфонсу в жизни, да и на портретах, имеющихся в доме, покойная супруга герцога выглядела совершенно иначе, но Анна знала, что это её мать, поскольку подобный портрет также имелся в доме, висел в одной из опочивален герцога; мать на нём была совершенно не похожа сама на себя, и Анна однажды даже спросила у отца, точно ли это герцогиня Альфонса. Так или иначе, Анна с интересом стала читать книгу, посвящённую матери.
В процессе чтения ей не раз хотелось прыснуть со смеху. Стихи в книге были неумелыми, комичными, наивными и крайне похабными. Через некоторое время она догадалась, что их автор — её отец.
Тем не менее вовсе не стихи пробудили в Анне странные чувства к книге с созвездиями. Она проводила рукой по переплёту, чувствуя в нём какую-то странную силу, точно незнакомый мастер вложил в него часть себя, что-то более значительное, нежели просто работу с материалами. Анна дотронулась до обложки носом, втянула в себя воздух. Пахло выделанной кожей. Она просмотрела книгу в поисках каких-либо сведений о переплётчике — и нашла, вот оно, клеймо. Понять что-либо по нему было невозможно, но Анна запомнила странное переплетение линий, складывающееся в нечитаемую букву. И ещё она нашла маркировку года печати — это были единственные технические сведения, приведенные в книге; ни названия или адреса типографии, ни имени автора. А год стоял — 1667, четырнадцать лет назад. Год её рождения, год смерти матери. Она снова провела по обложке, по созвездиям — и неожиданно поняла, почему звёзды чёрные. Она поняла, из чего сделана обложка, и, закрыв глаза, представила себе небесный узор из родинок на спине женщины, которая произвела её на свет.
Глава 5 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
К пятнадцати годам Анна-Франсуаза сочетала в себе качества, способные сделать её, например, идеальным правительственным агентом. Необыкновенно умная, начитанная, эрудированная, свободно разговаривающая на нескольких языках, она была искушена в делах любовных, откровенно распутна и при этом настолько скрытна, что никто из приближённых не догадывался, какой дьявол на самом деле живёт внутри этой девушки. Красота её раскрылась уже по-настоящему: ослепительно-рыжие волосы рассыпались по плечам, тонкие черты лица сверкали надменным изяществом, широко поставленные глаза и орлиный, изогнутый нос придавали выражению Анны-Франсуазы какую-то нечеловеческую жестокость и волю. Но в моменты нежности к кому бы то ни было — к Джованне, к стареющему отцу, к Дорнье — эти же самые черты удивительным образом выражали нечеловеческую любовь и ласку, успокаивали, усмиряли внутренних бесов. Анна-Франсуаза при всей своей неправильности была совершенством.
При этом она была холодна, недобра к окружающему миру. Она неплохо относилась, например, к лекарю Жарне, но его тринадцатилетнего сына Жана, друга детских игр, почему-то ненавидела и презирала. Лекарь был нужен ей, потому что она знала, что он хорош — и её хорошее отношение диктовалось именно необходимостью в том или ином человеке. Не приносящий же никакой пользы член окружающего сообщества для Анны не существовал, точнее, являлся чем-то вроде предмета интерьера.
Она нашла постоянного любовника — опять же из пажей. Самым старшим из них было по шестнадцать, обычно в этом возрасте они уже получали повышение, поднимались ступенькой выше или возвращались в семью, завершив обучение. И Анне-Франсуазе они казались чудовищно неопытными. Каждого приходилось обучать заново. Молодой человек по имени Луи де Валлерон понравился Анне тем, что не чурался экспериментов и одновременно умудрялся быть послушным и властным. С ним Анне было легко, хорошо и интересно. Иногда он привозил ей из города подарки — такие, что она не знала, как их спрятать, например африканские скульптурки людей с эрегированными пенисами или движущиеся фигурки, изображающие коитус. Это было смешно, Анне нравилось.
Луи честно сказал Анне: «Я вас не люблю, но мне с вами хорошо. Если вы впоследствии замолвите за меня словечко перед герцогом, мне будет очень приятно. А сейчас я просто рад служить вам, заодно получая от этого удовольствие». Анну устраивал подобный подход. Она не собиралась превращать Луи во влюблённого осла. Ей нужен был партнёр для игр, тренажёр для совокуплений. Она воспринимала секс так же, как любой интересный для неё предмет, будь то анатомия, химия или французская литература.
Её привлекала связь с двумя мужчинами одновременно — и Луи приводил товарища, а то и двух. Апартаменты Анны превратились в место разнузданных оргий — в то время как вне своей территории юная аристократка по-прежнему представлялась милой, проказливой и порой жестокой девочкой с невероятными способностями к познанию окружающего мира. Когда до шестнадцатилетия Анны оставалось всего полгода, в её жизни произошла неприятность, наложившая оттенок на всё её дальнейшее отношение к людям.
Центральной фигурой описываемых событий стал не кто иной, как учитель словесности господин Арсен Арсени. Слава о нём, как об обладателе титанического мужского достоинства и вообще мужчине, искушённом в делах любовных, несмотря даже на заметную полноту, достигла ушей Анны. Будучи разумной девушкой, она понимала, что любовная связь с учителем была невозможна никоим образом, так как могла привести к весьма неприятным последствиям для обоих. Помимо того, господин Арсени внешне вызывал у Анны в первую очередь отвращение. Но легенды о десяти, двенадцати и даже пятнадцати дюймах не могли оставаться непроверенными. В сугубо научных целях Анна порой измеряла половые органы своих партнёров, и рекорд составлял семь с половиной дюймов (и уже эта штука казалась огромной).
Как мы уже успели убедиться, если Анна ставила перед собой некую задачу, она тем или иным образом добивалась её решения, и упорства в этом ей было не занимать. Интерес к половой мощи Арсени мог быть удовлетворён простейшим способом: наблюдением за учителем во время принятия последним ванны.
Вообще, мытьё не было слишком популярным среди дворянства. Сам герцог принимал ванну достаточно редко, примерно раз в полгода, зато душился весьма и весьма активно. Поговаривали, что на природе от его аромата мрут птицы на расстоянии сотни парижских ярдов. К принятию ванны герцога принуждал лекарь Жарне — без того де Жюсси вообще никогда бы, видимо, не мылся. Но если спорить с герцогом было порой себе дороже, то всех остальных своих пациентов — и Анну-Франсуазу, и Дорнье, и слуг, и челядь — Жарне заставлял мыться минимум раз в неделю. Он не был уверен в том, что чистота — залог здоровья, но на собственном опыте знал, что горячая ванна придаёт бодрости, и в спорах о необходимости мытья оперировал в основном именно этим фактом в качестве доказательства.
На деле, если человек не моется значительное количество времени, он перестаёт воспринимать собственный запах как неприятный, а ещё по прошествии какого-то промежутка не обращает внимания и на запахи других. Если же человек моется, а все окружающие — нет, то он чувствует себя крайне некомфортно. Остаётся ходить с прищепкой на носу.
Служанки, приученные Жарне к более или менее регулярным омовениям и купаниям в пруду, требовали того же и от любовников — в том числе и от Арсени. Поэтому волей-неволей толстяку-преподавателю приходилось принимать ванну. Прислуживал ему в этом слуга мужского пола, поскольку герцог требовал хотя бы внешнего соблюдения приличий: женщины прислуживают женщинам, мужчины — мужчинам. Сам Арсени от омовений ни малейшего удовольствия не получал. Он совершал эту нудную процедуру исключительно ради женщин.
В принципе был и другой вариант. Можно было подсмотреть за Арсени, когда он будет заниматься с кем-либо любовью. Но, как оказалось, делал он это исключительно в собственной спальне, тщательно занавесив окна и заперев дверь на ключ. Поэтому план с ванной казался значительно более простым в реализации. Джованна была отряжена следить за толстяком, подкарауливая момент. Как ни странно, ждать пришлось недолго — всего два дня. Утром среды итальянка вбежала к Анне-Франсуазе и прошептала: «Быстро, быстро, он собирается».
Арсени и в самом деле собирался. Слуга наполнял ванну, растворял в воде различные ароматические и лечебные средства, сотворённые травником Шако, а толстяк разгуливал по комнате в нижней рубашке и что-то говорил слуге. Комнаты преподавателя располагались на первом этаже в северном крыле здания, заглядывать в окна было проще простого — достаточно забраться на невысокий парапет и уцепиться за рельефное украшение на стене. Джованна подсадила Анну-Франсуазу, затем забралась сама.
Они ждали самого главного — явления, так сказать, органа. «Как ты думаешь, сколько там?» — спросила Анна. Она знала, что итальянка испытывала к толстяку такое же отвращение, как и она сама, и отношений с Арсени точно не имела. «Максимум пять», — высказала Джованна своё мнение. «Больше», — на удивление уверенно возразила Анна-Франсуаза.
А потом господин Арсени скинул халат. Под ним, между его толстых волосатых ляжек, скрывалась крошечная сморщенная штучка какого-то нездорового чёрного цвета. «Ужас», — спокойно сказала Анна. «Ужас», — подтвердила её служанка. «Откуда же слухи?» — «Не знаю», — ответила итальянка. «Нужно выяснить», — подытожила Анна-Франсуаза. «Как?» — «Очень просто. Ты его соблазнишь». — «Да вы посмотрите на это, госпожа, это же какая-то страшная болезнь, я же заражусь». — «Когда нужно, дашь отпор и закричишь, а я со стражниками буду наготове; скажешь, что он пытался тебя изнасиловать». — «Но он же ваш учитель, кто будет дальше преподавать вам английский язык?»
Анна-Франсуаза пристально посмотрела на Джованну и ответила: «Учителя заменить легко — раз и всё, а вот настоящих тайн и приключений в жизни очень мало, нужно пользоваться теми, которые есть, поэтому ты соблазнишь его, и только попробуй откажись».
Джованна покорно кивнула. Она чувствовала, что в данной ситуации спорить с хозяйкой отчасти бессмысленно, отчасти опасно. В какой-то мере ей хотелось спросить, что же Анна-Франсуаза, такая смелая, сама не хочет соблазнить наставника. Но этот вопрос сам застыл на устах итальянки. Всё-таки хамить Анне не стоило.
Тем временем Арсени погрузился в ванну. Слуга обмывал его. «Гадость», — сказала Анна и спрыгнула вниз. Джованна последовала за ней. По дороге к апартаментам у Анны уже целиком и полностью созрел план по соблазнению Арсени. «Ты не будешь медлить, — говорила она Джованне, — просто подойдёшь к нему завтра же и станешь откровенно заигрывать, платье приподнимать, ножку показывать и добьёшься, чтобы он тебя ждал вечером в своей комнате, а вечером придёшь к нему не только ты, но и я с парой пажей, и если что будет не так, зададим ему жару». Душа Джованны не лежала к подобным развлечениям, но делать было нечего. Она кивнула, мол, хорошо.
Джованне нередко приходилось выполнять по приказу госпожи различные поручения, и далеко не всегда они были приятны и легки. Но Анна-Франсуаза никогда не заставляла служанку заниматься откровенной мерзостью. Итальянке казалось, что даже прикосновение Арсени (тем более теперь, когда они видели сморщенный кошмар между его толстых ляжек) может вызвать у неё приступ рвоты. Потом она представляла, что учителю рвота нравится, и он загребает её себе в рот… — и в этот момент Джованну и в самом деле затошнило. «Что с тобой, тебе плохо?» — спросила Анна-Франсуаза. «Нет-нет, всё в порядке». Но Анна не была глупа. Она прекрасно понимала всю неприязнь Джованны к толстяку и теперь осознала, что итальянка не сможет хорошо выполнить поручение, если даже мысль о нём вызывает у неё временное помутнение.
«Я сама», — сказала Анна-Франсуаза. «Что сама?» — «Сама его соблазню. Сама всё проверю, я же вижу, как ты этого не хочешь». — «Нет, что вы, госпожа…» — «Замолчи, я всё понимаю и на тебя не сержусь; я вижу, что ты готова переступить через своё отвращение ради меня, но я не хочу быть деспотичной и потому сделаю это сама, тем более мне интересно; но пажей для защиты меня организуешь ты». — «Да, конечно, госпожа!» — воскликнула Джованна. Тошнота отступила, пришло облегчение.
Анна-Франсуаза понимала, что теперь выполнить задуманное будет несколько сложнее. Джованне достаточно было поманить Арсени ножкой (или чем-либо ещё), чтобы в тот же вечер удостоиться его пристального внимания. Кроме того, в приставании служанки Арсени не заметил бы опасности: он прекрасно знал, какие слухи шли о нём среди челяди, и готов был поверить, что неохваченные всеобъемлющей сексуальной мощью служанки сами рвутся в его объятья. Но быть соблазнённым госпожой… Арсени мог испугаться. Герцог, узнав о подобной связи, Анну разве что выпорол бы. А вот преподавателю пришлось бы значительно хуже. Герцог, как мы с вами уже убедились, при необходимости мог быть крайне решительным и жестоким.
Анна сознавала, что строит Арсени ловушку. У неё мелькала мысль просто вызвать его к себе и приказать спустить штаны. Но это было неинтересно, скучно, лишено азарта. Поэтому на следующий же день Анна приступила к реализации собственного плана.
Господин Арсени сидел на стуле около письменного стола Анны, а та, стоя, декламировала стихи Мартина Опица[78] на языке оригинала. Опица девушка не любила, её не вдохновляли его занудные пасторали и лишённые чувства поэмы, гораздо ближе ей казался Гофмансвальдау[79], известие о смерти которого не так давно потрясло поэтический мир. Но Арсени утверждал, что отталкиваться в изучении немецкой литературы нужно именно от Опица, главного её теоретика и в какой-то мере создателя, — а к более вычурным формам стоит переходить позже и исключительно в форме факультатива.
После декламации Анна попросила господина Арсени объяснить ей какой-то теоретический момент из «Книги о немецкой поэтике».[80] Она присела рядом с преподавателем; в этот день Джованна затянула её корсет особенно туго, выпятив юную, ещё наливающуюся грудь. Арсени старался смотреть в книгу или в лицо ученицы, но его глаза постоянно соскальзывали в вырез её платья.
Он пытался побыстрее закончить объяснение, но Анна задавала один вопрос за другим и всё ближе придвигалась к толстяку-преподавателю. Тот пытался отодвинуться, съезжая со своей табуретки — и вдруг правая половина его обширных ягодиц не выдержала и соскользнула вниз, потянув за собой всё тело. Арсен Арсени плюхнулся на пол и растянулся на спине. Анна подошла к нему и склонилась над лицом толстяка. Он невольно заглянул ей в вырез, хотя ягодицы сильно болели, и нестерпимо хотелось их почесать.
«Вы не ушиблись?» — спросила она с нежностью. «Нет, что вы, моя госпожа, всё в порядке». — «А мне кажется, что ушиблись», — возразила она и начала нежно гладить его по животу — прямо поверх кафтана. Потом она наклонилась и поцеловала его в щёку, провела по ней языком, слизывая солёный пот, дотронулась до уголка его рта. Арсен Арсени не возбуждался, а волновался: это было хорошо видно. Ну что же вы, говорила ему Анна, где же ваша хвалёная мужская сила, ваша необыкновенная гордость, о которой столь хвалебно отзываются все служанки дворца. Арсени взял себя в руки и сказал: «Госпожа, вы правда этого хотите?» — «Да, хочу, но не здесь, это опасно, видимо, вечером». — «Господин герцог в отъезде, ведь так, господин Арсени?» — «Да-да, конечно, но господин Дорнье, и вообще поползут же слухи». — «В слухах нет ничего страшного, вот о вас же идут слухи, и видите, к каким результатам они приводят: женщины сами бросаются в ваши объятия. Не разочаровывайте меня, господин Арсени, я же ваша госпожа».
«Да-да», — он кивал уже спокойнее. Потом он встал, отряхнулся и предложил продолжить урок позже. «Вечером, — улыбнулась Анна-Франсуаза, — в ваших покоях». — «Да, конечно, в моих покоях», — ответил Арсени. Его руки слегка подрагивали — отчасти от волнения, отчасти от возбуждения, и его глаза пожирали Анну. «Полагаю, — сказала она, — мне лучше остальные сегодняшние уроки провести с господином де Ври». — «Да, — снова кивнул Арсени, — конечно». Анна сделала изящный реверанс и вышла из комнаты.
В господине Арсене Арсени боролись не ангел с бесом, но два беса промеж собой. Один — бес страха — умолял Арсени отказаться от интриги со взбалмошной аристократкой. Это же для неё просто самодурство, уговаривал бес, а тебя тут же отправят на виселицу, предварительно подвергнув пыткам. Второй бес, бес сладострастия, утверждал обратное. Давай, говорил он, сделай с ней то, что хочешь, сделай её настоящей женщиной, до тебя она не знала мужчин, потому что все эти её пажики — не мужчины, а так, игрушки, а ты покажешь ей настоящую силу и жёсткость. Второй бес был сильнее.
Вечером Арсени был уже готов. Он сидел на кровати — аккуратный, надушенный, напудренный, и ждал Анну, предвкушал её, заведомо возбуждался.
Для Анны же день прошёл в приготовлениях. Во-первых, Джованна выбрала двух самых крепких пажей, да ещё позвала помощника конюха — здоровенного и весёлого детину лет двадцати, способного ударом ручищи перешибить несколько досок. Пажи заняли места по обе стороны от двери господина Арсени, укрывшись при этом за портьерами. Помощник конюха спрятался в массивный шкап, издавна пустующий в соседней комнате. Джованна прятаться не стала, так как сопровождала свою госпожу в комнаты учителя.
Стукнуло десять часов. Анна-Франсуаза и Джованна стояли перед входом в покои Арсени. Анна улыбнулась, поглядев на служанку. «Бояться нечего, — сказала она, — ты помнишь: едва я позову, тут же врывайтесь все вместе, а если не позову — значит, мне всё нравится». Джованна поёжилась.
Анна распахнула дверь и вошла.
Арсени встретил её в красном, расшитом восточными узорами халате. В руке его был бокал с вином — для неё. Анна благосклонно приняла бокал, но едва он отвернулся, чтобы налить вина и себе, выплеснула красную жидкость на ковёр. Девушку насторожило, что вино для неё было приготовлено заранее. Арсени мог что-либо подмешать туда.
По учителю было видно, как ему не терпится. Руки его подрагивали, второй подбородок — тоже. Анна подошла к огромному ложу и забралась на него, села спиной к стене, вытянула ноги, положила одну на другую. «Ещё вина?» — спросил Арсени, заметив, что её бокал пуст. «Нет, спасибо, Арсен, не стоит». Он заметил, что она назвала его по имени, и одобрительно кивнул. «Покажите мне то, что так восторженно описывают служанки», — попросила она. Он покачал головой. Всему своё время; восторг кроется не в созерцании, а в ощущении. «Ну что ж», — протянула Анна, а Арсени задул свечу, и вторую, и третью — и комната погрузилась во тьму. Шторы были задёрнуты, и даже луна не вырисовывала силуэты предметов. «Тьма! — прошептал Арсени. — Она наша союзница», — и Анна почувствовала его руки на своих лодыжках, затем на коленях, затем на бёдрах. На ней была лёгкая ночная рубашка, и более ничего, волосы распущены. Она изогнулась и протянула руку, стремясь достать до паха учителя.
То, что она там нашла, её в какой-то мере ужаснуло, в какой-то — привело в восторг. Огромный горячий фаллос, такого она никогда в жизни не держала в руках, и даже брюхо не мешало могучей эрекции. Они опустились на кровать; как ни странно, Арсени был достаточно ловок и ни в коей мере не причинял Анне неудобств своим телосложением. В этот момент внутри Анны сражались две женщины. Первая хотела отдаться воле любвеобильного учителя, погрузить в себя его мужское достоинство, забыть обо всём. Вторая боролась с первой, потому что в её памяти сохранилась картина купания Арсени: что-то чёрное между его ляжек, страшное, едва заметное, совершенно несочетаемое с могучей эрекцией.
Вторая одержала победу. «Подожди секунду, — сладострастно прошептала Анна, — мне нужно кое-что поправить». Арсени не спросил что, лишь чуть отодвинулся, давая Анне свободу. Та рванулась прочь из кровати и схватила подсвечник — она запомнила, где его поставил учитель, — и не промахнулась. Огниво было заготовлено в наружном кармане её ночной рубашки, которую Арсени ещё не успел стащить. Вообще-то карманов рубашки не предусматривали, но Анна, любящая порядок, потребовала пришить один к ночнушке: мало ли куда придётся ночью идти, мало ли что придётся делать.
Огниво чудом не выпало, когда Арсени положил Анну на кровать. Анна ударила огнивом и зажгла свечу. Арсени стоял, совершенно голый, около кровати. Его огромный половой орган вздымался — и Анна вдруг поняла, что он по цвету значительно отличается от остального тела учителя. Смутная догадка поразила её — она подскочила и с силой ударила по органу. Тот изогнулся, закачался — и перекосился. «Подделка!» — поняла Анна и захохотала. Она хохотала громко, во весь голос, и за дверью уже насторожилась Джованна, хотя входить пока что не торопилась. Всё-таки смех — это не зов о помощи.
Но на самом деле смех был именно зовом. Потому что Анна, заливисто смеясь, не замечала, как меняется лицо Арсени, как выражение вожделения сменяется выражением чудовищной злобы, исступлённой ненависти. Её смех уже перешёл в беззвучный — и тут учитель протянул свою жирную руку и схватил девушку за горло. «Сука, — прохрипел он, — ты — мерзкая сука, и мать твоя была сукой, и отец твой — ублюдок, и сейчас ты узнаешь, что такое настоящий страх, ты никогда такого не знала, сука». Она трепыхалась, билась, но рука его была сильнее обеих её рук, и он просто поднял её и бросил на кровать; она пыталась закричать, но лишь хрипела, и в этот момент он снова схватил её горло, а коленом и второй рукой раздвинул её ноги. Она пыталась заехать ему в пах, но искусственный пенис был нечувствителен к боли — и он вошёл в неё, с нахрапу, чуть ли не на три четверти всей длины, и такая боль пронзила Анну-Франсуазу, что её голос продрался даже сквозь сжатое горло — и прозвучал пронзительным визгом.
В ту же секунду дверь в комнату распахнулась. На пороге стояла Джованна с лампой, за её спиной — два пажа, а за ними — могучий помощник конюха. «Вали его!» — заорала Джованна, и детина растолкал пажей, выскочил вперёд и, схватив Арсени за волосы, резко дёрнул его голову назад, а потом ударил кулаком прямо по вздыбленному кадыку, вгоняя его в горло. Арсени захрипел, как несколько секунд тому назад хрипела Анна, и упал, пытаясь поймать воздух. Помощь пажей не потребовалось.
Анна лежала на кровати без сознания. Простыня покрылась кровью — буквально от пары движений Арсени внутри девушки. Джованна побелела: она чувствовала собственную вину. Нужно было врываться раньше, предупреждая чудовищное происшествие, а не расхлёбывая его последствия. Она обернулась к одному из пажей: «Беги за Жарне. — Паж исчез. — Этого оттащи в сторону, — сказала она конюху; тот схватил корчащегося Арсени за руку и оттянул прочь. Джованна боялась что-либо предпринимать до прихода врача, потому что совсем не разбиралась в травмах. — Беги вдогонку, — обратилась она ко второму пажу, — пусть Шако тоже приходит». — Тот кивнул и убежал.
Джованне стало по-настоящему страшно. Она понимала, что если с юной хозяйкой что-либо случится, герцог в гневе устроит настоящую кровавую баню. Из неё, Джованны, правду вытянут раскалёнными клещами, а потом её уже ничего не спасёт. Её содомируют булавой с гвоздями, не иначе.
Жарне появился через минуту, не более. Он нёсся по коридору в ночной рубашке, не надев даже штанов; в руках у него была сумка с докторскими принадлежностями. Ворвавшись в комнату, Жарне тут же бросился к Анне. Он упал на колени и заглянул в её промежность, потом извлёк белую тряпочку, промокая кровь. Дальше Джованна не смотрела — её начало выворачивать. Служанка отвернулась, её взгляд упал на Арсени. Судя по всему, он должен был выжить. Горло его потемнело, но он всё-таки дышал, грудь его мелко и часто вздымалась, а здоровяк-конюх стоял над ним. Джованна подошла к Арсени, взялась за его огромный член, присела и увидела сбоку застёжку. Она оттянула металлическую застёжку и вытянула кожаный ремешок. Фаллос остался у неё в руках. Джованна осветила то, что пряталось под ним, — и вот тут её вырвало прямо на брюхо Арсени.
В этот момент в комнате объявились одновременно Шако и герцог. Последний был в походной одежде, в пыли, он только что приехал, неожиданно для всех, и планировал смыть с себя пыль и отправиться спать, потому что очень устал с дороги. Но происшествие нарушило все его планы. Он увидел Жарне, склонившегося над дочерью, и голого Арсени, хрипящего на полу, и растерянную Джованну со следами рвоты на платье. Герцог умел мгновенно оценивать ситуацию. Не мешая врачу, он схватил служанку за руку и потащил прочь из комнаты.
«Что тут произошло?» — прошипел он. Пажи и слуги, прибежавшие на переполох, старались держаться подальше от хозяина. В дальнем конце коридора появился заспанный Дорнье. «Арсени, — промямлила Джованна, — пытался изнасиловать Анну-Франсуазу, сказал, что урок нужно провести, она пришла, и он…» — «Она что, в ночной рубашке к нему пришла?» — злобно спросил герцог. Джованна поняла, что легенда, сгодившаяся бы для какого-либо чрезмерно наблюдательного слуги, герцогу явно не понравилась. «Нет… то есть да…» — Джованна не знала, что ответить. «Запомни сейчас, — сказал герцог, — если с ней что-либо случится, ответит не только Арсени, — прошипел герцог, — он-то в любом случае уже мёртв; но ты ещё трепыхаешься, и если что, ответишь ты, и тебе будет очень больно». Джованна кивнула. Герцог отпустил её руку. На коже остались тёмные пятна.
Герцог вернулся в комнату. Над Анной-Франсуазой, помимо Жарне, нависали две служанки со свечами и Шако. Последний, увидев хозяина, сказал: «Всё будет хорошо. Небольшое кровотечение, но ничего жизненно важного, кажется, не повреждено. Мы справимся». — Герцог кивнул и обратил своё внимание на Арсени. «Это ты его?» — спросил он у конюха. «Да», — кивнул тот. «Ты какого чёрта тут делал? — Конюх что-то промычал. — Отвечай», — тихо, но властно сказал герцог. «Сказали ждать и, если что, врываться», — почти шёпотом ответил тот. «Хорошо, что ворвался, — констатировал герцог, — бери его и тащи за мной».
Он развернулся и пошёл прочь. У дверей стоял с понурым видом Дорнье. «Ты не виноват», — сказал герцог, проходя мимо. Управляющий не решился ответить.
У конюха хватало сил взвалить тушу Арсени на плечи, но по дворцовым коридорам передвигаться таким образом было неудобно, и потому детина просто тащил учителя за ноги. Тот продолжал часто и мелко дышать. Герцог знал, как нужно снимать стресс. Он сдерживал в себе зверя, пока рядом находилась его дочь и неплохие, в общем, люди — Жарне, Дорнье, полезные слуги, которые всегда старательно исполняли свои обязанности. Но по мере того, как он шёл по коридорам, и за ним пыхтел конюх, тянущий Арсени, герцог наполнялся ненавистью. Поймав какого-то пажа, герцог приказал: разбуди Жюля — и вниз. Паж испарился, герцог же дошёл до самого края дальнего крыла дворца, открыл собственным ключом боковую дверь и вышел наружу. Конюх едва поспевал за хозяином.
Шёл дождь. Конюх волок Арсени по траве и грязи. Герцог шёл к небольшому строению примерно в полусотне ярдов от дворца. Когда они были уже на подходе, в домике зажёгся свет, дверь открылась. На пороге стоял невысокий мужчина лет пятидесяти с добрым, по-детски пухлым лицом. Он отступил в сторону, пропуская герцога и конюха с его волоком.
Мужчину звали Жюль, а фамилии его толком никто и не знал. Он жил в этом домике уже лет двадцать и почти никогда не бывал в основном здании. В свою очередь, к домику никто и никогда не подходил по собственной воле. Несколько раз Анна-Франсуаза пыталась забраться внутрь во время детских игр, но все двери и окна Жюлева обиталища были плотно закрыты. Жюль никому и ничего о себе не рассказывал, и лишь герцог знал подноготную этого человека — иначе бы вряд ли взял его на работу.
Если бы двор был королевским, месье Жюля смело можно было бы называть заплечных дел мастером. Герцог не имел права держать собственного палача — и потому месье Жюль числился при дворце как цирюльник. И в самом деле, по части кровопусканий он был мастер почище доктора Жарне. Только облегчения эти кровопускания обыкновенно не приносили. Месье Жюль выполнял много чёрной работы. По приказу герцога он пытал, выбивая из жертвы информацию, или просто для хозяйского удовольствия; при необходимости он мог убить кого-либо тайно, а затем ликвидировать тело. В частности, именно он некогда пытал, убил и выбросил на помойку Анри Сара, неудачливого любовника Анны-Франсуазы. Теперь же пришла очередь другого её любовника — не столь желанного, но насолившего герцогу значительно сильнее.
Они спустились в подвал. Конюх с удивлением рассматривал странные приспособления, развешанные по стенам. «Подними его на стол и разведи огонь», — тихо сказал Жюль, и конюх понял, что ослушаться нельзя. Он взгромоздил тело Арсени на деревянный верстак посреди подвала и пошёл к камину. Через несколько секунд вспыхнул огонь: сухие дрова и солома были заведомо разложены для скорейшего возгорания. «А теперь иди, тебе воздастся», — сказал палач. «Да, — кивнул герцог, — ты молодец». Конюх поднялся наверх и вышел. Он боялся, потому что не знал, чего ожидать от герцога. Возможно, «воздаяние» будет не столь приятным, как, казалось бы, следовало ожидать.
В это время Жюль изучил горло толстяка. «Плохо, — сказал он, — может умереть в любую минуту. Когда начинаешь пытать, они задыхаются даже при здоровом горле, а этот вон кровью сейчас харкать пойдёт безо всяких пыток». — «Лечить его, — ответил герцог, — чтобы потом убивать, я не буду. Я верю в ваше мастерство, господин Жюль. Проявите его прямо сейчас, при мне». — «Хорошо, — ответил палач, — но я ничего не могу обещать». Он извлёк из-под верстака прикреплённые к нему верёвки с петлями и привязал сначала ноги, а затем и руки Арсени. «Он без сознания», — сказал герцог. «Сначала привяжу, затем разбужу», — точно поговорку произнёс Жюль. Он стянул верёвки на руках и ногах практически насмерть — уже через несколько секунд конечности учителя начали синеть.
Потом Жюль аккуратно промокнул тряпочку чем-то сильно пахнущим, вероятно спиртом, и провёл ею над лицом приговорённого. Тот замычал. После ещё пары взмахов Арсени открыл глаза. Страх исказил его лицо. Он попытался пошевелить руками или ногами — и у него не вышло, попытался повернуть голову, но острая боль пронзила его изувеченное горло. «Лежи тихо, — сказала палач, — и у тебя появится шанс умереть быстрее». — «Это почему?» — спросил герцог. «Потому что так надо», — ответил палач, и даже герцог не решился с ним спорить. «С чего начнём?» — спросил Жюль. «Оскопить», — отозвался герцог.
Месье Жюль склонился над промежностью Арсени. «Да тут и оскоплять-то нечего, я не врач, в болезнях любовного свойства не понимаю, но у этого господина тут всё сгнило давным-давно». У герцога задёргалась верхняя губа, лицо побледнело. «Тогда, — протянул он, — сними с него кожу, медленно, очень медленно, начиная с ног». Месье Жюль вежливо кивнул. «Это хорошая идея, — подытожил он, — давненько не приходилось, надо оттачивать навыки».
Арсени силился что-то выговорить, но только натужно булькал. Герцог наклонился к самому лицу приговорённого. «Я прикажу переплести в твою кожу все учебники, по которым ты учил мою дочь, — тихо сказал он. — А месье Жюль постарается сделать всё так, чтобы ты прожил как можно дольше — и увидел эти книги собственными глазами». Глаза Арсени закатились, и он потерял сознание.
Глава 6 НАКАЗАНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Как бы жестоко герцог ни наказал Арсена Арсени, был и ещё один человек, требующий принятия серьёзных мер, — сама Анна-Франсуаза де Жюсси. Покинув домик Жюля, герцог отправился к дочери. У дверей его встретил Жарне. «Тс-с, она спит, — сказал он, — и не стоит её беспокоить». — «А когда её можно будет беспокоить?» — «Когда проснётся, нельзя её будить; она в основном пострадала не физически, а духовно — пусть отоспится». — «Служанка эта её — там?» — «Да». — «Её вызови сюда, она-то не пострадала».
Жарне кивнул, тихонечко открыл дверь опочивальни Анны-Франсуазы — и через несколько минут вернулся, ведя за руку Джованну. Той было страшно. «Пошли со мной», — сказал герцог и быстрым шагом направился к своим апартаментам. Джованна семенила следом, Жарне остался у дверей своей подопечной.
Апартаменты герцога располагались достаточно далеко от библиотеки. Он намеренно разнёс спальню и рабочий кабинет, так как во время работы не любил отвлекаться, а кровать всегда манила его поваляться хотя бы несколько минут, ничего не делая, и обычно он не мог противостоять подобному искушению. Герцог сел на стул около высокого трюмо и приказал: «Говори. Если утаишь хотя бы одну деталь, если забудешь о какой-либо пылинке, падение которой имело значение во всей этой истории, ты отправишься к Жюлю. Он женщин любит, только не в том смысле, который вам, шлюхам, привычен. Говори».
Джованна некоторое время молчала, а потом тихо заговорила. Она рассказала всё — от первого до последнего шага. Она рассказала, как Анне стало интересно, что же так нахваливают служанки в господине Арсени, как они подсматривали за его омовением, как Анна приказывала ей, Джованне, соблазнить учителя, но затем взялась за это сама, и как Джованна с пажами и конюхом стояли за дверьми, и как всё было потом.
Когда она закончила, герцог помолчал, поцокал языком. «Давай-ка теперь подумаем, — сказал он, — кто во всём этом виноват. Выскажи своё мнение». Джованна не решалась заговорить. «Давай», — приказал герцог. «Месье Арсени», — чуть слышно пробормотала итальянка. «Да, он виноват. Но он — лишь следствие, а мы ищем причину. Почему моя дочь загорелась идеей посмотреть на его мужское достоинство? Не от тебя ли шли все эти слухи? Не ты ли сообщаешь ей все дворцовые сплетни, а потом вместе с ней хихикаешь над ними?» Джованна потупила взгляд: да, во всём произошедшем была и её вина. Она могла спасти и госпожу, и учителя, если бы согласилась сама соблазнить его. И это от неё Анна впервые услышала о легендарной мужской силе Арсени.
«Видишь, — сказал герцог, — я не ошибся. Твоё молчание — знак твоей вины. Но я знаю, как любит тебя Анна, и понимаю, что она пострадает значительно сильнее сегодняшнего, если я заберу тебя от неё. Тем не менее оставить твоей вины без внимания я тоже никак не могу, поэтому раздевайся». Джованна посмотрела на герцога. Она не сразу поняла, что ей приказывают, и никогда ранее ничего не слышала о сексуальных наклонностях герцога, поэтому совсем не знала, чего ожидать — то ли её будут пороть, то ли насиловать, то ли просто герцогу приспичило посмотреть на неё более внимательно, нежели прежде. «Полностью?» — спросила она. «Да». Она расстегнула застёжки на платье, сняла сначала нижнюю часть, затем верхнюю, затем лиф и панталоны и осталась нагая, лишь в туфельках. Она не пыталась прикрыть рукой ни грудь, ни промежность, просто смотрела на своего господина и ожидала его решения.
«Хороша, — сказал герцог, потом добавил: — Подойди сюда». Она подошла чуть ближе. Ещё. И ещё чуть ближе. И ещё. Он протянул руку и провёл по её бедру, а потом привстал, спустил штаны и снова сел на стул. «Приступай», — сказал он, откинувшись на спинку, и Джованна приступила.
Это не было наказанием, это был просто секс. Обыкновенный, без жестокости и извращений. Герцог мог получить его от Джованны в любое время, просто приказав ей, — но он знал, что Джованна проговорится Анне-Франсуазе, и дочь не простит ему соблазнения её личной служанки, а дочь была главным в жизни герцога, как бы холодно он ни относился к ней с видимой стороны. Теперь же герцог понимал, что Джованна не посмеет сказать Анне ни слова, чтобы не напоминать о чудовищном происшествии. Джованна попросту была одной из немногих нравившихся ему служанок, которых он ещё не пробовал на вкус.
Она ушла от него под утро, и ей было вполне хорошо, хотя герцог был уже не юн и не отличался физической красотой. Его импульсивность никак не отражалась на манере любви. Впоследствии Джованна не раз приходила к герцогу по ночам — и однажды понесла ребёнка, но об этом так никто и не узнал ввиду событий, до которых наша история ещё не добралась.
Утром герцог пришёл к Анне-Франсуазе. Она уже не спала, но Жарне запретил ей вставать с постели. Утром он провёл какие-то интимные процедуры, а Шако напоил девушку обезболивающими растворами. Теперь она полулежала на подушках и читала; де Ври решил временно приостановить занятия. Дорнье уже приступил к поискам нового учителя-гуманитария.
«Ну что?» — спросил герцог нарочито грубо. «Всё хорошо, отец, я почти оправилась». — «Зачем ты это сделала?» Она посмотрела ему в глаза и поняла, что он всё знает — или догадался, или Джованна рассказала, или кто-то из пажей, или конюх. «Мне было интересно». — «Ты не могла подговорить служанку?» — «Нет, я должна была проверить сама». — «Я знаю, — сказал герцог, — что ты давно уже не девственница, но я и не планировал выдавать тебя замуж, оперируя твоей непорочностью как аргументом. После моей смерти тебе достанется значительное состояние и высокий титул, ты без проблем найдёшь себе мужа в высших кругах — какого только пожелаешь. Хотя ты должна понимать, что я планирую прожить достаточно долго и надеюсь увидеть внуков. — Анна-Франсуаза кивнула. — На этот раз тебе повезло, — продолжил он, — но мне важно знать: ты поняла свою ошибку? Ты поняла, где грань между риском и реальной опасностью? У тебя появилось чувство края?» Он ждал ответа.
«Не знаю, отец», — честно ответила она. «Это хорошо, — сказал герцог. — Такого ответа я и ждал. Тем не менее ты будешь наказана. Мне нужно, чтобы ты запомнила этот инцидент не только из-за Арсени. Поэтому, как только Жарне разрешит, тебя выпорют, причём серьёзно, без дураков и девочек для битья. Я никогда не применял к тебе физической силы, потому что наказание вызывает в первую очередь страх и желание избежать его путём вранья. Но сейчас ты выросла, ты умна и своевольна, и потому хорошая порка просто закрепит уже изученное — как повторение урока английского».
«Да, отец», — снова кивнула она. Он встал. «И ещё, — сказал он, — я приказал заново переплести все учебники и книги, которыми пользовался Арсени. Я надеюсь, новые переплёты сотрут память о нём в этом дворце. Его вещи уже сжигаются по моему приказу — только книги я сжигать не могу, потому что понимаю их ценность».
Герцог не упомянул, во что он приказал переплести книги. Но он планировал сделать это позже, чтобы Анна-Франсуаза успела подержать их в руках. Он полагал, что это станет дополнительным уроком.
Анна-Франсуаза же продолжала жить дальше — но несколько иначе. Случай с Арсени несколько усмирил её, сделал спокойнее, аккуратнее, вдумчивее. Анна перестала ежеминутно бросаться в пекло, искать приключений на собственную голову (и не только на неё) — она за одну эту ночь стала женщиной не в физиологическом, а в духовном плане. Поэтому в какой-то мере Арсени можно было назвать дефлоратором — ментальным.
Герцог выполнил своё обещание. Как только Анна-Франсуаза смогла ходить не прихрамывая, как только Жарне печально сказал: можно, как герцог отвёл дочь на конюшни (не прилюдно же обнажать дворянскую спину и ягодицы), привязал её к скамье, достал кнут и всыпал по пятое число — до кровавых полос. Анна держалась стоически, лишь иногда постанывая от боли. После экзекуции Жарне обработал её спину бальзамом, хотя некоторое время девушке было не очень приятно надевать платье и весьма больно сидеть.
«Усмирение» Анны-Франсуазы повлекло за собой значительные изменения в её вздорном и взбалмошном характере. Она перестала ввязываться в авантюры, способные навредить ей самой, но при этом в девушке проснулась изысканная, острая жестокость, которую многие слуги почувствовали на себе. Ей нужно было как-то отводить душу, вырываться из обыденности дворцового существования, из рамок своего высокого положения, и если раньше она делала для этого что-то запрещённое, опасное, то теперь она стала отводить душу на слугах. Ровно в течение двух месяцев после приснопамятного наказания Анна была тише воды, ниже травы, но в один из дней она наказала Джованне привести к ней слугу-мужчину, готового подвергнуться порке за некоторое вознаграждение. Найти такого было нетрудно: многие дворовые не раз попадали под горячую руку хозяина или управляющего; мелкой работы у месье Жюля хватало. Перетерпеть небольшую порку от слабой девушки, да ещё и за деньги, — что могло быть проще.
Первую жертву Анны-Франсуазы звали Андрэ. Это был один из молодых учеников садовника, крепкий парень, в основном таскавший тачки с землёй и не допускающийся к более тонким работам. Андре приказали раздеться догола, Анна изучила его комплекцию и прочие детали тела, затем уложила лицом вниз на скамью и довольно долго порола коротким кожаным кнутом. Андре было практически безразлично: Анна не умела бить сильно и тем более не имела навыка причинять боль. За экзекуцией последовала оргия с участием Андре, который, правда, не мог при необходимости лежать на спине, и Джованны.
Развлечения подобного плана продолжались порядка трёх месяцев. Всего несколько недель оставалось до шестнадцатилетия Анны-Франсуазы, когда ей пришла в голову более жестокая идея. Заглянув как-то раз в незакрытую дверь домика месье Жюля (отец запрещал ей там появляться и, более того, наделил палача правом взашей выгонять девушку на улицу), Анна увидела на стене кнут-кошку с мелкими крючками на концах. Прекрасно понимая, что на такую жертву никто из дворовых не пойдёт даже за деньги, Анна приказала Джованне снять в городе помещение, желательно пустое и не очень заметное, затем приплатить каким-нибудь городским негодяям, чтобы те доставили в это помещение бездомного или нищего, чьего исчезновения никто не заметит.
Тем временем близился день рождения Анны. Подготовка шла полным ходом, Дорнье составлял список приглашённых и планировал развлекательную программу, садовники в срочном порядке приводили в порядок задний двор, с которого должны были запускаться фейерверки, дворец подновляли и подкрашивали. Анна старалась во всей этой суматохе участия не принимать, но избежать многочисленных примерок новых нарядов она никак не могла. Кроме того, насколько она понимала, отец запланировал во время грандиозного праздника подыскать ей жениха, познакомив с рядом молодых людей из высшего света. С момента смерти жены герцог всего дважды приглашал к себе друзей, да и сам выходил в свет не очень часто. Итогом этого стала интригующая и загадочная репутация, сформировавшаяся у де Жюсси и его дочери вне пределов дворца. Огромное состояние герцога и красота Анны (которая, конечно, не могла скрыться от шпионских глаз) заставляли многих дворян мечтать о том, чтобы породниться с этой семьёй. Но герцог до поры до времени никому не давал ни единого шанса.
У Анны были уже и поклонники. Иногда ей присылали огромные букеты цветов, сладости и прочую дребедень. Первые Анна отдавала Джованне, вторые съедала, присоединённые к подаркам письма с уверениями в восхищении и верноподданстве бросала в камин, не читая. Её, рано повзрослевшую и распутную, умную и жестокую, интересовали совсем другие вещи. Читая романы о первой чистой любви, Анна поражалась глупости персонажей. Она не понимала, что такое любовь, и воспринимала мужчин исключительно как самцов — за исключением отца. Отец входил в некую отдельную категорию (в принципе наряду с Дорнье), которую вкратце можно было охарактеризовать так: Анна не причинила бы этим людям вреда. Но не более того.
За шесть дней до празднества Джованна шепнула Анне: «Всё готово». Есть тайный дом-убежище, есть верные люди, есть жертва. «Завтра», — ответила Анна. Внутри неё всё ликовало. Она действительно хотела понять, что такое настоящее насилие. Не жалкая порка за пару монет с последующим совокуплением или без оного, а пытка, ведущая к смерти. Она хотела почувствовать себя господином Жюлем, осознать свою исключительность, своё величие, проявить свою жестокость.
На следующий день она и в самом деле выехала в город под предлогом необходимости навестить кое-какие лавки. Предлог был забыт уже за воротами замка: Анна-Франсуаза напрямую поехала по указанному Джованной адресу. Верная служанка сидела напротив. По её лицу ничего нельзя было прочесть, но Анна-Франсуаза знала, что итальянка не одобряет наклонностей госпожи. Джованна думала, как же так вышло. Сколько лет она знала эту девочку, затем девушку (сама Джованна была старше всего на шесть лет), и та всегда казалась ей не более чем хулиганкой, даже жестокие её забавы оставались лишь игрой и ничем более, она не стремилась к настоящему злу. А теперь по плотно сжатым губам хозяйки итальянка читала решимость и чудовищную, нечеловеческую жестокость. Анна ехала убивать человека, которого даже не знала, никогда не видела, и это убийство воспринималось ей даже не как забава, но как суровая необходимость.
Видимо, Джованна имела талант к физиогномике и к тому, что несколькими столетиями позже назовут паралингвистикой, поскольку она совершенно правильно прочла по лицу Анны её настроение, планы и цели. Другой вопрос, что итальянка не умела заглядывать в будущее и никак не могла догадаться, как изменится мировоззрение хозяйки после грядущих событий. К слову, здесь стоит отметить, что служанка проявила весьма невысокий уровень проницательности, поскольку уже не раз становилась свидетельницей резких изменений в настроениях и характере Анны, причём изменения эти базировались именно на личном опыте. Сейчас же Джованне казалась, что Анна для неё и для мира навсегда потеряна.
О чём думала Анна-Франсуаза? Пусть это останется тайной. Мысли девушки блуждали где-то в облаках. Она не предвкушала действо, но старалась временно забыть о нём, размышляя о сторонних вещах, как то: подготовка к шестнадцатилетию или знакомство с многочисленными молодыми людьми из высшего света. Анна была лишена алчности в том смысле, что не стремилась к браку по расчёту, ради увеличения собственных богатств или положения в обществе; она знала, что если и решится выйти замуж, то лишь потому, что захочет этого сама, причём причины подобного желания могут быть самыми разными. И теперь, сидя в карете, движущейся по направлению к городу, она думала, встретит ли на собственном дне рождении хотя бы одного человека, достойного её внимания. Нет, простите, не внимания — любви.
Когда карета остановилась, Джованна выскользнула наружу и подала руку госпоже. Было около четырёх часов, прекрасная погода, яркое солнце, лёгкие облачка, и Анна даже подумала, что подобные природные блага грех менять на тёмный грязный дом и общение с подозрительными субъектами. С козел спрыгнули два дюжих пажа-охранника. Чаще всего они оставались у кареты, но на этот раз в их задачу входило полное сопровождение герцогской дочки. В какой-то мере Анна сомневалась в их молчании, но Джованна уверила её, что люди верные и алчные до денег. Если хорошо заплатить, то раз за разом будут молча выполнять свои обязанности, и ни одни посторонние уши ничего не услышат.
Джованна постучала в дверь. В ожидании ответа Анна осматривала улицу. Солнце разогнало всякую шваль по углам, но всё равно было видно, насколько беден и убог район, в котором они находились. Облупленные покосившиеся домишки, выпавшие из кладки камни и кирпичи, проваленные крыши, самая окраина города. На шикарную карету из-за углов глазели мальчишки, но подходить ближе опасались — мало ли что, огреет кучер кнутом, и всё. Денежки просили обычно у людей попроще, а у таких высоких особ, что в золочёных экипажах разъезжают, лучше было ничего не брать, себе дороже выйдет.
Смотровое окошечко открылось. Джованна почувствовала тяжёлый взгляд Одноглазого — заводилы всей шайки, нанятой для дела. Могла ли итальянка полагаться на его честность? В принципе, да, поскольку он получил лишь четверть обещанной суммы в качестве задатка и был кровно заинтересован в остальном. И потому, когда дверь приоткрылась, они смело вошли в дом: первый паж, Джованна, Анна-Франсуаза, второй паж.
Глава 7 ПОХИЩЕНИЕ
Когда Анна-Франсуаза услышала резкий стук, она обернулась. Дверь уже захлопнулась, и в тот же самый момент стальной пест обрушился на затылок замыкающего пажа. Анна открыла рот, чтобы закричать, но чья-то огромная волосатая рука сдавила ей горло. Впереди уже обездвижили Джованну и оглушили первого пажа. Снаружи некто ловкий и тонкий забрался на козлы к кучеру и едва заметным движением пырнул того в бок узким стилетом, а затем аккуратно накрыл лицо мертвеца шляпой, чтобы окружающим казалось, что тот просто спит.
Анну же и её служанку волокли по коридорам из одного дома в другой, через внутренние дворики, через какие-то грязные подворотни и узенькие улочки. Она была в сознании, и, как ни странно, никакого страха не чувствовала, лишь обиду на саму себя. Получается, она опять, только-только вывернувшись, причём не без потерь, из предыдущей передряги, в которую сама себя втянула, попадает из огня да в полымя, и здесь всё будет гораздо серьёзнее, так как никто не знает, где она, куда поехала и с какой целью. Она могла только гадать, зачем её похитили, и надеяться на то, что бандиты хотят получить за неё выкуп. Альтернативные версии Анну устраивали гораздо меньше, поскольку мало ли для чего могут пригодиться молодые и хорошенькие девушки. Возможно, есть люди, наклонности которых не уступают наклонностям самой Анны, и её юное тело будет использовано каким-либо чудовищным, извращённым образом.
Анна не знала, что один из пажей, оглушённых похитителями, выжил: черепушка оказалась достаточно крепкой. Уже через десять минут, когда Анну запихивали в тёмный экипаж, паж по имени Николя Дарэ очнулся, потряс головой и попытался понять, где он находится. Вокруг стояла тьма, голова болела невероятно, жалкий свет, проходивший сквозь щели в плохо законопаченных окнах с закрытыми ставнями, выхватывал из темноты лишь чей-то открытый глаз. Николя отшатнулся, затем сознание окончательно вернулось к нему, заодно прихватив с собой память. Паж понял, что глаз принадлежит его напарнику. Николя подполз к товарищу, потряс его, прислушался к дыханию и обнаружил, что тот мёртв. Ни хозяйки, ни её служанки в поле зрения не обнаружилось. В этот самый момент дверь открылась, впуская в помещение солнечный свет. На пороге стоял тот самый человек, который заколол кучера, — но Николя об этом не знал, и попытался что-то сказать, позвать на помощь. Убийца понял, что как минимум один из оглушённых жив (собственно, он и зашёл, чтобы проверить, мертвы ли оба, добить при необходимости и убрать тела), достал стилет и сделал шаг к лежащему, одновременно захлопывая дверь движением ноги. Убийца не был готов к сопротивлению. Николя, заметив блеск стилета, понял, что перед ним враг, и, в свою очередь, достал нож. Ноги ещё не держали пажа, с координацией было плохо, и трудно сказать, на что он надеялся, когда вооружённый убийца танцующей походкой приближался к своей жертве.
Тем не менее у Николя имелось два преимущества. Во-первых, убийца не ждал отпора. Во-вторых, паж очень хорошо дрался на ножах да и вообще на любом холодном оружии, поскольку основным его времяпрепровождением в свободные часы являлось изучение фехтования. Николя пожалел, что у него нет даже баклера[81], чтобы отразить при необходимости удар, а лишь короткий кинжал. Шпагу он достать просто не мог, да и орудовать ей лёжа было бы крайне затруднительно.
Всё вышеописанное промелькнуло в голове пажа на подсознательном уровне, поскольку размышлять логически он толком в тот момент просто не мог. Но рефлексы умелого фехтовальщика дали о себе знать, и когда убийца склонился над лежащим и попытался коротким движением вогнать стилет тому в горло, он встретил не мягкую плоть, а твёрдую сталь, после чего кинжал Николя съехал по острию лишённого гарды стилета убийцы, миновал перекрестье и напрочь отсёк нападающему два пальца, заодно соскоблив неслабый шмат кожи с предплечья. Убийца взвыл и отскочил. Из обрубков хлестала кровь, стилет, звякнув, упал на землю. Окрылённый успехом, Николя попытался подняться, но его закружило и тут же бросило на землю. В принципе соперники на тот момент были примерно равны: Николя не позволяла сражаться в полную силу нарушенная координация и головная боль, а убийце — хлещущая из руки кровь и отсутствие двух фаланг на указательном и среднем пальцах.
Убийца тем временем рассвирепел. Он выхватил из-за пояса кинжал, не в пример больше и опаснее стилета, предназначенного в первую очередь для «тихих» убийств. То, как он держал оружие левой рукой, доказывало, что он — выраженный амбидекстр[82] и сейчас пажу не поздоровится. Кроме того, он уже привык к темноте: неудача первой атаки была во многом обусловлена тем, что убийца вошёл в тёмное помещение с яркого солнца, а паж уже успел приспособиться к плохой видимости.
Как ни странно, сражаться на коротком оружии против лежащего человека значительно труднее, чем против стоящего. При наличии длинного оружия, например, шпаги или дубинки, лежащий — вообще не конкурент, победа достигается одним движением. Но теперь убийце требовалось наклониться, чтобы ударить. Для этого следовало ногой обездвижить руку пажа с кинжалом (либо вовсе выбить последний), а затем нанести удар.
Убийца подскочил к пажу и точным ударом попал по предплечью Николя, размахивающего кинжалом. Оружие отлетело в сторону, убийца нагнулся, чтобы добить свою жертву, и тут же почувствовал страшную боль в области паха. Ударить он уже не успел, поскольку сознание его помутилось, и он свалился рядом с пажом. Николя тяжело вздохнул и вытер стилет о тело убийцы-неудачника. Паж просто подобрал стилет, когда предыдущий владелец потерял пальцы и был ослеплён болью, и держал некоторое время в левой руке, в тени. Он позволил убийце лишить себя основного оружия, а затем воткнул вспомогательное негодяю в пах, когда тот оказался в зоне доступности.
Первой мыслью Николя было срочно мчаться во дворец (он надеялся, что лошадей ещё не увели местные бродяги) и докладывать Дорнье о произошедшем. Но вторая мысль оказала первой некоторое сопротивление. Ведь в таком случае придётся рассказать управляющему, а скорее всего и герцогу об авантюре, в которую ввязала его Джованна, и тогда не миновать ему наказания. Конечно, смягчающие обстоятельства имелись: да, он убил одного из негодяев, и, кроме того, принесёт во дворец хоть какие-то сведения. Но, строго говоря, о подобной авантюре он должен был донести кому-либо задолго до её начала. С одной стороны, Николя было страшно, с другой — совестно. И он решил поступить по чести.
Пока смелый паж Николя Дарэ добирался до фиакра, скидывал с козел мёртвого кучера и кое-как направлял лошадей к герцогскому дворцу, похитители везли девушек в закрытом экипаже по парижским улицам. Остановившись, они выволокли похищенных наружу, протащили по двору и, наконец, бросили в одной из комнат совершенно безликого дома, который девушки не смогли бы потом опознать, даже знай они, в каком районе происходит дело. Комната была пуста, разве что на деревянном полу валялась одинокая циновка. Впрочем, грязи видно не было, да и крысы, судя по всему, тут не водились (Джованна сразу почувствовала бы знакомый крысиный запах — в детстве ей приходилось жить в изобилующем крысами доме). Окно в комнате имелось, но находилось под самым потолком и было забрано решёткой. Девушек не связали, но Джованна по дороге потеряла сознание то ли от тряски, то ли от шока. Анна-Франсуаза поднялась с пола (бросили её довольно бесцеремонно) и попыталась добраться до окна. Стена под ним была ровной, покрытой слоем извёстки и покрашенной поверх, и потому зацепиться оказалось не за что. Без помощи Джованны даже выглянуть наружу не представлялось возможным.
Анна-Франсуаза прошлась по камере, изучила дверь. Тяжёлую, дубовую створку явно было не выломать, смотровое окошечко — закрыто. Оставалось единственное занятие — будить служанку. Растолкала Джованну она достаточно быстро. Та испуганно оглянулась и спросила: «Где мы?» — «Нас похитили, — ответила Анна, и ты мне сейчас же расскажешь, откуда ты знаешь тех людей, которых подрядила выполнять моё поручение». — «Я их практически не знаю, — ответила та, — это один из пажей посоветовал, тот, что первым шёл, Бартоломеу». — «То есть ты поверила какому-то пажу, ничего сама не проверив?» — «Я же девушка, меня бы эти не послушали, тут нужен был мужчина-наниматель». — «И что это за бандиты?» — «Я только с одноглазым разговаривала, его все так и зовут — Одноглазый, он регулярно всякими тёмными делами промышляет за деньги, я ему хорошо заплатила, причём это только задаток был». — «Видимо, они теперь побольше хотят выручить». — «За вас, моя госпожа?» — «За меня. А вот тебя, Джованна, видимо, ждёт менее завидная участь, и она послужит хорошим наказанием за твою невнимательность». Джованна задрожала всем телом и чуть отодвинулась от Анны-Франсуазы.
«Не бойся, — сказала та, — мы не сдались и попытаемся так или иначе отсюда выбраться или хотя бы подать весточку на свободу. Ты можешь стоять?» — «Да, могу». Джованна поднялась на ноги. «Тогда сцепляй руки, я должна выглянуть наружу». Служанка сделала «ступеньку», Анна поднялась, опираясь на стену, к окну и обнаружила, что окно выходит в тот самый внутренний двор, куда приехал экипаж. Последний стоял у входа в дом, около него топтались двое мужчин в тяжёлых сапогах. «Опускай», — сказала Анна. «Ну что?» — «Это нам не поможет, у тебя есть оружие?» — «Нет». — «А у меня есть стилет. Рано или поздно к нам зайдут, ты стой у окна, отвлекай, а я буду за дверью и воткну стилет в первого вошедшего, а там уж будь что будет». — «По-моему, это опасно». — «Хуже уже не будет».
Так и сделали. Джованна села под окном, напротив двери, а Анна — за дверью. Шаги послышались минут через пять, девушки вовремя сообразили, что нужно подготовиться. Но открылась не дверь, а окошечко. «Ну-ка, — послышалось оттуда, — чтобы обеих видел, встать перед дверью». Волей-неволей Анне тоже пришлось показаться. Тогда дверь открылась, и вошли двое мужчин. Первый был одноглаз, однорук и одноног и потому показался Анне смешным. Вместо руки у него был стальной крюк, вместо ноги — деревянный костыль, прикрученный к культе, а глаз закрывала повязка. Второй был изящен и мускулист, шрам пересекал его квадратный подбородок, делая и без того суровое лицо ещё более мужественным и — с точки зрения Анны — красивым, одет он был в свободную рубашку, распахнутую на крепкой волосатой груди.
Главным явно был одноглазый. «Эта?» — показал он на Анну. «Да», — ответил Красавчик, как про себя назвала его девушка. «Точно?» — «Да, точно». — «А та?» — «Служанка». — «Нужна?» — «Не думаю». — «Ну и заберите её, только потом спрячьте тело получше». Джованна отшатнулась к стене, когда Красавчик пошёл к ней, завизжала — но она и представить себе не могла, что натворит её госпожа. Красавчик прошёл мимо Анны, дверь продолжал загораживать Одноглазый, и в этот момент Анна развернулась и изо всех сил всадила стилет сзади в шею бандита. Красавчик по инерции сделал ещё один шаг — и кулем упал к ногам Джованны. Одноглазый зарычал, бросился вперёд и ударил Анну; она едва успела отдёрнуть голову, удар пришёлся по плечу, и всё равно рука девушки онемела, стилет упал на пол, Анна рухнула на труп Красавчика.
«Рене, Рыба!» — заревел Одноглазый, доставая пистолет и направляя его в лоб Анне. Через несколько секунд появился ещё один негодяй, пухлый, белокожий, похожий на сдобную булочку. «Ту забери — и делайте с ней, что хотите». — Он показал на Джованну. Рене молча обошёл скульптурную группу из Одноглазого, Анны и бывшего Красавчика, грубо схватил Джованну и поволок прочь из комнаты. Когда пухлый уже выходил, в комнате появился ещё один бандит, худой, узкоглазый, небритый.
«Рыба, — уже спокойнее сказал Одноглазый, — срежь у этой суки клок волос, забери стилет, вон он валяется, и унеси Верта». Рыба поцокал языком. «Это ж как так?» — спросил он. «Делай, что говорят», — отозвался Одноглазый. Рыба поднял стилет, заткнул его за пояс, достал свой нож, срезал у Анны прядь (под дулом пистолета она не решилась сопротивляться), взял Красавчика за ноги и поволок прочь из камеры. За телом тянулась кровавая полоса. Когда бандит вышел, одноглазый сделал шаг назад и сказал: «Вела бы себя спокойно, вернулась бы домой невредимой, как только твой герцог заплатит. А теперь я не уверен, что мы с тобой не позабавимся, прежде чем отпустить». И он вышел. Анна ничего не ответила.
Некоторое время она сидела на полу и смотрела на размазанную кровь. Ей стало страшно. Она чувствовала, что доигралась, зашла чересчур далеко и выхода нет. Ждать помощи со стороны? От кого? Кто знает, что она здесь? Ну, впрочем, кучер, подумала Анна, он может забеспокоиться, что мы долго не выходим, и посмотреть, что происходит в том доме. Хотя ему было сказано ждать по крайней мере часа три-четыре, а сколько прошло? Анна потеряла счёт времени. Ещё полчаса она то сидела, то бродила по камере, а затем улеглась на циновку и закрыла глаза в надежде заснуть.
Но время тикало неотвратимо, и в этот самый момент Николя Дарэ въезжал в ворота дворца. Голова его прояснилась, хотя иногда возникали рвотные позывы, но — легко подавляемые. Николя слез с козел и побрёл (быстро ходить всё равно было трудновато) через дворец прямо к Дорнье. Видок у пажа был, прямо скажем, странный: кровоподтёк и огромная шишка на голове, кровь на руке, порванная одежда. Кто-то из слуг спрашивал, что с ним, но Николя отвечал: «Мне срочно к Дорнье».
Тот сидел в своём кабинете и подытоживал работу, связанную с организацией дня рождения Анны-Франсуазы. Паж вошёл к управляющему без предварительно доклада, разве что постучав в дверь. Дорнье удивился подобному несоблюдению субординации, но, увидев дикие глаза пажа и его странный вид, понял, что случилось что-то по-настоящему серьёзное. А когда Николя выдохнул: «Анна…» Дорнье схватил пажа за грудки и закричал: «Говори, говори, рассказывай». Тот рассказал всё честно, ничего не утаивая, от желания Анны попробовать настоящее насилие до момента, когда он, Дарэ, сталкивал с козел мёртвого кучера. Исказил он одну-единственную деталь. Николя рассказал, что всё-таки обыскал дом в надежде найти и спасти Анну-Франсуазу, прежде чем ехать за подмогой.
«Герцог не должен знать», — сказал Дорнье. «Из огня да в полымя, — добавил он спустя некоторое время, размышляя. — Так, Дарэ, иди, умойся, переоденься и жди у чёрного хода, того, что в левом крыле. Солдат вызывать не будем, попытаемся справиться своими силами. Найдёшь тот дом?» — «Да». — «Хорошо, тогда у тебя пять минут на всё про всё; пошёл!» И Николя исчез.
Простите, но сейчас будет триллер. Казалось бы, какой глупый эпизод: похищение невесты, исчезновение взбалмошной девчонки и её служанки — но он нужен, без него — никак и никуда. Именно эти события завершают формирование характера героини, а заодно должны продемонстрировать, какие благородные, смелые и умные люди окружают её. Последний факт входит в некоторый диссонанс с чудовищным, по правде сказать, характером Анны-Франсуазы, и доказывает, что даже среди самого что ни на есть добра может вырасти цветок зла. Помимо динамики, нижеследующие события оставят в сознании читателя некоторые недосказанности, невыстрелившие ружья, как то, к примеру, мы не собираемся давать ответ на вопрос, кто же такой на самом деле месье Жюль и почему его знают и опасаются все отбросы города. Будем считать, что у него было некое прошлое, не имеющее отношения к данному рассказу, но повлиявшее лишь на конкретный эпизод с поисками похитителей. Итак, к делу.
Николя едва дополз до своей комнаты, смыл кровь, надел чистый сюртук, как понял, что нужно уже быть у дверей, и пошёл вниз, и успел туда буквально на полминуты раньше Дорнье, который вёл с собой шестерых мужчин — в основном из числа слуг. Но гораздо более удивительным было наличие месье Жюля. Тот был одет в свою обыкновенную чёрную одежду, лицо его ничего не выражало. За поясом паж усмотрел плеть. Так, сказал Дорнье, в конюшню.
Они дошли до конюшни, несколько коней уже были оседланы: Дорнье с самого начала послал вперёд мальчика. «На коне сможешь ехать?» — спросил он у Николя. «Да, уже да». — «Хорошо».
Когда отряд выехал, смеркалось. «До темноты не успеем», — сказал паж. «Ничего, — ответил Дорнье. — А как мы будем искать их потом?» — «Опознаем того, которого ты убил, по нему и на остальных выйдем. Эта шваль друг друга хорошо знает». — «А если труп уже унесли?» — «Значит, найдём того, кто унёс». И больше они не разговаривали.
Когда они добрались до дома, где произошло преступление, лишь красная полоска на западе свидетельствовала о том, что не так давно был день. «Здесь», — показал Дарэ. Дорнье спрыгнул с лошади и первым ворвался в дом, на ходу зажигая фонарь. Тело лежало там, где его и оставил паж, только с него исчезла почти вся одежда, за исключением нижнего белья. Последнее наличествовало как таковое, а значит, убийца был из верхних слоёв общества, или, по крайней мере, обеспеченный. «Месье Жюль», — обратился к палачу управляющий, но дальше фразу не продолжил. Палач подошёл и осмотрел лицо убийцы. «Не знаю, — сказал он сухо, — из новых». — «Кто может знать?» — «Если Плешивый ещё при деле, то всех знает». — «Грузите», — приказал Дорнье. Тело завернули в прихваченный с собой кусок холста и приторочили к седлу одной из лошадей. «А дом осмотреть?» — спросил паж. «Ты же его осмотрел». — «Я был не в себе, что-то мог пропустить». — «Нет смысла, — сказал Жюль, — даже если они тут были, уже и след простыл, иначе бы труп тут не лежал». — «Это правда», — согласился Дорнье.
Теперь вёл Жюль. Они миновали несколько улиц, после чего остановились около невзрачного на вид кабака. У дверей — никого, только какой-то пьяница валяется неподалёку. Шлюх тоже видно не было. «Ну и местечко», — сказал Дорнье. «Нормальное местечко, — отозвался палач, — просто сюда опасаются забредать». — «Всё равно странно, даже на входе никого». — «Вон тот пьяница на входе». — «Да он же лыка не вяжет». — «Если будет облава, тут же свяжет и даст сигнал». — «А мы не похожи на облаву?» — «Вы — не знаю, я — нет».
С этими словами они вошли в кабак. Внутри было на удивление людно. Большинство посетителей выглядели как самые натуральные отбросы общества, впрочем, таковыми и являясь. Грязные оборванцы, мерзкие шлюхи, воры и грабители, наёмники всех мастей, одноглазые уродцы с перекособоченными фигурами, китайцы и мавры с покрытыми шрамами спинами — все они собрались здесь, шумели, пили, дрались, а когда в помещении появился отряд Дорнье, как один повернули головы к входу и затихли.
В совершеннейшем молчании отряд пересёк помещение. Впереди шёл Жюль, и по взглядам, обращённым к нему, становилось понятно, что палача здесь неплохо знают, причём не просто знают, а серьёзно опасаются. Последним шёл слуга, тащивший труп убийцы. Из двери подсобного помещения всё в том же мёртвом молчании вышел хозяин в грязном фартуке. Жюль сделал знак поднести тело поближе и бросить на пол — так слуга и сделал. Жюль ногой раскатал свёрток, и окровавленный убийца, раскинув руки, оказался перед хозяином (судя по лысине, как раз хозяина и звали Плешивым). «Кто это?» — спросил Жюль. Хозяин посмотрел вниз и ответил: «Это Гризе». — «Кто такой Гризе?» — «Наёмник». — «Кто нанимал последним?» — «Не знаю».
Жюль обернулся к посетителям и громко спросил: «Кто нанимал Гризе последним? Кто что-нибудь об этом знает? — Молчание было ему ответом. — Вы меня знаете, — необыкновенно тихо продолжил он, — я из вас всё выжгу, если потребуется, а если ответите сами, получите вознаграждение, ну?» — «Одноглазый», — раздался робкий голос из угла. Там на самом краю длинного стола сидел тщедушный человечек в нищенской одежде. «A-а, Тома, — протянул Жюль, — ты, я смотрю, отрастил вторую ногу?» Это немного разрядило обстановку, кто-то захихикал. «Иди сюда», — сказал палач. Тома поднялся и подошёл чуть ближе. Несмотря на отсутствие видимых физических недостатков, он нёс с собой костыль. Дорнье догадался, что это один из профессиональных парижских нищих, поддельный, как и вся эта братия.
«Одноглазый? — переспросил Жюль. — Это который раньше Балбесом звался?» Снова раздались смешки. Тома оглянулся вокруг, будто требуя одобрения у посетителей, и кивнул. «Где он нынче?» — «Не знаю», — замотал головой Тома. «Кто знает, где сейчас ошивается Одноглазый?» — громко спросил Жюль. Но на этот раз молчание по толпе распространилось просто-таки гробовое, никто и рта не раскрыл, никто и не дёрнулся. Тогда Жюль совершенно спокойно перебросил из-за спины свою сумку и достал из неё бутылку с какой-то мутной жидкостью и торчащей вместо пробки грязной тряпкой. «Готовьтесь держать дверь снаружи, — сказал он спутникам, — никто не выйдет». Хозяин понял, что собирается делать Жюль, и подскочил к палачу, и запричитал: «Зачем, господин Жюль, что вы, мы же все погибнем…» — «А мне и плевать, — отвечал Жюль, — потому что вы не хотите помочь мне, и я не хочу помочь вам, значит, нам взаимно друг на друга плевать, и я что захочу, то с твоей помойкой и сделаю». — «Я знаю, я знаю, — начал виться ужом хозяин, — я знаю, где он живёт». — «Ну и отлично, — Жюль продолжал держать бутылку с зажигательной смесью в руке, — далеко отсюда?» — «Полчаса от силы, а то и быстрее». — «Значит, едешь с нами». — «А как же…» — «Сожгу к чёртовой матери». — «Да-да, конечно, еду».
На том и порешили. Увеличившийся на одного человека отряд ехал по грязным улицам, всякое отребье косо посматривало на всадников, но приставать опасалось, а то не только кнутом огреют, но вообще шпагой рубануть могут. Ехали быстро, поскольку на улицах уже царила ночь, а Дорнье совершенно не хотел, чтобы герцог узнал об отсутствии дочери.
Тем не менее последнему желанию управляющего было не суждено сбыться, потому что вскоре после отъезда Дорнье герцогу понадобилось что-то у управляющего спросить. Апартаменты Дорнье оказались запертыми, и герцог спросил у кого-то из слуг, где управляющий. Через некоторое время выяснили, что он некоторое время назад неожиданно отбыл в неизвестном направлении с отрядом вооружённых людей, а незадолго до того во дворце появился один из пажей в крайне плачевном состоянии. Заподозрив неладное (а всё неладное, как известно, начиналось с очередной глупости Анны-Франсуазы), герцог отправился в комнату дочери и не обнаружил там ни самой Анны, ни её верной служанки. Герцог приказал всем слугам, кто хоть что-нибудь знает о причинах произошедшего, явиться и всё рассказать, но выяснилось, что никто и ничего не знает. Герцог, конечно, понадеялся на благоразумие и изобретательность Дорнье, но заснуть в любом случае не мог и всю ночь мерил шагами кабинет, прилегающий к библиотеке.
Тем временем Анна-Франсуаза сидела в тёмном помещении. Еды ей не принесли, одеяла — тоже, и даже попить не дали, а девушка была слишком горда для того, чтобы просить похитителей о чём бы то ни было. Поэтому ей было холодно и голодно, а звуки, раздававшиеся из-за двери, ещё больше обостряли оба указанных чувства. Где-то там, слышала Анна, пировали, пили, и, судя по женскому визгу, вообще очень неплохо проводили время. Впрочем, Анна нашла себе занятие: она копила ненависть, представляя, что сделает с похитителями, когда те окажутся в её руках. Плеть с крючками при таком раскладе казалась ей только началом, причём весьма гуманным. Иногда на ум девушке приходила служанка Джованна — что с ней, жива ли она? Анна беспокоилась за Джованну, и в этом беспокойстве проглядывало простое человеческое чувство любви к ближнему своему.
Отряд же Дорнье уже почти прибыл. Управляющему повезло: Одноглазый не то чтобы очень таился. Если бы не смерть убийцы от руки пажа, никто бы и никогда не узнал, что в халупе Одноглазого могут насильно держать дочь самого де Жюсси. В какой-то мере Одноглазый удивился тому, то убийца не пришёл за второй частью своей платы, но подумал, что зайдёт завтра, никуда не денется. Где-то в глубине души Одноглазый даже надеялся на то, что убийца сыграет в ящик и платить ему не придётся вовсе.
«Здесь, здесь», — показал хозяин кабака на один из домов. Никто, кроме Жюля, не знал этих мест, и все оглядывались с некоторым страхом в глазах. Это был тот самый район, где много лет назад Шарль Сен-Мартен де Грези нашёл себе подручных для доставки трупов. Тут нестерпимо воняло, и такая шваль ошивалась по углам, что выходить на улицу без оружия и должного умения с ним обращаться было категорически противопоказано. Жюль же уверенно заехал в открытый двор, выходящий на улицу (видимо, здание либо было ранее, либо и по сей день являлось постоялым двором), где и спешился. У стены стоял невысокий мужчина, который тут же юркнул в дверь: появиться неожиданно уже не получится. Ну что же, Жюль спокойно вошёл, за ним — Дорнье, за ним — паж Николя, за ним — остальные мужчины.
В большом помещении, следующем за предбанником, шла гулянка. На столе вытанцовывали две полуголые девицы, пара пьяниц валялась в углу. У всех присутствующих было по два глаза, если верить беглому осмотру Дорнье. На вошедших обратили внимание не сразу. Мужчины, стоявшего у дверей, не было видно. Жюль сделал два шага вперёд, доставая на ходу шпагу, и точным ударом проткнул горло одного из сидящих — быстро, без лишних разговоров. Девицы завизжали, те из гуляк, кто был ещё достаточно трезв, схватились за оружие. Их было всего трое, и первый тут же попал под удар Жюля, второй — под удар Дорнье, третий пал от рук одного из пажей.
Женщин и валяющихся на полу пьяниц Жюль трогать не стал — он сразу же прошёл в дверь, ведущую в глубь дома. Тут же раздался пистолетный выстрел, Жюль рванулся куда-то вперёд (что было странно, если учитывать его комплекцию), и следующим звуком был звон клинков. Дорнье ворвался в коридор вторым, но Жюль уже лишил соперника жизни. «У вас есть пистолеты?» — спросил он Дорнье. «Да». — «Тогда следуйте первым, стреляйте во всё, что движется. Мы здесь не для того, чтобы щадить. Только если будет Одноглазый — у него действительно один глаз, а ещё одна рука и одна нога, тут трудно ошибиться, постарайтесь не убить, к нему есть разговор».
Они заглядывали в одну комнату за другой, но в этом крыле нашли всего одного служку, который поплатился своей жизнью, один из пажей без лишних слов проткнул его шпагой. В этот момент послышался женский крик. Отряд ринулся в его направлении и через несколько секунд оказался во внутреннем дворике, по противоположному концу которого кто-то кого-то волок, в темноте было не рассмотреть. Пажи оказались достаточно быстроноги, и, хотя преследуемый выстрелил в сторону отряда из пистолета, к счастью, промахнувшись, догнали убегающих в считаные мгновения. Завязался бой.
Их было шестеро против троих, причём Одноглазый не сражался, а тащил Анну-Франсуазу, которая всеми силами пыталась вырваться, хотя негодяй держал свой крюк в опасной близости от её горла. Против нескольких соперников может сражаться только очень хороший фехтовальщик, а бандиты мастерством явно не отличались, и потому ситуация почти мгновенно изменилась. Теперь сцена выглядела следующим образом: шестеро преследователей полукругом стояли возле Одноглазого, прижимающего к себе Анну здоровой рукой и грозящего разорвать ей шею крюком.
«Отпусти девушку», — спокойно сказал Жюль. «Ага, сейчас», — ответил бандит. «Отпусти», — повторил Жюль. «Я ей сейчас горло порву». Дорнье рванулся было вперёд, но вовремя остановился. Одноглазый уже дотрагивался остриём крюка до нежной девичьей шеи. «Если отпустишь, может, останешься жить, если убьёшь, сам понимаешь: умирать будешь долго, очень долго; тебе решать». Это сказал Жюль, Дорнье посмотрел на палача с ужасом: тот шёл на риск. «Да мне плевать, — сказал Одноглазый, — всё одно пропадать».
И в этот момент Анна-Франсуаза, воспользовавшись моментом, нырнула вниз, оцарапав кожу крюком, и выскользнула из объятий негодяя. Тот попытался достать её — хотя бы в спину, — но по крюку ударила шпага Жюля, и спустя секунду Анна уже была в объятиях Дорнье. Одноглазый развернулся, чтобы бежать к ближайшей двери, но двое пажей повалили его на землю и скрутили. Ну, вот и всё, удовлетворённо констатировал Жюль, теперь тебе придётся очень и очень плохо.
Назад отряд шествовал триумфально. Первым — Жюль, за ним — Дорнье с Анной, которая отказалась от того, чтобы её несли, за ней — Николя, остальные пажи волокли Одноглазого. «А где служанка?» — спросил Дорнье, когда они оказались в большой столовой, где не так давно шла пирушка. «Джованна!» — воскликнула Анна. В пылу произошедших событий она как-то совсем забыла, что итальянку увели от неё ещё вечером. «Где она?» — Жюль приставил клинок к горлу Одноглазого. «Поищите там», — мотнул бандит головой с недоброй ухмылкой. Один из пажей зашёл в указанную комнату, дверь была открыта, хоть и не распахнута, и через несколько секунд вышел. «Мертва», — просто сказал он. Анна вырвалась из рук Дорнье и тоже забежала в комнату. Та была скудно обставлена — топчан да шкаф, и на топчане лежала её Джованна с остекленевшими глазами, распяленная, с задранной выше головы юбкой и запекшейся кровью промеж ног. Анна обернулась, и такая ненависть засверкала в её глазах, что не то что одноглазый, даже пажи, ни в чём не виновные, отшатнулись назад. «Едем! — сказала Анна. — Месье Жюль, я хочу, чтобы вы оказали мне содействие». — «Если ваш отец дозволит», — отозвался Жюль. «Но…» — начал было Дорнье, когда взгляд Анны оборвал его на полуслове. «Заберите её», — сказала она в пустоту.
Анна-Франсуаза больше не удостоила Одноглазого ни словом, ни жестом, ни взглядом. Путь до дворца они проделали молча, для Анны взяли одну из лошадей из конюшни постоялого двора. Когда они прибыли в замок, Дорнье, к своему сожалению, ещё издалека увидел свет в кабинете герцога и понял, что тот не спит. Это могло означать, что герцог просто работает, но могло также значить, что тот обнаружил отсутствие управляющего и дочери.
Они решили войти в дом через задний вход, тайно. Жюль с двумя помощниками, волокшими Одноглазого, отправились в домик палача, туда же отнесли и труп Джованны, освободившиеся пажи, в том числе и Николя, пошли в свои комнаты, а Дорнье решил проводить Анну до её спальни. Там-то их и встретил герцог, просто не потушивший свет в кабинете и ожидавший дочь, сидя на её кровати. Он поднял голову, посмотрел на вошедших и сказал: «Теперь рассказывай. Нет, не ты, Анна. Ты, Дорнье». Дорнье молчал, не зная, что делать. Он боялся начать, не зная, как это сделать в присутствии главной героини и виновницы всего произошедшего. «Говори, Дорнье, — сказала Анна-Франсуаза. — Терять уже нечего, ты же всё равно расскажешь».
И Дорнье кратко, чётко, без лишних отступлений и описаний рассказал герцогу, что случилось вчера и к чему это привело. Герцог слушал молча, без эмоций. В какой-то мере этому способствовал его характер, в какой-то — своеобразная привычка. Анна столь часто вытворяла совершенно неразумные и нелогичные вещи, что у отца выработался иммунитет. В то же время он поражался тому, насколько она удачлива. Казалось все предыдущие провалы герцога, связанные с попытками завести потомство, обернулись потрясающей удачливостью Анны-Франсуазы.
«Я всё понял, — сказал герцог. — И более того, я знаю, что мы сделаем далее. Анна, ты понесёшь наказание — и примешь его молча, без скандалов и сопротивления. — Он помолчал. — Я дам тебе шанс наказать твоего похитителя и убийцу Джованны самостоятельно. Я прикажу месье Жюлю предоставить тебе полную свободу в его мастерской. Ты сможешь попробовать и пресловутую плеть, и любое другое пыточное приспособление. И, поверь, применять его по отношению к негодяю, который это заслужил, — значительно полезнее и интереснее, нежели тайно убивать какого-то случайного бродягу, который тебе ничего плохого не сделал. Я объясню, почему я разрешу тебе всё это. Потому что я хочу, чтобы ты, наконец, почувствовала разницу между жизнью и смертью. Все твои предыдущие игры были именно играми, а убить человека сознательно, ради самого процесса — это вовсе не то же самое. Это не так просто и не так приятно, как тебе кажется. Я хорошо знаю, что ты всё равно не отступишься от своей идеи, так лучше будет реализовать её под моим непосредственным контролем, а потом сделать выводы из пережитого. Будь уверена, твои выводы будут коренным образом отличаться от твоего нынешнего о них представления.
И второе. Наказав бандита, ты должна и сама подвергнуться наказанию. Никакие порки, никакие лишения сладкого в твоём случае не действуют. Поэтому ты выйдешь замуж. Причём за того, кого я укажу. Это не будет старик или урод, поскольку я в первую очередь заинтересован во внуках, но это будет тот, кого выберу я, и твоё мнение здесь будет играть самую мизерную роль. Даже, так скажем, никакой роли. Жениха я тебе представлю во время празднований. Я ещё не уверен в кандидатуре, у меня есть несколько человек на выбор. Теперь, — он сделал небольшую паузу, — ты можешь высказать свои возражения».
Анна-Франсуаза покачала головой. Она понимала, что её отец совершенно прав и чудовищно, невероятно милосерден.
Глава 8 ЖЕНИХ
Анна-Франсуаза гуляла среди гостей с видом королевы. В принципе таковой она и была, по крайней мере, на данный момент. В начале года предполагали, что праздник почтит своим присутствием сам Людовик, но в последние дни июля скоропостижно скончалась королева-консорт Мария Терезия[83], и король, жену не любивший и не то чтобы очень скорбевший по её утрате, был вынужден соблюдать показной траур, дабы не оскорблять общество. Во время траура он не посещал увеселительные мероприятия и потому просто прислал подарок в виде прекрасного колье с бриллиантами. Тут стоит заметить, что Людовик недолго пробыл вдовцом и годом позже женился на своей фаворитке Франсуазе д’Обинье.[84] Так или иначе король не оказал практически никакого влияния на ход нашего рассказа.
Все остальные на празднике, длившемся три дня и три ночи, присутствовали. Высшие коронные чины, герцоги, графы и маркизы собрались для того, чтобы почтить дочь затворника де Жюсси и — что немаловажно — выяснить, насколько реально породниться с этой странной и очень обеспеченной семьёй.
Ни одного дня, ни одного часа Анна не могла найти себе покоя. Не в том плане, что ей приходилось беседовать с незнакомыми доселе людьми, принимать участие в играх, наряжаться к маскараду, имевшему место на второй день, но в плане духовном. Когда все кричали от восторга в процессе бросания лисицы[85], Анна-Франсуаза смотрела на подлетающие вверх грязно-рыжие комки и думала о том, чего у неё не получилось. Она вспоминала плеть, занесённую над обнажённой, иссечённой шрамами спиной Одноглазого, и первый удар этой плетью, и окровавленные куски плоти, летящие на её платье, и звяканье крючьев о каменный пол. Она вспоминала жар, исходящий от клейма, и вспоминала свои руки, выпускающие рукоять, так и не донеся печать до чресл наказуемого.
«Каждому своё, — назидательно говорил Жюль и предлагал: — Возможно, вы хотите попробовать ещё и вот это, смотрите, он ещё немало проживёт». Но Анна уже ничего не хотела. Она почувствовала чёткую грань между игровой жестокостью, поркой в объятьях Эроса, и настоящим наказанием. Когда она покидала пыточную, Жюль усмехался, а Одноглазый, почти не пострадавший, тяжело дышал от страха, потому что он знал, что теперь-то ему точно не поздоровится.
Анна вспоминала это и понимала, насколько отец её всё-таки умнее. Она не хотела признавать свою собственную неправоту перед самой собой, но уже её согласие на брак по расчёту говорило о многом: всё-таки Анна-Франсуаза взрослела.
Второй фактор, портивший праздник, был гораздо более значим. Каждого кавалера, присутствующего на приёме без супруги, Анна воспринимала как потенциального жениха и пыталась представить, каков он в быту и в постели. Она отбросила стариков, но молодых и мужчин среднего возраста вокруг хватало. Она следила за отцом, изучала его собеседников и в итоге пришла к выводу, что как минимум три представителя знати претендуют на её руку здесь и сейчас. Она не знала, сделал ли герцог свой выбор, но в определённой мере сделала свой.
Трое мужчин, выделенных Анной из толпы, были маркиз де Лье, маркиз де Жан-Жако и герцог де Торрон. Первому было двадцать шесть лет, он был несколько полноват, но, впрочем, более или менее строен и слыл невероятным остроумцем. Прежде чем изречь остроту, он требовал тишины и внимания, насупливал лоб, а затем чётко, по слогам, проговаривал придуманную только что фразу (впрочем, иногда он использовал и «домашние заготовки»). Анну это смешило, причём комичным были не сами остроты де Лье, а его напыщенный вид и осознание собственного недюжинного ума. Анна предполагала, что таким мужем легко будет вертеть направо и налево, требовать от него любых щедрот, плюс ещё содержать на его деньги армию любовников. Слишком уж самоуверен был молодой маркиз, слишком демонстративен. Во время беседы с Анной он рассыпался в комплиментах (причём Анна замечала, что комплимент требует не меньшего напряжения, нежели острота, маркиз точно так же комично морщил лоб) и пытался беседовать с ней о вещах простых и «женских» — новых достижениях парфюмерной отрасли (в духах он разбирался прекрасно), фасонах платьев и прочей дребедени; иногда его монологи — так как Анна не всегда успевала вставить хотя бы словцо — заполнялись сплетнями, которые девушке были совершенно неинтересны, поскольку она не знала большинство действующих лиц. В общем и целом маркиз де Лье Анну устраивал. Волевой женщине вполне подходил безвольный мужчина.
Маркиз де Жан-Жако был полной противоположностью де Лье. Лет сорока, худой, высокий, с длинным носом и холодными голубыми глазами, он говорил только при крайней необходимости и только по делу. Он совершенно не был способен на романтику, придерживался аскетического образа жизни и не считал нужным тратить своё время на такие малополезные процедуры, как выщипывание волос из носа и ушей. Анне он был противен, но отец к де Жан-Жако благоволил — в основном по причине принадлежащих тому земель, непосредственно прилегающих к землям де Жюсси. В случае брака владения было бы весьма удобно объединить. Анну смущало не полное отсутствие общих тем для разговора, а исключительная властность и уверенность Жан-Жако в своей правоте по любому вопросу. Если Жан-Жако взбредало в голову, что женщина не должна носить синее, ни одна женщина в его доме не смела надеть ни один предмет одежды вышеупомянутого цвета. Если Жан-Жако приказывал, то его приказа не мог ослушаться никто, даже не подчинённые ему люди. Объяснить это толком было невозможно, и свободолюбивая Анна чувствовала, что в доме Жан-Жако ей будет по-настоящему плохо.
Третий, герцог де Торрон, в первую очередь привлекал своим титулом. Внешне он был совершенно обычным мужчиной чуть за сорок, примерно ровесником де Жан-Жако, только более крепкого телосложения. Он имел обыкновение щуриться, рассматривая людей, и встряхивать головой, откидывая со лба чёлку. Парика он не носил, собственную львиную гриву поддерживал в чистоте и порядке и потому Анне вполне импонировал. Проблема заключалась в том, то Анна никак не могла «прочитать» этого человека. Что таилось у него внутри, о чём он думал, глядя на неё, как вёл себя в домашних условиях — всё это оставалось загадкой. В какой-то мере девушке было интересно, но всё равно она несколько опасалась де Торрона.
Как именинница, Анна должна была присутствовать на нескольких официальных мероприятиях, но большую часть времени была всё-таки предоставлена сама себе. Отец не принуждал её постоянно находиться в обществе. Ей было грустно в том числе потому, что Джованна была её единственной настоящей подругой, а теперь Анна чувствовала себя одинокой и потерянной. Светские девушки собирались кучками и о чём-то разговаривали, иногда её пытались затянуть в какую-нибудь глупую игру, но в общем и целом Анна всё время оставалась одна.
И стоит отметить, что ей было не так и плохо одной. Она не нуждалась ни в чьём обществе. После всего произошедшего с ней за последнее время можно было сойти с ума; Анна же просто нуждалась в определённом количестве тишины и покоя. Поэтому более всего она была рада окончанию праздника.
Отец вызвал её к себе утром второго дня. Она понимала, с какой целью, и не хотела идти, но выбора не было. Кого предпочёл отец? Одного из трёх упомянутых? Или всё-таки кого-то другого, ранее Анной не замеченного? Она терялась в догадках и растягивала время, двигаясь по коридорам нарочито медленно, засматриваясь на картины. Особенно долго она простояла около портрета матери, сделанного, когда та была юна и прекрасна. Мать смотрела строго, серьёзно, этот портрет предназначался для герцога, по нему он должен был решить, стоит ли брать эту девушку замуж. Он нисколько не походил на портрет-зарисовку, использованный в качестве эскиза к кожаному переплёту для книги отцовских стихов. Казалось, это две совершенно разные женщины, хотя хронологическая разница между портретами была не столь и велика.
Перед дверью отцовского кабинета — он ждал её именно там — Анна-Франсуаза некоторое время стояла в нерешительности. А потом сделала глубокий вдох и вошла, поскольку чему быть — того не миновать. Отец смотрел на неё, откинувшись на спинку кресла. «Садись, — сказал он. Она села. — Ты, я полагаю, догадалась, зачем я тебя пригласил». — «Да». — «Я сделал свой выбор, и ты обещала мне принять его любым, каким бы он ни был». — «Да, отец». — «Я остановился на герцоге де Торроне; я заинтересован в том, чтобы свадьба прошла как можно быстрее, до зимы; осталась всего пара месяцев, в ноябре ты станешь его женой». Анна потупила голову. Это был не лучший и не худший вариант. «Ты согласна с моим выбором?» — «Да, отец». — «Ты будешь герцогиней не только по отцу, но и по мужу, и это очень важно; возможно, твои дети смогут породниться с королевской семьёй и когда-либо взойти на престол; я смотрю в далёкое будущее, когда нас с тобой уже не будет в живых, по крайней мере меня. — Анна продолжала смотреть в пол. — Состояние де Торрона примерно равно моему; он был некогда женат, затем жена его умерла, погибла, когда лошади её понесли, разбилась насмерть — это произошло четыре года назад; герцог — очень завидный жених, множество невест со всей Франции гоняются за его деньгами и положением, а получишь их — ты».
Герцог поднялся и прошёлся по кабинету. «Так вот, ему тридцать девять лет, и он клятвенно пообещал мне в течение первых двух лет брака обеспечить меня внуками, твоя задача — не сопротивляться ему в этом желании; когда у меня будет два внука, ты снова станешь вольна заниматься собой; ты юна, и все дороги по-прежнему будут перед тобой открыты; особых церемоний не будет — вы просто поженитесь; собственно, — он помедлил, — я всё сказал, теперь можешь высказать своё мнение». — «У меня нет мнения». — «Почему?» — «Я не хочу иметь мнение в данном вопросе». — «Это хорошо, значит, будет проще; я сегодня же напишу герцогу о твоём согласии, мы назначим дату свадьбы; и ещё одно». — «Что?» — «Ты должна пообещать мне, что не ввяжешься больше ни в одну авантюру до того момента, как герцог введёт тебя в свой дом в качестве законной супруги; он не знает ни о твоих предыдущих приключениях, ни о том, что ты — не девственница; последний факт меня не пугает, Жарне знает способы сымитировать лишение девственности так, чтобы новоиспечённый муж ничего не заметил, но я надеюсь на твоё благоразумие и актёрские способности: перед де Торроном должна предстать сама невинность». — «Да, отец». — «Теперь иди».
Анна-Франсуаза поднялась и пошла прочь. Она ожидала примерно такого разговора, но теперь, когда бремя грядущей ответственности обрушилось на неё, ей стало по-настоящему грустно. Авантюры, опасности, даже боль придавали ей силу, волю к жизни. Она не представляла себе размеренное существование в роли жены уважаемого дворянина. Впрочем, Анна не знала де Торрона, одним из её страхов была невозможность приспособиться к его привычкам и наклонностям. С другой стороны, герцог и сам не знал, какого демона берёт замуж.
Визит жениха с целью достижения окончательных договорённостей о свадьбе был назначен на следующую неделю. Анне было очень плохо: некому выговориться, не с кем посоветоваться. Она ходила сама не своя, спокойная, рассудительная, мирная, а по ночам к ней приходил Одноглазый с изувеченной плетью спиной и говорил: «Ну что же, девочка, что же ты трусишь, давай бей меня, уродуй», — и она била, и последним воспоминанием о каждом таком сне был человеческий глаз, на окровавленной нити свисающий из глазницы.
Появился в её снах и другой постоянный герой. Она не знала этого человека в реальности, тем не менее во сне он казался ей родным, близким, она беседовала с ним по душам, а он давал ей какие-то дельные советы, сути которых она после пробуждения, к сожалению, не помнила. Человеку было между тридцатью и сорока, он был строен, аккуратен, спокоен и напоминал девушке нерождённого старшего брата, готового прийти на помощь в трудную минуту. Иногда во сне он давал ей различные книги, и Анна читала, но всё никак не успевала добраться до последней страницы, а на следующую ночь он давал ей уже другую книгу, и таким образом Анна помнила множество неоконченных историй, оборванных перед самой развязкой и оттого мучающих её пуще всего остального.
Альфонс де Ври по-прежнему пытался преподавать Анне точные науки, но её интерес серьёзно упал. Она схватывала на лету, но не проявляла ни рвения, ни желания, и вскоре учитель сообщил Дорнье, что изучать дальше физику и математику попросту нет смысла. Анна выйдет замуж, и её обучение в доме де Торрона примет совсем другой характер. Нового преподавателя по гуманитарным наукам со времён Арсени так и не наняли, поэтому последние месяцы перед свадьбой Анна разве что читала книги для своего удовольствия и гуляла по саду.
За день до запланированного приезда жениха на Анну накатило желание сделать что-либо такое, что гарантированно отпугнёт де Торрона. Например, внезапно нанести ему визит и откровенно рассказать о своей распутной жизни, о сексуальных утехах, о приключениях и авантюрах. Но такой шаг в первую очередь стал бы смертельным оскорблением отца, и Анна отбрасывала глупые мысли. Рефлексия затянула её настолько, что Анна могла по часу лежать на кровати и смотреть в потолок, ни о чём не думая. Где-то в глубине происходило переосмысление её пока что не очень длинного жизненного пути.
Ночь перед визитом стала для неё гораздо более страшной, нежели ночь перед свадьбой, последовавшая несколькими неделями позже. В ту, вторую, ночь ей не снилось ничего, просто чёрная мгла и ни одного воспоминания утром. Но в ночь перед приездом де Торрона Анне приснился сложный, страшный и красивый сон, во многом определивший её дальнейшую судьбу. Главную роль в нём играл тот самый странный человек, дававший ей различные советы и приносивший книги. Он и на этот раз подарил ей книгу, но она всё никак не могла её раскрыть, а человек смотрел на неё с сожалением в глазах, как смотрят на больную птицу, неспособную взлететь, будучи при этом не в силах ей чем-нибудь помочь. А потом он сказал, что главное — не внутри, а снаружи, что основное в книге — это её переплёт, а не содержание, и открывать книгу для того, чтобы прочесть её, совершенно не обязательно. И Анна-Франсуаза в одно мгновенье научилась понимать содержание любой книги по её внешнему виду. Во сне она шагала вдоль длинных рядов дворцовой библиотеки и читала книги, просто проводя рукой по корешкам. Буквы, слова, предложения просачивались через кожаную или тканевую поверхность и проникали в её разум, откладывались на полках памяти — гораздо быстрее и эффективнее, нежели когда Анна зубрила параграф за параграфом по указанию де Ври или Арсени. Но главным была даже не информация, содержащаяся в тексте, а некие гипертекстовые (мы позволим себе использование этого анахронического термина) данные, сообщаемые самим переплётом. Анна видела человека, который писал или переписывал книгу (если она была рукописной), и печатника (если та оказывалась печатной), она видела и создателя оригинала, корпящего над столом, и переплётчика, тиснящего блинт на кожаном холсте, и продавца, ставящего книгу на полку в своём магазине, и покупателя, листающего томик в трясущейся карете, и, в конце концов, себя саму, вкладывающую в книгу крошечную частичку души — одним только прикосновением к её переплёту.
А потом она заходила в отцовский кабинет и доставала из ящика книгу, переплетённую в кожу матери. Она проводила рукой по родинкам-звёздам и будто погружалась в это бесконечное тёмное небо, ощущала, что где-то там, за изображёнными созвездиями, есть другие, неизведанные, незаметные, до них нужно просто дотянуться, вот и всё. Мать на портрете казалась ей живой, она улыбалась и говорила что-то, едва шевеля губами, но Анна-Франсуаза не могла понять, что именно, хотя прислушивалась очень внимательно. Слова матери казались ей лишь шёпотом, шорохом листвы. А потом перед ней снова возникал тот человек и забирал книгу, и говорил: «Прости, но это моё гораздо в большей степени, нежели твоё, и я заберу это — с твоего позволения, прости меня, пожалуйста». Он покидал кабинет, а у Анны-Франсуазы не было сил для того, чтобы как-либо противостоять ему. Она выскакивала из кабинета, но снаружи уже никого не было, да и библиотеки не было, дверь почему-то выводила её в какой-то тёмный подвал, напоминающий пыточную господина Жюля, и посреди этого подвала, растянутый на четырёх верёвках, висел человек без кожи. Голова его была откинута назад, и Анна не знала, кто это, пока не подходила чуть ближе, а потом он поднимал голову, смотрел на неё, и она узнавала в его лице — единственной части, ещё покрытой кожей, — лицо своего будущего мужа, господина де Торрона. Здесь Анна просыпалась.
А на следующий день её жизнь изменилась.
Глава 9 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Свадьба состоялась в ноябре. Людовик не присутствовал, поскольку был занят государственными делами, но вновь, как и на день рождения, прислал молодожёнам богатые подарки. Анне-Франсуазе понравилась церемония, какое-то не открытое до сих пор изящество проснулось в ней, когда она шла к алтарю в пышном свадебном наряде. Она точно почувствовала собственное величие, женственность, красоту, которую следовало нести с гордо поднятой головой. Она могла бы стать королевой, если бы захотела, — никакой Людовик не устоял бы перед этой девушкой, когда бы его случайный взгляд упал на её лицо и фигуру. Герцог де Торрон терялся на фоне Анны-Франсуазы, хотя был изящен и красиво одет. На него смотрели в какой-то мере как на её придаток, дополнительный аксессуар, который она зачем-то прихватила с собой к алтарю, будучи вполне самодостаточной и без мужчины. Но без мужчины к алтарю всё-таки не ходят.
К моменту свадьбы Анна-Франсуаза полностью переломила себя. Она воспринимала бракосочетание как нечто совершенно естественное, само собой разумеющееся. Странные сны больше ей не снились, и она начала забывать лицо человека, дававшего ей не очень важные книги и забравшего самую главную.
Как Анна-Франсуаза стала относиться к своему мужу, узнав его ближе? В общем, хорошо. Де Торрон оказался очень спокойным. У него были странные увлечения, которым он уделял гораздо больше времени и внимания, нежели молодой жене. Нельзя сказать, что он любил её, поскольку влюбиться за столь краткий срок в малознакомого человека совершенно невозможно, но он относился к ней хорошо, супружеский долг выполнял аккуратно, регулярно и без изысков. Иная женщина могла бы только мечтать о таком муже, но Анне-Франсуазе всё-таки хотелось чего-то большего. Он был приятен, не противен и тем самым чужд дочери де Жюсси, поскольку в де Торроне отсутствовала искра безумия, самодурства, риска. Если бы он бил Анну или заставлял её принимать участие в оргиях, она нашла бы себя в сопротивлении его произволу. Если бы он рвался на войну (конфликтов в Европе всегда хватало), она отдавала бы должное его смелости и встречала бы как победителя, если бы он был жалким, уродливым или глупым, она бы получала удовольствие, обманывая его. Но де Торрон был надёжным, спокойным и — совершенно никаким.
Самое неприятное, что нейтральность де Торрона в отношении почти всех окружающих его вещей и людей не давала Анне-Франсуазе никакой почвы для движения. Она не рвалась на сторону, не ввязывалась в неприятности, не любила мужа без памяти и ни в чём толком не нуждалась. Сплошные «не». Забеременеть ей тоже никак не удавалось, хотя Жарне, продолжавший посещать девушку в качестве личного врача, утверждал, что всё в порядке, и дело лишь за де Торроном, которому стоит продолжать попытки. Анна опасалась, что Арсени в тот памятный день всё-таки повредил её внутренние органы, но Жарне категорически отметал этот вариант. У многих пар не сразу получается, говорил он, успокаивая и Анну, и герцога де Жюсси. Де Торрону, казалось, вся эта суета с наследником была совершенно безразлична: он молча продолжал делать своё дело — с должной регулярностью.
В какой-то момент Анна стала понимать, что, делая выбор, отец склонился не столько к наиболее выгодному, сколько к «центральному» варианту. Де Лье был слабее её, де Жан-Жако — сильнее, а де Торрон — равен. Только её сила заключалась в действии, а его — в бездействии.
Любимым его занятием было изучение коллекции монет. Монеты он собирал без разбору, самые разные, от денариев[86] и антонинианов[87] Римской империи до современных английских лорелей[88] и крон. Каждая монета укладывалась в отдельный бархатный конвертик, каждая тщательно подписывалась, коллекцию герцог каталогизировал и регулярно изучал. Если де Торрон был чем-то недоволен, будь то финансовые проблемы или ссора с управляющим, он обыкновенно шёл в свои покои и углублялся в нумизматику. Отдельная комната, прилегающая к личной спальне де Торрона (которую он перестал использовать с появлением супруги — они перебрались в общую спальню), представляла большой мюнцкабинет[89], уставленный специализированными шкафами и ящиками. Там герцог скрывался от внешних раздражителей, и это не нравилось Анне-Франсуазе, у которой подобного убежища не было.
У Анны так и не появилось новой служанки-подруги, способной заменить Джованну. Одевали её, ухаживали за ней многочисленные девушки, но ни одна из них не приближалась к госпоже настолько, чтобы удостоиться обладания тайнами последней. В городских поездках Анну сопровождал слуга по имени Луи — среднего возраста, рассудительный и одновременно болтливый, знающий всё и вся и любивший посплетничать. Анну Луи немного раздражал, поскольку она не считала, что мужчина имеет право вести себя подобно базарной бабе, но по части выполнения всяких мелких поручений Луи не было равных, и Анна терпела его — примерно так же, как терпела своего мужа, без ненависти, без любви — с равнодушием в сердце и глазах.
Ещё одним предметом не то чтобы разногласий, но определённого раздела между Анной и де Торроном были книги. Герцог их не любил, библиотеку дома не держал и не понимал, какой интерес можно найти в сплетениях букв и предложений. Анна-Франсуаза отвечала ему: а какой интерес можно найти в железных кружочках, на которых и написано-то непонятно что? Де Торрон тушевался и говорил: каждому своё. Впрочем, отсутствие книг позволило Анне создать свой собственный досуг, не зависящий от мужа — она начала формировать библиотеку. По её требованию одну из комнат выделили под книжные шкафы, два были куплены уже готовыми, а остальные заказаны у мебельщика под интерьер. Первым делом Анна-Франсуаза заполнила один из шкафов рыцарскими романами: они напоминали ей о детстве. Затем в шкафах появились различные научные издания, книги по химии, физике и математике. Наличию последних де Торрон страшно удивлялся; он знал, что его супруга — весьма образованная девушка, но что она разбирается в точных науках, поразило его до глубины души. Иногда он задавал ей вопросы, в которых сам не мог разобраться, в частности, связанные с расчётом стоимости различных монет. Он нередко сбивался в курсах и просил жену проверить те или иные действия — и она проверяла, и находила иногда ошибки, и это сближало их гораздо больше, чем часы, проведенные в одной постели.
Со временем Анна-Франсуаза приобрела привычку выезжать из дворца на дальние прогулки — и по собственным полям герцога, и по владениям других аристократов. Её не смущало нарушение территориальных границ, она просто хотела оторваться от замкнутой жизни в новом дворце. Раньше затворничество полностью устраивало её, поскольку жизнь внутри отцовской резиденции кипела так, что Анне хватало за глаза. Атмосфера же полного спокойствия, размеренности вгоняла её в уныние.
Анна нередко посещала отца. Они сблизились гораздо больше, чем когда Анна жила с ним. Они нашли общие темы для бесед, Анна, как никогда, остро чувствовала ум отца, его жестокую расчётливость во всём, подкреплённую высочайшей эрудицией. Однажды, в каком-то помешательстве, она рассказала отцу о том, что, будучи девочкой, сделала копию с ключа от его кабинета и забралась внутрь, и рассматривала книги, хранящиеся там — как нормальные, так и порнографического характера. Герцог усмехнулся и сказал: «Я знаю, я всегда знал; ты думаешь, я не догадаюсь, если кто-либо без моего ведома заберётся в мой кабинет и станет копаться в моих вещах? — конечно, я знаю». — «Тогда почему ты не остановил меня?» — «Это была твоя детская игра». — «Ничего себе детская!» — «Детская. Ты читала то, что я разрешил тебе читать». — «Ты разрешил мне читать книги с этими фантазиями?» — «Да, разрешил». — Она покачала головой. «Зачем?» — «Потому что я тебя слишком хорошо знаю: ты бы так или иначе прорвалась в мой кабинет, так или иначе нашла бы способ достать подобные книги, не найди ты их там; я подбросил тебе самые невинные — которые учат, а не калечат». Анна смешалась. Она не знала, что сказать. «Ты не раз глупо рисковала своей жизнью, ты всегда жила вопреки, и я не хотел мешать тебе, потому что нельзя идти против своей натуры; я — жестокий человек, но я сумел усмирить свою жестокость, я был дураком, но я заставил себя поумнеть; ты молода, но при этом на собственной шкуре почувствовала тяготы жизни — а ведь при твоём положении никаких тягот быть не должно, не так ли? — я хотел, чтобы ты стала сильной, и ты стала такой». — «Ты мог лишиться меня». — «Да, но я предпочёл рискнуть».
«А та книга?» — спросила она. «Какая?» — «В переплёте из человеческой кожи, это же мамина кожа, так?» — «Да, это её кожа, ты догадалась верно; я тоже не стал её прятать; ты могла не заинтересоваться ей, могла не заметить; я оставил тебе шанс понять, каким на самом деле всегда был и является твой отец».
С этой минуты отношение Анны-Франсуазы к отцу изменилось. Она чувствовала тягу к нему с первого дня жизни в доме де Торрона — она по-настоящему скучала по отцу, хотела услышать его голос, посоветоваться с ним, поговорить. Но теперь она поняла, как много потеряла на самом деле. Стоило больше внимания уделять старику, когда они жили в одном доме… или нет? Может, это сейчас приобрело актуальность, а тогда подобная мысль справедливо миновала юную голову Анны? Анна терялась — но в любом случае пообещала себе чаще навещать герцога. Всё-таки он, как ни крути, старел, а она оставалась единственным родным ему человеком. «Зачем ты сделал эту книгу?» — спросила она. «Это память о матери, её часть, которая всегда с нами».
Мать всегда была для Анны женщиной на портрете, пустым местом, легендой. «Память имеет смысл хранить, если есть что вспоминать. Можно мне посмотреть на книгу?» — «Да, можно». — Герцог достал книгу из стола и подал Анне. «Это её кожа», — сказала она. «Да». — «Это родинки?» — «Да». — «Какой она была? Расскажи мне — но не все эти „доброй“, „красивой“ и прочее, что ты говорил раньше, а серьёзно, как взрослому человеку».
«Она была точно как ты — взбалмошной, рисковой, совершенно ничего и никого не стеснялась и не боялась; когда я женился на ней, она уже не была девственницей, у неё были любовники, и она изменяла мне, — как, я уверен, ты будешь изменять своему мужу». — «Ты так спокойно об этом говоришь». — «Я понял всё это уже после её смерти. Но всё равно. И ещё после её смерти я понял, что всё-таки любил её». — «Мы всё понимаем о любви только после того, как она становится невозможной». — «Да». — «Значит, я кое-что уже поняла». — «И поэтому ты тут». — «Да, поэтому».
Он встал, подошёл и поцеловал её в лоб. «Мы живы, — сказал он, — и это главное, а к де Торрону ты привыкнешь, как твоя мать привыкла ко мне».
С де Торроном тем не менее Анна совершенно не сближалась. Он продолжал оставаться для неё предметом мебели, обстановки, обихода. Анна понимала, что нужно завести компаньонку, но оттягивала этот момент. В любой другой девушке она стала бы искать черты Джованны — и несомненно разочаровалась бы, не находя их.
Во всех поездках Анну-Франсуазу сопровождал Луи. Ещё учитель де Ври говорил некогда Анне: каждый человек по-своему ценен. Рыбак расскажет тебе об устройстве сетей, кузнец — о работе мехов, сапожник — о выделке кожи. Никогда не пренебрегай этими сведениями, впитывай их в себя — и в высшем свете, ни один представитель которого никогда не работал руками, ты приобретёшь славу женщины умной, всесторонне образованной, вокруг тебя будут собираться кружки на приёмах, и твоего слова будут ждать как манны небесной. Поэтому Анна всегда старалась слушать всех и разговаривать со всеми. Луи был потомственным слугой: его отец и дед служили де Торронам, и это казалось Анне очень скучным. Но у слуги обнаружилось интересное хобби — охота на бабочек, которым он в какой-то мере заразил новоиспечённую супругу господина. У Луи обнаружилась небольшая библиотека, посвящённая в основном трудам о насекомых и растениях. Среди них Анна обнаружила некоторые, ей совершенно не известные — никто из её учителей о них не упоминал. В частности, Анна с интересом листала работы Яна Сваммердама[90] по анатомии насекомых (до того Анна толком не знала, что у последних вообще есть какая-либо анатомия), потом научилась классифицировать их по особенностям метаморфоза, и беседы с Луи стали значительно интереснее. В какой-то мере слуга дополнил своими знаниями её образование, стал самозваным учителем.
Правда, Луи был довольно ограничен, и за исключением зачаточной энтомологии, толком ни в чём не разбирался, кроме того, как служить. Последнее знание было Анне-Франсуазе совершенно не нужно.
Она нередко выезжала в город. По дороге она или просила Луи немного помолчать, или, наоборот, живо обсуждала с ним строение внутренних органов шелковичного червя по Мальпиги[91] (эти исследования только-только были опубликованы в Англии). Луи, как оказалось, практически не знал города, да и вообще пределы владений де Торрона покидал крайне редко. Впрочем, он и не интересовался окружающим миром. Для него улицы и дома были лишь тенью великих миссий — служения господину и охоты на насекомых.
Любимейшим местом Анны-Франсуазы стал, как ни странно, собор Парижской Богоматери — притом что она вовсе не была набожна. Собор постепенно ветшал, и ходили слухи, что Людовик в ближайшее время должен отдать приказ о реконструкции, просто никак не могут найти подходящего архитектора для такой важной миссии. Анна любила стоять в каком-либо незаметном углу огромного сооружения и смотреть на лучи света, проникающие сквозь витражи в верхних ярусах. Однажды де Ври с разрешения де Жюсси возил Анну-Франсуазу в Орлеан для изучения собора Сен-Круа. В те годы как раз возводилась его титаническая южная часть, и Анна своими глазами видела, как на огромную высоту поднимаются невероятных размеров и тяжести каменные блоки. Таким образом де Ври наглядно демонстрировал Анне принципы механики. Нотр-Дам де Пари в свою очередь был вовсе не гигантской стройкой, но учебником иных, тонких материй, как Библия, запечатанная в камне.
К слову, именно здесь, в соборе, Анна впервые осознала, что она не читала Библию. Книгу, которая становилась первой для всех её сверстников, которая вела по жизни богатых и бедных, сильных и слабых, мужчин и женщин; книгу, на которой строилась львиная доля отношений в обществе, без которой многие не могли ступить и шагу — Анна никогда не открывала её. В доме герцога де Жюсси Библии не было.
«Почему у тебя нет Библии?» — спросила она отца при следующей встрече. «Потому что она мне неинтересна». — «А как же Бог?» — «Бога нет». — «Как ты можешь так говорить?» — «Так говорят многие, просто не все — вслух». — «Неужели ты никогда не открывал её?» — «Я — открывал, и даже читал, и даже знаю многие главы наизусть». — «Но почему?..» — «Потому что меня растили крайне религиозным ребёнком, но я вырос и сделал свой собственный выбор; я не нуждаюсь в одобрении Церкви». — «Ты встречался с Папой?» — «Да, я встречался с ним много лет назад, ещё до твоего рождения, это был Александр VII[92]; он не любил Францию, и Франция не любила его; в период его папства король посылал в Рим одно посольство за другим, но Александр любые попытки сблизиться отвергал, я был в составе одного из посольств». — «И какой он, Папа?» — «Я не знаю, какой он теперь, хотя, судя по бесконечному конфликту с двором Людовика, Иннокентий[93] несильно отличается от Александра; Александр, по крайней мере, не то чтобы шёл на уступки, но не сопротивлялся уже произошедшему, Иннокентий же презирает Людовика в открытую, не стесняясь говорить об этом публично; Людовик уже доигрался до того, что Рим не признаёт назначенных им епископов, в половине епархий царит разброд; теперь ты понимаешь, почему я не люблю Церковь?» — «Не совсем». — «Потому что она убеждает всех в собственной милости и всепрощении, рассказывает нам о прекрасном и милосердном Боге, а сама — лишь политическая структура, ненавидящая всех и вся, Церковь лжёт самой себе — и другим». — «А Бог? Может, он отдельно от Церкви? Может, он всё-таки есть?» — «Если бы он был, он бы давно испепелил всех своих служителей».
Тем не менее Анна-Франсуаза нашла Библию в доме де Торрона — это была чуть ли не единственная книга, которую муж прочёл в жизни. Читая, Анна не могла сразу понять, что же такого в этих строках, в этих страницах, в этих историях, которые своей откровенностью и порой наивностью напоминали её собственные приключения. Анне казалось, что камень собора учит гораздо лучше, чем бумага этой странной книги, — и она возвращалась в собор, садилась на каменную скамью и читала, читала.
Когда она уже заканчивала читать Новый Завет, к ней подсел священник. «Ты молодец, дочь моя, — сказал он, — ты читаешь правильную книгу». — «Что же в ней правильного?» — спросила Анна. «Ты читала Библию и не нашла в ней ничего правильного?» — «Нет». — «Возможно, тебе стоит чаще бывать на проповедях; по твоей одежде я вижу, что ты из дворян — неужто тебе попался столь плохой учитель богословия, что не смог разъяснить тебе даже назначение Библии?» — «У меня не было учителя богословия». — «Как?» — священник был удивлён, конечно, Франция — светское государство, но чтобы так… «Объясните мне, отче, зачем нужна Библия», — попросила вдруг Анна. «За несколько минут это не объяснишь». — «А представьте себе, отче, что вам нужно спасти чью-то душу, и осталось на это всего пять минут: или пан — или пропал, через пять минут душа улетит к дьяволу, и только вы можете её спасти: спасайте». — «Что ты такое говоришь! — вскричал священник. — Не поминай в церкви того, кого Господь низверг в преисподнюю…» — «Вот видите, отче, — сказала Анна, — у вас нет ответа на мой вопрос, а здесь, — она обвела рукой каменные своды собора, — он есть, только вы его не видите, потому что вы слепы». Священник развернулся и пошёл прочь. Анне показалось, что он не совсем уходит, а скорее хочет позвать кого-то рангом выше и умнее. Девушка решила не дожидаться — и покинула собор.
Больше она никогда не общалась со священниками. Какая-то странная натянутость, натужность, неестественность их поведения раздражала её. Она никогда не бывала, например, в Испании и не очень хорошо представляла себе, что живёт в идеальной стране для неподчинения Церкви. В какой-то мере антиклерикальная политика Людовика позволяла минимизировать влияние религиозных структур на общество и на Анну как часть последнего. Анна-Франсуаза не замечала этого; ей казалось, что так же точно живёт весь мир, что можно не читать Библию и не знать её к шестнадцати годам, что можно задавать священнику странные вопросы и вызвать у него лишь праведный гнев, но не более того. Сильное влияние инквизиции в Испании, Италии и Португалии никак не отражалось на Франции — и во многом именно этот факт служил источником разногласий Папы и короля.
Де Торрон Библию читал и в Бога верил. Он не заставлял жену в обязательном порядке молиться или посещать церковь и скорее удивлялся, чем возмущался её агностицизмом. Собственно, перечисление того, что его не беспокоило, заняло бы слишком много места в этой книге, поскольку де Торрона не беспокоило практически ничего. Лишь один раз он посоветовал жене всё-таки обратиться к Богу. «Возможно, — сказал он, — именно твоё неверие есть первопричина наших неудач в деле обзаведения потомством, возможно, стоит всё-таки попытаться попросить его о милости, и тогда ты забеременеешь». — «Нет, — ответила она, — не волнуйся, мы всё успеем».
По этикету ей стоило обращаться к нему на «вы», как и ему — к ней, но Анна сразу, в первую же брачную ночь, сказала: нет. Если отныне мы — родные друг другу люди, хотя бы между собой нам нужно соблюдать определённую степень близости. Хотя на людях они, конечно, вели себя более подобающим статусу образом.
К началу лета мастерская на улице Турнель всё-таки завершила работу над экипажем для новоявленной герцогини де Торрон. Экипаж получился знатным, большим, красивым, с двумя гербами — де Торронов и де Жюсси, значительно более внушительным, нежели тот, на котором передвигалась Анна-Франсуаза, когда жила в доме отца. Анна не любила чрезмерной роскоши, а точнее, её демонстрации простым людям. Она не хотела вызывать зависть и вытекающие из неё негативные чувства. Но положение обязывало, и следовало показать де Торрону, что он не зря затеял изготовление нового экипажа вместо использования какого-либо уже имеющегося из своего обширного гаража. Анна сказала ему, что карета прекрасна, и де Торрон улыбнулся. Подобное проявление эмоций было для него нехарактерно, и Анна поняла, что не зря польстила мужу. На самом деле карета её, конечно, несколько раздражала.
«Хорошей карете — прекрасных коней», — сказал де Торрон, и четвёрка была куплена, практически идентичных, рыжих, в тон волосам Анны-Франсуазы. «Тебе очень идёт», — сказал он жене, имея в виду соответствие её внешности, масти лошадей и украшений экипажа. Анна чуть не рассмеялась. Новые лошади показались ей безликими. Она любила животных и, живя в отцовском дворце, знала по именам практически всех обитателей конюшни (собственно, и конюхов, и лошадей). Что она знала о конюшне мужа? Гм… Да, там были лошади — красивые, разномастные, ухоженные, но никто из них не стал для Анны другом — как могли быть друзьями животные отца.
Презентованная Анне четвёртка была транспортным средством — таким же, как и карета. Более того, частью транспортного средства представлялся Анне и кучер, чьё имя она узнала примерно через месяц после того, как он стал постоянно возить её. Его звали Анри, он был худ, носат и носил вислые усы. Неаккуратно выбритый подбородок придавал кучеру неухоженный вид, он казался бродягой, несмотря даже на форменную ливрею. Луи посмеивался над Анри, не упуская ни одного удачного случая пошутить. Шутки Луи казались Анне плоскими, и она полагала, что Анри они тоже не то чтобы веселят. Он даже не отшучивался в ответ — просто смотрел на Луи своими печальными глазами и забирался на козлы (либо спускался с них).
Одним прекрасным весенним утром 1683 года Анна-Франсуаза и Луи ехали в карете к закройщику. Анна хотела самостоятельно посмотреть все виды тканей, должных пойти на её туалеты для празднования семнадцатилетия. Торговец тканями должен был приехать во дворец, но, как оказалось, его вкус был весьма сомнителен, из более чем шестидесяти привезенных им образцов Анна отобрала едва ли пару. Выяснив, что в городе у торговца имеется ещё порядка трёх сотен видов (хотя некоторые из них нельзя было использовать, поскольку те играли геральдическую роль у других высоких фамилий), Анна-Франсуаза сказала, что поедет в город сама — и увидит всё и сразу. Торговец не противился, де Торрону всё было традиционно безразлично, и потому утром карета была готова, Луи держал дверь и, как обычно, подшучивал над Анри, печально смотрящим на спины рыжих, а Анна-Франсуаза с помощью служанок пристёгивала к своим ослепительным волосам шляпку, выполненную по последнему писку парижской моды.
Карета тронулась с места, и Луи тут же, нарушая общепринятые нормы этикета, спросил у Анны-Франсуазы, не встречались ли ей труды Конрада Геснера[94], и Historiae animalium в частности. «Нет», — ответила Анна. Де Ври не слишком много внимания уделял биологии, и потому с большинством научных трудов по этой дисциплине Анна-Франсуаза знакома не была. Луи просиял. Ему было о чём рассказывать Анне. Правда, насколько Анна поняла, «История животных» была написана около полутора сотен лет назад и потому значительно устарела. Тем не менее Геснер описал целый ряд животных — и, что особенно подчёркивал Луи, жуков, — которые впоследствии нигде толком описаны не были. Луи рассказывал Анне, что Геснер поднимался на огромную гору, на Пилатус, чтобы изучить тамошний животный мир, и аналогов этому восхождению за всю научную историю Европы было крайне мало — если они вообще имели место.
Под мерное бормотание Луи Анна начала засыпать, и в конце концов перед ней возникла совсем другая картина, нисколько не похожая на обитые бархатом стены кареты. Она увидела странный рынок — продавцы в одинаковых серых сюртуках стояли перед пустыми прилавками. Она шла между мрачными фигурами и, наконец, решилась обратиться к одной из них: «Чем вы торгуете», — спросила она. «Правдой», — ответил торговец. Вдруг Анна поняла, что на его лице нет глаз — и тут же задала новый вопрос: «Но откуда вы знаете, что это правда, вы же не можете видеть». — «Чтобы узнавать правду, не нужно видеть», — ответил тот. «Чтобы узнавать правду, не нужно слышать», — сказал кто-то позади Анны, она обернулась и увидела торговца, лишённого ушей. Осматриваясь, она поняла, что все торговцы правдой лишены того или иного органа чувств, а некоторые и вовсе — нескольких сразу. «Можно я куплю немного правды?» — спросила она у того продавца, к которому обратилась первым делом. «Да, — ответил он, — но правда уже разделена и купить её можно только определённым способом — или сразу треть, или сразу две трети, или сразу всю». — «А сколько стоит сразу вся?» Продавец протянул руку и ощупал лицо Анны-Франсуазы, затем её плечи, грудь (она не отшатнулась), после чего, наконец, сказал:
«Треть правды я могу отдать тебе бесплатно, вторую греть правды ты заберёшь у человека, который будет первой третью, а последнюю треть вы найдёте вместе». — «Я не понимаю», — сказала Анна. «Ты всё поймёшь. Считай, что сделка состоялась». — «Но что вы взяли у меня?» — «Это знание придёт к тебе вместе с последней третью. Иди».
Она пошла прочь по рядам и внезапно оказалась на площади. Дома, прилавки и стоящие за ними люди не просто казались, но являлись серыми, бесцветными, глазу было не за что зацепиться, пока из переулка не вынырнул человек, светящийся, точно факел. Анну ослепило, она прикрыла глаза рукой, а когда убрала руку, поняла, кто перед ней. Это был тот самый человек, который давал ей книги в предыдущих снах. «Это ты подаришь мне правду?» — спросила она. Он кивнул. «Сейчас?» Он покачал головой. «Почему?» — «Потому что мы ещё незнакомы». — «Но мы познакомимся?» — «Обязательно». — «Когда?» — «Очень скоро».
Она шагнула вперёд и протянула руку к человеку, но тот отступил, и на его лицо упала невесть откуда взявшаяся тень. Анна-Франсуаза подняла глаза, чтобы посмотреть на источник тени, но ничего не увидела в пасмурном сером небе, а когда опустила взгляд, человека перед ней уже не было, да и продавцов за прилавками — тоже, лишь пустой город окружал её, странный, спокойный, мёртвый.
Анна услышала цокот копыт и оглянулась. Подъехала карета. Внешне она выглядела точь-в-точь как подаренная де Торроном, только гербов на дверях не было, и золото смотрелось старым, потускневшим, покрытым слоем грязи. Кучера на козлах Анна не заметила, слуги — тоже, но дверь открылась, и девушка забралась внутрь. Карета поехала по улицам; Анна смотрела на одинаковые серые дома, пытаясь поймать взглядом сияющий силуэт странного человека, но всё оставалось по-прежнему. Через некоторое время Анна поняла, что засыпает, и одновременно осознавала, что уже спит, и этот «сон-во-сне» напугал её так, что она уселась прямо, как струна, и сама ударила себя по щеке, чтобы не заснуть во второй раз. Это движение точно подстегнуло лошадей — те припустили галопом, а затем перешли на карьер, что с учётом узости городских улочек было по-настоящему страшно. Анна-Франсуаза схватилась за предусмотренную для подобных случаев ручку. Дома за окном проносились мимо в бешеном ритме, окна и двери сливались в одну широкую полосу, идущую по первому этажу. Потом Анна и вовсе перестала различать детали пейзажа — ей казалось, что карета плывёт по какому-то расплывчатому миру, никак не связанному с её собственным, и в этот момент плавный ход сменился резкой тряской, Анну чуть не сбросило с сиденья — она ещё крепче вцепилась в ручку, и раздался крик. Кричал мужчина, слов было не разобрать, но звук был настолько резок и внезапен, что Анна открыла глаза — и мир обрёл краски.
Карета и в самом деле неслась с чудовищной скоростью, Луи лежал в проходе между сиденьями, Париж за окном сливался в многоцветную массу, раздавались крики и визг. Анна с трудом высунула голову из окна — и поняла, что Анри нет на козлах, а лошади неуправляемы. Анна с ужасом вернулась на сиденье и, видимо, впервые в жизни пожалела о том, что не может заставить себя поверить в Бога.
И в этот момент кони вынесли экипаж на рыночную площадь.
Часть 3 Шарль и Анна
Глава 1 ВСТРЕЧА
Своего спасителя она увидела в солнечном ореоле. Просто силуэт, ничего более, и этот силуэт показался ей знакомым, хотя она не знала, где и когда могла его видеть. Анна-Франсуаза находилась в некоем подобии тумана, всё вокруг виделось ей далёким, едва различимым, в какой-то мере неосязаемым. Силуэт, закрывавший проход, колыхался, шевелился, солнце то било Анне в глаз каким-то особо неприятным лучом, то не било, когда этот луч упирался в плечо спасителя. Внезапно девушка поняла, что она — на том свете, и что теперь неверие в Бога воздастся ей в полной мере. Вот сейчас этот человек-в-ореоле, видимо архангел смерти, протянет к ней могучую руку и вытянет наружу, где Бог, суровый и бородатый, будет судить её по делам и наверняка отправит в ад.
«Вы живы, мадемуазель? Почему вы не отвечаете?» — услышала она. Голос был вполне человеческим, даже приятным, спокойным и отдающим какой-то особой, мужской силой и надёжностью и при этом удивительно знакомым. Анна попыталась приглядеться к лицу говорящего, но всё равно ничего не смогла рассмотреть, только космы на непричёсанной голове топорщились в солнечном свете.
«Я жива», — сказала она. Это был не ответ мужчине, а утверждение, произнесённое ради неё самой. Анна должна была удостовериться в собственном существовании. Она едва заметно ущипнула правую руку левой — всё было в порядке, плоть находилась там, где ей и было положено находиться.
«Пойдёмте, мадемуазель, вам нужно выйти на свежий воздух». — «Не стоит, прошу вас». — «Но право слово, нужно. Вашего кучера нет, ваш слуга — если это слуга — без сознания, вокруг рынок, здесь добрые, простые люди, они не тронут вас, они вам помогут».
Снаружи раздались крики. Анна-Франсуаза несколько усомнилась в доброте простых людей по отношению к ней — особенно если принимать в расчёт её роскошную карету. Но так или иначе нужно было выйти на воздух, отдышаться после пережитого.
«Мадемуазель, люди волнуются, что с вами. И я волнуюсь. Прошу, выходите. Если вам тяжело, если вы пострадали, я помогу вам. За врачом уже отправились, потому что ваш слуга прикусил язык».
«Луи прикусил язык», — осознала Анна смысл сказанного — и заливисто рассмеялась. Ей представилось, как Луи шамкает про своих насекомых, и смех пуще прежнего объял её тело, заставил откинуться назад, и звонкий хохот наполнил окружающий мир. Анне стало хорошо, смех окончательно раскрепостил её, вырвал из объятий странного сна, пушистого тумана, вернул в мир живых. «Луи, глупый Луи, — сказала она. — Прикусил язык. Так ему и надо, иначе его было и не заткнуть». Она посмотрела на силуэт мужчины и сказала, подавая руку: «Хорошо».
Она не сразу привыкла к свету, не сразу поняла, где находится. Память возвращалась постепенно, рывками, картины сна и реальности переплетались и перепутывались в сознании Анны. Она не сразу посмотрела на мужчину, выведшего её из кареты. Сперва она увидела старика, лежащего ярдах в пятнадцати. Он был в сознании, кто-то придерживал его голову, кто-то подносил флягу к губам. Она поняла, что его сбили лошади, но, видимо, просто толкнули в сторону, копытом старику не досталось, и слава Богу. Потом она увидела коротышку в заляпанном грязью сюртуке, тот показывал пальцем куда-то вправо и говорил: он вот, он вас спас, точно он. Потом она, наконец, повернула голову туда, куда показывал коротышка, и увидела обладателя вышеописанного силуэта.
Она чуть не упала в обморок, поскольку слишком хорошо знала это лицо. Она знала каждую его чёрточку, она внезапно поняла, почему голос показался ей знакомым, ведь Анна слышала его сотню раз в своих снах. Этот голос рассказывал ей о книгах, рекомендовал прочесть тот или иной том, давал советы. Этот человек буквально несколько минут тому назад стоял посреди серой площади, среди изуродованных торговцев, и он был единственной цветной фигурой среди безличия и безмолвия. И ещё где-то за пазухой, или в кармане, или дома, в ящике стола, или где-то ещё этот человек прятал правду, если не всю, то хотя бы треть, и Анна не знала, в чём должна заключаться эта правда. Она узнала этот взгляд — одновременно изучающий и восторженный, глубокий и непроницаемый. Краем уха она слышала, что говорили люди вокруг: какой мужественный молодой человек, лошади понесли, а он не спасовал, не отскочил, остановил, сколько народу спас, и девушку вот, наверное, перепадёт ему сейчас, девушка-то не из простых, чей это герб, мы не знаем, да, видимо, герцога какого али маркиза, не иначе как, в общем, повезло парню, да что повезло, заслужил, заработал в полной мере, я бы так не смог, я бы, видимо, в штаны наложил, а спорим на су, что я бы не наложил, спорим, по рукам, только как проверять будем, и весь этот бессмысленный диалог был лишь фоном для двух сталкивающихся посередине между мужчиной и женщиной взглядов.
«Кто вы?» — спросила она. «Шарль де Грези, переплётных дел мастер». — «Переплётчик?» — «Да». — «Вы переплетаете книги?» — «Да». — «Мой отец любит книги». — «Кто ваш отец?» — «Герцог де Жюсси». — «Возможно, в его коллекции есть мои работы». — «Почему вы не отступили?» — «От чего?» — «Лошади двигались прямо на вас». — «Откуда вы знаете, вы же не видели». — «Я знаю». — «Я просто не успел». — «Не успели что?» — «Не успел отступить». — «Я не думаю, что вы хотели отступить». — «Почему вы так думаете?» — «Я знаю». — «Вы всё знаете». — «Да, я всё знаю». — «И про меня?» — «И про вас. Вы не знали, что я переплётчик». — «Теперь знаю». — «Но раньше не знали». — «Я изменила прошлое, теперь я знала это и раньше». — «Вы хитры». — «Вовсе нет». — «Я представился вам, а вы?» — «Я Анна-Франсуаза де Жюсси де Торрон». — «Я знаю герцога де Торрона, я переплетал книги по его заказу». — «У него дома нет книг». — «Возможно, он преподносил их кому-то». — «Впрочем, у него есть Библия». — «Библию для него я, кажется, не переплетал». — «Кажется?» — «Точно не переплетал». — «Тогда откуда вы его знаете?» — «Я же говорю, я переплетал другие книги».
Они в этот момент были одни. Не было толпы, не было площади, не было многострадального Луи с его прикушенным языком, не было кареты. Были только они — посреди огромного пустого пространства, куда ни глянь — везде темнота и чернота, только едва заметные проблески света, вырезающие из тьмы силуэты мужчины и женщины.
Они очнулись одновременно, от какого-то крика, раздавшегося из толпы, и даже не поняли, обращён ли крик к ним, либо просто кто-то решил не сдерживать свои эмоции. Анна-Франсуаза посмотрела на Луи: рот того был забит тканью, пропитавшейся кровью, но он, по крайней мере, был в сознании и жалобно глядел то на неё, то на Шарля. Переплётчик тоже смотрел на Анну и не мог оторвать от неё глаз, и пока его продолжали хвалить, механически протянул руку и едва-едва дотронулся до её пышного рукава, и она заметила это прикосновение, но ничего не сказала, хотя подобное могло быть сочтено чрезвычайно неприличным, оскорбительным, тем более от простолюдина в отношении аристократки.
«А где же Анри?» — спросила она. «Это ваш кучер?» — «Да». — «Его не было, когда я увидел карету. Видимо, он упал». — «Кто же отвезёт меня домой? Вы можете?» — «Нет, я не умею». — «Вы не умеете?» — «Я переплётчик, а не кучер, я не должен уметь». — «Но вы же мужчина». — «Вы хотите сказать: простолюдин, но у меня дворянская фамилия». — «Да, я только сейчас подумала, вы дворянин?» — «Разорившийся, точнее, разорился ещё мой отец». — «Так что же с кучером?» — «Сейчас я кого-нибудь найду».
Он обернулся к толпе и крикнул: «Кто-нибудь умеет править? Нужно довезти герцогиню до её дома! За ценой не постоим». Он и сам не обратил внимания, как перешёл на это «мы», говоря за себя и за неё, точно от имени единого целого. Из толпы появился человек, низенький, полный, с карикатурными усами, и сказал: «Я кучер, я фиакром правлю обычно, но и с каретой справлюсь». — «Забирайтесь на козлы, — сказал Шарль. — Позвольте проводить вас до дому, госпожа, — добавил он, — ваш слуга, мне кажется, не сможет пока что о вас позаботиться, он и сам требует заботы». — «Очень любезно с вашей стороны».
Он подал ей руку, она забралась в карету, следом, направляемые Шарлем два человека помогли подняться Луи, потом, наконец, забрался переплётчик и закрыл за собой дверь — люди снаружи сделать этого не догадались. «Куда ехать?» — раздался голос с козел. «Замок де Жюсси знаете?» — «Да, знаю». — «Вот туда». Карета тронулась.
«Но почему не к мужу?» — спросил Шарль. «Почему вы думаете, что я замужем?» — «Вы назвали две фамилии». — «Но они обе могли принадлежать моему отцу». — «Я уже говорил, что знаю де Торрона, а он не ваш отец, ваш отец, видимо, де Жюсси». — «Вы правы, и да, вы очень проницательны». Луи что-то промычал. «Молчи, Луи, — сказала Анна-Франсуаза, — теперь тебе лучше молчать».
Это были её последние слова в этой поездке. Шарль опомнился и больше не буравил взглядом женщину, стоящую значительно выше его на иерархической лестнице. Анна стеснялась смотреть на мужчину и уставилась в окно. Краем глаза Шарль изучал её шею, рыжую, веснушчатую шею, и думал о том, какую книгу можно переплести в эту безупречно прекрасную кожу. Несколько секунд спустя он отбрасывал эту жестокую мысль, пытаясь заменить её на другую, но другая была не менее запретной, не менее страшной и опасной, и эта мысль, закравшаяся в его голову впервые за много лет, сводилась к тому, что он, переплётчик, влюбился и теперь точно знает, что такое любовь, о которой раньше только читал. Самое интересное, что, проецируя своё чувство на прежнее представление о нём, он находил множество совпадений. Любовь оказалась именно такой, какой он и ожидал, именно так щемило сердце, именно так он уже теперь, спустя менее чем час после встречи с Анной, ненавидел человека, имевшего на неё права, герцога де Торрона.
В подобных размышлениях прошла дорога. Карета въехала в дворцовые ворота. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — сказал Шарль. «На какой?» — «Почему вы едете к отцу, а не к мужу». — «Луи нужна помощь, а доктор Жарне очень хорош». — «Врач вашего мужа — хуже?» — «Да, значительно». — «Понятно». — «Кстати». — «Да?» — «Как вы собираетесь вернуться домой?» — «Видимо, пойду пешком, а потом поймаю где-либо фиакр». — «Не нужно, мы дадим вам экипаж, он отвезёт вас». — «Вы очень любезны». — «Я хочу, чтобы герцог чем-либо вас вознаградил». — «Не стоит». — «Вы спасли мне жизнь». — «Я сделал то, что должен был сделать в любом случае». — «Я представлю вас своему отцу». — «Конечно, госпожа, но я ничего у него не попрошу». — «Он сам решит, чего вы достойны». — «Хорошо, госпожа».
Карета остановилась перед входом. Выбежали слуги. Шарль стал вытаскивать из кареты травмированного Луи, ему помогли. Луи во дворце уже знали и относились к нему с некоторой иронией. Даже увидев кровь, кто-то из слуг, помогавших незадачливому энтомологу идти, пошутил насчёт неуклюжести Луи, правда, так плоско, что мы опустим его остроту. Шарль подал руку Анне, та вышла из экипажа. Случайный кучер спрыгнул с козел. Он не рискнул обращаться к госпоже, ожидая, что та сама позовёт его. Анна повернулась к кучеру: «Я подарю вам лошадь. На ней и поедете обратно; хорошую, вы такую себе позволить не сможете». Кучер склонился. Это было достойное вознаграждение. Хорошую лошадь можно отлично продать, если что. Она кликнула слугу: «этому человеку — лошадь из нашей конюшни, двух- или трёхлетку, мальчика, чтобы статного и блестящего». Слуга поклонился. «Идите с ним, — сказала Анна, — получите свою награду». Кучер ещё раз склонился, и они со слугой ушли. Анна знала, что её приказ будет исполнен в точности: отец хорошо дрессировал прислугу.
Пойдёмте. Они поднялись по ступеням, в холле их уже встречал отец. «Анна, чем я обязан столь неожиданному визиту?» — «Отец, позволь представить тебе человека, который спас мне жизнь». Герцог с интересом посмотрел на переплётчика. «И как же это произошло?» — «Кони понесли, а он сумел их остановить». — «А где ваш хвалёный Анри?» — «Видимо, где-то спрыгнул или упал, нас довёз другой человек, я подарила ему лошадь из нашей конюшни за это». Герцог покачал головой: «Ладно, пусть будет. А что вы хотите за свою услугу?» Шарль, до того склонённый, поднял глаза: «Я ничего не хочу, мне ничего не нужно». — «Право слово, нет человека, которому ничего не нужно. Кто вы по профессии?» — «Переплётчик». — «Работаете с кожей?» — «Да». — «Если вам ничего не нужно в подарок, я закажу вам книгу». — «Хорошо». — «Управляющего сейчас нет, но скажите своё имя, я запомню и передам ему, он обычно занимается такими делами». — «Шарль Сен-Мартен де Грези, мастерская на улице Утраты». — «Дворянин?» — «Разорившийся». — «Что ж, я запомню». Герцог давал понять, что аудиенция окончена. «Спасибо», — сказала Анна, привстала на цыпочки и поцеловала Шарля в щёку. «Анна!» — воскликнул герцог. Шарль зарделся и, поклонившись, пошёл к выходу. Герцог, усмехаясь, покачал головой. «Расскажи мне всё чуть подробнее; смотрю, ты ни капли не изменилась». — «Тебе это нравится, отец». — «Нравится. Главное, чтобы с тобой всё было в порядке». — «Я забыла!» — «Что?» — «Переплётчику тоже нужна лошадь — добраться». — «Ты слишком разбрасываешься нашими лошадьми, пускай его довезёт один из кучеров на фиакре, заодно посмотрит, где мастерская». Герцог подозвал слугу и отдал соответствующий приказ.
Шарль тем временем вышел из дворца и огляделся. Не успел он подумать о дороге домой, как его нагнал слуга и разъяснил ситуацию. «Нужно немного подождать», — сказал он. Шарль думал, что всё наконец встало на свои места. Настоящая аристократия — выше самозваного «дворянина», человека без роду и племени. Что для него — любовь всей жизни, то для этой девушки — минутное помрачение, лёгкое самодурство. Мысли вертелись в его голове, не собираясь толком складываться в осмысленные предложения, и в этот момент к крыльцу подъехал экипаж — с гербом, шикарный, и Шарль понял, что это не за ним. Он отошёл в сторону.
Появился и второй экипаж — попроще, запряжённый двойкой, — уже для Шарля. Он пошёл к нему, оглядываясь на первый экипаж, из чистого любопытства желая посмотреть, кто оттуда выйдет. Дверь открылась. Когда Шарль уже забирался в свой фиакр, из первого экипажа выбрался человек. Шарль увидел его лишь мельком, но дрожь пробрала его с головы до ног. За минувшие шестнадцать лет этот человек практически не изменился, лишь поседел и чуть-чуть отяжелел. И одет он был в чёрное, а не в серое, как в тот день, когда постучал в дверь дома Шарля и заказал у того книгу в переплёте из человеческой кожи.
Глава 2 ВИЗИТ В МАСТЕРСКУЮ
В присутствии отца Анна не могла ничего сделать, ничего сказать. Не могла схватить уходящего переплётчика за руку и попросить: «Останьтесь, мне нужно с вами поговорить». Впрочем, даже если герцога де Жюсси не было бы рядом, Анна всё равно ничего бы не сделала, поскольку это очень глупо звучит: остановитесь, я видела вас в своих снах, вы дарили мне книги и рассказывали разные интересные вещи. Переплётчик ещё примет её за сумасшедшую, а там и вовсе пиши пропало. Поэтому Анна отпустила Шарля.
Шарль ехал домой в душевном раздрае. Связано было его состояние в меньшей степени с Анной, в большей — с человеком в сером. Ниточка, в течение полутора десятков лет свисавшая без надежды на обретение узелка, внезапно заколыхалась на ветру. Шарль понимал, что теперь не сможет не вернуться в этот дом под тем или иным предлогом, опасаясь снова встретиться с серым. Предлог тем временем был — предложение герцога. Шарлю пришло в голову, что если ту самую книгу он переплетал именно для де Жюсси, следующий заказ будет уже не первым, а как минимум вторым или даже третьим — возможно, герцог заказывал у переплётчика и другие книги, но при этом столь же тщательно сохранял анонимность, как и в самом начале. Теперь предстояло упомянутого заказа дождаться. Правда, никаких дальнейших своих действий Шарль обозначить не мог. Он полагался на волю слепого случая — того самого, который свёл его с Анной-Франсуазой и позволил задержаться около дворца, чтобы заметить выходящего из кареты человека в сером.
Анна, в свою очередь, уже к вечеру поняла, как следует поступить. Около семи часов она вернулась во дворец де Торрона (нового кучера предоставил отец) и рассказала мужу о произошедшем, умолчав, впрочем, о взаимном притяжении между ней и случайным спасителем. Де Торрон воспринял новости спокойно, как воспринимал абсолютно всё. Создавалось ощущение, что Анна каждый день попадает в схожие ситуации и каждый день незнакомые люди из толпы спасают ей жизнь.
В любом случае первоначальная цель выезда в город — изучение тканей — была не то чтобы забыта, но отступила на второй план, и на следующий день Анна собралась в мастерскую де Грези. Предлог был прост: она хотела бы сама отблагодарить переплётчика, разместив у него заказ, а отец пусть делает то же самое независимо от неё. Анна волновалась. Она была совершенно спокойна, идя под венец, и совершенно спокойна, стоя перед разъярённым Арсени, и совершенно спокойна, пытаясь выбраться из камеры во время похищения. Но теперь она волновалась, точно маленькая девочка, думая, что бы ей надеть, как бы ей выглядеть — чтобы простой переплётчик, обычный парень, ремесленник увидел её по-настоящему, почувствовал, — и взял бы себе. Да, странные мысли для герцогини.
Была и ещё одна проблема: Луи нельзя было брать с собой. Он обязательно навяжется вместе с ней в саму мастерскую, и будет странным попросить его подождать снаружи. Причём со стороны Луи появление в мастерской было бы совершенно логичным: Шарль ведь спас и его жизнь (хотя слуга всё-таки немного пострадал, откусив кончик языка, и теперь прекомично шамкал при разговоре). Поездка в город без сопровождающего могла вызвать вопросы и кривотолки среди слуг, а подобные сплетни рано или поздно всегда достигают ушей хозяина. Поэтому Анна взяла с собой одну из служанок, миловидную и простенькую Жанну, под тем предлогом, что Луи стоит ещё немного подлечиться, а пока что и девушка сможет её сопровождать, даром что едут они на ткани посмотреть. Про переплётчика не было сказано ни слова. Анна планировала заехать к нему случайно, под видом внезапной прихоти.
Ждал ли её Шарль? Да, ждал. Хотя мысли об Анне теперь перебивались мыслями о человеке в сером, он ждал её каждую секунду. Каждое цоканье копыт за окном теперь превращалось в надежду, что это её карета, что она приехала к нему, причём не столь и важно, какова цель её визита. Шарль не мог толком работать в этот день. Он сидел в кабинете, разложив перед собой любимые книги, и оглаживал их кожаные переплёты, изучая собственноручно оттиснутые узоры и инкрустированные камни.
А потом раздался стук в дверь, и Шарль, сам того не осознав, поскакал, подобно зайцу, через три ступеньки вниз, к двери, будучи совершенно уверенным в состоятельности своих мечтаний и, таким образом, в том, что за дверью — она. И Шарль не ошибся.
«Добрый день». — «Добрый день, госпожа». Он отошёл в сторону, пропуская её вперёд. За Анной-Франсуазой вошла служанка. «Как Луи?» — «Ничего, теперь шамкает и говорит в два раза меньше». — «Это пройдёт». — «К сожалению, да». Они улыбнулись. Некоторое время оба молчали. «Я пришла, чтобы заказать у вас переплёт», — сказала Анна. «Конечно, — он улыбнулся, — прошу вас наверх, в кабинет». — «Жанна, подожди здесь». Служанка кивнула. «Жанна, вы можете пройти туда, на кухоньку, там есть где присесть, и можно выпить воды», — сказал он. «Вы очень любезны».
Первым поднимался Шарль, за ним — Анна. Дверь кабинета была открыта, хотя внутреннюю обстановку переплётчик не успел подготовить к визиту гостьи. «Простите, у меня тут не слишком аккуратно, я не ждал вашего визита». — «Ничего страшного, так гораздо лучше — сразу видно, что вы любите своё дело». Она рассматривала книги на столе.
«Какую книгу вы хотели бы переплести?» — «Не знаю». — «Как не знаете?» — «Так, я ещё не выбрала». — «Вы хотите договориться со мной заранее?» — «Нет, просто я хочу, чтобы вы помогли мне в выборе». — «Хорошо, конечно, я попытаюсь помочь вам».
Она присела на стул, подмяв пышное платье, и взяла со стола одну из книг. «Что это за книга?» — «Жан де Жуанвиль[95], жизнеописание Людовика Святого». — «Я не читала». — «Как ни странно, довольно интересно». — «Почему это странно?» — «Обычно жития написаны сухим библейским слогом, но Жуанвиль был крайне близок по стилю к нашим, современным, писателям». — «Это ваш переплёт?» — «Да». — «Из чего он?» — «Из телячьей кожи, самый простой. Обычно церковные книги переплетены богато. Я не хотел переплетать эту книгу богато. В большей мере она содержит воспоминания и факты, в меньшей — рассуждения, и тем Церкви определённым образом противостоит, поэтому она должна была получить самый простой переплёт». — «Вы так красиво говорите». — «Когда много читаешь, хочешь не хочешь, а заговоришь». — «Вы читаете все книги, которые переплетаете?» — «Да, переплёт зависит от содержания».
Анна открыла Жуанвиля. На внутренней стороне простым блинтовым тиснением был выполнен портрет автора. «Как делаются такие портреты?» — «Теснятся; штамп нагревается и впрессовывается в кожу». — «Вы сами делаете штампы?» — «Да, конечно, кому ещё их делать». — «Для этого нужно уметь рисовать». — «Да, конечно». — «И вы умеете?» — «Да». — «Получается, в переплёте заключено много разных искусств?» — «Да, помимо рисования, нужно уметь резать по дереву, обрабатывать кожу и металл и драгоценные камни…»
Она пролистала книгу. «А если книга на чужом языке?» — «Такое случается редко». — «Но всё же». — «До сих пор мне встречались только книги на языках, которые я знаю». — «А какие вы знаете?» — «Кроме родного?» — «Да». — «Английский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, арабский». — «Вы знаете арабский?» — «Да». — «А русский?» — «Русский — нет». — «А я — знаю».
Они улыбались друг другу.
«Откуда? Меня учили». — «Почему такой странный выбор языков?» — «Отец говорил: мало ли что понадобится». — «Но, правда, я могу разобрать всего несколько слов и фраз, меня довольно мало учили, но вот откуда вы знаете арабский?» — «Я учил языки сам, по книгам». — «У вас много книг». — «Да, много». — «Здесь не все?» — «Нет».
Анне было интересно. Переплётчик разговаривал с ней открыто, отвечал без запинки, и это было естественно, поскольку положение его обязывало к послушанию. Но при этом Анна чувствовала, что где-то в глубине прячется тайна, которую он раскрывать не хочет, и даже если Анна найдёт правильный вопрос, ответ вряд ли будет исчерпывающим. Она открыла последнюю страницу книги и провела рукой по кожаной поверхности переплёта, по внутренней его части. Рука её нащупала какую-то выпуклость, едва заметный блинт в правом нижнем углу. Она поднесла книгу к свету и присмотрелась. Это был штамп переплётчика, его печать, маркировка фирмы. «Это ваш знак?» — спросила Анна. «Да». — «Вы ставите его на все свои работы». — «Да, конечно». — «Затейливый». — «Я сам его нарисовал, за основу взял герб отца». Анна продолжала рассматривать печать. Рисунок казался ей знакомым, она была уверена, что где-то видела его. Вероятно, книги, переплетённые Шарлем, встречались в библиотеке отца. Шарль догадался, о чём она думает. «Вы раньше видели мой знак?» — «Да, кажется. Наверное, вы делали книги для нас». — «Вполне вероятно, я делал много книг для самых разных заказчиков».
И в этот момент на Анну обрушилось понимание. Она вспомнила, где видела эту печать — на книге, переплетённой в кожу её матери. Девушку пробрала дрожь. «Сколько вам лет, господин де Грези?» — «Тридцать пять». — «Много лет назад вы сделали переплёт из человеческой кожи».
Шарль онемел. Страх пронзил его, холод поднялся от самых пяток до макушки, но он тут же понял, что ниточка, наконец, начала завязываться в узел, что человек в сером как-то связан с этой девушкой и речь неспроста пошла о той самой книге. Страх сразу начал отступать. Но, видимо, лицо его на эти мгновения стало настоящей картой эмоций, и Анна, ещё не задав вопрос, уже поняла, каким будет ответ. Поэтому она сказала безо всякой вопросительной интонации, просто сообщила: «Вы сделали переплёт из кожи моей матери». — «Да», — кивнул он. Наступило молчание. Перед Анной сидел человек, который дотрагивался до кожи Альфонсы де Жюсси — но при этом никогда не касался самой герцогини. Или касался?
«Вы знали её?» — «Нет». — «Кто снимал с неё кожу?» — «Я не знаю, мне принесли её уже обработанную». — «Мой отец?» — «Приносил просто посыльный, я плохо его помню, но человек, который объяснял, что от меня требуется, бывает в вашем доме и сейчас, я видел его вчера». — «Как он выглядит?» — «Приземистый, широкоплечий, тогда он был в серой скромной одежде, сейчас — в чёрной…» — «Это Дорнье, наш управляющий». — «Он передал мне письмо с инструкциями, видимо, написанное вашим отцом». — «Вы сохранили это письмо?» — «Нет, Дорнье потребовал вернуть абсолютно всё, что было передано и при этом не пошло на создание переплёта — излишки кожи, письма, материалы». — «И ничего не осталось?» — «Осталось». — «Что?» — «Штампы». — «Там, где портрет?» — «Да». — «Вы можете мне их показать?» — «Да, только вам придётся подождать здесь». — «Я подожду». — «Это может занять много времени». — «Ничего, я никуда не тороплюсь».
Он вышел. Анна осмотрелась. Теперь между ними нашлась связь не только таинственная, потусторонняя, но и вполне обыкновенная, земная, хотя и весьма своеобразная. «Этот человек сделал книгу из кожи моей матери, — сказала Анна вслух. — То есть не книгу, а переплёт». Она представила себе человеческую кожу как материал. Интересно, каково это — обрабатывать то, что некогда принадлежало человеку? Какие чувства испытывал переплётчик, работая над книгой? А какие чувства он испытывает теперь, разговаривая с дочерью той самой женщины?
Это и есть первая правда, вдруг поняла Анна. Их знакомство и обнаружение этой связи — вот она, правда, перед ней, лежит на тарелке, бери и ешь. Только Анна немного запуталась в этих третях: то ли за треть правды можно считать их встречу, а за вторую — сегодняшнее открытие, то ли это в сумме одна треть, а вторая ещё не наступила. Анна так задумалась над своим сном и его математическими последствиями, что не сразу сообразила, что Шарль уже вернулся в кабинет и стоит теперь около неё, а в руках у него несколько пластин-штампов. «Вот», — сказал он.
Анна взяла один из штампов — самый верхний, с выгравированным портретом матери с первого форзаца. «Это она, моя мать». — «Сколько ей здесь?» — «Не знаю, лет шестнадцать, видимо». — «Вы не знаете этого портрета?» — «Знаю, он есть в доме моего отца, раньше он висел на стене, теперь хранится у него в кабинете, это набросок, и она здесь сама на себя не похожа». — «А какой она была на самом деле?» — «Если честно, не знаю, потому что никогда не видела её иначе как на портретах». — «Она умерла, когда вы были маленькой?» — «Она умерла, рожая меня». — «Я очень сожалею». — «Не стоит, я всё равно никогда не скорбела по ней, поскольку не знала её; давайте лучше поговорим о вас». — «Я маленький человек». — «Нет, по-моему, вы большой человек, вы умеете и знаете гораздо больше, чем мы в своих дворцах и золоте». — «У вас либеральные взгляды». — «Видимо, да, таков мой отец, такова и я». — «Вы сочувствуете республиканцам?» — «Было бы кому сочувствовать, Людовик удавил их на корню». — «Вы рассуждаете… Слишком разумно для столь юной девушки? Если мне будет позволено так выразиться». — «Позволено, почему же нет; да, видимо, я в какой-то степени опережаю свой возраст; скажите, господин де Грези, а сколько лет вы занимаетесь переплётным делом?» — «Сколько себя помню, отец обучал меня с детства». — «Он тоже был переплётчиком?» — «Да, обычно цеховое мастерство передаётся по наследству». — «Как интересно, я крайне мало знаю обо всём этом, о цехах, о мастерах, о нравах ремесленников». — «В большинстве своём это или малоинтересные технические подробности, или цеховые тайны, поэтому об этом мало кто что-либо знает из сторонних людей». — «А если я прикажу рассказывать?» — «Я расскажу то, что смогу, но есть вещи, которые существуют только внутри цеха; так или иначе они не слишком интересны, потому что в основном преследуют цели экономического характера, скучная бухгалтерия и ремесленные секреты». — «Мне кажется, ремесленные секреты — это очень интересно». — «Для ремесленника, который ежедневно занимается своим делом и досконально его знает».
Здесь нам, уважаемый читатель, стоит прервать диалог Анны-Франсуазы и Шарля, поскольку он становится скучен. Вам будет достаточно знать, что беседовали они в течение столь длительного времени, что Анна совершенно забыла о портном (к которому так и не заехала) и о служанке (которая чуть не окочурилась от скуки, хотя успела за время беседы обыскать все более или менее доступные комнаты в надежде чем-нибудь поживиться — и в итоге стащила небольшую книжечку в переплёте, украшенном драгоценными с виду камнями, впоследствии оказавшимися простыми стекляшками).
Анна поняла, что нужно уходить, когда стало темнеть. Она не ела, не ходила в туалет, не отрывала взгляда от Шарля и его книг в течение более чем шести часов, и он тоже, как ни странно, ни разу за это время не выказал никакого желания прекратить беседу. В ходе разговора они совершенно забыли о предлоге, под которым Анна вообще посетила переплётную мастерскую — выбор книги для переплетения. И вдруг всё оборвалось — Анна поняла, что время позднее, и теперь придётся объяснять мужу, почему она была в городе так долго и при этом не побывала у портного, и хотя де Торрон совершенно спокойно воспримет любое объяснение, сам факт необходимости последнего казался Анне неприятным. Кроме того, следовало как-то оправдаться перед Жанной, видимо, заснувшей уже в одной из нижних комнат, впрочем, такова её работа, быть служанкой не так и просто, никто не обещает лёгкой жизни.
«Нужно уходить», — сказала Анна и тут же почувствовала голод вкупе с желанием посетить уборную комнату, но она не могла сказать о последнем Шарлю, да и упоминание о первом звучало бы как упрёк, причём вполне заслуженный, и потому Анна-Франсуаза более ничего не произнесла вслух. «Я подарю вам книгу», — сказал Шарль. «Какую?» — «„Любовные стихи к Кассандре“ Ронсара[96], вы, видимо, читали их». — «Я не помню уже, право слово, я так много читала». — «Ничего, даже если читали, это прекрасная книга, её можно читать снова и снова, но главное здесь — не книга, а переплёт, он сделан вот этими руками, вот в этой мастерской». — «Тогда этот подарок вдвойне ценен для меня». — «Примите эту книгу — и не забудьте подумать о том, какую книгу я мог бы переплести лично для вас».
Она улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, и когда он передавал ей книгу, их руки на секунду соприкоснулись, и она подумала, что это электричество, разряд проскочил между ними, а он ничего не подумал, так как не знал, что такое электричество, но почувствовал, в общем, то же самое, хотя и не мог описать это правильным словом. «Я должна дать вам что-нибудь взамен». — «Не стоит, вы и так наградили меня своим присутствием». — «Но всё же, примите в знак моего расположения эту перчатку», — и она стянула бежевую ткань с правой руки, обнажив белую, в веснушках руку, и подала перчатку ему. Он принял её благоговейно и спросил: «Как же вы в одной перчатке?» — «Скажу, что порвала или испачкала, да никто и не заметит, что я потеряла перчатку, муж мой совершенно не обращает на меня внимания, по крайней мере, когда я не требую этого от него, а требую я весьма нечасто». Шарль улыбнулся, пряча перчатку в карман, а Анна стянула вторую — для симметрии, но ему не отдала, а спрятала где-то в складках пышного платья. Он открыл ей дверь, и она стала спускаться вниз по лестнице, и крикнула по дороге: «Жанна! — Служанка появилась, несколько растрёпанная и с отпечатком структуры дерева на левой щеке, так как она заснула, чего и следовало ожидать, уронив голову на кухонный стол. — Мы едем, — сказала Анна, — иди буди кучера или ищи его, если он за время ожидания куда-нибудь ушёл». Служанка исчезла за дверью, Анна пошла следом и обернулась к Шарлю.
«Я заеду к вам ещё раз, — сказала она, — мне кажется, мы не завершили наш разговор». — «Да, конечно». — «И я напомню о вас моему отцу». — «Да, мадам». Она подала ему руку, и он склонился над ней, задержав губы чуть дольше положенного. Кучер уже открыл дверь для Анны, Жанна стояла рядом в ожидании, и герцогиня, с трудом оторвав взгляд от переплётчика, исчезла в карете. Шарль провожал взглядом удаляющийся экипаж и думал о том, что эта женщина отличается от других. Другие предназначены лишь для того, чтобы после смерти снять с них кожу и использовать её для переплёта. Эту женщину он хотел живой и хотел — любить.
Глава 3 МЕЖДУ ПОРОХОМ И ПУЛЕЙ
Если для Шарля ситуация во многом была нейтральна — или даже в определённой степени благополучна, то Анна-Франсуаза попала в пренеприятнейшее положение. Шарль мог воспылать страстью к женщине, стоящей гораздо выше его на социальной лестнице, и, в общем, не пострадать от этого, поскольку сердце можно затолкать в самый угол, чувства не слишком трудно придавить разумом. Так или иначе он просто не мог себе позволить навещать Анну или навязываться её отцу — и тем более мужу. Анна же спокойно могла навещать переплётчика, а если возможность и желание сплетаются в единое целое, ничто уже не может остановить влюблённую женщину. Анна сознавала, что уже первый её визит на улицу Утраты вызвал бы справедливые подозрения у более внимательного мужа, что уж говорить о последующих, если таковые состоятся. Но Анна отгоняла подобные опасения прочь. Она хотела ещё раз увидеться с Шарлем, и ещё раз, и ещё, и так — пока не надоест. Никогда, никогда не надоест, говорила она себе.
А за спиной Анны-Франсуазы имели место некоторые события, способные нарушить её планы относительно переплётчика. Господин Дорнье, выходивший из кареты, чтобы направиться к герцогу с финансовым докладом, краем глаза заметил фиакр, остановившийся чуть поодаль, и человека, садившегося в упомянутый экипаж. Человек обернулся всего на несколько секунд, но идеальная зрительная память управляющего тут же включилась в работу и вычленила из тысяч хранящихся в её недрах лиц худое, наивное лицо юного переплётчика с улицы Утраты, специалиста по работе с человеческой кожей. В тридцатипятилетнем мужчине, покидавшем дворец, Дорнье узнал де Грези.
Последнее событие вызвало сразу несколько вопросов. Во-первых, что переплётчик делал во дворце? Во-вторых, знает ли он, что именно герцог стал заказчиком той самой, первой книги? И знает ли, чья кожа пошла на её переплёт? Вопросов было больше, чем ответов, и Дорнье вознамерился отправиться к переплётчику, чтобы узнать чуть больше и при необходимости припугнуть его: тайна должна оставаться тайной.
Но на следующий день у Дорнье возникли более срочные и важные дела, и потому он решил отложить визит в переплётную мастерскую ещё на день. Это спасло Анну-Франсуазу, целиком проведшую тот день у де Грези. Зато у Дорнье появилось некоторое время подумать о том, чем обосновать свой визит и как себя вести: он не сомневался, что переплётчик тоже его узнал, и теперь из таинственного незнакомца он, Дорнье, превратился во вполне земную и осязаемую фигуру. После некоторых раздумий он решил пойти само собой разумеющимся путём: посетить де Грези под собственным именем и быть максимально честным. Переплётчик и сам должен понимать всю щекотливость ситуации.
Впрочем, какую щекотливость, раздумывал Дорнье, минуло шестнадцать лет, всё поросло быльём, да и в самом деянии — изготовлении переплёта из кожи Альфонсы — нет ничего преступного, это же не убийство. Тем не менее хотелось бы, чтобы никакие досужие сплетни и слухи не беспокоили герцога, ведь у столь обеспеченного и заметного в обществе (причём славящегося определённой таинственностью и эксцентричностью нрава) человека наверняка есть враги, а они не преминут использовать в своих подлых целях любую, сколь угодно малую зацепку. Слух мог быть, например, следующим: де Грези переплёл книгу в кожу жены герцога, соответственно, герцог жену убил, а то и вовсе приказал снять с неё кожу заживо. Таким образом, стоило заткнуть даже самую крошечную щель в информационной стене, защищавшей де Жюсси от окружающего мира.
И потому утром следующего дня после визита Анны-Франсуазы в дверь де Грези снова постучали. Несмотря на то, что за эти годы Дорнье рекомендовал переплётчика некоторым своим знакомым, сам он с тех пор на улице Утраты не бывал и не знал, что Шарль владеет двумя домами с двумя независимыми входами. Увидев вывеску не над тем зданием, над которым она висела при первом заказе, управляющий предположил, что переплётчик переехал, — и постучал. Ему не повезло: Шарль в это время работал в мастерской и потому стука не слышал. Дверь была заперта, но Дорнье, обладатель ряда уникальных и нехарактерных для человека его положения навыков, извлёк набор отмычек и в считаные секунды оказался внутри. Кучеру было наказано ждать у дверей.
Здесь было чисто, аккуратно и как-то безжизненно. Дорнье заглянул на кухню, пронизанную пыльными солнечными лучами, посмотрел на аскетическую обстановку комнат на первом этаже, ради интереса выдвинул ящик в одном из комодов — и обнаружил, что тот пуст. Дом казался не более чем декорацией, призванной обмануть посетителя, правда, Дорнье не понимал зачем. Здесь крылась какая-то тайна, и проницательный управляющий чувствовал, что переплёты из человеческой кожи каким-то образом с этой тайной связаны.
Он поднялся наверх. Теоретически переплётчик должен был принимать в этом доме клиентов, и если приёмной комнаты не нашлось на первом этаже, логично было бы предположить, что она окажется за первой же дверью на втором. Дорнье не ошибся. Кабинет не был заперт, и управляющий узнал обстановку — де Грези оборудовал новый кабинет почти так же, как старый. Дорнье осмотрелся: книги на столе, на полках, даже на полу. Письменные принадлежности, гравюра с мужским портретом на стене (видимо, какой-то учёный). Какие-то эскизы, видимо, наброски узоров для нового переплёта. Дорнье сделал вывод, что стоит просто устроиться в кабинете и ждать появления де Грези: рано или поздно тот придёт, никуда не денется.
Дорнье выдвинул нижний ящик стола: по опыту он знал, что именно внизу скапливаются обычно наиболее интересные экспонаты, свидетельствующие о личной жизни их владельца. Но ящик оказался пустым. Управляющий укрепился в мысли, что переплётчик живёт где-то в другом месте, да и работает скорее всего не здесь, так как подобные мастера крайне редко разделяли в географическом плане место жительства и место работы.
Чтобы скоротать время, Дорнье стал листать первую попавшуюся книгу, лежащую на столе, — сборник пьес Ротру.[97] Он зачитался «Венцеславом» и, услышав снаружи шаги, едва успел подготовиться. Захлопнув книгу, Дорнье принял позу скучающего властелина, следя за дверью из-под полуопущенных век.
Открыв дверь, де Грези остановился как вкопанный. Он увидел человека в сером. Правда, теперь тот был не в сером, а в тёмно-коричневом, а в чёрных некогда волосах появилась благородная седина. «Добрый день, господин де Грези», — поздоровался управляющий. Де Грези попытался вспомнить, как зовут посетителя, ведь Анна-Франсуаза называла вчера его фамилию, но память переплётчика уступала памяти его собеседника, и вспомнить не удалось. «Добрый день, господин де…» — поздоровался он и выдержал некую напряжённую паузу после слова «де», давая собеседнику возможность представиться. «Просто Дорнье, без всякого „де“, — сказал тот и добавил затем язвительно: — Впрочем, как и у вас, не так ли?» Он ставил своей целью смутить Шарля, и ему это удалось, поскольку переплётчику крайне редко указывали на его видимое дворянство, никто не обращал на многострадальную приставку внимания, да и историю её происхождения толком никто не знал. «Так, — ответил де Грези, — но имеет ли это значение?» — «Нет, не имеет». — «А что имеет?» — «Вас, я смотрю, за язык тянуть не нужно». — «Не стоит». — «Тогда позвольте сразу перейти к нашему делу». — «У нас есть новое дело?» — «Это, как ни странно, всё то же, старое, дело». — «И что же мы не успели в нём завершить?» — «В том-то и дело, что всё завершили».
Шарль склонил голову к левому плечу, буравя Дорнье глазами. Страх его исчез, ушёл на задний план. Ему было страшно в первую очередь, что аукнулся вчерашний визит Анны-Франсуазы, но нет, оказалось, что дело касается книги шестнадцатилетней давности. От сердца отлегло.
Дорнье в свою очередь отметил, что Шарль собирался куда-то уходить. Он был одет не в домашнюю одежду, но в уличный костюм, на ногах у него были сапоги, а под мышкой он сжимал шляпу, которую теперь положил на стол между собой и Дорнье.
«Если мы всё завершили, тогда в чём же ваш вопрос?» — спросил Шарль. «Вы видели меня вчера в доме герцога де Жюсси, не так ли?» — «Да». — «Таким образом, то, что в течение шестнадцати лет было для вас тайной, теперь стало явным». — «Ну, не слишком явным, до этого момента я не знал даже вашего имени, и по-прежнему не знаю, кто и зачем заказал у меня ту книгу». — «Но вы догадываетесь». — «Безусловно, строю кое-какие предположения». — «Соблаговолите их озвучить, если вас не затруднит». — «Я полагаю, что автором того письма был сам герцог де Жюсси, а владелицей кожи — его почившая супруга». — «Вы правильно догадались, и потому я прошу вас догадаться ещё и о причине моего визита». — «Видимо, вы хотите удостовериться, что я буду и впредь хранить вашу тайну». — «Именно, господин де Грези». — «Я могу вас заверить, что у меня и в мыслях не было кому-либо об этом рассказывать, хотя бы потому, что огласка может привести ко мне нежелательную проверку со стороны цеха». — «Согласен, но мне всё-таки требовалось дополнительно означить этот момент». — «Что ж, вы сделали это».
Шарлю явно не терпелось уйти. Он притрагивался к шляпе, весь разговор казался ему бессмысленной тратой времени. «Я вас понял, господин Дорнье, — сказал Шарль, — насколько я понимаю, именно вы рекомендовали меня нескольким клиентам примерно в то же время, за что я вам весьма и весьма благодарен; я могу вам гарантировать, что ни одна крупица информации, ни одно слово, связанное с работой над той книгой и над книгами в переплётах из человеческой кожи, не выходило за пределы моего дома — и не выйдет впредь».
Дорнье кивнул и поднялся. «Что ж, — сказал он, — у меня нет оснований вам не доверять; засим мне, видимо, стоит откланяться». Напоследок он обвёл взглядом кабинет переплётчика, посмотрел на книги, на самого де Грези, на его шляпу — и в этот момент поймал взглядом что-то знакомое. Так бывает: проскакиваешь глазами по некоему натюрморту, понимаешь, что там есть интересный тебе предмет, но по возвращении никак не можешь его найти. Так и Дорнье снова посмотрел на шляпу переплётчика и не понял, что же промелькнуло перед его взглядом — шляпа как шляпа, ничего особенного, широкие поля, скромное серое перо, аккуратная коричневая лента, за которую заправлена перчатка… Стоп. Вот оно. Перчатка. Память Дорнье пробудилась и вернула управляющего примерно на три недели назад, когда Анна-Франсуаза в очередной раз навещала герцога де Жюсси и встретилась в одном из коридоров с Дорнье. Они раскланялись, перебросились несколькими словами, и Дорнье хорошо запомнил перчатки Анны-Франсуазы — как он запоминал всё и вся. Перед ним на полях шляпы простого парижского переплётчика лежала перчатка госпожи де Жюсси де Торрон, и находиться она там не должна была никоим образом.
«Где вы взяли эту перчатку?» — сразу спросил Дорнье. «Это имеет отношение к нашему делу?» Дорнье почувствовал, как переплётчик напрягся. «Да, имеет, и самое непосредственное». — «Её подарила мне одна дама». — «Что за дама?» — «Мне кажется, вы несколько забываетесь, сударь; я дал вам исчерпывающие ответы на предыдущие ваши вопросы, поскольку оные имели резон; в данном же случае я не вижу ни малейшего повода удовлетворять ваше праздное любопытство». — «Моё любопытство вовсе не праздно, поскольку мне эта перчатка прекрасно знакома». — «Возможно, вы ошибаетесь, мало ли одинаковых женских перчаток в Париже». — «Одинаковых много, но эта пара — только одна, и я вряд ли ошибаюсь». — «И кому, по вашему мнению, она принадлежит?» — «Герцогине Анне-Франсуазе де Жюсси де Торрон».
Переплётчик стушевался: Дорнье это прекрасно видел. Интуиция не подвела управляющего. «Что вы на это скажете? — спросил он. — Вы же знаете, что я обладаю достаточной властью, чтобы лишить вас профессии или даже отправить на плаху при необходимости; не лучше ли разговаривать со мной откровенно?» — «Да, — ответил Шарль, — это её перчатка». — «Откуда вы её взяли?» — «Она сама мне подарила». — «Это похоже на неё, но мы с вами гораздо старше и, соответственно рассудительнее, и потому можем принять кое-какие ответственные решения. В частности, я не думаю, что вам стоит носить эту перчатку открыто, поскольку подобное поведение может вызвать досужие слухи; я подозреваю, что герцогиня Анна посещала вас, и поверьте, за людьми, подобными ей по происхождению, ведётся тщательная слежка. А если один знает об этом визите, то знает и другой. И слава богу, если она просто заказывала у вас книгу — это не вызовет никаких сплетен, но вот ваше появление на улице с её перчаткой на шляпе — уже повод для беспокойства. Поверьте, недоброжелатели собирают грязь по комочкам — а в итоге получается ком. Надеюсь, вы поняли мою мысль?»
«Да, конечно, — Шарль потупил глаза, — вы правы, господин Дорнье». Он взял шляпу и отцепил перчатку. «Вот так-то лучше. Вы можете хранить её у себя дома — но никак не демонстрировать на улице. Полагаю и надеюсь, что на этом мы исчерпали все возможные темы для диалога». — «Видимо, да». — «Тогда позвольте мне откланяться». — «Конечно, господин Дорнье».
Де Грези проводил Дорнье до дверей. На прощание тот многозначительно посмотрел на переплётчика; в этом взгляде не было упрёка или угрозы, но что-то в нём таилось такое странное, неприятное, опасное, и де Грези отвёл глаза. Разговор почти не оставил следа в сознании переплётчика. Большую часть сказанного гостем он понимал и без того. Поэтому примерно через десять минут после отъезда Дорнье де Грези вышел из дому и отправился на рынок за некоторыми составляющими для дубильного раствора. Так или иначе сделать он ничего не мог, оставалось только ждать. Только по дороге к рыночной площади он осознал, что дверь была заперта, а Дорнье встретил его в кабинете, каким-то образом туда пробравшись. Впрочем, чёрт с ним, подумал де Грези, может, я и в самом деле забыл закрыть дверь на замок.
Совсем иначе чувствовала себя Анна-Франсуаза. Этой ночью муж решил уделить ей внимание, но она не сумела отдаться ему как раньше — целиком, без посторонних мыслей, пытаясь получить удовольствие от его средней искусности ласк. Анна думала о де Грези, и муж, вероятно, почувствовал её нежелание, так как быстро закончил дело и удалился в свою спальню (он спал отдельно от жены в случаях, когда его сексуальные потуги терпели фиаско). Утром Анна приняла решение снова ехать к переплётчику. Она не могла больше терпеть.
Поездка была схожа с позавчерашней: тот же кучер, та же служанка Жанна, такой же надуманный предлог (на этот раз — посещение парфюмерной лавки). Чтобы на всякий случай избавиться от дополнительного соглядатая, Анна-Франсуаза со служанкой покинули карету неподалёку от улочки, где содержали свои лавки парижские парфюмеры, кучеру было велено ждать, покуда дамы не вернутся. Анна за первым же углом остановила наёмный фиакр, на котором и отправилась на улицу Утраты. Жанна понимала, что с госпожой следует дружить, следует втереться ей в доверие — тогда и тебе порой что-нибудь будет перепадать. Поэтому она заверила герцогиню, что забудет и маршрут, и конечную цель их поездки, и будет впредь совершенно уверена в том, что всё время они вдвоём провели среди парфюмерных богатств. К слову, Анна-Франсуаза снова не могла толком сформулировать цель своей поездки. Увидеть Шарля? Может, соблазнить его? Может, просто постоять под его окнами? Анализируя своё внезапное чувство, Анна удивлялась. Шарль не был красив, хотя его черты отличались определённым благородством, какое может возникнуть у ребёнка аристократа и простолюдинки (или наоборот). Анне он определённо казался эрудированным, но об уме переплётчика судить она не могла, несмотря на шестичасовой разговор. Ум — это умение правильно применять эрудицию, говаривал де Ври, Анна же не могла представить себе, как Шарль применяет те многочисленные знания, которые он почерпнул в переплетённых и, соответственно, прочтённых книгах. И хотя загадочность была одним из основных факторов мужской привлекательности де Грези, Анна чувствовала, что, даже разгадав этого мужчину до конца, она всё равно к нему не охладеет. И Анна поехала к нему — наугад, в надежде застать его дома.
Он был там, но опять же в своей мастерской, в основном доме. И если Дорнье, не дождавшись ответа, позволил себе войти без спросу, то Анна-Франсуаза не владела искусством отпирания запертых дверей, да и при умении не воспользовалась бы такой возможностью из уважения. Или, если уж называть вещи своими именами, — из любви.
Она постучала, потом ещё раз. Жанна стояла за спиной Анны-Франсуазы. Шарль в этот момент теснил довольно простой узор, но оторваться никак не мог, поскольку холодное тиснение требовало достаточно длительного и неотрывного приложения сил. Собственно, слышать стук он тоже не мог — но что-то вдруг дёрнулось у него внутри, что-то укололо в сердце, и переплётчик понял: она здесь. И впервые в жизни он сделал странную, страшную даже вещь — бросил работу ради чего-то другого. Он отпустил штамп, оставив незаконченный блинт, причём не просто незаконченный, а требующий переделки, и пошёл наверх, чтобы перейти в дом-приёмную. От Шарля пахло, и он боялся, что запах отпугнёт прекрасную даму, но что было делать, не кричать же ей из-за двери: подождите, я быстро вымоюсь и тут же к вам выйду. Когда он миновал переход, в дверь уже никто не стучал, видимо, посетитель устал и решил, что хозяина нет дома. Но Шарль всё-таки продолжал ощущать покалывание, и сердце говорило ему: отвори.
Он подошёл к двери и открыл. На пороге и в самом деле стоял Анна-Франсуаза. Она смотрела на него своими зелёными глазами и чуть-чуть улыбалась. «Это вы», — сказал он. «Это я». — «А где ваша карета?» — «Я наняла фиакр». — «Как же вы вернётесь?» — «Найму другой». — «Да, конечно, я не подумал», — он улыбнулся. «Вы позволите войти?» — «Да, конечно».
«Жанна, тебе не следует идти со мной, — обратилась она к служанке, — возьми, хорошо проведи время, только осторожно», — и она насыпала монет в подставленную горсть. Для Жанны эта сумма составляла примерно двухмесячное жалование. «Не стоит опасаться, — добавил переплётчик, — здесь неопасный район, ремесленный, здесь правят гильдии, а их законы строже государственных». — «Вот видишь», — сказала Анна-Франсуаза, и Жанна пошла прочь, на ходу пересчитывая деньги.
Шарль отступил в сторону, впуская девушку. Она прошла мимо него, а потом обернулась, глядя, как он закрывает дверь. Он посмотрел на Анну, и, хотя всё было понятно без слов, спросил: «Вы по-прежнему хотите заказать у меня книгу?» — «Да», — ответила она. «Вы решили, о чём будет эта книга?» — «О чём-нибудь высоком, например, о любви или о смерти». — «Так о любви или о смерти?» — «Лучше, чтобы и о том, и о том». — «Подобно „Ромео и Джульетте“ Артура Брока[98]?» — «Кого?» — «Артура Брока, он был английским поэтом». — «Мне казалось, что это пьеса, и принадлежит она перу Уильяма Шекспира». — «Нет, Шекспир просто воспользовался чужой идеей; это поэма Артура Брока, на французский язык её перевёл Пьер Боэстюо[99]». — «Я читала его сказки». — «Он гораздо больше переводил, чем писал». — «У вас есть эта книга?» — «Нет, но я могу её достать, издание 1559 года». — «Достаньте». — «Это звучит как приказ». — «Тем не менее это мольба». — «Я достану», — сказал Шарль, и она шагнула к нему.
«Кажется, мы сказали много лишнего», — добавила Анна-Франсуаза. Шарль почувствовал скованность в чреслах: он не ждал, что герцогиня вот так возьмёт с места в карьер, плюс ко всему его сексуальный опыт был чрезвычайно скромен, и он не очень понимал, как теперь стоит поступить. Впрочем, инстинкт подсказывал Шарлю, что нужно переступить запретную черту и поцеловать стоящую перед ним женщину — неумело, неуклюже, как выйдет, потому что она всё ему простит, влюблённая женщина крайне редко видит недостатки в человеке, которого любит, она слепа, подобно Фемиде. Так получилось, что шаги навстречу друг другу они сделали одновременно, и когда он почувствовал её язык у себя во рту, он внезапно понял, как и что следует делать, точно Эрос вселился в него, и он целовал её, будто заправский любовник, Зевс, оприходовавший между делом тысячи прекрасных смертных, и она млела в его объятиях, прямо здесь, посреди пустого коридора, перед лестницей на второй этаж.
«Где твоя спальня?» — спросила она, и он ответил: «Наверху слева, но я сейчас очень грязный, я сразу после работы, я пропах необработанной кожей, дубильными смесями и прочей гадостью», но она, смеясь и увлекая его наверх, прошептала: «Человеческой кожей?» — чем серьёзно его смутила. «Нет, — ответил он, — обычной, телячьей». — «Ничего, телячья — тоже хорошо». В этот момент Шарль понял, что ей действительно нравится его запах, эта тяжёлая вонь, к которой он, постоянно бывая в мастерской, давно привык, а вот клиенты не выносили, и потому он тщательно мылся в «приёмные» дни, особенно перед назначенными заранее встречами, но теперь его запах кому-то нравился, и удивление Шарля смешивалось с восторгом. Она утыкалась носом в его шею, пока они шли к комнате, и Шарль был на самом верху блаженства.
Спальня переплётчика была обставлена весьма скромно — небольшая кровать да два шкафа, один с одеждой и один с книгами. Анна-Франсуаза толкнула его, и он упал на перину, пропахшую его кожей и потом, а она стала вынимать из платья булавки, сдирая широкую юбку, затем — нижнюю юбку, задирая последнюю, вторую нижнюю юбку и забираясь на него сверху, одновременно пытаясь содрать с него штаны. Это было исступление, порыв, ураган, воплощённое вожделение.
Шарль представить себе не мог, насколько его чудовищный, животный запах, проникнутый шлейфом гнили, возбуждает юную герцогиню. Анне хотелось слизывать с кожи Шарля смесь его пота и грязи, хотелось скользить пальцами по его телу, и когда она, наконец, извлекла его член наружу, она тут же взяла его в рот, изогнувшись, точно обезьяна, и Шарль ощутил, что он находится на вершине блаженства.
Здесь, дорогой читатель, я позволю себе отойти немного в сторону, поскольку дальнейшие события легко себе представить, а что легко представить — то не стоит и детального описания. Они были настолько полны друг другом, настолько гармоничны, что не замечали ни течения времени, ни колебаний пространства, они сочетались, точно детали тщательно выделанной головоломки, и расплести их цепкий клубок не смог бы ни один криптолог.
Но была у этой безумной связи и другая сторона. Шарль, именно Шарль, а вовсе не Анна-Франсуаза оказался между порохом и пулей, между Сциллой и Харибдой, между огнём и полымем. Шарль оказался зависим. Она могла приезжать к нему, могла играть с ним, а он не мог ничего, потому что он был никто, песчинка в огромном городе. Но в тот, самый первый, день Шарль об этом не думал, потому что у него была его Анна-Франсуаза. Только его, ничья более.
Глава 4 ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ ДОРНЬЕ
Как бы ни пряталась Анна-Франсуаза, как бы ни петляла по городу, как бы ни меняла карету на наёмный фиакр, скрыться от Дорнье она не могла. Управляющий в коричневом костюме стоял на углу дома и смотрел, как Анна отпускает Жанну прочь, как заходит к переплётчику в дом. Если бы герцогиня приехала к де Грези в карете, с Луи на пару, управляющий бы не волновался, воспринимая это как официальный визит в целях, например, заказа переплёта. Но тайна, окутывавшая Анну, её странное поведение не могли не натолкнуть Дорнье на мысль о том, что она опять ввязалась в переделку. «Едва ли полгода замужем, а уже — с любовником!» — подумал Дорнье и отправился на поиски подворотни или сквозного прохода, ведущего во внутренний двор. Он не сомневался, что там есть второй вход в дом де Грези, возможно, ведущий сразу на второй этаж, где находилась спальня, — Дорнье хорошо запомнил внутреннюю планировку.
Внутренний двор показался Дорнье на удивление аккуратным. Две лошади чуть подальше, под навесом, раскиданная солома, сухая земля, никакой слякоти. А вот дом де Грези оказался интересным. Дорнье понял, в чём причина «необжитости»: судя по всему, по-настоящему переплётчик жил и работал на старом месте, в соседнем здании, примыкающем к первому. С улицы казалось, что это два разных дома, но изнутри стало понятно, что они объединены общей задней стеной. Тем не менее в каждый из домов был отдельный вход и отсюда, с заднего фасада. Как Дорнье и предполагал, лестницы вели сразу на вторые этажи. Подумав, Дорнье стал подниматься в более новое строение, поскольку справедливо предположил, что переплётчик вряд ли поведёт герцогиню в старое. Обосновать свой вывод управляющий не мог (особенно с учётом того, что возраст домов был примерно одинаков, да и с виду они ничем не отличались): назовём это интуицией.
Дверь была заперта, крошечное окошечко рядом покрыто пылью. Дорнье присмотрелся, прижавшись лицом к мутному, неровному стеклу. Он ничего толком не увидел — но зато услышал шаги, принадлежавшие явно не одному человеку, а затем услышал женский смех и женский голос, и уже никаких сомнений не оставалось: Анна-Франсуаза завела любовника. Интересно, знает ли она, что де Грези делал переплёт из кожи её матери? Впрочем, неважно. Задачей Дорнье было эту связь прекратить либо насильно и быстро, либо медленно и аккуратно. Он склонялся ко второму варианту, потому что в первом случае Анна могла поступить назло управляющему и усугубить положение. Для этого следовало поговорить сначала с переплётчиком, затем — с герцогиней. Дорнье тяжело вздохнул. Сколько же беспокойства от этой взбалмошной девчонки. И, казалось бы, так успешно сплавили её де Торрону, пусть он теперь расхлёбывает, на репутацию отца выходки дочери уже не повлияют. Но нет, она всё-таки нашла приключений на свою голову, да ещё и связалась совершенно не с тем человеком. Будь у неё роман с каким-нибудь затрапезным виконтом, Дорнье бы дела не было. Но с простым мастеровым, да ещё и с де Грези, специализировавшемся на человечинке… Гм. А если этому психу придёт в голову сделать переплёт из её нежной кожи? Что тогда?
Дорнье был грамотным, спокойным и рассудительным человеком. Предположив, что влюблённые проведут вместе ещё какое-то время, он зашёл в ближайший кабак, чтобы перекусить, а затем вернулся на наблюдательный пост — уже перед главным входом в дом переплётчика. Рано или поздно Анна-Франсуаза должна была выйти. А ждать Дорнье умел.
Она и в самом деле появилась — спустя четыре с половиной часа. Буквально за пятнадцать минут до выхода Анны к дверям подошла служанка Жанна — и уселась на ступеньки в ожидании госпожи. Дорнье наблюдал за ней из окна дома напротив — он дал хозяину полупистоль, чтобы тот просто пустил его и позволил сидеть у окна. Девушки перекинулись несколькими словами, после чего Жанна куда-то убежала, а герцогиня осталась стоять. Переплётчик из дома не выходил. Через несколько минут появился фиакр, служанка уже была внутри. Дорнье, не раздумывая, выскочил из дому и побежал экипажу наперерез.
Фиакр едва успел тронуться, когда Дорнье с необычайной ловкостью вскочил на подножку, на ходу открыл дверь и ввалился внутрь. «Езжай, всё нормально!» — крикнул он кучеру, и тот подстегнул лошадей. Ему-то было неважно, что творится внутри, денег за поездку дали вперёд, что случалось не часто.
Узнав Дорнье, служанка съёжилась и прикрыла глаза, точно пытаясь прогнать дурное наваждение. Анна-Франсуаза же, хотя и удивилась, постаралась этого не показать. «Господин Дорнье! — воскликнула она наигранно. — Что вы здесь делаете?» — «Мне бы хотелось задать вам тот же самый вопрос, мадам». — «Я хотела заказать переплёт для книги». — «Для какой, если не секрет?» — «Для „Ромео и Джульетты“ Артура Брока». — «Разве это не сочинение Уильяма Шекспира?» — «Нет, Шекспир просто позаимствовал чужую идею». — «И более вы ничего не хотите мне рассказать?» — «Нет, сударь».
«Останови! — закричал Дорнье. Фиакр встал. — Пшла вон», — сказал он Жанне. Та выкатилась из фиакра, и управляющий хлопнул рукой по стенке, снова приказывая кучеру трогаться. «Теперь возле нас нет лишней пары ушей, и мы поговорим начистоту». — «Я не знаю, что вы хотите услышать». — «Я хочу услышать, как прошли ваши бурные сексуальные взаимоотношения с господином Шарлем Сен-Мартеном де Грези». Анна-Франсуаза сделала возмущённое лицо. «Мне кажется, сударь, что вы забываетесь». — «Мне кажется, Анна, забываешься ты». На лбу Дорнье проявились складки, а это никогда не было добрым знаком. «Ты дочь герцога и жена герцога, а трахаешься с каким-то приблудным псом». Анна покраснела от гнева. «Как ты смеешь такое говорить! Он… Он…» — «Если кто-то из твоих герцогов захочет, Анна, он будет никем. Причём мёртвым никем. — Анна задыхалась от злости. — Так вот, — продолжил Дорнье, — я слишком хорошо тебя знаю, чтобы что-то запрещать. Более того, я знаю, что смысла призывать тебя немного подумать тоже нет. Поэтому я хочу сказать тебе: будь вдвойне, втройне, впятеро осторожнее. Я отследил тебя за один день — но это я, твой друг. Поверь, каким бы безразличным тебе ни казался де Торрон, если он прознает про измену, тем более с простолюдином, он устроит тебе настоящий ад». Анна уже успокаивалась. «Откуда вы знаете?» — спросила она. Де Торрон взрывался всего два раза в жизни: один раз, когда его отец ударил его мать — это громкая история, память о которой постарались вымарать из всех голов; де Торрон убил собственного отца, причём честно, предоставив тому право на защиту; второй раз он вышел из себя, когда его друг запустил лапы в корсет его первой жены.
Дорнье сделал демонстративную паузу. «Он убил друга?» — спросила Анна-Франсуаза. «Да, конечно, он убил друга, причём довольно жестоко: достал шпагу и отрубил ему кисть, там же, на месте; супруга попала под подозрение, но доказательств её измены у де Торрона не было, и он через некоторое время об этом инциденте забыл, а несчастный умер от потери крови». Анна покачала головой: «Если честно, это выглядит не очень жестоким; оба раза люди пострадали за дело, даже если в первом случае это был его отец». — «Да, — кивнул Дорнье, — я к этому и веду; если что, господин де Грези пострадает именно за дело».
Он знал, куда ударить, этот хитроумный лис. Он знал, что сама Анна не боится ничего, но за другого она бояться умеет. Особенно если этот другой — человек, в которого она влюблена, а Дорнье видел в глазах Анны именно любовь, и это поражало его. Он никогда ранее не замечал подобного в её змеином зелёном взгляде.
«Ты поняла меня, Анна?» — «Да, Дорнье, я вас поняла; но вы тоже должны понимать, что я не отступлюсь от своего, по крайней мере пока». — «Я и не требую отступаться. Я требую осторожности. Дело не в слухах, дело в жизни. Останови!» — он постучал в стенку фиакра. Как только экипаж остановится, Дорнье выскочил наружу. Уже стоя на мостовой, он взмахнул шляпой, прощаясь с Анной-Франсуазой, которая механически кивнула в ответ. Она думала. Дорнье же, не теряя времени даром, быстро нашёл другой экипаж и отправился на улицу Утраты.
Пока управляющий ехал, Шарль де Грези сидел за столом и, не глядя, листал томик Овидия. Переплёт был чужой работы, но Шарль иногда покупал чужие книги — именно для того, чтобы ознакомиться с приёмами конкурентов. Думал он, конечно, не о древнеримском поэте и уж тем более не о простеньком тиснении, украшавшем внешнюю сторону переплёта. Все его мысли были направлены только к Анне-Франсуазе, прекраснейшей из прекрасных. Он вспоминал запах её кожи, веснушки, едва заметные волоски, редкие, присущие лишь натуральным рыжим, пигментные пятнышки, родинки, крошечное родимое пятнышко на лопатке. Он вспоминал каждую её чёрточку, каждую её ресничку, он погружался в неё снова и снова, как погружается в океанские глубины левиафан.
В нём боролись два человека. Первый любил Анну-Франсуазу, хотел её, целовал её в шею, переходил через ключицы к плечам, проводил губами по предплечьям, запястьям и кистям, гладил пальчики, отрывался и припадал к крупным, выступающим соскам, стекал по груди ниже, утыкался носом в нежный животик, вдыхал ароматы её соков, погружался в наслаждение, пробовал её на запах, на вкус и на вид, становился её частью и обращал её в часть себя самого. Этот первый был неисправимым романтиком, он пытался слагать стихи, которые слагать не умел, пытался представить себя в роли её возлюбленного — в парче и шелках, среди резных стен герцогского дворца; он не мог прожить без неё ни секунды, и даже её молчание казалось ему звучнее и звонче слов, сказанных другими людьми.
Но был ещё и второй. Он хотел содрать с Анны-Франсуазы кожу и переплести в неё книгу.
Прервав размышления переплётчика, в дверь постучал Дорнье. Шарль не на шутку испугался, но всё-таки преодолел себя (сначала он хотел перейти в первый дом и сделать вид, что не слышит или вовсе отсутствует), спустился вниз и открыл дверь. Вид Дорнье успокоил его. Управляющий де Жюсси воспринимался уже как старый знакомый. «Вы снова здесь?» — без приветствия спросил Шарль. «Да, позвольте войти». — «Прошу».
Когда они ещё поднимались по лестнице, Дорнье спросил: «Вы догадываетесь, по какой причине я здесь?» — «Вспомнилось что-то новое в связи с той книгой?» — «Вы недогадливы, Шарль; я здесь по той причине, что полчаса назад вас покинула герцогиня де Жюсси». Шарль остановился посреди лестницы, Дорнье уже был наверху. «Что же вы встали?» — «Вы следили за нами?» — «Да, следил». — «Зачем?» — «Это моя обязанность». — «Чего вы хотите от меня?» — «Я знаю, чего вы ждёте: что я скажу, мол, чтобы вы больше с ней не встречались, а вы гордо откажетесь; но я этого не сделаю; я лишь хочу сказать вам, что с Анной я уже говорил и просил её быть как можно более осторожной, поскольку муж её, герцог де Торрон, человек весьма взрывоопасный, и хотя взрывается редко, но ущерб причиняет при этом значительный». — «Что он сделает?» — «Убьёт вас, вот и всё, а может, и её тоже, даже точно — её тоже». — «Я защищу её». — «Вы плохо слушаете, Шарль, вы к тому времени будете уже мертвы, и, кстати, не исключено, что с вас заживо сдерут кожу, которая затем пойдёт, например, на учебник добрых манер; это будет поступок очень в духе де Торрона; но главное не это — я уверен, вы стерпите подобное обращение, — а то, что он расправится и с Анной-Франсуазой; вы хотите этого?» — «Нет, не хочу». — «Тогда слушайте (Дорнье сделал шаг на ступеньку вниз, приблизившись к собеседнику): Анне-Франсуазе нельзя слишком часто посещать один и тот же дом в Париже, особенно тайно, и особенно если в этом доме живёт одинокий мужчина; вы должны назначать свидания в разных местах, в разных домах и по возможности в разных районах, и быть при этом крайне осторожным; у вас уже есть лишние уши — служанка Анны, не хватало ещё других». Шарль задумался и кивнул. «Я всё понимаю, да», — сказал он.
«Тогда нет смысла более и беседовать, — подытожил Дорнье, — вы слишком разумны, господин де Грези, вы внемлете доводам, и это приятно, хотя в определённой мере вызывает подозрения». — «Что ж, не буду более вас задерживать». И так, не добравшись даже до кабинета, Дорнье стал спускаться, миновал стоящего на лестнице Шарля, дошёл до двери, обернулся и спросил: «Что вы будете делать, де Грези? Скажите мне честно, от вас не убудет, а я буду спокоен и не стану вам мешать». Шарль запрокинул голову назад и посмотрел на потолок. По лёгкой ниточке паутины полз средних размеров восьминогий уродец. Шарль протянул руку, взял его и размял в пальцах. «Ничего, — ответил он, — я ничего не буду делать; я буду любить её, покуда хватит моих сил — а потом умру». Дорнье усмехнулся. «Ваше дело», — сказал он. И вышел.
Глава 5 ПЕРЕПЛЁТЧИК И ГЕРЦОГИНЯ
Роман между Шарлем Сен-Мартеном де Грези, тридцати пяти лет, и Анной-Франсуазой де Жюсси де Торрон, шестнадцати лет, развивался не по дням, а по часам. Такую любовь не с чем даже сравнить, поскольку любой вещью, даже самой что ни на есть любимой и прекрасной, так или иначе пресыщаешься: надоедают самые вкусные яства, самые лучшие вина, самые интересные книги. Лишь любовь — если она по-настоящему сильна — не становится чрезмерной, излишней. Влюблённые не могли наесться, надышаться, наполниться друг другом. Они смотрели друг другу в глаза, дотрагивались друг до друга, они не могли думать о чём-либо ещё, находясь в непосредственной близости один от другого.
Но была ещё и осторожность. Они скрывались ото всех, от мира. Анна посылала служанку нанять комнату или апартаменты в приличном месте, каждый раз на значительном расстоянии от предыдущего, и Жанна выполняла одно такое поручение за другим. Они договаривались о следующей встрече и каждые два-три дня съезжались в каком-либо районе Парижа — и предавались любви. Они встречались и за городом, на бесконечных полях и лугах, под щебет птиц и шорохи ветра. Герцог де Торрон ни о чём не подозревал, поскольку не слишком-то следил за передвижениями жены, а вечером он всегда заставал её дома, ожидающей его визита. Был и ещё один человек, в какой-то мере опасный для Анны-Франсуазы, — слуга Луи. После памятного случая на рынке Луи перестал быть спутником молодой герцогини — его сменила Жанна. И Луи, будучи мужчиной, в какой-то мере возревновал госпожу к служанке. Он понимал, что не может стать достойным компаньоном — хотя бы по причине возраста, пола и занудства, но всё-таки хотел бы иногда беседовать с Анной об энтомологии или даже о чём-то другом, ему неинтересном, но лишь бы с Анной. В какой-то мере чувства Луи тоже можно было назвать любовью, но странной, блеклой, аккуратной, как весь Луи, любовью, шамкающей при разговоре и немножко косолапящей. Анна не замечала этого, потому что она видела в своей жизни на данный момент целых четырёх мужчин, а Луи, пятый, уже не помещался в её ограниченный внутренний мирок. Мужчины эти были — отец, Дорнье, муж и Шарль. Первых двух она любила дочерней любовью, третьего терпела, а последний стал её неотъемлемой частью.
Шарль настолько плотно заполнил жизнь Анны-Франсуазы, что она потеряла интерес ко многим вещам, увлекавшим её до того, в том числе и к содержанию книг. Теперь предметом её интереса были их переплёты. Шарль не хотел и не любил говорить о своей работе и категорически отказывался показать ей мастерскую. Она думала, что он щадит её обоняние и нервы, и убеждала, что тот самый запах, страшный запах невыдубленной кожи, который исходил от него в самый первый раз, слаще всех прочих ароматов, и она готова на всё, что угодно, лишь бы снова почувствовать его. Но причина отказов Шарля заключалась в другом. Он боялся не того, что она увидит или почувствует, но того, что он не сможет удержаться. Там, в мастерской, он превращался совсем в другого человека. Шарль, который любил Анну, оставался в съёмных комнатах и на сеновалах, в мастерской же пробуждался мастер, жаждавший содрать с неё кожу. Точнее, мог пробудиться, и потому переплётчик сразу же закрывал все темы, связанные со своей деятельностью, переводя разговор в другое русло.
Анна-Франсуаза была настойчива. Ей хотелось, чтобы у Шарля не было никаких тайн. В то же время сама она совершенно не собиралась откровенничать и расписывать свои юношеские приключения, особенно сексуального характера. Она была значительно подкованнее в делах любовных, нежели он, но Шарль быстро учился, легко соглашался на эксперименты и вообще, как выяснилось, имел к интимным занятиям недюжинный талант. На вопросы, как такой мужчина прожил без женщины столь длительное время (Шарль несколько приуменьшил срок своего воздержания, сказав «шесть лет», но и это показалось Анне-Франсуазе чрезмерным), он отвечал, что как-то не бросались на него женщины, видимо, он не так привлекателен, как может показаться Анне. Она смеялась и говорила, что он самый красивый, самый умный, самый сильный, и так далее, и тому подобное — какие ещё комплименты может влюблённая женщина говорить своему мужчине.
Помимо того у Анны-Франсуазы сформировалось ещё одно желание — забеременеть от Шарля. Она не сомневалась, что в отсутствии у неё детей виноват не кто иной, как герцог де Торрон. Свои способности в этом плане она ни малейшим сомнениям не подвергала. Шарль же казался Анне-Франсуазе полубогом — а полубоги не могут иметь дефектов. Ребёнка она, конечно, выдала бы за сына де Торрона — и только два человека, она и Шарль, знали бы правду. Ну и, конечно, обо всём догадался бы проницательный Дорнье, но в том не было большой беды. Что думал об этом Шарль? Ничего. Он просто не задумывался о такой возможности. Ему казалось, что всё должно идти своим чередом, ничего не может измениться в их отношениях, и так они будут существовать вечно. Кто-то назовёт это беспечностью, но тут повлияла скорее некая отрешённость Шарля от быта, от обыденной жизни. Его переплёты настолько заменили ему людей, что он мог бы при необходимости неделями и месяцами работать, не видя ни одной живой души и ничуть не страдая по этому поводу. В какой-то мере была удивительной его тяга, его любовь к Анне-Франсуазе, не должная возникнуть никоим образом — и всё-таки прорвавшая его глухую оборону.
Но последний рубеж этой обороны по-прежнему стоял незыблемо: доступ в мастерскую. «Нет, нет и нет», — говорил он Анне, и она обижалась, причём с каждым разом всё сильнее. Самое главное, что Шарль не мог найти никакого логически обоснованного предлога, чтобы не пускать Анну в дом номер один. Анна видела в его отказах нечто ритуально-религиозное, и потому любопытство её с каждым днём распалялось всё больше. А мы с вами прекрасно помним, к чему обычно ведёт любопытство госпожи де Жюсси де Торрон.
И в один прекрасный день, лёжа рядом с Шарлем на широкой кровати в съёмной комнате близ улицы Туриньи, она сказала: «У тебя остался последний шанс». — «Шанс на что?» — «На то, чтобы сохранить меня». — «Почему, что ты имеешь в виду?» — «У меня нет тайн от тебя, но ты окутан тайной с ног до головы, и это стоит между нами».
Он ничего не ответил, глядя в потолок и чуть покусывая верхнюю губу. «Ты же знаешь, что бы я ни увидела в твоей мастерской, это никогда не выйдет наружу, а для меня это важно, важно, как сама жизнь; тем более я могу догадаться, что там — тела? трупы? — я понимаю, что человеческая кожа — это непростой материал и не всегда он есть под рукой. Если ты боишься, что я упаду в обморок или ко мне в страшных снах будут приходить твои мертвецы — ты ошибаешься, потому что я видела мёртвых не раз, и однажды сама запорола насмерть человека (тут Анна несколько преувеличила), и мне уже ничего не страшно. Но знай, что так или иначе я добьюсь своего, и если ты не откроешь мне дверь в свой тайный мир, я приду с огнём и мечом, с вооружёнными пажами или наёмными гвардейцами, и я сумею сжать своё сердце так, чтобы оно ничего при этом не чувствовало».
«Зачем тебе это нужно?» — спросил он. «Потому что я этого хочу. Каков вопрос, таков и ответ». Помимо уже описанных выше причин, которые мешали Шарлю показать девушке свою мастерскую, свой первый дом, свой прежний кабинет, где он теперь бывал крайне редко, свою старую спальню, переделанную под сушильню, были и ещё некоторые факторы. Нет, никакой эврики, никакого открытия Америки. Кроме опасений, что в нём проснётся зверь, переплётчик-убийца, Шарль боялся того, что Анна его бросит — потому что возненавидит за то, чем он занимается. Ему казалось, что любовь герцогини легка, что она держится на волоске, и омерзительно грязная мастерская, пропахшая человеческой смертью, отвратит герцогиню от переплётчика. Дело было даже не в грязи: для Шарля не составило бы труда потратить денёк-другой и навести в мастерской порядок. Дело было в самой атмосфере — ведь как ни мой свинарник, как ни опрыскивай его парфюмами, он всё равно останется тем же, чем был до уборки. Так и переплётная мастерская сохранила бы свой странный и страшный дух после любой, сколь бы то ни было качественной чистки.
В Шарле сражались два человека — впрочем, в любом из нас всегда кто-то с кем-то сражается. Первый боялся потерять Анну и готов был показать ей мастерскую. Второй не меньше боялся потерять Анну и поэтому показывать ей мастерскую категорически не хотел.
«Хорошо, — сказал он, — будь по-твоему, когда ты хочешь поехать ко мне?» — «Нам всё равно не скрыться, поэтому сделаем так: завтра я нанесу тебе официальный визит, якобы для того, чтобы посмотреть, как продвигается работа над заказанным переплётом». — «Но она даже не начата». — «Ну и что?» — «Муж может спросить тебя, где переплёт и почему его так долго делают». — «Тогда начни прямо сейчас, как вернёшься домой». — «Но ты так и не определилась с книгой». — «Мне понравилось твоё предложение — то, первое». — «„Ромео и Джульетта“?» — «Да». — «Хорошо, я завтра же приступлю».
«И ещё, — добавила она, — не вздумай сегодня заняться уборкой и вылизыванием углов. Я хочу видеть твою мастерскую такой, какой ежедневно видишь её ты». — «Даже если я что-либо приберу, ты не будешь знать, была уборка или её не было». — «Нет, я буду знать». — «Откуда?» — «Ты мне прямо сейчас поклянёшься своей и моей жизнью — у нас она уже давно одна на двоих, — что ничего не сдвинешь, ничего не вынесешь, ничего не уберёшь, кроме разве что того случая, когда тебе нужно будет сделать это по рабочим причинам: завтра всё должно быть точно так, как и сегодня, никаких изменений, и, когда я приеду, примерно в полдень, ты ничего не должен от меня скрывать; клянись!» Шарль тихо сказал: «Клянусь». — «Громче!» — «Клянусь». — «Скажи полностью: моей и твоей жизнью». — «Клянусь моей и твоей жизнью, что ты увидишь всё». — «Вот теперь я тебе верю».
Он поклялся — и теперь не было другого варианта, кроме как исполнять. Хотел ли Шарль нарушить своё обещание? Да, конечно, хотел. Он думал о том, можно ли пойти против совести. Он не страдал суевериями — ничего не случится, если он нарушит клятву, — но что-то внутри мешало, не позволяло изменить данному слову. И он сдержался.
Хотя он, конечно, готовился — не физически, а духовно. Сидел в рабочей одежде в своём старом кабинете, поглаживая книги в переплётах из человеческой кожи, сделанных ещё отцом. Шарль не чувствовал неприятного запаха, исходившего от его рубахи и штанов, он привык, принюхался и специально надел их, чтобы по возможности отпугнуть Анну-Франсуазу. Впрочем, надежда на её отказ была мизерна: Шарль хорошо помнил тот самый первый раз, когда он вышел к ней, проникнутый трупным запахом насквозь, и она впитывала этот запах, высасывая его из каждого отверстия его тела.
В мастерской Шарля висел труп. Его доставили вчера по отдельному «заказу». Шарль хотел испытать новоизобретённый раствор для обработки несколько подгнившей кожи. Для этого труп следовало хотя бы пару дней подержать в подвешенном состоянии — и лишь потом сдирать с него шкуру. Со свежих тел Шарль наловчился срезать кожу несколькими движениями. Два надреза на руке — и кожа с руки единым пластом лежит у него на столе. По два надреза на каждую ногу, несколько штрихов на груди, и вся кожа с целого человека снималась буквально пятью-шестью шматами. Особенно осторожным приходилось быть с головой: лицевая кожа так и норовила прорваться в разрезах глаз, ноздрей, рта. Но он научился и этому.
Мертвец висел второй день, растянутый за руки и за ноги, и уже начинал пованивать. Шарль подходил к нему, поднимал пальцами веки — и смотрел в мёртвые глаза. «Кем ты был при жизни, дружок?» — спрашивал он. Но мертвец ничего не отвечал. При жизни он был, скорее всего, просто бродягой без роду и племени. Впрочем, говоря о мастерской, мы имеем в виду, конечно, подвал, где Шарль проводил предварительную подготовку кожи к обработке. Сами переплёты он делал наверху, в светлой комнате, которую в первую очередь собирался показать Анне. Он надеялся, что она удовлетворится этой демонстрацией и не будет настаивать на посещении подвала. Но он ошибался.
Анна приехала около полудня — в карете, с Луи и Жанной. Луи очень польстило то, что его взяли с собой. Цель его присутствия была проста: Луи должен был засвидетельствовать, что Анна-Франсуаза прибыла к переплётчику исключительно по делам рабочим. Луи этого, конечно, не знал. Но Анна прекрасно понимала, что Луи так или иначе расскажет герцогу де Торрону, где его супруга провела день, и де Торрон из первых уст получит, таким образом, самые что ни на есть невинные сведения.
Шарль встретил её в дверях и проводил наверх. Луи и Жанне было приказано подождать внизу. Шарль хлопнул дверью кабинета — но пошли они налево, в тот коридор, где размещалась спальня, а также дверь, ведущая в переход. Шарль открыл её, и Анна-Франсуаза погрузилась в неизвестность. Она не заметила люк в полу — ведущий в комнату-хранилище книг в антроподермических переплётах. Шарль провёл её в верхнюю комнату-мастерскую и показал штампы, резцы, киянки, переплётные ножи, косточки, пробойники и угольники. Он показал, как работает переплётный пресс, как штампуются полые и сплошные альды, как используются клише. Анна слушала со спокойным лицом, иногда что-то переспрашивала. Анну заинтересовала техника интарсии[100] — переплёты, выполненные с её применением, девушка разглядывала долго, проводя пальцами по стыкам разноцветных лоскутов. Шарль показал ей кожи различных видов — от сафьяна и замши до недосушенного опойка. Тогда-то Анна и спросила: «А где человеческая кожа?» Шарль смутился и показал ей несколько участков — вот она, сказал он, не так и много, потому что основная часть уходит в брак, но на пять-шесть переплётов хватит. «Чья это?» — «Эта — какой-то проститутки, эта — бандита, эта — бродяги. Сейчас у меня нет заказов на подобные переплёты, и потому я экспериментирую с тем, что имеется в наличии». — «Ты сам обрабатываешь эту кожу?» — «Да, конечно, человеческой кожи в свободной продаже нет». — «А где ты обрабатываешь её?» — «Здесь». — «В мастерской?» — «У меня есть подвал, где я занимаюсь грязной работой, тут — мастерская для чистовой». — «Проведи меня туда». — «Ты правда этого хочешь?» — «Хочу». — «Хорошо, пойдём; ты не боишься мертвецов?» — «Нет, не боюсь». — «Ты уверена?» — «Ты надоел со своими глупыми вопросами, сказала — веди, значит — веди». — «Хорошо».
Они спустились вниз, и Шарль открыл дверь своей кожевенной мастерской, своей запретной вотчины, нарушающей права ремесленников другого цеха, уродливой и вонючей, страшной и жестокой, но служащей великому искусству. С тела, распятого на верёвках у левой стены, было снято несколько лоскутов кожи: Шарль ежедневно проверял таким образом степень разложения. От тела чудовищно пахло, но оно не распухло, а скорее съёжилось, поскольку Шарль поддерживал в подвале сухость — насколько мог. Все щели были тщательно замазаны и законопачены, ни одна крыса не могла пробраться сюда. «Кем он был?» — спросила Анна. «Не знаю, бродягой, видимо, я покупаю тела на чёрном рынке, они уже мертвы, когда поступают ко мне». — «Ты часто переплетаешь книги в кожу незнакомых людей?» — «Да, но это не те книги, которые мне заказывают, это книги для меня лично, я учусь». — «Мне кажется, ты давно уже научился». — «Учиться можно всегда, никогда не поздно».
Он поражался её поведению. Анна рассматривала труп спокойно, даже протянула руку и прикоснулась к его бледной коже. Потом она подошла к столу, посмотрела на стопку подготовленных к обработке кож. «Тебе никогда не бывает страшно?» — спросила она. «От чего?» — «От того, что они придут за тобой — все, кого ты лишил покрова, раздел до самого мяса?» — «Я не убивал их, пускай мстят своим убийцам». — «Но ты осквернил их память, нарушил их покой». — «Если ты имеешь в виду душу, то она давно покинула это тело — как и все остальные».
Она помолчала, потом шумно втянула носом воздух. «Это самый возбуждающий запах в мире», — сказала она. «Для меня — тоже». Она улыбнулась. «А ты боялся, глупый». Она подошла к переплётчику и обняла его. Он не пытался отстраниться, хотя странное чувство обуяло его в тот момент. С одной стороны, Шарль хотел этого, всем сердцем хотел ворваться в неё, войти, влиться прямо здесь, около подгнивающего уже трупа, среди кожи — человеческой и звериной, это было его тайной фантазией, его безумным желанием, его главной страстью, единение любимой женщины и любимого дела, насилие над чужой плотью в окружении чужой плоти. С другой стороны, он боялся показать ей это желание, полагая, что он должен быть не то чтобы скромнее, но в какой-то мере разумнее, он не должен показать ей себя настоящего. Только теперь Шарль начал понимать, что сдерживаться не следовало с самого начала, что нужно было рваться вперёд, глотать брошенную ею наживу, цепляться за ниточку и свивать её в толстенный канат.
Она же целовала его, сдирая рабочую одежду и расстёгивая булавки на собственном платье, и они упали на не слишком-то чистый пол всего в пяти футах от подвешенного мертвеца — и предались любви. Не сексу — секс у них уже был неоднократно, и ещё какой! — но именно любви, полноценной, полнокровной, настоящей, гораздо более страстной, нежели любая из возможных в другом месте, вне этой страшной, пропахшей смертью мастерской. В какой-то момент она задела рукой одну из верёвок, притягивающих труп к полу, и тот зашатался, страшно осклабившись, поскольку нижняя челюсть его, ничем не подвязанная, отвалилась от верхней, но любовники не видели этого, они были друг у друга внутри, и, помимо любви, их окутывал тяжёлый, тягучий, почти непрозрачный смрад.
Когда они закончили и она первой поднялась с пола, чтобы привести платье в порядок, Шарль, глядя на неё сверху вниз, обратил внимание на исказившееся лицо мертвеца. «Кажется, он тоже был с нами всё это время». — «Да, — сказала она, посмотрев, — так мёртвые выражают блаженство». Она подошла к столу, поправляя на ходу задравшийся и запачканный рукав, постояла немного и взяла в руки лоскут кожи. «Чья это?» — «Девушки лет двадцати, попала под телегу, мне привезли ещё свежую, поэтому кожа очень хорошего качества». — «Что ты в неё переплетёшь?» — «Скорее всего, какую-нибудь пастораль».
Анна-Франсуаза посмотрела ему в глаза. «А как бы ты воспользовался моей кожей, переплётчик?» — спросила она. Шарль некоторое время не отводил взгляда, а потом ответил: «Переплёл бы в неё самую главную книгу». — «А какая книга — самая главная?» — «Я не знаю». — «Но она существует?» — «Может, пока не существует, но обязательно появится». — «И ты переплетёшь её в мою кожу?» — «Только после того, как ты умрёшь». — «Что ж, переплётчик, это повод умереть быстрее». — «Нет, нет! — взвился он. — Ни в коем случае — ведь книги ещё не существует, и ты умрёшь, только когда я её найду». — «Или напишешь». — «Да, возможно, придётся написать её самому». — «А о чём она будет?» — «Я не знаю». — «А что ты знаешь, ты знаешь, как будет выглядеть её переплёт?» — «Нет, я только знаю, из чего он должен быть сделан».
Анна усмехнулась и прошла мимо него к двери. «Тогда обещай мне», — обернулась она. «Что обещать?» — «Что ты проживёшь дольше меня». — «Я старше тебя более чем в два раза». — «С каждым годом ты будешь старше меня всё в меньшее и меньшее количество раз». — «Но я всё равно никогда не стану младше тебя». — «Я не прошу тебя становиться младше, я прошу тебя прожить дольше — ровно на то время, которое понадобится тебе для изготовления переплёта». — «Хорошо, я обещаю». — «Клянись». — «Клянусь». — «Чем ты клянёшься?» — «Я готов поклясться чем угодно». — «Поклянись… поклянись всеми переплётами, сделанными твоей рукой». — «Клянусь». — «Клянёшься что?» — «Всеми своими работами, делом всей своей жизни я клянусь, что проживу дольше тебя и сделаю после твоей смерти переплёт из твоей кожи». — «Вот теперь хорошо».
И она вышла, послав ему напоследок воздушный поцелуй. Он хотел спросить, не проводить ли её, но не стал, подумав, что она и сама сумеет добраться до выхода. Переход между домами он не закрывал.
Глава 6 ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Беременность Анны-Франсуазы обнаружилась примерно через полтора месяца после её визита в мастерскую. Уточним: первого визита. Анна-Франсуаза в определённой мере перестала бояться, потому что совокупления в мастерской были в высшей степени полнее и приятнее, нежели сколь угодно успешные половые акты в иной обстановке, и наведывалась в мастерскую переплётчика гораздо чаще, чем того могли потребовать нужды, связанные с изготовлением книги. Жанне пришлось довериться, иного варианта не было. Луи брали с собой ещё один раз, причём допустили в кабинет, и он чопорно сидел в углу, пока Шарль и Анна-Франсуаза натянуто и неестественно обсуждали мифическую работу. Жанна заменила Джованну вполне успешно, но Анна-Франсуаза чувствовала в новой компаньонке какую-то хитринку, точно та, улучив момент, может начать шантажировать хозяйку. Впрочем, Анна не могла полагаться лишь на подозрение и собственную интуицию: последняя иногда подводила.
Когда Анна заметила округление животика — ещё не видимое другим, — и обнаружила, что в положенное время менструации не наступили, она обрадовалась. Она знала, что ребёнок — от Шарля, но об этом не узнает никто, кроме неё и переплётчика, и будут счастливы все, в том числе де Жюсси (он получит внука) и де Торрон (он получит сына, пусть даже не родного ему по крови, незнание в данном случае — залог счастья). Она не сказала об этом даже Жанне — в течение некоторого времени беременность должна была оставаться её личной тайной. Анна подумывала рассказать Шарлю, но удержалась. Пускай кто-нибудь заметит увеличение живота со стороны — и тогда уже можно будет сделать тайное явным.
Первым это заметил Шарль Сен-Мартен де Грези. «Ты беременна?» — спросил он, поглаживая её по животу. «Да», — ответила она. Они лежали в его подвале на одеяле, постеленном на пол, и Шарль любовался её кожей в смутных отблесках свечи, догорающей на столе. Кожа на животе Анны и в самом деле натянулась, стала блестящей, масляной, хотя это нельзя было ещё назвать настоящим животом беременной женщины, но уже чувствовалось, что без вмешательства изнутри тут не обошлось. «Это мой сын?» — «Да». Шарль испытал прилив гордости. Он, не помышлявший ещё недавно о том, чтобы владеть женщиной, скоро станет отцом — пусть об этом будут знать лишь они двое. Он поцеловал её в живот и увидел едва заметную родинку около пупка, точнее, не увидел, а почувствовал; раньше он её не замечал. «Эта родинка, — сказал он, — она всегда у тебя была?» — «Не знаю», — ответила Анна-Франсуаза. Шарль подумал, что пупок может стать центральным элементом переплёта, а родинка покажется едва заметной грязью на коже, и придётся инкрустировать в это место драгоценный камень.
Теперь он постоянно думал о том, как он оформит книгу, сделанную из кожи Анны-Франсуазы. Во многом это зависело от того, в каком возрасте умрёт его возлюбленная. Он имел опыт изготовления переплётов из кожи стариков и старух, и технология значительно отличалась от обработки молодой кожи. По крайней мере, получались совершенно разные переплёты, и украшать их тоже следовало совсем по-разному. Поэтому в голове у Шарля сложилось несколько вариаций — в зависимости от того, какая кожа пойдёт на переплёт.
Но первенствовала в этом списке, конечно, кожа молодой и прекрасной девушки, Анны-Франсуазы де Жюсси де Торрон. Поглаживая её по надутому животу, Шарль представлял себе, как держит в руках самую главную книгу, переплетённую в эту кожу. Единственное, чего он пока что не понимал, так это того, что будет в книге.
Вторым человеком, узнавшим о беременности Анны, был её отец. На следующий день после того, как она призналась Шарлю, юная герцогиня отправилась к старику де Жюсси, чтобы сообщить ему радостную весть. Заодно она хотела проконсультироваться с Жарне, который бы не простил, доверь она своего будущего ребёнка другому врачу. Правда, дел у лекаря хватало, поскольку его Марианна разродилась двойней, и теперь у Жарне было аж трое детей: тринадцатилетний оболтус, постоянно попадающий в переделки, и две годовалые, непрерывно орущие девчонки.
Пощупав живот Анны-Франсуазы, приложив к нему ухо и расспросив девушку о симптомах, лекарь пришёл к выводу, что всё в полном порядке. «Беременность протекает нормально, — сказал он, — и пока, на столь раннем сроке, ни малейших поводов для беспокойства быть не может». То же самое он повторил герцогу, чтобы тот не волновался. Старик, в свою очередь, был на седьмом небе от счастья. Он обнимал Анну-Франсуазу, говорил: слава богу, не прервётся наш род, хотя бы по женской линии, будет у меня внук или внучка, и снова обнимал дочь. Анна не чувствовала перед герцогом той вины, которую могла бы ощущать перед мужем, поскольку ребёнок и в самом деле был внуком старика. А кто отец ребёнка — не так и важно.
Последним узнал о беременности супруги герцог де Торрон. Он проявил сдержанную радость — ровно такую, какой Анна-Франсуаза от него и ожидала. Он воспринял будущего ребёнка как нечто само собой разумеющееся: все-таки не зря он каждые несколько дней героически приглашал жену в общую спальню и совершал все требуемые телодвижения. Теперь, когда его старания увенчались успехом, герцог в первую очередь восхитился самим собой, отдал самому себе должное и, приказав слугам обеспечить жене наилучший уход, удалился в нумизматику. Анну-Франсуазу такой расклад более чем устраивал.
Она не знала, можно ли заниматься любовью во время беременности, но всё равно посещала Шарля. Он смотрел на её растущий живот, поглаживал его. Анна доставляла Шарлю удовольствие другими способами, помимо традиционного, и ей самой такое времяпрепровождение тоже нравилось. В один из визитов Шарль показал ей книгу, сделанную из кожи того самого мертвеца, который висел в мастерской, когда она побывала внизу впервые. Это была «История и достолюбезная хроника Маленького Жана из Сантре и юной и высокородной дамы» Антуана де Ла Саля[101], скабрезная и смешная книга, один из известнейших рыцарских романов и одновременно — один из последних представителей своего жанра. Переплёт был выполнен в типовом готическом стиле с тиснёной розой в центре и лилиями, равномерно покрывающими всю остальную переднюю поверхность. Анна обратила внимание, что роза казалась живой, так искусно она была выполнена. «Видишь, — сказал Шарль, подтверждая, что её интерес не празден, — это не просто тиснёный рисунок, он многослойный, и каждый новый слой тиснился и обрезался отдельно; я довёл кожу до такого состояния, что она не сдиралась одним лоскутом, а распадалась, и выделать её было весьма трудно, зато она приобрела необходимую тонкость для многослойной аппликативной техники». Шарль не боялся использовать рабочие термины при Анне — она давно разбиралась в теории обработки кожи и выполнения переплётов не хуже его. Если бы Анна захотела применить свои знания на практике, она бы сделала это вполне успешно, Шарль не сомневался.
«Я люблю этот роман, — сказала Анна, — почему ты решил переплести именно его?» — «Не знаю; просто я никогда до того его не переплетал; это новое издание, и я подумал, что кожа безымянного человека, о котором я ничего не знаю, как раз подойдёт». — «То есть ты не связал содержание и оболочку?» — «Если мерить такой мерой, то да, не связал». — «Почему?» — «Я не знал, как это сделать». — «Кто, по-твоему, Жан из Сантре?» — «Просто паж». — «Нет, это ты». — «Почему я?» — «Потому что я — юная и высокородная дама». — «Но ты мне верна». — «Сердцем — да, телом — нет». — «Сердце — главное». — «Всё равно, этот роман в определённой мере о нас». — «Только я не смогу прилюдно попросить справедливости». — «Ничего, в этом нет ничего страшного; ты надел на меня незримый голубой пояс». — «Возможно, я — это аббат, а Жан — твой муж, и он проткнёт мне щёки своим кинжалом».[102] — «Нет, всё не так; мы можем сделать нашу связь зримой». — «Как?» — «Дай мне нож». — «Зачем?» — «Дай».
Он подал ей нож, она проверила остриё, а затем одним движением срезала клочок кожи с внутренней стороны ладони. Потекла кровь. «Что ты делаешь?!» — закричал Шарль, и стал суетливо перетягивать ей руку рукавом висящей на стуле рубахи. Анна держала срезанный клочок в другой руке. «Вот, — сказала она, — используй эту кожу, вставь её в книгу, можешь под слой другой кожи, лишь бы она была там, а рядом вставь клочок своей кожи, и тогда мы будем едины». Он не слушал её, перевязывая рану, и вскоре кровь остановилась, а она повторила свои слова, и он согласился. «Да, — сказал он, — это прекрасная идея, но нужно было сделать это аккуратно, а не срезать кожу вот так, неожиданно, это опасно, можно подхватить заражение крови». — «Если бы я сначала сказала тебе, ты бы отказался, ты бы сказал, что это причинит мне боль, а ты не терпишь, если мне причиняют боль, хотя боль — это естественная часть нашей жизни, и мне предстоит рожать в муках, и, так как ребёнок твой, получается, что ты тоже, хочешь того или нет, причинишь мне боль». — «Да, — кивнул он, — ты права, и потому я сделаю так, как ты просишь, я спрячу твой лоскут и свой лоскут внутри этой книги, и тогда это будет роман о нас».
Позже, думая, как поместить новые клочки кожи в уже готовый переплёт, Шарль ощутил странную дрожь. Он высушил клочок её кожи; такой тонкий, он не требовал сложной подготовки, час в растворе, час на просушке, и теперь держал его в руках, думая: вот она, кожа Анны-Франсуазы, сейчас он, Шарль, сделает то, о чём мечтал с самой первой встречи, той самой, на рыночной площади, он использует её в переплётном деле. Но и другое чувство обуяло его. Он внезапно понял, что не хочет отделять от себя даже крошечный кусочек собственной кожи, не хочет лишаться части себя и вставлять эту часть в книгу. Он понял, что Анна-Франсуаза самодостаточна в качестве материала, она не должна ничего символизировать, и даже книга, которую он когда-либо переплетёт в её кожу, будет сделана не для того, чтобы сохранить память, а потому что кожа Анны создана для того, чтобы стать частью книги.
Он сделал розу ещё более объёмной, ещё более настоящей, хотя казалось — куда уж более. Теперь в центре сложного, многослойного рисунка, сделанного в смешанной технике, был крошечный кружочек иного вещества, более значимого, нежели все прочие, использованные в переплёте романа де Ла Саля. Наивная книга покойного французского писателя заняла почётное место в библиотеке Шарля де Грези, стала его шедевром, первым шагом к той самой, главной книге, которую он ещё не написал и тем более не переплёл. Она нашла своё место в том же тайнике, в том же ящике его старого стола, пропахшего отцовскими руками, что и крошечный амулет с портретом неизвестной женщины, единственная память о том, что было до переплётной мастерской.
А живот Анны-Франсуазы всё рос и рос, шёл месяц за месяцем, и торжественное празднование её семнадцатилетия решили отменить, потому что сама Анна не очень-то жаждала бурного действа, да и Жарне не рекомендовал чрезмерных безумств во время беременности. Знал ли он, что безумства всё-таки происходили — пусть и совсем иного плана, нежели он имел в виду.
Два человека, помимо Анны и Шарля, догадывались об истинном положении дел. Точнее, первый не догадывался, а был уверен — это Дорнье. Ни разу за всё время беременности он не заговорил с Анной-Франсуазой на эту щекотливую тему, ни разу не подал ни одного намёка, и тем не менее Анне было с ним рядом неуютно, странно. Особенно когда поблизости находился отец. Вторым человеком была, как нетрудно предположить, служанка Жанна, и герцогиня всерьёз опасалась, что та распустит язык. Нет, теоретически Жанна ничего не знала, да и доказательств никаких у неё не было (а какие могут быть вообще доказательства отцовства? Схожесть или несхожесть черт?), но слухами земля полнится, а источниками слухов всегда были именно слуги. Поэтому Анна-Франсуаза в глубине души таила неприятный, но разумный план: родить ребёнка, а затем избавиться от Жанны. Конечно, не убивать, но отправить куда-нибудь подальше, хоть в каменоломни, если туда, конечно, берут женщин. Общественное положение Анны позволяло ей без труда сделать со служанкой всё, что угодно.
Но всё это было делом будущего, а пока следовало жить настоящим. И Анна жила, поглаживая живот, чувствуя порой обыкновенное для беременных недомогание, всё реже и реже посещая Шарля, всё больше и больше становясь обычной женщиной. Это нравилось всем, кроме Анны. Более всего, наверное, радовался Дорнье, которому давно уже осточертели выходки Анны и который справедливо полагал, что ребёнок будет её ограничивать, ещё не родившись, что уж говорить о том, когда ей придётся за ним, крошечным, ухаживать. Тем более Анна заявила де Торрону: «Я сама буду его кормить». — «Как? — поразился муж. — Так не принято!» — «Мне неважно, что принято, а что не принято, это мой ребёнок, наш ребёнок, — поправилась она, — и я не хочу подпускать к нему других женщин, что, если кормилица уронит его или ещё чего похуже?» Де Торрон легко согласился — как он легко соглашался со всем, что не имело прямого влияния на его земли, доходы и коллекцию монет.
Удивительно, но ребёнок, зачатый престранным образом, не без приключений, ребёнок, должный унаследовать необыкновенные качества отца и матери, вёл себя в утробе абсолютно спокойно — не толкался, не бултыхался, просто рос — и всё. За два месяца до назначенного срока родов успокоилось всё и во внешнем мире: Шарль делал переплёты, де Торрон собирал монеты, герцог ждал внука, Дорнье занимался таинственными экономическими предприятиями, Жарне иногда навещал Анну и говорил, что всё в порядке.
И Анна, и Шарль порой размышляли о том, какими будут их отношения после того, как сын родится (в том, что это будет мальчик, они не сомневались). Шарль полагал, что Анна по-прежнему будет навещать его в мастерской. Анна думала, что она приблизит Шарля к себе и сделает личным переплётчиком дома де Торрона, что позволит им встречаться намного чаще. Шарль иногда брал в руки книгу, переплёт которой содержал в себе частичку Анны, и проводил рукой по его поверхности. У Анны ничего не было от Шарля, и она просто предавалась воспоминаниям.
И это кажущееся спокойствие, это удивительное затишье не предвещало ничего хорошего: по крайней мере, так могло бы показаться нам с вами. Участники же описанного действа верили в светлое будущее и смотрели вперёд с надеждой.
Единственное, что тревожило Шарля — откуда-то изнутри, едва заметно, — это мысль о самой главной книге. Он всё-таки собирался её найти и переплести. И в определённой мере он понимал, что это не может быть книга счастья, потому что настоящее искусство рождается только из горя, смерти, страданий и трагедий. Что ж, он обязательно получит свою книгу.
Часть 4 Дорнье
Глава 1 ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Анна-Франсуаза де Жюсси, герцогиня де Торрон, рожала в муках. Жарне не знал, что происходит, и совершенно не был готов к трудным родам. Он был настолько расстроен и рассеян, что даже разрешил травнику Шако напоить Анну какими-то болеутоляющими растворами, которые могли хоть как-то облегчить процесс. Анна-Франсуаза орала во весь голос, выгибалась, точно во время приступа столбняка, билась, металась по кровати и постоянно вырывалась из рук державших её служанок. «Держать! — приказал Жарне. — Пусть будут синяки — неважно, держать!» — Лекарь сам выполнял роль повитухи, он уже мог нащупать ребёнка, но тот всё никак не двигался, точно что-то его, крошечного, удерживало внутри. Ребёнок шёл головой вперёд, и теоретически никаких проблем не предвиделось, тем более странным казалось лекарю происходящее. Умудрившись каким-то образом просунуть руку мимо ребёнка вглубь, он нащупал пуповину в том месте, где её никак не должно было быть, — слава богу, что не вокруг тонкой шейки. Ребёнок запутался в пуповине, и Жарне плохо представлял, как его из неё выпутать. Он принял в своей жизни не одни роды, но прежде ему более или менее везло: все возникавшие проблемы были так или иначе разрешимы. Теперь же он не знал, что делать. И Жарне принялся на ощупь, одной рукой распутывать дитя, параллельно подтягивая его к выходу. Анна-Франсуаза орала так, что служанки совершенно оглохли, и даже де Торрон проявил нешуточное волнение, вымеряя широкими шагами совершенно правильный круг по одной из гостиных. Он боялся подходить к спальне из суеверных соображений. Герцогу казалось, что если он появится, то всё непременно закончится плохо, а так есть хоть какой-то шанс.
Шарль ничего не знал. В тот день он работал над переплётом — обыкновенным, не из человеческой кожи. Он примерно представлял себе, когда должен родиться ребёнок — плюс-минус неделя, но никакой расхваленной романистами духовной связи с Анной у него не было. И потому Шарль работал, сердце его было спокойно. Он понимал, что у него будет не то чтобы много возможностей увидеть ребёнка. Переплётчик был готов к тому, что на сына он сможет посмотреть лишь через несколько лет, когда того уже будут выводить в свет.
Тем временем Жарне почти справился. Он сумел как-то освободить ножку от одного витка пуповины, и ребёнок начал продвигаться. Правда, заодно у Анны началось серьёзное кровотечение, остановить которое до извлечения ребёнка не представлялось возможным. Она уже не орала, а просто стонала, протяжно, мучительно, несколько визгливо. Наконец, показалась головка, затем тельце — и ножки. Ребёнок, измазанный в крови, тем не менее был вполне нормальным и дышал. У Жарне отлегло от сердца. Он мгновенно перерезал пуповину, передал ребёнка помощнице-повитухе, а затем принялся искать источник кровотечения. Анна к этому моменту потеряла сознание.
«Мальчик», — сказала помощница и принялась обмывать ребёнка. Он разразился плачем и описался, чем вызвал бурный восторг окружающих. А вот у Анны-Франсуазы всё было не столь хорошо. Она бледнела на глазах, Жарне не мог понять, откуда течёт кровь, и руки его постепенно начинали дрожать. И самое страшное, что на глаза доктора наворачивались слёзы, потому что он боролся до последнего за человека, которого любил, и при этом понимал, что борьба тщетна, что ничего не выйдет. Он уже знал, что Анна-Франсуаза умрёт.
На несколько секунд она пришла в себя и, посмотрев на Жарне, попыталась что-то сказать. Он поднёс ухо к её губам, и услышал: «Книга, книга, я стану книгой, Шарль, я буду твоей книгой». И это были её последние слова. Ещё некоторое время Жарне пытался что-то сделать — а потом сел на край постели и закрыл окровавленными руками лицо. Он плакал.
«Скажите герцогу», — поднял он голову. Кто-то из слуг побежал выполнять. Де Торрон появился менее чем через минуту, взволнованный, вспотевший, хмурый. Сначала он бросился к ребёнку — и лицо его разгладилось, он понял, что с сыном всё в порядке, что мальчик жив и здоров, и уже готов, видимо, приложиться к груди кормилицы. Жарне всё предусмотрел и, несмотря на желание Анны-Франсуазы самостоятельно вскармливать ребёнка, подготовил женщину, готовую в любой момент заменить мальчику мать. Герцог же подошёл к кровати и посмотрел на окровавленного Жарне, на бледную, неподвижную Анну, после чего сказал: «Судьба». Больше он ничего не сказал и вышел из комнаты.
В первые несколько дней после трагических событий де Торрон показал себя заботливым и любящим — в меру — отцом. Он ежедневно приходил проведать ребёнка, пытался с ним заигрывать, хотя кормилица и говорила: «Рано ещё, слишком рано, хотя бы недельки две потерпите, он пока ещё вообще ничего не соображает». Про Анну же герцог будто бы и не вспоминал. Пожалуй, такое отношение можно было назвать защитным механизмом: мысль о том, что Анна умерла, вызывала непроизвольное дрожание нижней губы и желание заплакать, пусть он и не слишком любил супругу, скорее относился к ней с уважением. А плакать на публике герцогу де Торрону не пристало. Поэтому он постарался забыть. Главное было — пережить похороны, а там, глядишь, и всё снова наладится.
Совсем иначе переживал смерть дочери герцог де Жюсси. Горе перемешалось внутри него с радостью в равных пропорциях, и герцог то плакал, то смеялся, настроение его менялось раз в полчаса, и никто не мог предсказать, какой будет реакция хозяина на тот или иной внешний раздражитель. Когда де Жюсси думал о внуке, он воспринимал любую новость с восторгом — будь то даже что-то не слишком хорошее (например, через два дня после родов в одном из герцогских лесов случился пожар, унесший не только треть древесного массива, но и десяток жизней поселян, обитавших практически на опушке; герцог, услышав про это, сказал: «Ну и ладно, лесом больше, лесом меньше, разве это имеет хоть какое-то значение?»). Когда же де Жюсси вспоминал дочь, настроение его тут же становилось чернее тучи, он хмурился и орал на Дорнье, что не просто выбросит его, нерадивого неумеху, на улицу, но предварительно отрежет управляющему оба уха и язык, чтобы знал, против кого пошёл. Дорнье, у которого никогда и в мыслях не было противоречить герцогу в чём-либо, кивал, соглашался и незаметно отступал в тень, чтобы переждать бурю.
Сам Дорнье переживал больше самого де Жюсси. Он знал Анну-Франсуазу гораздо лучше, чем её собственный отец, и потому чувствовал за собой неприятную обязанность: поехать к Шарлю и оповестить его о смерти возлюбленной. Эту обязанность он оттягивал как мог: минул первый день, второй, и тело Анны-Франсуазы уже перевезли в отцовский дом, чтобы похоронить на фамильном кладбище (де Торрон согласился с этим решением; впрочем, ему было безразлично, где будет покоиться Анна), да и Шарль скорее всего уже всё знал, потому что слухи о подобных происшествиях в столь известных семьях распространяются быстрее ветра. И когда Дорнье уже был готов к беседе с переплётчиком, его внезапно вызвал герцог.
Войдя, Дорнье постарался сразу, по выражению лица господина, понять, в каком тот настроении, но безуспешно. Глаза герцога были пусты, а на столе перед ним лежала книга в переплёте из человеческой кожи. Дорнье стоял перед де Жюсси и ждал приказаний, но тот молча смотрел в пустоту, не произнося ни слова. Так прошло три или четыре минуты. Наконец, герцог пошевелился, подался вперёд и уставился на управляющего. «Дорнье, — сказал он, — ты понимаешь, как много для меня значила моя девочка». — «Да», — кивнул Дорнье. «Я хочу, чтобы её частичка всегда была со мной — как теперь со мной частичка её матери. — С этими словами он пододвинул книгу вперёд. — Езжай прямо сейчас, — продолжил герцог, — не откладывай ни на секунду, я знаю, что есть у тебя какой-то переплётчик, который умеет делать подобные книги лучше всех, и он сделал для меня эту, а потом, кажется, целую кучу книг из кожи того жирного подонка, так пусть он теперь сделает ещё одну; времени мало, я знаю, что кожа должна быть годна к обработке, поэтому торопись, Дорнье». Управляющий поклонился. Он решил не расспрашивать герцога ни о чём, просто сделать всё на своё усмотрение, как сделал он в прошлый раз, — и сделал великолепно. Но теперь работа осложнялась целым рядом факторов. В частности, Анна-Франсуаза для де Грези — родной человек, мать его ребёнка и любовь всей жизни, и управляющий не знал, как переплётчик отреагирует на её смерть.
Конечно, везти Анну в мастерскую было нельзя. Переплётчик должен был снять необходимое количество кожи здесь, во дворце, например в подвале месье Жюля. Поэтому, поклонившись, Дорнье тут же сел в карету и отправился на улицу Утраты. В дороге он думал, что нужно сказать де Грези и под каким соусом подать смерть Анны. Видимо, стоило сначала осчастливить его тем, что родился сын, и сын этот пока что совершенно здоров и находится под неусыпным надзором Жарне и Шако. Затем можно было переходить к трагическим вестям.
Переплётчик оказался дома, причём в своём основном кабинете, так как на стук в дверь он отреагировал практически мгновенно. Увидев на пороге Дорнье, он весь напрягся, вытянулся, как струна, и, не раскланиваясь, даже не поприветствовав гостя, спросил: «Ну что, как там, родила?» — «Да, — с порога кивнул Дорнье, — мальчик, красивый и здоровый, можно теперь войти?» Шарль пропустил визитёра внутрь. «А Анна?» — спросил он. «Анна умерла».
Шарль застыл. «Как умерла?» — «В родах». — «Почему умерла?» — «Потому что роды были трудными, и в первую очередь нужно было спасать ребёнка». — «Как?» — «Господин де Грези, я понимаю ваши чувства, но нам нужно поговорить спокойно». — «Как умерла?» — «Пойдёмте, господин де Грези». Дорнье взял Шарля под руку и медленно повёл вверх по лестнице. Переплётчик шёл механически, переставляя ноги, точно заводная игрушка. Дорнье ввёл Шарля в кабинет и усадил на стул посетителя, сам же занял хозяйское кресло. «Господин де Грези, у вас родился сын — здоровый и румяный мальчик, сейчас он у кормилицы; вы понимаете, что я говорю? — Шарль кивнул. — Но Анна-Франсуаза умерла — так бывает, так умерла и её мать, из кожи которой вы сделали переплёт семнадцать лет тому назад; вы понимаете?» — «Да». — «Но я здесь вовсе не для того, чтобы вам это сообщить». — «А для чего?» — спросил Шарль. Он впал в какой-то странный ступор, осознавая и переваривая поступающую информацию, но лишившись всех чувств, оперируя лишь голой логикой, фактами, разумом.
«Я здесь для того, чтобы поручить вам одну очень важную работу». — «Какую работу?» — «Вы должны сделать переплёт из человеческой кожи». — «Из её кожи?» — «Да, из её кожи».
Они замолчали. В голове переплётчика двигались шестерни, приводы, ремни, они перекручивали, перемалывали полученную информацию. Новое чувство поднималось изнутри, чувство, доселе незнакомое, странное, кажущееся неестественным в подобной ситуации. Анна-Франсуаза, его возлюбленная, его единственная, умерла страшной смертью, в муках произведя на смерть их общего ребёнка, но Шарль внезапно осознал, что ступор, в который он впал, услышав от Дорнье трагическую новость, не связан со скорбью, обидой, горем. Он понял, что с первой же секунды его внутренний механизм, его странное, скрытое «я» анализировало, вспоминало, раскладывало по полочкам веснушки на плечах Анны-Франсуазы, её родинки, шрамы, едва заметные складочки на коже — для того, чтобы сдержать обещание и сделать книгу её памяти. И вот теперь Дорнье просил его, Шарля Сен-Мартена де Грези, о том же самом.
«Я согласен», — спокойно сказал Шарль. Сердце его успокоилось, глаза приобрели стальной блеск. «Я догадался», — ответил Дорнье. «О чём?» — «О том, что она просила вас сделать этот переплёт». — «Да, просила». — «Что ж, тогда у нас общая цель и интересы; проблема состоит в том, что она умерла позавчера, и кожу нужно снимать и обрабатывать срочно; полагаю, лучше вас никто с этим не справится». — «Видимо, да». — «Но мы не можем транспортировать тело сюда, тем более тайно: вы поедете со мной и проделаете все необходимые операции там; работать будете у себя, но уже после похорон, и да, кожу с лица и рук снимать нельзя, проводить её придёт много людей, и мы не можем во второй раз, точно как с её матерью, организовать тайные похороны». — «Я должен взять инструменты и растворы». — «Конечно, у меня большой экипаж, вы можете взять с собой всё, что необходимо; сколько времени вам нужно на сборы?» — «Около получаса, полагаю». — «Хорошо, тогда я буду ждать вас снаружи, в экипаже; вам не понадобится помощь слуги?» — «Нет, я всё вынесу сам». — «Хорошо, я жду вас».
Дорнье вышел. Шарль уже не жил — он существовал и действовал. Внутри него включилась машина, он стал удивительным автоматоном[103] работы Камю[104] или Турриано[105], поющая внутри него птица никоим образом не могла сбиться с ритма или сфальшивить. Он прошёл в первый дом, спустился в подвал, взял набор ножей для снятия кожи, деревянный бидон с раствором для первичного замачивания — и направился к выходу. Снаружи и в самом деле ожидал чёрный экипаж с гербом де Жюсси, Дорнье сидел на козлах рядом с кучером. Увидев Шарля, выходящего из соседней двери, он спустился и молча, не привлекая слугу, сам открыл дверь кареты. Шарль забрался внутрь, оставив снаружи только бидон; управляющий подал последний, а затем сел в экипаж и сам. Они тронулись.
«У вас есть требования к оформлению книги?» — «Нет, я думаю, вы лучше нас всех, вместе взятых, знаете, как должна выглядеть книга её памяти; сколько кожи понадобится для изготовления переплёта?» — «Немного, пласта со спины должно хватить, но на всякий случай я бы запас чуть больше». — «Хорошо, вы сделаете так, как посчитаете нужным». — «А сама книга — о чём она, что вы хотите переплести?» Дорнье покачал головой: «Если бы я знал сам; наверное, выбрать книгу тоже придётся вам, господин де Грези».
Остальной путь они проделали в полном молчании. Лишь заезжая в ворота замка де Жюсси, Дорнье сказал: «Герцог в чудовищном горе, вы должны понимать, он не всегда себя контролирует; ведите себя как можно спокойнее и тише, если он вдруг нам встретится, хотя мы постараемся этого избежать». — «Хорошо». — «Анна-Франсуаза лежит в своей комнате, но я так понимаю, что спальня — не лучшее место для нашего дела». — «Не лучшее». — «А какое требуется?» — «Чтобы его не нужно было потом отмывать». — «Подвал?» — «Лучше всего». — «Тогда вы подождёте прямо там, в подвале, его хозяин — месье Жюль, он вам поможет». — «Кто такой месье Жюль?» — «При герцоге он выполняет, так сказать, несколько щекотливые функции, например, если кто-то сильно герцогу навредил, месье Жюль поможет восстановить справедливость». — «Догадываюсь». — «Вот и славно; в общем, тело мы со слугами принесём прямо к вам, вы же можете пока подготовить рабочее место». — «Да».
Карета объехала дворец и остановилась у домика месье Жюля. Палач открыл дверь — он ждал гостей. Дорнье помог Шарлю донести бидон до дверей и представил палача и переплётчика друг другу. Оба молча кивнули. «Что ж, — сказал Дорнье, — полагаю, что в течение получаса-часа мы принесём Анну-Франсуазу, ждите». И ушёл.
«Вам нужен стол?» — спросил Жюль. «Да». — «Пойдёмте вниз». Они спустились в подвал; посередине находился тот самый стол, на котором пытали некогда Арсени и Одноглазого. «Годится?» — «Вполне, только надо застелить тканью, желательно не очень грубой». — «Хорошо, что ещё?» — «Всё, больше ничего не нужно». Жюль кивнул и пошёл наверх за покрывалом. Шарль огляделся и поразился тому, насколько пыточная — инструменты, развешанные на стенах, не оставляли сомнений по части назначения помещения — напоминает его собственный подвал-мастер-скую. Только он работал с уже мёртвыми людьми, а Жюль — с ещё живыми.
Шарль провёл рукой по столу. Через некоторое время сюда положат Анну-Франсуазу — мёртвую. Её больше нет. Он больше никогда не почувствует её тёплое дыхание, не услышит её звонкий голос, не уткнётся носом в её густые рыжие волосы. Но в противовес смерти есть нечто иное — возможность сделать книгу, главную книгу. Лишь одно не давало Шарлю покоя — и это был вовсе не сын. О мальчике переплётчик не думал вовсе, тот был ему в определённой мере безразличен. Шарль никак не мог понять, что же должно быть написано в книге и почему она станет самой главной. Головоломка не сходилась, не собирались в единое целое осколки кувшина. Шарль думал, думал напряжённо, пытался поймать какую-либо подсказку, какую-либо идею, лежащую на поверхности, но почему-то не замеченную прежде, — и ничего не находил. Оставалось надеяться на будущее. Возможно, когда он, Шарль, увидит Анну-Франсуазу и тем более когда начнёт работать над переплётом, появится и книга.
Через несколько минут вернулся Жюль и постелил на стол большое покрывало. Шарль только кивнул. Жюль ничего не спрашивал и не пытался завязать разговор, просто вернулся к себе наверх. Шарль сел на стул и провёл в такой позе примерно полчаса — до момента, когда открылась входная дверь и четверо пажей внесли носилки с телом Анны-Франсуазы. Шарль услышал шум наверху и вскочил. Он встал у лестницы, и когда ноги первого пажа показались на ступеньках, сердце переплётчика чуть не выскочило из груди. Носилки спускали медленно, стараясь не наклонять — слава богу, ширина лестницы вполне это позволяла.
Тело было накрыто красным покрывалом. На стол Анну положили прямо на носилках, поэтому покрытие, принесённое Жюлем, оказалось излишним. Шарль не торопился. Последним вниз спустился Дорнье и сделал пажам знак покинуть подвал. Через некоторое время спустился и Жюль, но управляющий тут же отослал его обратно наверх. Только тогда Шарль нарушил молчание: «Я могу приступать?» — «Да». — «При вас?» — «Нет, конечно, не при мне; главное, не повредите шею, руки, лицо — всё то, что не будет прикрыто платьем». — «Не беспокойтесь, я сделаю всё аккуратно, практически незаметно». — «Я вас покидаю». — «Да, конечно». — «Если что, Жюль наверху; его можно попросить о помощи; когда закончите — зовите Жюля, а он вызовет меня». — «Хорошо».
Дорнье ушёл. Сверху послышались звуки разговора, затем входная дверь хлопнула. Шарль подошёл к покрывалу. Четыре свечи, стоявшие около стола, причудливо играли тенями пыточных принадлежностей на стенах помещения. Шарль медленно снял покрывало с головы Анны-Франсуазы. И только теперь поверил, что она действительно умерла.
Она была прекрасна. В оранжевом свете кожа Анны не казалась мертвенно-бледной. Вот-вот, ещё минута, и юная герцогиня встала бы, обняла бы Шарля, поцеловала бы его в небритую щёку. Переплётчик закрыл глаза в ожидании лёгкого прикосновения её губ, но затем помотал головой, отбрасывая наваждение прочь. «Она мертва», — сказал он вслух — и решительным движением скинул покрывало.
Анна была одета, что несколько усложняло задачу. В своей мастерской он просто срезал с мертвецов одежду, здесь же не был уверен, что дорогое платье можно безнаказанно испортить. Поэтому в течение следующих нескольких минут переплётчик возился с многочисленными застёжками, булавками и узелками. Интересно, каково надевать подобный наряд на мёртвую. Наконец, он справился, не без труда освободил тело от юбки и лифа; с нижней рубашкой он не церемонился, просто разрезав её по шву. Анна теперь лежала перед Шарлем обнажённой, и кое-где он заметил посинения, говорящие о том, что кожа с этих мест уже не годится для обработки.
Он аккуратно перевернул тело на живот. Его рука ненароком задела промежность Анны, Шарль почувствовал возбуждение — и попытался сразу же его унять. Он должен быть механизмом, он ничего не должен чувствовать. Спина была в неплохом состоянии; по крайней мере, было с чем работать. Шарль быстро и аккуратно вырезал большой квадрат — как раз на один переплёт могло хватить. Затем он принялся за ноги, сняв широкие участки с ляжек и полностью очистив от кожи голени. В принципе, материала уже хватало.
Он перевернул тело. Следы вмешательства переплётчика оказались внизу, Анна снова выглядела как живая. Шарль закрыл глаза. Но даже с закрытыми глазами мир вокруг него начал кружится, и с каждой секундой кружился всё быстрее и быстрее, и вдруг яркая вспышка затмила — именно затмила, а не озарила — подвал, и всё исчезло, наступила тьма. Тьма была непроницаема, просто чернота, не ночная, а абсолютная, точно переплётчик оказался в закрытом и закопанном гробу. Тишина тоже стояла поистине оглушительная. Внезапно из тьмы начали проступать контуры, их выпирающие элементы поблескивали серебристым, и потому Шарль начал узнавать предметы. Перед ним на чёрной поверхности разыгрывалась барельефная сценка, будто силуэты актёров и реквизита продавливали натянутую плёнку с обратной стороны. Справа появился человек, несущий в руке топор, слева — другой. Левый остановился перед Шарлем, встал на колени и наклонил голову, первый снёс её одним ударом. Слева снова появился человек, сценка повторилась. Потом ещё раз, и ещё, и каждая новая жертва появлялась всё быстрее и быстрее, и палач орудовал топором с нечеловеческой скоростью, и вдруг Шарль осознал, что тот и не является уже человеком, преображаясь во что-то невероятное. Палач стал выше ростом, ноги его вытянулись, а туловище спрессовалось, и топор двигался уже не перед ним, а где-то между его ног, и ходил вверх-вниз, удерживаемый тонкой, точно верёвка, рукой. Палач стал незнакомым Шарлю механизмом, рамой с опускающимся ножом, и головы катились по наклонному полу одна за другой. Так продолжалось некоторое время, и постепенно пол под палачом начал менять цвет — с чёрного на красный. Кровавое пятно расползалось, захватывало всё новые и новые территории, обтекало силуэт машины-палача, захватывало его жертв, следовало за их катящимися головами. И вдруг оно вырвалось из плоскости и ударило Шарля тугой солёной струёй, смело его; соль попадала в глаза и в рот, разъедала его кожу, но при этом кровь поднимала его всё выше и выше, где-то там, на запредельной высоте маячил едва заметный свет, и с каждой секундой он становился всё ярче и ярче, пока не превратился в ослепительно-белое солнце. Шарль почувствовал невероятно возбуждение, он понял внезапно, что может прямо сейчас оплодотворить всю планету собой, да что планету — заполнить Вселенную своим семенем, и он протянул руку, чтобы дотронуться до своего полового органа — но нашёл там женское влагалище, чрезмерно большое, с каким-то безумным количеством кожных складок, в этот момент Шарль достиг оргазма — и открыл глаза.
Анна-Франсуаза по-прежнему лежала перед ним. На её некогда прекрасном теле осталось всего несколько нетронутых участков кожи — лицо, шея, руки. Остальное было аккуратно нарезано и сложено в стопку, прослоённую тканью, которую принёс Жюль. Шарль посмотрел на свои руки: они были в крови и трупных отложениях.
По ноге стекала вязкая горячая жидкость.
Глава 2 ПРАВДА ДЕ ГРЕЗИ
«Ничего себе», — сказал месье Жюль. В глазах бывалого палача было удивление. Он не впервые сталкивался с человеком, лишённым кожи, но столь искусно проделанной работы не видел никогда. Граница, отделяющая нежную шею Анны-Франсуазы от окровавленного мяса на месте груди была абсолютно ровной, аккуратной, будто нарисованной на бумаге. Переплётчик стоял рядом и молча смотрел на Жюля. «Всё?» — спросил тот. «Да». — «Тогда я пойду за Дорнье». — «Да, идите». Жюль вышел.
Де Грези смотрел на дело рук своих. Он уже не видел Анну-Франсуазу, хотя лицо и волосы последней оставались нетронутыми. Анна-Франсуаза переселилась из этого изуродованного тела в аккуратную стопку кожи, сложенную на другом верстаке, у стены помещения. Шарль ещё раз осмотрелся, затем обратил внимание на тело Анны. Он попытался вызвать в себе те же ощущения, которые привели к возбуждению до того, — но не смог. Перед ним лежал просто труп, ничего особенного.
Дорнье спустился минут через пять. За это время Шарль нашёл в помещении бочку с водой, вымыл руки и сполоснул лицо, проверил, нет ли пятен на одежде: нет, всё в порядке, он работал аккуратно. Сойдя вниз, управляющий посмотрел на тело Анны и спросил: «Неужели понадобится столько кожи?» — «Я не знаю, сколько понадобится, взял с запасом». — «Ладно, мои требования вы выполнили, снаружи ничего видно не будет». — «Тело следует обложить компрессами, чтобы платье не намокало». — «Естественно, тут мы сами всё решим; но есть ещё один момент». — «Какой?» — «Герцог хочет посмотреть на человека, который будет делать книгу его дочери». — «Я уже виделся с герцогом». — «Когда?» — «Когда спас Анну». — «Да, конечно, но герцог пока этого не знает, и я, если честно, об этом не подумал; тем более вам будет проще найти общий язык». Шарль кивнул. «Пойдёмте». Дорнье направился вверх по лестнице, Шарль — за ним. «Кожу в таком виде можно транспортировать?» — спросил Дорнье. «Да». — «Тогда её перенесут в карету». — «Хорошо».
Они вышли из домика. Жюль стоял на крыльце. «Отнесите кожу в экипаж». Жюль кивнул. Они миновали двор и вошли через боковую дверь в левое крыло дворца. «Имейте в виду, — заметил Дорнье, — я не хотел, чтобы вы виделись с герцогом, он сейчас, как вы понимаете, несколько взбудоражен; я не берусь предсказать его реакцию на те или иные ваши слова и поступки; поэтому постарайтесь ограничиться минимальным количеством слов и телодвижений; вы меня поняли?» — «Да».
Они прошли в библиотеку. «Вот дверь в его кабинет, — сказал Дорнье. — Сначала зайду я, затем вы. Много времени аудиенция не займёт, хотя я не знаю, чего он от вас хочет. Будьте готовы ко всему». Шарль кивнул. Дорнье постучал, из-за двери донеслось: «Войдите». Управляющий исчез за дверью, следом вошёл переплётчик.
Герцог де Жюсси поднял глаза от бумаг и оглядел гостей. «Я вас знаю», — сказал он. «Да, господин герцог». — «Это вы спасли мою дочь года полтора назад». — «Да, это я». — «А я так и не заказал вам книгу, как обещал». — «Да». — «Что ж, — герцог поднялся, — значит, случай решил то, чего не смог решить я; теперь вы сделаете книгу; Дорнье сказал, что вам можно доверять». Повисла пауза; было бы странно, если бы Шарль сам сказал: да, мне можно доверять. Дорнье понял причину молчания де Грези и спас положение: «Я за него ручаюсь». — «Нет, Дорнье, так не годится, — сказал герцог, — я обращаюсь к вам, господин переплётчик, и я хочу услышать от вас: я сделаю лучший переплёт в мире, я создам шедевр». Де Грези поднял глаза. «Да, — сказал он, — я клянусь собственной жизнью, что этот переплёт будет лучшим из всех, которые когда-либо делал представитель моего цеха, и книга, которую он будет защищать, станет самой важной книгой из всех, когда-либо изданных». — «Вот так уже лучше, — сказал герцог, — и главное — не ошибитесь с книгой; я и сам не знаю, что я хотел бы видеть под вашим переплётом, но когда я увижу, я сразу пойму: это именно то, что нужно, или наоборот. Не ошибитесь». — «Я не ошибусь».
Герцог сел за стол, давая понять, что аудиенция окончена. Дорнье, стоявший чуть позади Шарля, открыл дверь; де Грези поклонился, повернулся и вышел из кабинета. Дорнье вышел вслед за ним, притворил дверь — и чуть не врезался в спину переплётчика, застывшего на месте. Перед Шарлем де Грези, точно напротив кабинета висел портрет герцогини Альфонсы д’Обильон, герцогини де Жюсси, написанный некогда для предсвадебной демонстрации герцогу. Она, статная, красивая, юная, смотрела с портрета прямо на переплётчика; ей было лет шестнадцать, её тонкая лебединая шея белела в красном кружевном воротнике пышного платья, зелёные глаза излучали внутренний свет. «Что случилось?» — спросил Дорнье. — «Кто эта дама?» — «Герцогиня де Жюсси, мать Анны-Франсуазы». — «Это старый портрет?» — «Да, ему почти сорок лет».
Шарль пошёл к выходу. «Кожа уже в экипаже», — заметил из-за спины Дорнье. «Да», — отозвался переплётчик. Они шли молча, затем управляющий обогнал гостя и пошёл впереди, чтобы удостовериться, что тот не заблудится в коридорах дворца. Они спустились на первый этаж, слуга в ливрее открыл дверь. Шарль споткнулся о порог, едва устоял на ногах; слуга поддержал его. «Всё в порядке, господин де Грези?» — спросил Дорнье. «Да-да, всё хорошо». Когда они подошли к экипажу, Дорнье задал ещё один вопрос: «Когда мне к вам заехать, господин де Грези?» — «Зачем?» — «Как зачем — предварительно посмотреть на эскизы, одобрить при необходимости выбранную вами книгу». — «Ах да, недели через две, я полагаю». — «Хорошо».
Де Грези уже забрался в экипаж — и тут повернулся к управляющему. «Господин Дорнье, позвольте задать вам один странный вопрос». — «Конечно, задавайте». — «В каком году мать Анны вышла замуж за герцога?» — «Да, — согласился Дорнье, — странный вопрос, — но в этом нет никакого секрета. Тридцать пять лет назад, в одна тысяча шестьсот пятьдесят первом; хотя тогда уже любезность за любезность — почему вы интересуетесь?» — «Нет-нет, — замялся Шарль, — просто я хотел уточнить, когда был сделан тот набросок, который я использовал для переплёта, до свадьбы?» — «Нет, практически сразу после неё и после первых родов; герцогиня тяжело их перенесла, и потому совершенно не похожа на себя на том наброске, но герцог всегда очень любил именно это изображение». — «Тридцать пять», — сказал де Грези вслух и откинулся на спинку сиденья. Слуга захлопнул дверцу, а Дорнье, возвращаясь к дворцу, хлопнул одну из лошадей по крупу, показывая кучеру, что можно трогать.
Дорога прошла быстро. Шарль смотрел в окно, но ничего за ним не видел — ни парижской грязи, ни каменных домов, ни крикливых торговцев на рыночных площадях. Голова его была совершенно пуста, точно бутылка, из которой высосали всё вино, а потом вымыли и просушили. Он даже не заметил, как экипаж остановился у мастерской и кучер, спрыгнув с козел, открыл дверцу.
Шарль сам принял из рук слуги стопку кожи и отнёс её внутрь. Оставив её на первом попавшемся столе, он сразу направился в старую половину, в кабинет отца. Там он открыл тот самый ящик, в котором хранились документы о его рождении, и извлёк нашейную ладанку со свёрнутым портретом девушки, его предполагаемой матери. Развернув тонкую ткань, он всмотрелся в черты — и теперь избавился ото всех сомнений. На портрете была изображена герцогиня Альфонса, мать Анны. Страшная догадка пронзила его разум и сердце. Конечно, существовала возможность ошибки, всё могло быть не более чем его догадками, но тем не менее вероятность того, что Анна-Франсуаза — его сестра, стала более чем осязаемой. Догадку следовало подтвердить доказательствами — или, что предпочтительнее, опровергнуть. И единственным человеком, которому Шарль в этом вопросе мог более или менее доверять, был, конечно, Дорнье. Переплётчик схватил ладанку и выскочил из кабинета.
Когда он выбежал из дома, кареты де Жюсси уже, конечно, не было. Переплётчик в считаные минуты поймал фиакр и крикнул извозчику: дворец де Жюсси. «Далековато, месье», — отозвался извозчик, но, поймав брошенный ему золотой пистоль, тут же тронул лошадей. Ехали довольно медленно, и Шарль не подгонял: у него как раз было время обдумать своё опрометчивое решение мчаться к Дорнье и предстоящий разговор с управляющим. Он удивлялся сам себе: ведь во время работы над той самой книгой он не заметил ни малейшего сходства, ему и в голову не могло прийти, что на портрете из ладанки и на эскизе изображена одна и та же женщина. Что же это получается — он сделал книгу из кожи собственной матери и собирается сделать вторую из кожи собственной сестры, причём последняя ещё и родила от него сына? Шарля, обычно хладнокровного, передёрнуло.
Наконец, они остановились перед воротами дворцового парка. Дальше хода не было, ворота были закрыты, около будочки стоял наёмник-часовой. Шарль вышел из кареты, оправил куртку и подошёл к часовому. «Добрый день», — сказал он. «Добрый день». — «Могу я увидеть господина Дорнье?» — «По какому делу?» — «Меня зовут Шарль де Грези, я переплётчик, я делаю для него одну работу, и мне нужно срочно уточнить у него некоторые моменты работы». Часовой кивнул и махнул какому-то слуге. «Беги к Дорнье, спроси у него, некто де Грези требует». Шарля несколько оскорбило, что его не пускают даже за ворота, но, впрочем, социальное положение герцога обязывало.
Минут через десять появился Дорнье на лошади, следом на второй — ещё один слуга. Слуга спешился, часовой открыл ворота, и через минуту де Грези уже ехал вместе с Дорнье к дому. «Скоро же вы вернулись, двух часов не прошло». — «Дело не терпит отлагательств». — «Что ж, излагайте ваше дело». Шарль не знал, с чего начать, и молчал. «Ну же», — подбодрил Дорнье. Шарль достал из кармана ладанку и передал её управляющему. «Что это?» — «Откройте». Лошадь шла медленно, Дорнье спокойно открыл ладанку и развернул ткань. Потом он пристально посмотрел на де Грези. «Откуда это у вас?» — «Я не родной сын Жана де Грези. Он взял меня из приюта, и это единственная вещь, бывшая тогда со мной». Дорнье остановил лошадь.
«Стойте», — сказал он. Голос его чуть не сорвался даже на этом простом, коротком и тихом слове. «Вы знаете, кто я?» — спросил Шарль. «Да, — ответил Дорнье, — теперь я знаю, кто вы; но поверьте, лучше бы ни мне, ни вам этого не знать». — «Мы с Анной — брат и сестра?» — «Да, по матери». — «У герцогини были дети до брака с герцогом?» — «Да, сын». — «И это я?» — «Да». — «А кто мой отец?»
Дорнье опустил голову. «Я, — ответил он. — Я ваш отец, Шарль». Де Грези смотрел на квадратного человека, сидящего на лошади в нескольких футах от него, и не мог поверить. Ни одной чёрточки, ничего он не взял от этого человека, ни одной линии фигуры, ни одного жеста, ни единой повадки. Тем не менее он чувствовал, что Дорнье не просто уверен в собственных словах. Дорнье в самом деле не ошибался.
«И что теперь?» — спросил Шарль. «Теперь мы будем жить с этим знанием — как жили и раньше». — «А ребёнок?» — «Да, ребёнок, — протянул Дорнье, — он рождён в результате кровосмешения, но, кажется, отклонений нет — по крайней мере, Жарне, наш врач, утверждает, что всё хорошо. Ребёнка будет воспитывать де Торрон, и имя ему даст также де Торрон. Возможно, когда-нибудь вы увидите этого ребёнка, моего внука. Вы же сделаете переплёт — лучший переплёт в своей жизни, вы прыгнете выше головы и совершите невозможное. Вы сделаете свой шедевр, потому что знание придаст вам сил. Я думаю, иногда я буду навещать вас. Вы всегда были мне интересны, теперь же у этого интереса есть некое логическое объяснение. Кровная связь не стирается».
«Да, видимо, так. Я не знаю, что ещё вам сказать; теперь мы оба знаем всё. А герцог, — спросил Шарль, — герцог не знает о том, что у герцогини был сын?» — «Нет, конечно, не знает. Она выходила замуж девственницей, врачи умеют имитировать такие вещи». Шарль кивнул, да, конечно. «Уезжайте, господин де Грези, вам здесь не место; я заеду через две недели, как мы и договаривались». — «Ничего не изменилось?» — «Ничего; езжайте прямо на этой лошади, можете оставить её себе». — «Спасибо». Дорнье усмехнулся.
Шарль развернул лошадь и тронул в сторону ворот. Дорнье посмотрел ему вслед, а потом понял, что так и не вернул переплётчику портрет Альфонсы. Он посмотрел на ткань, а потом смял её и засунул в карман. Альфонса давно умерла, а память о ней и так преследует его на каждом шагу. Надо будет сжечь этот портрет. Впрочем, нет. Именно Альфонса настояла на том, чтобы положить ладанку в колыбель ребёнка, потому что надеялась, что спустя много лет он найдётся. Что ж, она была права — но сама не дожила до этого момента. И хорошо, подумал Дорнье, не стоило бы ей знать, при каких обстоятельствах Шарль снова появился в жизни управляющего. Дорнье достал портрет, свернул его, аккуратно сложил в ладанку. Пусть это будет память о Шарле — будто они сейчас втроём — управляющий, герцогиня и их новорождённый сын.
Чувства нахлынули на Дорнье значительно позже — когда он сидел в своей комнате и смотрел на портрет Альфонсы. Нет, не на маленький портрет, доставшийся ему от переплётчика, а на большой, примерно три на пять футов, обычно свёрнутый и лежащий в чехле под кроватью. Будь его воля, Дорнье повесил бы портрет герцогини перед своим рабочим столом, и перед кроватью, и над трюмо, — чтобы видеть её прекрасное лицо постоянно, ежедневно, без единого перерыва. Но подобное поведение могло вызвать определённые подозрения у герцога, тем более слухи о том, что Дорнье иногда спит с герцогиней, при её жизни весьма активно ходили среди слуг. Конечно, это были не слухи. Дорнье действительно спал с женщиной, которую любил больше всей жизни, с единственной женщиной, сумевшей покорить его каменное сердце.
Когда отец Альфонсы, маркиз д’Обильон, узнал, что его дочь на выданье мало того что беременна, так ещё и неизвестно от кого, он поступил здраво. Так как отца ребёнка Альфонса выдавать отказалась категорически (характером Анна-Франсуаза пошла в мать), маркиз дождался родов, затем приказал ребёнка изъять и отдать в приют. Так как ребёнка относил лично Дорнье, которому было поручено это щекотливое дело, он по просьбе возлюбленной всё-таки положил в колыбельку крошечный портрет матери. За время беременности Альфонса ни разу не показывалась на публике — то под предлогом недомогания, то под предлогом отъезда, — а после родов грамотный врач проинструктировал её, как действовать, чтобы сымитировать девственность во время первой брачной ночи. Для этих целей обычно использовались крошечные капсулы, заведомо наполненные телячьей кровью.
Маркиз сам подобрал Альфонсе жениха; познакомились они, по сути, за пару недель до свадьбы, когда всё было уже решено. Впрочем, Альфонсу выбор отца устроил — де Жюсси был видным, симпатичным и мужественным. И очень, очень богатым. Единственным условием, которое поставила Альфонса, было то, что она возьмёт с собой в новый дом всех слуг и служанок, к которым привыкла, в том числе и Дорнье. Старик д’Обильон догадался, что среди них есть, вероятно, и отец мальчика, но вслух ничего не сказал. Будь что будет, подумал он, замуж выдали, а дальше уже не мои проблемы.
Восемнадцать лет Дорнье был любовником герцогини де Жюсси, и не просто любовником, а возлюбленным. Когда она умерла, он вдавил своё горе в такую глубь, в такую пропасть, что внешне никто бы не заподозрил, что он что-то чувствует. Он работал как механизм, как машина, выполнял поручения и принимал решения, и лишь по ночам, уткнувшись в подушку, беззвучно рыдал, открывая рот, точно рыба. Когда герцог потребовал сделать переплёт из кожи Альфонсы, Дорнье сперва пришёл в ужас, а затем понял, что книга будет памятью не только для герцога, но и для него. Правда, пошловатые стихи де Жюсси совершенно не нравились управляющему — и книгу он не читал, лишь поглаживал кожу переплёта и рассматривал портрет герцогини, сделанный каким-то проходимцем-художником вскоре после того, как она родила первого герцогского ребёнка.
Теперь боль вернулась. Она накатила внезапно, Дорнье вспомнил последние минуты своей возлюбленной, а потом, в обратном хронологическом порядке, её живую, прекрасную, молодеющую с каждым прожитым годом. На задворках сознания Дорнье мелькнула ещё одна мысль, которая заставила его задрожать. Эта мысль была у него и раньше, но никаких доказательств не было, и она могла оставаться не более чем пустым домыслом, рассуждением, не опирающимся на факты. Анна-Франсуаза тоже могла быть дочерью Дорнье.
Он старался об этом не думать.
Глава 3 ПОДГОТОВКА ГОЛЬЯ
Шарль Сен-Мартен де Грези, теперь имеющий полное право добавить к своим именам ещё и фамилию Дорнье, сидел за столом в новом кабинете и смотрел в пустоту. Есть мысли, которые попросту невозможно уложить в голове, они не способны соседствовать, вытесняя одна другую, выдавливая наружу — такими на описываемый момент являлись почти все мысли Шарля. Он сделал переплёт из кожи собственной матери. Он спал с собственной сестрой, и, более того, она родила от него сына. Ему вспоминался миф о царе Эдипе, но никаких выводов из этой ассоциации Шарль сделать не мог. Разум отказывался служить переплётчику.
Кожи, которую он снял с Анны-Франсуазы, хватило бы на пять-шесть переплётов. Он вспоминал обещание, данное своей возлюбленной сестре, и понимал, что не может его выполнить. Вовсе не потому что он не был готов работать с её кожей, нет. Просто Шарль по-прежнему не знал, какую книгу должно переплести в столь ценный материал. А через две недели приедет Дорнье (или теперь нужно называть его отцом?) и потребует отчёта. Но какой может быть отчёт, если он не знает даже, с какой стороны подступиться к работе.
В течение некоторого времени Шарль шарил взглядом по своим книжным полкам, но ничего более или менее подходящего не находил. Для главной книги не годились ни рыцарские романы, ни философские трактаты, ни сборники стихов, ни религиозные книги. Переплётчик осознавал, что не сможет найти нужную книгу среди уже написанных, — но упорно продолжал искать, чтобы хоть как-то отвлечься от страшных и печальных мыслей.
Ничего не помогало. Часы тикали, время шло, а голова была пуста — если говорить об идеях или вдохновении. Мыслей у Шарля хватало, но они в первую очередь были воспоминаниями об Анне-Франсуазе и об отце. Не о Дорнье, а о старике Жане де Грези, который стал Шарлю настоящим отцом. Пожалуй, единственным из родных людей, который ни разу не появился в Шарлевых размышлениях, был его сын. Шарль не хотел видеть ребёнка, не хотел даже знать, как того назвали. Да как угодно — не всё ли равно?
Впрочем, одна смутная идея у Шарля имелась — он готов был ей воспользоваться в случае, если ничего лучшего в голову не придёт. В один из дней он встал, подошёл к шкафам с книгами и добрался по приставной лестнице до предпоследней полки, откуда извлёк книгу в недорогом переплёте, сделанном примерно полвека назад. Это была рукопись Кирхера[106], странный манускрипт на неизвестном языке, по слухам написанный в начале XVI века Якобом Хорчицки[107], личным врачом римского короля Рудольфа II[108]. Хорчицки, будучи выдающимся травником и не менее знаменитым криптографом, создал манускрипт, который никто не мог прочесть; цели врача оставались загадкой. Де Грези приобрёл книгу после смерти Кирхера, который хранил её у себя вплоть до 1680 года. Переплётчик просто любил редкие книги; он не задумывался над расшифровкой текста, но хотел когда-либо переплести сборник загадочных письмен в человеческую кожу. Похоже, время наступало. Главная книга должна быть загадкой, так полагал Шарль, хотя твёрдой уверенности у него не было.
Необычайная пустота, наполнившая его жизнь, в определённой мере мешала рутинной работе. Шарль не видел смысла в тщательном выделывании переплётов для рядовых заказчиков и отказался от ряда серьёзных клиентов. Денег у него хватало. Чтобы как-то скоротать время, Шарль навёл в мастерской идеальный порядок — причём и в верхней её части, где работал над переплётами, и в подвале, где обрабатывал кожу.
Так минуло две недели — в пустоте. Жизнь казалась Шарлю какой-то шуткой, сыгранной с ним всемогущими богами. Для того чтобы жить дальше, требовался толчок, рывок, резкое изменение, понимание чего-то нового, недоступного ранее. Де Грези надеялся, что встреча с отцом — новым отцом, Дорнье — поможет. И он ждал.
Дорнье в то же время страшно переживал. Сначала казалось, что жизнь идёт своим чередом, но уже на второй день он начал безумно скучать по Шарлю, которого теперь воспринимал не иначе как сына. Он понимал, что запоздалая отцовская любовь совершенно не нужна взрослому, сложившемуся человеку, мастеру высочайшего класса, — но ничего не мог с собой поделать. Управляющему огромных трудов стоило не явиться к переплётчику на следующий же день, или на третий, или на четвёртый. Он сдерживал себя.
Когда наступил условленный пятнадцатый день, Дорнье сорвался. Он кругами ходил по своим покоям, не мог найти себе место, потом приказал: заложить экипаж — и отправился в город. И он точно знал, ради чего едет. Сделает ли Шарль книгу, не сделает — это для Дорнье уже не играло почти никакой роли. Значительно важнее было, примет ли его Шарль не как доброжелателя, не как друга, а как отца. Нет, не примет, говорил себе Дорнье, но в глубине его сердца теплилась надежда. По дороге в Париж он тщательно продумал разговор с переплётчиком. Он хотел начать с сухого диалога, обсудить исключительно рабочие вопросы, выяснить планы де Грези относительно книги — а там ненавязчиво перевести разговор на дела личные. И будь что будет.
Карета остановилась на улице Утраты около полудня. Дорнье вылез сам, не дожидаясь, пока кучер откроет дверь, и остановился у входа. Он махнул кучеру, мол, не обращай внимания, опёрся о стену рукой и уткнулся в предплечье лбом. Нужно было собраться с силами, с духом, решиться. Он вспомнил, как приехал сюда впервые — семнадцать лет назад, и был тогда холоден, строг и жесток. Но тогда он слишком многого не знал. Боже, подумал Дорнье, сколько лет он был рядом со мной, сколько лет я ничего не знал о собственном сыне. Потом он закрыл глаза — и постучал. Дверь открылась через несколько секунд.
Они стояли друг напротив друга, заказчик и клиент, отец и сын, два человека, связанные несколькими кровями. Между ними была их собственная кровь — и кровь Анны-Франсуазы, точнее, её обработанная, гладкая, аккуратная кожа, лежащая в мастерской Шарля и ожидающая своего часа.
«Добрый день», — сказал Шарль. «Добрый день», — отозвался Дорнье, и голос его сорвался. «Пойдёмте наверх, нам, видимо, есть о чём поговорить». — «Да». Они поднялись, и Дорнье сел на стул, потому что его немножко шатало, точно он был пьян. Перед ним лежала открытая рукописная книга, но он не мог прочесть в ней ни слова, лишь смотрел на рисованное изображение странного растения и думал о том, что сказать Шарлю. «Это кодекс Кирхера», — сказал переплётчик. «Что?» — «Эта книга». — «А-а». — «Она написана на неизвестном языке». — «В смысле вы его не знаете?» — «Никто его не знает; автор его придумал». — «Зачем вы мне это говорите?» — «Я пытаюсь предупредить ваш вопрос относительно того, какую книгу я хочу переплести в кожу Анны-Франсуазы». — «Эту?» — «Да». — «Почему?» — «Потому что ни вы, ни герцог, ни кто-то иной никогда не сможет её прочесть».
Дорнье взял книгу в руки. Ему инстинктивно не понравилась идея Шарля. Даже мысли о предстоящем разговоре личного характера отошли на второй план. «Это неправильно», — сказал он. «Да», — кивнул Шарль. «Вы согласны, что это неправильно, и тем не менее собираетесь поступить так?» — «Если не будет других вариантов». — «Мне кажется, это не в ваших правилах». — «Не знаю, — покачал головой Шарль, — я думаю, что книга должна быть рукописной». — «Да, но почему травник?» — «Это не травник, а скорее словарь. Он разделен на несколько частей, объясняющих разные явления». — «Вы судите по иллюстрациям?» — «Да». Дорнье положил трактат на стол и поднялся.
«Это глупости, Шарль, — сказал он, — просто мы боимся говорить о том, о чём должны». Де Грези потупил взгляд. «И что теперь?» — спросил он. «Я хочу понять, — отозвался Дорнье, — о чём ты думаешь; хочу понять, чем ты дышишь, кроме своих книг и кож». — «Я дышал Анной». — «А теперь ты будешь дышать её сыном?» — «Как его зовут?» — «Анри». — «Хорошее имя; почему его так назвали?» — «В честь отца де Торрона». — «Видите, — сказал Шарль, — я не могу дышать ребёнком, принадлежащим другому человеку, пусть даже я зачал его; то, что я — отец с точки зрения природы, не даёт мне никакого преимущества и тем более — никакого права на этого ребёнка, на его воспитание, на влияние». Дорнье печально усмехнулся: «Тонкий укол». — «Это не укол, господин Дорнье, — это, к сожалению, правда; поверьте — я сделаю книгу, и сделаю её лучше, чем кто бы то ни было другой, но это ничего не изменит, потому что вы — не мой отец; мой отец — Жан де Грези, переплётчик; а матери у меня никогда не было, лишь кормилица Мари, которая исчезла много лет назад, поэтому я не могу сказать о герцогине: мать, вот и всё».
Дорнье замолк, глядя в пол. «Мне лучше уйти?» — «Да». — «Вы сможете сделать книгу?» — «Да, смогу». — «Когда мне заехать за ней?» — «Лучше пришлите кого-нибудь, слугу». — «Хорошо, пришлю». — «Думаю, через два месяца, через восемь недель». — «Хорошо».
Повисло молчание. Дорнье не хотел уходить. Он поднял взгляд на Шарля. Это был так или иначе его сын, и Дорнье таил надежду всё-таки достучаться до его холодного сердца. Но в глазах Шарля он не видел ничего — лишь прозрачную пустоту. Хотя нет: что-то промелькнуло в глубине зрачков переплётчика. Дорнье всмотрелся в их бездонность, и Шарль не отвёл взгляда. И Дорнье внезапно понял, что ждёт его там, в черноте, окружённой серовато-голубой радужкой. Дорнье понял, что Шарль уже знает, о чём будет его главная книга, просто не хочет об этом говорить. Тогда управляющий развернулся и покинул дом переплётчика, чтобы вернуться через два месяца.
Как только Дорнье вышел, Шарль закрыл за ним дверь и пошёл на кухню. Там он развёл огонь — тщательный, большой, аккуратный, уложив поленья ровными слоями со щелями для пропуска воздуха. Делал он это механически, бездумно. Он знал, что нужно сделать всё именно сейчас — иначе он просто не решится. Затем Шарль пошёл в мастерскую и взял кожу, снятую с Анны-Франсуазы. Её участки лежали в разных местах — какие-то уже были подготовлены к обработке, какие-то отмокали в чанах с раствором, какие-то просто валялись в стороне как непригодные. Шарль собрал все до единого и аккуратно сложил их на верстаке, один слой за другим, смешивая обработанные участки с гольём. Затем он поднял всю стопку и пошёл в кухню, где положил их на стол, пачкая чистую, отполированную столешницу, и сел рядом. А затем он стал по одному, аккуратно, внимательно следя за процессом, бросать участки в огонь. Ничего не должно было остаться целым, ни одного квадратного дюйма, ни одного клочка. Те, что не хотели заниматься, он подталкивал в самое жаркое пламя длинным прутом, иные поддевал и перекладывал в другую часть камина. Кожа, особенно влажная, горела плохо, и потому на сожжение всех отрезков у Шарля ушло более часа. Всё это время он был абсолютно спокоен, и лишь когда последний лоскуток превратился в чёрный пепел, он встал на колени прямо там, в кухне, у камина, и зарыдал во весь голос.
Глава 4 ТИСНЕНИЕ, ИНКРУСТАЦИЯ
«Давно не видно Шарля», — сказал господин Варень, типограф с улицы Монморанси. «Да, и в самом деле», — поддакнул Жорес, человек без определённого места жительства и рода деятельности. «А раньше, гляди-ка, хоть раз в пару дней, а показывался». — «Ага». — «И пить с ним было хорошо — пьёт, пьёт, а не пьянеет, и если что — фиакр наймёт за свои деньги да домой тебя отправит». — «Ага». — «Ты случаем не знаешь, что с ним?» — «He-а, не знаю». — «А кто знать-то может?» — «Ну, может, Планше». — «Ага, точно. Планше!»
Тот появился мгновенно, держа в правой руке кувшин с вином, в левой — тарелку с лепёшками; видимо, спешил к какому-то столу, да как раз проходил мимо. «Слышь, Планше, — обратился к нему Варень, — ты Грези давно в последний раз видел?» Планше нахмурил лоб, покачал головой и сказал: «Давненько, недели две уж как, не меньше, не заходит, видно, работы невпроворот». С этими словами Планше побежал дальше. «Да, — сказал Варень, не то чтобы много стало яснее: — Может, домой к нему сходить, а то дармовой выпивки хочется, карман-то не звякает». — «Ну, не звякает, ага», — согласился Жорес.
В этот самый момент господин де Грези вошёл в кабак. Вид у него был так себе — бледный, осунувшийся, с подрагивающими руками, прихрамывающий переплётчик едва дополз до ближнего к стойке стола, где тяжело свалился на стул. «Грези! — обрадованно воскликнул Варень. — Мы тут как раз про вас!» — и он сел рядом. Жорес пристроился напротив. «Как ваши дела, Грези, что-то вы выглядите так себе, переработали, видно». — «Да, — кивнул де Грези, — переработал». — «Выпьете с нами?» — «Выпью». — «Ну и отлично; Планше, ещё вина!»
Тот появился через полминуты с двумя кувшинами и здоровенным куском сыра; он знал, что переплётчик любит это сочетание. «Над чем работаете, Грези?» — спросил Варень. «Над переплётом». — «Ха-ха-ха, каков шутник, вы прямо сама очевидность; а серьёзно — или тайна за семью замками?» — «Можете считать и так». — «Что-то вы сегодня сам не свой, Грези, вот, выпейте», — и он налил переплётчику вина. Тот опрокинул стакан, поморщился, опустил руку обратно на стол, снова застыл в напряжённой, неестественной позе. Варень заметил, что рука де Грези чуть-чуть подрагивает. «У вас, гляжу я, что-то случилось», — сказал он. «Да нет, — де Грези изо всех сил старался вести себя, как обычно, — ничего не случилось, всё хорошо». — «Не верю я, право слово, не верю, ну скажите же ему, Жорес!» — «Да, — подтвердил Жорес, — что-то с вами явно не так — выкладывайте!»
Де Грези поднялся — тяжело, опираясь о стол рукой, — и пошёл прочь, к выходу. «Стойте, Грези!» — воскликнул Варень, но переплётчик будто бы не услышал его — он просто исчез в дверном проёме, и всё. «Стоп, — сказал Жорес, — он же за вино не заплатил, даже за своё». — «Видно, худо дело, очень худо, — подытожил Варень, — нужно бы помочь». — «Как?» — «Не знаю как, коли он сам не хочет. Но мы же вроде как друзья ему, ну, не то чтобы лучшие, но всё-таки, а человека в беде бросать нельзя, надо бы пойти к нему да выяснить, что к чему…» — «Может, не стоит? — нерешительно заметил Жорес. — Ну не хочет он нашей помощи, значит, не хочет». — «Что значит „не хочет“! — возмутился Варень. — Может, он хочет, но сам об этом не знает, и думает, что не хочет; иной раз человеку следует против его воли помочь, потому как сам он даже и не знает, что помощь ему требуется; ну и кто, в конце концов, выпивку тебе покупать будет, я, что ли?» Последний аргумент на Жореса подействовал, и он встал. «Ты куда?» — спросил Варень. «К де Грези, помогать». — «Э-э-э, не-е, — протянул Варень, — у нас тут ещё целый кувшин непочатый, сначала надобно его прикончить, а потом уже за Грези идти, не оставлять же вино этим выпивохам, согласен?» — «Согласен», — отозвался Жорес и сел на место.
Так они провели ещё час, потом ещё час, потом ещё и ещё, пока совсем не забыли о том, что собирались проведать де Грези. Впрочем, у них всё равно ничего бы не получилось: Шарль никогда не впускал в свой дом коллег, разве что цеховых старшин — в новую мастерскую. В старой уже много лет не бывало посторонних, не считая, конечно, Анны-Франсуазы, которую посторонней назвать довольно трудно, даже невозможно.
Пока господа Варень и Жорес выпивали (а Варень даже нашёл какую-то горячую девицу, которую посадил себе на колени и после каждого глотка щипал за объёмистую грудь), цеховой старшина Дюпре, сменивший на этой должности почившего с миром господина Вилье, вспомнил, что давненько ничего не слышал о таком видном представителе профессии, как де Грези. Дюпре взял с полки тяжёлую книгу для записей, раскрыл её и записал себе в планы посещение мастерской на улице Утраты. Правда, в ближайшие несколько недель отправиться туда не представлялось возможным, поскольку расписаны были все дни с утра и до вечера (не считая тех дел, которые в ежедневник вписывать не стоило, например визит в бордель). Но Дюпре никуда не торопился. Запись он сделал, чтобы просто не забыть о де Грези. Правда, отложив в сторону свою книгу для заметок, он тут же о переплётчике забыл: ждали другие дела.
Господин Дорнье в то же самое время мерил широкими шагами свои апартаменты. В последние недели он не находил себе места, потому что чувствовал: Шарль не выполнил заказ. Доказать Дорнье это не мог, но настроение Шарля во время последней встречи наводило на грустные мысли. К сожалению, Дорнье ничего не мог сделать: ехать к Шарлю досрочно он посчитал неправильным, тем более посылать кого-то под вымышленным предлогом, а более ничего и не сделаешь, собственно.
Герцог нашёл своё счастье во внуке. Он стал ездить в гости к зятю почти каждый день. У них не было общих интересов и тем для разговора, зато де Торрон предложил де Жюсси временно забрать внука к себе — естественно, вместе с кормилицей, слугами, колыбельками и прочими сопутствующими. Сам де Торрон к сыну относился спокойно, сдержанно, хотя ему льстило то, что в итоге он всё-таки стал отцом. Заблуждения порой бывают во благо.
Ничего не менялось и у прочих — у месье Жюля, у слуги Луи и служанки Жанны, которая со смертью госпожи вернулась к своим обычным обязанностям простой, равной остальным прислужницы при доме. Всё шло своим чередом вплоть до одного прекрасного, солнечного понедельника — того самого дня, когда Дорнье должен был явиться к де Грези за готовой книгой.
В этот день типограф Варень отправился к знакомому мастеру, чтобы заказать некоторые литеры для особого, лично им разработанного шрифта. Он шёл, насвистывая, заглядывая симпатичным девушкам в вырезы платьев, ритмично позвякивая монетами в кошельке, беседуя с многочисленными знакомыми, встречаемыми на улице. До литейной оставалось совсем немного, когда навстречу ему устремился откуда-то из боковой улицы Жорес. Выглядел последний потёрто, в глазах его читалось не желание выпить, а голод. «Жорес, друг мой! — воскликнул Варень. — Что-то вы неважнецки выглядите!» — «Три дня толком ничего не ел», — грустно ответил Жорес. «Что же вы так?» — «Денег — ни гроша». — «Ну пойдёмте, у меня есть и время, и деньги, я вас накормлю!» И они вошли в первую же попавшуюся таверну.
Там Жорес получил порцию густого горохового супа и набросился на него с такой жадностью, что Варень отвернулся: смотреть на хлебающего похлёбку Жореса было неприятно. Впрочем, в глубине души Варень был доволен собственной щедростью: он полагал, что подобные поступки сложатся к концу его жизни в пирамиду, по которой он совершенно спокойно заберётся в Царствие Небесное.
Пока Жорес ел, Варень смотрел в сторону. Пить он не хотел, поскольку предстояла работа, а пить перед работой как-то неправильно. И вдруг Жорес, подняв голову от миски, сказал: «Слушай, а мы как-то, помнишь, к де Грези собирались». — «Точно, собирались, — отозвался Варень. — И забыли как-то совсем». — «Ага, из головы вылетело. А ведь с тех пор мы его и не видели, что с ним, как он там». — «Точно, не видели». — «Может, сейчас пойти, пока суть да справа?»
Варень хотел было заметить, что у него, в отличие от Жореса, есть кое-какая работа, и вообще планы на день были вполне определённые, но промолчал. Потому что понимал: если сейчас отказаться, то опять две недели пройдёт, пока они о переплётчике вспомнят. «Да, — сказал он, — пойдём сейчас, только быстро». — «Ага, быстро», — кивнул Жорес, и приятели вышли из кабака. Напоследок Варень бросил на стол монету, заведомо более ценную, нежели порция супа.
В то же самое время карета Дорнье уже ехала к Парижу. На сердце у Дорнье было неспокойно. С одной стороны, он предвкушал встречу с сыном, с другой — боялся, что тот не выполнил задание, а герцог уже интересовался, как там идёт работа над книгой. Настроение герцога постепенно приходило в норму, но раздражать его проволочками всё равно не следовало. Дорнье разрывался между разумом и чувствами и потому толком не мог ни на чём сосредоточиться. Он просто смотрел в чёрную стенку кареты и думал: скорее уже, скорее.
Случилось так, что на этот же самый день визит к де Грези был запланирован и у цехового старшины Дюпре. Этот ни о чём и ни о ком не волновался. Он был сыт, хорошо одет, доволен жизнью и обязанности свои выполнял без особого рвения. В принципе он мог бы ещё на недельку отложить поездку к переплётчику, а потом и ещё на недельку, но раз уж запланировал — так и быть, стоит съездить. Если де Грези долго не видно, рассуждал Дюпре, то он, видимо, готовит что-то потрясающее, а значит, стоит разведать и при необходимости поставить качественную работу де Грези себе в заслугу. Как же, думал Дюпре, может рядовой переплётчик справиться с чем-то серьёзным без крепкой руки старшины, без его отеческой поддержки, и так старательно толстяк себя в этом убеждал, что к концу поездки поверил сам.
Был полдень, где-то били часы и звенели колокола, а господа Жорес и Варень нерешительно стояли у двери нового дома де Грези, не решаясь постучать. «Давайте вы», — говорил Вареню Жорес, но тот отнекивался: «Лучше вы». — «Но какая разница! — возмущался Жорес. — Ведь когда де Грези откроет дверь, он увидит за ней нас обоих!» — «Вот именно, — отвечал Варень, — какая разница — вы и стучите». Так они препирались до тех пор, пока за их спинами не остановилась карета с цеховым гербом. Жорес карету не узнал, а вот Варень, принадлежавший к цеху, тут же склонил голову и рукой нагнул товарища. Слуга открыл дверцу, и оттуда с некоторым трудом выполз господин Дюпре. Он узнал одного из мужланов, стоящих у дверей мастерской, но вспомнить его имя не смог и просто вальяжно кивнул, демонстрируя, что относится к своим цеховым с уважением. Варень и Жорес разогнулись. Дюпре постучал в дверь. Никто не отозвался. Старшина постучал настойчивее. И снова тишина.
«Где он?» — спросил Дюпре у Вареня. «Не знаю, господин Дюпре, — пожал плечами тот, — мы вот сами пришли навестить товарища, а он дверь не открывает, может, на рынок пошёл за овощами, или к кузнецу за какими материалами». — «Да, возможно», — задумчиво отозвался старшина. Ему совершенно не хотелось уезжать несолоно хлебавши, но и ожидание было несколько ниже его достоинства. Пока он раздумывал, у мастерской остановилась третья карета — с гербом де Жюсси. Дюпре тотчас её узнал: он был шапочно знаком с герцогом. Варень и Жорес на всякий случай склонили головы.
Из кареты вышел Дорнье. Он узнал Дюпре, они взаимно поклонились. Варень и Жорес стояли, потупив взгляды. «Добрый день, господин Дюпре, — сказал Дорнье, — вы к господину де Грези?» — «Добрый день; да, господин Дорнье, — кивнул Дюпре, — именно так, я к господину де Грези». — «А вы, господа?» — спросил Дорнье у Вареня и Жореса. «И мы тоже, мы его друзья». — «О, у него есть друзья», — протянул Дорнье и решительно постучал в дверь. «Видимо, его нет дома», — прокомментировал Дюпре. «Возможно, его нет в этом доме, но есть в другом», — отозвался Дорнье.
И старшина, и пара «друзей» с недоумением смотрели, как Дорнье идёт к двери соседнего дома и стучит в неё. «Открыто!» — внезапно воскликнул он. «Это тоже его дом?» — спросил старшина. «Да». Дюпре поспешил к Дорнье, за ним направились и Варень с Жоресом. Дорнье вошёл в дом переплётчика первым, следом остальные.
В ноздри вошедшим ударила невыносимая вонь, трупная вонь — Дорнье мог отличить её от любой другой. «Фи, — сказал Дюпре, — как можно…» — «Тс-с!» — Дорнье повернулся и приложил палец к губам. Старшина затих.
Дорнье пошёл вперёд — он чувствовал, что вонь идёт из подвала. «У вас есть фонарь?» — спросил старшина. «Нет». — «У меня в карете есть. Надо принести». Дюпре обратился к Жоресу: «Будьте добры, сбегайте за фонарём в мою карету, кучер вам отдаст». Напуганный Жорес мигом выскочил из дома. Ждали они недолго, не более полуминуты. На этот раз Жорес, наученный горьким опытом, перед входом набрал полные лёгкие чистого воздуха, а затем старался дышать ртом, причём маленькими-маленькими глоточками, чтобы не чувствовать мерзкого запаха.
Дорнье зажёг фонарь огнивом, и они пошли вниз. Дверь в подвал была открыта. Они вошли — один за другим, потом Дорнье сделал ещё шаг вперёд, и они увидели закрытую книгу, лежащую в центре стола. За столом напротив них сидел Шарль Сен-Мартен де Грези, а вокруг его головы вились жирные трупные мухи.
Часть 5 Главная книга
Глава 1 ШАРЛЬ
1
Первым делом Шарль тщательно вымыл кожевенную мастерскую. Выдраил все углы, облазил все щели, навёл такой идеальный порядок, какого не было в подвале с самого начала его использования в качестве рабочего места. Особое внимание он уделил столу. Тот был потёрт, изъеден кислотами и щелочами, покрыт зарубками от инструментов — Шарль не просто вымыл его, но даже выровнял, стесав выступы. Затем переплётчик установил в помещении восемь ламп со свечами: такого яркого света в подвале тоже не было никогда. Когда-то здесь имелось окошко под самым потолком, но Шарль заделал его давным-давно — теперь он в определённой мере пожалел об этом шаге, но выламывать кладку не стал.
Уборка и мытьё заняли почти сутки. Следующий день Шарль посвятил обустройству рабочего места. Он перенёс из верхней, переплётной мастерской всё оборудование, все пуансоны, иглы и стеки, даже массивный пресс, который пришлось разбирать, чтобы справиться с ним в одиночку. Художественную часть работы Шарль предпочитал выполнять наверху, в светлой комнате, но теперь ему требовалось, чтобы кожевенная и переплётная мастерские находились максимально близко друг от друга. Помимо оборудования, он перетащил в подвал небольшую кушетку, на которой можно было сидеть или полулежать.
На третий день Шарль занимался последними приготовлениями. Сначала он отправился на рынок и накупил провизии чуть ли не на полтора месяца вперёд, в том числе вяленого мяса, сухарей и прочих продуктов, не подверженных скорой порче. Всё это он спустил в подвал и аккуратно разложил на открытых полках у стены — раньше там лежали подготовленные шкуры, но теперь Шарль без всяких церемоний отправил материал в дальний угол и занял его место едой. Помимо еды, Шарль обзавёлся огромным количеством простынь, бинтов и повязок, а также тремя десятками бутылок с крепчайшим жжёным вином[109], от которого глотка горела, точно нероновский Рим.
Наконец, всё было готово к работе. Подвал изменился. Он стал чище, светлее, казалось, даже просторнее. В ином настроении Шарль испытал бы удовольствие при виде дела рук своих, но не в этот раз. Он осмотрел рабочее место, затем поднялся наверх и некоторое время стоял у окна, глядя на улицу. Выходы из дома он надёжно запер. Наконец, он спустился вниз.
Действо, которое развернулось далее в подвале дома Шарля Сен-Мартена де Грези, ужаснуло бы любого из живущих людей, будь то матёрый убийца или опытный хирург. Шарль медленно разделся почти догола, оставшись в одной нижней рубахе. Он сел на кушетку, предварительно поставив рядом чан с водой для отмоки. Затем он вытянул левую ногу и провёл шкурным ножом линию от колена до пятки, оставляя на голени густую кровавую линию. Вторую он провёл справа, напротив первой. Затем он окольцевал надрезы над стопой и под коленом. Кровь он не промокал.
Наконец, наступил самый сложный момент. Шарль полил нож жжёным вином и начал поддевать кожу; через полминуты она была готова к снятию — и он сделал это двумя резкими движениями, сначала содрав левый лоскут, затем — правый. Он не издал ни звука, хотя лицо его побелело, а на лбу вздулись вены. Оба лоскута тут же отправились в ведро с водой, Шарль взял свежую простыню и тщательно обвязал ногу много раз. Кровь текла, пропитывая ткань, но он обматывал ещё и ещё, пока не закрепил её окончательно.
Второй ступенью было снятие кожи с бедра. Шарль отступил несколько дюймов от паха; главное было — не повредить артерию. Он поступил точно как и с голенью: сделал два продольных надреза, затем соединил их кольцеобразными, затем быстрыми движениями снял лоскуты и поместил их в воду. Сидеть он теперь мог только на краю кушетки, держа ногу согнутой. Перебинтовывание на этот раз заняло значительно больше времени и сил, чем первое. Вторую ногу пока трогать было нельзя: она должна была оставаться опорной, пока левая не перестанет обильно кровоточить.
2
Отмока парной шкуры может производиться в простой чистой воде и занимает до двадцати четырёх часов в зависимости от качества и толщины исходного материала. Для человеческой кожи достаточно девяти-двенадцати часов. Ввиду негустого волосяного покрова достаточно одного или двух мездрений, между которыми стоит провести дополнительную шестичасовую отмоку. Первостепенная золка человеческой кожи занимает не более двух дней, но требует регулярного и тщательного перебора, поскольку кожу легко испортить. Для ускорения процесса лучше сразу использовать гнилой зольник, предварительно подготовленный путём золки других шкур. Окончательная золка занимает ещё два дня. Дернение и подходка чаще всего не требуются или производятся быстро и последовательно, без промежуточных операций. Шакшевание человеческой кожи — самая сложная и тонкая операция. За кожей необходимо следить в течение всего процесса шакшевания, независимо от состава и концентрации киселя. Последующее дубление лучше всего проводить ямным методом; через неделю кожа уже может быть готова, поэтому стоит регулярно проверять её состояние: может потребоваться до шестнадцати-восемнадцати дней. Таким образом, примерно за три недели можно получить из исходного материала кожу, готовую к обработке.
3
День, когда Шарль попытался выбраться в город, был последним днём, когда он вообще мог ходить на более или менее серьёзные расстояния. Боль пронзала его тело при каждом шаге, при каждом движении — нечеловеческая, безумная боль. Но он молчал, лишь мертвенная бледность выдавала его состояние. Он надеялся, что кабак, человеческий говор, шум что-то изменят, что ему станет проще — но нет, рожи Вареня и Жореса только вогнали его в ещё больший мрак. Он ушёл, чтобы уже никогда не выходить из дома.
В тот день первая порция кож — с левой ноги — была уже готова к просушке, ещё два-три дня, и можно было приступать к непосредственной работе. Главным было — сохранить до последнего руки, потому что без рук сделать ничего невозможно. А ноги — чёрт с ними, и без них можно. К этому времени он снял кожу с живота и груди, а также полосу с нижней части спины — там, где мог дотянуться. Возможно, для книги столько бы и не потребовалось, но ему было безразлично. Запас карман не тянет, как любил говаривать старый Жан де Грези.
Самой сложной была именно работа над книгой. Ему было больно, тяжело, раны кровоточили, он терял силы, он падал в обмороки, но — держался, боролся, сражался и делал переплёт книги своей жизни. Сама книга — уже готовая — лежала на одной из полок, в темноте, и ждала своего часа. Он выбрал формат in quarto[110], страницы были уже обрезаны, книга написана, переплёт должен был увенчать содержание, поставить точку, стать последним тактом, нотой, разрешиться аккордом.
И Шарль работал. Обрабатывал кожу, ползал от ямы к чанам, потом сушил её и вырезал, тиснил блинты и набивал пуансонные узоры, корпел над рисунком, водил кистью по коже и дереву, и капли пота, падая на только что окрашенную поверхность, размывали краску, оставляя уродливые следы, которые потом приходилось закрашивать.
А когда книга была готова, он сел на стул, положил её перед собой и стал медленно, аккуратно снимать бинты с изувеченных частей тела. Закончив, он закрыл глаза, взял здоровой рукой нож — кожа с плеча левой была уже содрана, и двигаться было чудовищно больно — и провёл точную линию под подбородком, перед ушами, по вискам и по лбу под волосами. Потому он аккуратно положил нож на стол рядом с книгой, вдохнул спёртый, терпкий воздух, поднял руку ко лбу — и сделал самое страшное движение в своей жизни.
Глава 2 ПРАВДА ДОРНЬЕ
В углу мастерской Жорес выблёвывал остатки утренней трапезы. В Варене интерес поборол отвращение, и он, освещая пространство найденной свечкой, рассматривал то, что сидело за столом, откинувшись на спинку стула. Дюпре присел было на небольшую кушетку у стены, но рука его наткнулась на какую-то гадость, оказавшуюся ошмётком кожи, и он вскочил как ошпаренный. В голове его вертелись вполне конкретные мысли: как скрыть произошедшее, как сделать, чтобы это никогда не вышло за пределы цеха, да и в цехе чтобы об этом знало наименьшее количество человек. Всё-таки Дюпре не слишком близко был знаком с де Грези, брезгливостью не отличался и в первую очередь считал себя деловым человеком. Распускать слюни или блевать в углу не входило в его планы. Дорнье же лишился сердца. Он ещё сам не понял этого, но его сердце начало замедляться в тот момент, когда он понял, кто сидит за столом. Уши управляющего заложило, ноги стали ватными. Он обошёл тело вокруг — и увидел, что переплётчик каким-то чудовищным образом сумел снять большую часть кожи даже со спины. Оскаленные внутренности блестели в свете лампы, мухи ползали по изуродованному трупу, а на полу, среди окровавленных бинтов и простынь, среди пустых бутылок из-под алкоголя, среди ошмётков кожи и рассыпанных инструментов, под самой рукой Шарля, чернела чудовищная тряпка, напоминавшая очертаниями человеческое лицо.
Дорнье снова обошёл стол. Он не мог более смотреть на труп и потому поставил фонарь на стол и взял в руки книгу. Даже в условиях плохого освещения, в блуждающих бликах фонаря, было понятно, что переплёт являет собой абсолютное совершенство. Ни один его узор, ни одна деталь не копировала уже существующие стили — Шарль создал что-то чудовищное, что-то невероятное, что-то новое, на десятки лет опередившее своё время. В хитросплетениях блинтовых и красочных тиснений, в соцветиях камней и перламутра, в аляповатой какофонии инкрустаций читалась невероятная, удивительная, ужасающая гармония. Внезапно Дорнье понял, что нет смысла даже открывать эту книгу, что её содержание не играет никакой роли, что де Грези всё-таки добился того, о чём мечтает всякий переплётчик, — создал обложку, которая не нуждается в наполнении.
Он перевернул книгу. Оттуда, с обратной стороны переплёта, на него, управляющего Дорнье, смотрела Анна-Франсуаза де Жюсси, герцогиня де Торрон, самая прекрасная женщина на земле, мать его внука и, вполне вероятно, его дочь, и внезапно он понял, насколько она, Анна, безумно похожа на Альфонсу, на ту Альфонсу, которая точно так же смотрела на него с обложки книги в переплёте из её собственной кожи. Дорнье положил книгу на стол.
Жорес и Варень уже выползли из мастерской. Дюпре стоял, прислонившись к стене, и что-то бормотал себе под нос.
Дорнье сообразил, что забыл всё-таки убедиться в своей догадке. Он опёрся о столешницу, стараясь не поднимать взгляд на переплётчика, и открыл книгу. Потом начал листать её, всё дальше и дальше — и понял, что не ошибся. В главной книге Шарля Сен-Мартена де Грези, в книге его жизни, в его единственной автобиографии не было ничего, кроме абсолютно чистых страниц.
В этот момент сердце Дорнье наконец остановилось.
Примечания
1
Мазарини, Джулио (1602–1661) — французский церковный и политический деятель, первый министр Франции в 1642–1650 и 1651–1661 годах.
(обратно)2
Де Ля Вьёвиль, Шарль (1583–1653) — французский политический деятель, на момент начала событий — суперинтендант финансов при дворе Людовика XIV.
(обратно)3
Летелье, Мишель (1603–1685) — французский политический деятель, на момент начала событий — государственный секретарь Людовика XIV по военным вопросам.
(обратно)4
Де Лионн, Гуго (1611–1671) — французский политический деятель, дипломат, посол Франции в ряде европейских государств.
(обратно)5
Де Поль, Венсан (1581–1660) — французский священник и общественный деятель, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия, один из создателей современной системы католического образования. Канонизирован в 1737 году.
(обратно)6
Велень — схожий с пергаментом материал для письма, изготавливаемый из шкур животных.
(обратно)7
Везалий, Андрей (Андреас) (1514–1564) — знаменитый голландский врач, анатом, основоположник современной анатомии, одним из первых стал практиковать вскрытия для изучения внутреннего строения человеческого тела.
(обратно)8
Спигелий, Адриан (1578–1625) — фламандский анатом и хирург, автор известного анатомического трактата, вышедшего уже после смерти автора.
(обратно)9
Фабриций, Иероним (1537–1619) — итальянский анатом и хирург, с 1562 года занимал кафедру анатомии и хирургии Падуанского университета.
(обратно)10
Оффузий, Иофранк (1505–1570) — немецкий астроном и астролог, автор нескольких астрономических трактатов.
(обратно)11
Де Смет, Хендрик (1535–1614) — немецкий медик, автор ряда трактатов по медицине.
(обратно)12
Дантышек, Ян (1485–1548) — польский поэт и дипломат, автор многочисленных эпиграмм, сатирических зарисовок и элегий на латыни.
(обратно)13
Додунс, Ремберт (1517–1585) — голландский ботаник, создатель одной из самых известных классификаций растений.
(обратно)14
Дорн, Герхард (1530–1584) — бельгийский философ, алхимик и врач, помимо собственных трудов, напечатал и сохранил для будущих поколений многие работы Парацельса.
(обратно)15
Имеется в виду Людовик II де Бурбон-Конде (1621–1686), полководец Франции, генералиссимус. Во времена Фронды несколько раз менял сторону, но в основном сражался против приверженцев Мазарини.
(обратно)16
Блинтовое тиснение — бескрасочное тиснение, производимое плоским штампом (холодным или горячим).
(обратно)17
Тори, Жоффруа (1480–1533) — французский гравёр, издатель, книготорговец. Один из основоположников современной типографики, способствовал распространению романского шрифта и постепенному отступлению готических начертаний на второй план. В переплётных работах Тори широко использовал золотое тиснение.
(обратно)18
Пуансон — инструмент или деталь инструмента, непосредственно контактирующая с обрабатываемым материалом при тиснении.
(обратно)19
Альды — разновидности штемпелей, созданных и применявшихся Альдом Мануцием для золотого и порой блинтового тиснения. Мануций использовал полные оттиски, в то время как продолжатели сто дела разработали полые внутри аналоги альдов и альды со штриховкой.
(обратно)20
Мануций, Альд (1449–1515) — венецианский книгопродавец, издатель, переплётчик, разработчик целого ряда шрифтов, в том числе создатель курсива. Ввёл в переплётное искусство элементы, заимствованные в восточных образцах.
(обратно)21
Майоли, Тома — итальянский коллекционер, библиофил, переплётчик-любитель XVI века.
(обратно)22
Гролье де Сервьер, Жан (1489–1565) — французский библиофил, коллекционер, переплётчик-любитель. Именно он привёз «стиль альдов» из Италии во Францию и способствовал его распространению.
(обратно)23
Стиль Генриха II — известный стиль переплёта, созданный в середине XVI века придворными переплётчиками французского короля Генриха II. Изначально имел в качестве обязательного элемента королевскую монограмму, после смерти короля в 1559 году обрёл самостоятельную жизнь.
(обратно)24
Ля фанфар — стиль книжного переплёта, созданный в конце XVI века придворным переплётчиком французского короля Генриха III Николя Эвом. Название стилю дал значительно позже, в XIX веке, коллекционер Шарль Нодье, заказавший подобный переплёт для книги «Les Fanfares» 1613 года издания.
(обратно)25
Ле Гаскон — популярный в начале XVII века стиль. Его создатель, некто Ле Гаскон, личность мифическая, считается изобретателем точечных штемпелей.
(обратно)26
Парижский дюйм равен приблизительно 2,706995 см.
(обратно)27
Тюренн, виконт де, Анри де Ла Тур д’Овернь (1611–1675) — знаменитый французский полководец, главный маршал Франции. В ряде сражений 1650-х годов наголову разгромил мятежные войска принца Конде.
(обратно)28
Нахзац — задний форзац.
(обратно)29
Титтери — один из бейликов (провинций) Османской империи на территории Алжира. Ныне — провинция Медеа.
(обратно)30
Фиакры — парижские наёмные экипажи, работали в качестве такси примерно с 1620-х годов.
(обратно)31
Мездрение — удаление со шкуры подкожного слоя, то есть, собственно, мездры.
(обратно)32
Пикелевание — одна из основных подготовительных процедур перед дублением. Представляет собой отмачивание шкуры в специальном растворе (пикеле), придаёт коже эластичность и мягкость.
(обратно)33
Гольё — кожа, прошедшая все предварительные стадии обработки и подготовленная к дублению.
(обратно)34
Отмока — одна из предварительных процедур обработки, отмачивание кожи в холодной воде без всяких добавок.
(обратно)35
Квасцы — двойные соли, кристаллогидраты сульфатов трёх- и одновалентных металлов. Известны с давних времён, хотя химические свойства квасцов окончательно были охарактеризованы лишь в конце XIX века.
(обратно)36
Эв, Николя (1578–1635) — известный французский переплётчик, создатель ряда переплётных стилей.
(обратно)37
«Пальмерин Оливский» — анонимный испанский рыцарский роман, впервые опубликованный в 1511 году. Французское издание 1619 года — последнее перед большим перерывом.
(обратно)38
Де Ита, Хинес Перес (1544–1619) — испанский писатель, классик европейского рыцарского романа. «Повесть о Сегри и Абенсеррахах» — самый известный его роман, впервые опубликован в 1595 году. Первое французское издание появилось в 1608 году.
(обратно)39
«Амадис Гальский» — первый из цикла испанских рыцарских романов о приключениях Амадиса Гальского. Полный цикл состоит из 18 романов, не все авторы «сериала» установлены с должной степенью достоверности. Рукопись первого романа существовала и в XIV веке; первая печатная книга вышла в 1508 году. На французский язык роман переведен в 1540 году.
(обратно)40
Золка — выдерживание кожи в золе и извести для полной очистки от волоса. Для человеческой кожи эта операция необязательна, чего Шарль на тот момент не знал.
(обратно)41
Парижский фут равен 30,01 см, соответственно, квадратный парижский фут равен 900,6 см2.
(обратно)42
Сухопутное лье равно 4,445 км.
(обратно)43
Туляк — нож для дернения, имеет две рукояти, деревянную для правой руки и железную для левой; железной рукоятью можно поддевать и переворачивать шкуру.
(обратно)44
Дернение — сгонка волоса с прозоленных шкур.
(обратно)45
Шакшевание — одна из процедур предварительной обработки кожи, выдерживание её в разбавленном водой собачьем (иногда курином) помёте или специально приготовленном киселе из муки и закваски. Кожа от шакшевания становится гибкой, мягкой.
(обратно)46
Опоек — шкура молочного телёнка, а также выделанная из неё кожа.
(обратно)47
Откидная кора — кора, уже использовавшаяся при предыдущих дублениях.
(обратно)48
Бахтарма — нижняя поверхность выдубленной кожи.
(обратно)49
Выросток — шкура теленка в возрасте до года и выделанный из неё сорт кожи.
(обратно)50
Алтабас — разновидность парчи, плотная шёлковая ткань с орнаментом или фоном из золотой или серебряной волочёной нити.
(обратно)51
Аксамит — плотная ворсистая ткань из шёлка и золотой или серебряной нити, напоминающая бархат.
(обратно)52
Колёсная басма — насаженный на рукоятку ролик для тиснения непрерывных орнаментальных полос.
(обратно)53
Де Калькар, Иоганн (1499–1546) — итальянский художник голландского происхождения. В первую очередь известен иллюстрациями к анатомическому атласу Андрея Везалия «О строении человеческого тела». Впрочем, авторство де Калькара в данном случае подвергается обоснованному сомнению, поскольку стиль иллюстраций разительно отличается от стиля предыдущих работ художника.
(обратно)54
In octavo — книжный формат, при использовании которого на типографском листе размещаются 16 страниц.
(обратно)55
Каптал — хлопчатобумажная или шелковая тесьма с утолщённым цветным краем. Наклеивается на концы корешка книжного блока, чтобы скрепить его края и ликвидировать промежуток между корешком блока и переплётной крышкой при закрытой книге.
(обратно)56
Руфин Аквилейский (345–410) — римский монах, историк и теолог. Известен, в частности, многочисленными переводами греческих текстов на латынь, в том числе работ Оригена (за последние подвергался гонениям и обвинениям в ереси).
(обратно)57
Ориген (185–254) — греческий теолог, философ, учёный. Один из первых христианских теологов; помимо своих работ, известен тем, что добровольно оскопил себя, неверно истолковав цитату из Библии: «Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного».
(обратно)58
Гомилия — аналитическая форма проповеди; после прочтения отрывков Священного писания в гомилии даётся их толкование. В употребление такая форма введена Оригеном.
(обратно)59
Дублюра — переплёт, у которого украшена не только внешняя, но и внутренняя сторона переплётных крышек.
(обратно)60
Ниелло — итальянское название чернения гравированного рисунка на металле — серебре, золоте, бронзе или меди. В русской практике обычно называется чернью.
(обратно)61
Южная Стрела — созвездие, предложенное Петером Планциусом в 1612 году, на сегодняшний день отменено.
(обратно)62
Деволюционная война — война 1667–1668 годов между Францией и Испанией за обладание Испанскими Нидерландами. По Первому Аахенскому миру, подведшему итог войне, Франция сохранила за собой одиннадцать уже захваченных городов, но вынуждена была вернуть регион Франш-Конте.
(обратно)63
Голландская война — война 1672–1678 годов между Францией и Нидерландами. В войну также были втянуты Англия, Испания, Швеция, Дания, Священная Римская империя, Лотарингия. Таким образом, Голландскую войну можно назвать мировой.
(обратно)64
Гийераг, Габриэль-Жозеф (1628–1685) — французский писатель и поэт. Наиболее известное произведение — «Португальские письма» (или «Письма португальской монахини»), впервые опубликовано в 1669 году издателем Клодом Барбеном. К слову, достоверность авторства этого эпистолярного романа до сих пор под вопросом.
(обратно)65
Де Сегре, Жан Реньо (1624–1701) — французский писатель, поэт и переводчик. Был секретарём знаменитой французской писательницы Мари Мадлен де Лафайет (1634–1693), вместе с Пьером Юэ и Ларошфуко помогал ей в написании романов «Заида», «Принцесса Монпансье», «Принцесса Клевская» и других. Первые издания этих романов выходили под именем де Сегре, поскольку женщине было гораздо сложнее публиковаться (кроме того, это считалось не очень приличным для дамы).
(обратно)66
Де Скюдери, Жорж (1601–1667) — французский поэт, писатель, драматург. Автор шестнадцати пьес. Брат известной писательницы Мадлен де Скюдери; свои романы она публиковала под его именем, поэтому на сегодняшний день вопрос авторства романов остаётся открытым.
(обратно)67
Мольер (1622–1673) (настоящее имя Жан-Батист Поклен) — великий французский драматург и актёр, создатель классической европейской комедии, автор знаменитых пьес «Тартюф», «Дон-Жуан», «Мизантроп» и других.
(обратно)68
Буало-Депрео, Николя (1636–1711) — французский поэт и литературный критик. Известен сатирами, одами, эпиграммами и поэмой-трактатом «Поэтическое искусство».
(обратно)69
Шаплен, Жан (1595–1674) — французский поэт и литературный критик, автор многочисленных од, сонетов и мадригалов.
(обратно)70
Де Лафонтен, Жан (1621–1695) — великий французский баснописец. Первая книга его басен «Басни Эзопа, переложенные на стихи г-ном де Лафонтеном» вышла в 1668 году.
(обратно)71
Тормозные колодки на каретах чаще всего представляли собой деревянный брусок, при торможении трущийся непосредственно о колесо. Таким образом, колодки достаточно быстро истирались и их приходилось часто менять.
(обратно)72
Бойль, Роберт (1627–1691) — английский химик, физик и богослов, один из основоположников опытного метода исследований. Будучи посредственным теоретиком, открыл ряд фундаментальных физических и химических законов опытным путём. Наиболее известное его открытие — закон Бойля — Мариотта («При постоянной температуре и массе идеального газа произведение его давления и объёма постоянно»).
(обратно)73
Декарт, Рене (1596–1660) — французский математик, физик, врач, философ. Создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.
(обратно)74
Паскаль, Блез (1623–1662) — французский математик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.
(обратно)75
Гильберт, Уильям (1544–1603) — английский физик и врач, основоположник исследования электрических и магнитных явлений. Ввёл термин «электричество».
(обратно)76
Английская гражданская война, она же Английская революция XVII века — конфликт, длившийся с 1642 по 1660 год. В ходе войны к власти пришёл Оливер Кромвель, отдавший приказ казнить короля Карла I. После смерти диктатора и отречения его сына Ричарда Кромвеля парламент принял решение о восстановлении монархии.
(обратно)77
Пим, Джон Рут (1584–1643) — английский политический деятель и экономист. Способствовал усилению власти парламента и ослаблению монархии, что в итоге и привело к революции.
(обратно)78
Юпиц, Мартин (1597–1639) — немецкий поэт-классицист, один из основателей немецкоязычной поэтики и создателей теории стихосложения.
(обратно)79
Гофмансвальдау, Христиан Гофман фон (1616–1679) — немецкий поэт, основатель так называемой «второй силезской школы» в немецкой поэзии, основной «конкурент» школы Опица.
(обратно)80
«Книга о немецкой поэтике» (1624) — главный теоретический труд Мартина Опица.
(обратно)81
Баклер — маленький круглый щит 20–40 см в диаметре.
(обратно)82
Амбидекстр — человек, равно владеющий правой и левой руками, без выделения ведущей.
(обратно)83
Мария Терезия Испанская (1638–1683) — супруга Людовика XIV, была обручена с французским королём по условиям Пиренейского мира 1659 года, положившего конец франко-испанской войне. Людовик Марию Терезию никогда не любил и смерть её едва заметил.
(обратно)84
Ментенон, Франсуаза д’Обинье (1635–1719) — вторая супруга Людовика XIV. Франсуаза была не королевских кровей, и потому их брак, заключённый тайно, остался морганатическим, то есть супруга не получила социального положения, соответствующего королевскому.
(обратно)85
Бросание лисицы — состязание, заключающееся в подбрасывании живых лисиц и прочих животных как можно выше в небо с помощью специальной пращи. Было распространено в XVII–XVIII веках.
(обратно)86
Денарий — римская серебряная монета времён Республики и первых двух веков Империи.
(обратно)87
Антониниан — римская серебряная (впоследствии медная) монета, чеканка которой началась в 214 или 215 году по приказу императора Каракаллы.
(обратно)88
Лорель — английская золотая монета в 20 шиллингов, в 1619 году заменившая в обращении соверен.
(обратно)89
Мюнцкабинет — систематизированное хранилище для монет (медалей, значков). Чаще всего под мюнцкабинетом понимается отдельный предмет мебели с множеством ячеек или ящичков, но в этой роли может выступать также целая комната или несколько комнат.
(обратно)90
Сваммердам, Ян (1637–1680) — голландский биолог и натуралист. Одним из первых описал метаморфозы насекомых и предложил свою классификацию последних.
(обратно)91
Мальпиги, Марчелло (1628–1694) — итальянский врач и биолог. Будучи весьма разносторонним человеком, опубликовал множество работ по самым разным разделам биологии и анатомии.
(обратно)92
Александр VII (1599–1667) — в миру Фабио Киджи, Папа Римский с 7 апреля 1655 года по 22 мая 1667 года. Мало занимался вопросами Церкви, зато очень любил архитектуру. Именно он нанял Бернини для возведения колоннады на площади Святого Петра в Риме.
(обратно)93
Иннокентий XI (1611–1689) — Бенедетто Одескальки, Папа Римский с 21 сентября 1676 года по 12 августа 1689 года. В период его папства конфликт Рима с Францией достиг максимального накала.
(обратно)94
Геснер, Конрад (1516–1565) — швейцарский натуралист, один из основателей зоологии как науки. Первым попытался систематизировать и классифицировать животный мир. Также автор ряда трудов по другим наукам, в частности, по лингвистике. Historiae animalium — самый известный труд Геснера, пятитомная энциклопедия животных.
(обратно)95
Де Жуанвиль, Жан (1223–1317) — французский историк, биограф Людовика IX Святого.
(обратно)96
Ронсар, Пьер де (1524–1585) — французский поэт. Внёс во французскую поэзию множество римских и греческих поэтических размеров, создал новую гармонию стиха. «Любовные стихи к Кассандре» — сборник сонетов, обращённых к возлюбленной Ронсара Кассандре Сальвиати.
(обратно)97
Ротру, Жан (1609–1650) — французский драматург. Пика популярности достиг в 1640-е годы, был одним из известнейших драматургов страны, умер от тифа. «Венцеслав» (1647) — одна из самых известных его пьес.
(обратно)98
Брок (или Брук), Артур (ум. 1563) — английский писатель и поэт, автор поэмы «Трагическое сказание о Ромеусе и Джульетте» (1562), на которой основана знаменитая трагедия Шекспира. Стоит отметить, что Брок не сам придумал сюжет, а позаимствовал его из более ранней новеллы итальянского писателя Маттео Банделло.
(обратно)99
Боэстюо, Пьер (1517–1566) — французский писатель и переводчик. Выполненный им перевод истории Ромео и Джульетты на французский столь волен, что до сих пор неизвестно, пользовался он в качестве первоисточника поэмой Брука или новеллой Банделло.
(обратно)100
Интарсия — инкрустация, выполняемая деревом по дереву. В переплётном деле термин также употребляется для обозначения инкрустации, выполняемой кожей по коже.
(обратно)101
Ля Саль, Антуан де (1386–1462) — французский писатель, автор ряда новелл, повестей, трактатов и романа «Маленький Жан из Сантре» (1456, первое издание в 1517-м).
(обратно)102
Герои перечисляют сцены из романа «Маленький Жан из Сантре».
(обратно)103
Автоматон — механизм, способный действовать по заданному алгоритму, выполняя действия в соответствии с программой. Чаще всего автоматонами называют прароботов, механических животных и людей, созданных искусными механиками в эпоху Возрождения и эпоху Просвещения.
(обратно)104
М. Камю — легендарный инженер из Лотарингии, спроектировавший в 1649 году автоматон (карету, ведомую парой механических лошадей) для развлечения маленького короля Людовика XIV.
(обратно)105
Турриано, Хуанело (1500–1585) — испанский часовщик, инженер и математик. Спроектировал автоматический водопровод, поставляющий воду в Толедо из реки Тахо, также известен рядом часовых механизмов и автоматоном, сделанным по заказу Филиппа II Испанского.
(обратно)106
Кирхер, Афанасий (1602–1680) — немецкий учёный-энциклопедист, изобретатель. Опубликовал множество работ по математике, филологии, истории, физике, геологии, медицине и так далее.
(обратно)107
Хорчицки-из-Тепенца, Якоб (1575–1622) — чешский фармацевт и алхимик, автор ряда работ по фармакологии и ботанике. Известен как один из предположительных авторов таинственной «Рукописи Войнича».
(обратно)108
Рудольф II (1552–1612) — король Германии (римский король) с 27 октября 1575 по 2 ноября 1576 года, избран императором Священной Римской империи со 2 ноября 1576 года.
(обратно)109
Жжёное вино — крепкий алкогольный напиток, предшественник бренди.
(обратно)110
In quarto — размер листа бумаги в одну четверть типографского листа (таким образом, на одном листе помещается восемь страниц).
(обратно)

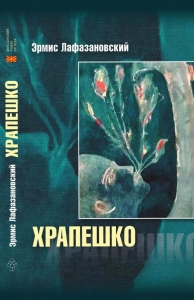

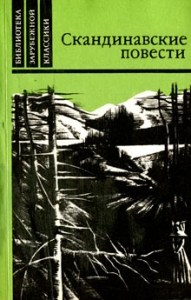





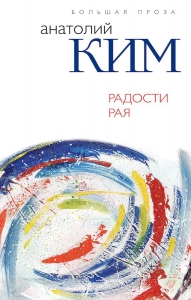



Комментарии к книге «Переплётчик», Эрик Делайе
Всего 0 комментариев