Брюс Чатвин «Утц» и другие истории из мира искусств
Мораль вещей
{1}
Мы собрались здесь сегодня, чтобы поклониться запечатленному образу. Однако, присутствуй тут ветхозаветный пророк, он прогремел бы: «Лапы прочь! Не возжелай вещей». Патриархи Древнего Израиля жили в черных шатрах. Богатством их были стада, по своим племенным землям они перемещались, следуя за временами года, и славились неприятием произведений искусства. В наши художественные галереи они ворвались бы, как врывались в храмы Ваала, и бичами исхлестали бы все попавшиеся им на глаза изображения. Не потому, что те не уместились бы в их седельных сумах, но из соображений морали. Ибо они полагали, что картины отдаляют человека от Бога. Восхищение образами составляло грех оседлости; поклонение золотому тельцу было уделом слабых духом, вздыхавших по плотским радостям Египта. А пророки, подобные Исайе и Иеремии, вспоминали времена, когда народ их был расой закаленных одиночек, не испытывавших необходимости искать утешения в образах. По этой причине они прокляли Храм, который дети Божьи превратили в скульптурную галерею, и стали призывать к вандализму и к возвращению в шатры.
Да разве все мы не мечтаем разбить наши алтари и избавиться от собственности? Разве не окидываем холодным взором свои пожитки и не заявляем: «И в этих предметах отражается моя личность? Тогда моя личность мне глубоко противна»? Ибо, если судить поверхностно, что менее украшает жизнь, нежели произведение искусства? Оно утомляет. Его нельзя съесть. В постели с ним неудобно. Его охраняешь, чувствуешь, что обязан им наслаждаться, пускай оно давно уж перестало радовать. Мы жертвуем свободой действий ради чести сделаться его хранителями и в конечном счете превращаемся в его рабов-узников. Всякая цивилизация по природе своей «основана на вещах», и поддержание ее стабильности всегда упиралось в задачу вывести новые соотношения между потребностью накапливать вещи и потребностью от них избавляться.
Вещи же обладают способностью исподволь вмешиваться в жизнь любого человека. Одни люди притягивают к себе больше вещей, другие меньше, но ни один народ, каким бы подвижным он ни был, не является безвещным. Шимпанзе использует палки с камнями в качестве орудий, но ничего не хранит. Человек – другое дело. При этом вещи, к которым он привязывается сильнее всего, не выполняют никакой полезной функции. Наоборот – они суть символы или эмоциональные опоры. Вопрос, которым я хотел бы задаться (что отнюдь не означает, будто мне известен на него ответ), следующий: «Почему настоящие сокровища человека бесполезны?» Поняв это, мы, возможно, сумеем разобраться и в запутанных обрядах рынка искусства.
Те, кто разбираются в вещах и по-настоящему любят их, – что называется, люди со вкусом – обычно ворчат в адрес обывателя, для которого купить произведение искусства – дело такое же будничное, как съесть яйцо. Они обвиняют его в том, что коллекционирование для него – попытка за деньги, не мучаясь во имя искусства, приобрести респектабельность в интеллектуальных кругах, что он пытается вызвать в людях восхищение к собственной персоне, увиденной через призму его вещей. Однако психоаналитики во главе с Фрейдом позволяли себе куда более неприятные инсинуации в адрес тех, для кого коллекционирование искусства – навязчивая идея. Как следует из их теорий, истинный коллекционер в жизни является вуайером, прослойка личного имущества защищает его от тех, кого ему хотелось бы любить, он одержим нежнейшими чувствами к вещам и охвачен ледяным безразличием к людям. Это классический пример человека с «рыбьей кровью». Он подпитывается жизненной силой прошедших веков, чем компенсирует импотенцию настоящего. Бдительный страж, он яростно защищает свои вещи от угрожающих им волков в человечьем обличье. (Вспомним наблюдение Карла Маркса о том, что разрушение материальных ценностей приводит буржуазию в более сильное смятение, нежели повсеместное пролитие человеческой крови.) Иными словами, коллекционер разрабатывает некую моральную систему, в которой не остается места людям. Назовем ее моралью вещей.
Приобретение предмета само по себе становится поисками Грааля: охота за добычей, момент узнавания, решение купить, убыток, страх перед финансовой катастрофой, темное облако неизвестности («Не фальшивка ли?»), упаковка, дорога домой, экстаз разворачивания обертки, предмет желания, лишенный покровов, ночь, когда не ложишься в постель ни с кем, бдение, когда взираешь, ласкаешь, восхищаешься новым фетишем – он твой спутник, любовник, однако очень скоро превращается в надоедливого соседа, его надо выбросить или продать, а тем временем его место в списке твоих привязанностей занимает другая, более желанная вещь. Я часто замечал, что в коллекциях по-настоящему великих лучшие предметы собираются, подобно сонму ангелов-хранителей, вокруг постели, сама же постель до обидного узка. Истинный коллекционер дает пристанище войску неодушевленных любовников, чтобы найти какую-то опору после жизненного крушения. С хирургической точностью предаваясь самоанализу, синьор Марио Прац[1] в своем «Доме жизни» разъясняет, что нельзя полагаться на людей. Вместо того следует окружать себя вещами, ибо они никогда не подведут.
Тем самым, коллекционирование искусства – отчаянная уловка, направленная против неудачи, личный ритуал, помогающий излечиться от одиночества. Рынок искусства – общественная сторона этой частной религии – своей внешней иррациональностью как будто побеждает все известные правила коммерции. Он низводит деловых людей до статуса наивных верующих; его стараниями крестьянин из сказки, ожидающий найти горшок золота на другом конце радуги, начинает казаться прямо-таки расчетливым дельцом. Возьмем какой-нибудь важный международный аукцион по продаже произведений искусства. Разве не похож он на богослужение, на драму, разыгрываемую сезон за сезоном? Непосвященный наблюдатель может решить, что участвует в некоем тайном ритуале мистической любви. Он найдет здесь алтарь с кафедрой, требник, проповедующего священника со служками, подносимые святые дары, скользкую дорожку, по которой шагают многие, однако из бранных – единицы, сложные любовные взаимоотношения между священником и его воздыхателями, или между соблазнителем и соблазненными, нервное предвкушение, эзотерическое гадание по числам, нарастание цены, крещендо, момент бездыханности и кульминация (бум!).
Нам до изнеможения твердят, что коллекционирование искусства – явление декадентское. И в периоды пуританской реакции люди его бросают. Как бы то ни было, наступает момент, когда потери достигают точки убывающей отдачи. Более того, эстет зачастую подвержен фатальному пристрастию ко всему, что связано с насилием, – и, судя по тому, что насильники обычно званые гости, определенно желает, чтобы разрушитель разнес его частную вселенную, в надежде, что, стоит ему освободиться от вещей, он и сам будет свободен.
По-видимому, что-то в этом роде происходит в Америке, где на наших глазах в затруднительное положение попал не только президент, но и музеи – в силу одних и тех же причин. Со времен бюрократических режимов священников Древнего Египта и Месопотамии высшие классы помещают драгоценные предметы в хранилища. Ценность сокровища является символическим свидетельством власти племени, города или государства – ведь власть неизменно выражается в способности правителей сохранять богатство. Американский музей – с его церемониями открытия, бдительно охраняемыми выставками богатства, с его техническими экспертами и добытчиками средств, с его свитой привилегированных посетителей и менее привилегированной публики, для чьего образования этот музей якобы существует, – стал замаскированным воплощением самого государства. Но образование, пользуясь определением бывшего директора нью-йоркского Метрополитен, есть «искусство метать фальшивый жемчуг перед настоящими свиньями». Часто целью его является помочь людям сполна понять степень собственного невежества.
Американский музей уже много лет публично демонстрирует власть денег; роскошь его возрастала по мере того, как возрастало убожество городов. Недавнее решение украсить Метрополитен, на взгляд некоторых, противоречит программе городской администрации по борьбе с бедностью, однако древний плач «Камни есть не станешь» был отклонен и проигнорирован. Новое крыло Кливлендского музея, спроектированное Марселем Бройером[2], представляет собой не столько выставочное пространство, сколько укрепленный бункер. С психологической точки зрения интересно следующее: чем более утонченны произведения восточного искусства, которые там хранятся, тем глубже они погребены под землей, в черных каменных склепах, а тем временем в парке поблизости деревьям и детям не хватает воздуха, ручьи и водоемы черны от нефти – того и гляди загорятся.
Подобные бросающиеся в глаза расхождения настроили людей против искусства, в особенности – против искусства ценного. Началось все с художников, производящих непригодные для продажи пустяки. Теперь к ним присоединился хор арт-критиков, которые некогда вскочили на подножку этого поезда, а теперь решили, что пришло время соскочить. Знаменитый нью-йоркский критик недавно заявил: по его опыту, люди, которых привлекает искусство, – это всякому ясно – психопаты, неспособные разобраться, что правильно, что нет.
Почему психопаты? Потому что, по мнению некоторых, произведение искусства – источник наслаждения и власти, предмет фетишистского восхищения, служащий травмированному индивидууму в качестве замены непосредственного физического контакта с матерью, в котором ему, как Прусту, лишенному материнских поцелуев, было отказано в раннем детстве. Предметы искусства, кожаная снасть, резиновые товары, высокие сапоги, оборочки и вибрирующее седло – все это является компенсацией за утраченную «mama en chemise toute nue»[3].
Слово «фетиш» происходит от португальского fetiçio[4]; в нем заключены мотивы магии или очарования, присутствует дополнительный смысл чего-то приукрашенного или фальшивого, вроде maquillage[5]. Термин «фетишизм» был впервые использован в 1760 году весьма проницательным французом, президентом де Броссом[6], который описывал «культ, вероятно, не менее древний, нежели поклонение звездам, – культ определенных земных материальных предметов, которые чернокожие африканцы называют фетишами. Я буду называть этот культ фетишизмом. Первоначально считалось, что он свойственен верованиям чернокожих, однако я намерен использовать это слово в отношении всякой нации, чьи священные предметы, будь то животные или неодушевленные вещи, наделяются некими божественными свойствами». Он добавил, что вещи эти разнообразны: от статуи до дерева, от коровы до львиного хвоста, камня, раковины или самого моря. Каждая из них меньше, чем Бог, но обладает неким духом, который делает ее достойным поклонения.
Президент де Бросс был фигурой эпохи Просвещения. Подобное детское поклонение фетишам вызывало у него скептицизм. И он, разумеется, не сумел заметить в своей собственной колониальной цивилизации манию прибыли, которая продвинула фетишизм на шаг дальше, сделав его еще более явным признаком незрелости. Среди других людей, писавших о фетишизме, был Огюст Конт, видевший в нем религиозную стадию развития, через которую необходимо пройти всем расам; Гегель считал его состоянием, в котором застряли бедные чернокожие; Карл Маркс полагал, что «товарный фетишизм» неотделим от капитализма с его буржуазными ценностями, однако ему предстоит раствориться в коммунистической гармонии, как только рабочие массы овладеют вещами, принадлежащими богатым. И тут мы, наконец, подходим к Фрейду, который говорил, что фетишистская привязанность к вещам, уходящая корнями в психопатологию личности, является, по сути, извращением, и в качестве извращения ее следует лечить.
Фрейд высказал одну весьма оригинальную и весьма глубокую мысль о фетишизме. Сумей мы постичь ее глубину, мы либо обнаружим, что в фетишизме нет никакого смысла, либо найдем в нем ответ на все наши финансовые затруднения и моральные дилеммы. Он говорил: «Фетиш есть заменитель фаллоса матери, от которого не хочет отказываться ребенок». Еще он говорил: «Эти замены справедливо приравниваются к фетишу, в котором дикарь воплощает своего бога». Таким образом, он имел в виду, что поклонение дикаря палкам, камням, коровам или морю следует точно той же психологической схеме, что и развитие привязанности к мейсенскому фарфору, килимам или мотоциклам. Даже разбирайся я в этом лучше, все равно не сумел бы разъяснить все извивы фрейдовских комплексов и его утверждение о том, что любой фетишизм произрастает из ужаса перед половыми органами противоположного пола. Однако следует заметить в скобках: он в самом деле приводит интересный взгляд на то, почему создателя, от древнего сибирского шамана до современного художника, нередко мучают сексуальные проблемы; почему из мужчин, печально известных сложными взаимоотношениями со своими матерями, художников, притом более великих, вышло больше, чем из женщин. Когда же он отмечает повышенную чувствительность фетишиста к прикосновениям, тут невозможно не вспомнить «тактильные ценности» мистера Беренсона[7].
Чтобы не углубляться в труды Фрейда, предлагаю принять на веру тот факт, что человеческому младенцу, по крайней мере в течение первых пятнадцати месяцев жизни, требуется непосредственное и постоянное присутствие матери и ее груди. Если ребенка этого присутствия лишить и спихнуть его на руки заменителям матери, такой шаг не обязательно приведет к фатальным результатам, но сформирует характер другого типа. Супруги Харлоу, занимавшиеся поведением животных, изучая макак-резус, обнаружили, что если их рефлексы направлять исключительно на неодушевленные предметы, заставляя их прижиматься к искусственной матери, то они вырастают существами с коренным образом нарушенной общительностью: замкнутыми, угрюмыми, склонными к извращениям, неисправимо эгоистичными. А доктор Джон Боулби из клиники Тэвисток обнаружил похожие признаки у детей, покинутых матерями. Если маленького ребенка, чья привязанность к матери успела полностью закрепиться, у матери отбирают, он поначалу безутешно плачет, впадает в горькое отчаяние, однако после, совершенно неожиданно, оживляется и начинает осмысленно интересоваться окружающим – в частности, вещами, плюшевыми медвежатами, погремушками, сладостями, развлечениями любого типа. Этот живой подъем интереса всегда приносит облегчение опекунам ребенка – им кажется, что он оправился от потери матери. На самом деле, Боулби утверждает, что ему уже нанесен непоправимый вред, поскольку, когда мать возвращается, ребенок радостно приветствует ее, однако делает это с налетом холодности, воспринимая ее как источник дальнейших развлечений. Если это так, то ребенок, весело играющий со своими игрушками, прямо-таки создан для последующей фетишистской деятельности – он является прототипом современного обывателя, которому свойственна фиксация на вещах. Манеж для игр станет клеткой цивилизации в миниатюре.
Но откуда берется столь крепкая связь? Почему все маленькие дети должны находиться поблизости от своих матерей? Почему им следует быстро оторваться от них, чтобы повзрослеть? Если исследовать этот вопрос в терминах жизни в городе или даже в глиняной хижине, ответа не найти. Поэтому предлагаю вам согласиться с тем обстоятельством, что все наши эмоции задуманы природой с некой целью, но прежде чем они обретут смысл, мы должны выя вить соответствие между ними и первоначальной средой обитания древнего человека. Прошу вас также иметь в виду следующее: наш вид развивался в умеренном климате (поэтому мы лишены волосяного покрова); мы были охотниками за дичью и собирателями растительной пищи; трудности, связанные со сменой времен года, навязывали нам миграцию, свойственную животным (поэтому мы обладаем длинным шагом при ходьбе, которого не знают наши родственники-приматы, и символом жизни считаем долгое путешествие); наши руки в процессе эволюции научились делать необходимые нам орудия: пращи и копья, топоры и корзины, без которых мы не смогли бы выжить; в идеале человек должен владеть лишь теми вещами, которые он может без труда нести на себе; основной общественной единицей у людей была вовсе не ватага охотников, но группа, объединившаяся для защиты от зоологических чудовищ, бок о бок с которыми мы жили в диких условиях (ведь это одно способно объяснить, почему дети в своих ночных кошмарах выступают специалистами-палеозоологами и почему первичным объектом нашей ненависти всегда является зверь или человек в зверином обличье); наконец, эта архаичная жизнь, при всех ее опасностях, действительно была золотым веком, к которому мы инстинктивно испытываем ностальгию и мысленно возвращаемся. В наши дни Серенгети[8] выглядит безобидным по сравнению с теми опасностями, которые имелись там в раннюю плейстоценовую эпоху, но если мать оставит ребенка в этой местности одного, она вряд ли найдет его живым спустя двадцать минут. Размышления об африканских саваннах позволят нам понять функцию прижимания у ребенка: грудь матери не просто источник пищи, но объект, за который можно держаться; чтобы вернуть ревущего младенца в состояние довольства, требуется позволить ему идти слева от матери, с той стороны, с которой некогда ходила она сама во время ежедневных миграций; отчаянные крики о помощи – протесты существа, не желающего остаться брошенным (покидая ребенка, мать убивает его); когда же впоследствии ребенок встречает ее холодно, он попросту мстит. Поймем мы и то, что мальчик, которому в будущем грозят опасности, должен научиться отрываться от матери и стоять, как бы избито это ни звучало, на собственных ногах.
Но откуда берется привязанность к вещам? Неужели произведение искусства и вправду компенсация за то, что тебя бросили? Фрейдовское понятие фетишизма естественно для того, кто исповедует философию «ничего кроме». Но на этом нам далеко не уехать. Это может помочь осознать некоторые из наиболее навязчивых вариантов мании коллекционирования. Однако приобретение символических вещей не назовешь извращением – этим занимаются все, неважно, была ли у них травма лишения или нет. А если судить по поведению их так называемых «примитивных» потомков, то древнейшие люди проводили большую часть времени, торгуясь, обмениваясь, давая и получая вещи с формальной точки зрения бесполезные, с тем же энтузиазмом и отсутствием рациональности, что и современный коллекционер искусства.
Искусство, подобно языку, есть система общения. Однако оно, в отличие от языка, способно перешагнуть через лингвистические и культурные барьеры. Покажите эскимосу Веласкеса, и он поначалу не обратит на него внимания. С другой стороны, он способен освоить его тонкости куда быстрее, чем сонеты Гонгоры[9]. «Искусство, – сказал однажды Честертон, – это человеческий росчерк». Если продолжить эту мысль, стиль в искусстве – росчерк конкретного человека, позволяющий взглянуть на тот век, когда он был сделан.
Когда я изучал доисторическую археологию, нам рекомендовали исследовать предметы прошлого, измерять их, сравнивать с другими, датировать. Но стоило начать рассуждать о характере и верованиях их создателей, подобные выводы воспринимались скептически как безосновательные, эмоциональные и ненаучные. Доисторическая религия, на горе изучающему доисторические времена, невосстановима. Для него она – отсутствующая проблема, не заслуживающая его внимания. Однако дело не столь уж безнадежно. Благодаря тестам Роршаха и прочим у нас появляется возможность определить характер или внутреннюю жизнь человека по тем вещам, которые он создает или даже любит. Предмет искусства – то, что психологи называют когнитивной картой, и она говорит о художнике больше, чем ему хотелось бы.
Я все твержу о связи между искусством и сексом. Первое, о чем тут надо помнить, – это то, что взгляд на вещи зависит от пола человека. В обществах, устроенных более просто, чем наше, всегда делалось различие между собственностью мужской и женской, между вещами его и ее; вспоминать Акт о собственности замужних женщин[10] тут было бы неуместно. Когда речь идет о других эпохах, нам, как правило, удается определить, какой пол что создал. Лишь двадцатый век являет собой картину полного смешения.
Здесь следует вспомнить еще и то, что древний человек не знал о существовании вещи бесполой, нейтральной. Для него все во все ленной было живым в силу каких-то таинственных причин, от всего шли послания. Камни и деревья часто разговаривали с мистиками вроде Магомета или с людьми, погруженными в депрессию, вроде Жерара де Нерваля. И коль скоро вселенная была жива, все в ней в придачу имело определенный пол. Подсознательное, очевидно, содержит в себе механизм разделения нашего мира на обладающие полом противоположности, соответствующие китайским инь и ян, на мужское и женское. Горы, скалы и мысы скорее всего мужского пола; пещеры, расщелины и бухты – женского. Покрывающее землю небо, с которого сыплются молнии, всегда мужского пола. Земля – всегда мать. Есть вещи – например, солнце, – чей пол нельзя предсказать точно. Для Людовика XIV солнце было мужского пола и символизировало мужскую силу, свет, побеждающий тьму, порядок, побеждающий хаос, власть и славу. Для аравийского племени бедуинов руала солнце – жестокая старая карга со страстью к разрушению, которая раз в четыре недели затаскивает красавца-месяца к себе в постель и лишает его сил, так что ему требуется еще месяц на восстановление. Заметим, что все обладает полом мужским или женским; это проявляется и в древних языках. В иврите нет среднего рода; существительное женского рода la chose[11] сохранилось и во французском.
Придание вещам пола в равной степени относится к предметам, сделанным человеком. Шотландский психолог исследовал группу школьников, самых обычных, и обнаружил, что мальчикам по душе мягкие округлые предметы, тогда как девочки предпочитают линейные, а по достижении половой зрелости у них развивается отчетливый вкус к предметам твердым и цилиндрическим. Если применить это наблюдение к стилям в искусстве, то нам, возможно, удастся определить, в какие периоды первенство в противостоянии полов держали женщины: этому соответствуют бьющая через край гетеросексуальность полотен Рубенса и изгибы фигурок эпохи неолита, тогда как в обществе, где властвуют мужчины (где женщин принижают или отвергают), от искусства следует ожидать линейной чистоты. Ее-то мы и находим в твердых вертикальных линиях греческого дорического ордера, мусульманского минарета, цистерцианской[12] архитектуры, в искусстве шейкеров[13].
Зыбкая почва, но мы явно можем двигаться дальше. Есть основания полагать, что в абстрактном дизайне, особенно изобилующем открытым пространством и симметричными формами, находят художественное самовыражение общества анархические, в которых социальные различия, если таковые существуют, неявно замалчиваются. Если же не ставить одного человека выше другого, то и один вид выше другого ставить, как правило, не будешь. Соответственно, можно заключить, что люди, которые не возвышают себя над остальной природой, имеют склонность к абстрактному искусству. Если это правда, то весьма странно, что так называемые «дети природы» в своем искусстве от природы отказываются; к тому же данный вывод заставит поломать голову толкователей пещерной живописи эпохи палеолита. Тем не менее этим вполне легко объясняется ужас кочевника перед изображением, а также то обстоятельство, что приступы иконоборчества являются характерной чертой движений миллениаристов[14] и левеллеров[15].
Справедливым выглядит и обратное утверждение. Любовь к образам возрастает внутри иерархии, в которой каждый знает свою ступеньку, где человек ставит себя выше других видов. Мы определенно можем проследить близость между ассирийскими царями-львами, Господом Вседержителем – Пантократором, изображенным на византийской апсиде, Лениным и Марксом, возвеличенными до сверхчеловеческих пропорций на Красной площади. Все эти образы завораживают тех, кто на них смотрит, доводя до подчинения высшей власти. Исследователи утверждают также, что тенденция к рассматриванию человеческих фигур в профиль является признаком меняющегося, непрямого взгляда на жизнь; разумеется, в таком духе можно продолжать до бесконечности.
Теперь я попрошу вас признать тот факт, что произведение искусства есть метафорическое утверждение права на территорию и самовыражение людей, там живущих. Африканская статуя предка – в степени не меньшей, чем Гейнсборо[16], – провозглашает законность существования человека, семейства или племени в данном месте, которое принадлежит им. Все мы, пожалуй, знакомы с понятием о том, что коллекционирование искусства сродни огораживанию территории. Коллекционер украшает свой уголок подобно тому, как собака метит круг у фонарного столба. Скажем так: фиксация человека на предметах, которую Фрейд определил как извращение, есть попросту способ пометить место обитания. Вещи представляются нам жизненно важными – остаться без них означает заблудиться или сойти с ума.
Покойный профессор Винникотт[17] дал фетишу другое название. У него это был «переходный объект». Для наших детей таким объектом может быть плюшевый медведь, уголок простыни или деревяшка. Винникотт утверждал, что ребенку следует позволять играть с вещами, иначе он никогда не сформирует собственное личное пространство и не оторвется от матери, не приспособится ко внешнему миру.
Если судить по практике «примитивных народов», то Винникотт прав. У бушменов матери позволяют детям составлять полный перечень предметов того края, в котором они будут расти. Ребенок щупает, нюхает и кусает раковины, цветы, животных, камни и плесень. Учась говорить, он выстраивает свои открытия одно за другим как последовательность метафорических ассоциаций, сравнивая подобное с подобным, и таким образом у него складывается понятие идеальной территории. Лучше всего приспособлены к своей территории народы, говорящие на самых сложных в мире языках, – это важное наблюдение. Чарльз Дарвин едва не принял индейцев племени ягана из Терра-дель-Фуего за вид, стоящий ниже человека; при этом словарный запас одного из индейских мальчиков не уступал шекспировскому. Правда, копить вещи матери им не позволяли – лишь брать в руки, рассматривать и бросать. Добавлю, что у цыган игрушек не бывает.
Картина наших детских исследований живет у нас в голове, словно потерянный рай, который мы постоянно стремимся обрести заново. Описание сада Пре-Каталан в Ильере у Пруста – непревзойденный пример этого в литературе. Однако дикарь свой младенческий рай никогда не перерастет, разве что будучи насильственно оттуда изгнан. И я подозреваю, что все время и усилия, которые мы тратим на создание новых вещей или стремление ими завладеть (миф о прогрессе, возведенный нами в ранг традиции), лишь служат компенсацией за ту идеальную территорию, от которой мы отчуждены. Только вернувшись к истокам, мы можем надеяться на обновление. В течение года австралийские аборигены обычно бродят где придется, но с регулярными интервалами возвращаются к своим священным местам, чтобы прикоснуться к традициям предков, укоренившимся во «время мечтаний». Однажды я встретил человека, поступавшего так же.
В то время я отдалился от друзей и полюбил общаться с человеком очень старым и очень сведущим в учении ислама. Он работал в посольстве одной ближневосточной страны атташе по коммерческим вопросам. Как-то вечером в его квартиру рядом с вокзалом Виктория пришел англичанин лет пятидесяти пяти, лицо которого выражало полнейшее спокойствие. На нем не было заметно ни единой морщины. Казалось, он принадлежит к этому почти вымершему виду – счастливый человек. Он вовсе не был замкнут или не от мира сего – напротив, находился в гуще событий. При этом такая жизнь, как у него, довела бы большинство из нас до нервного срыва. Работая представителем компании – производителя пишущих машинок, он каждые три месяца летал в Африку, посещал едва ли не все страны в тех краях. Ни родственников, ни близких у него не было. Он жил на чемоданах, точнее, на одном чемодане такого размера, что умещался под сиденьем в кабине самолета, так что его можно было носить с собой в качестве ручной клади. Бывая проездом в Лондоне, он все это обновлял – чемодан и одежду. Больше у него, по-видимому, ничего не было, но когда я пристал к нему с расспросами, он признался, что есть еще одна коробка, про которую ему не хочется говорить. Вы будете надо мной смеяться, сказал он. Я пообещал не смеяться, и он рассказал мне, что хранит в конторском сейфе черную жестяную коробку, в каких адвокаты держат бумаги. Внутри – его вещи. Возвращаясь в Лондон четыре раза в год, он ночует в помещении своей фирмы, в комнате, предназначенной для коммивояжеров. Он запирает дверь на полчаса, вынимает вещи из коробки и раскладывает их на койке. Это всевозможное старье, предметы буржуазной английской жизни: плюшевый медведь, фотография отца, погибшего в Первую мировую, его медаль, письмо от короля, кое-что из материнских безделушек, приз, полученный на соревнованиях по плаванию, и сувенирная пепельница. Но каждый раз, привозя из Африки новую вещь, он выкидывает какую-нибудь старую, потерявшую свое значение. «Я понимаю, звучит глупо, – сказал он, – но это – мои корни». Он – единственный из моих знакомых, кто разрешил сложное уравнение, которое связывает вещи и свободу. Коробка была центром его миграционной орбиты, единственной на всей территории неподвижной точкой, служащей ему для обновления личности. Без нее он буквально сошел бы с ума.
Если вещи служат для того, чтобы метить территорию, нам следует вспомнить, какую функцию территория выполняет для видов, отличных от нашего собственного. Территория – участок земли, необходимый животному и его группе, чтобы кормиться и размножаться. У бабуинов доминирующие самцы защищают свои границы, пока не придется уступить более сильному новичку. Их инстинктивный механизм борьбы выполняет две отдельные функции: одна состоит в том, чтобы защищать самок и детенышей от диких зверей, другая – в том, чтобы поддерживать форму в дарвиновском смысле слова, не позволяя более слабым самцам размножаться и передавать свою слабость генетическому фонду. Животное без территории может сделаться бесплодным.
Если вернуться к человеку, он, разумеется, обладает способностью убивать других животных, чтобы использовать их в пищу, и защищаться от опасных зверей. Это подтверждает уже одна наша эндокринная система. Однако вместо того, чтобы силой заставлять своих соседей-соперников повиноваться, человек поддерживал форму с помощью табу, наложенного на инцест. Он отличал свою собственную группу от пришельцев со стороны, группу внутреннюю от группы внешней. Внешняя группа обитала на территории, откуда поступали женщины, и лишь ими ему было позволено пользоваться в сексуальных целях. Ему пришлось провести границу между его и ее территорией. А для этого он вынужден был вести борьбу – не с помощью кулаков, но посредством вещей. Он устраивал ритуальные обмены бесполезными дарами, в которых агрессии крылось не меньше, чем в вооруженной схватке. Эти вещи (непременно обладающие полом), подобно нашим произведениям искусства, были заявлениями о территориальной целостности и использовались как моральное оружие дипломатии. Все мы знаем, что приношение даров характеризуется агрессией; это можно наблюдать в традиции, согласно которой главы государств, сердечно друг друга ненавидящие, все-таки подносят друг дружке идиотские украшения.
Нередко приходится читать грозные письма о разрушении британских сокровищниц искусства. Продажа Веласкеса музею Метрополитен вызывает в прессе больше горячих споров, чем продажа какого-нибудь огромного индустриального комплекса зарубежным инвесторам. По какой-то иррациональной причине продажа Веласкеса ведет к потере символа, тогда как продажа компании – дань обычному экономическому давлению. Представьте себе, что поднялось бы, если бы Метрополитен купил сокровища британской короны. Америка поглотила бы Британию и разрушила бы нашу территориальную целостность. Однако, реши мы одолжить им сокровища короны в обмен на Декларацию независимости, эта сделка, пусть неудачная, воспринималась бы как взаимный акт доброй воли между двумя соперничающими, но дружественными странами. Именно такой, по принципу «око за око», обмен символическими вещами на основе взаимного паритета и настраивает людей на дружеский лад или, по крайней мере, дает им почувствовать, что их не пытаются надуть. Цитируя слова Прудона, «собственность – это кража». Возможно; однако, если устранить всякую собственность, мы устраним социальные узы, поддерживающие народы в состоянии мира. Когда тонкий баланс между владением и обменом нарушается, начинается драка. И если приношение даров, не сопровождаемое должным возвратом, становится агрессией, то неудивительно, что собака кусает руку, которая ее кормит.
Нам часто представляется, что всякая торговля – система регуляции потока необходимостей. Наши банковские кредиты – вариации на тему «натурального» хозяйства, основанного на обмене, при котором я меняю свои яйца на твою репу, чтобы мы оба могли есть яйца с репой. Если так считать, то мы придем и к тому мнению, что рынок искусства – навязанный нам побочный продукт этого натурального хозяйства, – явление избыточное и легкомысленное. Однако это не мешает деловым людям воспринимать валютный рынок как игру без рациональных правил. А если нам угодно будет взглянуть на поведение дикарей, мы не увидим там никакого «натурального» хозяйства, никакого примитивного коммунизма, при котором все делится поровну, но обнаружим, что большая часть жизни уходит на расчетливые сделки и эгоистичные переговоры о сбыте и приобретении бесполезных вещей. Ибо торговля символами территории предшествует товарообмену. На островах Тробриан двое крестьян обменивались друг с другом бататами, несмотря на то обстоятельство, что бататов, совершенно одинаковых, у них обоих имелось достаточное количество. Бататы выбирались за внешний вид, не за пригодность в пищу. Суть в следующем: если я вторгнусь к тебе со своими красивыми бататами, то у меня появятся территориальные притязания, так что, если мы хотим и дальше жить в мире, ты должен вторгнуться ко мне с бататами еще более красивыми.
Я сочту за честь получить от вас красивую, пусть и бесполезную вещь. Но припрятывать ее, восхищаться ею означает подвергать себя опасности. Поступая так, я буду вызывать в окружающих зависть, которой хочу избежать. К тому же сама вещь живая. Ей не нравится, когда ее держат взаперти, она мечтает вернуться к своим корням (а вернувшись, заново сняться с места). Поэтому я поступлю иначе – передам эту вещь кому-нибудь, над кем мне хочется обладать моральной властью. Затем, в один прекрасный день, он вынужден будет подарить мне другую красивую вещь, и я передам ее вам. Я знаю, что, если стану щедро раздавать свои вещи, от друзей ко мне потянутся новые – прекрасно, только, ради Бога, пусть они будут выбраны со вкусом! В этом – несколько иная мораль вещей; именно ею нам следовало бы руководствоваться, решая, как поступить со своими коллекциями искусства, живи мы в идеальном мире. И все-таки приятно сознавать, что нечто похожее на рынок искусства существовало и до появления банков.
УТЦ Роман
Посвящается Дайане Фиппс
{2}
За час до рассвета 7 марта 1974 года в Праге, в доме № 5 по Широкой улице, в своей квартире с видом на Еврейское кладбище, от второго, давно ожидаемого удара скончался Каспар Иоахим Утц.
Три дня спустя в 7.45 утра его друг, д-р Вацлав Орлик, зажав в кулаке семь гвоздик (от намеченных десяти пришлось, увы, отказаться по финансовым соображениям), стоял у костела Св. Сигизмунда в ожидании катафалка. Д-р Орлик с удовлетворением отмечал первые признаки весны. Над липами, в саду через дорогу, кружили галки с веточками в клювах, а с черепичной крыши соседнего с костелом жилого дома время от времени сходили маленькие снежные лавины.
К Орлику подошел какой-то длинноволосый седой человек в плаще.
– Вы играете на органе? – спросил он простуженным голосом.
– Боюсь, что нет, – признался Орлик.
– Я тоже, – вздохнул незнакомец.
В 7.57 утра тот же седовласый старичок отомкнул изнутри тяжелые барочные двери храма. Не глядя на Орлика, он взобрался на органные хоры и, устроившись посреди золоченых трубящих ангелов, заиграл похоронный марш, состоящий из двух торжественных аккордов, разученных им накануне, – местному органисту было лень вылезать из постели в такую рань, и он попросил об одолжении… сторожа.
В 8 часов утра катафалк, «татра-603», подъехал к храму. Чтобы не привлекать внимания граждан к ретроградным христианским обычаям, все ритуалы – будь то крещение, свадьба или отпевание – по распоряжению властей следовало завершать к 8.30. Из машины вылезли трое мужчин и, помогая друг другу, открыли заднюю дверцу.
Утц продумал собственные похороны до мельчайших подробностей. Дубовый гроб устилали белые гвоздики. Впрочем, всего предусмотреть он не мог: пошлая большевистская действительность все-таки вторглась в его замысел. На этот раз в виде плюхнутого сверху венка: красные пуансеттии, красные гладиолусы, красная атласная лента и окантовка из блестящих лавровых листьев. К венку была приложена открытка с соболезнованиями от лица директора и работников музея Рудольфинум. Орлик добавил свое скромное подношение.
Вторая «татра» доставила еще трех сотрудников похоронного бюро. Все они теснились на переднем сиденье рядом с шофером. Сзади в полном одиночестве сидела женщина в черном и с черной вуалью, намокшей от слез. Поскольку никто из мужчин не выказал намерения ей помочь, она сама распахнула дверцу и, шатаясь от горя, почти рухнула на скользкие от тающего снега булыжники мостовой. Видимо, из-за больных ступней, ее туфли были надрезаны с боков.
Узнав в женщине верную домработницу Утца Марту, Орлик поспешил ей на помощь – и она, привалившись к его плечу, позволила себя эскортировать. Но когда он попытался взять у нее сумку из искусственной коричневой кожи, она резко рванула ее на себя.
Сотрудники похоронного бюро – в каковой роли эти люди выступали днем (в ночную смену подрабатывая на фабрике резиновых изделий), – водрузив гроб на плечи, двинулись по центральному проходу под музыку, напомнившую Орлику топот солдат на параде.
На полпути к алтарю процессия столкнулась с уборщицей, вооруженной ведром, куском мыла и щеткой. Она терла вделанную в пол многоцветную мозаику: фамильный герб Рожмберков.
Начальник похоронной бригады вежливо попросил женщину посторониться. Уборщица бросила на него злобный взгляд и не сдвинулась с места. В результате им пришлось повернуть налево между двумя рядами скамей, затем направо в боковой проход и снова направо, мимо кафедры. Наконец они достигли алтаря, где, нервно покусывая ногти, их ожидал моложавого вида священник в стихаре, испачканном евхаристическим вином.
«Похоронщики» почтительно опустили гроб и затем, привлеченные запахом горячего хлеба, долетавшим из близлежащей пекарни, отправились завтракать. На отпевании остались только Орлик и верная Марта.
Священник отбарабанил положенные молитвы так, словно это скороговорки, время от времени поднимая взор на фреску, изображавшую райские кущи. После прославления души усопшего произошла десятиминутная заминка, вызванная отсутствием сотрудников похоронного бюро, вернувшихся лишь в 8.26.
На кладбище, где почти уже растаял снег, священник, несмотря на толстое шерстяное пальто, сразу же затрясся от холода. Едва гроб опустили в могилу, он принялся подталкивать Марту к заказанному лимузину. На предложение Орлика позавтракать вместе с ними в ресторане гостиницы «Бристоль» служитель культа ответил категорическим отказом. На углу улицы Юнгманнова он крикнул водителю, чтобы тот притормозил, и быстренько выпрыгнул, оглушительно хлопнув дверцей.
Не кто иной, как Утц, заказал и оплатил этот прощальный завтрак. По залу плыл резкий запах дезинфицирующего средства. Большая часть столов была завалена перевернутыми стульями; уборщицы со швабрами в руках ликвидировали последствия вчерашнего банкета в честь восточногерманских и советских специалистов в области вычислительной техники. В дальнем левом углу стоял стол, накрытый на двадцать персон. На камчатной скатерти тускло поблескивали двадцать удлиненных бокалов для токая.
Утц ошибся в расчетах. Он ожидал как минимум нескольких родственников из тех, что покорыстнее (вдруг что-нибудь перепадет?), и делегацию из музея – последние должны были приехать хотя бы для того, чтобы осуществить заветный переход коллекции фарфора в их загребущие руки. Между тем за столом не было никого, кроме Марты и Орлика. Усевшись рядышком, они принялись поглощать копченую ветчину, блинчики с сыром и пить вино, которое подливал им неопрятный официант.
Рядом с их столом помещалось чучело громадного медведя, стоявшего на задних лапах, с угрожающе разинутой пастью и растопыренными когтями – очевидно, какой-то шутник решил таким образом напомнить чехам о братском защитнике их страны. Медная табличка, прикрученная к постаменту, сообщала, что медведя убил богемский барон, причем не в Татрах или Карпатах, а в Кордильерах, в 1926 году. Это был медведь гризли.
После парочки бокалов токая скорбь Марты по усопшему хозяину заметно поутихла. После четвертого бокала она скривила губы в издевательской усмешке и крикнула на весь зал: «За медведя!.. За медведя!»
Летом 1967 года – за год до ввода в Чехословакию советских танков – я на неделю приехал в Прагу. В качестве историка. Редактор одного английского журнала, зная о моем интересе к северному Ренессансу, заказал мне статью о страсти императора Рудольфа Второго к собиранию всяких диковинок – страсти, с годами ставшей его единственным лекарством от депрессии.
Я надеялся со временем написать отдельную большую работу о психологии, вернее сказать, психопатологии этого коллекционера поневоле. Увы, из-за лени и незнания языков моя попытка с наскока проникнуть в историю Центральной Европы закончилась полным провалом. Поездка запомнилась мне как весьма приятный отдых за чужой счет. По пути в Чехословакию я, проехав через Инсбрук, свернул в Шлосс-Амбрас, чтобы осмотреть кунсткамеру, или так называемый «кабинет редкостей» дяди Рудольфа, тирольского эрцгерцога Фердинанда (дядя с племянником вели многолетнюю, хотя довольно дружелюбную тяжбу о том, у кого из них должны храниться две реликвии семейства Габсбургов: рог нарвала и позднеримская чаша из агата, которая – или да, или нет – могла быть Святым Граалем).
Целых четыре века Амбрасской коллекции с ее солонкой Бенвенуто Челлини и головным убором Монтесумы, украшенным перьями кетцаля, ничто не угрожало. В XIX веке имперские чиновники переправили наиболее ценные экспонаты в Вену – подальше от революционных толп. Сокровища Рудольфа: корни мандрагоры, игуана-василиск, безоаровый камень, кубок из рога единорога, позолоченный кокосовый орех с Сейшельских островов, заспиртованный гомункулус, гвозди от Ноева ковчега и фиал с прахом земным, из которого Бог сотворил Адама, – давным-давно исчезли из Праги.
Но мне все равно было любопытно взглянуть на мрачную крепость Градчаны, где этот нелюдимый холостяк, обращавшийся по-итальянски к любовницам, по-испански к Богу, по-немецки к придворным и по-чешски (редко) к мятежным крестьянам, забросив дела Священной Римской империи, неделями просиживал со своими астрономами (среди его протеже были, в частности, Тихо Браге и Кеплер), искал философский камень с алхимиками, обсуждал с мудрецами-раввинами тайны каббалы и (тем чаще, чем труднее ему становилось править) воображал себя отшельником в горах или позировал Арчимбольдо, написавшему портрет императора в виде горы фруктов и овощей: тыква и баклажан изображают шею, редиска – кадык.
Так как в Праге у меня не было ни одного знакомого, я обратился за советом к другу-историку, специалисту по странам СЭВ, попросив свести меня с кем-нибудь стоящим.
По его словам, Прага и в наши времена оставалась одним из самых загадочных европейских городов, где запросто можно встретиться со всякого рода чудесами. Склонность чехов сдаваться на милость сильнейшего не следует путать со слабохарактерностью. Скорее, дело здесь в особом метафизическом ощущении, позволяющем воспринимать любые проявления грубой силы как нечто сугубо преходящее.
– Разумеется, – сказал он, – я могу познакомить тебя с тамошними интеллектуалами. Причем в неограниченном количестве. С поэтами, художниками, кинорежиссерами.
Если, конечно, меня не пугает перспектива выслушивать бесконечное нытье о роли художника в тоталитарном государстве или маяться на вечеринке, плавно перетекающей в оргию.
Я запротестовал. Он наверняка сгущает краски!
– Нет, – покачал головой мой друг, – не думаю.
Он с глубочайшим уважением относится к тем, кто, рискуя угодить за решетку, публикует свои стихи в иностранном журнале. Но ему кажется, что подлинными героями этой невероятной жизни являются все-таки другие люди – не те, кто без конца поносит партию и правительство, а те, кто молчит, оставаясь при этом полноправными представителями европейской культуры и цивилизации.
– Их молчание, – заявил мой друг, – это настоящий плевок в лицо государству, потому что для них его просто не существует.
Где еще вы найдете (а он лично знает этого человека) продавца трамвайных билетов, который одновременно был бы исследователем Елизаветинской эпохи? Или дворника, написавшего философский комментарий к «Фрагментам» Анаксимандра?
В заключение мой друг заметил, что Марксова мечта о веке нескончаемого досуга в каком-то смысле сбылась. Сражаясь с «пережитками индивидуализма», государство фактически предоставило индивиду неограниченное время для частных еретических размышлений.
Я признался, что мой интерес к Праге носит значительно более легкомысленный характер. И рассказал об императоре Рудольфе.
– В таком случае, – не задумываясь отозвался мой друг, – я отправлю тебя к Утцу. Утц – это Рудольф наших дней.
Утц был владельцем уникальной коллекции мейсенского фарфора, пережившей – благодаря его ловкости и находчивости – Вторую мировую войну и жуткие годы сталинизма. К 1967 году коллекция насчитывала около тысячи предметов. Все они с грехом пополам были втиснуты в крошечную двухкомнатную квартирку на Широкой улице.
Мелкие саксонские помещики Утцы родом из Крондорфа. Когда-то им принадлежали земли в Судетах и они были весьма богаты, во всяком случае, могли позволить себе дом в Дрездене, впрочем недостаточно шикарный для того, чтобы он попал на страницы Готского альманаха. Среди их предков затесался даже один рыцарь-крестоносец. Однако саксонцы более благородного происхождения произносили их фамилию с нескрываемым недоумением, чтобы не сказать презрением: «Утцы? Утцы? Нет. Вы что-то путаете. Это еще кто такие?»
Для такого отношения имелись свои причины. В этимологическом словаре Гримма у слова «утц» нет ни одной положительной коннотации: «пьяница», «тупица», «шулер», «сбытчик краденых лошадей». «Heinzen, Kunzen, Utzen oder Butzen» на нижнешвабском диалекте значит «любой дурак».
Отец Утца погиб на реке Сомме в 1916 году, успев, впрочем, прославить свой род высшей военной наградой Германии «Pour le Mérite»[18]. Мать – родители отца отнюдь не одобрили выбор сына – была дочерью чешского исследователя Возрождения и еврейки, наследницы крупного железнодорожного акционера.
Каспар был их единственным внуком. Каждое лето мальчика на месяц отправляли в Ческе-Крижове, замок в псевдосредневековом стиле между Прагой и Табором, где его бабушка, дряхлая старуха, чья желтоватая кожа никак не хотела покрываться морщинами, а волосы – белеть, сидела, скрюченная артритом, в гостиной, задрапированной темно-малиновой парчой и увешанной блестящими от переизбытка лака изображениями Мадонн.
Крещенная в католичество, она окружила себя сладкими до приторности священниками, превозносившими чистоту ее веры в надежде на материальное вознаграждение. От бескрайних просторов Центральной Богемии можно было укрыться в оранжерее, засаженной бегониями и цинерариями.
Чувства соседей были оскорблены – с какой стати эта старая карга (чье еврейское происхождение не являлось ни для кого секретом) корчит из себя аристократку?! А старуха и вправду не знала удержу: расставила вдоль лестницы рыцарские доспехи, а в ров, обнесенный крепостной стеной, запустила медведя. Однако еще до Сараево она, почувствовав нарастающую угрозу социализма и задумчиво повертев глобус, как иная женщина могла бы перебирать четки, ткнула пальцем в разные отдаленные точки, куда надлежит поместить капитал: медная шахта в Чили, хлопковые поля в Египте, консервный завод в Австралии, золотые прииски в Южной Африке.
Ей было приятно представлять, что ее состояние будет расти и после ее смерти, тогда как все эти лишатся своих богатств: в войну или революцию, разорившись на женщинах или на бегах, просадив все в карты… Каспар, темноволосый нервный мальчик, совсем не похожий на своего румяного отца, напоминал ей малокровных насельников гетто – и она его обожала.
Не где-нибудь, а именно в Ческе-Крижове этот не по летам развитой ребенок, привстав на цыпочки перед шкафом с фарфором, испытал первое в жизни эстетическое потрясение, очарованный фигуркой Арлекина работы одного из величайших мейсенских мастеров – Иоганна Иоахима Кендлера.
Арлекин сидел на поваленном стволе дерева. В костюме из разноцветных ромбов, обтягивающем его упругий стан. В одной руке он держал высокую пивную кружку с крышкой из потемневшего серебра, в другой – желтую шляпу с мягкими полями. Его лицо скрывала оранжевая полумаска.
– Хочу, – сказал Каспар.
Бабушка побледнела. Вообще-то она ему ни в чем не отказывала, но на этот раз сказала: «Нет. Может быть, когда-нибудь потом. Не сейчас».
Четыре года спустя, чтобы хоть как-то ободрить мальчика после гибели отца, она прислала ему этого Арлекина в специально заказанном кожаном футлярчике. Посылка пришла в Дрезден как раз в канун Рождества, которое в том году получилось совсем не веселым. В дрожащем свете свечи Каспар вынул фигурку из футляра и нежно провел пухлыми пальчиками по ее глазури и сияющей эмали. В тот миг ему открылось его предназначение: он посвятит себя собиранию («спасению», как он выражался) фарфора мейсенской мануфактуры.
Он забросил школьные занятия, зато досконально изучил историю производства фарфора – начиная с его появления в Китае и до его второго открытия в Саксонии при Августе Сильном. Он покупал новые вещи, продавал менее ценные и те, что с дефектами. В неполные девятнадцать лет Утц опубликовал в журнале «Нунк» яркую статью в защиту стиля рококо в фарфоровой пластике – искусства изысканных линий, возникшего в те времена, когда мужчины еще не разучились любить женщин, – искрометный ответ на оскорбительный выпад педераста Винкельмана: «Из фарфора вечно делают идиотских кукол».
Утц часами пропадал в дрезденских музеях, разглядывая фигурки персонажей комедии дель арте из королевских коллекций. Запертые в стеклянных саркофагах, они, казалось, звали его в свой тайный лилипутский мир и – молили об освобождении. Его вторая статья называлась «Частный коллекционер»:
«Вещь, выставленная в музейной витрине, – писал он, – должна чувствовать себя, как животное в зоопарке. Становясь музейным экспонатом, вещь погибает – от удушья и невозможности уединения. Между тем как владелец домашней коллекции может, а вернее сказать, не может не прикасаться к ней. Подобно тому как ребенок дотрагивается до предмета, чтобы дать ему имя, страстный коллекционер, чей глаз и рука всегда находятся в гармонии, вновь и вновь дарует вещи жизнепорождающее прикосновение ее создателя. Главный враг коллекционера – хранитель музея. В идеале следует хотя бы раз в пятьдесят лет опустошать все музеи, чтобы их коллекции вновь оказывались в частных руках…»
– Как вы можете объяснить, – как-то раз спросила мать Утца семейного доктора, – маниакальную увлеченность Каспара фарфором?
– Перверсия, – ответил он, – такая же, как и все прочие.
В качестве примера для подражания Утц избрал любвеобильного Августа Сильного, о любовных приключениях которого прочитал у фон Пёльница в «Галантной Саксонии». Но когда, приехав в Вену, он попытался подражать амурным подвигам этого неотразимого и ненасытного монарха – рассчитывая отыскать в Мици, Сюзи и Лизель очарование Авроры, графини Кёнигсмарк, мадемуазель Кессель или еще какой-нибудь дрезденской придворной богини, – девушки были озадачены чрезмерной серьезностью этого ученого молодого человека и не смогли удержаться от смеха при виде его крохотного «инструмента».
В печальном одиночестве плелся он по мокрым улицам обратно в гостиницу.
Антиквары встретили его значительно теплее. Продажа в 1932 году судетских угодий сделала его настоящим богачом. Кончина – сначала бабушки, а затем и матери – позволила ему состязаться на аукционах с Ротшильдами.
От политики Утц предпочитал держаться подальше. Не будучи героем по натуре, он в общем-то был готов терпеть любую идеологию, лишь бы его не трогали. Но мягкотелым он не был и запугиваний не выносил. Питая отвращение к насилию, он вместе с тем радовался разного рода катаклизмам, выбрасывавшим на рынок произведения искусства. «Войны, погромы и революции, – говаривал он, – предоставляют коллекционеру прекрасный шанс».
Одним из таких «шансов» явился небезызвестный обвал на биржевом рынке. Другим – Хрустальная ночь. На той же неделе Утц примчался в Берлин скупать фарфор за американские доллары у еврейских коллекционеров, собравшихся эмигрировать. В конце войны он оказывал аналогичные услуги аристократам, бегущим от Советской армии.
Как гражданин рейха он принял аннексию Судет, хотя и без большого энтузиазма. Однако после оккупации Праги он уже не сомневался, что со дня на день Гитлер развяжет войну во всей Европе. Не сомневался он и в том, что Германия потерпит поражение – просто потому, что такова печальная участь всех агрессоров.
Доверившись собственной интуиции, он летом 1939 года перевез тридцать семь ящиков фарфора из дрезденского дома в Ческе-Крижов. И даже не распаковал их.
Год спустя, сразу после блицкрига, к нему в гости приехал его рыжий троюродный брат Рейнхольд – неглупый, но душевно абсолютно неразвитый детина, который еще в бытность студентом уверял, что «Взаимная помощь как фактор эволюции» Кропоткина – величайшая из всех написанных книг. Теперь, ссылаясь на опыт собаководов, он разглагольствовал о расовой биологии. Потомку Утцов, внушал он, несмотря на примесь инородной крови, следует незамедлительно идти служить в вермахт.
За ужином Утц вежливо выслушал восторженную речь брата по поводу немецких побед во Франции. Но когда тот принялся уверять, что еще до конца года немцы займут Букингемский дворец, он – понимая, что это не вполне уместно, – внезапно испытал прилив застарелого англофильства.
– Не думаю, – вырвалось у него, – ты недооцениваешь этот народ. Я их знаю. Я бывал в Англии.
– Я тоже, – буркнул брат и, цокая подковками сапогов, прошествовал к ожидавшему его служебному автомобилю.
Шестнадцатилетним юношей Утц и вправду приезжал в Англию учить английский язык. Три осенних месяца и пасмурный декабрь он провел в Бексхилл-он-Си с мисс Берил Паркинсон, бывшей няней матери, в доме с кошками и ходиками. Стоя у окна, он подолгу смотрел, как набегающие волны бьются о пирс.
Он выучил английский. Не так чтобы очень, но все-таки. И совершил короткую экскурсию в Лондон, из которой вынес законченное представление о том, как именно должен одеваться и держаться в обществе настоящий английский джентльмен. В Дрезден он вернулся в вызывающе скроенном твидовом пиджаке и сделанных на заказ ботинках.
Этот коричневый с кожаными заплатками на локтях потертый пиджак, из которого он вырос как минимум размера на два, Утц носил до самого конца войны, даже когда ему приходилось бывать в местах массового скопления немецких офицеров. Это был жест. Акт скрытого неповиновения.
Он надел его и тогда, когда, в пору правления «пражского мясника» Рейнхарда Гейдриха, его вызвали на допрос в связи с возникшими сомнениями в его чистокровности. Не откуда-нибудь, а именно из внутреннего кармана английского пиджака он, к изумлению допрашивающих, выудил отцовскую медаль героя Первой мировой. По какому праву, раскричался он, шваркнув медаль на стол. Как смеют они оскорблять сына великого немецкого солдата?
Это был смелый ход – и он сработал. Больше Утца не трогали. Он затаился в Ческе-Крижове, где впервые в жизни начал регулярно заниматься физическими упражнениями, трудясь со своими работниками на лесопилке.
16 февраля 1945 года он узнал, что разбомбили их дрезденский дом. Его любовь к Англии закончилась после сообщения, озвученного ровным голосом диктора Би-би-си: «Фарфора в Дрездене больше не осталось». Утц подарил свой пиджак цыгану, каким-то чудом избежавшему лагерей.
Через месяц после капитуляции, когда немцев и их пособников выгоняли из домов, а нередко и из страны, конвоируя до самой границы «в одежде, в которой они находились в момент ареста», Утцу удалось избавиться от немецкого паспорта и записаться чехом. Несколько труднее было развеять слухи о том, что он помогал созданному Герингом «отделу по искусству».
Тем более что так оно и было. Он и вправду сотрудничал. Поставлял сведения. О местонахождении произведений искусства. Ничего ужасного он не делал. В сущности, эту информацию мог бы получить всякий, умеющий пользоваться библиотечным каталогом. Благодаря этому сотрудничеству Утцу удалось спасти нескольких друзей-евреев, в том числе знаменитого гебраиста Зигмунда Крауса. В конце концов, человеческая жизнь ценнее картин Тициана или Тьеполо!
К коммунистам Утц начал подлизываться загодя, как только понял, что дни правительства Бенеша сочтены. Узнав, что Клемент Готвальд сделал своей резиденцией Пражский Град – «рабочий на троне богемских королей», – Утц сразу же передал свои земли колхозу, а фамильный замок под психиатрическую лечебницу.
Это позволило ему выиграть время, достаточное для того, чтобы вывезти – ничего при этом не разбив и не потеряв – коллекцию фарфора, которая в противном случае неизбежно досталась бы победившей черни.
Его следующим шагом была имитация научной деятельности, а именно занятия гебраистикой под руководством д-ра Крауса – портреты Маркса и Ленина висели в те дни почти во всех израильских кибуцах. Он устроился работать в Национальную библиотеку на низкооплачиваемую должность каталогизатора. Поселился в ничем не примечательной квартирке (бывший хозяин которой исчез в годы «гейдрихиады»[19]) в Еврейском городе.
Дважды в неделю он законопослушно ходил в кино на советский фильм. Когда его друг д-р Орлик предложил ему бежать на Запад, Утц указал на стеллажи, где в шесть рядов стояли изделия из мейсенского фарфора, и сказал: «Я не могу их оставить».
– Как же он ее сохранил?
– Что именно?
– Свою коллекцию.
– Договорился с властями.
Мой друг-историк вкратце изложил известные ему факты. Партийные чиновники, всегда стремившиеся соблюсти, по крайней мере, видимость законности, разрешили Утцу держать коллекцию дома при условии, что все будет учтено и сфотографировано. Сговорились – впрочем, никаких официальных бумаг не подписывали, – что после смерти Утца коллекция отойдет Национальному музею.
Марксизм-ленинизм в принципе никогда не подвергал критике идею частного коллекционирования. Разве что Троцкий в пору Третьего интернационала сделал на этот счет парочку раздраженных замечаний. Но специальных постановлений не принималось – статус собирателя произведений искусства в пролетарском государстве оставался невыясненным. Классовый враг? Но в чем, собственно, это выражается?
Разумеется, революция декларировала отмену частной собственности. Но где проходит тонкая грань между собственностью, вредоносной для государства, и предметами быта, которые вроде бы опасности не представляют? Картина выдающегося живописца рассматривалась как национальное достояние и подлежала конфискации – некоторые пражские семьи прятали свернутые в трубочку холсты Пикассо или Матисса под половицами. Но фарфор? В конце концов, он не так уж сильно отличается от обычного фаянса. Теоретически, если, конечно, поставить жесткий заслон его незаконному вывозу из страны, он вообще ничего не стоит. Конфискация керамических изделий обернется административным кошмаром.
– Представь себе конфискацию бесчисленных гипсовых бюстов Ленина…
Его лицо тут же забывалось. Круглое, с желтоватой рыхлой кожей и маленькими узкими глазками за стеклышками очков в металлической оправе. Такое невыразительное, что казалось как бы несуществующим. Носил ли он усы? Не помню. Добавьте усы, уберите усы – в сущности, это ничего не изменит. Ладно, допустим, усы были. Аккуратные колючие усики, вполне гармонирующие с четко выверенными движениями заводного солдатика – единственный уцелевший «рудимент» его тевтонского происхождения. Маскируя плешь, он зачесывал редкие сальные волосы от одного уха к другому, ходил в полосатом сером костюме, слегка обтрепавшемся на концах рукавов, и пользовался одеколоном «Княжеский».
Нет, усы, пожалуй, все-таки лучше убрать, а то они так перегружают лицо, что больше вообще ничего не вспоминается – только очки и усы с несколькими приставшими к ним крошками красного перца из рыбного супа цвета паприки, который мы заказали в ресторане «Пструх».
«Пструх» – по-чешски «форель», и чего-чего, а форели там хватало. Из невидимых громкоговорителей неслись каденции «Форелевого квинтета»[20], и целые косяки форели – розоватой, с крапинками, – мерцая брюшками в неоновом свете, плавали туда-сюда в огромном аквариуме во всю стену.
– Возьмем форель, – предложил Утц.
Я позвонил ему сразу же по приезде. Но сперва он явно не хотел со мной встречаться.
– Ja! Ja![21] Я знаю. Но у меня сейчас очень плохо со временем…
По совету приятеля я привез ему из Лондона несколько упаковок его любимого чая «Эрл Грей». Я упомянул об этом. Он смягчился и пригласил меня на обед. В четверг, за день до моего отъезда. Но не к себе домой, на что я, честно говоря, рассчитывал, а в ресторан.
Ресторан, реликт тридцатых годов, помещавшийся в сводчатой галерее на Вацлавской площади, с точки зрения декора был типичным порождением века машин: зеркальные стекла, алюминий, кожа. С потолка свисала модель галеона с развевающимися парусами из пергамента. Стену украшал фотопортрет товарища Новотного[22]. Оставалось загадкой, как человек с таким противным ртом вообще соглашается фотографироваться. Метрдотель, изнемогающий от июньской жары, вручил каждому из нас меню, похожее на средневековый служебник.
К нам должен был еще присоединиться друг Утца д-р Орлик, с которым Утц обедал тут каждый четверг начиная с 1946 года.
– Орлик, – объяснил мне Утц, – известный ученый, сотрудник нашего Национального музея. Он палеонтолог, специалист по мамонтам и мухам. Он вам понравится. Это очень обаятельный и остроумный человек.
Долго ждать не пришлось. Вскоре в дверном проеме показался высокий бородач в лоснящемся двубортном костюме. Орлик снял берет, встряхнул копной жестких седеющих волос и сел. Больно пожав мне руку, он набросился на претцели. Его лоб пересекали глубокие морщины. Меня потрясли мерные, возвратно-поступательные движения его нижней челюсти.
– Ага! – покосился он на меня. – Значит, англичанин? Англичанин, да? Да? Ага! Скажите, профессор Хорсфилд еще жив?
– Кто это? – спросил я.
– Он написал добрые слова об одной моей работе в «Джорнал ов энимал сайколоджи».
– Когда это было?
– В 1935-м, нет, в 1936-м.
– Я никогда не слышал о Хорсфилде.
– Жаль, – сказал Орлик, – это выдающийся ученый.
Он сделал паузу, чтобы догрызть последний претцел. В его зеленых глазах мелькнуло шутливое негодование.
– Вообще-то, – продолжил он, – я не слишком высокого мнения о ваших соотечественниках. Вы предали нас в Мюнхене. Вы предали нас в Ялте.
Утц, встревоженный таким опасным поворотом беседы, попытался сменить тему, объявив с подчеркнутой серьезностью:
– Я не верю, что у животных есть душа.
– Как ты можешь такое говорить? – ахнул Орлик.
– Могу.
– Вижу, что можешь, но не понимаю, как у тебя язык поворачивается.
– Сделаю заказ, – сказал Утц и, подняв салфетку как белый флаг, призывно помахал ею официанту, – возьмем форель «Au bleu»[23], да?
– «Бло»? – передразнил Орлик.
– Сам ты «бло».
Орлик похлопал меня по руке.
– Мой друг, мистер Утц, полагает, что, когда форель бросают в кипяток, она ничего не чувствует, самое большее – щекотку. Я с этим не согласен.
– Форели нет, – заявил подошедший официант.
– То есть как нет? – изумился Утц. – Когда есть, причем очень много.
– У нас нет сачка.
– Как это нет сачка? На прошлой неделе был.
– Порвался.
– Порвался? Я вам не верю.
Официант приложил палец к губам и прошептал: «Вся форель заказана».
– Этими?
– Этими, – кивнул официант.
За соседним столиком четыре толстяка уплетали форель.
– Понятно, – сказал Утц. – Что ж, возьмем угрей. Вы не против? – обратился он ко мне.
– Вовсе нет.
– Угорь кончился, – отрезал официант.
– Кончился? Плохо. А что у вас есть?
– Карп.
– И все?
– Все.
– А как вы его готовите?
– По-разному, – официант махнул рукой в сторону меню. – Как пожелаете.
Меню было на нескольких языках: чешском, русском, немецком, французском и английском. К сожалению, тот, кто составлял английскую страничку, вместо слова «carp» написал «crap»[24]. В разделе, озаглавленном «Сrap dishes», приводился длинный перечень соответствующих блюд: «Crap soup with paprika», «Stuff ed crap», «Crap cooked in beer», «Fried crap», «Crap balls» и «Crap à la juive»[25]…
– Вообще-то, – сказал я, – в Англии эта рыба называется «carp».
Слово «crap» означает несколько иное.
– Серьезно? – удивился д-р Орлик. – Что именно?
– Фекалии, – объяснил я, – дерьмо.
И тут же пожалел о своих словах, потому что Утц ужасно смутился. Он заморгал узкими глазками с таким видом, словно надеялся, что ослышался. Орлик взмахнул своими клешнями и зашелся хриплым гоготом.
– Ха! Ха! – надрывался он. – «Сrap à la juive»… Мой друг, мистер Утц, собрался есть «crap à la juive»!
Я испугался, что Утц уйдет, но он, поборов смущение, заказал суп и «Carpe meunière»[26]. Пойдя по пути наименьшего сопротивления, я заказал то же самое. Орлик хрипло пробасил: «Нет. Нет. Я возьму “Сrap à la juive”!»
– Что-нибудь еще? – спросил официант.
– Ничего, – отрубил Орлик, – только «Сrap».
Я попытался расспросить Утца о его коллекции. Он вжал голову в плечи и сказал безучастным голосом:
– Между прочим, д-р Орлик тоже коллекционер. Он коллекционирует мух.
– Мух?
– Мух, – подтвердил Орлик.
Я мысленно нарисовал себе картину его жилища: неубранная постель, пепельница, набитая окурками, кипы пожелтевших газет и журналов, микроскоп, банки с эфиром и застекленные стеллажи с мухами из разных уголков земного шара, каждый экземпляр на отдельной булавке. Я сказал, что видел в Бразилии очень красивых стрекоз.
– Стрекоз? – скривился Орлик. – Не интересуюсь. Объект моего исследования – Musca domest ica.
– Иначе говоря, обычная домашняя муха?
– Именно так.
– А скажи-ка, – снова перебил Утц, – в какой день Бог сотворил муху? В пятый? Или в шестой?
– Сколько раз тебе говорить? – загремел Орлик. – Мухам сто девяно-сто миллионов лет! А ты все толкуешь о каких-то днях!
– Н-да, это серьезно, – глубокомысленно протянул Утц.
На скатерть, рядом с каплей супа, которую нечаянно уронил с половника официант, опустилась муха. Орлик молниеносным движением перевернул стакан и накрыл им насекомое. Затем, пододвинув стакан к краю стола, он выхватил из кармана морилку. Еще через миг муха была уже в стакане. Послышалось сердитое жужжание, потом – тишина. Достав лупу, Орлик осмотрел свою жертву.
– Забавный экземпляр, – сказал он. – По всей вероятности, вывелась на здешней кухне. Я спрошу… – Нет, не спросишь.
– Спрошу. Обязательно спрошу.
– Ни в коем случае.
– А откуда, – полюбопытствовал я, – у вас этот интерес к мухам?
Выковыривая из бороды рыбьи косточки, Орлик рассказал, что последние тридцать лет изучает некоторые аспекты жизнедеятельности шерстяного мамонта. Он многократно бывал в полевых экспедициях в сибирской тундре, где время от времени находят мамонтов в вечной мерзлоте. Кульминацией его научной деятельности – хотя из скромности он предпочитает об этом не говорить – стал труд на соискание магистерской степени «Мамонт и его паразиты». Но еще до публикации этой работы он осознал необходимость изучения насекомых.
– Я решил сосредоточиться на Musca domest ica, – сообщил он, – чей ареал обитания не выходит за пределы Большой Праги.
Подобно тому как его друг, мистер Утц, без труда определяет, из какой именно белой глины – колдицкой или эрзгебиргской – изготовлено то или иное изделие мейсенской мануфактуры, он, Орлик, во всяком случае по его собственным словам, взглянув в микроскоп на переливчатую перепонку мушиного крыла, мог безошибочно указать, на какой из многочисленных помоек, окаймляющих столицу Чехословакии, эта муха вывелась.
Он признался, что в свое время его просто потрясла живучесть мухи. Следуя тогдашней моде, коллеги-энтомологи – особенно члены Компартии – восхищались общественными насекомыми: муравьями, пчелами, осами и другими разновидностями перепончатокрылых, живущими в организованных сообществах.
– А муха, – заявил Орлик, – анархист.
– Тише! – шикнул Утц. – Не произноси этого слова!
– Какого слова?
– Этого.
– Да-да! – Орлик взял октавой выше. – Повторяю: муха – анархист. Индивидуалист. И донжуан.
Четыре партийца, в адрес которых была направлена эта тирада, и ухом не повели – они с нескрываемой нежностью следили за действиями официанта, который как раз в этот момент готовил для них вторую порцию форели, удаляя косточки и снимая голубоватую кожицу.
– Я не пролетарского происхождения, – сообщил Орлик. – В моих жилах течет благородная кровь.
– Вот как, – хмыкнул Утц. – Интересно, кто же твои предки?
На какой-то миг мне показалось, что встреча завершится обменом колкостями, пока я не понял, что это просто очередная миниатюра из их хорошо отрепетированного репертуара. Затем последовал спор о достоинствах (и соответственно недостатках) Кафки, которого Утц боготворил, почитая демиургом, а Орлик ни в грош не ставил, обзывая наглым обманщиком, чьи писания следовало бы уничтожить.
– Вы хотите сказать – запретить? – уточнил я. – Подвергнуть цензуре?
– То, что я хотел сказать, я сказал! – рявкнул Орлик. – Уничтожить.
– Паф! Паф! – хлопнул в ладоши Утц. – Это еще что за чушь?
Выяснилось, что главным пунктом Орликова обвинения против Кафки был сомнительный в энтомологическом плане статус насекомого в рассказе «Превращение». Мне снова показалось, что ссоры не избежать. И вновь я ошибся – буря улеглась. Мы выпили по чашке анемичного кофе. Орлик вытребовал у меня мой лондонский адрес, нацарапал его на обрывке салфетки, скатал в шарик и запихал в карман. Он перехватил счет и, помахав им перед носом Утца, объявил: «Плачу я».
– Об этом не может быть и речи.
– Возражения не принимаются.
– Не пойдет, – сказал Утц и выхватил у Орлика бумажку, которую тот, надо сказать, держал так, чтобы Утцу легко было до нее дотянуться.
Орлик закрыл глаза, как бы нехотя смиряясь с неизбежным.
– Ладно, – кивнул он, – что ж, мистер Утц заплатит.
– А теперь, – повернулся ко мне Утц, – я хотел бы показать вам некоторые достопримечательности нашего прекрасного города.
Остаток дня мы с Утцом провели, прогуливаясь по малолюдным улочкам Мала-Страны. То и дело останавливаясь полюбоваться облупившимся фасадом какого-нибудь купеческого дома или дворцом в стиле барокко или рококо. Вртба, Палфи, Лобковиц – Утц произносил имена этих архитекторов так, словно они были его закадычными друзьями.
Восковая фигура Младенца Христа в сверкающем золотом ореоле в костеле Девы Марии Победительницы гораздо больше походила на мстительное божество Контрреформации, нежели на Святое Дитя из Вифлеема.
Поднявшись по Нерудовой улице, мы обошли Градчаны – район моих бесплодных поисков полунедельной давности. Потом посидели в вишневом саду под Страговским монастырем. На газоне загорал какой-то человек в трусах. Тополиный пух кружился над нами, словно снег.
– У этого города, – сказал Утц, указывая тростью вниз, на бесчисленные портики и купола, – трагическая маска.
Кроме того, это был город великанов: в камне, глине и мраморе. Обнаженные великаны; великаны-арапы; великаны, выглядящие так, словно они из последних сил сражаются с ураганом или какой-то невидимой злой силой; великаны, напружинившиеся под тяжестью архитравов.
– Страдающий великан, – заметил Утц без большой уверенности в голосе, – символ нашего преследуемого народа.
Я осторожно заметил, что любовь к великанам, как правило, симптом вырождения: век, чьим идеалом стал Геракл Фарнезе[27], не мог закончиться ничем хорошим.
Утц парировал историей про прусского короля Фридриха Вильгельма, сколотившего однажды целый отряд из невероятных верзил (большей частью умственно отсталых) для укрепления рядов потсдамских гренадеров.
Потом он рассказал, как это пристрастие к великанам привело к одной из самых удивительных дипломатических сделок ХVIII столетия: в обмен на шестьсот исполинов «означенного роста» из восточных провинций Август, курфюрст Саксонский, получил сто двадцать семь изделий из китайского фарфора, хранившихся в Шарлоттенбургском дворце в Берлине.
– Никогда не любил великанов, – признался Утц.
– Однажды я познакомился с торговцем карликами, – сказал я.
– Правда? – заморгал Утц. – Вы сказали – карликами?
– Да.
– И где же вы с ним познакомились?
– В самолете по пути в Багдад. Он летел выбирать карлика для своего клиента.
– Клиента?! Потрясающе!
– У него было два клиента, – сказал я. – Один – арабский нефтяной шейх, другой – владелец сети отелей в Пакистане.
Утц похлопал меня по колену:
– А что они делали с этими карликами?
Он даже побледнел от восторга, и я заметил, что на лбу у него выступили капельки пота.
– Просто держали их у себя, – сказал я. – Шейху, если я правильно помню, нравилось сажать карлика себе на плечо, а своего любимого сокола – на руку карлика.
– И все?
– Кто знает?
– Вы правы, – сказал Утц. – Есть вещи, которые нам не дано знать.
– Да, честно говоря, и не хочется.
– А сколько стоит карлик? В наше время?
– Понятия не имею. Вообще-то держать карликов всегда было довольно дорогим удовольствием.
– Замечательная история, – улыбнулся Утц. – Спасибо. Мне тоже нравятся карлики. Но не в том смысле, в каком вы, может быть, подумали.
Вечер мы встретили на скамейке на Старом Еврейском кладбище. С крыши Клаусовой синагоги долетало булькающее бормотание голубей. Солнечные лучи, падая сквозь платаны, высвечивали спиралевидные столбики толкущихся мошек и привалившиеся друг к другу мшистые надгробия, похожие на обросшие водорослями камни на отмели.
Справа от нас американские хасиды – бледные близорукие юноши в ермолках – клали камушки на могилу великого рабби Лëва. Затем, повернувшись спиной к надгробию, они замерли, позируя фотографу.
Утц рассказал мне, что в 90-х годах XIX века Еврейский город, с его лабиринтом скрытых ходов и потайных комнат, столь живо изображенных Майринком[28], был почти полностью перестроен. На месте трущоб выросли многоквартирные дома. От бывшего гетто остались только синагоги, кладбище и здание ратуши. Нацисты, объяснил Утц, не собирались ничего уничтожать, а наоборот – готовились разместить здесь «музей еврейства», где будущие арийские туристы могли бы не без любопытства разглядывать то немногое, что уцелело от народа, исчезнувшего с лица земли, подобно ацтекам или готтентотам.
– Вы, наверное, слышали о големе, – сменил тему Утц.
– Да, – сказал я. – Голем был искусственным человеком… механическим человеком… прототипом робота. Его сделал рабби Лëв.
– Друг мой, – улыбнулся Утц, – я вижу, вы очень много знаете. Но вам предстоит узнать еще больше.
Рабби Лëв был признанным лидером пражского еврейства при императоре Рудольфе – такого почета и уважения евреи Центральной Европы не имели больше никогда за всю свою историю. Рабби Лëв принимал князей и послов. И сам не раз был принят императором в Градчанах. Многие из его писаний – в том числе трактат «Об ожесточении сердца фараонского» – стали частью хасидского учения. Как и все каббалисты, он полагал, что любое событие – прошлое, настоящее и будущее – записано в Торе.
После смерти – иначе и быть не могло! – рабби получил от Бога сверхъестественные способности. Существуют легенды – все позднейшего происхождения – о том, как с помощью абракадабры[29] он перенес некий замок из Богемии в пражское гетто. Или заявил императору, что его настоящий отец – еврей. Или нанес сокрушительное поражение безумному иезуиту, отцу Тадеушу, неопровержимо доказав беспочвенность христианского кровавого навета[30]. Или изготовил голема Йосела из влтавской глины.
В основе всех легенд о големе – древнееврейская вера в то, что всякий праведник может сотворить Мир, расположив в порядке, предписанном каббалой, буквы, составляющие тайное имя Всевышнего. «Голем» на иврите значит «неоформленный» или «несозданный». Праотец Адам тоже был «големом» – огромной инертной массой глины, покрывавшей всю землю, – до тех пор, пока Яхве не сжал его до размеров человека и не вдохнул в него дар речи.
– Так что, – заметил Утц, – Адам был не только первым человеком.
Он был еще и первой керамической скульптурой.
– Вы хотите сказать, что ваши фарфоровые статуэтки живые?
– И да и нет, – ответил он. – Они и живы и не живы. Но если бы даже они были живыми, им бы все равно пришлось умирать, не так ли?
– Вам виднее.
– Верно. Виднее.
– Ладно, – сказал я, – расскажите еще про големов.
Одну из своих любимых историй о големах Утц, по его словам, вычитал в средневековом тексте, найденном Гершомом Шолемом. Там рассказывается, как Иисус Христос (подобно нашему другу И.-И. Кендлеру)[31] лепит из глины птиц. И когда он произносит священную формулу, птицы взмахивают крылышками, начинают петь и улетают. Герои второй истории («Ах, какая это еврейская история!») – два раввина. Проголодавшись, они вылепили из глины теленка, оживили его – после чего перерезали ему горло и сытно поужинали.
Что касается изготовления голема, то, согласно наставлению, приводимому в «Сефер Йецира», или «Книге Творения», для этого требуется определенное количество нетронутой горной земли, которую нужно смешать со свежей родниковой водой, после чего вылепить из образовавшейся массы человеческую фигуру. При изготовлении каждой конечности необходимо произносить буквы еврейского алфавита в особом порядке. Затем следует несколько раз обойти фигуру по часовой стрелке – тогда голем оживет и встанет. Если двигаться против часовой, он вновь обратится в прах.
Ни один из ранних источников не сообщает, умел ли голем говорить. Но память у него была, и он обладал способностью механически исполнять приказы. Нужно было только не забывать отдавать их через равные промежутки времени, иначе он мог взбеситься. Еще о големах известно, что они каждый день вырастали примерно на два сантиметра, очевидно стремясь достигнуть гигантского размера космического Адама, чтобы уничтожить своих создателей и покорить мир.
– Големы могли увеличиваться до бесконечности, – сообщил Утц. – Они были очень опасны.
Считается, что либо в повязке на лбу, либо под языком у голема помещалась металлическая пластинка, «шем», с начертанным на ней еврейским словом «эмет»: «Правда Божия». Для того чтобы уничтожить голема, рабби достаточно было стереть первую букву и превратить «эмет» в «мет», что значит «смерть».
– Понятно, – сказал я. – Иначе говоря, этот «шем» был чем-то вроде батарейки?
– Совершенно верно.
– И без нее машина не работала?
– Именно так.
– А рабби Лëв…
– Нуждался в помощнике. Он был хорошим еврейским бизнесменом. Ему требовался бесплатный работник.
– Бесплатный и безответный!
Голема рабби Лëва звали Йосел.
По будням он работал: колол дрова, подметал улицу, прибирался в синагоге, а также исполнял роль сторожевого пса на случай нападения иезуитов. А в субботу – так как в субботу все создания Божии должны отдыхать – хозяин вынимал «шем», тем самым лишая голема жизни.
Но как-то раз в одну из суббот рабби забыл вынуть магическую пластинку, и Йосел словно с цепи сорвался. Он крушил дома, швырялся камнями, бросался на прохожих и вырывал с корнем деревья. Члены общины в этот момент собрались в Староновой синагоге на утреннюю молитву и пели девяносто второй псалом[32]: «…а мой рог Ты возносишь, как рог единорога…» Рабби выбежал во двор и сорвал «шем» со лба монстра.
Согласно другой версии, «смерть» настигла чудовище среди старых книг и талесов[33] на хорах синагоги.
– Скажите, – спросил я, – внешне голем выглядел как еврей?
– Исключено, – категорически отверг мое предположение Утц. – Ведь голем был слугой, а слуги в еврейских домах всегда были гоями.
– Значит, у голема были нордические черты?
– Да, – подтвердил он. – Точнее сказать, «великаньи» черты.
Утц задумался. Потом перешел к самому непростому аспекту этой темы:
– Согласно всем легендам, создатель голема обрел тайное знание и в то же время нарушил Божественный Закон: делать человекоподобную фигуру – святотатство. Фактически голем был ходячим предупреждением против идолопоклонства и сам стремился к собственному уничтожению.
– Так что же, по-вашему, – спросил я, – коллекционирование предметов искусства – тоже идолопоклонство?
– А как же! – Утц ударил себя в грудь. – Разумеется! Разумеется! Именно поэтому евреи – а в этом отношении я считаю себя евреем – такие талантливые коллекционеры! Потому что это запрещено!..
Потому что это греховно!.. Потому что это опасно!..
– Ваши статуэтки тоже стремятся к собственной гибели?
Он потер подбородок.
– Не знаю. Это очень запутанный вопрос.
Все другие посетители уже разошлись. На одном из надгробий свернулась черная кошка. Служитель сказал нам, что кладбище закрывается.
– А теперь, друг мой, – предложил мне Утц, – если вы не против, я покажу вам свою коллекцию карликов.
От стоящего в подъезде мусорного бака исходил тяжелый дух гниющих капустных листьев. При нашем приближении из-под крышки бака выпрыгнула крыса. В квартире на втором этаже плакал ребенок.
А кто-то разучивал «Славянские танцы» Дворжака на расстроенном фортепиано. На площадке третьего этажа дверь одной из квартир распахнулась, и хозяйка высунулась посмотреть, кто идет. Я разглядел истеричное лицо в обрамлении ярко-рыжих кудряшек. На женщине был халат, расписанный огненно-красными пионами. Смерив нас негодующим взглядом, она остервенело хлопнула дверью.
– Эта женщина не в себе, – извинился за соседку Утц. – Когда-то она была знаменитой сопрано.
На площадке верхнего этажа он перевел дыхание, нашарил ключ и открыл передо мной дверь. Я сразу же узнал характерный запах. Так обычно пахнет в помещениях, где хранятся произведения искусства и уборка становится непростым и опасным делом.
В грязноватой зеленой кухоньке сидела домработница Утца.
Это была крупная краснощекая женщина с желтоватыми седеющими волосами в униформе горничной, смотрящейся на ней чрезвычайно нелепо. Поверх черного шерстяного платья – белый фартук с оборками и кружевная ленточка вокруг лба. На ногах – черные чулки с дырками на коленях.
Наш приход явно не был для нее неожиданностью.
Она баюкала на коленях блюдо из расписного белого фарфора. Моих художественных познаний хватило, чтобы понять, что передо мной – один из предметов знаменитого Лебединого сервиза, изготовленного Кендлером для первого министра Саксонии графа Брюля. На блюде лежали ломтики сыра, крекеры, венгерская салями и кусочки соленых огурцов, вырезанные в виде цветочков. Она почтительно склонила голову:
– Guten Abend, Herr Baron[34].
– Guten Abend, Marta, – отзвался Утц.
Мы прошли в комнату. Единственное, занавешенное тюлем окно на северной стороне выходило на кладбищенские деревья.
– Я не знал, что вы барон, – сказал я.
– Да, – покраснел он, – еще и барон.
Комната, к моему удивлению, была декорирована в «современном стиле»: мебели почти не было – только кушетка, стол со стеклянной столешницей и пара барселонских кресел, обтянутых зеленой кожей. Утц «спас» их в Моравии, вывезя из дома, построенного Мисом ван дер Роэ[35].
Это было узкое помещение, казавшееся еще уже из-за высокого (от пола до потолка) стеллажа с зеркальными полками, в два ряда заставленными фарфором. Задняя стенка стеллажа тоже была зеркальной, что создавало иллюзию анфилады сверкающих покоев, некоего огромного сказочного дворца, где наши отражения выплывали из глубины, как привидения.
Пол был покрыт серым ковром. Нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы ненароком не сбить белые фарфоровые статуэтки пеликана, индюка, медведя, рыси и носорога, сделанные либо Кендлером, либо Эберлейном для Японского дворца в Дрездене. Все пять фигурок – в шрамах-трещинах из-за ошибок при обжиге.
Утц указал на стоявшие на столе напитки: виски, сливовица и сифон с газированной водой.
– Я думаю, виски?
– Виски, – кивнул я.
Услышав шипение сифона, служанка внесла в комнату тарталетки на блюде из Лебединого сервиза. Она двигалась как робот, словно Утц – эта мысль невольно закрадывалась в голову – сотворил женщину-голема. Но вместе с тем я заметил в ее глазах и уголках рта нечто вроде улыбки превосходства.
– Cheerio![36] – сказал Утц, пародируя выговор английского джентльмена.
– Ваше здоровье! – я поднял бокал и огляделся по сторонам.
Я не специалист по мейсенскому фафору, но мои блуждания по художественным музеям кое-чему меня научили. Более того, я бы даже не назвал себя большим любителем мейсенского фарфора. Хотя меня безусловно восхищает неистовая энергия такого художника, как Кендлер, и его смелый выбор материала, которым тогда еще никто не пользовался. И разумеется, я солидарен с Утцем в его неприятии Винкельмана, критикующего в своих «Заметках о пристрастии простонародья к фарфору» это непосредственное искусство с позиций мертвого классицизма.
Мне представляется необычайно интересным и тот факт, что Porzellankrankheit[37] Августа Сильного настолько изменила мировоззрение и его самого, и его министров, что их горячечные «керамические прожекты» повлияли на политику. В адрес Брюля, ставшего директором мейсенской мануфактуры, Хорейс Уолпол отпускает следующее ядовитое замечание: «…в отличие от Фридриха Великого, жившего в палатке как простой солдат, этот в основном интересовался безделушками…»
Формируя свою коллекцию, Утц старался отразить все черты и особенности «фарфорового» века: остроумие, обаяние, галантность, любовь к экзотике, холодность и беспечность – иначе говоря, все то, что было сметено революцией и втоптано в грязь солдатскими сапогами.
На самых длинных полках стояли блюда, вазы, кувшины и супницы. Я увидел коробочки для хранения чая из полированной красной глины, сделанные «изобретателем» фарфора Йоганном Фридрихом Бëтгером. Были там и бëтгеровские высокие пивные кружки в оправах из позолоченного серебра, и разные чайнички: с пейзажами Ватто, с носиками в виде орлиных голов и, наконец, разрисованные золотыми рыбками на китайский или японский манер.
Утц подошел ко мне, тяжело дыша.
– Красиво, да?
– Красиво, – согласился я.
Он продемонстрировал мне чудесный экземпляр «Indianische Blumen»[38] и бирюзовую вазу, расписанную Горольдтом: Августа возводят на трон императора Китая.
Утц показал мне мейсенские подражания бело-голубому фарфору эпохи Кун-Ши, который так страстно обожал Август, опустошивший (услуги парижских и амстердамских торговцев стоили недешево) ради него свою казну. Как со стоном говаривал министр промышленности, граф фон Чирнхаус: «Фарфор – это китайская чаша для саксонской крови».
Однако самое почетное место было отведено супнице из Лебединого сервиза – фантастическому изделию в стиле рококо на гнутых ножках, представляющих собой сплетенных рыб, с витыми ручками в виде нереид и крышкой, украшенной цветами, раковинами, лебедями и дельфином с выпученными глазами. Чудовищное уродство, если бы не бурная радость, которой все было проникнуто и которая вправду спасала положение.
Я ахнул от восторга, понимая, что самый короткий путь к сердцу коллекционера – неуемное восхищение его приобретениями.
– Идите сюда, – позвал меня Утц через комнату.
Пробравшись между пеликаном и носорогом, я подошел ко второму стеллажу, где на полках в пять-шесть рядов теснились статуэтки XVIII века, все как одна нарядные и блестящие. Я увидел персонажей комедии дель арте: Арлекин и Коломбина, Бригелла и Панталоне, Скарамуш и Труффальдино, Доктор со штопором вместо бороды и испанец Капитан со жгуче-черными усами.
Утц напомнил мне, что итальянские актеры – настоящие! – были мастерами импровизации и договаривались, что и как они будут играть, за пять минут до начала представления.
Он показал мне персонификацию континентов: Африка в леопардовой шкуре, Америка в перьях, Азия в шляпе в форме пагоды и похотливая толстозадая Европа верхом на белой лошади.
Затем шла вереница придворных дам с застывшими улыбками и покачивающимися кринолинами, в напудренных париках, с мушками на щеках и с бархотками на шеях. Одна дама гладила мопса; другая целовалась с польским дворянином; третья обнималась с саксонцем, а под юбку к ней заглядывал Арлекин. Мадам Помпадур в лиловом платье с узором из роз исполняла арию из «Ациса и Галатеи» Люлли, которую она действительно пела, выступая со своим партнером, принцем де Роаном, в Малом театре Версаля.
Нашлось место и представителям низшего сословия: шахтер, дубильщик, лесоруб, портниха, парикмахер и в стельку пьяный рыбак.
Пастушки выводили трели на своих флейтах. Турок курил кальян.
Кого там только не было: монголы, индийцы-малабары, черкесы и китайские мудрецы с реденькими бородками и певчими птицами, примостившимися у них на пальцах. Группка масонов склонилась над глобусом. Паломник нес дорожную суму и створчатую раковину – отличительный знак пилигрима, посетившего Святую землю, а скорбящая Богоматерь сидела рядом с безутешной монахиней.
– Браво! – воскликнул я. – Невероятно!
– Теперь посмотрите-ка на этих весельчаков! – Утц погладил по щеке карикатурного буффона. – Это придворный шут Фрёлих. А вон тот – почтмейстер Шмайдль.
Эти двое шутов когда-то выступали на королевских приемах, заставляя публику весь вечер хохотать до упаду. По мнению Утца, они и фарфоровые почти такие же смешные, как настоящие. Шмайдль, рассказал он, патологически боялся мышей. Вот почему художник изобразил его в тот момент, когда зловредный Фрëлих пугает его мышеловкой.
– У Кендлера, – хихикнул Утц, – было замечательное чувство юмора. Он был прирожденным сатириком и всегда выбирал для своих портретов таких людей, над которыми можно посмеяться.
Я выдавил из себя нервный смешок.
– Теперь, сэр, соблаговолите-ка посмотреть вот сюда.
Фигурка, на которую он указывал, изображала сопрано Фаустину Бордони. Фаустина в экстазе выводила какую-то арию, а рядом лис аккомпанировал ей на спинете. Фаустина, сообщил Утц, – это Каллас своего времени. У нее был муж, придворный композитор Хассе, и любовник по имени Фукс.
– Фукс, – заметил Утц, – как вам, вероятно, известно, по-немецки значит «лис».
– Да, я знаю.
– Забавно, не правда ли?
– Весьма, – поддакнул я.
– Хорошо, значит, в этом пункте мы сходимся.
Он оглушительно расхохотался и трясся от смеха до тех пор, пока не вошла Марта с очередной порцией тарталеток и очередным «Herr Baron!».
Едва она повернулась спиной, он вновь провалился в свой мир фарфоровых человечков. Его лицо просветлело. Он улыбнулся, обнажив нездоровые розовые десны, и продемонстрировал мне своих обезьянок-музыкантов.
– Чýдные, правда?
– Правда, – согласился я.
На обезьянках были круглые плоеные воротнички и напудренные парики; послушные палочке дирижера-тирана в голубом фраке, они пиликали на скрипках, дудели в духовые, бренчали на струнных и пели – очевидная насмешка над домашним оркестром графа Брюля.
– Кроме меня, – похвастался Утц, – ни у кого в мире нет полного комплекта.
– Поздравляю, – сказал я.
На обезьянах зверинец не заканчивался: моему взору предстали трясогузки, куропатки, выпь, парочка ястребов-перепелятников, попугаи (большие и маленькие), иволги, сизоворонки и павлины с распущенными хвостами.
Затем я увидел верблюда, серну, слона, крокодила и лошадь, которую вел под уздцы чернокожий наездник. На розовой бархатной подушечке свернулся калачиком любимый мопс графа Брюля, а на самой нижней полке лежал фарфоровый конский хвост в натуральную величину, похожий на крупную рыбину-альбиноса. По словам Утца, хвост изготовили для конной статуи Августа, которую собирались воздвигнуть в еврейском квартале Дрездена.
После этого Утц снял с полки одного из семи Арлекинов, того самого, что в детстве подарила ему бабушка, и, перевернув его вверх ногами, указал на «скрещенные мечи» – клеймо мейсенской фабрики, а также на инвентарный номер и буквы кода.
Инвентарный номер свидетельствовал, что данная вещь является собственностью Национального музея.
– Но эти ребята просчитались, – шепнул Утц.
Февральским утром 1952 года Утца разбудил грозный стук в дверь. В квартиру ввалились трое незваных гостей: музейный куратор, молодая женщина-фотограф и прыщавый крепко сбитый дядька, представлявший, как догадался Утц, органы безопасности.
В течение последующих двух недель он оказался беспомощным свидетелем разгрома, учиненного в доме этой троицей: весь ковер изгваздали талым снегом, буквально каждую вещь «инвентаризировали». Куратор строго-настрого предупредил его, чтобы он не вздумал подделывать ярлыки, иначе коллекцию конфискуют.
Наибольшее отвращение у Утца вызвала фотограф, фанатичка с астигматизмом, то и дело доводившая его до полуобморока. Она была абсолютно уверена, что Утц – преступник, просто потому, что хранит у себя сокровища, по праву принадлежащие народу.
– В самом деле? – ядовито осведомился он. – Это по какому же праву? По праву грабителей, так, что ли?
Дядька из органов посоветовал ему прикусить язык – а то хуже будет. Фотограф, носившаяся со своей камерой как с писаной торбой, превратила гостиную во временную фотостудию. Когда однажды Утц нечаянно задел объектив, она выставила его в спальню.
О ее профессиональной компетентности он судить не мог, но ее близорукость и чудовищная неуклюжесть, с которой она брала в руки фарфоровые фигурки, повергали Утца в мрачное оцепенение – сидя на краешке кровати, он с замиранием сердца ждал звука разлетающегося на куски фарфора. Он умолял, чтобы ему самому позволили ассистировать при фотосъемке. Ему приказали не вмешиваться.
В конце концов, когда фотограф отбила-таки голову у тролля работы Ватто, Утц не выдержал.
– Заберите его! – взвизгнул он. – Заберите его в ваш проклятый музей! Я не хочу его больше видеть!
Фотограф пожала плечами. Агент поиграл желваками. Куратор ушел в уборную и вернулся оттуда с мотком туалетной бумаги. Завернув отдельно голову, отдельно туловище, он положил фигурку себе в карман.
– Эта вещь, – объявил он, – не будет внесена в список.
– Спасибо, – сказал Утц. – Большое вам спасибо.
Когда они наконец ушли, Утц понуро оглядел свою лилипутскую семью. Он чувствовал себя униженным и потерянным, как человек, вернувшийся из путешествия и обнаруживший, что в его доме побывали воры. Какое-то время он подумывал о самоубийстве. Незачем – а зачем, собственно? – жить дальше. Но нет! Этот выход не для него! Он не из таких. Но сможет ли он бросить коллекцию? Сжечь мосты? Начать все с чистого листа за границей? У него, слава богу, имелись еще кое-какие сбережения в Швейцарии. Как знать, может быть, в Париже или в Нью-Йорке он соберет новую коллекцию?
Он решил, что, если ему удастся уехать, он уедет.
Самым надежным способом добыть выездную визу во времена Готвальда считался запрос о заграничном путешествии в связи с ухудшением состояния здоровья. Процедура была отлаженной: сперва следовало пойти к своему участковому врачу, чтобы тот написал соответствующее заключение.
– Вы страдаете от депрессии? – спросил доктор Петрасельс.
– Непрестанно, – ответил Утц. – С самого детства.
– У вас нарушена работа печени, – сказал врач, явно не собираясь заниматься тщательным осмотром. – Я бы советовал вам съездить в Виши.
– Но ведь… – запротестовал было Утц. – Чехословакия как-никак страна минеральных источников. Лечебные воды есть в Мариенбаде… И в Карлсбаде. Не покажется ли это подозрительным?
– Абсолютно нет, – заверил его врач. – Виши – место известное.
В том числе и властям предержащим. Вам нужно именно туда.
– Ну, если вы так считаете, – неуверенно пробормотал Утц.
Чиновник в визовом отделе бросил беглый взгляд на врачебное заключение, равнодушно произнес слово «Виши» и отправился проверять досье. Явившись в то же самое учреждение через неделю, Утц узнал, что ему дали разрешение на месячное пребывание за рубежом. Он подписал бумагу, в которой обязался не распространять ложных слухов, порочащих Чехословацкую Социалистическую Республику. Коллекцию фарфора признали залогом его хорошего поведения и своевременного возвращения на родину.
Сотрудник визового отдела дал понять, что у них имеются «свои способы» установить, куда именно отправился Утц после пересечения границы с Западной Европой и прибыл ли он в Виши. Утца поразило, что никто не поинтересовался, на какие, собственно, средства он собирается существовать в другой стране. Может быть, невольно подумалось ему, это ловушка?
– На что они рассчитывают? – недоумевал он. – Что я буду питаться воздухом?
Накануне отъезда, когда все вещи были собраны, билеты куплены, документы готовы, он отдельно попрощался с каждой фигуркой коллекции. Марта по его просьбе готовила ужин на двоих.
Она застелила стеклянную столешницу чистой камчатной скатертью, и Утц, оглядев сияющие тарелки из Лебединого сервиза, солонку и столовые приборы с фарфоровыми ручками, почти поверил, что его мечта сбылась: он – реинкарнация Августа и живет в фарфоровом дворце.
Марта, которую он сам когда-то научил делать суфле, спросила, в котором часу придет гость. Утц встал. Поправил галстук. Затем чуть снисходительно поцеловал ее шершавую руку.
– Сегодня, дорогая Марта, моя гостья – ты.
От смущения Марта залилась краской. Стала отказываться, уверять, что недостойна, и в конце концов, разумеется, с радостью согласилась.
Она родилась в поселке Костелец в Южной Богемии, в семье деревенского плотника. Мать рано умерла от туберкулеза, а отец спился и однажды в пьяной драке едва не убил собутыльника. Подвергнутый остракизму и обвиненный в дурном глазе, он вынужден был покинуть родные места. Двух старших дочерей он отослал к тетке, а младшую взял с собой. Он устроился лесорубом в поместье Утца – Ческе-Крижове. После его смерти (его придавило упавшим деревом) управляющий имением выставил девочку на улицу.
Поначалу она кормилась тем, что помогала пекарю и прачке. Потом – из страха угодить в работный дом – сбежала на ферму присматривать за стадом гусей. Спала в сарае, на соломенном тюфяке.
Она пела странные бессвязные песни и считалась дурочкой – особенно с той поры, как влюбилась в гусака. Дети в сельских районах Европы в те времена еще верили сказкам про волков-оборотней; про звезды, которые на самом деле никакие не звезды, а летящие по небу утки; и про красавца-принца, превращенного в гусака.
Гусь Марты был великолепной белоснежной птицей, наводящей ужас на окрестных лис, собак и детей. Она вырастила его из маленького гусенка, и всякий раз при ее появлении он радостно гоготал и обвивал шеей ее бедра. Иногда на рассвете, когда все еще спали, она плавала со своим возлюбленным в озере, позволяя ему перебирать ее длинные светлые волосы.
Однажды в конце тридцатых годов, когда Утц ехал на своем двухместном «стейре» из замка на станцию, чтобы сесть на утренний поезд до Праги, он увидел промокшую до нитки девушку, за которой гналась толпа деревенских парней. Утц притормозил и распахнул перед ней дверцу.
– Поедем со мной, – ласково предложил он.
Она сжалась от страха, но не посмела ослушаться. Он отвез ее в замок.
В жизни Марты началась новая глава – она стала прислуживать по дому. Обожающим взглядом следила она за каждым движением своего господина, и ему то и дело приходилось отдергивать руку, которую она так и норовила облобызать. Четыре года спустя, когда он назначил ее чем-то вроде мажордома, другие слуги, озадаченные странностями этого чудаковатого холостяка, распустили слух, что она делит с ним ложе.
Правда заключалась в том, что в мире, где предательство становилось нормой, особенно после смерти верного бабушкиного мажордома, Марта была единственным человеком, которому он мог доверять. Только она знала, где прячется гебраист Краус со своими Талмудами. Рискуя жизнью, она носила ему еду на сеновал. Лишь у нее был ключ от погреба, где всю войну пролежала коллекция фарфора.
Она стояла на часах, готовая в любую минуту предупредить Утца о нападении одурманенных коммунистической пропагандой крестьян, вообразивших, что новая власть и новая идеология позволяют им безнаказанно грабить помещиков. Исключительно благодаря ей Утцу удалось беспрепятственно вывезти из замка свои сокровища.
В Праге она сняла крохотную сырую комнатушку под самой крышей в одном из соседних с Утцом домов на Широкой улице. Когда ее как-то раз вызвали на допрос и начали допытываться, сколько она получает, Марта возмутилась. Она – не наемная работница и ухаживает за господином Утцем просто как друг.
Пригласив ее разделить с ним вечернюю трапезу, Утц тем самым как бы подтвердил, что дружба принята.
За ужином он объяснил ей причину своего отъезда.
– Господи, – ахнула она, – неужто заболели?
От ужаса она даже уронила нож с вилкой.
Он развеял ее страхи на этот счет, но ничего не сказал о своих эмигрантских планах. Пока он в отъезде, он просит ее ночевать в его квартире – в его кровати, если ей захочется, – и следить за тем, чтобы все двери были тщательно заперты. Время от времени Марту будет навещать его друг, д-р Орлик, так что если ей что-нибудь понадобится, она смело может к нему обращаться.
Вино ударило ей в голову. Она раскраснелась. Может быть, болтала чуть больше, чем следует. Это был один из самых счастливых вечеров в ее жизни.
Утром она снова пришла к Утцу сварить кофе. Затем помогла ему дотащить чемодан до такси. После чего поднялась в квартиру, села у окна и долго слушала мерный шум дождя.
На границе Утца ждали таможенники.
Они его обыскали, вытряхнули всю мелочь из карманов – в умении издеваться им не было равных! – и конфисковали приготовленную Мартой корзиночку с едой. Не обнаружив в его багаже ничего, что могло быть классифицировано как произведение искусства, они забрали «Волшебную гору» Томаса Манна и парочку черепаховых гребней.
– В музей понесли, – пробормотал Утц, глядя вслед удаляющимся зеленым фуражкам.
Когда проехали Нюрнберг, тучи рассеялись и показалось солнце. Поскольку читать теперь ему было нечего, приходилось просто глядеть в окно на телеграфные провода, остроконечные цинковые крыши деревенских домов, фруктовые сады, коров на лугах, заросших лютиками, и на группки светловолосых детей, которые висли на шлагбаумах у переездов, размахивая ранцами. Он заметил, что сигнальные будки изрешечены пулями.
Его соседями по купе оказалась пара молодоженов. Молодая беременная женщина перелистывала альбом со свадебными фотографиями. На ней было серое платье, отделанное кружевами. Синеватые ноги небриты, крашеные волосы – темные у корней.
Молодой человек, как не без злорадства отметил Утц, поглядывал на нее с отвращением. Ему было явно не по себе в американской военной куртке, и всякий раз, когда жена к нему прикасалась, его буквально передергивало. Это был смуглый худощавый парень с черными курчавыми волосами и толстыми губами. Ногти – в никотиновых пятнах. Он был похож на араба. Или на цыгана. А может, на итальянца. Итальянец, решил Утц, услышав его акцент. Наверное, бедствовал, голодал, а у нее были деньги. Но, бог ты мой, какую цену он заплатил!
Женщина начала распаковывать корзинку с едой, и Утц поумерил свой критический пыл. Ему жутко хотелось есть. Не слишком ли он к ней строг? А вдруг она его угостит? Он заранее приготовил благодарную улыбку. Затем, словно пес, вытянувшийся перед хозяйским столом, наблюдал, как она заглатывает два крутых яйца, шницель, бутерброд с ветчиной, полцыпленка и несколько кружков колбасы, нашпигованной чесноком. Она запила все это пивом, почмокала губами и продолжила рассеянно отщипывать и запихивать в рот кусочки ржаного хлеба.
Ее муж практически не притронулся к еде.
Утц почувствовал, что не выдерживает напряжения. К черту гордость! Он попросит! Вымолит, если на то пошло! Он уже собрался сказать: «Пожалуйста!», и молодой человек, очевидно заметивший его порыв, оторвал цыплячью ножку и – еще бы чуть-чуть – переправил ее Утцу, но тут женщина с криком: «Нет! Нет! Нет!» вырвала ножку и взялась за апельсин.
Купе наполнил аромат апельсина. О! Чего бы он не отдал сейчас за апельсин! Даже за одну-единственную дольку апельсина! Апельсины, которые можно было достать в Праге (как правило, с черного хода в каком-нибудь посольстве), были обычно сморщенными и безвкусными. А этот так и истекал соком под пальцами чудовища.
Утц откинул голову и закрыл глаза. Ему вспомнился афоризм Августа: «Стремление к обладанию фарфором подобно страстному желанию отведать апельсин».
Женщина потребовала у мужа салфетку – вытереть пальцы. Затем почистила и проглотила второй апельсин, за которым последовали ломтик сыра, кусок чечевичного пирога, кусок орехового торта, пирожок со сливами. Затем обжора налила себе кофе из термоса. После чего сыто рыгнула. И сверх того она без конца докучала своему несчастному супругу, требуя постоянных подтверждений его любви. Он что-то шептал ей на ухо. Утц снова натянул обворожительную улыбку в отчаянной надежде на последний бутерброд с ветчиной. Но женщина, смерив его осоловелым взглядом, с трудом поднялась на ноги и – выкинула бутерброд в окно.
Когда эта маленькая драма подошла к концу, Утц пробормотал по-немецки, причем достаточно громко, чтобы его услышали:
– В Чехословакии так бы никогда не поступили.
Утром на платформе в Женеве его ждал сотрудник банка. Встречу организовал швейцарский посол в Праге, в те времена «лучший друг всех и каждого».
Утц последовал за нелепой тирольской шляпой в привокзальную уборную, где ему вручили пачку швейцарских франков и факсимиле акций в толстом конверте, упакованном в оберточную бумагу.
Нужно было убить два часа до поезда в Лион и Виши. Не придумав ничего лучшего, он сдал багаж в камеру хранения и отправился завтракать в кафе напротив вокзала. Кофе был слабый, круассаны черствые, а вишневый джем отдавал консервантами.
Он огляделся по сторонам. Почти все столики были заняты бизнесменами, уткнувшимися в финансовые разделы газет.
– Нет, – сказал себе Утц. – Мне это не нравится.
В отеле Виши все переставили и перекрасили, очевидно, пытаясь замазать тот позорный факт, что в здешних апартаментах заседал о правительство Лаваля. Номер Утца был обставлен мебелью в стиле Людовика XVI, выкрашенной в серый цвет. Ковер был синим, стены – светло-голубыми с белым бордюром: интерьер детской, начала новой жизни. На комоде стояли щербатый гипсовый бюст Марии-Антуанетты и современные эстампы, запечатлевшие других не блиставших умом дам XVIII столетия.
– Нет-нет! – расстроился Утц. – Это ужасно. Французам изменил вкус.
Не порадовал его и визит к доктору Форестье, человечку с пергаментной кожей, обрушившему на него целый поток снобистских колкостей. Не понравился и его кабинет в готическом доме, увитом павлониями. Не понравились гигантские здания с кремовой лепниной (в кондитерском стиле 1900-х годов), тянущиеся вдоль бульвара Соединенных Штатов, где совсем недавно помещалась штаб-квартира гестапо. Не понравились грязевые ванны, обтирания, массаж лица и душ Шарко. Не внушало оптимизма и то, что, судя по перекошенным лицам других страдальцев, толку от этих процедур не было никакого.
Не примиряла с действительностью и компания низкорослых старичков, «бывших полковников», испортивших желудки в Африке или Индокитае и теперь с бутылочками минеральной воды в руках мелкими осторожными шажками прогуливающихся по крытому променаду неподалеку от рю дю Парк. Не пришел он в восторг и от массажиста – «необычайно внимательного молодого человека» – с его геронтофильским энтузиазмом. Наверное, решил Утц, дело в том, что он еще недостаточно стар. Не пришлись ему по душе и работницы Grand Établissement Thermal[39] – суровые женщины в белых халатах и перчатках, управлявшие всякими «лечебными аппаратами», «les inst ruments de torture»[40], которые наверняка оценил бы Кафка. Во время одной из процедур его привязали к седлу и аккуратно, но довольно сильно били по животу боксерскими перчатками.
Однажды он услышал английскую речь – оглянулся и тут же отвел глаза: инвалиды войны, кто без руки, кто без обеих ног, играли в покер, сидя в белых пластмассовых креслах с перфорированными сиденьями, похожими на дуршлаки. Как-то раз после ужина ему чуть не бегом пришлось спасаться от женщины в турмалиновом бархатном платье, по-немецки рассуждавшей об Ага-хане[41].
Он стал болезненно чуток к посторонним взглядам, особенно одиноких мужчин. Ему мерещилась слежка.
Кто, скажите на милость, вон тот юноша в мешковатом костюме? Он определенно видел его в Праге, в фойе гостиницы «Алькрон». Нет! Не видел. Молодой человек оказался обыкновенным коммивояжером – продавцом средств гигиены.
Утц прошелся по антикварным магазинам – ничего примечательного: парочка будд из геотита и аляповатые часы в имперском стиле. В одной из лавок продавщица попыталась всучить ему египетские амулеты и колоду карт таро. В магазинчике, торгующем кружевами, он присмотрел было передник для Марты.
«Но ведь я же не возвращаюсь, – вспомнил он, помрачнев. – А потом, его все равно украдут на таможне».
Он пошел на бега и заскучал. Еще бóльшая тоска охватила его на концерте, где исполняли сюиту из «Финляндии»[42]. И уж совсем невыносимо стало на представлении в «Гран Театр дю Казино», которое открывали «Les Plus Belles Girls de Paris» (все англичанки!) и продолжили «Les Hommes en Cryst al»[43] – группка педерастов, вымазанных серебряной краской.
В антракте он размышлял об абсурдности своего положения. Вот он, еще один никому не нужный беженец из Восточной Европы, угодивший в недружелюбный мир! И не просто беженец, а самый никчемный: иммигрант-эстет.
После антракта его настроение улучшилось.
На сцену вышла Люсьенн Буайе, «La Dame en Bleu»[44], маленькая кругленькая женщина под пятьдесят, но как бы без возраста, в платье из темно-синего атласа, с синей розой, пикантно подчеркивающей ее глубокое декольте. Стоя перед микрофоном, она начала исполнять песню за песней. Утц навел театральный бинокль на ее подрагивающую шею, и его зрачки расширились. Когда она спела «Parlez-moi d’amour»[45], он вскочил на ноги и крикнул: «Браво! Браво! Бис!» – после чего она исполнила эту вещь еще четыре раза. А когда по окончании представления она покинула театр в сопровождении кавалера (гораздо моложе ее), Утц побрел домой, в свой «Павильон Севинье», по мощеным улочкам, скользким от палой листвы, побитой недавним градом, поблескивая лысиной в свете фонарей, слегка покачиваясь и мурлыча себе под нос припев: «Je vous aime… Je vous aime…»[46]
Утц верил – свою роль тут могли сыграть как русская художественная литература, так и история знакомства его родителей в Мариенбаде, – что курорт с минеральными водами – идеальное место для судьбоносной встречи. Двое одиноких людей – по причине ли пошатнувшегося здоровья или несчастья, – оказавшиеся на парковых дорожках посреди клумб, засаженных муниципальными ноготками, просто обречены на знакомство. В какой-то момент их взгляды обязательно встретятся. Брошенные друг к другу естественным притяжением полов, они присядут на одну и ту же скамейку и обменяются первыми незначащими фразами: «Вы часто бываете в Виши?» – «Нет. Я здесь впервые». – «Я тоже!» Волшебный вечер завершится в его или ее номере. Возможно, роман закончится печальным прощанием («Нет, дорогой, пожалуйста, не провожай меня!»), а может быть, перед лицом, казалось бы, неотвратимой разлуки они, отбросив сомнения, решат не расставаться уже никогда.
Утц приехал в Виши, ясно сознавая, что, если от него потребуется сделать этот решительный шаг, он не отступит.
Он надеялся… Нет, он был уверен, что отыщет в этой толпе одиночек нежную, не слишком юную, тонко чувствующую женщину, которая полюбит его. Не за внешность. На это, увы, рассчитывать не приходилось… Но ведь у него есть другие достоинства!
Бывало, что женщины останавливали на нем свой благосклонный взор. Порой казалось, что счастливый исход уже близок, но тут обязательно звучали роковые слова: «Видели бы вы его коллекцию!» – и ледяной сквозняк задувал огонь его страсти.
Быть любимым за богатство – что может быть ужаснее?!
Но где же эта неуловимая женщина, готовая упасть в его объятия? Именно «упасть», избавив его от необходимости гоняться за ней! Он устал охотиться за драгоценностями.
Может быть, вон та американка с платиновыми волосами (наверное, вдова или разведенная), очевидно приехавшая в Виши для косметических процедур? Умная, но не добрая. Слишком резкая – ему не понравилось, как она разговаривала с барменом.
А может, вот эта красотка с вкрадчивым голосом, золотистыми волосами и чувственным ртом? Парижанка, вне всякого сомнения. Он впервые увидел ее в утренней толпе у источника целестинцев. Она шла вдоль белой решетки, увитой плющом, одетая в белое полупрозрачное платье, в шляпке из жатого шифона. Довольно упитанная, как говорится, пышка. Наверное, скоро совсем растолстеет. Нет, она часами пропадала в телефонной будке и выходила оттуда с потерянным видом, бессмысленно хихикая.
А может быть, вон та аргентинка? «Grande mangueuse de viande»[47], как сказал официант. Оказавшись рядом с ней в казино, Утц так и застыл у ее игрального стола, загипнотизированный длинными рубиновыми ногтями, небрежными движениями, которыми она передвигала фишки по зеленому сукну, и веной на шее, вздувшейся под жемчужным ожерельем. Нет! К ней присоединился муж.
И вот однажды он увидел ее! Днем, в холле гостиницы: высокая, с бледными руками и темными волосами, уложенными в шлем на затылке. На ней были теннисные туфли. Застегивая чехол с теннисной ракеткой, она благодарила за урок чересчур оживленного тренера. Тоном, не оставлявшим никаких надежд.
Утц услышал – а может, ему просто показалось, – что она говорит по-французски с едва уловимым славянским акцентом. Она не была спортивной – в ней чувствовалась восточная томность. Может быть, турчанка, эдакая женщина-гитара, с нежными щеками, нервно подрагивающими губами и чуть раскосыми зелеными глазами. Ее нельзя было назвать красавицей по современным меркам… Тип гаремной женщины.
«Скорее всего, русская, – догадался Утц. – Даже наверняка. С примесью татарской крови».
Она была уже немолода и казалась очень печальной.
Утц потерял покой. Ожидая, когда она наконец снова появится в холле, он мысленно нарисовал себе ее невеселую эмигрантскую судьбу: квартира в Монако; потом – когда проданы последние фамильные драгоценности – меблирашка в Париже; отец крутил баранку такси, а после работы играл в шахматы. Чтобы получить возможность оплачивать медицинские счета, ей пришлось принести себя в жертву коммерсанту, поддерживающему ее на определенном финансовом уровне, но не считающему нужным отказываться от молоденькой любовницы. Сейчас он развлекается с любовницей на Ривьере, а бездетную жену услал лечиться в Виши.
Она спустилась вниз незадолго до ужина, по-прежнему одна, в белых открытых туфлях и сером платье в горошек. Увидев трусящую за ней собачонку (силихемтерьера), Утц вспомнил известный рассказ Чехова и еще сильнее уверился в неизбежности встречи.
Сохраняя дистанцию, он последовал за ней в парк на Алье и сел на скамью, мимо которой она почти наверняка должна была пройти. В этом уголке парка пахло лилиями и жасмином.
«Viens, Maxi! Viens! Viens!»[48] – услышал он ее голос. А когда она подошла к развилке, то выбрала именно ту тропку, что вела к нему.
– Bonsoir, Madame![49] – осклабился Утц и хотел уже поздороваться с Макси.
Женщина вздрогнула и ускорила шаг.
Он остался сидеть, растерянно слушая, как похрустывает гравий под ее каблуками. В столовой, проходя мимо него, она отвернулась.
В следующий раз он увидел ее утром – на пассажирском сиденье серебристой спортивной машины. Она обнимала за шею мужчину, сидевшего за рулем.
Утц спросил портье, кто она. Оказалось, бельгийка.
Он решил сосредоточиться на еде.
В книжном магазинчике на улице Клемансо он в первый же день своего пребывания в Виши купил так называемый «гастрономический гид». Утц всегда заботился о своем желудке и испытывал непреодолимую нежность к поварам.
Сколько раз в войну, особенно когда бывало страшно, он представлял себе всякие лакомства. В тот день, когда его забрали на допрос в гестапо, вместо того чтобы сосредоточиться на абстрактных темах смерти и депортации, он вспоминал фантастическое блюдо из зеленой фасоли, заказанное им в ресторанчике у проселочной дороги в Провансе.
Позже, когда во время зимних перебоев с продовольствием ему приходилось неделями питаться капустой, капустой и снова капустой, он утешался мыслью, что как только это безумие кончится и границы снова откроются, он опять сможет ходить по французским ресторанчикам.
Он изучил «гид» с той скрупулезной тщательностью, которую обычно приберегал для фарфора: где заказать лучшие «quenelles aux écrevisses», «cervelas truffl é» или «poulet à la vessie». А также «bourriouls», «bougnettes», «fl augnardes», «fouasses»[50] (в этих названиях так и слышался газ!). Или редкое белое вино «Шато-Грийе», которое, как утверждалось, обладает ароматом виноградных цветов и миндаля, а характером напоминает капризную девушку.
Решив применить полученные знания на практике, он зарезервировал столик в ресторане на берегу Алье.
День выдался солнечным и достаточно теплым, чтобы можно было сидеть на террасе под полотняным навесом в зеленую и белую полоску, лениво хлопавшим от легкого ветерка. На столе перед каждым прибором стояло три винных бокала. Какое-то время он разглядывал отражения склонившихся над рекой тополей и ласточек, стремительно носившихся туда-сюда над водной гладью. На другом берегу расположились рыбаки с женами и детьми. Разложив на траве свои припасы, они тоже готовились перекусить.
Официанты суетились вокруг «короля гастрономии», прибывшего к ним с ежегодным визитом. Багровея щеками и неся перед собой необъятный живот, он вошел в ресторан сразу после Утца. Теперь, запихав за ворот салфетку, он настраивался на нелегкий труд по поглощению завтрака из восьми блюд. Метрдотель принес Утцу меню, и Утц приветствовал его благодарной улыбкой.
Пробежав глазами список фирменных блюд, он выбрал. Передумал. Выбрал. Опять передумал. В конце концов он остановился на супе из артишоков, форели «Мон Дор» и фаршированном поросенке по-лионски.
– Et comme vin, monsieur?[51]
– А вы бы что порекомендовали?
Официант, приняв Утца за профана, тыкнул в две самые дорогие бутылки в меню: «Монтраше» и «Кло-Маргио».
– А «Шато-Грийе» есть у вас?
– Нет, мсье.
– Ну что ж, – покладисто кивнул Утц. – Тогда последуем вашему совету.
Еда его разочаровала. Даже не качеством или видом… Но суп, вроде бы изысканный, оказался каким-то безвкусным, слой сыра грюйер, в котором запекали форель, – слишком толстым; да и поросенок был фарширован чем-то не вполне подходящим.
Он снова с завистью поглядел на рыбаков, обедавших на другом берегу: молодая мать кинулась к воде спасать своего малыша, подползшего слишком близко к краю… С какой радостью Утц сидел бы сейчас с ними – их домашние пироги уж точно не безвкусные! А может, дело в нем самом? Может быть, это он перестал чувствовать вкус пищи?
Счет был намного больше, чем он рассчитывал. Он покинул ресторан в скверном расположении духа. У него кружилась голова и болел живот.
Утц сделал печальный вывод: роскошь привлекательна исключительно на фоне бедности.
Днем небо заволокло тучами, и начался дождь. Лежа в номере, он раскрыл роман Андре Жида. Увы, его французского оказалось недостаточно – он потерял нить повествования.
Отложив книгу, Утц невидящим взором уставился в потолок.
Его не сломали ужасы войны и революции, почему же, недоумевал он, так называемый «свободный мир» кажется ему такой пугающей бездной? Почему, ложась в свою гостиничную кровать, он всякий раз испытывает жуткое ощущение, будто падает в лифте? В Праге он понятия не имел, что такое бессонница. Почему здесь он никак не может уснуть?
Он лежал и думал о своих сбережениях. В Чехословакии у него не было повода беспокоиться о деньгах – либо их не было вовсе, либо они существовали только теоретически. Теперь, разложив на покрывале свои сертификаты, он в два часа ночи суммировал цифры портфолио, выискивая ошибки и тщетно пытаясь понять, почему при растущем рынке его состояние в Швейцарии так катастрофически съежилось. Почему при том, что исходные вложения были весьма значительны, нынешние показатели настолько ничтожны? Его наверняка водят за нос. Пользуются тем, что он далеко. Но кто? И где подвох?
В том же книжном магазинчике он купил карманный атлас мира и, перелистывая страницы, старался представить теперь, в какой стране ему хотелось бы жить. Или, точнее, в какой стране он был бы наименее несчастен.
Швейцария? Италия? Франция? Три реальные возможности. Ни одна не привлекает. Германия? Ни за что! Разрыв окончателен. Англия? Нет. Он никогда не простит им бомбежку Дрездена. США? Исключено. Там чересчур шумно. Прага, при всех ее недостатках, – это город, где слышно, как падают снежинки. Австралия? Его никогда не вдохновляли колонии. Аргентина? Он уже слишком стар для танго.
Чем дольше он обдумывал возможные альтернативы, тем отчетливее вырисовывалось неизбежное решение. Не то чтобы он надеялся на счастливую жизнь в Чехословакии. Ясно, что его будут дергать, запугивать, унижать. Ему придется изворачиваться, подхалимничать, в общем, играть по их правилам. Серьезным тоном произносить их безграмотные формулы. Постоянно идти на компромиссы.
И тем не менее Прага – единственный город, соответствующий его меланхолическому темпераменту. К чему еще можно стремиться в наше время, если не к состоянию спокойной печали? И впервые, почти против воли, он почувствовал, что преклоняется перед своими чешскими соотечественниками – не за их «марксистский выбор»… сегодня любой дурак знает, что марксистская философия дышит на ладан! Его восхищал их отказ от резких движений.
Уставясь на идиотскую люстру, он добрался в своих размышлениях до самого тревожного пункта.
Он жутко соскучился по дому. И при этом совершенно не думал о коллекции. Он думал о Марте и только о Марте.
Его мучила совесть! Ведь фактически он бросил ее: родную бедняжку, которая в нем души не чаяла, жила только им и для него, скрывая свою страсть под маской сдержанности, долга и послушания.
Он и раньше подумывал о том, чтобы взять ее с собой на Запад, но она не говорила ни на одном языке, кроме чешского. Даже по-немецки и то знала всего несколько слов. Она бы чувствовала себя здесь – он не сразу подобрал подходящее клише – как рыба, выброшенная из воды.
Он вспомнил, как, запыхавшись после подъема по их крутой лестнице, она с сумками входит в квартиру – и снежинки мигают на ее лисьей шапке. Ее способность торговаться была просто феноменальной. Она могла достать бог знает что, имея в кармане сумму, эквивалентную всего лишь доллару.
Ради него она готова была часами стоять в очередях.
Порой она набивала сумки грязной картошкой. Кто-кто, а она-то знала, что милиционер, если ему взбредет в голову проверить сумку, ни за что не захочет пачкать руки. А вернувшись домой и высыпав картошку в раковину, выуживала со дна фазана или зайца, привезенного на рынок из деревни.
Казалось, Марта была связана с деревней беспроволочным телеграфом или системой дымовых сигналов.
– Где ты раздобыла такие замечательные яйца? – бывало, спрашивал он, когда Марта подавала на стол золотистое суфле.
– У одной бабы купила, – отвечала она, явно не желая вдаваться в подробности.
Она инстинктивно понимала, почему он так заботится о мелочах: соус в соуснике, накрахмаленные манжеты рубашки, севрские кофейные чашки по воскресеньям – для кофе из жареного ячменя и цикория! – все это были маленькие акты неповиновения, демонстрация того, что он не сдался. Он видел, что это не простая забота, а любовь. Но не мог заставить себя ответить тем же – да она этого и не требовала.
Их самым счастливым временем был грибной сезон, начинавшийся обычно во второй половине августа, после первых серьезных ливней. Прихватив корзинку с едой, они садились на ранний поезд до Табора, там пересаживались на автобус до Ческе-Крижове, а затем, старательно обогнув большой дом, входили в лес. Он говорил, что грибы – единственное, ради чего стоит возвращаться в эти места.
Они с Мартой, как малые дети, забывшие за игрой о делениях на касты и классы, кричали друг дружке из-за деревьев: «Смотри-ка, что я нашел!.. Ух ты, вот это да!» Это мог быть подосиновик, «зонтик» или семейка желто-оранжевых лисичек.
Никто, кроме них и нескольких дровосеков, не знал о той поляне, где еще в бытность свою владельцем имения он смастерил из расщеп ленного молнией бука стол и скамеечку.
Они раскладывали свои находки на столе шляпками вверх, отбраковывая подгнившие и червивые, соскребая землю, но оставляя сосновую иголку или налипший листочек папоротника.
– Особо-то не усердствуйте, – наставляла она его. – От грязи они только вкуснее будут.
Потом она жарила их на спиртовке в масле, с изрядным количеством сметаны.
Однажды на обратном пути в Прагу они сделали остановку на таборской городской площади, где у местных грибников были свои прилавки под навесами из мешковины, защищавшие их сокровища от солнца.
Его встретил приветственный гул голосов. «Гляди-ка! Гляди-ка! Хозяин вернулся!» – крикнула крестьянка в белом платке, надвинутом на самый лоб так, что видны были только щеки и обветренный нос. Он наткнулся на знакомого старичка доктора, фанатика грибной охоты, горячо спорящего с профессиональным микологом о каких-то редких видах. И на их бывшую прачку Марианну Палах, сморщившуюся, как сухой стручок, и все-таки продолжавшую не только ходить по грибы, но и держать собственный прилавок.
Люди шутили, торговались, продавали и покупали. Самим своим видом доказывая, что вопреки всем изуверским идеологиям торговля была и остается одним из самых естественных и приятных занятий на свете и что запретить ее так же невозможно, как, допустим, отобрать у человека право влюбляться…
«Что я здесь делаю?» – очнулся от забытья Утц.
Он взглянул на часы. Так, ужин он пропустил. Он пошел в ванную повязать перед зеркалом галстук. Подровнял усы. (Между прочим, я до сих пор не уверен, были ли у него усы – не исключено, что я их все-таки выдумал.) Оглядел свой упрямый маленький рот и сказал: «Нет!»
Он не станет вливаться в этот бесконечный поток эмигрантов. Чтобы потом жаловаться на жизнь в снятых комнатах. Он понимал, что антикоммунистическая риторика такая же мертвая, как и ее коммунистический двойник. Он не бросит свою страну. Во всяком случае, не ради этих.
Он вернется. Несмотря на то что – у него не было на этот счет никаких иллюзий! – фарфор и снобизм неотделимы друг от друга: придворные дамы с их ледяными улыбками опять отправят Марту на кухню, где ей придется смиренно сидеть в стареньком наряде служанки и черных чулках с дырками на коленях.
Он спустился в ресторан. За соседним столиком две пары оживленно спорили о том, насколько хороши и хороши ли вообще «Аляска», «Плавучий остров» и «Омлет по-норвежски». Женщины говорили громкими скрипучими голосами. Мужчины были толстыми и в перстнях.
Казалось, что их меню состоит исключительно из сладкого: «Мон блан», профитроли, фруктовый салат, торт «Татен», малиновое мороженое со взбитыми сливками, шоколадный торт со взбитыми сливками…
– Какая гадость, – пробормотал Утц. – Нет. Ни за что здесь не останусь.
Он встал из-за стола, подошел к портье и сказал, что уезжает утренним поездом.
При пересечении границы с Чехословакией он невольно загрустил при виде колючей проволоки и вышек с часовыми и порадовался тому, что исчезли рекламные щиты.
Утц был одним из тех редких индивидуумов, которые вопреки реалиям холодной войны полагали, что железный занавес, в сущности, не толще папиросной бумаги. Благодаря своим зарубежным капиталам и силе внушения, действовавшей как на него самого, так и на пражских чиновников, он сумел усидеть на двух стульях: быть и в том и в другом лагере.
Каждый год он совершал традиционное паломничество в Виши. Его неприятие режима к концу апреля достигало своего апогея: некомпетентность – вот что выводило его из себя, некомпетентность – прямое следствие идиотской борьбы с идеей частной собственности! А кроме того, к апрелю его начинала мучить клаустрофобия – сказывались зимние месяцы в обществе прекрасной Марты. И, конечно, скука, от которой хотелось рвать и метать после стольких недель тет-а-тет с безжизненным фарфором.
Перед отъездом он говорил себе, что никогда-никогда больше не вернется – одновременно делая все необходимые приготовления для возвращения, – и отправлялся в Швейцарию в превосходном расположении духа.
Маршрут оставался неизменным: сначала Женева, где он встречался с банкирами и антикварами, затем – Виши и только Виши: попить минеральной воды, подышать свежим воздухом свободы, который, впрочем, очень скоро делался спертым, отведать дорогой и невкусной еды.
Затем он несся домой как ошпаренный. Однажды на субботу-воскресенье он съездил в Париж – что совершенно выбило его из колеи.
Эти поездки раздражали всех. Для Марты тридцать дней без него были сплошным мучением, временем траура. Для госчиновников, оформлявших его выездную визу в искренней уверенности, что такому неисправимому декаденту и впрямь место в Виши, Америке или еще каком-нибудь злачном месте в том же роде и всерьез гордившихся своей добротой (ведь они фактически позволяли ему уехать), его возвращение было поступком безумца.
Не менее озадачивающим казалось оно и для вереницы консулов французского и швейцарского посольств. Ведь они привыкли думать, что из таких стран, как Чехословакия, люди типа Утца просто обязаны перемещаться в западном направлении; само предпочтение дома эмиграции представлялось им чем-то вроде извращения, верхом неблагодарности. А может быть, тут замешались и низменные мотивы? Не шпион ли часом мсье Утц?
Нет. Он не был шпионом. Чехословакия, объяснил он мне во время нашей дневной прогулки, вполне сносное место для житья. Конечно, при условии, что у тебя остается возможность уехать. Ну а кроме того, признался он с виноватой улыбкой, его не отпускает Porzellankrankheit. Коллекция превратила его в пленника.
– И, несомненно, загубила мою жизнь! В порыве откровенности он сообщил мне о тайном запасе мейсенского фарфора в сейфе женевского «Юньон де банк сюис».
Всякий раз, когда его акции шли вверх и достигали определенной отметки, он покупал очередной предмет в коллекцию с тем расчетом, что, если по качеству (количество в данном случае было не так уж важно) женевская коллекция приблизится к его пражскому собранию, он, возможно, вновь вернется к своим «отъездным» планам.
Однажды, кажется в 1963 году, в Виши прибыл нью-йоркский продавец антиквариата д-р Мариус Франкфуртер – специально для того, чтобы предложить Утцу фарфоровую композицию, вообще-то не входящую в круг его непосредственных коллекционерских интересов. Композиция, известная под названием «Поедатель спагетти», была изготовлена не в Мейсене, а в Неаполе, на фабрике Каподимонте.
Все в том же небесно-голубом гостиничном номере д-р Франкфуртер освободил фарфор от многочисленных слоев оберточной бумаги и с благоговением священника, демонстрирующего гостию собранию молящихся, поставил его на комод. Утцу стоило немалых усилий отрешиться от вопиющего несоответствия перламутрового свечения глазури и бородавчатой кожи продавца. Впрочем, такова жизнь! Уродливое всегда тянется к прекрасному!
– Ну, – сказал д-р Франкфуртер.
– Ну… – поджал губы Утц.
Вещь была потрясающей. Разумеется, он не собирался этого говорить.
Пульчинелла – Чарли Чаплин итальянской комедии – откинувшись, сидел в чем-то вроде инвалидного кресла, облаченный в просторную льняную рубаху с зеленым кружевным воротничком. На голове у него была белая коническая шляпа, похожая на колпак танцующего дервиша. Неаполитанский юноша в алой шапочке и лиловых бриджах кормил его из ночного горшка.
Особенное впечатление произвели на Утца завитки спагетти: часть из них попадала в рот Пульчинеллы, а часть – в одну из его глубоких ноздрей.
Но цена! По-видимому, она приводила в священный ужас и самого д-ра Франкфуртера – во всяком случае, называя ее, он понизил голос до шепота.
– Ну, – сказал Утц, придя в себя от первоначального шока, – я ведь никогда не покупал итальянский фарфор. Откуда мне знать, что вещь подлинная?
– Подлинная? – задохнулся в благородном негодовании д-р Франк-фуртер.
Конечно, подлинная. Утц в этом не сомневался. Он просто тянул время.
Но доктор обиделся. И даже сделал вид, что готов снова упаковать вещь в оберточную бумагу. Но затем смягчился и забросал Утца именами аристократических итальянских родов, которым она в разное время принадлежала и которые значили для Утца не больше, чем названия железнодорожных станций от Вентимильи до Бари, пока в захлебывающемся перечне знаменитых владельцев он не добрался до самой королевы Марии Амалии.
– О, – сказал Утц, – неужели?
Насколько он знает – а д-р Франкфуртер знал! – до того, как стать неаполитанской королевой, эта некрасивая, изрытая оспой женщина была принцессой Саксонии и правнучкой Августа Сильного.
Именно она, дабы дать выход своей неукротимой германской энергии, основала в 1739 году в Неаполе фабрику по производству фарфора буквально в двух шагах от королевского дворца.
Утц принял решение: он купит «Поедателя спагетти» – хотя бы для того, чтобы вырвать его из потных рук д-ра Франкфуртера. Но без боя он не сдастся!
Доктор (в какой, собственно, области он был доктором, оставалось загадкой) повел дело так, словно само его предложение – знак особой приязни. Он показал Утцу каталог с фотографией «Поедателя спагетти», химический анализ глины и квитанцию с аукциона 1949 года. Что же касается цены, то, по его словам, это «prix d’ami»[52]. Он уже десять раз мог продать ее в Америке, причем вдвое дороже.
Тактикой Утца была критика неаполитанской фабрики как таковой. Вещь, твердил он, не в русле его интересов. Хотя он был бы не прочь иметь ее в коллекции «в целях сравнительного изучения».
День выдался облачный и ненастный. Утц взглянул в окно на деревья парка. Он рассчитывал сбить цену, по крайней мере, на треть. Д-р Франкфуртер уперся как осел.
Пять раз дилер удалялся по коридору с коробкой под мышкой. Пять раз Утц его возвращал. Однажды они добрались до фойе, и другим постояльцам пришлось оторопело наблюдать, как два уже немолодых господина взволнованно тараторят о чем-то по-немецки на повышенных тонах.
В конце концов они договорились – просто от изнеможения!
За этим последовало торопливое пакование чемоданов и отъезд на поезде в Женеву, где Утц пообещал снять оговоренную сумму наличными. В пути оба молчали. Д-р Франкфуртер весь сжался от страха, что Утц в последнюю минуту передумает и все-таки увильнет от сделки. Утц горевал, что слишком рано сдался.
На ступенях «Юньон де банк сюис» они холодно пожали друг другу руки.
– Что ж, до встречи в будущем году, – сказал д-р Франкфуртер.
– До встречи, – кивнул Утц и повернулся спиной к подъехавшему такси.
Он возвратился в банк. Ему не терпелось осмотреть покупку в одиночестве.
Он вошел в знакомый подземный коридор с нескончаемыми рядами депозитных сейфов из нержавеющей стали, сходящихся вдали в точку, словно железнодорожные рельсы. Кто знает, что в них хранится? На музей хватит, хмыкнул он, уйма дорогостоящей ерунды. На равных промежутках вдоль стен стояли столы, освещенные лампами на металлических кронштейнах, чтобы клиенты могли повосхищаться своими сокровищами. Женщина в рыжем парике вертела в руках изумрудный браслет. За другим столом ливанский продавец уверял нервного молодого человека в очках, что сильно окислившееся бронзовое животное – подлинник. Молодой человек этому не верил.
Утц услышал, как он произнес: «Archifaux!»[53], и похолодел.
А вдруг д-р Франкфуртер всучил ему подделку. Утц сорвал оберточную бумагу. Осмотрел фигурки под лупой. И облегченно вздохнул: – Исключено. Это подлинник.
Спагетти были настоящим чудом. Так же как и нос Пульчинеллы. Эмаль по своей тонкости и цветовой проработке превосходила мейсенскую. Он правильно поступил! Для такой вещи это совсем не дорого. Можно сказать, дешево! А кроме того, он влюбился в нее! И когда пришло время запереть ее в стальном саркофаге, Утц заколебался.
– Нет, – решил он, – я не оставлю ее здесь.
И вот в то время, когда другие тайно вывозили из Чехословакии – в дипломатическом багаже или в чемодане друга-иностранца – любую попавшую к ним ценную вещь (табакерку, украшение какого-нибудь предка, вермейский десертный сервиз – вилку за вилкой), Утц лег на противоположный курс.
– Я провез ее контрабандой, – шепнул он, стоя посреди комнаты, примерно на равном расстоянии от рыси и индюка. Я поднялся, больно стукнувшись голенью о стол работы Миса ван дер Роэ. «Поедатель спагетти» помещался на центральной полке, справа от мадам де Помпадур.
– Марта! – позвал Утц.
Домработница внесла блюдо с очередной порцией тарталеток, но, увидев наше местоположение, тут же ретировалась обратно на кухню и, схватив две алюминиевые кастрюли, начала бить в них, как в цимбалы.
– Теперь нас не услышат, – шепнул мне на ухо Утц, привстав на цыпочки.
– Вас подслушивают?
– Постоянно, – хохотнул он. – Один микрофон вот в этой стене. Другой – в той. Третий – в потолке, и не знаю, где еще. Они слушают каждое слово. Буквально все. Но этого всего слишком много! Поэтому они не слышат ничего.
Грохот кастрюль напоминал лающее тарахтение пневматической дрели. Вскоре к нему присоединился стук палки или швабры нам в пол. Очевидно, стучала соседка снизу, разъяренная сопрано.
– Иногда, – сообщил Утц, – они вызывают меня к себе и спрашивают: «Чем вы там занимаетесь? Бьете фарфор?» – «Нет, – отвечаю я, – это Марта готовит ужин». Один из них, не могу этого не признать, человек с юмором. Мы подружились.
– Подружились?
– Заочно… По телефону. Учимся любить друг друга. Это правильно, как вам кажется?
– Вам виднее.
– Да, мне виднее.
– Хорошо.
– Хорошо, – повторил он. – Теперь мне бы хотелось задать вам несколько вопросов.
Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!.. Бум!..
– Сколько, по-вашему, мог бы сегодня стоить кендлеровский Арлекин на аукционе в Лондоне?
– Понятия не имею.
– Как это? – нахмурился он. – Вы так прекрасно разбираетесь в фарфоре и не знаете цен?
– Я могу попробовать предположить… – Давайте, – хмыкнул он, – попробуйте.
– Десять тысяч фунтов.
– Десять тысяч? Сколько это в долларах?
– Почти тридцать тысяч.
– Вы правы, сэр! – Утц прикрыл глаза. – На последнем аукционе он ушел за двадцать семь тысяч долларов. Это было в Америке, в галерее Парк-Бернет. Причем у него была отколота рука.
Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!.. Бух!..
– А сколько стоят вазы императора Августа?
Я уже не помню, какую именно цену назвал. Во всяком случае, по моим представлениям, достаточно высокую, чтобы доставить ему удовольствие. Но он досадливо поджал нижнюю губу и потребовал: «Больше! Больше!»
Одну вазу и то оценили дороже на парижском аукционе в отеле «Друо», а у него полный комплект, причем в идеальном состоянии: ни единой трещины.
Мало-помалу я вошел во вкус этой «угадайки» и постепенно на учил ся называть те цифры, которые ему хотелось услышать. Делая необходимые поправки, я оценил выпь, носорога, брюлевскую супницу, Фрёлиха и Шмайдля, Помпадур и даже «Поедателя спагетти».
Мы провели таким образом около часа. Утц указывал на какую-нибудь вещь на полках. Марта била в кастрюли. Я, сложив ладони ковшиком вокруг его уха и пачкая пальцы его брильянтином, называл все более и более фантастические суммы. Иногда он взвизгивал от удовольствия. Наконец он сказал: «Итак, сколько, по-вашему, стоит вся коллекция?» – Миллионы.
– Ха! Вы правы, – согласился Утц. – Я фарфоровый миллионер.
Грохот кастрюль умолк, уступив место звуку шипящего масла.
– Поужинаете со мной? – предложил Утц.
– Спасибо, – не стал отказываться я. – Можно воспользоваться вашей ванной?
Утц сделал вид, что не расслышал.
– Можно воспользоваться вашей ванной? – повторил я.
Он вздрогнул. Его лицо исказил нервный тик. Он принялся крутить запонку, бросая панические взгляды в сторону кухни, – и наконец взял себя в руки.
– Ja! Ja! Разумеется, – пробормотал он и мимо двуспальной кровати провел меня в безукоризненно чистую ванную комнату, выложенную в шахматном порядке зеленой и фиолетовой плиткой в стиле модерн. Сама ванна была старой, с облупившейся эмалью.
Я закрыл за собой дверь и увидел невероятный наряд.
Это был халат. Но не обычный – из махры или верблюжьего волоса, а совершенно поразительное одеяние из стеганого искусственного шелка персикового цвета, с аппликацией из роз на плечах и воротником, украшенным розовыми страусиными перьями.
Этот неожиданный наряд поверг меня в смятение – воображение рисовало картины, к которым я, честно говоря, не был готов.
Я потянул за цепочку слива. Сквозь рокот и всхлипы бегущей воды я услышал, как Утц с Мартой о чем-то спорят по-чешски. Ему явно хотелось, чтобы я поскорее вернулся в гостиную, но я не спешил.
Я остановился полюбоваться гравюрой XIX века, запечатлевшей фейерверк в Цвингере. Потом поразглядывал фотографию героя-родителя и его великолепную награду на черной бархатной подушечке. На венецианском черном туалетном столике лежали сочинение Шницлера и роман Стефана Цвейга. На трюмо стояла большая коробка с тальком или пудрой для лица. Я заметил еще три неожиданные вещи: четки, распятие и наплечник пражского Младенца Иисуса. Кружевной абажур с кистями был слегка прожжен лампочкой. Розовые занавески с оборками и розовое атласное покрывало, явно знавшие лучшие дни, создавали атмосферу немного старомодного аляповатого женского будуара.
В свете этого открытия я взглянул на Утца по-новому. У него был лысый череп, но, кто знает, может быть, в тумбочке спрятан парик?
Не глядя мне в глаза, он поставил на проигрыватель пластинку с фортепианной сонатой саксонского придворного композитора Яна Дисмаса Зеленки.
Вошла служанка и, не скрывая раздражения, грохнула на стол два прибора, злобно звякнув вилками и ножами о стеклянную столешницу. Вышла и снова вернулась, держа в руках большое мейсенское блюдо со свиными отбивными, кислой капустой и клецками в мясном соусе.
Утц ел с угрюмой сосредоточенностью. Время от времени он запихивал в рот кусочки хлеба, отхлебывал вина и молчал, бросая на меня недовольные взгляды. Похоже, он уже жалел, что пригласил в дом этого любопытного иностранца, нарушившего его душевный покой. Да и вообще, кто знает, чем все это кончится…
Всякий раз, когда служанка заглядывала в комнату, он досадливо кривился. Но после нескольких рюмок расслабился и повеселел.
Отрезав и поддев на вилку кусочек мяса, он помахал им в воздухе и сказал:
– Когда я вижу свинину, я невольно вспоминаю, что «pork» и «por-celain»[54] – однокоренные слова.
– То есть как? – удивился я. – Вы серьезно?
– Абсолютно. А разве вы этого не знали?
– Нет.
– Тогда я объясню.
Он снял с полки и протянул мне маленькую белую раковину каури – обычный экземпляр Cypraea moneta. Не нахожу ли я, что своей формой она напоминает поросенка?
– Пожалуй.
– Прекрасно, – сказал он. – Значит, в этом мы c вами сходимся. – Каури cлужили валютой в Африке и Азии, где их обменивали на слоновую кость, золото, рабов и прочие рыночные товары. Марко Поло называл их «porcelain shells»[55], а «porcella» по-итальянски значит «поросенок».
Утц уютно икнул – очевидно, давала о себе знать кислая капуста.
– Простите, – извинился он.
– Ничего страшного.
Затем жестом фокусника он словно из воздуха извлек бутылочку из полупрозрачного белого фарфора эпохи Кубла-хана. Он приобрел ее в Париже еще до войны. Не кажется ли мне, что ее поверхность похожа на каури?
– Кажется. – Спасибо.
Затем он показал мне фотографию практически идентичной бутылки из сокровищницы собора Св. Марка – по легенде она прибыла в Венецию в багаже самого Марко Поло.
– Теперь вы улавливаете связь между «pork» и «porcelain»?
– Думаю, что да, – сказал я.
Считалось, что китайский фарфор такой же волшебный, как рог единорога или алхимическое золото, которое, как многие надеялись, способно подарить вечную молодость. Полагали, что фарфоровая чашка треснет или изменит цвет, если в нее нальют яд.
Марта убрала со стола и подала кофе, а к нему карлсбадские сливы. Утц снова икнул и принялся забрасывать меня вопросами.
Был ли я в Китае? Читал ли я письма отца Маттео Ричи или описание фарфорового производства, выполненное отцом д’Антреколем? Насколько глубоки мои познания в китайском фарфоре эпохи Сун? Мин? Цин?
Китайские императоры, сообщил он, уже четвертый век потрясают воображение европейцев своей мудростью, долгожительством и судейской праведностью. Многие верили, что законы, которыми они руководствуются, имеют небесное происхождение. Известно, что они пили из фарфора. Строили пагоды из фарфора. Гладкая блестящая поверхность фарфора идеально соответствовала их гладкой неморщинистой коже. Фарфор был их материалом, подобно тому как золото было материалом «короля-солнца».
– Кстати, – ухмыльнулся Утц, – наши советские друзья до сих пор не жалеют денег на золото.
– То есть вы хотите сказать, – перебил я его, – что фарфоромания вашего Августа – следствие его знакомства с легендами о Желтом Императоре?
– Что значит «хочу сказать»? Именно это я и говорю. Между прочим, фарфором увлекались не только короли, но и философы! Например, Лейбниц!
Лейбниц, полагавший, что этот мир лучший из всех возможных миров, считал фарфор лучшим из его материалов.
Выросшая в дверях домработница вперила в своего хозяина тяжелый, требовательный взгляд, явно давая понять, что пора закругляться.
Но Утц не обратил на нее никакого внимания.
– А теперь посмотрите-ка на этих господ!
Господа представляли собой пару одинаковых статуэток Августа Сильного в венке римского императора. Эдакие Тра-ля-ля и Труля-ля в окружении дрезденских дам. Хотя они были вылеплены без особого тщания, в них чувствовалась витальная энергия африканского фетиша.
Одна фигурка была сделана из красной бëтгеровской глины, так называемого яшмового фарфора. Другая – из белой.
– Скажите, – спросил меня Утц, – вы что-нибудь знаете о Бëтгере?
– Немного, – признался я. – Только то, что он начинал как алхимик, а затем изобрел фарфор.
– Считается, что изобрел. Но не совсем так.
Я вытащил блокнот. Утц прочел мне короткую лекцию о Бëтгере.
Иоганн Бëтгер родился в 1682 году в Шляйце, в Тюрингии. Его отец был чиновником при Монетном дворе. Детство Бëтгера прошло в мастерской деда, золотых дел мастера. Затем его отдали в обучение к фармацевту по имени Цорн.
Он начинает изучать труды по алхимии: блаженный Раймонд Лалл, Базилиус Валентин, Парацельс и «Aphorismi Chemici» ван Хельмонта. В этих сочинениях все алхимические вещества имеют собственные имена: Рубиновый Лев, Черный Ворон, Зеленый Дракон, Белая Лилия.
Он приходит к убеждению, что золото и серебро рождаются во внутренностях земли из красного и белого мышьяка. Однажды ночью товарищи-подмастерья находят его в лаборатории Цорна, едва живого от сильного отравления парами мышьяка.
Одним из клиентов Цорна был некто Ласкарис, греческий монах нищенствующего ордена, по слухам обладавший Красным Раствором, или Рубиновым Львом, капли которого достаточно, чтобы превратить свинец в золото.
Монах влюбился в юношу.
Бëтгер получает в свое распоряжение фиал с Раствором и проводит первую «успешную» трансмутацию в доме друга-студента. Второй «успешный» эксперимент проходит в присутствии Цорна и других скептически настроенных свидетелей.
Берлинские дамы в восторге от молодого алхимика. Его слава растет и достигает ушей самого короля Фридриха Вильгельма, Великого Любовника, получившего образец золота от фрау Цорн. Король приказывает немедленно арестовать Бëтгера.
Бëтгер бежит в Виттенберг, находившийся в ту пору под юрисдикцией Августа Сильного.
В ноябре 1701 года короли Пруссии и Саксонии устраивают демонстративные военные маневры в непосредственной близости от границы. Кому из суверенов достанется изготовитель золота? В конце концов Бëтгера, как какого-нибудь пустившегося в бега физика-ядерщика, под конвоем привозят в Дрезден.
В Юнгфернбастай, одной из тюрем, где ему предстоит провести последующие тринадцать лет, он ест с серебряных тарелок, держит ручную обезьянку и в секретной лаборатории ищет «arcanum universale», или философский камень.
К 1706 году саксонская казна пуста – не в последнюю очередь из-за Шведской войны и бесконечных королевских трат на китайский фарфор. Разгневанный бесплодностью бëтгеровских экспериментов, Август грозится отправить его в другую лабораторию: камеру пыток.
Бëтгер знакомится с графом фон Чирнхаусом, выдающимся химиком, другом Лейбница. Этот человек близок к созданию «настоящего» фарфора. Ему остается только изобрести печь для обжига, обладающую достаточной жаропрочностью для работы с глазурью. Оценив талант Бëтгера, Чирнхаус предлагает ему стать его помощником. Алхимик ради спасения своей жизни соглашается.
На двери мастерской Бëтгер вешает записку следующего содержания: «По произволению Творца Вселенной создатель золота обращен в простого горшечника».
В 1708 году он отправляет Августу первые образцы красного фарфора, а затем и белого.
В 1710 году в Мейсене создается саксонская мануфактура и начинается промышленное производство фарфора. Алхимический термин «аrcanum» становится официальным названием химического состава глины. Формула объявляется государственной тайной. Практически сразу один из ассистентов Бëтгера выдает ее венским конкурентам.
В 1719 году Бëтгер умирает от тоски, разочарования, пьянства и химического отравления.
В период инфляции 1923 года дрезденские банки выпускают временные дензнаки в красном и белом бëтгеровском фарфоре.
Несколько таких «смешных денежек» Утц сохранил. Он высыпал их мне на ладонь, как шоколадки.
– Забавно, – сказал я.
– Самое забавное впереди.
Большинство исследователей, продолжил он, считают открытия Бëтгера в области фарфора неким побочным продуктом его занятий алхимией, подобно ртутному лекарству Парацельса от сифилиса.
Он с этим не согласен. Не следует переносить на прошлые века наш параноидальный меркантилизм. Алхимия никогда – разве что среди ее самых вульгарных практиков – не была техникой умножения богатства ad infi nitum[56]. Она была мистическим деланием. Попытки открыть секрет производства золота и производства фарфора – две стороны одного и того же процесса: поиска вещества, дарящего бессмертие.
Что касается его самого, то он занялся алхимией по совету Зигмунда Крауса. Во-первых, чтобы было куда приложить свои энциклопедические знания, а во-вторых, чтобы придать фарфоромании метафизическое измерение и таким образом застраховать коллекцию, переведя ее на духовный уровень на случай, если бы коммунистам вздумалось ее отобрать.
Утц читал Юнга, Гëте, Микаэля Майера, путаные заметки доктора Ди и «Герметическую мифологию» Пернети. Он знал все, что следовало знать об «основательнице алхимии» Марии Еврейке, химике III века, которая, как считается, изобрела реторту.
Китайские алхимики, продолжил Утц, учили, что золото – «тело богов». Христиане, с их тягой к упрощению, приравняли его к телу Христову: совершенному неокисляющемуся веществу, эликсиру, способному вырвать нас из пасти Смерти. Но было ли то золото золотом в современном значении этого слова? Не являлось ли оно «aurum potabile», то есть подобием живой воды?
Считалось, что драгоценные камни и металлы, добавил Утц, вызревают в лоне земли. Подобно тому как полупрозрачный эмбрион вырастает в существо из крови и плоти, кристаллы, набирая цвет, обращаются в рубины, серебро – в золото. Алхимики верили, что могут ускорить этот процесс с помощью двух тинктур: Белого Камня, посредством которого основные металлы превращаются в серебро, и Красного Камня, последнего достижения алхимии, – самого золота.
Понятно?
– Надеюсь, что да, – вымученно улыбнулся я.
Он сменил тему.
Что мне известно о гомункулусе Парацельса? Ничего? Дело в том, что Парацельс, по крайней мере по его собственным словам, создал гомункулуса путем ферментации крови, спермы и мочи.
– Что-то вроде младенца в пробирке?
– Скорее что-то вроде голема.
– Я подозревал, что мы еще вернемся к големам.
– Правильно подозревали, – кивнул Утц.
А теперь он хотел бы, чтобы я высказал свое мнение по поводу истории с Навуходоносором и тремя отроками: Седрахом, Мисахом и Аведнаго, которых запихнули в раскаленную печь для обжига, нагретую до температуры, в семь раз превышавшей обычную.
– Вы представляете себе, что это такое? – Утц помахал руками в воздухе. – В семь раз!
– Вы хотите сказать, что Седрах, Мисах и Авденаго[57] были глиняными фигурами?
– Они могли ими быть, – отозвался он. – Во всяком случае, они уцелели в пламени.
– Ясно. Значит, вы всерьез думаете, что фарфоровые вещи живые?
– И да и нет, – хмыкнул он. – Фарфор умирает в огне и возрождается вновь. Вы должны понимать, что печь – это ад. Температура обжига фарфора – 1450 градусов по Цельсию.
– Угу, – сказал я.
От полетов его фантазии у меня закружилась голова. В подтверждение своей теории Утц сообщил, что самый первый европейский фарфор – бëтгеровская красная и белая глина – соответствовал красной и белой тинктурам алхимиков. Для такого суеверного старого императора, как Август, производство фарфора было шагом на пути к обретению философского камня.
А если так, если, согласно представлениям XVIII века, фарфор был не только и не столько очередным экзотическим материалом, а являлся мистическим и охранительным веществом, гораздо легче понять, почему король набил свой дворец сорока тысячами фарфоровых изделий. Или считал «аrcanum» тайным оружием. Или обменял на фарфор шестьсот великанов.
Фарфор, заключил Утц, считался лекарством от старения.
Фридрих Великий, конечно, несколько развенчал эти метафизические иллюзии, когда без лишних сантиментов погрузил изделия мейсенской фабрики на повозки и отослал их в Берлин в качестве военных трофеев.
– Но что с него взять?! – похлопал ресницами Утц. – При всех его хваленых музыкальных способностях Фридрих, в сущности, был стопроцентным филистером.
В комнате стало почти совсем темно. Вечер был теплый, легкий ветерок морщил тюлевые занавески. На ковре слабо мерцали фигурки животных из Японского дворца.
– Марта! – крикнул Утц. – Свет, пожалуйста.
Служанка внесла свечу в мейсенском подсвечнике и водрузила ее посередине стола. Она поднесла спичку, и в стеклах стеллажей заплясали бесчисленные огоньки. Утц поставил на проигрыватель другую пластинку: на этот раз – речитатив Зербинетты и Арлекина из штраусовской «Ариадны на Наксосе».
Я уже говорил, что лицо Утца казалось восковым по текстуре. Сейчас, в свете свечи, воск как будто подтаял. Вещи, подумал я, тверже людей. Они – неизменное зеркало, глядясь в которое мы наблюдаем собственный распад. Ничто не свидетельствует о твоем износе с такой очевидностью, как коллекция произведений искусства.
Одного за другим Утц снимал с полок персонажей комедии дель арте и помещал их в лужу света на стеклянной столешнице, где они скользили и вертелись на своих подставках, похожих на застывшую золотую пену, с таким видом, словно вечно будут вот так смеяться, кружиться, импровизировать.
Скарамуш – бренчать на гитаре.
Бригелла – опустошать чужие кошельки.
Капитан – по-детски рисоваться и важничать, как все военные.
Доктор – убивать своего пациента, дабы избавить его наконец от болезни.
Панталоне – злорадно прицокивать, озирая мешки с деньгами.
Завитки спагетти будут вечно лезть в нос Пульчинеллы.
За направившимся в театр Иннаморатой, как за всеми трансвеститами во все времена, будет с улюлюканьем гнаться толпа.
Коломбина будет вечно любить Арлекина, до конца своих дней оставаясь «настолько безумной, чтобы ему доверять…».
А Арлекин – тот самый Арлекин – навсегда останется гениальным выдумщиком, гаером, непредсказуемым ловкачом, с надменным видом разгуливающим в своем разноцветном наряде и оранжевой маске. Он никогда не перестанет проказничать, подкрадываться на цыпочках в чужие спальни, продавать пеленки для детей главного евнуха, танцевать на краю гибели… Настоящий господин Хамелеон!
И вот когда Утц повернул эту фигурку в свете свечи, я вдруг понял, что недооценил его – он тоже танцевал! Мир этих фарфоровых человечков был для него реальным миром, а гестапо, агенты тайной полиции и прочие угрюмые громилы – всего-навсего игрушками из мишуры. Он научился воспринимать бомбардировки, блицкриги, путчи, чистки и другие сходные события нашего невеселого века как внешние шумы.
– А теперь, – предложил он, – давайте пройдемся. Подышим свежим воздухом.
Выходя, я поблагодарил Марту за ужин. По ее лицу скользнула тень улыбки. Не вставая с табурета и не сгибая туловища, она деревянно поклонилась, слегка подавшись вперед.
Вечер был теплый и душный. Вокруг фонарей вились мотыльки. На Староместской площади у памятника Яну Гусу толпилась молодежь: юноши в белых рубашках с открытым воротом, девушки в немодных ситцевых платьях. Все они казались свежими и бодрыми.
Над шпилями Тынского собора сияли звезды, и под раскаты органной музыки из-под арки Школы богословия потянулись верующие, возвращавшиеся с мессы. До Пражской весны оставался еще год, но атмосфера, как мне помнится, была радостная. Поэтому я страшно удивился, когда Утц, повернувшись ко мне, внезапно процедил сквозь зубы:
– Ненавижу этот город.
– Ненавидите? Как же так? Вы же сами говорили, что он красивый.
– Ненавижу. Ненавижу.
– Все наладится, – сказал я, – в конце концов будет лучше.
– Вы ошибаетесь. Лучше не будет никогда.
Отрывисто кивнув, он пожал мне руку.
– Спокойной ночи, мой юный друг. Вы еще вспомните мои слова. А теперь позвольте откланяться. Пойду в бордель.
В тот год я отправил Утцу открытку на Рождество и получил от него открытку в ответ – с фотографией могильной плиты Тихо Браге[58] и просьбой позвонить, если я снова наведаюсь в Прагу.
В последующие месяцы, когда весь мир с интересом следил за деятельностью товарища Дубчека, я пытался представить себе настроение Утца. Неужели, думал я, он по-прежнему упорствует в своем пессимизме?
Время шло, и, несмотря на угрожающие статьи в советской прессе, казалось все менее и менее вероятным, что Брежнев пошлет в Прагу танки. Но однажды вечером, когда я приехал в Париж, движение на бульваре Сен-Жермен было перекрыто и полицейские, вооруженные щитами и дубинками, сдерживали толпу демонстрантов.
На оккупацию Чехословакии понадобились ровно сутки.
Затаскивая сумку по ступеням отеля, я вынужден был с грустью признать, что Утц оказался прав. В декабре я послал ему новую открытку, но ответа не получил.
Зато д-р Орлик писал мне с завидной регулярностью. В своих посланиях (неизменно на казенных бланках Национального музея) – нацарапанных жутким почерком, который я едва разбирал, – он требовал от меня ксерокопий научных статей. Я должен был срочно разыскать какие-то особые кости мамонта в Музее естественной истории. А также выслать ему книги – разумеется, не дешевые: преимущественно монографии, подготовленные известными американскими университетами.
В одном из писем он информировал меня о своем новом научном проекте: муха (Musca domest ica) в голландских и фламандских натюрмортах XVII века. Моя роль должна была состоять в том, чтобы изучить все имеющиеся репродукции картин Боссарта, Ван Хëйса и Ван Кессела на предмет наличия в них мухи.
Я не ответил.
Шесть лет спустя, в конце марта 1974 года, Орлик прислал мне открытку в траурной рамке, на которой криво вывел: «Наш дорогой друг Утц скончался…» Слова «наш дорогой друг» показались мне не вполне уместными, учитывая, что мое общение с Утцем ограничилось в общей сложности девятью с чем-то часами и было это шесть с половиной лет назад. Тем не менее, памятуя о трогательной привязанности двух стариков, я отправил Орлику короткое письмо, в котором поблагодарил его за это уведомление и выразил сочувствие.
Тут же последовал шквал новых, абсолютно невероятных полупросьб-полутребований: не мог бы я выслать тысячу американских долларов на поддержку деятельности некоего малоимущего ученого? Не соглашусь ли я оплатить шестимесячную ознакомительную поездку по западноевропейским научным центрам? Не мог бы я прислать сорок пар носков?
Я выслал четыре пары.
Переписка оборвалась.
В августе я заехал в Прагу на обратном пути из Советского Союза. Настроение людей, особенно в небольших городах по берегам Волги и Дона, было на удивление жизнерадостным. Советская система образования, похоже, приносила свои плоды – в стране выросло целое поколение умной, образованной молодежи с довольно стойким отвращением к идеологии тоталитаризма.
Прага казалась не в пример более мрачной и подавленной. Хотя полки ломились от товаров, на лицах покупателей, бродивших по Вацлавской площади, застыло выражение отвращения к самим себе за то, что они, пусть временно, потеряли надежду. Из книжных магазинов исчезли произведения «Prag-Deutsch Schrift steller»[59] Франца Кафки. Памятники, являющиеся символами национальной гордости, такие, как Тынский собор и собор Cв. Вита, закрыли на реконструкцию, упрятав их фасады за ржавыми неказистыми лесами.
Рабочих при этом видно не было.
Куда бы ты ни поехал, перед тобой вырастал знак «Проезда нет». Город, где ничего не стоило заблудиться и в лучшие времена, превратился в настоящий лабиринт тупиков. У меня создалось впечатление, что Прага скорбит не столько по своему былому экономическому процветанию, сколько по месту в европейской истории. Это был город, доведенный до предела отчаяния.
Нет, я, конечно, несправедлив. И в тогдашней Праге можно было найти немало свидетельств несокрушимости чешского духа.
Мне кажется, именно Утц был тем человеком, который впервые убедил меня в том, что история – наш проводник в будущее и совершенно непредсказуема. А будущее – мертвая территория, ничья земля, так как его еще не существует.
Когда на чешского писателя нападает охота порассуждать о бедственном положении своей родины, в его распоряжении имеется по крайней мере одна готовая метафора: восстание гуситов. В Музее Праги я наткнулся на текст, описывающий поражение гуситов от немецких рыцарей:
«Внезапно в полночь в самой гуще скопления войск Едома, разбивших свои палатки на протяжении трех миль неподалеку от города Жатеца в Богемии, что в десяти милях от Хеба, раздались крики ужаса. И вот все обратились в бегство, убоявшись шороха падающих листьев и не будучи при этом преследуемы ни единым человеком…»
Когда я выписывал этот отрывок в блокнот, у меня в ушах звучал гундосый шепоток Утца: «Они слушают, слушают, слушают все, что только можно, и при этом не слышат ничего».
Утц, как всегда, оказался прав. Тирания творит свое собственное акустическое пространство: особую пустоту, где вразнобой звучат какие-то непонятные сигналы, где едва слышное бормотание или слабый намек вызывает панику. Так что, скорее всего, башня тоталитаризма рухнет не от войны или революции, а от шелеста ветра или шороха падающих листьев…
Я остановился в гостинице «Ялта». Среди постояльцев был французский репортер, идущий по следу перуанского террориста. «В Прагу приезжает немало террористов, – сообщил он, – чтобы сделать пластическую операцию».
Еще в гостинице проживала группка английских наблюдателей за правами человека, а точнее сказать, за диссидентами: профессор современной истории и три литературные дамы, которые, вместо того чтобы наблюдать животных в каком-нибудь национальном парке Восточной Африки, приехали сюда изучать другой вид, находящийся под угрозой истребления: популяцию восточноевропейских интеллектуалов. Не перевелись ли они? Чем их следует кормить? Могут ли они еще породить какие-нибудь подходящие словесные формулы, которые будут способствовать крестовому походу против коммунизма?
Они пили виски, расплачиваясь кредитными карточками, поглощали неимоверное количество арахиса и явно надеялись, что за ними следят. Признаюсь, мне ужасно захотелось, чтобы, когда они и вправду встретят какого-нибудь диссидента, он оттяпал у них по парочке пальцев.
На следующий день я поискал фамилию Утц в пражском телефонном справочнике. Ни одного человека с такой фамилией там не значилось.
Тогда я отправился на Широкую улицу. Миновав противные лепные маски медуз-горгон над входом и череду переполненных мусорных баков, я позвонил в квартиру верхнего этажа дома № 5. Рядом с кнопкой звонка я заметил дырочки от шурупов на том месте, где когда-то висела медная табличка с именем хозяина.
Спустившись на этаж ниже, я постучался к певице, которая двадцать лет назад выглянула на площадку в пеньюаре, расшитом пионами. Теперь это была сморщенная старушка в черном платке с бахромой. Я произнес имя Утц. Дверь полетела мне в лицо.
Я поплелся вниз и уже успел спуститься еще на один пролет, когда дверь снова открылась и соседка прошипела: «Эй!», приглашая меня вернуться.
Ее звали Ада Красова. Квартира была набита сувенирами оперных лет. Она исполняла партии Мими, Манон, Кармен, Аиды, Ортруды и Лизы в «Пиковой даме». Одна из фотографий запечатлела ее в роли восхитительной Енуфы в ситцевой крестьянской рубахе. Она то и дело поправляла черепаховые гребни в волосах. На кухне рвало кошку. Из китайских ваз торчали букеты павлиньих перьев. Обилие выцветшего розового атласа напомнило мне спальню Утца.
Я не мешкая перешел к делу. Известна ли ей судьба Утцевой коллекции? Она издала короткую оперетточную трель: «У-у-у!.. Ля-ля!» – и передернула плечами. Разумеется, известна, но она ничего не скажет. Она дала мне телефон директора музея «Рудольфинум».
Музей, грандиозное здание, сохранившееся со «старых добрых времен» Франца Иосифа, носил имя императора Рудольфа в знак благодарной памяти о его любви к декоративному искусству. Фронтон украшали скульптурные барельефы, представляющие различные ремесла: огранщики драгоценных камней, ткачи, стеклодувы… Вход охраняла парочка угрюмых сфинксов. Сквозь трещины в ступенях росли лопухи.
Музей не работал «по не зависящим от администрации причинам» – точно так же, как и в 1967 году. Лишь один зал на первом этаже был открыт для временных экспозиций. В те дни там проходила выставка «Современные стулья и кресла». Я увидел ученические копии работ Ритвельда и Мондриана[60] и поставленные один на другой стулья из стекловолокна.
Я сказал дежурному, что хотел бы переговорить с директором.
Прага в культурном отношении – родная сестра Дрездена. Было ясно, что выдать себя за специалиста по мейсенскому фарфору мне не удастся. Поэтому я состряпал более правдоподобную легенду: я исследователь неаполитанского рококо и пишу статью о статуэтках, изображающих персонажей комедии дель арте, выпущенных на фабрике Каподимонте. Как-то раз я видел чудесную композицию «Поедатель спагетти», принадлежавшую мистеру Утцу. Нельзя ли узнать, где она находится в данный момент?
Сдавленный женский голос на другом конце провода произнес: «Я сейчас спущусь».
Мне пришлось ждать минут десять, прежде чем из лифта вышла некрасивая женщина средних лет в темно-лиловой косынке и с жировиком на подбородке. Растянув губы в многозначительной улыбке, она произнесла по-английски:
– Будет лучше, если мы выйдем на улицу.
Мы пошли по набережной Влтавы. Дул промозглый ветер, моросил дождь, и казалось, что тучи задевают шпиль собора Св. Вита. Такого плохого лета не было давно. Селезни преследовали уток на мелководье. В полусдутой резиновой лодке посередине реки сидел рыбак. Над его головой кружились чайки.
– Скажите, пожалуйста, – прервал я затянувшееся молчание, – почему ваш музей всегда закрыт?
– А вы как думаете? – кисло улыбнулась она. – Чтобы народ не пускать. – Опасливо оглянувшись по сторонам, она спросила: – Вы знали господина Утца?
– Знал, – ответил я. – Не близко. Один раз я был у него дома. Он показал мне свою коллекцию.
– Когда это было?
– В 1967-м.
– А-а, понятно, – скорбно покачала она головой. – До нашей трагедии. – Да, – подтвердил я. – Скажите, что стало с фарфором?
Она моргнула. Потом сделала полшага вперед, шаг назад и застыла в нерешительности, облокотясь о парапет, явно не зная, как лучше сформулировать вопрос.
– Если я вас правильно поняла, вы хорошо представляете себе рынок мейсенского фарфора в Западной Европе и Америке.
– Вовсе нет.
– Значит, вы не коллекционер?
– Нет-нет.
– И не коммерсант?
– Разумеется, нет.
– Стало быть, вы приехали в Прагу не для того, чтобы приобрести произведения искусства?
– Боже упаси!
Мои ответы ее явно разочаровали. А у меня уже возникло ощущение, что еще чуть-чуть – и она предложит мне купить коллекцию Утца. Перед тем как продолжать, она глубоко вздохнула:
– Вы случайно не знаете, – спросила она, – что-нибудь из коллекции продавалось на Западе?
– Не думаю.
За месяц до этого я ездил в Нью-Йорк и заглянул к д-ру Мариусу Франкфуртеру. Разговор состоялся в его квартире, набитой мейсенскими птицами. «Отыщите коллекцию Утца, – сказал он, – и мы с вами разбогатеем».
– Нет, – сказал я директрисе, – если бы коллекция продавалась на Западе, об этом бы обязательно знал старый приятель и деловой партнер Утца доктор Франкфуртер. А он ничего об этом не слышал.
– А-а! Понятно! – она задумчиво посмотрела на воду. – Значит, вы и с доктором Франкфуртером знакомы?
– Я с ним виделся.
– Увы, – вздохнула она, – мы тоже ничего не знаем.
– Как это может быть?
Она поежилась, теребя узел платка.
– Все эти чудесные вещи пропали… Как это говорится? Испарились!
– Испарились? До или после его смерти?
– Мы не знаем.
До 1973 года, когда с Утцем случился первый удар, сотрудники музея регулярно ходили к нему в гости – убедиться, что коллекция на месте.
Эти посещения, похоже, ему даже нравились: особенно когда кто-нибудь из музейных работников приносил озадачившую всех фарфоровую вещицу, чтобы испытать его знания. Но в июле 1973-го, после того как у него парализовало правую руку, он согласился подписать документ, в соответствии с которым после его смерти коллекция отходила государству.
Он согласился также вывезти из Швейцарии свою вторую коллекцию при условии, что – поскольку в нынешних обстоятельствах посещения стали для него чересчур обременительны – его оставят в покое. Директор музея, гуманный человек, пошел ему навстречу. Двумстам шестидесяти семи фарфоровым изделиям дали зеленый свет на таможне и доставили их в квартиру Утца.
Похороны, как мы знаем, начались в восемь утра 10 марта 1974 года, хотя со временем вышла путаница. В результате директор музея и трое его сотрудников пропустили отпевание и само погребение и на полчаса опоздали на завтрак в гостиницу «Бристоль».
Когда два дня спустя они явились в дом № 5 по Широкой улице, на их звонки в дверь никто не ответил. Потеряв терпение, они вызвали слесаря, чтобы тот сломал замок. Стеллажи были пусты. Все прочее осталось на месте: мебель, даже безделушки в гостиной. Но ни единой фарфоровой фигурки обнаружить не удалось. Только следы в пыли там, где они стояли, да отпечатки на ковре, где находились животные из Японского дворца.
– А что говорит домработница? – спросил я. – Уж она-то наверняка все знает.
– Мы ей не верим.
На следующее утро после завтрака я попросил портье позвонить в Национальный музей и выяснить, служит ли там еще д-р Вацлав Орлик. Оказалось, что, хотя формально д-р Орлик вышел на пенсию, в первой половине дня он по-прежнему трудится в палеонтологическом отделе.
По дороге в музей я, подстраховавшись, заказал столик на двоих в ресторане «Пструх».
Музейный охранник провел меня по длинным путаным коридорам в хранилище, заваленное пыльными костями и окаменелостями. Орлик, поседевший и похожий теперь на мудреца-брахмана, счищал налет с большой берцовой кости мамонта. За ним, подобно готической арке, высились гигантские китовые челюсти.
Я спросил, помнит ли он меня.
– Неужели? – насупился он. – Нет, не может быть.
– Может.
Он отложил мамонтовую кость и оглядел меня с ног до головы подслеповатым подозрительным взглядом.
– Да, – сказал он. – Теперь вижу. Это действительно вы.
– А кто же еще?
– Почему вы не отвечали на мои письма?
Я сказал, что, вернувшись тогда из Праги, женился и пять раз переезжал с квартиры на квартиру.
– Не верю, – категорически отрезал он.
– Вы не согласитесь пообедать со мной? – предложил я. – Можно было бы зайти в «Пструх».
– Ну что ж, – настороженно кивнул он. – А деньги у вас с собой есть?
– Есть.
– Тогда можно.
Орлик провел расческой по волосам и бороде, лихо нахлобучил берет набекрень и объявил, что готов. Уходя, он прицепил на дверь записку, что приглашен на обед «выдающимся иностранным ученым».
Мы вышли на улицу. Я заметил, что он прихрамывает.
– Между нами говоря, я не считаю вас выдающимся, – объявил он, хромая по подземному переходу. – Я вообще не считаю вас ученым. Это я для них так написал.
В ресторане почти ничего не изменилось. Форель все так же плавала туда-сюда в своем огромном аквариуме. Метрдотель – не ужели тот же самый? – отрастил живот, похожий на воздушный шар. А малосимпатичное лицо товарища Новотного заменили столь же малосимпатичным лицом товарища Гусака.
Я заказал бутылку белого моравского вина и предложил помянуть Утца. Слезы поползли по морщинистым щекам Орлика и скрылись в чаще его бороды. Обед с плачущим палеонтологом – такого опыта у меня еще не было.
– Как мухи? – поинтересовался я.
– Я вернулся к мамонтам.
– Я имею в виду вашу коллекцию мух.
– Я ее выбросил.
На этот раз с форелью проблем не было.
– Au bleu, n’est – ce pas? – попытался спародировать я диковинный французский прононс Утца.
– Бло! – оглушительно расхохотался Орлик.
Я перегнулся через стол и спросил, понизив голос:
– Скажите, что случилось с коллекцией фарфора?
Орлик закрыл глаза и покачал головой.
– Он ее выбросил.
– Выбросил?
– Разбил и выбросил.
– Разбил? – ахнул я.
– Они вместе. Иногда он разбивал, она выбрасывала.
– Кто она?
– Баронесса.
– Какая баронесса?
– Его баронесса.
– Я не знал, что он был женат.
– Был.
– На ком?
– Ишь ты какой! – фыркнул Орлик. – Угадайте.
– Как я могу угадать?
– Вы ее видели.
– Никого я не видел.
– Видели.
– Не видел.
– Нет, видели.
– Кто она?
– Его домработница.
– Не может быть. Нет, я не верю… Марта?
– Именно.
– И вы говорите, что она уничтожила коллекцию?
– И говорю, и не говорю.
– Где она сейчас?
– Ее нет.
– Умерла?
– Может быть. Не знаю. Она исчезла.
– Эмигрировала?
– Нет.
– Так где же она?
– Уехала из Праги.
– Куда?
– В Костелец.
– Где это?
– Süd-Böhmen[61].
– Значит, она вернулась в Южную Богемию?
– Может, да, может, нет.
– Скажите…
– Здесь, – прошептал он, – я вам ничего не скажу.
И затем до конца обеда Орлик развлекал меня историями про охотников на мамонтов, бродивших по моравской тундре в Ледниковый период.
Я оплатил счет. Потом мы взяли такси и поехали во Вртбовский сад. Там мы посидели на одной из террас возле каменной урны, увитой виноградом.
Утц официально зарегистрировался с Мартой в одну из суббот летом 1952 года, через шесть недель после возвращения из Виши. Время было тревожное. Готвальд устроил печально знаменитую охоту на ведьм, кульминацией которой стал суд над Сланским[62]. У рядовых граждан почти не было шансов не попасть в ту или иную категорию врагов народа: буржуазные националисты, предатели дела партии, космополиты, сионисты, спекулянты… За принадлежность к любой из этих «группировок» полагалась тюрьма, а то и что похуже.
На евреев, выживших в лагерях уничтожения, навешивали ярлык «пособник фашизма».
Опасности подстерегали на каждом шагу, и Утц это понимал.
Однажды утром ему принесли официальное уведомление о том, что в течение двух недель он обязан освободить свою квартиру – по новым правилам он как холостяк подлежал «уплотнению» и из двухкомнатной квартиры должен был переехать в однокомнатную.
Ну вот! Его выставляют на улицу или в лучшем случае загоняют на какой-нибудь вонючий чердак, где ни о какой коллекции и речи быть не может. Решением проблемы был брак.
Во время церемонии Марта очень стеснялась. Красные флаги в здании ратуши окончательно испортили ей настроение. «На кровь похоже», – поежилась она, когда они вышли на солнечный свет.
В следующий понедельник молодожены, держась за руки, уже стояли в унылой очереди к чиновнику по «жилищным вопросам». Предъявив брачное свидетельство, они разыграли перед ним слюнявое шоу неземной любви. Ордер на выселение был аннулирован.
Марта отказалась от своей комнаты и перевезла вещи в дом № 5.
Я не могу поручиться, что Утц имел законное право называться «бароном». Мой мюнхенский приятель Андреас фон Раабе утверждает, что Утцы из Крондорфа действительно время от времени вступали в брак с представителями мелкопоместного немецкого дворянства. Получал ли кто-нибудь из них дворянский титул, он не знает. Потерял я уверенность – особенно после поездки в Нью-Йорк к д-ру Франкфуртеру – и в том, что ежегодные паломничества Утца на Запад были абсолютно невинны. Сегодня мне кажется крайне маловероятным, чтобы власти могли позволить ему ездить туда-сюда, не требуя ничего взамен.
Как я уже говорил, квартира д-ра Франкфуртера была набита фарфором немецкого производства. Ясно, что большая часть этих вещей когда-то принадлежала аристократическим семьям Чехословакии, а теперь распродавалась государством. Чехам всегда требовалась твердая валюта для финансирования разного рода сомнительных предприятий типа шпионажа и подрывной деятельности.
Я сильно подозреваю, что сейф в женевском банке был неофициальным «магазином» (с Утцем в роли директора), через который реализовывались конфискованные произведения искусства.
Пожалуй, лишь одно я могу утверждать с полной определенностью: у Утца действительно были усы.
Без усов он так бы и остался в моем воображении очередным женоподобным, суетливым собирателем произведений искусства, старательно избегавшим слишком тесных контактов с противоположным полом.
С усами он мгновенно превращался в безжалостного сердцееда.
– Конечно, у него были усы! – гаденько хихикнул д-р Франкфуртер. – Без усов Утц не Утц. Они, можно сказать, ключ к пониманию его личности.
Утц отрастил усы сразу же после своих юношеских неудач в Вене и никогда не оглядывался назад. Он вовсе не был тем унылым мечтателем, каким я изобразил его в сценах в Виши. Напротив, вся его жизнь была чередой побед над пухленькими оперными дивами – хотя со временем, поскольку оперные певицы были слишком темпераментны и чересчур преданы своему искусству, он переключился на звезд оперетты. Через его постель прошла целая вереница Веселых Вдов и Графинь Мици. Обыкновенные объекты эротического интереса оставляли его равнодушным, но вид женской шеи в тот момент, когда певица запрокидывала голову, чтобы взять высокую ноту, приводил его в настоящее исступление.
Внешне он был довольно невзрачным мужчиной маленького роста. Секрет его успеха у женщин заключался в особой изобретенной им любовной технике – он прижимал колючую щетку усов к нежной дамской шее так, чтобы крещендо полового акта было для нее столь же экстатичным, как верхние ноты арии.
Роль Марты во всем этом была незавидной.
Она безнадежно и слепо обожала Утца с того самого мига, как он пригласил ее сесть к нему в машину. Однако, осознав с крестьянской сметливостью, что слишком большие надежды сведут ее с ума, она смирилась с тем, что имела. Пусть ей так и не придется наслаждаться его телом в этом мире, зато – по вере – она сможет наслаждаться его душой в том.
Она неустанно молилась. Регулярно ходила к мессе. Лила слезы в костеле Девы Марии Победительницы перед пражским Младенцем Иисусом – ненасытным дитятей, присваивавшим Себе ожерелья богобоязненных женщин. Каждую неделю монахини меняли Ему наряды.
Однажды в приступе материнской заботы Марта предложила монахиням помочь Его раздеть. Ее грубо одернули.
Она не осмеливалась признаваться Ему в масштабе своих притязаний. Она умоляла простить мужа за блудный грех и себя за то, что превратила спальню в доме № 5 в «польский бордель».
Марта никогда не была с мужчиной, не считая одного брутального соития за стогом сена. Тем не менее она научилась вполне профессионально готовить спальню для дам, которые из гордости или стыдливости не брали с собой необходимое для ночи. Используя свое недюжинное умение выходить на нужных людей, она доставала на черном рынке ароматическое мыло, туалетную воду, тальк, пудру для лица, полотенца, фланелевое белье и ночные сорочки из розового крепдешина, которые по таинственным причинам то и дело не возвращались из прачечных к их законным владелицам – женам дипломатов.
Иногда гостьи не могли справиться с искушением и запихивали какую-нибудь из этих роскошных вещиц в свой ридикюль. Дошло до того, что Марта нарочно оставляла на ночном столике что-нибудь не слишком ценное – помаду или пару нейлоновых чулок, чтобы сохранить вещи подороже.
Она готовила ужин и мыла посуду. Затем, когда Утц – по отработанной схеме – переходил к демонстрации персонажей комедии дель арте и прослушиванию «Ариадны на Наксосе», незаметно выскальзывала на улицу. Иногда она спала на полу у своей подруги Сюзанны, директора овощного магазинчика на Гавелской улице. Бывали ночи и похуже, когда приходилось отправляться на Центральный вокзал и просиживать там до утра, тяжко вздыхая и крестясь при мысли о кутерьме рук и ног на розовом атласе.
А поскольку с годами очередь из охочих до Утца дамочек только росла, ей все чаще и чаще приходилось ночевать не дома. При этом за все это время она не позволила себе ни единого попрека, не выказала даже тени недовольства. Равно как и он ни разу не сказал ей спасибо и не принес извинения за доставленные неудобства.
Она полагала, что самим фактом женитьбы он уже удостоил ее величайшей чести в мире. Подозреваю, что для самой себя, а возможно, и для него она играла роль супруги, обреченной – не без снисходительного любопытства – наблюдать за чередой истерических любовниц.
Переехав к нему, она поначалу спала под стеганым одеялом на узенькой кушетке работы Миса ван дер Роэ. Но однажды ночью, разметавшись в кошмарном сне (ей приснился арест Утца в оккупированной нацистами Чехии), она с диким грохотом рухнула на пол. Удар был такой силы, что от него подпрыгнули, зазвенев, фарфоровые фигурки на полках.
С тех пор она предпочитала спать на походном матрасе, который стелила в прихожей, – ни один грабитель не мог бы пробраться в дом, не наступив на нее.
Я обнаружил неопровержимые свидетельства вражды между Мартой и соседкой снизу.
Во время беспорядочного романа с Утцем Ада Красова, пользуясь привилегированным положением оперной певицы, привезла из Италии розовый атлас и декорировала его спальню во вкусе дамы полу света.
Затем в нарушение всех приличий она купила квартиру в том же доме и как-то раз, решив, что сможет обдурить Марту, украла флакон «Шанель № 5». Реакция Марты на этот припадок клептомании была жесткой: «Для этой я готовить не буду». Больше ее не приглашали. И хотя с тех пор прошло уже тридцать лет, Ада Красова не забыла обиду и продолжала злопыхательствовать, сидя среди своих сувениров.
Точная дата этого события мне неизвестна, но однажды, примерно в середине шестидесятых, на представлении «Дон Карлоса» Утц навел бинокль на шею некой певицы, бывшей намного моложе обычных жертв его любовной охоты: крупная красавица, с превосходным голосовым диапазоном, скрывавшая – как того требовал образ испанской королевы – толстую, словно канат, золотистую косу в складках черной мантильи.
На следующий день в театральном кафе, где он был завсегдатаем, Утц, набравшись храбрости, подкатился к ней с комплиментами и тут же отскочил как ошпаренный от ее злобного окрика: «Пошел отсюда, старый козел!»
Стоял хмурый зимний день. У Утца был приступ синусита и ячмень на глазу. Он взглянул на свое отражение в зеркальной витрине магазина и вдруг – это был особый момент освобождения от иллюзий – с необычайной остротой почувствовал, что амплуа вечного героя-любовника уже не для него.
Можно только гадать, что произошло в тот день между ним и Мартой, но с тех пор она спала на кровати. Походный матрас отошел в прошлое.
Розовый халат из искусственного шелка стал эмблемой ее победы.
Его раздраженно-горестный тон при нашем расставании на Староместской площади, возможно, был вызван тем, что они с женой поменялись ролями. Врожденный такт не позволял ей демонстрировать это на людях, но к тому времени главой семьи, несомненно, стала она. И с тех пор, если Утца одолевало желание за кем-нибудь приударить, ему приходилось заниматься этим вне дома.
Затем она окончательно закрепила свой успех. Так как церемония их бракосочетания была атеистической, чтобы не сказать языческой, Марта всегда чувствовала себя обделенной. Стоя на коленях перед пражским Младенцем, она жарким шепотом каялась в том, что живет в невенчанном браке.
Однажды весной, когда они с Утцем разбирали коробки с одеждой, она наткнулась на белую кружевную фату, которую надевали на свадьбу невесты из рода Утцев начиная с XVIII века.
Марта разложила ее на розовом атласном покрывале и многозначительно поглядела на Утца. Он кивнул.
Они обвенчались в костеле Св. Николая жарким полднем Пражской весны 1968 года. Цвели сливы, в воздухе висела голубоватая дымка.
На ней был белый костюм с пятнами пота под мышками. В руке – букетик из белых лилий и ландышей. Несмотря на выбившуюся прядь седых волос, фата ей шла.
Под свадебный марш из «Сна в летнюю ночь» священник в кружевных оборках и парике повел их по главному проходу храма.
Разумеется, они наткнулись на неизбежную уборщицу, которая, пропуская их, поставила на пол ведро, села на скамью и приветственно помахала шваброй. Они миновали кафедру цвета малинового мороженого и остановились перед алтарем напротив статуи святого Кирилла в митре. Святой пронзал язычника толстым концом посоха.
Зеваки, привлеченные вопиющим несоответствием в росте жениха и невесты, невольно подались назад, когда пожилые венчающиеся, оглянувшись, смерили их вызывающими взглядами. Не исключено, впрочем, что еще больше, чем суровые взгляды, их напугали кровавокрасные следы губной помады, которые неопытная Марта (пользуясь помадой впервые в жизни) оставила на виске жениха, будучи слишком высокой, чтобы дотянуться до его губ в момент ритуального поцелуя.
Орган прогремел «К Тебе взвываю я» Зигмунда Ромберга, и когда супруги вышли из храма в сверканье солнечного дня, толпа, собравшаяся на ступенях, разразилась аплодисментами.
На улице ждала своей очереди следующая пара. В петлицах молодых людей торчали веточки мирта. Острый глаз Марты отметил, что невеста беременна. Марта сжалась от аплодисментов, решив, что над ними потешаются, но жених, милый интеллигентный парень, пригласил Утцев в храм на венчание, а потом на банкет – в ресторан гостиницы «Бристоль».
Чествование одной пары превратилось в чествование двух. Разгоряченные токаем гости произнесли несколько издевательских тостов в честь медведя, чучело которого стояло напротив их стола.
Теперь я могу кое-что добавить к своему рассказу о похоронах. За время, прошедшее между моментом смерти и прибытием агента из похоронного бюро, Марта закрыла стеллажи с коллекцией фарфора черной материей. Затем вызвала Орлика, и они вдвоем стояли на часах, пока не увезли гроб.
Между тем Ада Красова этажом ниже служила свою панихиду. Женщины из Праги, Брно, Братиславы, презиравшие друг друга на оперной сцене и ревновавшие друг друга к Утцу, объединились в своей ненависти к Марте за то, что она лишила их возможности в последний раз взглянуть на усы.
Они орали. Шипели. Колотили в дверь кулаками. Но Марта осталась глуха к их мольбам.
Накануне погребения она, попросив Орлика выступить в роли телохранителя, провела на лестнице нечто вроде брифинга, информировав безутешных дам о расписании на завтра.
В порыве злокозненного вдохновения она объявила, что отпевание состоится в костеле Св. Иакова (вместо Св. Сигизмунда), а похороны – на Вышеградском кладбище (вместо Виноградского). Завтрак в гостинице «Бристоль» – «на который мой дорогой супруг просил вас всех пригласить» – в 9.45 утра (вместо 9.15).
В результате тем печальным утром по Праге носились еще две «татры»: в одной сгрудились бывшие оперные дивы, в другой – официальные представители музея «Рудольфинум».
Две эти группы столкнулись в дверях гостиничного ресторана как раз в тот момент, когда вдова Утц, осушив бокал токая («За медведя! За медведя!»), не испытывая ни малейших угрызений совести, направлялась к выходу.
Зайдя со своей сумкой из искусственной кожи в дамский туалет, она сменила траурный наряд на коричневый шерстяной костюм. Затем взяла такси до Центрального вокзала, там пересела на поезд, следующий в Ческе-Будеëвицы, и отправилась к сестре, безвыездно жившей в их родном поселке.
Когда пытаешься восстановить ход событий, не нужно бояться фантазировать: чем невероятнее твои предположения, тем больше шансов на успех.
Держа в уме туманные намеки Ады Красовой о звуках разбиваемого фарфора, якобы долетавших из квартиры Утца, я между часом и двумя ночи занял наблюдательный пост на пересечении улиц Широкой и Майсловой в ожидании мусоровоза.
В Праге, во всяком случае в Старом городе, у людей какие-то особенные отношения с мусором. В жилых домах № 5 и № 6 по Широкой улице, построенных до войны для преуспевающих буржуа, в подъездах сохранилась их родная красно-бурая облицовка из мрамора. Но там, где в былые дни, вероятно, стояло зеркало или ваза с искусственными цветами, в наши менее утонченные времена посетителей встречает взвод серых мусорных баков из оцинкованного железа с одинаковыми крышками на петлях.
Мусоровозы в Праге уже лет пятнадцать красят в ярко-оранжевый цвет. На крышах у них установлены оранжевые вращающиеся прожекторы, озаряющие своими лучами окрестную архитектуру. Эти прожекторы и в еще большей степени скрежет механизмов – проклятье для людей с чутким сном и подобие развлечения для тех, кто страдает бессонницей, – можно вылезти из постели и, стоя у окна, поглазеть на этот маленький уличный спектакль.
Мусорщики одеты в оранжевые комбинезоны и кожаные фартуки, чтобы не испачкаться, когда они выкатывают баки на улицу.
Я увидел, как молодой человек вытащил контейнер с отбросами кошерного еврейского ресторана и подъехал к ресторану «У голема», где я накануне вынужден был отказаться от «Kalbsfi let jüdischer Art»[63], украшенной ломтиком ветчины.
Это был ладный парень со смеющимися глазами и копной курчавых волос. Свои обязанности он выполнял с налетом веселой бравады. В огнях прожектора его лицо казалось оранжевой маской.
Его напарником был крупный доберман-пинчер в наморднике из стальных прутьев. Пес либо лежал на пассажирском сиденье, либо гонял местных кошек, либо любовно водружал передние лапы на плечи хозяина.
Выехав на Широкую, молодой человек развернул машину задом к бордюру напротив синагоги Пинхаса. Потом выкатил баки из подъездов домов № 4, 5 и 6 и в соответствующем порядке расставил их на тротуаре.
Из машины высунулась оранжевая клешня, вцепилась в края бака, перевернула его в воздухе и с двойным «Чвынк!.. Чвынк!..» вытряхнула содержимое в чрево машины.
После чего бак был с грохотом поставлен обратно на землю, а из мусоровоза донеслись жуткие звуки прессовки, перемалывания и лязганья металлических челюстей.
Доберман попытался было лизнуть меня в лицо, но не смог просунуть язык сквозь прутья намордника. Мусорщик отнесся с доверием к человеку, сумевшему расположить к себе его собаку. К моему удивлению, он неплохо говорил по-английски.
Что я здесь делаю?
– Я писатель, – отрекомендовался я.
– Я тоже, – отозвался он.
Он рассказал, что многие его коллеги – писатели, поэты и безработные актеры. По субботам они встречаются в пивной в деревушке рядом со свалкой. Он объяснил мне, как туда проехать.
– Спрóсите Людвика, – сказал он.
Деревня представляла собой оазис фруктовых садов и огородов посреди свалки промышленных отходов. В саду, засаженном розами, Людвик мыл свою машину.
Он привел меня в бар, где его товарищи в оранжевых и синих комбинезонах стучали кружками с пльзеньским пивом. Несколько человек читали газеты, кто-то играл в шахматы. Двое, забравшись в тихий уголок, перекидывались в «дурака». Закончив партию, они подошли к нам поздороваться.
Одним из игроков оказался католический философ Мирослав Житек (я знал его по публикациям в эмигрантской прессе), автор статьи о саморазрушительной природе Силы, широкоплечий человек с сединой на висках и открытым румяным лицом. Он курил пеньковую трубку. Житек рассказал, что в социалистической Чехословакии каждый достигший шестидесятилетнего возраста получает право на пенсию, конечно при условии, что он отработал положенное число лет на государственной службе. Они с друзьями предпочитают не участвовать в карьерной возне и академических склоках. Физический труд позволяет держать сознание чистым.
Житек работал садовником, дворником и мусорщиком. Но теперь, в пятьдесят восемь, ему это уже тяжеловато, поэтому он устроился на новую работу: стал велосипедным курьером.
Его обязанности заключались в том, чтобы развозить программы по компьютерным центрам Праги. В одну из прикрученных к велосипеду сумок он засовывает диски, в другую – тетради с философскими записями. Когда он доставляет диски, директор центра пускает его поработать в свободную комнату. Он пишет в среднем часа три. Иногда в конце рабочего дня читает написанное сотрудникам центра.
Житек не пожалел крепких выражений в адрес некоторых чешских писателей-эмигрантов, возомнивших себя единственными полномочными послами богемской культуры и при этом знать не знающих того, что творится в сегодняшней Богемии.
У партнера Житека были впечатляющие бицепсы и нахальная физиономия, вся в шрамах. Его звали Кошик. После событий 1968-го он уехал в Америку, в Элизабет, штат Нью-Джерси. Но вернулся – слишком уж гадким оказалось тамошнее пиво.
Именно он в 1973 году – когда с Утцем случился первый удар – забирал мусор в Старом еврейском квартале, в том числе и в доме № 5 по Широкой улице.
И здесь мы приближаемся к самому непростому этапу моего расследования. Поскольку я вбил себе в голову, что Утцева коллекция и впрямь могла оказаться в утробе мусоровоза, мне, естественно, хотелось собрать максимум фактов в пользу этого дикого предположения.
В разговоре со мной Кошик держался открыто и непринужденно. Но по здравом размышлении у меня возникли серьезные сомнения в достоверности его рассказа. Нельзя исключить, что он просто говорил то, что, как ему казалось, мне бы хотелось услышать.
Мне представляется чрезвычайно подозрительной нарисованная им картина: будто бы, вытаскивая мусорные баки из дома № 5, он иногда замечал некую смутную фигуру (не то женскую, не то мужскую), прижимавшуюся к стене подъезда. Как-то раз, сообщил он, в окне квартиры на верхнем этаже обозначились два силуэта. Они прощально махали.
Гораздо более правдоподобной кажется мне другая история, которую он рассказал. По крайней мере, слова Кошика подтвердили еще несколько человек.
Все они помнили, что десять-двенадцать – а может, и больше – лет назад воскресным днем в деревню на такси приехала пожилая чета. Мужчина был заметно ниже женщины и подволакивал ногу. Его спутница поддерживала его. Они прошли по дорожке до проволочного забора, огораживающего свалку по периметру, и вернулись обратно к такси.
Я пошел по дорожке.
Поля заросли полынью и иван-чаем. Фабричные трубы выплевывали клубы коричневого дыма. Небо было опутано электрическими проводами.
Я приблизился к забору. У сарая застыла армия бульдозеров. За ними открывался вид на свалку: черная голая земля и горы мусора, над которыми, пронзительно крича, носились чайки.
Я пошел назад к деревне, обдумывая разные версии.
Могли ли Утц с Мартой тайно вывезти коллекцию за границу? Нет. А сотрудники музея? Тоже нет. Об этом бы обязательно узнал д-р Франкфуртер. Мог ли Утц уничтожить фарфор из чувства мести? Я сомневался в этом. Он презирал музеи, но мстительным человеком он не был.
А вот кем он действительно был, так это шутником. Сознание того, что эти хрупкие изделия в стиле рококо закончат свои дни на свалке ХХ века, могло отвечать его чувству смешного.
А может, это было проявлением иконоборчества? Может быть, наряду с боготворением вещей и образов – тем, что Бодлер называл «своей единственной и примитивной страстью», – существует противоположное стремление – расколошматить все к чертовой бабушке? Не требуют ли произведения искусства своего уничтожения?
А может быть, это сделала Марта? Может быть, в ней была эта мстительная жилка? Может быть, Утцева любовь к фарфоровым человечкам соединилась в ее сознании с его любовью к оперным дивам? Если так, то, разделавшись с одними, она могла пожелать избавиться и от других.
Нет. Мне кажется, что ни одна из этих версий не «работает». Скорее уж случилось вот что: оглядываясь на свою жизнь в последние, предсмертные месяцы, Утц горько пожалел о том, что вечно ловчил и всегда выходил сухим из воды сам и спасал свою коллекцию. Он пытался сохранить микрокосм, в котором оставалось бы место изяществу европейской великосветской жизни. Но цена оказалась слишком высока. Он возненавидел унижения и компромиссы и в конце концов саму коллекцию.
Марта никогда не отказывалась от своих принципов и требований законности. Она не меняла курса. Она была его вечной Коломбиной.
Моя пересмотренная версия этой истории выглядит следующим образом: поздним вечером в памятный день их венчания она вышла из ванной в своем розовом шелковом халате и, развязав пояс, дала ему соскользнуть на пол. После чего обняла Утца как законная жена. И с тех пор они страстно любили друг друга, отвергая все, что могло бы этому помешать. А фарфоровые вещи были всего-навсего дурацкими глиняными безделушками, чем-то вроде старой потрескавшейся посуды, которую пришла пора выкинуть вон.
Поселок Костелец находится неподалеку от австрийской границы, в устье Дуная и Эльбы. Пшеничные поля заросли библейскими «плевелами», неподвластными никаким ядохимикатам. Глаз путешественника радуют васильки, маки-самосейки, крестовник, вдовушки, шпорник – украшение европейской природы. На краю деревни – заливные луга, а за ними в полукружье сосен – пруд, в котором разводят карпов.
На домах – красные черепичные крыши; стены выкрашены в рыже-коричневый и белый. Хозяйки выращивают герань в заоконных ящичках. В центре поселка – аккуратный костел с небольшим куполом.
За костелом сохранилось основание памятника с двойной буквой «К» – Kaiserlich und Königlich[64] – символом Габсбургской монархии. Теперь тут торчит ржавая загогулина в честь советского налета в космос.
Только что прошла гроза. Отгрохотал гром, и над заливными лугами встала радуга. Солнце осветило заросли золотых шаров, фиолетовых флоксов и клумбы с белыми маргаритками.
Я распахнул калитку. Белоснежный гусак вытянул шею и, угрожающе шипя, захлопал на меня крыльями. На пороге показалась старая крестьянка в домашнем платье в цветочек и белом платке, надвинутом почти до бровей. Она нахмурилась. Я пробормотал несколько слов, и ее лицо озарила изумленная улыбка.
– Ja! – сказала она, воздев глаза к радуге. – Ich bin die Baronin von Utz[65].
Георгий Костаки. История советского коллекционера
{3}
Георгий Костаки – владелец крупнейшей частной коллекции искусства в Советском Союзе. Причем коллекция его не обычная – она способна увлечь всякого, кто разбирается в искусстве нашего века. В течение двадцати шести лет он в одиночку занимался археологическими раскопками – иначе ему было не достичь своих целей, – пытаясь вытащить на свет левое искусство, течение, ворвавшееся в Россию незадолго до революции. Российская революция стала выдающимся событием интеллектуальной жизни двадцатого столетия, и художники, скульпторы, архитекторы оказались ее достойны. Во время Первой мировой центр современного искусства переместился из Парижа в Москву и Ленинград, где и оставался на протяжении нескольких беспокойных лет.
«Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего», – декламировал наиболее видный представитель нового искусства поэт Владимир Маяковский. Молодые женщины трепетали от удовольствия при звуке голоса человека, называвшего себя «облаком в штанах». Показательно то, что оживить, побудить к действию угасающие таланты Западной Европы сумел лишь русский эмигрант Сергей Дягилев. Правда, и он, покинув страну, лишился источника вдохновения. Русская земля – могущественная родина; немногим из ее художников удалось пережить травму расставания.
Те, кто обладал сильной волей, остались. Уникальность российской ситуации порождала в них едва ли не мессианскую веру в то, что искусство в силах преобразовать мир. А поскольку самые ярые сторонники модернизма распахнули объятия большевикам, им удалось свою веру реализовать. Да, они дрались между собою (на кулаках) и раскалывались на сектантские группы, каждая из которых выступала с собственным манифестом, напоминавшим анафему средневековой церкви. Названия, которые они себе давали, – конструктивисты, продуктивисты, объективисты, супрематисты – способны были запутать любого; в этих определениях часто отражались личные распри, а не настоящие идеологические расхождения. Однако в целом произведения левого искусства отличаются новизной и смелостью, которые возвышаются над умствованиями, истерией и бесплодностью, в немалой степени присущими европейскому искусству двадцатых годов.
Когда настанет время и будет написана полная история этого российского течения – а за то, что ее можно написать, в определенной мере следует благодарить Костаки, – оно, вероятно, окажется наиболее значительным из всех. Что бы мы там ни думали, грядущие поколения будут считать двадцатый век веком абстрактной живописи. Пионерами ее являются двое русских, Казимир Малевич и Василий Кандинский, и для того, чтобы как следует разобраться в этом течении, его следует рассматривать прежде всего в изначальном славянском контексте.
Несколько лет, пока не угасла эйфория, авангард процветал, хотя его анархистская философия явно противоречила основным учениям советского марксизма. Он был предметом осуждения властей, его официально душили, картины же исчезали под кроватями или в запасниках музеев. В то время, когда начинал Костаки, левое искусство успели окончательно забыть. За пределами Советского Союза оно вызвало несколько пренебрежительных замечаний, внутри – не пробуждало ни малейшего интереса. В 1947 году критик-искусствовед мог громить Сезанна с его лживым «безразличием к предмету» и сетовать на то, что его фруктам и цветам «недостает аромата и структуры». Нефигуративная живопись была в те дни парией.
Костаки считали «сумасшедшим греком, который покупает ужасные картины». Пятнадцать лет его никто не замечал, и теперь, когда за последнее десятилетие его квартира сделалась местом паломничества, это явно приносит ему удовлетворение. В молодости Костаки покупал гобелены, серебро и голландские пейзажи. «Калф… Берхем… прочее в таком роде[66]. Потом мне мало-помалу стало казаться, что все они одного цвета. У меня на стене висело двадцать картин, а казалось, будто всего одна». Он не может вспомнить, было ли в его детстве какое-то конкретное событие, определившее его интерес к произведениям искусства, хотя допускает, что на него могли повлиять обряды православной церкви. «Но настоящая причина не в этом. Всю жизнь мне хотелось написать книгу… или построить самолет… или изобрести какое-нибудь индустриальное чудо. Мне надо было чего-то добиться. И я сказал себе: “Если продолжать собирать старые полотна, так ничего и не добьешься. Даже если в один прекрасный день тебе попадется Рембрандт, люди скажут, ему повезло, вот и все”». Потом, в трудные послевоенные времена, кто-то предложил ему три забытые авангардные картины, написанные в ярких цветах. «Для меня это был знак. Мне плевать было, что это такое… да в то время никто ничего не знал».
Эти три картины стали для Костаки знаком того, что существует мир, о котором он и не подозревал. С тех пор он все свободное время, когда не был занят на службе в канадском посольстве, охотился за «потерянными» картинами, «разбросанными по углам в Москве и Ленинграде». Охота приводила к старикам, которые считали, что их время прошло. Некоторые были раздавлены произошедшим, счастливы получить признание, пусть символическое. Он спасал полотна, свернутые трубкой, покрытые пылью. Перед смертью Татлина он познакомился с этим «великим дураком», автором проекта памятника Третьему интернационалу, жившим в одиночестве, с курами и балалайкой. Подружился со Степановой, вдовой Александра Родченко, всестороннего гения. Разыскал друзей великого Малевича. Покупал работы эмигрировавших Кандинского и Шагала; Лисицкого, мастера книжной графики, и Густава Клуциса, художника-конструктивиста; Любови Поповой, «сильнейшего живописца своего поколения» («В борьбе за искусство она была мужчиной, в постели – женщиной»); Ивана Клюна, чьи космические абстракции предвосхищают Ротко. Он упорно гонялся за малоизвестными художниками, подписывавшими ранние манифесты, и находил в них качества, не замеченные их современниками. И по мере того, как его коллекция пополнялась, восстанавливал по кусочкам их историю, узнавал про их взгляды, союзы, фантастические проекты, склоки и романы – ведь революционная свобода была синонимом свободной любви.
Костаки никогда не был богат, но платил столько, сколько мог себе позволить, порой предлагая сумму, в два – три раза превышающую ту, что устанавливал продавец. (Об этом я узнал из независимых источников.) Каждое следующее приобретение всегда было сопряжено с немалыми трудностями. Как-то ему удалось накопить денег на машину, его жена была в восторге от перспективы выездов на природу. Спустя несколько дней появился Шагал, и машина вернулась в гараж на ремонт по каким-то загадочным причинам. «Что тебе больше нравится, Шагал или машина?» – спросил он ее, на что она ответила: «Шагал мне нравится, но…» Шагал остался висеть на стене, а машина – стоять в гараже.
Все годы революции и Гражданской войны семейство Костаки провело в России. Его отец был родом с Закинтоса, острова в Ионическом море, имел табачные предприятия на юге России. Мать Костаки, которой теперь сильно за девяносто, живет на даче под Москвой; недавно она, ко всеобщему удивлению, обнаружила, что свободно говорит по-английски, хотя не говорила на этом языке уже пятьдесят лет. Ее сын – человек непростой, весьма располагающий к себе, ему шестьдесят один год, у него сросшиеся черные брови, лукавый взгляд, застенчивая, но обезоруживающая улыбка, о которой фотографии дают неверное представление. «На фотографиях у меня вид, как у жулика». Он предприимчив и в то же время наивен, почти не от мира сего. В хорошем настроении он прямо-таки не в состоянии удержать своей жизнерадостности; когда возбужден, играет на гитаре и поет русские народные песни – голосом печальным, меланхоличным.
Они с женой, русской, обладающей неукротимо веселым нравом, живут в квартире на верхнем этаже дома-новостройки – бетон, белая плитка – на проспекте Вернадского, в отдаленном от центра районе.
Ландшафт, который можно созерцать из окон: безымянные высокие здания, стоящие на большом расстоянии друг от друга, открытые ветру, что задувает из леса. В феврале снег там лежал сугробами. В белом пространстве между зданиями лишь изредка попадались то одинокое дерево, то черные фигуры в меховых шапках, бредущие по узким грязным тропинкам.
У себя дома Костаки превращается в крупную звезду на московском небосклоне. Стены он увешал картинами, к дверям прикрепил необрамленные полотна. Яркие цвета и примитивные формы картин пляшут по стенам; в квартире словно витает радостный дух самих художников. Визиты к знаменитым коллекционерам искусства слишком часто сопровождаются необходимостью терпеть скучный эксгибиционизм владельца; Костаки, напротив, заражает своим энтузиазмом каждый уголок. Некоторые искусствоведы обходились с ним не особенно порядочно: с расчетливой скупостью ученого получали от него необходимые сведения и забывали сослаться на источник.
В комнатах – то музейный порядок, то милый хаос семейной жизни. Тут есть самовары и раскрашенные русские крестьянские сундуки, коллекция икон, фетиши с Конго, китайские чайники и эскимосские резные амулеты из Заполярья. Иногда на побывку из армии приезжает сын Костаки. То и дело приходят дочери со своими мужьями и друзьями в ожидании, что их накормят. Еще тут живут две большие ласковые собаки, борзая и керри-блю-терьер. Дом Костаки – своего рода неофициальный российский Музей современного искусства – притягивает специалистов и любопытных из разных стран. Первая запись в книге посетителей – строчка с автографом Стравинского, дальше идет череда знакомых имен. Почтительные комментарии директоров музеев с Запада и Востока подчеркивают уникальную природу этой коллекции. Знаменитый советский актер пишет: «Один из лучших, самых живых музеев в мире. Написано в трезвом виде».
Существование коллекции Костаки свидетельствует о том, что у советской жизни есть незнакомая нам сторона. В западном воображении марксистское государство – признанный враг частной собственности; кое-кто, возможно, увидит в существовании ценной частной коллекции искусства всего лишь доказательство непоследовательности марксизма. Это не так. Советский уголовный кодекс вовсе не запрещает человеку иметь картины – как не запрещает иметь пару ботинок. Объяснение, будто Костаки пользуется своим греческим гражданством ради особых прав и свобод, тут выдвинуть невозможно. Он им не пользуется.
Сегодня в Советском Союзе имеется множество частных коллекций, причем цены растут. Запись в книге посетителей Костаки, гласящая: «Пример всем нам – русским коллекционерам авангардного искусства», говорит о том, что у него есть соперники. Однако остаются два щекотливых факта: то, что к 1932 году абстрактное искусство в СССР было запрещено, и то, что оно так и не появилось снова на стенах музеев. Тем не менее Министерство культуры подает признаки более снисходительного отношения. Ходят слухи о создании советского Музея современного искусства. Костаки, который питает к своей приемной родине нежность и не дает на нее клеветать, считает, что это оправдало бы труд всей его жизни. Отдать все свои картины сразу он не может себе позволить, но надеется в один прекрасный день увидеть их в этом музее.
Причины упомянутого запрета далеко не ясны. Западные специалисты по этому вопросу давно утешаются сказкой о том, что партийные бюрократы не смогли понять левое искусство, а потому возненавидели его и заклеймили как подрывное. Его исчезновением пользуются в качестве предлога, чтобы делать ханжеские утверждения о необходимости художественной свободы и продолжать выставлять смехотворное «официальное» советское искусство. Все это мало что объясняет. Я не отрицаю того, что с представителями левого искусства в конце тридцатых обошлись крайне несправедливо. Но заявления о том, будто их искусство было запрещено вследствие невежества, – избитые разъяснения, принижающие его значимость.
Большевистская революция, по мнению тех, кто ее делал, дала человеку свободу. Пролетариат победил – установил, в теории, свою диктатуру и получил право решать, какое искусство является пролетарским, а какое нет. Маркс надеялся, что, как только у рабочего появится свободное время, он станет заниматься «и живописью как одним из видов своей деятельности». Однако, несмотря на всю свою гениальность, склонности к изобразительному искусству он не имел и советов касательно того, что именно следует писать рабочему, не давал. К тому же его теория не принимала в расчет восприимчивости русских к визуальным образам, как и статуса русского художника – пророка и учителя. Такую фигуру не может позволить себе игнорировать ни одно правительство; это – факт, недооцениваемый на Западе, где покровительство богатых лишает революционное искусство его взрывной силы. Один из секретарей Ленина пишет о том, как людей проводили перед полотном Репина «Бурлаки на Волге» в Третьяковской галерее и они, проникшись этим изображением несправедливости, вставали на сторону революции. Все настоящие большевики, конечно, считали, что искусство принадлежит народу. Однако к октябрю 1917-го сложились два противоречащих друг другу мнения о том, какие формы должно принимать новое искусство.
В одном лагере были футуристы. (Термин «футуристы» я использую здесь в самом широком смысле.) Старый порядок шатался, а они тем временем вели психологическую войну против мелкобуржуазных морали и вкуса. Себя они считали разрушителями, которым предстояло оторвать будущее от прошлого. Во французском кубизме художники из этого лагеря видели начало крушения образов, столь любимых буржуазией. Философ Бердяев говорил, что Пикассо – последний из людей каменного века. Поэты-футуристы испытывали «непреодолимую ненависть к языку, существовавшему до них». Лишив поэзию смысла, они отдавали первенство чистому звуку. «Корни лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки»[67]. Они печатали свои манифесты – «Идите к черту!», «Громокипящий кубок», «Пощечина общественному вкусу» – на самой дешевой бумаге «цвета вши, упавшей в обморок». Маяковский и Давид Бурлюк, добровольцы ударных частей футуризма, разгуливали по Петербургу в не поддающихся разумному объяснению маскарадных костюмах; толпы гадали, кто это: клоуны, дикари, факиры или американцы. Как-то на выступлении Маяковский посоветовал слушателям «тащить домой свои жирные туши».
И все же футуристы, как правило, происходили из хороших семей, их поза представляла собой, по сути, мелкобуржуазный бунт. Большевики были жестче, серьезнее и обладали другими взглядами на искусство. Композитор-народник Мусоргский однажды сказал, что художникам следует «не знакомиться с народом, но ждать, пока тот примет их в свое братство». Любой серьезный художник должен слиться с массами и избегать всего, что может оскорбить вкус простого человека. Этот вкус – непременно традиционный. Прагматичный Ленин тоже считал, что народу необходимо такое искусство, которое воспевало бы революцию в простых, традиционных образах.
Ленин был сыном директора провинциальной гимназии, и историки нередко отмечали твердую педагогическую манеру, в которой он общался со своими соратниками. Эдмунд Уилсон[68] даже называл его «великим директором». Его понятие партийности – священного духа партии – определенно напоминает идею преданности общему делу, которую требуется проявлять коллегам по школе. Вкусы его были старомодные, спартанские. Он знал, что Марксова моральная и историческая интерпретация прошлого верна. Знал, что верна его собственная интерпретация Маркса. И еще он знал, что, если дожидаться падения капитализма, то ждать придется вечно.
В марксизме по данному важнейшему вопросу существуют два различных мнения. Сторонники одного призывают рабочих восстать и разгромить своих угнетателей. Согласно другому, капитализм со временем исчезнет сам, подчиняясь законам истории. Наследие Маркса, став общим достоянием, вылилось в стычку между большевиками и меньшевиками. Будучи лидером большевиков, Ленин назначил себя активным агентом истории, которому предстояло ускорить ее неотвратимый ход с помощью силы. Меньшевики же силы боялись, предпочитая социализму постепенные изменения, которых можно добиться, дав рабочим образование.
Похожий раскол произошел в среде самих большевиков. Вызов ленинской власти бросил честолюбивый марксист по имени Александр Малиновский, сменивший фамилию на Богданов, что можно считать намеком на «сына Божьего» (под Богом в данном случае имеется в виду Народ). Он основал весьма туманную организацию под названием «Пролеткульт», которая, по его словам, была «лабораторией пролетарской культуры», а также, оказавшись в изгнании на Капри, – колонию, которую возненавидел посещавший ее Ленин. Ленинскому призыву к единству Богданов противопоставил собственный лозунг: «Три пути к социализму: политический, экономический и культурный». В частности, он настаивал на том, чтобы правительство не вмешивалось в вопросы культуры. Футуристы предпочитали независимость богдановского Пролеткульта ленинской централизации. Они с самого начала оказались не в том лагере.
Годы комитетских собраний на чужбине (заседания одного из конгрессов Второго интернационала проходили в Лондоне, на Тоттенхэм-Корт-роуд) убедили Ленина в том, что либеральная интеллигенция малодушна и нерешительна. Он был одержим единством – единством любой ценой – и не видел «особенных оснований для различных направлений в искусстве». Он недоверчиво относился ко всему, что напоминало ему философию идеализма, и упрекал соратников в «заигрывании с религией». Максим Горький мог воскликнуть: «[В]сесильный, бессмертный народ. <…> Ты еси мой бог»[69], Ленин же – никогда. Если он и был мечтателем, то, согласно вердикту Г. Дж. Уэллса, «мечтателем, одержимым техникой». Его высказывание «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» выражает его веру в машину как спасителя и агента социализма.
Маркс предупреждал об иллюзиях абстрактной мысли, а Ленин, вероятно, думал то же об абстрактном искусстве. Поначалу он считал его безвредным, но потом на место терпимости пришло раздражение. Ему не нравились уличные памятники, при виде которых у зрителей, силившихся понять их смысл, захватывало дух. Когда же группа художников «отменила» деревья – пережитки капитализма в Александровском саду под стенами Кремля, раскрасив их в яркие несмывающиеся цвета, – Ленин с Крупской очень рассердились. В сухом документе, датированном октябрем 1920 года, Ленин писал: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов <…> существующей культуры…» Достижения прошлого марксизм не отвергает.
Новые российские хозяева определенно выступали за сохранение сокровищ прошлого. Сразу после штурма Зимнего начали составлять опись его содержимого, мародеров расстреливали. Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения при Ленине, однажды довел своих слушателей до слез, вспоминая чудеса старины в Музее Неаполя. В ноябре 1917-го он дошел до слез сам, услыхав новости о разрушении Кремля и Василия Блаженного, и подал в отставку. «Не могу я выдержать этого. Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции». Позже, два дня спустя, он вернулся на свою должность в Совнарком, узнав о том, что слухи оказались ложными.
Что до левых, они, наоборот, были охвачены иконоборческим жаром. Им плевать было на то, что творится в Кремле. Маринетти как-то назвал его «абсурдной штукой»; сгори он, они бы и бровью не повели. Малевич надеялся, что все города и деревни каждые пятьдесят лет будут уничтожаться, и говорил, что ему больше жаль сломанный шуруп, чем разрушенного Василия Блаженного. Авангардисты не рассчитывали на восстание большевиков, но стали единственной группой российских художников, его приветствовавшей. Называя себя левыми, они требовали для себя полной монополии в искусстве.
Их поведение отличалось привычной бесшабашностью и одновременно – сверхчеловеческой энергией. Лозунг Маяковского «Улицы – наши кисти, площади – наши палитры» заставил художников пойти в народ. Они украшали поезда Агитпропа, разъезжавшие по стране, устраивали массовые представления, обклеивали старые дворцы громадными плакатами, затягивали памятники царских времен полощущимся кумачом, исполняли симфонии на фабричных гудках, развивали новое книгопечатание, чтобы распространять новые идеи, утверждали, что ломают преграды между искусством и техникой, между музыкой и живописью – последнего легко добиться в стране, где цветам соответствуют звуки: новогодние колокольчики звенят красным, а один поэт назвал шум революции 1905 года лиловым[70].
В идейном отношении художники друг другу противоречили. На одном конце спектра был Кандинский, уже не первый год писавший пейзажи своего внутреннего «я». Он верил в живопись как в исцеляющий ритуал, способный унять душевную боль и отлучить человека от материализма. «Живопись, – писал он, – освободит меня от моих страхов». Однако люди вроде Татлина с Родченко настаивали на том, что материализм – единственное понятие, которое стоит брать в расчет. Тем не менее все художники сходились в своей ненависти к образу. Искусство нового человека должно упразднить всякие изображения человека. Малевич, красноречивый – пусть и сумасбродный – пропагандист, метал молнии в Венеру Милосскую («не женщина, а пародия») и в «омут дряни академического искусства» с его женскими задами, порочными купидонами и застывшим наследием Греции. Он рассуждает тоном Исайи[71], говорящего об идолах, – сравнение, которое представляется мне уместным, ведь под очевидным поклонением русских человеческим образам скрывается импульс разнести их на куски. Излишества царизма последних лет народ воспринимал как открытый призыв к разрушению – это верно, однако иконоборчество в России имеет историю более долгую.
Россия – «Третий Рим», хранитель ортодоксальности, не признаваемой вероотступническим Западом, – унаследовала свое особое отношение к образу от Византии. Статуя императора или икона святого представляла собой доказательство правомерности той или иной политической или религиозной идеи. Высказывание «Кто восхищается статуей императора, тот восхищается императором» применимо к Николаю II с тем же успехом, что и к Юстиниану[72]. В авторитарных обществах образы любят – они укрепляют цепочку правления на всех уровнях иерархии. Однако абстрактное искусство с его чистыми формами и цветом, если оно выполняет серьезную, а не просто декоративную роль, сводит на нет поползновения секулярной власти, поскольку выходит за пределы этого мира в попытках постичь скрытую сущность закона, управляющего вселенной.
Народы, склонные к анархии, подобно кочевникам в пустыне, образы ненавидят и уничтожают; похожая черта – стремление к уничтожению образов – прослеживается и в российской истории. Страна кажется безграничной, что побуждает человека к поискам внутренней свободы. Революционную Россию наводняли эгалитарные течения; там были всевозможные мистики, бродяги – вечные странники, аскеты, адвентисты, люди, ищущие четвертое измерение, знаменитые молокане, оказавшие влияние на Толстого.
Мистические стремления не обошли стороной и Малевича. В его руках полотно, лишенное предмета, сделалось иконой анархии и внутренней свободы; потому-то оно и представляло опасность для марксистского материализма. Говоря о своей картине «Черный квадрат», он вспоминал, что чувствовал «черные ночи внутри» и «робость, граничащую со страхом», однако, решив порвать с реальностью и отринуть образ, – «блаженное ощущение того, что меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя. Так чувство стало сущностью моей жизни». Настоящий марксист так не изъясняется – скорее Майстер Экхарт или, если на то пошло, Магомет. «Черный квадрат» Малевича, этот «абсолютный символ современности», для живописца является эквивалентом затянутой черным Каабы, святилища в Мекке, в бесплодной долине, где все люди равны перед Богом. И если это сравнение кажется притянутым за волосы, процитирую суждение Андрея Бурова, архитектора, покинувшего ряды конструктивизма: «В этом присутствовало сильное мусульманское влияние и правоверное магометанство; в качестве украшений разрешены были только часы и буквы».
Левые художники с воинственным энтузиазмом принялись сметать классовые перегородки и насаждать эгалитарное искусство в народе. Затем они обратились к правительству с просьбой упразднить Общество художников-станковистов и отменить все традиционные формы живописи. Революция свершилась – уже сам этот факт требовал полного разрыва с академической традицией, чуждой, западной. Разносились призывы к тому, чтобы выбросить за борт пережитки прошлого, иначе новый человек будет «придавлен его весом, как перегруженный верблюд». По мнению Богданова, искусство прошлого было не сокровищницей, но арсеналом, позволявшим вооружиться против ушедшей эпохи. «Мы вдребезги разобьем старый мир», – объявил Маяковский, а затем предложил списать все, от Адама до Маяковского, на свалку истории.
Белогвардейца найдете – и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенке музеев тенькать[73].Многие представители власти считали, что левые стоят «левее здравого смысла».
Что вызвало эту истерию? Возникает подозрение, что художники с избытком компенсировали свое неучастие в борьбе плечом к плечу с большевиками. Но важнее другое: их, очевидно, вдохновляла мистическая сила машины. Как писал американский коммунист Джон Рид, «Набожным русским больше не требовались священники для того, чтобы их молитвами попасть на небеса. Они строили царство светлее, чем любые небесные милости, здесь, на земле…» Это царство было царством машины. Я слышал, что отсталость российской промышленности перед Первой мировой часто преувеличивается. Век машин наступил в России с опозданием, но когда время пришло, он ворвался туда с поразительной быстротой. Ему сопутствовали феноменальные темпы роста. Промышленные предприятия, пусть немногочисленные, были крупнейшими в мире; техасские нефтяники приезжали в Баку, чтобы своими глазами взглянуть на новейшие способы добычи нефти. С приходом революции средства производства перешли к самим рабочим, и в их руках машинам, созданным человеком, предстояло целиком преобразовать человечество. Во всяком случае, на это надеялись. «Мы хозяева машины и поэтому не боимся ее», – говорил Маяковский. Машина должна была породить новый социализм. Специалисты считали, что на это уйдет полгода.
Ленин начал умерять свой механический материализм, подчиняясь практическим соображениям. Левым подобная сдержанность была неведома. Большинство из них ненавидели природу или притворялись, что ненавидят. Перед человеком стояла прометеева задача кромсать землю и делать с ней все, что ему вздумается. Расположение гор и прочих неудобных географических объектов было «отнюдь не окончательным». Малевич, чей мистицизм возбуждали механизмы, призывал человека «захватить мир природы и построить новый мир, который будет принадлежать ему». Другие представители искусства называли себя «святыми храма машины». В «биомеханическом» театре Всеволода Мейерхольда актеры подавляли всякие живые эмоции и вели себя так, словно были частью механизма сцены. Собаки Павлова машинально выделяли слюну в ответ на раздражители. Понятие дома как «машины для житья», вероятно, берет начало не от Корбюзье – оно зародилось в России. Там сходили с ума по воображаемой Америке, там раздавались призывы к тому, чтобы «чикагонизировать душу» и «работать, как хронометр», с целью «обездушить» искусство и свести живопись к научному применению цвета.
После того как живопись будет «обездушена», художники собирались избавиться от нее совсем. По сути, о вымирании ее как формы искусства заявил монохромный холст. Малевич выставил серию полотен «Белое на белом», ставших крайним выражением того счастья, которое давало ему отсутствие предмета. Татлин написал простую розовую доску. На выставке «5х5=25», устроенной в 1921 году в Москве, Александр Родченко показал свои «Гладкие доски» – три монохромных полотна в основных цветах. Его блокноты, подводящие к «самоубийству живописи», и сейчас хранятся у его дочери в Москве; они свидетельствуют о том, что он был гением концептуализма, по уровню равным Марселю Дюшану. За два года он испробовал и отверг едва ли не каждый из тех экспериментальных подходов, которые пробовали нью-йоркские абстрактные художники в пятидесятых и шестидесятых, перед тем как оказаться в нынешнем тупике.
Однако в 1920-м тупик русских авангардистов не страшил. Полезному искусству и архитектуре, основанной на железе, стекле и бетоне, предстояло, по мнению некоторых, заменить старую традицию, где использовалось дерево – «само по себе буржуазный контр революционный материал». Вещь, созданная человеком, сделалась в узких кругах предметом культа, фабрика – храмом труда. Татлин проектировал печи и кастрюли; правда, один циничный наблюдатель заметил: если все художники пойдут на заводы, им останется лишь рисовать ярлыки. Тем не менее, когда сегодня мы говорим о дегуманизирующем влиянии машины, странно слышать, как Малевич преклонялся перед «металлической культурой большого города, культурой нового гуманизированного образца».
При этом царство машин не ограничивалось землей. Людей вдохновляло и воздухоплавание. В 1892 году Константин Циолковский, преподававший физику и математику в Калужском уездном училище, сказал: «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». Этот гений, отец русской космонавтики, изобрел первую аэродинамическую трубу и изложил теорию реактивного двигателя. Менее талантливый провидец, у которого хватило духу взять псевдоним Крайский[74], воспевал звездную инженерию. «Звезды в ряды построим… Воздвигнем на каналах Марса дворец Свободы Мировой».
Татлинский проект памятника Третьему интернационалу – сделанный из железа и стекла, он должен был вздыматься над Невой – выражал стремление к бесконечному. Его спиралевидная форма (явно имеющая исламское происхождение) сочетает в себе идею циклического обновления и ничем не сдерживаемого движения вверх. Позже «великий дурак» уединился в башне Новодевичьего монастыря, чтобы спроектировать летательный аппарат под названием «Летатлин», впрочем, так и не взлетевший. Один критик назвал «Белое на белом» Малевича «ракетой, запущенной человеческим духом в небытие». Затем художник перешел от писания на мольберте к поискам идеальной архитектурной формы и создал серию гипсовых моделей-«архитектонов». Поскольку он называл их «Планетами», можно предположить, что он намеревался вывести свои здания на орбиту.
Плохие бытовые условия способствуют развитию жизни фантастической. Архитектор Бертольд Любеткин[75], учившийся во В ХУТЕМАСе, вспоминал в беседе со мной зиму 1918-го. Он жил в задней комнате московской гостиницы «Метрополь» вместе с шестнадцатью другими учащимися. Они ели гиацинты из оконных цветочных ящиков; спали, завернувшись в газеты, между балок-перекрытий, поскольку половые доски сожгли; у них не было ни одеял, ни источника тепла, кроме утюга, который они грели на печурке в комнате портье. Его однокашник по фамилии Колесников не мог найти жилье, поэтому просверлил дыру в уличной скульптуре «Красный клин»[76] и устроился там на зиму. Тот же Колесников представил в училище проект (напоминающий концептуальное искусство образца 1794 года или рассказ Борхеса) по превращению Земли в свой собственный глобус, для чего следовало протянуть от полюса к полюсу стальную дугу, на которой художник мог бы проводить дни и ночи.
Эта разновидность пролетарской мысли еще могла бы в той или иной мере дойти до промышленного рабочего – правда, с отрицательными результатами. Однако для крестьянина тут места не оставалось – для обделенного крестьянина, прикованного к земле, к смене времен года: лед, грязь, подсолнухи, пыль. О крестьянине левые художники предпочитали не думать, надеясь, что его положение временное. Верно, среди российской интеллигенции были такие, кто сожалел о старой России и поклонялся – издалека – крестьянину как воплощению русской добродетели. Однако это осознание роли крестьянства было заражено мелкобуржуазным стремлением к примитивному искусству. В литературных салонах Петербурга появились крестьянские сорочки, в балете Дягилева – крестьянские темы и крестьянские цвета. Художник Михаил Ларионов обращался к распутным нравам простонародья, однако сам продолжал носить крахмальные воротнички. Был, впрочем, один настоящий поэт деревни, Сергей Есенин, светловолосый наивный юноша, пробуждавший нежные чувства в людях обоего пола. Однако ему не удалось преодолеть противоречия между своим происхождением и избранным богемным стилем жизни (включавшим в себя брак с Айседорой Дункан). Он губил себя пьянством, а под конец перерезал вены.
Левое искусство могло игнорировать крестьян. Ленин и партия – нет. Крестьяне составляли восемьдесят процентов населения. Без них стране грозила голодная смерть. И в 1921 году правительство, находясь в бедственном положении после Гражданской войны, предоставило крестьянам невиданную прежде свободу действий, введя новую экономическую политику. Ленин считал, что курс на солидарность с крестьянством – истинный курс российского коммунизма. Он призывал к тому, чтобы «учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю». Крестьянин, пускай и неграмотен, исключительно проницателен в визуальном отношении. Он веками «читал» библейскую историю на иконостасе своей церкви; «читал» народные сказки и вести на лубочных картинках, развешанных по избе; теперь же он хотел «читать» революционные послания и новости о том, как несладко приходится его бывшим мучителям.
Сегодня мы признаем гениальность художников и архитекторов – представителей левого искусства, их оригинальность и величие. Мы восхищаемся ранними советскими фотомонтажами Родченко и Лисицкого, в которых весь энтузиазм красной революции умещен на одном листе бумаги. Но их первоначальное послание не дошло до слушателя, которому предназначалось, – до всего народа России. Эту сложную преграду в общении им преодолеть не удалось. По их собственному признанию, они решали, чего должен хотеть народ, а не прислушивались к тому, чего он хочет на самом деле. Народ же, надо сказать, хотел владеть памятниками архитектуры, пышными украшениями и картинами в золоченых рамах, которыми обставляли свою жизнь прежние российские правители. Луначарский был прав, говоря: «Народ тоже имеет право на колоннады».
Общество художников-станковистов возродилось; члены его горячо отрицали тот факт, что живопись умерла. Архитекторы снова принялись нагружать здания декоративными элементами. Что касается диспута между «формалистами» и «реалистами», он из цивилизованного диалога выродился в поливание друг друга грязью, если не хуже. Татлин, выступая от имени конструктивистов, обычно говорил: «Материал – носитель содержания работы»; иными словами, предмет необычной, приковывающей взгляд формы, сделанный из стали и стекла, способен выразить жизненную силу машинного века. «Реалисты» отвечали, что это чушь; послание дойдет лишь до людей, которых предварительно к нему подготовили. Так стоит ли стараться? Для художника единственный способ воодушевить рабочих на сталелитейном заводе или в поле – написать их героическую борьбу реалистично; а единственный способ победить в этой игре фотоаппарат – придать фигурам вид более героический, чем на самом деле. Таковы были принципы соцреализма – стиля, который пришел на смену абстракции левых.
Как бы то ни было, «городская жизнь, преображенная ощущением скорости», левых вскоре разочаровала. В машине им начал видеться враг. Маяковский – добрый великан, носивший в верхнем кармане авторучки, чтобы показать, до чего он современен, – съездил в Америку, сказал, что она хороша для машин, но не для людей, и объявил амнистию Рембрандту, а затем пустил себе пулю в лоб. С его смертью в 1930 году стало ясно, что левому искусству конец. Его действительно задавила партия. Но кроме того, оно умерло от истощения.
Джордж Ортиc. Оливье в день его двадцатиоднолетия
{4}
Мы с вашим отцом, Оливье, знакомы с тех времен, когда мне было восемнадцать, а ему тридцать один, и он всегда ассоциируется у меня со смешными случаями. Из них самым смешным была наша поездка в Советский Союз, которая совпала по времени с вашим появлением на свет.
Вам уже наверняка рассказывали тысячу раз о вашем прадеде, боливийском hacendado[77], который однажды обнаружил в своих владениях двух американских нарушителей границ с мешками на спинах, где лежали образцы каких-то минералов. Он запер их в сарае, решив, что там, наверное, золото или серебро. Под конец они сознались, что образцы были оловом. Такова одна сторона истории вашего семейства.
Двадцать один год назад, весной, ваш отец узнал о том, что я получил официальное приглашение посетить археологические музеи в Советском Союзе, а также познакомиться с советскими археологами. С пригласившим меня человеком мы познакомились за год до этого в Софии; я тогда уверял его, что сокровищница, предположительно найденная в Трое, была либо фальшивкой, либо фальшивкой на бумаге. Еще в группу должны были входить профессор, у которого я учился археологии, и студентка-археолог из Хэмпстеда, марксистка по убеждениям.
Мы встретились в Ленинграде. Дж. О. стал доктором О. из Базельского музея. В первые дни он вел себя, как подобает доктору О. Он внимательно слушал – хотя после едва ли не взрывался – демагогию археолога с твердыми марксистскими взглядами. Музей произвел на него огромное впечатление. Он увидел там греческие экспонаты, а кроме того – экспонаты, которых прежде никогда не видел, сокровища из замерзших сибирских гробниц, находки из сибирской тайги.
В последний наш день в Ленинграде мы беседовали с заместителем директора Эрмитажа. Сам директор был в отъезде, в Армении, на раскопках Урарту. Несправедливо было бы сказать, что ваш отец едва доставал до дверной ручки, однако человек он невысокий, и помещение ему идеально подходило. Ведь мы, в конце концов, находились в приемной царя. Заместитель директора очень любезно поприветствовал нас, хотя и был заметно потрясен предыдущим визитом. Когда мы входили, от него выходил знаменитый торговец фальшивками с Мэдисон-авеню. Он заявил заместителю директора от имени своей собственной организации по расследованию подделок, что знаменитая Золотая кладовая Петра Великого была сделана одесским ювелиром в 1898 году. Ваш отец, не растерявшись, уверил хозяина, что его посетитель – прожженный мошенник. Затем он увлекся. Маска доктора О. спала. Он сказал: «Это же величайший музей в мире, так? А я – величайший в мире коллекционер греческой бронзы. Если я оставлю вам по завещанию свою коллекцию, назначите меня директором этого музея на несколько лет?»
Мы поехали дальше, в Москву, где остановились в гостинице «Метрополь». Доктор О. вновь обрел свое «я». В Историческом музее он снова увидел экспонаты, о которых и не мечтал. Мы пошли на прием – встречу с семьюдесятью советскими учеными, где нам пришлось стоять рядком и ждать, пока нам отдавят ладони. Пригласивший нас человек, видный советский археолог, и мой знакомый из Софии тоже были там и приветствовали нас. У окна мы с Дж. О. заметили пару очень жизнерадостных личностей; они глядели на нас и посмеивались. Я сказал: «Один армянин, другой грузин». Когда нам перестали давить пальцы, мы подошли к этим двум джентльменам. Насчет армянина я оказался прав. Другой, человек с огромными черными усами, оказался греком из Средней Азии. Я спросил, над чем они смеются. Они ответили, что им только что заплатили за докторскую диссертацию, и теперь они решают, достаточно ли у них денег, чтобы отправиться в город, на рынок, и купить целого барана на шашлыки.
Дж. О. сдал экзамен на ученого – специалиста по Греции. В последний вечер в Москве сам видный археолог пригласил нас на узбекский банкет. Единственным блюдом был барашек, фаршированный рисом, курагой и специями. Вся компания сильно напилась вином, шампанским и, что было хуже всего, коньяком. Я и сам был очень пьян, хотя каждый второй стакан выливал на пол. Советские академики один за другим оказывались под столом. Дж. О., студентка-археолог с марксистскими взглядами и профессор отправились в уборную, где их тошнило. Видный археолог, одетый в серый костюм со стальным отливом, был пьян; он единственный держался на ногах, не считая его сестры, которая не пила. Она попросила меня продекламировать что-нибудь из Шекспира. Я поднялся:
«Любовь питают музыкой; играйте Щедрей, сверх меры. Чтобы, в пресыщенье, Желание, устав, изнемогло. Еще раз тот напев! Тот, замиравший. Ах, он ласкал мне слух, как сладкий Запах, который, вея над грядой фиалок… Не действует по принужденью милость… Хочу я выгодно жениться в Падуе, И будет брак мой в Падуе удачен… Что ж, снова ринемся, Друзья, в пролом, иль трупами своих Всю брешь завалим! Украшают человека Смирение и тихий, скромный нрав; Когда ж нагрянет ураган войны, должны вы Разжечь в себе тотчас повадку тигра. Кровь разожгите, напрягите мышцы, Свой нрав прикройте бешенства кручиной!»[78]Наконец видный археолог нырнул под стол, словно серый тюлень, который не в состоянии больше находиться на воздухе. Пора было уходить. Западные гости пришли в себя. Я по-прежнему был очень пьян.
В Москве стояло время белых ночей. Нас, как оказалось, поджидало такси – огромная роскошная «Волга». Мы поехали обратно в гостиницу. Я лег на кровать, ту, что стояла дальше от ванной.
– Вы были превосходны, – сказал ваш отец. – Вы показали им, из какого теста сделаны англичане.
– Послушайте, меня сейчас стошнит. Скажите, пусть та женщина принесет тазик.
– Теперь я понимаю, почему Англия выиграла войну.
– Скорее, принесите мне тазик!
– Как вы считаете, не послать ли мне сына в Итон?
– Берегитесь, – крикнул я – и вырвавшийся из меня столб упал наискось поперек его кровати.
– Посмотрите, во что вы превратили мою рубашку от «Шарве»![79]
Думаю, на этом Советский Союз для вашего отца закончился. Он вытерпел еще день в Киеве, но все мысли его были о Кэтрин и о вашем рождении. Я решил, что мой долг – изложить этот рассказ на бумаге и подарить его вам на ваше двадцатиоднолетие.
Волга
{5}
На прогулочном теплоходе «Максим Горький» я провел десять дней в качестве гостя «Интуриста». Мы неспешно плыли вниз по Волге, потом через Волго-Донской канал и дальше, вниз по Дону, до самого Ростова. Дни стояли ясные, ночи холодные. Все остальные пассажиры были немцы. Среди них попадались бывшие офицеры бронетанковых частей, чья молодость прошла в сибирских лагерях, теперь же они решили снова посетить места проигранных сражений. Некоторые служили в авиации, им посчастливилось не разбиться. Были там и военные вдовы – женщины с влажными глазами, которые сорок один год назад все махали и махали вслед поездам, уходящим на фронт в Россию; теперь на вопрос, зачем приехали на Волгу, они склоняли голову и отвечали: «Mein Mann ist tot in Stalingrad»[80].
Еще на борту был прусский юнкер, фон Ф. – бывший авиатор, гордый, со срезанным, как у Бисмарка, черепом и оставшейся от руки культей, на которой он удерживал в равновесии свою «лейку». В мирное время ему выпало стать инженером по водоснабжению; он поднимался на заре и, надев темно-зеленый суконный плащ, мерял шагами палубу, мрачно взирая на шлюзы, через которые мы проходили. Взгляды его на технические достижения Советского Союза можно было изложить одной фразой: «Восток минус Запад равняется нулю»[81]. Он сражался на стороне фашистов в Испании. И все-таки во время наших редких прогулок не было занятия приятнее, чем шагать по степи рядом с этим жилистым, оптимистичным человеком, слушая, как он делится своими энциклопедическими знаниями о России или о миграции варварских орд. Время от времени он указывал на какой-нибудь бугорок на горизонте и восклицал: «Курган!» – а однажды, когда мы подошли к небольшому углублению посреди равнины, остановился и с заговорщическим видом произнес: «Полагаю, это укрепление времен Второй мировой войны».
Каждое утро, ровно в восемь, из громкоговорителя раздавался повелительный голос: «Meine Damen und Herren…»[82] – и объявлял распорядок дневных мероприятий.
Начинались они с занятий гимнастикой на верхней прогулочной палубе, которые, насколько мне известно, никто не посещал. Затем обычно шла лекция о бурной революционной истории Поволжья. Или визит в один из прибрежных городов. Или на какую-нибудь из гидроэлектростанций, что превратили эту мать российских рек в цепочку застоявшихся внутренних морей цвета патоки.
Мы взошли на борт «Максима Горького» в Казани, после наступления темноты. Корабельный оркестр играл попурри из всем известных меланхоличных русских мелодий. Женщина в крестьянском костюме вынесла нам традиционные хлеб с солью; капитан, чьи голубые глаза смотрели из глубины лица, состоявшего из горизонтальных линий, обошел всех, пожимая руки. Речной порт лежал на плесе реки Казанки, недалеко от Адмиралтейства, где некогда пристала к берегу на своей царской галере Екатерина Великая, едва перед тем не утонув. За молом виднелись огоньки буксиров, тянущих баржи вверх по Волге. После ужина у причала перед нами пришвартовался лопастной пароходик с наклонной трубой. Каюты его были недавно отлакированы, в салоне висели подвязанные кружевные занавески.
Я спросил капитана, сколько лет этому суденышку.
– Восемьдесят, – сказал он. – А может, и все сто.
Это был обычный пассажирский корабль, идущий из Москвы в Астрахань, в дельту Волги; такое путешествие занимает десять дней. Остановка в Казани длилась полчаса. Затем мальчишка стащил чальный канат с тумбы, лопасти вспенили воду, и пароход тихонько отошел в темноту – уцелевшее наследие старого строя, при виде которого вспоминаются дамы в жестких черных юбках, каких порой можно увидеть пробирающимися через фойе Московской консерватории.
Чехов совершил поездку по Волге в 1901 году – это было его свадебное путешествие. Жена его, Ольга Книппер, была актрисой, для которой он написал «Вишневый сад». Правда, в то время он уже страдал от чахотки, и врачи предписали ему «лечение кумысом». Кумыс – сквашенное кобылье молоко, обычный напиток всех степных кочевников, лекарство от всевозможных болезней. Упоминания о «бедных, питавшихся только млеком» встречаются в литературе со времен «Илиады»; приятно было представлять себе, как Чехов на своем пароходике набрасывает черновик нового рассказа и прихлебывает напиток, который был известен Гомеру.
Казань – столица Татарской автономной республики – находится милях в пятистах к востоку от Москвы, в месте, где Волга, попетляв между городами Северной Московии, сворачивает под прямым углом в сторону Каспия. Существует две Казани. Одна – русский город с кремлем и соборами, основанный Иваном Грозным в 1533 году после победы, в результате которой Россия наконец освободилась от татаромонгольского ига. Другая Казань, там и сям усеянная минаретами, – город мусульманский, куда изгнали татар и где они остались жить. Татары составляют почти половину здешнего населения, их родной язык – татарский, они – потомки Золотой Орды Батыя.
В контексте российской истории слова «татары» и «монголы» – синонимы. Татарские всадники, появившиеся на окраине Европы в тринадцатом веке, считались воинами Гога и Магога, присланными Антихристом в качестве провозвестников конца света. Таким образом, боялись их не меньше, чем водородной бомбы. Россия приняла на себя их натиск. По сути, пока существовала империя татар, русские князья были нижними вассалами Великого Хана, правившего в Пекине; возможно, этим обстоятельством, к которому следует добавить сохранившиеся в народной памяти свистящие стрелы, горы черепов, всевозможные унижения, объясняется тот панический страх, что всегда испытывали русские к раскосым обитателям Центральной Азии.
По Волге проходит кочевническая граница современной Европы, подобно тому как варварская граница Римской империи проходила по Рейну с Дунаем. Стоило Ивану Грозному перейти Волгу, как он заставил Россию двинуться на Восток, и это расширение территории все продолжалось, пока колонисты царских времен не встретились с американцами на реке Русской в Северной Калифорнии.
Я сошел на берег до завтрака. Мимо проскакивали суда на подводных крыльях, а на клумбе у здания речного вокзала сидела одинокая дворняжка, жуя вербену. Сквозь путаницу телеграфных проводов я ухватил взглядом Петропавловский собор, который в этот туманный утренний час напоминал пагоду в воображаемом Китае. Здание вокзала было безлюдно, однако на площади позади него дворники подметали нападавшую за ночь листву; в нос лезла вонь дешевого бензина; женщина в платке с анилиновыми розами открывала ставни своего ларька с квасом, перед которым выстроилась очередь.
Квас – пиво, которое делают из ржаного хлеба, но на завтрак его не хотелось. Хотелось кумысу – мне говорили, что его можно достать. «Кумыс – нет!» – сказала женщина. «А есть тут какое-нибудь место, где его продают?» – не отставал я. «Кумыс – нет!» – повторила она. «Кумыс – нет!» – проревел татарин в черной шапке и черном ватнике. Он стоял за мной.
В это время года кобылицы, очевидно, молока не давали, и мне, очевидно, полагалось об этом знать. Так что я вернулся на набережную, где пришвартовался другой пароход, идущий на север. Вверх по трапу тащились семейства со своими пожитками. Вокруг расхаживали солдаты в сапогах; казалось, будто между ног у них застряли седла. Потом на берег ступил стройный юноша, в руках у него был одинокий стебель пампасной травы.
В одиннадцать мы отправились в город. Наш автобус остановился напротив университета перед чьей-то затеей в легкомысленном духе: лепнина, фасад загроможден обнаженными фигурами, окна расписаны павлинами и пионами. Это, как признался гид, некогда был особняк миллионера. Теперь тут магазин технической книги.
Что же до мрачного неоклассического здания университета, оно как раз ничем не отличалось от второразрядного американского колледжа на Среднем Западе, если не обращать внимания на изредка попадающиеся серп и молот. Студенты расхаживали повсюду с портфелями или загорали в мемориальном саду. Правда, фойе обрамляли портреты ученых с грустными лицами, да еще нам велели надеть на обувь серые фетровые бахилы, чтобы не повредить паркетный пол.
Наверху нас провели в аудиторию, где изучал право Ленин, пока его не выгнали за участие в студенческой демонстрации: помещение с голыми скамьями, доской, печкой, облицованной белой плиткой, и керосиновыми лампами с зелеными абажурами.
Будучи студентом в Казани, Ленин, разумеется, еще не взял себе псевдоним в честь другой реки, сибирской Лены. Его звали Владимир Ильич Ульянов. Это был рыжеволосый юноша с чересчур твердо очерченной нижней губой, приехавший сюда с матерью и сестрами из Симбирска. Всего за год до того его старшего брата Александра казнили в Петербурге за изготовление бомбы, предназначенной для убийства царя. Дом Ульяновых – уютная деревянная постройка, выкрашенная в цвет темной патоки, – находится в холмистом пригороде, который некогда называли «Русской Швейцарией». Услышав о смерти брата, юный Володя, согласно легенде, с полным хладнокровием сказал: «Мы пойдем другим путем». А в полуподвальном помещении вам покажут буфетную, крохотный уголок, где он, закинув ноги на печурку, впервые окунулся в «Das Kapital».
Учился здесь и граф Лев Толстой. Он провел в университете пять с половиной лет в 40-х годах девятнадцатого века, изучая восточные языки, право, историю и философию. Уже восемнадцатилетним юношей он вел дневник, куда заносил свои мысли и «Правила жизни»: «Отдаляйся от женщин»… «Убивай трудами свои похоти»… Однако в конце концов он решил, что у профессоров ему учиться нечему, и приказал кучеру ехать в Ясную Поляну. «Гениальные люди оттого неспособны учиться в молодости, – писал он каких-нибудь двенадцать лет спустя, – что они бессознательно предчувствуют, что знать надо иначе, чем масса».
Покинув дом Ульяновых, немцы вернулись на теплоход обедать. Я ускользнул от них и пошел в Музей Максима Горького, выбеленное здание на углу, рядом с игровой площадкой, которую украшали картонные фигуры спортсменов. На другой стороне улицы люди с деревянными лопатами закидывали в подвал картошку, наваленную горой. Внутри две женщины материнского типа задумчиво разглядывали огромную выставку фотографий и памятных вещей, связанных с этим писателем, нынче возведенным едва ли не в ранг божества. Его рабочий стол был завален всякой всячиной; кроме его костюмов, в музее имелась и пара штанов из оленьей шкуры, какие носят самоеды.
Горький – в то время Алексей Максимович Пешков – приехал сюда скромным юношей из Нижнего Новгорода (теперь Горький) в 884-м. Он тоже надеялся поступить в университет, но его не приняли: он был слишком молод, невежествен и беден. Взамен ему пришлось отправиться за ученьем в дешевые номера, в ночлежки, в публичный дом, на речные верфи, в подвал пекарни, где он зарабатывал себе на жизнь. То были «Мои университеты» – такое название получил второй том его автобиографии. Он водил дружбу с революционерами-любителями и бродягами-профессионалами. Однажды в конце зимы он стрелялся – однако пуля пробила не сердце, а легкое. Река звала его на юг, на вольный воздух казацкой степи, к той «Голубой жизни», что впоследствии дала название одному из его рассказов. Из Казани он уплыл на пароходе: «Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. <…> ослепительно сверкает солнце…» Три года он бродяжничал. Затем напечатал свой первый рассказ в тифлисской газете. На карте в музее обозначен зигзагообразный маршрут его странствий; после мы разглядывали фотографии: преуспевающий молодой автор «из народа» в вышитой сорочке читает перед собравшимися буржуазными интеллигентами; вилла на Капри, дата – 1908 год; со своим новым другом, теперь уже, безусловно, известным под именем Ленин, который непременно ходил на пляж в котелке. Потом – Нью-Йорк; потом – еще одна вилла, в Таормине; а потом, в двадцатых годах – снова Москва. На последнем снимке, сделанном в его ужасном, в стиле ар-нуво доме на улице Качалова перед самой смертью (отравление?) в 1936-м, – послушный старик, силы которого на исходе.
На улицах Казани лежал отпечаток былой коммерческой деятельности. Дворы, некогда заполненные штабелями бочек с рыбьим жиром и дегтем, теперь стояли пустые, заросшие лопухом и чертополохом. И все же бревенчатые домики с занавесками, самоварами, кустами смородины, фиалками на подоконниках, завитками голубого древесного дыма, выходящими из жестяных труб, – все это вновь заявляло о человеческом достоинстве и стойкости крестьянской Руси. Где-то на этих улочках был «дом терпимости», в котором потерял девственность Толстой; по окончании акта он сел на шлюхиной постели и, не выдержав, разрыдался, как дитя. Об этом идет речь в его рассказе «Святая ночь».
Зайдя во дворик за церковью, я увидел там монахиню, кормившую хлебом голубей. Другая монахиня поливала герань. Улыбнувшись, они пригласили меня прийти завтра на службу. Улыбнувшись в ответ, я сказал, что меня уже не будет в Казани. Затем мы попытались пообедать в ресторане «Казань», но дальше пышного позолоченного входа не пробрались. «Нет!» – сказал официант в черном галстуке. Он ожидал какую-то делегацию. Тогда мы съели капустные щи и яичницу в шумном кафе, облицованном белой плиткой, где распоряжалась властная татарка, которую разбирал смех. Голова ее была повязана белой тканью – конструкция того рода, что иногда попадаются на персидских миниатюрах.
Улочки татарской части города были грязными, зато двери и став ни на некоторых домах выкрашены в прелестный оттенок голубого. У входа в мечеть стояла пара старых ботинок. Внутри было темновато, вечернее солнце, протискиваясь через окно с цветным стеклом, оставляло на ковре красные пятна. Старик в каракулевой шапке стоял на коленях, обратившись лицом к Мекке, и молился. На верхушке минарета – над этим самым северным форпостом ислама, лежащим на широте Эдинбурга, – посверкивал золотой полумесяц.
Когда стемнело, была устроена дружеская встреча, во время которой я заметил стройную татарскую девушку – она тянула шею, чтобы посмотреть на иностранцев. У нее были блестящие черные волосы, розовые щеки и раскосые серо-зеленые глаза. Танцы ей, кажется, понравились, но, когда немцы стали играть в музыкальные стулья[83], по лицу ее скользнула тень ужаса.
«Максим Горький» плыл всю ночь, по Куйбышевскому водохранилищу и мимо устья Камы. На заре мы подходили к Ульяновску. По дороге мы, если верить картам, миновали древний город Великие Булгары, где в десятом веке арабский путешественник по имени Ибн-Фадлан, проснувшись однажды утром, увидел на реке быстроходные корабли, стоящие на якоре. Это были викинги. «Никогда не доводилось мне видеть людей более совершенных телом, – писал он. – Ростом они были, как финиковые пальмы, окрасом рыжеваты. Верхнего платья они не носят, однако у каждого из мужей на руке плащ, прикрывающий половину его тела, другая же рука остается свободной. Мечи их напоминают формой те, что у франков, широкие, плоские, с желобками. Тело каждого мужчины, от пальцев до шеи, покрыто татуировками: деревья, фигуры и прочее». С наступлением зимы один из военачальников викингов умер, и товарищи решили похоронить его в гробнице-корабле, на берегу реки. Описание Ибн-Фадлана таково: корабль украшен резными драконами, четыре березовых столба; почерневшее от мороза тело зашито в одежду; принесен в жертву верный пес, а после – кони умершего. В конце рабыня, которую тоже следовало принести в жертву, отдается каждому из воинов. «Скажи своему хозяину, – говорили они, – что я сделал это из любви к нему». В пятницу после полудня воины трижды поднимали ее над бортом корабля. «Смотрите! – кричала она. – Вижу хозяина в раю, рай прекрасен и зелен, а с ним мужи и юноши. Он зовет меня. Отпустите меня к нему!» В этот миг старая великанша, ведьма, которую они звали «Ангел смерти», сняла с запястий женщины браслеты. Воины заглушали ее крики, колотя в свои щиты. Шестеро мужей снова взяли ее, и пока она лежала без сил, «Ангел смерти» накинула ей на шею петлю и воткнула между ребер кинжал.
Перед Ульяновском приволжские утесы были усеяны дачными домиками, окруженными яблоневыми садиками, где висели зеленые, терпкие на вид плоды; домики были выкрашены в разные цвета, яркие, простонародные. Ульяновск – родина Ленина; до того, как его переименовали в 1924 году, это был сонный уездный город Симбирск. В народе его называли «Городом на семи ветрах». Автобус, отойдя от набережной и покружив вверх по холму, выехал на широкую улицу, обрамленную тополями и деревянными домиками. Это была улица Московская, где некогда жил инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов со своей суровой красавицей-женой Марией Александровной Бланк. Она была набожная лютеранка из поволжских немцев; в ее аккуратном доме – гнутые деревянные стулья, крашеные полы, чехлы на креслах, занавески с воланами, ромашки на обоях, карта России на стене в столовой – чувствовалась будущая пуританская, если не сказать педагогическая, атмосфера личных апартаментов Ленина в Кремле.
Как писал Эдмунд Уилсон, приезжавший сюда в 1935-м, чтобы собирать материал для своей книги «На Финляндский вокзал»[84], путешественнику легко могло показаться, будто он и не покидал Конкорд или Бостон. В нескольких домах от ленинского я видел наглухо запертую лютеранскую церковь. На мой взгляд, это место скорее напоминало Огайо.
На фотографиях инспектор народных училищ смотрелся приятным человеком с открытым лицом, лысой макушкой, бакенбардами и высокими скулами, как у его предков – астраханских татар. Александр же, напротив, пошел в мать: капризный с виду мальчик с копной темных волос, раздувающимися ноздрями и скошенным подбородком. А в нижней губе юного Владимира чувствовалось стремление перевернуть землю…
Расхаживая по тесным спальням, экскурсовод показывала нам детские бумажные кораблики, обруч, швейную машинку няни и рисунок, сделанный сестрой Ленина: голландские ветряные мельницы – возможно, увиденные в поволжском поселении голландцев ниже по реке. На всех кроватях были аккуратные, белые, без единого пятнышка, взбитые подушки. В комнате Александра мы увидели его химические пробирки и золотую медаль, которую он заложил в Петербурге, чтобы купить азотной кислоты для бомбы. В то время он изучал морских равноногих на естественном факультете.
В семействе Ульяновых любили литературу, и экскурсовод, указав на книжные шкафы, где стояли собрания сочинений Гёте и Гейне, Золя и Виктора Гюго, сообщила, что Мария Александровна знала девять языков – «включая немецкий», добавила она, улыбнувшись немцам.
– Она же была немка, – сказал я.
Экскурсовод застыла и сказала по-английски: «НЕТ!»
– А там, дальше по улице, как раз ее лютеранская церковь, – продолжил я.
Экскурсовод покачала головой и пробормотала: «Нет!» – а немецкие дамы обернулись ко мне и нахмурились. С точки зрения обеих сторон, я, очевидно, нес ересь.
В 1887 году, когда Володя Ульянов учился в седьмом классе, директором симбирской гимназии был Федор Керенский, чей сын Александр впоследствии стал пылким адвокатом, считавшим своим долгом спасение страны, – «этот болван Керенский», свергнувший царя и свергнутый, в свою очередь, Лениным. В классной комнате, где учился Ленин, стояла черная парта, а на ней – букет пунцовых астр. Каждый ученик имеет право хотя бы раз за время обучения в школе посидеть за той самой партой.
Внизу, у входа, висит огромное полотно, на котором Ленин в своей гимназической шинели созерцает ледоход на Волге. Россия то и дело возникает в музыке, литературе и живописи своего народа в образе реки или медленно плывущего корабля. Песня «Эй, ухнем» вдохновила Репина на создание «Бурлаков на Волге». Вероятно, ни одна картина девятнадцатого века не повлияла на общественное сознание так же сильно, как эта. На ней группа простолюдинов тащит баржу против течения. Груженое судно возвращается из таинственных восточных земель, откуда придет спаситель и избавит народ от страданий.
После обеда я погулял по Венцу – старому дворянскому кварталу Симбирска, лишившемуся своих особняков и церквей, на смену которым пришли бесконечные километры асфальта, учреждения местных советов и сквер с памятником Карлу Марксу. Дойдя до места, где асфальт кончался, я прошел по шаткому бревенчатому мостику и зашагал вниз по холму, через парк Дружбы народов – запущенную местность, где стоят разваливающиеся дачные домики и неухоженные сады. Тропинка заросла репейником, листья колючих кустов были красными. В воздухе стоял запах картофельной ботвы, которую жгли на костре. Река внизу растворялась в дымке. Отыскав дыру в заборе из металлолома, я заглянул внутрь и увидел старика, возившегося с капустными грядками в последних лучах летнего солнца.
Дойдя до реки, я взошел на борт одного из дебаркадеров: это была своего рода плавучая гостиница, выкрашенная в зеленоватый, льдистый цвет, словно Зимний дворец; в царские времена здесь, в каютах наверху, путешественники могли поесть, отдохнуть или завести мимолетный роман в ожидании парохода. На скамейке у заколоченного киоска жевал булку человек без пальцев. Он подозрительно оглядел меня, успев услышать, что в округе немцы. Когда я сказал, что я англичанин, металлические зубы вспыхнули, и он принялся объяснять, сколько немцев застрелил в войну: «Бум! Да! … Бум! Да! … Бум! Да!..» – разрезая воздух своими беспалыми кулаками и возбуждаясь до такой степени, что я испугался, как бы он не забыл, что я не немец, и не сбросил меня в покрытую нефтяной пленкой воду. Я попрощался; он втиснул кулак в мою протянутую руку.
Один из экскурсоводов Интуриста был нервный молодой человек, безупречно говоривший по-французски и одетый в белую рубашку с узором из казацких сабель. Он сказал, что теперь на этом участке реки осетр почти не ловится – за икрой надо ехать в Астрахань. Ему откуда-то было известно про визит Ленина в Лондон на конгресс Второго интернационала и даже про английских друзей Ленина, Эдварда и Констанс Гарнетт. Я сказал, что когда-то знал их сына Дэвида, еще в бытность его мальчиком; он обычно носил в бумажнике ленинский автобусный билет на проезд от Тоттенхэм-кортроуд до Патни, где они жили. «Mais c’est une relique précieuse»[85], – воскликнул экскурсовод.
Торговец ромом, сидевший за нашим столом в кают-компании «Максима Горького», неистово-сосредоточенно поджидал, когда можно будет похитить все кусочки масла, застав нас врасплох. Порой, увидев нашу заминку при виде основного блюда, он поднимал вилку в воздух и со словами «Разрешите, пожалуйста» подцеплял куски свинины с наших тарелок. Он сражался под Сталинградом. Из 133 человек в их подразделении уцелело семеро. Его соседом по каюте был школьный учитель, пылкий любитель бальных танцев, покрытый вечным бронзовым загаром; поросль его пересаженных волос напоминала молодое рисовое поле. Он был летчиком-наблюдателем на «юнкерсе». В свое время ему приходилось бомбить несколько мест, лежащих у нас на пути, и теперь он вернулся сюда, полный духа Kameradschaft[86].
Около десяти часов мы пристали к берегу неподалеку от Куйбышева рядом с заправочной баржей. Вдоль горизонта тянулись газовые всполохи. Вечер стоял теплый. На барже сидел, развалившись на стуле, молодой человек в резиновых сапогах и рубахе, расстегнутой до пупа, а тем временем старуха, годящаяся ему в бабушки, вытягивала резиновый заправочный шланг, прикручивала форсунку. Сама баржа представляла собой шедевр конструктивизма, сварганенный портовыми рабочими и выкрашенный в серый с красным. На корме сушились чьи-то детские пеленки; на той же бельевой веревке было вывешено полдюжины карпов. А что за жизнь протекала внизу! Не успели мы причалить, как из кабины стайкой высыпали девушки, захватили наш теплоход и начали танцевать. Кто-то из экипажа, парень с аккуратными песочными усами, подключил на кормовой палубе катушечный магнитофон, и вскоре все они отплясывали под музыку диско, весьма необычную. Парню ужасно хотелось угодить девушкам, он то и дело велел людям танцевать друг с дружкой, а сам, выказав превосходные манеры и без тени снисходительности, демонстративно пригласил на танец самую некрасивую из этой компании. Надо сказать, она была необъятна. Двадцать минут она вращалась вокруг своей оси, медленно, словно каменная статуя на пьедестале, а он тем временем все прыгал вокруг, смеялся, подпевал и вскидывал ноги. Тут старуха с заправочным шлангом закричала, девушки потянулись обратно, перелезая через поручни, все помахали руками, и мы снова тихонько отплыли в ночь.
У меня в каюте был экземпляр «Войны и мира». Я открыл главу двадцатую и перечел рассказ о том, как старый граф Ростов пляшет с Марьей Дмитриевной «Данилу Купора»[87]: «Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало».
Фон Ф. поднялся с рассветом, чтобы, завернувшись в свой суконный плащ, проинспектировать три шлюза на границе Куйбышевского водохранилища. «Замечательно, – сказал он, имея в виду шестьсот километров внутреннего моря, что тянулось у нас за кормой едва ли не до самого Горького. – Однако, – добавил он, махнув на стены шлюза, – бетон здесь потрескался».
Стоял ужасный холод. Солнце на горизонте походило на мяч. Ворота последнего шлюза отворились, и мы двинулись по дорожке золотого света. Вдали Волга сжималась до размеров реки. На западном берегу был песчаный пляж и полоса тополей; на восточном – цепочка рыбацких хижин и лодок, вытащенных на сушу. Мы обогнули излучину и увидели Жигулевские горы, единственные холмы в этих краях, некогда – прибежище бандитов и революционеров. Склоны их поросли березой и сосной; а что за названия: Молодецкий курган, Девья гора, Два брата…
Отойдя от Жигулей, мы пересекли реку, сошли на берег и поехали в Тольятти, где находится крупнейший в Советском Союзе автомобильный завод. Город Тольятти назван в честь бывшего главы Компартии Италии, однако завод обязан своим существованием ведущему итальянскому капиталисту своего поколения, Джованни Аньелли. Аньелли, как мне однажды рассказывали, в свое время просидел чуть ли не целую зиму в Москве, в отеле «Метрополь»: у него на глазах приходили и уходили руководители всех больших автомобилестроительных корпораций, а он пересидел всех и в конце концов выбил контракт для «Фиата».
Полоса стекла и бетона протянулась вдаль по голой долине. Впрочем, целью нашей довольно утомительной поездки на автобусе было не посетить завод, а установить, где, в какой точке горизонта он кончается. Стоило нам до нее добраться, как мы повернули назад. Экскурсовод меж тем забрасывал нас статистическими данными. Средняя температура зимой 18 градусов ниже нуля. Машины сходят с конвейера в среднем по 2500 в день. Средний возраст рабочих – двадцать семь лет. Среднее количество браков – 5000 в год. Почти у каждой пары есть квартира и машина, а разводов очень мало.
На стоянке у Волги нам встретилась пара новобрачных. Невеста была в белом, жених – с красной перевязью через плечо. Вид у них был застенчивый, смущенный; немцы же, наконец обнаружив в Тольятти хоть что-то человеческое, начали вести себя так, будто попали в зверинец. Пара, прижатая к парапету фотографами-любителями, стала пробираться от них к своей машине. Перед этим они бросили в пенистую воду красные розы, и одна из них зацепилась за камень.
Когда я проснулся на следующее утро, деревья исчезли, мы плыли через степь – львиного цвета землю, покрытую стерней и жухлой травой. В оврагах полыхали кусты, однако нигде не было видно ни коровы, ни домика, одна лишь телеграфная линия. Я сидел на палубе, листая страницы пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам
Кобылиц неукротимых Гордо бродят табуны».В силу советских мер безопасности шлюзы не были обозначены на карте Волги, пришпиленной к доске объявлений на теплоходе. В результате водохранилища и реки походили на связку сосисок. Руководитель круиза то и дело предупреждал, что фотографировать запрещено, и говорил о вооруженных охранниках и других чудищах, готовых накинуться на всякого, кто попадется за этим занятием. Шлюз перед Балаковым был особенно внушительным сооружением, над ним проходил шоссейный и железнодорожный мост, имелась там и огромная оранжевая мозаика – фигура, напоминающая Гермеса, по-видимому, символ коммуникаций. У фон Ф. чесались руки; чтобы потихоньку сделать снимок, он спрятал фотоаппарат в рукаве. Однако шлюз оказался безлюдным, если не считать женщин, управлявшихся с механизмами, да ватаги тощих мальчишек, стрелявших из рогатки камушками, которые прыгали по нашей небесно-голубой палубе.
Стояло воскресенье. Солнце сияло, с берега махали выбравшиеся на природу люди, одышливые прогулочные катера пыхтели вверх и вниз по реке, до самых фальшбортов набитые пассажирами. В три часа мы сошли на берег; это был Девушкин остров, где некогда держал свой гарем хан – правитель Золотой Орды. Правда, до того на острове жили амазонки. У амазонок был обычай предаваться любви с пленниками-мужчинами, а после их убивать. Иногда пленники оказывали сопротивление, но один юноша охотно согласился на смерть при условии, что ему будет даровано одно желание. «Хорошо», – сказали ему. «Пусть меня убьет самая уродливая из вас», – ответил он – и, разумеется, выбрался с острова живым. Эту историю нам рассказала Светлана, сотрудница Интуриста, девушка с замечательным ртом, уголки губ которого кривились, и зелеными манящими глазами.
Я пустился в глубь острова по тропинке, которая вела через заросли травы с красными стеблями. От полыни под ногами шел горький запах. Шуршали ужи, ивы полоскали белые ветви на ветерке. Побеги молодых ив были покрыты налетом, подобным тому, что бывает на красном винограде. С заросшего травой пруда взлетела пара уток. Впереди тянулись еще ивы, еще вода, а за ними – голубая даль, небосвод. Переходя болотистый участок, я подумал: «Это то место в очерке Тургенева, где рассказчик с собакой переходят болотистый участок и из-под ног у них взлетает вальдшнеп». Я сделал шаг или два вперед – и вот он, вальдшнеп, взлетел! Если бы все на самом деле происходило в очерке Тургенева, не обошлось бы еще и без отдаленных звуков песни, а потом появилась бы крестьянская девушка с яблочным румянцем на щеках, торопящаяся на тайное свидание с милым. Я прошел еще ярдов сто и сначала услышал пение, а потом увидел между деревьями белый крестьянский головной платок. Я приблизился, но женщина продолжала собирать ягоды. Она была немолода. У нее были крашеные хной волосы и фальшивые зубы. Я предложил ей собранные мною грибы, она сказала: «Нет!»
Вернувшись на пристань, еще один Зимний дворец в миниатюре, я увидел, что служитель поймал маленького, с печальной мордой осетра. Наши матросы страшно загорелись идеей поесть ухи. Один из них принес котелок, другой – нож, а пока котелок закипал, рыбаки с помощником капитана играли в бильярд в салоне на нижней палубе. Осип Мандельштам говорит: «Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костями вязальных спиц». Не знаю, как вам, а мне перспектива застрять в этом местечке представляется вариантом далеко не худшим: размеренная жизнь – русские романы, рыбалка, шахматы, бильярд, – время от времени нарушаемая приходом «Максима Горького», напоминающим тебе, что на дворе 1982-й, а не 1882-й.
Утро понедельника 27 сентября было ветреным и началось с лекции о внутренних судоходных путях Советского Союза. За пару дней до того я видел маленькую парусную яхту, спешащую вверх по реке. Вот бы получить разрешение и пройти под парусом от Черного до Белого моря – от такого приключения я бы не отказался! В Казани, откуда мы уплыли всего четыре дня назад, в разгар бабьего лета, теперь было четыре градуса мороза.
Весь следующий день мы провели на теплоходе. Время от времени по горизонту проплывало смазанное пятно: трубы, многоквартирные дома. Один из городов назывался Маркс, бывший Баронск, после – Марксштадт, столица Республики немцев Поволжья. «А где же теперь эти немцы?» – спросила дама из Бонна, шея которой покраснела от возмущения, когда она взирала на тонкую линию берега. «Уехали», – сказал я. «Погибли! – воскликнула она. – Или в Средней Азии. Так мне говорили». В тот же день мы подплыли близко к берегу вдоль полосатых слоистых утесов, где белые пласты перемежались с черными. Из громкоговорителя полился глубокий бас, исполнявший песню казацкого мятежника Стеньки Рази на. Мы увидели стадо черных и белых овец на голом холме. Внезапно на пустом месте возник истребитель «МиГ», нахохлившийся на постаменте.
Степан (или Стенька) Разин, сын зажиточного казака из донской станицы, считал, что казацкий обычай делить награбленное поровну должно соблюдать любое правительство. Он полагал, что такие же уравнивающие методы должны распространяться и на саму царскую власть в России. На престоле в то время оказался Петр Великий[88]. В Астрахани Разин захватил в плен персидскую княжну, которая стала его любовницей и которую он швырнул в Волгу, желая поблагодарить реку за то золото и драгоценности, что она ему подарила. В Царицыне он убил местного воеводу, некоего Тургенева, возможно, предка великого писателя. Покинутый своими единомышленниками, Разин потерпел поражение под Симбирском и был казнен в Москве. В советской агиографии он считается «прото-коммунистом».
На заре мы прибыли в Волгоград. Город, некогда называвшийся Сталинградом, – город лепнины и мрамора, где советские ветераны постоянно фотографируют друг дружку перед военными памятниками. Перестроенный в «третьеримском» стиле сороковых и пятидесятых, он поднимается, слой за слоем, вдоль европейского берега Волги. Стоя на ступенях монументальной лестницы, ведущей вниз, к порту, можно обернуться назад, где за парой дорических пропилей, за еще одним дорическим храмом, выполняющим роль киоска с мороженым, за песчаными островами раскинулась поросшая кустарником азиатская пустошь, что сулит далекие пустыни.
В десять, под звуки музыки, от которой пробирала дрожь, мы, пассажиры «Максима Горького», собрались на площади Павших борцов, чтобы в качестве делегации раскаявшихся немцев добавить корзину гладиолусов с гвоздиками к горам красных цветов, уже наваленным тем утром вокруг Вечного огня. В боковой части красного гранитного обелиска отражались растущие в сквере ели и фас ад гостиницы «Интурист», построенной на месте бывшего бункера фельдмаршала Паулюса. Медленно шагая строем, вперед вышел отряд юных пионеров: мальчики в защитной форме, девочки в белых пластмассовых сандалиях, за ушами – белые тюлевые банты. Все вытянулись по стойке смирно. Церемонию возложения провели торговец ромом и школьный учитель, оба – оставшиеся в живых участники битвы. Щеки их были мокры от слез; военные вдовы, уже который день собиравшиеся с духом перед этим испытанием, сморкались в платки или просто стояли с видом потерянным и несчастным, вцепившись в свои сумочки.
Внезапно поднялся легкий переполох. Позади нас была группа советских ветеранов, воевавших в 62-й армии, родом из среднеазиатских республик. Их экскурсовод показывал им фото, на котором сдавался Паулюс; услышав немецкую речь поблизости, увидев «врага», ненамеренно топчущего край газона, и приняв это за нечто кощунственное, они начали перешептываться между собой. Затем откуда-то выдвинулся человек с бычьим лицом и велел немцам убираться. Дамы, вид у которых сделался несчастнее прежнего, поспешно отступили на бетонную дорожку. «Чрезвычайно интересно», – сказал фон Ф., проносясь мимо по пути к автобусу.
Когда война закончилась, кто-то предложил оставить развалины Сталинграда как есть – вечный монумент в память о победе над фашизмом. Однако Сталину мысль о том, что его город так и будет лежать кучей обломков, пришлась не по душе и он приказал перестроить его – сделать таким, как до войны, даже лучше. Впрочем, одни развалины он оставил нетронутыми – здание мельницы на ведущем к реке склоне, которое разнесла бомба. Окруженная бесконечным морем бетона, мельница лежит между стелой-штыком, футов двести высотой, все еще в лесах, и постройкой, по форме и размеру напоминающей градирню, где посетители (по предварительной записи) могут осмотреть мозаичную панораму битвы. Я стоял на площади и понимал, что до реки можно, если постараться, добросить камушком, – и все-таки, несмотря на истерические вопли Гитлера, несмотря на все танки, самолеты и живую силу, немцы так и не смогли до нее дойти. Русские сражались под лозунгом «Ни шагу назад». Вероятно, этим все и объяснялось.
Повсюду вокруг были пожилые мужчины и женщины, у кого-то не хватало руки или ноги, все сияли медалями в солнечном свете. Тут я заметил, что фон Ф. яростно расхаживает вокруг образцов советской военной техники, выстроенных рядами в качестве экспонатов.
– Американцам даже спасибо не сказали! – обратился он ко мне, понизив голос. – Их же спасли американские танки, а не эти… и Паулюс, конечно!
– Как так?
– Настоящий прусский солдат! – пояснил он. – Все время подчинялся приказам… даже когда эти приказы потеряли всякий смысл!
Прежде в беседе я спрашивал фон Ф., почему Гитлер не пошел прямо на Москву летом 1941-го.
– Виноват Муссолини, – ответил он ровным тоном. – Вторжение в Россию было запланировано на весну. Но тут Муссолини напортачил в Греции, и немцам пришлось помогать. Для Москвы было уже слишком поздно – время года не то. Гитлер решил не повторять ошибку, сделанную Наполеоном в 1812-м.
Мамаев курган – холм в северном пригороде, где татарский хан Мамай некогда разбил свой шатер и где в честь двадцатипятилетия победы под Сталинградом был построен монументальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Во время сражения взять эту высоту означало взять Сталинград. Хотя немцы захватили водонапорную башню на вершине, солдаты маршала Жукова удержали восточный склон. Когда местность расчищали, на каждом квадратном метре было найдено в среднем по 825 пуль и осколков. Леонид Брежнев открыл мемориал на Мамаевом кургане со словами: «Камни живут дольше, чем люди…» Тем не менее монументы были сделаны из железобетона; фон Ф., будучи экспертом по железобетону, оценил их шансы на долголетие не особенно высоко.
Первое, что мы увидели из автобуса, была гигантская статуя Родины-матери, делающая шаг в дымку и размахивающая мечом вместо трехцветного флага, – замыслом своего создания она явно была обязана «Свободе, ведущей народ» Делакруа. От проспекта Ленина мы отправились к вершине холма – но какая же полоса препятствий лежала на нашем пути! Подобно паломникам, идущим, скажем, в Рим, Мекку или Бенарес, посетители Мамаева кургана вынуждены продвигаться вперед, обходя череду священных мест – площадь Павших борцов, зал Воинской славы и многие другие, – пока не доберутся до подножия Родины-матери. И срезать нигде нельзя! «Курган» – тюркско-татарское слово, означающее «холм», «насыпь» или «могила»; что касается Мамаева кургана с его могилой, храмами и «священным путем», он напомнил мне великие храмовые комплексы Древней Азии. Тут, в этом степном краю, половцы – тюркское племя – обычно воздвигали над своими могильными курганами каменные статуи, так называемые «каменные бабы», которые служили как памятником мертвым, так и предупреждением расхитителям гробниц.
Я никак не мог отделаться от ощущения, что Родина-мать – символ Азии, предупреждение Западу, чтобы и не пытался пересечь Волгу, чтобы не смел и ногой ступить в самое сердце страны. Атмосфера там была зловещая, религиозная – так и подмывало на сарказм; однако толпы людей с выражением восторга и почтения на лицах к сарказму вовсе не располагали. Я прошел за одной хромой старухой в Пантеон Славы. Носки ее стоптанных туфель были разрезаны, чтобы не так давили на мозоли. Она тащилась вперед, одетая в плащ, уцепившись за руку более молодой спутницы. Старуха постаралась придать себе вид попраздничнее, надела красный шарф с блестками. Щеки ее были покрыты спекшейся белой пудрой, по ним струились слезы. Когда она пересекала площадь Скорби, плащ ее распахнулся, открыв белую блузку, увешанную медалями.
В три часа в городском планетарии мы посмотрели фильм о битве, составленный из немецких и советских кинопленок (и украшенный грандиозными деталями). Предполагалось, что фильм будет резко антинемецким, и немцев предупредили, что слабонервным лучше не ходить. Могло быть гораздо хуже. Создатели фильма ни разу не опустились до насмешек или сатиры, а в раздирающих сердце кадрах, где расстреливали немецких пленных, чувствовалось, что авторы, по крайней мере, не превозносят победу Советского Союза – скорее, демонстрируют полную бессмысленность войны. Тем вечером, когда мы направлялись к Волго-Дону, я сидел в баре рядом с одним из офицеров бронетанковой дивизии, который, печально созерцая двойную порцию грузинского коньяка, сказал: «Тяжелый день выдался для нас, немцев».
Путешествие подходило к концу. Когда мы вплывали в Ростовна-Дону, стояло солнечное, серебристое утро. На мелководье бригада рыбаков вытаскивала невод. В надувной резиновой лодке загорал старик. Гудели буксиры, кран разгружал ящики с океанского корабля. Вдоль набережной стояли старые кирпичные склады; за ними город уступами поднимался к собору с луковкой на холме. Вдоль набережной тянулись клумбы с сальвиями, цветом напоминающими советский флаг, ждущими, когда их прихватит первый осенний мороз. Когда мы приставали к берегу, корабельный оркестр играл «Shortenin´Bread»[89]. Тем временем на берегу из автобуса высыпал казачий танцевальный ансамбль – все участники были не старше двенадцати лет – и устроил конкурирующее представление. Двое мальчиков держали полотнище с надписью «Дружба» на всевозможных языках, от латышского до португальского; девочки, похожие на барабанщиц в своих киверах и алых куртках, резво перебирали ногами среди кружащейся листвы. В сотне ярдов от нас стоял памятник Максиму Горькому.
Ростов оказался городом тенистых, обсаженных деревьями проспектов, без зазрения совести отданных под частную коммерцию. Милиционеры обоего пола расхаживали по уличным рынкам с видом добродушно-снисходительным, а тем временем армяне торговались с русскими, казаки – с армянами, кошельки вспухали от рублей, а горы баклажанов, хурмы и подержанной мебели мало-помалу уменьшались. Старенькая бабушка дала мне пучок бергамота, и я ушел, нюхая его.
Кто-то указал на раскосую женщину с хозяйственной сумкой и спросил: «Откуда тут взялись вьетнамцы?» «Это не вьетнамцы, – ответил я, – это калмыки. Коренные местные жители». Калмыки живут за рекой, в своей собственной республике. Это был последний из монгольских народов, прискакавших в Европу и осевших тут. Они до сих пор поклоняются Далай-ламе. У одного калмыцкого мальчика был очень колоритный вид: блестящие черные волосы разлетаются, к заднему сиденью мотоцикла привязана обезьянка.
Я отправился в музей; по пути до меня донесся запах козьего жира, поднимавшийся от маслобоек и черпаков в перестроенной казацкой хате. В части, посвященной 1812 году, висел портрет В. В. Орлова-Денисова, генерал-адъютанта, которого Толстой взял в качестве прототипа своего картавого персонажа в «Войне и мире»[90]. Была там и английская репродукция под названием «Лиса-Наполеон – ату его!» и со следующей стихотворной подписью:
Слышу я казацкий зов, Знать, меня разнюхали, Надо делать ноги разом, А не то поймают.Этим вечером, последним из проведенных в России, после наступления темноты я прогулялся вниз по холму, по старым купеческим кварталам, и увидел хрустальную люстру, горящую в комнате наверху. Стены были покрыты полинявшим красным плюшем, на одной висело полотно в золоченой раме с изображением гор и реки. Я стоял под уличным фонарем, пытаясь представить себе обитателя этой комнаты. На тротуаре девочки в белых носках играли в классики. Двое моряков в бескозырках, сдвинутых на затылок, вышли из тира и уселись на тротуар, выкурить напополам последнюю сигарету. Потом к окну подошла старуха в сером платке. Она посмотрела на меня. Я помахал. Она улыбнулась, помахала в ответ и задернула штору.
У подножия лестницы я миновал Максима Горького, глядевшего со своего пьедестала туда, где за тихим Доном лежали равнины Азии.
Надежда Мандельштам. Визит
{6}
В тот день, когда я отправился в гости к Надежде Мандельштам, сильно мело. Растаявший снег с моих пальто и ботинок лужами на тек на пол ее кухни. В кухне пахло керосином и несвежим хлебом. На столе были липкие фиолетовые круги, ваза, полная бегоний, и немытые стаканы, оставшиеся с беззаботного русского лета.
Из спальни вышел толстый мужчина в очках. Он окинул меня злобным взглядом, повязывая обвисшие щеки серым шарфом, и вышел.
Хозяйка позвала меня войти. Она лежала на постели на левом боку, в окружении смятых простыней, подперев висок сжатым кулаком. Не шевельнувшись, она поздоровалась со мной.
– Что вы скажете про моего доктора? – ухмыльнулась она. – Я больна.
Доктор, полагаю, был приставленным к ней кагэбэшником.
В комнате было жарко и тесно, везде валялись книги и одежда. Волосы у нее были жесткие, словно лишайник, сквозь них проходил свет ночника. Среди коричневых обломков ее зубов посверкивали белые металлические коронки. К нижней губе прилипла сигарета. Нос ее напоминал орудие. Было совершенно ясно, что передо мною – одна из самых могущественных женщин в мире и что ей это известно.
Английский друг посоветовал мне привезти ей три вещи: шампанское, дешевые детективы и джем. Взглянув на шампанское, она сказала без энтузиазма: «Боллинжер». Взглянув на детективы, сказала: «Romans policiers![91] В следующий раз, когда приедете в Москву, непременно привезите мне настоящую бульварщину!» Зато когда я вытащил три банки джема из севильских апельсинов, сваренного моей матерью, она затушила сигарету и улыбнулась.
– Благодарю вас, милый мой. Джем – это мое детство. Скажите мне, милый мой… – Она жестом указала мне на стул; в этот момент одна из ее грудей вывалилась из ночнушки. – Скажите мне, – она засунула грудь обратно, – у вас в стране остались еще великие поэты? Я хочу сказать, великие поэты… по достоинству сравнимые с Джойсом или с Элиотом?
В Оксфорде еще жил Оден. Я вяло упомянул Одена.
– Одена я никак не назвала бы великим поэтом!
– Да, – сказал я. – У нас почти никого не слышно.
– А в прозе?
– Негусто.
– А в Америке? Там есть поэты?
– Попадаются.
– Скажите мне, Хемингуэй был великим романистом?
– Не всегда, – ответил я. – К концу уже не был. Правда, в наши дни его недооценивают. Его ранние рассказы замечательны.
– Кто вправду замечателен среди американских романистов, так это Фолкнер. Я помогаю одному молодому другу переводить Фолкнера на русский. Должна вам сказать, дело продвигается с трудом. А у нас в России, – прорычала она, – великих писателей не осталось. Здесь тоже никого не слышно. Есть Солженицын, да и он не особенно хорош. С Солженицыным беда вот какая. Когда он считает, что говорит правду, то на самом деле ужаснейшим образом врет. Зато когда считает, что выдумывает историю из головы, вот тогда он порой ухватывает правду.
– А что тот рассказ… – Я запнулся. – Не помню названия… тот, где старуха под поезд попала?
– Вы имеете в виду «Матрёнин двор»?
– Да, именно, – сказал я. – Там правда ухвачена?
– В России такого никогда не могло произойти!
На стене напротив постели висел белый холст, криво повешенный. Картина была вся белая, белое на белом, несколько белых бутылок на пустом белом фоне. Я был знаком с работами этого художника, украинского еврея, как и она сама.
– Вижу, у вас тут картина Вейсберга[92], – сказал я.
– Да. И знаете что, вы мне ее не поправите? А то я швырнула книгу и случайно попала в нее. Отвратительная книга, автор – какая-то австралийка!
Я поправил картину.
– Вейсберг, – произнесла она. – Наш лучший художник. А что еще нынче можно делать в России? Только писать белизну!
Мадлен Вионне
{7}
Мадлен Вионне – живая, шаловливая девяносто-шестилетняя дама, портниха, за плечами у которой восемьдесят шесть лет практического опыта. Ее дом моделей на авеню Монтень закрыл свои двери в 1939 году, однако стоит упомянуть ее имя, как бывшие клиенты взыхают, словно вспоминая золотой век. Для историков моды она – явление легендарное. Они превозносили ее как «архитектора моды» – единственного подлинного творческого гения в этой области. И когда она хладнокровно заявляет: «Я лучшая портниха в мире, причем сама чувствую, что это так», – имеются веские причины, чтобы ей поверить.
Ее имя никогда не пользовалось такой же громкой – или печальной – известностью, как имя Шанель. Она никогда не стремилась угодить миру моды и, подозреваю, считала себя выше его – подчеркивала даже, что слово «мода» для настоящего портного не имеет смысла. И все-таки это, пожалуй, и есть та женщина, что когда-то, году в 1900-м, освободила других женщин из-под тиранической власти корсета. Изобретение косого кроя, преобразившее историю современного пошива платья, принадлежит, безусловно, ей. И в то время как другие модельеры превращали своих клиентов в подобие мальчиков или машин, она стояла на своем, утверждая, что женщина остается женщиной.
Связь между высокой модой и крупным богатством вызывает у многих подозрения по части первой. Но мадам Вионне, у которой в свое время не было ни гроша, не записывает моду во второстепенные искусства. Подобно танцу, это искусство эфемерное, но великое. Себя она считает художником уровня, допустим, Павловой[93]. В погоне за совершенством она не думала ни о чем другом, и даже в ее образцовом здравом смысле присутствует оттенок фанатизма. Качество работы в ее мастерской не знало себе равных. Никто не умел лучше задрапировать торс. С тканью она обращалась, как мастер-скульптор, который пробуждает к жизни черты, дремлющие в куске мрамора. Не хуже скульптора она понимала и тонкую красоту женского тела в движении, знала, что асимметричный крой подчеркивает грациозность. Ей хотелось, чтобы тело проявляло себя с помощью платья. Платье должно было быть второй – более соблазнительной – кожей, оно должно было улыбаться, когда улыбается его владелица. Мадам Вионне требовала от своих клиентов, чтобы они были высокими, обладали настоящими грудью и бедрами, легко двигались. Тогда она сможет соединить их красоту со своим умением – и результат будет совместной победой.
Теперь она живет в шестнадцатом аррондисмане, на улице, над которой нависают многоквартирные здания, оставшиеся от Belle Époque[94]. Фасад ее дома украшают гроздья фруктов и металлические балконы в самом тяжеловесном буржуазном вкусе. Но стоит войти в дверь, как вы оказываетесь в мире алюминиевых решеток, стен, обработанных пескоструйным аппаратом, зеркального стекла и гладких лакированных поверхностей – интерьер столь же четкий и лишенный сентиментальности, сколь и сама хозяйка, мадам Вионне.
– У меня в доме нет ничего старого. Все современное. Все это я сделала сама.
Подобно платью от Вионне, этот минимализм стоит недешево. Когда она переехала сюда в 1929 году, комнаты быстро очистились от бессмысленных украшений. Даже семейные снимки в сепии были выдраны из рамочек, помещены между кусками листового стекла и развешаны по стенам; кроме них, других фотографий или картин там нет.
Салон обрамляют квадраты натурального пергамента. «Это все овечьи шкуры! – смеется она. – Я, знаете ли, пастушка». Говорят, что эта комната – самый выдающийся интерьер в стиле ар-деко, сохранившийся в Париже – вместе с хозяйкой. Тут есть диваны, покрытые мехом, хромированные стулья, обтянутые белой кожей, и алые лакированные столики цвета, какой встречается в буддистских храмах в Японии. Камин отделан медными листами, посеребренными. На нем стоит фотография Пантеона – своего рода талисман, ибо мадам Вионне всегда черпала вдохновение в классической Греции. Ее портрет, выставленный на мольберте, был написан Жаном Дюнаном, «мастером лакировки» двадцатых годов[95]. Лицо – мозаика, сложенная из мельчайших кусочков яичной скорлупы.
Эта утонченность стала наградой за долгую борьбу. Ее отец, Абель Вионне, был родом из Юры[96], но на жизнь зарабатывал в Обервиле, на окраине Парижа. Он работал таможенным чиновником – то есть, подобно Руссо[97], собирал внутреннюю пошлину с предназначенных для продажи товаров, которые провозили по дороге. Жена его бросила; они с дочерью стали неразлучны.
Семейству Вионне принадлежала ферма в Юре, где был «ручей, в котором я могла плавать», однако Мадлен увидела его, лишь когда ей исполнилось шестнадцать. В Париже она страдала анемией, и родственники предложили ей полечиться горным воздухом. «Но в горах мне было скучно. Папа вынужден был приехать и увезти меня обратно…» Тем не менее отцовские корни, вероятно, оставили отпечаток на ее характере. Народ Юры стоит особняком от других. Тамошние уроженцы яростно отстаивают свою независимость – бунтарство, инакомыслие у них в крови. В девятнадцатом веке часовые мастера швейцарской части Юры сочетали тонкое умение с практическим анархизмом и оказали влияние на всех великих революционеров того времени. Мадлен Вионне присуще чувство совершенства – возможно, с примесью анархизма.
Жена одного из друзей Абеля Вионне работала швеей в некоем maison de couture[98]. Десяти лет от роду Мадлен бросила школу и пошла туда ученицей. Ей было дано специальное разрешение на то, чтобы сдать выпускной экзамен за год до положенного срока; ее твердое намерение добиться успеха было непоколебимо. Она заболела, но вскоре выздоровела. В восемнадцать она вышла замуж, потом разошлась, а ребенок ее умер. Она отправилась в Англию – при желании она и сейчас легко переходит на английский, – где работала у Кейт Райли, которая одевала викторианский двор в костюмы неимоверной пышности. Вернувшись в Париж, она подружилась с мадам Жербер, одной из трех сестер, управлявших домом «Сестры Калло», – вместе с «Уортом» и «Жаком Дусе»[99] они составляли триумвират, стоявший во главе французской моды. Мадам Жербер требовались высочайшие стандарты. Мадам Вионне признается, что всеми своими дальнейшими успехами обязана ей, и постоянно держит при себе фотографию этой женщины, с виду несчастной и решительной.
В 1900 году дамы-модницы все еще были облачены в тяжелую броню, а на головах у них покачивались едва ли не птичьи вольеры. Их душили высокие жесткие воротнички. Их калечили туфли с острыми носами. Корсеты, сжимавшие их так, чтобы получались талии в рюмочку, одновременно спутывали в клубок их внутренности и вредили здоровью. Однако Айседора Дункан уже танцевала босиком, тряся грудями и волоча за собою складки одежд…
– Quelle artist e! – говорит мадам Вионне с экспансивным жестом, откидывая голову назад. – Quelle grrrande artist e![100]
Кто-то из модельеров заметил в городском автобусе эту принцессу. В скором времени дамам-модницам предстояло вырваться на волю.
Мадлен Вионне возглавляла освободительное движение. Ей принадлежит почетный титул первой портнихи, отказавшейся от корсета; это произошло в 1907-м, когда она работала у Жака Дусе: «Сама я всю жизнь не выносила корсеты. Так зачем мне было навязывать их другим женщинам? Le corset, c’est une chose orthopédique…»[101]
Разумеется, она всегда считала, что женщина никак не может быть прекрасна, если ее что-то сковывает. Начиная с 1901 года она шила соблазнительные пеньюары или платья к чаю – одежду, в которой можно рухнуть на кушетку перед тяжелым испытанием – переодеванием к обеду. Ее модели ходили в сандалиях, даже босиком, и она явно стремилась к тому, чтобы женщины освоили стиль déshabillé[102] и на публике.
Тем не менее отмена корсета обычно приписывается Полю Пуаре, модельеру, который привил каждодневному платью атрибуты «Тысячи и одной ночи». Возможно, заблуждения по части этого важнейшего момента истории моды объясняются оценкой, которую мадам Вионне дает Пуаре: «Мсье Пуаре не был couturier – он был cost umier… très bien pour le théâtre!»[103]
Ловко пользуясь этим диалектическим различием, она ухитряется приравнять его одежду к карнавальному костюму.
Ее собственный дом моделей открылся в 1912 году. На время войны она закрыла его и уехала в Рим, а в Париж вернулась, когда боевые действия подходили к концу. Заручившись поддержкой магазина «Галери Лафайет», в 1923-м она открыла свою фирму снова, в шикарном помещении на авеню Монтень. К ней потянулись богатейшие женщины мира – сама она к ним никогда не ездила.
– Я была портнихой, – говорит она. – Я верила в свое métier[104]. Друзей я себе выбирала за интеллект, за то, чего они стóят на деле, и ни за что больше. Мсье Леже[105] был моим другом. Когда ему надоедало писать картины, он любил приходить, наблюдать, как я занимаюсь кройкой…
– Нет. Я никогда не была mondaine[106]. Никогда не обедала в ресторанах, в театр если ходила, то одна. Никогда не заботилась о том, чтобы самой хорошо одеваться. Я была низенькая… а ведь я терпеть не могу низеньких женщин!
Среди немногочисленных клиентов, с которыми она соглашалась встретиться, была уроженка Италии, герцогиня де Грамон.
– Ах! Вот это была настоящая модель. Высокая, прелестная. Когда я работала над платьем, все, что мне требовалось, это попросить ее прийти его примерить… тогда я точно знала, что в нем не так!
Она редко спускалась в салон, потому что «стоило мне увидеть женщину некрасивую, или низенькую, или толстую, я указывала ей на дверь! … Je dirai “Va-t-en!”»[107] Многие из ее клиентов были женами кубинских сахарных миллионеров.
– Интеллектом они не отличались, эти кубинки! Зато были прекрасно сложены. Двигались хорошо, с ними можно было что-то сделать.
Затем в Европе начали сажать свеклу, кубинский тростниковый сахар упал в цене, и счета сделались мужьям не по карману.
– Свеклу начали сажать, – хихикает старая дама. – Растеряли клиентов.
Потом появились аргентинки! При упоминании слова «Аргентина» – и при воспоминании об аргентинских женщинах «…avec leurs fesses ondoyantes des carnivores…»[108] – мадам Вионне откидывает свою седую голову на подушку и, погрузившись в забытье, вздыхает:
– Всегда про меня говорили, что я слишком люблю женщин!
Самой прелестной из «аргентинок» была мадам Мартинес де Хос, уроженка Бразилии, которая после биржевого краха купила долю в предприятии Вионне и поддерживала его на плаву до самой войны с Гитлером.
– В то время мы были размером с деревню, даже с городок…
На Вионне работали 1200 человек в 21 ателье. Ее швеи трудились в комнатах по тем временам образцовых, просторных, светлых.
– Я ведь помнила, какие ужасные условия труда были, когда я была девочкой, и мне хотелось, чтобы у нас было лучше всех… тогда люди и работают лучше.
Ее рабочее место занимало стратегическое положение в основном зале – никто из проходящих по комнате не ускользал от ее бдительного взора.
– Ценного времени мы не теряли…
Времени терять было нельзя. Дом Вионне производил шестьсот моделей в год, вдвое больше, чем Диор. Каждое платье фотографировали, чтобы не нарушалось авторское право, – практика дотоле неведомая. На каждом ярлыке платья от Вионне имелся отпечаток пальца самой мадам. Незаконное подражание ее моделям автора расстраивало – не по финансовым причинам, но потому, что в массовом производстве ей виделось предательство ее искусства. Волновалась она зря. Платье от Вионне основывалось на тончайшем сочетании искусной работы и мастерства обращения с тканью. Скопировать его на практике было невозможно.
Она редко разрабатывала модели на бумаге, вместо этого создавала их в миниатюре на куколке – манекене высотой восемьдесят сантиметров. В наши дни кукла – один из самых известных предметов реквизита французских модельеров, но Абель Вионне недоумевал, когда его дочь приносила ее по вечерам домой. Женщина средних лет, а все продолжает одевать свою куклу. Неужели она так и не повзрослела?
Она признается, что сама была виновата в его непонимании:
– Я не смела рассказать папá, какого масштаба мое предприятие. Боялась, что он нанесет нам визит и разразится публичной речью о пагубных амбициях.
Развив свой стиль, мадам Вионне уже не отступала от него. Когда модельеры-соперники подняли юбки выше колен, она отказалась: «Показывать колено – это же ordinaire… vulgaire!»[109] Она восхищалась плавными линиями японского костюма и строгостью классической греческой туники. Самой характерной для нее моделью – множество таких всякий раз можно было увидеть на скачках в Лонгшамп – было платье-рубашка из кремового шелка. Однако эта навеянная Грецией простота искусными приемами доводилась до крайней роскоши. Вечернее платье из черного бархата и белой норки – комбинация, придуманная ею, – стало предметом одной из лучших фотографий, сделанных Эдвардом Стайхеном[110] для журнала «Вог».
В руках платье от Вионне выглядит пустяком: в нем нет ни подкладок, ни искусственных жестких элементов, оно вяло обвисает на плечиках. В Centre de Documentation de la Couture[111] их две сотни, и для дам, которые за ними приглядывают, они представляют собой нелегкую задачу.
– Ну что с этим делать? – спрашивает куратор с отчаянием в глазах, держа цилиндр из тонкого белого материала: она не может понять, как это полагалось носить. Она говорит мне, что клиенты Вионне тоже сталкивались с похожими трудностями и обычно звонили в панике, когда не понимали, как надевать платье.
Однако с самой мадам такого не случалось! Позвонив, она велит горничной отвести меня наверх, к гардеробу, где хранятся ее любимые модели. Мы устанавливаем портновский манекен возле ее кресла и надеваем на него черное вечернее платье с рисунком из морских коньков, в стиле аттической краснофигурной вазописи. Внезапное движение рук, тут одернуть, тут поправить – и платье, как по волшебству, оживает.
– Я – женщина, полная совершенно невероятной энергии, – заверяет меня мадам Вионне. – Мне никогда не бывало скучно – ни секунды. Я никогда никому и ничему не завидовала и вот теперь достигла определенного спокойствия.
Она довольна своей работой, довольна, что может сидеть в своем салоне и читать биографию кардинала Ришелье.
– Конечно, я могла бы жить в Риме, – говорит она, словно всерьез обдумывает возможность переезда в Рим. – Но я люблю свою страну и желаю умереть здесь.
Она быстро устает, и к концу интервью ее разговор сходит на нет, превращась в отрывочные вспышки. Однако событиями мира парижской моды она по-прежнему интересуется – и уж точно знает, что ей не по душе! «Totalement déséquilibré!»[112] – фыркает она при виде фотографии платья от Куррежа на странице «Вог». Портновское мастерство – искусство, ради которого она жила, и теперь она чувствует, что оно умирает вместе с нею:
– Так печально… так мало всего осталось!
Другие портные подразделяются на друзей, врагов и тех, кто списан в архив безразличия. Воспоминаниями о Баленсиага она дорожит: «Un ami… un vrai!»[113] По поводу Кристиана Диора высказывается туманно:
– Имя у него приятное, но мы не были с ним знакомы.
А про мадам Шанель, которая некогда, должно быть, сильно ей досаждала, она говорит следующее:
– Это была женщина со вкусом… Да. Это следует признать. И все-таки она была modist e[114]. Иными словами, милый мой, она разбиралась в шляпках!
Покидая ее, я волновался, как бы наш фотограф не нарушил ее спокойствия.
– Нет. Он меня не обеспокоит. Буду очень рада его повидать. Но все-таки то, что у меня в голове, он сфотографировать не сможет!
Говард Ходжкин
{8}
Говард Ходжкин – английский художник, чьи картины, написанные яркими красками, в основе своей автобиографические, преисполненные блеска и тревоги, не попадают ни в одну из признанных категорий современного искусства.
Художником он решил стать семи лет от роду, а к семнадцати уже написал ту картину, что определила его дальнейшее развитие. Теперь это невысокий, седеющий, широкий в кости человек под пятьдесят, нередко с очень красным лицом, вид у него временами прямо-таки ангельский, и все-таки он говорит, что боится показаться уродливым. Рот его бывает плотно сжатым или чувственным. Его улыбка способна очаровать или вогнать в оцепенение. Шагая по улице, он свободно размахивает руками, а голову выставляет вперед – так, будто сражается с ураганом. Несколько лет назад он оказался на волосок от смерти, и с тех пор сделался спокойнее, но чаще отклоняется от курса в непредвиденном направлении. Он мечтает о славе, а еще – о забвении. Хотя он собирается поселиться в прекрасных комнатах, ему, кажется, гораздо приятнее, когда его окружает строительный мусор. Мы с ним знакомы – и ссоримся – уже двадцать лет. Он один из лучших моих друзей.
Родом он из буржуазного семейства, где преобладали рациональные умы и хорошо обставленные дома. Ходжкины – одна из тех пуританских, проникнутых общественным духом династий, которые, по мнению Ноэля Аннана[115], составляют «английскую интеллектуальную аристократию». Среди его предков, живших в восемнадцатом веке, «отец метеорологии», придумавший новые названия для облаков. В девятнадцатом веке один из Ходжкинов открыл болезнь Ходжкина (которая поражает селезенку и лимфатические узлы); в двадцатом его родственник получил Нобелевскую премию по медицине. Один Ходжкин был знаменитым филологом; другой написал образцовую книгу по англо-саксонской истории. В их роду были критик Роджер Фрай и поэт Роберт Бриджес. Дед Говарда, Стэнли Ходжкин, был владельцем инженерной фирмы, производившей насосы под названием «Пульсометр». Его отец был заядлым собирателем горных растений, который находил в своем саду с альпийской горкой отдохновение от скучной работы в крупной химической компании.
Таковы источники его честолюбия и некоего стремления к общественным почестям. Все остальное куда сложнее.
Это честолюбие приобрело довольно необычные черты, надо полагать, в результате его детских впечатлений. Например, он помнит, как плавал в огромной голубой ванне в кёльнской гостинице, где в столовой висел портрет фюрера. Он помнит летние каникулы в Каринтии во времена аншлюса, помнит, как его нянька за столом выставляла напоказ нацистский флаг, а деревенские мальчишки сбросили ее в бассейн. Еще он помнит день, когда Флоренс Ходжкин, его эксцентричная ирландская бабка, появилась в черном костюме, к которому прилагались зеленая шляпка, зеленые искусственные цветы, зеленая блузка, зеленые туфли, зеленый зонтик, зеленые бутылки шампанского и множество обернутых в зеленую бумагу подарков в зеленой сумке. Черное и зеленое до сих пор составляют одну из его любимых цветовых комбинаций, которую можно с некоторой натяжкой считать его пирожным «мадлен»[116]. Всего лишь на днях он говорил мне, что блестящая зеленая краска его лондонской квартиры придает ему «чувство уверенности» – и что мебель непременно должна быть черной.
Флоренс Ходжкин поощряла его детскую страсть к древностям, которые он собирал; уже в 1938 году она составила гороскоп для мальчика, рожденного под «королевским знаком Льва». «В жизни Львов, – пророчествовала она, – главное – цвет». Еще она предсказывала, что ее внук будет обладать «замечательной способностью представлять известное в новом свете» и оставаться «непоколебимым в своих мнениях». Заканчивался гороскоп списком других Львов, среди которых были Юлий Цезарь, Наполеон, Муссолини, Александр Македонский, Рембрандт, Генри Форд и Мэй Уэст.
В 1940 году Говарда эвакуировали в Соединенные Штаты. Он жил на Лонг-Айленде, в георгианском доме, стены которого были покрыты холстиной с росписью, как на коромандельских ширмах, – все это сильно отличалось от унылой формальности домов Ходжкинов в Лондоне. Виды Нью-Йорка ослепили его, оставили незабываемый след на сетчатке. Его чувство цвета было американизировано. Он ездил на Кони-Айленд, ходил в Музей современного искусства, где трепетал перед полотнами Матисса. В школе он пел песни «Флаг, усеянный звездами» и «Прекрасная Америка». Остальные школьники были до того прекрасны, что на их фоне он чувствовал себя грубоватым, неловким. Когда война закончилась и пришло время уезжать, Америка по-прежнему оставалась для него раем, Англия же, несомненно, грехопадением.
Он отправился учиться в Итон, где ему не понравилось. Однако результат мог бы оказаться куда хуже, если бы не его учитель рисования, Уилфред Блант, который призывал его писать «имитации фовизма», открыл ему глаза на экзотические, изысканные миниатюры раджпутской и могольской школы. Он, видимо, уже тогда понял, что чувство цвета и композиции, присущее индийским художникам, давало возможность выбраться из слякотного тупика, в котором по большей части застряла английская живопись. Он мечтал о том, чтобы самому собрать коллекцию индийских картин, – и действительно купил парочку.
В пятнадцать лет, запутавшись в душевном разброде, он уговорил психиатра позволить ему вернуться на Лонг-Айленд. Все то лето он писал – под влиянием Вюйара, Матисса, Стюарта Дэвиса, Эгона Шиле[117] и эротических индийских миниатюр, однако полностью в своем собственном стиле – картину под названием «Воспоминания».
На ней мы видим женщину – точнее, женщину от шеи и ниже, – откинувшуюся на белом диване, одетую, разумеется, в черное с зеленым, с ногтями, покрытыми красным лаком, и большим бриллиантовым кольцом. Стены и ковер красные; сам художник, одетый в желтые брюки, немного похожий на Эриха фон Штрогейма[118] в отрочестве, не сводит своего галлюцинирующего взгляда (ибо это – композиция «Художник и модель», где художник попросту неотрывно смотрит и запоминает) с точки, находящейся где-то посередине между бриллиантом натурщицы и ее декольте.
К этой теме – теме фигуры в комнате, где то ли должно произойти, то ли нет, что-то исключительно важное или эротическое, – Говард возвращался снова и снова. Приятно сознавать, что в недавней серии картин художник уже не глазеет на модель, разинув рот; там действительно происходит что-то исключительно важное и одновременно эротическое – перемена к лучшему по сравнению с очень «черными» литографиями семидесятых, где модель словно бы заточена в комнате, поймана в капкан закупоренного интерьера.
Вернувшись из Америки, он пошел учиться дальше не в Итон, а в Брайанстоун, школу, где к «художественным» натурам традиционно относились лучше. Он жил в одном доме со старшим преподавателем, дружившим с Оденом; учитель рисования был пацифистом и всемирно признанным знатоком викторианской мебели. В свободное время Говард рылся в антикварных лавках и однажды купил за пять фунтов черную бронзовую вазу из Золотой гостиной Карлтон-хауса[119]. Какое-то время он держал это сокровище у себя в комнате, на фоне отреза пурпурного бархата. Потом решил продать его, бежать в Париж и стать художником.
В Париж он не поехал. Вместо того, обутый в пару белых сандалий, напустив на себя заученный богемный лоск, он поступил учиться в Кэмберуэллскую школу искусств. Как-то раз он набрался храбрости показать «Воспоминания» директору; тот назвал картину «полной чушью» – до того извращенной, что он не понимает, как такое можно было написать.
Последовала угрюмая, одинокая борьба. Для мальчика, который вдыхал атмосферу совершенства в Музее современного искусства[120], невыносимы были замкнутость и всезнайские замашки англичан. В Лондоне ему почти нечем было утешаться. Состоялась выставка Брака[121]; он прочел от корки до корки книгу Альфреда Барра о Матиссе; ходили слухи о новой школе живописи в Нью-Йорке. Запомнилась одна отдушина – визит в шотландский дом, где в лучах северного солнца поблескивала мебель французских королей.
Бросив Кэмберуэллскую школу, он преподавал живопись, сперва в школе Чартерхаус, а потом – в академии лорда Метуэна в Коршэме, где, по крайней мере, была достойная обстановка. Он женился, купил дом в Лондоне, стал отцом двух сыновей. Продолжал писать – по секрету, охваченный тоской. Его друзья-художники ощущали силу его характера, но большинство из них понятия не имели о том, чем он занимается. Потом, в 1959 году, он познакомился с гипнотической личностью, Кэри Уэлчем, – встреча, которая, как говорит он сам, «переменила ход моей жизни».
Кэри Уэлч был родом из состоятельного семейства, жившего в Буффало, штат Нью-Йорк. В Гарварде у него развилась страсть к индийским и персидским миниатюрам. Вопреки всем советам, он принялся их покупать; на это ушла немалая часть его наследства. То, что коллекции предстояло резко вырасти в стоимости, было фактом случайным и в то время далеко не определенным – классическая история о талантах, которые нельзя зарывать в землю.
Уэлч с женой переехали жить в Лондон, поскольку лучшие публичные коллекции индийских картин – колониальное наследие – находились в Англии и поскольку здесь картины по-прежнему можно было дешево купить из частных рук. Говард был ошеломлен напором энтузиазма со стороны янки, а также, вероятно, испытывал легкую зависть к предпринимательским талантам нового друга. Поначалу он соглашался со всеми суждениями Кэри; лишь позже, набравшись уверенности в себе, обнаружил, что ему нравится другой тип живописи.
Главным итогом их встречи было то, что в Говарде не на шутку разыгрались охотничьи инстинкты. Он покупал, продавал и обменивался, отдавая предпочтение базарной тактике; в течение десяти с лишним лет он около половины творческой энергии вкладывал в свою коллекцию.
Большинство художников собирают произведения искусства; некоторые из них, например Дега, собирают великие произведения искусства. Коллекция обычно служит художнику в качестве aidememoire[122] и помогает утверждать собственное «я». Иногда коллекция художника словно возникает сама по себе, просто потому, что у него есть вкус, банковский счет, определенные связи в среде торговцев или что-то, чем можно обменяться с другом-художником. Но в случае Говарда Ходжкина все было не так. Не припомню ни одного преуспевающего художника, чье стремление писать картины соперничало бы со стремлением покупать, причем картины другого типа. Его коллекция – существенная часть дела всей его жизни. Всякая ретроспективная выставка собственных картин Говарда была бы, на мой взгляд, неполной, если не повесить рядом его индийскую коллекцию; правда, он, однажды приобретя какую-нибудь вещь, испытывает не менее сильное побуждение спрятать ее, одолжить или, по крайней мере, убрать с глаз долой.
После первой его выставки в галерее Тута критики не замедлили подчеркнуть формальные сходства между искусством Индии – могольской и раджпутской школы – и его собственным. Они были правы. Однако мне порой думалось, что своими картинами Говард объявляет войну индийским экспонатам своей коллекции. Там, где в них все ясно, он недоговаривает. Там, где они повествуют о чем-то, он молчит. Там, где они придирчивы к мелочам, он делает кое-как. Там, где их цвета призваны успокаивать, он использует намеренно кричащие. Возможно, это тот случай, когда отрекаешься от того, что любишь? Возможно, его картины в стиле «тяп-ляп» можно считать актом полного отречения.
Я подружился с Говардом в начале шестидесятых, и вышло так, что я ему пригодился.
У меня был знакомый во Франции, который знал женщину в Швейцарии, которая была вдовой знаменитого немецкого ученого – специалиста по исламскому искусству, который владел великим шедевром индийской живописи. Это была страница – возможно, самая прекрасная страница – из «Хамзанаме», грандиозной рукописи, сделанной для императора Акбара и датируемой приблизительно 1580 годом. Говард ее вожделел – это не преувеличение – и после некоторых махинаций раздобыл ее; правда, для этого ему пришлось заложить несколько менее известных рукописей.
В то время я жил в квартире за Гайд-парк-корнер, которая, по его воспоминаниям, была «самым щегольским интерьером из всех, какие мне когда-либо приходилось видеть». Незадолго до того я вернулся из путешествия по суданской пустыне, и в гостиной стояла монохромная, напоминающая пустыню, атмосфера, а из произведений искусства там имелись всего два: зад доисторического мраморного куроса из Греции и японская ширма начала семнадцатого века. Как-то вечером ко мне пришли обедать Ходжкины и Уэлчи; помню, как Говард бродил по комнате, пытаясь зафиксировать ее в памяти взглядом, который я так хорошо изучил.
Результатом этого обеда стала картина «Японская ширма», где сама ширма изображена прямоугольником из пуантилистских штрихов, Уэлчи – парой орудийных башен, я же – едко-зеленый мазок слева, недовольно отворачиваюсь в сторону, от своих гостей, от своих вещей, от «щегольского» интерьера, возможно – назад, к Сахаре.
Как бы то ни было, если мои комнаты поразили Говарда, то его дом никогда не переставал удивлять меня. В нем уже имелись признаки той намеренной вульгарности, с помощью которой люди безупречного вкуса защищаются от безупречного вкуса. Но зачем он, всегда с жаром обсуждавший тончайшие элементы обстановки интерьеров, прилагал такие усилия, чтобы сделать свое собственное жилище похожим на трущобы? К чему эти тщательно культивируемые пятна сырости? К чему облезающая штукатурка, висящие клочьями обои и стулья, от которых болит спина? Это был не чердак художника. Не мансарда. Это был удобный, стандартный буржуазный лондонский дом. Какова бы ни была причина, дело тут было не просто в деньгах.
Прежде я думал, что Говард содержит свой дом в «первозданном» виде из страха, что всякое усилие, направленное на его благоустройство, помешает ему тратить всю энергию на свое искусство, на свою коллекцию. С тех пор я пришел к мысли, что эти спартанские комнаты были более показными, более умышленными, более щегольскими, чем все, о чем я только мог подумать. Таким образом он говорил: «Вот мой ответ моему семейству с их коричневой мебелью». «Вот что такое Англия на самом деле».
Году в 1965-м коллекционеры начали покупать картины Говарда за настоящие деньги, и Ходжкины купили мельничный домик в зеленой долине Уилтшира. И тут чувствовалось, что ремонт будет продолжаться вечно; когда же он все-таки кончился, Говард часами возился над переделками дома – и, затратив максимум сил, добился эффекта крайне условного. То же можно сказать о его картинах, состоящих из многочисленных «стираний», слой за слоем – по хемингуэевскому принципу, согласно которому то, что вычеркиваешь, остается навсегда.
Примерно в то же время он нашел нового дилера из галереи Джона Касмина, который уговорил его впервые в жизни отправиться в Индию и оплатил дорогу. Индия стала для него эмоциональным якорем спасения. Каждую зиму он путешествовал по субконтиненту, пропитываясь впечатлениями – пустые гостиничные номера, берег в Махабалипураме, вид из вагона поезда, цвет индийских сумерек, оранжевое сари на фоне бетонного парапета – и сохраняя их для картин, которые ему предстояло написать дома, в Уилтшире. Потом он едва не умер от подхваченного там тропического заболевания, и очарование несколько поблекло. Картина под названием «Бомбейский закат», написанная в цветах грязи, крови и желчи, вероятно, свидетельствует о том, что Индия была для него еще и эмоциональным тупиком.
Меж тем «ходжкинская» сторона характера начала проявляться в нем с новой силой. Он окунулся в политические игры вокруг английского искусства. Его назначили попечителем галереи Тейт, затем – Национальной галереи, сделали кавалером ордена Британской империи. На этом его биография как художника могла бы закончиться, если бы не одна случайная встреча. Подробности этой встречи оставлю вашему воображению; результатом стал резкий, неожиданный поворот в живописи Говарда.
Портреты несчастных супружеских пар в комнатах остались в прошлом, на смену им пришли новые персонажи, новое настроение. В последних его работах натуру – пусть ее по-прежнему покрывают слои краски – захлестывают точки, пятна, вспышки и полосы цвета; таким образом Говард отражает свежие впечатления, ситуации, свидетелем которых стал в новом своем воплощении. Некоторые из них довольно просты; на то, чтобы увидеть на картине под названием «Красные Бермуды» фигуру, загорающую в Центральном парке, особого воображения не требуется. Но кто бы мог подумать, что «Чай», панель, сплошь забрызганная багряным, изображает злачное место – квартирку в Паддингтоне, где какая-то темная личность мужского пола рассказывает историю своей жизни? Кроме того, Говард вернулся к теме «Художник и модель» в серии вручную раскрашенных литографий, где проявился его вновь обретенный интерес к эротике.
И все же картины Говарда всегда были в той или иной степени эротическими – причем эротизм этот усиливала их двусмысленность. Он словно не способен начать картину без темы, пропитанной чувствами, однако следующий его шаг – эти чувства скрыть или, по крайней мере, выразить иносказательно. Но разве не все эротическое искусство – в отличие от обычной порнографии – иносказательно? Описания полового акта столь же скучны, сколь описания ландшафта, на который смотрят с высоты, – и столь же невыразительны; тогда как у Флобера описание комнаты Эммы Бовари в руанском hôtel de passe[123] до и после, однако не во время полового акта представляет собой самый серьезный эротический пассаж в современной литературе.
Андре Мальро
{9}
Карьера Андре Мальро французов удивляла, забавляла, а порой тревожила. Он – археолог, автор революционных романов, заядлый путешественник и рассказчик, герой войны, философ искусства, министр в кабинете де Голля – единственный на всю страну ныне здравствующий первоклассный авантюрист. К своим семидесяти трем годам он превратился в непременный национальный атрибут, при этом самого что ни на есть непредсказуемого рода. С ним советуются, как с оракулом; и пусть его ответы ставят в тупик, никто не станет отрицать, что он – один из оригинальнейших умов нашего времени. Более того, Мальро обладает оппортунистическим чутьем в том, что касается своевременности, он не только был свидетелем великих событий современной истории, но и сам на них влиял. Он один способен рассказать вам и о том, что Сталин считал «Робинзона Крузо» «первым социалистическим романом», и о том, что рука Мао Цзэдуна «розовая, словно ее варили», а в придачу еще и о том, что белая кожа и затравленные глаза Троцкого придавали ему сходство с шумерской алебастровой статуэткой. К тому же он – один из тех избранных, кому удалось завоевать доверие генерала де Голля.
Вкратце его история звучит так: талантливый молодой эстет, сам превративший себя в великого человека. Двадцати двух лет от роду, уже задыхаясь от фальшивой эйфории послевоенного Парижа, он организовал любительскую экспедицию с целью исследовать кхмерские развалины в Камбодже, однако был арестован колониальными властями за похищение каких-то статуй, полузатерянных в джунглях. Злоба, с которой его преследовали, и его вынужденная задержка в Пномпене открыли ему глаза на преступную природу колониального правления; избежав тюремного заключения, он тут же начал издавать в Сайгоне антиколониальную газету «L’Indochine Enchainée»[124].
Участие в какой-то туманной деятельности во время коммунистического восстания в Кантоне в 1925 году принесло ему репутацию красного активиста. Он вернулся во Францию, пламенея страстью к Востоку, и создал совершенно новый тип революционного романа. Самый известный из них, «Удел человеческий», в сбивающей с толку цепочке эпизодов повествует о шанхайской резне – бунте против Чан Кайши, разгоревшемся позже, в 1927 году. Персонажи, в большинстве из которых нашли отражение разные стороны характера Мальро, плетут интриги, заливают все вокруг кровью, идут на невероятный риск и по ходу всего этого обычно погибают. Сам Мальро выступает благородным атеистом, борцом за социальную справедливость, играющим в прятки со смертью и все-таки не признающим возможности бессмертия. Тема романа – Человек, его трагический удел и героическое противостояние угрозе уничтожения.
В тридцатых Мальро был антифашистом, героем левых: черная прядь волос, падающая на глаза, нервный тик, нахмуренные брови, гневно указующий перст. Его никогда не покидало пристрастие к саморекламе, что бы он ни делал: выступал ли с пламенной речью на митинге Front Populaire[125], несся ли с Андре Жидом в Берлин, ходатайствовать за болгарских коммунистов, ложно обвиненных в поджоге рейхстага, или вызывающе бросал в зал свои либеральные мнения на конференции марксистских писателей в Москве. «Попутчиком» Мальро, возможно, и являлся, однако партбилета у него никогда не было. Он все так же путешествовал, вращался в модных кругах, занимал должность в парижском издательстве «Галлимар», где отвечал за издания, связанные с искусством.
В следующем своем перерождении он в почетном звании полковника командовал республиканским эскадроном бомбардировщиков во время Гражданской войны в Испании. Существует легенда о том, что Мальро выпросил какие-то допотопные самолеты-истребители у симпатизировавшего республиканцам, но политически нейтрального правительства Франции во главе с Леоном Блюмом. На его счету шестьдесят пять боевых вылетов, ему даже случалось самому управлять самолетом (не имея пилотского диплома). Осенью 1937-го в Меделлине эскадрон Мальро остановил фашистскую колонну, наступавшую на Мадрид; позже, во время битвы за Теруэль, над ним одержали победу немецкие «хейнкели». Мальро – к облегчению министра авиации Сиснероса – уехал из Испании и отправился в турне по Соединенным Штатам, собирать средства. Не говоря по-английски, он доводил американских дам до истерики описаниями того, как сестры милосердия снимают повязки с ран без анестезии. На анестезию дамы жертвовали.
Его недоброжелатели нелестным образом сравнивали его с лордом Байроном и смеялись над его «артистической» летной курткой. Несмотря на это, из той войны иностранных писателей он вышел самым впечатляющим иностранным писателем – более впечатляющим, к примеру, чем Хемингуэй. Эти подвиги выкристаллизовались у него в роман «Надежда» и в одноименный фильм. Прежде он был туристом на окраине революции, теперь же играл со смертью, подчинил себе собственный страх перед страхом и остался жив, сменив мир холодных умствований на la fraternité virile[126]. Это один из немногочисленных писателей, обладающих достаточной ясностью восприятия, чтобы описать едва ли не сексуальное возбуждение мужчин в бою. Испания превратила его из личности, вероятно склонной к самоубийству, в личность, способную выживать. Герои его ранних вещей погибают от пуль, гангрены, тропической лихорадки или от собственной руки. Впоследствии, ведомые таинственной надеждой, они остаются в живых, несмотря на подбитые самолеты, отравляющие газы и танковые ловушки. Кроме того, Испания открыла ему глаза на методы и цели советского марксизма.
Когда в 1940 году во Франции началась мобилизация, он записался рядовым в танковый полк. Его многие годы живо интересовала карьера Т. Э. Лоуренса; критикам в его поведении виделось сознательное подражание авиатору Шоу[127]. Мальро попал в плен к немцам, но бежал в свободную зону и начало войны провел за письменным столом – с тем чтобы в 1944-м появиться на сцене опять, в качестве щеголеватого maquisard[128], под псевдонимом полковник Берже. Сражаясь на красных песчаниковых холмах Корреза, старый интернационалист сделался патриотом. Он попал в засаду, был ранен и схвачен немцами, когда пытался помочь товарищам из английского Сопротивления, вызывая огонь на себя. За это он получил британский орден. Гестаповцы поставили его к стенке, но не расстреляли, решив сохранить для допроса. То же самое, гордо заявляет он, в свое время произошло с Достоевским. В конце войны он снова появился на публике в качестве командира мифической эльзасско-лотарингской бригады, соединения в составе армии генерала де Латра де Тассиньи, и способствовал предотвращению повторной оккупации Страсбурга нацистами.
То обстоятельство, что Мальро вновь открыл для себя Францию, подготовило интеллектуальную почву для его дружбы с генералом де Голлем. Если верить одному из слухов, де Голль, впервые повстречавшись с Мальро в 1945 году, воскликнул: «Наконец-то я вижу перед собой настоящего мужчину!» Мальро стал министром информации в первом послевоенном правительстве. В 1946–1947 годах он разрабатывал планы националистической пропаганды для партии де Голля Rassemblement du Peuple Français[129]. После 1958-го, став министром культуры, он начисто выскреб Париж и нанес свои знаменитые визиты Кеннеди, Нассеру, Неру и Мао Цзэдуну. Их с генералом альянс поразил людей всех воззрений, левых и правых, а возможно, и их самих. А ведь у этих двоих было немало общего.
Оба были интеллектуалами и одновременно авантюристами, познавшими военные подвиги, пусть в случае Мальро и не столь великие. Их живо интересовали проявления власти и традиционная роль героя, спасающего свое отечество; кроме того, оба разделяли идею национального обновления в результате катастрофы. Они обожали французский язык; естественной формой выражения для них была гипербола. Им были чужды ценности собственного класса, они презирали политиков и промышленников. Они сочувствовали тяжелой участи рабочих, попавших в ловушку машинной цивилизации двадцатого века, однако не пытались войти в их мир. При этом они видели, что стоит за узостью воззрений тех, кто придает слишком большое значение классовой борьбе, поступаясь при этом национальным единством, и считали, что народ, помнящий собственные корни, скорее добьется справедливости. Мальро как-то спросил у Жан-Поля Сартра: «Пролетариат? Что такое пролетариат?»
Для них неоспоримым фактом было то, что нациям свойственно националистическое поведение, показной интернационализм их не увлекал. Они живо осознавали, какую опасность представляет собой Сталин, задолго до речи Черчилля в Фултоне, штат Миссури, где прозвучали слова «железный занавес». Мальро высмеивал «крайний мазохизм» левых и говорил, что не видит смысла в том, чтобы становиться ближе к России, отдаляясь от Франции. Партия Rassemblement ставила себе целью привлечь бедных, поскольку те были патриотами. Однако призывы де Голля и Мальро, напиравших на величие Франции, не доходили до рабочих. Вместо последних на сторону де Голля потянулись, тем самым придав его делу внутренне противоречивый характер, представители grande petite bourgeoisie[130], нередко в силу своей продажности. Мальро продолжал занимать сомнительное положение на левом фланге партии де Голля и нередко чувствовал, что это заставляет его идти на уступки. Однако де Голль всегда ценил его «блестящее воображение» и под его влиянием примирился, по крайней мере отчасти, с идеей деколонизации.
Величие Мальро заключается не только в его устных или печатных выступлениях – шедевром была вся его жизнь. Он испытал на себе страхи и надежды, обуревавшие Запад в двадцатом столетии, и остался жив. Он выдвигал на первый план пророческую мысль о том, что Человек (в одиночестве – ведь богов больше нет) переживет угрозу своего уничтожения, что великие люди – при всех их недостатках – будут существовать всегда.
При этом следует признать, что не все так просто. Мальро живет в мистическом настоящем. Он намеренно смешивает события с типичными ситуациями. Александр Македонский, Сен-Жюст, Достоевский, Микеланджело и Ницше – его духовные попутчики, и он вращается в их кругу, словно среди добрых знакомых. Легендарные фигуры превращаются в реальные; произведения искусства оживают; современные люди растворяются в мифах. Мао Цзэдуна, «великого бронзового императора» из «Антимемуаров», странным образом можно заменить на сияющую статую древнего месопотамского царя-жреца. Не верит Мальро и в ложную скромность. Свои воспоминания о де Голле, «Дубы, поверженные наземь», он начинает с замечания о том, что творческие гении (вроде него самого) никогда не оставляли свидетельств о своих беседах с вершителями Истории – достаточно взять Вольтера с Фридрихом Великим или Микеланджело с папой Юлием II; после прочтения книги складывается впечатление, будто великие личности – достояние истории, тогда как великие художники – достояние Вечности.
К тому же имеется проблема со стилем. Слушателей присутствие Мальро завораживает. Они чувствуют, что физически меняются от его голоса, в котором отрывистые вспышки чередуются с невнятным шепотом; потом они обнаруживают, что мечутся в поисках смысла. Интеллект своего читателя Мальро загружает до предела. Образы, ощущения, призывы, философские размышления и поразительные аналогии накладываются друг на друга с телескопическим увеличением. За блестящими мыслями следуют, словно в покаяние, нудные объяснения, на деле ничего не объясняющие. «Трудности», сопутствующие стилю Мальро, однажды заставили Кокто едко заметить: «Вы когда-нибудь видели, чтобы живой человек читал “La Condition Humaine?”»[131]. В переводе его прозу постигла резкая перемена. Риторика высокого накала, прекрасно звучащая по-французски, на английском невыносима.
Сделав головокружительную карьеру, Мальро оставил менее сильных духом далеко позади – и притом в раздражении. Французские литературные круги не жалели усилий на то, чтобы продемонстрировать всем его противоречия, но кое-что оказалось им не по зубам. Специалисты встретили его сочинения по философии искусства криками о непрофессионализме, хотя такой проницательный критик, как Эдмунд Уилсон, ценил их, причисляя к величайшим книгам столетия. Один искусствовед, Жорж Дютюи, превзошел самого себя, опубликовав в пику «Воображаемому музею» Мальро свой собственный трехтомный труд, «Невообразимый музей». Не смея назвать Мальро трусом, Сартр отмахивается от его подвигов в Испании, называя их «героическим паразитизмом».
Личная жизнь Мальро анатомированию не подлежит. Ее исковеркали самоубийство отца, гибель жены, двух братьев и двух сыновей. И все же возникает подозрение, что он таил в себе неприятные секреты. Его первая жена Клара, с которой он развелся, взяла на себя задачу вывести его на чистую воду как фантазера, однако ее воспоминания приводят читателя в такую ярость, что в результате его образ возвышается, ее же – наоборот. Дело в том, что люди действия имеют привычку списывать прошедшие любови и неосмотрительные поступки в архив, предавая их забвению, в надежде на то, что за ними последует нечто лучшее. Мальро обладает основательной памятью, но обновляет свои воспоминания о прошлом так, чтобы они соответствовали его взглядам на настоящее. По темпераменту он никогда не был склонен к ведению записей или дневников, как видно из его автобиографии «Antimеmoires».
Мальро одинок. Последователей у него быть не может. Он никогда не позволял себе роскошь иметь устойчивое политическое или религиозное кредо, а для дисциплины научной жизни он слишком непоседлив. Он не поддается классификации, а этого не прощают в мире, где царят – измы и – логии. Знания его наступают по всему фронту. Методы можно назвать интеллектуальной партизанщиной. Когда все разворачивается по плану, он ослепляет противника блеском и устраивает взрывы у него под носом. Оказавшись лицом к лицу с мнениями более сильными, он отступает, но, ускользая под неопределенным углом, заманивает врага в болото полу-невежества – перед тем как дать решающий бой. Одна из опасностей, грозящих его оппонентам, состоит в том, что он в любой момент может с ними согласиться.
Впервые я познакомился с Мальро два года назад в доме его американских друзей Клемента и Джесси Вуд. Во время беседы был момент, когда он обратил свои зеленые глаза на меня и сказал: «А Чингис-хан? Как бы вы его остановили?» Молчание. Недавно у меня появилась возможность провести с ним полдня, и я спросил, не согласится ли он поговорить о Британии, об отношении к Британии генерала де Голля, о ментальном заторе между Британией и Францией.
Мы встретились в Верьер-ле-Бюиссон, доме семейства Вильморенов, великих французских садоводов. Луиза де Вильморен была его спутницей в последние три года его жизни. Ее салон выходит на участок, засаженный редкими хвойными деревьями, серо-голубыми и темно-зелеными в зимнем свете, а позади светятся белые стволы берез. Среди ее диванов и кресел, обитых голубым и белым хлопком, китайских фарфоровых подставок и животных, позолоченных, лакированных, перламутровых, Мальро раскинул собственный лагерь, расставив по всей комнате свои скульптуры и картины. Еще тут его рисунки – коты, которых он машинально набрасывал во время долгих речей на заседаниях кабинета министров де Голля.
На Мальро был светло-коричневый пиджак с отворотами, похожими на крылья бабочки. В беседе он никогда не расслабляется, постоянно тянется вперед, сидя на краю стула. Вопросы выслушивает крайне сосредоточенно, порой приложив указательные пальцы вертикально к скулам, а после взрывается словами и жестами. Из-под меланхолической маски временами проглядывает его сильно развитое чувство нелепого.
– Во-первых, – сказал он в ответ на мою преамбулу, – то, что я думаю об Англии, – далеко не то, что думают большинство французов. Они по большей части настроены против Англии, я же настроен в высшей степени проанглийски.
И я скажу вам почему. Всей нашей цивилизации угрожает кризис, самый серьезный со времен падения Рима. Как выяснили молодые, секретное божество двадцатого столетия – Наука. Однако Наука не способна формировать характер. Чем больше люди говорят про науки о человеке, тем меньшее влияние эти науки на человека оказывают. Вам не хуже меня известно, что психоанализу никогда не удавалось создать человека. А ведь формирование личности – наиболее важная задача, стоящая перед человечеством. Англия, на мой взгляд, едва ли не последняя страна, где еще происходит une grande création de l’homme[132].
Я чуть было не перебил его. Стояла первая неделя января. С другого берега Ла Манша казалось, что англичане не только никого не создают, но готовы, напротив, разорвать друг друга на части.
– Существуют две страны – как ни поразительно, всего две, – где возникло слово для обозначения идеала человека. Внимание! Я имею в виду не аристократа. Есть испанский caballero, и есть английский джентльмен; причем и Англия, и Испания – страны с колониальным прошлым. С тех пор появился еще один идеальный тип человека – большевик. Неважно, правда ли это; важно то, что архетип владеет коллективным сознанием нации. Единственной державой, которой это удалось лучше – до вас, – был Рим. Рим создал тип человека, которому предстояло держать весь мир в узде на протяжении пяти веков. На смену ему пришел рыцарь, однако рыцарь никогда не был национальной фигурой, тогда как англичанин был представителем Англии, а римлянин – представителем Рима. В промежутке между Римом и Англией националистов не было. Были замечательные люди, но никто из них не был националистом. В этом-то, по-моему, и есть главное значение Англии.
– Чем мне надоели французы, так это тем, что их взгляд на Англию в высшей степени викторианский. В моем представлении об Англии не преобладают ее викторианские или империалистические черты. А вот Англия Дрейка[133] – страна поистине великая (есть, а не была). Во времена наивысшего величия у нее не было империи.
– Так вот, вы спрашиваете меня, что я думаю об Англии, и я вам отвечу: у вас есть одна огромная проблема…
В голосе Мальро появились наставительные нотки. Его проблемы – всегда проблемы моральные; ему присуща вера в то, что стоит справиться с моральными проблемами, как экономические разрешатся сами собой.
– Важнейшая проблема такова: сумеет ли Англия найти способ воссоздать английский тип? Новая инкарнация, вот что это должно быть; ведь викторианский джентльмен не имел ничего общего с джентльменом времен Дрейка. Английский характер был достаточно силен; тем не менее он менялся по ходу веков. Сумеете ли вы заново найти себя?
– Насколько я понимаю, – сказал я, – вы предлагаете нам вернуться к своему типу. Мы, островитяне, в душе браконьеры и пираты.
– Et joyeux![134] Скажите мне, – продолжал он с улыбкой, – с каких пор англичане перестали говорить о старой доброй Англии?
Мы не смогли решить, с каких. Чосер, говорили мы, вот уж воистину была старая добрая Англия. Дрейк – это была все еще старая добрая Англия. Однако пуритане были меланхоличными, а не добрыми. А уж индустриальную революцию старая добрая Англия точно не перенесла.
Следующей темой была Британская империя: речь шла о том, что это был случайный эпизод в нашей истории, отклонение от нормы, и о том, что идею империализма мы, быть может, вообще заимствовали у индийской империи Великих Моголов.
– Империей Великих Моголов пренебрегать не следует, – сказал он и быстро обрисовал картину: Акбар Великий был первым мусульманским правителем, сломавшим исламские запреты и поощрявшим создание собственных портретов (поскольку во всяком похожем изображении непременно проявляется глубинная красота души); этот мощный символ доказывает, что он – универсалист с идеями в духе Французской революции; следовательно, он подобен Наполеону и непохож на королеву Викторию; отсюда ясно, почему мусульмане основали в Индии великую цивилизацию, а британцам это так и не удалось; тут он сравнил могольские города, такие, как Агра, Дели и Лахор, с англо-индийскими Бомбеем, Калькуттой и Мадрасом; последние в его описании вышли «пересаженными на другую почву английскими зданиями, которые душат bidonvilles[135]».
Я спросил его про Т. Э. Лоуренса. В его карьере и личности Мальро, кажется, распознал черты, совпадающие с его собственными. Когда-то он писал биографию Лоуренса, «Le Défi de l’Absolu»[136], и был близок к ее завершению, но издать книгу помешала война.
– Меня интересовали вопросы, которые ставила жизнь. Настоящего влияния Лоуренс на меня никогда не оказывал. Ведь если одеть его в современное платье, кто он такой был? Формально говоря, боец Сопротивления, сброшенный на парашюте в аравийскую пустыню. Совсем как во время последней войны, когда вы забрасывали английских офицеров во Францию и мы сражались с ними бок о бок, так же и военное ведомство в Каире забрасывало офицеров в пустыню. Самолетов тогда не было, но в принципе ситуация та же самая.
– Нет, кто меня интересует как личность, так это тот Лоуренс, который поднимает фундаментальный вопрос – о смысле самой жизни. И до него существовало множество великих натур, задававшихся этим вопросом, но всегда во имя какой-нибудь высшей власти… например, крестоносцы, которые отдавали свою жизнь в руки Христа. Однако случай Лоуренса уникален. Это был человек, задававшийся вопросом о смысле жизни, но не понимавший, во имя чего он задается вопросом о смысле жизни. И он этого не стыдился. Lawrence, en grandiose, c’est mai ‘68[137].
Когда-то Мальро назвал Лоуренса «первым либеральным героем Запада», увидев в нем пророка деколонизации. Оглядываясь назад, он считает уход британцев из Индии наиболее важным событием двадцатого века, решение лейбористского правительства покинуть эту страну, принятое в 1947-м, – одним из самых смелых шагов. Как только Британской Индии, этого «символа колоссального значения», не стало, мертворожденной показалась и всякая мысль об Algérie Française[138]. Лоуренс был «удивительным пророком в исторической перспективе», защищавшим то, что Британия сделала тридцатью годами позже, и чрезвычайно слабым пророком в Realpolitik[139], поскольку не понял, что будущим правителем Аравии является Ибн-Сауд.
Я перевел разговор на де Голля. По слухам, стоило генералу поя виться на горизонте Мальро, как последний потерял интерес к Лоуренсу. Я объяснил, что большинству англичан де Голль не нравился. Они видели в нем неисправимого англофоба. Мы прикрывали его во время войны; по сути, Черчилль сделал ему карьеру, тот же в ответ выказывал одну лишь неблагодарность. (Де Голль, будучи заместителем министра обороны Франции, прилетел в Лондон 17 июня 1940 года. По закону его действия приранивались к мятежу. На следующий день состоялось его знаменитое выступление по Би-би-си. В Лондоне он поначалу вел себя довольно неуверенно, даже писал генералу Вейгану, французскому главнокомандующему, приглашая его в Англию, чтобы возглавить движение «Свободная Франция».) Может быть, спросил я, встретившись с Черчиллем, он понял, что у него появился шанс стать де Голлем, тем, кем он сделался впоследствии? Может быть, ему отказала скромность, когда он предстал перед Черчиллем?
– Полагаю, что да. Полагаю, что да. Но будьте осторожны! Вы, конечно, правы. При условии, что ваша правота не переходит границ. Не думаете же вы, что вечером того дня, после встречи с Черчиллем, он сказал себе: «Ну вот, пришло мое время». Я так вовсе не считаю. Думаю, это было… подобно тому, как движется солнце. Поначалу он, наверное, сказал себе: «Быть может, вызывать Вейгана нет необходимости?» А потом, наверное, подумал: «Что, если бы Вейгана не было?» А потом: «Ну что ж. Сэр Черчилль – великий государственный деятель, на него можно положиться. Если Вейган приедет, он лишь начнет плести интриги». А уже под конец он думал в точности так, как вы говорите. Не забывайте, что дело было туманное. Ведь вначале он не мог видеть ситуацию ясно, как бы ясно все это ни сделалось впоследствии.
Я не отставал. Правильно ли будет сказать, что он нашел в де Голле по-настоящему родственную душу? В конце концов, оба они были аутсайдерами. Возможно, в этом кроется объяснение тому, что оба олицетворяли характер своей страны?
Этот вопрос он отвел, предложив мне внести в мой портрет де Голля деталь, которая редко обсуждается, – его двойственность.
– Если говорить о восхищении, которое де Голль испытывал к Англии, это правда. Если говорить о его враждебности и раздражении, это тоже правда. Однако настоящая правда находится где-то посередине. Не забывайте о том, из какой эпохи он вышел. Когда де Голлю было двадцать, Британская империя представляла собой главную реальность этого мира. Дело тут было не в личных симпатиях. Америка большой роли не играла. Будучи молодым офицером, в Первую мировую, он – как и все остальные – считал, что стоит Англии вступить в войну, и Германии конец. Так вот, приехав в Лондон в 1940-м, он прекрасно понимал: Британская империя уже не та, что была; однако ощущение ее власти его не покидало. А когда Черчилль сказал ему: «Если придется выбирать между Рузвельтом и вами, я всегда выберу Рузвельта» (Рузвельт постоянно пытался избавиться от де Голля), все решили, что он вне себя от ярости, поскольку это означает: «Я не выберу вас». Вовсе нет – он был ошеломлен! Ведь он впервые услышал, как голос Англии говорит: «Я больше не первая держава в мире». Вот с этого момента Англия стала в его глазах совершенно другой.
Де Голль однажды написал: «Что там ни говори, Англия – остров; Франция – мыс континента; Америка – другой мир». Был ли его отказ впустить Британию на Общий рынок непрямой попыткой защитить нас от континентальных дел, в которых мы так плохо разбираемся?
– Тут не все так чисто, – ответил Мальро.
– Дело в том, что он поразительно сильно чувствовал судьбу Англии. [Французское слово dest in звучит сильнее, чем английское dest iny, и подразумевает «историческую судьбу».] Общий рынок судьбой Англии не был. Он нередко говорил: «Если Англия вступит в Общий рынок, то Англии придет конец. А если Англии придет конец, то нам, континентальной Европе, не захочется иметь ее в качестве соседа по Общему рынку». Не забывайте, что генерал страстно увлекался понятием судьбы.
– Так вот, извольте: человек прилетел на своем самолетике и стал одним из самых важных людей в Европе. Если уж он не верил в судьбу, кому же тогда в нее верить? Перед ним была Англия, доведенная до грани вымирания, однако спасшаяся тем, что изобрела Черчилля, который вытащил ее из ада, вызволил. Для де Голля существовали судьба Англии и судьба Франции, и любой разумной французской политике следовало основываться на исторической судьбе Британии, такой, как она представлялась ему. Он хотел пощадить Англию и Общий рынок. Он хотел иметь параллельную Англию, но только с гарантией, что она не станет агентом Америки. [Возможно, это связано с тем, что де Голль был против того, что Англия обладала доступом к американской технике, а Франция – нет.] Однако полностью закрывать британцам дорогу он не хотел.
И большинство людей в Британии с ним бы согласились, добавил я. Тогда Мальро заговорил о другом осложняющем дело обстоятельстве – об отношении генерала к Франции. О том, как в ранней молодости у де Голля сложилось свое «определенное представление о Франции». Между ними существовал брачный договор, словно они были четой любовников. (Как-то он сказал Черчиллю: «Если я – не Франция, что я тогда делаю у вас в кабинете?»)
– И все же единственной другой страной, которую он воспринимал, как человека, была Англия. Он никогда не рассматривал в таком же свете Германию.
Возникало ли у него когда-либо желание предохранить Францию от американизации?
– На этот счет у меня довольно смешанные чувства. Генерал по характеру – если смотреть на одну из его сторон – был antimachinist e[140]. В Коломбе он частенько ходил беседовать с лесорубами. Лесорубы были для него средневековьем. А вот слесарей он никогда не посещал.
Тем не менее, сказал он, де Голль понимал, что федерации европейских стран необходимо остановить промышленную атаку Америки. Он никогда не верил в политическое объединение шести стран на федеральных началах – лишь в удобный альянс. В этом альянсе он выбрал Аденауэра, но все-таки «у него, как у всех великих политических деятелей, в запасе всегда было что-то еще. Была Германия. И была Британия. Обеих он воспринимал всерьез. Остальных – нет».
Что заставило их с де Голлем близко сойтись? Тот факт, что оба интуитивно поняли: сегодняшние политические действия и великие мифы прошлого некоторым образом совпадают?
– Каждая историческая личность, обладающая той странной чертой, которую называют «поэтической», заново открывает в себе элементы мифов… Себя я ни в коем случае вершителем Истории не считаю, однако генерал – другое дело. В двадцатилетнем возрасте он начал жизнь с мыслью: «Могу ли я служить Франции так, как св. Бернар служил Христу?» Св. Бернар создал Клерво [первый монастырь ордена цистерцианцев неподалеку от Коломбе-ле-Дез-Эглиз]. А генерал – его, конечно, могли убить в 1918-м, но его призвание было очень похожим. Подобный дух когда-то существовал у вас в Англии. Меня всегда восхищал листок бумаги, который нашли на замерзшем теле Скотта: «Я сделал это, чтобы показать, на что способен англичанин»[141]. Сам человек погиб, поэтому вышло так хорошо. Напиши он это в бистро, никто бы и не заметил.
Затем он стал рассуждать о том, как всем великим героям истории приходится совершать похожие поступки для того, чтобы их признали героями. Однако тут существуют два совершенно различных типа.
– Бывают герои положительные и герои отрицательные, и эти два типа не смешиваются. Отрицательный герой обычно обладает куда большей поэтической властью. Лоуренс и Че Гевара были отрицательные герои. Александр Македонский был положительный герой. Де Голль, принимая во внимание все его поступки, был положительный герой; ему определенно недоставало мазохизма Лоуренса. Но отрицательный герой – всегда жертва. Будь Гевара сегодня президентом Боливии, из этого ничего бы не вышло. Герою вроде него требуется распятие.
– Однако, возвращаясь к генералу, замечательно было другое: он совершил то, что совершил, в пятидесятилетнем возрасте, располагая такими ограниченными средствами… в отличие от Цезаря или Александра, у которых были огромные ресурсы. Эта мысль поразила меня до глубины души, когда я беседовал с Мао Цзэдуном.
В какой-то момент во время нашей беседы я осознал, что он понимает генерала де Голля куда лучше, чем французы. А ведь что было Мао до Франции – находись она где-нибудь в Сицилии, какая разница! Когда я спросил его: «Почему вы придаете генералу такое значение?» – он ответил просто: «Потому что он – человек вроде меня. Он спас свою родину». C’est bizarre[142]. Мао прекрасно знал, что де Голль не был коммунистом. Однако он распознал эту выдающуюся черту… героя, который спасает свою родину.
– Связь между мною и генералом, вероятно, уходила корнями в то, что принято называть Иррациональным. Остальные шли за ним по каким-то своим, осязаемым причинам. [Когда он заговорил про les autres[143], тон сделался слегка враждебным, и мне вспомнились скандалы, связанные с налогами, аферы, которые ассоциируются с термином «голлизм».] Но было у генерала одно качество, которого им было не понять, – нечто, что он разделял со мной одним.
Не подкупала ли его идея монархии? Порой говорят, что де Голль был королем без королевства. Одно время, будучи молодым специалистом по приемам танковой войны, он крутился вокруг партии монархистов. В ответ на мое предположение Мальро с отвращением замотал головой.
– Он считал, что преемственности быть не может, – ведь то, что он совершил, зиждилось на Иррациональном. И все-таки он огромное значение придавал законности. Но его собственной законностью было 18 июня. Со временем он понял, что больше никто этого совершить не смог бы. Если его Конституция хороша, стало быть, она, вероятно, должна действовать. Однако его законность – это другое дело.
– Было у него одно качество, совершенно не монархическое, но то, которым мы восхищаемся во всех великих людях, проводящих конституционные эксперименты. Возьмем в качестве примера Юлия Цезаря в роли диктатора… де Голль был немного похож на него. Если пользоваться словом «диктатор» в римском его смысле, то он был диктатором, в современном фашистском смысле – нет.
– У генерала была еще одна черта. Он полагал, что определенные события влекут за собой права и определенные обязанности. Он, разумеется, читал римскую историю. А что такое было диктаторство в Древнем Риме? Это была власть, данная одному из консулов при драматических обстоятельствах. Диктаторство не было узурпацией власти. Его давал сенат. В Первую мировую Клемансо, будучи Président du Conseil[144], пользовался властью куда большей, чем остальные его члены, пока длилась война. Но еще генерал полагал – в этой вере было нечто религиозное, – что при драматических обстоятельствах законность исходит от десницы Божьей. Вот как ему представлялось 18 июня…
Тогда как он воспринял évènements[145] мая 1968-го?
– Он считал, что большинство людей отнеслись к этому абсурдным образом. Молодежные бунты передавались, как зараза, по всему миру… они происходили в Голландии, Франции, Японии, Германии и т. д. Ему об этом было прекрасно известно. Куда важнее была существовавшая во Франции проблема с профсоюзами. И эти две вещи случайно столкнулись. Профсоюзам на пользу пошли студенческие беспорядки, но они не действовали сообща – это стало очевидно, когда профсоюзы отказались сотрудничать со студентами. Оба явления были неизбежны, пересечение – нет.
Но все-таки де Голль почувствовал, что его власть после мая 1968-го ослабла?
– Да-да, – ответил Мальро, – почувствовал. В какой-то момент он подумал: «Лучше мне будет уйти. Страна либо восстановится… либо – потоп».
В то время Мальро устроил пресс-конференцию, на которой сказал: «Генерал уязвлен, как мужчина, жена которого изменила ему со слугой». Теперь он продолжал:
– Когда он вышел в отставку, я спросил его: «Когда вы, по-вашему, вернетесь?» Он отвечал: «Всегда». Я уверен, что это было правдой. Но уверен и в том, что обратное тоже было правдой. Человек с такой судьбой никогда не знает наверняка, что его ждет. Достаточно взглянуть на переписку Наполеона. Строго говоря, сто дней были всего-навсего причудой. Однако если подумать о Наполеоне, маленьком артиллерийском лейтенанте, сделавшем себя императором всей Западной Европы, то становится ясно: он всегда мог выиграть бой. Это напоминает мне en comique[146] Жозефины Бейкер, которая сказала: «Снова стать звездой куда проще, чем стать ею».
А Квебек? 27 июня 1967 года во время государственного визита в Канаду де Голль вышел на балкон и крикнул: «Vive le Quebec Libre!»[147]. Кабинет Лестера Пирсона заявил, что это «недопустимо», и генерал, прервав визит, тут же вылетел в Париж. Уж Квебек-то наверняка был ошибкой?
– Но он его горячо поддерживал! Ситуация была достаточно уникальная. Начались нападения террористов, взрывы. От этого возникало ощущение, что Квебек ожидает большая драма. На деле ничего такого не произошло, канадцы сами во всем разобрались. Но генерала обманули те, кто просил у нас помощи.
Верность, которую Мальро испытывает к генералу, не заслоняет от него недостатков последнего. Он нередко восклицал: «Ну вот, опять он преувеличивает!» в ответ на очередной антиамериканский выпад де Голля. Однако он всегда будет его защищать, как учитель защищает непростого, но талантливого ученика. Да и всех своих старых друзей он тоже будет защищать. На фоне взаимных обвинений в освобожденном Париже он был безупречным душеприказчиком своего друга, писателя Дриела Рошеля, который сотрудничал с фашистами и застрелился. В бытность министром всегда помогал выбраться из затруднений старому боевому товарищу по Интернациональной бригаде.
В его политической карьере были великие моменты: визиты за границу, процессия, тянувшаяся вокруг золотой гробницы Тутанхамона, выставленной в Пти-Пале, вид Парижа, появляющегося из-под слоя грязи, его речь на похоронах Брака[148], бывшего его другом. (В его кабинете висит «Брак, по которому следует судить всех Браков» – побережье моря с рыбацкими лодками, сведенными почти на нет, словно японским мастером дзенского рисунка.) И все же достичь более высоких целей ему как министру не удалось. Заботой его было «распространение и rayonnement[149] французской культуры». Возможно, он был недостаточным шовинистом в культурном смысле, чтобы достучаться до народа? Возможно, его собственные идеи были слишком возвышенны, недоступны для понимания обычных людей? Он считает, что все искусство – вызов, бросаемый человеческой судьбе, и что посредством искусства народ изгоняет своих демонов. Он по-настоящему ненавидит посредственность. К тому же он, видимо, страдал от ненависти, которую вызывал как сторонник де Голля в левых творческих кругах, чьи представители измазывали своими граффити его Maisons de la Culture[150].
Да и в самом понятии Министерства культуры есть нечто тоталитарное. Не представлялся ли он себе жертвой компромиссов?
– Во Франции все искусство сосредоточено в маргинальных слоях общества. В Министерстве иностранных дел я бы не выжил. Одно из преимуществ этой страны состоит в том, что здесь с давних времен сохранилось уважение (у вас в Англии такого нет) к мыслителям, чье влияние принесло плоды во время революции: к Вольтеру, Руссо и т. д. Их влияние утвердило в правах все маргинальное искусство.
Английское искусство, сказал я, достигает своих вершин, когда оно на самом деле английское; величайшие художники, такие, как Палмер или Блейк[151], – личности одинокие и эксцентричные. В то время как во Франции тон нередко задают иностранцы.
– Вспомните Пикассо…
– Да, но ведь в этом – душа Англии! – Завидев выход, он устремился к нему, словно к бреши в обороне. – Своего истинного величия Англия достигает, когда она одинока. Что до Франции, она не может быть собой, когда сражается за себя. Настоящая Франция – Франция Крестовых походов, революций. Когда французы сражаются за человечество, они великолепны. Когда они сражаются за себя, они – ничто.
Я упомянул Анатолия Луначарского, наркома просвещения при Ленине, ставшего прототипом всех министров культуры. Он тут же выхватил откуда-то анекдот про то, как Луначарский выступает в роли цензора фильма Эйзенштейна «Октябрь». «Есть искусство, есть кино. Но… щелк-щелк… есть еще и политика».
Он продолжал:
– К сожалению, большевики пребывали в заблуждении относительно искусства. Но ведь когда-то они были в изгнании вместе с художниками-кубистами, сидели с ними в одних и тех же бистро. Ленин вернулся в Россию с мыслью о том, что кубизм, как бы то ни было, является естественным самовыражением пролетариата, и это уже смешно. Долго это не продлилось, но у русского авангарда поя вилось какое-то пространство для дыхания, для развития. Со смертью Ленина оно исчезло; Сталин и слышать не желал о такой вещи, как кубизм… А в образе Луначарского перед нами предстает смесь старого эмигранта, который пил café-crème в «Ротонде»[152] вместе с Шагалом, заказывал ему театральные декорации, и министра-большевика со всеми обязанностями министра. Он шел вперед день за днем – один мост позади, другой впереди, – а потом умер.
Он не просто рассуждал о Луначарском, но высказывался о трудностях, которые стоят перед всяким интеллектуалом, попавшим в ловушку реалий власти.
Когда дело касается русских, чувство нелепого в Мальро прорывается наружу. В первую нашу встречу он рассказал следующую историю о том, как де Голль показывал Хрущеву Зеркальную галерею в Версале.
Де Голль (постукивая ногой по паркетному полу): «Это знаменитый parquet de Versailles»[153].
Хрущев (нагибаясь): «У нас в Ленинграде, в Эрмитаже, точно такой же, только наш сделан из черного дерева».
Де Голль, обращаясь к Мальро: «Этот человек начинает меня утомлять».
Дальше идет история о визите де Голля к Сталину после Ялтинской конференции. Сталин специально устроил показ фильма, в котором русские солдаты убивали нацистов. С каждым рухнувшим немцем Сталин сжимал колено генерала, так что в результате оно покрылось синяками. «Под конец, – рассказывал он, – я вынужден был убрать ногу».
Солженицына Мальро называет писателем девятнадцатого века, вроде Толстого, писателем, который не обращал внимания на достижения Пастернака или Бабеля. Он повторил рассказ о том, как Жид собирался с визитом к Сталину, чтобы осведомиться об участи гомосексуалистов в Советском Союзе, и о том, как сбившиеся с ног кремлевские сотрудники помешали этому визиту; Жида депортировали бы во Францию, а их – в Сибирь. Еще он с любовью вспоминал сэра Исайю Берлина, безусловно, самого выдающегося соперника Мальро по части словесной ловкости.
– У нас с ним одинаковые забавные воспоминания о России. Мы были там в одно и то же время, вращались в одних и тех же кругах. В тридцать четвертом, когда начинались чистки, русская интеллигенция все еще жила в milieu extravagant[154]. Было похоже на Монпарнас в Первую мировую. Там присутствовал некий дух, прямо-таки шекспировский.
Он продолжал рассказ: о писательских кафе в республиканском Мадриде, где Джордж Оруэлл был garçon timide[155], о том, как Эрнест Хемингуэй впервые купил себе смокинг, чтобы посетить его (Мальро) лекцию в Нью-Йорке, целью которой был сбор пожертвований.
– Я не был с ним близко знаком. Впоследствии мы с ним иногда встречались во Франции. Правда, в последний раз у меня сложилось впечатление, что недуг уже поразил его.
Эти двое сердечно ненавидели друг друга. Хемингуэй считал «товарища Мальро» позером, а Мальро считал, что Хемингуэй лишь строит из себя крепкого парня. Когда-то я уже спрашивал его об американском писателе. «Hemingway, c’est un fou qui a la folie de simplicité»[156].
Решив сменить тему, я спросил, как получилось, что у темнокожих африканских народов меньше комплексов по поводу их французского колониального прошлого, чем у их англоязычных соседей.
– В нашем случае это наследие Французской революции. Темнокожие сделались гражданами Франции по Конвенции 1792 года. И результат вышел довольно странный. Ведь какой-нибудь сенегалец может сказать половине моих друзей: «Я стал французом раньше вас». У огромного количества парижан родители из Эльзаса, Ниццы и т. д., а эти места вошли в состав Франции только в девятнадцатом веке. Зато Сенгор [поэт и президент Сенегала] может, если захочет, сказать: «Я француз с 1792 года». Конвенция раскрепостила колонии. Позже Наполеон ввел старые порядки ради Жозефины, но идея раскрепощения сохранилась.
В чем заключалась для Мальро жизнь человека действия?
– Есть определенный тип человека, которому требуется действие ради самого действия, как художнику требуются краска и холст. Но будьте осторожны! Многие из величайших исторических личностей, особенно занятые le grande politique[157], непосредственных действий толком не видали. Это вопрос индивидуального темперамента. По полочкам не разложишь. Наполеон был достаточно воинственным. Александр тоже, а вот Цезарь – в куда меньшей степени, а Ришелье – вовсе нет. При этом Ришелье был одним из величайших людей действия среди французов. Он вытащил Францию из положения третьестепенной державы, превратил в первую страну Европы.
Я имел в виду не это. В конце концов, сам Мальро повидал достаточно непосредственных действий, прежде чем прийти к выводу, что «авантюра осталась существовать разве что в высших правительственных кругах». Что значили для него его собственные действия?
– Во Франции интеллектуалы обычно не способны даже зонт открыть. Если интеллектуал сподобится пойти в ораторы или сражаться за родину, это уже что-то. Скажем так: во мне удачным образом сочетаются интеллект и физическая смелость, что я ежедневно доказывал в Испании. Это совпадение, счастливое совпадение, но все-таки – совпадение, притом банальное! Классический французский интеллектуал – homme de bibliothèque, писатель в своей библиотеке; эта традиция идет со времен Вольтера – что, по сути, неверно, поскольку Вольтер занимал чрезвычайно серьезные политические позиции. Однако репутация человека из библиотеки закрепилась. Есть одна личность, которую вы не помните – слишком молоды, но которая сыграла важнейшую роль, – Анатоль Франс. Анатоль Франс был великий талант. Его хоронили с государственными почестями. Однако Анатоль Франс не просто сам был homme de bibliothèque – его герои, и те были hommes de bibliothèque.
– Но вы из библиотеки бежали?
– Когда… возвращаешься из Азии и обнаруживаешь, что все твои приятели по «Nouvelle Revue Française»[158] пишут романы о гомосексуализме, да еще придают этому огромное значение, так и подмывает сказать: «Есть и другие вещи. Могила неизвестного педераста под Триумфальной аркой – это в некотором роде перебор».
Мальро не возражает против революционеров как таковых, лишь против революционеров – пустопорожних болтунов; этот класс он называет «чувствительные натуры из кафе “Флора”». Его отношение к революции таково: «Отправляйтесь в Боливию или сидите в кафе “Флора”». Он восхищается Режисом Дебрэ[159] и недавно обедал с ним. Все прошло великолепно, пусть мадам Дебрэ и сочла, что встрече несколько недоставало диалектики. Два года назад посетители, приезжавшие в Верьер, изумлялись, обнаружив, что кабинет Мальро превращен в ставку командования, а сам он склоняется над картами Восточной Бенгалии. Миссис Ганди, к его явному раздражению, не захотела видеть старого друга своего отца на поле битвы, и он поехал в Бангладеш только после провозглашения там независимости.
– Но если бы в дело не вступила Индия, я мог бы совершить нечто весьма серьезное. Я хотел отправиться в Бенгалию, взяв с собою шестьсот офицеров. Во Франции сколько угодно армейских офицеров в отставке, не особенно молодых, но и не слишком старых. Причем им ужасно скучно, и они рвутся в бой. С шестьюстами офицерами в ранге выше капитана мы могли бы открыть офицерскую школу и через полгода выпустить 2000 бенгальцев. У них все офицеры были пакистанцами, так что мы бы сделали великое дело. А каким ему показался Муджибур Рахман?[160]
– Европейцы заблуждаются, думая, будто он что-то вроде Ганди или Неру… Муджибур действует харизматически. Когда он путешествует по стране, ему кажется, что все замечательно, потому что его везде принимают по-царски. Он создает пламенную атмосферу. «Бангладеш победит!» и т. д. Но это далеко не решенное дело. Намерения его чисты, в этом я не сомневаюсь. В нем самом гнили нет, но гниль есть в государстве, и трудности перед ними стоят огромные. Не знаю, как вы, но сам я не поддаюсь пессимизму. В наше время, если в стране не царит тоталитарный режим, то действия отдельно взятой личности на местном уровне обладают достаточной силой, чтобы создать организацию. В Индии дела вершит не центральное правительство Индии. А какой прогресс с тех пор, как Индия получила независимость, formidable![161]
Так какие же сегодня перспективы у авантюриста? По его мнению, это слово особым смыслом не обладает. Возможно, какие-то слабые шансы в Средней Азии (все-таки Советский Союз – единственное сохранившееся имперское государство).
– Но ведь в Самарканде стоят многоквартирные дома, – грустно заметил он.
Под конец беседы мы обратились к Афганистану с его бледно-зелеными реками и буддистскими монастырями, где над кедровыми лесами кружат орлы, а племена ходят с медными алебардами и носят на головах лавровые венки, как во времена Александра Македонского.
– Еще Тибет, – сказал он, – всегда остается Тибет…
Собственность Максимилиана Тода
{10}
Шестого февраля 1975 года доктор Эстель Нойманн упала в расщелину ледника Бельграно в чилийской Патагонии.
В результате ее смерти Гарвард лишился лучшего гляциолога, работавшего в Соединенных Штатах; я потерял близкого союзника и хорошего друга. Думая об Эстель, я всякий раз вспоминаю ее чувство юмора, способности к статистике и эту слепую, бездумную храбрость, которой не хватало воображения, чтобы обернуться.
Работа доктора Нойманн продолжалась, правда оказавшись в руках менее надежных – я бы даже сказал, в предательских руках. В феврале прошлого года ее бывший ученик, доктор (теперь уже профессор) Гельмут Леандр из Института гляциологии в Киддколледже, штат Миннесота, опубликовал 103-страничный труд, в котором нападает на ее «Ледники Южного полушария». Затем, в сентябре, на симпозиуме по мировой климатологии в Тель-Авиве он назвал ее изыскания «безответственными». Тем вечером в баре отеля «Хилтон» до меня донеслись обрывки рассказа на немецком, обращенного к слушателям из Западной Германии, в котором объяснялось, что теория Нойманн – продукт неизлечимого оптимизма автора. «Или же, – добавил он шепотом, – ее купили».
Я проверил ее цифры. Перепроверил их. На эту работу у меня ушло шесть недель; по окончании я ходил с покрасневшими глазами, без сил. Эстель исписала своими материалами тринадцать блокнотов карманного формата в черных ледериновых переплетах: уравнения, графики и диаграммы, расшифровать которые способна была одна она, а в ее отсутствие – человек, близко ее знавший, то есть я. Я обязан был это сделать: как в память о ней, так и для того, чтобы убедить организации, спонсировавшие наши исследования. Никаких ошибок в ее данных, методе и выводах я не нашел.
Работа Эстель не могла не взбудоражить специалистов по катастрофам. Она неоспоримо доказала, что впрыскивание ископаемого топлива в атмосферу не оказывает ни малейшего эффекта на температуру ледников. Вероятность того, что это вызовет новый ледниковый период, – по крайней мере, в следующие 10 000 лет – нулевая. А заявления доктора Леандра и его коллег попросту отражали ту склонность к саморазрушению, что в наши дни въелась в американские научные круги. «Ох уж мне эти додо![162] – вздохнула бы она. – Ох уж мне эти додо!»
Эстель опубликовала свою диссертацию в 1965-м, и с тех пор ее работа привлекала внимание химической, нефтехимической и аэрокосмической промышленности. Фонд «Клиффхарт» (подразделение компании «Хартланд-ойл») спонсировал наш проект, выделив на него 150 000 долларов. Пять месяцев мы изучали структуру «цветов Тиндаля»[163] – полостей в форме цветка с шестью лепестками, которые образуются в параллельных слоях на поверхности тающего льда и напоминают наложенные друг на дружку каллиграфические надписи какого-нибудь дзенского мастера из Японии.
(Другой крупный специалист в этой области, доктор Нономура Хидеёси, ушел в монастырь неподалеку от Нары.)
Не успели мы закончить, как еще девятнадцать фондов стали уговаривать нас принять от них деньги – столько, сколько понадобится. Их попечители, видимо, готовы были на любые расходы, лишь бы работа продолжалась.
Девятого октября 1974 года, светлым осенним днем, когда повсюду кружились багряные листья, мы с Эстель встретились в Гарварде, в факультетском клубе, чтобы за обедом обсудить нашу предстоящую экспедицию на шапку ледника Бельграно. Яйца «бенедикт», которые нам принесли, были почти несъедобными, беседа утопала в ржании пяти оксфордских историков за соседним столиком.
Эстель было сорок три года: красивая, мужеподобная женщина с коротко подстриженными черными волосами, лежащими челкой над внушительными бровями. Годы, проведенные на солнце, на ветру и под снегом, отполировали ее лицо до фактуры кожи ботинок; когда она не лучилась самодовольством, на нем проявлялись белые морщины.
Одевалась она просто, без претензий: свитер и юбка в лаборатории, почти никаких ухищрений для приемов с сырным фондю, которые она устраивала в своей кембриджской квартире. Однако у нее имелось пристрастие к «примитивным» украшениям наихудшей разновидности: бирюза навахо, африканские браслеты, янтарные бусы. В тот день между грудей у нее трепыхался золотой орел из провинции Верагуас; у меня не хватило духу сказать ей, что это подделка.
За обедом Эстель изложила мне критический обзор литературы о патагонских ледниках. Она помнила все: была ли та или иная брошюра напечатана в Вальдивии или в Вальпараисо, в 1897-м или в 1899-м. Она обратила мое внимание на некоторые новые работы доктора Андрея Широкого из новосибирского Института Антарктики, который исследовал северный склон гряды Таннгейзер в годы правления Альенде. Но чаще всего в разговоре она возвращалась к определенным топографическим деталям ледника Бельграно.
Она окидывала меня странным взглядом. Задавала дотошные вопросы о нашем исследовательском фонде – что было ей совершенно несвойственно. Она спрашивала даже о наших счетах в Швейцарии. Могу уверенно сказать, что на моем лице не отразилось абсолютно ничего; под конец она сдалась и вернулась к своей обычной манере говорить свысока. Тут она завела речь о «Патагонских исследованиях» Ваино Мустанойя, опубликованных по-английски в Хельсинки в 1939 году.
– Вам очень понравится старик Мустанойя, – сказала она. – Его литературный стиль прямо-таки завораживает.
Замечу, что Эстель совершенно не разбиралась в литературных стилях, а выбранное ей словечко «завораживает» находилось далеко за пределами круга ее обычных глаголов.
– Надо снять с него фотокопию, – продолжала она. – Я обещала выслать экземпляр старине Широкому. Вы знаете, единственный существующий экземпляр находится в Пибоди. Представляете?!
Даже у финнов его нет.
Извинившись, я поспешно направился в библиотеку музея Пибоди[164] и взял том in quarto, о существовании которого прежде не знал. Розовая бумажная обложка была украшена очаровательными иллюстрациями гравюр Бельграно, сделанных самим Мустанойя на медных пластинках. Заголовки были набраны грубыми буквами, сделанными из веточек нотофагуса. По краям шли виньетки – этнографические образцы, собранные им у индейцев техуэльче во время экспедиции 1934 года и подаренные музею Рованиеми[165].
Размышляя об этих артефактах с юга, хранящихся в городке на самом севере, я расчувствовался. Я открыл страницы 141–142. Взмах лезвия, дважды аккуратно сложить – и лист у меня в кармане. Кто бы мог подумать, что у Мустанойя выдающийся литературный стиль, особенно с учетом его финского происхождения.
«От озера Ангостура тропинка вела через равнину, обнажившуюся вследствие эрозии и покрытую скудной ксерофитной растительностью. Здесь умудрились выжить чахлые кусты калафате (Berberis Darwinii), в остальном же местность была пустынная, скудная, покинутая гуанако, непригодная для овец. Я прошагал двадцать три мили – в глаза мне летела пыль от соляных озер, – и тут моим глазам открылась поросшая лесом долина Рио-Таннгейзер. За ней виднелись розовые и зеленые пласты Месеты Колорадо; за ними – лазурные ледники Андийских Кордильер.
Двухчасовой спуск привел меня в Пуэсто Ибанес, лагерь лесорубов, где я надеялся купить еды у обитателей. Неделю питание мое ограничивалось жареными красногрудыми скворцами (Trupialis militaris), подстрелить которых было отнюдь не просто, поскольку они обладают исключительно крепким для птиц их размера черепом.
Однако поселение лежало в развалинах вследствие деятельности какого-то чилийского бандита. Перед обгоревшими остатками жилища сидела на корточках женщина с мертвым младенцем на руках и с выражением безнадежного горя на лице указывала на полувыкопанную могилу своего мужа.
Ужасную сцену до некоторой степени оттенял Embothrium coccineum, пылающий багряными цветами. Вдоль берега реки тянулись заросли фуксии (F. Magellanica), бамбука (Chusquea Cumingia) и Saxegothaea consp icua. Цвела альстромерия, а также желтые фиалки, кальцеолярия и подснежник снеговой, который оказался новым видом и который мой друг, доктор Бьорн Топелиус из Уппсалы, назвал в мою честь M. Must anojensis.
Тремя милями выше по течению я набрел на сгоревшую деревянную хижину – еще одно свидетельство того, что тут поработал бандит, – откуда унес интересный свод черепа человека. Я разбил лагерь на гостеприимной лужайке, где, к своему удовлетворению, заметил свежие следы андского оленя и отправился подстрелить себе что-нибудь на обед.
Не прошел я и трехсот ярдов, как в прицеле появилась самка; я уложил ее одним выстрелом. Тут к мертвой матери подбежал олененок; я уложил и его. Однако я не заметил, что к олененку подобрался олень-самец. Вторая моя пуля прошила череп первого и снесла симфизную часть нижней челюсти последнего. Таким образом, мне пришлось убить третье животное и уничтожить все семейство.
Утром, основательно подкрепившись, я отправился исследовать Месету Колорадо…»
На следующей странице «Патагонских исследований» – я и теперь еще дрожу при мысли о том, что мне придется обнародовать ее содержание, – описывается, как Мустанойя открыл «потерянную» долину, которую проглядели британские топографы из комиссии Холдитч в 1902-м. Тот факт, что о ее существовании стало известно Эстель, привел меня в ужас.
Третьего ноября я улетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес. Я был один; мне удалось устроить так, чтобы ее позвали в Сиэтл, прочесть лекцию в память об Ф. З. Боинге – приглашение, от которого она никак не могла отказаться. Мы договорились встретиться в январе в определенном месте на аргентинской границе неподалеку от Эскуэля.
До озера Ангостура я добрался 9 ноября. Со времен Мустанойя поселение разрослось. Эстансия теперь принадлежала немцу по имени дон Гийермо Майнгаст, который приехал сюда после Второй мировой войны. Тут имелись полицейский пост, бензоколонка и отель-бар «Альгамбра», здание из рифленого железа, выкрашенное в ярко-зеленый цвет; правда, с наветренной стороны краску съела соляная пыль.
Хозяйкой его была печальная молодая вдова, начинающая полнеть, которая все время проводила за лакированием ногтей и листанием аргентинских футбольных журналов. Обед – неизменный обед жителей патагонской пампы – состоял из банки сардин, куска баранины, подпрыгивающего на тарелке, и кислого красного вина, подаваемого в кувшине из пингвиньей кожи.
Двое других клиентов с касками на головах сидели у окна и играли в домино. Один был крупный, обветренный мужчина с безжалостным ртом и блуждающим взглядом, одетый с головы до ног в черное. Его товарищ был индеец, карлик с горбом.
Выиграв партию, карлик тихо произнес: «Vamos!»[166], и крупный мужчина, сунув нож в ножны, посадил его к себе на предплечье. Вместе они отъехали прочь, в бурю.
Дорога, ведущая в Пуэсто-Ибанес, по-прежнему отвечала описанию Мустанойя, однако никаких признаков лагеря лесорубов не было, а дно долины сплошь заросло бамбуком. Найти дорогу вверх по скалам Месеты без экземпляра «Патагонских исследований» не удалось бы ни одному путешественнику.
Я стоял на чилийской земле и смотрел вниз с высоты 5500 футов – если верить показаниям моего анероида, – с той гряды, откуда Мустанойя впервые заметил долину. Я позволил взгляду блуждать по видам, столь живо им описанным: вал пунцовых облаков, окружающий ледники; «дыра» – ясное голубое небо; радуги; стремнины легкого дождя; сам Бельграно, «струящийся, подобно складкам свадебного наряда»; сверкающие осыпи слюдянистого сланца, черные леса, а далеко внизу по ярко-зеленым пастбищам змеится река.
Я понял – лучше, чем когда-либо, – что он имел в виду под «идеальным микроклиматом». Дальше я пошел по дороге вниз, петляя по «цветущему лугу»: водосбор, тюльпаны, нарциссы, гермодактилус, крокусы и фритиллярия – все азиатские растения; по сути, при виде такого количества редкостей с Кавказа и Гиндукуша делалось ясно, что посадил их ботаник с неординарными знаниями. Я остановился у корявого кипариса, чтобы передохнуть в хижине, построенной из коры и корневищ деревьев в подражание обители Руссо в парке Эрменонвиля (с гравюры Юбера Робера)[167]. Да и сама дорога была произведением искусства, никак не меньше: покрыта белым гравием, насыпь сделана так, чтобы идти было как можно легче, все наносы и режущие камешки убраны.
Пробираясь через занавеси изумрудно-зеленого мха, я нырнул в темный лес Nothofagus antarct ica, безмолвный, если не считать тиканья магеллановых королевских дятлов. Спустившись еще на 1000 футов, я очутился на солнечном свету, пятнистом от молодых саженцев деревьев: тополя, адамовы деревья, птерокарии, сибирские березы и курильские лиственницы с синими иглами.
По дну долины тянулся волнистый дерн; оказалось, что это не трава, а ковер стелющейся андской земляники, усеянной ягодами, которые издавали вкуснейший запах, если их раздавить.
Iris Kaempferi кобальтовой лентой опоясывал озеро, чьи воды были цвета серебристого – бледнее не встретить – селадона и до того прозрачны, что форели, плавающие по его дну, покрытому белыми камушками, казалось, парили в воздухе.
Эти ирисы были единственными синими цветами в долине. В остальном растительность состояла из белых ив, аралий с листвой, окаймленной белым, серебристых рябин и боярышника пижмолистного. Среди цветов попадались белый эремурус, древовидный пион, омейская роза и гигантская гималайская лилия, поднимавшаяся восковыми пагодами. Иные растения были черными: черный триллиум, бамбук с черными стеблями и черная лилия с Камчатки. Черные обвертки критского драконьего аронника окрашивали ивовую рощу в похоронные тона.
Дом мистера Тода – ибо так звали владельца – был просторным павильоном, построенным на возвышении примерно в ста ярдах от воды. Размером тридцать пять на тридцать пять футов, он был ориентирован по сторонам света, с каждой, кроме севера, имелось пять подъемных окон. Стены были сделаны из вертикальных досок, скреп ленных рейками и выкрашенных под олово. Горбыльки оконных переплетов были теплого цвета слоновой кости.
Трудно представить более простую постройку. Ее строгость и идеальные пропорции восходили к утопическим проектам Леду[168] и домам сообществ шейкеров в штате Нью-Йорк. Единственная попытка украсить ее состояла в том, что вокруг рам пустили две тонкие полоски бусин: одна была выкрашена в темный ляпис, другая – в тусклый красный.
И все же архитектор избежал абсолютной правильности, присущей западной традиции. Крышу венчал на китайский манер еле заметный конек; все стены были чуть разной длины; все были самую малость наклонены внутрь; и эта легчайшая асимметрия придавала зданию атмосферу замершего движения.
Порог представлял собой плиту серого сланца, скругленную по углам и инкрустированную прозрачной шпинелью. Фундамент скрывала клумба, засеянная рутой, и серовато-зеленая листва словно приподнимала дом над землей.
У основания холма стояла деревянная колонна десяти футов высотой, покрытая лаком цвета киновари. К ней был зеленым поводом привязан туркменский жеребец светло-гнедой масти. Седло на нем было монгольского типа, желтой кожи, со стременами серебра невысокой пробы.
Из дому вышел мальчик с сапсаном[169] на перчатке. Одет он был в серую шелковую рубашку без ворота, коричневые, цвета нюхательного табака бриджи и красные кожаные сапоги гармошкой. Его серые глаза смотрели в глаза птицы, не отрываясь. Он сел на коня и припустил рысью на запад, к расщелине в стене гор.
Вторая дорога вела на пастбище по облачно-голубому мосту, изогнувшемуся над ручьем. Через дымовую завесу белых тополей неясно проглядывала череда зданий. Поблизости была черная неоклассическая голубятня, где мистер Тод имел привычку обучать своих любимых птиц танцам суфийских дервишей в трансе.
По таким случаям он обувался в ботинки из парусины и сыромятной лосиной кожи и надевал hubertusmantel[170] из светло-серого грубого сукна. Это был атлетически сложенный человек лет сорока пяти… однако описывать его внешность в этих воспоминаниях я не намерен.
Все внутренние стены дома были выкрашены темперой цвета слоновой кости.
Ставни были серые; занавесей не было.
Прихожую освещала шведская люстра с янтарными висюльками вместо хрустальных. Пол был мозаичный, выложенный камушками – яшмой и халцедоном с осыпей вулкана. Имелся стол на козлах, на котором были разложены два охотничьих ружья «Purdey»[171] и пара наполеоновских шкатулок зеленого сафьяна: одна использовалась для гильз, другая для мушек, на какие ловят форель. Вокруг стен располагались en trophée[172], среди них – удочки из расщепленного тростника, рыболовные багры и приспособления для стрельбы: лук из дерева туи, сделанный для шевалье де Монвиля в 1788 году, сложносоставной монгольский лук и японская самурайская мишень периода Муромачи.
Скрещенная пара австрийских ледорубов соседствовала с рюкзаком, легче которого невозможно представить, сшитым из полос тюленьего мочевого пузыря и пристегнутым к раме из клееной березы.
Кухня и ванная выполняли роль исключительно функциональную, единственным признаком роскоши там был набор туалетных принадлежностей – баночек с серебряными крышками, сделанных из имперского порфира. Оставшаяся часть дома, не считая нескольких встроенных шкафов, представляла собой одну комнату, которая обогревалась печкой фабрики Рёстранда, выложенной белым фаянсовым кафелем. Пол был паркетный, из скобленой сосны. Ковер – тибетский, синий.
На восточном конце комнаты стояла ширма, покрытая гавайской тапой бледнейшего оттенка оранжевого, а за нею – стальная походная койка маршала Нея с подлинной драпировкой из ярко-зеленой тафты.
На задней стороне ширмы висели несколько акварелей и рисунков, вызволенных из коллекции побольше, – те, что не успели окончательно опротиветь мистеру Тоду. Среди них были: «Знамена из конского волоса Сулеймана Великолепного» работы немецкого рисовальщика Мельхиора Лорха; «Механика орлиного крыла» работы Якопо Лигоцци; миниатюра с изображением полярной крачки, сделанная Мансуром для императора Джахангира; карьер Бибемус Сезанна, выполненный несколькими мазками кисти; льдина работы Каспара Давида Фридриха; смятые простыни, принадлежавшие самому Делакруа, и одно из «цветовых начал» Тёрнера – два кармазинных облака в золотом небе.
Не считая стального chaise de camp[173] и походного рабочего стола барона Виван-Денона, мебель в комнате была ничем не примечательна. Мистер Тод говорил, что мебель, которая не уместится в навьюченную на мула корзину, его не интересует.
И все же тут имелись два кресла с подголовниками, покрытые льняными чехлами убедительного покроя. А на трех столиках, выкрашенных темперой, была разложена коллекция редкостей, которую мистер Тод, действуя путем исключения и подчиняясь нуждам путешествий, довел до аскетического набора первой необходимости.
Ни на одном из произведений искусства не найти было изображения человека.
Читать описи вещей – занятие утомительное, поэтому ограничусь следующими: бронзовая фан-и времен династии Шан с патиной, словно дынная кожура; зеркало нюрнбергского волшебника; ацтекская тарелка с пунцовыми цветами; хрустальный реликварий из гандхарской ступы; безоар в золотой оправе; изумрудная флейта; пояс-вампум; розовый гранитный Гор-сокол I династии; несколько эскимосских животных из моржовой кости, которые, несмотря на все попытки стилизовать их, сгладив черты, прямо-таки дышали. Должен, однако, особо отметить три режущих приспособления, поскольку они были предметом эссе мистера Тода «Die Äst hetik der Messerschärfe»[174], вышедшего в Йене в 1941 году, где он заявлял, что всякое оружие представляет собой искусственные когти или зубы, приносящие своим владельцам удовлетворение сродни тому, что испытывают плотоядные, разрывая теплое мясо. Они были следующие:
Ашельское кремневое ручное рубило из гальки Сены с дополнительным украшением – подставками из позолоченной бронзы в стиле Людовика XV и с посвящением: «Pour le Roi»[175].
Немецкий кортик бронзового века, выкопанный отцом мистера Тода из кургана в Юкермюнде, на Балтийском море.
Лезвие меча из коллекции его друга и учителя, Эрнста Грюнвальда, датированное 1279 годом и подписанное Тосиру Есимитсу, величайшим мастером по мечам средневековой Японии. (Отметка на лезвии означала, что оно успешно выполнило – на некоем преступнике – движение, называемое иаи, удар кверху, разрубающий тело надвое от правого бедра до левого плеча.)
Не стану опускать и описание трех других предметов из коллекции Грюнвальда: чайная чаша работы Коэтсу под названием «Гора зимой», плетеная берестяная шкатулка времен маньчжурской Золотой династии и куб иссиня-черного камня с надписью «Этот чернильный камень с мертвыми глазами происходит из старой ямы нижней скалы в Туань-Цзы и принадлежал художнику Ми Фэю».
В берестяной шкатулке мистер Тод хранил свои два наиболее драгоценных предмета: каллиграфию дзенского мастера Сэн Сотана с заповедью: «Ничто не принадлежит человеку изначально», и свиток с ландшафтом работы самого Ми Фэя – художника, писавшего горы, подобные облакам, и облака, подобные горам, пьяницы, одержимого камнем безумца, знатока чернильного камня, ненавидевшего прирученных животных, который бродил по горам, никогда не расставаясь со своей бесценной коллекцией произведений искусства.
Стены комнаты были голыми, не считая обрамленной турецкой каллиграфии, надписи на фарси, сделанной на золоченом остове листа: «Быть ходячим мертвецом, тем, кто умер прежде смерти» – строчки из Руми («Маснави», VI, 723).
Библиотека мистера Тода – по крайней мере, видимая ее часть – была не библиотекой в обычном смысле слова, но коллекцией текстов, которые, по его мнению, обладали некой особой значимостью. Они были завернуты в серую бумагу и хранились в дорожной шкатулке из шагрени. Перечислю их в том порядке, в котором они располагались, поскольку порядок этот сам по себе дает определенное представление о характере их владельца: трактат Кассиана о духе уныния; ранняя ирландская поэма «Хижина отшельника»; поэтическое сочинение Сянь Ин Луна «О жизни в горах»; факсимиле «De Arte Venandi Cum Avibus»[176] императора Фридриха II; рассказ Абу аль-Фазла о полете голубя Акбара; «Записки о цвете воды и льда» Джона Тиндаля; «Ирония вещей» Гуго фон Гофмансталя; «Коттедж Лэндора» По; «Паломничество Каина» Вольфганга Гаммерли; стихотворение в прозе Бодлера с названием по-английски «Any where out of the World»[177]; издание 1840 года «Étude sur les Glaciers»[178] Луи Агассиса с приложением, где даны хромолитографии Юнгфрау[179] и других швейцарских ледников.
Даже самому ненаблюдательному читателю должно быть ясно, что Максимилиан Тод – это я. Моя история не имеет значения. Терпеть не могу откровений. Кроме того, я полагаю, что человек – сумма своих вещей, даже если признать, что существуют малочисленные счастливцы, которые являются суммой отсутствия вещей. И все-таки несколько фактов о моем существовании могут помочь расположить мои приобретения в хронологической последовательности.
Я родился 13 марта 1921 года в гранитном особняке моих американских предков в Бакспорте, штат Мэн. (В доме имелся посредственный портрет работы Копли и коллекция аттических ваз, которая никогда, даже в детстве, не вызывала во мне вожделения). Отец мой Калеб Сэлтонстолл Тодд, мать – Мария Графин Хенкель фон Трочке из Юкермюнде в Восточной Пруссии. Свое состояние бакспортские Тодды нажили на экспорте льда в Индию. История моих немецких предков начинается в период после монгольских нашествий.
Отец был учеником Мэдисона Гранта и постоянно сыпал цитатами из «Ухода великой расы» этого автора. Будучи студентом Гарварда, куда поступил в 1910-м, он взахлеб читал сочинения по расовой философии Эрнста Геккеля, чьи попытки разъяснить историю в терминах грубого биологического детерминизма – публичное оскорбление логике и здравому смыслу.
Калеб Тодд впервые отправился в Германию в 1912 году; там его внешность привлекла множество поклонников, но под его очарованием скрывался ум исключительно бессодержательный. В Гарварде он заинтересовался археологией и, прочтя у Коссинна раздутую хронологию немецкого бронзового века, всерьез поверил в то, что арийская раса возникла случайно на Люнебургском лугу. Войну он провел в Америке, но в 1919-м вернулся в Германию. Ведя раскопки кургана во владениях фон Трочке, он познакомился с моей матерью и женился на ней.
В детстве я проводил лето либо в Мэне, либо в огромном неоклассическом доме в Юкермюнде, откуда открывался вид на болото с небом и где был целый портик бесстрастных богинь. Мой энтузиазм по части голубого льда начался с посещения в 1930 году гамбургского Кунстхалле, где я увидел шедевр Фридриха «Гибель “Надежды”»[180]. Страсть эта подтвердилась, когда в 1934-м я впервые бросил взгляд на пики и расщелины Нижнего гриндельвальдского ледника.
Моя мать утонула, катаясь на яхте по Ботническому заливу в июне 1938-го – вследствие трусости отца и нехватки у него знаний по части морской выучки. С тех пор я его ни разу не видел.
Мое образование было доверено частным преподавателям; в результате все свои знания я приобрел самостоятельно. В мае 1937-го я опубликовал первое свое эссе по истории искусства, о «Битве Александра» Альтдорфера в Мюнхене[181]. За несколько месяцев до того я купил у антиквара на рю дю Бак стальной мольберт, на котором картину вкатывали к Наполеону в его ванную в Мальмезоне. Темой моей работы было выражение во взгляде Дария, полном ужаса и одновременно любви, в момент, когда он в яростной рукопашной схватке видит, что на него направлено острие копья Александра.
Когда объявили войну, я был в Инсбруке, собирал материал для статьи о кунсткамере эрцгерцога Фердинанда в замке Амбрас. Я знал, что Соединенные Штаты встанут на сторону союзников, и поспешил в Берлин. Использовав связи деда, стал гражданином рейха.
Германию я избрал по причинам эстетическим. Я полагал, что война – высший эстетический опыт Человека и что понимают это лишь немцы и японцы. Только они понимали структуру войны; о том, чтобы сражаться на другой стороне, невозможно было и подумать.
Нельзя сказать, чтобы я или мои друзья ожидали, что мы победим. Мы никогда не разделяли истерического оптимизма верховного командования. Мы сражались по причинам, которых этим выскочкам-оппортунистам было не понять, – для нас большевизм и национал-социализм были разными гранями одного и того же явления. Не сражались мы и за фатерлянд. Мы сражались лишь ради того, чтобы сражаться. По сути, мы сражались ради того, чтобы проиграть. В эстетическом смысле проигрывать всегда надежнее.
В Берлине я подружился с Эрнстом Грюнвальдом, секретарем Общества германско-японской дружбы. Он тридцать лет прожил в Японии, из них десять – в монастыре Дайтоку-дзи в Киото. Он единственный на Западе понимал то свойство искусства, которое японцы называют «ваби». Буквальное значение этого слова – «бедность», но применительно к произведению искусства оно означает, что истинная красота, «та красота, которой не по пути с этим миром», должна основываться на использовании самых скромных материалов.
Я поехал жить к Грюнвальду, в его загородный дом близ Эберсвальде. Тем летом, опьяненные запахом поздно зацветших лип, мы упражнялись в дзенской стрельбе из лука под грохот идущих в Польшу танков за воротами.
В декабре 1940-го я был зачислен в 24-ю бронетанковую дивизию; следующим летом мы вторглись на Украину. Предметов роскоши в моем танке умещалось немного, однако мне удалось взять с собою свои ружья «Purdey», несколько томов Вольтера и домашнюю куртку. Мы с моим другом Райнером фон Гагенбургом условились прийти в штатском на первый балет переименованного Большого театра – представление, которому, как мы понимали, не суждено было состояться.
Ни один из аспектов вторжения меня не разочаровал: превосходная охота на дикую птицу в болотах Припяти; гремучее пламя огнеметов; желтый щит лица мертвого монгола; «Марш Буденного», ревом разносящийся над заброшенными полями пшеницы из советских громкоговорителей; изможденные, но счастливые лица аристократов, приветствующих нас после двадцати четырех лет жизни, похожей на смерть.
Двенадцатого сентября 1942 года, во время нашего наступления на Сталинград, я был ранен пулей в пах. Лежа на полевых носилках, убрал из своей фамилии последнее «д»[182]. Как бы то ни было, после операции я встал на ноги. Фон Гагенбург даже сумел найти моего Вольтера и мои Purdey. Инвалидом я вернулся в Берлин.
На следующее лето я очутился в Финляндии в качестве эксперта по трещинам льда. В Рованиеми я познакомился с Ваино Мустанойя, человеком, чьи вкусы столь точно соответствовали моим. Его описание патагонских ледников воспламенило меня – я рвался на Крайний Юг. Я завидовал его коллекции эскимосских артефактов.
Мустанойя построил в лесу дорический павильон. Внутри и снаружи он был выкрашен черным, на этом фоне по трафарету были выведены серебристые слезы в память о комнате в Реймсе, видавшей королеубийцу Сен-Жюста. Здесь, при свете белых ночей, поблескивающем через березы, мы обедали лососем, копченым филе из оленины и морошкою, не успевая исчерпать наши беседы и к утру. Тут же я стал свидетелем его печального конца.
Стоял уже ноябрь 1944-го, а фюрер все вывозил из Швеции порфировые колонны, несомненно предназначавшиеся для какого-нибудь памятника самому себе, несомненно не ведая о том, что шведский порфир не является достойной заменой египетскому. Его геологи не в состоянии были выбрать камень хорошего качества. Я предложил свои услуги; предложение было принято. Я уехал в Стокгольм, взяв с собою лучшие вещи из коллекции Грюнвальда[183], которые спас от верной гибели. Через посредника я подарил кронпринцу чашу на ножке, некогда принадлежавшую императору Чжуан-цзуну. Мне предоставили убежище. О чаше я не сожалел – на мой взгляд, это был единственный случай, когда Грюнвальду изменил вкус.
В 1945-м я принял аргентинское гражданство и под псевдонимом Миллз начал свою карьеру ученого-гляциолога. В конце концов я вернулся в Соединенные Штаты, где, работая в провинциальных колледжах, собрал целую коллекцию бессмысленных знаков отличия.
Над своими «утонченными Фивами» я начал работать южным летом 1947–1948-го, полагая в то время, что в Северном полушарии неизбежна ядерная война. В последующие годы я проводил у себя в долине самое меньшее по три месяца, но к 1960-му, вследствие инфляции, цен на перевозки и шантажистских требований чилийских и аргентинских чиновников, капитал, помещенный мною в швейцарские банки, начал таять.
С Эстель Нойманн я познакомился в 1962 году в музее Пибоди, где она восхищалась витриной со стеклянными цветами. Она сказала, что родом из Трентона, штат Нью-Джерси. Я был удивлен – не Трентоном и не ее восторгом перед цветами. В ней я нашел идеальную смесь таланта и невероятной глупости. Ни одна оригинальная мысль ни разу не пришла в голову Эстель, но при этом ей хватало ума выдавать все мои предложения за свои собственные.
Однако теперь планы мои расстроены. Я пишу эти воспоминания в похожей на консервную банку лачуге в пустыне Атакама. Вода у меня кончается. Я намеревался осесть навсегда в своей долине, а оставил ее на разграбление другим. Я покинул своего юного компаньона. Я покинул свои вещи. Я, который с бедуинской строгостью исключил из всего, чем владею, человеческий образ… Я, который делал все, чтобы защитить свою сетчатку от визуальных нападений двадцатого столетия, теперь и сам стал жертвой галлюцинаций. На меня бросают плотоядные взгляды женщины с красными лицами. Меня мусолят мокрые губы. Меня душат чудовищные глыбы цвета.
Je dus voyager, dist raire les enchantements assemblés dans mon cerveau[184]. Один цвет мучает меня особенно неотвязно – оранжевый цвет анорака Эстель Нойманн за секунду до того, как я ее столкнул.
Эрнст Юнгер. Эстет на войне
{11}
18 июня 1940 года мистер Черчилль завершил свою речь перед палатой общин словами «Это был их лучший час!»; тем же вечером в кабинете герцогини де Ларошфуко в Шато де Монмирель сидел совершенно другой персонаж, одетый в серую форму вермахта. Незваный гость был невысокий, атлетически сложенный мужчина сорока пяти лет, со ртом, который свидетельствовал о самомнении, и глазами того оттенка голубого, что особенно напоминает Арктику. Он листал книги хозяйки уверенными жестами библиомана, отмечая, что на многих стоят посвящения знаменитых писателей. Из одной выскользнуло письмо и упало на пол – замечательное письмо от мальчика по имени Франсуа, который хотел стать пилотом. Интересно, стал ли этот мальчик пилотом, подумал он. Наконец, после наступления темноты, он устроился и начал писать в дневнике. Запись была длинная – почти две тысячи слов, – ведь и день выдался полный событий.
Утром он обсуждал опасность сгореть заживо с водителем танка в промасленном комбинезоне: «У меня сложилось впечатление, что подобные военные типажи – олицетворение Вулкана с его “рабочей этикой”». После второго завтрака он стоял в школьном дворе и наблюдал, как мимо тянется колонна из десяти тысяч французских и бельгийских военнопленных: «…образ темного вала самой Судьбы… интересный, поучительный спектакль», в котором чувствовалась «механическая, неотразимая привлекательность, присущая катастрофам». Швыряя им банки с тушенкой и бисквитами, он наблюдал за их потасовками из-за железной решетки; особенно его беспокоил вид их рук.
Потом он заметил группу офицеров с наградами Первой мировой и пригласил их отобедать. Они были на грани срыва, но после хорошего обеда им стало казаться, будто удача повернулась к ним лицом. Не может ли он объяснить причины их поражения, спросили они. «Я сказал, что мне это представляется триумфом Рабочего; не думаю, впрочем, что они поняли смысл моего ответа. Что могли они знать о дорогах, пройденных нами с 1918-го? Об уроках, преподанных нам, словно в жару доменной печи?»
У отсутствовавшей герцогини были причины благодарить человека, рывшегося в ее частных бумагах. Капитан Эрнст Юнгер был в тот момент самым прославленным немецким писателем в военной форме. Его не способны были удивить никакие катастрофы – в своих произведениях он уже двадцать лет твердил о философской необходимости принять смерть и всеобщую вражду как обыденные черты двадцатого века. И все-таки он, умерявший свою тягу к разрушению почтением антиквария к кирпичной кладке, спас замок.
По сути, он спас множество вещей во время блицкрига. Неделей раньше он спас от мародеров Лаонский собор. Спас городскую библиотеку, где хранились рукописи каролингских королей. Нанял оставшегося без работы сомелье, чтобы тот проинспектировал несколько частных погребов и спас несколько хороших бутылок для него самого. Парк Ля Рошфуко бомбили, что и говорить. Сгорел павильон, в одном окне остался фрагмент стекла, «точное изображение головы королевы Виктории». В остальном же, после того, как был наведен порядок, поместье сохранилось таким, каким оставили его владельцы. Помимо того, у капитана Юнгера имелись и другие причины быть довольным собой.
«“Максимы” [Ларошфуко] давно составляют мое любимое чтение – я держу эту книгу на тубочке у постели. Спасти то, что можно спасти, – это был акт духовной благодарности. Когда речь идет о столь ценных вещах, защищать их в тяжелые времена – долг каждого».
Легко сказать, трудно сделать! «Маршрут наступления забросан бутылками: шампанское, кларет, бургундское. Они попадались мне на каждом шагу, не говоря уже о солдатских лагерях, где бутылки, можно сказать, валились на голову. Подобные оргии – в лучших традициях наших кампаний во Франции. Каждое вторжение немецкой армии сопряжено с попойками, не уступающими пиршествам богов в “Эдде”».
Офицер низшего ранга отметил: как странно, что мародерствующие солдаты первым делом уничтожают музыкальные инструменты: «Это продемонстрировало мне в символической форме, что Марс противостоит Музам… а после я вспомнил большое полотно Рубенса, иллюстрирующее ту же тему…» Как странно еще и то, что они оставляют нетронутыми зеркала! Офицер решил: это потому, что людям необходимо бриться; однако Юнгеру причины тут представлялись другие.
Эти дневники в трех томах недавно заново вышли во Франции, где перевод произведений Юнгера – небольшая литературная индустрия. Однако англоязычным читателям он известен лишь как автор двух книг: «В стальных грозах» (1920), где неуемно превозносится современная война, и «На мраморных утесах» – аллегорическое, антинацистское каприччио, написанное в 1939-м, где описано покушение на тирана; теперь, по прошествии времени, эта книга представляется пророчеством о заговоре против Гитлера, возникшем под руководством фон Штауффенберга в 1944 году.
И все же поклонники Юнгера – французы в большей степени, чем немцы, – возводят его в статус «великого писателя», мыслителя, по мудрости не уступающего Гёте, который лишился заслуженного признания из-за своих политических убеждений, близких к правому экстремизму. Он действительно обладает громадной эрудицией; ничто не способно заставить его свернуть с выбранного пути, в свои восемьдесят пять он все продолжает развивать темы, занимающие его уже шестьдесят лет. Он был – да и остается – солдатом, эстетом, романистом, эссеистом, идеологом политической партии, выступающей за авторитаризм, по образованию – ботаником-систематиком. Всю жизнь он в качестве хобби изучает энтомологию; по сути, жук – особенно жук-броненосец – для Юнгера то же, что для Набокова бабочка. Еще он тонкий знаток галлюциногенов, не раз совершавший трипы со своим другом Альбертом Хоффманом, открывателем лизергиновой кислоты[185].
Прозу он пишет жесткую, ясную. Многое в ней оставляет у читателя впечатление, что автору свойственны непоколебимое чувство собственного достоинства, щегольство, хладнокровие и, наконец, склонность к банальности. И все же порой самый малообещающий отрывок внезапно освещается вспышками афористического блеска, а самые душераздирающие описания облегчаются за счет стремления к человеческим ценностям в обесчеловеченном мире. Дневник – идеальный жанр для того, в ком столь острая способность к наблюдению сочетается с ничем не притупленной чувственностью.
Он родился в 1895 году в семье фармацевта из Ганновера. В 1911-м, когда ему успел надоесть традиционный уклад жизни родителей, он вступил в движение «Вандерфогель»[186] и таким образом познакомился с достоинствами жизни на открытом воздухе, природы, крови, почвы и фатерлянда; к тому времени он уже был опытным охотником за жуками и много счастливых часов проводил, гоняясь за ними со своей морилкой. Спустя два года он убежал в Сахару и вступил в Иностранный легион, но его привез обратно отец. В 1914-м, в первый день войны, он записался в 73-й Ганноверский стрелковый полк и исчез до 1918-го. Вернулся он «прошитый в двадцати местах», с высочайшей военной наградой, Croix pour le Mérite[187], с гипертрофированным чувством собственного величия, обладателем подробного дневника, где имелись записи об ужасной прелести окопной войны и о бесшабашной веселости людей под огнем. Так падение Германии создало Юнгера.
Книга «В стальных грозах» превратила его в героя поколения молодых офицеров, которые пожертвовали всем, в результате получив, если повезло, Железный крест; Жид превозносил ее как лучшее произведение, которое породила война. В самом деле, она совершенно не похожа ни на одну вещь того времени: никаких пасторальных мечтаний, как у Зигфрида Сассуна или Эдмунда Блюндена, никакого душка трусости, как у Хемингуэя, никакого мазохизма Т. Э. Лоуренса, никакого ремарковского сострадания[188].
Вместо того Юнгер выставляет напоказ свою веру в «элементарный» инстинкт человека убивать себе подобных – игра, которая, если играть в нее должным образом, должна вестись по определенным рыцарским правилам. (В более позднем эссе, «Война как внутреннее переживание», он высказывает свои взгляды на то удовлетворение, которое приносит рукопашный бой.) Под конец война предстает перед читателем мрачной, но по-джентльменски привлекательной вылазкой на охоту. «Вот так добыча!» – восклицает он, когда удается захватить 150 пленных. Или: «Оказавшись в ловушке между двумя огнями, англичане попытались бежать по открытой местности и были пристрелены, как дичь во время battue[189]». А до чего странно смотреть в глаза юного англичанина, которого ты пятью минутами раньше пристрелил!
Еще в ранней молодости Юнгер считал себя эстетом в центре смерча, цитируя слова Стендаля о том, что искусство цивилизации состоит «в сочетании тончайших удовольствий… с частым присутствием опасности». Так, в Комбле он обнаружил пустой дом, «где некогда, верно, жил поклонник красивых вещей»; половину дома разнесло на куски, однако он продолжал читать в кресле, пока его не прервал сильный удар по голени: «В портянке образовалась дыра с неровными краями, откуда на пол струилась кровь. С другой стороны было округлое вздутие – кусок шрапнели под кожей». Лишь человек с его самообладанием способен был описать, как выглядит отверстие от пули в его груди, так, будто описывает свой сосок.
После войны он стал заниматься ботаникой, энтомологией и морской биологией, сперва в Лейпциге, потом в Неаполе. Подобно многим людям своего поколения, он был пропитан идеями дарвинизма в его искаженной форме, подстроенной под националистические цели. При этом он был слишком умен, чтобы поддаться влиянию этой теории в ее более грубых вариантах – тех, что позволили членам немецкого научного сообщества оправдывать убийство цыган и евреев; он понял, что всякая теория является еще и автобиографией своего создателя и способна отразить лишь «бесконечно малую часть целого». В своем увлечении биологией он тяготел к классификации видов по Линнею – это было увлечение эстетическое, позволявшее ему взглянуть на первобытный рай, еще не тронутый человеком. Помимо того, мир насекомых, где инстинкты управляют поведением так же точно, как ключ входит в замок, неодолимо притягивал к себе человека с утопическим видением, каким обладал он.
К 1927 году он вернулся в Берлин, где водил дружбу с пестрой компанией, включавшей в себя Кубина, д-ра Геббельса, Бертольда Брехта и Эрнста Толлера. Он стал одним из основателей Национал-большевистского собрания – политической партии рьяных экстремистов, какое-то время процветавшей в Веймаре; она оказала пренебрежимо малое влияние на историю, хоть и породила ряд небезынтересных теоретических выводов. Эти так называемые «прусские коммунисты» ненавидели капитализм, ненавидели буржуазный Запад и надеялись привить большевистские методы к рыцарским идеалам юнкеров. Их лидеру, Эрнсту Никишу, виделся альянс рабочих и аристократов-солдат, которым предстояло избавиться от буржуазии. Сам Юнгер был идеологом движения и в 1932 году опубликовал книгу, впоследствии ставшую его манифестом.
«Рабочий» («Der Arbeiter») – туманное изложение идей утопии машинного века, когда граждане обязаны участвовать в «тотальной мобилизации» (термин, введенный Юнгером), подчиняясь интересам государства, определение которых не дано. Рабочий представляется Юнгеру технократом. Его главное дело – война. Его свобода – или, точнее, его чувство внутренней свободы – должна соответствовать масштабам его производительности. Цель – управление миром посредством силы.
Неудивительно, что движение выдохлось. Позже Никиш был арестован гестапо и в 1945-м убит в тюрьме. Что до Юнгера, его военные заслуги до некоторой степени обеспечивали ему защиту от нацистов, и он стал вести частную, едва ли не затворническую жизнь, заполненную научными размышлениями и belles lettres[190]. Он порицал Гитлера как обычного мелкого функционера, не разобравшегося в метафизике власти, однако не предпринимал ничего, чтобы его остановить, полагая, что демократии так или иначе конец и что удел человека в машинный век по сути своей трагичен: «История цивилизации есть постепенная замена людей вещами». И все-таки он снова и снова утверждал, что войны двадцатого столетия суть войны массовые, войны, которые ведет народ, canaille[191], а не профессиональные солдаты. С его точки зрения, пусть при взгляде под углом, национальный социализм был явлением левого толка.
Всю середину тридцатых годов Юнгер писал эссе, путешествовал по тропикам и не сводил холодного взора с фатерлянда. К 1938-му, когда возник заговор генералов, он, кажется, уже проявлял интерес к идее сопротивления Гитлеру и как-то вечером, в своем доме в Юберлингене, возле озера Констанц, познакомился с молодым, патриотически настроенным аристократом Генрихом фон Тротт цу Зольцем (старший брат которого, Адам, некогда роудсовский стипендиат, сочувствовал Англии и впоследствии был повешен за участие в заговоре фон Штауффенберга в июле 1944 года[192]). Что именно между ними произошло, Юнгер не сообщает. Достоверно известно, что в результате этого визита у него появилась идея для книги.
«На мраморных утесах» – аллегорическая история, написанная в холодном, серьезном и тем не менее красочном стиле; в чем-то автор подражает декадентам девятнадцатого века, в чем-то – скандинавским сагам. Результат – прозаический эквивалент объекта ар-нуво под стеклом, а сюжет далеко не так наивен, как звучит в кратком изложении.
Два человека – рассказчик и брат Ото (которых легко спутать с самим Юнгером и его братом, поэтом Фридрихом Георгом) – эстеты, ученые, солдаты, после войны затворившиеся в уединении, в отдаленном скалистом краю, где работают над линнеевой классификацией местной флоры и держат множество прирученных змей. Далеко внизу раскинулось озеро Большая Лагуна, прозрачное, окруженное фермами, виноградниками и городами – приметами древней цивилизации. К северу простирается степь, где кочевники пасут свои стада. Дальше – черные леса Мавритании, зловещие владения Старшего лесничего (Oberförster), в чьем распоряжении – свора ищеек и банда послушных ему головорезов, в рядах которых некогда служили братья.
Oberförst er намеревается разрушить Большую Лагуну.
Он принадлежал к тем фигурам, которые считаются у мавританцев настоящими господами и одновременно воспринимаются немного скептически – как, например, воспринимают в полку какого-нибудь старого полковника кавалерийского ополчения, который время от времени наведывается туда из своих имений. Он запоминался уже тем, что привлекал к себе внимание своим зеленым фраком, украшенным вышитыми золотом листьями падуба… Так и в глазах Старшего лесничего, особенно когда он смеялся, мерцал проблеск пугающей приветливости. На них, как на старых пьяницах, лежал красный налет, но одновременно выражение коварства и непоколебимой силы – иногда даже величия. В ту пору близость его была нам приятна – мы жили в задоре, пируя за столами владык сего мира[193].
По мере того как зло распространяется по округе, «словно грибные споры по гнилому дереву», братья все глубже и глубже погружаются в тайны цветов. Но во время ботанической экспедиции в мавританский лес в поисках редкой красной орхидеи они набредают на мертвецкую Oberförst er’а, Кёппельсблеек, где обнаруживают карлика, который весело поет, отскребая стол для свежевания:
Над темными воротами на поле фронтона был укреплен череп, в бледном свете скаливший зубы и, казалось, с ухмылкой приглашавший войти. Как цепочка заканчивается драгоценностью, так им завершался узкий фриз фронтона, казалось образованного из коричневых пауков. Но мы тотчас же догадались, что он был сделан из кистей человеческих рук, прикрепленных к стене.
Братья находят орхидею, что придает им «странное чувство неуязвимости» и силы на то, чтобы продолжать свои занятия. Но однажды, перед самым нападением Oberförst er’а на Большую Лагуну, им наносят визит один из его подручных, Бракмар, и юный принц Сунмира.
Бракмар – «невысокий, темный, изможденного вида малый, который показался нам несколько грубоватым, однако, подобно всем мавританцам, не лишенным чувства юмора». Принц же, наоборот, «отстранен и рассеян», ему присуще «выражение глубокого страдания», на нем лежит «печать распада». Эта парочка, разумеется, планирует государственный переворот, но стоит Oberförst er’у спустить с цепи своих ищеек, как их постигает неудача. Предводителя банды зовут Chiff on Rouge, то есть Красный Флаг. Следует устрашающе жестокая сцена, в которой оказываются покалечены и убиты все, кроме братьев – их спасает чудесное вмешательство прирученных ими копьеголовых змей. Позже они находят в Кёппельсблеек головы обоих конспираторов, насаженные на шесты; Бракмар успел покончить с собой, воспользовавшись «капсулой с ядом, какие носят с собою все мавританцы». Однако «на бледной маске принца, с которой клочьями свисала ободранная плоть… играла улыбка, сладостная, полная счастья, и я понял, что по ходу его мучений слабость покидала этого благородного человека с каждым шагом» – описание, которое можно применить к фотографии Адама фон Тротта, сделанной в Народном суде, когда он выслушивал свой смертный приговор, пять лет спустя после написания Юнгером этой книги[194].
После выхода «На мраморных утесах» было продано тридцать пять тысяч экземпляров, пока книгу не запретили в начале 1940-го. Вопрос о том, как она проскочила через цензорский аппарат д-ра Геббельса, становится менее загадочным, если сообразить, что прототипом Бракмара является сам д-р Геббельс; это ему льстило, забавляло его, впоследствии же популярность данного персонажа в офицерских кругах стала вызывать у него тревогу. Сам Юнгер заявлял – и продолжает заявлять, – что его сказка – не прицельный удар по нацизму, что она «выше всего этого». И я не сомневаюсь, что он задумал ее как презрительное, всеобъемлющее выступление в духе Шпенглера на тему о разрушении старой, уходящей корнями в Средиземноморье цивилизации в Европе: Oberförst er, если напрячь воображение, может сойти за Сталина не хуже, чем за Гитлера.
Полагают, что на митинге нацистов рейхсляйтер Булер заявил: «Мой фюрер, на этот раз Юнгер зашел слишком далеко!» – но Гитлер успокоил его и сказал: «Оставьте Юнгера в покое!» Как бы то ни было, друзья писателя посоветовали ему надеть форму; вот почему осенью 1939 года он в ранге капитана был направлен на линию Зигфрида, успев к тому времени убедиться, что частный дневник – единственная доступная на практике форма литературного самовыражения в тоталитарном государстве.
В предисловии к своим дневникам Юнгер вспоминает историю семи моряков, которые зимой 1633 года согласились изучать астрономию на арктическом острове Сен-Морис; их дневники были найдены рядом с их телами вернувшимися на следующее лето китобоями. Дневнику Юнгера предстояло разделить судьбу «Рукописи, найденной в бутылке» Эдгара По: записка, брошенная в неопределенное будущее человеком, который завтра может погибнуть и все-таки лелеет свой труд, как человек «лелеет тех своих детей, у которых нет шанса выжить».
Немецкое заглавие дневников, «Strahlungen», означает «Излучения» – писатель собирает частички света и направляет их на читателя. Это, безусловно, самое странное литературное произведение, оставшееся после Второй мировой войны, куда более странное, чем все написанное Селином или Малапарте[195]. Свою войну Юнгер редуцирует до сборника поэм в прозе – галлюцинаций, в которых вещи словно дышат, а люди действуют, как автоматы или, в лучшем случае, как насекомые. Так, когда он обращается к оккупированному Парижу, результат подобен диораме раздела энтомологии в музее естественной истории.
На первых страницах мы видим Юнгера в апреле 1939-го: сидя в новом доме в Кирххорсте неподалеку от Ганновера, он доводит до совершенства «На мраморных утесах» и мучается дурными снами о Гитлере, которого называет Kniébolo. С наступлением зимы он ведет беспорядочную перестрелку с французскими батареями через Рейн. Спасает жизнь артиллеристу и получает еще один Железный крест. Среди того, что он читает: Библия, «Писец Бартлби» Мелвилла, «Утешение философией» Боэция. Ночует он в тростниковой хижине, в спальном мешке с подкладкой из розового шелка, а на его сорокапятилетие адъютант приносит ему бутылку вина, к горлышку которой привязан букетик фиалок.
После вторжения во Францию в записях наступает перерыв, потом, в апреле 1941-го, он появляется снова – в Париже, в качестве «сотрудника особого назначения при военной комендатуре»; его работа – перлюстрировать почту и прощупывать интеллектуальную и общественную жизнь в городе. В Париже он и остается, не считая перерывов, до прихода американцев.
Перед нами возникает образ рьяного франкофила. У Франции с Германией так много общего. По сути, все указывает на необходимость сотрудничества. Подписанное Петеном Компьенское перемирие по-прежнему в чести; антисемитизм процветает; англофобию чрезвычайно сильно подстегнуло поражение французского флота, потопленного в гавани Мер-эль-Кебир. Поговаривают даже о том, чтобы отомстить за Ватерлоо, а когда в войну вступает Сталин – о том, что «Les Anglo-Saxons travaillent pour Oncle Jo»[196]. Кроме того, французские друзья Юнгера твердо уверены: их стиль нисколько не пострадает в результате войны. А какие у вновь прибывших очаровательные манеры! Какое облегчение после всех этих лет, когда Париж наводняли американцы!
В первые недели Юнгер – турист в городе, о котором мечтает всякий немецкий солдат. Он живет в отеле «Рафаэль», совершает долгие пешие прогулки в одиночку. Он исследует гаргулий Нотр-Дама, «эллинистическую» архитектуру Мадлен («Извольте – церковь!»), замечает, что обелиск на пляс де ля Конкорд имеет цвет шербета из шампанского. Вместе со своим другом генералом Шпайделем он ходит на Marché aux Puces[197]; часами слоняется по букинистическим лавкам, а порой отправляется посмотреть ревю с голыми девицами: многие из них – дочери белоэмигрантов, с одной маленькой, меланхолического склада девушкой он обсуждает Пушкина и «Воспоминания» Аксакова.
Париж полон странных встреч. В День взятия Бастилии уличный музыкант откладывает в сторону свою скрипку, чтобы пожать ему руку. Он выставляет пьяных солдат из hôtel de passe[198] и беседует с жизнерадостной восемнадцатилетней проституткой. Первого мая он предлагает юной продавщице ландыши: «В Париже таких встреч бывает множество, куда ни пойди. Неудивительно – ведь город построен на алтаре Венеры». Другую девушку он ведет в шляпную лавку, покупает ей шляпу с зеленым пером «размером с гнездо буревестника» и наблюдает за тем, как она «выпрямляется, сияет, будто солдат, которому только что вручили награду». Тем временем его жена передает из Кирххорста содержание своих чрезвычайно интеллектуальных снов.
Затем – рестораны. Его водят в «Максим», сам же он ходит в «Прюньер» – «маленькая обеденная зала на втором этаже, новая и аккуратная, бледно-аквамаринового цвета». «В то время мы питались лобстерами и устрицами», – рассказывал он мне; это несмотря на то, что к 1942-му средний парижанин едва ли не голодал. Как-то вечером он ужинает в «Тур д’Аржан»: «Создавалось впечатление, что эти люди, сидящие тут, на высоте, поедающие свою камбалу и знаменитую утку, с дьявольским удовлетворением, будто гаргульи, смотрят поверх моря серых крыш, под которыми нашли пристанище голодные. В такие времена еда, причем хорошая, дает ощущение власти».
Юнгер был вхож в высшие круги коллаборационистов; началось это с обеда на авеню Фош, устроенного в честь Шпайделя Фернаном де Бриноном, неофициальным посланником Виши в стане оккупантов. Там мы видим вазу с потрясающими белыми орхидеями, «несомненно покрытыми эмалью в девственном лесу, чтобы привлечь к себе насекомых». Мы видим мадам Бринон – сама будучи еврейкой, она насмехается над youpins (евреями). Мы видим Арлетти[199], чей последний фильм идет в кинотеатрах. (После освобождения Франции она, выслушав обвинение в том, что имела немецкого любовника, обратит взор на судью и прошепчет: «Que je suis une femme…»[200] – и будет оправдана.) Однако звезда вечера – драматург Саша Гитри, развлекающий компанию анекдотами: об Октаве Мирабо, который, умирая у него на руках, говорил: «Ne collaborez, jamais!»[201] – что означало «Никогда не пиши пьес в сотрудничестве с другими!»
Придя на обед к Гитри, Юнгер восхищается найденными в его квартире рукописью-подлинником «L’education sentimentale»[202] и золотой салатницей Сары Бернар. Позже он знакомится с Кокто и Жаном Маре, «плебейским Антиноем»; Кокто рассказывает ему, как Пруст принимал посетителей, сидя в постели, надев желтые лайковые перчатки, чтобы не кусать ногти, и как на комодах лежала пыль, «словно шиншилловые клочья». Он знакомится с Полем Мораном, в чьей книге о Лондоне город описан как громадный дом: «Реши англичане построить пирамиду, им следовало бы поместить эту книгу в погребальную камеру вместе с мумией». Мадам Моран – румынская аристократка, в гостиной у нее стоит серая каменная ацтекская богиня; они размышляют, сколько жертв пало к ее ногам. Получив от Юнгера экземпляр его «Рабочего», она шлет ему в отель записку: «Для меня искусство жить – это искусство заставлять работать других, оставляя себе удовольствия».
По четвергам – салон Мари-Луизы Буске, парижского корреспондента «Harper’s Bazaar», которая знакомит немецкого гостя со своими французскими коллегами-«коллаборационистами»: Монтерланом, Жуандо, Леото и Дрие ла Рошелем, редактором «Nouvelle Revue Française», чья книга о войне, «La Comédie de Charleroi»[203], представляет собой более сдержанный аналог его собственной «В стальных грозах». Дрие покончит с собой после нескольких попыток, в 1945-м, оставив служанке записку: «Селеста, не будите меня на этот раз». На один из этих четвергов Юнгер приводит друга-офицера, и хозяйка говорит: «С полком таких молодых людей немцы могли пройти всю Францию пешком, без единого выстрела».
Дальше идет Абель Боннар, писатель-путешественник, министр образования в правительстве Виши, который обожал немецких солдат и о котором Петен сказал: «Вверять молодежь этому tapette[204] – безобразие». Они беседуют о морских путешествиях и картинах, изображающих кораблекрушения; Юнгер, которому в кораблекрушении видится образ конца света в миниатюре, приходит в восторг, когда Боннар рассказывает о художнике-маринисте по имени Гуден, который у себя в студии расколачивал модели, чтобы добиться нужного эффекта.
Он посещает Пикассо в его студии на рю де Гран Огюстен. Мастер показывает ему серию асимметричных голов, которые кажутся Юнгеру чудовищными. Он пытается втянуть его в общую дискуссию об эстетике, однако Пикассо отказывается: «Некоторые химики всю жизнь проводят, пытаясь выяснить, что в куске сахара. Я хочу понять одну вещь. Что такое цвет?»
Однако Париж – не сплошной отдых. Вскоре после прибытия капитану Юнгеру приказывают отправиться в Булонский лес, чтобы руководить казнью немецкого дезертира, которого девять месяцев укрывала у себя француженка. Он торговал на черном рынке. Заставлял свою любовницу ревновать, даже бил ее, и она донесла на него в полицию. Поначалу Юнгер хочет прикинуться больным, но после раздумывает: «Признаюсь, согласиться меня побудило чувство высшего любопытства». На его глазах умирали многие люди, но он ни разу не видел смерти человека, которому о ней заранее известно. Какой это оказывает эффект?
За этим следует один из отвратительнейших пассажей во всей военной литературе – расстрельная команда, написанная в стиле раннего Моне: поляна в лесу, весенняя листва, блестящая после дождя, ствол ясеня, изрешеченный пулями во время прежних казней. Отверстия расположены двумя группами: одна – от выстрелов в голову, другая – в сердце, а внутри спят несколько мясных мух. Затем – прибытие: два военных грузовика, жертва, конвой, могильщики, офицер медицинской службы и пастор, еще – дешевый белый деревянный гроб. Лицо приятное, такие нравятся женщинам; глаза широко открытые, застывшие, жадные, кажется, «будто на них подвешено все его тело»; в выражении лица – что-то торжественное, детское. На нем дорогие серые брюки и серая шелковая рубашка. По левой щеке его ползет муха, затем садится ему на ухо. Нужна ли ему повязка на глаза? Да. Распятие? Да. Офицер медицинской службы прикалывает ему на сердце красную карточку размером с игральную. Солдаты выстраиваются цепью; залп; на карточке появляются пять маленьких черных отверстий, словно капли дождя; подергивание; цвет лица; солдат, отирающий манжеты шифоновым платком.
А что же та муха, что плясала в столбе солнечного света?
Техника Юнгера становится все более действенной по ходу войны. Атмосфера, которой он окутывает военную комендатуру, напоминает трагедии Расина, где все персонажи либо в опасности, либо обречены, и всех вгоняет в не лишенный элегантности паралич завывающий тиран за сценой. И все-таки, хотя часы тикают, приближая час катастрофы, им еще позволено надеяться на отсрочку – мирный договор с союзниками.
В начале 1942-го немецкие офицеры все еще способны поднять тост: «За нас – после потопа!» К концу года становится ясно, что потоп не пощадит и их. После обеда с Полем Мораном у «Максима» Юнгер замечает на рю Рояль трех еврейских девочек, держащихся за руки, с желтыми звездами, приколотыми к платьям, и, охваченный волной отвращения, чувствует, что ему стыдно показываться на публике. Позже, в декабре, направленный с поручением на Кавказ, он слышит, как генерал Мюллер подробно описывает газовые печи. Все старые правила чести и порядочности сломаны, остались лишь грязные методы германского милитаризма. Все, что он любил, – оружие, награды, формы – все внезапно наполняет его отвращением. Он испытывает раскаяние, хотя жалости в нем мало; он страшится грядущего возмездия. Когда он возвращается в Париж, еврейский вопрос уже «окончательно решается» вовсю, в Аушвиц идут поезда, и капитан Равенштейн говорит: «В один прекрасный день моя дочь заплатит за все это в борделе для негров».
Письма из дому повествуют о фосфоресцирующих ночах и о городах, охваченных пламенем. На Кёльнский собор падают бомбы, а человек из Гамбурга сообщает о том, что видел «женщину, которая в каждой руке несла по обугленному детскому трупику». После ужасного налета на Ганновер Юнгер просит арт-дилера Этьена Бинью вынуть из сейфа и привезти ему полотно «Таможенника» Анри Руссо «La Guerre, ou la Chevauchée de la Discorde»[205]. «Эта картина – одно из величайших видений нашего времени… [В ней есть] младенческая откровенность, <…> в ее ужасе – своего рода чистота, наводящая на мысли об Эмили Бронте».
Он пролистывает свою адресную книжку и вычеркивает имена мертвых и пропавших. Читает книгу Иова. Наносит визит Браку. Отдает заново переплести свой экземпляр «Catalogus Coleop ter orum»[206], работает над «Воззванием к молодежи Европы», которое будет называться «Мир». Бабочка-гермафродит наводит его на мысль написать трактат о симметрии, где в одном блестящем отступлении он говорит: гениальность Гитлера в том, что он понял природу двадцатого века – века культов; потому-то люди, обладающие рациональным умом, не в состоянии ни понять его, ни остановить.
Меж тем, с появлением надежд на приход союзников, Париж вновь обретает свою вечную стильность. Особенно прекрасен Salon d’Automne[207] 1943 года. «Художники, – замечает Юнгер, – во время катастрофы продолжают творить, как муравьи в полуразрушенной муравьиной куче». Шляпы женщин стали напоминать по форме Вавилонскую башню. Фрэнк Джей Гулд, застрявший во Франции американец, прочтя «На мраморных утесах», говорит: «Этот парень от мечтаний переходит к реальности».
Внезапно, в феврале 1944-го, Юнгеру приходится нестись в Берлин, спасать сына, Эрнстеля, который в порыве энтузиазма сболтнул: «Фюрера следует пристрелить!» Ему удается заставить Деница смягчить приговор, но с этих пор он на подозрении у гестапо. По возвращении в Париж до него долетают слухи о заговоре с целью убийства Гитлера; как-то майским вечером он обедает с Карлом-Генрихом фон Штельпнагелем, командующим войсками оккупированной Франции. Генерал чрезвычайно эрудирован, заводит дискуссию о византийской истории, о Платоне, Плотине и гностиках. Он «величайший враг Гитлера», но в то же время он устал и нередко повторяется. «В определенных обстоятельствах, – говорит он, – высшее существо должно быть готово отречься от жизни». Они беседуют до поздней ночи. Оба – ботаники и ведут речь о семействе пасленовых: никандра, белладонна – растения вечного сна.
После высадки десанта в Нормандии его друг Шпайдель – человек, который «забудет» отдать приказ обстрелять Париж ракетами «Фау», – рассказывает о своем визите к Гитлеру, который теперь погряз в безумном вегетарианстве и кричит о «новом оружии уничтожения». Когда терпит крах июльский заговор, фон Штельпнагель пытается вышибить себе мозги, но вместо того лишь ослепляет себя, и его удавливают в берлинской тюрьме. Юнгер, собиравшийся тем вечером ужинать с ним, таким образом комментирует тщетность его затеи: «Это мало что изменит и ничего не решит. Я уже намекал на это, когда описывал принца Сунмиру в книге “На мраморных утесах”».
Паника в отеле «Рафаэль». Американцы близко, хозяйки салонов настраиваются на перемены. Во время последнего обеда, устроенного для немецких друзей, Флоренс Джей Гулд возвращается от телефона с улыбкой: «La Bourse reprend»[208]. Пора прощаться. Последний четверг у Мари-Луизы Буске, которая говорит: «Теперь придут любители вечернего чая». Последняя беседа с принцессой де Сикст-Бурбон. Последняя бутылка шамбертена 1904 года с наклейкой в стиле ар-нуво. И наконец, его последняя парижская запись.
14 августа, en route[209]
Внезапный отъезд в сумерках. Днем – последние прощания. Комнату оставил в порядке, с букетом на столе. Оставил pour boires[210]. К сожалению, в ящике остались кое-какие незаменимые письма.
Остаток войны для капитана Юнгера – история печальная. Освобожденный от служебных обязанностей, он едет домой, в Кирххорст, где разбирает свои бумаги, читает рассказы о кораблекрушениях, читает «A Rebours»[211] Гюисманса и ждет, когда раздастся грохот американских танков. Получив телеграмму с известием о гибели Эрнстеля на итальянском фронте, он лишается воли к тому, чтобы вести себя разумно, и проявляет ужас родителя, сраженного наповал, потерявшего то, что любит больше всего. Фото Эрнстеля висит у него в библиотеке рядом с портретом его покровителя, генерала Шпайделя.
Юнгер отказался предстать перед комиссией по «денацификации» на том основании, что никогда не был нацистом. Однако вся его карьера развивалась таким образом, что закрыла ему доступ в послевоенный литературный истеблишмент Германии. Если идеалом его была «пустыня», то до недавнего времени он был обречен на пребывание там. С 1950 года он живет в живописной холмистой местности, в Верхней Швабии; его дом в Вильфлингене расположен напротив замка баронов фон Штауффенбергов, куда по случайному совпадению был интернирован Пьер Лаваль после побега из Франции в 1944-м. (Зигмаринген, резиденция маршала Петена и место действия «D’un Château à l’autre»[212], лежит всего в нескольких милях).
Мой собственный визит к Юнгеру пять лет назад оставил странные впечатления. В восемьдесят лет у него были белые, как снег, волосы и при этом подпрыгивающая походка очень подвижного школьника. Смех у него был негромкий, фыркающий. Стоило вниманию переключиться с его персоны на что-либо еще, он, как правило, отвлекался. Незадолго до того он выпустил книгу, где описывал свои эксперименты с наркотиками, от первого вдоха эфира до лизергиновой кислоты, и вот-вот собирался издать огромный роман, озаглавленный «Eumeswil». Первый этаж дома был обставлен в стиле бидермайер, там были тюлевые занавески и фаянсовые печурки, а обитала там его вторая жена, профессиональный архивист, специалист по текстологии Гёте. Собственные апартаменты Юнгера наверху жесткими поверхностями напоминали солдатский бункер, на лестнице стояли шкафчики с жуками, повсюду вокруг лежали памятные сувениры: кости ископаемых, раковины, шлемы с обеих войн, скелеты животных, коллекция песочных часов. (В 1954 году он написал «Трактат о песочных часах» – философское размышление о ходе времени.)
Если я надеялся услышать новые воспоминания об оккупированном Париже, то меня постигло разочарование. В ответ на вопросы он всего лишь зачитывал отрывок из дневника, хотя иногда бросался к шкафу с бумагами и возвращался с каким-нибудь pièce just ifi cative[213]. Одним из них было письмо от его друга Анри де Монтерлана[214], где цитировалось замечание Толстого: «Встречаться с великим писателем нет смысла, потому что он воплощен в своих книгах». Поскольку Монтерлан меня интересовал, я сумел еще немного разговорить Юнгера, и он снова вернулся от шкафа с бумагами, на сей раз размахивая листом-ксерокопией, покрытым немалым количеством пятен, на котором стояло:
Le suicide fait partie du capitale
de l’humanité,
Ernst Jünger
8 juin 1972[215].
Этот афоризм Юнгера относится к тридцатым годам; существует история о том, как Альфред Розенберг однажды сказал: «Жаль, что герр Юнгер никак не воспользуется своим капиталом». Сцена же, которую следует представить себе, такова.
Умирающий от рака Монтерлан сидит в своей квартире на набережной Вольтера, окруженный коллекцией греческого и римского мрамора. На столе у него бутылка шампанского, револьвер, перо и лист бумаги. Он пишет: «Le suicide fait partie…» Бах!
Эти пятна оказались скопированными брызгами крови.
Дональд Эванс
{12}
Ночью 29 апреля 1977 года в результате пожара, охватившего дом на Штадхоудерскаде в Амстердаме, сгорел американский художник Дональд Эванс – огонь настиг его на лестнице. После него осталось несколько тысяч акварелей-миниатюр в форме почтовой марки, разбросанных по коллекциям на обоих берегах Атлантики. Эти марки были «выпущены» наборами, посвященными сорока двум странам; каждый набор отражает тот или иной жизненный период, привязанность, настроение или озабоченность художника. По стилю они в чем-то напоминают «колониальные» марки конца девятнадцатого века. Готовые наборы были размещены на черных страницах альбомов, какими пользуются профессиональные филателисты, – фон, на котором хорошо видны особенности каждой марки как самостоятельного произведения искусства, одновременно позволяющий художнику играть с узорами и цветами на сетке.
Согласно мусульманской теологии, в начале Бог создал тростниковое перо и с его помощью описал мир. Дональд Эванс, будучи менее честолюбивым, пользовался одной и той же соболиной кистью, «Грумбахер» номер 2, которой писал прозрачный, светящийся мир – своего рода бодлерианская pays de Cocagne[216], – ставший тем не менее зеркальным подобием жизни как его собственной, так и его эпохи. Результат – автобиографический роман в сорока двух главах-картинах, страницы оригинала которого, подобно страницам некой рукописи с картинками, разбрелись кто куда; в самом деле, шансы на то, чтобы собрать их снова, так же малы, как и шансы на то, чтобы воплотить в реальность тот спокойный мир, который на них изображен.
По счастью, Дональд Эванс всегда вел тщательные записи о своей работе и каждый набор марок заносил в каталог, росший по мере того, как увеличивалось число его произведений, – «Каталог мира», так он его называл. Основной экземпляр – и несколько ксерокопий – пережили автора[217].
Случайно или нет, но его недолгая жизнь замкнула круг, оказавшись симметричной; он был одержим одной вещью – рисованием марок. Этим он занимался в течение двух пятилетних отрезков: когда был замкнутым школьником, с десяти до пятнадцати лет, а потом – взрослым, с двадцати шести до тридцати одного. Он полагал, что «достиг вершины» в шестнадцать или семнадцать; к тридцати годам он заново пережил свое детство; есть причины полагать, что сам он считал каталог законченным; закончив писать тропические страны, он изображал на своих марках скованный льдами полярный край, тогда как самого его пожрал огонь, – все эти факты усиливают ощущение симметрии.
Его друзья, оправившись от шока, вызванного его смертью, принялись расхваливать его образцовую жизнь и гадать над ее кусочками. Поскольку Дональд Эванс был человеком скрытным, имел привычку распихивать знакомства по разным ячейкам, автобиографическая глубина его работ вполне могла бы ускользнуть от нашего внимания или, по крайней мере, долго пролежать в спячке, если бы не расследования Уилли Эйзенхарта, который предоставил нам ключ к толкованию характера своего героя в сухом, выдержанном тексте, по стилю напоминающем лучшие вещи американской журналистики двадцатых. К тому же это прекрасная книга.
Дональд Эванс родился 28 августа 1945 года, единственный сын оценщика недвижимости из Морристауна, штат Нью-Джерси. Его мать ухаживала за аккуратной зеленой лужайкой и входила в местный клуб садоводов. В детстве он строил песочные замки, картонные деревни и дворцы. Он склонялся над картами и энциклопедиями, выдумывал географию мира, лучшего, чем тот, в котором жил. Еще он собирал марки – и во время коронации Елизаветы II нарисовал собственный памятный выпуск по случаю коронации собственной воображаемой королевы.
В возрасте десяти лет этот не по годам развитый самоучка трудился над своей приватной филателистической коллекцией. Поначалу, как пишет Эйзенхарт, марки «были грубо нарисованы и грубо продырявлены материнскими ножницами для рукоделия, однако он быстро улучшил свое мастерство. Он начал рисовать контуры марок карандашом, потом закрашивать их пером и кистью, а техническую проблему нанесения дырок решил путем выстукивания множества точек на старой пишущей машинке».
К пятнадцати годам он заполнил три альбома «Марки со всего мира» почтовыми выпусками из таких мистических стран, как Франдия, Доланд, Слобовия, Кунстлянд Восточный и Западный. У каждой страны была своя запутанная история – история «вторжений, федераций, освобождений». В каждой по-своему выражалась его «романтическая» тяга к далекому и экзотическому, а порой – личные заботы его родственников и друзей. Потом он начал ходить на футбол, задумал поступать в колледж и перестал делать марки.
Последовали десять обычных лет – не столь уж обычных по масштабам его родного городка, но вполне обычных для взрослевшего в шестидесятых американского парня из буржуазной семьи, которому предстояло внести вклад в искусство. Ему хотелось стать художником и писать огромные абстрактные экспрессионистские полотна в стиле Кунинга[218]. Он закончил Корнелльский университет по архитектуре. Поехал в Европу; заглянул на «Фабрику» Уорхола; научился красить и ткать полотна; курил марихуану; занимался йогой; проявлял интерес к Гурджиеву; и всегда то влюблялся, то остывал.
После Корнелла он приехал в Нью-Йорк, где поселился в квартире со скудной мебелью в Бруклин-Хайтс и стал работать дизайнером в конторе архитектора Ричарда Майера[219]. Однако масштаб города подавлял его, вгоняя в депрессию. Напористый эксгибиционизм здешних художников был ему чужд. Романы его кончались неу дачно, и он снова прятался в свою оболочку, обратно в интровертный мир своего детства с его марками. Однажды ему случилось показать свой марочный альбом друзьям, которые посоветовали ему продолжать. Так он и сделал – и уехал из Соединенных Штатов.
В феврале 1972 года он, упаковав свои акварели и стопку перфорированных листов бумаги, улетел в Голландию, где его друг снял домик «за Дамбой» (Achterdijk) рядом с деревней неподалеку от Утрехта. И немедленно взялся за работу – начал делать марки «голландской» страны под названием Ахтердайк.
В годы вьетнамской войны молодые американцы толпами тянулись в Голландию, как в двадцатых годах – в Париж. Но для Дональда Эванса Голландия была не райским местечком для хиппи, где на каждом углу тебя поджидали секс и наркотики. Тут он почувствовал, что переродился; и однажды, наклеив на старинный конверт марку «Ахтердайк», он надписал на нем имя воображаемого адресата, «De Heer Naaktgeboren» («г-ну Голорожденному») – это было имя, выдуманное им взамен собственного. Он обожал плоские, обдуваемые ветром голландские ландшафты, высокие переменчивые небеса. Ему нравились голландцы – люди широких взглядов, и он, чтобы оказать им любезность, выучил их язык. Ему нравились абстрактная красота голландской кирпичной кладки, компактный масштаб архитектуры; у мастеров семнадцатого века он почерпнул определенную технику рисунка и акварели, идеально подходившую для его марок.
Доналд Эванс прожил в Голландии оставшиеся пять лет своей жизни с перерывами: на чердаках, в съемных комнатах и тесных квартирках. По темпераменту он был ипохондрик; когда обнаружилось, что его дыхательные затруднения вызваны рудиментарным третьим легким, он обратился к врачам, чтобы его удалить, и, лежа на больничной койке, описал данное событие с помощью марок королевств-побратимов, которые назывались Лихаам и Геест – «тело и душа». Еще он был подвержен приступам тяги к путешествиям – и даже выдумал столичный город под названием Ванупидс («босой бродяга»), чтобы передать свою привычку странствовать по миру. Многие художники плачутся, что привязаны к своей студии; Дональд Эванс мог устроиться в вокзальном зале ожидания. Вероятно, сам факт, что его работы можно носить в кармане, указывает на его презрение к искусствам и притворствам оседлых цивилизаций – презрение кочевника к пирамиде.
Его чувство цвета было столь же безупречным, сколь и мастерство рисовальщика. Набор его марок на странице напоминает набор бабочек в ящике. Стоит ли говорить, что он любил бабочек и придумал для них страну – Рупс, что по-голландски означает «гусеница». Сам он говорил, что не обладает оригинальностью и предпочитает рисовать с фотографий или других изображений; тем не менее одна плоская панорама Ахтердайка напоминает «надышанный», выполненный сепией ландшафт Рембрандта. Его искусство подчинялось дисциплине до такой степени, что охотно впитывало в себя все, чем бы ему ни случилось увлечься: цеппелины, домашние птицы, пингвины, макароны, страсть к собиранию грибов, керамика эпохи Сун, раковины, домино; напитки в баре «Центрум»; ветряные мельницы, представлявшие собой «абстрактные» портреты друзей; овощной рынок в Кадакесе или рецепт песто из «Средиземноморской кухни» Элизабет Дэвис – своими описаниями удовольствий еды и выпивки он почему-то напоминает мне Хемингуэя.
Он ни разу не бывал в Азии, хотя в детстве интересовался караванами верблюдов и караван-сараями, выдумывал страны в пустыне для своего альбома. Позже ему нравилось читать британские книги о путешествиях по Ближнему Востоку, а для созданной им страны под названием «Аджудани» – что по-персидски означает «еврейский» – он позаимствовал изображения из «Болотных арабов» Уилфреда Тезигера[220]. К моему удовольствию, он позаимствовал кое-что и у меня – фотографию башни-захоронения Тимуридов, сделанную в афганской деревне на границе с Россией.
В детстве он мечтал еще и о Южных морях. Потом он выдумал коралловый архипелаг Ами-э-Аман – «французскую» колонию, населенную довольными, дружелюбными, любвеобильными темнокожими; на марках одного выпуска, озаглавленного «Coups de Foudre»[221], изображен ряд потрепанных штормами кокосовых пальм, каждая раскрашена в свои цвета – намек на различные любовные молнии. Были еще и Тропиды – крохотные острова, написанные точками и черточками, как у Вермеера. И арктическая страна Итеке, названная в честь голландского друга-танцора, который мог выступать лишь в холодном климате.
Сам он литературными способностями не обладал. Порой он подумывал о том, чтобы написать – или попросить кого-нибудь написать – сопроводительный текст, но все же решал оставить каждую марку как есть, словно окошко в свой мир, а остальное пусть дорисовывает воображение. Его любимым современным писателем была Гертруда Стайн – потому, вероятно, что у нее он научился важности вариаций при повторении. Сделав в ее честь «памятный» выпуск, он надписал набор марок текстами из ее «Нежных пуговиц», сборника стихотворений в прозе 1914 года, впервые опубликованного другим Дональдом Эвансом, американским поэтом.
По всеобщему согласию, искусство поколения вышедших из игры принято считать сумбуром; искусство Дональда Эванса – противоположность сумбуру. Пустячным его тоже не назовешь. Изысканным тоже. Но все-таки не припомню другого художника, который бы более четко и прекрасно выразил стремления тех лет: бегство от войны и машины, аскетизм, беспокойство кочевника, тяга к дальним краям – порождению чувственной мечты, уход от общественных страстей в личные, от большого и шумного к маленькому и тихому. На одной из марок, посвященных Гертруде Стайн, он написал эти тревожащие строки из ее «Открытки Шервуду Андерсону», которые могут одновременно послужить его эпитафией:
«Давайте опишем их путь. Ночь стояла очень ветреная, а дорога, хотя в прекрасном состоянии и чрезвычайно хорошо выровненная, имеет множество поворотов, и хотя петляет не резко, подъем существенный. Ночь стояла очень ветреная, и кое-кто из владельцев автомобилей побольше предусмотрительно решил не пускаться в путь…»
Константин Мельников, архитектор
{13}
Январским, окутанным стигийской мглой утром 1973-го я зашел домой к архитектору Константину Мельникову, жившему в Кривоарбатском переулке. К тому времени я провел в Москве уже пару недель, разыскивая оставшихся в живых представителей левого искусства – течения, разгар которого пришелся на двадцатые годы. Так, например, была у меня одна напрасная затея – пуститься в погоню за пожилым господином, когда-то дружившим с Татлиным и хранившим у себя распорку от крыла аппарата «Летатлин». Я также попытался найти человека, который в бытность бездомным студентом ВХУТЕМАСа устроился вместе со своей постелью внутри конструктивистской уличной скульптуры «Красный клин»[222].
Как-то вечером я ходил ужинать к Варваре Родченко, дочери художника, в квартирку, где некогда размещалась и редакция «ЛЕФа». Тень Маяковского, одного из редакторов журнала, словно не покидала комнаты. Гнутый деревянный стул, на котором ты сидел, оказывался стулом Маяковского, тарелка, с которой ты ел, – его тарелкой, а ваза на высокой ножке для фруктов – подарком, привезенным из Парижа человеком, который называл себя «облаком в штанах». На стенах висела подборка картин Родченко – разумеется, не столь замечательных, как у Малевича, не столь мистических, однако компенсирующих все это энергией, ослепительно бьющей с холста. Из его блокнотов-ежедневников, полных зарисовок, видно, как он предвосхищает, несясь от одного к другому, каждый стиль и каждую вариацию послевоенного абстрактного искусства, европейского и американского. Стоит ли удивляться, что уже в 1921 году он считал станковую живопись мертвой; когда же я спросил его дочь, остались ли у нее три картины, показанные им на выставке «5х5=25»[223], она раскатала на полу три квадратных монохромных полотна: одно желтое, одно красное (и что за красный!) и одно синее. При всем при том мой визит к господину Мельникову был наивысшей точкой поездки, ведь, как ни посмотри, сам его дом – одно из архитектурных чудес двадцатого века.
Арбат некогда был аристократическим московским районом. После пожара 1812 года его почти полностью перестроили; в особняках, покрытых зеленой или кремовой штукатуркой, и по сей день обитают несколько старых семейств, не расстающихся со своими пожитками. Дом Мельникова – или, скорее, павильон во французском смысле этого слова – стоит в глубине переулка: здание одновременно футуристическое и классическое, состоящее из двух сросшихся цилиндров, задний выше переднего, пронизанное шестью десятками окон, одинаковых удлиненных шестиугольников с конструктивистскими переплетами. Цилиндры сделаны из оштукатуренного кирпича, на манер русских церквей. В 1973 году штукатурка там была облупленная, тусклого охряного цвета, хотя на недавних фотографиях здание выглядит обновленным, покрытым слоем побелки. На переднем фасаде, над архитравом написано: «Константин Мельников, архитектор» – его гордое, одинокое заявление о том, что подлинное искусство может быть лишь творением индивидуума, а никак не комитета или группы.
Войдя в дверь тем ненастным январским утром, я взобрался по винтовой лестнице, выкрашенной в изумрудно-зеленый, и оказался в круглом белом салоне, где сам архитектор, возлежа на чем-то вроде кресла-шезлонга в стиле бидермейер, вкушал тертое яблоко. Его сын, Виктор Константинович, это яблоко тер. Старик, объяснил он, толком не в состоянии принимать твердую пищу. Архитектор был очень слаб, разочарован, а когда мигал глазами под нависшими веками, это наводило на мысли об оставленных надеждах и утерянных стремлениях.
Виктор Константинович отвел меня наверх, в студию, которая летним днем, должно быть, превращается в светлейшую, просторнейшую из комнат, однако тогда, благодаря грязным облакам и снежным вихрям, атмосфера там стояла мрачная, как в церкви. Он был художником. Его полотна лежали, беспорядочно наваленные, у стен. Еще он был своего рода мистиком и альпинистом, и пока мы сидели, пили водку и щелкали кедровые орешки, он показал мне несколько розовых, под Моне, импрессионистских картин – впечатлений от зари на Кавказе, показавшихся мне невыразимо прекрасными. Когда я спросил разрешения сфотографировать дом, он сказал: «Только побыстрее!» Откуда мне было знать, что Анна Гавриловна, жена архитектора, пряталась у себя в спальне, глубоко не одобряя идею приема западного посетителя.
Дом, как я уже говорил, был несколько запущен. На стенах виднелись потеки воды; было не особенно тепло. И все-таки, поскольку Мельников из соображений экономии и эстетики предпочел отказаться от гладкой, механической отделки, поскольку он решил ограничиться материалами своего крестьянского детства – грубо выпиленные доски, скромная штукатурка, – дом отнюдь не производил впечатления жалкой развалины, от него веяло духом жизненной силы, неподвластной времени.
Когда мы вернулись вниз, старик разбирал бумаги на своем столе. У окна стоял гипсовый слепок Венеры – тоска русских по всему средиземноморскому. Он показал мне фотографии и рисунки проектов – реализованных и нереализованных, – скопившихся за всю его творческую жизнь.
Среди них были: павильон «Махорка» с московской ярмарки 1923 года; замечательный эскиз проекта расположения лотков на Ново-Сухаревском рынке; советский павильон с Парижской выставки 1925-го; парижская стоянка автомобилей; гараж для автобусов «Layland» в Москве; разнообразные рабочие клубы, демонстрировавшие, что автор, подобно Ле Корбюзье, был «поэтом» железобетона; план памятника Христофору Колумбу (который собирались воздвигнуть в Санто-Доминго); и, наконец, проект Дворца Советов – наполовину пирамида, наполовину лотос, – до того дикий по своей концепции, что в сравнении с ним самые безумные архитектурные метания Фрэнка Ллойда Райта[224] казались чередой маленьких песочных замков.
На парижских фотографиях, которые он мне показал, был снят и он сам – щеголеватая фигура на лестнице советского павильона. Затем, педантично указав на ленту своей фетровой шляпы, свой шейный платок и свои гетры, он спросил меня:
– Какого они, по-вашему, были цвета?
– Красного, – предположил я.
– Красного, – кивнул он.
Как вышло, что частный семейный дом – и не просто дом, а символический дуэт из спаренных частей – был построен в сердце Москвы в 1927 году? Это можно объяснить лишь в контексте странной карьеры Мельникова. К счастью, теперь существует первоклассное руководство – книга С. Фредерика Старра «Мельников, одинокий архитектор в массовом обществе»[225], откуда можно вытащить костяк этой истории. Костя Мельников был талантливым крестьянским пареньком, сыном молочника. Семейство жило в доме – так называемой Соломенной сторожке – площадью шестнадцать квадратных футов на окраине Москвы. «Сегодня, – писал он в старости, – оглядываясь на свои работы, я ясно вижу источник своей индивидуальности… в архитектуре этого здания. Построенное из глины и соломы, оно казалось чужестранцем на собственной родине… однако все окружавшие его дома с их великолепной резьбой ему уступали».
Молочник Мельников поставлял свой товар в академию поблизости, где его юный сын вскоре начал рыться в мусорных корзинах в поисках обрывков бумаги для рисования. Семейство отдало его в подмастерья к иконописцу. Дальше он пошел работать в торговый дом, занимавшийся отопительными приборами. Его владелец Владимир Чаплин, предки которого были англичанами, распознал в мальчике художественный талант и помог ему поступить в престижное Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Это учебное заведение, как сказал однажды Маяковский, было «единственным местом, куда тебя принимали без доказательства твоей благонадежности». Чаплин, по-видимому, рассчитывал, что его протеже вырастет в художника и будет писать сельские пейзажи, поэтому был слегка огорчен, когда Мельников бросил живопись и обратился к архитектуре. Тем не менее молодому человеку замечательно удавался архитектурный рисунок. Он проектировал великолепные неоклассические здания. Женился на пухлой, миловидной девушке шестнадцати лет из мещан, Анне Гавриловне, а к тому времени, когда произошла революция, успел построить автомобильный завод.
В свирепую зиму 1917–1918 годов молодая, полуголодная чета Мельниковых переехала к его родителям в Соломенную Сторожку. Но постепенно, когда рассеялся кошмар Гражданской войны, Мельников – подобно Ладовскому[226] и братьям Весниным – пошел в гору как один из наиболее убедительных архитекторов-теоретиков ВХУТЕМАСа, а после – ВХУТЕИНа. Его асимметричный павильон «Махорка» пользовался успехом среди интеллигенции и рабочих. В очень сжатые сроки он спроектировал саркофаг и стеклянную крышку для забальзамированного тела Ленина, а впоследствии вспоминал, как кто-то из партийного начальства грозил расстрелом, если он не закончит работу вовремя. Затем, в 1925-м, отчасти за проявленное им умение действовать в рамках минимального бюджета, ему доверили заказ на постройку советского павильона на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже.
За исключением нескольких выдающихся вещей, среди них – Pavillon de l’Esp rit Nouveau[227] Ле Корбюзье, на выставке был представлен роскошный китч, составлявший сущность ар-деко. В вульгарности состязались павильоны Старой Гранады, Рульманна и Пату[228], итальянский фашистско-ренессансный и английский – вероятно, самый идиотский – в голливудско-англиканском стиле.
В отличие от остальных, русским с их скромным бюджетом, составлявшим всего 15 000 рублей (в то время это равнялось 7650 долларов США), оставалось лишь одно – строить без излишеств. По сути, вся постройка, возведенная на территории между Гран-пале и Сеной, была сделана из самой дешевой русской древесины, грубо вытесанной крестьянскими мастерами и привезенной на поезде из Москвы; поставили ее в кратчайший срок и выкрасили в красный, серый и белый. План ее, прорезанный по диагонали двумя лестницами, был невероятно хитроумным. Среди экспонатов имелся уменьшенный вариант татлинской башни; когда выставка закончилась, ее оставили в подарок Компартии Франции, которая о ней в скором времени забыла. Они не заплатили складу за хранение, и башня валялась, никем не признанная, пока ее не выкинули, а после, вероятно, сожгли в начале шестидесятых.
Одно английское издание, выпускаемое Канцелярией Ее Величества, дало следующий комментарий: «Павильон России представлял собой конструкцию из модельной доски, выкрашенную в красный… Экстерьер был по большей части стеклянным, все вместе походило на неухоженный зимний сад». Другие, говоря о павильоне, сравнивали его эстетику с эстетикой гильотины или называли его «ударом в спину, нанесенным борцами за дело большевистской революции». Но это не помешало Мельникову снискать широкую славу, как не помешало великим фигурам модернизма – Хоффману, Ле Корбюзье, Перре, Малле-Стивенсу[229], – проявив огромное великодушие, признать, что Советы сорвали аплодисменты. Ле Корбюзье взял молодого русского под свою опеку и показал ему все здания в модернистском стиле, какие стоило посмотреть, в том числе студию, сделанную им для Амеде Озенфан; возможно, тут Мельникову и пришла в голову идея построить собственный дом.
Мельников снискал славу даже среди белоэмигрантов, которые устроили в его честь костюмированный бал; темой была «новая конструктивистская архитектура». Он поехал отдыхать в Сен-Жан-де-Люз, где в ответ на заказ, полученный от парижских отцов города, придумал схему многоэтажной автостоянки на тысячу автомобилей, которую предлагалось перекинуть через Сену, словно мост, и поддерживать с обеих сторон колоссальными атлантоподобными кариатидами. Стоит ли говорить, что затея не была воплощена в жизнь.
Меж тем друг Мельникова, Родченко, который привез на выставку собственный проект читальни для рабочих, отнюдь не предавался бурному веселью – напротив, невзлюбил Париж и все с ним связанное. «Культ женщин, – писал он домой, – подобно культу зараженного личинками сыра или устриц, дошел до того, что быть модной означает быть уродливой».
Впоследствии Мельников говорил, что испытывал огромное искушение остаться во Франции, однако его тянуло назад – видимо, сказывались народные корни. Он сел в поезд и отправился в Москву, где вскоре обнаружил, что разворошил осиное гнездо – ВХУТЕМАС кишел завистниками. Последовали разоблачения, однако он, поддерживаемый на плаву безграничной, как можно заключить, верой в собственный гений, решил не отступать несмотря ни на что. Он построил поразительный гараж для автобусов «Layland», которые Советы закупили в Англии. Затем, в 1927-м, взялся за постройку своего дома.
Ему, по-видимому, удалось перехитрить Николая Бухарина, партийного деятеля, который предоставил территорию в его распоряжение, и убедить его в том, что данный проект будет иметь самое непосредственное отношение к проблеме обеспечения масс общественным жильем. Однако, по его собственному признанию, он понял, что пришло время стать не только архитектором, но и архимиллионером.
Принимая во внимание богатство его воображения и чуткое умение, схватив какую-нибудь деталь, использовать ее в собственных целях, трудно, а то и вовсе невозможно догадаться, что послужило Мельникову источником вдохновения. Известно, что студентом он изучал утопические проекты Булле и Леду[230] – оба они создавали цилиндрические здания. Полагают, что он восхищался сцепленными цилиндрами зерноэлеваторов на американском Среднем Западе, которые опубликовал Ле Корбюзье в своем журнале «L’Esp rit Nouveau». Он исследовал постройки нескольких московских церквей. Что же до сотовой конструкции, где окна можно добавлять или убирать без ущерба для расчетов нагрузки, она напоминает мне цилиндрические кирпичные башни-гробницы мусульманской Средней Азии. Хорошо известно, что ислам оказал сильное влияние на раннюю советскую архитектуру.
Еще мне хотелось бы думать, что однажды, когда его летом катали по Парижу, кто-то привез его в округ Шамбурси, посмотреть Дезар де Ретц, здание, которое примерно в то же время «открывали» для себя многие, включая Колетт[231].
Дезар – колоссальная усеченная дорическая колонна с нанизанными на винтовую лестницу овальными и круглыми помещениями – был спроектирован и построен эксцентричным англоманом, другом Булле, кавалером де Монвиллем. Это, несомненно, самый яркий пример архитектурного воображения среди сохранившихся до наших дней зданий восемнадцатого века. Тем не менее, хотя с 1941 года оно причислено к национальным памятникам, мудрецы из французского правительства позволили ему превратиться в руины. Окна у этого барабана овальные и прямоугольные, но в расположении их есть нечто, что сильно напоминает дух мельниковского дома. В тот раз я не догадался его об этом спросить.
Сам Мельников, отвечая на свой же вопрос «Что же мешает гению проявить себя в архитектуре?», писал, что нехватка у него денег превратилась в «огромное богатство воображения». Чувство самостоятельности пересиливало в нем всякое чувство осторожности, а практические соображения экономии заставляли его, выражаясь в относительных категориях, ставить на карту столько же, сколько ставил Брунеллески, когда строил купол флорентийского собора[232].
Возможность зайти в спальню у меня так и не появилась, поскольку там пряталась Анна Гавриловна. Подозреваю, впрочем, что кроватей, похожих на алтари, там уже не было, как не было и стен стандартного желто-зеленого цвета, который Мельников – у него имелись определенные теории относительно цвета и организации сна – связывал с хорошим отдыхом.
По всему дому были разбросаны предметы буржуазной мебели, неоклассические стулья, ковер в стиле ар-нуво – по сути, везде царила атмосфера чехлов для кресел и самовара, идущая вразрез с духом первоначального замысла. Виктор Константинович сказал мне, что в годы сталинской «ночи» его мать спасла, что удалось, из дома своих родителей.
К счастью, Мельникову не пришлось разделить судьбу Мандельштама, Бабеля и Мейерхольда, его не отправили в теплушке в Сибирь. Однако стервятники постепенно сжимали кольцо. Сперва коллеги осудили его как формалиста. Потом на съезде советского архитектурного истеблишмента поднялось около восьмисот рук в поддержку предложения запретить ему заниматься своим делом.
Поминальный звон по мистической архитектуре в России прозвучал еще тогда, когда Анатолий Луначарский, нарком просвещения при Ленине, объявил: «Народ тоже имеет право на колоннады». Надо признать, что на распространение этого убийственного мегаломаниакального стиля, известного под названием «совноврок» (советское новое рококо), ушло некоторое время. Мельников не мог его не возненавидеть. Он сорок лет просидел дома, ничего не делая. Время от времени заходили разговоры о его реабилитации, но ни к чему не привели, поэтому ко времени моего визита его дом, несмотря на все признаки былой жизненной силы, превратился в мрачное, унылое частное жилище – мрачное, как знаменитая прокофьевская соната, законченная в 1942-м[233].
Когда я прощался со стариком, он улыбнулся задумчивой меланхолической улыбкой и, подняв одну руку, нарисовал в воздухе график своей загубленной карьеры. Если точно воспроизвести его на бумаге, получится нечто вроде этого:
Среди руин
{14}
На острове Капри в свое время жили три самовлюбленных типа, каждый из которых построил дом на краю скалы. Их имена: Аксель Мунте, барон Жак Адельсверд-Ферзен и Курцио Малапарте. Все трое были писатели из тех, что склонны к драматизации собственной судьбы. Все обладали немалой долей нордической чувственности. И все стремились воплотить свою личность в архитектуре. Таким образом, дома их были актами любви к самим себе – «домами мечты», где они надеялись жить, любить и совершать чудеса творения. Однако, несмотря на идиллическую обстановку вокруг, дома эти пропитала нездоровая атмосфера, подобная той, что ощущается в «Острове мертвых» Бёклина[234].
Капри, разумеется, «остров коз». Даже во времена императора Тиберия он представлял собой кусочек Греции; тут и по сей день сохранилась иллюзия того, что великий (козлоногий) бог Пан еще жив, что Капри остается языческим раем в море католичества, местом, где вино превосходно, солнце вечно сияет, а мальчики и девочки хороши собою и сговорчивы. Начиная с середины девятнадцатого века на Капри хлынул поток романтически настроенных северян, которые принялись покупать, строить или снимать виллы.
Здесь жили немецкие художники, английские буржуа-эксцентрики, американские лесбиянки и русские «богостроители». Сюда приезжал кайзер Вильгельм II, тут в разное время бывали Д. Г. Лоуренс, Рильке, фельдмаршал Роммель, Эдда Чиано, Грейс Филдс и лорд Альфред Дуглас (отсиживавшийся на вилле, пока Оскар Уайльд отбывал срок в Редингской тюрьме)[235].
Еще тут жил Норман Дуглас[236] – ученый, гедонист, никоим образом не родственник Альфреда; потеряв собственную виллу в результате финансового краха, он предпочитал удобство съемных комнат.
Или Фриц Крупп, «пушечный король», который построил себе гарсоньерку на склоне утеса – с тем лишь, чтобы покончить с собой, когда о его гомосексуальности пронюхала одна неаполитанская газета. Или Максим Горький, написавший на Капри «Мать». Или близкий друг Горького Ленин, известный рыболов, которого в округе прозвали синьор Дринь-Дринь.
Однако ключом к истории Капри является император Тиберий. Он владел на острове двенадцатью виллами: одни стояли на холмах, другие у моря. У своего дворца на верхушке скалы, получившего название вилла Юпитера, он построил маяк, откуда мог подавать сигналы – приказы, разносившиеся по всей империи.
Личность Тиберия – поле академических сражений. Был ли он – как полагал Норман Дуглас – человеком робким, скуповатым, ненавидящим толпу ученым, любящим искусство аскетом, который поразил своих друзей – греческих философов вопросом, какие песни обычно пели Сирены, а управлять страной мог только одним способом – удалившись в свои просторные покои, оставшись наедине со своими мыслями и книгами? Или же он – согласно описанию Светония – был отвратительным старым педерастом, чья левая рука была до того сильна, что он «пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши»?
Собирал ли он героев любовных состязаний со всех краев империи? Плавал ли в гротах с детьми, которых соблазнял? Играл ли в игры со своими жертвами перед тем, как сбросить их в море со скалы Сальто ди Тиберио, с тысячефутовой высоты?
Учитывая призрачную границу, отделяющую крайности аскетизма от чувственных эксцессов, «хороший» Тиберий, вероятно, ничем не отличается от «плохого». Но именно второй, описанный Светонием Тиберий вдохновил маркиза де Сада, одного из первых туристов, побывавших на острове, на сочинение парочки жарких разгульных сцен с участием Жюстины и Жюльетты, а также подтолк нул барона Жака Адельсверда-Ферзена, юного эстета, переполняемого мечтами о грядущих оргиях, построить виллу Лисия (или Ля Глориетт) на полоске земли под императорской виллой Юпитера.
«Одно из моих многочисленных преступлений, – писал Норман Дуглас в книге “Обернись назад”, – состоит в том, что я убедил это яблоко раздора обосноваться на Капри. Нет – я преувеличиваю. Факт заключается в том, что в один прекрасный день он появился на острове и почти сразу же встретил меня. Ему тогда было года двадцать три».
Жизнь Ферзена была описана в двух романах – в «Огне Весты» Комптона Маккензи и в «Каприйском изгнаннике» Роже Пейрефитта, вследствие чего «настоящий» Ферзен скрылся в лиловой дымке. «Огонь Весты» – неприкрытый roman à clef[237] (сразу после выхода он, должно быть, казался весьма смелым), где обрисованы инцестуальные перипетии жизни островной колонии экспатов, переживающей нашествие нелепого французского графа Робера Марсака и его итальянского дружка Карло. В книге Пейрефитта, напротив, исторические знаменитости перепутаны с вымышленными ситуациями, и от чтения ее недолго сойти с ума.
Ферзен принадлежал к тому же семейству, что и «le beau Fersen»[238], шведский аристократ и любовник Марии Антуанетты, чьи попытки спасти королевскую семью окончились фиаско под Варенном. Военно-морская ветвь Ферзенов осела во Франции при Наполеоне III и основала сталепрокатную фабрику недалеко от Люксембурга. Отец Жака погиб в море. Жак был единственным сыном, а потому – очень состоятельным молодым человеком.
Он вырос в Париже 1890-х и, кажется, лепил себя с Робера де Монтескью (послужившего также моделью для Дез Эссента и барона де Шарлюc)[239]. Если верить описанию Нормана Дугласа, он обладал «детской свежестью», был голубоглаз, одевался всегда слишком щегольски. Первый томик его стихов переходил из одного респектабельного дома в другой, несмотря на нездоровый тон и пристрастие поэта к розам, да и вообще к розовому («Et nous serons des morts sous des vêtements roses»[240]), – манерность, пришедшая, как можно догадываться, из «Les Hortensias Bleus»[241] Монтескью.
Злоключения его начались с публикации «Hymnaire d’Adonis – Paganismes – à la Façon de M. le Marquis de Sade»[242]. Правда, он уже готов был заречься, бросить эти глупости и жениться на мадемуазель де Мопью, как вдруг его безо всякого предупреждения арестовала полиция за совращение мальчиков-школьников у себя в квартире на авеню де Фридлянд.
Данный эпизод – предмет собственного полуавтобиографического сочинения Ферзена, написанного в 1905-м и полного всякой всячины. Норман Дуглас приписывает этой вещи, озаглавленной «Лорд Лиллиан, ou Messes Noires»[243], «затхлый привкус, нечто в стиле Дориана Грея»; она не лишена подсознательного юмора.
Ферзена судили, приговорили, потом выпустили, и он бежал в Италию, где встретил двух американок, «сестер» Уолкотт-Перри, пригласивших его на свою виллу на Капри. Тогда он в знак протеста решил построить собственный дом, о котором мечтал; а когда Норман Дуглас показал ему место под Монте-Тиберио, Ферзен сказал: «Тут можно писать стихи». Его не остановило даже предупреждение о том, что зимой дом будет освещен солнцем не больше двух часов в день. Пока постройку возводили, он отправился на Цейлон, где пристрастился к опию. Потом он подцепил в Риме мальчишкугазетчика, которого привез на Капри в качестве своего секретаря.
Мальчишку звали Нино Чезарини, и ему приходилось со многим мириться. У Ферзена, если верить Дугласу, имелось «несколько приятных черт»: он не был «неискренним или фальшивым, хотя отличался театральностью». К тому же он был тщеславен, пустоголов и прижимист. Он устраивал экзотические праздненства и ругался со всеми своими гостями. Он запрещал Нино флиртовать с девушками, но при этом упорно таскал его по острову, выставляя напоказ, словно античного бронзового Аполлона. Он свозил его в Китай, где они купили коллекцию опийных трубок, штук триста. Он свозил его на Сицилию, чтобы его сфотографировал барон фон Гледен. Наконец – если эта история правдива, – он устроил инсценировку человеческого жертвоприношения в митрейском гроте Матромания, с Нино в роли жертвы, после чего обоих выгнали с острова.
Когда в 1914-м разразилась война, Нино пришлось избавиться от привычки к опию и отправиться воевать на Апеннины, Ферзен же остался на юге Франции. В конце концов ему разрешили вернуться на виллу Лисия, однако он повздорил с Уолкотт-Перри, отказавшими ему от дома, а в придачу к опию начал употреблять кокаин.
После войны Нино вернулся ухаживать за своим хозяином, который, несмотря на иллюзию вечной юности, к тому времени был тяжело болен. «У этого моего дома, – говорил Ферзен, – привкус смерти». Однажды ненастной ночью в ноябре 1923-го граф Джек (как называли Ферзена на острове), облаченный в розовые шелка, валялся на подушках своего подземного опийного притона. Отлучившийся в кухню Нино, вернувшись, застал хозяина в полубессознательном состоянии. «Сколько граммов? – закричал он. – Сколько граммов?» «Пять», – пробормотал Ферзен и, разжав кулак, отошел в мир иной; по крайней мере, такова была версия, напечатанная в неапольской ежедневной газете «Иль Маттино».
Родственники Ферзена переделали виллу, время от времени устраивали там пикники, а после продали ее одному левантинскому дельцу. «Так она здесь и стоит, – писал в 1933 году Норман Дуглас, – словно замок из сказки, пустая и заброшенная, окруженная – точнее, задушенная – чащей деревьев… ведь он до того любил свои пинии, падубы и мимозы, что не позволял притрагиваться ни к единой веточке».
Так она здесь и стоит, вернее, полустоит, в этом темном «священном» лесу, снова выставленная на продажу, – эта чуждая духу места «французская» причуда, которую один остроумец с Капри как-то назвал «визитной карточкой куртизанки», стоит с потрескавшейся штукатуркой и разъехавшимися жалюзи, безмолвная, если не считать мяуканья котов, кукареканья петухов и шума моторных лодок в море внизу.
В заросшем саду я нашел алтари и temple de l’amour[244]. (Следы невыполнимых желаний? Воcпоминания о Версале и королеве?) Бетон, отвалившийся от проржавевших каркасов урн, мелкими кусочками лежал в траве. А у колоннады под салоном хозяйка виллы выложила сушиться стручки рожкового дерева и привязала своего печального бежевого пса.
Эта стройная молодая женщина заботливо следила за своим поместьем. У нее имелся талант к садоводству. В банках из-под оливкового масла она выращивала герань, пеларгонию, канны, которые цвели, поражая своим едва ли не сверхъестественным блеском, на ступенях под портиком. Дом покрывала тень. Дорогу мне то и дело перебегал черный кот, словно предупреждая, чтобы не нарушал границ владения. Коты были повсюду, коты с пухлыми мордами, а также запах кошачьей мочи. Еще там были заросли голубых гортензий – les hortensias bleus Монтескью.
Я обнаружил, что салон был некогда отделан в белом, голубом и золотистом тонах. Однако крыша провалилась, и мусор кучами усеял китайскую гостиную, украшенную желтой плиткой и фальшивыми китайскими надписями, где Ферзен когда-то раскладывал по лакированным стеллажам свои трубки.
И все-таки снаружи золотая мозаика по-прежнему облепляла гофрированные колонны, а над перистилем еще можно было прочесть надпись черными мраморными буквами: «AMORI ET DOLORI SACRUM» – «Святилище любви и скорби». А белая мраморная лестница, перила которой поросли виноградной листвой и лиловыми гроздями, по-прежнему вела в спальню Нино, похожую на детскую, – но спальня Жака успела обвалиться.
Его называли «самым интересным человеком в Европе», однако, если оглянуться назад, Аксель Мунте и его претенциозный музей-заповедник, вилла Сан-Микеле, больших симпатий не вызывают.
Мунте родился в 1857 году в шведской провинции Смоланд, происходил из семейства епископов и бургомистров, переехавших в Скандинавию из Фландрии. Изучал медицину в Уппсальском университете, в восемнадцать поехал в Италию, поправляться после легочного кровотечения. Ему случилось провести день в городке Анакапри, где он увидел заброшенную часовню, а рядом с нею – сад, чей владелец, Мастро Винченцо, раскопал мозаичные полы римской виллы и множество древних мраморных фрагментов – roba di Timberio, или «вещи Тиберия», как называли их местные крестьяне. Мунте распознал в этом месте одно из двенадцати владений Тиберия и задумал план – если верить ему, там же и тогда же, – как стать его владельцем.
«Почему бы мне не купить дом Мастро Винченцо, – писал он в “Легенде о Сан-Микеле”, – не добавить к часовне и дому гирлянды лоз, кипарисовые аллеи, колонны, которые будут поддерживать белые балконы, населенные мраморными статуями богов и бронзовыми статуэтками императоров».
В Швецию Мунте не вернулся – продолжил свое обучение в Монпелье, а затем в Париже. В двадцать два года он стал самым молодым доктором медицины во Франции. Благодаря своим обаянию, интеллекту и в высшей степени убедительной манере общения с больными он вскоре сделался партнером в модной клинике. Он верил в то, что богатых следует заставлять платить за бедных. Особый интерес он проявлял к нервным болезням и возможности их лечения посредством гипноза.
Он был близким другом принца Евгения Бернадота, младшего сына шведского короля, который в то время вел богемную жизнь художника в Париже. Приятельствовал со Стриндбергом. Водил знакомство с Мопассаном (и даже плавал на его яхте); по сути, «Легенда о Сан-Микеле», где имеются описания жизни высших и низших слоев, а также налет сверхъестественного, по стилю во многом напоминает позднего Мопассана. В 1884 году Мунте прервал поездку по Лапландии и отправился работать в бедные кварталы Неаполя – там началась эпидемия холеры. В 1889-м он уехал из Парижа, купил землю для постройки Сан-Микеле и, чтобы заработать на виллу, открыл новую практику, в доме Китса, рядом с Пьяцца ди Спанья в Риме.
Там он процветал. Доктор Уэйр Митчелл присылал к нему больных миллионерш из Соединенных Штатов. Из Вены к нему присылал невропатов «обоих полов и без пола» профессор Крафт-Эбинг. Гонорары его были колоссальными, а в знаменитых «случаях полного излечения», вероятно, сыграла роль не столько традиционная медицина, сколько перемена климата и обстановки. Он собирал королевских особ так же, как собирал антиквариат. Главной его пациенткой была шведская королева Виктория, которую он уговорил прожить куда дольше, чем она, по-видимому, намеревалась. Его внимания добивалась царица, нуждавшаяся в помощи для себя и для страдающего гемофилией царевича (до такой степени, что едва не похитила Мунте на борту императорской яхты), а когда он ей отказал, она бросилась в объятия Распутина.
Бывали времена, когда вилла на Капри, должно быть, походила на санаторий для больных королев и императриц; ее мечтала купить Елизавета, императрица Австрии. Позже, когда поток королевских особ начал иссякать, по их следам сюда продолжали наведываться другие.
«Что до самого Сан-Микеле, – писал Мунте – иронично, на английском – Герману Герингу в августе 1937-го, – буду рад предоставить его вам на время, если вдруг улучите минутку отдохнуть от ваших колоссальных забот. Местечко маленькое. Я построил его, руководствуясь тем принципом, что душе нужно больше места, нежели телу, так что вам тут, пожалуй, будет не слишком удобно».
Он был сам себе архитектор; в качестве стиля он выбрал сарацинско-романский. Дом построил белый, светлый – «заповедник солнца», – отделав его под ренессанс, так, как особенно любили в начале века. (Роберто Пане, историк архитектуры Капри, назвал его «un falso presuntuoso quanto insultante»[245].) Там действительно имелся балкон, населенный статуями богов и императоров – подлинниками и фальшивками, а в стены, словно орехи в нугу, были воткнуты куски древнего мрамора, в том числе подобранные на императорской вилле.
Он разбил сады с беседками, террасами и дорожками, обсаженными кипарисом. Что же до самой часовни Сан-Микеле, прежде напоминавшей одинокий приют отшельника на вершине скалы, ее он преобразил в своего рода покои паши, откуда взгляд простирается далеко: вверх до замка Барбароссы, вниз на Марина Гранде, через бухту к тибериевой вилле Юпитера – и к этому проклятому пятну на ландшафте, ферзеновой вилле Лисия.
Главная особенность Сан-Микеле – вид; в Пасадене или Беверли-Хиллз на творение Мунте никто бы и походя не взглянул. И все-таки это по-прежнему одно из самых известных зданий в мире, а «Легенда о Сан-Микеле» спустя пятьдесят пять лет по-прежнему остается бестселлером, переведенным на добрые полсотни языков (незадолго до моего визита туда приезжал его корейский переводчик).
Мунте был прирожденным рассказчиком, который, прежде чем гипнотизировать других, всячески старался загипнотизировать самого себя. Он сочинял истории о зарытых сокровищах, о безумии, о перепутанных гробах, о не чурающихся земных удовольствий клириках, неприступных графинях и добросердечных шлюхах, о монахине, которую он едва не соблазнил во время эпидемии холеры. Однако успех книги, в особенности у английских читателей, был вызван в первую очередь той страстью, которую Мунте питал к животным и птицам. Он спас бабуина от его полусумасшедшего хозяина-американца. Он едва не убил на дуэли французского виконта, садиста, так сильно пнувшего его пса, что животное пришлось пристрелить. Он объявил войну мяснику из Анакапри, который ловил сетью перелетных птиц и ослеплял их раскаленными иглами, чтобы заставить петь. Наконец, ему удалось убедить Муссолини превратить весь Капри в птичий заповедник.
Если судить с литературной точки зрения, лучшие рассказы в книге повествуют о годах, проведенных им в Париже и Риме, и изложены с клинической, пресыщенной отстраненностью; они напоминают (помимо Мопассана) прозу другого врача, ставшего писателем, У. Сомерсета Моэма. Подобно Моэму, Мунте, насколько можно судить, всегда заканчивает свои воспоминания на самодовольной ноте (позже у него появляются отголоски жалости к себе); в целом книга подкрепляет мнение Оскара Уайльда, предупреждавшего о ловушках, которые таит в себе повествование от первого лица, в особенности – когда рассказчик маниакально одержим мифами.
Мунте был без ума от Тиберия. Левенте Эрдеос, директор Фонда Сан-Микеле на Капри, говорит: «На мой взгляд, он страдал особым недугом – можно сказать, был одержим покойным императором. Он мог смотреть вниз со своего балкона и воображать, будто и он тоже правит миром». Тиберий владел двенадцатью домами на острове – Мунте необходимо было иметь двенадцать. Тиберий собирал статуи – Мунте необходимо было тоже иметь статуи. Но вместо того, чтобы признать их происхождение – они поступали от обычных торговцев антиквариатом из Неаполя и других мест, – он предпочитал окутывать свои «находки» пеленой таинственности.
Ему нравилось намекать, будто бронзовая копия Гермеса работы Лисиппа (находящаяся на краю балкона и подаренная ему Неаполем за помощь, оказанную им городу во время холеры) – на самом деле не копия, а оригинал, намеренно похищенный из музея одним из его поклонников-доброжелателей.
В другой раз он «почувствовал», что со дна моря за ним наблюдает чье-то лицо; когда же он навел свой телескоп на бледное пятнышко вдали от берега, оно оказалось мраморной головой Медузы; теперь она вделана в стену позади его рабочего стола. Еще был огромный базальтовый Гор, бог в образе сокола – «самый большой из всех, что мне доводилось видеть, – писал он, – привезенный из земли фараонов каким-то римским коллекционером, возможно, самим Тиберием». Однако, насколько могу судить я, этот предмет – стандартная подделка с каирского базара.
К двадцатым годам Мунте стал британским подданным. Он работал с британским Красным Крестом во Фландрии во время Первой мировой войны. А в 1943-м, вероятно опасаясь, что немцы вторгнутся в Италию, он уехал в Стокгольм (на том же самолете, что Курцио Малапарте, направлявшийся в качестве журналиста на финносоветский фронт). Обратно он не вернулся. Его друг король Густав V предоставил ему апартаменты в королевском дворце; там-то, мечтая о юге, он и умер 11 февраля 1949 года. Он желал, чтобы Сан-Микеле остался в качестве памятника ему, и завещал виллу шведскому государству. На мемориальной табличке значится: «В память о незабвенном докторе Акселе Мунте. Жизнь его – яркий символ образцового гуманизма». Место осаждают туристы, оно поддерживается в хирургической чистоте.
Сегодня мало кто из жителей острова помнит старого доктора, который прогуливался по городу в потрепанном костюме, что выдавало в нем signore[246]. И все же мне удалось разузнать следующее.
От одной grande dame[247]: «Он был ненасытен. Мы называли его Il Caprone – “Козел”! И не за одно это! Пахло от него прямо-таки ужасно».
От неаполитанского аристократа: «Это было плохое перекрещение. Или как это будет по-английски? Плохое смешение! Детей у него было – половина населения Анакапри, и у всех рыжие волосы и лошадиные морды. Бывало, услышишь, как дети кричат: “Лошадиная морда! Лошадиная морда!” – и сразу ясно, это они кричат одному из незаконных отпрысков Мунте».
От всезнающего юного историка, который работает в ратуше Анакапри: «Era bisessuale»[248].
С другой стороны, фракция сторонников Мунте благоговеет перед его памятью, говорит о нем приглушенным тоном и с религиозным жаром перечисляет его добрые деяния. В Анакапри я встретил одного из этих, как они сами себя называют, «мунтезианцев»; он метался по саду Сан-Микеле, указывая то на одну, то на другую «типично мунтезианскую деталь», то на могилы собак шведской королевы. Он довольно сильно расстроился, узнав, что я справлялся о Мунте и в других местах.
– Да что они знают! – сердито сказал он. – Они же завидуют Мунте. Завидуют этому человеку и его достижениям. Вы меня спросите.
Я все знаю.
– Он был из тех, о ком говорят «рыбья кровь»?
– Рыбья?
– Был ли он холодным человеком?
– Он был горячим и холодным. В нем было все.
– Чем он вас заинтересовал?
– Он был интересным.
– В каком же смысле?
– Он был пионером экологии. Ездил к Муссолини, чтобы заставить людей прекратить убивать птиц.
– А еще что?
– Он был создателем красоты.
– Где?
– Он создал это место.
Курцио Малапарте был писателем очень странным, и его вилла, построенная им в 1938–1940 годах на одиноком мысе Капо Массуло, – одно из самых странных обиталищ в западном мире.
«Гомеровский» корабль, выброшенный на сушу? Современный алтарь Посейдона? Дом будущего или доисторического прошлого? Сюрреалистический дом? Фашистский дом? Или «тиберианское» убежище, где можно скрыться от обезумевшего мира? Дом денди, профессионального шутника, Arcitaliano[249], как называли его друзья, или меланхоличного немецкого романтика, скрывавшегося под этой маской? «Чистый» дом аскета? Или беспокойный приватный театр ненасытного Казановы? Достоверно нам известно следующее: Малапарте попросил своего архитектора, Адальберто Либеру, построить ему «casa come me» – «дом вроде меня», столь же «trist e, dura, severa» – «печальный, твердый и суровый», – каким он сам cебе представлялся. На его почтовой бумаге сверху жирными черными буквами было напечатано: «CASA COME ME»; по сути, дом – весь, до малейших мелкобуржуазных деталей, – являет собой биографию своего владельца.
Курцио Малапарте родился в 1898 году, при крещении получил имя Курт Зукерт. Его отец, Эрвин Зукерт, раздражительный мелкий текстильный фабрикант из Саксонии, осел в Прато, недалеко от Флоренции, и женился на флорентийке.
На ранних фотографиях Курта перед нами холеный, красивый, черноволосый молодой человек, смотрящий в объектив с ироничным, презрительным видом, какой иногда бывает у людей на портретах Бронзино. К 1913 году он уже посещал кафе «Красные фраки»[250] во Флоренции, где пылкие интеллектуалы требовали действия, любого действия, в Европе, до того пресытившейся мирной жизнью, что мирная жизнь стала считаться аморальной. Когда разразилась война, он записался в Гарибальдийский легион и отличился в бою, подобно Хемингуэю (который был годом моложе), на австрийском фронте, а затем в Блиньи, возле Реймса, где погибло почти десять тысяч итальянцев и где сам он пострадал от газов, нанесших вред его легкому.
После войны он стал журналистом и фашистом. Он присоединился к маршу на Рим и подписал первый «Манифест фашистской интеллигенции». Антонио Грамши, один из основателей Итальянской коммунистической партии, знавший его в то время, вынес суровый вердикт его лихорадочному arrivismo[251], непомерному тщеславию и снобизму в сочетании с мимикрией: «Чтобы добиться успеха, [он] готов совершить любое зло». В 1925 году Зукерт прочел памфлет девятнадцатого века, одна из частей которого была озаглавлена «I Malaparte e i Bonaparte», и сменил имя.
Малапарте мнил себя «человеком действия», уподобляясь Т. Э. Лоу рен су или Андре Мальро. Он, как и они, обладал способностью к саморекламе и был не чужд мифомании, однако, когда доходило до дела, выбирал роль не участника, но литературного вуайера. Ему хватило проницательности, чтобы с самого начала понять, сколько жестоких нелепостей несет с собой движение Муссолини; его язвительное чувство юмора вечно не давало ему устоять от искушения высмеивать стоящих у власти. Первый тревожный звонок прозвучал, когда он высмеял Муссолини за галстуки, которые тому нравились. Дуче вызвал его к себе в кабинет в палаццо Киджи для извинения. После беседы, шагая к выходу по холодным мраморным плитам, Малапарте обернулся и сказал:
– Позвольте мне сказать одно последнее слово в свою защиту.
– Валяйте, – приподнял брови Муссолини.
– Даже сегодня галстук на вас отвратительный.
Малапарте любил принцесс и крестьян; гомосексуалистов и свое собственное незнатное происхождение он ненавидел. Одевался он щегольски. (Я обсуждал с одним из его старых друзей, принцем Сириньяно, вопрос о том, чем он мазал волосы: бриолином, вазелином или la gomina argentina[252].) Он мог заворожить любую аудиторию своими рассказами; высокопоставленные фашисты, покровительствовавшие ему, втайне рады были слышать, как издеваются над Дуче. В 1929-м сенатор Джиованни Аньелли, председатель «Фиата», режиму не сочувствовавший, назначил его главным редактором своей газеты «Ла Стампа».
В течение двух лет, пока его не вынудили уволиться, Малапарте использовал ее в качестве снайперского поста.
Он развил теорию о том, что войны и революции двадцатого столетия, отнюдь не будучи продуктами противоречий, свойственных развитому капитализму, произрастали из завистливости буржуазии и ее отвращения к себе самой. Революция в России была явлением европейским. Ленин был не каким-то новым азиатским царьком вроде Чингис-хана, но «скромным и фанатичным» буржуазным функционером, мелкой сошкой, наполовину немцем, как и сам Малапарте.
Свою идею он довел конца в замечательной книжечке «Technique du Coup d’État»[253], которую опубликовал в Париже в 1931 году, после того как фашисты вынудили его уйти из «Ла Стампа». Последняя глава, написанная за два года до того, как ко власти в Германии пришли нацисты, привлекает внимание своим заголовком: «Une Femme: Hitler»[254].
Этот толстый, хвастливый австриец <…> с жесткими недоверчивыми глазами, неизменными амбициями и циничными планами вполне может, как и всякий австриец, испытывать определенное пристрастие к героем Древнего Рима…
Его герой – Юлий Цезарь в Lederhosen[255]…
Гитлер – карикатура на Муссолини…
По духу Гитлер глубоко женственен, в его интеллекте, в его амбициях, даже в его силе воли нет ничего мужского…
Диктатура <…> есть одна из наиболее законченных форм зависти во всех ее проявлениях: политическом, моральном, интеллектуальном…
Диктатор Гитлер – та женщина, которой заслуживает Германия…
Все это не прибавило Дуче благосклонности к нему; сам Малапарте говорил: «Гитлер потребовал моей головы и получил ее». Вернувшись из Парижа в 1933-м – шаг, то ли продиктованный бесстрашием, то ли сделанный по недомыслию, – он был обвинен в антифашистской деятельности за границей, арестован, избит, брошен в тюрьму Реджина Чели и, словно какой-нибудь опозоренный сенатор времен Римской империи, приговорен к пяти годам изгнания на острове Липари.
Здесь, под охраной carabinieri[256], он читал в оригинале Гомера и Платона под звук волн, что разбивались о серый вулканический берег перед его домом. На фотографиях он предстает одетым в безупречно белые брюки гольф, но без носков, лицо сморщено, как у немолодого матадора, он гладит своего любимого терьера.
Мне не с кем было поговорить, кроме собак. Вечером я выходил на террасу своего печального дома у моря. Перегнувшись через перила, я звал Эола, брата моего собственного пса, Феба. Я звал Вулкана, Аполлона, Стромболи… У всех собак были древние клички… у собак моих друзей-рыбаков. Я проводил на террасе час за часом, выл на собак, а те выли мне в ответ…
Из своего пятилетнего срока Малапарте делает целую историю: «Слишком много моря, слишком много неба для столь маленького острова и столь беспокойного духа». На самом же деле примерно через год его другу Галеаццо Чиано, зятю Муссолини, удалось перевести его на Искию, а затем в Форте дель Марми, где он жил на вилле со своим верным Фебом, принимал гостей, пользовался служебным «альфа-ромео» и писал сатирические статьи под псевдонимом Кандидо. При всех своих недостатках Муссолини не был мстителен, ему не чужда была некая тяга к абсурдному. Втайне он, кажется, любил Малапарте – однако вынужден был считаться с немцами.
Когда «изгнание» кончилось, Малапарте купил в Форте дей Марми собственный дом, виллу Хильдебранд, построенную для одного немецкого скульптора и украшенную фресками работы Бёк лина. Затем он основал «Проспеттиве», культурное обозрение с уклоном в сюрреализм, где печатал Паунда, Андре Бретона, Альберто Моравиа, Марио Праца, Де Кирико и Поля Элюара.
Во время Эфиопской кампании он отправился в Африку военным корреспондентом. В целом в своих репортажах он относился к Муссолини не без благосклонности. Еще он написал сборник автобиорафических фантазий под заголовками в духе «Женщина, похожая на меня», «Пес, похожий на меня», «Земля, похожая на меня», «Святой, похожий на меня». Потом ему в руки каким-то загадочным образом попала крупная сумма денег. Он купил Капо Массуло у рыбака с Капри, сказав, что хочет держать там кроликов; вместо того он нанял Либеру, чтобы тот построил «дом, похожий на меня».
Casa Come Me с его поразительными видами – море, небо, скалы – был предназначен для того, чтобы удовлетворить его «меланхолическую тоску по пространству» и одновременно воспроизвести – в соответствии с его собственными грандиозными планами – его быт в изгнании на Липари. Он был задуман как монастырь-бункер, пристанище человека, в одиночку противостоящего диктаторам, – casamatta, «блокгауз» или «сумасшедший дом», в зависимости от того, как перевести это слово с итальянского; дом машинного века, которому, так или иначе, предстояло сохранить древнейшие ценности Средиземноморья. В отличие от «аполлоновых» храмов классической Греции с их лесами колонн и «крышами, что спустились с небес», этому зданию, подобно минойскому храму, предстояло подняться из самого моря.
Стены цвета бычьей крови, окна – словно окна лайнера, лесенка в форме клина, наискось ведущая, будто священная тропинка, на крышу террасы. Здесь Малапарте каждое утро выполнял гимнастический ритуал, в одиночестве, а влюбленные в него женщины наблюдали сверху, с утесов.
Внутри, на верхнем этаже дома, находился огромный выбеленный салон-атриум, по каменным полам его были разбросаны выделанные шкуры, длинные замшевые диваны стояли, задрапированные льняными покрывалами, а «минойские» столики с волнистыми краями покоились на бетонных ножках. Тут были громадные деревянные «фашистские» скульптуры – обнаженные фигуры работы Перикле Фаццини; через заднюю стенку камина, сделанную из толстого стекла, гости могли смотреть на море по ту сторону пламени.
Дальше шли собственные апартаменты писателя и «комната фаворитки», у каждой спальни имелась собственная ванная, отделанная серым в прожилках мрамором, вполне подходящая для убийства Агамемнона. Малапарте, видимо, считал секс чем-то серьезным, наподобие священного обряда; в комнате фаворитки двуспальная кровать установлена на фоне простой, обшитой панелями стены и напоминает алтарь цистерцианского монастыря. Да и кабинет, несмотря на фаянсовую печку, полотна с эфиопскими женщинами и расписной плиткой на полу с изображением лиры Орфея, наводит на мысли о богослужении. Именно в этой комнате в сентябре 1943-го Малапарте закончил «Kaputt», «[свою] жутко веселую и страшную книгу», принесшую ему известность за пределами Италии.
Когда Муссолини объявил войну, Чиано посоветовал другу надеть военную форму. Итак, Малапарте в ранге капитана Пятого альпийского полка отправился сперва наблюдать за вторжением Италии в Грецию, а затем, в качестве корреспондента «Коррьере делла Сера», – на русский фронт. Ему удалось с помощью обаяния или лести проникнуть в высшие нацистские круги. В Кракове, на берегах Вислы, он обедал с рейхсминистром Франком, палачом Польши, который заверил Малапарте, что он, Франк, станет для Польши новым Орфеем, «завоюет этот народ с помощью искусства, поэзии и музыки». Малапарте пробрался и в варшавское гетто, откуда сообщал – в несколько уклончивой манере – об увиденном. Он последовал за бронетанковыми дивизиями на Украину, где стал свидетелем бессмысленных жестокостей.
В его статьях, публиковавшихся через шведскую печать в газетах всего мира, с самого начала содержались намеки на то, что Германия обречена. Гестапо настойчиво предлагало отстранить его от дел, если не вообще убрать; однако Муссолини, уже корчившийся под тенью Гитлера, вместо того разрешил ему отправиться корреспондентом в Финляндию, на финно-советский фронт. Летом 1943-го, услыхав о падении Дуче, Малапарте прилетел из Стокгольма в Италию. К тому времени, когда в Неаполь вошли американцы, он уже спокойно сидел в Casa Come Me и писал.
В книге «Kaputt» Малапарте решил показать оккупированную немцами Европу с точки зрения эстета, описывая ее как некую огромную, зловещую фреску, изображающую танец смерти. Результат, мягко говоря, нагоняет тревогу. Его угол зрения всегда косой, всегда двусмысленный, а тон сюрреалистичный – или, подобно самому нацизму, китчевый. В некоторые моменты кажется, будто образы Дали наконец воплотились в невыдуманном повествовании; взять, например, сцену, в которой Малапарте посещает сауну вместе с Гиммлером, или его визит к «поглавнику» (военному правителю) Хорватии после партизанской атаки.
– Хорватский народ, – сказал Анте Павелич, – желает, чтобы им правили великодушно и справедливо. Это я готов ему обеспечить.
Пока он говорил, я смотрел на плетеную корзинку на столе поглавника. Крышка была приподнята, и казалось, будто корзина наполнена мидиями или устрицами без раковин, как их порой выставляют в витринах «Фортнума и Мэйсона» на Пикадилли в Лондоне.
Казертано, итальянский дипломат, взглянул на меня и подмигнул:
– Не хотите ли доброй устричной похлебки?
– Это далматинские устрицы? – спросил я поглавника.
Анте Павелич снял крышку с корзины и показал нам эту склизкую желеобразную массу, с улыбкой произнеся:
– Это подарок от моих верных усташей. Сорок фунтов человеческих глаз.
На мой взгляд, комбинация фраз «сорок фунтов» и «Фортнум и Мэйсон» тошнотворна и фальшива одновременно; какой бы странной ни казалась книга «Kaputt» при первом прочтении, она явно не воспринимается ни как роман, ни как мемуары. То же можно сказать и о ее продолжении, озаглавленном «Шкура», книге, написанной в похожем духе самовозвеличивания, где автор рассказывает о своей карьере посредника между итальянской армией и ее вновь обретенными американскими союзниками. Отдельные истории, вошедшие в книгу, представляют собой садистское «южное барокко».
«Шкура» стала международным бестселлером, раскупалась по всюду – за исключением Неаполя и Капри, жители которых, чувствуя, что оклеветаны коллаборационистом, сделали жизнь Малапарте на острове чрезвычайно неприятной. Он вступил в Компартию, разочаровался во всем, решил эмигрировать во Францию.
Там дела его пошли не лучше. Он брезгливо относился к интеллектуальному климату Парижа, где властителями дум были Камю и Сартр. Написал пьесу о Прусте, еще одну – о Карле Марксе в Лондоне; оба представления были освистаны. Вернулся в Италию, где снял фильм, пользовавшийся успехом. Люди вспоминают, как он появлялся на литературных сборищах в Риме, одетый в хорошего покроя твидовый пиджак, под руку с молчаливой, похожей на мальчика девушкой. Начав полнеть, он собирался проехать на велосипеде от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Наконец, в 1956-м он отправился в путешествие по Советскому Союзу и Китаю, откуда присылал трезвые репортажи – свидетельство того, что теперь он, возможно, стал писателем другого рода, не из тех, кому непременно следует быть в центре внимания.
В воскресенье 11 ноября, находясь в Пекине, он заболел лихорадкой. Осмотревший его врач сказал:
– Вы подхватили легкого китайского микробика, от этого у вас началась… легкая китайская лихорадочка. Ничего страшного.
Это оказался неизлечимый рак легкого. Перед смертью он обратился в католичество и получил отпущение грехов.
– Как он молился! – рассказывал принц Сириньяно. – Молился Христу… Помпейской Мадонне… Ленину… А умер все равно в мучениях!
Casa Come Me он оставил – возможно, чтобы насолить каприйцам, – в пользование художникам из Китайской Народной Республики. Его семейство опротестовало завещание, вернуло дом себе и недавно основало Фонд Малапарте, предназначение которого мне не совсем понятно. В день моего визита в доме было полно студентов из Мюнхена, изучающих искусство.
Еще я познакомился с местным жителем, который сказал, что Малапарте был крупной шишкой среди коммунистов.
– Вы разве не видите? – сказал он, глядя со скалы вниз на прямоугольную крышу и закругленную бетонную стену, что защищает ее от ветра. – Он построил дом в форме серпа и молота.
Истории из мира искусств
Герцог М.
{15}
Давно, когда я работал в аукционном доме «Сотбис», двое сомнительного вида швейцарцев принесли нам доисторическую находку, золотые драгоценности: ожерелья, браслеты, обручи для волос, декоративные пластинки. Они сказали, что это из Центральной Европы, но я понял, что вещи – иберийского происхождения. Мы выписали им квитанцию, и они ушли.
У нас в библиотеке была книга по доисторической Иберии. Там я нашел иллюстрации с изображениями нескольких из этих предметов, которые, как было указано, принадлежали мадридскому Фонду дона Хуана Валенсийского.
Я дозвонился до фонда по международному телефону и попросил соединить меня с куратором.
– Так золото у вас? – воскликнул он возбужденным голосом. – Замечательно! Его у нас украли. Подержите его у себя. Мы сообщим Интерполу… Простите, как, вы сказали, вас зовут? Мистер Ча?… Чат?… Чатвин! Мы с вами свяжемся. Огромное вам спасибо!
На следующее утро, часов в одиннадцать, когда я был на работе, мне позвонили из нашей приемной и сообщили, что меня дожидается герцог М.
Это был седовласый испанский гранд старой закалки. Так носить черную шляпу умеют лишь испанские гранды. Я провел его в комнату для посетителей и пошел за спрятанным в сейф золотом.
Дрожа от возбуждения, герцог М. один за другим брал в руки предметы. Все было на месте.
– Не могу выразить, до чего я вам благодарен, – сказал он. – Если бы вы знали, что мне пришлось пережить. Эти швейцарцы пришли к нам, выдавая себя за археологов, и мы разрешили им ознакомиться с коллекцией. Они ее похитили. Я отвечаю за фонд. Если бы золото не нашлось, мое имя было бы покрыто ужасным позором.
Мы договорились, что отнесем золото обратно в сейф и будем ждать указаний от Интерпола.
Герцог М. дал мне свою визитную карточку и пригласил заглядывать, если окажусь в Мадриде.
По дороге к выходу мы проходили мимо президента «Сотбис», который разговаривал со специалистом по испанской живописи. Я заметил, как специалист шепнул что-то президенту, и тот устремился вперед, чтобы представиться.
– Про вашу замечательную коллекцию картин всегда столько говорят…
«Всегда» означало тридцатью секундами раньше.
– Как же, непременно заходите их посмотреть, – сказал герцог М.
Он вынул из бумажника вторую визитку:
– Когда будете в Мадриде, в любое время, буду счастлив пригласить вас на обед.
Прошло несколько лет. Я ушел из «Сотбис» – или «Пособникс», как любит называть эту контору один мой друг. Одну зиму я провел, шатаясь по Западной Сахаре. В апреле ко мне приехала жена, и мы вместе отправились в двухнедельную поездку по Марокко.
На взлетной полосе в Касабланке нас поджидала «Каравелла» Королевской марокканской авиакомпании, чтобы отвезти в Париж, где мы собирались пересесть на лондонский рейс. Еще там стоял само лет Иберийских авиалиний, который должен был лететь в Мадрид, по расписанию на двадцать минут раньше нашего.
– Скорее! – сказал я Элизабет. – Поехали в Прадо, посмотрим картины.
Сотрудники аэропорта запихнули нас на борт.
В Мадриде стоял мороз. Остановившись в убогой гостинице, мы дрожали от холода. На следующее утро я позвонил герцогу М. спросить, нельзя ли мне посетить Фонд дона Хуана Валенсийского.
– Вы непременно должны прийти на обед, – сказал герцог М. – Сегодня вам удобно?
– Боюсь, что нет, – ответил я. – Мы приехали из марокканской пустыни, у нас нет приличной одежды.
– Одежду мы вам найдем, – сказал он. – У моего сына много костюмов. А у жены вашей какой размер?
– Она невысокая, – ответил я, – и стройная.
– Найдем что-нибудь. Ждем вас без четверти час.
Мы позвонили в двери. Дворецкий провел каждого в отдельную спальню. В моей было несколько серых костюмов, выстроенные рядком черные туфли, рубашки, носки, запонки и серебристые шелковые галстуки.
Я был грязен. Я умылся и оделся. Очень боялся, как бы не запачкать раковину. Мы с Элизабет встретились в коридоре. На ней было изумрудное платье от Баленсиага. Мы пошли к гостям.
В салоне было несколько картин Гойи, а в столовой – великолепная коллекция Гварди[257]. Разговоры были замечательны, обед превосходен. Три месяца до этого я ел пальцами и потому за столом вел себя, наверное, неподобающим образом.
– Я ушел из «Сотбис», – сказал я герцогу М.
– Рад слышать, – улыбнулся он. – У нас произошла чрезвычайно неприятная встреча с одним из их людей. Уилсон – так его, кажется, звали. Он позвонил спросить, нельзя ли взглянуть на мою коллекцию. Разумеется, после нашей с вами приятной встречи я пригласил его пообедать. А он принялся втолковывать мне, за какую цену моих Гварди можно было бы продать с аукциона. Пришлось указать ему на дверь.
– В разгар обеда?
– Да.
– Скажите, удалось ли Интерполу поймать тех воров? – спросил я.
– Удалось…
После мы, все в той же одежде – которую мы позаимствовали еще на три дня, – отправились домой к одной пожилой даме, бывшей в числе гостей.
Она была знаменитым искусствоведом, специалистом по Сурбарану[258]. Она провела нас к себе в спальню. Стены там были белые. Стояла кровать под балдахином с белым покрывалом, а штор не было. Там было распятие. На тумбочке у кровати лежали четки и католический требник. На стене напротив кровати висела картина, размером около четырех квадратных футов, – «Святая Вероника» Эль Греко.
Бей
Одной из первых моих должностей в «Сотбис» была должность швейцара в отделе греческих и римских древностей. Когда проводился аукцион, я, надев серую униформу, стоял за стеклянными витринами и следил, чтобы потенциальные покупатели не хватали руками выставленные предметы.
Как-то утром там появился пожилой, старомодный господин в черном пальто с каракулевым воротником, в руке у него была черная тросточка с серебряным набалдашником. Судя по его слащавому взгляду и приглаженным усикам, передо мною был пережиток Османской империи.
– Не покажете ли вы мне что-нибудь красивое? – спросил он. – Только не римское – греческое!
– Отчего же нет, – ответил я.
Я показал ему фрагмент аттического сосуда, белофонного лекифа работы Мастера Ахилла с изящнейшей росписью в золотистокоричневатых тонах – фигурой обнаженного мальчика. Это был экземпляр из коллекции лорда Эльджина[259].
– Ха! – воскликнул пожилой господин. – Вижу, у вас есть вкус. У меня тоже есть вкус. Мы с вами подружимся.
Он протянул мне свою визитку. Я наблюдал, как черное пальто удаляется в глубь галереи.
Поль А. Ф.-бей
Великий камергер при дворе короля Албании
«Вот как, – сказал я себе. – Камергер при дворе Зогу»[260].
Свое слово он сдержал. Мы с ним подружились. Он наезжал в Лондон по каким-то делам, связанным с албанцами в изгнании. Беспокоился за королеву Жеральдину в Эшториле. Сокрушался, что королю Леке в Мадриде приходится зарабатывать на жизнь, занимаясь недвижимостью.
Он говорил о произведениях искусства, некогда ему принадлежавших. Свои фовистские работы Брака и картины Хуана Гриса[261] он продал en bloc[262] австралийскому коллекционеру Дугласу Куперу. Он говорил о превосходной фазаньей охоте в краях своих предков. В Албании он ни разу не был, всю жизнь провел между Швейцарией и Александрией. Известно ли мне, спросил он однажды, что правительство Энвера Ходжи[263] – тайная ложа гомосексуалистов?
– По крайней мере, такие у меня имеются сведения.
Скоро я понял, что бей – не покупатель, а продавец. Его стесненные обстоятельства время от времени вынуждали его распрощаться с тем или иным произведением искусства. Не заинтересует ли меня, несколько робко осведомился он, возможность приобрести кое-какие пустяки из его коллекции?
– Безусловно, – ответил я.
– Так, может быть, я покажу вам парочку вещей в «Ритце»?
Денег у меня почти не было. Дирекция «Сотбис» полагала, что у людей вроде меня вдобавок к нашей жалкой зарплате имеются частные средства. Что мне было делать? Питаться воздухом? Я зарабатывал немного сверху, приторговывая антиквариатом, пока наш президент не велел мне прекратить. Негоже сотрудникам торговать произведениями искусства – такие действия не способствуют потенциальным продажам на аукционе.
Мне казалось, что это несправедливо. Так поступали почти все, кто занимался искусством.
Однако в случае с беем моя совесть была чиста. Он отказывался продавать что-либо на аукционе. Полагаю, ему невыносима была мысль о том, что в день показа его вещи будут трогать люди из толпы, те, у кого нет «вкуса». Кроме того, он хотел мне все подарить. На его постели в «Ритце» были разложены изысканные предметы: греческая бронза архаического периода, фрагмент мозанской раки, византийская камея, египетская зеленая сланцевая палетка додинастического периода и многое другое.
– Нравятся они вам? – озабоченно спрашивал он.
– Да.
– В таком случае я вам их дарю! В отношениях между друзьями, у которых есть вкус, о деньгах не может быть и речи!
Я заворачивал сокровища в бумагу и, отнеся к знакомому дилеру, выяснял, сколько за них можно выручить. Одну-две вещи я всегда старался оставить себе.
На другой день обычно звонил телефон.
– Чатвин, у вас не найдется немного времени выпить со мной?
– Разумеется, бей.
Мы встречались в баре отеля «Ритц».
– Чатвин, я хотел вас попросить о парочке одолжений. Знаете, переводить средства в разные концы Европы – дело крайне утомительное. Банки нынче не идут навстречу клиенту. Оказывается, я поиздержался за эту поездку. Не могли бы вы мне помочь кое-что уладить?
– Да, конечно.
– Я потратил несколько больше обычного на портного. Три или четыре костюма. Четыре пары туфель от «Лобба». А тут еще старушка «бентли»! Ей потребовался новый радиатор.
– Попробую что-нибудь сделать, – отвечал я.
Я шел к портному и спрашивал, сколько должен ему бей. Шел к «Лоббу». Узнавал у «Джека Баркли» стоимость радиатора. Цены бея чрезмерными не были, однако в конце мы всегда торговались, как принято на Востоке, – без этого какая же сделка.
– Чатвин, вы не могли бы переговорить с администратором «Ритца»?
Я собирался отправиться в Швейцарию на той неделе, в субботу. – Исключено, бей. Предлагаю ближайший понедельник.
– Увы, это невозможно. Во вторник леди Тернбулл устраивает коктейль для Англо-албанского общества. Я как камергер обязан прийти.
– Тогда в среду?
– В среду так в среду.
– И больше, после сегодняшнего, никаких звонков?
Так продолжалось два или три года. Теперь мне порой случается пролистывать каталоги какого-нибудь американского музея или выставки древнего искусства, и там, на иллюстрации во весь лист, то и дело попадается какой-нибудь предмет или картина, перешедший от бея ко мне: «Уникальный кикладический мраморный сосуд…», «Мраморная голова юноши с аттической плиты конца пятого века из Пентелик…», «Белая мраморная голова мальчика, приписываемая Дезидерио да Сеттиньяно…», «Картина “Насмехание над Христом”, темпера, холст, работы подражателя Мантеньи, возможно, Мелоццо да Форли…»
У нас остался один предмет из коллекции бея – кольцо, подаренное мною жене по случаю нашей помолвки. Это греческое кольцо из электрона, сплава золота и серебра, конца пятого века до нашей эры. Бей купил его в 1947 году у каирского торговца по имени Тано. Полагаю, оно из сокровищницы Телль-эль-Масхута[264], большая часть которой сейчас находится в Бруклинском музее.
Резное изображение на нем – раненая львица, которая зубами и лапой пытается вырвать из своего бока охотничье копье. Не самый подходящий подарок к помолвке, но мне это кольцо кажется самым прелестным из всех виденных мною греческих колец.
Я пишу о бее, потому что таких, как он, больше никогда не будет. В чем-то его жизнь, подозреваю, была фальшивкой. Вкус же остался юным и незамутненным.
Муха
Когда мне было двадцать два, одним из моих самых близких друзей целый год был старик по имени Берти Ландсберг. Разница в возрасте между нами составляла шестьдесят лет. Он был бразильцем, по происхождению – немецким евреем. Его вырастили темнокожие няньки, и во взгляде его была тропическая истома. У его семейства имелся участок «бесполезной» земли, «размером где-то с Бельгию».
Учился он в кембриджском Тринити-колледже, потом отправился в Париж. По его заказу Матисс написал кубистский портрет его сестры Ивонны. Мать отказалась заплатить за картину. Его привлекал Пикассо. Он купил и восстановил один из самых унылых домов в мире, виллу Мальконтента на канале Брента возле Венеции, построенную Палладио[265].
Я повез его в Венецию на биеннале. Мы восхищались Джакометти. Аршиль Горки ему не понравился[266]. Когда мы пришли в советский павильон, он сказал: «По крайней мере, в этом есть жуткая энергия».
Он научил меня одной вещи: для того, чтобы произведения искусства оставались живыми, никогда не следует их покупать и продавать – только дарить или обменивать. Для парня, толкающего картины на «Сотбис», это была новость. Он подарил мне прелестный фрагмент греческой мраморной скульптуры архаического периода. Во время одного из своих кризисов я его продал и с тех пор чувствую себя виноватым.
Жена Берти, Доротеа, когда-то была старой девой из Бостона, застрявшей в Венеции после того, как Америка вступила в войну. Он повез ее в Бразилию. Показал ей барочные города Минас-Жерайс, Оуро-Прето и Конгоньяс-до-Кампо.
Номера в бразильских деревенских гостиницах – клетушки, где можно повесить гамак. Как-то ночью Берти пожаловался из-за стены:
– Похоже, у меня в москитной сетке дыра. Кусают, прямо сил нет.
– Возьмите мою, – предложила Доротеа.
«Вот на такой женщине я готов жениться», – сказал себе Берти.
Моя будущая жена, Элизабет, была американка. Однажды она рассказала мне историю, услышав которую я тоже подумал: на этой женщине я готов жениться.
Ее лучшей подругой в Рэдклиффе была дочь директора вашингтонской Национальной галереи. В те годы одна очень богатая пара, В., обосновалась на Пятой авеню в квартире с французскими boiseries[267] и инкрустированной мебелью французских королей. Среди их картин был Вермеер, купленный по совету специалистов-искусствоведов. Директор галереи решил, что его дочери полезно будет увидеть эту легендарную коллекцию в образовательных целях. Элизабет с подругой отправились туда на чай. Неудивительно, что миссис В. пребывала в возбуждении. Несмотря на свою близорукость, Элизабет с неодобрением отметила стекло, покрывавшее инкрустации. Обе девушки умирали с голоду: дорога из Бостона на поезде была долгой. Они прикончили одно блюдо сэндвичей с огурцом и, к ужасу хозяйки, попросили другое.
Элизабет взглянула на блюдо и сказала:
– Смотрите! Муха.
– Не может быть! – вскричала миссис В. – Как она могла сюда попасть?
Не иначе как сломались кондиционер и система увлажнения воздуха.
– Вот же она, – сказала Элизабет, сгоняя муху с сэндвичей.
– Наверное, с вами залетела.
Мой Моди
Нью-Йорк, 1944 год. Мисс Лилли, иначе – леди Пил, «леди Парлькипил»[268], неторопливо шагает по Мэдисон-авеню в своем неизменном вышитом домашнем чепце. Она – звезда мюзикла «Семь изящных искусств», идущего в театре Зигфельда. Война еще не кончилась, и дела в искусстве идут не очень бойко. Шоу-бизнес процветает. Понятия не имею, какое стоит время года; давайте вообразим себе, что весна. Она проходит по Мэдисон-авеню мимо галерей, и ее взгляд падает на одну картину.
– Господи ты боже мой!
Это галерея Валентина[269].
Она величаво проходит внутрь.
Продавец уверенно проводит ее в кабинет мистера Валентина. Тот поднимается на ноги.
– Мисс Лилли! Какая честь! Вы – в моей галерее!
– Комната, – рассказывает Беа, – была вся затянута лиловым бархатом, даже мольберт там стоял лиловый.
– Мистер Валентин, – начинает она, – мой друг Винсент Прайс говорит, что у вас есть прекрасная картина этого… Мо… Мо… – Модильяни.
– Ага, пускай для краткости будет Моди.
Продавец идет к полкам, спрятанным за лиловым бархатным занавесом, и вытаскивает картину, на которой изображен бельгийский мальчик. У него копна светлых волос и розовые щеки; одет он в куртку песочного цвета; остальных подробностей не помню.
– Это и есть Моди?
– Да, мисс Лилли.
– Ну и уж-ж-жас! Ничего подобного в жизни не видела. Если это Моди, то я пошла отсюда!
Она величаво направляется к выходу.
На пороге она оборачивается к мистеру Валентину.
– Так за сколько вы, говорите, готовы мне продать этого Моди?
– Мисс Лилли. Я всегда безумно восхищался вами. Речь шла о пятнадцати тысячах долларов.
– Пятнадцать тысяч долларов! Можете оставить ее себе! Семь пятьсот я бы вам еще предложила, но пятнадцать тысяч!
– Если вам, мисс Лилли, в самом деле нравится картина, отдам ее вам за семь пятьсот.
Она возвращается в лиловый кабинет и выписывает чек. Поскольку война еще не кончилась, мистер Валентин соглашается подержать картину у себя и отправить ее хозяйке, когда кончатся бои.
Он отправил Моди в ящике. Ящик попал на чердак дома Беа в Хенли-на-Темзе, и она про него забыла.
Впервые я увидел Беа и Моди в 1963-м, когда к нам в контору явился президент «Сотбис» вместе с Беа, Моди и каким-то американцем, другом и покровителем Беа.
Он сказал, что мы готовы оставить картину у себя на неопределенный срок. Она будет застрахована на пятьдесят тысяч фунтов.
В то воскресенье я отправился в Хенли на обед и на ужин. Мы смеялись, пели, Беа играла на пианино. Я был Ноэль, она – Герти. Мы не взяли ни единой фальшивой ноты.
Будь ты единственной девушкой в мире, А я – единственным юношей, Было бы столько прекрасных снов, Столько прекрасных мечтаний и слов, Будь ты единственной девушкой в мире, А я – единственным юношей[270].В последний раз я услышал о Моди лет десять спустя: мне позвонили из приемной президента и спросили, известны ли мне подробности насчет страховки на Модильяни, подписывала ли Беатрис Лилли страховые бумаги. В один прекрасный день ее покровитель явился в «Сотбис» и потребовал картину назад. Швейцар, предположив, что ее оставили тут на прошлой неделе, отдал ее. Покровитель отнес ее в контору неподалеку, «Кристис», где ее продали за двести тысяч фунтов.
Деньги пошли на сиделок для Беа.
Надеюсь, что она, впав в слабоумие, вспоминала в Нью-Йорке розовощекого бельгийского мальчика.
Стоит человеку написать пять книг, как окружающие начинают отпускать комментарии по поводу его стиля. Мой суровый, отточенный стиль сравнивали с прозой Хемингуэя, Лоуренса (слава богу, Д. Г., а не Т. Э.). Да, это мои писатели. В поисках суровых пассажей я пристально изучал еще и «Гедду Габлер»[271].
И все-таки: восьмилетним мальчиком я пел «О замки Англии»[272] под старый патефон. Я пел фальцетом «Бешеные собаки и англичане»; по достижении половой зрелости, с появлением лишней парочки мужских гормонов, на некоторых строчках у меня начал заплетаться язык. Писателям, которые хотят научиться диалогам, лучше всего порекомендовать сцену за завтраком в «Частных жизнях».
Я, разумеется, мечтал познакомиться с Мастером – и познакомился. Это был последний его обед в Лондоне, вскоре после того он уполз на Ямайку, умирать. Устраивала обед Энн Флеминг, вдова Яна. Компания гостей состояла из Мерл Оберон, леди Дианы Купер и нас с ним. Я так смеялся, что поперхнулся рябчиком – он выскочил у меня из носу. Они с леди Дианой беседовали о том, как в двадцатых играли в Чикаго: он в «Вихре», она – в «Чуде».
По дороге с обеда он сказал:
– Очень рад был с вами познакомиться, хотя, к сожалению, больше мы никогда не увидимся, ведь я очень скоро умру. Однако же, если вам угодно выслушать на прощанье совет, вот он: «Никогда не позволяйте никакому артистизму стоять у вас на пути».
Этому совету я следовал всегда.
Послесловие
«Это создало бы вокруг всей книги ложную атмосферу, а в современном искусстве нет ничего важнее атмосферы».
Оскар УайльдКнига, которую вы держите в руках, составлена из текстов разных лет. В сборник вошли самые первые журнальные статьи Чатвина и короткие анекдоты, написанные им перед самой смертью для сборника «Что я здесь делаю». Чатвин – довольно сложно определимая с жанровой точки зрения фигура. Он был одним из тех, кого по-английски называют writers, пишущие. Предмет в данном случае менее важен, чем глагольное существительное: британский writer может писать рецензию, путеводитель, критическое эссе, рассказ, биографический портрет или роман – важно, что в результате всегда получается законченная и выдержанная в одном стиле мысль, облаченная в слова. Именно за слова «пишущий» в британском мире и отвечает.
Предмет, который интересовал writer’а Чатвина всю жизнь, связан с миром искусств, арт-рынком и идеей коллекции как определенной подборки артефактов, будь то занимательные истории, произведения искусства или экзотические знакомства.
Брюс Чатвин родился в 1940 году в Шеффилде (Англия) в семье архитекторов и юристов. Его детство пришлось на время Второй мировой войны, поэтому воспитанием мальчика занимались в основном женщины: тетки, бабушки, двоюродные сестры. Его отец служил во флоте (в этом, кстати, воплотилась семейная страсть к мореплаванию, в разное время Чатвины владели лодками и яхтами с названиями типа «Нереида» или «Sunquest», «Покоритель солнца»), а мать не могла позволить себе содержать собственный дом. Более или менее сознательное детство Брюс провел в Стратфорде-на-Эйвоне у двоюродных бабушек Дженни и Грейси, где подрабатывал гидом по шекспировским местам и стал самым юным завсегдатаем местного театра. Дженни в молодости жила на Капри, где познакомилась с Горьким и, возможно, как впоследствии будет фантазировать Чатвин в эссе «Horreur du Domicle» («Ужас постоянного местожительства»), с Лениным. Апокалиптическая атмосфера времен холодной войны стала еще одним сильным впечатлением детства. Чатвин, как и другие английские школьники, был изрядно запуган угрозой войны с русскими. С годами страх переродится в искреннюю увлеченность Россией и русской культурой.
К тому времени, когда родители купили собственный дом в Бирмингеме, у Чатвина сложился свой круг чтения, в который входили Герман Мелвилл и Чехов, пьесы Оскара Уайльда, Джек Лондон и все французские авторы, которые попадались под руку, но отсутствовали обязательные Диккенс и Джейн Остин. Английскую классику Чатвин прослушал на грампластинках, когда попал в глазной госпиталь во время учебы в колледже Мальборо. Отец, уволившись с военной службы, завел частную юридическую практику, семья была в меру обеспеченной. Поэтому после колледжа Чатвин смог отправиться сразу в Лондон, не думая о продолжении образования и получении профессии.
В 1958 году он устроился швейцаром в отдел произведений древнего искусства аукционного дома «Сотбис», где быстро оброс знакомствами и знаниями. Спустя год девятнадцатилетний любитель французской литературы стал ведущим специалистом по импрессионизму. Возраст часто был помехой: многие владельцы коллекций не пускали юного эксперта на порог своих жилищ. В отместку тот не упускал возможности сообщить о наличии фальшивок в их собраниях. Как вспоминает сам Чатвин, это доставляло ему особенное удовольствие. Эксперт по импрессионизму много ездил, был блистательным рассказчиком и легко сходился с людьми. Он посещает мастерскую Жоржа Брака в Париже и напрашивается в гости к Кристоферу Ишервуду в Санта-Монике, знакомится с Томом Машлером, главой издательства «Jonathan Cape», отыскивает неизвестную работу Гогена в шотландском замке и колесит по Германии и Чехословакии в поисках мейсенского фарфора. Довольно быстро Чатвин делает головокружительную карьеру, становится одним из самых молодых директоров отдела «Сотбис» и женится на коллеге-сотруднице, американке Элизабет Чанлер, дальней родственнице миллионера Джона Астора. И хотя теперь Чатвин все меньше времени проводит с лупой, разглядывая картины, он чувствует сильную тягу к перемене работы и образа жизни. Помимо искусства XX века, его интересуют китайская керамика и африканские скульптуры, исламская архитектура (когда-то именно с работы в качестве смотрителя в зале искусства Востока началась его работа в аукционном доме), поэтому каждое лето он отправляется в отпуск то в Марокко, то в Афганистан.
Когда ему вдруг отказало зрение (врачи так и не смогли установить причину, прописав продолжительный отдых), Чатвин решил посетить Судан, на что президент «Сотбис» заметил: «Я понимаю, что у Брюса что-то случилось с глазами, но не понимаю, при чем тут Африка». Вернувшись из длительной поездки, Чатвин уволился с работы и осенью 1966 года поступил на археологическое отделение Эдинбургского университета. Вместо положенных четырех лет, он отучился два года, вынеся из университета базовое знание санскрита, интерес к культуре кочевников и эссе «Звериный стиль», написанное специально для собственного кураторского дебюта – выставки «номадического искусства азиатских степей» в ньюйоркской галерее «Asia House». Работа над выставкой и сопроводительным текстом целиком захватила Чатвина. Заручившись предварительным интересом издательства «Jonathan Cape» и поддержкой агента Деборы Роджерс, он покидает Эдинбургский университет и решает написать книгу под рабочим названием «Номадическая альтернатива, или Анатомия беспокойства». Идея, которую Брюс несколько раз обкатывал в разговорах с представителями богемы и людьми из мира искусств, состояла в следующем. «В процессе антропогенеза человек приобрел не только способность прямохождения и привычку к сезонной миграции, но и инстинкт к перемене мест. Этот инстинкт неотделим от центральной нервной системы и, когда человек осел в постоянных поселениях, стал проявляться в агрессии, жадности, озабоченности насчет собственного статуса и стремлении к новому. Поэтому кочевые народы, такие, как цыгане, эгалитарны, сопротивляются переменам и не владеют недвижимым имуществом и вещами. А учителя, призывающие вернуться к гармонии первых идеальных государств, такие, как Будда, Лао-цзы или Святой Франциск, говорят о скитаниях и о Пути как метафоре самосовершенствования» («Horreur du Domicle»). Книга росла, концепция «подавленного номадизма» как главного принципа коллекционирования произведений искусства и глубинной основы арт-рынка обрастала новыми примерами (см. речь Чатвина «Мораль вещей» в настоящем издании), но готовую вчерне рукопись забраковали не только издатели, но и литературный агент. То, что было блестящим и парадоксальным предметом для светского разговора, в книге предстало чем-то путаным и невыразительным. Неcколько лет работы закончились фиаско и воспитали у Чатвина сильнейший писательский комплекс. Однако когда осенью 1972 года неудачливый автор получил предложение стать консультантом по вопросам искусства и архитектуры в воскресном приложении к газете «Sunday Times» («Sunday Times Magazine»), он с радостью ухватился за работу, не подозревая, что журналистская поденщина станет прологом к блистательной писательской карьере.
Его прямой начальник, Фрэнсис Виндхэм, буквально заставил Чатвина писать. Когда Брюс вышел на работу, его познакомили со штатным фотографом. «Еще нам нужен writer», – сказал Чатвин. «Нет, писать будете вы сами», – последовал ответ. Следующие два года работы в газете подарили нам целую серию эссе и репортажей, в которых Чатвин развернул так и не записанную им теорию культурного номадизма. Он много ездит: Советский Союз, Европа, Китай, Индия, коллекционируя в своих текстах странных персонажей и описывая неизвестные западному читателю культурные эпохи. Чатвин открывает англичанам русский авангард и пишет первую англоязычную рецензию на Эрнста Юнгера, способствует переводу романов Курцио Малапарте, пропагандирует прозу Мандельштама. В заметках выкристаллизовывается знаменитый чатвиновский лаконичный стиль. Обычно он вел дневниковые записи в блокнотах Mol esk in, а потом на их основе создавал маленькие прозаические шедевры. Иногда одна поездка или интервью становились материалом для трех-четырех заметок. Кстати, именно благодаря Чатвину легендарные блокноты после долгого перерыва снова вошли в моду. Когда в 1980-х итальянская фирма решила прекратить выпуск Moleskin’ов, Чатвин скупил нераспроданные остатки, тем самым отложив банкротство производителя.
Каждая газетная публикация Чатвина пестрит фактами и именами, его тексты можно использовать как своего рода вводный курс, руководство к дальнейшему чтению. Контекст этих публикаций заслуживает особого упоминания: в начале 1970-х «Sunday Times Magazine» был лучшим фотожурналом в Европе, распространявшимся далеко за пределами Соединенного Королевства. Друг Чатвина и его биограф Николас Шекспир описывает сцену, свидетелем которой он стал. В одно из воскресений журнал не вышел «по экономическим причинам», в основной тираж газеты его не вложили, и Шекспир наблюдал в киоске напротив «Café Flore» толпу разгневанных французов, требовавших вернуть им деньги и забрать бесполезную газету назад.
Расширительно понимаемая функция консультанта по архитектуре и искусству позволила Чатвину не только преодолеть писательский комплекс, но и создать в своих статьях атмосферу мира искусств: коллекционеры, забытые писатели, революционеры моды и дизайна, бережно перенесенные со страниц Moleskin’ов сначала в журналы и газеты, а затем в книгу «Что я здесь делаю», зажили своей жизнью. Поездки в СССР позволили Брюсу глубже понять русскую культуру, оказавшую на него сильное влияние. «Путешествие в Армению» Мандельштама подтолкнуло его к новой попытке написать книгу. В 1974 году он отправляется в Южную Америку, предупредив редакцию о расторжении контракта короткой телеграммой: «Уехал в Патагонию». Документальный роман «В Патагонии» вышел в 1977 году и сразу попал в число бестселлеров. Чатвин стал популярным и высокооплачиваемым писателем, навсегда прописанным на литературном олимпе в качестве автора тревелогов. Период культурного номадизма закончился номадизмом буквальным. Следующие его книги – «Вице-король Уида» (о работорговле в Бенине, 1980), «На черных холмах» (об Уэльсе, 1982), «Тропы песен» (об аборигенах Австралии, 1987) – эту репутацию только закрепили. Хотя сам Чатвин призывал относиться к его книгам как к литературе, а не как к путеводителям и даже снял роман «Тропы песен» с соискания премии «Thomas Cook Travel Award», для широкого круга читателей он оставался писателем о путешествиях. Ситуацию должен был исправить роман «Утц», в котором речь идет о коллекционере мейсенского фарфора, но книга, чье действие происходит в социалистической Праге, попала в новый тренд «литературы о перестройке» и была прочитана не так, как хотелось автору. Вместо изящного размышления о природе коллекционирования и духе Европы, который выживает при любом политическом строе, критика и массовый читатель увидели в «Утце» злободневную историю из жизни загнивающего Восточного блока. Книга вопреки воле автора опять стала бестселлером. Чтобы исправить ситуацию, Чатвин составляет из своих нетуристических текстов сборник «Что я здесь делаю» («What am I doing here» – цитата из «Утца», главный герой которого просыпается с этим вопросом во время отдыха на водах в Виши), но книга выходит уже после смерти автора.
Тут необходимо рассказать о самом щекотливом факте биографии Брюса Чатвина. Будучи бисексуалом, он стал первым известным писателем, заразившимся СПИДом и не скрывавшим болезнь. Последние три года его жизни прошли под знаком прогрессирующего недуга. Перед смертью Чатвин хотел принять православие и внимательно следил за ситуацией в России, обсуждая грядущее возрождение веры с ближайшим другом, писателем Салманом Рушди, впоследствии по иронии судьбы так сильно пострадавшим от религиозных фанатиков. Романтическое ожидание света с Востока приводило временами к довольно комичным заявлениям. Так, Чатвин был уверен, что общество «Память» – аналог фундаменталистских исламских объединений, тайная секта, насчитывающая миллион членов. По его мнению, эта организация ставила своей целью не только отказ от коммунизма, но и радикальную реиндустриализацию, возврат к религиозной жизни в сибирских скитах, и была самым интересным явлением в общественной жизни Европы тех лет. В это же время Чатвин задумал и даже начал писать «трансконтинентальный русский роман» «Лидия Ливингстон», охватывающую весь ХХ век семейную сагу, в центре которой – история русской эмигрантки.
Тогда же Чатвин увлекся идеей создать на базе семейной коллекции американских родственников жены частный музей – Laughlin Collect ion. Его инвалидное кресло (Брюс уже не мог самостоятельно передвигаться) часто видели в районе антикварных лавочек между Корк-стрит и Бонд-стрит. Он совершал алогичные покупки, словно один из одержимых коллекционеров, в избытке населяющих его рассказы: этрусский меч за 150 000 фунтов, браслет бронзового века за 65 000 фунтов, головной убор алеутов, гравюра «Меланхолия Микеланджело» Джорджио Гизи, первое издание «Конармии» Бабеля и т. п.
Этому проекту, равно как и возврату в творчестве к интересующей его всю жизнь теме искусства как особой атмосферы, специфической оптики, особого отношения между произведением и его владельцем или зрителем, не суждено было реализоваться. Поэтому есть все основания полагать, что, если бы не смерть 18 января 1989 года в Ницце, следующая книга Чатвина была бы похожа на ту, которую вы только что прочитали.
В заключение хотелось бы привести цитату из любимой книги Чатвина, «Путешествия в Армению» Мандельштама, которая как нельзя лучше формулирует то, что пытался описать в своих арттекстах бывший эксперт по импрессионизу аукционного дома «Сотбис» и один из утонченнейших и блистательных британских writer’ов прошлого века:
«Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины:
Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам…
Прогулочным шагом, как по бульвару, – насквозь!
Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.
Спокойно, не горячась, – как татарчата купают в Алуште лошадей – погружайте глаз в новую для него материальную среду – и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.
Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, – все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.
Когда это равновесие достигнуто – и только тогда – начинайте второй этап реставрации картины, ее отмывания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.
Тончайшими кислотными реакциями глаз – орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он носится, как с писаной торбой, – поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.
Материал живописи организован беспроигрышно, и в этом его отличие от натуры. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.
И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину – очная ставка с замыслом.
А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны».
Михаил КотоминПримечания
1
Марио Прац (1896–1982) – итальянский писатель, переводчик, историк литературы и искусства, коллекционер.
(обратно)2
Марсель Лайош Бройер (1902–1981) – американский архитектор и дизайнер венгерского происхождения, выпускник и преподаватель знаменитой школы «Баухауз».
(обратно)3
Мама в костюме Евы (фр.).
(обратно)4
Очарование (порт.).
(обратно)5
Макияж (фр.).
(обратно)6
Шарль де Бросс (1709–1777) – французский историк, путешественник, друг Вольтера и Бюффона. Автор географических названий «Австралия» и «Полинезия». Президент бургундского парламента.
(обратно)7
Бернард Беренсон (1865–1959) – американский историк искусств и художественный критик, при жизни считался крупнейшим знатоком живописи итальянского Возрождения. Выступал, зачастую негласно, художественным советником при покупке картин «старых мастеров» американскими толстосумами.
(обратно)8
Серенгети – экосистема в Восточной Африке, простирающаяся от севера Танзании, к востоку от озера Виктория, до юга Кении между 1-м и 3-м градусами северной широты и 34-м и 36-м градусами восточной долготы и охватывающая территорию около 30 тыс. км2.
(обратно)9
Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627) – испанский поэт эпохи барокко, современник Веласкеса.
(обратно)10
Акт, принятый Законодательным собранием штата Нью-Йорк в 1860 году, после обращения Элизабет Стэнтон, гарантировал женщине право оставлять за собой заработанное ею, равное с мужем право на совместное попечительство над детьми, а также имущественные права вдовы, соответствующие правам мужа в случае смерти жены. Важный момент истории «первой волны» феминизма.
(обратно)11
Вещь (фр.).
(обратно)12
Цистерцианцы (лат. Ordo Cist erciensis), белые монахи, бернардинцы – католический монашеский орден, ответвившийся в XI веке от бенедиктинского ордена. Для цистерцианских церквей характерно почти полное отсутствие драгоценной утвари, живописи, роскошных интерьеров.
(обратно)13
Шейкеры (англ. shakers) – протестантская религиозная секта в США, официальное название которой – Объединенное сообщество верующих во второе пришествие Христа. Образовалась под влиянием квакеров в 1747 году. Шейкеры создали особый стиль мебели, которая получила название «шейкерская мебель». Эта мебель простая, строгая, но функциональная. Распространение получили шейкерские стулья, которые взялись производить многочисленные компании.
(обратно)14
Миллениаристы – сторонники миллениаризма (от лат. millennium – «тысяча»), сложившегося в христианстве во II веке апокалиптического учения о грядущем тысячелетнем царствии Христа на земле, завершающем земную жизнь всего человечества.
(обратно)15
Левеллеры (англ. leveller – «уравнитель») – радикальное политическое движение в Английской буржуазной революции, чьи участники выступали против монархии и аристократии, за создание республики и народное самоуправление. При этом признавали неприкосновенность права на собственность.
(обратно)16
Томас Гейнсборо (1727–1788) – английский живописец, график, портретист и пейзажист.
(обратно)17
Дональд Вудс Винникотт (1896–1971) – английский психоаналитик, педиатр и детский психиатр; представитель психоанализа и теории объектных отношений.
(обратно)18
Крест «За заслуги» (фр.), высшая военная награда Пруссии.
(обратно)19
«Гейдрихиада» – террор, развязанный оккупационными немецкими войсками в 1942 году, после удачного покушения на имперского протектора Чехии и Моравии, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха.
(обратно)20
«Форелевый квинтет», или квинтет «Форель», – сочинение для голоса и фортепиано Франца Шуберта (1817).
(обратно)21
Да! Да! (нем.)
(обратно)22
Антонин Новотный (1904–1975) – президент Чехословакии и первый секретать ЦК КПЧ в 1953–1968 годах.
(обратно)23
В сырном соусе. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод с французского.)
(обратно)24
Карп; дерьмо (англ.).
(обратно)25
«Блюда из дерьма»; «суп из дерьма с паприкой»; «фаршированное дерьмо»; «дерьмо, приготовленное в пиве»; «жареное дерьмо»; «икра из дерьма»; «дерьмо по-еврейски» (англ., фр.).
(обратно)26
Карп в сухарях.
(обратно)27
Имеется в виду гигантская статуя Геракла – копия работы древнегреческого скульптора Лисиппа (ок. 320 г. до н. э.). Сейчас статуя хранится в Археологическом музее Неаполя. Ранее – в собрании Фарнезе, знатного итальянского рода, известного с XII века.
(обратно)28
Густав Майринк (1868–1932) – австрийский писатель, драматург и банкир, долгое время живший в Праге, представитель так называемой пражской литературной школы.
(обратно)29
Магическая формула.
(обратно)30
Имеется в виду обвинение евреев в употреблении ими крови христиан в ритуальных целях.
(обратно)31
Иоганн Иоахим Кендлер (1706–1775) – немецкий скульптор, с 1731 года модельер фарфоровой мануфактуры в Мейсене.
(обратно)32
Ошибка автора. Имеется в виду псалом девяносто первый.
(обратно)33
Талес – молитвенная шаль, ритуальный предмет в иудаизме.
(обратно)34
Добрый вечер, господин барон (нем.).
(обратно)35
Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969) – немецкий архитектор и дизайнер, во многом определивший развитие архитектуры в XX веке. С 1930 по 1933 год был директором школы «Баухауз». В 1938 году эмигрировал в США, где построил, в частности, небоскреб Сигрэм-билдинг в Нью-Йорке.
(обратно)36
Здесь: «Ваше здоровье!» (англ.)
(обратно)37
Фарфоромания (нем.).
(обратно)38
Индийские цветы (нем.).
(обратно)39
Здесь: Центр термальной терапии.
(обратно)40
Орудия пытки.
(обратно)41
Ага-хан – наследственный титул духовного лидера мусльман-исмаилитов. Ага-хан III жил в Европе, представлял Индию в Лиге Наций. Его старший сын женился на американской актрисе, а внук стал Ага-ханом IV и учредил программу по изучению исламской архитектуры в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте.
(обратно)42
«Финляндия» – симфоническая поэма финского композитора Яна Сибелиуса.
(обратно)43
«Самые красивые девушки Парижа»; «Хрустальные мужчины».
(обратно)44
«Дама в синем».
(обратно)45
«Говорите мне о любви».
(обратно)46
«Я вас люблю… Я вас люблю…»
(обратно)47
Большая любительница мяса.
(обратно)48
Здесь: Сюда, Макси!
(обратно)49
Добрый вечер, мадам!
(обратно)50
Кели из раков; сардельки с трюфелями; пулярка, запеченная в свином мочевом пузыре; десертные блюда из теста.
(обратно)51
Какое вино, мсье?
(обратно)52
Здесь: дружеский жест.
(обратно)53
Здесь: подделка.
(обратно)54
Свинина; фарфор (англ.).
(обратно)55
Фарфоровые ракушки (англ.).
(обратно)56
До бесконечности (лат.).
(обратно)57
Иудейские юноши в вавилонском пленении, друзья пророка Даниила, которые были брошены царем Навуходоносором в печь за отказ поклониться идолу, но были сохранены архангелом Михаилом и вышли из огня невредимыми.
(обратно)58
Тихо Браге (1546–1601) – датский астроном и алхимик эпохи Возрождения. Похоронен в Праге.
(обратно)59
Пражско-немецкий писатель (нем.).
(обратно)60
Геррит Ритвельд (1888–1964) – голландский архитектор и дизайнер мебели, участник художественной группы «Стиль»; Питер Корнелис (Пит) Мондриан (1872–1944) – голландский художник, положивший одновременно с Кандинским и Малевичем начало абстрактной живописи. Жил и работал в Нидерандах, Англии, Франции и США. Умер в Нью-Йорке.
(обратно)61
Южная Богемия (нем.).
(обратно)62
Процесс об антигосударственном заговоре вокруг Рудольфа Сланского – показательный суд над группой видных деятелей Чехословацкой коммунистической партии, пытавшихся выстроить дружественные отношения с лидером Югославии Иосипом Брод Тито. Генеральный секретарь ЦК Рудольф Сланский, 13 высокопоставленных партийцев, 11 из которых были евреями, обвинялись в «троцкистско-сионистско-титовском» заговоре. Трое были осуждены на пожизненное заключение, остальные расстреляны 3 декабря 1952 года.
(обратно)63
Телятина по-еврейски (нем.).
(обратно)64
Императорский и королевский (нем.).
(обратно)65
Да! Я баронесса фон Утц (нем.).
(обратно)66
Вилем Калф (1619–1693) и Николас Питерс Берхем Старший (1620–1683) – голландские живописцы. Первый знаменит своими натюрмортами, второй – пейзажист и график.
(обратно)67
Цитата из статьи Велимира Хлебникова «Своясь» (1919).
(обратно)68
Эдмунд Уилсон (1895–1972) – американский писатель и критик. Печатался в журналах «New Republic», «The New Yorker». В середине 1930-х приезжал в Советский Союз. Издал по результатам путешествия несколько книг. С 1940 года вел постоянную переписку с Набоковым.
(обратно)69
Цитата из повести Горького «Исповедь» (1908).
(обратно)70
Скорее всего, Чатвин имеет в виду малиновый звон колокольчиков и пассаж о голубом цвете из «Шума времени» Мандельштама: «тысяча девятьсот пятый год – химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине!»
(обратно)71
Пророк Исайя. Имеется в виду инвектива в адрес идолов («Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки». Книга Исайи, гл. 40, ст. 19).
(обратно)72
Юстиниан Великий – византийский император, правил с 527 по 565 год.
(обратно)73
В. Маяковский, «Радоваться рано» (1918).
(обратно)74
А. П. Крайский (наст. фамилия Кузьмин; 1891–1941) – пролетарский поэт, близкий к движению русских космистов.
(обратно)75
Бертольд Любеткин (1901–1990) – английский архитектор русского происхождения. Родился в Тифлисе, учился в Москве, в 1922 году переехал с родителями в Варшаву, затем в Париж, где спроектировал жилой дом на авеню Версаль, 25. С 1931 года жил и работал в Лондоне, где построил, в частности, жилой комплекс под названием «Ленин-Корт» (Lenin Court).
(обратно)76
Памятник «Красный клин» был сооружен в 1918 году архитектором Н. Д. Колли (1894–1966). Скульптурная композиция, символизирующая победу Красной Армии над белыми, была установлена на Театральной площади на месте, которое позже занял памятник К. Марксу работы Льва Кербеля. В 1920 году эту идею развил Эль Лисицкий в серии плакатов «Клином красным бей белых».
(обратно)77
Землевладелец (исп.).
(обратно)78
Чатвин исполняет своего рода попурри из разных произведений Шекс пира: «Двенадцатая ночь», «Венецианский купец», «Укрощение строптивой», «Генрих V». Цитаты даны в переводах М. Лозинского, Т. Щепкиной-Куперник, П. Мелковой, Е. Бируковой.
(обратно)79
Charvet Place Vendôme – французский производитель рубашек и галстуков с 1838 года.
(обратно)80
Мой муж погиб под Сталинградом (нем.).
(обратно)81
Фраза взята из названия работы западногерманского историка Вернера Келлера. Книга, критически описывающая многочисленные заимствования русской цивилизации у западного мира, вышла в 1960 году, стала одним из бестселлеров времен холодной войны и была переведена на многие языки.
(обратно)82
Дамы и господа (нем.).
(обратно)83
Музыкальные стулья – игра, в которой стульев меньше, чем игроков. Задача состоит в том, чтобы успеть сесть на стул, когда музыка перестает играть.
(обратно)84
См. примечание 68.
(обратно)85
Да это же драгоценная реликвия (фр.).
(обратно)86
Товарищество (нем.).
(обратно)87
«Данило Купор» – танец, популярный в России во второй половине XVIII века. Толстой описывает его как одну из разновидностей англеза или контрданса, то есть танца, где пары расположены друг напротив друга.
(обратно)88
Чатвин перепутал Петра Великого с его отцом, царем Алексеем Михайловичем.
(обратно)89
Популярная американская песня.
(обратно)90
Чатвин перепутал двух героев войны 1812 года: генерала В. В. Орлова-Денисова (1775–1843), сына атамана Войска Донского, и поэта, генерал-лейтенанта Дениса Давыдова (1784–1839).
(обратно)91
Полицейские детективы (фр.).
(обратно)92
Чатвин перепутал Владимира Вейсберга (1924–1985), московского художника, представителя так называемого «неофициального искусства», и Леона Вейсберга (Leon Weissberg, 1894–1943), французского художника украинского происхождения, ученика Оскара Кокошки, погибшего в Майданеке.
(обратно)93
Анна Павлова (1881–1931) – легендарная русская балерина, участница «Русских сезонов» С. Дягилева. С 1914 года жила в Англии, в 1920-х гастролировала по США, Австралии и Индии, скончалась во время гастролей же в Гааге.
(обратно)94
Прекрасная эпоха (фр.) – период европейской истории, 1890–1914 годы.
(обратно)95
Жан Дюнан (1877–1942) – швейцарский скульптор и дизайнер интерьеров, автор «Курительной комнаты» в «Отеле коллекционера» на Парижской выставке 1925 года.
(обратно)96
Горный район на границе Франции и Швейцарии.
(обратно)97
Имеется в виду Анри Руссо (1844–1910) – французский художник-самоучка, известный под прозвищем Таможенник. Один из самых известных представителей наивного искусства.
(обратно)98
Ателье (фр.).
(обратно)99
«Callot Soeurs», «Jack Doucet», «Jeanne Philippe Worth» – три парижских модных дома рубежа XIX и XX веков.
(обратно)100
Какая актриса! Какая великая актр-р-риса! (фр.)
(обратно)101
Корсет – это что-то ортопедическое (фр.).
(обратно)102
Дезабилье (фр.).
(обратно)103
Кутюрье… костюмер… как раз то, что нужно для театра! (фр.)
(обратно)104
Ремесло (фр.).
(обратно)105
Фернан Леже (1881–1955) – французский художник, автор мозаик, член Компартии Франции.
(обратно)106
Светская дама (фр.).
(обратно)107
Я говорила: «Уходите!» (фр.)
(обратно)108
С волнообразными ягодицами, как у плотоядных (фр.).
(обратно)109
Посредственно… вульгарно (фр.).
(обратно)110
Эдвард Стайхен (1879–1973) – американский фотограф, вместе с Альфредом Стиглицем стоял у истоков «Фотосецессиона».
(обратно)111
Архив истории моды (фр.).
(обратно)112
Полный бред! (фр.)
(обратно)113
Друг… настоящий! (фр.)
(обратно)114
Модистка (фр.).
(обратно)115
Ноэль Аннан (1916–2000) – британский офицер, депутат палаты лордов, писатель и историк культуры.
(обратно)116
Пирожное «мадлен» – пирожное из детства, предмет, который запускает сложный механизм воспоминаний у главного героя цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
(обратно)117
Жан Эдуард Вюйар (1868–1940) – французский художник-символист; Стюарт Дэвис (1894–1964) – американский художник, представитель кубизма и поп-арта в живописи; Эгон Шиле (1890–1918) – австрийский художник-экспрессионист.
(обратно)118
Эрих фон Штрогейм (1885–1957) – американский актер и режиссер австрийского происхождения. После эмиграции из Европы придумал себе биографию, выдавая себя то за графа, то за офицера с богатым военным прошлым. Происходил из состоятельной еврейской семьи. В кино и на Бродвее играл в основном военных.
(обратно)119
Карлтон-хаус – дворец в Лондоне, городская резиденция регента в конце XVIII века.
(обратно)120
Имеется в виду нью-йоркский музей МоМа.
(обратно)121
Жорж Брак (1882–1963) – французский художник, график, сценограф и скульптор. Один из основателей и теоретиков кубизма.
(обратно)122
Средство для подстегивания памяти (фр.).
(обратно)123
Дом свиданий (фр.).
(обратно)124
«Порабощенный Индокитай» (фр.).
(обратно)125
Народный фронт (фр.).
(обратно)126
Мужское братство (фр.).
(обратно)127
Псевдоним Томаса Эдварда Лоуренса, или Лоуренса Аравийского (1888–1935), под которым тот – тут Чатвин ошибается – служил не в авиации, а в Королевских танковых войсках Великобритании.
(обратно)128
Участник движения Сопротивления (фр.).
(обратно)129
Объединение французского народа (фр.).
(обратно)130
Большая мелкая буржуазия (фр.).
(обратно)131
«Удел человеческий» (фр.)
(обратно)132
Великое сотворение человека (фр.).
(обратно)133
Сэр Фрэнсис Дрейк (1540–1596) – мореплаватель, корсар, вице-адмирал, несколько раз громивший испанский флот – Великую армаду. Первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие.
(обратно)134
И прекрасно! (фр.)
(обратно)135
Трущобы (фр.).
(обратно)136
«Вызов абсолюту» (фр.).
(обратно)137
Лоуренс, по большому счету, это как май 68-го (фр.).
(обратно)138
Французский Алжир (фр.).
(обратно)139
Реальная политика (нем.).
(обратно)140
Противник машин (фр.).
(обратно)141
Роберт Скотт (1868–1912) – британский морской офицер и полярный исследователь. Достиг Южного полюса всего на несколько недель позже норвежской экспедиции Амундсена. На обратном пути погиб со всем экипажем от холода и истощения.
(обратно)142
Это странно (фр.).
(обратно)143
Остальные (фр.).
(обратно)144
Председатель Совета министров (фр.).
(обратно)145
События (фр.).
(обратно)146
Шутка (фр.).
(обратно)147
Да здравствует свободный Квебек! (фр.)
(обратно)148
См. примечание 121.
(обратно)149
Влияние (фр.).
(обратно)150
Дома культуры (фр.).
(обратно)151
Сэмюэл Палмер (1805–1881) и Уильям Блейк (1757–1827) – английские художники XIX века, последний также известен как поэт.
(обратно)152
Кофе со сливками (фр.). «Ротонда» – знаменитое парижское кафе, в котором в 1920-х собиралась богема.
(обратно)153
Версальский паркет (фр.).
(обратно)154
Странная атмосфера (фр.).
(обратно)155
Робкий юноша (фр.).
(обратно)156
Хемингуэй – сумасшедший, который сходит с ума по простоте (фр.).
(обратно)157
Большая политика (фр.).
(обратно)158
«Новое французское обозрение» (фр.) – литературный журнал, основанный в 1909 году группой интеллектуалов во главе с Андре Жидом. В 1911 году издателем журнала стал Гастон Галлимар, затем на базе журнала возникло издательство «Галлимар».
(обратно)159
Режис Дебрэ (р. 1940) – французский философ, писатель, публицист. Соратник Че Гевары в Боливии (1967), советник по иностранным делам президента Миттерана (1981–1985).
(обратно)160
Муджибур Рахман (1920–1975) – первый президент и премьер-министр Бангладеш. Убит во время государственного переворота 15 августа 1975 года.
(обратно)161
Невероятно (фр.).
(обратно)162
Додо, или маврикийский дронт (лат. Raphus cucullatus), – вымершая нелетающая птица подсемейства дронтов с острова Маврикий. Внешность додо известна только по картинкам и письменным документам XVII века. Вокруг птицы существовало много мифов, так, долгое время считалось, что додо мог быть причиной вымирания и других животных. Больше всего додо прославился благодаря Льюису Кэрроллу, выведшему птицу в качестве одного из героев «Алисы в стране чудес». В английском само слово «додо» давно стало ассоциироваться с понятиями исчезновения и вымирания.
(обратно)163
Явление, названое и описанное Джоном Тиндалем (1820–1893), английским физиком, членом Лондонского королевского общества. Тиндаль изучал строение и движение ледников в Альпах, в его честь назван ледник в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили.
(обратно)164
Имеется в виду Музей археологии и этнологии Пибоди при Гарвардском университете в городе Кембридж, штат Массачусетс. Назван в честь Джорджа Пибоди – бывшего добровольца американской армии, затем лондонского банкира, пожертвовавшего исключительную для начала XIX века сумму в 8 млн долларов на образовательные цели, в том числе 150 тыс. долларов – непосредственно на коллекцию по этнографии США, которая позднее стала основой экспозиции музея.
(обратно)165
Музей города Рованиеми в Финляндии.
(обратно)166
Пошли (исп.).
(обратно)167
Эрменонвиль – усадьба в департаменте Уаза на севере Франции, где провел последние шесть недель своей жизни и был похоронен Жан-Жак Руссо. «Естественный» парк Эрменонвиля, спланированный при участии художника Юбера Робера (1733–1808), стал первым пейзажным парком во Франции.
(обратно)168
Клод-Никола Леду (1736–1806) – мастер архитектуры французского классицизма, предвосхитивший многие принципы модернизма. В 1760-х и начале 1770-х годов проектировал для французской знати изящные особняки «в английском вкусе» – первостепенные образцы «стиля Людовика XVI», в 1780-х обратился к античной классике, в частности, возвел вокруг Парижа пятьдесят таможенных застав (сохранилось только четыре), внушительные геометрические объемы которых предвещали эстетику ампира. В последнее десятилетие жизни практически не строил, сосредоточившись на разработке визионерских замыслов «идеального города» в Шо. Планы Леду предусматривали оптимальное сочетание промышленной, административной и жилой застройки с целью «совершенствования общества». Многие наброски, являющиеся бумажной архитектурой, носят утопический, если не сказать сюрреалистический характер: дом садовника в виде правильной сферы, дом терпимости в виде фаллоса и т. д.
(обратно)169
Сапсан – хищная птица из семейства соколиных.
(обратно)170
Суконный плащ (нем.).
(обратно)171
Purdey («Перде») – знаменитая марка английских оружейников, фамилия мастера давно стала именем нарицательным, как часы брегет.
(обратно)172
Трофеи (фр.).
(обратно)173
Походный стул (фр.).
(обратно)174
«Эстетика остроты» (нем.).
(обратно)175
Королю (фр.).
(обратно)176
«Искусство охоты с птицами» (лат.).
(обратно)177
«Куда угодно, лишь бы прочь из этого мира» (англ.).
(обратно)178
«Изучение ледников» (фр.).
(обратно)179
Юнгфрау (Jungfrau) – горный массив в Швейцарии, в Бернских Альпах.
(обратно)180
Речь идет о гамбургском художественном музее (Hamburger Kunst halle), существующем с 1817 года. Музей, сильно пострадавший при Гитлере (как хранилище произведений «дегенеративного искусства») знаменит своей коллекцией немецкого романтика Каспара Давида Фридриха (1774–1840). Далее упоминается одна из самых известных его картин – «Гибель “Надежды” во льдах» (1822), изображающая терпящий крушение корабль из арктической экспедиции Уильяма Пери 1819–1820 годов.
(обратно)181
Картина «Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием при Иссе» Альбрехта Альдорфера (1529), хранящаяся в Старой Пинакотеке в Мюнхене.
(обратно)182
Убрав из фамилии Todd последнюю гласную, Максимилиан сделал ее созвучной слову «смерть» (Tod – «смерть» [нем.]).
(обратно)183
Имеется в виду коллекция Карла Грюнвальда (1899–1964), крупного австрийского коллекционера. В 1938 году, когда Австрию захватили нацисты, Карл Грюнвальд уехал во Францию и рискнул вывезти 50 наиболее ценных полотен своей коллекции. Нацисты успели арестовать их на складе в Страсбурге и пустили с аукциона в 1942 году. После войны Карл и его сын, Фредерик Грюнвальд, пытались найти рассеянные по миру картины, кое-что удалось выкупить, кое-что отсудить у музеев.
(обратно)184
Мне необходимо было пуститься в путь, развеять чары, нависшие над моими мозгами (фр.). Цитата из цикла Артюра Рембо «Одно лето в аду» (дана в переводе М. П. Кудинова).
(обратно)185
Описание трипов Юнгера можно найти в книге Альберта Хоффмана «ЛСД – мой трудный ребенок», (Albert Hoff mann, LSD – My Problem Child, McGraw – Hill, 1980), гл. 7, «Сияние, идущее от Эрнста Юнгера». (Примечание Чатвина.)
(обратно)186
«Вандерфогель» – «перелетная птица» – название различных туристических клубов и кружков в немецкоязычных странах, впервые появившихся в 1896 году и существующих до сих пор.
(обратно)187
См. примечание 18.
(обратно)188
Зигфрид Сассун (1886–1967) и Эдмунд Блюнден (1896–1974) – английские поэты и писатели, описавшие свой опыт участия в Первой мировой войне; Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский) – британский археолог, авантюрист и писатель, автор книги мемуаров «Семь столпов мудрости».
(обратно)189
Погоня (фр.).
(обратно)190
Беллетристика (фр.).
(обратно)191
Сброд (фр.).
(обратно)192
Биографию Адама фон Троттцу Зольца можно найти у Кристофера Сайкса в книге «Беспокойная верность» (Christ opher Sykes, Troubled Loyalty, London: Collins, 1968). (Примечание Чатвина.)
(обратно)193
Здесь и далее цитаты даны по изданию: Эрнст Юнгер. На мраморных утесах. Перевод Евгения Воропаева. М.: Ad Marginem, 2009.
(обратно)194
Сайкс, там же, с. 447: «И все-таки лицо его выражало небывалое умиротворение, в нем даже присутствовал намек на улыбку. Наконец его верность обрела покой». (Примечание Чатвина.)
(обратно)195
Курцио Малапарте (1898–1957) – итальянский писатель и журналист. Подробнее о нем см. эссе «Среди руин».
(обратно)196
Англосаксы работают на дядюшку Джо (фр.).
(обратно)197
Блошиный рынок (фр.).
(обратно)198
См. примечание 123.
(обратно)199
Арлетти (наст. имя Леони Батия; 1898–1992) – французская актриса, певица и модель.
(обратно)200
Ведь я женщина (фр.).
(обратно)201
Никогда не сотрудничай! (фр.).
(обратно)202
«Воспитание чувств» (фр.).
(обратно)203
«Комедия Шарлеруа» (фр.).
(обратно)204
Мухобойка (фр.).
(обратно)205
«Война, или Скачка раздора» (фр.). Об Анри Руссо – см. примечание 97.
(обратно)206
«Каталог жуков» (лат.).
(обратно)207
Осенний салон-выставка (фр.).
(обратно)208
Биржа снова работает (фр.).
(обратно)209
В пути (фр.).
(обратно)210
Чаевые (фр.).
(обратно)211
«Наоборот» (фр.).
(обратно)212
«Из замка к замку» (фр.) – роман Луи-Фердинанда Селина.
(обратно)213
Документальное подтверждение (фр.).
(обратно)214
Анри де Монтерлан (1895–1972) – французский писатель, автор дневников, описывающих оккупацию Франции. Ослепнув в результате болезни, покончил жизнь самоубийством.
(обратно)215
Самоубийство входит в капитал человечества. Эрнст Юнгер, 8 июня 1972 (фр.).
(обратно)216
Страна Кокейн (фр.) – сказочная страна всеобщего благоденствия. Она же изображена на картине Брейгеля Старшего «Страна лентяев».
(обратно)217
Факсимильное издание «Каталога мира» было выпущено издательством «Uitgeverij Bert Bakker» в Амстердаме в 1980 году.
(обратно)218
Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский художник голландского происхождения, один из основателей абстрактного экспрессионизма.
(обратно)219
Ричард Майер (р. 1934) – американский архитектор-авангардист, самый молодой лауреат Прицкеровской премии (был награжден в возрасте 49 лет).
(обратно)220
Уилфред Тезигер (1910–2003) – британский путешественник и писатель. Автор книг «Пески Аравии» и «Путешествие в песках». Восемь лет прожил среди иракских племен в плавнях в устье Тигра и Евфрата, где и написал книгу «Болотные арабы».
(обратно)221
«Удар молнии» (фр.).
(обратно)222
См. примечание 76.
(обратно)223
Выставка конструктивистов 1921 года, в которой приняли участие А. М. Родченко, Л. С. Попова, В. Ф. Степанова, А. А. Экстер, В. А.Веснин. Считается поворотным моментом, после которого Родченко и Степанова объявили о движении от живописи к производственному искусству.
(обратно)224
Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) – американский архитектор-новатор. Оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX века. Создал «органическую архитектуру», чей идеал – единение конструкций с природой. Прославился в том числе серией «Домов Прерий» и зданием Музея Гуггенхайма.
(обратно)225
S. Frederick Starr. Melnikov, solo architect in a mass society. Princeton University Press, 1978.
(обратно)226
Н. А. Ладовский (1881–1941) – советcкий архитектор, лидер течения архитектурного рационализма.
(обратно)227
Павильон «Новый дух» (фр.).
(обратно)228
Павильон, спроектированный архитектором Пьером Пату специально для мебели Жака Эмиля Рульманна, одного из самых известных дизайнеров эпохи ар-деко. Павильон назывался «L’hôtel d’un Collect ionneur» («Отель коллекционера» [фр.]).
(обратно)229
Йозеф Хоффман (1870–1956) – австрийский архитектор, один из основателей Сецессиона; Огюст Перре (1874–1954) – французский архитектор, сформулировал доктрину «конструктивной архитектруы железобетона»; Робер Малле-Стивенс (1886–1945) – французский архитектор, классик стиля ар-деко.
(обратно)230
Этьен-Луи Булле (1728–1799) – французский архитектор-неоклассицист, автор теории «говорящей архитектуры». Его излюбленный прием противопоставления (смещение противоположных элементов проекта) и использование света и тени были в высшей степени новационными и продолжают оказывать влияние на архитекторов вплоть до сегодняшнего дня. Булле был открыт заново в XX веке. Его теоретические работы были изданы только в 1953 году. О К.-Н. Леду см. примечание 168.
(обратно)231
Колетт (Sidonie Gabrielle Colette, 1873–1954) – французская писательница и актриса, светская дама времен Belle Époque. Дружила с Морисом Равелем, Жаном Кокто, Габриэлем Д’Анунцио и др.
(обратно)232
Великий итальянский архитектор эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески (1377–1446) вызвался возвести купол над собором Санта-Мария-дель-Фьоре. Он предложил совету города Флоренции сделать легкий восьмигранный купол из камня и кирпича, который собирался бы из граней-«долей» и скреплялся вверху архитектурным фонарем, кроме того, он вызвался создать целый ряд машин для подъема материалов наверх и работы на высоте. В конце 1418 года четыре каменщика изготовили модель в масштабе 1:12, которая демонстрировала проект купола и инновационный способ его возведения без сплошной опалубки. Восьмигранный купол диаметром 42 м был построен без опирающихся на землю лесов; он состоит из двух оболочек, связанных 24 ребрами и 6 горизонтальными кольцами.
(обратно)233
Имеется в виду соната № 7 для фортепиано.
(обратно)234
«Остров мертвых» – наиболее известная картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина (1827–1901). Всего Бёклин создал пять вариантов данной картины в период с 1880 по 1886 год.
(обратно)235
Эдда Муссолини (в замужестве Чиано; 1910–1995) – старшая дочь Бенито Муссолини; Грейс Филдс (1898–1979) – британская актриса и певица; Альфред Дуглас (1870–1945) – английский поэт и переводчик, ближайший друг и, предположительно, любовник Оскара Уайльда, сыгравший роковую роль в судьбе последнего. (Бози, адресат трактата Уайльда «De Profundis».)
(обратно)236
Джордж Норман Дуглас (1868–1952) – английский писатель, журналист и дипломат. Друг Д. Г. Лоуренса и Грэма Грина.
(обратно)237
Роман с ключом (фр.), т. е. такой, в котором настоящие персонажи и события замаскированы под вымышленные.
(обратно)238
Красавчик Ферзен (фр.). Имеется в виду Ханс Аксель фон Ферзен-младший (1755–1810).
(обратно)239
Робер де Монтескью (1855–1921) – франузский писатель, денди и коллекционер. Послужил прототипом для героев романов «Наоборот» Гюисманса (Дез Эссент) и «В поисках утраченного времени» Пруста (барон де Шарлюс).
(обратно)240
И мы будем трупами, одетыми в розовое (фр.).
(обратно)241
«Голубые гортензии» (фр.) – сборник стихов Монтескью.
(обратно)242
«Гимны Адониса. Языческие песни. Подражание маркизу де Саду» (фр.).
(обратно)243
Или черные мессы (фр.).
(обратно)244
Храм любви (фр.).
(обратно)245
Фальшивка столь же претенциозная, сколь оскорбительная (ит.).
(обратно)246
Джентльмен (ит.).
(обратно)247
Знатная дама (фр.).
(обратно)248
Он был бисексуален (ит.).
(обратно)249
Всем итальянцам итальянец (ит.).
(обратно)250
Место, где собирались прогрессивно настроенные литераторы.
(обратно)251
Напористость (ит.).
(обратно)252
Серебристая помада для волос (ит.).
(обратно)253
«Техника государственного переворота» (фр.).
(обратно)254
«Женщина. О Гитлере» (фр.).
(обратно)255
Кожаные штаны (нем.).
(обратно)256
Карабинеры (ит.).
(обратно)257
Франческо Гварди (1712–1793) – итальянский художник, видный представитель венецианской школы ведутистов.
(обратно)258
Франсиско де Сурбаран (1598–1664) – испанский художник, представитель севильской школы живописи.
(обратно)259
Лорд Томас Брюс Эльджин (1766–1841) – британский дипломат, бывший послом в Оттоманской империи в 1799–1803 годах. Получил разрешение на вывоз остатков афинского Парфенона в Лондон (хранятся в Британском музее), которое до сих пор оспаривается Грецией. Собрал обширную коллекцию античного искусства, в том числе работы древнегреческого художника (или художников) по росписи сосудов, известного в научной литературе как Мастер Ахилл.
(обратно)260
Королевство Албании было провозглашено Ахметом Зогу (1895–1961) в 1928 году. Зогу, полковник австрийской армии, пришел к власти в 1924 году в результате военного переворота, с помощью отряда русских эмигрантов. Умело лавируя между Сербией и Италией, модернизировал страну, построил дороги, объединил разрозненные племена. Королевство прекратило свое существование в 1939 году, после оккупации Албании Италией. Зогу бежал в Грецию, затем в Лондон. Последние годы жил в Париже на средства жены Жеральдины, писавшей детективные романы и мемуары. Сын Ахмета Зогу, Лека (1939–2011), проживавший в Южной Африке, именовал себя «королем Албании в изгнании Лекой I».
(обратно)261
Жорж Брак – см. примечание 121; Хуан Грис (1887–1927) – испанский художник, один из основоположников кубизма.
(обратно)262
Оптом (фр.).
(обратно)263
Энвер Ходжа (1908–1985) – первый секретарь Албанской партии труда в 1941–1985 годах, председатель Совета Министров Албании в 1944–1954 годах и министр иностранных дел в 1946–1953 годах.
(обратно)264
Телль-эль-Масхута – древнее поселение в 120 км на восток от Каира.
(обратно)265
Официальное название – вилла Фоскари. Построена в 1558–1560 годах по заказу венецианской семьи патрициев Фоскари и по проекту архитектора Андреа Палладио (1508–1580). Другое название – Мальконтента («Недовольная»): намек на жену одного из Фоскари, которая за сварливость была заточена супругом в деревенской глуши этой виллы.
(обратно)266
Альберто Джакометти (1901–1966) – швейцарский скульптор и художник; Аршиль Горки (настоящее имя Востаник Манук Адоян; 1904–1948) – американский художник, один из основателей абстрактного сюрреализма. Оба – признанные мастера XX века.
(обратно)267
Резные деревянные панели (фр.).
(обратно)268
Актриса Беатрис Лилли (1894–1989), выйдя замуж за сэра Роберта Пила и переехав в Лондон, взяла его фамилию и титул. Прозвище Парлькипил (Parlequipeel) родилось из анекдота, в котором она начинает разговор на французском словами: «Говорит леди Пил».
(обратно)269
Галерея Курта Валентина (1902–1954) – американского арт-дилера немецкого происхождения. В 1930-х Валентин получил официальное разрешение от нацистских властей на продажу немецкого искусства в Америке. Его галерея стала одной из первых в Нью-Йорке выставлять произведения европейских модернистов.
(обратно)270
Песня, которую исполняли актер и драматург Ноэль Кауард (1899–1973) и актриса Гертруда (Герти) Лоуренс (1898–1952).
(обратно)271
Речь идет о Дэвиде Герберте Лоуренсе (1885–1930), английском писателе, авторе романа «Любовник леди Чаттерлей»; также упоминается Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935), или Лоуренс Аравийский, – см. примечание 188. «Гедда Габлер» – пьеса Генриха Ибсена 1891 года.
(обратно)272
Начало поэмы «Дома Англии» романтической поэтессы Ф. Хеманс (1793–1835), на которое сочинил пародию Ноэль Кауард. Ниже идет речь о нем и его песнях и фильмах.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Оригинальное название «The Morality of Things». Cтенограмма речи Брюса Чатвина, прочитанной на благотворительном аукционе, организованном Красным Крестом в Нью-Йорке в 1973 году. Впервые текст был издан посмертно Робертом Риском ограниченным тиражом в небольшом издательстве «Typographeum» (New Hamshire; 1993). Печатается по изданию: Bruce Chatwin. Anatomy of Rest lessnes. Select ed writings 1969–1989. Edited by Jam Borm and Matthew Graves. New York: Viking, 1996. Далее – AR.
(обратно)2
Оригинальное название «Utz». Впервые издан в 1988 году (London: Jonathan Cape Ltd, 1988). Печатается по изданию: Bruce Chatwin. Utz. NY: Vintage, 1998. Это последняя прижизненная книга Чатвина, над которой он работал с декабря 1986 года по декабрь 1987-го. В основу полудокументальной истории (или «гофмановской сказки, чье действие разворачивается в социалистической Праге», как сформулировал сам автор в письме к друзьям) лег реальный эпизод. Осенью 1967 года Чатвин провел четыре часа в компании Рудольфа Юста (Rudolf Just, 1895–1972), бывшего кавалерийского офицера, чешского адвоката, работавшего в обувной компании «Bata». Рудольф был владельцем крупнейшей коллекции мейсенского фарфора. После его смерти коллекция пропала. 11 октября 2003 года остатки коллекции Юста были проданы на аукционе «Сотбис» более чем за миллион фунтов стерлингов. Роман вошел в шорт-лист премии «Man Booker Prize 1988», вместе с «Сатанинскими стихами» Салмана Рушди. Чатвин бы недоволен критикой, увидевшей в романе в основном социальный контекст (критика социалистического государства, антисоветизм и пр.), в то время как автор хотел вернуться к теме коллекционирования, мистической природе искусства и его первенства над реальностью. Тем не менее «Утц» хорошо распродался, уже в августе 1988 года вышло второе издание. Сам автор более всего ценил отзывы Альберто Моравиа и своего отца, увидевшего в романе «маленький шедевр, скрытую историю любви».
(обратно)3
Впервые статья вышла под названием «Неофициальное московское искусство» («Moscow’s Unoffi cial Art») в приложении к газете «Sunday Times» 6 мая 1973 года. Затем, под новым названием «Georgу Cost akis: The st ory of an Art Collect or in the Soviet Union», была включена в сборник, составленный самим Чатвином, но вышедший уже посмертно, «What am I doing here» (London: Jonathan Cape Ltd, 1989). Печатается по изданию: Bruce Chatwin. What am I doing here. London: Vintage, 2005. Далее WAIDH.
(обратно)4
Оригинальное название «George Ortiz». Написано в 1988 году специально для сборника «What am I doing here». Впервые напечатано в «New York Review of Books» 28 сентября 1989 года. Печатается по WAIDH. Мемуар посвящен Джорджу Ортису Патино (George Ortiz Patino, р. 1927) – внуку боливийcкого «жестяного» магната Симона Патино, миллионеру и коллекционеру античного искусства, близкому другу Чатвина со времен «Сотбис». В личной переписке Чатвин называл Ортиса «могущественной мышью» (Mighty Mouse), а тот Чатвина – Марсель Брюс (Marcel Bruce).
(обратно)5
Статья написана по заказу журнала «Observer». Впервые вышла под названием «Великие реки мира: Волга» («Great rivers of the world: the Volga») в июньском номере 1984 года, затем была включена в сборник «What am I doing here». В статье описано путешествие Чатвина «по следам викингов», совершенное летом 1982 года. Печатается по WAIDH.
(обратно)6
Впервые напечатано в «русском» номере журнала «Bananas» (11 выпуск, лето 1978 года) под названием «Памяти Надежды Мандельштам» («A memory of Nadezda Mandelst am») вместе с чатвиновским предисловием к «Путешествию в Армению» Осипа Мандельштама. Затем текст был включен в сборник «What am I doing here» под названием «Nadezda Mandelst am: A visit». Печатается по WAIDH. В основу мемуара лег визит Чатвина к Надежде Мандельштам во время поездки в Россию в 1973 году. В ту же поездку Чатвин посетил Константина Мельникова, Георгия Костаки и пр. Надо сказать, что Мандельштам оказал на Чатвина большое влияние. Как признается сам автор в письме Кларенсу Брауну, переводчику Мандельштама на английский, он прочитал «Шум времени», как только книга вышла на английском, и Мандельштам, вместе с Исааком Бабелем, подтолкнул его к писательству. А «Путешествие в Армению» Чатвин считал эталоном литературы о путешествиях.
(обратно)7
Статья впервые напечатана в приложении к газете «Sunday Times» 4 марта 1973 года под названием «Сохранившаяся в стиле» («Surviving in st yle»). Это первая публикация Чатвина в «Sunday Times». Статья о Мадлен Вионне была частью диптиха: вторая статья под тем же названием была посвящена художнице Соне Делоне. Затем была включена автором в сборник «What am I doing here». Печатается по WAIDH.
(обратно)8
Сопроводительный текст к выставке Говарда Ходжкина, проходившей в лондонской галерее Тейт 22 сентября – 7 ноября 1982 года. Впервые напечатан в каталоге «Индийские листья Говарда Ходжкина» (Michael Compton. Howard Hodgkin’s Indian Leaves. London: Tate gallery catalogue, 1982). Затем текст был включен в сборник «What am I doing here» под названием «Goward Hodgkin». Печатается по WAIDH.
(обратно)9
Статья впервые появилась в приложении к «Sunday Times» 17 марта 1974 года под названием «Оракул» («Oracle»). В сборнике «What am I doing here» очерк назывался уже просто «Андре Мальро». Печатается по WAIDH.
(обратно)10
Оригинальное название «The Est ate of Maximilian Tod». Этот небольшой рассказ, в котором Чатвин затрагивает тему «странного» коллекционирования культурных артефактов и набрасывает образ одержимого коллекционера, который будет развит в романе «Утц», был впервые опубликован в сборнике «Saturday Night Reader» (London: W. H. Allen, 1979). Печатается по AR.
(обратно)11
Первый набросок этой статьи по явился в приложении к газете «Sunday times» под названием «Свидетель» («Witness»). Это была колонка Чатвина для номера «Жизнь продолжается» («Life goes on») от 9 июня 1974 года, посвященного жизни Парижа во время оккупации. Затем значительно переработанный текст под названием «Эстет на войне» был опубликован в журнале «New York Review of Books» 5 марта 1981 года в качестве рецензии на французское издание дневников Эрнста Юнгера (Ernst Junger. Journal parisien. Vol. 1–3. Paris: Christ ian Bourgois, 1981). В сборнике «What am I doing here» статья озаглавлена «Эрнст Юнгер. Эстет на войне» («Enrst Junger. An Aest hete at War»). Печатается по WAIDH.
(обратно)12
Впервые статья появилась в журнале «New York Review of Books» 14 мая 1981 года в качестве рецензии на книгу Уилли Эйзенхарта «Мир Доналда Эванса» (Willy Eisenhart. The world of Donald Evans. NY: Harlin Quist Books, 1981). Затем была включена в сборник «What am I doing here». Печатается по WAIDH.
(обратно)13
Впервые статья под названием «Когда революция пришла домой» («When Revolution Came Home») была напечатана в январском номере журнала «House and Garden» за 1988 год. Затем была включена в сборник «What am I doing here» под заголовком «Konstantin Melnikov: Architect». Печатается по WAIDH. В основу статьи легли воспоминания о поездке в Россию в 1973 году.
(обратно)14
Эссе под названием «Любовь к самому себе среди руин» («Self-love Among the Ruins») было впервые напечатано в апрельском номере журнала «Vanity Fair» за 1984 год. Три портрета экстравагантных персонажей, которых Чатвин собирал в своих поездках, наравне с информацией о произведениях искусства, стали весомым вкладом в галерею чудаков, созданную автором. Печатается по AR.
(обратно)15
Эти короткие рассказы, почти анекдоты, связанные с молодостью Чатвина, временами, когда он работал в «Сотбис», были написаны специально для последней составленной самим автором книги – сборника «What Am I Doing Here». Большая часть была напечатана под общим названием «Brief Interludes» («Короткие интерлюдии») перед выходом книги в августовском номере журнала «Vogue» за 1989 год. Чатвина к этому времени уже не было в живых: он умер 15 января 1989 года.
(обратно)(обратно)
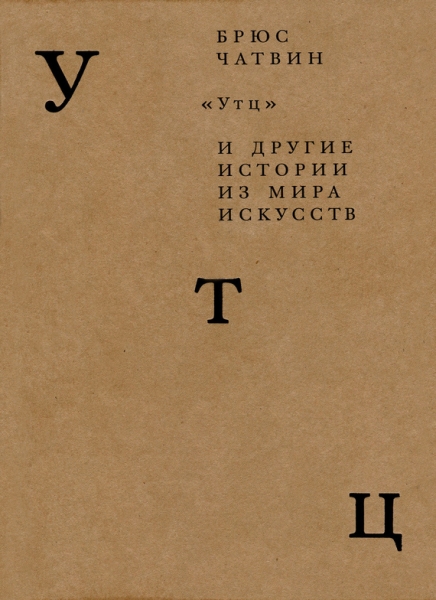
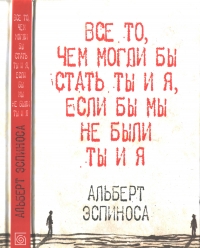
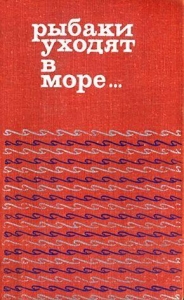
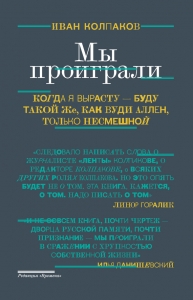


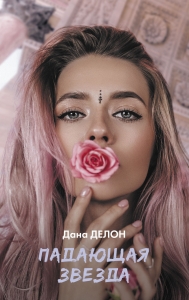

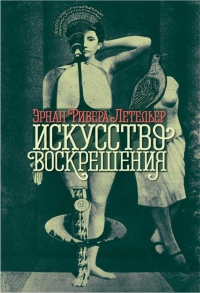

Комментарии к книге ««Утц» и другие истории из мира искусств», Брюс Чатвин
Всего 0 комментариев