Джеймс Лео Херлихи Полуночный ковбой
Нет им блаженства в одиночестве,
И Книга гласит, что нет им благословения.
М-р О'ДаниелЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
В новых сапожках Джой Бак обрел рост в шесть футов и один дюйм — и жизнь предстала перед ним совершенно в ином обличье. Когда он вышел из магазинчика в Хьюстоне, то весь словно пощелкивал и искрился; откуда-то изнутри в нем поднималась сила и мощь, которых он никогда раньше не ощущал, и мир раскрывал ему свои объятия. Играли готовностью мускулы ягодиц и икр, и мостовая с неизвестной ранее покорностью ложилась ему под ноги. Мир лежал перед ним, и он попирал его, ибо теперь в нем царил он — прекрасный дикий зверь, он, Джой Бак. Он был могуч. Он был на верху блаженства. Он был в полной готовности.
— Я готов, — сказал он про себя, задумавшись, что же он хотел этим сказать.
Джой знал, что его мыслительные способности никого потрясти не могут, да и вообще лучше всего ему думалось, когда он смотрел на себя в зеркало, и поэтому он пошарил глазами вокруг в поисках чего-то, в чем он может увидеть свое отражение. Прямо перед ним красовалась витрина. Клик-клак, клик-клак, клик-клак прощелкали его сапожки по асфальту, говоря о силе, силе, силе, силе, — и представ перед витриной, он увидел, как в ней вырастает знакомая фигура, широкоплечая, раскованная, спокойная и красивая. Господи, до чего я хорош, тихонько сказал он про себя, а затем — эх, еще бы бабок раздобыть! Иначе зачем тебе все это? И тут он вспомнил.
Когда он прибыл в «г'' стиницу», у которой не было не только названия, но и буквы «О» на вывеске, почувствовал всю абсурдность ситуации — он, богатый, уверенный в себе, классный парень должен останавливаться в таком безымянном запущенном заведении. Перепрыгивая через две ступеньки, он поднялся по лестнице в крохотную спальню, куда, не медля ни секунды, втащил большой пакет. Разорвав коричневую обертку, он бросил на кровать черно-белую вьючную сумку.
Скрестив руки, он сделал шаг назад, с восхищением глядя на нее. Красота этого предмета не переставала потрясать его. Черный цвет переходил в непроглядную тьму, а белый слепил его, и вся она была такой мягкой и чудесной, что обладать ею было тем же самым, что держать в руках подлинное чудо. Он отряхнул ладони от пыли и тщательно стер масляное пятнышко с одной из них. На самом деле его не было, но он не хотел допустить даже возможности, что на его руках окажется грязь.
Теперь Джой занялся выкладыванием остальных сокровищ, приобретенных им за последние несколько месяцев: шесть новеньких ковбойских рубашек, новые брюки (черный габардин с черными же шерстяными вставками), пара белья, носки (полдюжины, все еще в целлофановой упаковке), два уже завязанных шелковых галстука, серебряное кольцо от Хареса, восьмиканальный транзистор, купленный в Мехико-сити, который чисто брал музыку, новая электрическая бритва, четыре блока «Кэмела» и несколько фруктовой жвачки, туалетные принадлежности, пачка старых писем и так далее.
Затем, приняв душ, он вернулся в комнату, чтобы собраться в дорогу. Выскоблившись новенькой электробритвой, он тщательно вычистил ее, прежде чем засунуть в сумку; сполоснув лицо, освежил подмышки и промежность «Водой Флориды»; выдавив каплю «Брай-крема» величиной в никель на свои шатеновые волосы, придал им почти черный цвет; освежив вкус во рту фруктовой резинкой, сплюнул ее; специальной мазью для кожи отполировал новые сапожки, натянул свежую семидолларовую рубашку (черная, с белыми полосками, она сидела на его стройной широкоплечей фигуре, как вторая кожа), украсил горло голубым шейным платком, завернул обшлага брюк, туго обтягивающих бедра, так, что при каждом шаге то и дело выглядывали носки ослепительно-желтого цвета и наконец натянул на плечи мягкую кремовую кожаную спортивную куртку, такую удобную и мягкую, что она казалась живой.
Наконец Джой мог оценить результаты своих стараний. Приводя себя в порядок, он не мог окинуть себя взором во всей цельности. Он позволял уделять внимание лишь тому участку лица, по которому гуляла бритва, или же завитку напомаженных волос, который укладывал с помощью гребенки. Он не хотел лишаться радости сразу же увидеть себя с головы до ног. Определенным образом он напоминал хлопотливую мамашу, которая готовит своего ребенка к встрече с важным лицом, от решения которого будет зависеть судьба дитяти и поэтому, когда все было в порядке и настал миг насладиться конечным эффектом, вместо этого Джой Бак повернулся спиной к зеркалу и, отойдя от него, повел плечами, чтобы скинуть напряжение, сделал пару глубоких вздохов, поднимая диафрагму, и несколько раз присел до хрустов в коленях. Теперь он мог придать себе небрежную раскованность, которая, с его точки зрения, придавала ему привлекательность и стала уже привычной для него — вес тела на одной ноге, перед глазами облик хорошенькой девочки, которая с обожанием смотрит на него, а он уголком рта усмехается ей, как многоопытный сдержанный мужик; теперь закурить «Кэмел», перекатить его в угол рта и засунуть большие пальцы за низко спущенный военный ремень с широкой пряжкой. И наконец, готовый к непредвзятому взгляду на себя, он резко повернулся к зеркалу, словно кто-то скрывающийся за стеклом, неожиданно выкрикнул его имя: «Джой Бак!»
В этот день своего путешествия Джою больше всего понравилось то, что предстало его глазам: смуглый обаятельно-опальный дьявол, которого он с удивлением увидел в грязноватом зеркале этой «г'' стиницы». За спиной собственного отражения он увидел потрясающую сумку, лежащую на кровати, а в кармане брюк чувствовал плоскую пачку денег, двести двадцать четыре доллара — больше, чем когда-либо у него было. Он ощущал радость обладания тем, что его окружает, — словно обтянутый новой кожей, покачиваясь на каблучках новых сапожек, хозяин своих сил и способностей, источник всей этой красоты, которая придавала ему несокрушимую уверенность, обладатель билета, который в будущем вознесет его к блистательным вершинам, — он был вне себя от счастья. В недавнем прошлом из зеркала на него постоянно смотрело испуганное, растерянное и одинокое существо, вечно недовольное само собой, но теперь его не существует: оно окончательно исчезло, ибо Джой обрел новый облик. Он не мог добавить ни одной черточки к представшему перед ним великолепию без того, чтобы не нарушить это чудо совершенства, и ему казалось, что если он окончательно поверит в выпавшее на его долю невероятное счастье оказаться здесь, в это время и в этом месте, то просто разрыдается и волшебство исчезнет.
Так что ему оставалось лишь собрать свое имущество и покинуть «г'' стиницу».
Над входом в кафе «Солнечное сияние» было большое желтое изображение предмета, давшего ему название, с накладными цифрами — от двадцати до семи и надписью на фоне часов «Время перекусить».
Оказавшись пред этим заведением, он увидел себя в следующей сцене:
Итак, он заходит в «Солнечное сияние». Его хозяин, розовощекий человечек в засаленном сером пиджаке, стоит на пороге, держа в правой руке карманные часы и покачивая указательным пальцем левой перед носом у Джоя: «Мы работаем только до четырех часов, понял?» — кричит он. Посетители прекращают есть и поднимают глаза. Джой берет человечка за ухо и мимо удивленных клиентов ведет его в мойку. Повара, официантки и посудомойки останавливаются и смотрят, как Джой ведет розовенького управляющего к посудомоечной машине. Тем временем Джой небрежно закуривает, и ставит ослепительно блестящий сапог на груду тарелок.
Затем, выпустив клуб дыма, он говорит: «Эта моечная машина мне чертовски не нравится. Она давным-давно раздражает меня. Так оно и есть. Интересно, годится ли она или нет, чтобы засунуть туда твою задницу? Ну-ка наклонись». — «Что? Что? Наклониться? Да ты что, сумасшедший?» — протестует человечек. В молчании Джоя чувствуется опасность, и он мрачно смотрит из-под темных бровей: «Никак ты назвал меня сумасшедшим?» — наконец говорит он. «Нет, нет, я только хотел…» — «Наклоняйся, — говорит Джой. Человечек наклоняется, и Джой видит, как из кармана у него вылезает пачка денег. — Считаю, что я вполне заслужил эти деньги, — говорит он, вытаскивая купюры: — Ну и плюс еще небольшие чаевые». Небрежно сунув пачку денег за отворот рубашки, он выходит оттуда, и все, широко раскрыв глаза, потрясенно смотрят на него. Но никто не осмеливается встать у него на пути или как-то помешать ему. Даже спустя несколько дней человечек для пущей безопасности ходит, согнувшись в пояснице.
Это все он видел в своем воображении. А вот что на самом деле имело место.
Цокая каблучками, он пересек улицу, толкнул вращающуюся дверь и, оказавшись внутри кафе, пронес свой новый облик мимо столиков к двери, на которой было написано «Только для персонала». За дверью воздух уже не кондиционировался, и тут было душно и жарко. Он миновал еще одни двери, которые вели в моечную. Цветной мужчина средних лет наполнял поднос грязными тарелками. Джой понаблюдал, как он, заполнив поднос, поставил его на ленту конвейера, который унес груду грязной посуды в моечную машину. Затем он улыбнулся Джою и кивнул на ряд стоящих на полу проволочных корзин с грязной посудой.
— Ты смотри, сколько дерьма, а? — сказал он. Джой остановился рядом с ним.
— Слышь, я вроде бы в самом деле двигаюсь на Восток. — Он закурил.
Мужчина глянул на сумку Джоя.
— И на работу больше не выйдешь?
— Не-а, думаю, что нет. Я просто зашел попрощаться, сказать тебе, что двинусь на Восток.
— На Восток?
— Ага. Ну да, черт возьми. Вот захотелось попрощаться и глянуть на все вокруг.
Открылась дверь, и на пороге с криком возникла толстая женщина с лоснящимся лицом: «Чашки!» — заорала она на пределе голоса и исчезла, захлопнув двери.
Цветной протянул ему руку.
— Ну, что ж. Пока. — Они обменялись рукопожатием, и какое-то мгновение Джою не хотелось отпускать его руку. Совершенно неожиданно его потянуло надеть передник и приступить к работе, но об этом не могло быть и речи.
— Черт возьми, чего я тут забыл, верно?
— Это верно, — сказал мужчина, глядя на свою руку, которую Джой все не выпускал. — А чем ты собираешься заниматься на Востоке-то?
— Женщинами, — сказал Джой. — Они за это платят.
— За что платят? — Мужчина наконец высвободил свою руку.
— Мужики там, — объяснил Джой, — большей частью педики, и поэтому бабам приходится платить за то, что им надо. И они только рады, потому что лишь так получают то, в чем нуждаются.
Цветной покачал головой.
— Должно быть, там все с ума посходили. — Он взял очередной пустой поднос и стал заставлять его чашками.
— Ну да, посходили. А я собираюсь за это получать наличными. Что, не так?
— Не знаю. Я ничего не знаю на этот счет.
— Что ты имеешь в виду? Я же только что все тебе растолковал.
— Ну да, ясно, но я все равно в этом ничего не понимаю.
— Ну ладно, нет смысла и дальше болтаться здесь. Пора двигаться. Ясно?
Джой Бак, ковбой с головы до ног, внезапно понял, что никакой он не ковбой с раззявленым ртом, в котором виднелись большие неровные белые зубы, он стоял, уставясь голубыми глазами в лицо старика. «Папа, — словно говорил его взгляд, — я отправляюсь в поисках счастья и пришел к тебе за благословением». Но, конечно же, этот бедняга-цветной не был его отцом. Да и сам Джой не был ничьим сыном. Так что он просто вышел из моечной. Заведение еще должно было ему плату за день работы, но у него не хватило бы духа вести об этом разговоры с розовощеким человечком, который был управляющим «Солнечного сияния». Никогда он не сможет засунуть его задницу в моечную машину.
Пройдя через помещение кафе, он вышел на тротуар, окунувшись в чистый и свежий воздух весеннего вечера, и очень скоро четкое клацанье каблучков подняло его дух и привело в хорошее настроение, когда он направлялся на автобусную станцию; чувствовал теперь он себя великолепно, и мысли его были в тысяче миль отсюда: он прогуливался по Парку-авеню в Нью-Йорке. Богатые леди толпились у окон, чуть не падая в обморок от желания увидеть настоящего ковбоя. Бармены похлопывали его по плечу; лифты, журча, возносили его к пентхаусам, и золотые двери открывались перед ним, приглашая его в апартаменты, от стены до стены устланные мягкими коричневыми коврами. Перед ним предстала мадам, поддерживая коротенькую сползающую черную комбинацию. При виде Джоя Бака дыхание у нее прервалось. Она была потрясена. Содрогаясь всем телом от наслаждения, она опустилась на мягкий ковер. Опьяняющая влага ее женственности уже была готова встретить его. Не было времени даже раздеться. Он взял ее сразу и решительно. Дворецкий протянул ему торопливо заполненный чек с пустой графой суммы, предоставив ему возможность вписать туда столько, сколько заблагорассудится.
В Хьюстоне на вокзале стоял музыкальный ящик. Когда Джой сел в автобус, он услышал призывный и звучный голос полногрудой женщины с Востока, которая пела о «колесах фортуны, которые кружатся, кружатся, кружатся»; и ему казалось, что женщина поет, обращаясь лично к нему. Пробираясь по проходу, он криво улыбался, обнажая щербатые зубы, тая в себе то, для выражения чего у него не было слов: когда удается ухватить время за хвост, у человека появляется ощущение, что весь мир принадлежит ему, и когда это происходит, раздается этакий щелчок — клик! — и когда затем ты слышишь, например, музыкальный ящик, он играл только то, что ты хочешь услышать, и все вокруг, даже автобусы «Грейхаунд», подчиняется твоей воле — вот идешь ты на станцию и говоришь: «Во сколько отходит автобус на Нью-Йорк?», а тебе отвечают: «Сию секунду», и тебе остается только залезть в него, и все идет, как надо. Весь мир плывет на волнах музыки, а ритм ей задаешь ты. Тебе не нужно даже прищелкивать пальцами, потому ритм и так живет в тебе, и когда ты думаешь об этих бабах с Востока, ящик заканчивает песню словами, которые так и крутятся у тебя в мозгу: «Томлюсь по тебе, томлюсь, томлюсь» — вот чем они занимаются на Востоке. (О'кей, вот он я, леди, только что залез в автобус и мчусь к вам.) Вот и сиденье для тебя, даже два, одно для задницы, а второе, чтобы вытянуть ноги, и больше тебе ничего не надо, потому что и так весь мир принадлежит тебе, и как только закидываешь свою вьючную сумку на полку над головой, водитель включает газ и двигается с места секунда в секунду. Все идет точно по расписанию, может и не с точки зрения компании «Грейхуанд», но для тебя. Потому что ты и никто другой определяет его и потому что автобус все же едет.
2
Когда Джой Бак решил с помощью автобуса компании «Грейхаунд» перебраться с Запада на Восток в поисках счастья, ему уже минуло двадцать семь лет. Но несмотря на свой возраст, он обладал жизненным опытом, присущим восемнадцатилетнему или даже меньше того.
Воспитывали его несколько блондинок. Первые трое, с которыми он жил до семи лет, были молодыми и красивыми.
Хозяйство у них было беспорядочное, вечно к ним кто-то приходил и уходил, и Джой никак не мог разобраться, кто к кому приходил. Время от времени кто-то из блондинок принимал на себя роль его матери, но позже он понял, что двое из них были просто ее подружками, с которыми его настоящая мать вела общее хозяйство. Но блондинки хорошо относились к нему, позволяли ему делать все, что он хочет, дарили подарки и часто возились с ним. Кто-то из них, слоняясь по дому, постоянно напевал «Смотри, дитя мое домой вернулось», «Напевы вереска», «Леди в красном», «У него пара серебряных крыльев» и другие. Вспоминая эти дни, Джой неизменно предполагал, что певица и была его настоящей матерью.
Началась война, и блондинки оказались втянутыми в нее. Уходя из дома, они натягивали неуклюжие штаны, заматывали головы платками, которые назывались странным именем «бабушка» и таскали с собой коробки с ленчем. Порой они путешествовали между Хьюстоном и Детройтом на автобусах, и Джой припоминал, что ему доводилось жить в этих городах. В любое время в доме показывались мужчины в военной форме, которые проводили в нем время, а потом исчезали. Некоторые из них именовались мужьями, но Джой не помнил, чтобы кого-то из них представляли ему в качестве его отца. (Лишь позже он стал подозревать, что рожден вообще вне брака.)
В один прекрасный день, который запомнился ему белесым от жары небом, он был переправлен к четвертой блондинке в Альбукерк, Нью-Мехико, и отныне ему уже никогда не довелось увидеть остальных трех. И когда он вспоминал о них, то первым делом видел то белесое небо и женщину со светлыми волосами, чей облик таял на фоне неба.
Четвертой блондинкой оказалась его бабушка, тощее костлявое и глупое маленькое существо по имени Салли Бак. Но несмотря на свою костлявость, она была симпатичнее, чем вся остальная троица, вместе взятая. У нее были огромные серые глаза с густыми черными ресницами, а вид ее шишковатых бедных колен мог вызвать слезы. И если созерцание какой-то части тела любимого существа могло вызвать такую глубокую печаль, то для Джоя это были костлявые, бедные и печальные коленки Салли Бак. Салли содержала косметический салон, который требовал ее присутствия десять, а то и двенадцать часов в день, так что мальчику, к сожалению, приходилось добрую часть времени после школы проводить в компании самых разных женщин, очищавших кожу лица. Среди них никогда не встречалось блондинок; они никогда не носили платья светло-зеленого или лимонного цвета, не говоря уж о лавандовом; они практически никогда не обращали на него внимания, а если им и случалось бросить на него взгляд, то он замечал, что у них почти не было видно ресниц.
По воскресеньям было не лучше. Салли, как правило, отправлялась на свидания. Она испытывала слабость к мужчинам, особенно к приезжим, многие из ее избранников обитали на фермах и носили стетсоны. Эти огромные широкоплечие мужики с просторов Запада, с выдубленными лицами, просто сводили с ума обаятельную малышку Салли. Она была такая тонкая, хрупкая, благоухающая, у нее всегда были наманикюрены ногти, а они были образцами мужественности, обтянутые дубленой кожей, под которой так и ходили мускулы, и этот контраст приятно возбуждал обоих. Порой она брала Джоя с собой на эти свидания, которые ему страшно нравились, и он прямо обмирал от восторга при виде этих мужиков, но только один из них уделил ему больше, чем беглое внимание.
Этого человека звали Вудси Найлс. Борода его отливала синевой, у него были блестящие глаза; он учил Джоя, как седлать лошадей и как делать рогатки, а так же как жевать табак и курить сигареты или как держать свой петушок, чтобы струйка вздымалась выше головы. Вудси Найлс принадлежал к тем счастливчикам, которые умеют получать удовольствие от всего, что они делают, даже от простой ходьбы. Да, двигался он так, словно не сомневался, что каждая минута жизни должна приносить наслаждение, и он извлекал его даже из простых действий, как, скажем, пройти по комнате или открыть ворота кораля. Он, этот Вудси Найлс, к тому же знал массу песен и постоянно напевал их приятным мужским голосом, аккомпанируя себе на гитаре, а когда они проводили ночи у него на ранчо, Джой порой просыпался часа в три ночи от песен, которые доносились из спальни, где располагались Вудси Найлс и Салли. Мальчик всегда подозревал, что Вудси бодрствовал по ночам, ибо чувствовал в себе такую мощь и такую полноту жизни, что не мог проводить время просто во сне и изливал ее в слаженном хоре из двух человек, исполнявшем «Последний круг». А затем он начинал все сначала, от чего Салли восторженно хихикала, а когда он доходил до того куплета, где говорилось о местечке на небе, откуда берут начало радуги, Джой уже был захвачен волнами блюза, и ему было так хорошо, что только усилием воли он удерживал себя от желания присоединиться к этим чудесным людям в спальне. И это было первое, что Джой понял из того, как надо вести себя с женщиной в постели: ты должен петь ей песни. Прекраснее этого, ему казалось, ничего не было, и больше того, им подпевал весь дом.
Но Салли неизбежно должна была расстаться с этим выдающимся человеком — как рано или поздно она поступала со всеми остальными — и Джою оставалось лишь вспоминать его, как исчезнувшего отца. Но именно во время общения с Вудси Найлсом Джой стал считать себя чем-то вроде ковбоя.
Отдав время личным делам, по воскресеньям Салли суматошно собирала ребенка для похода в церковь. Воскресное утро больше всего нравилось ей оттого, что предоставляло возможность показаться на людях, продемонстрировать новый наряд. Ибо, проводя почти все время в своем заключении, Салли, например, практически не имела возможности покрасоваться в новой шляпке. И мальчик прекрасно смотрелся рядом с ней; все в голос так и говорили, что они выглядят как мать и сын, и Салли предавалась иллюзии, что становится моложе на целое поколение.
Но для Джоя эти посещения церкви запомнились совсем по другой причине: после службы взрослые удалялись отпить кофе с рогаликами в подвальном этаже церкви, а молодежь собиралась в воскресной школе наверху. На этих занятиях Вудси Найлс в восприятии Джоя и уступил свое место Иисусу Христу. Молодая леди с теплыми добрыми глазами, в которых светились искорки смеха, убедила его, что Иисус любит его. Над доской в классе висела картина, изображавшая Иисуса, гуляющего в сопровождении мальчика. От мальчика был виден только затылок, но Джой не сомневался, что там изображен он сам. Звучали песни, слова которых говорили, как Иисус гуляет с ним, разговаривает с ним, с Джоем, заверяя его, что он принадлежит только Ему и никому больше. А как-то молодая леди-учительница рассказала о событиях той ужасной пятницы, что выпала на долю этого доброго бородатого человека, а потом дала ему маленькую раскрашенную картинку, которую ему было позволено взять с собой. Иисус смотрел прямо на него, и глаза его говорили: «Должен сказать тебе, что мне достались ужасные страдания и жизнь порой была невыносима, но как здорово, что у меня в друзьях есть такой ковбой, как ты». Что-то такое. Что-то, внушившее Джою глубокое личное убеждение, что страдание, читающееся в этих глазах, имеет к нему отношение и в свое время ему выпадет счастье смягчить его. Изучая картинку, он пришел к выводу, что, если Иисуса чисто побрить, он будет здорово смахивать на Вудси, и он продолжал изучать изображение в поисках остального сходства. Несколько ночей подряд он, поставив картинку с Иисусом на письменный стол, клал рядом с ней пачку жевательного табака и несколько сигарет «Кэмел» и каждое утро исправно проверял, приходил ли кто-нибудь ночью пожевать табак или покурить. Никого не было. И вскоре он окончательно потерял уверенность, что есть хоть кто-то, кто будет гулять с ним, говорить и объяснять ему, что он принадлежит только Ему. Иисус присоединился к людям, которые навсегда ушли из жизни Джоя: теперь он был на небе вместе с тремя блондинками и Вудси Найлсом.
Если уж зашла речь о любовных делах, в суматохе одного воскресного дня Салли обрела нового избранника, монтера с телефонной станции. Как-то он зашел в ее магазинчик протянуть проводку, и его широкий кожаный пояс, оттянутый сумками с инструментами, лежал низко на бедрах. Увидев его, Салли вытаращила глаза, и когда ему настало время возвращаться к своему грузовичку, монтер уже попал под обаяние чар этой маленькой симпатичной сероглазки.
Затем настал год, в течение которого Джой почти не видел свою бабушку. В сущности, он вообще мало кого видел. На пороге четырнадцатилетия им овладело полное равнодушие ко всему и апатия, а после Дня Благодарения он вообще отказался ходить в школу. Он был уже не в силах прилагать усилия, чтобы ходить туда и бодрствовать на уроках. Несколько ребят, схожих по характеру с Джоем, столь же нерасположенных к разговорам, в этом году тоже ушли из школы. Некоторые ударились во что-то, смахивающее на светскую жизнь, но, поскольку Джой никогда не имел к ней отношения, она его не привлекала. Никто не питал к нему недоброжелательства, но, с другой стороны, никто и не обращал внимания. Для всех он был просто парнем с большими передними зубами (порой его так и называли — Кролик Бак), одним из тех, кто редко разговаривает, никогда не делает уроков и всегда пристраивается у задней стенки. Время от времени в салон к Салли заглядывал дежурный учитель, вылавливающий прогульщиков, но его посещения не влекли за собой никаких действенных последствий ни с ее стороны, ни с их, и Джой оставался предоставленным самому себе. Вставал он обычно к полудню, причесывал волосы гребешком, выкуривал сигаретку, ел хлеб с ореховым маслом и сардинкой и садился в комнате Салли у телевизора просматривать тысячи метров кинопленок. Просыпаясь, он включал телевизор, который кончал работать далеко за полночь. Все остальное время он чувствовал себя смущенным и растерянным. Ему было жизненно необходимо постоянно лицезреть образы на экране и, главное, впитывать в себя звуки, которые они издают. Его собственная жизнь, в сущности, проходила в безмолвии, и ему казалось, что в тишине есть что-то угрожающее: за ее покровом крылись враги, которых могли спугнуть только звуки.
К тому же в Ти-Ви было полно блондинок, и каждая из них чем-то смахивала на тех, которые когда-то принадлежали ему. В каждом почтовом дилижансе, в каждом фургоне и салуне, не говоря уж о магазинах, если хорошенько присмотреться, можно было заметить блондинку: распахивались двери, или раздвигались занавеси — и представала Клэр Тревор, или Барбара Стануик, или Констанс Беннет. А что там за стройный человек в седле, который щурится на солнце, и квадратная его челюсть говорит, что он поклонник справедливости и благородства, — он прямо олицетворение силы, мощи и целеустремленности, напоминая всех мужчин от Тома Микса до Генри Фонды? Да никак это сам Джой Бак.
Удивительная штука случилась с ним, пока он сидел, опьянясь телевизором. Потихоньку-полегоньку, день за днем, шаг за шагом он начал становиться таким же высоким, сильным и симпатичным как ковбои из Ти-Ви. Однажды, когда наступавшее лето клонилось к закату и Джой пошел поплескаться в реке, он вдруг глянул на себя и обнаружил, что обрел тело настоящего мужчины. Выкарабкавшись на берег, он оглядел себя, и под гусиной кожей и грязью, покрывавшей икры, он увидел сильные мужские ноги. На руках его и теле прорисовывались пучки крепких мышц, а на груди и в низу живота появилась темная волосяная поросль. Его потрясло это открытие, и он помчался на велосипеде домой, чтобы внимательно изучить себя перед большим зеркалом в спальне Салли. Он обнаружил, что его лицо тоже изменилось: черты заострились и приобрели жесткую определенность и даже губы увеличились, прикрывая его большие зубы так, что их щербатость скрылась из виду.
Он был настолько обрадован представшим перед ним зрелищем, что решил принарядиться и продефилировать мимо соседей, предполагая, что они так же обратят внимание на происшедшую с ним перемену и оценят ее по достоинству. (Никто ее и не заметил.) Он остановился у магазинчика Салли.
— Господи, — сказала она, — дорогой, ты просто ужасно выглядишь, ты вырос из этой одежды!
— Нет, — возразил он, — она не стала меньше, чем была.
— Стала, стала, — сказала она и дала ему деньги, чтобы обновить гардероб.
Позже в тот же день Джой уже торжественно прохаживался по улицам Альбукерке в светло-голубых брюках, оранжевой спортивной куртке и ботинках бычьей кожи с подковками на каблуках.
Салли сказала, что цвета несколько дисгармонируют друг с другом, «но ты в самом деле стал очень мил, и не пора ли тебе обзавестись девушкой?»
Дома, уставившись в зеркало, пока у него не стали слезиться глаза, он пытался понять, в чем же причина столь радостного преображения. Перед ним во всей своей красе стоял совершенно новый человек, но представшее перед ним чудо стало обволакиваться пеленой грусти, а восторг стал испаряться, уступая место сожалению. И внезапно он понял, в чем дело. Ибо в этот день он понял ужасную вещь: проснувшись, он ощутил свое одиночество.
Не избалованный дружбой, Джой не представлял, как вести себя в подобной ситуации. Обычно он действовал таким образом: найдя человека, который ему нравился, он просто болтался рядом с ним в надежде, что дружба вспыхнет сама собой. Так он пробовал подступиться к вдове лавочника, двум ребятам на бензозаправке, девочке, которая выписывала счета в аптеке, старому сапожнику-эмигранту, швейцару в кинотеатре «Уорлд-муви». Но они никак не могли понять, что ему нужно. Постепенно ему становилось ясно, что разговор был непременным элементом знакомства, но говорить Джою было нечего, а в тех редких случаях, когда он выдавливал из себя несколько слов, слушатели, как правило, не обращали на него внимания, и все его усилия уходили впустую. Он явно был не из разговорчивых. Лучше всего у него получалось разговаривать с Салли, но и с ней темы разговоров быстро исчерпывались. Например, когда он сидел на краю ванны, наблюдая, как она раскрашивает себя перед зеркалом; большей частью ее внимание было настолько направлено на то, чтобы скрыть на лице следы последних двадцати лет, что для внука у нее почти ничего не оставалось.
Когда ему вот-вот должно было минуть семнадцать, тоска его по раскованному общению с миром стала настолько непреодолимой, что в один прекрасный вечер Джой направился в «Уорлд-муви», где его ждало краткое, ужасное и невыразимо приятное свидание с девушкой по имени Анастасия Пратт.
3
Хотя ей было всего лишь пятнадцать лет, Анастасия Пратт уже была живой легендой среди молодых людей Альбукерке. Такие легенды редко основываются лишь на фактах: в ее создании немалую роль играло воображение. Но поведение Анастасии Пратт с тех пор, как ей минуло двенадцать, превосходило всякое воображение: никакое вранье не могло превзойти то, что имело место на самом деле.
Ее знали под именем Лихая Анни, имея в виду, что она всегда была готова добросовестно обслужить любое количество ребят, у которых имелось лишь полчасика свободного времени, и ее тело было к их услугам.
За серебряным экраном кинотеатра «Уорлд-муви» была большая комната, в которой были свалены старые портьеры и ливреи швейцаров, хранились полотенца и запасы мыла, а также прочее имущество и оборудование. В одном углу громоздились коврики и дорожки, оставшиеся после очередного ремонта и переоборудования кинотеатра. Именно в этом углу легенды об Анастасии Пратт воплощались в действительность. Впрочем, столь же исправно она трудилась в гостиных, спальнях, в припаркованных машинах, гаражах, вечерами на школьных дворах и даже под открытым небом, когда хорошая погода позволяла уезжать в пустыни, окружающие Альбукерке. Но чаще всего и больше всего Анастасию использовали на этой куче ковриков в кладовке «Уорлд-муви».
Ее нельзя было назвать ни хорошенькой, ни уродливой, она выглядела совершенно ординарной школьницей, настолько обычной, что, учитывая ее поведение, эффект, производимый ее внешностью, просто ставил в тупик. Она носила юбочку, блузки, свитеры, носочки до лодыжек и сандалики. Ее волосы орехового цвета были собраны назад и заколоты на затылке. Откровенно говоря, косметики она не употребляла, только чуть выщипывала брови и иногда пускала в ход бледную губную помаду. Днем можно было видеть, как она направляется в школу и возвращается из нее, неся книги под мышкой, и на лице ее не было и следа тех забот, которые могли посещать эту юную особу с широко открытыми невинными глазами. И если вы не знали о ее второй жизни, у вас не было ровно никаких причин еще раз оглядываться на Анастасию Пратт. Но, обладая таким знанием, контраст между тем, что вы себе представляли и что видели на самом деле был просто потрясающим. Один юноша считал, что она Джекилл и Хайд женского рода[1].
Несмотря на славу, которой пользовалась девушка, было, как минимум, три человека, которые ни о чем не догадывались. Двое из них, конечно, были родителями девочки: отец — мрачный, раздражительный и работящий кассир в местном банке и мать — женщина с тонкими поджатыми губами и бегающими глазками, игравшая на пианино в Истинной Церкви. До вечера этой октябрьской пятницы третьим несведущим оставался Джой Бак.
Они встретились у фонтанчика рядом с кинотеатром. Джой вежливо отступил в сторону и предложил ей напиться. Сделав глоток, она с благодарностью взглянула на него и улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ.
— Не хочешь ли посидеть со мной? — сказала она.
Они сели рядом примерно в третий ряд с конца прохода. Анастасия тут же прижалась коленом к ноге Джоя и стала провокационно взвизгивать. Как-то само собой получилось, что они стали держаться за руки. Но как только Джой начал волноваться из-за потеющих ладоней, она притянула его руку, чтобы он погладил ее по бедру. Затем девочка откровенно пустила в ход свою руку, чтобы убедиться, насколько далеко зашло его возбуждение. Выяснив, что положение дел ее вполне устраивает, она развернула его лицом к себе и попросила, чтобы он поцеловал ее. Джой отнюдь не собирался отказываться от приглашения; при всем своем возбуждении он просто не думал об этом, но в ее требовании была такая настойчивость, такое отчаяние, что, когда он поцеловал ее, девочка с такой страстью впилась губами в его рот, словно хотела высосать из него все жизненные соки. Он почувствовал себя, словно к нему приникло смертельно раненное в катастрофе существо, теряющее последние остатки жизни.
В проходе показалась компания ребят, которые сели сзади Джоя и Анастасии Пратт.
— Иисусе, да никак это Анастасия Пратт, — сказал один из них.
— Ты шутишь, — сказал другой.
— А что это за парень? — осведомился третий.
— Он целует ее.
— Эй, смотрите, кто-то целуется с Анастасией Пратт.
— Кто это? Что это за парень, который целует Анастасию Пратт?
— Эй, Анни, кого ты подцепила? Повернувшись, Анастасия взвизгнула:
— Заткнитесь! Прошу вас, замолчите. Не мешайте мне, ясно?
— Не мешать тебе? Давай я тебе помешаю.
— Иди-ка к нам, Анни.
— А как насчет меня, Анни? Давай-ка я разок разложу тебя на спинке сиденья!
Джой не понимал, что происходит. Пару раз он видел, как в этом кинотеатре обнимались парочки, но старался проскользнуть мимо них. Он был испуган и смущен. Наверно, при своей неопытности он сделал что-то не так, но не имел ни малейшего представления, что именно, и еще меньше он представлял, как вести себя в такой ситуации.
Один из компании встал и, перегнувшись через сиденье, узнал Джоя Бака, потому что они вместе ходили в школу в младших классах.
— Эй, да это же Джой Бак, — оповестил он, садясь на место.
Джой не узнавал голоса за спиной, но побоялся повернуться.
— Эй, Джой, — позвал его один из компании, — так как ты целовался с Анастасией Пратт, беги в аптеку и прополощи рот. Я не шучу. Она уже перетрахалась со всем Альбукерке. — В голосе не было враждебности, он был на самом деле дружелюбным и озабоченным. Наконец Джой повернулся и узнал смуглого мальчика-итальянца, которого он помнил еще со школы. Звали его Бобби Десмонд.
Анастасия Пратт вскочила с места и кинулась по проходу. Компания поспешила за ней. Прежде чем присоединиться к остальным, Бобби Десмонд нашел время похлопать Джоя по плечу и сказать:
— Давай!
Встав, Джой последовал за остальными. У задней стенки уже стояли шестеро ребят, все из старших классов, закрывавших выход.
Анастасия похныкала, пытаясь протолкнуться среди них. Высокий, тощий, громогласный блондин, усеянный прыщами, сказал:
— Слушай, Анни, там наверху Гарри Амбергер, и он прямо умирает от желания увидеть тебя.
— Его там нет, — сказала Анастасия, но в глазах ее читался вопрос: неужели он в самом деле там?
— Да ладно, он там. Ну ладно, пусть нет. Пойду скажу ему, чтобы он исчез.
— Нет, нет, я имела в виду, что его в самом деле нету, — сказала Анастасия.
И затем все они двинулись обратно вниз по боковому проходу — шеренга ребят и Анастасия Пратт, направляясь к красному сигналу, показывавшему выход с левой стороны экрана. Джой, следовавший за Бобби Десмондом, замыкал шествие. Когда он опустил занавеску, прикрывавшую выход, он услышал, как какая-то голливудская дама на экране говорит: «Говорю тебе, мы совершенно не можем контролировать положение дел. Единственная надежда на то, что ничего не случится».
Поднявшись по шатким ступенькам, все они очутились в кладовке. Кто-то включил свет.
— Где же он? — сказала Анастасия. — Где Гарри Амбергер?
Высокий светловолосый мальчик, которого звали Андриан Шмидт, сказал:
— Вон там на ковриках, Анни, на ковриках. — Он повернулся лицом к углу и крикнул: — Привет, Гарри, Анастасия пришла.
— Все ты врешь, — сказала она. — Это просто ловушка. Чтобы затащить меня сюда. Знаю я вас. — А затем она позвала: — Гарри? Гарри! Если ты здесь, скажи что-нибудь.
Искусственно усиленный голос женщины сказал:
— А теперь задуй свечи, дорогая и пожелай себе что-нибудь!
— Нет! — ответил ей голос девочки, — Мы еще не спели «Со счастливым днем рождения!» — С экрана раздались веселые крики, и хор голосов запел «Счастливого дня рождения».
— Я хочу уйти отсюда, — сказала Анастасия, но тут же выяснилось, что дверь закрыта. Потому что все в комнате, кроме Джоя, не сомневались, что она и не собиралась уходить.
— Я не верю вам, что он здесь, — сказала Анастасия, — но все же я сама посмотрю.
Андриан Шмидт, раздевшись, уже лежал в углу на ковровых дорожках, возбуждая себя, и все остальные ребята тоже стали раздеваться, и вот уже Анастасия Пратт легла там же и, стягивая с себя штанишки, нахально требовала, чтобы «сначала было красиво, а то ничего не будет». Андриану Шмидту было сказано, что ему придется ждать самым последним в наказание за его вранье о Гарри Амбергере. Но она с самого начала знала, что тут не было никакого Гарри Амбергера. Он еще три года назад уехал в Беттл Крик, штат Мичиган, и всем это было известно.
Пока молодой человек усиленно трудился над ней, Анастасия лежала совершенно спокойно, повернув голову, покусывая ногти; она совершенно не обращала внимания на происходящее. Она напоминала обреченного ракового больного, получающего порцию облучения и знающего, что помочь оно ему уже ничем не может, но тем не менее, пусть его…
— Пошевеливайся, — сказала она одному из них, — ты что, думаешь, я всю ночь тут буду? — Но на ее слова никто не обратил особого внимания.
Когда подошла его очередь, Джой тоже взгромоздился на нее, и у Анастасии внезапно пробудился интерес к нему — может, потому, что он был для нее новеньким.
Когда она снова отвернула голову, Джой шепнул ей:
— В чем дело?
— Я пыталась прочесть, что тут написано на этих письмах, — сказала она. Рядом с ней валялись какие-то конверты с марками, и, складывая буквы в слова, она пыталась понять, нет ли тут письма и ей.
Кто-то сказал:
— Держу пари, сейчас он ее целует, — а Бобби Десмонд остановил его:
— Оставь их в покое.
Третий молодой человек сказал:
— Дайте мне кто-нибудь сигарету. Андриан Шмидт крикнул:
— Подождите, пока я ее заделаю, я же последний.
Тут Бобби Десмонд сказал:
— Заткнитесь, а то она скрестит ноги и пойдет домой.
Донесся голос старой леди с экрана:
— Нет, нет, ты не должна этого говорить! Это неправда!
Джой шепнул Анастасии Пратт:
— Все правильно?
— Что правильно?
— Ну, вот это…
— Чего ты м е н я спрашиваешь?
Снова послышался голос Андриана Шмидта:
— Чем он там с ней занимается? Чувствую, его пора поторопить. Так полагается. Каждому отводится время. А иначе парень должен, я хочу сказать, просто платить. Верно, ребята? И отныне…
Анастасия Пратт ухватила Джоя за голову и притянула ее к себе. Она стала шептать ему на ухо:
— Ты у меня единственный, ты, только ты, только ты у меня после Гарри Амбергера, это ты, честно, только ты, честное слово. Обычно я ничего не чувствую, а ты, честное слово, я хочу сказать, что ты самый лучший. Поцелуй меня. Пожалуйста.
Ее тело под ним начало подавать признаки жизни, а дыхание участилось, словно она взбиралась на самую высокую гору в мире. Чувствовалось, что ей надо было как можно скорее припасть губами к источнику жизни, словно она не могла дышать в таком разреженном воздухе.
Но Джой мог думать только о том, что ему сказал Бобби Десмонд.
— Давай! — взмолилась она. — Делай же!
Лицо девочки было влажным от напряжения, и в сравнении с тем, что произошло с Джоем в эту секунду, все остальное было уже неважно, и он с благодарностью ткнулся в нее ртом, позволив ей извлечь из этого мгновения близости судорожную дрожь, после чего она издала протяжный вопль, словно в апоплексическом припадке. Даже когда все было кончено, Анастасия Пратт не отпускала его. Она тихонько плакала и, лежа на спине, прижимала его к себе как самое лучшее, что у нее есть в жизни.
— О'кей, — сказал Андриан Шмидт. — С меня хватит, С меня, говорю вам, хватит. Считаю до десяти, и это будет только справедливо, не так ли? То есть, вот я считаю до десяти, а потом… раз, два, три…
Голос другой почтенной голливудской леди произнес: «А теперь не забудь, дитя мое, мы все составляем семью бедной Сары, и как христиане мы обязаны…»
Затем послышался стук захлопнувшейся двери, в двадцать раз громче, чем в жизни.
Анастасия Пратт натянула штанишки, так и не позволив Андриану Шмидту даже дотронуться до нее. Он направился к ней, явно намереваясь дать ей плюху, но остальные ребята оттащили его. Миновав кладовку, она спустилась по ступенькам и пошла по проходу, держа голову до смешного высоко и покачиваясь, словно чуть пьяная.
Когда она миновала знак «выход», с экрана доносилась торжественная музыка, словно провожающая ее во тьму ночи вокруг кинотеатра.
4
В юности так и тянет пошляться по разным местам. Он никому не мог доверить свои мечты и, боясь, что кто-то о них догадается, придумывал себе какой-нибудь предлог и отправлялся бродить, надеясь на чудо. Или хотя бы на какое-то подобие его.
Джой тешил себя надеждой, что ему удастся войти в компанию ребят, с которыми он делил Анастасию Пратт в кладовке кинотеатра. Но Андриан Шмидт, высокий, белобрысый, прыщавый, нетерпеливый крикун из этой компании жутко поносил Джоя за то, что ему пришлось остаться с носом в тот пятничный вечер. Так что, когда Джой однажды решил прошвырнуться мимо аптеки, которая была местом их сбора, Андриан уставился на него через стекло взглядом, который мог обескуражить кого угодно. Он настроил и остальных (кроме Бобби Десмонда) против Джоя, и, когда однажды он проходил мимо, все они высыпали на мостовую и стали изображать шлепающие звуки поцелуев.
В то же самое время Анастасия Пратт, не в силах забыть Джоя Бака, регулярно прогуливалась мимо его дома. Каждый день после окончания школы ее можно было увидеть здесь, неторопливо бредущей по улице.
Джой украдкой наблюдал за нею из-за высокой портьеры в комнате Салли, отмечая, что она, как ребенок, несет учебники в руках, и его неприятно поразило то равнодушие, с которым она смотрела только перед собой, не замечая, что краем глаза она обшаривает окрестные дома, как взломщик, осматривающий ювелирный магазин. Как-то она стала обходить все дома на улице: звонила у дверей и предлагала билеты на благотворительную распродажу, которую организовывает Истинная Церковь.
— Ох! — сказала она, изображая удивление, когда Джой Бак открыл ей двери, — а я и не знала, что ты тут живешь. Я просто, то есть, я просто так, ну, наша церковь устраивает лотерею, и я вот тут, ну, там будут разные электрические игрушки, а ты давно тут живешь? То есть, я хочу сказать, не хочешь ли ты купить один, билет, то есть?
Джой смотрел на ее губы, когда она говорила, а потом он отвел взгляд и уставился в пространство, слыша про себя шлепающие звуки поцелуев, которые издавал Андриан Шмидт, и покачал головой — нет, он не хочет покупать билет на лотерею.
Девочка поняла, что он отказывается, но не двинулась с места; лицо ее, обращенное к нему, напряглось, в глубине глаз, наполнившихся влагой, затаилась тревога, и она сказала:
— Ты уверен?
Он кивнул. Анастасия стремительно повернулась и, сбежав по ступенькам, по дорожке направилась к тротуару. Ее ягодицы двигались на ходу туда и сюда, туда и сюда, и при виде их желудок у него сжался, а потом он заметил, какой печали преисполнена ее спина, как грустны и одиноки ее подколенные впадины, и тут он услышал, как довольно громко говорит: «Хм!» Когда она снова повернулась к нему, он сказал: «Не знаю, есть ли у меня мелочь», — и изгиб ее бровей поразил его в самое сердце.
Так что первой женщиной Джоя стала пятнадцатилетняя Лихая Анни Пратт. Они прятались как преступники. Ему было стыдно и за нее и за себя. Он терпеть не мог отвечать ее требованиям, этим отчаянным поцелуям, и тем не менее она нуждалась в нем, и его потрясало, когда она подчинялась ему.
Поскольку он ничем не был занят, у него было много времени для прогулок и размышлений. Сколько бы он ни давал себе обещаний, ее присутствие сводило их всех на нет. Он представлял себе пологую возвышенность ее живота и маленький влажный холмик под ним, и эти мысли, плюс исходящее от нее ощущение полного одиночества, заставляли его чувствовать себя идиотом, когда он вспоминал все свои намерения и обещания.
В один прекрасный день родители Анастасии Пратт получили анонимное письмо, повествующее не только о щедрости, с которой их дочь дарит плотские удовольствия в кладовке «Уорлд-муви», но и о ее встречах с Джоем. Как-то вечером мистер Пратт явился домой с твердым намерением «вышибить душу из этого мальчишки», но, поскольку он был скромного роста и телосложения, все закончилось несколько иначе: он направился в полицию. Джой так никогда и не узнал, что произошло в полицейском участке, но на следующий день Салли позвонила ему из Даунтауна, сказав:
— Все в порядке, мой дорогой, они решили поместить бедную девочку в очень приличное заведение. — «Приличное заведение» в устах Салли Бак было эвфемизмом для обозначения лечебницы для душевнобольных.
Такое завершение карьеры Анастасии Пратт вызвало множество разговоров. Имя Джоя Бака, которое постоянно связывалось с ней, приобрело определенную известность. Истории, которые ходили из уст в уста, далеко не всегда соответствовали действительности. По одной версии, он заставлял ее отдаваться многим другим, желая поправить свое финансовое положение; по другой — она от него забеременела, но все единодушно утверждали, что девочка сошла с ума, потому что он довел ее.
Когда до Джоя постепенно дошло, какой облик он приобрел в городе, он испытал стыд и смущение. Скоро известия о его жизни, побегах с уроков, его лени, его зависимости от бабушки стали наслаиваться друг на друга, вызывая у него острое ощущение собственной никчемности. Он презирал даже мысль о том, что мог бы обратиться к кому-нибудь с просьбой о работе, а поскольку ничего не заставляло его искать ее, он продолжал избегать каких-то занятий. Заведение Салли Бак подверглось ограблению, и теперь она вообще не обращала на него внимания. Тем не менее его безделье, в котором он провел свое девятнадцатилетие, и вот уже ему шел двадцатый год, похоже, не очень волновало ее. Она продолжала снабжать его деньгами, одевать и содержать его и, как обычно, почти не обращала на него внимания. Время от времени он прибирал двор и мыл машину Салли, а как-то покрасил дом и сделал мелкий ремонт на крыше. Время от времени он вступал с кем-нибудь в чисто сексуальные отношения, неизменно испытывая смутное чувство стыда, переходящее в уверенность, что его используют как последнего дурака, и все же надеясь, что одна из таких встреч приведет к подлинному дружескому союзу с кем-нибудь. Типичный случай произошел с Бобби Десмондом. Давно расставшись со своей компанией, Бобби с неделю или около того настойчиво искал общества Джоя: пригласив его покататься на машине, он взял с собой полдюжины пива, с которой они и приехали к нему домой. Как выяснилось, этот молодой человек просто хотел испытать ощущения, чтобы Джой его попользовал, как он пользовал Анастасию Пратт тем вечером в кладовке «Уорлд-муви». Джой, как всегда, полный желания помочь, дал ему возможность приобрести тот опыт, которого Бобби хотел. Но три недели спустя, когда Бобби женился, Джой испытал разочарование, выяснив, что его не пригласили на свадьбу. Все они, и мужчины и женщины, которых привлекало его великолепное тело, были одинаковы: им не приходило в голову обратить внимание, что в нем, в этом теле, обитает Джой Бак.
Где бы он ни появлялся, он ухитрялся создавать о себе впечатление, как о пустом месте. Одинокое детство научило его, что любой день, каким бы он ни был, откроет перед ним лишь чахлую пустошь бытия, на которой негде будет остановиться глазу, и он вечно где-то витал в мыслях, не допуская даже намека на то, что завтра что-то может измениться к лучшему. Даже стараясь удовлетворить какую-нибудь даму и истово желая доставить ей удовольствие, которое могло бы обеспечить ее вечную признательность и преданность, — а именно об этом он и мечтал, когда впервые стал заниматься любовью, — его мысли забегали куда-то далеко вперед, стараясь представить себе будущую жизнь, которую он мог бы вести с ней.
Таким образом, плывя по течению, Джой достиг своего двадцатилетия, и в жизни его так пока и не случилось ничего, что могло бы заставить его обрести качества настоящего мужчины. Когда ему минуло двадцать три года, правительство призвало его в армию. Он опасался, что не справиться с возложенными на него обязанностями. Так и случилось. Но на первых порах ему удавалось избавиться от тревог, о чем он и писал письма Салли Бак.
«Дорогая Салли!
Похоже, что капралом стать мне так и не удастся — в Колумбусе не очень печет, да и вообще в армии не так уж и жарко, ха-ха — я получил тут водительские права — с новыми корочками вернусь в добрый старый Альбукерке — как у вас там идут дела, быстро или медленно — ну, а меня вечно клонит ко сну, и я делаю то, что мне нравится —
с любовью Джой.
П.С. они тут меня зовут ковбоем».
Это было верно: какой-то сержант при случае назвал его ковбоем и остальные тоже стали так к нему обращаться. Ему это понравилось, и даже ходить он стал по-иному: у него появилась привычка засовывать большие пальцы в задние карманы брюк, словно под тяжестью пояса с пистолетом у него спадали брюки.
В армии было на что сетовать, и Джой выяснил, что жалоб на армейскую жизнь у него не меньше, чем у остальных, так что наконец он научился принимать участие в разговорах. Ребята, собравшиеся вокруг большого стола в бараке, то и дело говорили «ну, дер-рьмо», и кое-кто обращался друг к другу со словами «парень». Один молодой солдатик, который утверждал, что он родом из Цинци, — черт его возьми, нате — во время разговора небрежно ронял ругательства уголком рта. Джою понравилась такая манера, и он взял ее на вооружение. Мало-помалу он становился личностью, обретая свой собственный стиль поведения.
В общем-то он не так плохо проводил время, и месяцы бежали для него быстрее, чем это можно было бы ожидать от армии.
В октябре, когда шел второй год его службы, Джой писал:
«Дорогая Салли!
Ну вот и осталось отслужить только 59 дней, а потом я буду проситься на сверхсрочную, ха-ха (ничего себе шуточка, а?) — смотри, не умри от смеха — а вчера была инспекция, потому что этим медноголовым нечего делать как только инспектировать — ну вот, и все новости — так что будь хорошей девочкой, и пусть у тебя всегда горит камин для твоего самого лучшего приятеля — ну и кроме того, ты единственная, по ком я чертовски скучаю, так что провалиться бы всем им — случайно проверку я проскочил нормально — ну вот, пока —
с любовью Джой».Это было его последним письмом к Салли, и он никогда и не узнал, что она не получила его. Потому что в далеком Альбукерке случилось нечто ужасное.
Его бабушка обрела нового ухажера, у которого было большое ранчо. Поскольку он был на несколько лет моложе Салли, эта разница в возрасте привела к необходимости невинной лжи. Например, она сказала ему, то, что было сущей правдой лет сорок пять назад: мол, она ездила верхом. Позже люди говорили, что мужик тот должен был бы понимать, что нельзя позволять Салли садиться в седло, ибо с первого взгляда можно было понять, что бедное маленькое создание хрупко, как стекло. Но в одно воскресное утро эта леди, которой минуло шестьдесят шесть лет, взгромоздилась на спину чалого жеребца и поскакала в пустыню со своим возлюбленным.
Тут и пришел конец четвертой блондинке в жизни Джоя Бака. Лошадь скинула ее, и пожилая леди разлетелась просто на куски.
Новость эта дошла до него как-то ближе к вечеру, когда он чистил грузовик в гараже. К нему подошел помощник капеллана и протянул ему телеграмму от женщины, которая работала в магазинчике Салли.
«ДОРОГОЙ ДЖОЙ ВАША ОБОЖАЕМАЯ БАБУШКА ПОГИБЛА УПАВ ЛОШАДИ БЛАГОСЛОВИ ВАС БОЖЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОХОРОНЫ ПЯТНИЦУ МАРЛИТА БРОНСОН».
Когда Джой перечел телеграмму несколько раз, солдатик из службы капеллана осведомился, все ли с ним в порядке. Похоже, что Джой просто не понял вопроса. Он подошел к заднему борту грузовика и остался там стоять. Через несколько минут другой солдат обнаружил Джоя лежащим на боку под грузовиком: его трясло с головы до ног, изжеванная телеграмма торчала у него во рту, а руки судорожно вцепились в горло.
Молодой помощник капеллана прямо не знал, что и делать.
— С тобой все в порядке, солдат? — спросил он. Ответа не последовало. Несколько позже, он снова осведомился:
— Почему бы тебе теперь не вылезти оттуда?
Но Джой не пошевелился. У него было дикое выражение глаз, и помощник капеллана забеспокоился. Побежав за помощью, он вернулся с двумя солдатами, которые выволокли Джоя из-под грузовика, и доктором, который сделал ему укол. Затем они оттащили его в больницу, где он провел в полудреме от лекарств несколько дней, и, конечно, не успел на похороны Салли.
Через три недели он вернулся к своим обязанностям. Когда срок его службы завершился, Джой попытался остаться на сверхсрочную. Но, похоже, армия не испытывала нужды в солдатах, которые подобным образом реагировали на смерть обыкновенной бабушки. Они рассчитались с ним и демобилизовали его. Он вернулся обратно в Альбукерке, плохо представляя себе, что тут его никто не ждет, — это стало ясно ему лишь по прибытии. Он остановился в гостинице и стал звонить приятельницам Салли. Бабушка не оставила завещания. Он выяснил, что где-то в Кур д'Аллен, Айдахо у нее обитала сестра, о которой она никогда не упоминала. Эта старуха даже не подозревала о существовании Джоя. Приехав сюда, она ликвидировала все имущество мертвой косметички — включая дом, в котором Джой Бак жил с семи лет, — и вернулась к себе обратно в Айдахо, ничем не дав о себе знать.
И теперь, когда ему минуло двадцать пять и он был полон по самую макушку печали и сожалений, Джой ощутил настоятельную потребность подумать над своим положением. Но ему было трудно держать в голове достаточно много разнообразных мыслей, да и пределы его воображения были серьезно ограничены. В этом не было ничего порочного, но он был не подготовлен к таким ситуациям и не знал, как вести себя при таком сложном положении дел.
Несколько дней он оставался в гостинице, проводя большую часть времени в своей комнате с задернутыми шторами. Дни и ночи беспорядочно сменяли друг друга, и порой он забывал даже поесть. Почти все время он спал, и ему снились кошмары. Во сне и наяву он томился по Салли Бак и порой звал ее. Однажды ему показалось, что она вошла в комнату, когда он спал, и села на край его постели. Он проснулся, и она в самом деле была тут, рассеяно перебирая пальцы, как она делала в жизни. Он видел ее в профиль. Сквозь распахнутое окно она глядела на ночное небо. Он сказал: «Салли, что же мне делать?» Но она не подала и виду, что слышит его. Потом она что-то вымолвила, но он не разобрал. То ли «Я хотела бы вернуть мой дом», то ли «Я не могу ездить верхом». Что бы там ни было, Джою помочь ее слова не могли. Он был рад хоть тому, что смог снова увидеть ее.
Как-то ночью ему приснился сон, который с тех пор стал часто повторяться, сон, в котором бесконечная вереница людей уходила куда-то за край земли. Затаившись в каком-то зябком, темном и молчаливом углу, он со своего наблюдательного пункта видел, как они скрывались на востоке за линией горизонта, связанные золотыми нитями света, которые соединяли их пупки; они двигались под бодрые маршевые звуки, и он провожал их глазами, пока все они не исчезали за горизонтом, куда опускалось солнце. Здесь были кто угодно — водители автобусов и нянечки, музыканты, солдаты и девочки из магазинчиков десятицентовых мелочей; здесь были китайцы и летчики, доходяги, толстяки и рыжеволосые женщины; тут можно было найти шахтеров и банковских клерков, миллионеров и детективов из универсамов, гуру, детей, бабушек и воров; стоило подумать о ком-либо в этой золотой цепи, и он был тут как тут — проститутки, карлики, святые, сумасшедшие, копы, учителя, репортеры, просто хорошенькие девушки, бухгалтеры, старьевщики и мясники. Тут было место для всех, кроме него. Он много раз делал попытку присоединиться к ним, ища какой-то разрыв в цепи, пусть и маленький, но достаточный, чтобы втиснуться, но, как только ему удавалось обнаружить его, ряды тут же смыкались и цепь обретала твердое единство, которое невозможно было нарушить, неизменно оставляя мечтателя в его темном, зябком и молчаливом укрытии.
После таких снов Джой не мог больше оставаться в комнате гостиницы. Одевшись, он выходил на ночные улицы Альбукерке, не переставая удивляться как знакомые места могут так для него измениться. «Может, ты и знаешь нас, — говорили ему городские строения, — но мы не знаем тебя». Он бродил по издавна знакомым местам и останавливался у дома Салли Бак. Дом был ныне необитаем, и в окнах стояла непроглядная тьма. Он подобрался с заднего двора и постучал в окно спальни Салли, смутно надеясь, что кто-то ему ответит.
Он ждал и ждал.
«Надо что-то делать, — наконец решил он. — Надо, черт возьми, сматываться отсюда куда-нибудь».
Вернувшись в отель, он сложил все свое имущество в сумку, удивляясь лишь тому, как мало у него скопилось вещей за все эти годы.
5
В Хьюстоне Джой надеялся найти особу по имени Натали, которую он знал и некоторым образом даже любил в армии. У Натали была какая-то длиннющая итальянская фамилия, и Джой провел больше часа на автобусной станции Хьюстона в тщетных попытках найти ее в телефонном справочнике. Прежде чем окончательно сдаться, он истратил больше доллара мелочью на телефонные звонки.
Затем он пошел прогуляться и как следует осмотреться в Хьюстоне. «Ну, дер-р-рьмо, — сказал он про себя, — тут не убавить, не прибавить. Сдается мне, что этот город вполне может обойтись без всяких Джоев Баков. Но с одним-то ему придется примириться, черт бы его побрал».
Он шатался по городу, пока не набрел на гостиницу. На ту самую, в названии которой отсутствовала букву «О» — дешевое запущенное заведение, в номерах которого вечно стоял затхлый воздух, а пол в ванной был залит водой.
Стоял холодный январский день. Он сидел на краю кровати, размышляя, что ему делать со своими проблемами, но очертания их виделись ему смутно. Он видел себя в будущем: все так же сидящим на краю кровати в гостинице, пытаясь привести мысли в порядок. Пройдет пятьдесят лет, его длинная белая борода будет мести по полу, а он все так же будет сидеть на том же месте, задаваясь вопросом, почему же мир повсюду так неуютно устроен, как а Альбукерке и почему он оказался выброшенным из него.
Единственное окно выходило в межстенный колодец, так что звуки улицы доносились до него словно бы издалека. Тишина эта, вселявшая неуверенность, ввергла его в какой-то ступор, который длился несколько часов. Позже, когда он вспоминал эти часы, они напоминали ему детство, когда телевизор выходил из строя. Время навалилось на него невыносимым грузом, под которым он не мог шевельнуться. Оно окружало его непроницаемой стеной, выбраться за которую было невозможно, — об этом даже помыслить было нельзя. Во время этих бесконечных тягучих часов в «г'' стинице» его била дрожь, которая не имела ничего общего с температурой снаружи, скорее, она напоминала дуновение смерти.
Он спасся от ступора, надолго завалившись спать, а когда проснулся, уже стояла ночь. Воспоминания об этих липких влажных часах были для него как прикосновение руки призрака к затылку.
Он оделся, причесал волосы гребешком и так стремительно выскочил на улицу, словно за ним гналось какое-то омерзительное существо в бородавках.
В нескольких кварталах отсюда были ярко освещенные улицы. Джой направился туда, чувствуя себя так, словно во сне он пытается вслепую включиться в золотую цепь, которую представляет собой жизнь. Когда он подошел поближе, тишина уступила место шуму уличного движения. Через несколько минут он остановился перед дверью «Солнечного сияния», из двери которого на улицу лилось яркое солнечное сияние.
Зайдя внутрь, Джой внезапно погрузился в атмосферу слепившего его света, реальность которого стала для него средоточием жизни в этой темной мертвой стране. Помещение было заполнено почти до отказа, и ему показалось, что он знает тут почти всех.
Здесь были парочки, компании и группы; вперемешку сидели молчаливые и болтуны; одинокие перемежались женщинами в компании мужчин, которых тут было большинство; они курили сигареты и опустошали чашку за чашкой кофе. Тут же сидело несколько путников и тех, кто закончил ночную работу или только направлялся на нее, и здесь же были неизменные бездельники, которых можно обнаружить в любом месте земного шара, но особая порода которых выведена только в США.
С первого взгляда казалось, что они убивали время все вместе, так как часто занимали один столик или располагались группкой рядом со счетчиком на уличной стоянке; скорее всего, они не имели отношения друг к другу, как прерии, реки и города тех мест, откуда они все были родом. В глазах их и в поведении виднелась бесконечная неизбывная печаль; казалось, что они страдают из-за того, что свирепая судьба лишила их таких ценностей, что они даже не в силах назвать свою потерю.
Джой несколько секунд постоял в дверях, обшаривая взглядом лица в поисках знакомого. Найди он такого, он мог бы подойти к нему и сказать: «Ну, дер-р-рьмо, мужик, какого черта ты пропал?» В крайнем случае, он мог бы рискнуть подойти с такой фразой к незнакомцу, но для этого требовались хорошие нервы. У стойки он заказал кофе с гамбургером и во время ожидания заказа увидел лицо, которое так жаждал найти. Оно смотрело на него из зеркальной облицовки колонны, которая стояла посреди стойки. Ну, мужики, про себя негромко сказал он, восхищенно глядя на это симпатичное темноглазое лицо с аккуратной прической, которое отвечало ему мягкой сдержанной улыбкой, полной тепла и непосредственности. «Какого черта ты пропадал? — Кто, я? — ответил он, — да я вообще не знаю, где я был! Но я вернулся». — И он и отражение в зеркале — оба разразились смехом.
Джой приспособился проводить ночи в этом симпатичном месте.
Как-то ночью у него завязался разговор со сборщиком посуды, изящным симпатичным мексиканцем.
— Ну, мне кранты, приятель, — сказал Джой, которого уже начинало беспокоить состояние его финансов. — Словом, почти сел на мель. Они тебе подкидывают деньжат, когда ты собираешь грязные тарелки?
— Тут не разбогатеешь, — пожал мальчик плечами. — Доллар за каждый час.
— Ага, но ты же тут, черт возьми, можешь жрать. Точно? — В голову Джоя пришла молниеносная идея. — Разве не так? Неужели они не дадут тебе тут пожрать?
На следующий день он уже вышел на работу в «Солнечном сиянии». Его поставили во вторую смену, которая кончалась около полуночи. Джою так тут нравилось, что даже когда кончалась его смена, он оставался еще; ему полагался полновесный обед, после которого он неторопливо покуривал за чашкой кофе, проводя так большую часть ночи.
На вторую ночь мексиканец остановился у его столика, смерил его живыми черными глазами и сказал:
— А сначала я подумал, что ты из этих… из гостинщиков.
— Неужто? Да нет, черт побери, нет же.
В следующий раз, когда мальчик проходил мимо его столика, Джой сказал:
— Эй, а что это такое?
— Чего?
— Ну, та штука, о которой ты подумал.
— А о какой штуке я подумал?
— То, что ты говорил раньше, помнишь?
Мальчик нахмурился.
— Я извиняюсь за мой английский, — сказал он, отходя с полным подносом. В следующем рейсе он остановился и сказал: — Так что я был уверен, что ты гостинщик.
— Что? — спросил Джой. — Что это такое?
— Гостинщик? — мексиканец сначала скептически посмотрел на Джоя, но затем что-то убедило его в полной невинности собеседника. — Гостинщик делает вот так: пст-пст-пст, — сказал он, потирая большой и указательный палец жестом, обозначающим деньги. — Понимаешь?
До Джоя стал смутно доходить образ, но он никак не мог его сопоставить с чем-то.
— Фу! — сказал мальчик. — Все ты понимаешь! — И взмахнув завязками передника, подлетел к соседнему столику, за которым собралась группа его приятелей.
Джой наблюдал за ними с большим интересом: пятеро молодых ребят. Четверо из них относились к часто встречающемуся типу: большую часть времени непрерывно хохочут, болтают больше, чем обычно, и обильно жестикулируют. Одеты они были с показной мальчишеской небрежностью, а их глаза шныряли по залу, словно птицы, которые никак не могут определиться, где бы им присесть.
Пятый явно выделялся из них. Он не смеялся, не болтал и не жестикулировал; внешний вид, казалось, его тоже не интересовал — на нем были старые джинсы «Леви», выцветшая защитная рубашка, грязные белые сникеры. Волосы его, песочного цвета, беспорядочно свисали прядями, и почти все время он отсутствующим взглядом смотрел в одну точку. Он с удовольствием прислушивался к разговорам, но не участвовал в них, и эта замкнутость каким-то образом возвышала его над всеми остальными. Ясно было видно, что он просто убивал тут время и не испытывал нужды ни в ком из присутствующих.
Мексиканец остановился у их столика, сказал что-то и поспешил на кухню. Четверо обернулись посмотреть на Джоя, но пятый даже не пошевелился. Вместо этого он встал, подошел к стойке, с которой взял чашку свежего кофе и направился прямиком к столику Джоя.
— Можно присесть?
Джой смутился и был польщен.
— О, черт, да, конечно. — Вскочив, он стал без нужды двигать стулья, застигнутый врасплох ролью хозяина. Гость протянул руку и сказал:
— Перри.
— Ч-ч-что это?
— Перри — так меня зовут. П-е-р-р-и.
— Ах да, ну, да. — Он схватил руку молодого человека и потряс ее. — Джой Бак, — сказал он. — Хотите закурить? — Они закурили, и Джой увидел, что Перри внимательно смотрит на него. Глаза у него были внимательные и насмешливые, как бы тронутые печатью смерти: если бы молодого человека в силу какой-то глупой дурацкой оплошности постигла преждевременная смерть, наверно, такими глазами он бы наблюдал за собственными похоронами.
Не зная, как вести себя под этим взглядом, Джой засмеялся и пожал плечами, стараясь выкрутиться из этой ситуации. Перри еле заметно улыбнулся и вообще отвел от него глаза. Он небрежно откинулся на спинку стула, вытянув ноги и изображая полную расслабленность. Через большую витрину кафе была видна улица, и он внимательно изучал движение по ней. Хотя наблюдать было особенно не за чем: время от времени лишь мелькали пешеходы и проносились такси.
Джой не мог отделаться от ощущения, что ему здорово повезло. В первый раз после армии он сидит за столиком с другим человеком. Он томился от желания продлить знакомство, но не знал, чего от него ждут. В голове у него крутилось множество вариантов, как он мог бы начать разговор, но, если Перри присоединился к нему лишь для того, чтобы разделить с ним молчание, Джой не хотел нарушать его своими разговорами.
Почти сразу же он стал испытывать глубокое и загадочное восхищение перед этим незнакомцем по имени Перри. Если бы перед ним появился какой-нибудь волшебник с предложением поменяться ему своим обликом с этим парнем в джинсах с песочными волосами, он бы без всяких рассуждений воспользовался этой возможностью. Хотя никоим образом не мог бы объяснить свое намерение.
Так всегда: люди, подобные Перри, пользуются особыми привилегиями. Стоит им зайти куда-нибудь — и тут же все к их услугам. Часто они отличаются внешностью, но дело не в этом. Суть в том, что на них лежит печать рока и они несут свою обреченность с мрачной грацией, столь странной в молодом человеке.
Испытывая восторг и застенчивость, Джой сидел рядом с этим молодым человеком. Через несколько минут пестрая компания Перри поднялась и двинулась к дверям. Высокий рыжий парень, который вроде был у них за главного, провел их мимо столика, за которым сидели Перри и Джой.
— Спокойной ночи, дорогой, — сказал он, не замедляя шага. Второй и третий захихикали, а четвертый, коротышка с двойным подбородком, кинул:
— Желаю удачи. — Джой наблюдал, как они выходили из заведения. Но Перри не обратил на них внимания. Повернувшись к Джою, он кинул на него беглый равнодушный взгляд, а затем опять уставился в окно.
Так этой ночью началась их загадочная молчаливая дружба, которая длилась несколько недель. Каждый вечер, когда Джой, окончив работу, садился за ужин, бог знает откуда появлялся Перри и безмолвно располагался рядом с ним.
В первое время они обменивались минимумом необходимых слов, связанных лишь с необходимостью разлить кофе или передать сахар, но, по мере того как шла ночь за ночью, в словах вообще отпала необходимость. Они на пару смотрели через витрину или порой замечали какой-нибудь интересный столик; временами на секунду-другую их взгляды скрещивались, но большей частью они всю ночь просто сидели рядом в «Сиянии», ничем не проявляя свою связь. Они вместе проводили время, у них было общее место, и кому было до этого дело?
Не имело смысла интересоваться, когда Перри уйдет или куда он направляется. Посидев за столиком иногда минут десять, а порой и несколько часов, он мог просто подняться и, кивнув (а то и забыв это сделать), выходил сквозь вращающуюся дверь и исчезал из виду за окном.
Джой постепенно привык к мысли, что Перри — обладатель каких-то значительных тайн, и ему крупно повезет, если как-нибудь Перри поделится ими. Секреты эти имели отношение к другим сторонам жизни Перри, из которой он появлялся по ночам и исчезал с рассветом. Порой Джою хотелось принять участие в его загадочном существовании, чтобы он мог выйти вместе с Перри в мир тайн, что существовал за вращающейся дверью кафе, и Джой стал по-другому воспринимать темное время суток. Все изменилось — и пустота его собственного существования, и бесконечные часы во сне в «г'' стинице», и бессмысленные смены, наполненные грохотом посуды в мойке. Небрежная грация Перри заставляла Джоя подражать ему; и какой-нибудь его простой жест мог стать началом новой жизни Джоя, и он ждал, когда ожидание ночных кофепитий за их молчаливым столиком в шумной атмосфере кафе претворится в начало новой жизни или же исчезнет совсем.
Джой смутно представлял себе предмет размышлений; он даже не воспринимал его в виде оформленных мыслей. Перри был для него человеком с предначертанной судьбой, от которой было ему не уйти: она была у него в крови. Перри был гостем, но Джой, сам о том не догадываясь, воспринимал его как хозяина, гостям которого позволено разделить его хорошее настроение.
Как-то ночью Перри неожиданно повернулся к Джою и сказал:
— Как у тебя дела? — Но на самом деле это был не вопрос. Он просто смотрел на Джоя, не сводя глаз.
Джой покачал головой.
— Черт возьми, старик, я и сам не знаю. — Но на самом деле он хотел сказать: — Я просто сижу и жду — вот и все, что мне известно.
В другую ночь, ничем не отличающуюся от предыдущей, он совершенно неожиданно сказал:
— Хочешь номер отколоть? — Это было больше, чем просто вопрос, и Джой не нашелся, что ответить.
— Отколоть номер, — повторил он, уходя от ответа, — это было бы здорово в самом деле, черт возьми. — Он не имел представления, о чем идет речь.
Эти несколько раз, когда Перри обращался к нему, голос у него был глубоким и низким, как шепот, которым может говорить заживо погребенный.
Как-то утром, когда уже близился рассвет, он сказал:
— На тебя можно рассчитывать, Джой? — а затем встал из-за стола и ушел, давая понять, что ответа он и не ждал.
Затем в одну из следующих ночей он уставился на Джоя пристальным взглядом, напоминавшим ему об их первой встрече.
Джой занервничал. Пора. Что-то должно случиться. Он тщетно пытался понять, что его ждет. Он пыхал сигаретой, стараясь затянуться. Он хмыкал, издавал смешки, понимающе качал головой и барабанил пальцами по столу. И вдруг почти непроизвольно он прекратил всю эту натужную активность и обмяк на стуле, просто глядя на человека напротив себя. Его взгляд явно взывал о помощи, но он не мог представить себе, чтобы его послание дошло до адресата.
Перри еле заметно кивнул. В глазах его было сочувствие. Затем оно сменилось явной иронией. И внезапно все его действия и поступки обрели загадочность, которая не имела ничего общего с прежней его обреченностью. Он еще раз посмотрел на улицу.
И словно все свершалось по заранее разработанному плану, в эту же секунду повернулась вращающаяся дверь. И к их столику подошел невысокий человечек в зеленом галстуке и спортивной куртке из коричневого твида.
6
Он был довольно молод, лет примерно тридцать, но совершенно лыс; у него был высокий голый лоб и пронзительные бусинки глаз, увеличенные толстыми линзами очков. Он был похож на молодого «сумасшедшего ученого» из немых фильмов.
Он остановился у столика, за которым сидели двое молодых людей.
— Перри, — сказал он.
Перри не обратил никакого внимания на звук своего имени.
— Прошу тебя, Перри, ты же знаешь, сколько раз я допоздна искал тебя. — Голос его обволакивал мягкой карамельной сладостью.
Длинный столбик пепла упал Перри на брюки. Он смахнул его и продолжал курить.
— Я сказал: прошу тебя, Перри. — Ответа не последовало. — Я просто хотел узнать у тебя, знаешь ли ты, сколько сейчас времени, вот и все.
Теперь он стал действовать по-другому: подтащил стул от соседнего столика, поставил его так, чтобы сидеть лицом к Перри, и, сложив руки на коленях, расположился с видом, дающим понять, что он пересидит любое живое существо.
После долгой паузы Перри спросил у Джоя:
— Хочешь еще кофе?
Прежде чем Джой успел ответить, Перри повернулся к третьему у них за столиком и, не глядя на него, сказал:
— Марвин.
Тот не прервал своей игры в гляделки.
— Да, Перри.
— Марвин, две чашки кофе.
Ученый из фильма наклонился вперед, умоляюще склонив голову. Все его поведение показывало, что он подчиняется без большой охоты.
— Ох, Перри, — сказал он.
— Один черный, Марвин, а один со сливками.
У Марвина, который плотно сжал губы и поднял тонкие черные брови, был вид жестоко обманутого человека. Вздохнув, он пошел к стойке.
Джой улыбнулся и сказал:
— Эй, Перри, держу пари, что этот парень твой брат, верно?
— Ошибаешься.
Вернувшись с кофе, Марвин поставил обе чашки перед Перри. В силу каких-то деталей ситуации он, казалось, не замечал присутствия Джоя за столиком.
— Обслужи моего друга, Марвин, — сказал Перри. Марвин послал одну чашку через столик к Джою.
— Спасибо, — сказал Джой. — Большое спасибо. — Лысый череп вызывал у него улыбку, и, борясь с абсурдным желанием нарисовать на нем картинку, он надвинул на него воображаемую шляпу.
Молча вернувшись на свое место, Марвин принял прежний бесстрастный вид.
— Мой друг поблагодарил тебя, Марвин.
— Мы ему рады, Перри. Добро пожаловать, сэр. — Голос Перри не изменился, и его мягкий тембр опьянял.
— Его зовут Джой, Марвин.
— Очень приятно, Джой. Прошло несколько минут. Перри сказал:
— Марвин.
— Да, Перри.
Перри положил перед собой руки, по-прежнему не глядя на этого человека. В глазах его появилось выражение высокой сосредоточенности, с которой отпускают грехи, и он не хотел отвлекаться на ерунду.
— Дай-ка мне взглянуть на твой бумажник, Марвин.
— О, Перри, прошу тебя.
Перри по-прежнему держал вытянутые руки перед собой.
— Я, конечно, имею в виду, что хочу увидеть его немедленно, Марвин. Каждый раз я имею в виду именно это, если не следует уточнения.
Марвин вложил свой бумажник в руку Перри.
— Честное слово, — сказал он.
Перри сосчитал деньги. Там были четыре бумажки по одному доллару.
— Сколько у тебя в кармане, Марвин?
— В каком? — сказал Марвин, быстро отдергивая руку от бокового кармана твидового пиджака.
— Вот в этом, — сказал Перри, не тыкая пальцем и даже не глядя в сторону Марвина.
Марвину осталось только протянуть ему небольшую пачку купюр, которые Перри взял, даже не пересчитывая.
— Сколько здесь? — спросил он.
— Тс-с-с, — сказал Марвин. — Семьдесят. — Он вздохнул.
— Тогда можешь воспользоваться моей долей, Марвин. — Перри вернул ему бумажник. — А я возьму твою. — Он сунул доллары в карман.
— А теперь я хотел бы получить ключ от машины, Марвин.
— Нет! Я категорически отказываюсь! Пожалуйста, Перри.
— Прости, Марвин. Я не расслышал. Что ты говоришь? Ты что-то сказал только что. Повтори.
— Как мне добираться до дома?
— В чем дело, Марвин? Неужели ты скончаешься, если пойдешь ножками?
— Перри, ну зачем ты все это делаешь? Только, чтобы произвести впечатление на своего приятеля? Я уверен, что ты своего и так добился.
— Я собирался, — сказал Перри, — заглянуть к тебе домой завтра днем. Но ты так отвратительно ведешь себя, Марвин, что мне придется пересмотреть свои планы.
— Во сколько? — спросил Марвин. — Пораньше или попозже? Но завтра?
— Ключи от машины, Марвин.
— Да, дам я их тебе, дам. Но скажи, в какое время…
— Ты хочешь поторговаться, Марвин?
— Ох!
— Не скули. Ты скулишь, Марвин. Улыбнувшись, Марвин попытался выдавить из себя какое-то подобие смеха, но лишь несколько раз нервно повел бровями и со всхлипом втянул в себя воздух.
К тому времени Джой ясно представлял себе, что бы он нарисовал на лбу Марвина, будь у него такая возможность: девочку с длинными наклеенными ресницами.
Марвин вынул из кармана ключи от машины и положил их на стол перед Перри.
— Вот, забирай. Итак, в пять часов?
— Спасибо, Марвин, — и за машину и вообще за твою любезность. Порой я забываю выразить тебе свою признательность, но не сомневайся, что она идет от сердца. — Перри встал из-за столика. — Идем, Джой.
Джой медленно поднялся, смущенный сценой, свидетелем которой ему довелось стать. Ему казалось, что если бы он мог заглянуть Марвину в глаза, все встало бы на свои места. Но очки были частью его лица, слившись с плотью, и избавиться от них не было никакой возможности.
Поднявшись, Марвин схватил Перри за руку. Перри, стоя спиной к Марвину остановился как вкопанный, держа руку, за которую тот ухватился, на отлете от тела.
— Убери руку, Марвин. И сядь на место. — Приказ был немедленно исполнен.
— Так в какое время? — продолжал настаивать Марвин. — В пять? Или после? Или что?
Наконец Перри всем телом повернулся к маленькому человечку и одарил его долгим рассеянным взглядом: в нем светилось презрение, которое сменилось мягкостью и спокойствием.
— Завтра днем, — сказал он. — А теперь я хочу, чтобы ты спокойно сидел на месте, пока я не исчезну. Ты понимаешь, что я от тебя хочу?
Марвин вздохнул.
— Хорошо, Перри.
Перри не отводил от него глаз, подавляя всякую попытку возражений, пока Марвин не повторил то, что ему было сказано.
— Хорошо, Перри. Спасибо! — выдохнул он на всякий случай.
Перри миновал вращающуюся дверь, и Джой следовал за ним по пятам. Когда они проходили мимо витрины, Джой глянул на маленького ученого из кино. Как странно было видеть его, сидящим в безмолвной покорности; и толстые стекла его очков, в которых отражались огни кафе, были повернуты под таким углом, что напоминали два мощных прожектора, провожающих Перри.
7
Они оказались на стоянке. Перри облокотился на капот белого «МГ», и Джой, растерянно улыбаясь, стоял перед ним, засунув большие пальцы в карманы и ломая себе голову над тем, что происходит. Ночь стояла холодная и ясная, а небо было усыпано яркими звездами, которых было больше, чем обычно. Джой засмеялся. Перри улыбнулся и, посмотрев на него, покачал головой, словно имел дело с малым ребенком.
— Джой, — сказал он. Имя его он произносил редко и осторожно, словно догадываясь, что для владельца оно было самым сокровенным словом, которое касалось не только его слуха, но и доходило до самого сердца. — Над чем ты смеешься, Джой?
По-прежнему улыбаясь, Джой покачал головой.
— Чтоб я знал. — Он продолжал смеяться, стараясь делать вид, что все понимает, и все же догадываясь, что выглядит сущим дураком.
— Тебе бы остыть, Джой и успокоиться. Как ты на это смотришь?
— Ну да, черт возьми, именно это мне и надо.
— Ведь ты не понимаешь, о чем я говорю, не так ли, Джой?
— Да нет, ясно, мне надо настроиться, то есть… Нет, не то, в общем-то я в самом деле не понимаю. — Он попробовал хмыкнуть, но у него ничего не получилось.
— Да, ты в самом деле не понимаешь, Джой. Ты многого не понимаешь. Но в этом и заключается твое достоинство. В противном случае ты ничего бы не мог усвоить. А ведь ты хочешь что-то понять, не так ли?
— Да, конечно, Перри, спорю, что хочу.
— В таком случае разве плохо, что ты ничего не понимаешь?
Джой насупился, опасаясь насмешки.
— Ты мне веришь, Джой?
Джой отчаянно кивнул. Этим жестом он хотел выразить все свое уважение и привязанность, которые питал к Перри и к которым относился со всей серьезностью. И затем он услышал собственное бормотанье:
— Конечно, Господи, да, конечно, доверяю. Но, честно говоря, я совершенно новый человек тут в городе и, м-м-м… — он хотел уточнить, как важна для него эта новая дружба, но у ничего не получилось. — Я только что приехал сюда, я тут чужой и приехал из… — Нет, эти слова не имели ничего общего с тем, что он хотел сказать.
— Ты совершенно не обязан говорить мне, откуда ты приехал, Джой. Ты здесь — вот и все. Не так ли?
— Я… что? Здесь? Ну да, господи. — Нет, это был явно не тот разговор, к которому он привык в армии. Там спокойно можно было просто заржать и состроить рожу, когда ты терял нить разговора и никто не обращал на это внимания. Но с Перри все было по-другому: тот жестко тянул свою тему.
— Я могу помочь тебе, но хотел бы, чтобы ты расслабился и доверился мне. Слушай, у тебя где-нибудь тут поблизости есть комната?
— Комната? Ага, у меня есть номер в гостинице.
— Тогда двинулись туда. Где это?
— В той, где упала буква «О».
— Где это? То есть, можно дойти или нам надо ехать?
— Ну, в общем-то мы можем и…
— Как далеко она отсюда, Джой?
— Примерно в паре кварталов.
— Двинулись.
Они оставили «МГ» на другой стороне улицы, миновали портье, сидящего в своей стеклянной конторке, и поднялись по лестнице в комнату Джоя.
— Чувствуй себя, как дома, Джой. Это же твоя комната, не так ли? И рядом с тобой друг, так что расслабься.
Джой присел на стул с высокой прямой спинкой.
— Если тут будет радио, все пойдет по-другому.
— Это точно. Хуже некуда, если у тебя его нет.
Джой сказал:
— Неплохо было бы обзавестись транзистором. Ты разбираешься в них и все такое?
— Да, разбираюсь.
— Ну, я в общем-то уже собираю деньги на него.
— И когда ты начал?
— Вчера. — Прошло несколько минут, и Джой сказал: — Вот что бы мне хотелось — мне бы хотелось, чтобы тут был настоящий мощный приемник, а не блестящая побрякушка. — Он оглядел свое обиталище, быстро скользнув взглядом по мрачным стенам. — Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Конечно, — сказал Перри. — Ты хочешь иметь мощный приемник. А не блестящую побрякушку.
Перри сунул в рот тонкую самокрутку и закурил. С хрипом затянувшись несколько раз, он задержал дыхание и протянул ее Джою. Тот попытался подражать Перри, но по неопытности сразу выпустил дым.
— Ты не знаешь, как это надо, Джой. Учись у меня, и тебе все станет ясно. Вот, — он помахал самокруткой у него под носом. — Это не табак, Джой, это специальная сигарета, в которой сухие листья и цветки растения Каннабис сатива. И его можно сравнить с настоящим мощным приемником, на который ты вчера стал собирать деньги. Хотя это не совсем так. Приемники — это мы с тобой, а Каннабис сатива — это как бы, м-м-м… мощный передатчик…
Замолчав, он снова затянулся, до предела наполнив легкие и жестами дав понять Джою, что тому надлежит делать. На пару они прикончили самокрутку, а потом посидели в молчании несколько минут, прежде чем принялись за другую. Джой встал, чтобы открыть окно. Перри сказал, чтобы он этого не делал. Тут Джой почувствовал, что испытывает огромную радость от каждого своего движения и не в силах сдержать улыбки из-за этого.
— Эта штука годится, — сказал он. — Теперь я верю, что она в самом деле помогает.
Перри собрал оставшиеся окурки, растер их в пыль, выбросил в раковину и смыл водой.
— Это тебе не табак, Джой, и все окурки Каннабис сативы надо уничтожать до последнего. Вот так.
— Эй! — внезапно сказал Джой. — Да это же марихуана! В сигарете была марихуана!
— Точно, Джой.
— Черт побери! — с восхищением сказал Джой. — То-то у меня крыша поехала! Ну, ты и хитрый черт, Перри. — Он прошелся по комнате, чувствуя, как обострились все его чувства, как легко он движется, как остро обоняет и ощущает, с каким удовольствием просто живет на свете, но возбуждение стало стихать, и он смутился больше, чем обычно.
Перри лежал на кровати. Он долго искал самое удобное положение и когда наконец вытянулся, скрестив лодыжки и положив руки под голову, то спросил:
— Тебе тут удобно, Джой?
— Отлично, — ответил Джой. Но вдруг он почувствовал, что на самом деле все не так. Что-то случилось, хотя он не мог ткнуть пальцем — вот оно! — но в комнате словно бы возникла какая-то безымянная опасность, которая беззвучно проникла в нее, скользнув под дверь и просочившись через щели окна, и он был не в силах остановить ее или просто описать.
— Ты чего-нибудь хочешь, Джой?
— О, нет, нет, я прекрасно себя чувствую.
— Нет, это не так, Джой. Тебе плохо.
— А?
— Ты нуждаешься в помощи.
— Да?
— Конечно. И я при помощи Каннабис сатива здесь именно с этой целью: помочь тебе понять, что ты хочешь, и показать тебе, как этого можно достичь.
Джою показалось, что его сердце наполнилось воздухом и готово вырваться из груди; оно горело и жгло, и он почувствовав опасность, прижал ладонь к груди. Но это не помогло. Он взял коробочку спичек и начал возиться с ними, стараясь справиться с охватившим его волнением. Для него было облегчением чувствовать реальную осязаемость спичек; он крутил их, ломал, складывал в коробку и снова вынимал оттуда. Перри продолжал говорить:
— Ты не знаешь, что тебе делать, — и не только сегодня вечером. Ты воспринимаешь свою жизнь как тяжкую ношу. Поэтому ты постоянно мрачен, Джой. Поэтому ты и возишься с ерундой. — Он многозначительно кивнул на коробку спичек. — А ты должен знать, как спалить дотла этот мир. Но ты лишь без толку слоняешься и впустую прожигаешь время. Ты должен быть совершенно спокоен. Пойми, что тебе надо, и отбрось все остальное, а затем обрести предельное спокойствие. Итак: что ты должен сделать?
— Понять, что мне надо?
— Верно. А затем?
— М-м-м…
— И отбросить… — подсказал Перри.
— И отбросить все остальное.
— Правильно. А теперь все снова.
— Понять, что мне надо, и отбросить все остальное.
— Ты начинаешь соображать, Джой. Это урок номер один. А теперь первое упражнение: эта комната. Что бы ты хотел в ней увидеть? Просто назови — неважно, что, а я прикину, как ты можешь это раздобыть.
Джой начал обводить комнату глазами, и Перри сказал:
— Посмотри на меня. Может быть, это тебе поможет, Джой. Вот так. И теперь я снова спрашиваю тебя: есть тут вообще что-нибудь, что тебе было бы надо?
Джой уставился Перри в лицо, стараясь прочесть на нем подсказку. Но он ничего не увидел в нем.
— Видишь ли, Джой, есть пара сот человек, которые заплатили бы изрядные деньги, чтобы оказаться в твоем положении: сидеть рядом со мной в комнате и слушать, как я спрашиваю, чего бы им хотелось.
У Джоя кружилась голова от умственных усилий, которые он испытывал. Прошло еще несколько томительных минут. Внезапно Перри сорвался с кровати, оказавшись рядом с Джоем. Движение его было столь стремительным, словно его подбросили. Тишина комнаты и покой, овладевший Джоем, внезапно исчезли, и вот уже странный этот молодой человек сграбастал его за отвороты рубашки, заставляя смотреть прямо в глаза.
Он удивился, не увидев в них ни гнева, ни ярости, которые сказывались в его движениях. Просто Перри внимательно и спокойно смотрел Джою в лицо, и после долгого молчания, сказал:
— Если мы собираемся быть друзьями, Джой, запомни одно правило…
Джою казалось, что он наяву видит и слышит чудо: этот человек, обаятельный и прекрасный, мудрый и властный, предлагает свою дружбу, свою силу, свою проницательность такому ничтожному существу, как он, Джою Баку. Без сомнения, Перри ошибся в выборе, остановив свое внимание на Джое Баке. Стоит ему понять свою ошибку, как придет конец всему. Тем временем Джой застыл от ужаса, что сейчас он сделает неверный жест или что-нибудь брякнет несообразное, после чего Перри тут же исчезнет. Он попытался придумать, как ему избежать этой грядущей ошибки. Ему надо не двигаться и почти ничего не говорить, что поможет протянуть время. Но он знал, что у него ничего не получится. Перри был слишком мудр, он так четко все понимал, что одурачить его было невозможно.
— …а правило такое — без всяких номеров. Номеров быть не должно. Никаких. Я сыт по горло людьми, которые знают, что им надо и не могут дотянуться до этого, не могут даже выдавить, как это называется. Когда я говорю тебе: «Что ты хочешь, Джой», ты отвечай. Просто говори о любой вещи, которую ты хочешь. Понял меня?
— Ага. Ясно, я так и сделаю, Перри, так и сделаю.
— Отлично. — На лице Перри неторопливо расплылась улыбка, и, отпустив отвороты рубашки Джоя, он сел на край кровати, взглядом установив между собой и Джоем непреодолимое расстояние в несколько футов. Когда глаза их встретились, он сказал: — Так говори. Назови то, что ты хочешь иметь.
Тупой идиот, окрестил себя Джой, да говори же что-нибудь, говори, неужто ты не можешь разговаривать? Ты так глуп, что даже не знаешь, что тебе хочется? Говори что-нибудь, говори же — и тогда все начнется.
— Я, м-м-м, я думаю, что хотел бы, м-м-м… — он нахмурился и прижал подбородок к груди, словно то, что ему было нужно, хранилось где-то в желудке и усилием воли он мог извергнуть это из себя.
— Просто скажи, — подбодрил его Перри. — Что бы там ни было.
— Безнадежно. Со мной не стоит терять время. — О, Господи, подумал он, истина в том, что я паршивый сукин сын. Он поднял плечи, страстно желая, чтобы голова у него провалилась в грудную клетку.
Когда он открыл глаза, то почти был уверен, что увидит Перри, направляющегося к дверям. Вместо этого тот смотрел на него столь же мягко, как раньше, и даже еще более настойчиво.
— Почему? Скажи мне, почему ты считаешь, что с тобой не стоит терять времени, Джой?
— Я кусок дерьма, Перри, и могу сказать тебе, что я просто идиот. Вот такой я и есть. Я тупой сукин сын. Ничего не понимаю, дер-р-рьмо! Не могу ни говорить толком, ни думать, как полагается. — Он засмеялся, но лицо у него было серьезным. Во всем этом он не видел ничего смешного. Ибо между ними стояло нечто омерзительное, уродливое и непростительное, и он заслуживал того, чтобы на него просто плюнули; и смехом своим он лишь старался ускорить развязку. Но у него ничего не получилось. Чем натужнее он смеялся, тем хуже ему становилось.
Внезапно он увидел перед глазами восхитительную картинку: могилу Салли Бак, с белоснежным и девственно чистым камнем, который только и ждал надписи на своей поверхности. Появившийся в воображении цветной карандашик быстро чиркнул по камню, изобразив его самого, Джоя, в карикатурном виде, и ему стало как-то легче: картинка обрела завершенность. Теперь он снова мог смотреть на Перри.
— Мне кажется, — с удивлением услышал он собственный голос, — что меня ждет все то же самое: я буду мыть им тарелки, а они будут все таскать их мне, и я буду опять мыть их, и потом…
— И потом…
— И потом я приду сюда и завалюсь спать, и снова буду мыть тарелки за тарелками, а потом я буду, м-м-м…
— Что ты будешь?
— Я буду, м-м-м… — Он простер руки перед собой и, разведя их, потряс в воздухе, давая понять, что слова носятся по комнате.
— Так скажи, Джой.
— Умру.
Ох! Ну, дерьмо! Что тут болтается в воздухе? Поймать и прикончить.
Он пытался выдавить из себя еще один хриплый смешок. Нет, ничего не получается. Ничего. Он не может справиться с ощущением чего-то большого и омерзительного, заткнувшего ему рот.
В воображении он увидел лопату и сунул ее в руки какого-то странного туманного существа, и существо это пустило лопату в ход, став копать могилу рядом с Салли. И вот уже рядом со свежей могилой стоит гроб, в котором находится прекрасное юное создание: он сам. Ох, черт возьми, подумал он, куда меня несет? Неужто таким молодым мне придется ложиться в гроб, и мрачная тьма покроет мою юность и мою красоту? Невыразимая печаль охватила его, и внезапно он захлебнулся в рыданиях, корчась на полу этой г'' стиницы, и видя перед глазами грязные сникеры незнакомца. Ему было жутко нужно, чтобы этот человек покинул комнату, и он выдавил «Уйди», но это было все, что он мог сказать, ибо какое-то странное ощущение наполнило все его легкие и заполнило все полости тела, куда мог попасть воздух при вдохе; оно вторглось и в печень, и в сердце, и повсюду, терзая его, словно полдюжины ножей. Он видел перед собой лишь грязные сникеры. Что они хотят? Что им от меня надо? Что этот сукин сын хочет от меня? — снова и снова спрашивал он себя. Разве он не понимает, что я, что я, что я…
Этот незнакомец взял его за плечи и с силой опрокинул на спину, после чего Джой присел, опираясь на его руку. Этих действий хватило, чтобы избавиться от терзавшего его ощущения огромного страха, и вырвавшийся стон успокоил его: так стонать могут только живые люди. Лицо у него было мокрым. Наверное, он плакал, но не стыдился своих слез. — Все дело в марихуане, он тут ни причем.
Он посмотрел на Перри, стоявшим над ним, с широко расставленными ногами, лицо его почти вплотную склонилось к нему. Он услышал его теплый, низкий, дружелюбный голос, идущий из темных глубин наркотического опьянения.
— Ручаюсь, что теперь тебе чуток лучше, Джой, не так ли?
Готов. Его просто распластало это тепло, мудрость, спокойствие. Хорош. Ну наконец-то! И что теперь?
— А теперь, — сказал Перри, — тебе надо только дать мне знать, намекнуть, чего бы тебе хотелось. Иными словами, как я могу тебе это дать?
Что это за птичка, свившая гнездо у меня в груди? Он что — Бог? Он что — Санта-Клаус? Он что — волшебник? Он даст мне то, что я хочу? Он с ума сошел? Он уже спрашивал меня и спрашивает снова. Ну, так я скажу ему, я ему все выложу. Скажу ему, что мне нужна блондинка, которую я могу трахнуть, а потом чтобы она заботилась обо мне всю жизнь — блондинка с длинными ресницами и пухлыми коленками с ямочками, в желтом платье, под которым у нее должны быть все округлости, и настоящие, а не как из вспененной резины, как у бедной старой Салли, и чтобы она сидела дома, и приносила мне еду к телевизору, и чтобы когда сидела на мне верхом, говорила: «Ах мой ковбой, я так люблю тебя» и плакала из-за того, что так любит меня. «Пст-пст, — говорил бы я ей, — в жизни не видел, чтобы меня так любили, как только у тебя это получается?» А потом бы она говорила, и голос у нее был бы такой же сладкий, как ее груди: «Почему? Ну, почему я так люблю тебя? Потому что ты ковбой Джой Бак, и мне так хорошо с тобой. Только ковбои умеют любить так сладко, как ты, и только с ними стоит проводить время. А теперь, когда ты лежишь такой красивый и суровый, только скажи мне, что тебе принести с кухни. Желе? С кремом? А как насчет куриной ножки с персиком, радость моя, чтобы ты побаловался ими, пока я тебе спою «Голубой месяц»? А потом мы займемся с тобой любовью прямо на полу, и ты мне споешь — «Беги за мной, отбившийся от стада, мой теленочек, беги со мной, беги со мной, беги со мной, мой маленький теленочек…»
8
— В этом нет ничего особенного. — сказал Перри — После марихуаны часто хочется есть. — Они сидели у стойки забегаловки, открытой всю ночь на автостраде; Перри курил и пил кофе, а Джой приканчивал последний из двух гамбургеров.
— Хочешь еще один? — спросил Перри.
Джой покачал головой: рот у него был набит так, что он не мог вымолвить ни слова. Чувствовал он себя прекрасно, как ребенок, который вволю наорался, а потом его отшлепали и накормили. Он испытывал к Перри невыразимую теплоту.
— Кто такая Салли? — спросил Перри.
— Салли? Откуда ты о ней знаешь?
— Ты все время повторял ее имя, когда был под балдой. Она что, твоя старая подружка?
— Ну да! Старая подружка! — Вранье! Но если тебе нужна правда, то ты ее не получишь. Не хватало еще, чтобы взрослый мужик хныкал по своей бабушке.
— Так чем бы ты хотел заняться, Джой. Сейчас только четыре утра.
— Я? Что бы я хотел делать? Да плевать на меня! Чем бы ты хотел заняться?
— Нет, нет, Джой, это твоя ночь. Ты только скажи мне, чего бы ты хотел.
— Я хочу делать то, чего хочешь ты.
— Нет. Скажи мне. Сам.
— Но, Перри, черт побери, я и сам не знаю, да и вообще…
— Нет, ты знаешь. Ты отлично знаешь, что тебе надо. И все знают.
— Ну я… м-м-м, я скажу тебе, чем мы занимались в армии. Больше я ничего не знаю, да и вообще это была ерунда, но вот что мы делали — отправлялись в Колумбус и клеили баб — в общем-то и все. Ничего особенного.
— Хотел бы ты и сейчас этим заняться?
— Сейчас? Во дает! Ты хочешь сказать… именно сейчас?
— Да, сейчас. Тебе нужна баба сейчас?
— Ну, черт возьми, я даже не знаю. Мне сейчас так хорошо, что даже баба не нужна. — Джой молча допил свой кофе. Затем он посмотрел на Перри и сказал.
— А чего? Ты тоже хочешь?
— Обо мне не думай. Тебе нужна баба — так?
— Ну…
— Так нужна или нет?
— Ну, понимаешь, если бы какая-нибудь болталась рядом со мной, я бы ее поимел, но я, м-м-м, не хочу причинять тебе беспокойства. — И, окончательно расстроившись, добавил. — Если, конечно, ты сам не хочешь.
— Нет, — сказал Перри.
— Ну, тогда и черт с ними… м-м-м, если только ты не хочешь сказать, что они где-то под боком. Чтобы хлопот не было. Тогда не могли бы, так сказать…
Перри встал.
— Идем.
Он протянул кассирше за стойкой пятидолларовую бумажку, но Джой перехватил ее и сам сунул женщине десятку. Пятидолларовую купюру он сунул Перри в карман брюк. Тот улыбнулся и промолчал.
На краю стоянки была телефонная будочка без дверей. Джой, прислушиваясь, прислонился к ее стенке. Набрав номер и подождав несколько секунд, Перри сказал:
— Хуанита? Это Перри. Перри! Да, это я. Теперь слушай, Хуанита, вот что я хочу, чтобы ты для меня сделала. Хуанита, да не ори ты так громко, у меня уши лопаются. Не засовывай микрофон в рот, а то ты меня оглушишь. Слушай, Долорес на месте? Нет, я не собираюсь говорить с ней. Просто разбуди ее, Хуанита. Я говорю — разбуди ее! Я ей притащу подарок — очень симпатичного парня… Да помолчи ты, Хуанита, и послушай меня. Разбуди ее, сунь в ванну, а мы будем так через полчасика.
Он повесил трубку. Джой стоял с открытым ртом, недоверчиво покачивая головой, не в силах поверить, что на него свалилось такое счастье. Он был словно ребенок, перед которым во плоти предстал ангел-хранитель.
— Перри, ну ты и сукин сын! — сказал он дрожащим от обожания голосом.
В машине, когда они уже вырулили на автостраду, Перри сказал:
— Знаешь, Джой, а ведь ты мне вечер испортил.
— Как? — встревожился Джой. — Каким образом?
— Видишь ли я получаю удовольствие главным образом, когда мне удается тратить на других деньги Марвина. А ты не дал мне уплатить по счету.
Джой с облегчением засмеялся.
— Да нет, — сказал Перри. — Я серьезно. И больше не делай этого.
— Слышь, Перри, этот парень, ну, как его, Марвин — он что, твой родственник или чего-то другое?
— Нет, он просто мой хозяин. Я работаю на Марвина.
— А? Ну да, я понимаю. Он твой босс. — Ему показалось, что он все понял. Но по мере того, как перед его глазами всплывала сцена в кафе, он чувствовал, что новая информация только все запутала. — Значит, босс?
— Да, это верно. Марвин меня нанял, чтобы я делал для него очень непростую работу. Предполагается, что я буду напоминать ему, как он омерзителен, и мое вознаграждение зависит от того, насколько я в этом преуспею. Несколько лет назад я занимался чем-то схожим на Востоке и с тех пор приобрел определенный опыт. Я научился понимать, что людям на самом деле надо и даю им то, о чем они потаенно мечтают. Закури-ка для меня, идет? — он протянул Джою сигарету.
Джой торопливо наклонился вперед, едва не стукнувшись о ветровое стекло и, прикурив сигарету для Перри, сунул ему в губы. Перри затянулся, вынул сигарету, изо рта и продолжал рассказ:
— Например, тебе становится ясно, что человек, который не закрывая рта, болтает, как ему нужна нежность и забота, только и мечтает, чтобы испытать ужас. И я вижу, что он просто не может это высказать. Я не говорю о людях, которым в самом деле нужны тепло и забота; они на этот счет не распространяются. Я говорю только о тех, которые только и знают, что трепаться об этом. И можешь биться об заклад, что от любого внимания, да и просто от вежливого обращения их воротит. С другой стороны, ты не можешь так просто взять и тряхануть их страхом, пусть даже они и мечтают об этом, ибо они слишком трусливы получить то, что им нужно. Тебе приходится быть с ними до ужаса холодным и давать им в час по чайной ложке, да еще и говорить об этом не впрямую.
Но ничего не может быть проще. Даже когда их колотит от страха, они должны считать, что к ним относятся с любовью. Время от времени приходится давать им встряску. Но не очень часто. И делать вид, что ничего не происходит. То же самое и со страхом: не очень много, в меру. Пусть он вздрагивает от выражения твоих глаз, пусть дергается, когда его слегка подкалываешь — кровь пускать не стоит.
Что касается Марвина, думаю, со своей задачей справляюсь я неплохо. Сначала… то есть до того, как мы встретились, он считал себя сущим червяком — и по форме, и по содержанию. Но он уже не мог больше выносить такое отчаянное положение, оно было непосильно для него, и он был в полном ступоре. И вот, прошло всего лишь несколько кратких месяцев — я довел его уже до состояния окуклившейся личинки, и он счастлив успехом, которого мы добились. Что тут возразить? Разве у него не довольный вид?
Но, боюсь, долго это не продлится. У Марвина слишком много претензий. Он хочет, чтобы я в конце концов просто раздавил его, так сказать, подмял под себя, вышиб из него дух. Но я на это не подписывался. Я куда лучше чувствую себя в таком промежуточном положении, когда надо действовать очень тонко и искусно; молоток и тесак мне по вкусу. Кроме того, Марвин не хочет, чтобы за его же деньги его еще и прикончили. Он в таком упоении, что когда-нибудь это плохо кончится. Но только не с моей помощью. Свое дело я знаю.
— Это уж точно, — сказал Джой. — Ты свое дело знаешь туго. Кстати, сколько тебе стукнуло, Перри?
— Двадцать девять… уже подходит к сотне.
— Черт, а мне всего двадцать пять, — сказал Джой, — и я просрал всю свою жизнь, Перри, клянусь тебе, так оно и есть. Я и представить себе не мог, что может быть такое, о чем ты только что рассказывал.
— Я бы сказал, что это жутко забавно, Джой. Но больше всего мне нравится твоя невинность.
— Да нет, — сказал Джой. — Боюсь, что я не девственник, Перри. Я-то, конечно, туп как пробка, но натрахался вдоволь.
— Да я не о такой невинности говорю.
— Вон оно что! Так скажи мне толком, о чем ты ведешь речь, Перри. Давай, Перри, потому что мне пора разобраться с этим дер-р-рьмом.
Перри так долго не сводил глаз с Джоя, что тот стал волноваться, ибо машина неслась по шоссе. Затем Перри перевел взгляд обратно на дорогу, рассеянно покачал головой, словно его внимание привлекало нечто, скрывавшееся за горизонтом, и еле слышно сказал:
— Это будет, это придет.
В приливе благодарности и нежности Джой положил руку на плечо Перри и сжал его.
— Ты мой самый лучший приятель из всех, что у меня были. — Но слова эти были лишь слабым отражением того, что он чувствовал. Джой испытывал сильнейшее побуждение говорить без остановки, вытолкнуть все слова, которые, наконец, точно дадут Перри понять, что он к нему испытывает.
— Слушай, конечно, я не могу назвать тебя своим лучшим другом, потому что, понимаешь, когда я был в этой вонючей армии, ну все такое, у меня была куча приятелей, но никто из них и половины того не сделал для меня, что делаешь ты. То есть, вот ты катаешь меня, чтобы ублажить, гамбургерами кормишь. И все это просто так! Ну да, конечно, для чего-то все это делается, но главное — ты разговариваешь со мной, черт побери, и ты говоришь, мол, Джой, то, Джой, се. Со мной никогда и никто так не обращался, у меня, черт возьми, никогда не было настоящего друга, понимаешь, друга! Понимаешь, что ты мне даешь?
— Да, Джой. Но теперь я хотел бы, чтобы ты заткнулся. О'кей?
Джой медленно убрал руку с его плеча и уставился перед собой. На мгновение у него перехватило дыхание, и он сказал:
— Никак я слишком разболтался.
— Да нет, все в порядке, — сказал Перри. — Просто мне хотелось, чтобы ты пока помолчал. Вот и все.
— О'кей, Перри, — ответил Джой. — Это самое малое, что я могу для тебя сделать.
9
Свернув с автострады, маленькая спортивная машина въехала в беспорядочное скопище припаркованных трейлеров, груд строительных материалов, старых домов и небольших предприятий, известное под именем Ньювилла, Техас, затем она оказалась на поле каких-то неопределенных очертаний, на котором не росло ни деревьев, ни кустарников, вообще никакой растительности — оно представляло собой кусок голой земли, на которой стояло большое угловатое старое здание. К нему не вели ни дорожка, ни подъезд, будто оно совершенно случайно оказалось на этом месте, брошенное неким великанским дитятей, которое завтра может сесть за свой бульдозер и вообще снести его с лица земли.
Перри поставил машину на краю поля.
Когда они поднялись по ступенькам парадного входа, зажглась лампа в портике, открылась дверь, и на пороге, заслоняясь от света, предстало высокое неуклюжее создание, именуемое Том-беби Босоногий.
Том-беби Босоногий был бледным, неловко скроенным полукровкой с редкими волосами. Головка у него была маленькая, а о плечах и говорить не стоило, но от пояса и ниже у него было крупное, крепко сбитое тело. На нем был серый свитер с большими буквами «ГАРВАРД» на груди, выцветшие рваные джинсы, кроссовки и пара золотых сережек.
— Привет, Перри, — сказал он. Голос у него был тонкий и скрипучий, с заметным техасским акцентом.
Из глубин дома раздался грозный рык:
— Да выключи ты этот свет на крыльце, Принцесса.
— Моя милая матушка хочет, чтобы вы подобрали хвосты. — Он пожал руку Перри, а затем Джою Баку.
Перри сказал:
— Джой, познакомься с Том-беби Босоногим.
— Очень приятно, — сказал большой бледнолицый индеец, пол которого было невозможно определить.
— Как поживаете, Том-беби? — сказал Джой. Миновав холл, Том-беби провел их в гостиную. Он двигался как корова с перебитыми коленными чашечками: то и дело казалось, что он вот-вот рухнет беспорядочной грудой, из которой будут торчать только берцовые кости. Раскрыв двери, он сделал шаг в сторону.
— Добро пожаловать во дворец благословенной Матушки, — сказал он.
Комната была обставлена надежной грузной мебелью огромных размеров — стиль, который считался модерном в тридцатых годах прошлого столетия. У вешалки, рядом с вазой венецианского стекла, в которой торчал американский флаг, висели обрамленные фотографии респектабельных незнакомцев (все с подписями), а на стене в темно-розовую полоску — в рамках же фрагменты росписи Сикстинской капеллы, среди которых большей частью преобладали спины, задницы и руки.
На подушке в центре дивана у дальней стены комнаты в позе Будды сидела маленькая карга в красном сатиновом кимоно. У нее были огромные водянистые глаза бледно-голубого цвета, обрамленные покрасневшими веками, под которыми лежали черные тени от недосыпа. Глаза были в ней главным: жадно впиваясь в человека, они безостановочно обшаривали его, и казалось, что они принадлежат не этой маленькой женщине, а какому-то огромному чудовищу, вынырнувшему из глубин ночи. В углу небрежно размалеванного кроваво-алой помадой рта она держала окурок сигареты с ярко тлевшим кончиком.
— Перри! — удивленным мужским голосом воскликнула она.
— Добрый вечер, Хуанита, — сказал Перри.
— Пожелай его моей заднице, — сказала она. И повернувшись к Джою: — Привет, сынок.
Пока Джой представлялся этой женщине, чье имя звучало как Хуанита Коллинс Хармайер Босоногая, ее сын расположился на кресле-качалке и сложил руки на животе.
— Пошел, пошел, пошел! — замахала руками Хуанита. — Займись баром, Принцесса, займись баром. Бурбона там хоть залейся.
Том-беби встал с куда большей легкостью, чем можно было ожидать от него.
— Бурбона хоть залейся, — повторил он. Покидая комнату, он прошел мимо огромной штуки, прислоненной к стене входа в столовую: эта восьмифутовая конструкция изображала игрушечного жирафа. Джой представил себе, как Том-беби может вскарабкаться на этого игрушечного жирафа и умчаться — и не только из столовой, но и пронестись по Техасу, но жираф, конечно, ослабеет под своей ношей и рухнет, ломая кости и разбросав костистые ноги. Переживая эту воображаемую катастрофу, в реальности они с Перри расселись на огромных стульях вокруг зеркального столика для коктейлей напротив Хуаниты.
— Я, — сказала она Перри, — прямо пинками подняла для тебя вечером одну сучку.
— Как всегда, Хуанита, — улыбнулся Перри.
— Гляди! — Она вытянула костистую ведьмину лапу, грязную, с желтыми табачными пятнами и до мяса обгрызанными ногтями. Она показала пару свежих царапин на тыльной стороне кисти. — Вот что она мне сделала, когда я будила ее, проклятое животное. — Внезапно Хуанита уставилась своими большими глазами в лицо Джою Баку. — Слышь, а ты любишь животных?
Джой улыбнулся ей. Но чувствовал он себя отвратительно. Когда она говорила, перед ним предстала клетка со странным созданием — полутигром, полу женщиной, которое от голода металось взад и вперед. Ему не хотелось иметь с ним дело, он вообще не хотел видеть никаких животных. Ему хотелось чего-то мягкого, толстого и доброго, полного округлых местечек, в которые можно спрятаться с головой.
— И вам достанется, — сказала Хуанита. Она повернулась к Перри. — Как ты думаешь, заражения не будет? — спросила она, имея в виду поцарапанную руку.
— На прошлой неделе она укусила меня. Даже кровь пошла.
Том-беби Босоногий вернулся с бутылкой старого бурбона в руке и парой стаканчиков.
— А ты расскажи, мама, что ты с ней сделала, и они с удовольствием послушают.
— Что он там говорит? — спросила Хуанита у Перри.
— Неужто что-то умное? — И полукровке. — Займись делом, Мямля, займись делом.
Том-беби протянул стаканчик с виски Перри, а другой — Джою. Приложившись к третьему стаканчику, он снова расположился в своем кресле-качалке.
Хуанита схватила со столика тарелку для печений тяжелого стекла.
— Принцесса! — угрожающе рявкнула она, имея в виду пустую емкость.
— Ох! — Принцесса искусно изобразил удивление. — Прости меня, мама, я совсем забыл. — Поставив на стол перед ней свой стаканчик, он налил себе другой. Хуанита отставила тарелку и подняла стакан.
— И вруби какую-нибудь музыку. У нас тут что — бордель или морг?
— Интересный вопрос, — сказал Том-беби. — Поскольку ты тут главная приманка, матушка, я склонен думать, что это среднее между…
— Заткнись! — голос Хуаниты гулким эхом отразился от стен.
Том-беби покинул комнату.
— Это дело я всегда должна растолковать незнакомому человеку, — обратилась Хуанита к Джою. — Этот толстокожий петух с дыркой на том месте, где у него должен быть член, ну да, так и есть, и с двумя таблетками вместо яиц, — так вот, он совсем мне не сын, провалиться мне на этом месте. Он всего лишь ошибка этой, черт ее побрал, полупьяной ночной дежурной в Дхонсовской больнице в Шривепорте. Она мне подсунула другого ребенка. Ты думаешь, я шучу? Слушай, я п'мню эту ночь ясно, как божий день, ту ночь, когда я произвела ребенка, я п'мню то, что уже все забыли, когда меня ни спроси; я п'мню, как все это было, и как я лежала, и что я чувствовала, и что было потом, и как мы с Дарлингтоном Босоногим валялись прямо на крыльце, наверху блаженства, и в одной руке у него была выпивка, а другой он указывал на луну. И я помню все наши бардаки, словно это было десять месяцев назад. И только не говорите мне, что в то время мы зачали на свет этого бедного Том-беби. Потому что у моего ребенка, когда он вылез из меня, были черные волосики. Я-то знаю, я-то в то время уже проснулась и глядела во все глаза, и у него были черные волосики. А какие еще волосы могут быть у сына Дарлингтона Босоногого, рыжие, что ли? Дерьмо! А что они подсунули мне на кормежку следующим утром — только рот и задница! И скажу я вам, только увидела я этот кусок мяса, груди мои тут же от ужаса и высохли. Глянь! — Она распахнула красное кимоно и продемонстрировала два болтающихся мешочка. — Думаешь, я шучу? И с того дня из них не появилось ни капли молока: начисто высохли!
— Смысл этой истории в том, — сказал Том-беби Босоногий, возвращаясь из столовой, где ставил на проигрыватель «Кто-то раскачивает мою лодку во сне», — заключается в том, чтобы показать вам свои бедные старые сиски. И так как она ждет оценки — ну что ж, можете сказать ей, что, мол, я представляю, как вам досталось.
Хуанита вскинула брови, делая вид, что внимательно прислушивается.
— Я улавливаю каждый слог твоих оскорблений, тупоголовый. Я исписала ими уже весь блокнот. И да спасет тебя Господь, лишь он сможет спасти тебя!
— Матушка, ты меня не поняла. Я сказал лишь, что теперь они хотят увидеть твое влагалище. Ясно? Вот тебе и музыка; та-таааа!
— Что он говорит, что он говорит? Скажи мне, Перри.
— Он считает, — сказал Перри, тщательно выговаривая каждое слово, — что надеется, Долорес скоро будет готова. Как и я надеюсь.
— Могу ручаться. А вот Дарлингтону Босоногому хватило бы одного взгляда на это создание — и он сразу же заподозрил бы неладное. Он родился в сорочке и каждый раз хватал меня за нос, когда я походила к нему. Словом, Дарлингтон разок взглянул на него и тут же исчез, как молния. Разве можно ругать человека за это? То есть, я хочу сказать — надо посмотреть его глазами. Папочка Дарлингтон был храбрым, чертовски храбрым человеком! Но что ему оставалось делать — брать эту мисс Джейн Уитерс за гланды, тащить в свое племя и говорить, что, мол принимайте этого малыша? Ни фига!
— Из этого, матушка, вытекает, — сказал Том-беби, — что у той, кто уже легла на спину, больших трудностей в жизни не будет, разве что ей придется иметь дело с некачественными экземплярами: с пьяницами, со слепыми и так далее. — Он застенчиво подмигнул ей и махнул рукой. — Я-то им говорил, — сказал он, повышая голос, — как тяжело ты всегда работала, чтобы поддержать меня.
Блеснула красная молния, и стакан с бурбоном полетел в сторону кресла-качалки, в котором расположился крупнотелый светловолосый полукровка. Он взял стакан, не разбившийся, но наполовину расплескавшийся и повернулся к матери.
— Еще выпьешь?
— Хочешь знать, почему я вожусь с ним? — повернулась к Джою Хуанита. — Потому что люблю его, словно он мой собственный. Можешь звать меня полной дурой, и так оно и есть, но тут я ничего не могу сделать.
— Я тебя тоже люблю, матушка, — сказал Том-беби. — Кроме того, я люблю, м-м-м, дайте вспомнить, полицейских, змей, войну и больших волосатых пауков и… м-м-м, что же еще? А, вспомнил! Рак заднепроходного отверстия!
— Как бы он ни изображал капризную девчонку, что бы он там ни болтал, он все равно относится ко мне с почтением и уважением. Так, Том-беби?
В эту секунду фальцетом завопил проигрыватель в другой комнате: «И когда сгущаются вечерние тени, ты приходишь ко мне во сне!» Где-то в задней части дома хлопнула дверь.
— Тебя Долорес ищет, — сказал индеец своей матери.
— Иди подгони ее. Передай, чтобы она пошевелилась. Когда Том-беби вышел из комнаты, Хуанита сказала:
— Перри, какой он бедняжка, и что с ним будет? Меня это так беспокоит! Каждый раз, как он уезжает в Новый Орлеан или Даллас или куда-нибудь подальше и пытается зарабатывать себе на жизнь, какой-нибудь полисмен накручивает ему задницу и отсылает домой к маме. У меня прямо сердце разрывается. Так что, естественно, я пристроила его к работе здесь, ты же знаешь, какой я мягкий человек, не так ли? Он только что вернулся из Пенсаколы. Его не было три месяца, и я уже стала думать — Господи, неужели я от него избавилась? Но он притащился на прошлой неделе с поджатым хвостом. Я не знаю, что там у него случилось в Пенсаколе, и он не говорит об этом. Он уродлив, он педик, он ходит как Дональд Дак, и никто не может выносить его вида. Ну, ты понимаешь меня. Так что же мне делать? Даже ради спасения жизни он не причешет волосы, и даже подмываться не хочет. Можешь себе представить, сколько я с ним натерпелась, а он даже не мое отродье! И если хочешь знать, я скажу тебе, что тут не в порядке: плохая кровь тут есть, плохая кровь, а с этим уж ничего не сделаешь. — Она взяла бумажный платок из коробки на столе и с шумом высморкалась. — Ну да, я понимаю, ты не собираешься плакать по этому поводу. А я сентиментальная дура, черт бы меня побрал, и делаю то, что мне нравится.
Хуанита допила стакан Том-беби, и, когда напиток стал действовать, она опустила плечи, откинула голову и, закрыв глаза, сжала губы. С видом жрицы какого-то магического культа, она сделала глубокий вдох и стала быстро тыкать себя в различные части тела.
— Здесь болит, и здесь болит, тут болит, и тут болит. Кого это волнует? Меня нет. Боль меня не беспокоит. Дай-ка мне эту бутылку, Перри.
Том-беби Босоногий ввалился в комнату и снова расположился в кресле-качалке.
— Долорес хочет знать, — с облегчением сообщил он, — насколько сеньор стар. Я сказал, что ему примерно семьдесят три года. И теперь она плачет у себя.
Хуанита заставила его все повторить, пока наконец ясно не расслышала. Затем она распрямила ноги и встала. В это время Джой успел бросить взгляд на ее коленки, которые не имели ничего общего с его бабушкой: при той же костлявости Хуанита не вызывала такой же печали.
— Слушай, — сказала она Джою, — мне придется быть чертовски злой, так что я утащу Перри на кухню и пошепчусь с ним по секрету, ладно?
Джой с серьезным видом с готовностью махнул рукой и состроил на лице выражение, которое, как он надеялся, создаст у нее впечатление, что для него давно уже совершенно нормальное явление, когда возникает необходимость пошептаться по секрету на кухне борделя.
Выходя из комнаты, Хуанита остановилась рядом с ним, чтобы приглядеться к нему поближе. Затем она кивнула, по-прежнему не сводя с него взгляда и сказала:
— Ничего жеребчик, совсем ничего. Будь у меня такой, я бы на нем доскакала до Нью-Йорка. А здесь приходится иметь дело только с извращенцами, с деньгами и голодными бабами. Будь у меня в стойле такой молодец, уж я бы его обхаживала. — Пожав плечами, она направилась к дверям. — Но видишь, что мне досталось? — Хуанита проткнула воздух большим пальцем направив его в Том-беби. Затем они с Перри удалились в заднюю часть дома.
Джой ясно и отчетливо понимал, что женщина, которая только покинула комнату, просто ужасна. Она говорила вещи, от которых Том-беби Босоногий десятки раз мог уже повеситься, она была потрясающе эгоистична, ревнива, и с ней никоим образом нельзя было иметь дело. Он так же понимал, что у Том-беби, сидящего со спокойно скрещенными на животе руками, — так обычно любят сидеть степенные старушки — холодный черный язык без костей, напоенный ядом. И хоть ему приходилось немало сталкиваться с темными сторонами бытия, он казался средоточием этой темноты и вызывал ужас, как змеиное гнездо. Но он, Джой, пришел сюда по зову друга. Потому что в этом месте они стоят плечом к плечу, защищая друг друга от окружающего страха; и он ясно видит — даже не понимая, как назвать это чувство (любовь? ненависть?) — что пока они связаны друг с другом, им ничего не угрожает.
Джой поймал на себе мягкий взгляд полукровки. Он поднял свой стакан и сказал:
— С прибытием тебя, Том-бэби.
Тот не стал пить. Он сидел, крутя пальцами на животе и со слюнявой улыбкой смотрел на Джоя.
— Ага, я прибыл, — сказал он, продолжая улыбаться и смотреть на Джоя.
Когда сестры Эндрю запели «Саван святой Сесилии», в дверях появилась Хуанита.
— Сынок? — Она подцепила Джоя своей лапой. — Идем, идем! У нас есть кое-что для тебя.
10
Джой последовал за Хуанитой через столовую и по длинному темному коридору. Наконец они остановились у запертой двери. Хуанита стукнула в филенку тыльной стороной ладони.
— Все в порядке, Долорес. — Она глянула на Джоя.
— Валяй, сынок, и веселись. — Повернув ручку, она легонько подтолкнула Джоя.
В углу комнаты стояла девочка, которой было не больше семнадцати лет, невысокая, смуглая, с чистым лицом. На ней был длинный синий халат, который она плотно запахнула на теле, словно пытаясь защититься. Она смотрела на Джоя со смесью страха и враждебности и, казалось, прикидывала как бы вцепиться в него.
Закрыв дверь, Джой сделал шаг к ней. Девушка напряглась и оцепенела, когда он подошел к ней.
— В чем дело, мисс? — спросил он. Но она ничего не ответила.
Удивившись, Джой направился к дверям, но, когда он взялся за ручку, девушка окликнула его:
— Нет!
Повернувшись, он снова посмотрел на нее. Несколько секунд девушка изучала его лицо, а потом страх и враждебность постепенно покинули ее, оставив на себе лишь облегчение. Повернувшись к нему спиной, она начала неторопливо развязывать поясок халата. Освободившись от него, она сделала несколько торопливых шагов к кровати с таким видом, словно Джой хочет что-то украсть у нее. Девушка легла на спину, уставившись в потолок. Она лежала не шевелясь.
Помедлив, Джой подошел к кровати и заглянул ей в лицо. Она не глядела на него.
Он старался не смотреть на ее тело, догадываясь, что на самом деле она его не предлагает ему, но не мог совладать со своими глазами. Они быстро скользнули по кровати, отметив оливковый цвет кожи мягких округлостей, две из которых были увенчаны розетками совершенной формы и самое влекущее, самое таинственное место, закрытое темною порослью волос.
Он вытянул руки.
— Слушайте мисс, я, м-м-м…
Он хотел что-то сказать этой девушке, что-то важное и более глубокое о себе: занимаясь любовью, он понял, что не может просто так, теряя уважение, залезать на женщину, чтобы только получить удовольствие, ибо в таком случае он многое теряет. Но поскольку он сам с трудом понимал смысл владевших им эмоций, они не могли вылиться в форме речи.
— Я в общем-то не считаю… то есть, я думаю, что если вы не в настроении, почему бы нам просто не…
— Не болтай, — сказала она. — Тоже мне онанист.
Джой подошел к изножью кровати, где валялся сброшенный ею халатик. Подняв его, он накинул на нее одежду. Девушка с изумлением взглянула на него. Он несколько раз качнул головой, стараясь как можно вежливее дать ей понять, что отказывается. Она уставилась ему в лицо, пытаясь понять, какой номер он собирается откалывать. Джой предложил ей закурить. Она отказалась, и тогда он закурил сам.
Девушка долго смотрела на него, после чего, приподняв голову, положила ее на руки и пристальнее уставилась на него.
— Эй, — сказала она, приглашающе похлопав рукой по половине постели рядом с собой. Джой подошел и сел рядом. Взяв у него из рук сигарету, она потушила ее об основание кровати, оставив на его мраморе очередную черную метку.
Взяв руку Джоя, она поцеловала ее и улыбнулась. Джой тоже поцеловал ей руку. Затем она снова взяла его руку и поцеловала каждый палец отдельно. Джой ответил ей тем же и к тому же поцеловал ладонь руки. Они долго, не мигая, смотрели в глаза друг другу, а потом девушка нахмурилась и на ресницах ее повисли слезы. Видно было, ей есть что сказать, но она не хотела этого говорить, во всяком случае, в эту ночь, и не Джою Баку и, может быть, вообще никому. Наклонившись к ней, он слизнул слезы кончиком языка. Отведя голову от ее лица, он улыбнулся, демонстрируя такие прекрасные белые зубы, что девушка засмеялась. Она стала стягивать с него одежду.
Через мгновение оба они оказались рядом в постели, обнимаясь, тиская, лаская и целуя друг друга. И наконец наступил самый главный момент, преисполненная тишины секунда, нежный, опасный, самый главный момент, когда оба они затаили дыхание. До этого они дышали в унисон друг с другом. И вот после крепких неразрывных объятий пришло это легкое, легкое, легкое освобождение, когда берешь и отдаешь, даешь и берешь, и глаза девушки затуманились. Он томился в ожидании ее слов любви, которые были понятны в безмолвии, и, прождав достаточно долго, он постарался дать ей все самое лучшее, на что только был способен.
Внезапно он застыл без движения.
Девушка вцепилась ему в плечо.
Джой склонил голову набок, прислушиваясь к чему-то. Он оторвался от нее так стремительно, что девушка вскрикнула от боли, но он соскочил с постели и уставился на туалет в углу комнаты. Дверь его была приоткрыта.
Девушка села на кровати:
— Эй! Эй! Ты что, сумасшедший?
Но Джой продолжать стоять, застыв на месте, пока дверь не распахнулась сама собой. Он понял, что она вела не в туалет, а в соседнюю комнату.
На столе в ней сидел Перри. За ним стояла Хуанита, и над ними обоими возвышался Том-беби Босоногий.
Перри улыбнулся.
— Валяй, Джой, — сказал он. — Не обращай на нас внимания.
Через мгновение Перри оказался уже на полу спальни, а Джой, по-прежнему голый, сидел у него на груди и жестко работал кулаками, стараясь стереть с лица Перри эту ухмылку. Девушка завизжала, но сам Перри не сопротивлялся. Более того, он смотрел Джою прямо в глаза, явно стараясь побудить его на дальнейшие действия. Хуанита стала выкрикивать короткие неразборчивые фразы, состоящие из испанских ругательств. Джой, остановившись на секунду, поднес к лицу Перри кулак.
— И больше не улыбайся, — попросил он. — Прекрати это. Прошу. — Но Перри не прекратил, и избиение продолжалось. Девушка оказалась за спиной Джоя, изо всех сил вцепилась ему в плечи, его окружили Хуанита с Том-беби и, хватая его за разные обнаженные места, оттащили от истекающего кровью человека на полу. Джой рванулся, и в этот момент в живот ему воткнулся чей-то кулак. Кулак принадлежал Хуаните. У Джоя перехватило дыхание. Он рухнул на край кровати, стараясь набрать воздуха в грудь. Вокруг его склоненной головы стояли ноги, круг которых словно заключил его в камеру. Он чувствовал, как его ощупывает множество рук, и некоторые из них, мягкие и влажные, гладили его по спине и по бедрам. От боли в желудке и от этих прикосновений его замутило, и он начал давиться рвотой. Но он даже не мог сплюнуть. Руки продолжали прикасаться к нему, и действия одной из них привели его в панику, когда ему удалось втянуть в себя немного воздуха, он почувствовал, что готов к дальнейшей работе. Но в это время голос Хуаниты сказал громким шепотом:
— Ты хотел этого, Том-беби…
И тут раздался грохот, и все мгновенно исчезло, а когда всплыло вновь, весь мир предстал перед ним под совершенно иным углом.
Комната превратилась в яму, напоминающую колодец, и Джой лежал на самом дне его, глядя вверх. Нет, на дне была только его голова. Все остальное, даже его собственное тело, было над ним. И на самом верху стояли люди, которых он мог видеть за своими пятками: полукровка и эта ведьма. Они о чем-то спорили, но он почти не слышал их приглушенных голосов. Словно его уши были залиты какой-то жидкой субстанцией, сквозь которую до него ничего не доносилось. Женщина куда-то уплыла из поля зрения, и Джой остался наедине с какой-то огромной желтоватой штукой, склонившейся над краем кровати. Обоими руками она тянулась к Джою. Проем дыры, в которую он был опрокинут, напрочь закрылся этой толстой штукой, и все вокруг так потемнело, что ничего больше нельзя было разглядеть. Джой почувствовал, что ему не хватает воздуха, но, задохнувшись, понял, что все еще может дышать. Он отчаянно нуждался в свете и попытался едва ли не до боли выкрутить себе шею, чтобы хоть краем глаза уловить признак света.
Постепенно до него стало доходить, что кто-то наверху старается вытянуть его из тьмы и отчаяния. Словно какая-то чудовищная сила раздвигала стены, медленно таща Джоя все выше, выше, выше. И по мере того, как он понимал, что свобода все ближе и ближе, напряжение становилось все более и более невыносимым. Он изо всех сил старался помочь той силе, что тянула его наверх, напрягая мускулы, чтобы оказать ей содействие. И тут, когда он уже почти стал осознавать происходящее, что-то глубоко внутри его сломалось и он понял, что напряжение отняло у него все силы; густым потоком, с которым он не мог справиться, жизнь хлынула из него и, к стыду своему, он понял, что пришел конец битве. Но он ничего не проиграл, и кроме, дыры над головой ничего больше не существовало, и он валялся во прахе «там, куда Перри толкнул меня, — сказал он про себя. — Мой друг, мой Перри, столкнул меня в яму».
11
«Столкнул так, что и не выбраться! Ну, дер-р-рьмо! Любой бы на моем месте не выглядел лучше!»
Джой с отвращением смотрел на себя в зеркало. Прошли два дня, и он еще не покидал комнату. Он был бледен, у него были голодные спазмы и что-то не в порядке с затылком. Но даже в этом бедственном состоянии он без усилий усваивал новую идею, которая вертелась у него в голове: во всем этом мире есть только один человек, который принимает его интересы близко к сердцу, да и его самого.
— Ковбой, — сказал он своему отражению, обращаясь к нему с таким глубоким чувством, что его вполне можно было принять за любовь, — я буду заботиться о тебе, и никто не посмеет ухмыльнуться в твой адрес, и до самых последних дней я буду с тобой. Ты видишь эту берлогу, которая называется комнатой? Наступит день, и ты покинешь ее. И никто больше не трахнет тебя по башке… м-м-м, впрочем, пусть только попробует. — Ему нравилось слышать новые жесткие нотки в своем голосе, и в глазах появилось что-то новое, дикое и опасное, и он с удовольствием глядел на них.
В эти дни одиночества Джой обретал энергию, чтобы начать существовать. Постепенно он накалялся гневом, вспоминая старые и новые обиды — и Перри больше не представлял для него особого интереса, затерявшись среди остальных, — но вспыхивающие в нем искры ненависти дополняли друг друга и отравляли его душу яростью. Вытащив из глубин памяти все свои годы, как барахло, сложенное в сундук, он перебирал воспоминания, отбирая те из них, которые помогали поддерживать ярость, давшую основание новой силе, жившей в нем, и казалось, что все, что он мог вспомнить, шло в дело, утверждая его в мысли, что равнодушие мира к нему зиждется на ненависти. Он не знал, откуда она идет, но был уверен, что в нем есть нечто такое, из-за чего никто не хочет иметь с ним дело. Это ощущение всегда присутствовало у него в подсознании, было одним из многих, с которыми он не знал, что делать: ощущение существа, которому нет места в этом мире, чужестранца, не знающего своего флага, одного из тех, у кого нет даже соседей.
Даже там, где он рос с детства, он чувствовал себя чужаком и, осторожно оглядываясь по сторонам, вертел головой, пытаясь понять хотя бы намек на подлинный смысл слов языка, который он слышал, но который, конечно же, не был его собственным; пробуя землю под ногами, он делал каждый шаг, словно бы сомневаясь в прочности земли этой странной планеты. И теперь, тщательно, но неумело обдумывая свою жизнь, он приходил к выводу, что с самого начала стал жертвой направленной против него кампании — никогда, никогда, никогда он не должен забывать о своем положении чужака, иноземца. Он пришел к странному заключению, что почти каждый из всех, кого он знал или о ком слышал, были частью этого заговора. Даже многие из тех, с кем он делил сексуальные радости, — да они особенно — отказывались иметь с ним дело во всем остальном: получив удовольствие, они исчезали как дуновение ветерка, без всякого сомнения, издеваясь над ним за ту серьезность с которой он благодарил их. Полный гнева, он особо отметил их, но, в сущности, они не отличались от всех прочих. Он перебирал в голове и лица, и группы, и организации, которые были достойны его гнева, — и старых учителей, и армию, и своего маленького розового босса в кафе, и компанию Андриана Шмидта, что вечно толклась около магазина, и так далее. Но гораздо больше лиц проходили перед ним без имен. Среди них были и те, с кем он когда-то ходил в школу, мириады клерков, чиновников, продавцов и просто незнакомцев, которые обращались с ним со снисходительной брезгливостью или вообще не удостаивали его внимания. Список расширялся, пока не стал включать в себя учреждения, банки и библиотеки, смысл работы которых он не понимал и служители которых вечно относились к нему, словно он явился ограбить это учреждение или каким-то иным образом мешать им. В конце концов он отнес в эту категорию весь город Альбукерке, и эта мысль заставила его раскинуть мозгами: если Хьюстон ничем не лучше Альбукерке, смело можно ручаться, что Гонконг, Де Мойн и Лондон ничем не лучше Хьюстона. Следуя этой логике, карту всего мира можно окрасить в цвет его ярости.
Но как бы он ни смотрел на мир, Джой чувствовал, что кто-то скрывается за покровом его благопристойности: какой отменный сукин сын играет в прятки с его памятью. Но кто? Или что?
И как-то он вспомнил Салли Бак.
Салли Бак говорила по телефону: «Джой, что ты делаешь, радость моя? Вот и прекрасно, а теперь слушай: я договорилась о встрече на поздний час, и когда я доберусь до дома, то буду такой усталой, что, может быть, зайду в «Коня и Седло» выпить пива».
«Мой красавчик? Как ты себя чувствуешь? Слушай, вроде твоя бабушка отправляется в Санта-Фе на день Четвертого июля, и похоже, что у меня новый ухажер, неплохо для такой старушки, как я, а? А ты веди себя молодцом, идет?»
Салли Бак стоит в дверях его спальни:
«Ну сейчас и я завалюсь на боковую, сладенький мой, а то я прошлую ночь почти совсем не спала, надеюсь, что у тебя было все хорошо днем, вот ты мне все и расскажешь утречком, а то я сейчас ни одного слова разобрать не могу».
Салли Бак в своем косметическом салончике:
«Слушай, сахарный мой, эта приемная только для леди, а ты же знаешь, как они к этому относятся, так что, если хочешь, бери этот журнал домой и не играй тут».
«Эй, малыш, тебе нет смысла дожидаться меня. Я должна еще заскочить к Молли и Эду. Ну неужели ты не можешь накрыться одеялом и заснуть как хороший мальчик?»
«Табель? А разве я не подписывала его на прошлой неделе? Ты говоришь, что это было шесть недель тому назад? Господи, как время летит, давай его сюда, где мне расписываться, сзади? Вот так! А теперь беги, малыш, а то у меня и так голова кругом идет».
Салли Бак. Он так и не мог припомнить, за что же он так любил ее: глупая старая балаболка, никогда не посидит спокойно, вечно сует нос во все дырки, то вытаскивает деньги и покупает то, что давно обещала, вечно все путает, и из-под платья у нее торчит комбинация, о чем ей приходится напоминать. Единственное, что он с удовольствием вспоминал, так это ее длинные тонкие ноги и то, с какой грустью он смотрел на ее большие костлявые колени, когда она скрещивала ноги. Даже появившись привидением в этой комнате гостиницы в Альбукерке, она, в сущности, не обратила на него внимания, а просто сидела тут, болтая, как бы заполучить обратно ее дом, о поездках верхом и о прочей такой же чепухе. Скачи, Салли, старая дура, подумал он, скачи к дьяволу. И когда ты с ним встретишься, можешь сделать ему укладку. Дер-р-рьмо.
Так кто же, стараясь быть предельно честным, спрашивал он себя, так кто же относится к нему, как к существу, которому имеет смысл посвятить день или два? Кто? Вот так возьми и скажи — кто? В памяти у него всплыло два облика и ковбойская песня. Вот эти два лица он не мог забыть: одно из них принадлежало лихому парню, а другое — человеку, который не был во плоти и крови вот уже две тысячи лет. И осталась еще только песенка: «беги со мной, мой песик, беги со мной, беги со мной…»
Вудси Найлс!
Вот Вудси Найлс в самом деле был исключением. Но что толку от него здесь и сейчас? От него осталось в памяти лишь блистательное воспоминание, слишком неправдоподобное в своем великолепии, чтобы верить в его существование, от него не осталось ничего, кроме запаха хорошего табака, гитарного перебора, подарков в виде веселых чертенят и давным-давно ушедшего лета; все это было исключением, таким редким исключением, что ему не было места в сегодняшнем взгляде на мир. Так что сияющее веселым сумасшедствием досиня выбритое лицо Вудси Найлса и крупные костлявые коленки Салли Бак он изгнал из воспоминаний: они были опасны для него, ибо заставляли стихать жившие в нем гнев и ярость. А как-то ему стало понятно, что, если он собирается иметь дело с этим миром, ему нужен весь запас гнева, скопившийся в нем.
Теперь в моечной кафе «Солнечное сияние» Джой работал куда быстрее и с куда большим напряжением. С какой-то яростью он бросал тарелки на поднос и ставил их на ленту конвейера. Словно, если он запихает в ненасытную пасть этой машины миллионы тарелок, она успокоится и извергнет деньги…
Он толком не знал, для чего ему нужны деньги. Он знал лишь, что на всякий случай надо иметь их при себе определенное количество.
Три утра в неделю он проводил в спортивном зале, где изнурял себя упражнениями, колошматил висячий мешок и не менее восьми раз проплывал бассейн. Он видел, что его тело подсыхает и обрастает мускулами. Он массировал кожу головы, уделяя внимание волосам, понемногу приобретая предметы ковбойского гардероба, и в нем неизменно присутствовало чувство облегчения, что все изменится к лучшему, когда наконец он полностью обретет новый облик. Он представлял себе, каков он должен быть, настоящий ковбой, но старался не утруждать себя вопросом; что, в сущности, изменит в его жизни это новое обличье. Существовала индейская легенда, что рано или поздно юноша увидит во сне маску и, проснувшись, он должен приняться за работу, вырезая тот облик, что привиделся ему во сне, И вступая в схватку, он должен одевать эту маску, чтобы одержать победу. И Джой Бак чувствовал себя так, словно увидел такой сон и теперь жизнь его была посвящена лишь тому, чтобы вырезать свою маску.
В эти дни он не тратил времени, мечтая о других компаниях и вообще не позволял себе расслабиться. Если у него нет на свете ни единой живой души, о ком ему заботиться?
Но, покинув кафе, он бесцельно бродил по ночам. Хотя для Джоя такие прогулки были отнюдь не бесцельны. Спроси его, что он делает, и он не обратил бы внимания на вопрос или просто отбросил бы его, словно цель его поступков крылась гораздо глубже, чем позволяли понять вопросы и ответы. Но он бродил по городу явно с какой-то целью. Он был настороже и не упускал из виду ни одной детали улиц ночного Хьюстона, словно разведчик в стане врага. Мало что из попадавшего ему на глаза стоило запоминания. Большинство оставляло по себе след не больше того, чем мимолетное отражение в зеркале.
Но некоторые сценки из его бесконечных скитаний по городу запали в память и всплывали в ней снова и снова.
Одним из таких беглых воспоминаний было изображение молодого голливудского актера, которое, залитое светом, украшало здание кинотеатра. Ростом в два этажа, с выгоревшими завитками волос, падавшими ему на лоб, он стоял, расставив ноги, чуть откинувшись назад и вскидывая выхваченный револьвер. Тускло поблескивающий его ствол был направлен прямо на зрителя.
Вторым образом из этой коллекции встреч, собранной по ночам, была краткая сценка на углу. Длинная белая машина остановилась перед красным светом. Женщина за рулем уставилась на высокого красивого молодого человека в ковбойской рубашке, стоявшего на углу. Двигатель у нее заглох. Но она продолжала смотреть на юношу. Через секунду она сказала:
— Никак не могу его завести.
И молодой человек ответил:
— Ручаюсь, что и не сможете без помощи, дорогая леди.
Третья картинка, запечатлевшаяся у него в памяти во время ночных прогулок, была не из тех, которые он с удовольствием вспоминал. Но нравилась ли она ему или нет, она стала одной из тех, которые он не мог забыть. Он увидел большой плакат с изображением бородатого молодого человека, в глазах которого была вся печаль мира. Над головой его венцом были расположены готические буквы послания, с которым он обращался ко всему миру, а внизу изображения густой малиновой помадой были намалеваны слова: «ИМЕЛ Я ТЕБЯ!»
И когда Джой Бак решил двинуться своим путем, он сохранил в памяти эти картинки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Мощь автобуса «Грейхаунд» сразу же поразила Джоя Бака, и в течение первой сотни миль, что они мчались на восток, он был всецело поглощен ею: хруст переключаемых передач, шипение шин, стелющаяся под колеса лента дороги создавали представление о машине, как о существе, которое не столько покрывает расстояние, сколько поглощает его. Рядом с водителем было свободное место, и Джой присел на него покурить, восхищаясь идеальной слитностью автобуса и дороги, которая словно бы наматывалась на колеса огромной машины, а сама она, по мере того как улетали назад мили, идеально сливалась с шоссе. Возвращаясь к себе на место, Джой попробовал переговорить с водителем:
— До чего мощная штука, точно? — Но водитель даже не взглянул на него.
Двигаясь по проходу, Джой чувствовал себя циркачом, балансирующим на спине лошади. Огромная махина, в центре которой он находился, чем-то напоминала его самого, но Джой был слишком погружен в свои мысли, чтобы осознать это. Но подсознательно он ощущал, что отныне он так же будет прорезать пространство и время, стремясь к своей цели.
Вернувшись на свое место, он улыбнулся, прислушиваясь к жившим в нем новым ощущениям, послал воздушный поцелуй блестящим сапожкам и, едва лишь закрыв глаза, провалился в глубокий непроглядный сон ребенка, которому только предстояло появиться на свет.
Таким образом, Джой проделал первую половину своего пути на Восток. Порой он открывал глаза, но и в эти минуты рассеяно смотрел на пролетающие за окном пейзажи, потому что был всецело погружен в размышления о себе и об ожидающем его будущем.
Лишь на второй день в полдень, часов за пять до прибытия на место, Джой стал испытывать некоторое неудобство. Все шло так хорошо, что это стало вызывать у него подозрения. Ему пришло на ум, что его впутали в какую-то колоссальную игру, в которой он оказался и жертвой и преследователем. Например: какого черта он отправился в Нью-Йорк и что он собирается делать? Он уставился на полку над головой, стараясь обрести уверенность при виде своей черно-белой сумки и вспоминая те прекрасные вещи, которые хранились в ней; и каждые несколько минут он прикасался к карману брюк, в котором лежали деньги. Он изучал лица других пассажиров в поисках возможного союзника — или же все они такие же странники, смутно представляющие себе, что их ждет по прибытии в самый высокий и богатый город мира.
Последняя остановка для отдыха была в Говард Джонсон в штате Пенсильвания. Джой потащил с собой сумку и провел двадцать минут в туалетной комнате, готовясь к прибытию в Нью-Йорк. Он побрился, поплескал на лицо «Флоридской водой», сменил рубашку и несколькими быстрыми движениями навел глянец на свои сапожки. Хотя здесь были и остальные мужчины, занимавшиеся тем же самым, Джой не мог устоять перед искушением покрасоваться перед зеркалом. Он отошел от него на несколько шагов, испытующе глядя на себя, чуть повернулся, не в силах скрыть удивления перед представшим перед ним обликом. Зрелище полностью удовлетворило его. Когда пощелкивая подковками, он вышел из туалета, остальные пассажиры уже сидели в автобусе. Две очень юные девушки, сидевшие в передней части машины, которые во время всего путешествия явно старались обратить на себя внимание Джоя Бака, поднимались в автобус как раз перед ним. Одна из них, возбужденная его близостью, тихонько хихикнула. Джой испытал полное удовлетворение. Проходя на свое место, он чуть приподнял стетсон и одарил их сдержанной, но теплой улыбкой, которую выработал у зеркала. Реакция у них последовала невообразимая: почти всю дорогу они пребывали в состоянии дикого возбуждения, то и дело покатываясь со смеха, вырывая друг у друга носовой платок и подталкивая друг друга. Джой совершенно успокоился и даже не мог припомнить, что еще недавно так волновало его. Что он будет делать, когда окажется в Нью-Йорке? Ну, мать твою, что может быть проще? Прямиком на Таймс-сквер, а там видно будет.
Внезапно прямо перед ними выросла зазубренная линия небоскребов Манхеттена, словно столбы в густом винограднике. Джой засунул себе руку в промежность и, сглотнув, сказал про себя: «Вот с этой штукой мне и придется иметь дело — я накину на него лассо и скручу это чертов остров».
2
В отеле «Таймс-сквер» Джой был препровожден в свой номер старым морщинистым коридорным, который беспрерывно называл его «сэр» и тащил ему сумку. Дав ему доллар, Джой закрыл двери и осмотрелся в номере. Он был вдвое дороже, чем в Хьюстоне, но куда более уютен, и в нем даже была отдельная ванна. Стены недавно были выкрашены в светло-зеленый цвет, постельное белье отличалось безукоризненной чистотой, а мебель вся была сделана из кленового дерева. Над кроватью висела акварель, изображающая небоскребы Манхеттена, а рядом на столике располагался телефон. Джой ощутимо вырос в собственных глазах.
Распаковав вещи, он поставил транзистор на столик у кровати. Закурив, он присел у окна, в изумлении рассматривая два своих новых мира, — за окном бурлили шумная и богатая 42-я стрит, а за его спиной было обиталище, где висела его шляпа и где он мог преклонить голову. Он долго сидел, уставившись в открытые ящики комода, и в какую-то сумасшедшую минуту оказался не в силах поверить, что все эти вещи в самом деле принадлежат ему и лежат перед его глазами, хотя он сам только что разложил их. В это краткое мгновение ему показалось, что стоит ему отвести глаза, как все тотчас же исчезнет из виду.
Он торопливо пересек комнату и остановился перед зеркалом. Он испытал облегчение, убедившись, что сам он по-прежнему здесь, но полную уверенность в этом он обрел, лишь когда махнул рукой, улыбнулся собственному отражению и выпустил клуб дыма. Затем он обследовал ящики письменного стола и туалет. Убедившись, что чувства его не обманывают, он снова прошелся по комнате, остановившись, чтобы еще раз улыбнуться своему отражение в зеркале, и сказал: «А теперь успокойся, ковбой. Ты обосновался здесь, и тебя ждет богатство». Он возбужденно покрутил бедрами, изображая совокупление, и вернулся к столу докурить сигарету.
«Нью-Йорк сити», — сказал он, глядя на улицу. Неправдоподобно толстая оборванная старуха, сидела на улице напротив под витриной кинотеатра и, поливая какой-то жидкостью из бутылки голые грязные ноги, растирала их. Никто не обращал на нее внимания. Полисмен, проходя мимо, с интересом посмотрел на нее, и пошел дальше.
— Вот такая комната, — обратился он к транзистору. Он повернул ручку настройки, надеясь, что звуки музыки заставят его окончательно поверить в реальность новой жизни.
Высокий, едва ли не истерический женский голос объявил: «Вот это моя система!» — женщина захихикала. Усиленный электроникой мужской голос произнес: «Ну и ну! Это превосходит все, что я слышал! Значит, когда вас мучает бессонница, вы просто вылезаете из постели?» «Да!» — завопила женщина, теряя над собой всякий контроль. «Ради бога, чем же вы занимаетесь?» — вопросил мужчина. «Я включаю свет! — не дыша ответила она. — И одеваюсь! И принимаюсь за дела, даже иду готовить! или печь!» Чувствовалось, что женщину настолько переполняли чувства, что она была не в состоянии связно говорить. Мужчина сказал: «А не чувствуете ли вы себя УСТАЛОЙ на следующий день?» «О, нет! — с мрачной серьезностью, словно ее обвинили в чем-то недостойном, типа симуляции, заверила женщина. — Честное слово, нет, клянусь вам!»
Джой почувствовал жалость к этой женщине, но в то же время ему понравился диалог. Ибо, похоже, он подтверждал все те слухи, что ходили о женщинах с Восточного побережья. И вслух он сказал: «Мне-то совершенно ясно, что с вами делается, леди. Стоит мне добраться до вашей радиостанции, я быстро приведу вас в форму».
«Конечно, — сказала женщина. — Ну тут у микрофона у меня просто подкашиваются ноги!» — и слышно было, что она чуть не впала в истерику.
«Ну-ну! — глупо хмыкнул ведущий. — Я надеюсь, что вы не свалитесь до того, как споете нам!»
И он поставил пластинку, на которой женщина, спокойным голосом, перекликаясь с эхом в студии, спела «О, мое глупое сердце».
Пока она пела, Джой выдвинул ящик стола. В нем он нашел шариковую ручку и две открытки с видом отеля. Рассмотрев одну из них, он выяснил, где находится окно его номера. Обведя его овалом, он перевернул открытку и написал «Дорогая» в месте, предназначенном для письма. И тут он остановился, пытаясь понять, кто же его дорогая. Не в силах придумать имя, которое следовало вписать, он разорвал открытку напополам и выкинул ее через окно.
Леди в транзисторе опять страдала, но на этот раз из-за любви. Джой взял вторую открытку, снова обвел свое окно и чиркнул: «Это я» — через все небо. И на второй стороне, уже ни к кому не обращаясь «дорогая», он написал: «Ну, вот я и здесь — Нью-Йорк совсем не такой большой город, и я нашел место, которое очень чистое к тому же…». В графе, предназначенной для адреса, он написал «Дерьмо». Затем порвал карточку надвое и сказал: «Провалиться мне на этом месте, если я приехал сюда, чтобы писать открытки». Но едва только выбросив ее обрывки через окно, он вспомнил, кому бы он мог ее отправить: своему коллеге-негру по мойке в «Солнечном сиянии». Высунув голову в окно, он проводил взглядом обрывки, плавно опускающиеся вниз. Один из них, казалось, мог упасть на шапку-пирожок прогуливающегося моряка, но тот успел влиться в толпу пешеходов, высыпавших на улицы ранним вечером.
3
Джой ускорил шаги, чтобы оказаться на углу в одно и тоже время с респектабельной дамой. К счастью, зажегся красный свет, под надзором которого им придется постоять рядом, и тут может как-то завязаться разговор, в ходе которого леди, может быть, изменит ее сдержанность. Парк-авеню разочаровала его: в сумерках на ней прогуливалось всего лишь несколько человек и никто из них не удостоил его второго взгляда. Его вера в себя и успех своих намерений носила в лучшем случае очень хрупкий характер, и он должен был поторопиться не терять времени даром, подавляя всякие сомнения, которые могли окончательно обезоружить его.
Например, поведение данной леди, за которой он следовал, ни в коей мере не свидетельствовало, что она хочет обрести то, что он мог бы ей предложить. Но он знал, что, если хоть на мгновение поддастся ее безукоризненной уверенности, которая сказывалась в каждой черточке ее облика и в каждом движении, решимость покинет его раз и навсегда.
Она была хрупкой женщиной с каштановыми волосами, среднего роста. Когда она шла перед ним по Парк-авеню, Джой восхищенно глазел на ее лодыжки. Они были стройные, прекрасной формы и, казалось, говорили: «Мы не очень сильные — но все же силы у нас хватит — и богатства тоже».
На углу 39-й стрит, ожидая переключения светофора, Джой снял шляпу и приложил ее к груди.
— Прошу прощения, мэм, — сказал он, приводя в движение все мускулы лица, чтобы изобразить мужественную улыбку. — Я тут в городе новый человек, только что из Хьюстона, Техас, и ищу Статую Свободы.
Богатая леди не мешала ему любоваться ее профилем, тонким и изящным, но не подала и виду, что слышит его слова.
Когда свет сменился, леди пересекла Парк-авеню. Джой последовал за ней. Оказавшись на другой стороне улицы, она остановилась и повернулась к нему, сказав:
— Вы что, шутите? Относительно Статуи Свободы? — Тон ее был сух, но в нем не было ни враждебности, ни симпатии.
— Шучу? Нет, мэм! О, нет! Я в самом деле это и имел в виду.
— В таком случае, простите меня, — сказала она, колеблясь, но по какой-то причине, ясной только для нее, решила продолжить разговор. — Мне кажется, вы пытаетесь что-то… впрочем, неважно. — Она улыбнулась, и Джой внезапно растрогался, увидев следы былой красоты, присущей ей в далекой-далекой молодости — возраст чуть тронул ее кожу, но все же в глубине ее ярко-голубых глаз была та искренняя симпатия, которая свойственна только юности.
Она повернулась лицом в южную сторону.
— В сущности, я и сама никогда не видела ее, разве что только с борта судна. Но вот что вы должны сделать… дайте мне подумать. Вы должны сесть на подземку, да, я уверена, на Седьмой авеню и доехать до конца линии. Хотя, впрочем, я не уверена. Лучше вы спросите кого-то еще и действуйте смелее, понимаете?
Джой был так тронут отношением женщины, что с трудом разбирал слова, но каждое из них, слетавшее с ее губ, казалось ему верхом совершенства.
— Ну до чего же вы красивая женщина, — сказал он, удивляясь самому себе.
Женщина быстро отпрянула от него, повернулась и так покраснела, что он сам смутился.
— О! — сказала она, пытаясь нахмуриться, но чувствовалось, что она не привыкла это делать. — Вам же совсем не нужна Статуя Свободы.
— Да, мэм, — сказал он. — Не нужна.
— Тогда почему же… о, это просто ужасно. Как вам только не стыдно?
Но лицо ее расплылось в улыбке, покрывшись сетью морщинок, и в яркой голубизне ее глаз он увидел неприкрытую симпатию к себе. Ее лицо, особенно эти потрясающие глаза, казалось, говорили: «Мы с вами удивительные люди, которые понимают всю красоту мира, скрытую от прочих, а теперь после столь приятной тайной встречи, мы должны расстаться».
Но вслух она просто пожелала ему счастливого пути. И ушла.
Он смотрел ей вслед, отметив, что ее стройные бедра живут словно сами по себе. Это ему понравилось. Но он почувствовал легкую спазму в желудке. Ему всегда нравилось смотреть вслед проходящим женщинам, обращая внимание, как они подчеркнуто покачивают попкой из стороны в сторону и в то же время так гордо держат голову, что ты начинаешь думать, как будто мысли их где-то за семь тысяч миль в Ледовитом океане и так же холодны и невозмутимы. Но сейчас ему было не до этих милых радостей; Джой Бак чувствовал слабость и жжение во всем теле; ему пришлось напрячь мышцы бедер, чтобы сохранить равновесие и со всей слой поджать пальцы ног.
— Симпатичная баба, — приглушив голос, вслух сказал он, глядя, как она идет по 37-й стрит. — И богатая к тому же, — добавил он, следуя за ней по другой стороне улицы и восхищаясь каждым ее шагом. — Жалко, что такую не купишь, — добавил он, видя, как она, повернув, поднялась по ступенькам большого кирпичного дома.
Он смотрел, как она открывала дверь. Он видел, как она вошла в дом. А затем он издал некий нечленораздельный звук, в котором была тоска, холодком тронувшая ему сердце: дверь закрылась.
Он присел на соседнюю скамейку и, продолжая наблюдать за зданием, пытался понять, в чем смысл доставшихся ему новых страданий. В темных окнах бельэтажа внезапно бесшумно вспыхнул свет. Он был янтарного оттенка, теплым, как плоть, но Джой не мог понять, почему ему так больно смотреть на него. Он понимал только, что время сумерек кончилось и пора хорошенько выпить.
Он заставил себя встать на ноги и снялся с места. И очень скоро наткнулся на другой тип богатой леди.
4
Эта вторая дама прогуливала белого французского пуделя по Лексингтон-авеню в районе 39-х улиц. Джой наткнулся на нее, когда она любовалась желтыми соцветиями в окне цветочного магазина.
Пудель был таким крошечным, что смахивал на игрушку, но хозяйка его отличалась внушительными размерами. Она была похожа на кинозвезду, крах карьеры которой наступил из-за неумеренного обжорства. Жгучая брюнетка, она носила накладные ресницы длиной в три четверти дюйма, а на лице и ногтях был наложен густой слой краски. Многочисленные украшения придавали ей вид марионетки, которой управляет рука кукловода: кто это там у нее внутри, думаете вы, глядя на маленькие зеленые глазки крупной куклы, уставившейся на вас.
Пока она изучала бутоны, Джой пристроился рядом и настойчиво уставился на розы, пока не понял, что она обратила внимание на его присутствие.
— Идем, Беби, — с наигранным оживлением сказала она, обращаясь к собачке, которая крутилась под ногами. — Не серди мамочку. Идем же, сладкая моя.
Джой прижимал к сердцу свой стетсон.
— Прошу прощения, мэм, — сказал он. — Я в вашем городе как с неба свалился, только что приехал из Хьюстона, Техас, и надеюсь, что мне удастся взглянуть на Статую Свободы.
Недоверчиво приоткрыв рот и приподняв брови, женщина окинула его недоверчивым взглядом.
— Вы надеетесь взглянуть на ч т о?
— На Статую Свободы, — сказал он, улыбаясь и щурясь, словно его слепило сияние луны. Точнее, он слегка скривил губы, будто стараясь скрыть непроизвольную улыбку, что не могло не вызвать к нему определенного интереса.
Встретив его взгляд, леди выдержала его с твердостью, достойной мужчины.
— Вам бы лучше прошвырнуться в Центральный парк, — сказала она. — Если поторопитесь, успеете на большое шоу. А теперь проваливайте. — Голос у нее был хриплый и громкий.
Но едва он собрался отступить, эта вторая леди подмигнула ему. И улыбнулась недвусмысленно провокационным образом. Удивленный, он уставился ей вслед, когда вихляющей походкой она пошла по Лексингтон-авеню в своей плотно обтягивающей черной юбке и розовых туфлях на высоких каблуках, в сопровождении бежавшей за ней собачонки.
У светофора она остановилась, ровно на четыре секунды, смерила ковбоя взглядом, улыбнулась, а затем, нагнувшись чтобы подобрать собачку, исчезла за углом, что-то ласково нашептывая пуделю, который удобно устроился на сгибе руки.
Поспешив за угол, Джой увидел, что она поджидает его под навесом дома с квартирами. Леди, убедившись, что он последовал за ней, двинулась внутрь здания.
Через секунду и Джой миновал створки солидных золотых дверей — может, они и не были на самом деле золотыми, но, во всяком случае, создавали впечатление, когда вы проходили мимо них, что деньги отныне не являются проблемой. По ковровой дорожке он дошел до лифта, в котором стояла леди, гордо глядя перед собой и делая вид, что не замечает его. Но как только двери лифта с мягким чмокающим звуком захлопнулись за ними, Джой почувствовал, как длинный язык леди буквально засосал в себя его губы, а животом она настойчиво терлась об него. Затем, несмотря на свои внушительные размеры, она улыбнулась как маленькая девочка и сказала: «Привет». Джой передернулся.
Пудель гавкнул, раздался еще один чмокающий звук, и они вышли из лифта прямо в квартиру, застланную пушистым ковром.
Леди взяла его за руку.
— Мне надо пару дзинь-дзинь, — сказала она, таща его за собой к бело-золотому столу, на котором стоял телефон.
Одной рукой, набирая номер, другой она расстегнула пуговицы его рубашки и стала возиться с «молнией» брюк.
Все последующее произошло с такой быстротой и в таком стиле, что они превзошли даже самые смелые фантазии Джоя.
— Это Кэсси Трехьюн, — сказала в трубку богатая леди, запустив левую руку в брюки Джою. — Есть какие-нибудь послания для меня? Кто это? Имельда? Привет, радость моя. Есть что-нибудь для меня? Нидлмен, так, ясно. Как давно? Я говорю, когда? О'кей, это где, на Мюррей-хилл, пять? Нет, нет, я беру его. Беру, Имельда, так и есть, черт возьми. Понимаешь? Спасибо! Привет.
По-прежнему держа трубку, она нажала большим пальцем на рычаг. Затем посмотрела вниз — выяснить, что удалось найти ее левой руке.
— О, господи! — восхищенно воскликнула она и занялась находкой, продолжая в то же время набирать номер в Мюррей-хилле.
— Мистера Нидлмена, будьте любезны.
Наступила пауза, в течение которой она приподняла рубашку Джоя и, повернувшись задом, прижалась к нему, притянув его руки себе на талию.
— Добрый день, мистер Палбаум, что вы там делаете? Благодарю вас, отлично. Просто потрясающе. — Наступила еще одна пауза, и она прижалась ухом к губам Джоя. — О, Господи, да прекратите же, — простонала она, — Я не могу этого вынести, я просто умираю. Мори? — Голос ее обрел ласковую мягкость, словно она заманивала ребенка в газовую камеру обещанием печенья. — О, Мори. Как я ждала твоего звонка. Я гуляла с Беби. Нет, радость моя, я выходила только на минутку. Ну да, конечно, я раньше с ним выходила. Примерно в три часа. Но, радость моя, я интересовалась и для меня ничего не было. Ведь ты не оставил мне никакого послания, не так ли? Ну, хорошо! Вот что я тебе скажу! О, да ты меня просто с ума сводишь. Я с ума схожу, мне просто плохо. Еще немного, и я заблюю весь ковер. Мори, понимаешь, что я этого больше не могу вынести? Тебе нужно от меня только одно… Хихикнув, она продолжила:
— Конечно, я не это имею в виду, глупенький. Слушай, когда ты можешь прийти? — Повернувшись лицом к Джою, она засунула ему язык в рот. Никакой страсти в ее действиях не чувствовалось; ею руководил чуть ли не клинический интерес, с которым она решила исследовать состояние зубов у него во рту. Затем, быстро завершив испытания, она снова обратилась к телефонной трубке. — Ну ладно, если ты так считаешь, но я буду очень разочарована. — Подмигнув Джою, она показала ему руку с перекрещенными на счастье пальцами. — Ты спрашиваешь, что я буду делать, Мори? — Ну, сосну часик-другой, пообедаю у телевизора, а потом буду долго одеваться. Убивать время. Очень хорошо, куколка моя, в полночь у Джили, и я вне себя от ожидания.
Она издала звук в трубку и закончила разговор, изображая детское сюсюканье.
— Нет, нет, тебе достанется только разок! Я тоже ужасно люблю тебя.
Повесив трубку, она обратила полное и безраздельное внимание на Джоя.
Последовавшие события происходили в трех комнатах, и свидетелем большинства из них был маленький пудель. Начав у стола, они переместились к столику для коктейлей и к пуфику. Затем, когда они оказались у мойки на кухне, пудель потерял к ним интерес и покинул помещение. Через несколько минут Джой и леди перебрались в спальню. Обнаружив, что кровать уже занята собакой, они разместились на полу.
Скоро они уснули прямо на пушистом белом ковре, и, пока они дремали, сгустились сумерки.
Джой проснулся от странного ощущения: ему показалось, что пудель лижет ему пятки. Он осторожно отдернул ногу. Тут же он почувствовал, что его схватила за лодыжку чья-то рука. Он открыл глаза и увидел, что его покусывает за щиколотку сама леди. Присев, он потянулся к ней, но она игриво отпрянула от него и голая выскочила на террасу. Восхищаясь ее размерами, он последовал за ней, с удовольствием обнаружив, что был занят делом в пентхаусе, особняке на крыше. Он погонял ее по террасе, пока наконец она, едва переводя дыхание, не позволила ему притиснуть себя к перилам, которые предохраняли от падения с пятнадцатого этажа.
— Т-с-с! — сказала она, глядя вниз и прижимая палец к губам. — Звезда взошла, и яркий свет, тот первый свет — вот что хочу, вот что хотела бы всю жизнь видеть над собой; о, вот она! — Она перегнулась через перила, прижавшись к ним животом и всем видом приглашая Джоя примкнуть к ней сзади.
— О-о-о, — протяжно простонала она, — я так боюсь, я так боюсь высоты.
В каждой руке Джоя лежало по ее ягодице, и Джой искренне наслаждался их полновесностью.
— Ну, от себя-то я тебя не отпущу, — сказал он, решительно приступая к делу, которого ждала от него леди.
— О, господи! — вскричала она. — Что ты делаешь, ведь это же просто ужасно, я никогда и не слышала о таком… — И тут она замолчала.
Долгим взглядом с севера на юг Джой обвел огромный остров Манхеттен, а затем увидел себя — на крыше одного из его небоскребов, голым под звездами, слившегося с женщиной, — и испытал глубочайшее потрясение. Он увидел себя словно в двух ипостасях, одна из которых представляла то, о чем он всегда мечтал, и на этой террасе, и в ту ночь они существовали словно отдельно друг от друга — и вот наконец они слились. Он застыл на несколько секунд, чтобы продлить это ощущение чуда, и глаза его наполнились слезами. Он испытывал момент подлинного счастья.
Но леди нетерпеливо дернулась, давая ему понять, что следует уделить внимание самому главному делу.
5
Первое предположение Джоя относительно состояния Кэсс Трехьюн опрометчиво исходило из двух факторов: из изящества и хрупкости ее собачки, на содержание которой надо было ухлопывать кучу денег и из-за обилия фальшивых камней на ее запястьях, которые он ошибочно принимал за алмазы. Ошибочность оценки усугублялась еще одним неправильным заключением: у того, кто обитает в пентхаузе, денег должно быть больше, чем у архиепископа.
Тем временем, когда минуло половина одиннадцатого, и Кэсс готовилась к своему полуночному свиданию с мистером Нидлменом, Джой советовался со своим отражением в зеркале у кровати в спальне.
— Слышь, Кэсс, — начал вслух репетировать он, — я хотел бы тебе сказать, что сегодня у меня самый лучший вечер в жизни! Провалиться мне, если это не так. Так что ни о каких делах не может быть и речи, ха-ха.
Прикинув, что такое начало может произвести довольно убогое впечатление, он пошел по другому пути.
— Эй! Ну, ты и классная штучка! — Опершись обеими руками на туалетный столик, он внимательно рассматривал свое отражение в зеркале. — Ты можешь подкинуть мне двадцатку? «О, КОНЕЧНО, беби! — сказал голосок у него в голове. — Бери пятьдесят. Хотя, видит Бог, ты достоин и сотни».
Облизав губы, он послал воздушный поцелуй самому себе в зеркале и снова улыбнулся.
Кэсс на цыпочках вышла из ванной — в полном макияже, но все еще голая. Почему-то застеснявшись, она закуталась в полотенце.
— Не смотри, — сказала она.
— Слышь, Кэсс, — сказал ковбой. — Я, м-м-м… ей богу, мне жутко понравилось вечером.
— Мне тоже, любовничек, — раздался голос из-за двери гардероба.
— Честное слово, никогда в жизни так не было!
К нему приблизилась башня цвета слоновой кости, украшенная россыпью черного стекляруса. — Застегни-ка эту «молнию», техасец.
Джой затянул «молнию».
— Понимаешь, Кесс, — затем сказал он, — я, м-м-м, ну, говоря по правде, я занят делом.
— Бедняжка, — сказала она, усаживаясь за туалетный столик и опрыскивая волосы лаком. — Мори просто уж-жасно страдает от язвы.
— М-м-м, — задумался Джой. — Ну, я не знаю, чем там занимается твой Мори, — сказал он, помедлив, — но у меня совсем другие дела.
Кэсс была всецело занята собой.
— Да, на Мори ты совсем не похож, — сказала она, — как там ни крути. Уж можешь мне поверить. — Она внимательно изучала себя в зеркале. Обнаружив неровно наложенную помаду, она взялась за тюбик.
— В сущности, — сказал Джой, выдавливая из себя слово за словом, — я игрок. И сутенер.
ВОТ ТАК!
— Хм-м-м, — сказала она, закусывая нижнюю губу и покрывая ее густым слоем оранжевой помады. Она пробормотала нескольких непонятных слов.
— Прости?…
Она вернула губы на место и закрыла тюбик помады крышечкой.
— Говорю, что каждый зарабатывает на жизнь, как умеет.
Джой хмыкнул.
— Ты уверена, что слышала мои слова?
Кесс не ответила на это. Но Джой приободрился, увидев, как она встала и подошла к столику, на котором лежала ее сумочка.
— Прости меня, милый, — сказала она. — Боюсь, что крепко поиздержалась. Может, ты мне подкинешь.
Она открыла сумочку. Джой поежился. Краем глаза он видел, как она подошла к нему и опустила сумочку на уровень его глаз.
Она была распахнута, и в ней было совершенно пусто.
— Техасец, — сказала она, — не подкинешь ли мне немного мелочи на такси-макси. А то я не успела сегодня забежать в банк. — Сев, она положила подбородок на руки и умиротворенно посмотрела на него. — Ты ТАКАЯ куколка! — сказала она. — Я просто ненавижу деньги, верно? Господи, да это просто смешно!
Джой был потрясен до мозга костей, но быстро оправился. Он выдавил из себя смешок и сказал:
— В самом деле, смешно, что ты говоришь о деньгах. Я сам собирался одолжить у тебя немного. — Он попытался сопроводить свою просьбу легкой усмешкой, но она застыла у него на губах, поскольку и воздух в комнате и все окружающее превратилось в сплошную глыбу льда. Прикрыв глаза, он сжался, чтобы переждать эту невыносимо долгую опасную минуту.
Наконец, по-прежнему подпирая подбородок скрещенными руками, женщина сказала тихим бесстрастным голосом: «Значит, ты хотел бы получить денег от МЕНЯ? Так? Ты просишь меня о деньгах, да? Вот что тебе надо — получить от меня денег? — Джой был не в состоянии вымолвить ни слова, но Кэсс прочитала ответ в его взгляде. — Ты кусок дерьма! — с силой сказала она. — Ты подонок! Ты сукин сын! Ты, наверное, решил, что имеешь дело с какой-то старой шлюхой! Ты только посмотри на меня: мне тридцать один год! Ты решил, что провел со мной время и можешь набить мошну, так? Ну, ты явно рехнулся. Да тебе такой женщины, как я, вовек не видать, мне только тридцать один, чтобы ты понял! Да я, не моргнув глазом, убью тебя!»
Глаза ее внезапно заволокло слезами. Зарыдав, она бросилась ничком на кровать, выдавливая из себя слова типа «Да у меня никогда в жизни…» и тому подобные, которые разобрать было очень трудно, так как она засунула пальцы себе в рот.
Джой поднялся. Он не имел представления, что ему делать и что говорить. Он закурил, кинул спичку в пепельницу и глубоко затянулся. Подойдя к женщине, он нерешительно остановился, глядя на ее тело, словно ожидая подсказки, как ему себя вести. Ее голые плечи тряслись от рыданий, и вся она напоминала кита, выброшенного на берег. Его поразила глубина горя, которое сотрясало такую тушу.
— Эй, — сказал Джой, садясь с ней рядом. — Эй, КЭСС! — Положив руку ей на спину, он принялся нежно водить по ней взад и вперед. — Неужели ты в самом деле подумала, что я это думал? Ну, насчет денег? Господи, да я хотел только разыграть тебя. — Вот черт! А я думал, что у тебя прекрасное чувство юмора и ты тут же поймешь, что я дурачусь.
Он склонился к ней, стараясь утешить ее.
— А! Да ты просто притворяешься. Ты вообще не плачешь. Слушай, так сколько тебе нужно на такси? — Он вытащил деньги, всю пачку. — Сколько тебе нужно, радость моя? Пять? Десять? Давай же выкладывай, черт бы тебя побрал.
Выпрямившись, он помахал деньгами у нее перед носом.
— Открой глазки. Глянь-ка! Стал бы я просить у тебя денег, когда у меня их такая куча на заднице? Пошевели мозгами! Господи, да я же из техасского Хьюстона, и мой папа нефтяник! Я никогда в жизни ни у кого и цента не одалживал. Ну, ты кончишь хныкать?
Она стала рыдать еще горше и отчаяннее. Он сунул ей пачку носовых платков, взятых с ночного столика. Она прижала их к лицу, продолжая всхлипывать.
Он тихонько прошептал ей на ухо:
— Эй, — и легонько коснулся ее щеки. — Ты СОВЕРШЕННО потрясающая баба, Кэсс. Мужик только взглянет на тебя, и тут же сходит с ума.
Она открыла глаза. Джой кивнул.
— Точно, — сказал он.
Затем он взял двадцатидолларовую бумажку и засунул ее в ложбинку между грудями.
— Вот туда ее.
Кэсс Трехьюн села и прочистила нос.
6
Оставив апартаменты Кэсс, Джой отправился в ближайший салун выпить. Он здорово устал, и в голове у него был сплошной туман. В памяти у него все время всплывала та жуткая баба в техасском борделе, мать Том-беби. Он понять не мог, почему физиономия этой ведьмы все время крутилась у него перед глазами, но она появлялась снова и снова.
Он сделал еще один глоток, надеясь, что жгучая жидкость прочистит мозги и он начнет что-то соображать. Он решил пройтись, разглядывая окрестные вывески, но плохо представлял, куда направляется. К полуночи он обнаружил себя в другом салуне, крепко напоминающем большой бордель под названием «Эверетт», где-то на Бродвее в районе 40-х улиц. Телевизор и музыкальный ящик, как электронные психи, перекрикивали друг друга, и извергаемый ими шум, отражаясь от истертого пола, эхом уходил к потолку из оцинкованного железа, производя жуткий грохот, но никто из двадцати или около того посетителей бара, казалось, не обращал на него внимания.
Джой пропустил две порции ржаного виски, сопроводив их пивом. Затем, закурив, он поискал глазами зеркало, взгляд в которое мог бы придать ему уверенности. Снова перед ним вспыхнула Хуанита Босоногая, давая понять, что расставаться с ним она не собирается. Он видел, как она сидела на корточках, подманивая его, подобно дьяволу, приглашающему в ад. Он видел, как она разевала пасть, слышал даже звук ее голоса, но слова были неразличимы. Обнаружив зеркальце на небольшом автомате для сигарет, он купил совершенно не нужную ему пачку «Кэмела» и увидел свои усталые глаза, по-прежнему видя перед собой Хуаниту. Она перекрывала собой весь Нью-Йорк, и он уже смирился с тем, что она даст ему какой-то совет.
Совет.
Он должен выслушать его, хоть от кого-нибудь, вот в чем было дело. Эта мысль завладела им, он не может в этом городе и шагу ступить без того, если не найдет кого-нибудь, кто знает тут ходы и выходы и сможет дать ему дельный совет.
Обретя новое расположение духа, Джой увидел, что на него уставилась некая личность, которая появилась тут во время его отсутствия: костлявый парень детского телосложения, который расположился по соседству с ним.
Поймав взгляд Джоя, он улыбнулся и слегка махнул ему рукой.
— Ты уж меня извини, что я глазею, — сказал он с явным нью-йоркским акцентом, — но я просто восхищаюсь такой потрясающей рубашкой. — В немом восторге он покачал головой. — Черт, ну и рубашка! Бьюсь об заклад, что она тебе недешево обошлась, верно? — Он говорил шепотом, но настолько серьезно, что Джой увидел в парне намерение установить конспиративные отношения. Он тут же догадался, даже не отдавая себе отчета, что такая манера разговора говорит о тесном знакомстве с уголовным миром.
— Да, уж не дешева, — скромно сказал Джой. Он уперся кулаками в бедра и осмотрел себя сверху донизу. — То есть, ага, я бы сказал, что рубашка в самом деле стоящая. Знаешь, я как-то не привык таскать дешевые вещи. Точно.
И тут Джой внезапно понял, где он получит совет, в котором так нуждался.
Он протянул руку:
— Джой Бак из Хьюстона, Техас. Что ты скажешь, если я поставлю тебе выпить?
Они обменялись рукопожатием. Давно не мывшийся маленький кудрявый блондин представился как Рико Риччио из Бронкса. Он производил впечатление человека, понимающего, что к чему и почем. И знал, как слушать собеседника: в его больших карих глазах были внимание и сочувствие, и у него были большие настороженные уши, словно чья-то рука была постоянно приставлена к ним, чтобы они не потеряли ни звука.
Пока они разговаривали, Джой угостил Риччио выпивкой и дал закурить. Чувствуя себя в данной ситуации хозяином, он старался, насколько возможно, почтить своего гостя, постоянно подливая ему пива и поднося огонька.
Джой убедился, что ныне он открыл сокровенную сущность алкоголя. Он не только придал ему чувство уверенности в общении, но и раскованность языку, и он во всех подробностях изложил внимательному и восхищенному слушателю детали представшей перед ним дилеммы. И когда Риччио проявил осторожный интерес к финансовому положению Джоя, тот с подчеркнутой аккуратностью выложил ему точно девяносто один доллар. Наличными. Из бокового кармана. Того, что слева.
Риччио предложил, что их необходимо посчитать. Просто для точности.
В этом месте беседы внимание нового друга Джоя было отвлечено появлением двух молодых людей. Войдя, они расположились у дальнего конца стойки. Риччио явно дал понять, что не рвется встретиться с ними. Он предложил Джою уединиться в кабинке.
Следуя за Риччио в заднюю часть бара, Джой обратил внимание на две вещи, касающиеся того. Во-первых, он был инвалидом. Левая нога его была меньше и короче, скорее всего, в результате болезни в детстве. При ходьбе он при каждом шаге клонился на сторону, напоминая качели. Второе, что отметил Джой, заключалось в том, что большие уши, в своей оттопыренности далеко отстоящие от головы, казалось, не принадлежали их хозяину. Внезапно ему показалось, что коротышке не больше двенадцати лет, и он сделал усилие, чтобы не дернуть его за рыжеватый вихор.
Когда они рассаживались, заняв отгороженную нишу рядом с орущим музыкальным ящиком, Джой заметил, что Риччио взял обеими руками свою левую ногу и засунул ее под стол. Он стиснул зубы и побледнел от напряжения при этом усилии.
Для Джоя это было решающим моментом: он увидел, что его новый друг страдает от боли, и, может быть, живет с постоянным ощущением ее, что угрожало нарушить так блистательно складывающуюся дружбу. Алкоголь придал Джою особенно острое ощущение бытия, и он во всей обнаженности увидел жизнь, которая доныне была скрыта от него: всегда, в самые лучшие часы, перед тобой может всплыть ее внезапное безобразие. Ты можешь быть наверху блаженства, но одно слово ввергает тебя в глубины печали. И это, и понимание того, что он ничего не может сделать с больной ногой друга, вызвало у Джоя гнев, который перешел едва ли не в ярость. Эту ярость он не мог долго сдерживать в себе, поскольку перед глазами постоянно был ее источник. Внезапно взгляд его упал на музыкальный ящик. Он начал извергать оскорбления по поводу звуков, которые тот издавал, и перед его мысленным взором предстал лихой ковбой, который одним точным ударом гасит все его мигающие огни. Он встал, решив претворить этот образ в реальность, но внезапно его остановило выражение лица Риччио, на котором он увидел удивление и страх.
Джой со смущенным видом улыбнулся и направился в туалет. По пути он выяснил, что выпитый алкоголь оказал на него и побочный эффект: его мутило, и у него кружилась голова. Ему придется скорее добираться до туалета, если он не хочет, чтобы его вывернуло тут же на пол.
Чуть позже, умываясь над раковиной и сполоснув рот, он с удивлением услышал отразившийся от зеркала свой громкий голос, который на самом деле был голосом Хуаниты Босоногой, и куда более звучным, чем его собственный: «Выпей-ка и освежись, ковбой, это тебе поможет».
«Заткнись, старая ведьма, я сам знаю, что мне делать», — сказал он, стараясь придать твердость своему голосу.
Вернувшись к столику, он сказал:
— Ну вроде с меня хватит пить. Баста.
Риччио, погруженный в какие-то свои мысли, кивнул и взглянул на Джоя прищуренными глазами.
— Я пока тут прикинул, что к чему, — сказал он, с трудом выталкивая слова из горла, в котором, казалось, громоздилась куча гравия. — Тебе повезло, Джой. Дайка мне сигарету.
Джой торопливо протянул ему «Кэмел» и дал прикурить. Чувствуя, что наступил едва ли не самый важный момент в его жизни, закурил сам и, глубоко затянувшись, наклонился вперед.
Риччио выпустил клуб дыма. Затем покивал, не сводя глаз с Джоя Бака. Раза три или четыре он промычал «М-да», каждый раз рассматривая собеседника под каким-то новым углом.
— Знаешь, что тебе нужно? — наконец сказал он. — Мистер О'Даниел.
В этот момент чертов музыкальный ящик опять взорвался грохотом, и Джой не уловил имени человека, который был ему так нужен.
Риччио аккуратно вытащил изо рта табачную крошку и внимательно изучал ее, держа большим и указательным пальцами.
Джой схватил его за руку.
— Кто мне нужен? Кто мне нужен? — крикнул он.
— Мистер О'Даниел, — повторил Риччио.
— Мистер О… КТО?
— МИСТЕР О'ДАНИЕЛ.
— Говори громче.
— Менеджер, — крикнул Риччио, в ответ. — Тебе нужен менеджер. Ты знаешь что это такое?
— Слышал.
— Тогда о'кей. — Риччио склонился к нему и каким-то чудом до слуха Джоя стало доходить каждое сказанное им слово.
— Есть шикарные бабы, которые готовы платить деньги, потому что большинство из них уже не первой молодости; они богатые и держаться с достоинством — такие вот светские бабы. Следишь за моей мыслью? Так что они не могут, понимаешь, бродить по Таймс-скверу, прицениваясь. Понимаешь смысл? Они должны иметь дело с неприметным солидным человеком средних лет. С агентом. С представителем. Вот как мы с тобой, Джой, — идет?
— Ага! ИДЕТ! — Яростно кивнув головой, Джой снова подставил ухо к губам Риччио.
— Значит, договорились, — заключил Риччио. — Мистер О'Даниел — во мужик! — Он вскинул руки ладонями кверху. — Вот такой.
Джой расслабил мышцы. Прислонившись к стенке, он позволил себе отдохнуть. От жесткого сиденья побаливали ягодицы, но чувствовал он себя словно на крыльях. Покачав головой, он улыбнулся и сказал:
— Ну, дер-р-рьмо! — Затем он засмеялся от счастья.
— Скажу тебе, — поведал Риччио, — что недели две тому назад я устроил к нему одного парня. Сегодня у него просто СКАЗОЧНАЯ жизнь. Куча новой одежды. Водит машину. Что ни день, отправляется в банк — естественно, чтобы ПОЛОЖИТЬ туда деньги. Хотя, насколько я знаю, он не представляет собой ничего особенного. Совершенно обыкновенный парень.
Джой снова выпрямился.
— Черт возьми, как мне повезло, что я напоролся на тебя.
— Да это просто позор, что такой парень, как ты, дал двадцать долларов какой-то толстухе, это сумасшествие. Не то, что я тебя ругаю. Господи, мне так же плохо, как тебе. Да еще хуже! Стоит бабе заплакать, и я готов дать ей все, что она просит. Пустит слезинку — и я готов сердце вырвать из груди ради нее.
— Я готов, — сказал чей-то новый голос, — сделать эту маленькую операцию.
Рядом с ним стояли двое молодых людей, которых несколько раньше они видели входящими в заведение. Говорил тот, кто был повыше; голубоглазый парень с лоснящимся лицом напоминал фермера, но брови его были сведены в жесткую прямую линию, что противоречило первому впечатлению.
— Вырезать у тебя эту маленькую штучку, — сказал он, — не сложнее, чем проткнуть нарыв.
— Идем отсюда, Джой, — сказал Риччио.
Но он не шевельнулся, потому что молодой человек перекрывал ему дорогу.
— В сущности, — продолжал высокий, — можешь сидеть тут и не дергаться, а я справлюсь перочинным ножичком. Тебе даже не понадобится «скорая помощь». Что думаешь об этом плане, Рэтсо?
— Меня зовут Риччио.
— Это я и говорю, Рэтсо.
Наконец Джой Бак решил встать на ноги. Поднимаясь, он лениво демонстрировал смесь угрозы и доброжелательства, которую почерпнул из вестернов.
— Привет, — сказал он высокому парню, и в улыбке его явно читалось: мне бы не хотелось убивать, но если меня зажмут в углу…
Эта пара посмотрела на него с определенным уважением. Джой Бак просто несколько раз величественно качнул головой, давая понять, что он не настаивает на немедленном открытии военных действий.
— Все в порядке, — сказал Риччио, — я уж привык, что такие типы вечно пристают к калекам. И тут полно такого дерьма.
— Прошу прощения, — с подчеркнутой вежливостью сказал похожий на фермера парень, обращаясь к ковбою. — Могу ли я кое-что спросить у вас?
Джой неторопливо опустил ресницы, давая ему на то разрешение.
— Все очень просто: если ты сидишь вот тут, а он, — говоривший указал на Риччио, — вон там, думаешь, он удержится, чтобы не запустить тебе руку в карман? Ну ладно, — он пожал плечами, давая понять, что тема разговора его больше не интересует. — Я уверен, что он уже выкинул эту мысль из головы. — Он повернулся к Риччио. — Спокойной ночи, радость моя.
И пара покинула заведение.
Риччио смотрел на Джоя широко открытыми глазами, и на его лице была глубокая печаль.
— Теперь, — сказал он, — я думаю, что ты считаешь меня ОБМАНЩИКОМ!
Прежде чем Джой успел ответить, Риччио продолжил.
— Ну и пусть! Так что, если ты хочешь отделаться от меня, мы живем в свободной стране.
— Черт побери, — ответил Джой, — ничего я не собираюсь делать. Я не отворачиваюсь от друга просто потому, что он там почему-то не поладил с сопляками какими-то. — Джой совершенно отчетливо видел теперь перед своими глазами Хуаниту Босоногую: она, зевая, смотрела на небо. — Кроме того, — продолжал Джой, не обращая внимания на эту старую ведьму, — ты знаешь тут все ходы и выходы. И вот что я собираюсь делать — мне надо выкрутиться из того дурацкого положения, в которое я попал.
Риччио слегка расслабился. Он быстро облизал губы и сказал:
— Я думаю, что ты совершенно правильно оцениваешь положение дел.
Джой перегнулся через стол. — Так ты можешь сегодня же познакомить меня с этой птичкой, с мистером Как-его-там?
— Сегодня же? — Джой не смог скрыть изумления. — Так поздно? — Он нахмурился, пытаясь осмыслить вопрос Джоя.
— Ну, думаю, что в общем-то могу, но… — он испытующе в упор посмотрел на Джоя. — Слушай, объясни, почему я должен этим заниматься? Только потому, что ты хороший парень? Потому что ты поставил мне выпивку? Ладно, все это, конечно, прекрасно, но ты не представляешь, как нелегко мне будет найти этого типа. Во-первых, мне придется порядком побегать, в моем состоянии это требует немало времени, и для меня это будет уж точно не пикник. Кроме того, что мне с этого будет? Я чертовски устал, и в кармане ни цента. Ты со мной рядом? А завтра, когда ты будешь валяться в какой-нибудь шикарной спальне на Пятой авеню и шикарная баба будет чесать тебе спину, кто вспомнит о каком-то Риччио? Разве что вот этот автомат!
— Да брось ты! — оскорбился Джой. — Занимайся лишь своим делом, вот и все. Ты что, думаешь, я из тех сукиных сынов, которые получают что им надо и уносят ноги? Ты думаешь, я не отвалю тебе кусок? Ну, парень, ты, я вижу, совсем хвост поджал. — И взмахом руки Джой небрежно отмел все те глупости, которые сейчас прозвучали.
— Спасибо, Джой, — сказал Риччио. — Я говорил, что ты отличный парень, и сейчас ты мне доказал это. Но, м-м-м… — Он покачал головой. — Я ничего не делаю из-за выгоды. Это дело принципа. Понимаешь?
— Да я ничего и не говорил о выгоде, — сразу же возразил Джой. — Я сказал, что отвалю тебе кусок. А ты уж сам скажешь, чего тебе надо.
— Нет, нет, нет, Джой, я хотел сказать, что никогда не доверял людям, которые мне что-то сулили потом. И никаких обид, ты честный парень и у тебя благородное лицо. Но и у меня тоже. Верно? Ведь у меня тоже благородное лицо?
— Ну да, черт возьми, жутко благородное.
— Во! — Риччио щелкнул пальцами и вытянул указательный, чуть не ткнув Джоя в нос. — Ты доказываешь мою точку зрения: у меня честное лицо — но я жуткий обманщик. Так почему же я должен доверять тебе? Можешь ты мне ответить на это?
Джой задумался, наморщив от усилий лоб. Сплюнув окурок, он полез в боковой карман брюк.
— Я тебе сразу же подкину кое-чего, вот сию минуту, черт бы ее побрал!
— О, подожди, Джой, — сказал Риччио. — Пошевели мозгами. — На лице его появилось бесконечно грустное обиженное выражение, словно слова, которые предстояло сказать, причиняли ему огромную боль. Встряхнув головой, он заговорил свистящим шепотом: — Ты не должен мне доверять. Ты что, не понимаешь? — С этими словами он съежился и уставился Джою прямо в лицо, так широко распахнув глаза, что, казалось, будто ресницы вот-вот оторвутся. — Ведь мне ничего не стоило бы обстричь тебя, — сказал он.
— О, черт, думаешь меня это беспокоит? — Джой отмахнулся от этой мысли, бросая деньги на стол. — Сколько тебе, по твоему мнению, причитается?
Риччио с готовностью склонился к нему.
— Представляю это решать тебе, Джой.
— Слушай, кончай крутить мне яйца и давая к делу. Можешь ли ты сделать так, чтобы уже сегодня ночью я поимел богатую бабу?
— Ночью? Ты говоришь, ночью? — удивился Риччио. — Мистер О'Даниел не утруждается такими скороспелками — на ночь. Он найдет тебе положение, при котором ты будешь чувствовать себя, как у Христа за пазухой. Может, первая дама и не станет твоей постоянной. Кто знает, может, со второй или с третьей тоже не получится, чтобы надежно устроиться, тебе придется поработать. Но только за знакомство тебе придется выложить пятьдесят или сто, а может, и больше. Только за проклятое знакомство.
— Знакомство?
— Ну, ты к ней присмотришься, попробуешь, проведешь с ней ночь.
Джой был поражен.
— Пятьдесят или сто? Долларов? — Он побарабанил пальцами по столу, на котором лежали его деньги. — Вот. Сколько ты хочешь? Десятку?
Риччио с отвращением хмыкнул и, оскорбленно улыбаясь, сказал:
— О, Джой, прошу тебя. Ты хоть представляешь, что я мог бы сделать за то время, которое мне понадобится на поиски этого типа? Ладно, не буду тебя утомлять. Слушай, вот что я тебе скажу: пока с меня хватит десятки. — Он небрежно сунул бумажку в карман, давая понять, что она не представляет для него никакого интереса. — Но когда я передам тебя из рук в руки мистеру О'Даниелу, я должен буду получить еще десятку. Справедливо? — Наступило молчание. — Ладно, если ты считаешь, что это не так, забудь.
— Ответь мне вот что, — спросил у него Джой. — Есть ли возможность, что мне удастся подцепить птичку уже сегодня?
— Возможность? Об этом не стоит и говорить. Тебе придется приниматься за работу уже этим же вечером. Факт. Ты просто не понимаешь, Джой, что очутился в Нью-Йорке. Ты никак не можешь ухватить ситуацию, в которой ты теперь находишься. Ты знаешь такое выражение: рынок сбыта?
Джой покачал головой.
— Это значит, что спроса больше, чем предложений. Усек?
Джой насупился.
— Скажу тебе проще: женщин тут выше головы, так что бездельничать тебе не придется.
Джой стремительно поднялся на ноги.
7
Направляясь по Бродвею к Таймс-сквер, Джой заметил, что на открытом пространстве Риччио неплохо управляется со своей ногой. Наметив перед собой определенную цель — скажем, ближайший угол, он снимался с места, дергаясь в таком диком ритме, что с трудом притормаживал перед красным светом на перекрестке.
На 42-й улице Риччио сказал:
— Первым делом попробуем заглянуть в гостиницу. Если нам здорово повезет, то есть я хочу сказать, если нам фантастически повезет, мы найдем его в номере. Пошли. — Они протолкались сквозь толпу людей, по внешнему виду которых можно было бы предположить, что они никогда не видели солнечного света, существуя лишь в сумрачном свете неона и электричества городских улиц, которые беспощадно высвечивали всю дряблость кожи, что не могла скрыть даже косметика.
— Не может быть, чтобы он оказался здесь, — пробормотал Риччио. — Я думаю, то есть я предполагаю, что нам придется таскаться по всем барам. Сороковых улиц с западной стороны; и честно говоря, не могу понять, чего ради я утруждаю себя ради какой-то мелочи.
Когда они оказались в холле гостиницы «Таймс-сквер палас», Джой сказал:
— Ну, дер-р-рьмо, парень, я ведь тут живу!
Риччио остановился, словно споткнувшись. Он внимательно посмотрел на Джоя.
— Ты здесь живешь? — приглушенно спросил он. Джой кивнул.
— Ага.
— Так. Ты знаешь еще кого-нибудь, кто живет здесь? Хоть мимолетно?
— Не думаю. Я только сегодня устроился.
— Уверен?
— Черт возьми, конечно, уверен.
— Ну надо же, — растерянно улыбнулся Риччио. — Вот это совпадение, а?
Он снял трубку внутреннего телефона.
— Мистера О'Даниела, будьте любезны. Я хотел бы поговорить с мистером О'Даниелом.
Во время паузы, он подмигнул Джою, показав ему кружок, составленный из большого и указательного пальцев.
— Мистер О'Даниел? Как поживаете, сэр? Это говорит Энрико Риччио… О, я, конечно, помню вас. Да, сэр… Да, сэр, много раз, это было незабываемо… Мистер О'Даниел, я привел тут молодого человека, просто великолепного молодого ковбоя. И он, м-м-м, он готов к, м-м-м… ну, откровенно говоря, сэр, он только что с Запада, и ему нужна ваша помощь — просто позарез… Как вы думаете, вам удастся как-то поработать с ним сегодня вечером? Мне еще не доводилось видеть такого… я бы сказал, что он в полной готовности, просто горит желанием вникнуть в… Ох, это просто чудесно… Да, сэр, если бы вы могли, я бы, м-м-м… Закрыв рукой микрофон, он шепнул Джою: — Он жутко хочет, чтобы ты начал уже сегодня же вечером. Мне кажется, что у него есть куча заказов, а послать ему некого. Ты уверен, что можешь взяться?
Джой закивал с такой готовностью, что пришла в движение вся верхняя половина туловища. Риччио сказал в трубку:
— Да, сэр, триста семнадцатый номер. Благодарю вас, сэр, большое спасибо.
Риччио повесил трубку.
— Он жаждет сразу же увидеть тебя.
— И ч-ч-что мне делать? Просто подняться?
— Номер триста семнадцатый. Давай-ка посмотрим, как ты выглядишь. — Риччио сделал шаг назад, осматривая Джоя с головы до ног. — Прекрасно, просто прекрасно. А теперь мне причитается еще одна десятка. Так?
— Слушай, друг, — Джой протянул Риччио бумажку и взялся за него обеими руками — одной за кисть, а другой за локоть. — Я хотел бы сказать тебе, что чертовски ценю все, что ты для меня сделал, а дальше, когда дела пойдут на лад… ну, словом, я не забуду тебя. Насчет этого можешь поставить об заклад последний доллар, и не проиграешь.
— Да брось, ничего ты мне не должен. Я просто был рад помочь тебе. — Мгновенным движением пальцев Риччио переправил деньги в боковой карман.
— Нет, нет, — продолжал настаивать Джой. — Я хотел бы знать, где я могу найти тебя. Потому что, черт возьми, все получилось только из-за тебя. Так где ты живешь?
— Да ладно, брось, и давай двигай.
— Мне нужен твой адрес, — продолжал настаивать Джой.
— Ну ладно, я живу в гостинице «Шерри-Нидерланд», а теперь хвост торчком — и валяй. Он ждет тебя!
Джой отпустил руку Риччио. Закрыв глаза, он стиснул виски пальцами, повторяя: «Шерри-Неверлин, Шерри-Неверлин, Шерри-Неверлин. Запомнил!» — Открыв глаза, он увидел, что Риччио уже миновал стеклянную дверь гостиницы и захромал по тротуару, демонстрируя свою головоломную походку.
Джой воспользовался зеркалом у лифта. Выяснив, что он несколько бледноват, резко согнулся в поясе, достав руками пол и сделав несколько таких наклонов, надеясь, что лицо обретет естественные краски. Затем он причесался, одернул рубашку, несколько секунд повозился с обшлагами, выравнивая их, с клацаньем притопнул каблучками по мозаичному полу, улыбнулся своему отражению и вошел в лифт.
Как только приоткрылась дверь, Джой почувствовал себя маленьким ребенком. Ибо у человека, ждавшего его в 317-м номере, было отеческое выражение лица; он был в том возрасте, в котором должен был бы быть его отец: в годах, но не очень стар, и на нем был старый выцветший купальный халат, которые преподносят в подарок в День Отцов.
Мистер О'Даниел был полноват, и одутловатые припухлости на лице говорили, что он или сидит на диете, или недавно болел. Наибольшее внимание привлекали глаза. С темными мешочками под нижними веками и густыми нависающими бровями, они отличались выцветшей голубизной, как у старого морского волка, который, щурясь, долгие годы оглядывал горизонт. Стоя в своем купальном халате, чуть приоткрыв рот и испытующе глядя на Джоя, он напоминал жертву кораблекрушения, которая выбралась на берег и еще не знает о судьбе своих детей — «Живы ли они? — казалось, спрашивали его глаза. — Не ты ли один из них?»
Джой, заговорив, вел себя так, словно пытался ответить на один из этих вопросов: «Как поживаете, сэр, меня зовут Джой Бак».
Мистер О'Даниел кивнул. Повторив его имя, он снова кивнул. Глаза его говорили: «В ужасный час ты вернулся к порогу дома, но слава Богу, что ты жив».
Вслух он сказал:
— Джой Бак.
Джой понял, что аудиенция состоится, и постарался придать лицу максимально осмысленное выражение.
— Мне сказали, что ты ковбой — это верно?
— Нет, сэр. — Джой с удивлением обнаружил, что говорит чистую правду. Затем, как-то почувствовав прилив юмора, он добавил: — Я не ковбой, но трахать умею по первому классу.
Шутка его не вызвала той реакции, на которую он рассчитывал. Мистер О'Даниел был откровенно шокирован.
— Сынок, — сказал он, и голос его был тверд. — Не стоит употреблять такие выражения. А теперь подойди-ка поближе.
Джой сразу же обратил внимание на убожество комнаты, отметив и грязно-зеленые стены, и единственное окно, выходившее в глухую шахту, и сырой запах гниения от отбросов, мокнущих внизу.
Но ему и в голову не пришло, что мистер О'Даниел может обитать в такой комнате лишь по бедности: вне всякого сомнения, у него были какие-то убедительные причины находиться здесь, имеющие отношение к тому, чем он занимался.
— Но с другой стороны, — сказал этот человек, не теряющий своего отеческого вида, — почему бы и нет? Сдается мне, что ты готов к откровенному разговору. Поэтому ты и явился прямо сюда — или я ошибаюсь?
— Да, сэр, — ответил Джой. Он с трудом понимал, к чему клонит мистер О'Даниел, но после первой оплошности он из кожи вон лез, чтобы показаться умным и покладистым.
— Ты, м-м-м… — Видно было, что мистер О'Даниел по-прежнему оценивает его. — Ты несколько отличаешься от большинства ребят, что приходили ко мне. Большинство из них были какие-то дерганые и смущенные. А ты, видимо, понимаешь, что тебе требуется. — В голосе его было что-то старомодное — так тянут гласные лодочники с Миссисипи, так врач беседует с больным, успокаивая его, но скорее всего, он напоминал обыкновенного человека откуда-то из Чилликоты или тому подобных местечек.
— Ручаюсь, что вы не ошибаетесь, сэр.
— Ну, а я ручаюсь, что у тебя есть нечто общее с ними всеми: спорю, что ты так же одинок! — Казалось, мистер О'Даниел с трудом сдерживается, чтобы не выйти из себя. — Я прав? Ты одинок, не так ли?
— Ну, я, м-м-м… — Джой явно тянул время. Он не мог понять, чего от него ждут. — Не очень. Ну, понимаете, я хочу сказать, что в общем-то немного есть.
— Вот! И я понял это, не так ли? Этим всегда можно оправдаться, «Я так одинок». — Он сделал гримасу хнычущего человека. — «Я пью потому, что я так одинок». «Мне тоскливо одному, и поэтому я пристрастился к наркотикам». «Я один как перст, и поэтому я ворую, прелюбодействую и торгую женщинами». «Фу!» — говорю я. — Фу! Все это я слышал. И под всем этим то же самое: «Я одинок, я так одинок!» И мне надоело все это, до смерти надоело!
Внезапно Джою показалось, что он уловил смысл всего происходящего: этот мужик, конечно, в самом деле крупный сводник, как Риччио и говорил, но к тому же он еще и немного сумасшедший. Жаль, что он раньше об этом не знал.
— А ныне перед нами открыт путь к Блаженству, — сказал мистер О'Даниел и, уставившись в потолок, принялся цитировать: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны плачущие…»
Интересно, подумал Джой, что бы мне ему такое сказать, чтобы он занялся делом, вот бедный старик…
— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот так! — сказал мистер О'Даниел с видом человека, который наконец-то обрел истину и теперь может себе позволить быть великодушным. — Где в этих строчках говорится об одиночестве и тоске? Хоть одно слово? О, да, в них говорится о нищих духом, о кротких, об униженных; идет речь о тех, кто алкает правды. Конечно, это есть. Но! — Сидя на краю кровати, он склонился вперед, положив локти на колени и сплетя пальцы, горящими от возбуждения глазами он уставился на Джоя. — Но ни звука — ни малейшего звука! — об одиночестве. И знаешь почему? Потому что в одиночестве нет Блаженства. Книга гласит, что нет им благословения. Никому!
Казалось, что мистер О'Даниел был готов впасть в очередной приступ гнева.
— Вы только и знаете, как лелеять свое одиночество! Только этим вы и занимаетесь! Черт побери, слышишь ли ты меня: я говорю, что этим, именно вот этим вы и занимаетесь!
Выпрямившись, он обхватил себя руками за плечи, как человек, которого внезапно стала бить дрожь от холода. Вот он и услышал печальную новость о детях, которые были на гибнувшем судне: все утонули.
— И вот их кидает туда, и вот их кидает сюда, они занимаются и тем, и этим, и всякой прочей ерундой, их словно несет по ветру, и они думают, что это прекрасно, просто прекрасно — и все потому, что они лелеют свое одиночество! Хм-м-м. Хм-м-м. Хм-м-м. Но это вовсе не так хорошо.
В голосе его внезапно появились нотки усталости. Словоизвержение кончилось. Встав с кровати, он стал мерить шагами комнату, говоря быстро и тихо:
— Читайте главу пятую от Матфея, в ней есть все. Не помешает и шестая, так что прочитайте и шестую от Матфея, а теперь займемся делом. Что скажешь, ковбой, а?
Воодушевившись возвращением к земным заботам, Джой ответил:
— Да, сэр, я ковбой.
— Отлично, нам нужны ковбои, нам нужны все! — Мистер О'Даниел снова оглядел его с головы до ног и кивнул. — Такой отличный парень, как ты, — молодой, сильный, симпатичный — ты и сам не представляешь, что тебе может дать эта работа.
Джой испытал прилив облегчения и благодарности, что его сочли достойным. Он расплылся в улыбке и позволил себе несколько расслабиться в присутствии столь величественного, хотя и несколько сумасшедшего человека.
— Сынок, ты знаешь, чем мы, как мне кажется, должны заняться?
— Чем бы то не было, — ответил Джой. — Я готов.
— Да, я вижу и верю в тебя. — Тяжелая рука легла Джою на плечо, и в него впились влажные, голубые, добрые глаза, которые вопросительно смотрели на него. — Понимаешь, у меня есть предчувствие, Джой Бак. Просто предчувствие — но я думаю, что ты справишься с этим делом легче, чем кто другой.
— У меня точно такое же предчувствие, сэр, — кивнув, Джой улыбнулся как можно шире. — Словно ждешь деньги из дома.
— Деньги из дома. — Пораженный этим выражением, мистер О'Даниел повторял его снова и снова. Он смотрел на Джоя так, словно видел перед собой выдающегося поэта. — Вот видишь? Это другая сторона твоей силы, твоей власти. Ты умеешь облекать мысли в такие простые земные выражения, что их может понять самый обыкновенный человек. Сынок, я тебя предупреждаю: я собираюсь использовать тебя на всю катушку! Тебя будут просто рвать на части! Ты готов к тяжелой, очень тяжелой работе?
Сжав кулак, Джой взмахнул им. Затем он простер руки жестом, гласившим: что еще я могу вам сказать? Теперь и мистер О'Даниел расплылся в улыбке.
— Ты прекрасный парень, — сказал он. — И я не сомневаюсь, что мы с тобой поработаем рука об руку, черт возьми! И радость не покинет нас, о, отнюдь не покинет! Итак! — Он воздел руки кверху, как оратор, требующий внимания, и перешел едва ли не на шепот: — Почему бы нам прямо не встать на колени? Что нам мешает?
Наступил момент полного безмолвия, в течение которого оба не шевельнулись, не вздохнули. Теперь до Джоя дошло, что именно он стал смутно ощущать, едва лишь открылась дверь номера.
Знание это неотвратимо заполнило его жилы тошнотворной зеленой слизью. Но теперь, даже поняв все, он уже ничего не мог сделать.
После долгого молчания, он сказал:
— Встать на колени… где? — Губы у него пересохли, и он еле выдавливал из себя слова.
— Прямо вот здесь, — ответил мистер О'Даниел. — Почему бы и нет? Считай, что тут церковь, разве не так? Каждый квадратный дюйм земли под ногами — сие есть храм. Я молился в салунах, я молился на улицах, я не стыдился возносить молитвы где бы то ни было. И знаешь что?
— Что, сэр?
— Я молился в сортире! Его это не волнует. Ему нужна только молитва!
Джой кивнул и, не представляя больше, что ему делать, решил опуститься на колени и немного помолиться. Но он никак не мог сосредоточиться на молитве.
8
Он понял, что его просто обдурили. Это было невероятно, и поэтому он снова и снова прокручивал перед собой все происходящее. Затем он услышал слова мистера О'Даниела, призывавшего впустить Христа в свое сердце, и реальность предстала перед ним во всей своей наготе.
Не говоря ни слова, он поднялся и кинулся из комнаты, решив исправить ситуацию. Он даже не оглянулся, когда мистер О'Даниел, выскочив в холл, кричал ему вслед:
— Мальчик! Мальчик! Не пугайся, не пугайся, мальчик! — Он даже не стал дожидаться лифта, а кинулся по лестнице, прыгая через две ступеньки, и, вылетев на 42-ю стрит, маханул прямо по Шестой авеню и обратно до Восьмой, понимая, что у него нет никакой возможности найти Риччио. Даже пытаясь вспомнить название гостиницы, он понимал, что в этом нет никакого смысла. Джой не рассчитывал получить обратно свои двадцать долларов, да и не мечтал о них; он жаждал мести, насладившись которой почувствует себя не таким идиотом. Стоя на углу Таймс-сквер и Бродвея, он представлял в мыслях такую картину:
Вот это уродливое маленькое создание выкатывается из-за угла и ныряет в двери табачного магазина. Джой стремительно пересекает улицу и перехватывает его там на месте. Риччио не только не выказывает никакого раскаяния, но и начинает глумиться над человеком, которого так нагло обманул. Джой вытаскивает нож и приставляет его к горлу Риччио, давая понять, что ему не составит труда сделать легкое движение лезвием. Но даже в мыслях он не мог себя заставить увидеть, как нож пропарывает кожу жертвы. Он бросает нож и душит Риччио голыми руками, убийство собирает толпу, появляется полиция и…
В этом месте фантазия ему отказала: Джой отчетливо увидел свою фотографию на первой странице газеты. Он проморгался и снова присмотрелся. Газета была не воображаемой, она была столь же реальной, как его сапожки, и пачка их лежала перед уличным торговцем с зеленым козырьком на глазах. На первой полосе одной из них была фотография молодого человека, которого уводили двое полицейских. «Это не я, — подумал Джой, — я никого не убивал!»
Но перед ним была фотография.
Купив номер газеты, он заскочил с ней в пиццерию. Рассмотрев снимок при свете, он выяснил, что молодой человек, смахивающий на него как две капли воды, на самом деле был убийца из Западной Вирджинии, который уложил одиннадцать членов своего семейства во время ссоры из-за гармоники.
Джой испытал настоящее потрясение, увидев в столь официальном документе, как газета, зрелище того, как уводят смахивающего на него человека. В поисках зеркала он покинул заведение и нашел его перед входом в кафе.
— Я никого не убивал, — сказал он своему отражению. — и не собираюсь.
Через несколько минут, очутившись в своей комнате, он глянул в другое зеркало, висевшее над комодом, и принялся так пристально изучать свое лицо, словно видел его в первый раз в жизни.
Он не из тех типов, что убивают других людей, подумал он. Но в глазах его по-прежнему стоял вопрос, на который надо было дать ответ. Он видел его, но решил: нет, сэр, даже крыс не буду. Даже Крысеныша. Так эти типы называли его — Крысеныш Риччио. Черт с ним. Этой ночью он смог заснуть только при свете.
На следующее утро Джой несколько раз пытался проснуться, что удалось ему только к полудню. Даже и тогда он еще полежал, делая вид, что спит, но ему так и не удалось одурачить себя.
И в этот день и в несколько последующих он ходил как сомнамбула: ходил, говорил и совершал все действия, присущие обыкновенному человеку, — причесывался, ел, мылся и так далее — но на самом деле голова его в этом не участвовала. Он понимал, что деньги улетучиваются со скоростью, которая заставила его задуматься, но на самом деле он не ощущал серьезности положения, даже когда подошел конец недели и он получил от управляющего гостиницей специальное напоминание о состоянии его счета.
По ночам в постели перед ним представали восхитительные картины: то он пассажир стремительно мчащейся машины, уходящей от стремительной опасности, то он сидит в засаде на вершине горы, куда подступают враги, то он утомленный пловец в бескрайнем океане. И просыпаясь, он медленно выходил из этого оцепенения, чувствуя омерзение перед положением в котором находится, когда мечты и фантазии уступали место мелким заботам повседневности.
Днем он, склонив голову к транзистору на плече, пускался в бесконечные прогулки по боковым улочкам, отходящим от Бродвея, с головой уходя в невидимый мир радиоголосов, он чувствовал себя в безопасности перед окружающей действительностью. Больше всего ему нравились передачи, в которых много разговаривали и нередко он принимал участие в беседах.
— Вы хотите сказать мне, — услышал он как-то голос человека неопределенного пола с гнусавым произношением, — что нечто просто падает из ниоткуда? — Нет, нет, нет! — возразил упрямый напыщенный старческий голос, — нечто вовсе не падает откуда-то. Так можно говорить о синдроме землетрясения! Я же говорю о полтергейсте, о пол-тер-гейс-те!
— Знаете, что я вам скажу, джентльмены? — вмешался Джой Бак. — А я скажу — дер-рьмо! И тут я хозяин. — Клик. Он вырубил станцию.
— Вот и я, вот и я, — прорезался надтреснутый старческий голос, — в следующий раз, когда вы почувствуете приступ ревматизма или ишиаса или вообще любой признак старости, не жалуйтесь. Просто подумайте о всех тех, у кого нет счастья спокойно стариться в этом лучшем из миров! Ну и ну! — сказал сахарный голос, — просто великолепный, просто чертовски хороший рецепт насчет того, как лучше жить! А что скажете, ребята, — годится ли он для прабабушки?
— Ну да, черт побери, — перекрывая аплодисменты, сказал Джой, — но не исчезай, старушка, я хочу, чтобы ты мне вот что сказала. Дошли до меня кое-какие слухи о тебе, и я интересуюсь, есть ли в них правда: неужели ты в самом деле согласна так жить, милая? Неужели? Ну, никак это в самом деле чертовски здорово, да-сэр-черт-бы-вас-побрал…
И так далее.
Как-то в один прекрасный день кетчуп брызнул на его светлую кожаную куртку, оставив безобразное пятно. Джой стал ломать себе голову, как бы ему почистить одежду. Он решил достать еще кетчупа и разрисовать окрестности пятна разводами, которые могут быть приняты за его собственный стиль. Он пошел даже на то, чтобы стащить еще кетчупа, с которым забрался в туалет одного кафе, где и застыл в нерешительности, не зная, как приняться за дело. В таком состоянии он и пребывал долгую половину дня, что было типично для того ступора, в который он впал.
Как-то вечером в начале сентября он испытал потрясение, которое заставило его наконец встревожиться. Вернувшись в отель, он обнаружил, что его выставили из номера.
— О, ваши вещи в полном порядке и сохранности у нас в подвале, — объявил клерк в ответ на вопрос Джоя о судьбе своей черно-белой сумки. — И как только вы оплатите свой счет, мы тут же вернем их вам.
Джой попытался поторговаться с этим человеком, даже предлагая ему все содержимое сумки, если только сможет получить обратно ее и еще пачку писем Салли, которые она писала ему в армию.
— О, нет, — сказал ему клерк, — все будет у нас, вот так мы и поступаем, все целиком хранится у нас.
Теперь Джою пришлось решать довольно неприятную проблему, где бы пристроиться на ночь. Но это было не самым худшим. У них оставалась его вьючная сумка.
Он вошел под своды подземки на Тайм-сквер, где все торговые автоматы были облеплены зеркалами. Он хотел посмотреть самому себе в лицо, дабы убедиться, что этот новый поворот событий не пригрезился ему. Было достаточно одного взгляда, который сказал ему все, в чем он хотел убедиться.
— Ладно, ковбой, — сказал он растерянному юноше в зеркале. — Хватит с нас этого дер-рьма…ты понимаешь, что тебе сейчас надо делать? — Он кивнул самому себе.
— А я справлюсь?
— Тебе нужна твоя сумка? — Он снова кивнул.
— Тогда иди и работай.
9
Публика, которая постоянно болталась на углу 42-й стрит и Восьмой авеню могла мгновенно запудрить вам мозги. Никаких особых ухищрений и фокусов для этого не требовалось. Во время фокуса требуется отвлечь ваше внимание, заставить думать о чем-то другом, не имеющем отношения к движению рук, к взгляду и так далее, чтобы довести градус вашего интереса до соответствующего уровня, при котором и нервы напряжены до предела, и интерес не потерян. Здесь же требовалось умение совсем другого порядка: что сказать, о чем промолчать, как завершить сделку, что пообещать.
В этом искусстве Джой был неискушен и не обладал никакими специальными талантами, которыми он мог бы себя прокормить. И кроме того, он никак не мог сосредоточиться: печаль по поводу того, чем он вынужден заниматься, не покидала его, а приближение грядущей ночи сразу свинцовой тяжестью сковывало его по рукам и ногам, мешая понять, что на этом пути успех может стать куда более крупным поражением, чем неудача. Но он должен вырвать свою сумку из заточения.
Прислонившись к витрине аптеки, он постарался подумать и о сумке и о письмах под каким-то новым углом зрения, в котором они представали объектами, не стоящими внимания. Что касалось писем, он преуспел в своем намерении. Он знал их все наизусть, и, откровенно говоря, они давно уже не представляли для него никакой ценности; он их столько раз читал и перечитывал, что на самом деле они превратились для него всего лишь в истертые клочки бумаги.
Но сумка-то было совсем другое дело. Исчезнувшая в подвалах отеля, она обрела для него огромное значение. Он попытался понять, почему она ему так нужна. Мысленно он открыл ее и заглянул внутрь, и, хотя не обнаружил там ничего, кроме темноты, она все же имела для него большую ценность, ибо даже темная пустота в ней несла с собой тепло, мягкость и неуловимую память. Каким-то образом большинство его воспоминаний были связаны с ней и опять-таки мысленно он нырнул в нее, опустив клапан над головой. Теперь ему казалось, что он ощущает ее специфический запах: для начала то был запах конского пота, потом потянуло запашком конского навоза и еды на ранчо, которое он помнил со времен тех воскресений, что проводил на воздухе — и тут же были и шоколадные печенья, и жевательный табак, и Рио-Гранде, и странички Саллиной записной книжки, и запах кожи сидений «Форда» 36-го года. Не имело смысла ломать себе голову над тем, каким образом сумка, всего несколько месяцев назад купленная в Хьюстоне, могла стать хранителем этих ценностей, но так было. И теперь самым важным в мире было получить ее обратно в руки.
За два с половиной часа ожидания Джой получил только два предложения. Невольно он переводил разговор на необходимость вернуть сумку, что вызывало какую-то тревогу у говоривших, и они теряли к нему интерес. Хотя бы раздобыть двадцать семь долларов, которые, как сказали в отеле, он должен уплатить, — но это была слишком большая сумма, чтобы о ней можно было вести речь.
К тому времени, когда он заговорил с третьим, пухленьким, очкастым испуганным студентом колледжа, которому на вид было не больше семнадцати лет, Джой уже был согласен и на часть этой суммы, но студент удивил его, предложив всю сумму. Договорившись наконец об оплате, Джой испытал облегчение и тошноту. Но, уже усвоив, что тут никому особенно доверять не стоит, он на всякий случай спросил: «Откуда такой мальчишка, как ты, раздобудет столько денег?» — «От матери» — последовал ответ.
Через четверть часа, в течение которых этот юнец тащил свои книги, перекладывая их из рук в руки, они миновали улицу Чертовой Кухни, где, как утверждал студент, он знал место. Свернув в боковую улочку, отходившую от Десятой авеню, они вошли в здание.
В нижнем холле воняло столь омерзительно, словно за каждой дверью дряхлые старухи варили кошачью мочу. Но по мере того, как они миновали пятый этаж, поднялись на шестой и наконец оказались на самом чердаке, вонь сменилась чистым сентябрьским воздухом. И здесь, под самой крышей, на которую спустилась, может быть, самая прекрасная ночь в году, озаренная янтарным светом полной луны, торопливо и грязно состоялось то дело, ради которого Джой Бак очутился здесь и ожидал завершения его, стараясь думать совсем о других вещах. А затем этого толстого грузного ребенка вырвало прямо к его ногам, и Джою пришлось поддерживать его голову.
— Мне чертовски неприятно, парень, — сказал Джой, — но я ничем не могу помочь, если тебя тошнит от этого. А теперь гони монету, как мы договаривались. — И мальчишка ответил: «У меня ничего нет, я тебе соврал. Что ты теперь со мной сделаешь?»
Джой мрачно посмотрел на него, подавляя желание дать ему по физиономии.
— Выверни карманы, — приказал он. Мальчишка торопливо вывернул карманы, действуя с заторможенной серьезностью, которая, чувствовалась, была куда приятнее для него, чем то, чем ему пришлось заниматься. Но в карманах у него не нашлось ничего ценного: потрепанный бумажник с семейными снимками, грязный носовой платок, два жетона для подземки — вот и все. Но у него были наручные часы.
— На сколько эта штука потянет? — ткнул Джой на них пальцем.
Вопрос привел мальчишку в панику. Он начал хныкать.
— Я не могу вернуться домой без часов, мне их подарила мать, преподнесла в день первого причастия. Она умрет, она просто умрет, она меня убьет! Возьмите мои книги, вот, пожалуйста!
Джой повернулся и ушел, и даже с лестницы слышал, как тот все повторял, как он извиняется, честное слово, я так извиняюсь.
И Джой поверил ему.
Долгое время он бродил без определенной цели, надеясь лишь найти такое место, где никого не будет и ничто не будет напоминать о Нью-Йорке — лишь были бы деньги заплатить за убежище.
Наконец он направился в западную сторону, помня, что где-то здесь должна быть река, соединенная с другими водными путями и реками, одной из которых может быть и старая Рио-Гранде. Он подумал, что стоит посидеть на берегу, опустив ноги в воду. Но когда он оказался неподалеку от нее, ему стало ясно, что подходы к реке перекрыты зданиями пароходных компаний и до воды не добраться. Поэтому он двинулся на юг вдоль автострады Вест-сайд и скоро очутился рядом со стоянкой, почти полностью забитой большими трейлерами. Поплутав в их лабиринте, он нашел один с откинутым задним бортом, забрался в него и сел на краю, свесив ноги и представляя трейлер в движении. Затем он решил лечь и смотреть в небо. После этого он снял обувь и понюхал ее: она уже провоняла потом. Джой понял, что, пока не придет соответствующее время, он не сможет уделять своей обуви подобающее внимание.
Пока он обдумывал состояние своих ног и размышлял над цветом неба, пока удивлялся, до чего грязный пол в грузовике, им вдруг овладела тревога от четкого сознания того, что он ровно ничего собой не представляет, что он личность, существующая вне места и времени, и что он ни для кого не представляет абсолютно никакого интереса. Открытие это было слишком ужасно, чтобы он мог полностью воспринять его, и оно затаилось в каких-то щелях и уголках, ожидая своего часа, а тем временем Джой продолжал лениво шевелить мозгами: пытался ли кто-нибудь посчитать количество звезд и не приходило ли кому-то в голову, что звезды могут быть сделаны из чистого серебра; и кстати, кто же были эти три серебряноголовые женщины, эти ушедшие в даль времени три блондинки его детства, всплывшие в памяти, — неужто они в самом деле были содержателями борделя?
Маленький приемничек, стоящий у него на груди, который слегка покачивался с каждым та-тах. та-тах, тэтах его сердца, внезапно привлек его внимание. Слава богу, что им не достался его приемничек, подумал он, не достался транзистор этим сукиным детям, нет-сэр, фиг-вам-сэр, и он по-прежнему со мной. Но зная, что надо беречь батареи, он не включал его. Положив его на грудь, Джой прикрыл приемник скрещенными руками.
Через какое-то время, лежа ничком, уставившись на звезды и луну, он потерял всякое представление об окружающей действительности. Он грезил наяву, и ему казалось, что и себя и этот грузовик он видит во сне.
Трейлер, давший ему приют, уже не существовал в реальности, он превратился в некое затерянное в ночи местечко, в пещерку на темной стороне неизвестного спутника земли, и, лежа в ней, он ощутил себя безымянным существом, потерявшим всякое сходство с человеком, неким элементом системы, до которого никому нет дела.
Желтый шар в космосе представлялся ему землей, и то, что проплывало перед его глазами, напоминало ему давний сон, когда люди в цепи шли по миру.
Но теперь было одно отличие: нигде не было видно ни одного человека.
10
Не имея никакого представления, где же он в конце концов приклонит голову, Джой бездумно проводил сентябрьские дни.
Вскоре ему пришлось обратить внимание, что стало заметно холодать, и еще острее перед ним встал вопрос денег. С холодом он еще как-то справлялся, а что же касалось денег, он решил тратить оставшиеся у него семь долларов скрупулезно, как бедная вдова, позволяя себе только самое необходимое и отказывая во всем прочем. Он научился есть по дешевке: автомат выдавал печеные бобы или макароны с сыром всего за двадцать центов, а потом ты мог зайти в супермаркет «Эй энд Пи» и набить кармана изюмом и морковкой за четвертак; яблоки же — равно как груши и персики — можно было просто стащить на Девятой авеню, и, кроме того, существовали еврейские булочники, которые не особенно ревностно смотрели за своими бейгелами и булочками с маком. Тощий от рождения, Джой потерял в весе всего несколько футов, что не особенно было и заметно. Но под глазами начали проступать синеватые тени, а сами глаза, казалось, ушли глубже в провалы черепа, что было результатом тревожных ночных часов в самых неприспособленных местах — в кабинах старых грузовиков, в кинотеатрах или на скамейках вокзала Пенсильвания-стейшн, а так же автобусного терминала. Лицо его стало напоминать черты неизменно грустного праведника. Он избегал смотреть на себя в зеркало, ибо в такие минуты испытывал стыд за постигшую неудачу. Но продолжал тщательно ухаживать за собой и выглядел даже более подтянутым, чем обычно. Мыло и бритву он таскал с собой в кармане, равно как и зубную щетку, и использовал туалеты в кафе и салунах. Он регулярно обмывал интимные места тела и почти каждый день находил возможность снять обувь и помыть ноги. Когда его обнаруживали за этими занятиями в туалетных комнатах, Джой скрывал свое смущение, каждым движением, давая понять, что ему жизненно необходимо соблюдать чистоту. Его существование зависело от наличия мыла и воды.
Но так или иначе, он вел совершенно цыганский образ жизни. Большую часть времени он просто бродил по городу — болтался у десятицентовых лавочек, восхищенно глядя на кучи чистых носков и примеряясь спереть парочку из них, или же глазел сквозь витрины парикмахерских, прикидывая, как бы выкроить средства на стрижку. Но почти всегда возникала необходимость в приобретении какой-то мелочи, которая была для него важнее.
Время от времени его посещали мысли о работе, но, не оставляя о себе никакого благоприятного впечатления, быстро покидали голову, в которой родились. Тем не менее Джой проявлял определенный интерес к работе, по-своему тоскуя по ней. Единственным зрелищем, неизменно привлекавшим его внимание во время прогулок, к которому он не терял интереса, был вид других мужчин, занятых делом. Он глазел на процесс приготовления пиццы за окнами ресторанчиков на Бродвее, словно это было некое забавное представление, смысл которого от него ускользал. Чего ради люди работают? Ради денег. На что они их тратят? На пищу, на семью, платят аренду. Предельно просто. Задумавшись над чем-то, он уже почти был готов дать себе ответ, как вдруг в каком-то уголке мозга всплывало нечто важное, от чего он опять впадал в ступор. И не понимая в чем дело, он смутно чувствовал, что где-то забрезжит свет, который рано или поздно определит истинную ценность вещей.
Как-то в одну дождливую ночь, которая убедила его, что пришло время, когда он не может больше быть в одиночестве, Джой позволил себе потратить шестьдесят центов, чтобы обрести крышу над головой, киношку на 43-й стрит. Там крутили научно-фантастическую картину, где несколько человек с Земли очутились на отдаленной планете, которой управлял некий Голос. Голос, шедший ниоткуда. Фильм крутили без перерыва всю ночь, и сквозь дремоту Джой отлично усвоил весь ход действия.
Например, когда Голос время от времени взывал «Земляне! Земляне!», Джой тут же просыпался в полной уверенности, что кто-то окликает его: «Джой Бак! Джой Бак!». Выспавшись, он тем не менее, остался посмотреть фильм, смутно надеясь, что ему все же удастся определить, кому принадлежит голос. Но, конечно, выяснилось, что там не было ничего особенного, кроме какой-то диковинной машины.
Но в этот день, бродя по улицам, он почувствовал, что обрел некий новый интересный взгляд, подсказавший ему, что все люди, включая его самого, — накрепко связаны с земной твердью нашей планеты, из которой вышли и в которую вернутся, но на которой пока живут и работают; так что, когда его внимание привлекало какое-то лицо — например, старухи на улице, бегущего ребенка или ювелира за работой, он неслышно бормотал про себя: «Земляне! Земляне!», и люди во всем их облике, с их чертами лица, с прическами, с руками и ногами представали перед ним в новом облике, родившемся в ту ночь.
Однажды, пребывая в этом состоянии, он наткнулся на самого себя — и испытал искреннее удивление, потому что давно уже не видел себя в зеркале. Это произошло у входа в здание на Восьмой авеню. Длинная личность с вытаращенными глазами, высокая, как пугало, с сумрачным рассеянным взглядом смертельно утомленного охотника, надвигалась на него. Через несколько секунд он, конечно, узнал самого себя, но все же испытал странное желание приостановиться и тихонько окликнуть самого себя «Земляне! Земляне!» Но ничего этого не было нужно; ничего в нем, в сущности, не изменилось: он мог говорить «земляне» сколько ему влезет, но продолжал быть тем, кем он и был.
Он двинулся по 42-й стрит и на углу около банка наткнулся на мистера О'Даниела, который распекал собравшихся вокруг него людей за грех уныния.
— Да, я исколесил эту великую страну вдоль и поперек, — говорил он, размахивая правой рукой и держа в левой американский флаг, — и я увидел, что она поражена ужасающим недугом. Я увидел, что улицы, на которых обитает народ, заполнены людьми, погруженными в уныние, — молодыми юношами, женщинами средних лет, девушками и мужчинами всех возрастов, и все они были в сумрачной тоске. И я видел школьные площадки, заполненные играющими детьми. И мои глаза были поражены тем, что предстало перед ними: во взорах детей я видел ростки того же самого греха — уныние уже угнездилось в них, и если его не вырвать с корнем, я говорю, если его не вырвать с корнем, то по сравнению с тем, что ждет этот город, Содом и Гоморра покажутся пикником воскресной школы. Слышите ли вы меня? Говорю вам: да познайте Блаженство!
Джой видел, что мистер О'Даниел всецело поглощен своим благим делом и не собирается никуда исчезать. Подойдя поближе, он успел услышать последние слова:
— Мы — соль земли, но если соль теряет свою крепость, куда она годится? Так сказал Иисус. Вот я и говорю: Иисусе! Помоги нам! Прежде чем уныние унесет всю нашу крепость духа, ничего не оставя от нее!
Джой двинулся дальше, и скоро голос проповедника стал неразличим в других уличных шумах. Повернувшись, чтобы бросить последний взгляд, он заметил, что евангелист, проповедуя, даже не смотрел на собравшихся на тротуаре людей. Взор его был устремлен поверх их голов, словно готовясь встретить пришествие, которое вот-вот должно было состояться. Джою показалось, что этот человек производил весь шум совершенно с другой целью, чем та, которую он провозглашал: он вопил и размахивал флагом, как заблудившийся путник, который хочет привлечь внимание кого-то в отдалении. Но кого? Какой-то женщины? Ребенка? Откуда, по его мнению, они должны были появиться? Из Нью Джерси? С Восьмой авеню? Откуда-то с Запада? Или с неба?
Тем не менее представление было впечатляющим, когда этот степенный искатель истины с дикими глазами отчаянно простирал руки, ожидая посещения чего-то непонятного. Джой невольно поежился. Он пробормотал про себя «земляне!» и снова предался бесцельным шатаниям, стараясь забыть все виденное.
И вскоре после полудня произошло событие, которое изменило всю его жизнь: во время прогулки он наткнулся на эту калеченую свинью, Крысеныша Риччио.
11
Двигаясь по Восьмой стрит к Гринвич-Вилледж, он поймал на себе взгляд больших карих глаз над чашкой кофе, уставившихся на него из-за витрины кафе.
Увидев, что Джой заметил его, Рэтсо быстро закрыл глаза и застыл на месте, как человек, взывающий, чтобы небо даровало ему невидимость. Но Джой, который скитался бездомным странником, вот уже три недели, у которого из всех вещей остались только часы, был поражен, увидев знакомое лицо. Он остановился как вкопанный, заставляя себя привыкнуть к свалившемуся на него столь приятному ощущению, и ему потребовалось несколько минут вспомнить, что Рэтсо Крысеныш Риччио — его враг. Джой направился прямиком к двери и вошел в заведение.
Когда рука Джоя легла ему на плечо, Рэтсо затрепетал, стараясь провалиться сквозь землю.
— Не бей меня, — сказал он. — Я калека.
— О, я не собираюсь бить тебя. — Но гнев в его голосе был наигран, носил актерский характер, ибо он был так рад увидеть хоть кого-то, кто был ему знаком, что не мог сдержаться. — Но первым делом, я хочу, чтобы ты вывернул передо мной свои карманы. Давай, начнем вот с этого.
Крысеныш повиновался, не пискнув. В ходе обыска появилось:
— 64 цента;
— Две с половиной жвачки «Дентайн»;
— 7 плоских изгрызанных пробок от напитка «Рейли»;
— одна коробочка спичек;
— две квитанции из ссудной кассы.
— Что у тебя в носках? — спросил Джой, не забыв придать голосу рыкающие нотки.
— Ни цента, клянусь Богом, — Крысеныш поднял правую руку и быстро вскинул глаза к небу. — Клянусь здоровьем матери.
— Если я найду то, что ты от меня прячешь, — сказал Джой, — я пришибу тебя так, что и глазом моргнуть не успеешь. — Он толкнул по стойке к Крысенышу содержимое его карманов. — Забирай это дер-рьмо, оно мне не нужно.
— Оставь себе шестьдесят четыре цента, Джой. Они твои, и я хочу их отдать тебе.
— Да эта мелочь просто воняет, ты что, сосал их? Не хочу к ним даже притрагиваться. Сунь их себе обратно в карман.
Поняв, что ему тут больше нечего делать, Джой решил, что должен покинуть раз и навсегда того паршивого Крысеныша. Но почему-то он не мог сдвинуться с места. Его охватило странное смущение: рассудок говорил ему, что перед ним сидит его заклятый враг, и тем не менее, у него не было никакого желания вкушать сладости мести. Он провел столько времени в одиночестве, и с ним что-то случилось: сердце, самый неверный, непостоянный орган тела, было преисполнено радостью встречи чуть ли не с родственником.
Крысеныш затараторил относительно первой ночи.
— Богом клянусь, я не понял, что там такое было, — но чувствовалось, что он хочет откреститься от того свинства, в котором участвовал.
— Если ты хочешь получить бесплатный медицинский совет, — сказал Джой, — то я посоветовал бы тебе заткнуться на весь остаток ночи, ясно?
— О'кей, ладно, ладно, о'кей! — сказал Риччио. — Но только вот что: где ты живешь? Все еще в гостинице?
Вопрос заставил Джоя вспомнить то, что он все эти дни старался изгнать из памяти свою черно-белую седельную сумку, захваченную гостиницей. Во всей своей реальности она предстала перед ним, говоря о той жизни, которая навсегда ушла от него. В эту секунду он отчетливо понял, что никогда больше ее не увидит, и с неожиданной радостью воззрился на лицо Риччио, искривившееся в гримасе сочувствия его страданиям. Ему пришлось стиснуть зубы, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул, после чего он повернулся и, выбравшись на Шестую авеню, направился в верхнюю часть города.
Когда он оказался у Девятой стрит, кто-то окликнул его. Обернувшись, он увидел, что его догоняет Риччио, припадая на бок при каждом шаге, рискуя потерять равновесие и свалиться. Джой хотел остаться в одиночестве, но понимал, что если увеличит шаг, то коротышка будет еще быстрее хромать за ним. В таком настроении у него не было желания устраивать спектакли: он замедлил шаг.
Когда Рэтсо наконец вцепился в него, Джой сказал:
— Слушай, ты, шишка на ровном месте, отвали-ка от меня. И помни, что я тебе сказал.
— Где ты живешь, Джой? У тебя есть какое-то место?
— Ты слышал, что я тебе сказал?
— Да у меня есть. Есть у меня местечко для тебя.
— Учти, Крысеныш. Я не бросаю слов на ветер. Только подойди ко мне, и я тебе башку с плеч снесу.
— Да я просто приглашаю тебя, черт возьми, — сказал Рэтсо. — Говорю тебе, что я приглашаю тебя.
— Ах ты меня приглашаешь, дер-рьмо такое.
— Ну да.
— И куда же?
— Идем, я тут же все тебе покажу.
Они бок о бок двинулись в верхний город.
— С тобой жить я не хочу, — сказал Джой. — Ты думаешь, у меня совсем мозги потекли, если считаешь, что я буду с тобой?
Рэтсо не обратил внимания на его возражения.
— Там нет отопления, — сказал он, — но, когда наступают холодные дни, я уматываю во Флориду. Так что чего мне беспокоиться, верно?
— Я, должно быть, совсем с ума сошел, — сказал Джой. — Ты у меня все зубы вытащишь и продашь, пока я сплю.
— В сущности, у меня там и кровати нет. Но одеял столько, что на хорошую лошадь хватит — с головы до ног.
— И что ж ты с ними собираешься делать, ты, хромая черепашка? Завалить меня ими до смерти. Ты-то уж точно попробуешь.
— И я обхожусь без света. Черт с ним, у меня есть свечки. Верно?
Мало-помалу, Джой стал представлять себе жилищные условия Риччио.
В Нью-Йорке было немало зданий, откуда из-за аварийного состояния были выселены жильцы. Семья одна за другой покидали обреченное строение, и, когда оно пустело, владелец (какая-нибудь крупная корпорация) малевал большие белые кресты на каждом из окон опустевшего дома. И Рэтсо обитал в целой серии таких «икс-квартир», как он называл их, — с тех пор, как в шестнадцатилетнем возрасте ушел из дома. Нуждаясь в квартире, он бродил по улицам в поисках окон, на которых были намалеваны большие белые кресты. Порой ему приходилось ломать замок, чтобы попасть внутрь, но куда чаще дверь была нараспашку. Порой ему даже случалось обнаружить остатки мебели, которую оставляли, уезжая, прежние обитатели квартир. Он перетаскивал свои скудные пожитки на новое место и невозбранно пользовался им как своим домом, пока управляющему не становилось известно о его присутствии или с отъездом последнего жильца в доме окончательно не отключали воду.
Теперешнее его жилище располагалось в большом квартале, населенном пуэрториканцами, в районе Западных Двадцатых улиц. Приведя Джоя сюда, он провел его в пустую квартиру на пустой этаж двумя пролетами выше, где в конце холла располагалась маленькая квартирка. Солнце клонилось к вечеру, но в комнатке было еще светло, и Джой понял, что тут куда приятнее, чем во всех тех местах, где ему доводилось спать в последнее время. Единственной мебелью у Рэтсо были стол и стул, но одеял было вдосталь. Взгляд Джоя упал на большую кучу их, сложенных в углу около окна, любых видов, которые только можно было себе представить: ватные, стеганые, армейские, индийские — все они были аккуратно расстелены на полу, образуя уютное мягкое ложе.
Рэтсо с удовольствием демонстрировал преимущества своего положения. Он предложил Джою стул, а сам наполнил жестянку водой, чтобы приготовить гостю растворимый кофе. Джой, намеривавшийся было расположиться на стуле, миновал его и опустился на ложе из одеял. Он буркнул что-то относительно его жесткости, но, не успев закончить предложение, провалился в глубокий сон без сновидений.
Через несколько часов он окончательно проснулся, не понимая, где находится. Он лежал лицом к стене в странной незнакомой комнате, погруженной в темноту, и только свеча на столе бросала неверные тени на стены и потолок. Где он? Медленно повернувшись, он обнаружил, что лежит на искусственном ложе из одеял, раскинутых на полу. Рядом с собой он увидел уродливую ногу в вельветовой штанине и начал узнавать ее.
Освещенный пламенем свечи, прислонившись к стене и покуривая, сидел Рэтсо, слушая приемник Джоя.
Сев, Джой вырвал у него радио. Он покрутил его, чтобы убедиться в исправности. Выключив его, он подтянул транзистор к себе поближе.
— Где моя обувь? — спросил он.
Сапожки стояли под столом. Крысеныш ткнул в них пальцем.
— Как они там оказались?
— Я стащил их с тебя.
Джой снова посмотрел на сапожки и перевел взгляд на Рэтсо.
— Зачем?
— Чтобы ты мог выспаться.
Встав, Джой подошел к столу, под которым стояла его обувь.
— Я думаю, самое умное, что я могу сделать — это уносить отсюда ноги. — Сев, он стал натягивать сапоги.
— Зачем? Зачем, зачем, зачем? — сказал Крысеныш. — В чем дело?
Джой поднял голову, и ему показалось, что он увидел на физиономии Рэтсо знакомое выражение. Большим и указательным пальцами он держал сапожок, который медленно покачивался в воздухе, а Джой тем временем оценивал ситуацию.
Крысеныш — вор, — думал Джой, — но он представляет опасность только, если у тебя есть, что красть. Если же он будет проводить тут ночь, приемник, он может класть себе под голову — а что же касается сапожек, какой в них толк для человека, у которого такие разные ноги? Что еще ему может сделать этот малыш? Он вроде не педик. Взглянув на него, Джой увидел всего лишь испуганное маленькое хромое существо, сидящее на куче старых одеял в комнате запущенного дома, смертельно боящееся остаться в одиночестве. Так почему бы ему и не остаться? Он не мог объяснить, что с ним происходит, но ему показалось, что каждый раз, когда он делал самые простые вещи, они ему дорого обходились. Тем не менее ему не помешает, если хоть одну ночь он нормально выспится. Но первым делом, он должен вбить в голову, чёрт возьми, этому типу несколько главных принципов.
— Слушай, Крысеныш, — буркнул Джой, — я должен тебе кое-что сказать. Но только сначала дай мне сигарету.
Крысеныш протянул ему мятую «Рейли» и подвинул свечку прикурить.
Затем Джой в упор посмотрел на Рэтсо и сказал:
— Вот что я должен тебе сказать — для твоего же собственного блага. Значит, ты, м-м-м… хочешь, чтобы я тут остался?
Крысеныш пожал плечами.
— Я тебя не заставляю. То есть, ты понимаешь, я не настаиваю. — В голосе его явно не хватало убедительности, и, когда он пожал плечами, чтобы продемонстрировать меру своего равнодушия, движение это было еле заметно. Джой понимал, что, несмотря на свои слова, Крысеныш страстно хотел его присутствия, но тем не менее понимал, что не должен этого показывать, контролируя ситуацию.
— Ага. Ясно, я понимаю. — Он натянул сапожки. — Черт, а мне казалось, что ты хочешь, чтобы я тут остался с тобой. Но вроде я ошибся.
— Ладно, так и есть, — проворчал Крысеныш. — Я хочу, чтобы ты остался, и я приглашаю тебя. Я тебе это уже говорил.
— Ты знаешь, что тебя ждет?
— Что?
— В том случае, если я останусь. Потому что ты еще не знаешь — я очень опасный человек, ясно? Я только и думаю о том, как бы пришибить кого-то. — Он вгляделся в лицо Крысеныша в поисках реакции. Тот просто смотрел на него, и на лице его ничего нельзя было прочесть. Джой продолжал: — Чистая правда. Если кто-то поступает со мной, как ты, я только и думаю, чтобы рассчитаться с ним. Так что ты предупрежден. Ты слышишь меня?
— Я тебя слышу.
— Ты так и не сказал, что ты об этом думаешь. Может, мне тебе еще раз объяснить?
— Ладно, я уже все понял! Ты человек опасный, ты убийца!
Джой кивнул.
— И для твоего же блага тебе лучше не забывать об этом. — Помолчав, он добавил. — Так что, если ты все еще хочешь, чтобы я тут остался на день-другой… то есть, я хочу сказать, ты этого хочешь? Или нет?
Нахмурившись, Крысеныш буркнул:
— Да! Черт бы тебя побрал!
Джой с удовлетворением потянулся.
— Легче, легче. — Он снова сбросил сапожки и направился к одеялам. — Мне нужно было все поставить на свои места. Потому что мне ни от кого не надо одолжений. Обойдусь.
Вернувшись в прежнее лежачее положение, он огляделся, привыкая к новой обстановке. Несколько минут они курили в молчании. Затем Крысеныш спросил:
— Ты уже убивал кого-то?
— Пока нет, — сказал Джой. — Но одного типа я просто изуродовал. — Он рассказал историю той ночи в бардаке Хуаниты Босоногой, когда бил Перри. — Я ничего не мог с собой поделать. Я прямо сошел с ума и не представлял, сколько во мне силы. Если бы меня не оттащили, с этим сукиным сыном было бы покончено. То же могло быть и с тобой. Той ночью я искал тебя с ножом наготове. А ты и не подозревал об этом, верно? Я был готов пустить его в ход. — Он помолчал, прикидывая, как бы расцветить повествование. — Всю ночь я провел в кутузке. И не наткнись я на копов, быть бы еще одному мертвому крысенышу.
— Ха! Ты думаешь, так бы я тебе и дался?
— Так что, — продолжал Джой, — с тех пор каждый раз, как я сталкиваюсь с копом, я шлю ему воздушный поцелуй, ясно?
Он бросил окурок в консервную банку, которую Ретсо приспособил для этой цели.
— И вообще, — сказал он, укладываясь, — держись от меня подальше. А то ты меня толкаешь.
Риччио торопливо доковылял до одеял и, повозившись, сказал:
— Джой?
— Ну?
— Поскольку мы у меня, сделай мне одолжение, ладно?
— Нет. Никаких одолжений. У меня нет настроения.
— Нет, ну ты послушай, мы же у меня — так?
— Все одолжения на сегодня я уже сделал, — сказал Джой.
— Ну да, это так, но мы у меня, и мое имя не Крысеныш, не Рэтсо. Понимаешь. То есть так получилось, что мое полное имя Энрико Сальваторе. Энрико Сальваторе Риччио.
— Ну, дер-рьмо, парень, я это и не выговорю.
— Ну хорошо! Тогда просто Рико! По крайней мере, здесь зови меня Рико!
— Иди спать, — сказал Джой.
— Договорились? — настаивал парень. Джой приподнял голову и гаркнул:
— Рико! Рико! Рико! Хватит с тебя? — Он повернулся лицом к стене и, помолчав, добавил: — И держи свои грязные лапы подальше от моего радио.
Через несколько мгновений Риччио сказал тихим хрипловатым голосом:
— Спокойной ночи. — Но Джой был далек от того, чтобы обмениваться любезностями с этим типом. Он сделал вид, что спит.
12
Так, этим днем в конце сентября было положено начало союзу Джоя Бака с Крысенышем Риччио. Эта пара стала привычным зрелищем на некоторых улицах Нью-Йорка в ту осень — маленький блондинчик, подпрыгивающий, как сломанная сенокосилка, чтобы успеть за ковбоем в потрепанном одеянии; они с детской бездумностью убивали время, слоняясь по улицам Манхеттена, в страстной надежде найти то, что могло бы представить для них ценность.
Покончив с кофе и куревом, которые ему удавалось приобрести, Рэтсо осталось только грызть ногти, а по ночам он лежал, хмурясь и покусывая губы. В сущности, в их паре он был ведущим и на его плечах лежала необходимость придумывать все новые способы существования.
Джой Бак, исполнял роль ведомого, просто был погружен в безграничный пессимизм, с которым встречал все предложения, но тем не менее следовал за ним. Например, Риччио как-то услышал о городке в Джерси, где счетчики на стоянках можно вскрыть простой отверткой. Джой Бак скептически отнесся к этому известию, о чем и сказал но все же согласился заложить свой приемник, чтобы купить билеты на автобус через реку. Когда они добрались до моста, сразу же стало ясно, что информация Рэтсо опоздала: город только что поставил новые счетчики, к которым с отверткой не стоило и подступаться. Столкнувшись с таким разочарованием, Джой повел себя достаточно благородно, во всяком случае, он не раскрыл рта, когда Риччио рассыпался в извинениях за неудачу.
Но в целом он, на чьих сапожках по-прежнему играло солнце, был груб и раздражителен по отношению к маленькому белокурому коротышке. Он тоже это чувствовал. Джой был бы и рад взвалить на свои плечи какой-то груз, но ему не о чем было беспокоиться. Причина такого его равнодушия заключалась в том, что он был счастлив.
В первый раз в жизни он чувствовал себя свободным от необходимости улыбаться и заискивать, чтобы обратить на себя внимание. Теперь в лице Риччио он обрел человека, который страстно жаждал его присутствия, и оно бальзамом обволакивало его исстрадавшуюся душу, нуждающуюся в утешении. Бог знает, как это случилось и почему, но он в самом деле наткнулся на существо, которое, похоже, обожало его. Никогда раньше Джой Бак не ощущал, что обладает такой властью и, честно говоря, не умел пользоваться ею. Он мог только снова и снова пробовать ее на вкус, как изголодавшийся по слабостям ребенок перед кучей засахаренного печенья: замирая от счастья, и капризничает, и хмурится, и ругается… Ибо именно таким образом и познают силу власти — отказываясь от нее. Ее сладость притягивала, и от нее тошнило, но он ничего не мог с собой поделать, чтобы отказаться от нее. Единственное, что коротышке, казалось, надо, — это пользоваться привилегией находиться в тени высокой фигуры ковбоя. И предоставлять такое укрытие в своей тени доставляло Джою Баку особое удовольствие.
Также ему нравилось и слушать Рэтсо. Когда они бродили по городу, или делили одну чашку кофе у стойки бара, или дрожали на пару в холодных подъездах, он выслушивал самые разнообразные точки зрения Риччио. Мало-помалу ему удалось составить представление о ранних годах его в Бронксе.
Крысеныш был тринадцатым ребенком в бедной иммигрантской семье. Отец его, работавший каменщиком на стройке, запомнился ему тем, что в свободное время старался завалиться спать в любом месте, где мог занять горизонтальное положение. Его мать, беспрерывно рожающая детей и мучающаяся от приступов тошноты, правила семьей с царственной рассеянностью, с которой она выдавала из спальни противоречивые указания. Время от времени она втискивала свое расплывшееся тело в домашний халат и принималась наводить порядок в доме. Во время одного из таких набегов, она обнаружила под столом в кухне семилетнего Риччио с тяжелым воспалением легких. Справившись с ним, он несколькими неделями позже подхватил детский полиомелит, а когда на следующий год смог наконец покинуть больницу, мать его уже скончалась и была похоронена. Три его сестры и двое из девяти братьев покинули дом — то ли создав свои семьи, то ли по каким-то другим причинам. Никто из восьми оставшихся ребят не проявлял никакого интереса ни к готовке, ни к домашнему хозяйству, да и глава семьи особенно не заботился о своем потомстве. Когда он думал о работе, она представлялась ему в виде бесконечных поисков жратвы. Тем не менее раз в неделю, он забивал полки пачками солнечного печенья и банками свинины с бобами, а холодильник — сыром и молоком. За шесть дней ребята подметали все, до чего могли дотянуться, а в воскресенье папа давал им праздничный обед в соседней пиццерии. В прежние времена он, как правило, устраивал семейные сборища в этом самом ресторане, и владелец всегда испытывал гордость, что появление этого огромного выводка позволяет обратить внимание, что у него самый большой стол в округе.
— Вот и Риччио идет! — обычно восклицал он. — Милости прошу за стол! — Даже теперь, когда у него осталось только восемь сыновей, приходилось составлять вместе два обыкновенных стола. Но прошло несколько месяцев, и эти воскресные обеды стали все более нерегулярными, потому что у старого каменщика заметно испортился характер, и сборища за столом становились поводом для криков и оскорблений. Мальчишки, подрастая, один за другим выясняли, что прокормиться можно куда проще, чем выслушивая бесконечную ругань раздраженного старика, и постепенно исчезали из дома. Наконец в одно прекрасное воскресенье за обедом из всей семьи остался только один Рэтсо. Когда владелец подвел их к столику для двоих, старик был потрясен, смущен, а затем замкнулся в себе. Он ел в молчании, обращаясь к своему тощему хромому тринадцатилетнему отпрыску едва ли не с церемонной вежливостью. Каждый глоток он запивал вином и наконец настал момент, когда он нарушил молчание, закончив трапезу громовым ударом кулака по пластмассовой поверхности столика и, проклиная самого себя, все мироздание и господа Бога объявил, что привык к куда большему столу: «Дети мои! Все вы меня бросили!» Подошел хозяин заведения, и два старика, обнявшись, всплакнули вместе. Потом Риччио довел отца домой. На пороге тот содрогнулся и испустил ужасный вопль. Он вел себя так, словно, очнувшись от самого долгого из своих снов, обнаружил, что вся его семья вырезана бандитами, а стены и потолок залиты кровью. Глядя мимо Риччио, словно его не существовало, каменщик начал всхлипывать, вопрошая снова и снова — куда делись его сыновья. «Неужели у меня такие ужасные дети?» Постепенно, а, скорее всего, из-за отсутствия всех прочих, Рэтсо стал его любимцем, и понемногу жизнь его стала куда лучше, чем у всех прочих. Ему подкидывали содержание и никогда не оскорбляли. Воскресные обеды продолжались. Говорить им за маленьким столиком было практически не о чем, но между ними царило молчаливое взаимопонимание и мирная атмосфера. Папа Риччио, который стал в свои шестьдесят с лишним лет толстым, мягким, лысым старым увальнем, в одиночку выпивал кварту кьянти, и по пути домой из ресторана он находил массу поводов то положить руку на голову единственного оставшегося у него сына, то, стоя у светофора, обнять мальчика тяжелой рукой за плечи. В один такой летний день, Риччио не устоял на ногах под тяжестью навалившегося на него отца, и оба они рухнули на тротуар. Когда Риччио удалось высвободиться, он увидел, что старик так и скончался на нем, при свете дня, на Бронкс-ривер, Паркуэй. С этого дня Рэтсо оказался полностью предоставленным самому себе. Ему было шестнадцать лет, и он ничего не умел делать в этой жизни. Но он от природы был сообразительным мальчиком и, как большинство детей, выросших в больших семьях, умел легко и отменно врать. Вооруженный этими способностями, он и вышел на улицу.
Риччио мог рассказывать о Бронксе, он мог рассказывать о Манхеттене, да и вообще почти обо всем на свете. Но любимой темой его разговоров была Флорида, и, хотя он никогда там не был, рассуждал об этом предмете уверенно и авторитетно. Он часто рассматривал цветные проспекты транспортных компаний или пытался собирать вырезки из газет; кроме того, у него была книга «Флорида и Карибы». В этом прекрасном месте (как он утверждал) для жизни необходимы только две вещи — солнце и кокосовое молоко, а их там было такое обилие, что проблема заключалась в том, как справиться с этим. Ибо чтобы проводить время на солнце, необходимы были лишь широкополая шляпа, темные очки и крем для загара. Что же касается кокосов, то они в таком изобилии валялись на улицах любого из городов Флориды, что муниципалитет был вынужден нанимать огромные грузовики, чтобы собирать их, иначе машины просто не могли ездить. И, конечно, кокосы представляли собой прекрасное питание: это всем известно. Как только ты чувствовал хоть легкий голод, оставалось только сорвать один такой орех с дерева, а потом, пустив в ход карманный нож, опрокинуть содержимое скорлупы в глотку. Рассказывая об этом Риччио был не в состоянии сдерживаться от демонстрации того, что надо делать с невидимым орехом.
— Тут у тебя в чем проблема, — говорил он Джою в промежутках между фразами, втягивая воздух сквозь зубы, — проблема в том, чтобы продержаться на этой диете, ясно? И у тебя теплое молоко течет по лицу и шее. Пей сколько влезет, а потом только физиономию вытри. Здорово, а? Как тебе это понравится? Мне нравится. Это точно. — Что же до рыбалки, то по Риччио она выходила таким простым делом, что Джою стало казаться, будто нет необходимости ни в леске, ни в удочках, ни даже в крючке. Но, задумываясь, насколько это соответствует действительности, он представлял себе картинку, как они вдвоем стоят у воды, приговаривая «Ловись, ловись, рыбка», и совершенно прекрасные рыбины так и прыгают им в руки, уже готовые для жарки. В своих глупых, но полных счастья мечтах, он уже ощущал их запах на сковородке. Порой, чтобы поддержать столь приятный разговор, Джой подкидывал вопросик:
— Слушай, парень, что за дер-рьмо, а где же ты собираешься спать? Там таких домов с перекрещенными окнами нет, так что тебе придется уносить ноги.
Но у Рэтсо были готовы ответы на все случаи жизни. Он начинал рассказывать о бесконечных милях пляжей, на которых стоят сотни пагод, беседок, и веранд; с ними, да еще на мягком песке и удобных скамейках, скрытых навесами от ветра и дождя, спишь, как в раю.
Но куда чаще дискуссии касались их финансового положения. Риччио явно был склонен относиться с сомнением к так называемым честным способам его решения. Ни один из них не внушал достаточно доверия, чтобы рассчитывать на работу, которая могла бы их прокормить, да и никто из них не был готов к ней. Помимо этого, любое занятие, которое требовало полной занятости, не стоило того, чтобы считаться решением проблемы: такие разговоры Риччио считал просто непристойными и даже не углублялся в них. Конечно, существование только за счет хитрости казалось им столь же проблематичным, как и путем нормальной работы: конкуренция в этой области была просто ужасная и, придумав что-то новое, надо было постоянно следить, чтобы оно внезапно не устарело. («Вот, например, как с этими чертовыми счетчиками, верно?») Что же касается способностей Джоя Бака зарабатывать, то у Риччио были серьезные сомнения насчет его надежд жить за счет женщин. Эта профессия была узко специализирована, требовала соответствующего гардероба, изящества и возвышенной внешности. Ковбойский подход не действовал на женщин в Нью-Йорке. И дело было не в том, что его внешний вид просто тянул к себе гомосексуалистов; даже среди них существовала строгая специализация по группам, и на него обращали внимание лишь те, кто испытывал тягу к мазохизму («Ты не можешь себе представить, что там делается, и не поверил бы, если бы даже я тебе рассказал».) Порой, борясь с лучшими чувствами, но не в силах справиться с муками голода, он организовывал Джою быстренькое дельце на пять-десять долларов, когда от ковбоя почти ничего не требовалось, а только постоять несколько минут со спущенными штанами. Но после этого Джой приходил в смущенное состояние духа и впадал в депрессию. Ему казалось, что он попадал в опасную своей неощутимостью ситуацию, которую невозможно было обговорить при сделке и которую не ощущали обе стороны; пребывая в мрачной рассеянности, он не мог найти этому разумное объяснение. Риччио был согласен, что это не лучший способ заработка. Он утверждал, что проституция всегда была самой тяжелой работой в мире, в которой свирепствовала отчаянная конкуренция, — и еще труднее ею заниматься в сегодняшнем мире, когда к предмету потребления предъявляются такие требования. Лучшее, что она могла предоставить, — это возможность ограбить клиента, но это требовало проворства и отточенного чувства времени, которые, как Риччио подозревал, отсутствовали у его приятеля-ковбоя, и он не мог заставить его выйти с этим на рынок. Риччио не сомневался, что у него самого хватило бы и хитрости и ловкости рук, но его шансы на успех практически сводились на нет искалеченной ногой. («Взять тех же педиков — ну, кому из них нужен калека?»)
Но Риччио обладал специальностью, которая куда лучше служила ему: он был карманником. Но и тут ему не особенно везло. Не раз его во время работы хватал за шиворот некто, вдвое выше его ростом, и без всяких сложностей отволакивал к полисмену, и Риччио приходилось терять последние остатки достоинства, унижаясь и ссылаясь на свою искалеченную ногу. Более искушен он был в других формах краж, но эти варианты требовали большой отдачи по времени, и порой ни к чему не приводили: он мог подцепить в баре незнакомца и пуститься с ним в оживленную беседу, чтобы улучить момент, спереть у собеседника кошелек, но случалось, что он впустую проводил так несколько часов и покидал бар лишь с мелочью в кармане и парой кружек пива в желудке.
Джой с отвращением относился к таким операциям («Мне от них рвать хочется!») и старался не иметь ничего общего с прибылью, которая порой доставалась Риччио. Тому приходилось придумывать совершенно невероятные истории, чтобы объяснить происхождение денег, в противном случае Джой отказывался даже прикоснуться к купленному на них гамбургеру и целыми днями ходил с вытянутым лицом.
Но Джой все же не забывал дружеских чувств, охвативших его при первой встрече с Риччио, и в течение этих недель ему казалось самым страшным — возможность опять остаться в полном одиночестве. Хотя он освободился от груза одиноких лет и полностью существовал в потоке нового времени, все же воспоминания о них не исчезли окончательно, бросая сумрачную тень на настоящее, как чудовища из ночных кошмаров, черные и безжалостные, готовые снова и снова погрузить его в бездонную пучину одиночества.
Таким образом пара проболталась весь октябрь, и когда ударили ноябрьские холода, в их жизни по-прежнему не происходило ничего достойного внимания.
Дни были похожи как две капли воды, и ощущение, что он загнан в угол, без всякой надежды, что дела пойдут лучше, вызывало в Джое беспокойство и возбуждение, от которых он по-настоящему страдал. Словно Манхеттен был его камерой, стены которой сдвигаются с чудовищной быстротой, и он обречен метаться меж них, пока они окончательно не сомкнутся, придавив его.
То один, то другой маялись простудой. Особенно страдал Риччио: его голос обрел густые интонации баса-профундо, что Джой находил особенно смешным у такого коротышки. Он глотал жаропонижающие и пил сироп от кашля в таком количестве, что у него постоянно кружилась голова и совершенно не хотелось есть. Время от времени он заставлял себя съесть лишь несколько ложек супа в баре у Херши. И, конечно, кофе. Этот напиток он мог пить всегда и везде и, естественно, курить сигарету за сигаретой. Риччио не вынимал сигареты изо рта, и Джою казалось, что в табаке есть какая-то жизненная субстанция, которую может извлекать оттуда только Риччио.
Ноябрь был суровым месяцем для тех, кто, как они, скитались по подъездам — холодным, сырым и ветреным. И похоже, что по мере того, как все более и более ухудшалась погода, им придется все больше и больше времени проводить на улицах. Конечно, они испытывали искушение как можно больше продлевать ночные часы, когда они находились в своем убежище в доме с перекрещенными окнами. Но излишне долгое пребывание в этом месте так угнетало их, что они начинали ненавидеть свое укрытие. Оно давило их. Они как-то понимали, что уж если его выбрали, то сетовать не на что. Никакой волшебник не постучится к ним в двери и не приподнесёт им удачу или хотя бы жратву. Это было им ясно, и поэтому так приятно было лежать по ночам в захламленном, но безопасном укрытии, погрузившись в сон. Но просыпаться при свете дня и видеть, как в комнату падают тени от крестов, намалеванных на окнах, словно намекая на их положение, было так неприятно, что даже удобства начинали тяготить их. Нет, на эту тему они не говорили. Не было смысла. Какая бы ни была омерзительная погода на улицах, как бы муторно они себя тут ни чувствовали, каким бы привлекательным ни казалось это место по сравнению со скитанием по улицам, к полудню они покидали его.
На улицах и в витринах магазинов появились первые признаки приближающегося Рождества. Но к ним праздник не имел никакого отношения. Они вели то же самое однообразное существование. Как-то Риччио явился с пальто на подкладке из козьей шкуры и преподнес его Джою в качестве подарка. Он заверил его, что оно было преподнесено ему торговцем верхней одежды в обмен на небольшое одолжение, но у Джоя были основания считать, что Риччио просто украл его в кино. Он сказал, что нельзя приносить украденную вещь, не убедившись, что у владельца есть другое пальто и прекратил сетования Риччио тем, что кинул пальто в угол. Джой продолжал таскать свою желтую кожаную куртку, на которой так и осталось пятно от кетчупа. Он уверял, что ему не холодно, но его постоянно била дрожь, и он то и дело находил предлоги забежать в магазин или куда-нибудь в фойе или в вестибюль.
Каким-то образом Джой догадывался, что испытываемое им беспокойство не имеет ничего общего с однообразием их существования. Внутри его жило ощущение, что такой вещи, как однообразие, просто не существует: ты ведь можешь неизменно заниматься тем же самым и ходить по улицам и даже постоянно перебирать те же самые мысли, но в глубинах души, куда ты не можешь добраться, все это меняется, пока не сливается воедино и что-то не происходит. И задолго до того, как что-то случается и жизнь в самом деле приобретает новую окраску, ты смутно ожидаешь приближение изменений.
Но Джой был не из тех, кто может, вцепившись в такую мысль, тщательно обдумывать ее. Она вспыхивала у него в голове лишь на долю секунды и растворялась в потоке жизни, которая подчинялась своему собственному ритму. Так что Джою казалось, что источник его беспокойства — страх перед пустотой, за которой ничего не было. Лишь порой он, удивляясь самому себе, испытывал страх перед чем-то.
И наконец в начале декабря пришла ночь, когда ожидание кончилось раз и навсегда.
13
— Ему? — спросил юноша.
— Минутку, дай-ка взглянуть, — сказала девушка. Она похлопала Джою по плечу.
Был поздний декабрьский вечер. Он пил кофе в баре у Неддика на 8-й стрит, когда услышал за спиной голоса. Обернувшись, он увидел, что его внимательно изучают двое очень юных молодых людей в одинаковых костюмах: черные глухие свитеры с воротником под горло и тугие, в обтяжку, черные джинсы. Похоже, что они были братом и сестрой, может, даже двойняшками. По их внешнему виду трудно было понять, кто из них к какому полу относится. У нее были слишком короткие волосы для девушки, а у него слишком длинные для юноши. Оба были блондинами, с серыми глазами и довольно симпатичными; никто из них не употреблял косметики.
Чувствовалось, что первую скрипку играла девушка. Приподняв подбородок Джоя, она уставилась ему в глаза.
— Ну да, точно, — сказала она брату. — Точно ему. Юноша неопределенно улыбнулся и протянул Джою свиточек тонкой оранжевой бумаги, скрепленной серебряной звездочкой.
Затем эта пара оставила заведение. Джой, которого поразили спокойствие и уравновешенность их поведения, смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду и лишь потом развернул бумагу. Текст был написан от руки черными чернилами.
«Вашего появления в королевстве ада ждут до полуночи — в гнусном месте, на гнусном чердаке, расположенном на северо-западном углу Бродвея и Гармони-стрит. Там вы будете развращены и отравлены.
Ганзель и Гретель Мак-Альбертсоны»Выйдя, Джой посмотрел во все стороны, но нигде не было и следа Мак-Альбертсонов. Снова уставившись в их записку, он обратил внимание на слова «до полуночи» и глянул на часы на башне красного кирпича, стоявшей около женской тюрьмы: на них было одиннадцать часов. Закурив, он попытался прикинуть, что хорошего может дать ему встреча с этой странной белобрысой молодежью. Загорелся зеленый свет. Прохожие поспешили через улицу, то и дело натыкаясь на него в своем желании увернуться от куч старого снега, лежащих по обочинам тротуара.
Джой несколько раз перечел записку. Он чувствовал, что без посторонней помощи ему в ней не разобраться. Рэтсо, скорее всего, болтался в салунчике на Шестой авеню. Джой уже пересек улицу, двинувшись в его сторону, как увидел Рэтсо под зеленым тентом газетного киоска. На нем было то самое пальто на подкладке из козьей шерсти, из-за которого они поспорили. Увидев приближение Джоя, он вызывающе посмотрел на него. Но со своей стороны, Джой был только доволен, увидев, что вещь пошла в дело. Он протянул Рэтсо оранжевый клочок бумаги.
— Если ты хочешь что-нибудь почитать, — сказал он, — то прочти вот это. — Затем он объяснил Риччио, как стал обладателем записки. — Там была куча народа, — сказал он, — но они дали ее только мне. — Он пытался скрыть охватившую его гордость.
Рэтсо поднял воротник выше ушей и сорвался с места.
— Двинули, — сказал он.
— Стоп-стоп-стоп, — сказал Джой, пристраиваясь к нему. — Куда? То есть, что это за чертовщина? Это что — представление, или религия какая-то, или что вообще? Потому что мы, черт возьми, и сами не знаем, куда идем.
— Это вечеринка по случаю Хеллоуина.
— Хеллоуина? Сейчас нет никакого Хеллоуина. Сейчас декабрь.
— Так что тебя волнует? Это вечеринка, и мы приглашены на нее.
— Мы? — удивился Джой. — В ней ничего не сказано о тебе, — отметил он.
— А! — отмахнулся Риччио.
— Парень, — сказал Джой, — они явно высматривали именно меня, прежде чем всучили мне эту штуку.
Они шли на восток от 8-й стрит, направляясь к Бродвею.
«Ну да, — вспомнил Джой, — они, конечно, уставились на меня, и один сказал «Ему»? а другая ответила «Ну да, точно». Интересно, как они меня подцепили? Из-за сапожек или из-за шляпы? Что-то у меня на физиономии написано? Может, дело в чувственности? Или в чем?»
Эти мысли заставили его улыбнуться, а потом громко рассмеяться. Они проходили мимо булочной, витрина которой представляла собой подобие зеркала. Джой быстро повернулся к нему, надеясь подчеркнуть бодрость в своей улыбке, и в какой-то мере ему это удалось.
Затем он обратился к Рэтсо.
— Слушай, а ведь еще не так давно я сидел в гостиной Салли Бак и глазел в телевизор.
— Да? Ну и что? — посмотрел на него Рэтсо. — То есть, ну и что?
— Ты не понимаешь, что все это было в Альбукерке. Черт-те где. А где я сейчас? Я в Нью-Йорке, не так ли? И меня выбрали из всей этой чертовой… не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу тебе сказать?
— Не-а.
Джой так отчетливо представлял себе свои ощущения, что счел отказ Рэтсо понять его совершенно сознательным.
— Ну, — сказал он, — я вижу, что ты не хочешь попасть на эту вечеринку, потому что ты паршивый маленький вуппи, вот ты кто.
Рэтсо вцепился Джою в руку и почти повис на ней.
— А что? А что я такого сказал?
— Неважно, — ответил Джой. — Они, скорее всего, так и так тебя не пустят.
— Хочешь поспорим?
Группа, состоящая явно из преподавателей колледжа, толпилась перед входом в книжный магазин на Восьмой авеню. Знали бы они, подумал Джой, куда он направляется. Он никак не мог дать им это знать.
— Я заставлю их впустить тебя, — сказал он спутнику. — Я скажу им, что и порога их не переступлю, пока они не возьмут тебя.
— Да имел я их всех!
— Так что не беспокойся, — сказал Джой.
— А я и не беспокоюсь!
— Можешь считать, что ты уже там. Кроме того, они не должны быть к тебе в претензии.
— А кто говорит, что они имеют?
— А если ты причешешься и немного встряхнешься, то вообще будешь в полном порядке.
— Тысяча благодарностей!
— Так что я им скажу, м-м-м… что, мол, никуда я не пойду без своего приятеля. О'кей?
Квартал они прошли в молчании. На углу Юнивесити-плейс они нарвались на порыв холодного ветра, который преследовал их, пока они не перебежали через улицу и не укрылись за углом здания.
— Ты же не хочешь, чтобы я шел, — сказал Рэтсо. — Так?
— Разве я это говорил? Я ничего не говорил.
— Нет, но вот что я тебе скажу, Джой. Прости меня, но я в таком настроении, что все тебе выложу. Так что слушай: ты жутко тупое создание. Ты понятия не имеешь, как избегать неприятностей. Ты постоянно нуждаешься во мне! Ты себе даже задницу не можешь вытереть, если я не принесу тебе бумажки. А сегодня тебя пригласили на вечеринку, и ты уже почувствовал себя великим человеком. Так вот, хочешь я тебе кое-то скажу? Да не х о ч у я таскаться по этим идиотским вечеринкам с Ганзель и Гретель Мак-Альбертсонами. — Рэтсо нарочито прошепелявил их имена и поперхнулся, издав горловой звук. — Тю-тю-тю и сю-сю-сю! Да меня уже мутит. Единственная причина, по которой я хочу туда забраться, в том, что у них, скорее всего, мне удастся спереть кольцо сосисок и пару пачек крекеров. Черт возьми, а что еще там делать! Ну, а поскольку аппетита у меня больше нет, я с тобой прощаюсь. О'кей? Он остановился.
— Дай-ка мне адрес! — Джой вырвал оранжевый листик из руки Рэтсо и двинулся вперед. Но прошел не больше квартала, и его гнев испарился. Остановившись на Бродвее, он оглянулся.
Сгорбившись, Рэтсо стоял посредине тротуара и смотрел ему вслед.
Джой махнул ему рукой, и Рэтсо покатился к нему, торопясь изо всех сил и хватая ртом воздух, как подстреленная птица. Джой хотел крикнуть ему «Не беги!», но вместо этого отвернулся, не в силах смотреть на торопящегося Рэтсо. Он услышал, как его та-тах, та-ах, та-тах становятся все ближе и ближе. К тому времени, когда Рэтсо добрался до него, оба они забыли свою размолвку.
Они спустились по Бродвею до угла Гармони-стрит. Среди многочисленных маленьких объявлений у входа в большое запущенное здание, было одно со словами: «Мак-Альбертсоны. Два этажа наверх».
Прежде чем пуститься по лестнице, Рэтсо на несколько секунд прислонился к перилам. Лицо его и спутанные волосы были мокры от пота, а в груди у него словно свистел испорченный орган. Джой настолько привык слышать чихание и кашель Рэтсо и его голос, напоминающий громыхание камней по булыжной мостовой, настолько привычным стало выражение боли на его лице, что он вот уже несколько недель не обращал внимания на состояние малыша. А теперь он увидел, что под испариной проступила смертельная бледность, из которой исчезли все краски; кожа его отливала скорее желтизной, переходящей в серо-зеленый оттенок, белки глаз покраснели, а посиневшие губы были обметаны белым.
— Что это с тобой делается? — спросил Джой.
— Со мной? Что ты имеешь в виду?
Джой не нашелся, что ответить. Он продолжал молча смотреть на Рэтсо. Тот встрепенулся.
— Что? В чем дело? Я что — кровью истекаю?
— Нет. Нет, ты не истекаешь кровью. Хотя ты залит потом. У тебя есть какая-нибудь тряпка?
Риччио вытер лоб подкладкой пальто.
— Тебе бы лучше и волосы вытереть, — сказал Джой. Рэтсо попытался пригладить их руками.
Джой вытащил из-за пояса подол рубашки.
— Иди сюда. Дай-ка сюда свою паршивую голову.
— Нет, — проворчал Рэтсо. — Но Джой перекрыл его голосом. — Иди сюда! — Наклонившись, Рэтсо подставил голову. Джой стал вытирать ее подолом рубашки. — Нельзя появляться на прием с мокрой башкой, — сказал он. — Теперь нормально. У тебя есть гребенка?
— Да она мне не нужна. — Риччио стал расчесывать волосы пальцами.
Джой сунул ему расческу.
— Пара дюжин вшей меня не смутят, так что не волнуйся.
Но гребенка не смогла продраться сквозь густую путаницу давно не мытых волос, оставив на ней несколько зубьев. Вернув расческу, Рэтсо попытался руками придать своей прическе некоторое подобие порядка.
— Как я выгляжу? Нормально?
Джой долго и внимательно оглядывал его.
Не подлежало сомнению, что с Рэтсо явно было что-то не то. У Джоя появилось желание просто соврать ему и покончить с этим делом, но почему-то он продолжал смотреть в лицо Рэтсо.
Что он в нем видел?
Никто из них этого себе не представлял.
Между ними возникло какое-то смутное, неловкое ощущение, болтающееся в воздухе, как скелет, пляшущий на ниточках, что-то мрачное и тайное, наполнившее Джоя ужасом, потому что он почувствовал тоску одиночества.
Сам же Рэтсо, что бы он ни чувствовал, держался легко и небрежно. Он просто опустил голову, придав лицу дурашливое выражение. Глаза его были спокойны, и он предоставил Джою рассматривать свои плечи и затылок.
Джой открыл было рот, чтобы поговорить, но Рэтсо нетерпеливо махнул рукой и двинулся вверх по широкой темной лестнице.
Джой смотрел ему вслед. Когда Рэтсо одолел половину первого марша, он окликнул его:
— Эй, подожди меня! Эй!
Рэтсо остановился и посмотрел вниз. Глаза его молили Джоя ничего не говорить, и все же он с вызовом обратился к нему:
— Так мы идем на эту чертову вечеринку — или что?
Джой был так удивлен, что не сдвинулся с места.
Здесь, у подножия лестницы, произошло что-то странное. Но не показалось ли ему? Он не был в этом уверен.
— Все в порядке? — спросил он.
— Да идем же! — нетерпеливо бросил Рэтсо, а потом попросил, — будь любезен, поднимайся!
Он дождался, пока Джой сделал первый шаг, и, ухватившись за перила, стал подтягиваться по лестнице.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
На перилах третьего этажа была навалена одежда. Там были кучи свитеров, шарфов, парок и самой разнообразной зимней одежды. Рэтсо бросил свою козью шкуру поверх всего и глянул на ряды сапожек, галош и ботинок на полу.
— Когда будем уходить, подхвачу пару получше, — сказал он.
Дверь была распахнута настежь. Рэтсо решительно двинулся в путь. Джой чувствовал ужасное стеснение, не зная, чего от него ждут. Сдвинув брови, он подчеркнуто неторопливо вошел в комнату, опасаясь, что на него не обратят внимания.
Помещение было огромным: оно тянулось во всю длину дома, да и в ширину было от стенки до стенки здания. В нем стоял гул голосов, но все же не столь уж шумный для такой толпы. Время от времени вспыхивал смех, были слышны обрывки разговоров, смешанные с негромким ровным ритмом небольших негритянских барабанов бонго, которые издавал ударник, давая понять, что музыканты еще не готовы врезать как следует. Одна пара пыталась танцевать, прилагая еще большие усилия, чтобы оставаться незамеченной. Помещение было заполнено множеством небольших групп, часть которых свободно стояла, а другие расположились на полу: многие стояли сами по себе или рядом с компаниями, тем не менее не имея к ним отношения. Одна пара — по виду ребята-старшеклассники, один белый, другой цветной — сидела в середине помещения, взявшись за руки, но в их позах не было ничего, что могло бы предполагать тесные межрасовые отношения; они всего лишь держались за руки, а глаза каждого из них были устремлены куда-то в пространство. Многие из тех, кто пребывали в одиночестве, и мужчины и женщины, казалось, стеснялись своего положения. Они слонялись, ища куда бы приткнуться или чем бы заняться: выпить, покурить, забиться в угол, вступить в разговор, обменяться с кем-нибудь улыбкой, завязать знакомство.
Вдоль одной из стен тянулся длинный стол с большим выбором сыров, холодного мяса, крекеров и хлеба, а на полу рядом с ним стояла ванна со льдом, в котором лежали банки с пивом.
В дальнем конце комнаты Джой заметил Мак-Альбертсонов, сидящих на полу у ног костлявой размалеванной женщины с длинными светлыми волосами.
За этим трио на стене были протянуты от пола до потолка несколько полос оберточной бумаги, на которой были намалеваны черные буквы:
ЭТО ПОЗЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ,
а рядом с надписью стояло ведро с черной краской и кистью, древко которой было прислонено к стене.
Джой уставился на Мак-Альбертсонов. Они сидели рядом с надписью тихо и неподвижно, как фигурки на алтаре, и в них чувствовалось то же самое жуткое спокойствие, которое привлекало его внимание у Неддика.
Но женщина за их спинами волновала его еще больше. Он старался не смотреть на нее, но глаза то и дело невольно возвращались к ней. В ней было что-то странное. Но что? Под каждым глазом у нее было по пятну черной краски и алел маленький красный ротик. Она постоянно моргала. Ресницы у нее дергались как на ниточках, когда она обращала внимание на каждого, кто к ней приближался. Голова, небрежно посаженная на шею, рассеянно покачивалась из стороны в сторону, как у китайского болванчика. Когда смотрел на нее издали, она казалась искусственным созданием, слепленным этими молчаливыми серьезными детьми, сидевшими у ее ног, чем-то вроде изображения исчезнувшей материи, сделанной из веточек, пучков соломы и пакетиков из-под печений.
Перед мальчиком стояло подобие банки, и время от времени он что-то вытаскивал из нее (пауков? червей?) и, встряхнув рукой в воздухе, вручал это красивой темнокожей девочке. Что бы там ни было, девушка засовывала это в рот, запивая пивом, а затем, насмешливо изображая чувственное удовольствие, начинала извиваться всем своим стройным, затянутым в платьице из джерси телом и подхваченная внушительным черным великаном, привлекавшим внимание всех присутствующих, в танце выходила на середину комнаты.
Но Джой не сводил глаз с паренька, с Мак-Альбертсона, который продолжал уделять все внимание своей банке. Он придвинулся поближе, надеясь заглянуть в нее, как кто-то, окликнувший Гретель, привлек его внимание и кивнул ему. Джой оглянулся в надежде прибегнуть к помощи Рэтсо, но тот уже был у стола с закусками и, опасливо озираясь, набивал карманы салями.
Тем временем Гретель Мак-Альбертсон встала и подошла к Джою. И лицо и голос у нее были совершенно бесстрастными. На близком расстоянии она не казалась такой уж зловещей, а за ее спиной могла крыться необыкновенная скука.
— Ты здесь, — сказала она. — Хочешь чего-нибудь? Я имею в виду, тут есть пиво и… — Она разжала пальцы и показала ему большую коричневую капсулу, — и вот это, если хочешь. — Увидев вопросительное выражение на его лице, она объяснила. — Бомба с барбитуратом — действует примерно четыре часа.
Поглядев на капсулу, Джой перевел взгляд на девушку, стараясь скрыть свое невежество и пытаясь понять, что же ему сейчас делать.
Она слегка нахмурилась.
— Ну бери же, — сказала она тоном, средним между командой и просьбой.
Взяв капсулу, Джой сунул ее в рот, собрал всю слюну и проглотил. Гордясь собой, он посмотрел на девушку, надеясь увидеть в ней взаимопонимание или одобрение. Но после своей бравады она, казалось, еще больше погрузилась в тоску. Тонким пальцем она небрежно ткнула в сторону стола с закусками.
— Пива там хватает, — сказала она. На этот раз ему удалось уловить в ее голосе хоть что-то напоминавшее вежливость.
В эту минуту к нему подошел Рэтсо с двумя открытыми банками пива. Одну из них он протянул Джою.
Джой попытался организовать церемонию знакомства.
— Это м-м-м… Рэтсо Риччио, а это… — Тот поправил его.
— Рико! — сказал он.
Но так как слушать этот обмен репликами было слишком утомительно для Гретель Мак-Альбертсон, она просто отошла от них.
Джой сделал основательный глоток пива и попытался понять, что ему ждать от проглоченной капсулы.
— Если ты хочешь понять, чем занимаются эти братик с сестричкой, — сказал Рэтсо, — так я тебе скажу: Ганзель педик, а сестричка хочет завестись. Но кого это волнует, точно? — Он пронзил пальцем воздух, нацелив его на стол с закусками. — У них там салями. Набей себе карманы.
Джой почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он повернулся, и на пороге ванной увидел девушку в оранжевом платье, которая недвусмысленно улыбалась ему. Изогнувшись, она прислонилась к косяку таким образом, после которого становилось ясно, что ванна — ее личный шатер в красочной пустыне — ну, в крайнем случае, она ее делила с остальными обитательницами гарема. Она откровенно встретила его взгляд, еще шире распахнула глаза и, обнажив зубки, хихикнула с диковатым видом. Запустив пальцы в густые черные волосы, она подошла к нему. Джой обратил внимание на ее тело: у нее были стройные чувственные ноги и крепкое телосложение.
— Я могу, — сказала она. — А ты?
— Ну да, — соврал Джой. — Ну да, черт возьми, и я могу.
— Тогда ладно, — сказала она, — что мы будем делать? Сразу удерем или как? У тебя есть хата? Потому что я живу с подружкой, черт бы ее побрал. Ладно, неважно, с этим я сама справлюсь. Потому что мы с тобой договорились. О, Господи! Как только посмотрела на тебя, сразу же все поняла. Ты это понял?
— То есть, я… м-м-м…
— Что нам придется этим заниматься, да?
Вмешался Рэтсо.
— Вы в самом деле хотите, не так ли, леди?
Ясно было, что женщина не замечала Рэтсо; она с удивлением посмотрела на него.
— А это кто такой? О, Господи! Только не говорите мне, что вы парочка!
— Можете считать меня его менеджером, — сказал Рэтсо. — А он, значит, Джой Бак — очень дорогое удовольствие.
— Дорогое? — рот у нее, дрогнув, открылся. Моргнув, она огляделась, а потом снова посмотрела на Рэтсо и снова на Джоя. — Это правда?
— Ну в общем-то… — начал мяться Джой.
— Господи! — завопила она. — В самом деле! Не могу поверить! — Она отошла от них — не бросилась, а просто побрела в другую сторону. Открыв банку с пивом, она прислонилась к столу в дальнем конце помещения и, потряхивая головой и жмурясь, продолжала смотреть на высокого ковбоя.
— Она на крючке, — сказал Рэтсо. — Я бы сказал, что с нее можно слупить десять баков. Но я буду просить двадцать.
— Слушай, — сказал Джой, — с деньгами или без денег, я бы хотел тут кого-нибудь попользовать.
— Ну, конечно, черт возьми, ты же у нас богатенький. Иди поговори с ней. А я подойду попозже.
Джой ощутил себя легким и невесомым. Он слегка повел плечами, проверяя, способен ли он еще двигаться, и выяснил, что тело его обрело новое качество: он стал ощущать каждую его жилочку, наполненную изяществом и мощью. Он даже почувствовал старую тягу заглянуть в зеркало.
Черноволосая женщина уже снова оказалась рядом с ним, глядя снизу вверх, как бы меряя разницу в росте.
— Я в диком восхищении, — сказала она. — То есть в первый раз в жизни я столкнулась, ну, в общем-то я даже не слышала, что может быть такая ситуация. И честное слово, я просто в жутком восхищении. Не могу дождаться, пока расскажу своему мужику, но мы с ним не встретимся до понедельника, вот незадача, точно? Слушай, я просто так интересуюсь, ты понимаешь, но что будет, если я скажу: «О'кей, я покупаю!» Оп!
Женщина внезапно передернулась. У нее был изящный точеный носик. Ноздри у нее были раздуты, и она короткими рывками вбирала в себя воздух.
— Я дико растеряна, — сказала она, — и дело тут не в декседрине! Я в нем разбираюсь, и так со мной никогда не было. Я обязательно все отмечаю: дыхание, сердце, желудок — и смотри! Гусиная кожа!
Она показала ему свою руку; Джой сдержанно усмехнулся.
— Из-за чего это? Из-за того, что покупаю мужчину, так? Самая потрясающая штука, о которой я когда либо слышала. Одно дело, когда ты расстаешься с девственностью. И совершенно другое, абсолютно другое, такое далекое, словно на другом конце света — это когда покупаешь любовника. Так мне кажется. Разве не так? Конечно, откровенно говоря, я давно уже рассталась с невинностью. Она никогда не представляла для меня проблему. Это было давным-давным-давным-давно, несколько лет назад. Я тогда думала, что должна выйти замуж за каждого, с кем крутила роман. Вот примитив, верно?
Она засмеялась, но взрыв хохота не помешал литься потоку ее речи.
— Но после трех мужей… сколько их там было? Да, трое — мой мужик наконец вбил в мою тупую башку, что я стала живым примером бронксовской морали в самом худшем ее виде — ты следишь за моей мыслью? И тут! Прорыв! И что со мной происходит — я начинаю вести себя так, словно должна крутить роман с каждым, кто укладывает меня в постель! Ты что, не понимаешь? Та же самая старая мораль, только навыворот! Эмоционально это сущее наказание! Ты не согласен? Неужто можно относиться к любовнику, как к мужу? Ты не споришь? Отлично! Итак!
И вдруг мне стукнуло в голову: что, в сущности, плохого в добром старом с-е-к-с-е? Я была уверена, что мои мужики только об этом и мечтали. Конечно, прямо они об этом не говорили, инициатива должна была исходить от меня. А если ты так же туп, как и я, это жутко дорого обходится. Даже думать не хочу, сколько у меня вылетело денег! О'кей? Ну, и тогда я стала просто плевать на некоторые вещи, и климакс мне не грозит!
И наконец! Сегодня вечером, как только я вышла из ванной и увидела тебя, то поняла, что ты настоящий символ — вот что ты собой представляешь. Настоящий символ — и не больше и не меньше. Ты этого не знал? Не могу поверить. Во всяком случае, я-то знала, что меня ждет настоящий прорыв на другую сторону. И не в мыслях, мой дорогой, а на самом деле в чувствах, просто в чувствах. Ты же видишь, в каком я состоянии, не так ли? На меня просто свалилось это ощущение, и я ничего не могу с ним поделать, да и не хочу. О, когда наступит соответствующее время, я сама спрошу себя, почему я выбрала ковбоя, да не просто ковбоя, а ковбоя-шлюху.
Но только не сегодня вечером! Нет, сэр. Копаться в мозгах во время поцелуя — это чистая смерть. Оргазм просто упорхнет в окно, так что целуй меня, ясно! А то мы так и проболтаем. Слушай! А тебя не смутит, если я устрою над постелью большой зеркальный потолок, в который увижу тебя с головы до ног? Потому что никогда раньше не могла толком разглядеть мужика до последнего волоска, я прямо умираю от этого желания. Можно? Я хочу сказать, что у тебя, надеюсь, нет никаких возражений с точки зрения твоей профессии?
И, кстати, сколько ты с меня возьмешь?
2
Джой пытался уловить смысл слов женщины. Но с его слухом что-то происходило. Ее слова отдавались ровным гулом дождя, а между ними словно стояло толстое стекло. Он слышал ее слова и даже видел их, но смысл их он не улавливал.
Высокие визгливые звуки, доходившие до него, которых и звуками-то назвать было нельзя, скорее всего, были результатом проглоченной капсулы. Он без труда представлял себе, что происходит: болтаясь на тонком канате, он взлетает так высоко, что и звуки, и голоса, и чувства, и ощущения доходят до него неразличимым гулом.
В один из таких моментов ему показалось, что он видит собравшуюся компанию словно с высоты: увидел и ковбоя, то есть самого себя, в гуще безликих фигур, уставившегося в дальний конец комнаты, где у ног женщины сидели двое молодых людей в черном.
Но с этой точки зрения фигур было вовсе не трое: их было четверо, и одним из них был он сам. Он стоял с ними бок о бок. Он был Джоем Баком, ковбоем, и здесь же была его блондинка и двое прекрасных ребят.
Теперь ему стало совершенно ясно, почему его пригласили на вечеринку: он был исчезнувшим членом какого-то сообщества, и всегда им был, и теперь все выяснилось.
В дальнем конце помещения началось какое-то шевеление. Все головы повернулись в ту сторону, чтобы не упустить начала какого-то дивертисмента. Барабанщик выбил на своем бонго глухую дробь, а девушка, сидевшая у проигрывателя, приготовилась изобразить звук фанфар.
Тем временем Мак-Альбертсоны помогли женщине подняться на ноги. Казалось, она была то ли пьяна, то ли в состоянии наркотического бреда. Но едва только встав на ноги, она нашла в себе силы сдвинуться с места, производя впечатление марионетки, которой управляет умелая рука. Стали слышны звон, бряканье и позвякивание дюжины ее браслетов, скользнувших к локтям, когда, подняв руки, она двинулась к центру комнаты.
Джой не сомневался, что настал момент, когда и ему, и всем остальным станет ясна цель этого сборища. Происходило венчание, какое-то странное венчание, больше похожее на союз, участников которого объединяли более глубокие, более таинственные чувства, чем обычная симпатия друг к другу. Не ощущалось никакого противоречия в том, что он никогда раньше не видел эту троицу: сумеречное состояние, в котором он пребывал, дало ему понять, что любое насилие над обыкновенной логикой ведет к пониманию нового и более высокого порядка вещей.
Например, то, что произошло дальше, было невозможно с точки зрения здравого смысла, но тем не менее он видел, что оно имело место. Светловолосая женщина обвела рассеянным отсутствующим взглядом тех, кто собрался вокруг нее; на какую-то долю секунды глаза ее остановились на Джое и проследовали дальше. Его передернуло, и он испытал такое потрясение, что покрылся холодным потом. Ибо в этот момент он увидел перед собой Салли Бак. Она была куда старше и гораздо более странной, чем он запомнил ее. И тем не менее, это была Салли Бак, и он с холодной ясностью увидел ее в эту долю секунды. Он не сомневался, что это была его бабушка, восставшая из могилы, чьей волей были посланы на улицы Нью-Йорка эти двое мрачных, как смерть, убийственно красивых молодых созданий, чтобы найти его. С какой целью? Конечно, чтобы сказать ему нечто важное. И вот он здесь, готовый выслушать послание.
Мак-Альбертсоны выглядели как дети, пришедшие из сна, — стройные и спокойные в их плотных черных одеяниях, как нельзя лучше подходили к роли юных посланников по зову из могилы, они приблизились к пожилой женщине, наверное, для того, чтобы подхватить ее или оказать какую-то другую поддержку. Та вскинула руки, призывая к вниманию, а когда все стихли, она поднесла ладони к лицу, давясь от кашля вперемежку со взрывом визгливого смеха. Казалось, она забыла, что собиралась сказать. Со стороны Мак-Альбертсонов последовал тычок в бок.
Гаремная наложница Джоя в оранжевом платье спросила, почему он потеет, но Джой даже не слышал ее вопроса. Затем она сказала:
— Я думаю, что тебе надо что-нибудь перекусить. Вся штука в том, чтобы набить себе брюхо. Хочешь, я сделаю тебе сандвич?
Он что-то буркнул ей, и она исчезла.
Теперь и старуха и девушка указывали на юношу, которого звали Ганзель. Все не сводили с него глаз, когда он большим черным крестом перечеркнул слова «ЭТО ПОЗЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ». Сунув кисть обратно в ведерко, он присоединился к своей сестре. Оба они покивали старухе, давая понять, чтобы она обратила свое внимание на собравшихся. Она побренчала браслетами и, вытащив из-за пояса платок, сплюнула в него сгусток мокроты. Затем, вскинув руку, она призвала к молчанию, дождалась его и заговорила громким, ровным, надтреснутым голосом со средне-западным акцентом:
— Не позже, чем вы думали, — и отныне никаких тайн!
Она замолчала, втягивая щеки и облизывая губы, словно их сухость не давала ей говорить. В воздухе стали слышны звуки быстрых отчаянных поцелуев. Гретель дала ей отпить глоток пива. Снова облизнув губы, женщина глотнула воздуха и внезапно гаркнула:
— Время! — обе руки она держала вскинутыми в воздух, стараясь предотвратить всякие споры среди собравшихся.
Несколько секунд компания ждала в молчании, но постепенно стали раздаваться шепотки, бормотание росло, и Джой услышал слова какого-то мужчины.
— Пусть уж лучше она будет здесь, чем в каком-то подъезде. Кроме того, она так сдвинулась, что и не представляет, что с ней делают. — А женщина ответила: — О, только не говори мне, что она ничего не знает. Я думаю, это жестоко. Эта публика все соображает, как бы она ни затуманивала себе мозги.
Старуха снова повисла на Мак-Альбертсонах, которые поддерживали ее. Затем она обратилась лицом к собравшимся и внезапно крикнула: «Время уходит от нас! Больше его не осталось!» Губы ее растянулись, обнажив мелкие желтоватые зубы, и застывшая на лице механическая улыбка должна была продемонстрировать высокое мастерство кукловодов.
Ища одобрения, она посмотрела на Мак-Альбертсонов. Оба они торжественно кивнули. Затем, словно сломавшись в поясе, женщина, звеня металлом, клюнула верхней половиной туловища. Она изобразила поклон. Мак-Альбертсоны зааплодировали. Все присоединились к ним. Поднялся невообразимый шум, превысивший все мыслимые пределы, и в нем можно было различить свистки, крики, топанье ног и даже два или три вопля.
Рядом с Джоем оказался Рэтсо, толкнувший его локтем.
— Ну, как тебе эти овации? Черт возьми, что тут будет — пение или танцы? Мне кажется, теперь они ее заставят грызть живьем петушиную голову.
Бросив Рэтсо на полуслове, Джой стал прокладывать путь среди голосов и шума, минуя столики для коктейлей, стулья музыкантов, и все ближе и ближе приближаясь к старой женщине, которая снова оказалась рядом с Мак-Альбертсонами.
На пути у него внезапно выросла женщина в оранжевом платье, держа в руках по большому толстому сандвичу.
— Я думаю, что ты хотел именно это! — сказала она.
Джой сказал «Спасибо», но сандвичи не взял. Притронувшись к ее плечу, он отодвинул женщину в сторону, продолжая двигаться по направлению к старухе.
Он чувствовал, что вечеринка как-то поехала не в ту сторону. Еще секунду назад он что-то понимал. Он ясно видел что-то важное, касающееся его жизни, — и вдруг он все забыл. Или, может, ему только показалось, что он увидел это откровение и оно ускользнуло от него? Из-за этой старухи? Кто она?
Присмотревшись к ней с близкого расстояния, он понял, что она куда старше, чем казалась, появившись на публике. Ясно чувствовалось, что ее мучает какая-то боль, — но глупо, было дать понять, что видишь ее. Лоб ее был напряженно сморщен. Густой слой пудры скрывал обрюзгшую кожу. Глаза ее, непрестанно мигавшие, казалось, никогда не знали отдыха. В них были отсветы какого-то неизбывного страдания, начало которого было положено давным-давно. Порой, борясь сама с собой, она дергалась и прикрывала глаза, и на густом слое штукатурки на лице появились трещины.
Джой попытался вспомнить, что же он хотел спросить у старой леди — или у Мак-Альбертсонов? Он стоял прямо перед ними, но они не обращали на него ровно никакого внимания: казалось, они были не в силах оторваться от лицезрения друг друга, не видя никого и ничего вокруг. Да Джой и сам был уже не в силах смотреть на них сверху вниз. Странные ощущения, только что владевшие им, как бы умерли в нем. Он больше не испытывал никакой тяги к этим людям. Перед ним были просто симпатичные мальчик и девочка и старая женщина, которые пытались устроить что-то вроде вечеринки. Его всегда интересовали такие «партии», но когда он посетил одну из них, она ему не очень понравилась: если они так выглядят, то тут куда скучнее, чем на улицах.
Крупный мужчина с сияющим круглым лицом схватил Джоя за руку и сказал:
— Вы слышали, что сказала мать Серес? Она сказала, что часы отсчитывают последние секунды. Так что, ложись, дитя мое, и умирай. — Мужчина засмеялся и направился к кому-то еще, вопрошая: — Вы слышали, что я сказал этому парню? Я сказал: а вы слышали, что сказала мать Серес? Она сказала…
Встрепенувшись, Джой решил действовать. Быстро настигнув говорившего, он схватил его обеими руками и сказал:
— Эй, чего ты ко мне лезешь?
— Лезу к тебе? — переспросил мужчина с круглым лицом. — Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, чего ты ко мне пристал? Ты считаешь, что во мне что-то не так? Или что?
— Ты с ума сошел, — сказал мужчина. — Отпусти мою руку.
— Ничего твоей руке не сделается. Я хочу услышать ответ, — сказал Джой.
Рядом с ним оказалась Гретель Мак-Альбертсон.
— Спасибо за визит, — сказала она Джою, — но теперь нам хочется, чтобы вы ушли.
Рэтсо тоже оказался здесь. Он сказал:
— Ты что, под кайфом? Бомбанулся? — И затем, повернувшись к Мак-Альбертсонам, он сказал: — Да он всего лишь бомбанулся, вот и все.
Когда Рэтсо вытащил его из комнаты в холл, Джой сказал:
— И вовсе я не под кайфом. Был, а сейчас нет.
Пальто Рэтсо было погребено в куче, которую он стал разбрасывать.
— Я куда-то вляпался, вот что со мной происходит. Я жутко вляпался, и мне жутко хочется послать их всех.
— Я нажрался до отвала, — сказал Рэтсо. — А теперь мне бы полежать.
В дверях появилась женщина в оранжевом платье.
— Эй!
Рэтсо посмотрел на нее и сказал:
— Я же сообщил тебе, сколько, не так ли?
Джой перевел глаза на женщину.
— Скажи ей еще раз, Рэтсо.
— Двадцать долларов.
— Заметано, — сказала женщина. — Моя — с выщипанным мехом. Вон под тем пальто, что в елочку. Пошли.
Рэтсо сказал:
— И еще на такси для меня. Двадцать ему — а мне на такси. О'кей?
Женщина сказала:
— Знаешь, что я думаю? Я думаю, что тебе уже пора исчезнуть. С концами. Как трупу!
— Согласен, — сказал Рэтсо. — И за эту услугу я прошу всего лишь доллар на такси.
Женщина вытащила из лифчика скатанный в трубочку доллар и протянула его Рэтсо.
— Как только сосчитаю до десяти, чтобы тебя тут не было. Один, два, три…
Рэтсо пустился вниз по лестнице. Джой помог женщине одеть ее шубку.
— Эй, — сказал он. — А как тебя зовут — милашка что ли?
— Ну? — удивилась она. — Так ты и не знаешь? Мне это нравится. А я знаю, что тебя зовут Джой. Просто восхитительно. Целуй меня, Джой, обними меня, Джой, возьми меня, Джой, уходи, Джой. Восхитительно! Прекрасное имя для самца… то есть для мужчины. Что-то вроде Розы для девушки.
Внизу раздался звук, словно кто-то свалился с лестницы. Джой кинулся вниз, перепрыгивая через две ступеньки, и увидел, как, подтягиваясь за перила, Рэтсо пытается приподняться и встать. Он еще раз свалился, Джой поднял его на руки, и Рэтсо проинструктировал, как его подобает опустить на пол. Джой поставил его так, чтобы Рэтсо мог опереться на здоровую ногу и со смертельно бледным лицом ухватился за стойку перил, сжав зубы. На второй площадке к тому времени показалась женщина. Спустившись к ним, она осведомилась:
— Что случилось?
— Он упал, — сказал Джой.
— С ним все в порядке?
— А с тобой, — скривившись, сказал Рэтсо. — Со мной-то все в порядке.
— Ну, если ты в норме, сказала она, — чего висишь на перилах? Так можешь ходить или нет?
— Да могу! Натурально я могу ходить! — Сделав три шага, он ухватился за косяк. — Не поможешь ли?
— Ага, — сказал Джой, — но только до подземки, идет?
— О нет, я могу не устоять, — Рэтсо изобразил жеманную девицу. — О, поддержи меня!
— У него есть на такси, — сказала женщина. Она повернулась к Рэтсо. — Так, значит, с тобой все в порядке. Так?
— Я тебе уже сказал «да»! — гаркнул Рэтсо.
— Он в норме, — повернулась женщина к Джою. — Идем.
3
Прошел час. Женщина лежала, подперев подбородок рукой, а другой она гладила Джоя.
— Это случается, — сказала она. — Не переживай. Ты в самом деле волнуешься? Да ладно, брось. Почему бы нам просто не поваляться и… посмотрим, что получится. Может, вздремнем немного, а?
Перегнувшись через нее, Джой взял сигарету с ночного столика. — Раньше со мной не было ничего подобного, можешь биться об заклад последним долларом из загашника. Мэм, где же спички?
— Наверху. — Пока Джой прикуривал, она сказала: — Может, если ты не будешь звать меня «мэм», дела пойдут на лад.
Джой лег на спину и выпустил в потолок клуб дыма.
— В первый раз со мной случился такой номер, черт бы его побрал.
Женщина хмыкнула.
Джой бросил на нее короткий взгляд.
— Что? Думаешь, я вру?
Она постаралась придать лицу соответствующее выражение.
— Нет! Конечно, нет! Просто мне почему-то стало смешно, вот и все.
— Да? — спросил Джой. — От чего же?
— Да ерунда.
— Значит, ерунда?
— Ох, да брось ты! Честное слово.
Джой кивнул и снова уставился в потолок.
— Ладно, скажу тебе, — прервала она молчание. — Я вдруг почувствовала себя в твоем положении и поняла, что значит быть профессионалом, то есть тебя в самом деле должны волновать такие вещи. Не то, что ты обязан так близко все принимать к сердцу, но я вдруг представила себе то дурацкое состояние, в котором оказывается трубач без своего инструмента, полицейский без дубинки и так далее и так далее, и я просто… Впрочем, я думаю, что мне лучше заткнуться, а то я сделаю еще хуже!
Джой напряженно размышлял. Он перебрал все мыслимые причины своей неудачи, понимая, что со времени появления в Нью-Йорке он слабел буквально с каждым днем. Вспоминая прошедшее время, он чувствовал, что кровь все медленнее бежит у него по жилам, ибо им овладели усталость и утомление. Мало-помалу город высасывал из него все соки — и постоянно, едва ли не каждую секунду, он что-то терял; с каждым шагом по тротуарам Нью-Йорка слабели ноги, терял от городского шума остроту слух, слезились глаза от неоновых реклам, и он ничего не мог обрести — кофе тут, кофе там, порой тарелка супа или мокрых спагетти, гамбургер со сладкой горчицей, банка пива. Но каждый глоток приносил с собой лишь усталость…
Когда он проснулся, сквозь щели в портьерах пробивался дневной свет. И как продолжение сна к нему вернулись мысли об охватившей его слабости. Тысячью разных способов он мог быть выжат, выкручен и выброшен; каждая улыбка стоила ему неимоверных усилий, и каждый раз, когда он, кивая, приветствовал какого-нибудь незнакомца, он терял жизненные силы. Даже тиканье часов или дуновение ветерка крали у него энергию, которая утекала куда-то на сторону.
Ошеломленный этими мыслями, он изумился, почувствовав, что во время сна к нему вернулись силы. Притронувшись к своему телу, и тщательно исследовав его, он едва не впал в истерику от радости, испытав чувство глубокого облегчения и искренней радости. Но они быстро покинули его, уступив место наслаждению от близящейся мести. Он хотел бы громко оповестить о ней, чтобы все обратили на нее внимание, увидев мощь его протеста, когда он через весь небосвод напишет свои инициалы большими буквами — и все содрогнутся.
Женщина рядом с ним спала, лежа на спине. Он положил на нее руку, чтобы почувствовать ее тепло.
Через мгновение они слились, и она только вскрикивала при каждом вздохе. Он овладевал ею спокойно и рассчитано, стараясь не столько доставить себе удовольствие, сколько наказать ее. Но женщине нравилась эта игра. Она кусала его за плечи, чтобы еще больше разъярить его, и ему пришлось заткнуть ей рот рукой, спасаясь от ее зубов, и он продолжал работать, работать, работать над ней, и у женщины стали безумными глаза, и она стонала под его рукой, смачивая ее слюнями, и каждое движение ее тела говорило: «О, да! О, да! О, да!», отвечая на все невысказанные им слова, и между ними шла отчаянная и непрерывная борьба, но она хотела довести его до предела ярости и поэтому вцепилась ему в спину ногтями, и Джой понимал, что она готова высосать из него всю кровь. Вот так они и пьют его кровь. Но на этот раз он успел перехватить их; и он все грубее проникал в нее, все глубже, и глубже, и глубже, и вот на глазах женщины выступили слезы и дыхание у нее прервалось, сменившись какими-то дикими звуками, напоминавшими звериное рычанье, полное ярости, и он отвел руку от ее рта, и, взглянув на нее, увидел, что лицо искажено гримасой, и он крикнул ей какие-то ужасные слова, после чего что-то в ней как будто сломалось и она стала приходить в себя, плача и смеясь одновременно, мгновенно, как сумасшедшая, переходя от рыданий к хохоту, и Джою Баку стало ясно, что женщина обрела радость раскрепощения, и он все настойчивее и настойчивее продолжал овладевать ею, не только потому, что хотел дать ей подлинное освобождение, но и потому, что хотел сам освободиться, хотел убедиться, что силы не покинули его, и наконец она издала долгий низкий стон наслаждения, и он застыл на мгновение, преисполненный радости от своего успеха, а после этого случилось нечто неожиданное: он и сам почувствовал полную свободу. Всем своим весом он обессиленно опустился на женщину. Она продолжала обнимать его, кончиками пальцев нежно стирая кровь, которая выступила из царапин на спине. И не переводя дыхание, снова и снова она говорила ему, как называется то, чем они занимались, словно все пережитое ими, могло продолжаться или обрести бессмертие, запечатленное в самых непристойных выражениях. И когда Джой лежал на ней, уткнувшись лицом в подушку, в памяти у него всплыли двое молодых людей в черном, светловолосые, стройные и спокойные, какими он увидел их днем — Мак-Альбертсоны. И в это краткое мгновение, пока женщина заплетающимся языком вела свою непристойную линию, он мысленно смотрел на этих ребят, и их тайна стала ему ясна. Он видел, как они росли и мужали на его глазах, он видел, как, взявшись за руки, они уходили в неизвестность, рядом, но отдаленные друг от друга, не знающие ни матери ни отца и по сути лишенные признаков пола, не имеющие отношения ни к миру, ни к самим себе в прошлом, и они брели неизвестно куда и зачем в поисках таких же путников, затерявшихся в мире и таких же чужих ему, как они сами, и в это краткое мгновение озарения, на Джоя Бака снизошло осознание того, чем были эти двое — им самим. Они были его порождением, которые в этой ночи искали друг друга.
4
Когда Джой ближе к полудню покинул апартаменты женщины, желудок его был полон едой и горячим кофе, он был чисто выбрит после ванны, благоухал дорогим одеколоном, который вылил даже в сапожки, чтобы отбить запах пота, и в набедренном кармане у него шелестела двадцатидолларовая бумажка.
На Таймс-сквер он купил несколько носков и несколько пар чистого белья, которое и натянул на себя, забежав в туалетную комнату одного из кафе-автоматов. Старое белье и носки окончательно истрепались и, решившись на экстравагантный жест, он оставил их в туалете. Затем он решил потратить пятьдесят центов, чтобы навести глянец на обувь, и пока полировали ее, он мысленно прикинул, сколько у него денег, и подумал, что бы ему с ними сделать. Ему пришло в голову, что неплохо было бы купить белья и носков и для коротышки. И к тому же что-нибудь поесть. И лекарств.
В аптеке на Восьмой авеню он купил аспирина, сиропа от кашля, витаминов, а затем отправился в военный магазин, где приобрел пару длинного белья и две пары красных шерстяных носков, одну большую, а другую поменьше, учитывая, что у Рэтсо были разные ноги.
Торопясь по Восьмой авеню с покупками, Джой напевал «Последний круг», не обращая внимания на взгляды прохожих. Остатки грязного снега по обочинам растекались лужами под лучами полуденного солнца, и он аккуратно обходил их, оберегая первозданное сияние своих сапожек. Несколько попавшихся по дороге витрин и два или три зеркала позволили ему увидеть отражение блистательного ковбоя, и перед некоторыми из них он позволил себе притормозить и одарить его улыбкой: пару раз он напряг мышцы ягодиц, чтобы убедиться в наличии пришедшей к нему силы и уверенности. Последнюю покупку, картонную коробку с горячим куриным супом, он сделал в богатом еврейском магазине неподалеку от 30-й стрит.
Поднимаясь в «иксовую» квартиру, он остановился на лестнице проверить все свои приобретения: носки, белье, лекарства, суп, сигареты. Вид носков заставил его задуматься. Положив все пакеты на ступеньку, он вытащил носки из бумажного мешка, держа по паре в каждой руке и долго смотрел на них, не в силах прийти к какому-то решению. На секунду ему показалось, что он пытается вспомнить размер каждой из ног Рэтсо, но остановился он не из-за этого. Он пытался привести в порядок чувства, которые у него вызвали все эти приобретения, а не только носки. Но каковы бы они ни были, он никак не мог разобраться с ними.
Собрав пакеты, он поднялся в их обиталище.
Рэтсо лежал под кучей одеял, полязгивая сжатыми зубами, чтобы удержаться от непрерывного клацанья. Он сразу же взял две таблетки аспирина, запив их глотком воды, но ему не удалось проглотить ни ложки супа, пока не прекратилась дрожь. К тому времени Джой подогрел суп на таблетках сухого спирта, а Рэтсо так пропотел, что ему пришлось сбросить все одеяла. Они поспорили по поводу того, стоит ли это делать, а потом из-за названия недомогания Рэтсо. Джой предположил, что это кошачья лихорадка, как Салли называла все болезни, которыми он страдал в детстве, ибо она исходила из убеждения, что все болезни от кошек, но Рэтсо сказал что, они не приближался ни к одной кошке, и, кроме того, у него обыкновенный грипп.
Пока он ел суп, Джой показал ему носки и длинное белье. Поглядев на них, Рэтсо покачал головой.
— Не годятся? — спросил Джой.
— Не в этом дело. Пока ты покупал белье, я бы мог спереть носки. Хотя все нормально. — И, спохватившись, он добавил:
— Спасибо. — Затем сказал: — Эй, Джой, не вешай носа, что бы там ни было. Обещаешь?
— Ага.
— Так обещаешь?
— Ну д а!
— Так вот, вроде бы я не смогу ходить. — Рэтсо смотрел в стену. Чувствовалось, что он был крепко смущен. — То есть, когда я в тот раз свалился, ну и… м-м-м…
— И что?
— Я испугался. — Он поставил суп рядом с грудой одеял, и его снова стала бить дрожь. Сжав челюсти, он плотно обхватил себя руками за плечи.
— Чего? — переспросил Джой.
— Я уже тебе говорил!
— Я знаю, но…
— Того, что будет, — сказал Рэтсо. — Я хочу сказать, того, что они могут с тобой сделать, ну, ты знаешь… сделать с тобой, м-м-м… А, черт!
— Кто? Кто и что может с тобой сделать?
— Не знаю. Ну, копы. Или эти… да откуда мне знать?
— Тебе кажется, — сказал Джой, — что ты не можешь ходить?
Рэтсо кивнул.
Джой, встав, заорал на него:
— Ну, и какое же отношение к этому имеют копы? Это не их собачье дело, кто может ходить, а кто — нет! Честное слово, парень, ты говоришь как человек, у которого мозги в задницу провалились! Ты что, забыл, что нам с тобой предстоит? Мы с тобой отправимся во Флориду.
— Во Флориду? Что за…
— Надо только купить билеты на автобус, и все.
— Иди ты со своей Флоридой. Ищи дураков. — Нахмурившись, Рэтсо уставился Джою в лицо, стараясь понять, что тот думает.
Джой сказал:
— Я прикинул, что нам надо уносить ноги поближе к теплу. Так? Чем ты сейчас занимаешься? Лежишь и дрожишь, понял? Второе — это жратва. Опять-таки верно, так? Ну вот, а во Флориде полно кокосовых орехов, и солнце там светит вовсю, и все такое, так что не стоит себе ломать голову над этой ерундой. Пошевели мозгами! Рэтсо, ты и сам все понимаешь, ведь мы столько раз об этом говорили, дер-рьмо, ты что забыл?
Он вынул из кармана деньги и развернул их веером, как карты.
— Я заработал их ночью, и вот с этого начнем. Сегодня вечером я сделаю еще. Все заметано, и я только хотел сказать тебе об этом. Теперь скажи мне — мы прикидывали, что автобус обойдется в тридцать восемь на голову, так? Сколько это будет, если умножить на два?
— Ты что, хочешь и меня взять с собой? — сказал Рэтсо.
Джой кивнул.
— Сколько будет умножить на два?
— Семьдесят шесть. Слушай, Джой, и у меня есть еще девятнадцать. Они в ботинке лежат.
— Где ты их раздобыл?
Джой взял ботинок и вытащил из-под стельки купюры.
— Порыскал среди их пальто прошлым вечером, — признался Рэтсо.
— В каких пальто?
— Да на вечеринке, на той вечеринке, ради Бога! Помнишь там, на лестнице? Посмотрел во всех карманах — и вот девятнадцать долларов.
— Ладно. И сколько выходит с этими девятнадцатью? Сколько мне еще надо раздобыть?
Рэтсо на несколько секунд прикрыл глаза и сказал:
— Пятьдесят. Для ровного счета пятьдесят. Довольно много, как?
— Чушь собачья, — сказал Джой. — Я в таком настроении, что раздобыть их ровно ничего не стоит. До встречи.
У дверей он обернулся.
— Засунь их в подштанники, — сказал он. — И смени носки! Нам ехать в автобусе, а ты воняешь с головы до ног!
Посмотрев на Джоя, Рэтсо отвел глаза.
— Не могу поверить, просто не могу поверить. Ну просто, черт побери, не могу поверить. — Он сел. — Эй, подожди минутку! — Говоря, он покачивал головой взад и вперед. — Слушай, но ты не собираешься делать какие-то глупости, после которых тебе прищемят хвост?
— Да заткнешься ли ты? — сказал Джой. — Заткнись ты, ради Бога. Заткнись и хоть разок дай мне что-то сделать. Неужто есть такое правило, которое говорит, что Джою Баку в голову не может прийти хоть одна паршивая и-д-е-я, и хвост ему никто не прижмет, а у него будет одна маленькая, паршивенькая, черт-бы-ее-побрал, идея? — Вернувшись обратно в комнату, он шлепнулся на стул, надежно упершись ногами в пол. — Чтоб тебе провалиться, ты мне все настроение испортил!
Он сразу же снова встал и направился к дверям.
— Ни тебе и никому другому это не удастся! — сказал он. — Провалиться мне на этом месте! Вечером мы с тобой уезжаем.
Хлопнув дверью, он сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки.
5
В поисках денег Джой обрыскал все подъезды, холлы театров и дешевые забегаловки вокруг Таймс-сквер, но первые два часа прошли впустую. Стоять на месте было слишком холодно. Он потолкался минут пятнадцать на Даффи-сквер, не решаясь ни с кем заговорить, и чуть ли не целый час волочился за симпатичной женщиной до вокзала Гранд-централ, чтобы увидеть, как она садится в поезд на Нью-Хейвен. Вернувшись на Таймс-сквер, он отшагал по Бродвею до 50-х улиц, затем по Восьмой стрит спустился до 42-й улицы и еще два-три раза проделал тот же самый маршрут, время от времени отогреваясь в грязноватых лавочках подержанных книг и в игорных салонах, где он между делом спустил доллар двадцать центов.
Когда минуло восемь часов, он толком и забыл, с какой целью вышел на охоту. Он стоял, тупо глядя на витрину магазина игрушек на Седьмой авеню и только тут обнаружил, что та самая возможность, которую он искал весь вечер, стоит от него не дальше, чем в трех футах и смотрит в ту же самую витрину.
Это был тип лет под пятьдесят, весь в красной, синей и белой расцветке. Он был коренаст, со склонностью к полноте, с густыми черными бровями. У него было симпатичное округлое лицо, на котором, казалось, так и застыла улыбка, полная доброжелательности, но в глазах его была неуверенность перед красочностью окружающего его мира. Но самое яркое впечатление оставляло разноцветье его внешности, цвета которой снова были взяты напрокат из американской оперетки: здоровая краснота лица, белизна волос и шарфа и синева его глаз, сочетающаяся с цветом пальто.
Джой уже усвоил, что не стоит первым заводить разговор. Пусть его начинают другие. Было множество теорий, которые объясняли такой подход. С одной стороны, заговорив первым, ты явно поднимаешь свою цену, давая понять, что тебе надо, а, с другой стороны, если тебе не повезет и ты нарвешься на полицейского, он может арестовать тебя за непристойное поведение.
Но Джой чувствовал острую необходимость переломить ход событий, прежде чем холод окончательно не доконает его. Слоняясь зимним вечером по Таймс-сквер, он окоченел и его лицо потеряло все краски. Он просто был не в состоянии спокойно и трезво оценивать действительность; по мере того как шли часы, он стал думать и действовать с отчаянием неудачника, с которым никто не хочет иметь дело.
Поэтому он отбросил в сторону все предосторожности и, соорудив на лице широкую добрую улыбку, положил глаз на эту красно-сине-белую физиономию и только открыл рот, чтобы заговорить, как этот мужчина сам обратился к нему.
— Как поживаете? — Круглая физиономия разверзлась как раз посредине проемом улыбки, обнажая здоровые зубы и красно-белую жевательную резинку между ними; обеими руками он схватил ладонь Джоя.
Первыми же словами этому человеку удалось установить атмосферу исключительной близости между ними. Посторонний, наблюдавший эту сцену, мог подумать, что присутствует при случайной встрече двух закадычных друзей, которые не виделись много лет.
Голос у него — а он сразу затараторил, словно истосковался по звукам своей речи, — был низким, богатым и уверенным, и в то же время странно напряженным, создавая впечатление, что человек этот вот-вот может впасть в истерику. Он представился как Таунсенд П. (от Педерсен) Локк из Чикаго («Можешь звать меня Тауни») сказал, что «занимается бумажками» и прибыл в Нью-Йорк, чтобы договориться с промышленниками. «Ну и, честно говоря, чтобы немного повеселиться, черт возьми», — решительно добавил он.
— Это у меня первый свободный вечер, и я чувствую, что он пойдет насмарку, омрачив мне все десять дней, если вы откажетесь пообедать со мной! Прошу вас! Для меня это жутко важно. Вы не отказываетесь? Вы согласны?
Джой увидел, что его согласия не очень-то и требуется. Едва только он решил неторопливо кивнуть, как его уже стремительно влекли по 42-й стрит, Тауни болтал без умолку. Более того, он принадлежал к тому типу болтунов, которым было совершенно неважно, слушают ли их. Он перепархивал от темы к теме с легкостью бабочки: Чикаго, еда, его мать, его договоры, Нью-Йорк, люди вообще, ковбои, «надо повеселиться», снова о своей матери, о Среднем Западе, рестораны, религия, Мичиган-авеню, искусство общения («Вот это мне сразу в вас понравилось, с вами очень интересно беседовать», — как-то походя брякнул он, от чего Джой только в изумлении вытаращил глаза и кивнул).
— Итак, где вы предпочитаете поесть? Я предоставляю вам выбирать любой ресторан в этой стороне Манхеттена. Нет, нет, хоть по всему Восточному побережью. Если есть какое-то местечко в Нью-Джерси или на Лонг Айленде, или даже в Филадельфии, куда вы страстно желаете попасть, мы возьмем такси. Итак, слово за вами! «Чемборд»? «21»? «Лью»? Не обращайте внимания на свой внешний вид! Меня они знают. Я скажу им, что вы с родео, теперь весь Нью-Йорк сходит с ума по родео. Кроме того, вы вообще выглядите достаточно элегантно, а в таких местах, то есть по-настоящему хороших, никогда не пристают с такими глупостями, как, например, наличие галстука или тому подобной ерунды. О! — он щелкнул пальцами. — Так я, черт возьми, скажу вам, что мы сделаем — нам придется пообедать у меня в номере, потому что я жду звонка в полдесятого. Моя матушка постоянно звонит мне строго в это время, когда она ложится в постель, и я должен быть на месте. Ей уже девяносто четыре года, и, когда родителям столько лет, мне кажется, что, черт возьми, приходится быть на месте, когда они звонят, чтобы пожелать тебе спокойной ночи, вы согласны со мной? Ну, разве не прелестно? Обед тебе приносят наверх! У меня скромненький, но очень приятный номер в гостинице «Европа» на Девятой авеню. Все мои закадычные приятели останавливаются у «Пьеро» или в «Плазе», и они могут себе это позволить! «Почему ты там останавливаешься, Таунсенд, скажи на милость?» Ну, конечно, я знаю, и вы знаете, что пятьдесят лет назад «Европа» была единственным отелем в Манхеттене: эти высокие потолки и мраморные ванные! Мы-то можем оценить настоящий стиль! — Он пожал руку Джоя. — Это не то, что простая мода. Вот! Смотрите!
Когда они вошли в холл, молодой человек с тонким, холодным и отрешенным лицом, втиснул Джою в руку листовку.
— Вы в горящем доме, — сказал он, — и единственный пожарник — это Иисус Христос! — Скомкав, Джой сунул бумагу себе в карман.
— Вы только взгляните на этот потрясающий холл, — сказал Таунсенд П.Локк.
Холл в «Европе» походил на ряд аркад в любительском театре. Один угол был отгорожен и занят моментальной фотографией для паспортов, в другом углу размещались призывы клуба здорового образа жизни и тому подобное; тут же располагался целый ряд игральных и торговых автоматов, из которых можно было извлечь печенье, безалкогольные напитки и сигареты. Пол был из выщербленных плиток, которые недавно протерли мокрой тряпкой, оставившей грязноватые подтеки и легкий запах аммиака. Портье, маленький, седой, незаметный человек, казалось, был поставлен на этот пост из-за своей способности давать понять гостям, что его совершенно не интересует их появление или уход.
Они вошли в медленный скрипящий лифт, и Таунсенд П.Локк болтал всю дорогу на пятый этаж и продолжал разговаривать, пока они шли по холлу: «…и Макдональд, и Централ-Парк, и Гринвич-Вилледж, и всюду свет, и вокруг миллионы иностранцев со всех концов света…» Он перечислял те качества Нью-Йорка, которые доставили ему наибольшее удовольствие: «…тут до тебя никому совершенно и абсолютно нет никакого дела, понимаете? Тут у меня совершенно изменилось ощущение времени. А Чикаго, должен вам сказать — далеко не тот город, в котором живут только коровы. Но тут, понимаете, каждая секунда на счету! Слушайте! Слушайте! Вы прислушайтесь к себе! Время — это великий колосс, и он шагает по Бродвею! Разве вы не слышите, как оно приближается?»
Они стояли у окна в гостиной номера Локка, глядя на 42-ю улицу. Уже были слышны звуки, о которых шла речь. Шел густой грохочущий рев, словно многомиллионная масса людей и машин, обитающих на острове, слилась в едином ритме и заговорила одним голосом, который доносился с огромной силой.
— И мы с вами, — сказал Локк, — часть его. Разве это не восхитительно? Вы только подумайте об этом — ваше сердце отбивает четкий ритм, и лучи всех прожекторов этого театра устремлены на вас, и с ревом мчатся машины — и оп! Нет сил даже представить себе! Хотите выпить? У меня есть прекрасный джин. Но если вы предпочитаете что-то еще, вам принесут. Может, вы пьете только текилу, или ирландское, или саке. Только скажите.
— Джин — это отлично.
— Нет, я в самом деле считаю, что это потрясающе и восхитительно, — продолжал Локк, — как течет время в Нью-Йорке. Но с другой стороны, оно вызывает такое беспокойство, что у меня буквально земля плывет под ногами. Понимаете, я настойчивый мальчик, и, когда речь заходит о времени, у меня буквально волосы встают дыбом. Например, в Чикаго меня часто охватывает ощущение, что на самом деле время остановилось двадцать лет назад! И что все происшедшее с тех пор — просто какая-то чудовищная ошибка. Разве это не ужасно? С этой точки зрения мне представляется гротескным убеждение, что где-то в мире есть некий джентльмен со светлыми волосами, которого вы видите перед собой. Он не существует! Была война, был молодой человек в форме, красивый, как только можно быть красивым, с густыми черными бровями — и, скорее всего, он погиб на войне. Но он остался жив. В небесной канцелярии произошла какая-то идиотская ошибка, и он по-прежнему здесь! Разве это не забавно?
— Ладно, хватит обо мне. Я и так болтаю весь вечер. Вот ваш напиток. А теперь я хотел бы послушать о вас и о том, как вы живете на Западе. Но первым делом я должен вам кое в чем признаться: Запад оказывает на меня потрясающее воздействие — его просторы и его романтика; это общество, созданное людьми — перекати-поле, затянутыми в грубую кожу. Так что, понимаете, если даже вы и не самый прекрасный человек — которым, не сомневаюсь, вы являетесь, одаренный, чувствительный и во многих смыслах необычный — но даже если вы не были бы таковым, я тем не менее, все равно чувствовал бы к вам такую, такую, такую… — он несколько раз приложил руку к сердцу, словно там в груди был магнит, державший при себе нужное ему слово —…привязанность! — Он торжественно вытянул руки вперед, словно демонстрируя на ладонях эту самую привязанность. — Просто потому, что вы явились с великого Запада. Моя матушка разделяет со мной мои убеждения, в самом деле, и она будет бесконечно обожать вас, и, когда она позвонит — он посмотрел на часы — примерно в половине десятого, я хотел бы, чтобы вы взяли трубку и сказали: — Привет, Эстелл, я… как вас зовут?
— Джой.
— Привет, Эстелл, я Джой. Все Таунсенды — очень хорошие ребята. Или что-то в этом роде. Я представлю вас, я скажу, то вы ковбой, в она будет просто в восторге. Девяносто четыре года! А какой ум! Как стальной капкан! Могу ли я рассказать вам, что я сделал для нее в день рождения? О, вы только послушайте меня! Вы и представить себе не можете, что я однажды сделал для своей дорогой старушки, не так ли?
— Ну да, черт побери, — сказал Джой. — И хочу услышать об этом.
Джой чувствовал, что непрерывная болтовня этого типа дает ему какое-то преимущество. Ему нужно было подумать. Спутник вызывал у него представление о деньгах, может, не о миллионах, но их хватало. Джой предположил, что он выбрал этот отель, предпочтя его остальным, потому что он предоставлял ему свободу удовлетворять свои особые желания. Теперь они уже сидели — Джой на диване, а Локк на стуле, который он поставил спинкой к себе. Джой постарался прикинуть, сколько времени еще будет продолжаться эта болтовня, прежде чем этот тип неизбежно переберется на кушетку, положит ему руку на колено и т. д. — и какую стратегию ему избрать, чтобы добраться до своей цели. Сразу выдать ему деловое предложение? Пуститься в неопределенные разговоры типа не-сделаете-ли-мне-одолжение? В мужчине было что-то привлекательное, но он старался не обращать на это внимания. Чем проще подходить к делу, тем легче его решать.
— …и тут появляется струнный квартет. Представьте себе — старая леди лежит себе на постели, ресницы у нее подкрашены голубым, волосы в мелких кудряшках — сам занимаюсь ее прической дважды в неделю и тут у ее ног появляется Венский струнный квартет и играет ей «Счастливого дня рождения!»
Локк запел, изображая хор, который исполнил последние строчки поздравления: «Счастливого дня рождения дорогой Эстелле, счастливого дня рождения!»
— О, Господи! — В его ярко-голубых глазах стояли слезы. — А предыдущим вечером они играли Бетховена для двух с половиной тысяч человек! Вот, что я для нее сделал. Я хочу сказать, чем еще можете вы порадовать женщину, которая на двадцать лет пережила свое время? Конечно, и моя жизнь становится богаче. О, как вы добры к Эстелл, говорят люди. Чепуха, говорю я им, я добр по отношению к себе! — Это было сказано со всей силой убедительности. Несколько успокоившись и притихнув, он склонился вперед и сказал: — Разрешите мне объяснить: моя мать была исключительно редким созданием, одаренным сверхъестественной чувствительностью. Удовольствие от ее общества стоило любых жертв. Я не хочу ее переоценивать, но, если бы мог описать мою мать так, как она этого заслуживает, со всей серьезностью, боюсь, я был бы обвинен в чрезмерных преувеличениях. Посему я обычно молчу на эту тему, молчу как камень, по той простой причине, что средний человек, имеющий весьма отдаленное представление об истинных возможностях человеческого духа, не в состоянии уяснить… Например, позволю прервать самого себя, не раз мне доводилось слышать, и даже от самых близких друзей — и это очень печально, вы не можете поверить, — но такие отношения, которые я описываю, эти лица называли «болезненными». И знаете, почему? Потому что я не женился! Ну, так я не нашел никого, и почему, ради Бога, я должен идти на это?
Эта мысль заставила говорившего замолчать. Казалось, он забыл о существовании Джоя и, нахмурившись, со сжатыми зубами, уставился на свои руки. Затем, внезапно вспомнив о напитке, который держал в руках, он встрепенулся, поднял стакан, выплеснув часть его содержимого на брюки, улыбнулся, вытер их и провозгласил тост «за Дикий Запад», и после чего снова стал разговаривать.
— Видите ли, я с большой страстью отношусь к этому предмету, а мы живем в такое время, когда все страсти вызывают подозрение. Все старые ценности получили какие-то омерзительные медицинские наименования. Верность стала зацикленностью, ответственность — комплексом вины и даже любовь стала каким-то комплексом! Вам стоило бы послушать Эстелл, она так потешается над этим! И понимаете ли, отнюдь не психиатры говорят все эти глупости, чаще всего их приходится выслушивать от своих ближайших друзей! Но не кажется ли вам, что лишь мелкие душонки могут так оценивать тайны сердца и все такое? Как вам нравится такая наглость? Конечно, ее нельзя принять. Вы позволите мне изложить то, что говорит настоящий психоаналитик? А этот человек берет пятьдесят долларов за час, — что еще больше я могу сказать о его квалификации? Ну вот, он говорит, что у нас просто идеальные отношения. А почему? Потому что они срабатывают!
— Все это очень просто. Какова идеальная цель для ребенка? Завоевать любовь своей матери — и навсегда. Мне это удалось. И я вел идеальный образ жизни. Существовала лишь одна незначительная проблема: она должна была умереть раньше меня. Может быть! Видите ли, это одно из чудес, свойственных характеру моей матери: она не умрет! — Он ударил кулаком по сиденью стула. Это точно. Такие женщины, как моя мать, просто отказываются умирать, они крепко держатся за жизнь. Они никогда не говорят смерти «да». Они слишком любят жизнь, чтобы так просто расстаться с ней. Для этого требуется мужество. То самое, которое вело фургоны через всю нашу страну. Женщины поддерживали мужчин, льстили им, руководили ими — поэтому дикари сдались и исчезли с лица земли. Вы понимаете, что эти качества не исчезли, они продолжают составлять суть вещей. Моя мать прибыла в Миннесоту в таком фургоне. Иными словами — разрешите мне растолковать их вам, разрешите объяснить, что они значат — в течение ее жизни страна превратилась из обиталища пионеров в тот цветущий сад, который радует нас и поныне. Мы с вами, Джой, каждый день мы пожинаем урожай в этом прекраснейшем саду мира. И еще есть женщины, которые засевали его, да, и мы в неоплатном долгу перед ними, вся наша прекрасная цивилизация обязана им целиком и полностью.
— И они не только каждодневно гнули спину, но и думали, как бы все это сделать поскорее! Мальчик мой, во всей истории человечества нет страны, которая с такой быстротой, с такой эффективностью перешла от дикости к цивилизованному существованию. Вот в чем дело. — Он застенчиво посмотрел на изображение Эстелл и смахнул слезу. Пожилая леди на снимке, казалось, принимала комплименты с присущей ей скромностью. — Ну разве она не прелесть? Просто копия королевы Виктории. У нас весь дом устроен в викторианском стиле — вокруг розовое дерево и красный бархат, и мы живем в величественной башне, которая смотрит на озеро, и вокруг такое изящество, все в стиле. Я вожу ее в кресле-качалке в театр и на все концерты — когда она может. Не так ли? — спросил он, обращаясь к изображению. Затем он нежно поцеловал его и объявил, что настало время поесть.
Затем последовал долгий телефонный разговор, в ходе которого портье объяснял Локку, что в отеле нет ресторана, а тот усердно убеждал портье, что он ошибается и что ресторан обязан быть, потому что он голоден.
В один из моментов разговора он прикрыл ладонью микрофон и объяснил свое нетерпение гостю:
— Джой, можете ли вы себе представить, этот бедняга вбил себе в голову, что во всем отеле нет ресторана. И, конечно, я никак не могу его переубедить. На железных дорогах то же самое? Вы понимаете, почему я вынужден летать? Наконец упорствующий портье «признал», что в соседнем квартале есть китайский ресторанчик и пообещал послать кого-нибудь за едой.
До, во время и после еды, не переставая рвать и разжевывать мясо крепкими белыми зубами, Локк беспрерывно извергал из себя потоки слов. Казалось, он непрестанно возводил из них какие-то чудовищные конструкции, которые могут привидеться только в ночных кошмарах, растущие с такой скоростью, что глаз не поспевает следить за ними. Растущие и падающие громады слов были посвящены Джою Баку, хотя он сам смутно улавливал тему разговора, но словоизвержение Локка исходило из убеждения, что гость его представляет идеальный образчик человеческой природы, в котором нашло счастливое сочетание героизм и мужество раннего Гарри Купера, а также культура, чувствительность и страстность Рональда Колемана. Казалось, что Локк боялся, что, если его гостю будет позволено произнести больше, чем несколько слов, все его конструкции рухнут. Но Джой уже не испытывал никакого желания прислушиваться к этому потоку слов. Просто время от времени он вздымал брови, изображая на лице то или иное выражение, а как только оратор улыбался, он выдавливал ответную улыбку и согласно кивал головой. Порой ему удавалось вставлять фразу-другую в ответ на такие, например, высказывания: «Моя мать терпеть не могла терять присутствие духа!», или «Ну конечно, вы, лихие ковбои, разбираетесь в этом куда лучше, чем я, скромный торговец бумагой», или же «Вот что я хочу сказать: жестокость покорила страну, а женщины покорили жестокость и, я бы сказал, весьма преуспели в этом на благо страны — вы не согласны?»
Но мысли Джоя все время вертелись вокруг одной и той же проблемы: как бы сделать, чтобы этот вечер был ему оплачен. Но он был бессилен. Ровный гул извергающихся слов хозяина действовал на него как наркотик, и он сидел в полном оцепенении. Ему постоянно приходилось бороться с желанием впасть в настоящий транс, и тогда он начинал вертеться на месте, растирать шею, хрустеть суставами и щуриться.
Телефон позвонил после одиннадцати. Джой воспользовался этой возможностью, чтобы выбраться в ванную, где мог посоветоваться со своим отражением в зеркале. Когда он выходил из комнаты, Локк громко и отчетливо говорил в трубку.
— Ты хочешь услышать, какое у меня произошло совпадение?.. Мама, я говорю: сов-па-де-ние! Догадайся, с кем мы сейчас болтаем?.. Я говорю, представь себе, с кем я болтаю, когда зазвонил телефон? С кем го-во-рю?.. Го-во-рю. Нет, не курю! Г-о-в-о-р-ю!.. Беседую!.. О, мама! Тебя не тошнит? Что ты взяла?.. Да нет, этот не годится, почему бы тебе не воспользоваться акустиконом? А-кус-ти-ко-ном!.. Мама, черт бы тебя побрал, да это просто не-вы-но-си-мо!
В ванной Джой помыл лицо и плеснул на шею холодной воды, после чего крепко растерся, пока не почувствовал, что кровь снова стала циркулировать у него в голове. Затем он почти уткнулся в собственное изображение и прошептал:
— Как только этот сукин сын оторвется от этого чертового телефона, ты перейдешь к действиям! Это приказ!
6
Джой огляделся вокруг в поисках того, что можно было бы украсть. На полочке в туалете лежала электрическая бритва, но она слишком выпирала бы из кармана. Кроме того, когда ты сидишь как голый под пальмой, куда ты ее засунешь? Ничего стоящего не было и в аптечке. Но он снова обильно использовал одеколон, стащив для этой цели обувь и распахнув воротник рубашки, куда обильно залил пахучую жидкость.
Затем он прислушался к тому, что делалось за дверью. Не было никаких признаков, что оживленная беседа по телефону близится к завершению. Джой снова повернулся к зеркалу, начав репетицию:
— Слушайте, мистер, м-м-м… то есть, Тауни. Слушай, Тауни, я говорил тебе, что мой приятель жутко болен? Так оно и есть, и я должен как можно скорее отвезти его на юг. Ага. Ну, я, в общем-то, толком не знаю, чем он болен. Мальчишкой он перенес полиомиелит, а сейчас у него течет из носа, его колотит, он все время потеет, ну и нога у него подворачивается и все такое. Так что вот я и подумал, Тауни, что лучше всего было бы как можно скорее отвезти его на юг. А теперь слушай. Слушай меня, черт побери! — приструнил он сам себя и продолжал подготовку к разговору уже шепотом.
— А теперь тебе придется послушать меня, Тауни. Ох, да тебя я уж наслушался, ты же способен болтать сорок восемь часов без остановки. Да, конечно, мне это жутко нравится, прямо вне себя от счастья каждую засранную секунду. А теперь тебе придется послушать. Мне нужны деньги. И побыстрее, так что, если ты хочешь получить то, что тебе надо, заткнись и приступай к делу!
В гостиной Таунсенд П.Локк сидел на краю постели, положив одну руку на телефонную трубку, которая уже лежала на рычагах аппарата, а другой прикрывая себе рот. У него были вытаращенные от волнения глаза.
— Ох, Джой, — сказал он, когда его гость вернулся в комнату. — Я вел себя, как сущий ребенок. Я орал. Я был просто омерзителен. И бесстыден. Перезвонить ей и извиниться? Она терпеть не может лишних трат. Роскошь обожает, а расточительность нет. Она просто удивительно видит разницу между ними. Ладно, не стоит волноваться, не так ли? Не хлопнуть ли нам по маленькой? — Он ткнул пальцем на бутылку с джином на столике.
— Дай-ка я налью тебе, Тауни, — сказал Джой.
— Спасибо, это очень любезно с твоей стороны.
Джой наполнил стакан до половины чистым джином и вложил его в протянувшуюся к нему красную пухлую руку.
Он остался стоять перед Локком, и низ живота находился как раз на уровне его лица. Наступило долгое молчание. Постепенно Локк мысленно вернулся из Чикаго в Нью-Йорк, но молчание продолжалось. Хозяина явно волновало лицезрение нависшего над ним тела Джоя, и выражение лица его явно показывало возбуждение, в котором он находился.
Джой изобразил на лице улыбку и посмотрел на Локка. Подняв глаза, тот встретил взгляд Джоя и хихикнул. Джой кивнул и, помолчав, сказал:
— Так что же тебе нужно, Тауни?
Локк вскинул черные брови:
— Что?
Согнув ладонь, Джой позволил руке сползти в район паха.
— Так чего ж ты тащил меня сюда наверх?
— О! — вскрикнул Локк, прижимая ладони к сердцу. На лице его выразилось искреннее страдание. — Это так трудно. Так трудно. Невозможно. Вы, молодые люди, вы не знаете, как поступать. У вас… у вас такая убийственная красота. Я знаю, что ты прекрасный, просто обаятельный человек, Джой. Я сразу же это понял. Я сказал тебе это еще на улице. А теперь ты так ведешь себя, ты делаешь эти омерзительные жесты, и так все смешалось — и невинность, и распущенность — и такая в этом убийственная прелесть, что я просто не могу ее вынести.
— Я ни за что не должен был приглашать тебя к себе. Я хотел, чтобы у нас с тобой была такая милая прогулка, и я так старался, чтобы она доставила нам радость. Я надеялся, я предполагал, что в беседе между нами появится нечто общее, и я как старший мог бы поделиться с тобой некоторыми соображениями о мире. Я предполагал, что мы сможем выйти с тобой на более высокий уровень общения. Ну, разве не смешно? — Он сделал большой глоток джина и когда тот оказал на него воздействие, снова заговорил, на этот раз со сдавленной страстью: — Я ненавижу жизнь, я ненавижу каждую секунду ее. — Он попытался сопроводить эти слова некоторым подобием смеха, но тут же подавился. — А теперь, пожалуйста, уходи, прошу тебя. Не доставляй мне больше трудностей. Просто уходи, пока еще у меня остались силы разговаривать с тобой.
— Ты говоришь, чтобы я ушел? — переспросил Джой. — Ты хочешь, чтобы я выметался?
— Пойми меня, пожалуйста, я хочу, то есть я не то, что хочу… ну да, да — я хочу. Я хочу, я хочу, чтобы ты ушел, прошу тебя, я хочу чтобы ты оставил меня!
Взяв руку Джоя, Локк сжал ее между своими ладонями.
— Прошу тебя, помоги мне оставаться хорошим, — взмолился он. — Я не хочу быть таким, каким был в июле.
Джой кивнул. Он испытывал огромное разочарование, но мог понять, о чем его просят. Он двинулся было уходить, но Локк задержал его, взяв за руку.
— Джой, слушай, ты придешь завтра повидаться со мной? Ты обещаешь?
— А сегодня вечером, — сказал Джой, — нельзя ли заняться тем, что будет завтра?
— Завтра я буду другим. Я изменюсь. Я не буду так нервничать. Не могу даже передать тебе, как мне не по себе, словно мне на голову свалится бомба. И, понимаешь, мне жутко хочется, чтобы на меня что-то свалилось! И я вне себя от этого ожидания — Он снова попытался засмеяться и тут же осекся. — Видишь, я прямо не могу совладать с собой. Послушай, ты только послушай мое сердце! — Он засунул руку Джоя себе под жилетку. — Все смешалось в кучу — и этот жуткий шум за окном, и эта обслуга, которая принесла что-то совершенно несъедобное, когда мне хотелось чего-то очень вкусного, и этот ужасный телефонный звонок от Эстелл. Но пообещай, пожалуйста, что ты придешь завтра!
Джой выдернул руку и направился к дверям.
— Я отправляюсь во Флориду, — сказал он. — Мне нужно ехать во Флориду.
— О, это просто ужасно. — Встав, Локк проводил Джоя до дверей. — Едва только я встретил человека, который понимает меня, как никто другой, и ему уже надо исчезать… Слушай! Подожди! Я хотел бы сделать тебе подарок! Для твоего путешествия! Ведь ты не будешь возражать, не так ли? — Он торопливо скрылся в спальне.
Джой был удивлен таким неожиданным поворотом событий. Он расслабился в приятном ожидании, прикидывая, как велик может быть подарок от человека, дом которого башней высится над озером и который может нанимать оркестр на день рождения своей матери.
В соседней комнате было слышно, как открылся и снова закрылся ящик стола.
Вернулся Локк. Он улыбался. Подойдя к Джою, он протянул ему сжатый кулак.
— Считаю за честь, что могу вручить тебе вот это.
Еще не видя, что скрывается в руке, Джой попытался найти слова благодарности.
Поднеся руку к глазам Джоя, Локк медленно разжал пальцы, продемонстрировав лежащую на ладони медаль святого Кристофера.
— Пожалуйста, возьми ее.
Джой уставился на медаль.
— Не смущайся! Для этого не обязательно быть католиком или кем-то в этом роде. Он покровитель всех путешествующих.
Джой покачал головой.
— Но я хочу, чтобы она у тебя была, — сказал Локк. — Ибо этот дар поможет мне сохранить уважение к себе.
Джой позволил засунуть медаль ему в карман. Он продолжал трясти головой даже после того, как человек из Чикаго спросил у него, в чем дело.
7
Этот вечер предельно вымотал его, и он держался из последних сил. Взбираясь по лестнице, он попытался прикинуть, хватит ли у него сил все рассказать Рэтсо.
— Рэтсо, — пробормотал он, остановившись на площадке третьего этажа и глядя на зимнюю луну в выбитом окне. — Нет, Рико. Я буду звать его Рико. Рико, — продолжил он, — боюсь, что пока толком так ничего и не сработано. Я чуть не всю ночь без толку провозился с этим идиотом. Но я кое о чем договорился с ним на завтра, так что, самое позднее, через два дня мы будем сидеть в автобусе. Ну, как тебе это нравится? — Он помотал головой: никак это не может нравиться. Может, лучше сказать, что ему пришлось потратить часть денег, но завтра все вернется. Ну, Рэтсо, — скажет он, — еще двадцатка, и, считай, мы уже в автобусе.
Он вошел, приготовившись выдать это вранье, и увидел, что Рэтсо не спит, уставившись в потолок. Джой ждал, что тот сядет и будет расспрашивать, как прошел вечер, но Рэтсо не пошевелился и ничего не сказал.
Подойдя поближе, Джой заглянул ему в лицо. Почему-то — может быть, он знал всю истину, — Рэтсо не ответил на его взгляд. Продолжая смотреть в потолок, он сказал:
— Мне приснился дерьмовый сон. — Голос у него был тихим и мягким. Угрожающей хрипотцы в нем больше не слышалось.
— А ты не собираешься спросить меня, — сказал Джой, — как у меня были дела вечером?
Рэтсо взглянул на него, но шевельнулись только его глаза. Внимание его было приковано к чему-то другому. Лицо его было совершенно бесстрастным, а глаза потухшими. Нет, он мог видеть, эта способность не покинула его, но выразительность взгляда, которой он всегда отличался, совершенно исчезла.
— Никуда мне не хочется ехать, — сказал он.
— Ты не хочешь ехать во Флориду?
— Не-а. Почему бы тебе не завалиться поспать?
Джой посмотрел на теплое местечко рядом с Рэтсо и подумал, что было бы неплохо прилечь. Затем он посмотрел на влажное, осунувшееся лицо Рэтсо с глубоко запавшими глазами, и в памяти у него всплыл звук открывающегося ящика стола в спальне номера Таунсенда П.Локка.
Он понял, что ему надо добраться до него. Больше ему ничего не оставалось делать. Все стало до смешного просто.
— Ну и ну! Черт бы тебя побрал! — сказал он. — Я все организовал, а ты не хочешь ехать!
— Что ты организовал?
— Да я все это дело раскрутил. Осталась только сущая мелочь, дай мне пару минут. И, как я прикидываю, нас ждет первый же автобус. Но, черт побери, тебе все это настолько не интересно, что я могу поехать и один. — Он оглядел комнату. — Думаю, что мне ничего тут не надо. Голова на месте, руки при мне — и вроде бы все в порядке.
Он направился к дверям.
— Слышь, Рэтсо, я… м-м-м… мы еще с тобой увидимся, а?
Рэтсо уже сидел, приоткрыв рот и распахнув глаза. Несколько секунд они с Джоем Баком молча смотрели друг на друга, а потом Рэтсо сказал:
— Ну пока.
Но он не шевелился. Как и Джой. Помолчав, Джой сказал:
— Значит, ты вообще не хочешь отправляться во Флориду, так?
Облизав губы, Рэтсо слегка нахмурился. И сказал, помолчав:
— Не-а.
Внезапно повернувшись, Джой, мягко ступая, вернулся в комнату.
— Надевай ботинки, ты, кусок дерьма! И пошевеливайся!
В долю секунды Рэтсо отшвырнул одеяло и проворно пополз по полу к своей обуви.
Они взяли такси до автовокзала. Багажа у них не было. Оба они набили карманы разной мелочью, а Рэтсо прихватил с собой индейское одеяло. По пути Рэтсо с трудом переводил дыхание и жаловался на резь в глазах.
— Что мне так жжет глаза? Ты что-нибудь понимаешь о рези в глазах?
Джой помог ему разместиться на скамейке в зале ожидания. Проще было бы понести его, но Рэтсо не позволил ему.
— А теперь жди здесь, — сказал Джой. — Я буду через десять минут.
— А что если они зацапают меня за бродяжничество?
— Ты с ума сошел? В двенадцать пятьдесят ты отправляешься в Майами, Флорида. Это не бродяжничество!
— Ну ладно, а что, если тебе не удастся обчистить того типа?
— Никак ты в меня не веришь? Так? Ты мне не доверяешь? Возьми вот и скажи! Ну давай же, говори!
— Ладно, — сказал Рэтсо. — Только вот…
— Дер-рьмо — вот и все только!
У дверей Джой оглянулся и увидел, как Рэтсо кутается в одеяло. Он дождался, пока Рэтсо не взглянул на него, и махнул ему рукой. Рэтсо ответил ему. Джой выскочил на улицу и, добравшись до Восьмой авеню, пустился бегом.
8
Он проделал весь путь до «Европы» и взлетел на пятый этаж без всяких раздумий, ибо чувствовал, что стоит ему остановиться и поразмыслить, как весь его план рухнет.
Постучавшись в дверь Локка, он прислонился к косяку, чтобы перевести дыхание. Через секунду он услышал тихое «да» из комнаты.
— Тауни?
— Кто там?
— Это я, Джой.
— Джой?
Он услышал щелканье замка, и дверь открылась. Таунсенд П.Локк был уже в пижаме на голое тело и с босыми ногами.
— Боже небесный! — сказал он.
— Мне надо поговорить с тобой.
Несколько секунд Локк мялся на месте, смущенно глядя на Джоя; он бросил беглый взгляд на цепочку, словно сожалея, что снял ее, открывая двери.
— Джой, честное слово, уже очень поздно.
— Да, но это очень важно.
— Ради всего святого, что же это может быть?
— Я… мне бы не хотелось говорить, стоя здесь.
— Но я не могу в такой час пригласить тебя к себе.
— Разве ты не говорил, что мы друзья?
— Да, конечно! Но…
— Но на самом деле ты этого, конечно, не думал, — сказал Джой, проходя мимо Локка прямо в гостиную.
Локк остался стоять у дверей. Нахмурившись, он посмотрел на Джоя.
— Ладно. Давай излагай, что там у тебя. В чем дело?
— Закрой двери.
— Закрыть двери?
— Ага. Что, не понимаешь? Захлопни их.
Набрав в грудь воздуха, Локк осторожно перевел дыхание. Затем закрыл двери.
— Мне нужны деньги, — сказал Джой.
— Ах вот как. — Локк улыбнулся. — Ну, конечно. Конечно, они тебе нужны. Я должен был, должен был догадаться. О, прости, что вынуждаю тебя просить, это так неблагородно с моей стороны. Кроме того, это ваш-ха-ха! — доход, так сказать! Боюсь, что я проявил крайний эгоизм, не подумав об этом. Секундочку. Подожди здесь.
Локк направился в спальню. Джой последовал за ним. Локк открыл ящик столика, стоявшего между кроватями, и вынул бумажник. Вынув из него купюру, он положил бумажник обратно.
И тут он увидел Джоя, стоявшего в дверях.
— О! — его руки испуганными голубями метнулись к горлу. В ужасе он сделал шаг назад, стукнувшись о столик и едва не опрокинув лампы. Но он успел подхватить ее.
— Ты меня напугал, — сказал он. — Я думал, что ты подождешь там. — В голосе его слышалась легкая нотка раздражения.
— Да нет, — сказал Джой. — Я решил, что не буду заставлять тебя делать лишние шаги.
Он глянул на десятидолларовую бумажку в руках Локка.
— Это для меня?
— Да, — сказал Локк. — И считаю, что ты более чем заслужил их, хотя бы тем, что провел весь вечер с болтливым старым джентльменом. Так что можешь и не благодарить меня.
— Тауни. — сказал Джой. — Боюсь, что мне причитается больше, чем десятка.
— Да? В самом деле? — Локк внезапно заговорил очень тихим, еле слышным голосом. На лице его застыло выражение, которое не имело ничего общего с лихорадочным возбуждением, которое он испытывал. — Какая жалость! Боюсь, что у меня нет больше наличных. То есть денег.
— Я должен получить пятьдесят долларов.
— Пятьдесят!
— Вечером я провел с тобой чертовски много времени, Тауни, и не думай возражать. Ведь ты же, никак, решил стать хорошим мальчиком, не так ли?
— Но, Джой, я… у меня их просто нет.
— У меня вообще нет времени, тем более сидеть с тобой всю ночь, играя в гляделки. У меня есть семья, черт возьми, и я должен как можно скорее отвезти ее во Флориду. Так что запускай лапу и вытаскивай ее с пятьюдесятью долларами.
Локк отступил к столику и прислонился к нему.
— Я понимаю, Джой, честное слово, я понимаю. И я согласен со всем, что ты… — Джой двинулся к нему. Локк захлебнулся. — Что ты собираешься делать?
— Убрать тебя с дороги.
— Ты только напрасно потеряешь время. Здесь нет ничего…
Джой влепил собеседнику плюху тыльной стороной ладони. Локк свалился на кровать не столько из-за силы удара, сколько от удивления. Тут же приподнявшись, он упал на колени и, обхватив столик руками, закрыл доступ к ящику своим телом. Втянув голову в плечи и краем глаза наблюдая за Джоем, он принялся скулить, как женщина или ребенок. Джой схватил его за волосы и развернул лицом к себе.
— Ну-ка дай мне этот столик!
— Нет, нет! Я не могу! Там нет денег! В нем только мои личные вещи!
Джой еще раз ударил его по лицу, но на этот раз открытой ладонью.
Локк продолжал скулить и стонать, но не шевельнулся. Джой нанес ему еще один удар, но из этот раз покрепче и кулаком.
Локк вскрикнул, а затем сказал:
— Я заслужил это! Да, в самом деле, я заслужил это! — Он продолжал стонать, но на гораздо более высокой ноте. В то же время он продолжал обеими руками цепляться за столик.
— Я сам на это напросился! — вымолвил он. — Ты можешь еще и еще раз ударить меня! Весь вечер меня неотступно посещали такие грязные, такие отвратительные мысли. Что, у меня на лице кровь? — Он лизнул кровь, которая текла у него из носа. — Я истекаю! О, благословение Богу, истекаю! Я заслужил эту кару!
— Да отцепись ты от этого проклятого стола. — Джой стал понимать, что перед ним нечто большее, чем просто человек, защищающий свои деньги. В нежелании Локка было какое-то исступление, почти ярость. Глаза у него блестели, а губы, за которыми виднелись плотно сжатые зубы, были растянуты в идиотской улыбке, придававшей ему вид толстой рехнувшейся рыбы. Лицо его побагровело, а текущая из носа кровь уже заливала и рот, и зубы, и подбородок.
Джой схватил настольную лампу и вскинул ее высоко в воздух.
— Так ты собираешься давать мне пятьдесят долларов? Или хочешь, чтобы я размозжил тебе башку?
Выражение лица Локка ясно дало понять, что он предпочитает: с тоской глянув на вскинутую лампу, он остался в том же положении.
Поняв, что от него сейчас требуется, Джой почувствовал, что его затошнило. Ему показалось, что они поменялись местами, словно оружие было в руках Локка, а Джой подвергался угрозе, и насилие, если его придется применить, обрушиться на него, а не на тело Локка.
— Пожалуйста, отойдите от столика, мистер, — сказал он.
Локк отрицательно помотал головой.
Джой опустил лампу на голову Локка, заставив ее остановиться в нескольких дюймах от его глаз. Локк вскрикнул, но на этот раз в голосе его звучало удовольствие. Тело его обмякло, и он ослабил хватку. Джой сначала не понял, что произошло. Он даже не коснулся противника, и все же Локк оставил поле боя.
Джой опустил глаза и увидел, что Локка так и колотит от пережитых эмоций, но Джой не мог понять, плачет ли он или смеется. Но теперь он понял, каким образом его собирался использовать этот беловолосый, краснолицый и голубоглазый джентльмен из Чикаго, так что, когда он вытащил бумажник из ящика ночного столика и нашел в нем сто двадцать один доллар, он все их сунул себе в карман.
Когда Джой покидал комнату, Локк сказал:
— Благодарю тебя, благодарю.
Уже почти миновав гостиную, Джой внезапно понял, что предстало его глазам в спальне: Локк, сидящий на полу, прислонившись головой к постели, широко растянув в усмешке окровавленные губы, а рядом с ним на ночном столике стоит телефон.
Ворвавшись обратно в спальню, Джой увидел, что Локк подполз на коленях к кровати и уже взялся за трубку.
— Эй! — позвал его Джой.
Локк вскрикнул от удивления. Дернувшись, он оказался лицом к Джою. Они смотрели друг на друга, словно оба понимали, что худшая часть вечера им еще предстоит.
— Я никому не собираюсь звонить! — сказал Локк. — Честно, я не хотел.
— Помолчи.
— Честное слово! Я просто…
— Заткнись.
Джой попытался собраться с мыслями. Он видел перед собой только Локка и телефон или телефон и Локка и знал, что того или другого надо вывести из строя, чтобы у него было время выбраться из здания. Поэтому, подойдя к ночному столику, он дернул провод с такой силой, что розетка вылетела из стены. Но связь еще не была нарушена. Ему пришлось положить телефон на пол и выдернуть шнур из металлического корпуса. Затем он поднял трубку и прислушался. Она молчала.
Локк воспользовался этой возможностью, чтобы выскочить в гостиную, и ему почти удалось добраться до холла, когда Джой, по-прежнему держа в руках молчащий телефон, настиг его.
— Эй! — крикнул он и швырнул коробку телефона в голову Локка. Как раз в эту секунду Локк повернулся к нему лицом и металлический корпус врезался ему в рот, откуда вылетел зубной протез. Он начал кашлять и сплевывать, а когда изо рта у него вылетело несколько зубов, он спустился на колени и стал искать их.
Тем не менее перед мысленным взором Джоя по-прежнему стояли эти два предмета — человека в телефона, телефона и человека, и, несмотря на всю свою растерянность, он понимал, что с ними надо что-то делать. Посему он пихнул Локка на пол, сел ему верхом на грудь и засунул телефонную трубку в его беззубый рот.
На руках Джоя оказалась кровь, и он инстинктивно, с глупой небрежностью, вытер их о куртку. Встав, он огляделся вокруг. Невероятно, чтобы в Локке было столько крови. Он был залит ею с головы до ног, она была на ковре и на мебели. Словно само воплощение ужаса — можно назвать его злом и представлять в виде дракона — носилось по комнате, оставляя повсюду свои следы.
Когда Джой торопливо оставил комнату, торопясь к лестнице, последнее, что он увидел, был человек из Чикаго, полуголым лежащим на боку, вцепившись в предмет, засунутый ему в рот, словно огромный ребенок, воюющий с соской.
9
На предстоящее путешествие они обзавелись подушками, и наконец водитель тронул с места автобус. Расположившись на своем месте, он нажал кнопку, закрывавшую двери, и, обратившись через микрофон к пассажирам, сказал, что по пути будут регулярные остановки для отдыха, а путешествие, он уверен, доставит им удовольствие и через тридцать один час они прибудут в Майами.
Джой внимательно выслушал объявление, не услышав из него ни единого слова; его, главным образом, успокаивал сам тон голоса водителя, в котором были уверенность, сила и мягкость.
— Эти парни — отличные водители, — сказал он Рэтсо.
— Им приходится, — сказал Рэтсо. Зубы у него опять стали выбивать дробь.
Автобус двинулся с места.
— Поехали, — сказал Рэтсо.
— Ага.
— Тридцать один час.
— На что?
— Что ты хочешь сказать? Что «на что»?
— Ну, тридцать один час.
— Займет дорога. В восемь тридцать утра мы там будем. Но не в это утро. А на следующее, в половине девятого.
Прежде чем выехать из города, автобусу пришлось покрутиться, но наконец он въехал в туннель и еще через несколько минут они вылетели на скоростную автомагистраль.
— Ты в это веришь? — сказал Джой.
— Что мы двинулись в путь?
— Ну да.
— Нет. Я с трудом в это верю. Просто не могу в это поверить.
— Я тоже, — сказал Джой. — Просто не могу поверить.
Несколько миль они покрыли в молчании. Джой обернулся посмотреть, что представляют собой другие пассажиры. Они показались ему довольно симпатичными, во всяком случае, те, кого он успел рассмотреть. Хватало и свободных мест, то есть было где вытянуться и поспать.
— Чем мы займемся первым делом? — спросил он.
— То есть, что мы будем делать?
— Ну да. Когда мы там окажемся.
— Я думаю, первым делом натянем плавки, а?
— И прямиком на пляж, — сказал Джой, — с этого и начнем, идет? Я хочу сказать, что прямо там и расположимся, не так ли?
— А ч-ч-что же еще, черт возьми? — сказал Рэтсо.
— Ну, гадство, вот не знаю, я же не специалист по путешествиям во Флориду. Я не знаю, черт возьми, чем ты там собираешься заниматься. Так что я просто спрашиваю. Ради Бога, прости, что я вообще рот открыл. Почему бы тебе не прекратить трястись?
— Потому что ничего не могу с этим поделать, вот почему, — сказал Рэтсо. Когда позади осталось еще несколько миль, он сказал: — Первые пальмы ты увидишь в Южной Каролине.
— Откуда ты знаешь?
— Так мне говорили.
— Кто? — захотел узнать Джой.
— Один парень, вот кто!
— Ну и черт с ней, с Южной Каролиной, — сказал Джой. — Мы направляемся во Флориду. И если уж взялся дрожать, почему бы тебе не набросить одеяло?
— Эй, что с тобой случилось?
Джой сказал, что ничего с ним не случилось, но, пока они не проехали очередную милю или около того, он чувствовал, что Рэтсо не сводит с него глаз.
Придвинувшись поближе, Рэтсо прикоснулся к нему рукой. Они вплотную сблизили головы, и Рэтсо шепнул:
— Ты, надеюсь, не убил его?
Джой отпрянул от него и, стараясь не показать Рэтсо тревогу, вспыхнувшую у него в глазах, зашипел:
— Заткнись, заткнись, заткнись! — после чего украдкой бросил взгляд на женщину, сидящую по другую сторону прохода. Она спала, прислонившись головой к окну.
— Мне-то ты можешь рассказать.
Снова склонившись к нему, Джой зашептал:
— Да я всего лишь сунул телефон ему в рот. Я тебе уже говорил. И он сделал вот так! — Джой издал цокающий звук, прижав язык к небу. Вот так.
— Я понял, но… слушай, — посмотрел на него Рэтсо. — У тебя же на куртке кровь.
— Это у него из носа, из носа, я же говорил тебе, что у него из носа текла кровь! Ты специально хочешь мне трепать нервы — или что?
— Да нет! Я просто хотел узнать. Что я и спросить не могу?
— Можешь, но зачем, зачем? Ты считаешь, что если кровь, так обязательно кто-то умер? — Они помолчали, а потом Джой сказал. — Ты думаешь, что тот мужик мог задохнуться с телефоном во рту?
— Нет. Нет.
— Ты уверен?
— Говорю тебе, что нет, это просто невозможно! Чем ты себе башку забиваешь? — сказал Ретсо. — Ты только об этом и думаешь. Выкинь всю эту чушь из головы. Так я считаю. Думай о Флориде. — Рэтсо подтянул одеяло до горла и уткнулся в подушку.
Когда они проехали еще несколько миль, Джой сказал:
— Рэтсо, а ты помнишь, как мы бродили позавчера, да, еще позавчера, черт бы его побрал, когда мы бродили и мечтали, какие у нас будут загорелые задницы? Ты тоже, как и я, помнишь об этом?
Рэтсо молчал.
— Помнишь? — повторил Джой. Нахмурившись, Рэтсо посмотрел на него и прикоснулся пальцем к зубам.
— Чего ты? — спросил Джой.
— Я все удивляюсь…
— Чему?
— Как тебе его зубы не помешали?
Джой взбеленился.
— Да они у него вылетели!
— Ты их выбил?
Джою пришлось набрать в грудь воздуха, прежде чем ответить.
— Да они были искусственные, протез, искусственные были у него зубы!
На какое-то время они погрузились в молчание.
Через час Рэтсо вспотел и откинул одеяло. Джой, думая, что Рэтсо спит, подтянул его обратно. Но тот не спал. Он открыл глаза и сказал:
— Эй, слушай, а я все время думаю.
— У тебя одеяло сползает, — сказал Джой.
— А я все думаю, не будет ли у нас неприятностей из-за моего имени. Потому что, если разобраться, в чем смысл нашего путешествия? Нью-Йорк — это одно, но ты только представь себе парня, который гуляет по этому чертовому пляжу, загорелый с головы до ног, купается себе как ни в чем не бывало, а тут кто-то ему орет: «Эй, Рэтсо!» Не режет ли тебе ухо? Признайся, звучит жутко дерьмово. И мне бы этого не хотелось. Я всегда был Рико, и в чем тут моя вина? Эй, слышь, я прямо прею под этим одеялом. Вспотел, как свинья.
— Ага. Ну да, я понимаю, — сказал Джой. — Ладно, скинь его. Стяни еще и рубашку, да окно открой. Может, тебе удастся подцепить хорошенькое воспаление легких, которого тебе только и не хватает.
— Да я не сказал, что хочу скинуть его. Я всего лишь заметил, что вспотел. Но можно считать, что мы договорились, о'кей? Всем новым знакомым будем говорить, что мое имя Рико, идет?
Джой кивнул.
Он закрыл глаза и попытался немного поспать, но вместо этого его стали одолевать какие-то мрачные мысли. Он не мог толком понять, спит ли он или нет, но уродливые видения предстали пред ним с удивительной яркостью. Во многих из них он снова переживал сцены насилия, участником которых был прошлым вечером, в ужасе открывая глаза в ту секунду, когда опускающаяся лампа застыла в нескольких дюймах от головы Таунсенда П.Локка. Засыпая и снова просыпаясь, он испытывал искреннее облегчение, видя, что находится в автобусе и что рядом с ним сидит Рэтсо.
Затем он снова начинал погружаться в состояние полудремы и видел сны, в которых старый дружок Салли Бак, ковбой Вудси Найлс был мертвецом. Вудси выплывал из снов и появлялся в автобусе, реальный до мельчайшей черточки. Ковбой откалывал невообразимые шуточки: в одной из них он вдруг оказался на месте водителя и погнал автобус по краю дороги, так что пассажиры только вскрикивали: «Помогите, помогите, водитель мертв, водитель мертв!» В другом из этих ужасных снов он увидел, как автобус прибыл в Майами, все пассажиры взяли свой багаж и разошлись. Все, кроме одного. Водитель увидел его, скорее всего, уснувшего в кресле, и пошел по проходу разбудить его.
— Дер-рьмо, — сказал Джой, просыпаясь. — А мне казалось, что у меня на руках труп лежит. — В это мгновение Джой понял, что водитель — это он сам, а труп — это его старый друг Вудси Найлс. Он подхватил тело Вудси и затянул «Последний поворот», тихо и медленно, то ли напевая, то ли выговаривая его.
Очнувшись от этих видений, Джой стал присматриваться к Рэтсо в поисках признаков жизни; он приложил руку ему к носу, стараясь уловить дыхание. В один из таких моментов Рэтсо тоже проснулся. Он посмотрел на Джоя и сказал:
— Какого хрена ты делаешь?
Джой засмеялся.
Было примерно половина четвертого утра, и они сделали первую остановку для отдыха где-то в Мэриленде. Многие из пассажиров спали. Рэтсо сказал, что хочет остаться в автобусе. Джой вылез и принес пару картонных стаканчиков с кофе. Они сидели, покуривая и потягивая кофе.
— Слушай, Джой, мы должны кое о чем поговорить, — сказал Рэтсо. — Когда ты ушел, я попытался встать, но… — Он пожал плечами, а потом покачал головой и нахмурился. Лицо у него было очень серьезным. — И не смог.
Джой молча слушал.
— Так что же мне делать? — сказал Рэтсо.
— В таком случае, — сказал Джой, — как только доберемся до Майами, сразу же оттащим тебя к доктору.
Рэтсо быстро мотнул головой и скорчил гримасу.
— Ха-ха. С ногами они ничего не сделают. Они поцокают языком, пожмут плечами, сдерут с тебя десять долларов за визит — и все.
— У тебя никак не укладывается в голове, — сказал Джой, — что завтра мы уже будем жариться на солнышке.
— Да я знаю дюжину способов, как запудрить врачу мозги, чтобы он ничего с тебя не взял. Но причем тут солнце? А, ясно, ты имеешь в виду его целительное воздействие и все такое?
— Ну да, черт возьми.
Помолчав, Рэтсо сказал:
— Ладно, но послушай, а что если… вот что я хотел бы знать — а что если…
— Я… я думаю, что мы могли бы оттащить тебя… да только я и сам не знаю.
— Костыль? — предположил Рэтсо. Джой быстро глянул на него.
— Это уж от тебя зависит, если он тебе нужен.
Остальные пассажиры возвращались в автобус. Рэтсо сказал:
— А если он мне не поможет, что тогда?
Джой открыл было рот ответить, но не нашелся, что сказать и промолчал.
Сделав пару тщетных попыток заговорить, он, наконец, выдавил из себя: «Рэтсо… то есть, я хотел сказать, Рико. Ну, когда мы доберемся до Майами, я пойду работать, вот и все, понял?»
Джой и сам не был уверен в своих словах. Ему и в голову не приходило, что он может выдать нечто подобное. Смутные мысли его так моментально претворились в слова, что он был удивлен своим же предложением не меньше слушателя. Автобус сдвинулся с места, а он продолжал говорить:
— Пойду вкалывать, потому что, ты же понимаешь, я не бездельник. Конечно, я мало в чем разбираюсь. Такая у меня была жизнь, что мало чему научился. Так что и сам не знаю, чем буду заниматься — ну буду мыть тарелки, горбатиться где-нибудь и все такое. Потому что мы хотим с толком провести время, не так ли? Ну ладно, может, и не так уж с толком, и кокосов не будет, пойдет все как обычно, но за это ты можешь ручаться. Кроме того, честно говоря, мне не хотелось спать на пляже. Мне бы хотелось, чтобы у меня была ванная, а в аптечке стояла склянка с ромом — ну, ты понимаешь. И зубная паста. И смена обуви чтобы у меня была! Потому что меня уж тошнит от этих сапожек. Точно! Я в океан их выброшу! Слушай — мне надо чего-то нового. И меня не волнует, если придется раздавать рекламные листки на улицах.
Рэтсо смотрел на него с очень серьезным выражением на лице, кивая при каждом его слове.
Положив руку на колено Рэтсо, Джой смотрел мимо него в окно, за которым бежали темные пространства.
— Я думаю о том, что поработаю и смогу что-то для тебя подыскать. О'кей?
Время шло. Они пересекли речку, и теперь мимо них во тьме летели освещенные лунным светом стволы деревьев. Наконец, Рэтсо сказал:
— О'кей. — И тот, и другой старались не смотреть друг на друга. Уткнувшись каждый в свою подушку, они закрыли глаза и каждый остался наедине со своими мыслями.
Джой удивлялся тому, что он только что сказал Рэтсо, пообещав заботиться о нем, и еще больше он удивлялся, поняв, что он и в самом деле собирается этим заняться.
Теперь на плечи ему легла ноша ответственности за другого человека, больного и скрюченного. Но, как ни странно, ему нравилось это новое, пришедшее к нему чувство. Странная это была ноша, которая не отягощала его, а дала ему чувство легкости и тепла. Сиденье было жутко удобным, и он повращал головой, устраиваясь на подушке. Растроганный, он уснул почти мгновенно, и во сне перед ним опять предстала вереница золотых людей.
Но теперь они были на удивление другими. Они двигались в стремительном маршевом ритме, под музыку родео. И золотые канаты, связывавшие людей во время их движения по миру, так сверкали в эту ночь, таким чистым светом, что Джою удалось рассмотреть лица тех, кто шел перед ним. Особое его внимание привлек ковбой, который крутил в воздухе лассо, и аркан его был сплетен из тех же золотых нитей, которые связывали всех воедино. Он пристально, очень пристально вглядывался в лицо ковбоя, стараясь привлечь его внимание, и им все больше овладевало чувство, что он его откуда-то знает, и о чудо! Настала секунда, когда он понял, что лицо ковбоя — это его собственное.
Он был в строю вместе со всеми.
Эта потрясающая ситуация удивила его настолько, что он проснулся. За окнами вставал холодный зимний рассвет, окрашивая все вокруг блеклой розоватостью.
Рэтсо тоже проснулся и не скрывал овладевшей им мрачности. Лицо его мокрое от слез, было воплощением скорби.
— Эй, эй, в чем дело? — встревожился Джой. Рэтсо бросил на него быстрый взгляд, снова отвернулся и тихим, почти неслышным голосом выдавил:
— Я обмочился.
— Ты что?
— Обмочился! Обмочился! Штаны обмочил!
— Ну и что? Что страшного?
— Да я весь мокрый! И сиденье мокрое.
— Вот, черт, парень, да не плачь ты.
— Мало того, что я еду во Флориду, и нога у меня болит, и задница ноет, и грудь болит, и рожа свербит — так мало всего этого, я еще обоссался с головы до ног.
Джой не мог удержаться от смеха. Он понимал, что ведет себя не лучшим образом, что смеяться не стоит, но он так хорошо чувствовал себя, что все окружающее представлялось ему страшно забавным.
— Я на куски разваливаюсь, — сказал Рэтсо. — Смешно, не правда ли?
Джой кивнул. И через секунду Рэтсо тоже хохотал. Затем Джой сказал:
— Просто ты позволил себе сделать небольшую остановку для отдыха, которой не было в расписании. — Оба они расхохотались так, словно услышали самые смешные в жизни слова. Они покатывались в течение нескольких минут. Рэтсо даже посинел, и глаза его налились кровью, и он стал жаловаться, что ему больно смеяться, а когда стало ясно, что он готов бросить это занятие, Джой отпустил несколько ремарок относительно естественных отправлений организма Рэтсо, и они снова стали хохотать. Последние три-четыре замечания были, откровенно говоря, не особенно смешны, но просто им нравилось смеяться. Затем Рэтсо стал кашлять и задыхаться, и ему пришлось наклониться вперед, чтобы Джой мог постучать ему по спине.
После таких усилий Рэтсо впал в полное изнеможение. Настроение у него несколько улучшилось, но в перерывах между приступами смеха он выглядел совершенно изможденным. Джой сказал, что тут полно пустых мест и после следующей остановки они могут найти сухое, и пообещал, что в любом из попутных городков, они приобретут ему новые штаны. Он убедил Рэтсо, что все будет в порядке, и к тому времени, когда автобус притормозил для завтрака где-то около Ричмонда, Рэтсо уже крепко спал. Джой отдернул занавеску на окне и прищурился от лучей солнца, бивших ему прямо в глаза.
10
Через несколько секунд, когда Джой вышел из автобуса, его поразил разлитый повсюду утренний свет рассвета. Ему припомнилось, что нечто подобное он видел во сне, но он не мог восстановить в памяти. Чувствовалось, что день будет ослепительно ярок: от резкой чистоты воздуха перехватывало дыхание, и он понял, что ради одного этого утра стоило уезжать из Нью-Йорка.
В ресторанчике он заказал себе черничный пирог и чашку кофе, и, ожидая заказа, был охвачен такими глубокими и тонкими эмоциями, что ошибочно принял их за грусть. Чувство это настолько сильно охватило его, что ему показалось, будто его вот-вот потянет вырвать. Он торопливо добрался до мужского туалета, уединился в одной из кабинок, закрыл двери и склонился над унитазом. Ему пришлось засунуть два пальца в рот, но оттуда вырвалось только сдавленное дыхание. Он заплакал. Это удивило его. Он не мог понять, почему у него льются слезы, когда его окружает так великолепно начавшийся день. Скоро он прекратил плакать. Он высморкался. Затем он вернулся в ресторан и принялся за свой завтрак. Блинчики были отличными, но после первого же куска он перестал обращать внимание на их вкус. Ибо и цвет и запахи этого утра заполнили зал ресторана, так что вместо того, чтобы наслаждаться едой, он думал только о дне, который лежит впереди, и, не допив кофе, поспешил наружу, чтобы окунуться в него.
Каким оно было странным, это субботнее утро. Кроме него, ничего больше в мире не существовало. Джою даже захотелось забиться куда-нибудь и закрыть лицо руками.
Но что происходит? Он подошел к краю стоянки и уставился в землю. Из застывшей коричневой грязи торчали несколько упрямых стебельков, с которыми зимние холода ничего не смогли сделать, а поодаль простирался ряд голых деревьев, в которых не было ничего особенного. Небо было светло-голубым, так что можно было смотреть в него, не щурясь, и воздух был прохладен, даже очень прохладен, но не холодным, так что при дыхании казалось, что ты втягиваешь в себя эту голубизну неба, и тот мир, и покой, что исходили от него. Стоя на краю площадки, Джой поплакал еще немного, от удивления тряся головой, не в силах понять, почему по лицу его струятся слезы и почему такая в общем-то обычная погода вызвала свалившуюся на него печаль.
Дело было в том, что им овладела совсем не печаль, но он не понимал этого.
Он вытер лицо рукавом куртки и вернулся в автобус.
Рэтсо по-прежнему спал.
Они ехали сквозь южное утро, и странное обаяние дня не исчезало. Над каждым маленьким городком, мимо которых они проезжали, стояло ожидание субботы: люди тащили из лавочек пакеты с продуктами, готовясь к субботнему отдыху, дети бегали, играли и катались на велосипедах, радуясь субботнему дню и пришедшей субботней свободе, молодые женщины, с накрашенными губами и в кудряшках, забегали к Вулворту, чтобы купить обновку, в которых они покажутся перед своими субботними молодыми людьми, а те то сидели в парикмахерских, наводя глянец на щеки, то стояли на обочинах тротуаров главной улицы, позвякивая мелочью в карманах и с нетерпением ожидая наступления субботнего вечера, который приближался к ним с медленной неотвратимостью часовых стрелок, медленно, но неотвратимо, и они знали, что он несет с собой, ибо ароматы субботнего вечера стояли в воздухе, и тут же были субботние старухи, которые парочками или кучками стояли на улице на каждом углу, щелкая вставными зубами и болтая о смерти, пока какой-нибудь бодрый старик не отвращал их мысли в другую сторону.
Джой наблюдал из окна летящую мимо жизнь, пока, наконец, в Рэйли в Северной Каролине ему не представилась счастливая возможность окунуться в нее.
Он купил в лавочке рядом со стоянкой новые вельветовые брюки для Рэтсо, а для себя дешевую вязаную куртку, темно-синюю с белыми пуговицами. Он убедил себя, что хоть она и дешевая, но жутко нравится ему, и сунул свою старую и замазанную в ящик для мусора. Джой попытался вытащить Рэтсо из автобуса и отвести его в туалет, где он сможет помочь ему сменить штаны, но Рэтсо еще не проспался. Джой попытался разбудить его, сказав, что скоро они окажутся в Южной Каролине и пора разуть гляделки, чтобы поглазеть на первую пальму, но Рэтсо оставался невозмутим. На мгновение он приоткрыл глаза, но они были совершенно мутными и невидящими.
Через два часа в Беннетсвилле, когда большинство пассажиров, потягиваясь, покидало автобус, направляясь пить кофе и пользоваться удобствами, Джой перетащил Рэтсо на заднее сиденье автобуса. Нижнее белье тоже было мокрым и сменить его было невероятным мучением. Рэтсо был беспомощен, как ребенок. Джой никогда раньше не видел его голым. Его маленькие, трогательные приметы пола казались совершенно бесполезными, просто напоминая о своем существовании. Правая его нога была костлявой и искривленной, как посох странника, и от бедра до колена была покрыта большими черными, синими и багровыми синяками — следами различных падений, которые достались на его долю за последние несколько дней. Он напоминал ощипанного цыпленка, который проводит свою жизнь на задворках птичьего двора, пока, наконец, ему не сворачивают шею и не отправляют в котел. История Рэтсо была написана по всему его телу, и Джой с благоговением читал ее. На долю секунды перед ним предстала картина, как он заворачивает этого исстрадавшегося измученного ребенка в одеяло, нежно берет его на руки и всю дорогу держит на коленях, напевая ему колыбельные песенки. Но он тут же прогнал эту картину от себя.
Теперь они расположились на сухих сиденьях в заднем конце автобуса, а он мчался, набирая скорость, и за окнами летели мили этого субботнего дня, который был неисчерпаем и таинственен, как память. Рэтсо погрузился в глубочайший сон. Джой убедил себя, что чем больше Рэтсо будет спать, тем скорее он выздоровеет, и к тому времени, когда они добрались до Саванны и наступило время обеда, солнце уже опускалось, а Рэтсо все спал.
Джой не вышел из автобуса. Он не испытывал особого голода. Он остался рядом с Рэтсо, боясь потерять ощущения этого странного дня, хотя уже приближалась ночь. Среди многих вещей, которые проплывали у него в памяти, были и удивившие его самого слова, сказанные Рэтсо, что он найдет себе работу, купит новую обувь и будет вести нормальную жизнь, пользуясь своей собственной ванной. И он знал, что это будет сущей истиной, и в один прекрасный день все это у него будет, и к нему придет та радость субботы, которую он весь день наблюдал из окна автобуса. Может, он будет просто мойщиком посуды или каким-нибудь дешевым клерком. Рядом с ним будут работать другие люди, которые сначала не будут обращать на него внимания, они будут считать, что он такой же, как и все, один из них, в сущности, но постепенно они начнут все понимать. Они начнут замечать, что он носит приличную обувь, и со временем поймут, что он не обитатель гостиницы, а обладатель собственного жилища, в котором есть даже отдельная ванная. Они начнут менять к нему отношение, они начнут время от времени наносить ему визиты, и вне всякого сомнения, среди его новых знакомых будет и женщина, не обязательно блондинка или с какими-то выдающимися достоинствами, но она будет пользоваться губной помадой и ходить в кудряшках, и она будет искренне рада, что рядом с ней окажется мужчина, который будет в состоянии позаботиться о ней, мужчина, устраивающий ее и как любовник, а Рэтсо будет с ними в качестве их ребенка, и они будут заставлять его мыть голову, хотя бы раз в неделю или сами будут обмывать его, если он будет слишком слаб для этого. Для того чтобы все шло как надо, нужно было прокрутить главную штуку — вкалывать и ждать, пока все наладится, и никогда не позволять себе стонать «о, этого никогда в жизни не будет, не будет»; ты должен будешь жить и радоваться тому, что у тебя есть, пусть даже ты еле волочишь ноги, а борода у тебя выросла до земли. Как-то он уже составлял планы бытия, когда еще в Хьюстоне решил стать бродячим ковбоем, и отправился искать счастья на Востоке. Считай, он все это прошел — бродячим ковбоем стал и счастье свое искал. Пока оно ему не попалось, но он продолжал тосковать по нему, и в этом-то и было все дело. Может, и теперь ему не удастся зажить нормальной жизнью, но, черт возьми, он будет искать ее до самой смерти, путь даже его считают упрямым и тупым ослом.
Он понял, что ему неплохо думается и без всякого зеркала, и он подумал, что это первый признак того, что он по-настоящему взрослеет.
Все остальные остановки этой ночью он проспал. Сквозь сон он слышал, как водитель объявлял прибытие в Джексонвилль, а затем другой водитель сказал, что они прибывают в Дайтону, но он только чуть приоткрывал глаза и продолжал спать. На ходу ему удивительно хорошо спалось. Единственное, что у него осталось в памяти от прошедшей ночи, — это два названия городов и все же он не удивился, проснувшись утром и увидев, что предстало его глазам.
Рэтсо лежал свободно и раскованно; он наполовину сполз с сиденья, изогнув спину под каким-то странным углом, изломанно склонив голову набок, раскинув руки, как сломанные веточки; в его широко открытых глазах ничего не отражалось. Чувствовалось, что теперь его ничего больше не заботит.
Рэтсо был мертв.
11
Можете ли вы себе представить, что среди верхушек пальм и в самом деле простиралось прекрасное темно-синее небо — как две капли воды смахивающее на картинки Рэтсо и на его книжку «Флорида и Карибы»?
Черт бы побрал и это небо, и все остальное.
Теперь надо было его похоронить, и не подлежало сомнению, что эта процедура должна была влететь в копеечку. Вытащив деньги, он пересчитал их: сорок восемь долларов с мелочью. История эта обойдется ему недешево, просто в фантастическую сумму, но если уж вы взялись столь благородно заботиться о человеке, который пустился с вами в дорогу, то, черт возьми, придется позаботиться, чтобы и его тело достойно упокоилось в земле.
Он никак не мог собраться с мыслями. Он подумал, что ему полагалось бы выйти из себя, может быть, даже впасть в истерику и начать вопить: «О, помогите, помогите, мой друг мертв, и я остался совершенно один!» Но он не чувствовал ничего такого. Просто не чувствовал, вот и все.
Словно он догадывался, что его ждет. Кто-то Некто (кто? Рэтсо?) нашептал ему об этом на ухо несколько дней назад языком смерти, который никак нельзя понять, пока до этого не дойдет настоящее время. В вас бродит какая-то смутная идея, но вы не представляете, что вам все уже известно, пока это не случается.
Вот это и случилось.
Вот ему теперь предстоят и похороны, и ему придется иметь дело с могильщиками, уговаривая их, чтобы они все сделали, как полагается, и уговаривать их, чтобы они поверили ему на слово, потом он с ними расплатится.
Нет. Первым делом ему предстоит вытащить тело из автобуса, а потом… а потом они должны…
Кто?
Пассажиры автобуса.
Пассажиры просто должны помочь ему добраться до могильщиков, а затем уж он сам будет с ними договариваться и искать место для могилы Рэтсо. (Могилы? Да, Рэтсо мертв, он в самом деле только что скончался. Да, глядь, вот мертвый рядом с тобой.) А затем он будет искать работу. И заниматься ею. Главное, чтобы найти ее. И постепенно он будет собирать монету к монете, чтобы поставить камень на могиле, ничего особенного, никакого шика, просто камень с именем, вот и все: Рико. Не Рэтсо. Он не может правильно написать Рич-чио, но он найдет человека, который с этим справится. Надо будет выбить буквы без единой ошибки, чтобы каждый, кто пройдет мимо, мог сказать:
— О, ты посмотри, кто тут лежит, сам Рико Риччио. Кто пройдет мимо, и кому придут в голову такие слова?
Невозможно представить.
Кто-то же должен, кто может правильно написать их.
Но это не самое важное. Самое важное — это то, что ему предстоит; надо кому-то сказать.
Похоже, что придется переговорить с водителем.
Встав, Джой прошел по проходу и остановился рядом с ним. Склонившись, он глянул на автостраду. Через несколько секунд водитель обратил на него внимание:
— Да, сэр.
— Мой приятель, там, на заднем сиденье, скончался, — сказал Джой, — и я не знаю, как правильно произнести его имя.
Водитель сказал:
— ЧТО ваш приятель на заднем сиденье?
— Мертвый, — сказал Джой. — Мертв, как дверная ручка.
— Вы хотите сказать, что… — Водитель мельком глянул на Джоя и тут же опять уставился на трассу. Посмотрев в зеркало заднего вида, он сбросил скорость, подрулил к правой обочине и остановился. Спрыгнув с сидения, он последовал за Джоем в заднюю часть автобуса, где у него прорезался официальный голос служащего компании: — Все в порядке, ребята, все нормально. В Майами будем меньше, чем через час.
Остальные пассажиры догадывались, что не всё в порядке. Многие из них крутили головами, стараясь рассмотреть, что там происходит на задних сиденьях, но ничего не видели. Те, что сидели поблизости, что-то рассмотрели, но не хотели, чтобы их застали за этим занятием.
Водитель бросил взгляд на Рэтсо и кивнул Джою. Он начал было стаскивать головной убор, но передумал.
— Он ваш родственник? — спросил он Джоя. Джой кивнул.
— Не хотите ли вы закрыть ему глаза? — сказал водитель.
— Закрыть?
— Просто наклонитесь и закройте их. Вот и все.
Джой опустил ресницы на глаза Рэтсо.
— Ну что ж, — смущенно сказал водитель. — Думаю, двинемся дальше, верно? Тут уж ничего больше не сделаешь.
— Да, сэр, — сказал Джой.
Водитель снова обратился к пассажирам.
— Просто небольшая неприятность, ребята, ничего серьезного. Мы будем в Майами… — он глянул на часы, — минут через сорок.
Джой стал перебирать в уме, что ему теперь делать, потом еще раз и в третий раз, пока не убедился, что в настоящий момент сделано все, что было в его силах. А потом он сделал то, что всегда хотел, с самого начала, с самой их первой встречи, когда он увидел Рэтсо в баре «Эверетт» на Бродвее: он приобнял его, чтобы хоть последние несколько миль посидеть рядом с ним. Он знал, что Рэтсо ничего не даст то удобное положение, в котором он сейчас сидит. Оно было нужно только ему. Ибо он испытывал страх, смертельный страх.
Примечания
1
Намек на повесть Р.Стивенсона о докторе Джекилле и мистере Хайде, когда один и тот же человек выступал в двух ипостасях — воплощение зла и олицетворение добра.
(обратно)







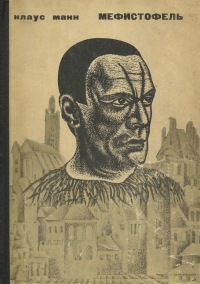
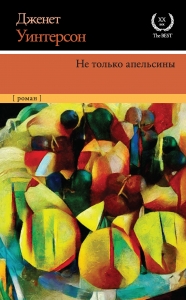
Комментарии к книге «Полуночный ковбой», Джеймс Лео Херлихай
Всего 0 комментариев