Алексей Слаповский Хроника № 13 (сборник)
© Алексей Слаповский, 2014
© «Время», 2014
От автора
Меня всегда смущало, что тексты, написанные в одно время, разбросаны по разным журналам, книгам, сценам и экранам. Получается, как в притче про слона: кто-то щупает хобот, кто-то ухо, кто-то и вовсе хвост, а слон-то один.
На самом деле, что бы я ни писал – романы, рассказы, сценарии и даже стихи (прозаические), это все хроника моей и общей жизни. В ней интересна цельность – хотя бы в пределах года или двух-трех.
И вот родилась идея этой книги, прожитой недавно, только что – надеюсь, не так, как прожиты были книги предыдущие. Здесь все, вернее – самое важное из всего. По крайней мере, мне оно кажется важным.
Сценарий
Сценарий
1
Молодая, красивая, дорогая женщина Нина едет на молодом, красивом, дорогом автомобиле. Район панельных пятиэтажек. Во дворе играют таджикские дети, гоняя мяч на чахлой траве. Трое бомжей в песочнице пьют пиво из большой пластиковой бутыли, чистоплотно обтирая горлышко ладонью перед тем, как передать другому.
Нина выходит из машины, идет к подъезду.
– Не заблудилась, красавица? – кричит один из бомжей.
Кричит не охально, не грубо, даже с некоторой куртуазностью. Тяжкая жизнь научила его, что с людьми лучше общаться вежливо – это безопасней и выгодней.
Нина, оглянувшись и улыбнувшись, набирает номер квартиры.
Слышится женский голос:
– Да?
– Это я, – отвечает Нина.
Зуммер.
Нина открывает дверь, входит в подъезд.
2
В лифте лежит мужчина. Лицом вниз. Куртка-ветровка защитного цвета, мятые штаны, всклокоченные волосы. Двери лифта закрываются, натыкаются на ноги мужчины, открываются, опять закрываются, опять открываются, опять закрываются, опять открываются. Посмотрев на это, Нина решает подняться пешком. Но, сделав несколько шагов, останавливается. Оборачивается, смотрит. Двери закрываются и открываются. Мужчина недвижим. Только ноги при сдавливании их створками безжизненно шевелятся, как у большой тряпичной куклы. Нина подходит к лифту.
– Эй, вы живой? – спрашивает она. – Эй!
Она наклоняется, протягивает руку. Но брезгливо морщится, не решаясь коснуться лежащего. Трогает его ногу носком туфли.
– Вы живой там?
Мужчина мычит.
– Вам плохо? Может, «скорую» вызвать? Слышите меня?
Мужчина шевелится. Поднимает голову. Медленно, очень медленно садится. Ноги остаются в двери, их по-прежнему сдавливает створками. Он смотрит на это и пытается понять, что происходит.
– Вы уж или туда, или сюда, – говорит Нина.
– Помогите, – слабым голосом говорит мужчина. – Мне на пятый.
Он подтягивает одну ногу, потом вторую. Нина входит в лифт.
3
На пятом этаже мужчина выходит из лифта, держась за стенки. Кренится и, чтобы не упасть, цепляется за плечо Нины.
– Э, э, без рук! – противится она, но мужчина держится крепко.
Ей приходится довести его до квартиры. Он шарит по карманам куртки.
– Где-то был… Будьте так любезны… – бормочет он.
– Что?
– Где-то был… Ключ… Давайте поищем…
Нина, отвернув лицо, лезет рукой в его карман, как в банку с пауками. Достает кучу всякой дряни: конфеты, бумажки, денежная мелочь. Находит в этом мусоре ключ, отпирает дверь. Мужчина валится в прихожую, тащит при этом за собой Нину. Еле удержавшись от падения, она отрывает от себя его руку.
– Все, приехали! Есть кто дома, встречайте!
Но никто не встречает, кроме маленького кудлатого песика. Тот радостно виляет хвостом, лижет лицо упавшего хозяина. Мужчина собирается с силами, садится на пол, опираясь спиной о стену. Шарит в карманах куртки, достает плоскую бутылку, отвинчивает пробку, прикладывается к ней. Делает несколько глотков. Ему становится лучше.
– Ай-м сори, – говорит он. – Простите, что затруднил вас. Вы ангел. Но добро не бывает безнаказанным, вы это знаете?
– И чем хотите меня наказать?
– Выгуляйте моего Мотю. Хотя бы минут пять-десять. Он не может ничего делать дома. Так воспитан. У него мочевой пузырь лопнет, но он будет терпеть. Пожалейте собаку.
В это время звонит телефон Нины, она берет трубку.
– Да, я здесь. Скоро буду. Ничего такого, потом расскажу.
А мужчина уже снял со стены поводок с ошейником. Песик Мотя аж закрутился от восторга, подставил шею, мужчина надел ошейник, протянул поводок Нине.
– Плиз! Будьте ангелом до конца!
4
Нина гуляет во дворе с Мотей. Держит поводок на отлете. Мотя остановился у заборчика, поднял ногу.
5
А в окно смотрит подруга Нины – Катя. Женщина около тридцати лет с невзрачным лицом, горло закутано, она покашливает. Очень удивлена, видя Нину. Говорит с ней по телефону.
– Это ты с кем?
– С Мотей, – отвечает Нина.
6
Нина у Кати. Достает из сумочки лекарства.
– Вот. Лечись.
– Спасибо. Я бы и сама… Ты ангел.
– Второй раз сегодня слышу. Никакой я не ангел, просто все равно собиралась к тебе приехать. У тебя Моэм был на английском. «Луна и грош». Захотелось перечитать. В интернете есть, но хочу бумажную книжку.
– Понимаю. Ты про собачку объяснишь? У моего соседа сверху такая.
– Она и есть. Попросил выгулять.
– С какой стати?
– Упал в лифте, обессилел. Алкоголик, наверно.
– Нет, он из приличных. Инженер или даже какой-то ученый. Интеллигент, короче. Жена с ним развелась, отобрала все имущество и квартиру, а эта – его мамы покойной. Как вселился, так и пьет с горя. Допьется – сдохнет. Будет труп лежать и вонять. А потом еще протечет на меня, бррр! – Катя передергивает плечами.
– А ты бы спасла человека по-соседски.
– Ага. Кто меня бы спас!
– Кать, ты все равно одна, вдруг он хороший человек?
– Хороших жены не бросают! Я по-твоему такая конченная, что, кроме алкоголика, никого уже не найду? Да мне по интернету такие красавцы пишут! Просто я очень разборчивая, у меня завышенные требования, а эти козлы сами не знают, чего хотят! Отсюда и проблемы.
И Катя вздыхает, жалея себя и тех козлов, которые не знают, чего хотят.
7
Нина садится в машину, кладет на сиденье том Моэма.
Машина отъезжает.
8
Загородный красивый дом. Летний вечер.
В стильной столовой ужинают Нина, ее муж Иннокентий, мужчина лет сорока пяти, их сын Платон шести лет и горничная, она же воспитательница Платона, Ирина Павловна, женщина лет сорока со строгим учительским лицом. На стол подает добродушная и пожилая тетя Таня. Иннокентий ест и работает: тычет в планшет, что-то просматривает. Рассеянно спрашивает Нину:
– Куда-то ездила сегодня?
– Да так…
Пауза. Молча едят.
– А у тебя как день? – спрашивает Нина.
– Нормально.
9
Поздний вечер, спальня. Иннокентий в постели продолжает работать.
Нина в ванной. Процедуры, очистка лица, кремы, мази.
Выходит. Иннокентий спит, уронив планшет на живот.
Нина берет планшет, кладет на столик. Гасит свет.
10
Утро.
Семья завтракает.
Завтрак похож на ужин – так же сидят, едят, молчат.
Иннокентий готов к отъезду на работу.
Нина целует его в щеку.
– Когда вернешься?
– Как обычно.
Нина смотрит в окно, как отъезжает муж. Звонок телефона. Она берет трубку. Слушает. Говорит:
– При чем тут я? Ну и что? Бред какой-то! Ладно, приеду.
11
Нина приехала к мужчине с собачкой. (Его зовут Юлий. Юлий Петрович. Около сорока лет.)
Нину встречает Катя. Жалуется.
– Послушала тебя, зашла проведать, а он чудит! Узнал, что я твоя подруга, кричит: зови этого ангела, иначе я буду пить до смерти! Вчера ему плохо было, я «скорую» вызвала, так он врачей прогнал!
Увидев Нину, Юлий, лежавший на диване, вскакивает, кричит радостно лающему Моте:
– Молчать!
И торжественно обращается к Нине.
– Нина! Вы мне нужны. Не пугайтесь, я ничего от вас не потребую. С собачкой Катя сходила, спасибо. Нина! Мне надо бросить пить. Я устал. Но мне нужна причина. Для чего бросить? Для себя? Я для себя ничего не хочу. А вот для вас – хочу. И могу. Скажите: Юлий! Меня так зовут. Юлий Петрович, если угодно. Скажите: Юлий, брось пить! И я брошу.
Катя пожимает плечами: ну и просьба!
А Нина, усмехнувшись, говорит:
– Юлий, брось пить!
– Все. Бросил! – говорит Юлий.
Нина видит начатую бутылку возле дивана.
Юлий, проследив направление взгляда, неверными шагами идет к бутылке, поднимает ее двумя пальцами, как нашкодившую кошку, отправляется на кухню и там выливает в раковину. Но после этого хватается за сердце и прислоняется к стене.
12
Через некоторое время Нина и Катя сидят в кухне и пьют чай. На столе разномастная посуда. Все вообще старое, из чьей-то прожитой жизни.
Входит врач «скорой помощи».
– Теперь он будет спать. Потом дадите ему вот это.
Он кладет на стол таблетки и листок бумаги.
– Тут все расписано.
И уходит.
– А кто давать будет? – спрашивает Катя.
– Ты, кто же еще.
– Нет уж! Мне себя в порядок надо привести, я в салон записалась на три часа, а вечером у меня свидание!
– Очередной миллионер в пересчете на белорусские деньги?
– Не миллионер, но очень приличный мужчина. В общем, ради тебя он бросил пить, вот и отвечай теперь за него!
13
Медленно тянется день. Юлий спит на диване. Нина включает без звука телевизор. Потом осматривает содержимое старого книжного шкафа. Достает книгу, садится в кресло, читает. Какие-то звуки. Юлия тошнит.
Нина одной рукой прижимает к лицу бумажный носовой платок, другой возит тряпкой у дивана. Макает тряпку в тазик с водой. И опять трет. Потом долго моет в ванной руки.
Вечер. Юлий просыпается.
Нина подает ему таблетки и стакан воды. Юлий глотает таблетки и жадно пьет воду.
И опять засыпает.
Нина сидит, читает. Смотрит на часы. Прислушивается к дыханию Юлия.
Берет ручку, листок бумаги, пишет номер телефона. Подумав, добавляет: «Нина». Оставляет листок на стуле возле дивана вместе с таблетками и стаканом воды.
Уходит.
14
Она возвращается домой, когда Иннокентий, Платон и Ирина Павловна заканчивают ужин. Платон вскакивает, бежит к матери.
– Мама! Ты где была?
– В самом деле? – интересуется Иннокентий без особого интереса.
– Да так. У подруги.
– У Веры?
– У Кати.
– Как она?
– Нормально. Умерла.
– Бывает.
Нина поднимается по лестнице на второй этаж. До Иннокентия доходит.
– Ты серьезно?
– Да нет. Шутки у меня такие.
Нина в ванной обнюхивает себя, стаскивает одежду, бросает в ящик для стирки.
Стоит под душем.
Камера показывает ее лицо, потом шею, плечи, потом…
15
Пачка листков звучно падает на стол.
Бросивший их генеральный продюсер компании по производству сериалов «Радуга-продакшн» Альберт Григорьевич Савчук, мужчина пятидесяти пяти лет, повадками демократ, на деле диктатор, выносит приговор:
– Гениально, Саша, как всегда. Но не то.
В кабинете Савчука за длинным переговорным столом, стоящим отдельно от начальственного, – тридцатилетний сценарист Саша Огольцов с печальным лицом, креативный продюсер Виктор Мелецкий, тридцать пять лет, энергичен, пылок, горяч, и редактор Лика Влажнова, высокая девушка с высокой грудью и высоким мнением о себе, лет двадцати семи.
Обсуждаются первые эпизоды сценария, который пишет Огольцов.
– Что не то, Альберт Григорьевич? – терпеливо спрашивает Саша.
– Во-первых, героиня. Молодая, красивая, замужем за богатым мужем. Это понятно. Остальное непонятно. Какие отношения с мужем?
– Плохие.
– Где это видно? Покажи! – Савчук ворошит листки, вглядываясь и ища следы плохих отношений героини с мужем.
– Ну, они молчат, не разговаривают.
– И что?
– Вот именно! – подхватывает Мелецкий. – Молчать и думать, Саша, они могут в литературе, а в кино должно быть все видно! И причины, Саша, мотивация! Почему плохие отношения? Кто он? Кто она? Что случилось? К примеру, – не дожидаясь ответа, начинает вдохновенно креативничать Мелецкий, – он приезжает всегда поздно, весь в работе, занят, делает деньги, секса нет, внимания к жене нет! Это зритель сразу поймет, причем любой!
– Мне кажется, если отчуждение, это и молчанием можно показать.
– Саша! – соболезнующее, будто у постели тяжело недужного и при этом не желающего выздоравливать, восклицает Мелецкий. – То, что я предлагаю, еще раз скажу, поймет каждый, а если они будут просто молчать, догадаются далеко не все! Нам нужна крепкая защита от дурака – в каждом кадре, в каждом слове!
– Значит ли это, – чуть напрягшимся голосом спрашивает Саша, – что я должен писать для дураков?
– Уел, Александр! – иронично хвалит Огольцова Савчук. – Убил насмерть, сразил наповал! Не для дураков, а для нормальных простых зрителей! Которые хотят отдохнуть, получить удовольствие, увидеть жизненную, драматическую и поучительную историю! Виктор прав – изобразительность во всем! Плохие отношения – показывать. Почему плохие – показывать.
– Вот именно! – вторит Мелецкий. – С лифтом у тебя великолепно ведь получилось! Жаль – не пойдет.
– Почему?
– Саша, восемьдесят процентов нашей аудитории – женщины. Если герой алкоголик, валяющийся в лифте, – всё, они смотреть не будут, переключатся.
– Может, просто больной? – не перечит Саша, предлагая сразу другой вариант.
– Тоже плохо, – возражает Савчук. – На больных смотреть – какое удовольствие? Ты же все придумал, зачем ты идешь против своего замысла? Что у нас в заявке? – обращается Савчук к Лике.
Лика открывает в своем ноутбуке файл, читает:
– Герой – честный, порядочный человек, которому изменила жена. Он оставил ей все, живет в квартире покойной матери, тоскует. Героиня помогает ему обрести себя. Полюбив ее, он возрождается, становится активным. Он в каком-то смысле творение ее рук. Но предательница-подруга, придя на готовенькое, делает так, чтобы он остался у нее на ночь. Героиня страшно разочарована. Но потом недоразумение разъясняется, он раскаивается в своей ошибке, возвращает любовь Нины…
– Вот! Все ведь ясно! – разводит руками Савчук. – А в реализации – туман. Кто он такой? Инженер не годится, кому сейчас нужны инженеры? Научный деятель – тоже не то. Какой-нибудь бизнес. Но благородный.
– Пусть книжки издает, – предлагает Мелецкий. – Директор небольшого, но крепкого издательства. И интеллигентно, и все-таки бизнес.
– Можно, – кивает Савчук. – А главное – чтобы было видно, за что она его полюбила! Ты сам-то понимаешь, что у тебя вышло? В лифте валяется, пьет, собачку нет сил выгулять – красавец!
– И она должна быть резче, – вставляет Мелецкий. – Гламурная высокомерная стерва, презирающая бедных. Чтобы к финалу было яснее, что она преобразилась. А то сразу ангел, преображаться нечему! Она, видите ли, бомжам улыбается! Не верю, Саша!
– Она человеческая женщина, – Саша пытается защитить героиню, к тому же, ему нравится эта деталь – добрая улыбка незнакомым людям. Сразу виден характер, они же сами всегда твердят, что характер должен быть предъявлен в первых кадрах!
– Неправдоподобно! – категоричен Савчук. – И зачем таджикские дети? Зачем лишняя социалка?
– И бомжи с пивом ни к чему, – добавляет Мелецкий. – Сплошной негатив.
– Точно. Наши зрители, может, сами живут в хрущевках, но видеть хотят благоустроенные дворы и нормальных людей в нормальных квартирах. Подруга Катя, кстати, должна быть тоже симпатичная, зрители некрасивых не любят, просто одинокая, – разъясняет Савчук.
– Разговоров про труп не надо! – добавляет Мелецкий.
16
Так они и продолжают попеременно, но мы уже не слышим, словно выключили звук.
Мы слышим голос Огольцова. Внутренний голос.
– Иногда я их ненавижу – при том, что они, в принципе, не злодеи, вполне обычные производители жидкого телевизионного мыла. Они даже гордятся тем, что делают не просто мыло, а мыло высокого качества. Их можно понять, всякому хочется уважать то, чем он занят. Зато у них всегда можно получить работу, и они в хороших отношениях с крупными телеканалами, это гарантирует оплату труда. А мне нужны деньги. На жизнь, на еду, на одежду, на бензин и, самое главное, на выплату кредита за квартиру. Это мой ужас, это дамоклый меч, как выражается мама моей жены Вари, то есть дамоклов меч, который висит над моей головой и будет висеть еще десять лет, хотя Варя утешает, что я сумею расплатиться раньше. И зачем я в это ввязался?!
17
Варя и Саша собирают вещи, съезжая со съемной квартиры.
– Что-то ты какой-то невеселый! – замечает бодрая Варя.
– Мне тут нравилось. Деревья за окном.
– Ты опупел, любимый? Два года по чужим квартирах шляемся, не надоело? Ты хочешь ребенка?
– Да. Очень.
– И я хочу. Но в съемную квартиру я тебе рожать не буду! Саша, мы с тобой оба перемещенные лица, неужели тебе не хотелось, чтобы было свое жилье? И оно уже есть! Мы уже полноправные москвичи! Мы и так выбрали самый дешевый вариант.
– Двести тысяч долларов.
– Это даром для двушки в том районе! Всего шесть тысяч за метр! Ты сколько за серию получаешь?
– Не знаешь, что ли? Как раз шесть тысяч. Я не в топовом списке. Есть, кто восемь и даже десять.
– И шесть – хорошо! Легко считать: тридцать семь метров – тридцать семь серий! Серия – квадратный метр! – она очерчивает в воздухе руками квадрат. – А в общем всего три сериала по двенадцать серий. Даже если в год по одному сериалу, за три года рассчитаешься!
– Хорошо считаешь, быстро. А жить на что?
– Я тоже буду работать, когда курсы закончу.
18
Голос Саши:
– Варя учится на дизайнера. Вообще-то она художник, Строгановка за плечами, у нее даже был целый зал на выставке молодых художников.
19
В кадре: пустой зал, где висят картины Вари. Варя одиноко сидит на скамье. В зал входит Саша. Смотрит. На картины. На девушку.
– Не знаете, кто автор? – спрашивает Саша.
Варя встает, подходит.
– Вам нравится?
Саша смотрит на нее и уверенно отвечает:
– Да. Очень.
И тут же: поздний вечер в этом же зале. По-прежнему никого. А Варя и Саша стоят в углу и целуются.
20
Голос Саши:
– Варя пыталась пробиться, пыталась продавать свои работы. Но публика не оценила. Как сказал один галерист: для попсы у вас все слишком сложно, а для эстетов слишком просто.
21
В кадре: Варя стоит в подземном переходе у ЦДХ. Там у художников закутки, отсеки, а Варя повесила картины просто на стенку. Покупатели обращают внимание на кучерявые пейзажи, стремительные парусники средь бурлящих волн, невероятно красивых обнаженных девушек, творения же Вари не вызывают ажиотажа. Мало того, подходят двое крепких мужчин из местной художнической мафии, требуют, чтобы Варя удалилась, срывают ее картины, вешают свои кучерявые пейзажи и стремительные парусники, своих невероятных красавиц.
22
Голос Саши:
– Она пошла на курсы дизайна. Недешевые. Зато педагог обещает заказы только от крутых клиентов.
23
В кадре: педагог у огромной фотографии – интерьер особняка. Это Трофим Ефимов – осанистый мужчина-подстарок с томным утомлением во все еще не сытых глазах. Перед ним курсисты: Варя, мужчина средних лет прорабского вида, интеллигентная старушка, молодой человек с ироничным взглядом, который что-то шепчет Варе, но она отодвигается от него, поглощенная лекцией.
24
И опять мы в съемной покидаемой квартире. Варя огорчена.
– Хорошо, я брошу курсы, устроюсь на работу, ты этого хочешь?
– Нет.
– Саша, мы сумеем! Я ведь по максимуму считаю, на самом деле ты же серию можешь за три дня написать!
– Ага. А потом ее три месяца обсуждают и я три месяца ее переделываю.
– Ладно. Аннулируем ипотеку, возвращаем квартиру. Я не хочу, чтобы ты мучился.
– Перестань. Одолеем. Но ты варвар, Варвара.
– А ты гений!
И Варя целует Сашу. Очень нежно.
25
Саша с трудом возвращается в реальность.
– Кстати, название. Другого нет? «Ошибка»? – спрашивает Савчук.
– Да.
– Лучше – «Ошибка Нины», – предлагает Мелецкий. – Женское имя в названии гарантирует интерес женской аудитории.
– Можно, – кивает Саша. Он на все согласен, лишь бы кончилось это мучение.
– Тогда работаем дальше, – произносит Савчук долгожданные слова.
И Саша готов уже встать, но тут Савчук вспоминает, что не дал высказаться Лике.
– У тебя есть вопросы?
Саша хмуро смотрит на Лику.
Та ровным и спокойным голосом добивает его:
– Неувязки смущают. В пятиэтажках такого типа нет лифта. Они вообще мало где в пятиэтажках есть.
26
В кадре: район пятиэтажек исчезает, на его месте возникает многоэтажная махина.
27
– Собаку, – продолжает Лика, – лучше сделать породистой. Тогда нам фирма «Мосфильм-Кинология» обеспечит кастинг нормальный. В смысле профессиональную собаку, дрессированную.
28
В кадре: вместо беспородного песика появляется доберман с благородной осанкой.
29
– У Нины, – продолжает Лика, – лучше будет дочь, а не сын. Лет двенадцать. Симпатичная такая Лолита. Среди зрителей большой процент тайных педофилов, пусть порадуются.
Мелецкий щелкает языком от удовольствия – ему нравится предложение Лики.
30
В кадре: сынок Платон, невинно сидящий, болтающий ножками, испаряется. На его месте двенадцатилетняя кокетливая симпатуля.
31
– А когда Нина ее родила? – сомневается Савчук. – В четырнадцать, что ли?
32
В кадре: у роддома стоит девочка с ребенком на руках.
33
– Я об этом отдельно хотела сказать, – отвечает Лика. – Героине не двадцать семь, как предлагает Саша, а все-таки лет тридцать пять. Учитывая возраст аудитории.
– Согласен, – кивает Савчук.
34
В кадре: Нина на глазах старится. То есть взрослеет. То есть мужает. То есть – как сказать? – женственеет? Бабится?
Становится старше.
35
– Далее, – продолжает Лика. – Имя Юлий слишком вычурное. Далее. Алкоголик или больной, присоединяюсь, это не наш вариант. Просто временно опустил руки.
36
В кадре: Юлий в четком костюме с галстуком стоит, временно опустив руки.
37
– Далее. Основная проблема: непонятно, за что им любить друг друга. Нужен какой-то его поступок. Что-то осязаемое и видимое.
38
Голос Саши:
– Когда-нибудь я ее убью. Она редактор не по должности, а по призванию, обожает править и резать. Я думаю, она даже свои отношения с Савчуком, а они точно есть, тоже редактирует.
39
Савчук и Лика в постели. Савчук старается, Лика говорит ровным голосом:
– Целовать девушку, Альберт Григорьевич, лучше, начиная с губ, а не с груди. Дышите вы неправильно: больше страсти, меньше сопения. Двигаетесь механически, надо разнообразить ритм. Кстати, в любви признаться не помешало бы.
40
Тишина. Савчук, Мелецкий и Лика смотрят на Сашу.
– Есть возражения? – спрашивает Савчук.
– Нет, – отвечает Саша.
41
Саша едет домой на своей дешевой подержанной машине. Он хмур и уныл.
Стоит в пробке.
42
В супермаркете берет бутылку виски. Подумав, берет еще одну, маленькую. И кое-что из еды.
43
Он входит в квартиру. Ту самую двушку, что куплена в кредит.
Здесь идет ремонт.
Двое рабочих сидят и курят. При появлении Саши не спеша встали, взялись за работу.
Саша проходит в маленькую комнатку, где все уже сделано, но слишком много вещей.
Потом пробирается на кухню. Говорит рабочим со стеснительной строгостью:
– Я вообще-то просил не курить в квартире.
– Это пока не квартира, хозяин, а полуфабрикат!
Саша устроился в комнатке с выпивкой и закуской. Но тут появляется Варя. Видит, что Саша угощается, и понимает по-своему.
– Что, приняли?
– Нет.
– Тогда с какой стати?
Саша выпивает рюмку и говорит:
– Скажи, за что ты меня любишь?
– Вот и я думаю, за что?
– Садись, два! А я тебя за что люблю?
– Действительно, за что?
– Я сам не знаю. И это неправильно. Придется нашу жизнь переписать заново!
Варя берет бутылку и ставит ее в шкаф.
– Хватит сидеть и страдать! Поедем со мной, сегодня у нас небольшой корпоративчик. Первая группа выпустилась и получила дипломы.
– Мне некогда. Надо работать.
– Саша, так нельзя! Надо радоваться жизни, а ты все время какой-то напряженный. Ефимов наш, между прочим, не только дизайну учит, а еще психологии общения с клиентами. Спокойствие и уверенность, уверенность и спокойствие. И улыбка.
– А где клиенты, не вижу?
– С людьми вообще! Поехали, развеешься хоть немного!
– Я страшно весел. Разве незаметно?
– Не очень.
– Переписать! Всем должно быть видно. Что весел. И почему весел. Веселье без причины – признак дурачины. Чревато неполучением гонорара.
– Что, не хотят платить?
– Пока не сдам первую серию – ни копейки. А через неделю выплата кредита.
– Ну, еще целая неделя, ты успеешь! – бодро говорит Варя. – Поехали!
– Если я поеду, то не успею!
– Капризный ты стал, – упрекает Варя.
– По правилам ты должна на меня страшно обидеться и с кем-нибудь из-за этого переспать. Тогда будет драма. Все видно.
– Дурак ты.
И Варя, действительно обидевшись, хлопает дверью.
Саша достает бутылку. Смотрит на нее. И ставит обратно.
Открывает ноутбук.
Начинает стучать по клавиатуре.
44
Нина в строгом изысканном костюме подъезжает к многоэтажному дому. Русские дети во дворе играют в шахматы. Два бодрых пенсионера азартно режутся в пинг-понг. Три бабушки сидят на лавочке с томиками Чехова в руках.
45
Нина в подъезде. Идет к лифтам. Вслед за нею – невесть откуда взявшийся тип подозрительного вида. Он входит в лифт вместе с Ниной.
46
В лифте он со странной улыбочкой посматривает на Нину, а потом нажимает на кнопку аварийной остановки и достает нож.
– Гони деньги и брильянты – останешься жива! – говорит он добродушно.
– Я высокомерно и презрительно игнорирую тебя, криминальный ублюдок без следов не только высшего, но даже и среднего образования в глазах!
– Ты игнорируй, а деньги гони! – требует тип, слегка озадаченный, но упрямый.
– Оставь меня в покое, урод!
47
Юрий, высокий и приятный мужчина около сорока лет, стоит и ждет лифта. Видно, что он грустит о чем-то. Прислушивается. Женский громкий голос его встревожил. Он бежит вниз. Быстро, но элегантно.
Слышит за дверьми лифтовой шахты:
– Не трогай меня, я сказала!
Юрий мощным рывком раскрывает двери. Видит лифт, остановившийся почти на уровне этажа, немного недоехав. Раскрывает еще одним рывком двери лифта. Как раз вовремя: тип вознамерился порезать ножом лицо Нины. Юрий выставляет ладонь, нож вонзается в нее. Юрий двумя ударами укладывает типа на пол, выводит Нину, потом выволакивает типа, отправляет лифт вверх нажатием кнопки, еще раз открывает дверцы лифтовой шахты и спихивает туда тело грабителя. Ждет. Услышав веский шмяк (с таким звуком падает что-нибудь тяжелое в мусоропровод), кивает головою, одобряя. А Нина видит его руку, всю в крови.
– Из-за меня вы сильно пострадали!
– Да пустяки. До свадьбы заживет.
– Вы разве не женаты?
– Был. Но это
история печальная, увы.
– Вы побледнели от потери крови!
– Скорей от горя. Но перевязать
меня, конечно, полагаю, нужно.
48
Они в квартиру входят. Небольшая —
Примерно метров где-то полтораста,
Но все просторно, чисто и светло.
Вот Нина перевязывает руку.
И тут звонок. Ее подруга Катя
Обеспокоилась задержкой.
– Где ты? —
Она тревожно спрашивает Нину.
– Я скоро буду, подожди чуть-чуть.
Тем временем, за голову держась,
Садится Юрий в кресло, а к нему
Породистый красивый доберман
Воспитанно приластился, при этом
Он мелодично, но нетерпеливо
Поскуливал. И Юрий попросил:
– Не знаю, как зовут вас?
– Просто – Нина.
– Знакомы будем, Юрий. Очень рад.
Вы не могли бы, Нина, оказать,
Услугу небольшую мне и Маку?
Он у меня до ужаса застенчив,
И никогда такого не бывало,
Чтоб он в квартире, так сказать… нассал.
49
Саша пишет и хохочет. Хохочет и пишет. Ударяет по клавишам так, будто мстит им за что-то.
Но вдруг застывает. Остывает. Читает, что написал. Кривится.
И решает все-таки выпить.
Он пьет, закусывает, перечитывает.
И опять начинает писать.
50
Нина в супружеской спальне. Она зажигает свечи, надевает полупрозрачный пеньюар, включает тихую лиричную музыку. Ждет.
За дверью грохот и ругательства.
Вваливается пьяный муж.
– Лампочку поменять могла электрика вызвать? – бурчит он. – Я ё… – пи-пи-пи– …нулся в коридоре! Ни хера не делаешь все равно! Чё смотришь, как солдат на блошь? То есть блоху. То есть вошь. Ха! Хм. Блоха и вошь – блошь. Кто придумал? Я. Я умница! Короче, в банке, где я работаю заместителем управляющего и гребу офигенные бабки, злоупотребляя и жульничая, был маленький сабантуй. Отмечали успех хитроумной махинации, которую мы провернули с обманутыми вкладчиками. Это что за иллюминация?
– Сегодня годовщина нашей свадьбы, – грустно говорит Нина. – Хотела провести ее с тобой. Но, вижу, для тебя твои делишки, твое бабло важнее, чем жена!
– Мое бабло – оно твое же, дура! И вообще, мне на тебя плевать!
Иннокентий действительно размахивается всем телом и плюет на Нину.
51
А Саша прекращает работу. И плюет в монитор. Он уже сильно пьян.
Слова в мониторе превращаются в лица. Лица персонажей. Саша плюет в них и кричит:
– Попал! В глаз тебе! В нос тебе! В лоб! Ура!
52
Вернувшись поздно ночью, Варя видит Сашу спящим возле стола на полу. Она тормошит его, раздевает, тащит к постели. Саша валится, что-то мычит.
Через некоторое время Варя тоже ложится. Смотрит в потолок.
Звонит ее телефон. Варя смотрит на дисплей. Протягивает руку. Медлит. Отключает телефон.
По щеке скатывается слеза.
Саша во сне поворачивается, обнимает ее.
Варю от густого пьяного дыхания покоробило, она сбрасывает Сашину руку и, взяв ладонью за лицо, отворачивает его голову.
53
Саша в кабинете Савчука.
– Не понял? – удивлен Савчук.
– Ну, я как-то охладел к этой истории, – запинаясь, объясняет Саша. – Знаете, эта бесконечная любовь меня как-то… У меня есть другой сюжет, я вкратце расскажу, хотите?
Савчук явно не хочет, но Саша уже торопливо рассказывает.
– Я давно это придумал, еще когда учился. Называется – «Безмолвие». Это, правда, скорее кино, чем сериал, но вы же сами говорили, что хотите сделать кино и ищете историю. Значит, в центре семья глухонемых.
– Нет.
– Что?
– Семья глухонемых – сразу нет.
– Альберт Григорьевич, вы зря пугаетесь, это не арт-хаус какой-то, вполне понятная история! С интригой!
– Верю. Вот закончим сериал – и обсудим. Напоминаю, Александр Николаевич, канал принял заявку. Вашу заявку. Восемь серий о любви, рабочее название «Ошибка». Или «Ошибка Нины», это лучше, в самом деле. Они ждут первую серию. И только после этого заключат с нами договор о производстве. Такие вот они теперь драконы. Если мы через две недели не предъявим серию, то не попадаем в сезон, это ведь летом надо снимать. И они договор заключать не будут. Две недели, Саша. А потом целых два месяца на остальные семь серий! Отличная, оригинальная история, что тебя смущает?
– Да как сказать… Что-то тут не мое.
– Все твое. Все ваше, Александр Николаевич, вы у меня лучший диалогист и мастер психологических нюансов! Блистайте на здоровье!
– Хорошо… А нельзя авансом не очень большую сумму?
– Саша, нет договора – нет денег. Свои средства у нас все в деле. Я собственные деньги в два проекта доложил, в долги влез, сам у тебя попросить хотел!
– Извините… Понимаю…
54
Саша дома. В кухне. Плита закрыта полиэтиленом от пыли. Он поднимает, осматривает кастрюли. Потом заглядывает в холодильник. Звонит Варе. Говорит сердито, но негромко – он вообще не умеет повышать голос.
– Послушай, я впахиваю с утра до вечера. Завтракаю бутербродами, ладно. Ужинаю тоже. Но на обед я хотя бы могу рассчитывать? У тебя занятия три раза в неделю…
Варя перебивает его, что-то говорит.
– Ладно, – отвечает Саша. – Когда будешь?
55
Взяв тарелку с бутербродами и кружку кофе, он усаживается за стол работать.
Стук в дверь, в комнату заглядывает ремонтник.
– Хозяин, мы штробить будем сейчас!
– И что?
– Ничего, предупреждаю: шумно будет.
– Вытерплю.
– Хорошая у тебя работа – сиди, пиши!
– Да.
За стеной страшный шум: долбят стену, штробят – выдалбливают в бетоне канавки для проводов.
Саша работает.
На мониторе крупно:
СЦЕНА 27. ИНТЕРЬЕР. КАФЕ. ДЕНЬ.
56
Юрий и Нина сидят в кафе. Юрий посматривает на Нину, помешивая ложечкой кофе.
(Машинально и Саша помешивает кофе.)
Поверх изображения появляется надпись:
ЮРИЙ
(робко)
Нина…
Юрий робко говорит:
– Нина…
Слово «робко» стирается. Пишется слово «нерешительно».
Юрий нерешительно говорит:
– Нина…
Слово «нерешительно» стирается. Пишется: «улыбаясь, с наигранной смелостью».
Юрий говорит, улыбаясь, с наигранной смелостью:
– Нина…
– Да?
– Я мог бы произнести тысячи разных слов. Я же издатель, причем читаю то, что издаю. Как только люди не объясняются в любви! Но все-таки лучше самых простых слов «я тебя люблю» никто ничего не придумал.
– Вы хотите объясниться в любви?
– Да, собственно, уже объяснился.
57
Саша со стуком закрывает ноутбук.
Звонит Варе.
Ее голос:
– Саша, я занята, перезвоню!
Саша просматривает в телефоне список контактов.
Видит: «Лена Ласкина». Решает ей позвонить.
Слышит:
– Огольцов, неужели ты? Откудова звоним? Из Каннов, из Ниццы?
– Что делаешь?
– Есть предложения? – догадливо спрашивает Лена.
58
Саша в гостях у Лены Ласкиной, бывшей своей сокурсницы.
Они сидят в кухне, выпивают и беседуют по душам.
– Я уже пятый раз успешно продаю один и тот же сюжет: попранная добродетель! – рассказывает Лена. – Провинциалка Лиза приезжает в Москву, устраивается в массажный салон, влюбляется в богатого красавца, он ее обесчещивает, она рожает от него ребенка, и тут он понимает, что любит ее!
59
В кадре: девушка Лиза в массажном салоне. Ее обесчещивает богатый красавец. Возможно, прямо на глазах у всех. Она рыдает. Он равнодушен. Она рожает. Красавец встречает ее у роддома с цветами. Говорит:
– Я понял, что люблю тебя.
60
– Или, – рассказывает Лена, – москвичка, но скромница Лиза приезжает к родственникам в провинцию, в нее влюбляется местный начальник-паучок, обесчещивает, она топится, ее спасают, паучок понимает, что любит ее!
61
В кадре: девушка Лиза (та же актриса) за столом в саду – с родственниками. В сад, ломая забор, въезжает на джипе начальник-паучок. Сладострастно смотрит на Лизу. Его подручные волокут Лизу к джипу. Паучок обесчещивает ее на берегу реки. Лиза топится. Ее спасают. Паучок в больничной палате с цветами.
– Я понял, это самое. Типа, что тебя люблю. Конкретно.
62
– Да, – говорит Саша. – Это точно.
– Что?
– Всё.
– А будет еще хуже! – обещает Лена. – Ты вот свой гениальный сценарий, наверно, так и не пристроил. «Молчание» который.
– «Безмолвие».
– Я помню. Роскошная идея. Все вдруг онемели и оглохли.
– Нет. Это будет искусственно, это Стивен Кинг. При всем к нему уважении – нет, не так. Просто – семья глухонемых. Переезжают в небольшой город – отец получил выгодную работу. До этого у них был свой круг общения – такие же люди. Ну и вообще, адаптировались уже давно, все к ним привыкли. А теперь все иначе. Дл местных жителей они – как инопланетяне. Их не понимают. Кто-то смеется, кто-то сочувствует. Новые отношения. Любовь дочери к местному красавцу. Ну, и так далее.
– Гениально! Метафора: никто друг друга не слышит и не понимает! «Страна глухих»!
– Это было.
– Да, точно. Тогда «Страна немых».
– Нет. «Безмолвие». И дело не в том, что никто не видит и не слышит. Нечего сказать, вот в чем дело. А то, что говорится, можно спокойно пропустить. Выключить звук.
– Немое кино, отлично!
– Да, там все будет через героев, а они же не слышат. Поэтому немое.
– Класс! Но про что все-таки? Помнишь, Звияжский нас долбил этим вопросом: «Про что?».
– Все кино – про любовь. Если не про любовь – не кино.
– Изрекаешь, как Мелкиян. Но Мелкиян не так говорил, он говорил: все кино – про свободу.
– Любовь – высшая форма свободы.
– Согласна! – кивает Лена, выпивает и тут же возражает себе и Саше. – Не согласна! Какая же в любви свобода? Это, наоборот, страшная зависимость! Уж я-то знаю, поверь!
– Свобода от себя, – уточняет Саша.
Лена морщит лоб.
– Еще не поняла, но догадываюсь. Запомню, а думать об этом буду завтра. Любовь, да, ты прав. Помнишь, как я тебя любила?
– Ты всех любила.
– А тебя больше всех. Не веришь?
– Верю.
63
Саша едет в троллейбусе. Четверо подростков на задней площадке гогочут, переполненные бессмысленной энергией, пихают друг друга, задираются, орут матом.
Саша достает из кармана куски ваты, запихивает в уши.
Звуки исчезают.
Впереди сидит симпатичная девушка. Читает.
Саша достает телефон, пишет что-то, потом встает, идет к девушке, садится напротив и показывает ей телефон.
Там надпись:
«Извините, я немой, но очень хочется пообщаться».
Девушка смотрит подозрительно.
Саша добавляет:
«Это не шутка».
Девушка берет его телефон, пишет:
«Как вас зовут?»
«Паша», – пишет Саша.
«Очень приятно, Аня», – пишет девушка.
«Мне тоже, – пишет Саша. – Может, сходим куда-нибудь?»
«Уже поздно».
«Тогда завтра?»
«Надо подумать».
«Думайте. Даю 0,5 минуты)))»
«Я уже приехала. До свидания».
Троллейбус останавливается, девушка отдает телефон и выходит.
Саша вскакивает, идет к дверям, но не успевает – они закрылись.
64
Саша открывает дверь комнаты, крадется. Раздевается. Чуть не упал, запрыгал на одной ноге. Варя открывает глаза.
Он садится на край постели.
– Почему не спрашиваешь, где я был?
– Где ты был?
– Не скажу.
– Ладно.
– Ее зовут Аня.
– Красивое имя. Ложись спать.
– Что? Я тебя не слышу. А ты меня слышишь?
– Часто пить стал, Саша, тебе не кажется?
– Я тебя не слышу!
– Не кричи.
– Я тебя не слышу! И ты меня не слышишь! Потому, что мне нечего сказать! Понимаешь?
– Понимаю.
– Как ты можешь понимать, если ты не слышишь?
65
За столом ужинают Нина, Иннокентий, их дочь Настя, Ирина Павловна. Они переговариваются знаками.
Тетя Таня подает и ворчит, когда ее не видят:
– Вот нанялась сдуру к глухомани! Сама немтыркой сделаешься с ними! Черт их знает, чего они там шушукаются? Может, про меня? Очень мне это приятно!
66
Саша сидит перед ноутбуком. В нем лицо Лики.
– Не пойдет, Саша, – говорит она. – И ты сам это знаешь. Зачем тратить время?
67
За столом ужинают Нина, Иннокентий, их дочь Настя, Ирина Павловна. Тетя Таня подает и сокрушается:
– Ниночка, совсем не ешь ничего! Что с тобой?
– Влюбилась! – хихикает Настя.
– Да, – говорит Нина. – Иннокентий, ты слышишь?
– Конечно. Это хорошо.
– Что?
– Всё хорошо.
– Я влюбилась.
– Бывает.
Настя смеется, Ирина Павловна склоняется над тарелкой. Тетя Таня приложила руки к груди.
– В чем дело? – не понимает Иннокентий.
До него, как всегда, доходит с опозданием. Он откладывает планшет. Спрашивает Ирину.
– Это такие шутки сегодня?
– Я влюбилась в мужчину старше тебя, беднее тебя, некрасивее тебя, – чеканит Нина. – Но он меня видит, а ты нет. Он меня видит! А я увидела его. И влюбилась.
– Мам, ты правда, что ли? – Настя становится серьезной. – Ты нас не пугай!
– Ты уже взрослая, Настя. Есть кто-то, кто тебе нравится больше других?
– Вообще-то да.
– Целуешься с ним?
– Нина Валентиновна! – Ирина Павловна поднимает голову: она не может не вмешаться, это серьезный воспитательный момент. – Нельзя спрашивать у детей такие вещи!
– Почему? – удивляется Настя. – Можно. Да, целовалась. Он умеет, ему пятнадцать уже. Он меня даже на секс разводил, но я дала себе слово: не раньше четырнадцати.
– Сколько интересного за один вечер! – произносит Иннокентий.
– Теперь скажи, Настя, – продолжает Нина, – кого ты терпеть не можешь из мальчиков?
– Веньку рыжего. Он наглый хам и у него из ушей воняет.
– Ты бы поцеловалась с ним?
– Даже за тыщу баксов – нет!
– Значит, ты понимаешь, что такое любовь? С одним можешь, с другим нет. Вот это со мной и произошло.
– Я не наглый хам и у меня из ушей не воняет, – Иннокентий пытается все перевести в шутку.
– Тем хуже. Мне было бы легче, если бы воняло. Короче, я устала жить так, как вам надо. Я хочу пожить так, как я хочу.
И тут не выдерживает тетя Таня.
– Да чего тебе еще не хватает, дурочка? – причитает она. – Такой дом, такой муж, такая дочка!
– Чего не хватает? Счастья!
Все застывают.
68
Саша смотрит в монитор.
Думает.
Пишет, бормоча:
– Иннокентий медленно встает, бросает на стол салфетку, медленно идет к лестнице, медленно поднимается.
69
В столовой Иннокентий встает из-за стола, бросает салфетку, идет к лестнице.
Но вдруг останавливается, поворачивается, говорит, обращаясь куда-то в сторону:
– Не может этого быть! Вот так взял и ушел?
В углу в кресле сидит Саша. Вопрос – к нему.
– Да, – говорит Саша. – Встал и ушел. Чтобы не наговорить лишнего.
– Никуда я не уйду, пока не выясню, что к чему! Ты бы ушел?
– Конечно.
– А я нет! Я другой! Я привык все проблемы решать на месте и сразу!
– Я знаю тебя лучше, чем ты сам.
– Неужели? А чем я занимаюсь? Ты меня банкиром сделал, а что тебе известно о банковской работе? Что такое агрегирование? Форфейтинг? Кастодиальные услуги?
– Это несложно узнать, – Саша открывает ноутбук.
– А без своей швейной машинки ничего не можешь? Ручками, ручками? Гуглить любой дурак умеет!
– Он вообще ничего не знает! – слышится голос из другого угла.
Все поворачиваются и видят Юрия.
– Юлий, что ты здесь делаешь? – удивлена Нина.
– Мы все в одном месте – в его голове, – отвечает Юлий, он же Юрий. – Но все страшно изуродованные и полуживые. И, кстати, Юлий, Юрий – мне эти имена не нравятся. Я буду Виктор.
– Ты будешь носить то имя, какое я тебе дал! – жестко реагирует Саша.
– Виктор я! И не отвлекайся от сути. Половину серии уже написал, а что ты о нас знаешь? Я – издатель! Ты в издательстве хоть раз был?
– Я пишу про личные отношения, работа не так уж важна.
– Да все важно! – возражает Юрий-Виктор. – Все в жизни важно! И про отношения ты тоже наврал!
– Согласна, – говорит Нина. – Допустим, я влюбилась в Юлия. Или Юрия. Или Виктора. Но с какой стати? Чем он меня пленил?
– И ты туда же? – огорчается Саша. – Ты женщина, должна знать, что любовь – чувство спонтанное и необъяснимое.
– С какой стати на ты, во-первых? Мы знакомы?
– Еще как! Я с тобой почти месяц живу.
– Еще и с ним? – поворачивается к жене Иннокентий.
– Размечтался! – презрительно говорит Нина, глянув на Сашу. – Ни с кем я не живу, Кеша, кроме тебя. И вы, господин сценарист, совершенно не разбираетесь в женщинах. На самом деле любая нормальная женщина знает, за что она любит мужчину.
– Конечно! – подтверждает Настя. – Я вот точно знаю, за что своего Димыча люблю. Хотя с родителями это обсуждать не буду. Это вы, типа того, хотите современную такую пацанку, что ли, изобразить? – спрашивает она Сашу. – Продвинутую такую девушку, которая про секс прямо запросто с мамой говорит? У нас в классе таких припадочных ни одной нет!
– Дочь моей знакомой – говорит! – защищается Саша. – Я тебя с нее списал!
– Вы меня с меня списывайте, а не с чьей-то дочери!
– И меня изобразили какой-то воблой! – вступает Ирина Павловна. – Фанерная гувернантка!
– Вы не фанерная, у вас есть чувства, вы втайне любите Иннокентия.
– Да уж догадалась, куда вы клоните! Не люблю я его, у меня дома муж замечательный!
– Тогда не будет конфликта!
– Конфликт ему нужен! – встревает тетя Таня. – Порядочную женщину изменить заставил, меня рваться на две части – и за Нину переживаю, и за Иннокешу! Да еще изображаю какую-то крестьянку, а у меня, между прочим, высшее образование и три языка, просто на пенсии скучно, живу неподалеку, умею готовить, не считаю зазорным помочь приятной, вежливой семье!
– Вы живете здесь, в доме, в своей каморке, вы приехали из маленького города, скоро вас навестит дочь, и у нее с Иннокентием будет роман! – объясняет Саша.
– Что, правда? – приятно удивлен Иннокентий. – И красивая девушка?
– Кеша, не наглей! – с улыбкой, но грозно, предупреждает Нина.
– Я не виноват, как автор скажет, так и будет.
– Только что ты не соглашался!
– Остынет все, кушайте! – переживает тетя Таня.
– А мой рабочий день кончился! – встает Ирина Павловна.
– А я пойду в бассейн! – говорит Настя.
И все вдруг исчезают.
Саша остается один.
Подходит к столу. Хватает что-то и жадно ест. Оглядываясь, заворачивает в салфетку и сует в карман пирожки.
70
Саша перед монитором. Сидит, закрыв лицо ладонями.
Принюхивается.
Открывает лицо – перед ним блюдо с пирожками.
А на голове и на плече руки Вари.
– Попробуй, – говорит она. – Пока горячие.
Саша кусает пирожок. Жует. Целует руку Вари, прижимается к ней щекой.
71
Саша стоит на светофоре. Смотрит на соседнюю машину. А там Нина.
Саша сигналит, машет рукой. Она смотрит, пожимает плечами. Трогается.
В плотном потоке машин Саша преследует Нину. На своей таратайке он не догнал бы ее мощный автомобиль, если бы не пробки.
Ей не нравится это преследование, она оглядывается, резко сворачивает, перестроившись из второго ряда. Саша успевает повернуть за ней, едва не столкнувшись с маршруткой.
– Ездит научис, чайник нищасни! – кричит из маршрутки водитель.
Саша продолжает погоню.
Нина останавливается возле инспектора ДПС, выскакивает, что-то говорит ему, показывая на Сашу.
Тот поднимает жезл, Саша останавливается. Инспектор подходит.
– Женщина жалуется, что вы ее преследуете.
– Она моя героиня вообще-то!
– Очень приятно, но ты – не мой герой! – говорит Нина.
Садится в машину и уезжает.
– Документы покажем! – требует инспектор.
72
Саша входит в кабинет, где его ждут Савчук, Мелецкий и Лика.
– Что случилось? Раньше ты не опаздывал, – упрекает Савчук.
– Пробки.
– Ну что ж, начнем.
И начинается.
– Все уже начало складываться, Саша, – говорит Савчук. – Зачем ты коверкаешь своих героев? Была понятная домработница, понятная воспитательница, а ты домработнице высшее образование присобачил. И воспитательницу любви лишил – зачем? Это было симпатично: тайно влюблена в хозяина.
– То есть – конфликт! Краска! – растолковывает Мелецкий.
– И Нина когда наконец скажет мужу о своей любви, мы же планировали взрыв? – интересуется Лика.
– Действительно! – поддерживает Савчук. – Женщина не выдерживает и все выдает прямым текстом. И по драматургии хорошо, и по жизни верно, это в ее характере.
– Вообще-то все так и было, – признается Саша. – Но герои стали сопротивляться. Я чувствую – начинается неправда. Не любит мой Юрий Нину, да и она его.
– Как это они не любят? – удивляется Мелецкий. – Все в твоих руках, Саша, надо – полюбят!
– Виктор утрирует, – считает необходимым поправить Лика. – Конечно, волюнтаризм не нужен, герои должны вести себя естественно. Но, если они друг друга не полюбят, о чем вообще тогда история?
– Понимаете… – Саша говорит медленно, ищет слова. – Да, ее заинтересовал этот человек. Одинокий. До сих пор любящий изменившую жену. Думающий. Интересный. Он ей близок. И она ему близка. Они становятся лучшими друзьями. Но муж-то этого не поймет, он не верит, что бывают такие отношения. И ревнует. Подозревает. Это ее оскорбляет, возможно, она на время уйдет. Но не к Виктору.
– Какому Виктору? – напрягается Савчук.
– Герою не понравилось имя Юрий. И Юлий тоже. Он хочет быть Виктором.
– Ты серьезно? – Лика смотрит на Сашу, как психиатр на пациента.
– Вполне. Над Ниной я тоже думаю. Скорее она Арина. Не знаю, почему.
– Потому что родители так назвали, – раздается голос.
Саша оглядывается и видит Нину. Она же Арина.
Все тоже смотрят в угол – там напольный кондиционер.
А потом переглядываются между собой.
Саша продолжает:
– Это что-то новенькое, согласитесь. Не адюльтер, нет, люди с высокими понятиями о чести, долге, нравственности! А вокруг те, кто этого не понимает. Кто привык расшифровывать отношения мужчины и женщины только одним ключом.
– Саш, тебе сколько лет? – поражается Мелецкий. – О нравственности говорит! Ты серьезно веришь, что между мужчиной и женщиной может быть дружба? Без секса?
– Да.
– Хватит теории, – пресекает Савчук. – На самом деле спорить не о чем. Есть утвержденная каналом заявка. Есть наши договоренности. Есть сроки. А тебя, Саша, все время тянет куда-то в сторону.
– Пожалуй, – признает Саша. – Может, я попробую продвинуться до конца серии? С учетом замечаний?
– Извини, сначала обсудим завязку, расстановку, событие начала. Первый акт.
– Хорошо.
Саша устал, Саша на все согласен.
Он выходит из кабинета вместе с Мелецким.
И говорит ему:
– Слушай, Виктор, у меня тут выплата по кредиту…
– А у меня по трем! – хвастается Мелецкий. – Дом, машина и квартира в Праге.
– Да мне немного надо.
– А мне много! Извини, Саша, я взаймы принципиально не даю. Особенно тем, с кем нахожусь в деловых отношениях. Тебе же будет лучше. А то начну тебе замечания делать, а ты, вместо того чтобы поспорить, будешь соглашаться – потому что должен.
– С вами поспоришь! – замечает Саша.
– А что, мы разве давим? – удивляется Виктор.
73
Саша в машине.
– Что у тебя с двигателем? Бензином воняет! – слышит он голос.
Поворачивает голову: рядом с ним – Нина. То есть Арина.
– Оставь меня в покое, – говорит он.
– Это ты меня оставь. Дыхнуть не даешь, все время обо мне думаешь. Знаешь, в чем твоя проблема? Почему твой Юрий, он же Виктор, не может меня полюбить? Потому что ты меня не любишь!
– Не только не люблю, я тебя терпеть не могу!
– Это заметно. Ты ведь ничего не знаешь о моей жизни. Ты обреченный лузер. Ты вообще хоть раз был в нормальном доме? Или только издали видел, если по Рублевке проезжал?
– Везде я был!
– Мне-то не надо врать, я знаю тебя не хуже, чем ты меня. Вернее, лучше. Ладно, приглашаю в гости.
74
И Саша оказывается в особняке. Арина водит его по дому и показывает.
– Это гостевые спальни. Бильярдная комната. Тренажерный зал. Кабинет. Наша с Иннокентием спальня. Комната Насти. Привет, Настенька, что делаешь?
– Да так, играю, – говорит Настя, сидящая за компьютером.
Арина ведет Сашу дальше.
– Это библиотека. Это наш маленький музей – картины, фарфор. Это гостиная, столовая, кухня. Там подвал. А вот – бассейн.
Саша и Арина – в большом помещении с бассейном, с застекленной крышей.
– Знаешь, – говорит Арина, – ты в целом прав, с какой стати мне влюбляться в какого-то мелкого издателя? Что у нас общего? Но и они правы: просто дружить я с ним тоже не буду. Твой ужас в том, что я довольна своей жизнью. Мне все нравится. Я живу, как хочу. Делаю, что хочу. В отличие от тебя.
– Неправда.
– Правда. Ты вот хочешь написать свой гениальный сценарий про безмолвие. Так пиши! Ты десять лет его обдумываешь, сядь и напиши!
– А жить на что? Кредит за квартиру с чего выплачивать? Кстати, взаймы на недельку…
– Все ты врешь! – смеется Арина. – На жизнь ты бы как-нибудь заработал. А квартира – кто тебе велел соглашаться? Что тебе дороже – твой замысел, твое желание делать что-то настоящее или какая-то квартира?
– Но Варя… Она ребенка хочет, а условия…
– Если женщина хочет ребенка, она его в пустыне родит! В юрте! В яранге на Северном полюсе! Могла бы помочь, могла бы тоже работать! У меня на руках была мама-инвалид и два младших братика-близняшки, я сиделкой работала, какашки из-под лежачей старушки вычищала! Там меня Иннокентий и увидел, кстати, это его двоюродная бабушка была.
– Допустим, – сердито говорит уязвленный Саша. – А сейчас у тебя что? Спа, массаж, салон красоты, бутики, машинки красивые, светские приемы, чем ты живешь?
– Жизнью я живу! От меня радость всем. В том числе мужу и дочери. И вот этого ты мне простить и не можешь – что я такая радостная, позитивная, обалденно красивая и при этом не твоя!
– Раздевайся! – приказывает Саша.
На экране крупно ремарка:
АРИНА РАЗДЕВАЕТСЯ.
– Не буду! – отказывается Арина.
Саша усмехается. На экране опять:
АРИНА РАЗДЕВАЕТСЯ.
И Арина раздевается.
А потом начинает раздевать Сашу. Жарко целует, шепчет:
– Я тебя обожаю, ты лучший, я сделаю все, что ты хочешь!
Они ложатся на краю бассейна, на откуда-то взявшуюся пушистую шкуру неведомого зверя.
Но тут раздается пронзительный звук.
75
Это сигналит машина, стоящая за машиной Саши. Зажегся зеленый свет светофора, а Саша задумался.
Он встряхивает головой, трогается с места.
76
Ужиная, Саша говорит Варе:
– Что-то ты меня балуешь. Не только обед, но и ужин. Докатишься до того, что будешь завтраком кормить.
– Никогда. Ты встаешь в семь, а для меня это космическая перегрузка. Не раньше девяти.
– А занятий, что ли, у вас нет? Ты два дня дома.
– Трофим болеет.
– Это кто?
– Ефимов. Имя у него такое – Трофим.
– Трофим Ефимов? Если бы в сценарии, выглядело бы нарочито. А в жизни все бывает. И серьезно болеет?
– Да нет, завтра уже опять занятия.
– Варь, такое дело. Завтра выплата кредита. Можно, конечно, отсрочку попросить, как это называется…
– Реструктуризация. Плохо влияет на кредитную историю.
– Знаю. Короче, Трофим ведь мужчина при деньгах, как я понимаю…
– У него я просить не буду!
– Почему?
– Он мой преподаватель, Саша, это неудобно!
– А я у своих продюсеров прошу – мне удобно?
– Ты просил?
– Да. Не дали. У всех просил. Хоть укради. Знать бы – как.
Саша мечтательно смотрит в пространство.
Представляет.
77
Саша – у банка. Наблюдает. Смотрит на часы. Подъезжает инкассаторская машина. Два инкассатора выносят мешки. Саша идет мимо, ловким движением бросает небольшую петарду. Она взрывается в стороне, инкассаторы падают на землю. Саша хватает один из мешков, садится в свою машину и благополучно отъезжает.
На экране титр: «Этот эпизод сценарист Огольцов позаимствовал из фильма “День сурка”».
78
Ночь. Варя обнимает Сашу.
– Не огорчайся, что-нибудь придумаем.
– Что?
– Не знаю… Может, у Трофима, в самом деле, попросить? Что в этом такого? Да?
– Абсолютно ничего.
– Я тебя люблю, – говорит Варя и обнимает Сашу.
И смотрит куда-то в темноту через его плечо.
79
В кафе – Саша с ноутбуком, за его столиком сидят столиком Арина и Виктор.
Саша пишет и пьет чай, а они говорят. Очень быстро и формально.
– Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего мужа, люблю сына (Саша торопливо стирает, пишет заново, Арина исправляется)… люблю дочь, люблю свою жизнь, но в последнее время ощущение, будто что-то мешает, будто я пытаюсь что-то вспомнить, или нет, так в детстве у меня было, я любила сидеть за столом с родителями и слушать, ничего не понимала, но мне казалось – еще немного, и я пойму.
Саша бормочет:
– Про детство не надо, все равно выкинут, скажут – много слов.
Стучит клавишами.
Арина механически повторяет:
– …будто я пытаюсь что-то вспомнить. Точка.
– Я тоже, – говорит Виктор. – Я думал, что после того, что было, после этого разрыва, со мной уже не произойдет ничего непредвиденного, я не захочу такой боли, такого мучения…
– Бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, – говорит Саша.
– Бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, – послушно повторяет Виктор.
Саша отправляет файл по электронной почте.
Ждет. Виктор и Арина абсолютно неподвижны.
Подходит официантка:
– Решили, что заказать?
– Да. Еще чаю.
– А вы? – спрашивает официантка Виктора и Арину.
– Это не люди, это персонажи, – говорит Саша.
– А как живые.
– Спасибо.
Официантка уходит. Виктор, не ворочая шеей, скашивает глаза.
– Я бы тоже чайку выпил. Или кофе.
– Обойдешься, – отрезает Саша. – Сначала заработай, объяснись в любви по-человечески, будет тебе и кофэ, и какава с чаем!
Титр: «Цитата из фильма “Бриллиантовая рука”».
Звонок телефона, Саша берет трубку. Это звонит Лика.
– В принципе все нормально, но я бы на обсуждение выносить пока не стала. И опять у тебя кафе. У тебя то и дело едят и говорят, Саша.
– Во всех сериалах все то и дело едят и говорят. Сами же просите такие объекты – кафе, ресторан. Я могу и в электричку засунуть.
– А что, интересно! Попробуй.
80
Вагон электрички.
Саша идет с ноутбуком, который прикреплен ремешком, перекинутым через шею, и стучит по клавишам. Ловко, громко, с музыкальным сопровождением. Это напоминает вступительную партию на барабанах в композиции «Распутин» группы «Бони М». Все аплодируют, кидают в сумку Саши монеты и мелкие купюры.
Он кланяется и садится на скамью, где его ждут Виктор и Арина.
– Что это было? – спрашивает Арина.
– Лирическое отступление. Начнем.
Арина поворачивается к Виктору:
– Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего мужа, люблю дочь, люблю…
И умолкает: звонит телефон Саши.
Он берет трубку.
Голос Лики:
– Саш, я спросила – нет, электричка дорого, из-за короткой сцены возиться не стоит. Это или в депо снимать плюс массовка, или в настоящую садиться и по-настоящему ехать, морока страшная. Да и вообще, не по статусу им на электричках кататься, они обеспеченные люди!
– Хорошо. Я вспомнил одну свою идею, может пригодиться: колесо обозрения. Герой договаривается со служителем, тот тормозит колесо на пять минут. И это дает возможность герою объясниться.
– Круто! Мы на колесе уже что-то снимали, по бюджету терпимо. Ты гений!
– А то!
81
У колеса обозрения. Виктор, отойдя от Арины, договаривается со служителем, сует ему деньги. Тот кивает.
И вот Виктор с Ариной на колесе. Поднимаются. Саша, естественно, с ними.
Колесо замирает. Остановилось.
– Что это? – похоже, Арина напугана.
– Временная поломка, – успокаивает Виктор. – Ариша, я хотел сказать…
– Постой, – перебивает Саша, – сначала она!
Но Арина молчит.
– В чем дело?
– Я боюсь высоты. И меня тошнит.
– Гениально! – кричит Саша.
И долбит по клавишам, а Виктор торопливо говорит:
– Ариша, у меня было ощущение, что я умер на время – после того, что произошло. И вдруг начал оживать. Я сейчас совсем живой – знаешь, почему? Знаешь?
Но, увы, Арина не отвечает, изо рта у нее вырывается струя. На Виктора, на Сашу, на тех, кто внизу. Возмущенные крики. Саша в восторге, подает Виктору салфетки, тот вытирает себя, Арину, Сашу. И говорит Арине успокоительно:
– Ну, что ты? Бывает! Господи, ты плачешь? Моя ты девочка!
Он обнимает Арину, прижимает к себе, гладит ее по волосам.
Саша отправляет файл.
Нетерпеливо ждет.
Арина и Виктор целуются.
– Тебе не противно? – шепчет она.
– Я тебя люблю.
– Отвернись! – приказывает Виктор Саше.
Тот пожимает плечами и отворачивается.
Звонок.
Лика:
– Саша, извини, конечно, но это ни в какие ворота. Зачем эта физиология сплошная?
– Физиология сближает. Ты не знала? Человек становится вдруг родным, как ни странно. У тебя такого не было?
– Никогда! Короче, я спросила еще раз, Альберт говорит – в кафе нормально. Неважно, где, важно – как.
– Ладно, – отвечает Саша.
82
И они опять в кафе.
Арина говорит без выражения:
– Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего мужа, люблю дочь, люблю свою жизнь…
Но тут подходит официантка. Ею оказывается Лика.
– О милостивый господин, – жалобно говорит Лика, – не соблаговолите ли заказать еще чего-нибудь, я ведь живу на чаевые, а любовник, гадюка, жмот, он и так на две семьи разрывается, мне крошки достаются!
– Пошла на фиг, дура! – веско отвечает Саша.
83
Саша лежит с ноутбуком в постели, смотрит какой-то фильм.
Голос Саши:
– Каждый день я смотрю фильмы. Самые разные. Я смотрю их без звука. Готовлюсь к своему немому кино. И заметил: хорошие фильмы без звука становятся еще лучше, плохие же вообще невозможно смотреть. Слова их как-то защищали, заменяли настоящий смысл, а нет их – и смысла нет. Ничего нет. Но почему я так долго не могу начать свой сценарий? Может, действительно, еще сам не понял, про что? Лена подкинула неплохую идею: все тотально оглохли и онемели. Что-то случилось, пролетал какой-то метеорит, взорвался, образовалась звуковая волна, которая лишила землян речи и слуха. Все бродят, как неприкаянные.
84
Саша представляет: он в огромном универмаге вроде ГУМа. Оглохшие и онемевшие люди по инерции пытаются что-то говорить, бестолково мечутся. Под огромным телевизором столпилась куча народа. Там беззвучный диктор с одобряющие улыбкой и ползущие субтитры: «Соблюдайте спокойствие. Мы еще не знаем, что это было, но это обязательно пройдет!».
Голос Саши:
– Нет. Это Голливуд. Надо про людей. Вот что самое важное. Про людей, которые разучились говорить.
85
Арина и Виктор.
Арина смотрит так, будто хочет что-то сказать. Медлит.
А теперь Виктор смотрит так, будто что-то хочет сказать. Медлит.
Они очень хотят что-то друг другу сказать. Но у них не получается.
Какой-то звук. Виктор и Арина оглядываются.
86
Это хлопнула дверь квартиры.
Саша ждет. Но Варя все не входит в комнату.
Наконец вошла. Вытирает мокрое лицо полотенцем.
– Привет.
– Привет.
Варя переодевается. Вдруг говорит:
– Не смотри, неприятно же!
– С каких пор?
– Ты так смотришь, будто наблюдаешь.
– Хорошо сказано, надо запомнить.
– Вечно ты мои слова используешь. Спросил бы, что с деньгами.
– Спрашиваю: что с деньгами?
– Все нормально. Уже перечислила в банк.
– Молодец.
– Не надо меня хвалить! – кричит Варя. – Думаешь, приятно было просить у него? Он побирушкой меня теперь считает! А я виновата, что меня собственный муж не может обеспечить?
Саша обижен. Молчит.
Варя садится на постель.
– Прости. Я знаешь что поняла? Что художница я, может, не великая, но хоть какая-то. А дизайнерша – никакая. Мне это неинтересно. Оформлять чужое жилье я не хочу. И не умею. И не буду.
Варя плачет.
– Из-за этого так переживать? – удивляется Саша.
– В самом деле, – Варя улыбается. – Вычеркни, забудь.
87
Арина и Саша в кафе.
– Опять кафе, – говорит Арина. – И что я тут делаю?
– Просто зашла кофе выпить. И сюда же зайдет Виктор. С другой женщиной. И ты вдруг поймешь, что ревнуешь. Так бывает, женщина, да и мужчина тоже, по-настоящему понимает свое отношение к другому человеку, когда видит его с кем-то.
– Разбираешься в психологии, надо же.
– По сценарию разве не заметно?
– Не всегда. А если я не ревную?
– Тогда не будет истории. Ревнуешь.
Но вместо Виктора входит Варя. С Трофимом Ефимовым.
Они проходят в зал, довольно далеко от столика Саши, садятся. Варя – спиной к Саше.
– Ты чего это? – спрашивает Арина, заметив, как напрягся Саша.
– Это моя жена.
Арина оглядывается. В это время Варя повернулась, ища взглядом официантку. Саша тут же пригнулся. Арина говорит:
– Миленькая. С кем это она?
– Не знаю. Это ее Трофим. Я его один раз видел. Мужчина запоминающийся.
– Ее Трофим? В каком смысле – ее Трофим?
Саша встает.
– Ты что собираешься сделать? – тревожится Арина.
– Ничего, просто подойду к ним. Это ведь неестественно – увидеть свою жену и не подойти.
– Ты хочешь понять, что у них? По их виду?
– Нет. Да и не так просто это понять.
– Если любишь – просто. Сразу все почувствуешь. Твое дело, конечно, но иногда лучше ничего не знать.
– А я хочу знать! Ты бы вытерпела?
– Нет, конечно. Но я девочка, а ты мальчик. Будь мужественным.
– Буду.
Пообещав это, Саша идет к столику Вари и Трофима.
– Здравствуйте! – говорит весело. Слишком весело.
Варя явно растеряна. А опытный Ефимов вежливо кивает, сохраняя спокойствие.
– Ты что здесь делаешь? – спрашивает Варя.
– Странный вопрос. А ты? Я зашел кофе выпить.
– И мы зашли.
– У него что, негде жить? Где вы тогда встречаетесь?
– Вы напрасно… – произносит Ефимов.
– С ума сошел? – спрашивает Варя.
– Сошел, и давно! – раздается сзади.
Там сидит неизвестно когда переместившаяся Арина.
– Я вас очень прошу! – с нажимом, четко выговаривая каждое слово, говорит Саша. – Я вас очень прошу не врать мне. Я все равно увижу. Вы… как это называется…
– Спите друг с другом, – подсказывает Арина.
– Любите друг друга! – предлагает романтический вариант официантка, проходя мимо.
– Трахаетесь! – подает кто-то реплику из зала.
– Кувыркаетесь!
– Вступили в половую связь!
Саша наконец выговаривает:
– Вы… У вас что-то есть?
– Послушайте, если два человека зашли выпить кофе… – начинает Ефимов, но Варя его перебивает:
– Да, что-то есть. Рассказать, что именно?
– Не надо.
Саша возвращается к своему столику.
Через некоторое время Варя и Ефимов уходят, не глядя на него.
– Чудак ты, чудак… – вздыхает Арина.
– Помолчи.
Саша пьет чай. Отодвигает чашку. Открывает ноутбук.
Стучит по клавишам.
Входит Виктор с красивой женщиной. Они садятся за столик.
– Пошла, – говорит Саша.
– Не хочу, – противится Арина.
– Пошла, я сказал!
Арина встает и неохотно идет к Виктору и женщине.
– Отличный эпизод! – слышится чей-то голос.
88
Это говорит Савчук.
Мелецкий и Лика кивают.
Саша кисло улыбается.
– Женщина видит мужчину с другой и понимает, как она к нему относится, это и по жизни правильно, и по кино эффектно, – продолжает нахваливать Савчук. – Ты, Саша, будто и не рад. Тебе говорят приятные вещи, а ты что, недоволен?
– Я доволен. Просто удивляюсь, что в жизни и в сериале могут быть совпадения.
– На то и талант, чтобы они были! – поднимает палец Мелецкий.
– И никаких колес обозрения, никакой блевотины, – говорит Лика, с одной стороны, как бы тоже хваля, а с другой – ненавязчиво напоминая о Сашиных косяках. Держит в тонусе – опытный редактор!
– Но финал провальный! – говорит Савчук.
– Это да, – говорит Мелецкий.
– К сожалению, – говорит Лика.
– Если Виктор признается, что у него с посторонней женщиной отношения, сюжет опять сворачивает куда-то в сторону. Никаких отношений нет! – диктует Савчук. – Просто женщина должна сработать, как, – он щелкает пальцами, вспоминая слово. – Ну, в химических реакциях…
– Катализатор? – пробует угадать Лика, учившаяся в школе в двадцать первом веке и скачивавшая, как все, рефераты из интернета.
– Нет!
– Лакмусовая бумажка, – вспоминает Мелецкий, успевший поучиться в стариной советской или постсоветской школе, поэтому имеющий более глубокие познания по всем предметам.
– Да! Как лакмусовая бумажка – проявляет настоящие отношения! И начинается любовь!
– А женщина? – спрашивает Саша.
– Какая женщина?
– Та, с которой пришел Виктор. Может, это его жена, которая вернулась и его любит?
– В заявке этого нет, – тут же реагирует Лика.
– Ну и что? Если бы Лев Толстой написал в заявке, что Анна Каренина и Вронский будут жить счастливо и умрут в один день, а потом понял бы, что по логике она должна погибнуть, вы бы ему текст завернули?
– А что, я бы завернула, – улыбается непробиваемая Лика.
– А я бы нет, – возражает Мелецкий. – Под колеса – это как раз то, что надо.
– Мы тут не про Толстого, – напоминает Савчук. – Если бы эта бывшая жена давала новый интересный поворот – черт с ней! Но она убивает сюжет!
– Я просто понял, – задумчиво говорит Саша, – что никогда такого не бывает, чтобы чья-то любовь по кому-то не ударила.
– Она и ударяет. По ее мужу, – говорит Савчук. – Короче, Саша, финал эпизода: герой и героиня понимают свои отношения. Первая настоящая искра настоящей любви. И пишем дальше, можем еще успеть.
– Нет, – говорит Саша. – Я не смогу. Альберт Григорьевич, я больше вообще не хочу этим заниматься. Эти вымышленные герои и вымышленные отношения – они съедают мой мозг. Они съедают мою жизнь. Я хочу думать о настоящем, о своем, о том, что мне интересно.
Мелецкий говорит с неожиданной дипломатичностью (когда надо – умеет), с теплотой, с человечинкой:
– Саша, это и есть настоящее, твое, мы же видим! Ты просто немного устал.
Но Савчука интересует деловая сторона вопроса.
– Ты хочешь сойти с проекта? Отказаться? – прямо спрашивает он.
– Да. Я ненавижу этот сериал уже в начале, что же будет дальше? Я ненавижу этих героев.
– Которых вы сами и предложили! – делает выпад Лика.
– Мало ли. Голова большая, в нее чего только не влетает. То и плохо, Лика, – говорит Саша девушке с такой доверительностью, что глаза ее становятся напряженными – словно пьяный мужик в метро говорит ей комплименты и навязывает знакомство. Впрочем, она в метро давно не ездит. Кто-то ей машинку купил. – То и плохо, – говорит Саша, – что лезут именно эти герои. А настоящие уже тут, – он стучит себя по голове, – не выживают. Им там пусто и холодно. Они не хотят жить там, где нужно все время помнить про защиту от дурака. Жить и оглядываться на продюсеров, редакторов, формат, рейтинги! Они не хотят, чтобы им постоянно затыкали рот: длинный диалог, много слов, короче, короче, короче, это ты, Витя, все время мне тарабанишь: много слов – не кино! – будто ты и в самом деле понимаешь, что такое кино! Да блин, когда до тебя дойдет, что не бывает длинных и коротких диалогов, есть плохие, а есть хорошие! Независимо от размера! – Саша говорит вдохновенно, будто излагает свое кредо, забыв, что он-то как раз мечтает создать кино без диалогов и вообще без слов.
Мелецкий приятно улыбается, его это ничуть не задевает. Он и не такое видел и слышал от авторов.
– Все понимаю, – говорит Савчук, на самом деле не понимая и не собираясь понимать. – Но у нас договор. У тебя обязательства.
– Нет, Альберт Григорьевич, у нас договор только на заявку, я ее написал, ее приняли.
– В самом деле? – обращается Савчук к Мелецкому.
– Мы сами решили, что будем составлять поэтапные договоры, а не на всё сразу. Подстраховались.
– Да уж, подстраховались! И он подстраховался. И договора нет, и денег не платили, имеет полное право не работать!
– А не надо жадничать! – не удерживается Саша от мстительной реплики.
Но произносит ее не злорадно, а легко и весело. И даже словно жалея своих оплошавших деловых партнеров.
– Учти, Саша, – холодно говорит Савчук, – это чревато последствиями. Ты можешь больше не получить работу. Наш мир тесен, твоя слава автора, который бросает проекты, разлетится быстро. Рискуешь выпасть из процесса – навсегда. Понимаешь?
– Я только об этом и мечтаю, – отвечает Саша. – Выпасть из процесса.
89
Выйдя на улицу, он громко говорит, пугая прохожих:
– Свободен наконец! Свободен наконец! Слава тебе, Боже, я свободен наконец!
(Титр: «Надпись на надгробии Мартина Лютера Кинга».)
90
Саша едет в машине.
У него видения.
91
Ефимов показывает Варе интерьер какого-то особняка. Заводит в спальню. Просит оценить кровать. Варя кивает: да, кровать хороша. Ефимов обнимает ее, целует, укладывает, начинает раздевать…
Ефимов привозит Варю к причалу на роскошном автомобиле. Она вступает на борт роскошной яхты. Ефимов показывает ей роскошную каюту. Обнимает, целует, начинает раздевать…
Варя показывает Ефимову свои эскизы. Тот с огорчением качает головой: не то. Варя обнимает его, целует, начинает целовать….
По ночной дороге едет машина, вдруг начинает вилять, останавливается. Варя выскакивает, бежит по полю. Ефимов гонится за нею. Сбивает с ног, ударяет кулаком, начинает раздевать…
92
Саша задумался на светофоре. Сзади сигнал. Саша выскакивает и кричит:
– Чего дудишь, а? Куда торопишься? Умер у тебя кто-нибудь? Родился? На распродажу торопишься? Тебе ведь некуда спешить на самом деле! Тебя никто не ждет, ты никому не нужен! И сдохнешь один в гараже рядом со своим ржавым «мерседесом», понял?
Из автомобиля выходит парень с бейсбольной битой в руке.
Саша усмехается:
– Аргумент! Ну давай, бей! Ты за этим спешил? Не терпелось человека убить? Валяй, это легко в наше время! Заплатишь адвокатам, тебя отмажут. Скажут: ему изменила жена и он был в состоянии эффекта!
– Придурок, – говорит парень. – Ехать будем, нет?
– Извини, – вдруг очень искренне говорит Саша. – Накатило.
– Бывает, – соглашается парень.
93
В квартире Сашу встречает прораб.
– Неувязка, хозяин! – говорит он. – Как дальше ремонт делать будем?
– Это ваша проблема, если рабочих не хватает. Три дня никого нет.
– И не будет! Потому что проплаты очередной не было!
– А за что? Они не работают – за что платить?
– А за что работать, если не платят?
– А кто платит за то, что не работают?
– А кто работает за ничто?
Поговорили…
94
Вечер. Саша одиноко выпивает. Встает, открывает шкаф. Он полупустой. Саша перебирает вещи, снимает старую блузку Вари, кладет ее на постель.
Садится на стул возле стола. Смотрит на блузку.
– Травишь себя? – спрашивает возникшая из воздуха Арина. Берет блузку, прикладывает к себе.
– Не трогай!
Арина кладет блузку. Садится рядом с нею.
– Решил одним махом всё прикончить? И нас в том числе?
– Вы и не жили.
– У нас был шанс, то есть у тебя. Ты не воспользовался.
– Ерунда!
– Я тебе объясню, что произошло. Ты влюбился в меня. И испугался этого. Ты стал меня изображать то дурочкой, то гламурной идиоткой. Чтобы разлюбить. Но было уже поздно. Ты по уши увяз. И твоя жена это почувствовала. Женщины всегда чувствуют. Это ее потрясло. Варя ведь была уверена, что ты ее любишь больше, чем она тебя. Ты любил – она принимала любовь. Ей стало обидно. Она решила найти компенсацию на стороне. А ты…
– А я тебя за эту сериальную болтовню могу убить в любой момент!
– Неужели?
– Легко.
Саша открывает ноутбук, стучит по клавишам.
95
В кадре: машина Арины мчится по ночной Москве. Наперерез ей мчится тяжелый грузовик, за рулем которого – Саша. Оба едут на желтый свет, рассчитывая проскочить. Машина Арины врезается в грузовик, кувыркается в воздухе, а потом на земле. Взрывается.
Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова “Любовь до смерти”».
96
Саша с улыбкой поворачивается. Арина, успев где-то взять стакан с вином, спокойно отпивает и пожимает плечами.
Саша хмыкает, пишет.
97
Арина с Виктором весело едут на лыжах, они в красивых костюмах, все вокруг красиво – как в рекламе. Виктор вырывается вперед. Оглядывается – Арины нет. Он закладывает крутой вираж, останавливается. Отстегивает лыжи, карабкается по склону. Стоит на краю обрыва. Внизу – фигурка упавшей Арины.
Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова «Любовь отдыхает».
98
Саша поворачивается. Арина снимает с себя футболку.
– Жарко у тебя что-то.
Саша отворачивается. Пишет.
99
Арина лежит на берегу моря, загорает.
А где-то в другом месте девушка с юношей играют в теннис.
Мяч вылетает за ограждение, попадает в ветку дерева, на котором сидит ворона.
Ворона, каркая, взмывает в воздух. Поднимается все выше.
Попадает в мотор небольшого самолета. Самолет падает в море.
Это падение вызывает высокую волну, она выбрасывает на берег резиновую лодку с людьми. Лодка обрушивается на замок из галечных камней, который сооружает трудолюбивый и талантливый ребенок.
Один камешек вылетает со скоростью пули и попадает в висок Арины.
В виске отверстие и кровь.
Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова “Любовь на берегу”».
100
Саша поворачивается.
Арина лежит обнаженная, капризно говорит:
– Долго я буду ждать?
– Ты умерла. Тебя нет. А если есть, не такая.
– Я такая, какой ты меня хочешь видеть. Ну? Иди ко мне!
– Сейчас. Я приду. Ты будешь довольна!
Саша идет в кухню и возвращается с ножом.
Набрасывается на Арину.
Ударяет ножом раз, другой, третий…
Сзади голос Вари:
– А постель-то чем виновата?
Саша оглядывается. Осматривает Варю, говорит полупьяным голосом:
– Герой смотрит на жену. Она без вещей. Значит, не вернулась, а пришла поговорить. Возможно, о разделе имущества. Совместно нажитого. Какой глубокий кадр, какое тонкое киношное мышление, сценарист Огольцов, браво! Ненавижу кино! – кричит Саша. – И сериалы ненавижу! Мотивацию им давай! В жизни все проще: зачесалось – и все! И ушла! Никакой любви! Никаких вопросов – за что полюбила! Ни за что! Захотела, вот и вся мотивация!
Варя поворачивается и молча уходит.
101
Ночь. Саша просыпается, видит рядом с собой Арину. Трет пальцами виски. Спрашивает:
– Она здесь была?
– Кто?
– Ничего не понимаю. Почему тебя нет, а ты есть? Почему она есть, но ее нет?
– Ты о чем?
102
Саша в комнате с застекленными стенами, на них жалюзи. Голый офисный стол со стопкой бумаги и ручками в пластиковом стакане. Казенные стулья.
Бодро входит молодой человек лет двадцати пяти. Оживленный, веселый, словно его оторвали от приятной вечеринки, где он выпил пару бокалов шампанского.
– Это вы отказник? – спрашивает он Сашу. – Что случилось? Разорились, остались без работы, разочаровались в купленной квартире?
– По закону я не обязан объявлять причину, – отвечает Саша.
– Успели законы почитать? Это полезно! Сейчас все клиенты грамотные, да и интернет помогает – все ответы на все вопросы. Законы знаем, а вот собственный договор прочитать при подписании ленимся!
Молодой человек раскрывает перед Сашей папку с договором.
– А что там? Неужели хотите присвоить деньги себе?
– Упаси боже! Всего лишь штрафные санкции.
Саша берет договор, читает. Молодой человек терпеливо ждет.
– Без лупы не разберешь, – Саша смотрит на текст, напечатанный очень мелким шрифтом.
– В законе размер шрифта не оговаривается. Не бойтесь, санкции не смертельные. Но ощутимые. Поэтому я предложил бы поговорить о возможности сохранения наших отношений.
– Реструктуризация?
– И это знаете? Да, она самая.
– Нет. Деньги назад. Пусть с вычетами. А я вам квартиру.
– Послушайте…
– Нет! В сценарии написано: служитель банка долго уговаривает героя, но герой не идет на уступки. Только деньги.
– В каком сценарии?
– В моем. В сценарии моей жизни. Поэтому лучше не тратить время, сократить эпизод. Слишком длинно. Моя реплика: я хочу взять свои деньги, сколько вам выплатил, и отдать банку квартиру. Ваш ответ: да, хорошо.
– Нет, плохо. Банк имеет право забрать квартиру и, возможно, согласится это сделать. Но по такой цене, что вы не только не получите денег обратно, но и останетесь должны.
– Этого не может быть.
– В нашей стране все может быть.
– Я эту фразу слышал в тысяче сериалов. И сам писал.
– Что ж, значит, в сериалах иногда говорят правду.
– И что делать?
– У вас до следующей проплаты почти месяц. Можем предложить бесценную услугу: кредит на погашение кредита.
– То есть дадите взаймы, чтобы я вам же вернул долг?
– Именно.
– И сколько это стоит?
– Вот! Уже конструктивный диалог! Давайте посмотрим.
Молодой человек раскладывает перед ним бумаги.
– Нет, – говорит Саша. – По вашему сценарию я играть не буду. Лучше посчитайте, сколько я буду должен, если отдам квартиру.
103
Саша сидит у дома на лавочке и наблюдает, как из дома выносят вещи, загружают в автофургон.
Подходит грузчик, парень лет двадцати.
– Закурим?
– Курите.
– У меня нет, угости.
– Не курю.
– А чего съезжаем, я не понял? Ремонт сделали почти.
– Герой смотрит на грузчика так, что тот молча поворачивается и исчезает.
– Чего?
– Исчезни!
104
Саша на съемной квартире.
Нагромождение вещей.
Он заливает кипятком лапшу в пластиковом контейнере, ест.
Открывает ноутбук, пишет: «БЕЗМОЛВИЕ».
105
В кадре крупным планом – молодой человек, похожий на Сашу. А может, и сам Саша.
Он молчит.
Брови сдвинуты, глаза прищурены. Будто что-то вспоминает.
Отрицательно качает головой: нет, не то.
Оглядывает пространство, пытаясь сообразить, куда он попал.
Подмигивает кому-то и тут же делается серьезным, будто его одернули.
Улыбается.
Кажется, о чем-то догадался.
Сейчас выдаст. Осчастливит. Сейчас такое скажет, что…
Нет. Молчит.
106
Саша просыпается и с удивлением видит перед собой Варю. Она сидит за столом и читает что-то в его ноутбуке.
– Привет, – говорит Саша.
– Привет. Ты это хотел написать?
– Это так, наброски.
– Интересно. Хочется уже услышать, что он скажет.
– Самому хочется. Как ты меня нашла? Я никому не говорил. И телефон не включаю.
– Я тебя всегда найду, если надо.
– А надо?
– Да.
– Зачем? У меня все плохо. Бросил сериал, отдал квартиру вместе с ремонтом. Одно утешает: вышло по нулям. Я никому не должен, и мне никто. Пацан сказал – пацан сделал.
– Имеешь право, это твоя жизнь.
– Ты ко мне вернешься?
– Уже вернулась.
– А как же… А если опять кого-то захочется?
– Только об этом и думаю. Я беременная, Саша.
– От меня?
– По срокам – да. Можешь проверить.
– Не буду я ничего проверять. Я же тебя люблю.
– Я тебя тоже. Как завелся этот червячок, так и поняла. Что люблю и хочу от тебя родить. Хоть в пустыне. Хоть в вигваме на Северном полюсе.
– В чуме. Или в яранге. Кошмар. Мы говорим, как сопливые герои сопливого мыльного сериала.
– Вот я буду думать, как я говорю! Как говорю, так и говорю. У меня там вещи, поможешь затащить?
– Спросила бы хоть, согласен я или нет.
– А то не согласен!
– Да согласен, конечно.
Они обнимаются – как-то очень осторожно, бережно, словно опасаются повредить друг другу. Варя глубоко вздыхает.
– Ты чего?
– Будто под водой была и вынырнула.
– Лишние слова, длинный диалог. Вычеркнуть. Все должно быть понятно без слов.
– А я хочу говорить.
– Говори.
– Пойдем за вещами, такси ждет, счетчик работает.
Они выходят, но тут Сашу окликает голос.
– А я?
Саша оборачивается: на постели сидит грустная Арина.
– Я тоже жить хочу, – говорит Арина. – А ты меня бросил. И всех нас вообще.
– Я вернусь. Но по-другому.
– Хорошо, буду ждать. Жить очень уж хочется, понимаешь?
– А то!
107
В переговорную комнату входит сценарист Слаповский, изможденный и слабослышащий мужчина. Его сопровождает молоденькая девушка.
– Они сейчас придут, – говорит она. – Чай, кофе, сок, хотите что-нибудь?
– А?
– Что-нибудь выпить?
– Нет. Днем не пью.
– А про что у вас сценарий? Я тоже пишу типа сценария что-то, но так, для собственного удовольствия.
– А?
– Я говорю, тоже пишу – для собственного удовольствия.
– Понятно. А для чьего же еще?
– Для зрителей.
– Если вы не получаете удовольствия, то и зритель не получит удовольствия. Какие чудовищно пошлые вещи я говорю.
– Почему, интересная мысль. А про что ваш сценарий? Как называется?
– «Сценарий».
– Да, я поняла. А как называется?
– «Сценарий».
– Я поняла, что же еще, сценарий. А как называется?
Открывается дверь, входят Савчук, Мелецкий и Лика. Они поочередно пожимают руку сценаристу. Девушка выскальзывает.
Все рассаживаются за столом.
Савчук кладет на стол стопку листов.
– Ну что ж, – говорит он. – Начнем?
КОНЕЦ ФИЛЬМА
Да, но еще ведь титры.
А на титрах Савчук, Мелецкий и Лика что-то говорят, говорят, говорят…
Их не слышно.
Хроника. Январь
Из новостей
* * *
Во всех регионах России начато внедрение универсальной электронной карты, в которой совмещены практически все документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, медицинский полис, проездной билет, а также банковская карта.
(Да ввинтить чип в голову, и все! Скажешь кому, подумают: шутит. А нет – мне скрывать нечего. Но как я ненавижу получать визы, возиться с документами и пр.! Чип – и нет проблем. Сканировать мысли все равно никогда не получится – я в этом уверен, а остальное меня не волнует.)
* * *
В России вступил в силу закон, запрещающий американским гражданам усыновление российских детей («Закон Димы Яковлева»).
(Главное в законе – послание российским гражданам: там хуже, и они вообще сволочи.)
* * *
27 января – пожар в ночном клубе «Kiss» в бразильском городе Санта-Мария штата Риу-Гранди-ду-Сул, 236 человек погибли.
(Таких новостей много. Но мне почему-то приснилось, что я оказался в этом клубе. Танцую с бразильянкой, одетой, как на карнавале. Бегло и галантно говорю с ней по-испански. Или по-португальски, во сне не понял. Потом удаляемся за красные шторы – и тут пожар, дым, ужас… Загадочная выборочность сновидений…)
Из журнала[1]
* * *
Все, друзья, я забеременел новой книгой. И, как всегда бывает, мне сейчас все равно, что говорят и пишут о предыдущих. Они ушли в прошлое. Новая будет лучше и все оправдает. И к сериальной поденке стал относиться легче – я будто хожу на работу, а потом возвращаюсь домой, в книгу. И бытовые трудности не тяготят. Это как влюбленность: что бы ни происходило, ты участвуешь, но где-то под ложечкой греет и светит твое тайное, счастливое.
* * *
Странные игры
Я был мальчик с фантазиями.
Придя из школы и собираясь пообедать, отрезал кусок хлеба и вдруг придумывал, что он у меня последний. Делил его ножом на кубики и ел по одному, наслаждаясь, слизывая крошки с ладони. Потом разрешал себе сварить кофе. В кружке. Соскребал снег из морозилки, бросал в кофе – для отстоя гущи по науке Джека Лондона.
Или, наливая воды, воображал, что я из пустыни, что это первый мой стакан после трех дней жажды. В горле становилось сухо. Вода была жгуче желанной. Но я терпел. Я знал, что пить не дадут до вечера. Кто не даст, почему, вопроса не возникало. Не дадут, и все. Через полчаса начинал пить. По глоточку. Сдерживая себя. И вода казалось сладкой.
Или того чудней: представлял, что у меня поездом отрезало ноги.
Вместо них – протезы.
Я хожу на прямых ногах, играя в эту страшноватую игру. Товарищи удивляются – что со мной? Я не признаюсь. Мне не надо жалости и сочувствия.
А к вечеру надоедало. Я решал: мне пришили новые ноги. И они приросли. Как родные. Ложась вечером спать, я с особой приятностью ощущал, как ступни нежатся под тканью одеяла, шевелил пальцами, радуясь: надо же, двигаются!
Или представлялось: я немой. Не могу говорить. Ходил так целыми днями, а потом разрешал себе вымолвить слово, другое. Потихоньку речь возвращалась. И каждое слово было – как новенькое. Как подарок самому себе.
Или (уже подрос): выхожу на родной остановке – и кажется мне, что я долго сидел в тюрьме и вернулся домой. Или: воевал, остался жив и вернулся домой. Или: смертельно болел, выздоровел и вернулся домой. И вот иду – и всему радуюсь. Свободе, небу, солнцу, лицам людей. В дом входил чуть ли не со слезами счастья.
Сейчас это реже, хоть не забывается, и иногда мне удается коротко сыграть в эту игру – посмотрев на руки, удивиться: надо же, руки! Или, посмотрев на ноги: надо же, ноги! И вообще, просто посмотрев: надо же – вижу! И восхититься: господи, за что мне такой подарок?
Но играл я в детстве и в другие игры: набивал найденную пустую сигаретную пачку обломками сухих стеблей и изображал, что курю. Шел по улице, держа в зубах стебелек, и шепотом ругался матом, яростно споря с кем-то воображаемым, грозя оторвать ему голову, так его растак. Или воду, о которой уже рассказывал, наливал не в стакан, а в рюмки. Штук пять-шесть. Расставлял на столе, размеренно опрокидывал, а потом валился на стул и начинал нести бессвязную чушь и петь песни. Готовился к взрослой жизни.
* * *
За стеклом
Мне было лет пять, я оказался в больнице, надели арестантского вида пижаму.
Чем болел, с кем лежал, как лечили, не помню. Помню только окно: сижу на широком подоконнике, а внизу папа и мама. Внутрь их не пускали: карантин. Я машу им рукой. Они тоже машут. Потом что-то говорят друг другу. Я завидую: они друг друга слышат, а я их нет. Окно закрыто и заклеено газетными полосами – зима. И я уже хочу, чтобы они ушли: какой толк, если говорить все равно нельзя? Слезы подступают, еле сдерживаюсь. Они уходят, я вытираю глаза. При родителях плакать стыдно, без них – бессмысленно.
Мне снился сон: я вижу женщину, которой уже нет на земле, и что-то говорю ей – горячо, взахлеб. И она видит меня, но молчит и улыбается. Тут я понимаю: она меня, возможно, слышит, а я ее не могу услышать. Она знает это, поэтому и молчит.
Вот что такое смерть других людей для нас, тех, кто остался жить: мы видим их, но не можем поговорить с ними.
Видят ли они нас?
Мы, сами того не осознавая, живем так, будто видят. Это непреложно при всех религиях и помогает нам оставаться людьми. Или я ошибаюсь?
* * *
Снежинки за окном падают все медленнее и медленнее и, кажется, сейчас окончательно зависнут, а потом все погаснет, как бывает с компьютером. И ты не сумеешь включить, потому что не снаружи, а в нем.
Из дневника
* * *
Когда говорят, что выхода нет, он есть, но не там, где хочется.
* * *
На самом деле мы все знаем или догадываемся, в чем смысл жизни, но он нас часто не устаивает. Вот и ищем, нет ли какого другого. Поудобней.
* * *
Пора за работу. 12 серий про страстную любовь. Она же страшная. 4 серии написаны.
* * *
Прервал Стр. Люб. Неделю по скайпу обсуждали с Пускепалисом сценарий «Пересуда»[2]. Нужны уточнения.
* * *
И опять Стр. Люб. Дал герою высокопарную фразу: «Любовь, как радуга, видна лишь с одной стороны. С другой стороны ее не существует. Если видят оба значит, они по одну сторону». Всем очень понравилось. Мне и стыдно, и приятно.
* * *
Прервался: попросили доработать двухсерийный телемувик[3] из прошлого года. Проснулись.
* * *
Вернулся в Стр. Люб. Три дня пишу серию – неделю жду ответа. И все-таки до лета хочу закончить.
Идея
Шли вдоль Тимирязевского пруда.
– А вот здесь студента убили, – сказала Метла, показывая на грот, загороженный металлическими прутьями так часто, что не пролезть даже маленькому ребенку.
– Какого студента, когда? – спросил Жужик.
– Давно, сто лет назад. Или даже больше.
– За что? – спросил Тихон.
– А фиг его знает. Отец рассказывал. Когда еще я маленькая была, мы сюда гулять с ним приходили. Потом про это Достоевский написал. Ну, не про это, но типа того. У него убили не здесь, не в этом парке и вообще не в Москве, а на самом деле было прямо вот здесь.
Лещ подошел к прутьям, подергал.
– Не раздвинешь.
– Хочешь туда? – спросила Метла.
– Нормальное место, особенно если дождь пойдет.
– Дождь не пойдет, давайте на полянку куда-нибудь, – сказал Жужик.
Лещ огляделся. Увидел поваленный металлический столбик. Подошел, хотел поднять, но основание столбика оказалось вкопано в землю.
– Помогайте, – сказал Лещ, раскачивая и дергая столбик.
– Да ну тебя, – отказался Жужик.
А Тихон подошел и начал помогать. Вместе вытащили столбик, Лещ всунул его между прутьями и немного их разогнул. Он попробовал пролезть, не получилось.
– Все равно узко. Метла, попробуй.
Метла втиснулась плечом, дернулась пару раз.
– Нет.
– Грудь мешает, – засмеялся Лещ. – Жужик, давай ты.
Худенький маленький Жужик сумел пролезть.
– И чего дальше? – спросил оттуда.
– А сейчас я обратно сдвину – и ты там останешься. И умрешь голодной смертью.
Жужик вылез.
– Надо соседние прутья раздвинуть, а потом эти, – сказала Метла.
Лещ взялся орудовать, Тихон ему помогал. И вот дыра стала такой, что все сумели пролезть. Устроились на чахлой травке, у ограды, а в глубине была голая земля. На земле пластиковая бутылка с выцветшей этикеткой, обрывок журнального листка и засохшие свидетельства того, что сюда иногда забираются по своим делам собаки.
– Дурью маемся, – сказал Жужик.
Он достал пластиковые стаканчики, разлил пиво.
– Мало взяли, не хватит, – заглянул он в будущее.
– Тебе всегда мало, – сказала Метла.
Выпили. Потом еще выпили, и еще. Стало уютно и хорошо.
– Так за что его убили? – спросил Лещ Метлу.
– Кого? Настоящего студента или у Достоевского?
– Без разницы.
– Не знаю.
– Охота вам, – сказал Жужик.
Он не любил таких разговоров. Ему нравилось говорить о реальных вещах. Если пили пиво, то о том, мало его или достаточно. Если о погоде, то о том, что вчера был дождь, а сегодня все уже сухо. Еще ему было интересно обсуждать достоинства или недостатки места, где они устроились. Это было их развлечение: собираться по воскресеньям, бродить по парку и находить каждый раз новые укромные уголки для того, чтобы отдохнуть, выпить и поговорить.
Но Лещ, поглядывая вокруг, все никак не мог слезть с темы.
– Тут так и хочется кого-нибудь убить, – сказал он. – А зачем решеткой загородили?
– Памятное место, – предположил Тихон.
– А где табличка? И почему обязательно загораживать?
– Чтобы на стенах не рисовали, – сказала Метла.
– А табличка, может, была, но сорвали, – сказал Жужик.
Так они беседовали довольно долго. А потом и о разном другом. Приятно провели день.
Дома Тихону захотелось посмотреть в Интернете, что к чему: кого убили, когда и за что.
И он рассказал про это друзьям в следующее воскресенье.
– Все равно не понял, – сказал Лещ. – Нет, про студента Иванова еще более-менее. Заподозрили, что предатель. А у Достоевского, получается, сам захотел, а потом расхотел, а потом его все-таки убили. Муть какая-то.
– За идею, – сказал Тихон.
– А какая идея? – спросила Метла.
– Ну, вроде того, что если все убьют, то будет типа круговая порука. Чтоб никто в стороне не остался. Они организацию так создавали.
– Козлы, – сказал Лещ. – Ну там за деньги. Или он кому-то навредил. Девушку там оскорбил. Мало ли.
– Нет, – сказала Метла, – ты просто не понял, Лещ. За деньги или кому-то навредил, это все убить могут. А за идею – это за идею. А пойдем опять туда?
– Делать вам нечего, – сказал Жужик.
Но остальным предложение понравилось, и они пошли в грот.
– А убивали так, – продолжил рассказ Тихон. – Привели, будто выкопать какой-то станок печатный. Начали копать, он ничего не подозревает, этот студент, а его бац и застрелили. Но не убили. Тогда камнем добили и в пруд вот этот сбросили, – он кивнул в сторону пруда. – Зимой, в прорубь. И кто-то заметил подо льдом. Начали расследовать и всех нашли.
– Лохи, – сказал Лещ. – Если бы я убил, никто бы не нашел.
– Ну да, конечно! – сказала Метла. – Все равно следы останутся.
– А зачем? – спросил Тихон.
– Что? – не понял Лещ.
– Зачем убил бы?
– Какая разница? Я тебе про что? Что можно убить так, что никто не найдет.
– А как? – заинтересовался практичный Жужик.
– Ну, например, – фантазировал Лещ, – мы идем около пруда. Я толкаю Тихона и бью камнем по башке. А потом мы говорим, что он сам упал и стукнулся об камень, и утонул. И все.
– Получится, что найдут, – возразил Жужик. – А ты сказал, что можно так убить, что не найдут.
– Я имел в виду, не найдут, кто убил.
– Но нас же найдут!
– Ты тупой? Найдут, но примут за несчастный случай. Не докажут.
– А, – сказал Жужик.
– Нет, – сказал Тихон. – Дело не в этом. За что ты меня убил бы?
– Ни за что, не нравишься ты мне.
– Это неинтересно, – сказал Метла.
Тихон улыбнулся ей, а она улыбнулась ему. Им было приятно, что они умнее Леща и Жужика и что понимают друг друга.
Лещ разозлился на эти улыбки.
– Блин, я еще раз говорю, кто не понял: я про то, как можно убить, чтобы не нашли того, кто убил, а вы – за что, за что!
– Потому что это главное, – объяснил Тихон.
– И не утопить, а вот здесь убить, – добавила Метла. – Здесь ты смог бы убить, чтобы не нашли?
– Легко! – разгорячился Лещ. – Вырыть яму, убить Тихона…
– Опять меня?
– А кого? Убить, закопать, залить цементом, чтобы собаки не унюхали.
– Унюхают, – сказал Жужик. – Следов будет полно перед ямой. Наших. И цемент, где ты его возьмешь? На себе притащишь? Опять следы. Нет, ты гонишь.
– Можно так, – сказала Метла. – Допустим, я говорю кому-то, ну, тебе, Лещ: приходи сюда. Вечером. Ты приходишь, ждешь. А я, допустим, иду мимо. И в тебя камнем. Или палкой по голове. Ну, разные способы. И пошла дальше. А тут же тропинка, разные люди мимо ходят. Куча следов. И все, никто никогда не найдет.
– Найдут, – не согласился Жужик. – Будут ведь знакомых допрашивать, друзей. И ты расколешься. Не выдержишь.
– Я? – обиделась Метла. – А на спор?
– А как проверить? – хмыкнул Жужик.
– Тебя вот убью, закопаю и никогда не сознаюсь. Потому что сознаются, когда жалко, а мне тебя не жалко.
– Это почему? – не поверил Жужик.
– Потому. Или вон Леща, – сказала Метла. – Мне его тоже не жалко.
– А мне тебя! – остроумно и быстро ответил Лещ.
– А меня? – спросил Тихон Метлу, надеясь на другой ответ.
– И тебя, – усмехнулась Метла, но Тихон подумал, что это усмешка шуточная, Метла просто не хотела при всех показать свое отношение.
– Мысль хорошая, – сказал Тихон. – Я тоже иногда думаю: вот идет человек по улице ночью, а кто-то навстречу и вдруг в него стреляет. Или ножом. И уходит. И никто не видел. И никто никогда не найдет и не докажет. Но это ладно, допустим, да, убить можно, чтобы не нашли. Но они ведь не просто так, которые студента убили, у них цель была.
– Да пошел ты, – сказал Жужик. Ему стало скучно, потому что пиво кончилось, а дурацкий разговор ему надоел.
В следующее воскресенье опять отправились в парк, к гроту. Жужик, правда, канючил:
– Если вы опять начнете, я уйду!
– Не начнем, – пообещал Тихон.
Жужик сомневался, но его успокаивало то, что пива взяли больше, чем обычно. Он об этом и позаботился, добавив к общим деньгам столько, чтобы хватило на еще одну двухлитровую бутыль. Одно неприятно: нести тяжело, а Жужик не любил, когда тяжело.
Но вот пришли, и стало легко и весело.
Он, Жужик, даже сам первый сказал:
– Ну, валяйте, давайте опять про то, как убить.
– Не про то как, а про то зачем, – поправил Тихон.
– Затем, чтобы испытать себя! – сказал Лещ четко и ясно, как отличник на экзамене.
Значит, тоже думал об этом.
– Да, – согласилась Метла. – И я так считаю. Чтобы испытать свою дружбу. Одного убивают, то есть он погибает, вроде того, тоже для дружбы. А остальные не выдают друг друга. Эти ведь тоже должны были не выдать, но не сумели.
– Он сам всплыл, – напомнил Жужик.
– Надо было без этих хитростей, – сказал Лещ. – В воду бросать или там зарывать, ерунда это все. Метла правильно говорит: будто кто-то мимо шел и камнем кинул. Или приходит какой-нибудь бомж. Психованный. Мы нормально сидим, ничего не делаем…
Он вдруг перекосил лицо и заговорил по-другому, словно обращался к будущему следователю:
– Мы сидим, ничего не делаем, товарищ майор…
– Они господа теперь, а не товарищи, – вставила Метла.
– …а он подошел, а потом как даст Жужику по черепушке! Жужик упал и сразу умер!
Лещ захлюпал и начал вытирать обеими руками воображаемые слезы.
Метла тоже всплакнула.
А Тихон, веселясь от души, погладил Жужика по круглой колючей голове:
– Бедный мальчик, он умер совсем юным! Он так много мог бы сделать на ниве…
Тут смех задушил его, да и не придумывалось, на какой ниве мог бы что-то сделать Жужик, работающий курьером в интернет-магазине.
Жужик отдернул голову, хотя тоже смеялся.
– Я сам сейчас возьму вот камень и грохну кого-нибудь.
– А если серьезно? – спросил Лещ. Он отпил несколько больших глотков прямо из бутыли и прищурил глаза, скроив зверскую физиономию, как бандит в сериале. – Если серьезно, смогли бы мы или нет?
– Кого? Жужика? – спросила Метла.
– Не обязательно. В принципе?
– Ни фига бы не смогли.
– А я бы смог, – сказал Лещ.
И всем показалось, что он сказал это не как бандит из сериала, а сам по себе. От себя. Стало как-то неприятно.
– Не смешно, – сказала Метла.
– И я бы смог, – сказал Тихон. Не потому, что действительно решил для себя, что смог бы, а потому, что ему захотелось так сказать. Для Метлы. Но и для себя тоже.
– Я пошел за камнем, – сказал Лещ.
И встал.
– А я домой, – поднялся Жужик.
И покачнулся от выпитого. И схватился за решетку. И лицо его вдруг стало испуганным. По-настоящему испуганным. Он полез наружу, словно боялся оставаться здесь.
– Камень догонит! – дурашливо закричал Лещ.
– Хватит, – сказала Метла. – Лично мне завтра вставать рано.
– Мне тоже, – сказал Тихон.
В следующее воскресенье, купив пива, пошли в парк «Дубки».
– Давайте тут сегодня посидим, – сказал Жужик. – Надоела мне ваша эта пещера.
– Мне тоже, – сказала Метла.
– Как хотите, – сказал Лещ.
Они устроились возле кустов поодаль от пруда, скрытые плакучей ивой – чтобы не раздражать народ и курсирующую здесь время от времени по дорожкам парка патрульную полицейскую машину.
Но было как-то пресно, как-то скучновато.
– А там, может, кто-то сейчас сидит, – сказал Лещ. – Занял наше место.
– Надо посмотреть, – сказал Тихон.
– Вы опять? – насупился Жужик. – Чего вам, плохо тут?
– Поехали! – решила Метла.
Они пошли к двадцать седьмому трамваю.
Ехали не как обычно – весело переговариваясь, безобидно задирая пассажиров, громко смеясь и ловя на себе настороженные взгляды быдла – так называла Метла мирное население. Молчали, смотрели в окна.
Молча вышли у академии, молча пошли к гроту.
Залезли, выпили и сразу повеселели, будто что-то непонятное, что возникло, ушло и забылось.
– Предупреждаю, – сказал Жужик. – Если кто-то опять будет про студента, я сразу сваливаю!
– Ты чего-то боишься, Жужик?
– Ничего я не боюсь. А только вот, на всякий случай, – и Жужик достал из своего старенького грязного рюкзачка, в котором носил пиво, обломок железобетона. Увесистый и бесформенный. И положил рядом с собой.
– Ого, – сказал Лещ. – Солидно!
И потянулся к камню.
Жужик схватил его и сунул за спину.
– Не трогай!
– Ты что, Жужичек, решил, что мы тебя убить хотим? – спросила Метла так ласково, так нежно и так по-женски, что у Тихона стало горячо в животе.
– Ничего я не решил, а просто вы придурки и неизвестно до чего договориться можете!
– Можем, – кивнул Лещ. – У меня вот отец, когда в Чечне воевал, там было так, что надо было всем уйти, но одного кого-то оставить. И командир им сказал: я не могу приказывать, хотя могу. Давайте так: вы сами решите. И они спички тянули. У кого короткая, тот остается. Отцу длинная досталась. А одному короткая. И он остался. И погиб, между прочим.
– У нас не война, – сказал Жужик.
– Неважно. Мы можем тоже спички тянуть. У кого короткая, того… – он сделал резкое движение кулаком сверху вниз, будто что-то дернул.
– С какой стати? – спросила Метла.
Спросила задумчиво. Потому что хотела, как понял Тихон, действительно узнать, с какой стати можно и нужно кого-то убить. И решил высказаться:
– Мы же все время говорим, что нам всё пофиг. И даже каждый чуть не помер. Лещ таблетки глотал, глотал ведь?
– Ну глотал.
– Жужик в газовой духовке травился.
– Я отца хотел отравить, – угрюмо отозвался Жужик. – Ну и себя заодно. Вернее, взорвать. Чтобы накопилось газа, а потом…
– А ты, Метла, вены резала. – Тихон посмотрел в красивые зеленовато-голубые глаза Метлы и почувствовал опять в животе что-то горячее.
– Дурочкой была малолетней, – махнула рукой Метла.
– А ты ничего не делал, – сказал Лещ.
– Зато я не боюсь смерти, – спокойно, хотя все в нем подрагивало, ответил Тихон. – Я готов хоть сейчас спичку тащить.
– Думаешь, я нет? – завелся Лещ.
– И я готова, – негромко сказала Метла.
И всем показалось, что именно она произнесла самые веские, самые серьезные слова, после которых отступать уже нельзя.
– А я не готов! – крикнул Жужик.
– Не бойся, тебе короткая не достанется, – успокоил Лещ. – Отец говорит: судьба дурачков любит. У кого спички?
У всех были зажигалки.
Жужик, помявшись, сказал:
– Нет, вы точно психи, – и достал из рюкзака спички. У него там часто оказывались неожиданные и необходимые вещи. Штопор, например, – когда купили, кроме пива, бутылку вина с пробкой и не знали, чем ее вытащить. На день рождения Метлы, кажется.
Лещ протянул руку к коробке, но Тихон перехватил ее. Он почувствовал, что как-то очень быстро, за считанные минуты, стал значительнее и важнее Леща, хотя считалось, что именно Лещ у них по умолчанию командир. Ну, или Метла. То Лещ, то Метла. Но если доходит до чего-то важного, всё, оказывается, очень быстро встает на свои места. Главный – Тихон. И сейчас это доказал. А Лещ подтвердил – тем, что не стал скандалить и спорить. Да и Метла смотрела на Тихона так… Так, как никогда не смотрела.
На виду у всех Тихон отломил кончик у одной из четырех спичек, потом спрятал их в ладони, перемешал и протянул в крепко сжатом кулаке.
– Кто первый?
– Я, – сказала Метла.
Она решительная, если заболит зуб, сразу идет к врачу, а не ждет, когда перестанет. Или, было такое, в шестнадцать лет делала аборт у какой-то тетки на дому и чуть не померла от потери крови, но все равно не сомневалась, что поступила правильно.
Тихон держал спички так, что она не сумела вытащить.
– Отпусти немного, – засмеялась Метла.
Тихон слегка ослабил хватку.
Метла вытащила и показала. Длинная.
Она бросила ее на землю.
– Теперь я! – заторопился Жужик, словно боялся, что все длинные сейчас кончатся. – Только учтите, если короткая, я убиваться все равно не согласен!
Медленно, очень медленно вытянул.
Длинная.
– Я так и думал, – сказал Жужик и вернулся к своему камню, и припал к горлышку бутылки, пил долго, как воду от жажды.
Лещ лениво поднялся, подошел к сидящему Тихону, сел рядом, взялся за спички, покачал их.
– Он так догадается! – уличил Жужик.
Тихон убрал кулак, отвернулся, раскрыл ладонь, заново уместил две спички, стараясь не смотреть на короткую. Зажал, выставил кулак. Видны были только головки.
– Тяни сразу, не раскачивай.
– Раскачаешь у тебя.
Лещ подцепил ногтями спичку. Вытянул.
Длинная.
– Значит, меня, – сказал Тихон.
– Надо отметить, – сказал Лещ.
И все выпили, а потом еще и еще.
– Ты прямо такой спокойный, я не могу! – удивился Жужик, глядя на Тихона.
– Он считает, что мы шутим, – кривя губы, процедил Лещ.
– Нет, – сказал Тихон. – Просто ведь кто-то это должен сделать. То есть убить. А кто сумеет? Никто. Так что я в безопасности.
– Да? А щас вот как дам! – Жужик схватил обломок и потряс его в руке. Но тут же положил на землю.
– В самом деле, мы это не обговорили, – сказала Метла.
Тихону показалось, что она этого хочет. Сделать это или увидеть это.
Ему показалось также, что он понял: Метла к нему чувствует интерес.
Возможно даже, она его втайне любит.
Поэтому и хочет его смерти.
Ну, не то чтобы хочет, но ее это заводит. Возбуждает. Это бывает только если думаешь о любимом человеке. Тихон судил по себе: мысль о смерти Жужика оставляла его равнодушным, о смерти Леща – слегка волновала, а о смерти Метлы так пронзала, что он это даже телесно чувствовал.
– Можно тоже спички тянуть, – сказал Лещ.
– Я не буду, – отказался Жужик. – И ну вас вообще.
Он лег на траву и вытянул ноги, заметно опьяневший.
– Ладно, – сказал Лещ. – Тогда я.
Быстрым движением он метнулся к обломку, схватил его и встал над Тихоном.
– Ты на это и рассчитывал, – сказал он голосом грозным, но не очень натуральным, будто опять бандит из сериала. Сам это уловил, продолжил уже без нажима, но серьезнее и страшнее: – А вот возьму и убью тебя. И посмотрим.
Он не сказал: ударю.
Он не сказал: бацну.
Не сказал: прикончу, блызну, двину, шарахну, офигачу.
Он сказал: убью.
И глаза у него были пьяные и сумасшедшие. И зубы сжаты. И рука, держащая камень, подрагивала.
Тихону стало холодно, он подался назад и чуть приподнял руки, словно готовясь защитить голову.
А Метла выпрямила спину, взялась за прут решетки, готовясь то ли встать, то ли рвануться, чтобы помешать Лещу, и сказала ему строго – как матери говорят не в меру расшалившимся малышам:
– Сережа!
Лещ настолько отвык от своего имени, что даже оглянулся, будто не к нему обращались.
А потом сказал с настоящей злостью:
– Вот у нас всегда так! Мы только бла-бла-бла, а если по делу, то сразу типа шуточки. И ты тоже такая! А если не шуточки?
– Перестань, – сказала Метла.
– Надоело! – заорал вдруг Лещ очень громко, с каким-то привизгом. – Вы меня за человека не считаете! Лещ, Лещ! А я не Лещ! И не карась! И вы меня не знаете, ясно вам? Блин, уроды, да вы дети по сравнению меня, ясно вам? Я то могу, чего никто из вас не может, ясно вам? Сидеть! – рявкнул он на Тихона, который, устав от напряжения, пошевелился. – Проси прощения!
– За что? – спросил Тихон.
– За все! Проси прощения, я сказал! Прости меня, Лещ! Нет. Прости меня, дорогой Сережа Лещенко, что я… Что я такое дерьмо!
– Я не дерьмо.
– Ты с ума сошел? – закричала Метла. – Ты видишь, он же пьяный совсем! Он же ударит!
– Я не пьяный, но ударю! А потом тебя, если будешь мешать! – огрызнулся Лещ. – Проси прощения, я сказал!
Но Тихон не мог.
При Метле – не мог.
И вообще не мог.
Он понимал, что Лещ может его взаправду ударить. И даже убить. Но не очень верил в это. То есть верил в то, что Лещ может ударить, но не верил в свою смерть. Хотя понимал, что она может быть. Это его удивило: как это – понимать, что можешь умереть, но не верить в это?
– Считаю до трех! Раз! – Лещ высоко поднял камень.
И тут послышались странные звуки.
Все посмотрели на Жужика.
Его тошнило.
Мутная жидкость лилась изо рта на шею, на грудь, Жужик корячился, чтобы повернуться на бок, но у него не получалось.
Тихон засмеялся.
Потом засмеялась Метла.
А потом нелепо заржал и Лещ. Бросил камень на землю, подошел к Жужику и начал помогать ему ногой перевернуться.
– Такое место испортил! – ругался он.
Жужик перевернулся, но из него уже ничего не шло. Он тюкался носом в землю и икал.
Лещ сел на землю.
Вытащил сигарету, закурил. Пальцы подрагивали.
– Нормально повеселились, – сказал он.
– Ну ты и… – сказала Метла.
– Лучше не начинай, – сказал Лещ. – А то я тоже опять начну.
Они посидели еще некоторое время, допили, что оставалось, и хотели уйти, но тут возникли трое.
Громкие голоса послышались издали, а потом очень быстро приблизились. Голоса чужие, язык чужой.
Это были кавказские юноши. Их водилось довольно много в этих местах – и жили на съемных квартирах в этом районе, и приезжали в тренажерный зал спорткомплекса Тимирязевской академии. И гуляли по окрестностям.
Их главный, который шел в центре, с крепкими плечами, в облегающей красной футболке и черных очках, крикнул:
– Почему трахаемся и пьем в общественных местах? Где ваш порядок, а?
Им никто не ответил.
– Немые, что ли? Почему не говорим? Вы откуда здесь? Мы здесь учимся, а вы тут что делаете? – Парень в красной футболке подошел вплотную к решетке.
– Мы домой идем, – сказала Метла и начала вылезать.
– Постойте, девушка! – Парень в красной футболке выставил руку и положил ее на плечо Метлы.
– А ну, убрал! – взметнулась она и ударила ладонью по руке.
Парень в красной футболке схватился за руку и присел:
– Вау, как больно! – закричал он, жалуясь своим друзьям, а те гоготали, страшно довольные.
Метла хотела пройти через них, но они не дали. Притеснились к дыре втроем, Метла вынуждена была залезть обратно.
А потом залезли и они, держась рядом.
– Вы отдыхаете тут, мы тоже хотим отдохнуть, – сказал парень в красной футболке. – Вы что-то имеете против?
Друзья молчали.
– Ты что-то имеешь против? – обратился парень к Лещу.
– Да отдыхайте, мне-то что, – пожал Лещ плечами, глядя в сторону.
– А ты, эй, пьяный, ты имеешь против?
Жужик промычал что-то невнятное.
Кавказцы засмеялись.
– А ты что-то имеешь против? – спросил парень Тихона.
– Отдыхайте, а мы пойдем, – сказал Тихон.
– Как мы можем отдыхать? Вы недовольные, а мы будем отдыхать? Вот она против, – показал парень на Метлу. – Ты против?
– Отстань, – сказала Метла.
– А почему вы так грубо говорите мне? Я вам разве грубо что сказал? Я самый вежливый, вот у ребят спроси.
Ребята закивали: да, да, да, он вежливый!
– Меня зовут Девлет, а как вас зовут?
– Никак. Дай пройти.
– Они еще удивляются, почему русских девушек считают, что они проститутки! А как считать, если ты со мной ведешь себя не нормально, как с человеком, а ты как проститутка себя ведешь! Ты это понимаешь? Смотри на меня!
Голос парня изменился, появилась жесткость, наметился некий разгон, как у машины, которая переходит на повышенную передачу, готовая рвануться вперед. Его приятели сразу это почуяли, подобрались, напружинились. Приготовились.
– Ну смотрю, что дальше? – Метла вскинула голову и посмотрела прямо в глаза парню.
Хорошо посмотрела, оценил Тихон. Твердо, спокойно, без вызова, но и без страха.
А парню это не понравилось.
– Вот, – сказал он. – Ты смотришь как проститутка. Девушка мужчине не должна так смотреть, она скромно должна смотреть. А ты смотришь, как мне продаешься будто. Только я тебя не куплю, я тебя даром возьму. Хорошо? Ты радуешься, да? – засветился он улыбкой, а друзья просто в восторг пришли от его юмора, начали хохотать и, корчась от смеха, выкрикивали:
– Молодец, Девлет! Красавец!
Довольный сам своей шуткой, парень уже не мог остановиться, он быстрым движением похлопал Метлу по щеке. Каким-то особенным манером и с особенным (будто тренировался) звуком: будто по заднице хлопал, а не по лицу.
Тихон рванулся и обеими руками отпихнул парня.
– Ты, морда! А ну…
Он не успел продолжить, парень, слегка покачнувшись от его толчка, среагировал быстро: ударил Тихона по скуле, Тихон упал.
Но, упав, не растерялся, схватил камень, вскочил и замахнулся.
– Один удар, и голова всмятку! Пошел отсюда, сука! – закричал он во всю мочь, коверкая в неистовом крике язык, так что получилось не «сука», а что-то вроде «сэка».
Друзья кавказца отшатнулись, но не побежали. А тот, внимательно глядя на Тихона, сунул руку в карман, выхватил что-то.
Это что-то щелкнуло, и Тихон увидел перед собой длинное лезвие ножа.
– Хэй! – выкрикнул парень в красной футболке и сделал выпад.
Тихон уронил камень и посмотрел на живот.
Следствие велось долго и безрезультатно.
Убийцу Тихона, то есть Ильи Тихонова, студента, единственного сына матери-учительницы, так и не нашли. И друзей его не нашли. В тот день к вечеру пошел дождь, он лил два дня, вода затекла в грот, смыв все следы. А от свидетелей пользы оказалось мало. Они подробно описывали, как все произошло, но при этом не могли даже приблизительно описать внешность напавших, будто не видели их или видели в темноте. Помнили только красную футболку и черные очки. Фотороботы убийцы, составленные по словам Жужика, Метлы и Леща (то есть Вячеслава Жужакина, Анастасии Метлянской и Сергея Лещенко), были такими, будто они описывали абсолютно разных людей.
И дело осталось, как говорят в соответствующих органах, висячим, без доказательств и подозреваемых, только с формулировкой случившегося: «убийство из хулиганских побуждений».
Однажды зимой, когда сидели в подъезде, на заплеванной и забросанной окурками площадке последнего этажа, Метла сказала:
– Я читала про этого студента Иванова. Его, оказывается, даже не в этом гроте убили, а в другом. А про этот – ну, вроде того, легенда.
– Это ты к чему? – спросил Лещ.
– Да так.
Ремонт
Они жили впятером в трехкомнатной квартире: Дмитрий, его жена Нина, двое сыновей, Саша и Коля, и мать Дмитрия Лидия Эдуардовна.
Лидия Эдуардовна после смерти мужа на месяц заперлась в своей комнате, только по ночам слышны были шаги – в кухню и в туалет. И опять тишина.
Появилась постаревшая. И осталась такой навсегда, словно за месяц достигла семидесяти лет и на этом остановилась.
Когда Нина вышла замуж за Дмитрия и поселилась в этой квартире, Лидия Эдуардовна была уже на пенсии. Ее никто не помнил здоровой, хотя она и не была совсем уж больной. Она – недомогала. Ни посидеть с детьми, ни приготовить, ни убраться.
«Что-то мне нехорошо», – и скрывалась в своей комнате, которую запирала на два замка: врезной и английский, с защелкой; ключи от замков она не давала никому.
– Может, она там духов вызывает? – весело спрашивала Нина в первые годы совместной жизни.
– Или алхимией занимается, золото варит, – так же весело подхватывал Дмитрий.
Тогда все было молодо и легко.
Потом стало тяготить.
– Это сумасшествие, согласись, – говорила Нина.
– Бытовое, – с поправкой соглашался Дмитрий.
– Я ни разу не была в этой комнате. И никто не был. Что там?
– Я сам уже забыл.
Подобрать ключи и проникнуть в комнату (как предлагали авантюристы Саша и Коля) никто не решался, да и не было возможности: Лидия Эдуардовна выходила из дома редко и ненадолго. Покупала полуфабрикаты, которыми питалась. «Чтобы никого не затруднять».
Нельзя было рассмотреть что-то, когда она выходила из комнаты или входила в нее: дверь открывалась ровно настолько, чтобы проскользнуть боком, удавалось на секунду увидеть только платяной шкаф с зеркалом, которое ничего не отражало: из-за сдвинутых плотных штор в комнате царил сумрак.
– Представляю, какой там хлам, какая грязь и пыль. Она окно лет десять не мыла, – говорила Нина.
– Это ее дело, – терпеливо отвечал Дмитрий.
Нина мечтала о ремонте квартиры. Она работала массажисткой в государственной клинике, для стажа, и занималась частной практикой, ездила по клиентам.
И постоянно рассказывала Дмитрию, какие видела замечательные интерьеры.
– Люди живут все лучше. И разнообразнее. Ты заметь, раньше все говорили: евроремонт. То есть стандарт такой: кухня в одном стиле, ванна красиво плиткой выложена, пол – паркет или доска, двери хорошие, потолок ровный, окна пластиковые. И все, прямо образец будто бы. А сейчас как говорят?
– Как сейчас говорят?
– Ты не смейся. Сейчас говорят: дизайн. То есть каждый уже придумывает под себя.
Нина покупала журналы с фотографиями интерьеров, рассматривала, обсуждала с мужем. Придумывала, как все будет.
А пока вокруг была теснота, мебель впритирку, вещи во всех углах, на кухне вечно гора грязной посуды и спор, кому мыть, потолок облупился, обои выцвели, порваны и разрисованы – еще детскими руками Саши и Коли.
– Давай хотя бы косметику наведем, – предлагал Дмитрий.
– Нет, – говорила Нина. – Если уж делать, так делать. А главное, мы всё тут отремонтируем, а там, – она кивала в сторону комнаты Лидии Эдуардовны, – останется помойка? Я от одного этого с ума сойду. А у себя она менять ничего не позволит. Помнишь, я только заикнулась, она сразу, – Нина расправила плечи и приподняла голову, изображая Лидию Эдуардовну, – «Ни в коем случае. И надеюсь, мы больше не вернемся к этой теме!»
Хотя Лидия Эдуардовна редко выходила из комнаты, когда кто-то был дома, дух ее витал в квартире, дух умиротворенной безнадежности, который, наверное, вполне ее удовлетворял, а на остальных незримо давил. Поэтому никто не любил долго находиться дома. Нина работала в клинике и по заказам с утра до вечера, Дмитрий был увлеченно занят хлопотливой работой в Техническом центре Останкинской телестудии, Саша и Коля учились сначала в школе, а потом в вузах и любили после занятий общаться с друзьями у них дома, на улице, в кафе; семья сходилась только вечером, словно лишь для того, чтобы переночевать и вновь разойтись.
Иногда Нина не выдерживала.
– Я не желаю ей смерти, – сказала она как-то, – но, врать не буду, жду. Потому что зачем она живет? От нее никому ни тепло ни холодно.
– Не надо так, Нина, – сказал Дмитрий и отвернулся.
– Извини. Но я всегда правду, ты же знаешь.
Саша, старший, когда ему исполнилось восемнадцать, снял с другом-сокурсником квартиру. Родители отговаривали, но не настойчиво. Понимали.
Коля жил дома до девятнадцати, а потом женился на девушке двадцати пяти лет, инструкторше из тренажерного зала, где занимался. То есть как женился – просто ушел к ней жить. Бойфрендом.
Стало чуть легче. У Дмитрия и Нины появилась спальня. Она и раньше была, но в ней, кроме раскладного дивана, громоздились два шкафа, да еще письменный стол с компьютером Дмитрия. А Саша и Коля спали в гостиной на двухъярусной металлической кровати, которая отгораживалась ширмой из гобеленового полотна.
Кое-что выкинули, кое-что переставили.
– Теперь-то давай хоть что-то сделаем со стенами, с потолком, – предложил Дмитрий.
– Как? Люди обычно съезжают куда-то на три-четыре месяца, освобождают пространство. А куда мы съедем? Или вариант: всем поселиться в отдельной комнате. Временно. Но у нас отдельная комната только у твоей мамы.
– Можем перемещаться хотя бы из комнаты в комнату. Нельзя же так жить.
– Нельзя, но жили же. И еще поживем.
Весной, когда Дмитрий и Нина мыли окна, убирались, в очередной раз переставляли мебель, стараясь не глядеть на обшарпанные потолки и стены, на выщербленный пол из допотопной паркетной доски, Лидия Эдуардовна вдруг вышла к ним, посмотрела с печальной усмешкой, будто деятельность сына и невестки была ей упреком, и сказала:
– Скоро вам свободней будет. К лету не гарантирую, а к осени ждите, умру.
– Мама, перестаньте! – отмахнулась Нина.
Лидия Эдуардовна пожала плечами и скрылась в своей комнате.
А осенью, как и обещала, умерла.
В начале октября, бабьим летом, в солнечную теплую погоду. Не выходила из комнаты два дня, на третий спохватились, Дмитрий выломал дверь. Мать лежала на постели, сложив руки, с закрытыми глазами, вся подобравшаяся, будто позаботилась о том, чтобы не причинить лишних хлопот.
Схоронили, испытывая светлую печаль, но и облегчение, которого почти не скрывали, настолько оно казалось естественным.
Тут-то Нина и призналась, что скопила за долгие годы такую сумму на ремонт, что можно начать хоть завтра.
– Значит, мы себе во всем отказывали, я не мог нормальную машину купить, а ты тут богатела? – спросил Дмитрий – без упрека, с оттенком даже похвалы. На самом деле его вполне устраивала машина, в остальном тоже до аскетизма не доходили: одеты и они сами, и дети были прилично, питались неплохо.
Нина, поняв мужа, польщенно улыбнулась и достала пакет с деньгами. Пересчитала у него на глазах, гордясь.
– Ого! – сказал Дмитрий. – Ты, наверно, в самом деле на какой-нибудь дизайн замахнулась!
– Не на какой-нибудь, а на хороший.
Первым делом занялись очисткой комнаты Лидии Эдуардовны, не привлекая Сашу и Колю, чтобы не портить им память о бабушке.
– Боже ты мой! – сказала Нина, когда отдернула шторы и осмотрела комнату при беспощадном дневном свете.
А Дмитрий смотрел молча и грустно. Будто попал в четверть века назад, а то и раньше: многие вещи сохранились с семидесятых годов. Тот же зеркальный шкаф с петлями, которых сейчас не делают – отличными, кстати, не три хилых крепления по дверце, а сплошь, снизу доверху. Деревянная кровать с металлическими ножками. Письменный стол. Книжный большой шкаф до потолка, все книги зачитаны, ими, похоже, и занимала свое время Лидия Эдуардовна. Настольная металлическая лампа с кнопкой, торшер с покосившимся конусным абажуром из гофрированного пластика…
Начали выносить, разбирать.
Дмитрий хотел что-то оставить на память из мебели, но все было безлико, стандартно, отдавало не стариной, а старостью. На личные мамины вещи – платья, халаты, блузки – он даже не смотрел, больно становилось, их разборкой занималась только Нина. Каких-то интересных для памяти мелочей тоже не оказалось. Глобус с трещиной, календарь-перевертыш, подставка для ручек… Взял в результате только фотоальбом в дерматиновой обложке с надписью «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва. 1957». Фотографии не стал рассматривать, отложил на потом.
Нина все распланировала.
– Сначала делаем мамину комнату. Потом заселяемся в нее и ремонтируем все остальное. Ты согласен?
– Вполне.
Но бригадир, шустрый круглоголовый мальчик лет двадцати пяти, в черных брюках со стрелочкой, в остроносых лаковых туфлях, распорядился по-своему:
– Наоборот, в отдельной комнате пока ничего не делаем, только зачистку. А то наведем красоту, а вы будете потом из других комнат грязь таскать. Поставьте тут, что нужно, из старой мебели, живите, а мы будем остальное громить и строить.
Нина сразу его зауважала, согласилась.
Она взяла отпуск, перестала ездить по клиентам, занималась только ремонтом. Дмитрий, возвращаясь с работы, часто заставал ее в процессе, слушая с почтительностью непосвященного новые для себя слова и обороты: «под один маячок общую стяжку делать будем или чтобы просто ровно?», «тут штробить во всю стену придется», «гипсокартон согнем, сделаем овал, как хотите», «пеноблоком, хозяйка, ванну можно обнести, но как бы грибок не пошел». И экзотические имена: «Грое», «Занусси», «Аркана», «Замбаити», «Парла».
– Что такое «замбаити»? – спросил как-то за ужином.
– Обои итальянские. Фирма так называется.
– А «парла»?
– Тоже фирма. Паркетная доска. Вот мучаюсь, кстати, что выбрать. Есть отличные шведские «Таркетт» и «Форбо», нравятся мне, «Харо» немецкие тоже ничего, отличные финские, но дорогие – «Упофлор», «Карелия», та же «Парла». Отечественные тоже есть.
Увлекшись, Нина показывала Дмитрию каталоги: обои, кухонная техника, напольная и настенная плитка, оборудование для ванны и туалета, люстры, бра, паласы, шкафы и шкафчики, диваны, кресла, столы, стулья…
Каждый вечер Дмитрий видел изменения, они его радовали.
Однажды наткнулся на горячую ссору жены с лукавым бригадиром Ромой.
– Ромашечка, не морочь мне мозги, я видела, как этот молдаванин плитку кладет!
– Он хохол.
– Без разницы! Думаешь, я не знаю, как надо? Загрунтовать стену, а потом плотно класть на раствор, а он что делал, ты знаешь? На середку совочком кинет горку, приложит плитку и начинает выравнивать. Конечно, так легче! А что получилось? В середке приклеено, а по бокам пустота! Вода будет заливаться, да и просто отвалится все!
– Нин, я тебе гарантирую, он понимает, что делает! Эта горка, как ты говоришь, она по всей плитке расходится, плитка сидит плотно, я тебе говорю!
– Хорошо! – Нина метнулась в ванную, где одна стена была полностью выложена плиткой. – Я сейчас в любом месте отколупну три плитки, и если будет так, как я говорю, переделываете всю стену! За свой счет.
– Да пожалуйста! – пошел ва-банк Рома.
Нина схватила оставленные плиточником инструменты, решительно отбила три прямоугольника, при этом не сломав их, и торжествующе показала Роме. Тот почесал в затылке: действительно, на стене была круглая плоская выпуклость, на плитке след от нее, а по краям – пусто.
– Косяк! – признал Рома. – Ах он гад! Все заново переложит, обещаю! Вот что значит не уследить.
– Ой, да ладно тебе! – рассмеялась Нина. – Будто я не знаю, что они все для скорости так работают. И тебе это прекрасно известно! Учти, Рома, я все по интернету изучила – и как плитку класть, и как полы, мы о стяжке и подложке с тобой отдельно поговорим. И пусть попробуют те, кто потолок будет обрабатывать, не дать подсохнуть после грунтовки!
– Нин, у меня лучшая бригада в Москве! – успокаивал Рома улыбаясь, и видно было по этой улыбке, что видел он перевидел таких специалистов, кое-что вычитавших в интернете, все равно свое возьмет, обманет на цене, на качестве, а где можно будет, напортачит, потому что без этого в Москве ремонта не было, нет и не будет. Дмитрий знал это, но помалкивал, не хотел огорчать Нину.
Он только спросил после ухода Ромы:
– А почему он тебя на ты? Совсем ведь пацан, ты ему в матери годишься.
– Отстал от жизни, Дима, они сейчас все тыкают.
Дело спорилось, кипело, бедный Рома почти все время торчал здесь, хотя у него были и другие объекты, некоторые мастера отказывались работать. Один заявил: «Я вам не негр на плантации, чтоб надсмотрщик надо мной стоял!».
– Ты понимаешь, в чем дело, – горячо делилась Нина с мужем, – они настолько привыкли халтурить, что нормально работать уже не умеют! Ванну установили и быстренько начинают ее закладывать, а я заглянула под нее, там сливная труба без сифона! Это такая загогулина, – она показала рукой, видя, что Дмитрий не понимает (он был силен только в электронных устройствах), – там водяной замок образуется, чтобы не воняло из трубы и стояка. Я им говорю: ребята, вы забыли или нарочно? А они мне: хозяйка, тебе лучше хотели сделать, сифоны ведь засоряются! Я говорю: дурочку-то не делайте из меня! Пришлось им поставить. И они ведь даже не нарочно, просто сифона не было, а за ним ехать – время терять. А воруют, Дим, ты не представляешь, ну просто на всем! Купили на стройрынке шпаклевку сухую, а ее много, показывают мне товарный чек, ну, знаешь, бумажка такая от руки с печатью. Я говорю: а кассовый чек где? Они мне: там не дают. Поехала, проверила: ага, не дают! Все дают, если спросить. В чем химия, Дима: упаковка стоит, допустим, пятьсот, а они продавцу говорят: ты напиши в товарном, что семьсот, а мы тебе пятьсот пятьдесят заплатим. То есть продавцу пятьдесят навара, а им сто пятьдесят – с каждой упаковки! За мой счет! Нет, сама буду по рынкам ездить и все закупать.
И Нина, действительно, ездила с Ромой и мастерами по рынкам и магазинам, все контролировала, все проверяла. Рома вздыхал и говорил:
– Нин, я прям поседею с тобой, нельзя так до людей докапываться. Они разозлятся и хуже работать будут.
– То есть они хорошо работают только тогда, когда можно воровать?
– Неправильно вопрос ставишь, – отвечал не по возрасту рассудительный Рома. – Каждый человек в работе хочет иметь свой интерес, тогда он в настроении.
– А ты им просто плати по-человечески! Ты, я вижу, Ромашечка, на «мерседесе» уже катаешься, пускай и подержанном, хотя еще мальчик сопливый, прости на добром слове, это с каких денег, интересно?
Предложение платить по-человечески так насмешило Рому, что он чистосердечно рассмеялся и закрутил головой.
– «Мерседес» от фирмы, – сказал он, смеясь, – а ты, Нин, жизни не понимаешь.
Долго ли, коротко, квартира стала приобретать вид просто шикарный. Потолки кипенно-белые, обои приятных оттенков с рельефной фактурой («чем больше рельеф, тем богаче смотрится», – объяснила Нина), на полу паркетная доска под дуб теплого светло-коричневого оттенка, ванная и туалет, стену меж которыми разрушили, образовали почти просторное помещение, облицованное неяркой матовой плиткой, похожей на настоящий камень; Дмитрий признал, что у жены хороший вкус, и сказал об этом Нине, она расцвела и поцеловала его.
Их интимные отношения в это время приобрели молодую новизну и свежесть, переезд из опостылевшей десятиметровой спаленки в другое пространство показался им путешествием, а любое путешествие, как известно, пробуждает интерес друг к другу.
Близилась к концу отделка двух комнат, прихожей, санузла и кухни, Нина не отлипала от интернета, ища недорогие, но обязательно деревянные двери – не из ДСП и не из МДФ, Дмитрий соглашался с нею, не вполне понимая разницу. Она уже подбирала мебель, показывая вечерами Дмитрию варианты, он даже притомился рассматривать и говорил:
– Решай сама, я тебе доверяю.
– Сама! Сама бы я сплошную Италию взяла, а деньги где? Вот эта кухня тебе нравится?
– Да.
– Мне тоже. Но она восемьдесят тысяч евро стоит! А я рассчитываю на пять максимум.
Дмитрию и пять казалось дорого, но он не вмешивался.
И тут, на пике работ, на пике вдохновения и азарта, охватившего Нину, узналось то, что, оказывается, многие жильцы уже знали: дом будут сносить.
Нина не поверила.
Пошла в управляющую компанию.
Там подтвердили.
Она все равно не поверила.
Добилась приема аж в мэрии, где служащие тонко понимают, кого можно отшить, а кого лучше все-таки принять, иначе хуже будет.
Там тоже подтвердили.
Срок – будущее лето. Сейчас готовятся списки предложений жилья для переселения. Не беспокойтесь, вам хуже не будет. И даже намекнули, что если сыновья быстренько женятся, то семья может претендовать на три квартиры! Правда, однокомнатные. И, очень вероятно, с доплатой.
Нина вернулась мрачная, долго ругалась, Дмитрий сочувствовал и мысленно упрекал себя за то, что переживает меньше Нины. Да, он привык к этому дому, к этой квартире, он здесь родился, долго жил, но при этом, однако, хотелось чего-то нового. У него ведь и так все слишком однообразно: та же работа, та же машина, те же любимые сайты в интернете и программы по телевизору. И семья та же, что, конечно, замечательно, но если взять по совокупности, как-то… Добавляет однообразия, прямо скажем.
– Нет, и что делать теперь?! – бушевала Нина. – Столько денег вбухано, все уже почти готово! Кто за это заплатит? Ведь ломать вместе с ремонтом будут! Хорошо, я полы сниму, а с потолка всё – как? А в ванной и в кухне облицовка, просто так не отобьешь, все поколется к черту! И ведь все же продумано под эту квартиру, а не какую-то другую. Дим, чего молчишь?
– Думаю, не одни мы в такой ситуации. В доме все время кто-то ремонт делает.
– Очень утешает! Вечно ты мне про других! Слушай, а может, это все вранье? У меня один клиент был, рассказывал, их дом, он в центре, совсем старый, пятнадцать лет снести грозятся и все не сносят.
После этого Нина углубилась в свои мысли, отпивая понемногу вино (купила с горя, хотя обычно не увлекалась), а потом сказала:
– Это она нам мстит.
– Кто?
– Мама твоя.
– Нин, ты сама понимаешь, что это чушь.
– Не чушь. Ведь была совсем здоровая, ну не совсем, но в пределах, а потом бац: осенью умру.
– И нарочно умерла?
– Такие случаи бывают. Если человек очень хочет, может просто лечь – и все. Она, наверно, как-то узнала, что дом будут сносить. А нам не сказала. Чтобы мы ремонт начали. Наверно, просто хохотала, когда помирала. Вы хотели по-человечески жить, вам тут у меня не нравилось? Получите!
– Прекрати!
– А ты не ори на меня! Был бы нормальный мужик, сел бы с матерью, поговорил: мама, от твоего психоза все страдают, возьми куда-нибудь путевку, съезди, а мы тут все приведем в порядок! Ты пробовал ей так сказать?
– Это было бессмысленно.
– Нет, ты пробовал? Ты даже не пробовал! Даже не пытался!
– Нин, хватит. Я ведь и обидеться могу.
– Неужели? Конечно, можешь себе позволить! Это мне некогда, я и строитель, и прораб, и бригадир, и сантехник! Прокладки, между прочим, менять научилась, причем не там, где ты думаешь!
Дмитрий оскорбился. Молча встал и ушел в комнату.
Сел за компьютер, начал играть в простую игрушку, чтобы успокоиться.
И вдруг застыл.
А потом повернулся и оглядел комнату.
Вот тут был шкаф с зеркалом. Тут книжный шкаф. Тут стояла мамина кровать. Тут жила мама. О чем думала? Почему так замкнулась? Почему, до смерти отца бодрая, живая, веселая, любящая чистоту и порядок, так резко изменилась, перестала замечать вокруг себя пыль, грязь, беспорядок? Впрочем, порядок был – порядок нетронутости. Она ничего не хотела касаться, чтобы все было как при отце, догадался Дмитрий. Почему я раньше этого не понял? Почему об этом с ней не поговорил? Она таким образом сохраняла отца, но ведь я мог же хоть в какой-то степени его заменить! Если бы попытался понемногу вытеснить отца, как ни странно это звучит, она, может быть, согласилась бы на перемены. Тот же кривой торшер, у которого бок взбугрился от слишком сильной лампы – она не могла не видеть, что выглядит он убого, неказисто, а если бы Дмитрий, каким-то образом проникнув к ней, посидел рядом под торшером вечер, другой, третий, пожил бы там, он имел бы право ненавязчиво предложить поменять его – не только для нее, но и для себя. А там дошло бы и до драного зеленого кресла под торшером, оба деревянных подлокотника которого, наклеенные нехитрым советским манером прямо на обивку, отвалились. Сначала он подклеил бы их, а потом сказал бы: «Да нет, мам, это не выход, давай другое купим! А то на этом сидеть, у меня вся попа, извини, комками сбилась!». Сыну неудобно – это повод! А когда неудобно самой – не повод. Даже наоборот, какое может быть удобство, если умер муж? Нет, тебе неудобно, зато ты жива, вот и терпи.
Огорченный и отчасти напуганный этими новыми мыслями, Дмитрий встал и хотел выйти к жене, чтобы ими поделиться, но вспомнил, в каком она настрое, и сел опять к компьютеру.
Но не игралось. Глупый вихрастый человечек застыл в прыжке перед очередным препятствием, на мониторе равномерно мерцала надпись «Pause», и Дмитрий сам себе показался этим человечком, который прыгал, прыгал и вдруг завис, впервые задав себе вопрос: а куда, собственно, я прыгаю и зачем? Какова цель?
Вот у Нины была цель, сейчас у нее горе из-за того, что достижение этой цели оказалось невозможным (вернее, обессмыслилось), пусть цель не какая-то там сильно духовная, но все же. А у него, Дмитрия? Ходить на работу и зарплату получать? Заботиться о семье? Это не цель, а… а что? Наверное, долг, что ли? Или, так скажем, условие существования. Привычка. И так далее.
А цель-то была, просто он ее проморгал: вернуть маму к жизни. Она ушла из нее за двадцать с лишним лет до смерти, а он как-то сразу согласился с этим. Почему? Почему так легко смирился с этим уходом? Может, всего лишь потому, что так легче было жить? Мама не вмешивалась ни во что, существовала бесшумно, почти бестелесно, хотя наверняка какие-то мысли у нее были насчет того, что происходит за стеной. Почему она не приняла Нину? Ни одного попрека не было, ни одного намека, но Дмитрий чувствовал – не приняла. И с этим тоже смирился. Даже похваливал себя за то, что не принял ничью сторону. Но и для того, чтобы между ними образовалась связь, тоже ничего не сделал.
Дмитрий выключил компьютер вместе с зависшим человечком, злорадно нажав на выскочившую табличку с надписью «Принудительное завершение программы», разделся, лег в постель. Оглядел голые пустые стены, закрыл глаза и неожиданно заплакал. Повернулся на бок, слезы стекали на подушку, он их не вытирал, только шмыгал носом. Так, тихо плача, и заснул.
С этого дня у них с Ниной что-то оборвалось. Внешне все было более-менее: общались, говорили, ложились вместе спать, пожелав спокойной ночи и отвернувшись каждый в свою сторону, но появился какой-то прогал, возникла зона умолчания.
Касалась она, конечно, в первую очередь ремонта, который Нина продолжила.
Будто и не грозил никакой снос, она с прежним азартом взялась за дело. Освободили комнату мамы, Нина предъявила ремонтникам эскиз и потребовала точного исполнения. Ссорилась с ними, ругалась, волновалась, но иногда и хвалила, радовалась – тем больше, чем ближе было к концу.
Комната получилась прекрасная – светлая, уютная, с красивыми светильничками в изголовье будущей кровати: здесь предполагалась спальня.
Без передыху Нина начала покупать мебель. Денег не хватало, она взяла кредит. Дмитрий ни во что не вмешивался. Нина раньше по любому поводу советовалась, вернее, под видом совета ждала похвалы, ободрения запланированному или уже сделанному, а сейчас ставила перед фактом. Вот этот диван, эти кресла, эти шкафы.
И все было неплохо по отдельности, но, собравшись вместе, оказалось вовсе не тем, к чему применимо слово «дизайн». Квартира каждым своим углом, каждой вещью самодовольно заявляла: тут был ремонт, мы дети ремонта, мы слуги ремонта, пусть пройдут годы и годы, но вы, глядя на нас, сразу подумаете: «Здесь был ремонт!».
Трудно было понять и уловить, в чем именно это заключалось, но ощущение было явственное. Настолько внятное, что и Нина его услышала, поняла, увидела. Шумно радовалась, но в лице сквозило тайное недовольство.
А может быть, пытался догадаться Дмитрий, она нарочно все портит – чтобы не жалко было рушить?
Эта догадка даже как-то утешала.
К весне все было сделано. Нина опять уже работала и в клинике, и с клиентами, наверстывала. Кое-какие мелочи докупала по выходным. Несколько раз заезжали Саша и Коля, хвалили маму. Она рассказала им, каким образом можно получить три квартиры, но срочно жениться не соблазнился ни тот, ни другой. Странная стала эта молодежь – живут себе на съемных квартирах и не беспокоятся. Может, потому, что для многих свое жилье недоступно? Или само понятие своего жилья обесценилось? Это мудро, если вспомнить, что все мы гости на этой земле.
А Нине захотелось устроить новоселье. Пригласить подруг, кое-кого из клиентов, с кем тоже образовалась дружба, Дмитрий может, если хочет, позвать кого-то со своей работы (он не собирался), сыновья приедут, Нина ими, взрослыми и красивыми, похвастается. И их девушками: у Коли тоже появилась герлфренд, красотка, как и у Саши. И тоже почему-то старше него. Но неважно.
И гости собрались, и восторгались, оценили каждую продуманную деталь.
Заполненная людьми, квартира похорошела, все уже не так кричало о ремонте, и Нина осчастливилась, отбросила сомнения, которые ее терзали. Подробно рассказывала, как все происходило, как она титанически боролось с вороватыми и халтурящими ремонтниками, как собственноручно делала то-то, то-то и то-то.
Гости, из которых многие жили в условиях не худших, а некоторые в несравнимо лучших, поздравляли, с удовольствием слушали (такие вещи всем интересны), с аппетитом ели и пили (Нина очень постаралась, на столе было все, что душе угодно), но тут кто-то сказал, какая-то женщина, клиентка Нины из их же дома, откуда-то с верхних этажей:
– Ниночка, это все очень прекрасно, только, когда ты рассказывала, я думала, ты какой-то временный ремонт делаешь. А у тебя вон какой стабильный, просто мемориал. Но дом-то скоро снесут, что же, пропадет это все?
Те, для кого это было новостью, то есть большинство, озадачились. В самом деле, зачем?
Нина махнула рукой:
– Ну и снесут, и что? В дерьме жить из-за этого? Вот вы в поезде, например, едете, а у вас на столе салфетка грязная, вы же ее попросите заменить? Хотя какая разница, если несколько часов ехать?
– Тут не салфетка, тут большие деньги! – не унималась соседка. – Пропадут!
– И пусть пропадут! – засмеялась Нина. – Может, меня завтра машиной собьет или болезнь какая-нибудь, не дай бог, и что, думать об этом и ничего не делать? Хоть день да наш, правда, Дима?
Дмитрию было приятно, что она этим вопросом взяла его в союзники (на самом деле просила поддержки, и он это понял).
И сказал:
– Действительно! Чего вы беспокоитесь? Во-первых, мебель никуда не денется, перевезем. И двери снимем, и паркет, да тут все съемное почти! Но это не главное. Главное, – обратился он к соседке, – я тут был в мэрии вместе со съемочной группой. Ну, на ПТС выехали, передвижная телевизионная станция, видели, может, такие большие автобусы, а я вместе с журналистами пошел в мэрию, кабели там нужно было монтировать. А они там уже начали. Интервью. Как раз по вопросу сноса домов в Москве. Человек из мэрии прямо конкретно по адресам пошел. И тут я: а вот этот адрес есть на снос? Он смотрит: нет. Я говорю: почему же, говорю, этот адрес в управляющей компании значится как для сноса? И тут он говорит. – Дмитрий сделал паузу и оглядел притихших гостей. – Говорит: это, говорит, старый фокус. Объявляют, что снесут, но предупреждают: равноценные квартиры дадим только тем, у кого нет долгов! И тут же должники начинают платить! Всё, вся на этом махинация! Потому что долги – это их бич, вот они и придумывают.
– А что ж ты раньше не сказал? – ахнула Нина.
– Вот, говорю.
– Умно! – оценил чей-то мужской голос, в котором слышалось уверенное понимание, что на самом деле умно в этой жизни.
И веселье продолжилось.
Дмитрий эту выдумку взял не с потолка, он читал в интернете о подобных аферах, но, увы, их дома это не касалось. По взгляду Нины он увидел, что она все поняла. Удивилась вслух только для того, чтобы подыграть.
Проводили гостей, долго убирались, мыли посуду.
Квартира опять заблистала новизной и ремонтом.
Дмитрий сел перед телевизором, а Нина прикатила столик-тележку с двумя бокалами вина и свечкой. Выключила свет, зажгла свечку. Подняла бокал:
– За новую жизнь!
– За новую жизнь.
Они выпили, Нина выключила телевизор, потянулась, подняв руки вверх.
– Пора баиньки!
Они легли на широкую новую супружескую постель (ее привезли только вчера), на новое белье, все пахло чистотой и свежестью. Нина обняла Дмитрия и зашептала:
– Дим, ты пойми, ведь у меня всю жизнь не было ничего своего. Жила с мамой у приемного отца в его доме, потом в Москву приехала, в общежитии ошивалась, пока тебя не встретила. Все всегда было чужое. И у вас тут тоже, Дима, ты прости. Не моя квартира, не моя мебель.
– А я, а Сашка с Колькой? Тоже чужие? – спросил Дмитрий.
О маме не спросил.
– Да я же не об этом! Я понимаю, не в вещах дело. Своего ничего в каком-то смысле и нет в принципе. И одежда на нас чужая, не шьет же себе никто ничего, и едим все чужое, и мебель тоже не сами делаем. Но я мечтала сделать ремонт и почувствовать – все мое! Наконец-то все мое, понимаешь? Мой дом, понимаешь? Я прямо до тоски этого хотела! И вот он есть. Спасибо, ты красиво соврал. Но я даже без этого счастливая, серьезно. Вот смотрю вокруг, – сказала Нина, уткнувшись в щеку Дмитрия, – и мне все равно, пусть завтра это снесут, но сейчас – мое! Мой дом!
Она помолчала и вдруг засмеялась.
– Ты чего?
– Да сравнение пришло хорошее. Вот ракеты запускают. Они огромные. А в космос летит только верхушка. То есть люди строят, стараются, сколько сил уходит, времени, материала, и все ведь сгорает! Но ведь не даром же?
– Нет. А что у нас вместо верхушки? Мы сами?
– Ну да, наверно. А за маму прости, Дим. Думаешь, я не понимаю? Я такая стерва, если подумать. Прости, ладно?
– Да брось ты. Это меня простить надо. Только некому теперь.
Нина приподнялась на локте, посмотрела в лицо мужу, вглядываясь в глаза.
– И думать не смей. Я такого сына для матери никогда не видела. Столько лет – ни разу ни в чем не упрекнул. Ничем не побеспокоил.
– А если надо было побеспокоить?
– Нет. Не хотела она этого.
Дмитрий подумал, что Нина не права, но не стал с ней спорить.
А может, и права.
Но и Дмитрий прав.
И все по-своему правы.
А еще подумалось, что мама и есть та верхушка, которая полетела в космос, хотя тут ничего не сгорело.
Но могло бы сгореть.
Вот она и улетела – заранее.
Или нет?
Как можно захотеть смерти и, тем более, ее запланировать?
А как можно делать ремонт в доме, который снесут?
И почему он так любит Нину сейчас, именно сейчас? Больше, чем когда бы то ни было.
А ведь она, если подумать совсем честно, взялась делать ремонт, строить свой дом еще и потому, что не чувствовала своим Дмитрия. Он ведь не так уж любил Нину, когда поженились, скорее, согласился с ее любовью. И она это чувствовала, наверно, но приняла, тоже согласилась. А потом устала от его чуждости, поэтому и дом… То есть, получается, человек все делает не для того, для чего ему кажется, а для чего-то другого?
Ничего не поймешь в этой жизни.
Хроника. Февраль
Из новостей
* * *
Над Челябинской областью взорвалось небесное тело, предположительно метеорит, в результате чего имеются многочисленные разрушения, за медпомощью обратились 1552 человека.
* * *
Астероид пролетел рядом с Землей на максимально близком от нее расстоянии – 27,7 тыс. км.
(Все очень близко. Очень. Как в фильме «Меланхолия».)
Из журнала
* * *
Учимся читать новости. Нужен единый учебник по истории в школе? Возможно. Корректный, учитывающий разные точки зрения, с богатым ФАКТИЧЕСКИМ материалом, разработанный СПЕЦИАЛИСТАМИ. Плюс пособия и толковые учителя.
Но вот бла-бла-бла, которыми опутывается эта инициатива, надо фильтровать. Читаем: к созданию должны быть привлечены не только специалисты Министерства образования и науки и Российской Академии наук, но и «двух старейших российских общественных объединений – Исторического и Военно-исторического обществ».
То, что в кавычках, и есть главное. «Старейшее» Историческое общество почило в бозе в 1917-м году. Возобновлено только что, в 2012-м. Председатель – С. Е. Нарышкин, он же пред. Госдумы, он же бывший сотрудник КГБ и член совета директоров табачной компании (это сочетание выглядит симпатично), он же председатель Комиссии По Противодействию Попыткам Фальсификации Истории В Ущерб Интересам России.
Комиссия просуществовала три года, исчезла, тут же выскочило вышеуказанное Историческое общество.
А Военно-историческое общество существовало с 1907-го по 1914-й год. И сейчас его НЕТ, есть только указ, подписанный 4-го января с. г.
Понимаете, да? Мало нам «Единой России», нам теперь нужна «Единая История». А уж почему здесь кавычки, полагаю, объяснять не надо.
* * *
Отец о смерти: «Я и в армии от службы не отлынивал, и, если эта подружка придет, спорить с ней не буду. Надо так надо».
Первый раз я услышал (и согласился), чтобы смерть сравнивали со службой. А что, в самом деле, служба. Долг. Надо так надо. Без вопросов.
* * *
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу намерен вернуть в армию офицеров-воспитателей. Об этом он заявил в интервью газете “Комсомольская правда”, опубликованном во вторник, 12 февраля. Шойгу подчеркнул, что принципиально важно готовить офицеров-воспитателей, а не относиться к ним как к “рудименту советского времени” и “замам по общим вопросам”. “Это должен быть профессионал. Он обязан знать, как живет солдат, чем живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая у ребят дома обстановка. Он должен уметь работать с душой солдата”, – сказал глава Минобороны».
Это, значит, опять политруки?
Из этих людей кто-нибудь читал хотя бы одну науч. – поп. книжку по педагогике? О том, в частности, что обучение и воспитание – один процесс, что воспитывать должен командир – делом, военной работой, своим примером. ОБЩЕЕ ДЕЛО воспитывает, ничто больше. «Воспитание» отдельным номером солдаты (как и школьники, и студенты) воспринимают с юмором, а на «воспитателей» всегда смотрели как на придурков. Да какой нормальный молодой человек кому вообще позволит «работать» со своей душой? Будут косить: одни делать вид, что воспитывают, а другие, что воспитываются. В результате из воспитателя получится то же, что всегда было: лагерный «кум». «Кто курит, кто пьет» – откуда он узнает? Стучать будут.
А вот хорошие психологи в армии нужны. Как и везде. При этом ни в коем случае не в штате подразделения. Отдельной независимой службой.
* * *
Левый крайний
Просматривая старые фотографии, вдруг обнаружил закономерность, на которую раньше не обращал внимания (да и вообще не большой любитель ковыряться в фотоархивах): на коллективных снимках я всегда с краю. И, как правило, слева. Что слева, в этом, полагаю, особого значения нет, но явно неспроста последовательное стремление не затесываться в гущу, чтобы всегда можно было с легкостью уйти. Или выйти.
Вспомнил, что и на собраниях всегда садился с краю. И в кино, и в театре. И в застолье.
Наверное, это нехорошо. Но это факт: я не люблю быть впереди, в центре, равно как и сзади. А сбоку – все равно что отдельно.
Вот так и понимаешь наконец правду о себе.
* * *
Лицедейство
Жизнь в СССР была сплошным карнавалом с постоянной сменой масок.
На официальном празднике – торжественно-похоронная маска советско-партийной лояльности. В учреждении, магазине, везде, где тебе могут что-то дать или не дать, – маска льстивого холопа. По эту сторону стола или прилавка – ты бог и царь. Среди диссидентов диссидент, на субботнике комсомолец, с пролетариями пролетарий, с интеллектуями интеллектуй. Везде свой. Некоторые, меняя личины, забывали, какая из них собственная.
«Будь самим собой!» – призывали нас.
«Не морочьте голову, скажите, кем надо!» – отвечали мы.
Сейчас поменялись маски, но карнавал остался. Каждый из нас способен за день пятикратно перевоплотиться. Вершитель судеб и унылый исполнитель, деляга и раздолбай (часто одновременно), ипохондрик и романтик… У нас высочайшая степень социальной мимикрии, из-за чего жизнь вокруг меняется очень медленно: мы предпочитаем не улучшать ее, а приспосабливаться. Менять маски. Это легче.
Была все-таки сермяжная правда в том, что православие осуждало актерство, лицедейство, понимая его как согласие на лицемерие, пусть и игровое, на дробление своей единственно данной сути.
* * *
Условная служба
Военные сборы после университета. Два месяца.
Строевая подготовка, изучение уставов, мытье полов и уборка территории – каждый день. Политзанятия – два раза в неделю.
Стреляли из пистолета – 1 (один) раз. Из автомата – 1 (один) раз. Из гранатомета болванками по бетонному кубу – двое из роты (оба не попали).
Водили БТР по 15 минут каждый. Инструктор-подполковник сидел в люке над водительским сиденьем и направлял: стукнет левым сапогом по левому плечу – налево. Правым – соответственно направо. Шлепок подошвой по макушке: не гони!
БМП, боевую машину пехоты, которую мы, будущие командиры мотострелковых взводов, должны были знать, как «содержание собственных штанов» (шутка одного полковника), видели один раз – издали. Понравилась.
Рацию показали, велев осмотреть внешний вид, но руками не трогать. ПТУРС (противотанковый ракетный управляемый снаряд) демонстрировали на картинке. За незнание принципа действия, кумулятивной силы и дальности полета ставили двойку или давали наряд вне очереди.
Зато с удовольствием одевали в ОЗК (общевойсковой защитный комплект), то есть в резиновую робу и противогаз, и приказывали:
– Выдвигаемся в зараженную местность с целью занятия территории и уничтожения выжившего врага! Скорость пятьдесят километров в час. Условно!
Ибо предполагалось, что выдвигаемся на машине, но машины не было.
И мы шли в условно зараженную местность с целью условного занятия условной территории и условного уничтожения условного врага.
И враг этот жив до сих пор, он окружает нас со всех сторон.
Но он не условный, и это не Америка.
Из дневника
* * *
Страшная Любовь разгорается так, что самому страшно.
* * *
И тут же потухла. Писал рассказ «Лукьянов и Серый». В ближайших замыслах еще два. Но потом. Раздвоение, растроение, расчетверение. Четвертование)))
Библиотека
– Вы, говорят, книгами интересуетесь? – спросила меня в лифте соседка откуда-то с верхних этажей, женщина лет шестидесяти.
– В общем-то да.
– Не хотите купить мою библиотеку? Только условие: целиком. А то лучшее возьмете, а остальное куда девать? На помойку? Я прошу недорого, но за все сразу.
Щепетильная женщина, подумал я. Избавиться от книг почему-то хочет, а на помойку отнести стыдится. Другие давно уже выбрасывают с легкостью, моя знакомая рассказала, как однажды нашла у мусорных баков целую гору – ладно бы одноразовые детективы, но там была и классика, и современные очень неплохие авторы, она в три приема утащила домой три изрядных стопы, взяла бы больше, но ее опередил мусоровоз.
– Посмотреть бы сначала, – сказал я соседке.
– Нет, вам в принципе интересно? А то посмотрите и скажете, что не надо.
А вы все не глядя покупаете? – мог бы я спросить ее. Но не спросил. Сказал:
– В принципе интересно.
– Ладно. Часов в восемь вечера приходите.
И назвала номер квартиры.
Я заранее чувствовал себя обманщиком, потому что покупать не собирался ни в каком случае: и лишних денег нет, и своих книг девать некуда.
Но посмотреть очень хотелось: для меня с детства библиотеки – это приключения, путешествия с удивительными неожиданностями и открытиями.
Первой библиотекой был шкаф в доме родителей.
Бордовый том Пушкина альбомного размера с вытисненным профилем на обложке, гладкие листы, потом я узнал, что такая бумага называется веленевой.
Книга «Приключения доисторического мальчика», которую я начал читать на теплом летнем крыльце утром и не сходил до вечера, пока не закончил. Именно из-за этой книги я решил стать писателем – когда вдруг понял, что автор ведь не мог ничего знать про доисторического мальчика, он все выдумал! Замечательная профессия – выдумывать людей и целые миры, записывать, а другие будут в твоих мирах жить. Я так часто потом рассказывал эту историю, что даже начал сомневаться, не сочинил ли я ее, уж очень красиво. Кажется, все-таки нет.
Был еще трехтомник Маяковского, светло-серый, с черно-красными рисунками, резкими и странными – знамена, штыки, угловатые люди, стремящиеся вперед, но так изображенные, будто скопом куда-то валятся. Вначале была автобиография «Я сам», и она мне, первокласснику, страшно понравилась, все было смешно и понятно, за исключением каких-то мелочей. Стихов не понял, но тоже понравились. «Багровый и белый отброшен и скомкан…», «Я вышел на улицу, выжженный квартал надел на голову, как рыжий парик». Были там и стихи для детей, но после «багрового и белого» и «выжженного квартала» не впечатлили, я будто сразу из них вырос. Я вообще в детстве не любил детских стихов: мне казалось, что со мной будто кто-то заигрывает, нарочно придуривается. На елках и праздниках категорически не соглашался читать стишки, упирался до слез и ора. Наряжаться в какого-нибудь зайца, ладно, соглашался, ряженых нас было много, не одному выходить перед всеми, можно спрятаться под елку и сердито там сидеть. Я до сих пор уверен, что слово «скучать» произошло от «куча», толпа. В куче, в толпе, мне почти всегда скучно, один я почти никогда не скучаю. Ну, или с одним-двумя собеседниками. Всё, что больше, – куча.
А еще там была книга по отцовской зоотехнической части: «Коневодство». Атласно-коричневая, можно сказать – гнедая обложка, на титульной странице значилось: «Под редакцией и руководством С. М. Буденного». Меня это удивляло, я знал, что Буденный – герой Гражданской войны, рубака и воин, при чем тут редакция, мне казалось, это не сочетается. В книге описывались различные породы лошадей, начиная с древних, особенно запомнился рисунок скакуна с невероятно длинной изогнутой шеей, подпись объясняла, что этот конь – родоначальник знаменитой арабской скаковой породы. Были в книге цветные вкладки: фотографии лошадей с указанием масти. Звучало волшебно: каурая, вороная, соловая, игреневая, буланая… Несколько дней я хотел быть коневодом.
Однажды в деревне, где я каждое лето гостил у родственников, мы засели в доме в дождливые дни, играли в шахматы, в шашки, в чапаевцы, в карты, в города, надоело, залезли в тумбочку под телевизором и достали оттуда журналы и книги. Их было мало, мы даже слегка поссорились, разбирая. Мне досталась книжка «Над Тиссой», зеленовато-черная, перечеркнутая белым тревожным названием, нарисован бдительный солдат с собакой. Про злобных шпионов, которых, конечно, поймали. Вторая была – «Хромой бес». На синем фоне звезды, чья-то тень и черные прямоугольники ночных окон. О приключениях студента и его спутника-черта, который открыл ему все крыши и тайны Мадрида (или Толедо, не помню, а лезть в постылый интернет не хочется), я читал взахлеб, не заметив, что дождь кончился.
Потом опять начались игры, речка, овраги, леса, скотомогильник, где, уверял брат, закопан ископаемый мамонт, только он завален, его не видно, но кусок бивня находили пару лет назад. В общем, было много интересного. А однажды мы пошли зачем-то на почту, в этом же здании была комната-библиотека, а в ней я обнаружил клад: восемь (кажется) толстых оранжевых томов – собрание сочинений фантаста Беляева. Я попросил сразу все, не дали. Только два. Ладно, я взял два, залез на дерево, где у нас было построено гнездо из мягких веток, и пропал. В день я прочитывал по книге. Заканчивал, бежал в библиотеку, брал следующие два тома. Знал, что не успокоюсь, пока не добью до конца. Добил – и до конца лета забыл о существовании букв.
Кстати, о собраниях.
На учительскую практику меня послали в поселок Базарный Карабулак. Я вел уроки или сидел на занятиях своей кураторши, перенимая опыт, а во второй половине дня не знал, куда себя девать, торчал в гостинице, где не было ни радио, ни телевизора, а книг я почему-то с собой не взял. Забрел в местный книжный магазин, с изумлением увидел в свободной продаже черный том Ахматовой, еще что-то, что исчезло бы в моем просвещенном Саратове в течение минуты. Вернее – даже не появилось бы на прилавках. Зато, к слову, продовольственные магазины Карабулака были пусты, только соль, спички и сахар, поэтому кураторша, стесняясь, попросила меня, когда я собрался на побывку домой, привезти немножко масла сливочного, сыра любого, какой-нибудь колбасы и, муж очень хочет, кильку в томате. Дала денег. В Саратове тоже было не изобилие, масло и сыр помогла добыть мама, а консервы я нашел сам, причем не просто была килька, а килька с добавлением овощей, кураторша пришла в восторг и на следующий раз заказала десять банок. «Если вам, конечно, не трудно».
Так вот, в тамошней районной библиотеке я увидел собрание сочинений Бунина. Раньше не хватало времени, а тут, раз уж такой случай, прочел с первого тома до последнего, подряд. К концу держался на чистом упрямстве. Нет, мне нравится Бунин, но я всегда чувствовал в нем, в его прозе и его стихах, какой-то высокомерный холодок – не вообще, а направленный на меня, будто этот артистократ (так мой папа выражался) неведомым образом чуял, что по его изящным строкам будет шмыгать дерзким непочтительным взглядом плебей, сын плебея и внук плебеев. Это ощущение так до сих пор и осталось.
После Бунина я взялся за десятитомник Достоевского (серый в полоску). И тоже – от начала до конца. Так больших писателей и нужно читать. Я словно прожил с ним всю его жизнь, пусть и в сокращенном варианте, все перечувствовал, переволновался, перемучился, Достоевский меня выматывал до страшной усталости, я вышибал эту усталость ежевечерним портвейном.
О том, чтобы иметь такой десятитомник в личном пользовании, я в ту пору даже не думал, в открытую продажу он не поступал, а барыги-букинисты заламывали фантастические цены. Для тех, кто не помнит, сколько чего стоило, всего один пример: «Библиотека всемирной литературы» (200 томов) продавалась с рук за половину стоимости кооперативной квартиры. Или половину машины. Знаете, сколько она стоит сейчас – все тома и в прекрасной сохранности? Учитывая инфляцию, для ясности назову в долларах: полторы тысячи. Квадратный метр жилья в Саратове или несколько дециметров в Москве.
Плохо?
Да.
Плохо и грустно.
Но, как всегда, все имеет две стороны: зато сбылась моя мечта и я купил даже не десятитомник, а полное собрание сочинений Достоевского издательства «Наука», Ленинградское отделение, 1972–1990 гг., тридцать томов, тридцать три книги, скромный переплета серо-зеленого цвета, с желтоватой бумагой сорта «№ 1»…
А мог ли я представить во времена юности, что сумею когда-то добыть заоблачный, недосягаемый чеховский тридцатитомник, который имели в советское время только короли жизни: академики и доктора наук, секретари обкомов и директора мясокомбинатов! Я добыл его. То есть я просто его купил, подарил себе на день рождения, найдя в интернете за полминуты, позвонив и услышав, что могу приехать хоть сейчас.
Сколько стоит? – конечно же, интересно вам. Не секрет. Столько, сколько ноутбук средней руки. Или обед в отеле «The Ritz Cаrlton» на четверых без шампанского. С шампанским – на двоих.
…
Общественные библиотеки меня всегда поражали несусветным богатством, даже если это были всего три комнаты помещения, переделанного из обычной трехкомнатной квартиры, как было у нас в новостроечном районе, куда мы переехали из пригорода. Странное ощущение: заходишь в обычный подъезд обычного дома, на первом этаже три обычные двери, за ними обычные люди живут (вот повезло-то им!), а рядом – сказочный мир, пещера Аладдина.
– «Волшебник изумрудного города» есть?
– На руках. Есть «Семь подземных королей».
– Это я уже читал.
– Да ты и «Волшебника» пять раз брал! – библиотекарша смотрела в формуляр.
Это правда, некоторые книги я перечитывал и перечитываю регулярно. За исключением тех, что помню практически наизусть и, не читая, могу воспроизвести в уме – «Мертвые души», например, или «Евгений Онегин». А в студенческие годы у меня была традиция: в мае, как раз тогда, когда надо было усиленно готовиться к сдаче сессии, я приходил в зал периодики научной библиотеки университета и брал два номера журнала «Москва» – те самые, предпоследний номер 66-го года и первый 67-го, фиолетовые, проклеенные и прошитые по корешку, залистанные, зачитанные так, что листы истончились до состояния папиросной бумаги. За журналами девушке на выдаче не надо было даже ходить, они всегда лежали у нее в одном из ящиков стола – только нагнуться, выдвинуть, достать и положить передо мной с улыбкой. Я отвечал тоже улыбкой: мы друг друга понимали. В конце читального зала периодики была комната со стеллажами реферативных журналов, в нее почти никто никогда не заходил. За стеллажами – полуподвальное окно с широким подоконником. Я клал журнал на подоконник, ложился локтями, утыкался и исчезал, пропадал, растворялся в истории Мастера и его возлюбленной; эта история остается для меня главной, хотя ко многому другому остыл. Книга предполагает простодушие и влюбленность, тогда все будет правильно.
Я любил сидеть в филологическом зале с высокими окнами и потолками, где были длинные столы из массивного дерева, лампы с зелеными, конечно же, абажурами, читал, конспектировал, а однажды взял да и написал свой первый рассказ – напрочь не помню, о чем. Четыре листка (я уже тогда предпочитал писать на листах, а не в тетрадях), покрытые летящими строками. Настоящая рукопись настоящего рассказа, я был в восхищении. Я взял эти листки и спустился в полукруглый вестибюль библиотеки – покурить и перечитать рассказ, чтобы насладиться им. А там на свою беду стоял, никого не трогая, Сережа Золотцев, умница и поэт, который в лихие времена сделался, говорят, продавцом пива, мы с ним были едва знакомы, другой курс, другая компания, но я подошел к нему и сказал:
– Хочешь рассказ послушать? Он короткий.
Сережа, втягивавший сигаретный дым, закашлялся, затряс головой, что я принял за утвердительные кивки, и, не давая ему опомниться, начал.
Он слушал, глядя на листки и тоскливо переминаясь. Выслушав, сказал:
– Нормально. Узнаваемо. Реалистично.
Сильнее оскорбить меня было нельзя: я в ту пору ненавидел узнаваемость и реалистичность, я старался, чтобы было необыкновенно и фантастично. Дождавшись, когда Сережа уйдет, я порвал листки и выкинул их в урну.
А однажды девушка, работавшая в библиотеке, пустила меня в хранилище. Вообще-то мы хотели там немного поцеловаться, но я увидел эти книжные катакомбы, бесконечные лабиринты с тысячами и тысячами книг – и обомлел. Я никогда не видел такого богатства в одном месте. И не по одному экземпляру стоят книги, а вот, например, три рядом одинаковых толстых тома, «Гаргантюа и Пантагрюэль». Я знал, само собой, что книги издаются многотысячными тиражами, у меня до сих пор где-то стоит выпущенный Приволжским издательством, размещавшимся в Саратове, «Обломов» в картонном переплете, 500 000 (пятьсот тысяч) тиража, но впервые видел вживую столько одинаковых книг – как золотые слитки мерцали они на полке. И целовались ли мы с той девушкой, не помню, а три эти книги – помню.
Первая домашняя библиотека, которая меня поразила, была у моего одноклассника Лени Амхира. Мы учились с ним в пятом классе, я увидел у него «Следопыт» Фенимора Купера с узнаваемой золотистой виньеткой серии «Библиотека приключений», захлебнулся слюной и попросил почитать.
– Я сам сейчас читаю. У меня еще Купера книги есть, хочешь?
– Конечно!
После уроков мы пошли к нему домой.
Там, в его комнате (у Лени имелась своя комната!), было целых два шкафа, а в них рядами стояли Фенимор Купер, Жюль Верн, Майн Рид, Вальтер Скотт, Стивенсон, Джек Лондон… – и в «Библиотеке приключений», и собраниями сочинений, и отдельными томами.
– Выбирай, – сказал Леня.
Выбрать, конечно, было невозможно, я это понял сразу, поэтому ткнул пальцем в верхнюю слева:
– Вот.
– Это не Купер.
– Неважно.
Я начал с левого верхнего края и через несколько месяцев добрался до правого нижнего…
И, конечно же, я хотел, я всегда хотел, чтобы в этом безбрежном книжном море появились и мои островки, и они появились, но даже тогда, когда я держал первую свою книгу, я не испытывал такого счастья, такого предчувствия чуда, которое у меня было, когда доставал из шкафа Лени очередную вселенную, вместившуюся между двумя обложками на нескольких сотнях страниц. Может, потому, что о своей книге я уже все знал и не хотелось читать ее. Сейчас я так же отношусь к выходящим книгам, любопытства хватает лишь на то, чтобы посмотреть, какой получилась обложка, мне лень дарить ее, говорить о ней, читать что-то о ней, она ушла в прошлое сразу же после выхода и даже раньше, после написания. Должно миновать не меньше пяти лет, чтобы мне захотелось глянуть, что же я там когда-то сочинил, и часто бросаю после пяти страниц – либо сразу же вспоминаю, либо понимаю, что это чтение меня не затягивает, оно похоже на спитой чай. «Вторяк», как говорит один мой приятель из Новосибирска.
В восемь часов я был у соседки.
Есть квартиры, в которые попадаешь словно через машину времени: все застыло таким, каким было много лет назад. В этом случае – семидесятые-восьмидесятые годы. Кто-то будто старался, чтобы ничего из нового времени сюда не попало. Мебель типа «стенка», по стене и выстроенная – шкаф платяной, шкаф книжный, сервант. Из этого же набора, с полировкой тускло-коричневого цвета, – стол, стулья, два кресла. Громоздкий телевизор, люстра с хрустальными висюльками, вытертый палас цвета золотая осень – и, кстати, листья изображены. Желтые.
А в книжном шкафу не оказалось ничего неожиданного. Ничего личного – в том смысле, что ничто не выдавало каких-либо особых пристрастий владельцев. Книги попали сюда в советское время так же, как попадали и в другие квартиры: куплены по случаю, по блату, по выпавшей подписке, по талонам на макулатуру. Естественно, были здесь собраньица сочинений «Библиотеки журнала «Огонек». Толстой, Серафимович, Тургенев, Шолохов, Гиляровский, желтый трехтомник О’Генри – я узнавал книги по корешкам, не успев даже разглядеть фамилию автора.
Собраньица для красоты стояли в первых рядах, я заглянул и во вторые. Советская литература того времени. Сартаков, «Философский камень». В двух томах. Тираж сколько? Двести тысяч. Мама дорогая! Двести тысяч! Панферов, «Бруски». Почему-то только первый том. Тираж сто тысяч, Краснодарское издательство. Какой-то С. Кузнецов, «Сын революции». В двух толстенных томах по восемьсот страниц. Сто тысяч. Краснодарское издательство. Какой-то Б. Зуев, «Холодное пламя», тоже толстая книга. Сто тысяч. И опять Краснодарское издательство. Почему так много Краснодарского издательства? Семья оттуда? В очередной книге попалось написанное делопроизводительным ровным почерком: «Дорогому Саше в День Рождения! Кисловодск, 1978».
Ага, ясно. Они не жили в Краснодарском крае, они ездили туда на курорты. И покупали книги в тамошних магазинах – какие придется, лишь бы почитать.
А во втором ряду нижней полки были медицинские книги и справочники. Кто-то из семьи был врачом, может, сама хозяйка.
– Эти можете не брать, – сказала она, упредив мой вопрос. – Кому-нибудь отдам. Только кому они нужны? Все теперь знания достают из интернета. Или вообще отсюда, – она показала указательный палец, брезгливо на него покривившись.
– Да, – сказал я для поддержания разговора, – это уж точно.
Конечно, было тут и несколько сборников кулинарных рецептов, справочники лекарственных растений, книжка по аутотренингу, книжка психолога Леви, несколько публицистических книг начала девяностых годов, когда пошла косяками и расхватывалась всеми горькая правда о только что ушедшем пагубном прошлом.
И никаких детективов, никакой развлекательной литературы. Члены этой семьи, если уж читали, то читали серьезное. А для развлечения телевизор есть. Вполне понимаю, я сам такой, жадничаю тратить время на жанровую бесовскую прелесть.
Но в целом эта библиотека умудрилась ничем, ни одной книгой, кроме разве медицинских, не намекнуть хоть на что-то о своих владельцах, об этой женщине, о тех, кто жил с нею здесь, – квартира ведь трехкомнатная, значит, была населенной, как это водилось, двумя, а то и тремя поколениями.
Она молчала.
То есть библиотека молчала. И женщина тоже.
Единственная зацепка не в том, что есть, а в том, чего нет – я не увидел книг, изданных после начала девяностых. Совсем.
То ли дело у моего соседа Н., невропатолога и массажиста (на этой почве и познакомились), пятидесятилетнего холостяка с неостывшим интересом к жизни. Он ходит на премьеры модных фильмов и спектаклей, у него на стеклянно-металлических стеллажах в стиле хай-тек стоят Мураками, Дэн Браун, Коэльо, Пелевин, Сорокин, Минаев, не тот Минаев, Дмитрий, который из 19-го века, переводчик Гейне, Гюго, Мицкевича, введший многих европейских писателей в русский обиход, а известный Минаев, писатель, открывший, что счастье – это трахаться не выходя из дома… и два бигмака по цене одного и вызвавший этим откровением заслуженные восторги. Н. вовсе не поклонник всех авторов, которых читает, но полагает, что надо быть в теме. Быть в курсе. К тому же, всегда есть о чем поговорить с продвинутыми девушками, до которых здоровый и бодрый Н. большой охотник.
На такую библиотеку только глянешь – и все понятно.
Или вот у моего друга, критика и теоретика литературы, библиотека не просто говорит все о владельце, она о нем трубит во всю мощь, заглушая остальные голоса, – полки с книгами занимают почти все стены, они громоздятся на полу, под окнами и на подоконниках, но не как попало, а ровными рядами, невольно вспоминаешь хронику о защите Москвы в сорок первом, такими же ровными рядами складывали мешки с песком: враг не пройдет, не подстрелит коварной пулей.
А какая библиотека у еще одного моего друга, ах, какая библиотека! – не шкафы и не полки, а стеллажи в отдельной большой комнате его огромной двухсотметровой квартиры, которая располагается в таком центре Москвы, что центрее не бывает: у Пушкинской площади, возле дома, где «Макдоналдс», но в тихом месте, во дворе. Все в этой библиотеке тщательно подобрано, продумано, имеются ярлычки: «Философия», «История», «Религия» и т. п., все авторы по алфавиту, классики отдельно, современники отдельно, в полном ассортименте, потому что принцип этого удивительного человека: не обязательно все любить, но все достойно внимания и уважения. Он успевает это читать или хотя бы проглядывать, хотя страшно загружен обширной культуртрегерской деятельностью, во многом бескорыстной, деньги у него из других времен, из приключенческого нефтяного прошлого, о котором он мне рассказывал, но у меня плохая память на такие сюжеты. Это человек, идущий в ногу со временем и даже опережающий его, у него всегда самые последние модели компьютеров, телефонов и всех гаджетов, какие только возможны. Но книги продолжает покупать, с горечью рассуждая:
– В природе человека ценить то, чем он владеет. Моя женщина, мой дом, моя книга. Это не просто чувство собственника, твое становится в какой-то мере тобой, ты его оберегаешь, защищаешь, хранишь. Это часть тебя. Ты можешь это передать – кроме женщин, конечно. По сути весь цивилизационный слом сводится к изменению отношения к собственности. Без всякого социализма все становится общедоступным. Ты можешь в один клик попасть куда угодно на земном шаре, в любой дворец или бунгало, иметь любую красавицу во всех мыслимых и немыслимых видах – пусть не владеть, только видеть, но многим этого вполне хватает. Больше того, многим только это и надо, дай ему в собственность какую-нибудь Киру Найтли, так он еще и застремается: с ней мороки не оберешься, на фиг, на фиг, ее в интернете можно вертеть, как хочешь, можно даже осязать, есть такие технологии, а скоро будут трехмерные копии, а потом и реальные двойники, из плоти и крови, это обязательно будет, если человечество к тому времени не загнется. И с книгами та же история – вот тут, – он брезгливо, но с вынужденным уважением покачал на ладони серебристый, изящный айпад, – у меня тысячи книг, что-то могу читать он-лайн, что-то купил, но при этом не приобрел ничего, кроме букв и даже не букв, а их изображения. Реальной вещи нет, понимаешь? И так будет во всем. Общедоступные тексты, общедоступные жилища, транспорт, общедоступные женщины и, возможно, даже дети на любой вкус и выбор. Но виртуальные. Поэтому я пока держусь за живые книги. Вот эту, – он достал том поэта В., матово-черный и увесистый, как обелиск, – я купил с первой стипендии у одного маклака за двадцать рублей, и это было еще по-божески! Тут все мое, вот это пятнышко на обложке мое, вот эта загнутая страница моя, вот эта отметка карандашом, понятия не имею, что я тут хотел отметить, но она моя, она живая, понимаешь?
Конечно, я понимал и грустил вместе с ним, хотя уже свыкся с тем, что многое теперь не скапливается вокруг меня (книги, старинные диски с фильмами, доисторические пластинки с музыкой), а хранится непосредственно во мне. И если захочу оживить, достаточно открыть файл и нажать кнопку, приводя в действие совместимые драйвера и коннект-менеджеры…
А была библиотека, которая меня добродушно насмешила: я оказался в гостях у одного коммерческого человека в подмосковном особняке, великолепном, без дурацких башенок и стрельчатых окошек, современном, красивом, удобном. В гостиной, в шкафах, высящихся почти до потолка, я увидел ровные ряды книг, которые можно увидеть в любом магазине при входе, то есть на массового потребителя. Детективы в кроваво-красных суперобложках, двадцать или тридцать одного автора, столько же другого, третьего, четвертого, само количество выстроившихся в ряд одинаковых книг, видимо, хозяина очень утешало – так веселит душу строителя вид ровной кирпичной кладки; кстати, он именно строитель.
А потом он повел меня в винный погреб, чтобы похвастаться своей коллекцией бутылок, привезенных из разных стран. И там, в коридоре, я увидел старенький книжный шкаф, в котором разрозненными томами стояли сосланные в подвал Толстой, Чехов и Достоевский.
Если бы выдумать, показалось бы карикатурой.
Здесь же, у этой загадочной женщины, был не просто типовой книжный набор советского обывателя, а образцово-типовой, но, кроме этого, ничего понять о людях, здесь живших, было нельзя, а мне хотелось узнать или догадаться, сказывался профессиональный зуд.
Хотелось также понять, почему она решила махом избавиться от всего этого. Тут много макулатуры, но есть и хорошие книги, пусть в популярных дешевых изданиях. Почему не передать детям и внукам? Если, конечно, есть внуки. Между прочим, ни одной детской книги не видно. Или уже розданы? Где муж этой женщины – если он был? Где дети – если, опять же, были? Где внуки?
Я вынимал книги, рассматривал, ставил обратно. Тянул время.
– Так что? – спросила женщина.
– А сколько вы хотите?
– Я цен сейчас не знаю, вы бы сколько дали?
– Сложный вопрос, учитывая условие. У меня некоторые у самого есть, а много таких, которые придется, извините, выкинуть.
– Вот и выкиньте, на здоровье.
Может, это и есть разгадка? Она хочет избавиться от книг чужими руками. Готова продать совсем задешево, и пусть другой тащит их на помойку. А ее совесть будет чиста.
Но чем они так ей мешают? Как возникло это желание подчистую от них избавиться? Я попробовал что-то нащупать, спросил:
– Вы ремонт хотите сделать, освобождаете пространство?
– Какой еще ремонт? В этом во всем жила, в этом и умру.
– Рано вам об этом говорить.
– Самое время.
Я глянул на нее, она усмехнулась, поняв значение взгляда.
– Нет, я не больная. То есть больная, но не смертельно. Просто – пять лет осталось или двадцать, разница небольшая, если подумать.
Я догадался, о чем она: о размере пустоты. Не бывает пустоты больше или меньше в зависимости от объема или протяженности. Два нуля равны нулю или десяти нулям.
– Наверно, вам эти книги что-то такое напоминают? – зашел я с другой стороны.
– Нечего напоминать, – сказала она. – Просто – кончился этот период.
– Какой?
– Прошедший.
– Нет, но было же что-то… Я, знаете, тоже ведь живу, можно сказать, второй жизнью. Приехал из другого города, там была семья, был дом, друзья. И однажды все кончилось. Довольно страшно, не буду в подробностях. Я все поменял, но книги оставил. Только книги. И фотографии. Вещей каких-то фамильных никогда не было, все типовое, одноразовое.
Этой доверительностью я рассчитывал вызывать ответные откровения или хотя бы обмолвки, проговорки. Но она только сказала:
– Да, это верно, сплошной шаблон везде.
– Пусть эти книги мне не только о чем-то хорошем напоминают, – сказал я, – о разном, но все-таки память.
– Как могилки?
– Может быть. Но могилки дорогих и близких.
– Ясно, – сказала она – как мне почудилось, с иронией. Будто разгадала мои замыслы насчет того, чтобы втереться ей в душу.
Мне ведь воображался перед посещением соседки такой сюжет: она, возможно, не хочет продавать библиотеку. Это способ залучить к себе кого-нибудь и поговорить по душам. Очередной гость приходит, осматривает книги, она предлагает подумать, а пока попить чаю. Он пьет чай, завязывается беседа… А потом он объявляет, что, извините, покупать не будет, хозяйка слегка огорчается, хотя иного ответа не ждала, провожает его – и зазывает кого-то нового. Возможен эффектный финал: кто-то вдруг решает купить библиотеку! Но она передумывает – ведь тогда не будет повода пригласить нового слушателя ее жизненных историй.
Сюжет оказался другой, она всерьез хочет продать библиотеку.
Почему?
Чтобы избавиться от прошлого? Тогда нужно в первую очередь продать или выкинуть эту безликую мебель, этот дешевый хрусталь и аляповатые чайные сервизы из серванта.
Но нет, решила начать с книг.
Может, ей просто нужны деньги?
Или это такой своеобразные вид фронды по отношению ко времени, которое ей не нравится? У вас, дескать, все пущено на продажу, ничего не осталось святого, я долго держалась, а вот теперь, радуйтесь, ликуйте, сдаюсь – вчистую и безоговорочно, и пусть всем от этого будет хуже, включая меня!
Интересно – как версия.
А если спросить напрямую? Спросить откровенно – но при этом и самому быть откровенным.
Я рискнул.
– Знаете, не буду вас обманывать: не куплю я вашу библиотеку. У меня все это есть. В других изданиях, но это неважно.
– Как хотите, – сухо сказала она, будто вдруг обиделась за свои безликие и постылые книги.
– Думаю, у вас вообще ее вряд ли купят, – сказал я. – Кто читает, у них это есть, а кто не читает, тот и не будет.
– Логично.
– Если не секрет, почему вы все-таки продаете книги, да еще вот так – все сразу?
– Никаких секретов. Место занимают, я все равно не читаю уже.
– А раньше?
– Почитывала.
– Сам процесс разонравился?
– Вроде того. Я и телевизор не смотрю – вон, аж пылью весь покрылся.
Ну, пыль-то можно было и стереть, подумал я, не ради смотрения, а ради чистоты.
– Почему? – не отставал я.
– А вы смотрите?
– Иногда.
– И что показывают?
– Да… В общем-то, ничего интересного. Я больше интернет.
– А там что?
– Книги те же. Фильмы. Общаюсь.
– А, – скала она равнодушно. – Ну, кому что. Я насчет общаться живых людей предпочитаю.
Неправду говорит, подумал я. Ничто в ней не выдает желания и умения общаться с живыми людьми. И ко мне, это заметно, сразу же потеряла интерес после отказа покупать книги. Ждет, когда уйду.
Хорошо, уйду, – а она чем займется? Книг не читает, телевизор не смотрит. Ну, попьет чаю, глядя в окно. Может, займется шитьем или вязаньем? Но я почему-то был уверен, что она не занимается шитьем и вязаньем, у нее вообще вряд ли имеется какое-то хобби. Была работа. Может, только она и была? Может, в этом и секрет? Кончилась работа – кончилась жизнь?
Она оставалось для меня абсолютно непонятной.
И – куда деваться от книжных сравнений, если речь о книгах? – я вспомнил об одном уникальном магазине, который давным-давно существовал в Саратове. Он назывался «Книги социалистических стран». Когда я впервые туда зашел, удивился пустоте и обилию. То есть множество книг – и ни одного покупателя. Две хорошенькие продавщицы в голубых халатиках. Все очень аккуратно, чинно и чисто, хороший запах… А на полках было ВСЁ. Все авторы, которых смели бы подчистую в другом месте. Но Ремарк – на немецком языке, Гашек и Чапек – на чешском, Станислав Лем – на польском… Были и классики всех времен и народов, но, опять же, на всех возможных языках, включая, кстати, и не социалистические.
Видит око, да ум неймет.
Вот и эта женщина была для меня словно книга на незнакомом языке. О чем-то догадываюсь, что-то чувствую – ничего не понимаю.
И я ушел, перестав задавать вопросы, запретив себе фантазировать на ее счет. Она имеет право на молчание, на тайну, какой бы маленькой, возможно, эта тайна ни была. Но это – ее последнее богатство.
Наверное, все-таки в книгах я разбираюсь лучше, чем в людях.
Деятель
Салтыков вечером отдыхал, обменивался репликами с друзьями в своем журнале. Заморгал конвертик в углу экрана, Салтыков нажал на него, открылось сообщение: «буду в родных Палестинах 23-го, наконец то сможем встретиться! Как мне не терпиться тебя увидеть дружище! Вот наговоримся!».
– В субботу у нас гости, – сказал он Кате.
Та услышала в его голосе нотку раздражения, встала с кресла, где просматривала отчеты учителей своего района (она была инспектор), подошла, посмотрела.
– Образец сетевой эпистолярности, – сказала она. – Ни здравствуй, ни до свидания.
– Сейчас у всех так. Перебрасываемся, как школьники записками.
– Уже не перебрасываются. Тоже через сеть.
– Я про стиль. По стилю одно и то же.
– Это да. Он совсем неграмотный? – Катя провела над текстом пальцем, будто карандашом: – «Палестины» с большой буквы, «наконец-то» без дефиса, «не терпится» с мягким знаком, отсутствие запятой перед обращением.
– И «дружище»!
– Да. Шестидесятые какие-то.
– Вот именно. Неизвестно откуда. Главное, он уверен, что я буду просто счастлив с ним наговориться. И восклицательность дурацкая.
– А кто он вообще? Бухалов, – прочла Катя фамилию. – Повезло человеку! Вы друзья?
– Считаемся. Вообще-то он настаивает, что не Бухалов, а Бухалов.
– Что значит – считаемся?
– Долгая история. А предки будто бы из казаков у него. Был казак Бухало, который бухал, вот от него.
– Чем бухал?
– Неважно. Бухать лучше, чем бухать. Да это легенда, скорее всего. Он любит о себе легенды. В Википедии биография – просто песня.
– Он там есть?
– Конечно, человек известный все-таки. Вот, посмотри, – Салтыков открыл страничку Бухалова в известной самодеятельной энциклопедии, где чего и кого только нет, кроме, разве что, самого Салтыкова, но ему это и не нужно.
– Одухотворенный мужчина, – оценила Катя фотографию, на которой Сергей Бухалов был запечатлен в момент глубочайшей задумчивости; не просто фотография – портрет.
– Сам выбирал или даже специально снимался, уж поверь.
Катя вслух читала то, что было под портретом:
– «Общественный деятель, создатель фонда “Сопричастие”, организатор молодежного фестиваля “Евразианство”»… Тут много чего. Кто он конкретно?
– Написано же – деятель. Организатор. Создатель. В советское время писали: скончался видный деятель партии и правительства такой-то. То есть – шишка. Когда человек занимается чем-то неопределенным, самое лучшее слово – деятель.
– Слушай, а ведь ты его не любишь!
– И не скрываю.
– Но говоришь: друзья.
– Я сказал: считаемся. Все, устал, – Салтыков закрыл крышку ноутбука. Хочу поваляться.
– Я тоже. Чай будешь?
– Да, спасибо.
Катя приготовила чай и принесла на подносе с ножками и бортиками (чтобы ничего не крошилось и не просыпалось) чайник, чашки, блюдце с нарезанным лимоном, печенье в жестяной банке, и они улеглись на диване перед включенным без звука телевизором и продолжили разговор. Это стало у них ежевечерней традицией. Беззвучные картинки телевизора – фильмы, передачи, реклама смотрелись еще нелепей, чем со звуком, но зато было чувство отстраненности: там, в этом аквариуме, безмолвно плавает чужая, посторонняя, какая-то неживая жизнь, а они здесь, в жизни настоящей. Иногда на короткое время включали – чтобы вместе дружно посмеяться над очередной глупостью.
– Все-таки не понимаю, – сказала Катя. – Вы когда подружились?
– Мы не дружились. Он… Ну как бы назначил, что ли, меня своим другом. А статью в Википедии он сам если не писал, то редактировал. Что у меня есть, это чувство стиля.
– Правда.
– Ну вот. Там написано: в таком-то году Бухалов уезжает навсегда в Боливию.
– Как это – навсегда? Он же тут опять.
– А вот так. Навсегда! За этим легенда, романтика, история. Он мне ее рассказывал, кстати. Какая-то красавица его не полюбила, и он ей сказал, что навсегда уезжает. В Боливию. Навсегда!
– Почему в Боливию?
– Далеко, красиво, загадочно. В Европу или на Гоа любой дурак уедет, это пошло и не загадочно. А Боливия – сразу вопросы: почему, зачем? Ну, и у него испанский неплохой, поэтому еще. Да и английский тоже. А еще в Боливии Че Гевара орудовал и погиб. Тоже романтично. А Че Гевара – мостик к Пелевину, а с Пелевиным он знаком.
– Шутишь? С Пелевиным никто из живущих незнаком.
– А он знаком. Он со всеми знаком. Между прочим, он в Боливии какой-то бизнес создал.
– Он еще и бизнесом занимается?
– Конечно. Что-то такое… Даже не знаю. Информационные технологии… Из воздуха деньги делает, короче.
– Вот наши люди: просто восхищаюсь! Поехал в Боливию и создал бизнес! Красиво!
– Вот-вот. Безошибочно. Девушки на это покупаются.
– Я не покупаюсь. Но оценила. И насколько навсегда он уехал?
– Да на полгода, не больше. Она его позвала. Или даже приехала за ним, не помню. Если бы посторонний человек текст писал, он написал бы: уехал в Боливию тогда-то, вернулся тогда-то. А «навсегда» – это Бухалова рука, это легенда. Он свою легенду из-под контроля не выпустит!
– Легендарный человек?
– В каком-то смысле. Ему все в своей жизни представляется значительным и символичным. У него темперамент, мышление и отношение к себе великого человека.
– Как он тебя все-таки другом назначил?
– Ну… Вот был такой момент. В студенческое время, в общежитии. Сижу на окне в коридоре, курю, он садится рядом.
– В комнатах не курили?
– У нас нет, староста был строгий. Он подходит, садится, коленки руками обнял, смотрит так на закат, и вдруг начинает исповедоваться. Что из маленького городка, из Краснодарского края, мама и папа полуграмотные, а его тянуло всегда к знаниям, ходил в библиотеку, влюбился там в библиотекаршу, жену гарнизонного офицера, красавицу, у них была любовь, она хотела уйти от мужа, он готов был ее похитить и увезти, офицер узнал, встретил его с сослуживцами, чуть не забили до смерти. И шрам показал. Поднял рубашку, на животе шрам. И такой торс красивый, он ничем никогда не занимался, от природы сложение такое. Гимнастическое. И красивый парень был вообще.
– Он тебе живот показывал?
– Да нет, без всяких. Хотя я какое-то время думал, что он именно такой. Из этих. Ну – всегда опрятный, выглаженный, голос такой довольно тонкий и такой слегка протяжный, как у них бывает. Как бы кокетливый, что ли. Но нет, у него вскоре девушка появилась, он даже на ней женился. Она и сейчас тут живет. Девушка была не наша, не из университета, медичка. Красавица. Просто очень. Как говорится, мисс город, только тогда конкурсов не было. Но о ней слышали, знали. У нее папа был кто-то, из партийных боссов, кажется. Невеста номер один.
– Это его и привлекло?
– Я тоже так думал. Но вроде нет. Он пылал, стихи сочинял, на балкон к ней лазил. У них квартира была на третьем этаже в престижном доме, вот ненавижу же это выражение – престижный дом, а сам говорю, мы все инфицированы насмерть… В общем, такой дом, везде лоджии, балконы. Вот он в ее светлицу и… Любил как бы, в общем. Хотя – не знаю. В этом загадка. Он умел казаться искренним. Или таким был. Не знаю. Так вот, он мне рассказал про офицерскую жену, а потом говорит: я с тобой поделился, потому что ты вызываешь доверие. Мне лестно, конечно, я ведусь на такие вещи.
– Мы все ведемся.
– Да. И так получилось, что я стал его другом. Сейчас вспоминаю – почему? Думаю: я идеально подходил на роль друга студенческой юности. Начитанный. Умный. Но при этом, как сказать… Неупорядоченный. И выпить мог, и с девушками был… Непринужденно вел себя.
– Ты?
– А что?
– Тоже легенда?
– Ты меня просто тогда не знала.
– Мне было года три.
– В общем, он такой Ромео, что ли, а я Меркуцио, хотя громко сказано. Да и не Меркуцио я по темпераменту совсем.
– Не скажи. У тебя бывает…
– Да ладно. Главное, мне с ним всегда было неловко. Он откровенничает, всякие какие-то такие вещи… А меня всего корежит. Трудно объяснить.
– Абсолютно понимаю. У меня с мамой так.
– Не замечал.
– Мы же умные обе, умеем тон держать. А на самом деле нам вдвоем с ней быть – тоска. Не знаем, о чем говорить. Она меня холодной считает. А я ее. Нет, она любит меня, как умеет, но… Ребенку же хочется, чтобы подурачились с ним, потискали, живот пощекотали. Она этого не умела. Не было чего-то… Ощущения кровной связи, вот, наверно это. Кровная связь. Она чувствуется или нет. Что человек с тобой и в тебе. Тогда связь. А она меня родила, отделила от себя – и все. Отделила навсегда. Осталась сама по себе. Может, просто не умеет любить никого, бог не дал. Отец, наверное, поэтому от нее и ушел.
– Тебе сколько было?
– Тринадцать.
– Тяжело.
– Не то слово! Он как раз меня и тискал, и баловал… Любил. Но ушел. К женщине глупой и толстой. Мама моя до сих пор красавица…
– Да. Королева.
– А эта сейчас еще толще и глупее. Но любит. Вот и все. Значит, тебе было неловко, а ты терпел. Почему?
– Не знаю. Юношеское честолюбие, наверно, он все-таки был самый заметный студент курса. Что поразительно: фантастически безграмотный и с огромными пробелами. Пробелы замазал кое-как, а пишет до сих пор ужасно. При этом общение на высшем уровне, международные партнеры, речи говорит, переписку ведет. Но там, наверно, помощники и помощницы.
– А с первой женой он недолго жил?
– Лет пять-шесть. Дочь у них. Жена тут, а дочь он в Москве пристроил. И жену навещает тоже. Она так и не вышла ни за кого. И он как бы их по-своему продолжает любить. У него это главное было: всех любит, всем радуется, всем нравится. И у всех на виду.
– В комсомольских лидерах ходил?
– Знаешь, нет, как ни странно. Соблюл невинность. У него чутье, умел смотреть вперед. Он все предвидел. Был по другой части – всякие культурные инициативы, конкурсы студенческие, КВН, чтобы много людей, чтобы штаб, чтобы вокруг все вертелось, а он главный. Да бог с ним, я не об этом. Просто удивляюсь – человек не моего темперамента, не моего склада, и любили мы с ним разные вещи, да все вообще разное. Но были вместе. Иногда ничего, нормально, иногда поперек горла, а иногда хотелось просто послать на…
– Не ругайся.
– Гуманитарию можно, это не ругательство, а лингвистический артистизм.
– У, как сказал!
– Иногда я его просто ненавидел. А иногда очень к нему тянуло. Завидовал. Энергии, радости. Любви к себе.
– Все мы себя любим.
– Лениво. А он деятельно любил. Умел радовать, дарить себе подарки. Не вещи, а… Хотя вещи тоже всегда любил – модные, стильные. Музыку и литературу тоже – модную, стильную. Но от души. Просто у него так совпадало – любить именно то, что модно. Как бы не нарочно. И вот все пять лет, пока мы учились, у меня была эта мука. Не мука, а просто – неприятно. Общение постоянное, разговоры… Иногда нравилось, чаще…
– И все-таки не послал? Почему? Еще чаю хочешь?
– Есть захотел.
Они перешли в кухню.
Катя готовила ужин, Салтыков размышлял вслух:
– У меня еще одна мука тогда была: несчастная любовь.
– И в кого это ты?
– Не я, я в меня. Одна сокурсница. Оценила мои мозги. Некрасивая, естественно. Не так, чтобы безнадежно, в одном ракурсе из десяти – можно смотреть. Мы с ней однажды в читальном зале вместе оказались – последние. До десяти зал работал. Она подсела ко мне, что-то такое начали говорить, я увлекся. Потом до троллейбуса ее проводил. И все. А потом она меня до смерти…
– Да выругайся, если уж хочется.
– Задолбала, так скажем. Как муха вокруг вьется: жу-жу-жу, жу-жу-жу! И так года три.
– Терпение у тебя!
– Именно. Но тут у меня с одной девушкой началось… Романчик такой.
– А подробнее?
– Да ничего особенного.
На самом деле нечто особенное было в том романчике: Салтыкову долго не везло с девушками, и вот попал в новогоднюю компанию, оказался в запертой комнатушке с красоткой Надюшей, а Надюша славилась тем, что умела влюбляться в того, с кем оказывалась наедине, но не надолго, на вечер, на ночь – она была поблядушка в чистом виде, любила это дело как таковое. Салтыков прикипел к ней все душой, Надюша по доброте своей позволяла себя иметь, сама одновременно встречаясь с кем попало, лишь бы весело и выпивка (спилась потом, бедняжка), наградила Салтыкова гонореей, тот Надюшу не упрекал, просто сообщил виноватым голосом: дескать, извини, но, похоже, у меня от тебя. Надюша извинила и сказала, что надо не запускать, лечиться.
И с той поры повелось: Салтыкова влекло всегда к девушкам самого легкого пошиба. Во времена, когда появилась открытая и легальная (фактически) проституция, для него это был наилучший выход. Салтыков копил деньги и раз в неделю покупал себе кого-нибудь, учитывая, что цены тогда были умеренные, а девушки симпатичные, свежие, молоденькие. Потом цены стали расти, девушки стареть и стерветь, романтика бизнеса превратилась в потогонную, унылую, чисто производственную систему, без души, без огонька. Кое-где сохранялась еще видимость свежести и красоты, но за отдельные деньги. Салтыков не мог отстать от своего занятия, поэтому, помимо преподавания в университете, подрабатывал репетиторством, не брезговал помощью в написании кандидатских и докторских диссертаций, заодно досидев наконец и свою работу, посвященную публицисту и критику последней четверти ХХ века Глебу Голобухову. Он мог бы двинуться дальше в науку или карьеру, но это требовало слишком много усилий при не очень-то выигрышном результате.
В тридцать пять лет Салтыков впервые женился. Очень уж мама настаивала, она и невесту нашла – дочь подруги. Правда, с ребенком. Познакомились. Дочь маминой подруги оказалась хваткой, сразу так поставила дело, что Салтыков чувствовал себя обязанным жениться. И женился. И зачем-то прожил с этой женщиной и ее ребенком шесть лет и, может, сейчас бы жил, но она однажды сказала: «Нет. Даже при моем титаническом терпении, я не могу, чтобы на меня обращали меньше внимания, чем на мебель!»
Высокопарно и глупо. Мебели, кстати, Салтыков вовсе не замечал, останови его на улице и спроси, какого цвета шкаф в его комнате, не сразу вспомнит.
Покупные девушки были честнее, проще и в каком-то смысле бескорыстнее. Да, конечно, они требуют от тебя денег, но, кроме денег, им ничего от тебя не надо, в душу не лезут и свою взамен не предлагают: профессия научила не напрягать клиента.
А потом встретилась Катя.
Салтыков стреляный воробей, если бы он увидел в этой одинокой, бездетной и милой женщине хоть намек о покушении на свою свободу, он бы сорвался с крючка. Нет, ничего этого не было. И он, похоронив маму, вот уже четвертый год живет с Катей душа в душу, понимая при этом, что она близка ему скорее не как жена, а как собеседник. И сожительница. Слово считается нехорошим, будто из зала суда, где с криками делится совместно нажитое имущество, на самом деле смысл в слове замечательный. Сожизненность – разве это плохо?
Так называемый супружеский долг Салтыков иногда выполнял, хоть и видел, что Кате это не особенно нужно, но она умела притвориться желающей, а сам продолжал, хотя все реже (и финансы не позволяли, и здоровье) встречаться с покупными девушками, однако и с ними уже бывают осечки; видимо, конец сексуальной активности не за горами.
Да и черт с ней.
Катя продолжала допытываться насчет романчика, Салтыков лениво придумал нечто правдоподобное. Потом увлекся, появились детали.
В этом он брал пример со своего Голобухова. Вечно нуждаясь в заработке (жил на две семьи и имел содержанок) и часто сталкиваясь с тем, что все книжные новинки им уже отрецензированы, Голобухов на пустом месте придумывал автора, повесть или рассказ, которые этот автор якобы написал и тиснул в провинциальной газете, и от души чихвостил незадачливого литератора где-нибудь в «Стрекозе» или «Будильнике», распаляясь, вставляя куски из выдуманного произведения; правда, очень скоро его разоблачили, «Стрекоза» и «Будильник», где он печатался под разными псевдонимами, но деньги получал на свою фамилию, хотели отказаться от его услуг (издания солидные, серьезные!), но публике понравился этот жанр, и Голобухов продолжил веселить читателей, только теперь уже не прикрываясь мистификациями. Многие замечали, что куски из цитируемых несуществующих авторов бывают весьма хороши, предлагали развить тот или иной сюжет, Голобухов брался – выходила ерунда. Когда пародировал и высмеивал несуществующее, тексты жили и играли, как только он начинал писать их всерьез – на глазах чахли и умирали.
Вот и Салтыков придумал сюжет с влюбленностью, изменой, прощением, опять изменой и расставанием.
– А сокурсница, она что? Наблюдала.
Салтыков вспомнил, что и сокурснице он что-то придумывал про романчик. Чтобы отвязалась.
– Да, сказал ей, что мое сердце занято. А она вдруг: «Я думала, после того, что между нами было, ты со мной так подло не поступишь!»
– А что было?
– Я же сказал: посидели в читальном зале, потом я е проводил до троллейбуса. Ну и так, перекидывались потом иногда парой слов.
– И все?
– И все.
– Бывают странные женщины!
– Не странных – не бывает.
– Запиши, – улыбнулась Катя. – А что с Бухаловым было после университета?
– Почти сразу уехал в Москву. Развернул бешеную деятельность, состоял в гражданском браке с балериной Оболочкиной, об этом тоже в «Википедии» написано, и тоже его авторство, ну кто еще будет фиксировать гражданские браки? Но – Оболочкина! Имя! Поэтом женился на Ольге Крупец.
– Той самой?
– Да.
– Тоже имя?
– Любовь! У него везде любовь! Он ведь сначала каждый год приезжал на родину и обязательно встречался со мной. И все рассказывал.
– Ценил твое общение? И ценит?
– Не знаю! Может, я для него… Ну, хороший резонатор. Остальные закисли здесь, спились, кто-то уже умер, а я жив, относительно успешен, но именно только относительно.
– Это тешит его самолюбие?
– Может быть. А может, ему просто приятно со мной общаться. Допускаю. Но мне от этого не легче. Он чужой, тотально чужой, я это чувствовал всю жизнь. Мне не интересны его занятия, успехи, его любови, это все на самом деле его творимая легенда. Он сочиняет легенду о видном деятеле и тут же ее проживает. А с этими социальными сетями вообще покоя никому не дает: ведет десять журналов, везде пишет, всех комментирует, меня в том числе.
– И ты не пытался с ним поговорить?
– Зачем? Не так уж часто мы общаемся. Переживу.
– Боишься обидеть?
– И это тоже.
– Но это неестественно: столько лет дружить с человеком, а он даже не знает, как ты к нему относишься.
– Вообще-то люди так и живут.
– Ты уверен?
Салтыков уже устал от этого разговора.
– Хорошо, – сказал он. – Вот приедет, я ему тут же: иди к черту, надоел! Без объяснений.
– Между прочим, – сказала Катя, – не такой уж плохой вариант. Ты говоришь: он человек легенды. Если ты так с ним разорвешь, это тоже красиво. Частичка его легенды.
– Тогда зачем ждать? Прямо сейчас напишу: не приезжай, ты мне не нужен. То есть не приехать он не может, у него тут родственники, какие-то приятели. Пусть приезжает. Напишу: ко мне не заходи, не хочу тебя видеть. И добавляю: я тебя всю жизнь ненавидел. Нет, это слишком. Не любил. Был к тебе равнодушен. Как-то так.
– Такие вещи говорят в лицо.
– Ладно. Скажу.
И Салтыков стал ждать Бухалова.
Даже жаль, что впереди еще несколько дней.
Решил, что посылать его без объяснений все-таки не будет. Это мальчишество. Он объяснит. Он все ему напоследок скажет.
А что скажет?
Скажет: Бухалов, мне надоело быть зеркалом, в котором ты любуешься своим отражением!
А он ответит: тебе не кажется, что я довольно редко пользуюсь этим зеркалом?
А я скажу, думал Салтыков: дело не только во мне. Для кого-то весь мир сцена…
Весь мир театр! – поправит Бухалов.
Сцена! – резко ответит Салтыков. – Считаете себя гуманитарием, милостивый государь, а ни одной цитаты верно не помните, а ведь учите кого-то чему-то, лекции читаете! Вы как чеховский профессор Серебряков, который всю жизнь писал об искусстве, ровным счетом ничего не смысля в искусстве!
Это тема! – оживится Бухалов. – Я роскошный спектакль видел в Вене! Там Серебряков – моложавый такой пожилой мужчина, ноги болят, но в целом еще ого-го, а дядя Ваня болтун, импотент, придурок вообще. Мы ведь о том, что Серебряков что-то плохо писал, откуда знаем? Со слов дяди Вани! А там, в спектакле, трактовка такая, что Серебряков – умница, блистательный теоретик! Это дядю Ваню и бесит! Нет, в самом деле, не могла же молодая красавица выйти замуж за полного дурака!
Вот, скажет Салтыков, это ты любишь, это вы любите: перевернуть все с ног на голову. Но ты меня не собьешь! Повторяю, для кого-то весь мир сцена, для тебя – зеркало! Та же Вена, Париж, Берлин, Нью-Йорк, Боливия – ты в них смотришься. Ты везде оставляешь надпись: здесь был Бухалов! В этом цель твоей жизни – везде отметиться, во всем отразиться!
Если бы ты знал, сколько я работаю, грустно ответит Бухалов. Грустно и задушевно. Грустно и дружески. Грустно – и жалея, что его друг так расстроен.
Да не работаешь ты, закричит Салтыков, а создаешь для себя новые и новые отражения! Работаю – я! И такие, как я. Мы ищем что-то в глубине. До конца. А ты скачешь по верхам. Главное – отметиться.
К чему этот разговор? – сделает Бухалов вид, что не понимает.
И Салтыков скажет: к тому, что ты мне надоел!
Давно?
С самого первого дня! С первой минуты!
Ты ошибаешься.
Ага! Значит, ты, к тому же, лучше меня знаешь, что у меня в душе!
Не волнуйся, скажет Бухалов. Если так, я исчезну из твоей жизни. Навсегда.
То есть насколько?
Я сказал: навсегда.
В Боливию ты тоже уезжал навсегда!
При чем тут Боливия?
Ты позер, упоенный собой! Ты – и тысячи таких, как ты, миллионы создали целую цивилизацию, вы воспроизводите свои отражения, тиражируете свои маленькие мысли, вы заполонили этот мир, как тараканы, под вами не видно уже ничего большого и настоящего!
Салтыков мысленно осекся.
Нет, это уже лишнее.
Ничего этого не надо.
Надо так: мы с тобой разные люди.
Или так: Сережа, мне просто с тобой всегда было тяжело. Не заставляй меня объяснять, почему, это что-то… инфернальное.
Понимаю. Инфернальное? Ну да. Любовь от бога, нелюбовь от чего-то другого.
Конечно, Бухалов, ты у нас теперь верующий!
Почему такая ирония?
Потому. Я знаю, почему ты верующий!
Неужели? Почему?
Потому что бог сейчас в тренде!
Атеизм тоже!
На православие нападают, а ты любишь быть на баррикадах. Безопасных, естественно.
Бухалов озадачится: мы о чем говорим?
Я пытаюсь тебе сказать, объяснит Салтыков, что никогда не любил с тобой общаться, но не хватало мужества в этом признаться. Теперь признаюсь. Все.
Но почему? Что со мной не так? – искренне опечалится Бухалов.
Начинается! Одно зеркальце запылилось или дало трещинку, мы уже забеспокоились! Все должно сверкать и отражать безукоризненно! Отстань от меня, Бухалов. Иди на х., короче говоря! Все.
И – хлоп дверью.
То есть – его за дверь.
Салтыков доволен удачной репетицией будущего разговора.
Но через некоторое время что-то начинает беспокоить.
Он возвращает воображаемого Бухалова на воображаемый ринг.
Делает новый выпад:
На самом деле ты всегда знал, что я умнее и талантливей тебя. Не говоря уж о том, что пишу грамотно, это я так, к слову. Хотя стыдно тебе должно быть. И вот ты приезжаешь на мою могилку. Чтобы поплакать: какой был человек! И порадоваться за себя: а я жив.
Салтыков, я ведь обижусь!
Не верю! Ты никогда ни на кого не обидишься. Знаешь, почему? Потому, что это испортит тебе настроение. Я однажды к тебе подошел, какой-то университетский вечер был, ты, конечно, организатор, стоишь в сторонке, такой благостный, зришь дело рук своих, я подошел, что, говорю, хорошее настроение? А ты говоришь: у меня всегда хорошее настроение.
И что?
Да то! Я на всю жизнь запомнил! Человек, у которого всегда хорошее настроение! Это как же надо себя накачивать!
Или над собой работать, спокойно ответит Бухалов. Не пробовал?
Да вижу у тебя в журналах – тренинги, практики, йога-хойога! Над душой надо работать!
Мы и работаем. Я понял твою проблему, Салтыков.
Слава богу, всю жизнь ждал! Изложи!
Ты не умеешь радоваться, не умеешь любить, не хочешь и не любишь работать над собой. Ты уговариваешь себя, что у тебя все в порядке, а сам всю жизнь завидуешь мне. Моим семьям – а я в них счастлив был, особенно в последней. Тому, что я умею любить, путешествовать, что у меня сто тысяч друзей, что вокруг меня все кипит и движется, что я встаю каждое утро с ощущением счастья!
Ты про это уже рассказывал!
А ты не верил.
И не верю. Минутку, Бухалов…
Бухалов!
А тебе не все равно? По-настоящему уважающий себя и самостоятельный человек и фамилию Сучкин сделал бы великой! В этом и дело – я, ленивый и лежачий, на самом деле свободен и самостоятелен. А ты зависишь от зеркал, в которых отражаешься! Вот окажемся мы на необитаемом острове. Я буду кокосы собирать и песни петь, а ты сдохнешь от тоски: как же, не перед кем выступать, красоваться, показывать себя!
Я буду строить плот или корабль. Ты одно объясни, Салтыков, если я тебе так неприятен, почему ты все жизнь живешь с мыслями обо мне? А? Может, ты во мне видишь свое нереализованное я?
Неправда! Кто тебе сказал, что я живу с мыслями о тебе?
Ты сказал.
Когда?
Сейчас. Ты же с собой говоришь.
Да, признал Салтыков. Подлавливая на чем-то воображаемого Бухалова, я, похоже, поймал реального себя. В самом деле, почему я так часто о нем думаю?
Потому, что то и дело натыкаюсь на его фамилию в интернете. Раздражает.
Есть другие, на кого ты натыкаешься еще чаще.
Они мне никто.
А он кто?
Просто есть люди – как икота, подумал Салтыков. Ты почему-то о них часто думаешь. Есть случаи понятные. Вот полгода назад обсуждалась кандидатура нового заведующего кафедрой вместо уходящего Кочелаева. Присутствовал декан Казин, покровитель и учитель Салтыкова, процедура была демократичной, но от Казина зависело очень многое. Все были уверены, что Казин предложит Салтыкова. И Салтыков был уверен. Жаловался Кате: не хочу я этих галер. Но уже готов был смириться, взять на себя ответственность. А Казин предложил Сирожкину, Таню Сирожкину, тридцатидвухлетнюю свистульку, только что защитившую кандидатскую! Салтыков был потрясен предательством Казина, да и других: за Сирожкину проголосовали все.
Тогда у него было что-то нервного срыва, мучила бессонница и бесконечно, стоило закрыть глаза, возникало в воображении лицо Сирожкиной. Именно ее, а не Казина или других. Сирожкина, Сирожкина, Сирожкина без конца. Впору бежать к психиатру и просить таблеток.
От чего? – спросит он.
От Сирожкиной!
Потом прошло.
Но тут, повторяем, понятно. Икота объяснимая.
А есть у них такой преподаватель Мусимов, который славен только тем, что у него панкреатит и он питается из баночек паштетами и пюре для грудничков и что вот уже двадцать лет читает студентам одни и те же, когда-то им написанные, лекции. И все. Но почему-то он тоже частенько забредает в мозг Салтыкова, сидит там и ковыряется чайной ложечкой в баночке с паштетом.
Тебе чего? – мысленно спрашивает Салтыков.
Ничего.
А чего пристал ко мне?
Просто зашел посидеть. Нельзя?
Можно. Но почему ко мне?
Не знаю.
Такие вот странности.
Завтра суббота, двадцать третье, Бухалов приедет и позвонит, а Салтыков еще не готов.
И не буду готовиться, решил он. Как будет, так и будет.
Катя спросила:
– Придумал что-нибудь?
– Даже не собирался. Просто пошлю его к черту.
– Правильно. Я почитала о нем. Куча информации, просто мировая знаменитость. Но вглядишься – фикция. Деятельность ради деятельности.
– Если читала, значит заинтересовал.
– Просто из любопытства.
– Этим он и берет – возбуждает любопытство. Ведь возбудил? Знаешь, я что думаю? Если он такая дутая величина, то и не стоит с ним жестоко обращаться? Пусть дальше пузырится. Придет в гости, напоим чаем, посмотришь на него, послушаешь. Не будем обижать маленьких.
– Ты меня потрясаешь, Салтыков. Ты еще умней, чем я думала.
– Ошибаешься. Я умней, чем ты думала, насколько я умней. Я сумел понять, что ты очень хочешь с ним познакомиться.
Катя не смутилась и не растерялась.
– Почему бы и нет? Мы с тобой сколько женаты, он за это время сюда не приезжал, я понятия не имела, что он значит в твоей жизни. Конечно, мне интересно.
– Примем как версию.
– При чем тут версия?
– В этом его секрет. Он притягивает людей. Вакуум тоже все в тебя втягивает.
– Хорошо, пусть так. Салтыков, мне даже приятно. Ты ревнуешь?
– Дура ты.
– И даже ругаешься.
– Если стукну, вообще будешь счастлива?
И Салтыков ушел в кабинет. Не дай бог, в самом деле стукнет: очень уж захотелось.
А жаль, что не стукнул, вдруг подумалось.
Удивился своей мысли.
Это уже тень Бухалова нависла: когда о нем думаешь, в голове сразу же начинает шевелиться что-то необычное.
Отключу интернет и не буду отвечать на звонки, решил Салтыков.
И лег спать в кабинете, на диванчике, не отвечая на вопросы Кати.
Впрочем, она задала через дверь только один вопрос: не болит ли у него что.
Интернет Салтыков действительно с утра отключил.
Но звонка ждал.
Завтракая, помирился с Катей. Сказал:
– У меня вчера, наверно, давление было.
– А сейчас?
– Нормально.
Звонок Бухалова, ожидаемый, но все-таки неожиданный, невольно заставил Салтыкова вздрогнуть. Он смотрел на телефон. Катя пила кофе, как бы не придавая звонку значения.
Телефон умолк.
И тут же вновь зазвонил.
Салтыков схватил трубку.
– Привет, дружище! – услышал он.
– Привет, извини, – торопливым и мрачным голосом сказал Салтыков. – Встретиться не могу, у меня сейчас тяжелый период. Развожусь с женой.
– Сочувствую.
– Не обязательно. Наоборот, поздравь!
Бухалов не успел поздравить – Салтыков отключился.
Катя довольно долго молчала. Потом спросила:
– Какой-нибудь другой причины нельзя было придумать?
– Зачем? Лучше сказать правду.
– Значит, ты в самом деле разводишься?
– В самом деле, – сказал Салтыков.
Хроника. Март
Из новостей
* * *
Антиправительственный мятеж в Центральноафриканской Республике с требованием отставки президента страны Франсуа Бозизе.
(Вспомнилась книга, которую читал лет 30 назад. Нкем Нкванкво ((имя и фамилию запомнил – потому что сложные)), «Мой “мерседес” больше». Тоже мятеж, стрельба, а за всем этим амбиции, личное, власть и деньги. Как всегда. Как везде.)
* * *
Старт космического корабля к международной космической станции. Экипаж: Павел Виноградов, Александр Мисуркин (оба Россия), Кристофер Кэссиди (США).
(До чего приятно, когда мы с ним что-то делаем вместе!)
* * *
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания Герой Труда Российской Федерации.
(Дело хорошее, но список первых награжденных демонстрирует вечное наше стремление к смычке академика с дояркой, сам подбор профессий характерен: художественный руководитель театра, механизатор, ученый, машинист, токарь… А вот интересно, во Франции дают Орден Почетного легиона токарям? Если не для проформы, то почему бы и нет? В проформе вся закавыка…)
Из журнала
* * *
Друзья мои пишут, что они видят из окон аэропортов и мюнхенских пивных. Я посмотрел в свое окно, где снег и деревья, ни самолетов, ни Мюнхена. Вспомнил, как с детства мечтал побывать в пространствах и странах иных, но, не объездив и сотой доли, устал: эти страны, как мухи нам, – намелькались, засижены. Но дело не в том. Будто черепаха свой панцирь, я все равно ведь возил с собою себя давящим горбом; воспоминанья мои бестолковы и нелепы, как в невесомости танцы – не от чего оттолкнуться, разве что от руки собственным лбом. И нет такого места, где меня бы не было, загляните в любой из дней в какой-нибудь Сидней – а я уже там, унылый, хоть не пьяный, среди разноцветных цветов и женщин, с такой тоской окаянной, будто сижу у окна на Ивановской и мечтаю попасть в Сидней.
* * *
А. Понизовский «Обращение в слух». Несобственно-прямая речь
Молва рождает любопытство, а я любопытен. И книгу прочел. Что изумило, так это изумление, которое роман (так обозначен жанр, не знаю, зачем) вызвал у многих. Будто всю жизнь сидели в Швейцарии, подобно героям, обсуждающим записи рассказов «простых» людей, и ничего о России не знают.
Возможно, я что-то еще напишу об этом тексте, где живые (в хорошей лит. обработке) голоса, повествующие о жизненных драмах с обилием смертей, болезней, поножовщины, пьянства и бессмысленных поступков, сплелись с рассуждениями благополучных персонажей о вере, том и этом свете, Евангелии, Достоевском, трагической судьбе русского народа, противостоянии, вернее размежевании, «быдла» и интеллигенции, духовном конфликте Запада и русского Востока.
Пока скажу лишь вот что: богословие и достоевсковедение на уровне не самых плохих любительских суждений (в блогах много такого водится) еще могут показаться интересными кому-то, но вот когда начинают судачить про народ, тут я шкурой чувствую: не ихое это дело. Как быдло и интеллигент в одном лице чувствую. Можно тысячу записей прослушать (и самому записать), а все равно своим не сделаешься. Тут надо, чтобы с судьбой еще что-то выпало. Отсюда и нехорошее ощущение, что персонажи и, увы, сам автор, говорят о папуасах. Жалея, сочувствуя, негодуя, осуждая или оправдывая, но о далеких и чужих. Возможно, поэтому и «камешки подобраны со вкусом», то есть сами рассказы. Слова О. Бендера не случайно вспомнились: в мега-замысле видится налет авантюрности. При описывании папуасов выбирается только то, что, как считает посторонний, характерно для них. Папуас без ожерелья из погремушек – не папуас. А наши погремушки – то же беспробудное пьянство, рабская покорность судьбе, бесконечные болезни, безденежье, браки не по любви и т. д., и т. д., и т. д. Ну и пляски иногда у костра – не без радости живут, дескать.
Будучи сам папуасом, я эту тенденциозность хорошо вижу. Все я это знаю не понаслышке, включая главную погремушечью трещалку – пьянство. Но. Я знаю и другое, о чем в книге не упомянуто. Ведь в ней нет НИ ОДНОЙ истории о НОРМАЛЬНОЙ жизни. Трудной, с болячками, с драмами, со всем, что бывает, но при этом все же нормальной, без поножовщины и мордобития, без рвотного алкоголизма. Я думаю о папе и маме своих (тоже ведь из «простых» поднялись и меня с братом подняли), об их друзьях и знакомых, о своих друзьях и знакомых, в том числе совсем с виду посконных. В конечном итоге о тех, кто наперекор всему занимался и занимается чем-то созидательным, а не тащит на себе с непременными страданиями идею богоспасаемой нации.
О разрушении, о выживании, о претерпевании, о мучениях, иногда даже о людях добрых и выполняющих свой профессиональный долг (что выглядит геройством на общем фоне) у Понизовского есть, о созидании, извините за высокое слово, нет ничего или в проброс. Ибо – не укладывается в концепцию.
В чем концепция? Это отдельный разговор.
На задней сторонке обложки – восторженные цитаты. В том числе из Леонида Парфенова: «В этой книге вся Россия рассказала о себе от первого лица».
Да нет, не от первого и не вся. А та, которую захотел услышать автор. Есть в грамматике понятие: «несобственно-прямая речь». Когда автор говорит или думает за своего персонажа. Здесь оно применимо вполне, хотя речь и прикрыта документальными монологами. Ошибается уважаемый Парфенов, в книге не Россия о себе рассказала, автор о ней высказался. Как оно, в общем-то, всегда и бывает. В данном случае еще и с самыми благими намерениями. Даже журнал «Фома» одобрил.
При этом ладно, сами папуасы еще разберутся. Но когда книгу переведут (а ее обязательно переведут, уверен), то ведь иностранные читатели о нас, туземцах, так и будут думать. Вот что обидно.
И вспоминается злой Щедрин, его сказка «Коняга», где крестьянский одр упирается во все копыта, отдавая богу душу от непосильных тягот, а вокруг стоят Пустоплясы и его нахваливают.
«Один скажет:
– Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось… <…>
Другой возразит:
– …Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит!
Третий молвит:
– …Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он “настоящий труд” для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! <…>
А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:
– Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив».
Очень напоминает диалоги из книги. Просто очень. 130 лет назад написано. Так что, когда Л. Данилкин уверяет, что таким и «должен быть Русский Роман ХХI века» (именно так, заглавными буквами), берет легкая оторопь.
* * *
– Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом!
– А ты где?
– В лесу.
Из дневника
* * *
Стр. Люб. Дошел до 6-й серии, но вернулся опять к 1-й, которую просят фактически переписать.
* * *
Приехал в Саратов.
Мама.
* * *
Сижу на родине дома, почти не выходя. Стр. Люб. И рассказы.
Ощущение, что в голове тумблер, который переключает мозги на разные частоты. Трудно только первые 10 лет… Вспомнил: сидишь на работе[4], один в кабинете, перепечатываешь на машинке рассказ или пьесу, входит начальница, вынимаешь лист, вставляешь другой, тюкаешь текст передачи. Передачи получались так себе, начальство больше всего ругало за плохое владение языком.
* * *
Мо Янь, «Страна вина». Плохой перевод, сочная книга. Вполне перекликается с русской литературой того же времени – 90-е годы. «Магический реализм», оборотни, чернуха, странные люди и существа, но и радость нового времени.
Почему меня всегда так интересовал Китай? С поэзии эпохи Тан началось, с книги переводов. Все с книг начинается. Стало быть, все же они «реки, напояющие» и т. п.
* * *
Параллельно читаю Андрей Немзера, «При свете Жуковского». Ощущение: человек в своей стихии. Радуешься за него.
И заодно ликвидируешь пробелы: филолог я чудовищно темный.
Доска почета
Десятого марта две тысячи тринадцатого года в Собратове открывали городскую Доску почета на центральной площади. Мероприятие было неофициальное, примерочное, присутствовало лишь начальство, а также исполнители и кое-какие представители кое-какой общественности. Это у нас, как известно, обычная практика, касающаяся любых начинаний, будь то пуск в эксплуатацию нового моста или премьера спектакля: сначала опробовать на своих, келейно, посмотреть, не выйдет ли какого, по нынешнему выражению, косяка (и мост, и спектакль могут ведь, не дай бог, провалиться), а уж потом, если все пройдет нормально, созвать гостей, журналистов, согнать торжествующий народ, привезти автобусами из школ детей, позвать батюшку с кадилом и под медные трубы, с речами, разрезанием ленточек и откупориванием шампанского, отметить уже набело, торжественно и чинно.
На этом предварительном открытии присутствовал сам мэр Любимцев.
Доска почета в действительности была не доска, а сооружение почти монументальное: стена, облицованная серой и черной плиткой, может быть, даже и мраморной. Человеку с недобрым сердцем и ехидным умом это напомнило бы, пожалуй, надгробный коллективный памятник, а фотопортреты в рамках показались бы траурными, учитывая поголовно скорбное выражение лиц, но собратовцам эта мрачная, не допускающая шуточек, торжественность как раз и нравилась.
В числе удостоившихся попасть на доску больше всего было, конечно, преподавателей и врачей, у них профессии безукоризненные, традиционно уважаемые, не подкопаешься, и Любимцев, хоть никого из них не знал, одобрительно кивал головой – на радость окружающим. Другие сферы жизни тоже были представлены: токарь загадочного предприятия ФГУ ЦИП ООО «КОНТАКТ», хозяйственный начальник среднего звена с неправдоподобно задумчивым взглядом, седой ветеран в кителе, увешенном наградами, водитель городского автобусного парка, воспитательница детдома, командир воинской части, дислоцировавшейся в окрестностях Собратова, в общем, полный джентльменский набор, имелись даже одна актриса и один журналист. И юный олимпийский чемпион, единственный в Собратове за всю его историю. И даже, вы не поверите, одного полицейского сумели отыскать с незапятнанной репутацией; служил там, где запятнаться при всем желании нечем: в недавно организованном отделе внутренней наглядной агитации; проще говоря, он был фотограф, и, кстати, все портреты на Доске были исполнены им, включая собственную, сделанную с помощью автоспуска.
Подчиненные терпеливо ждали, Любимцев внимательно просмотрел, останавливаясь взглядом и читая подписи, все фотографии. Дошел до последней, все облегченно вздохнули.
И тут же опять напряглись: мэр слегка нахмурился, притронулся пальцем ко лбу. Что-то ему подумалось, но, видимо, он никак не мог сообразить, что именно.
Но вот морщины разгладились, глаза прояснились: он понял свою мысль.
– Вот это! – указал он на портрет воспитательницы детдома. – Не надо! Все-таки дело положительное, народ будет смотреть. Позитивом наполняться. И вдруг – детдом. Вы бы еще начальника тюрьмы поместили! – пошутил он, и все ласково засмеялись.
– А что, если, – либерально развил шутку вице-мэр Круговец, – Варюнова взять, с городского СИЗО который, он мужик вполне отличный!
Тут же кто-то подскочил и начал свинчивать опрометчивый портрет воспитательницы детдома.
– Лучше еще одну учительницу повесьте, – посоветовал Любимцев. – Или, ну, не знаю… А кстати! Почему у нас, к примеру, на три десятка людей ни одного бизнесмена нет? А?
Те, кто отвечал за Доску почета, переглянулись. Они не хотели напоминать мэру, что абсолютно все кандидатуры утверждал именно он, включая, кстати, и воспитательницу детдома. И сначала там для полноты ассортимента были и бизнесмены: владелец небольшой автомойки и хозяйка скромного салона красоты, но Любимцев их забраковал.
– Чтобы никаким бизнесом не пахло! – сказал он. – Мы, во-первых, знаем, как у нас народ к этому относится. А во-вторых, где это вы вообще честного бизнесмена найдете?
Спорить с ним никто не стал: знали, что народ, действительно, к бизнесу относится плохо и что честность соблюсти в коммерции трудно, знали причем не понаслышке: каждый служащий городской администрации имел либо на стороне, либо в той сфере, которой занимался, какое-либо наваристое дело, с чего и жил.
Любимцев, между прочим, надо отдать ему должное, с самого начала четко обрисовал круг желаемого.
– Кого можно, это вы сами отыщете, – сказал он. – А вот кого не надо – торговлей чтобы не пахло, из всяких газпромов, лукойлов и сбербанков не вздумайте никого брать, кавказские народности побоку, не возбуждайте мне тут межнациональную рознь.
В общем, все очертил, все было ясно.
И вот – вдруг. Бизнесмена ему теперь подавай.
– Сейчас на повестке дня политика поддержки предпринимателей, – дружелюбно гневался Любимцев. – Малый и средний бизнес, понимаете ли. Приедут из Москвы люди, посмотрят на Доску, спросят: а где у вас малый и средний бизнес? Совсем нету, что ли? Короче: в следующую субботу у нас торжественное открытие, чтобы какой-нибудь бизнесмен тут висел!
Естественно, все кивнули, хотя никто не мог припомнить, чтобы в последнее время кто-то сверху положительно отозвался о малом и среднем бизнесе, наоборот, будучи людьми, крепко связанными с реальностью, они знали, что невидимый, но ощутимый вектор государственного регулирования направлен как раз на то, чтобы этот самый малый и средний бизнес помаленьку и потихоньку придушить, так как он, зараза, не по чину много стал о себе понимать.
Но сказано – надо делать.
Бросились искать бизнесмена. Такого, чтобы дело у него было достойное, чтобы с налогами был порядок, чтобы вся деятельность на виду, чтобы с личной жизнью было в порядке: желательно семья с двумя детишками и при этом никаких любовниц.
– Господи, как в советское время хорошо было! – тосковал руководитель группы Пряжинцев, пожилой, но жилистый и жизнестойкий мастодонт журналистики, сорок с лишним лет проработавший в одной и той же газете, которая раньше называлась «Собратовский коммунист», потом «Собратовские новости», а теперь «Собратовские вести» (переименовал Любимцев: он не любил слово «новости», ничего хорошего от этого слова не ожидая, «вести» казались ему стабильнее, спокойнее, это соответствовало его миролюбивому характеру). – Передовик производства, – мечтал вслух о прошлом Пряжинцев, – бригадир какой-нибудь, комбайнер, секретарь райкома, те же учительницы с врачами, ну и студентку какую-нибудь возьмешь, отличницу, для представительства молодежи, и полный ажур!
– В прошлом году была студентка, – напомнил телевизионщик Хлырин. – Так на ней сами помните какое слово написали. И, главное дело, оказалось – чистая правда.
Прошел день, другой, кандидатуры бизнесмена не находилось. Если и появлялся кто-то, хотя бы приблизительно подходящий, то при первых же подступах с предложением повисеть на Доске почета почему-то страшно пугался, начинал горячо отказываться, а потом и вовсе пропадал, переставал отвечать на звонки. Некоторые даже срочно уехали отдыхать или по делам. От греха подальше.
И все же нашли!
Люсенька, пресс-секретарь инициативной группы, красавица, поделилась печалью с другом, владельцем сети продуктовых магазинов, а тот сказал:
– Ха! Да возьмите Каюмова Юру! Прямо в точку годится!
Люсенька стала расспрашивать, потом познакомилась с Каюмовым и убедилась: пожалуй, прав ее друг. Каюмов, фотогеничный мужчина, что важно, тридцати пяти лет, занимался тем, что гнул коробки. Он гостил когда-то у родственника в Самаре, наладившего производство листового картона, и тот сказал:
– Найди себе сарай какой-нибудь побольше, я тебе в рассрочку продам оборудование, лекала дам, наймешь человек пять работяг и клепайте коробки, они всем нужны – и в магазины, и на рынки, и кто переезжает, да мало ли! Миллионером долларовым не станешь, а на жизнь вполне хватит.
И действительно, дело оказалось на удивление простое и чистое. Во дворе собственного дома Каюмов соединил свой гараж с купленным соседским, а потом еще с одним, потом надстроил, поставил и наладил оборудование, нашел работяг, вернее работниц – женщины оказались сноровистее, старательней, да и, пожалуй, посильнее. Раз в неделю родственник присылал фуру с картоном, ежевечерне к потребителям отправлялся грузовичок с коробками, прибыль была небольшая, но ощутимая, хватало на зарплату работницам, на содержание семьи, состоящей из жены, детишек (мальчик и девочка) и прибаливающей мамы, на расширение дома, на покупку приличного автомобиля. И никаких при этом махинаций, никаких претензий от налоговых, пожарных и санитарных служб, настолько было все прозрачно в этом нехитром деле, а органы правопорядка даже и не совались, чтобы мелочью руки не марать, не позорить понапрасну репутацию и честь мундира.
Даже удивительно, что инициативная группа не напала на след Каюмова раньше – но именно потому и не напала, что след этот был скромен, почти невиден.
И вот явились.
– Вам оказана большая честь, – сказал Пряжинцев. – Хотим поместить вас на городскую Доску почета. Один только вопрос: вы не татарин, извините? Фамилия какая-то.
– Сроду татарином не был, – растерянно ответил Каюмов.
А жена его, Валя, сразу повела себя агрессивно, встала в двери, упершись в косяки руками, будто перегораживая на всякий случай доступ в дом, к детям, и заявила:
– Никаких досок! Будет он еще светиться, очень надо! Мы живем нормально, никого не трогаем, так что, будьте любезны, идите на хрен, пока вас по-человечески просят!
– В самом деле, – сказал Каюмов. – Зачем это? Люди смеяться будут.
– Да вы что! – обиделась Люсенька. – С какой стати? Наоборот, завидовать будут и уважать!
– Вот ты иди и виси там, если охота! – отрезала Валя. – А мы не клоуны какие-нибудь, да, Юра?
Уперлась Валя, уперся и Юра, не поддавались ни на какие уговоры.
– У тебя, брат, наверно, не все чисто, – сказал телевизионщик Хлырин, профессионально привыкший шантажировать и провоцировать, – если тебя так заколбасило. Повесят, а кто-то из твоих клиентов увидит и скажет: надо же, он то-то и творит то-то, а ему вон какая честь!
– Что он то-то и то-то творит, чего ты мелешь, козлина? – рассердилась Валя. – Да у нас хоть по документам, хоть по факту – полный порядок!
– Между прочим, женщина, вы бы все-таки повежливее, я с телевидения вообще-то, – заносчиво сказал Хлырин.
– Тогда еще раз козлина! – отреагировала Валя.
– Да ладно тебе, – урезонил ее Каюмов. – А вы, господа и товарищи, до свидания. Мне, извините, работать надо.
И выпроводил гостей – вежливо, но твердо.
Доложили Любимцеву, присовокупив досье Каюмова. Тот просмотрел бумаги, фотографию, которую успел сделать фотограф.
– Может, ему чего надо? – недоумевал он.
– Спрашивали, говорит: ничего не надо.
– А почему на Доску не хочет?
– Говорит: люди смеяться будут.
– Вот дурак. У нас два дня до открытия доски осталось, что хотите делайте, но чтобы он согласился!
Легко сказать! – Валя не позволила группе даже на крыльцо дома войти, Каюмов, обнаруженный на своем картонном производстве, тут же сел в машину и уехал, работницы на все вопросы отвечали молчанием, да и зачем они, работницы, Каюмов нужен!
– Ладно, – сказал Любимцев, узнав об этом. – Я к нему завтра сам с утречка подъеду!
Поднялся некоторый переполох.
Улицу, где стоял дом Каюмова, привели в порядок, ночью расчистили от снега, сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия, не обращая внимания на глупые рассуждения жителей насчет того, какой, дескать, дурак на мерзлый грунт асфальт кладет, срубили два гнилых дерева, счистили с крыш снег и сосульки.
С утра кортеж мэра был на месте.
Любимцев с удовольствием оглядел аккуратный двухэтажный дом Каюмова, отметил, что тротуар перед домом хозяин замостил плиткой – не только о себе думая, но и о прохожих, вошел в ворота, проследовал в мастерские.
Работницы работали, Каюмов налаживал одно из приспособлений. Любимцев взял картонный ящик, повертел в руках.
– Вот ты как их делаешь, значит? Не просто гнешь, я смотрю, а на скобочках у тебя, не конвертиком, как некоторые, а скреплено все, по-умному! – одобрил Любимцев, обнаруживая хозяйственное знание конкретных предметов.
Свита уважительно улыбалась.
– А вы, извините, кто? – спросил Каюмов.
Свита мысленно охнула, но Любимцев рассмеялся и простецки махнул рукой:
– Да мэр я ваш!
И присутствующие отметили (в который уже раз) умение городского головы на равных общаться с народом.
– Извините, не узнал, – Каюмов стоял с отверткой в руках и глядел куда-то вкось, слегка переминаясь, будто ему не терпелось продолжить прерванную деятельность.
– Ты, говорят, от Доски почета отказываешься? – спросил Любимцев.
– Не то что отказываюсь, а просто – зачем она мне?
– Неправильно, брат, рассуждаешь, – приятельски упрекнул мэр. – Это не только тебе, но и другим. Чтобы смотрели и гордились. Вот ты делаешь ящики – не для себя же?
– Ясное дело.
– Ну вот. И на доске висеть не для себя. Ящиками твоими, а ящики хороши, молодец, люди пользуются, они их уважают и думают что?
– Что? – не сумел догадаться Каюмов.
– Они думают: не перевелись еще у нас честные мастера! Они начинают гордиться, что и в нашей стране умеют хоть что-то делать. В результате гордятся страной. А это как называется?
– Как? – опять не осилил догадаться Каюмов.
– Патриотизм! – уважительно произнес мэр, и все приосанились, словно услышали гимн родной страны, исполняемый на государственном торжестве.
До Каюмова, похоже, начало что-то доходить. Он задумался. Мэр смотрел на него отечески, уверенный в правильном сыновнем ответе.
И свита, и женщины-работницы чувствовали, как тепло разливается в их душах. Любимцев и Каюмов стояли друг перед другом, как два помирившиеся брата (которые, впрочем, и не ссорились), вот-вот, казалось, они сойдутся в крепком мужском объятии, похлопают друг друга по плечу и скажут что-нибудь вроде:
– Вот так-то, брат!
– Да, брат, вот так-то!
Одна из работниц даже всхлипнула и утерла глаза уголком платка.
– Что ж… – сказал Каюмов.
И тут в ворота влетела Валя.
Не разобравшись, кто пришел и зачем, она сходу закричала:
– Вы когда от мужа отстанете, в конце-то концов? Проходу не дают! Я сказала, не будет он нигде висеть курам на смех! Мы живем, ни к кому не лезем, и вы к нам не лезьте! Знаю я, как это бывает, телевизор смотрим, слава богу! Как только кто начинает мелькать, начнут про него бла-бла-бла, какой он хороший, только и жди потом, что объявят: и проворовался, и за границей недвижимость, и связи с оппозицией, и на квартире у него пять миллионов долларов в сахарнице откопали! Нет уж, спасибо! Пошли отсюда все сейчас же!
Все растерялись.
Все, кроме Любимцева.
Он, указывая рукой на Валю, сказал с гордостью:
– Вот! Вот правильная русская женщина! Грудью за семью, за мужа стоит! Только вы, извините, не знаю вашего имени-отчества, сначала войдите в принцип вопроса…
Валя из сказанного мэром уцепилась только за одно слово, которое ей показалось оскорбительным:
– Какой еще грудью, ты чего тут несешь, не проспался, что ли? Да еще пальцем в меня тыкает, вы гляньте!
Может показаться невероятным, что наша отечественная женщина не распознала высокую персону, обычно у нее, напротив, чутье на серный дух начальства даже острее, чем у отечественного мужика, она осторожнее, опасливее. Но такова была Валя, она, и в этом Любимцев попал в точку, за семью и мужа вставала горой, ей гневом застилало глаза, и все равно ей было, кто перед ней, бог, царь или герой.
– Юр, ты чего стоишь? – крикнула она. – Твою жену тут почем зря полоскают, а он рот раскрыл!
Это замечание было несправедливым: рот Каюмова был не открыт, а крепко сомкнут. И желваки играли. А вот после слов жены он его раскрыл. И, раскрыв, произнес:
– Вы это, в самом деле… При всем уважении… Езжайте уже, пожалуйста, и не надо сюда больше… Мне работать надо.
И отвернулся, и начал что-то там ковырять своей отверткой.
Все боялись глянуть на мэра.
Поэтому история не сохранила сведений о том, каково было его выражение лица. Догадайтесь сами.
Любимцев молча повернулся и пошел к машине.
И уехал.
В тот же день на производство Каюмова нагрянули инспекции налоговая, санитарная, природоохранная, архитектурная, пожарная, а заодно, конечно, и представители правоохранительных органов. Что они там делали, как вел себя Каюмов и как бушевала Валя, описывать не хочется, потому что ничего в этом художественного, к сожалению, нет.
Забегая вперед, скажем, что в считанные недели Каюмов остался без своего бизнеса, а также и без денег, потому что пришлось выплачивать большие штрафы, он залез в долги, семья продала дом и купила на остаток средств скромную двухкомнатную квартирку. Юра от огорчения начал, увы, выпивать, но на выпивку при этом добывает деньги не попрошайничеством, как некоторые, а честно, подрабатывает грузчиком на рынке. Валя же, достав старую бабушкину швейную машинку, взялась шить и перешивать всякое барахлишко для своей школьной подруги, хозяйки магазина сэконд-хенда, тем и кормит семью.
А Доску почета открыли, как и было назначено, шестнадцатого марта две тысячи тринадцатого года. Как выкрутились? Да просто: сработал опытный ум Пряжинцева: вернули ту женщину, которую убрали, заменив нехорошее, не позитивное слово. Получилось: «Воспитательница детского учреждения». Надпись стала длиннее и мельче, но, в конце-то концов, смотреть не на нее будут, а на человека, который важнее любой надписи.
10.03.13. Саратов
Жизнь трудна, но интересна
Когда у жены Лидии, еще вполне крепкой шестидесятипятилетней женщины, случился инфаркт, Разоев почувствовал, кроме печали, что-то вроде удовлетворения. Жизнь последних лет была слишком легка и беззаботна: дети разъехались, пенсию выплачивают небольшую, но регулярно, все есть и делать нечего. Это настораживало, настраивало на предчувствия, вот они и оправдались. Лучше уж так, могло быть и хуже – скоропостижно и окончательно.
Врачи «скорой помощи», поставившие предварительный, но близкий к утвердительному диагноз, хотели забрать Лидию в больницу. Она, конечно, отказалась: дома стены помогают, а в больнице все чужое и неприятное. Если судьба умереть, я и дома умру, а судьба выздороветь, и дома поправлюсь, сказала она врачам.
Ладно, ответили врачи, дело ваше, пишите отказ.
Лидия испугалась:
– Почему отказ? Я не отказываюсь, я сомневаюсь.
– Вы едете или нет? – спросили врачи.
– А что, так плохо? Я уже умираю?
– Нет. Но лучше обследоваться.
– Вот в себя приду и обследуюсь. В поликлинике.
– Значит, вы отказываетесь госпитализироваться?
– Отказывается, – ответил Разоев, зная, насколько трудно Лидии произнести прямое слово.
– А ты за меня не отвечай! – рассердилась Лидия. – Я не отказываюсь, а не хочу.
– Хорошо, – терпеливо сказали врачи «скорой». – Вот бумага. Подпишите.
– Зачем?
Лидия не любила подписывать всякие бумаги, она всегда чувствовала в них какой-то подвох, Разоев в этом пункте был с ней солидарен.
– Затем, – сказали врачи, – что мы берем на себя ответственность. Это не для вас надо, а для нас, понимаете?
– Порядок такой, – разъяснил жене Разоев.
– Для отчета? – спросила она и даже, несмотря на свое состояние, усмехнулась: мол, знаем, понимаем, что такое отчет.
И ей ли не знать: тридцать четыре года проработала в городском статистическом бюро, где отчеты требовались ежедневно, а то и ежечасно.
И она подписала бумагу, не читая, чтобы лишний раз не волноваться: долгий жизненный опыт говорил ей, что в документах такого рода ничего приятного написано быть не может.
Врачи уехали.
Лидии к ночи стало чуть лучше. Она уговаривала Разоева лечь поспать, но тот не соглашался, сидел в кресле рядом. Даже не включал телевизор, чтобы не беспокоить жену. Потом она заснула, вздремнул и Разоев.
Утром пришла участковая.
– Зря вы в больницу отказались, – сказала она. – Там бы за вами наблюдение было постоянное. А я сегодня к вам пришла, потому что мы обязаны после «скорой», а потом вам придется самой ходить ко мне, да еще заранее записываться.
– Ничего, запишусь, – сказала Лидия.
– Дело ваше.
– А вы бы сами ее и записали, – сказал Разоев, – когда в поликлинику вернетесь.
– Не имею права. Что это за порядок, когда врач сам себе будет больных записывать?
– Тоже верно, – согласился Разоев. – А я за жену могу?
– На здоровье.
И Разоев пошел в поликлинику записывать жену на прием. Он помнил, что раньше при входе был стол, на столе красные папки с фамилиями и специальностями врачей.
Так оно и оказалось, и это его порадовало своей стабильностью.
В папке с надписью «Кардиолог Сушкова В.Н.» было два листка на два дня следующей недели, понедельник и вторник. И оба заполненные до отказа.
Разоев обратился в регистрацию. Нагнувшись к зарешеченному окошку, расположенному на уровне пояса, он спросил женщину примерно своего возраста:
– А как записаться к кардиологу, если там уже некуда?
– Значит, некуда, у человека график не резиновый.
– Это я понял. Там на понедельник и вторник некуда, я бы на среду записался, а на среду вообще листка нет.
– На среду запись будет в понедельник.
– Ясно.
Дома он объяснил это жене.
– Вот уроды, – сказала она.
– Бардак, – вторил Разоев.
Но гнева в их речах не было. Лидия знала, что жизнь всегда полна всяких трудностей и препятствий, а Разоев, пожалуй, даже любил их. Вернее, считал, что без них нельзя. Все бы вам попроще, помягче, послаще, потеплее, говаривал он. Комфорт вам давай. А так не бывает.
Он работал долгие годы на станкостроительном заводе, где, несмотря на громкое название, не строили станков, производили только некоторые детали, которые собирались в другом месте, где действительно строили станки полностью. Так вот, сами станки, на которых формовались и вытачивались детали для новых станков, были ветхими, некоторым за тридцать, а то и за сорок лет. Разоев, мастер-наладчик, гордился их долговечностью и снисходительно говорил рабочим, которые ругались на частые поломки:
– На то он и механизм, чтобы ломаться. Дай тебе новый, поработаешь ты, ну месяц, два, тоже начнет ломаться.
И он умело, с выдумкой, чинил станки, придумывал приспособления, продлевающие их жизнь, и огорчался, если какой-то станок, несмотря на его старания, все же убирали из цеха – в лом, на переплавку. Был бы у меня большой сарай, думал Разоев, я бы там поставил этот станочек, и он бы у меня еще прослужил неизвестно сколько!
Когда по каким-то причинам несколько дней в цеху ничего не ломалось, Разоеву было даже как-то не по себе, как-то неуютно, сбивался привычный ритм жизни, он чувствовал свою ненужность, ходил по цеху и наставлял рабочих, чтобы они не забывали все, что нужно, протирать и смазывать, соблюдать режимы, а сам ждал, когда же, несмотря на соблюдение правил, что-то забарахлит. И был чуть ли ни рад, когда барахлило, шел на зов рабочих, хмурился и издали бодро сердился:
– Вечно у вас не слава богу, что опять?
В понедельник Разоев отправился записываться на среду. Поликлиника открывалась в девять, он пришел в половине девятого. Дверь была закрыта, возле нее толпились люди, преимущественно пожилые.
– Кто последний на запись? – спросил Разоев.
– К кому?
– К кардиологу.
– Их много.
– К Сушковой.
– Я, – ответила какая-то старуха.
Разоев встал возле нее.
Посыпался мелкий дождик. Все грудились под козырьком, но места не хватало, некоторые отошли к стене, где капало меньше. Разоев видел через стекло охранника, который сидел за столом, вернее, полулежал на стуле, вытянув руки и ноги. Разоев посочувствовал его скучной работе.
Проходили врачи и другие работники поликлиники, для них дверь открывалась, но посетителей не пускали.
– Безобразие! – сказал кто-то. – Не принимаете, ладно, но пустить можно хотя бы?
– Вот именно!
– Издеваются, как хотят! – присоединил свой голос и Разоев, получив удовольствие оттого, что он вместе с народом, от бодрящего гнева, но зная, что его протест не вполне искренний. Порядок есть порядок, очередь есть очередь. Да, это неприятно. Да, часто многое кажется формальным и бессмысленным. Но только с первого взгляда. На самом деле всякая формальность обычно имеет за собой основание. И даже если не имеет, она учит человека быть терпеливым и мужественным. Есть ли распорядок у дождя? – который, кстати, уже кончился. Есть ли график у болезней, которые часто сваливаются неожиданно, как на его Лидию? Надо быть готовым ко всему.
Разоев дождался своей очереди на запись и удивился: листок был заполнен сверху донизу. Он взял папку с листком, показал регистраторше:
– Как это может быть? Всего человек пять передо мной было, а уже места нет!
– Остальные раньше на приеме у врача записались.
– А нас она не согласилась записать!
– Когда?
– Домой приходила, мы ее просили…
– Дома она не имеет права. А когда сюда придут, тогда да. Вы положьте на место, чего хватать, это документ все-таки!
– Нет, но как на прием попасть?
– Записаться.
– Так места же нет!
– А спать не надо. Завтра приходите.
Дома Лидия успокоила взволнованного мужа:
– Ничего страшного, бывает. Завтра, действительно, встанешь пораньше.
Назавтра Разоев пришел к половине восьмого. Выждал терпеливо полтора часа – впрочем, ожидание не было мучительным: в любой очереди Разоев думал о жизни, о дочерях, уехавших в Москву, о внуках, о разных мелочах, ему всегда было о чем подумать. Оказался первым, нашел свободное место в листке приема. Записался на четверг, на десять утра.
Стали ждать четверга. Один раз Лидии было довольно плоховато, хотели уже опять вызвать «скорую», но она все откладывала, говорила, что терпимо. И – отпустило.
В четверг сидели в длинном коридоре у двери Сушковой. Запись записью, но к Сушковой проходили какие-то люди вне очереди, поэтому попасть удалось только в половине двенадцатого.
Лидия зашла, Разоев приготовился ждать.
Но жена вышла как-то очень уж быстро.
– Витя, мы карточку страхования забыли, – сказала она виновато.
– Я потом принесу.
– Она говорит: нет, нужно сейчас.
Разоев не выдержал. Он стал, открыл дверь и с порога громко сказал, не допуская при этом лишней скандальности в голосе:
– Вы что, извините, озверели? У человека сердце, а вы – карточку вам! Вы осмотрите ее, а я схожу пока!
– Вы кто вообще? – спросила Сушкова.
– Муж ее!
– То есть не на прием?
– Я не… Нет, но…
– Тогда выйдите из кабинета! Кто следующий?
Разоева оттеснила рыхлая, с сипом дышащая женщина, казавшаяся настолько больной, что вторично заходить в кабинет после нее показалось Разоеву неудобным.
– Ладно, – сказал он Лидии. – Ты посиди, я сбегаю. Нормально себя чувствуешь?
– Ничего.
Разоев пошел домой. Шел быстро, бодро, чувствуя себя еще вполне молодым и здоровым, от этого ему было еще больше жаль жену: жили-жили вровень, а она взяла вдруг да и отстала.
Дома он обшарил все, и никак не мог найти карточку. Сердился на Лидию: вечная ее привычка все прятать, засовывать, везде в квартире коробочки, сверточки, сроду ничего не найдешь. Он позвонил Лидии, услышал ее телефон в кухне.
Это дополнительно рассердило Разоева: она и телефон с собой не взяла!
Так и не найдя документ, почти бегом бежал обратно в поликлинику.
Лидия сидела все там же и держала в руках зеленую карточку, заранее готовясь показать ее мужу.
– Прости ты меня, ради бога, Витя, я ее в кармашек засунула, в кошелек, там у меня кармашек. Главное дело, я всегда туда кладу, а в этот раз не посмотрела…
Разоев сел рядом с нею и зашипел (не любил привлекать постороннего внимания):
– Курица, тебе на хрен вообще телефон, можешь сказать? На хрен он тебе, если ты его с собой сроду не берешь? А карточку мне могла дать? Ты же сроду все теряешь, могла мне дать ее?
– Витя, ну…
– Я только и слышу – ну! Всю жизнь!
Разоев был вне себя. Он понимал трудности механизмов, государственной системы, он даже понимал личную вредность той же Сушковой, она хоть как-то объяснима – характером, тяжелой работой, бестолковыми больными, но трудности, причина которых была в разгильдяйстве, глупости, рассеянности, то есть возникала на пустом месте, его всегда приводила в состояние, подобное приводному ремню, который вихляется, косит, вот-вот сорвется, но не его в том вина, а неотцентрованного шкива. Люди неотцентрованы, особенно женщины, вот в чем все проблемы.
– Успокойся, – просила Лидия. – Пойдем.
– Удивляюсь, почему тебя инфаркт стукнул, а не меня? – продолжал горячиться Разоев. – И главное, сидит спокойная, как так и надо!
– Я не спокойная, – сказала Лидия. – Она мне предложила в больницу ехать.
– В какую?
– Вот – направление, – Лидия показала бумажку. – Мы зря на нее сердились, она во всем разобралась. И посоветовала.
Разоев увидел на обычном листке название клиники и адрес.
– Это не направление, а просто – куда ехать.
– Она говорит: не имею туда права, все равно не примут, там лимит пенсионеров. Вы, говорит, «скорую» вызовите, а когда приедут, вы им скажите этот адрес. Они тоже не захотят, а вы им немного заплатите, они отвезут.
– Ну дела! Через правое плечо левое ухо чесать!
– Пойдем, Витя. Нехорошо мне.
– Может, сюда вызвать?
– Как я поеду? Надо халат взять, тапки. Пойдем.
Они медленно пошли домой. По пути Лидия несколько раз останавливалась. Разоев беспомощно стоял рядом. Ему думалось, что надо бы, что ли, обнять жену, придержать, но он никогда этого не делал на улице – да и она бы не позволила. Один раз он все-таки приподнял руку, чтобы коснуться ее плеча, но она слабо покачала головой: не надо.
Добрели до дома, вызвали «скорую». Она приехала, Разоев отвел врача, показал ему листок с адресом больницы и, стесняясь, достал из кармана заранее приготовленную купюру.
– Убери, – сказал врач, – мы и так туда повезем.
Повезли.
Разоеву разрешили сопровождать.
В машине Лидии стало совсем плохо. Врач все время держал ее за руку, щупая пульс, потом что-то отрывисто сказал медсестре, та вытащила прибор, они расстегнули кофту Лидии, обнажили тело. Разоев откинулся к стенке, вжался, чтобы не мешать. Страдал оттого, что чужие люди видят голое некрасивое тело жены. И думал о том, как же он уважает их трудную работу. Лидию нелепо встряхивало от разрядов, Разоеву хотелось сказать, что уже не надо – он чувствовал бесполезность действий врачей. Даже станки, которые он привык чинить до бесконечности, бывало, приходили в состояние, не подлежащее ремонту, что же говорить о человеке?
Потом был хлопоты, связанные с помещением тела в морг, потом надо было звонить дочерям, потом привезти в морг документы и одежду, получать свидетельство о смерти, ехать в похоронное бюро, на кладбище, договариваться, чтобы Лидии выделили место рядом с матерью, как она всегда хотела, это оказалось непросто, но Разоев все же решил вопрос и был горд этим, потом надо было встречать дочерей, рассказывать им, как все было, хлопотать о поминках… И, хоть это все было печально, хоть Разоев то и дело принимался плакать, странное чувство удовлетворения не оставляло его. Ведь все происходящее было дельно, нужно, необходимо, исполнено смысла, к тому же, во всем были какие-то свои неувязки, проблемы, трудности, это заставляло соображать, проявлять инициативу; никогда за последние годы Разоев не был так бодр и энергичен. Дочери побыли до девяти дней, потом уехали.
Разоев остался один.
Впереди было еще одно дело: поминки на сороковой день, а потом – неизвестно что.
Надо было разобраться с вещами жены, надо было готовить еду, к чему Разоев не привык, возможно, неплохо бы съездить к дочерям – они звали, но он ничего не хотел, впал в какую-то бесчувственность и даже брился не каждый день, чего раньше себе не позволял. Вроде мелочь – бритье, но в прежние дни ему иногда было лень, он эту лень преодолевал, само преодоление наполняло бритье смыслом: не хочется – а делаю, не опускаюсь, продолжаю быть человеком. Сейчас хуже, сейчас не лень, а все равно, и это все равно, оказывается, преодолеть труднее, чем самую тягостную лень.
Так он прожил полгода, зарастая пылью и грязью, понимая, что это плохо, но не испытывая угрызений совести.
Однажды Разоев отправился в утренний поход за хлебом и кефиром.
В магазинчике его знали, даже не спрашивали, что надо, выкладывали сразу на прилавок.
– И шампанского! – шутил Разоев бывало, в прежней жизни, но теперь эта шутка казалась глупой.
Он складывал продукты в пакет, когда его что-то сильно и больно ударило в грудь.
Разоев с удивлением посмотрел на продавщицу и повалился на пол.
– Вот так вот стоит – и бац! – рассказывала потом продавщица подругам, округляя глаза и пугливо улыбаясь. – И прямо на пол. А пол там у нас – плитка. Он прямо головой. Мама дорогая! Я звонить, они: кто, что, я говорю: откуда я знаю, в магазине у меня старик упал. Приехали только через полтора часа, представляете? А он уже весь синий.
– Помер? – ахали подруги.
– Еще бы нет! И приступ, и башкой об пол, тут и молодой умрет!
Продавщица оказалась неправа, Разоев выжил. У него был, как и у жены, инфаркт, да еще сотрясение мозга от падения. Его подлечили, он торопился выписаться, лечащий врач спрашивал:
– Куда торопимся?
– Дел много, – отвечал Разоев.
Дел, действительно, было много. Привести, наконец, в порядок квартиру. Оформить инвалидность. Оформить завещание, до чего раньше не доходили руки. Покупать продукты, которые рекомендовал врач в качестве лечебной диеты. Попробовать полечиться легкой и правильной физической нагрузкой.
Он выписался и занялся всем этим.
Иногда перехватывало дыхание, кололо и давило в груди, эта боль страшила, но Разоев внимательно к ней прислушивался, словно оценивая, как раньше, на станкостроительном заводе, поломку, и прикидывая, что нужно сделать для ее исправления.
А еще он грел в себе слова, которые услышал от лечащего врача, высокого парня лет тридцати, веселого, бесцеремонного, всем тыкающего; тот после первого осмотра сказал:
– Ничего, дед, выжил – уже плюс. Жизнь трудна, но интересна!
Разоев удивился: он считал нынешнюю молодежь пустоголовой и пустословной, не понимающей, что к чему, и вдруг человек, который моложе его больше чем вдвое, говорит именно о том, о чем и Разоев всегда думал.
Значит, не такие уж они и пустые. Это обнадеживает.
Кстати, когда он впервые после больницы пришел в свой магазинчик, продавщица его узнала и обрадовалась, как родному.
– Живой? – воскликнула она.
– Так точно! – ответил Разоев.
– Чего желаем?
– Батон, кефир полтора процента, молоко тоже полтора.
– Всё?
– И шампанского!
Хроника. Апрель
Из новостей
* * *
Выборы президента Венесуэлы. Победу одержал Николас Мадуро, однако сторонники оппозиционного кандидата Энрике Каприлеса не признали результаты выборов.
(Полагаю, мы поддерживаем законно избранного. А законно избранным у нас считается тот, кто победил на выборах.)
* * *
В Испании состоялась многотысячная демонстрация с требованием упразднения монархии и введения республиканской формы правления.
(Форма на суть не влияет. Испания меня беспокоит, как всегда беспокоила русских писателей и их героев. Поприщин очень за нее переживал.)
* * *
15 апреля – в Бостоне (США) на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва. 3 человека погибли, 144 человека ранены.
(Новость повторяют и повторяют. Как когда-то показывали башни-близнецы: смотрите, как это ужасно, самолеты врезаются, башни падают. Смотрите, как это печально. Смотрите 1000 раз. А у нас будет рейтинг.)
Из журнала
* * *
Я все думал: откуда этот неожиданно вернувшийся ренессанс блатняка, воровского шансона? И вон кино даже про Круга сняли, по телевизору крутят.
Жена же моя сказала только одно слово: «Отсидели»…
* * *
Что-то странное происходит: не питая пристрастия к белым лентам, я, тем не менее, с утра чувствую себя иностранным агентом, и какой-то чертик подзуживает меня, строя козни, развернуть пропаганду секса, насилия и межнациональной розни; мне музыкой нашествия повсюду слышатся Аллах Акбар и лехаим, я сдерживаю руку, чтобы не ответить зуботычиной или зигхайлем; ночью в горячке мечусь, снится смена конституционного строя на первое и антинародные митинги на второе; чую в себе либераста, дерьмократа, а местами и гея, ищу, кому продать руно, которого нет, да и я не Медея; душа моя бредит дальней дорогой, тюрьмой и сумою…
Кто скажет, что происходит со мною?
* * *
Для разгонки мозгов решил пройти найденный в сети ЕГЭ по литературе и русскому языку. Получил 9 из 15 и 9 из 16. Потрясен своей тупостью и дремучестью. При этом понял: ЕГЭ по литературе не имеет никакого отношения к настоящему пониманию художественного текста (а знание его и вовсе не требуется – текст прилагается), а ЕГЭ по русскому языку нацелен на выявление навыков схоластической долбежки правил, а не на проверку умения правильно и грамотно писать. Для людей с так называемой интуитивной грамотностью (часто книгочеев!) такой экзамен – зарез. Получается, самая важная литература для ЕГЭ по литературе – учебник. Худ. произведения можно не читать вовсе.
* * *
Бл..ская проституированная Дума добралась до кино и литературы. Засранцы, про…вшие всем мозги своим маразмом, желают теперь, чтобы в публичном доме, в который они превратили страну, никто не ругался матом. С. Говорухин предлагает в виде полумеры заворачивать книги с нехорошими словами в полиэтилен. Как порнографию. Мое предложение: завернуть в полиэтилен Думу. Как порнографию.
* * *
Самая распространенная русская фамилия не Иванов-Петров-Сидоров. А Смирнов. Разве это не говорит что-то о характере нашего народа?
А еще в первой десятке Кузнецовы, Соколовы, Поповы и Лебедевы. Но и Козловы тоже есть. А Волковых почти столько же, сколько Зайцевых.
А вот у немцев никаких Соколовых-Лебедевых. У них так:
1. Mueller (0,95 %) (мельник) 2. Schmidt (0,69 %) (кузнец) 3. Schneider (0,40 %) (портной) 4. Fischer (0,35 %) (рыбак) 5. Meyer (0,33 %) (староста) 6. Weber (0,30 %) (ткач) 7. Schulz (0,27 %) (судья) 8. Wagner (0,27 %) (тележник) 9. Becker (0,27 %) (пекарь) 10. Hoffmann (0,26 %) (дворовладелец).
У англичан, как и ожидалось, главную роль играет отцовство:
1. Smith (Смит) – кузнец, 2. Jones – от имени Джон, 3. Williams – от имени Уильям,4. Brown – коричневый, смуглый, 5. Taylor – портной, 6. Davies – от имени Дэвид, 7. Wilson – от имени Уилл + сын, 8. Evans – от имени Эван (Иван, но не Айван), 9. Thomas – от имени Томас, 10. Johnson – сын Джона.
У французов тоже много фамилий по отцовству, но кто бы сомневался, что одна из самых распространенных фамилий – Леруа. Король типа.
* * *
Власть ужасает общественность сообщением, что 654 НКО получили за 4 месяца миллиард долларов. Общественность ужасается. Зреет тайное желание удушить эти НКО и поделить деньги.
Для сравнения: 1 (один) человек Олег Дерипаска в прошлом году получил с алюминия, природного общенационального богатства, 3,84 миллиарда долларов. Общественность не ужасается.
* * *
Один мой хороший знакомый, работающий в госструктуре, получил следующее письмо (убираю детали, чтобы он не пострадал):
Разнарядка на демонстрацию 1 мая 2013 г.
Сбор в (указано время и место сбора). Ориентиры: плакаты «Достойная зарплата – основа прогресса!» и «Молодежь Москвы – весну зови!»
Шествие будет двигаться (указан маршрут).
Далее три графы: название организации, сколько она должна выделить человек и ФИО ответственного лица.
Примечание: привлеченным участникам мероприятия ответственные лица должны разъяснить добровольность их участия.
Это документ, не выдумка.
При этом указание дается от мэрии, но подписи конкретного лица нет. Такая административная анонимка. Но попробуй не исполни.
Из дневника
* * *
Опять Саратов. Мама. Очень тяжело и грустно.
* * *
Рассказы для книги пишутся. И «Октябрь» попросил, надо послать.
* * *
Стр. Люб. – или они друг друга убьют, или меня.
* * *
Начал пьесу «Инна» («Чужая»). Требует внимательной работы. История с «Pussy Riot» – только повод. Будут говорить о спекуляции на теме. Пусть говорят.
* * *
7-ю серию приняли влет, 8-ю с оговорками, будет разговор о девятой.
«Пересуд» зарубили окончательно. Никто не говорит, что плохо, речь о том, что для зрителей в 21.30 это сложно, а на то, чтобы снять для полуночников, не могут дать нормальных денег.
Аргумент: «Вы же не удивляетесь, что вам за книги, которые, по-вашему, искусство, не платят, а за сериалы, которые, по-вашему, совсем не искусство, платят?».
Я заткнулся. Рыночная логика. Платят не за то, что хорошо, а за то, что хорошо покупается. Остальное детали и уловочные хитрости. Надо уметь хорошо делать плохое, вот, собственно, в чем вся соль.
Иногда хорошо выходит и хорошее. Или хотя бы приличное. Как исключение.
В любом случае жвачка даже самого высокого качества (американские сериалы) – все равно жвачка.
Инна Пьеса в 1,5 действиях
Действующие лица
МАНАЙЛОВА, за 40 лет
ВЕРОНИКА, 30 лет
ТЕТЯ КОТЯ, 60 лет
АНЯ, 30 лет
ИННА, 21 год
ВЕРА ПАВЛОВНА, около 50 лет
НАСТЯ, около 40 лет
Действие 1
Камера или небольшой барак в тюремной зоне. Пять кроватей, возле них тумбочки без дверок с личными вещами и предметами гигиены.
В центре длинный дощатый стол. Вероника, Тетя Котя и Аня работают, они изготавливают флажки. Вероника накладывает лекало на полотно, вырезает ножом заготовку, передает Тете Коте, Тетя Котя на машинке-оверлоке обметывает флажок, передает Ане, Аня загибает край и на обычной швейной машинке прострачивает его, всовывает туда маленькое древко, прибивает гвоздиком и бросает флажок в картонный ящик, вслух считая количество.
Настя, женщина, отбывшая срок, собирает постель.
Манайлова лежит на отдельной кровати, подбрасывает и ловит маленький мячик и тоже считает флажки.
АНЯ. Сто сорок три.
МАНАЙЛОВА. Сто сорок три.
ВЕРОНИКА (Насте). Настя, позвонить не забудешь?
НАСТЯ. Не забуду.
ВЕРОНИКА. Ничего лишнего. Просто: Вероника передает привет. Он начнет спрашивать, как, чего, скажешь: ничего, просто передает привет. Пусть он озадачится!
АНЯ. Сто сорок четыре.
МАНАЙЛОВА. Сто сорок четыре. Не поняла: зачем привет передавать, если неизвестно зачем?
ВЕРОНИКА. Отвечаю, товарищ командир: мужчина ненавидит что? Он ненавидит, когда чего-то не понимает. Почему? Потому, что он чувствует себя дураком, а он к этому не привык, даже если дурак.
АНЯ. Сто сорок пять.
МАНАЙЛОВА. Сто сорок пять.
ВЕРОНИКА. Он начнет думать: почему сама не позвонила, не написала, зачем привет передает? И в результате позвонит сам. Или напишет. Потому, что мужчина женщине первый звонить должен, а не наоборот!
ТЕТЯ КОТЯ (Насте). Я по тебе скучать буду. Прямо как родная стала… (Утирает пальцем глаз.) Зинаиде скажешь, чтобы не своим все отдала, ей ума хватит, а чтобы каждому по паре носочков. И Зинаидиным две пары, и Валентининым пару для ее Владика, и…
АНЯ. Сто сорок шесть.
МАНАЙЛОВА. Сто сорок шесть.
ТЕТЯ КОТЯ. И Петиным три пары. Подарок им от бабы Коти. Меня все Котей зовут. Внуки – баба Котя, племяннички – тетя Котя. А кто первый назвал, уже не помню. Была Катя, стала Котя навсегда. А чего, мне нравится!
ВЕРОНИКА. Теть Коть, я умру раньше смерти! Ты это уже сто первый раз рассказываешь! (Насте.) Главное, Настя, без комментариев, поняла? Просто: Вероника передает привет. Он начнет спрашивать – ну, мало ли, типа, может, кто-то у нее тут есть? Скажешь: без понятия. Привет – и до свидос!
АНЯ. Сто сорок семь.
МАНАЙЛОВА. Сто сорок семь. Будет он спрашивать! У него там таких, как ты, знаешь, сколько?
ВЕРОНИКА. Знаю – ни одной! Потому что такую, как я, он в принципе не найдет! А если ты, товарищ командир, в мужчинах ничего не понимаешь, то и молчи!
Манайлова резко встает, подходит к Веронике.
МАНАЙЛОВА. Ты на что опять намекаешь? (Замахивается мячиком.)
ВЕРОНИКА (выставляет локоть и пригибается). Ни на что, уймись! Ты на зонах всю жизнь, замужем не была…
МАНАЙЛОВА. И что? Тут мужчин, что ли, нет? Не понимаю я! Я людей вообще лучше вас всех понимаю! Насквозь! Поэтому я над вами сижу!
ВЕРОНИКА. Лежишь.
АНЯ. Сто пятьдесят.
МАНАЙЛОВА. Сто пятьдесят. (Собирается вернуться на место, но не выдерживает, подскакивает к Веронике сзади и бьет ладонью по затылку.) На! Умней будешь!
Вероника вскакивает, выставляет нож.
ВЕРОНИКА. Доиграешься, Манайлова!
МАНАЙЛОВА (вцепившись в одежду на груди, как бы готовая разорвать ее). Ну, бей, бельдюга! Режь, сэка! Ну? Давай! Ну? (Ловким движением вырывает нож у Вероники.) Запомни, пала, достала пыряло – пыряй! А не можешь – не дрочись! (Делает выпад и чиркает ножом Веронику по предплечью.) На память тебе!
ВЕРОНИКА (хватается за плечо). Ты охренела? Вы смотрите, что она делает! До крови порезала, тварь! Убью! (Она хватает табуретку, поднимает над головой.)
ТЕТЯ КОТЯ (не очень спеша встает, берет у Вероники табуретку, а у Манайловой нож). Успокоились! Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Работа стоит, опять нормы не будет.
ВЕРОНИКА. Я ее во сне прирежу.
МАНАЙЛОВА. Ага. Если сама проснешься.
ТЕТЯ КОТЯ. Хватит уже! Будет выходной – режьтесь на здоровье. А ты, Манайлова, в самом деле, если бригадир, не ломай производство.
МАНАЙЛОВА. Я, что ли, начала?
ВЕРОНИКА. А кто?
Вероника дотягивается языком до пореза, облизывает, потом отрезает кусок материи, перевязывает рану. Тетя Котя ей помогает. Они садятся за стол, берутся за работу. Манайлова ложится, опять подбрасывает мячик.
НАСТЯ. Ну… Мне пора…
Аня встает, идет к ней, подает свернутый листок.
АНЯ. Я тут нарисовала, как найти. Сергуновы Аля и Оля. Там рядом высокий такой памятник с самолетом, летчик какой-то погибший. А может, и сам умер… А у них такая серебристая оградка… С завитушками… Фотографии там… То есть фотография одна, они там вместе… Цветочки им положи. И это… Конфеток насыпь.
ТЕТЯ КОТЯ. Еду на могилы не кладут, не положено.
АНЯ. Да? Ну, не надо.
НАСТЯ. Я пошла. До свидания.
ТЕТЯ КОТЯ. Какое до свидания, Настя, так здесь не говорят! Прощаться положено.
НАСТЯ. Прощайте.
Вероника встает, обнимает ее.
ВЕРОНИКА. Поживи там за нас по полной!
МАНАЙЛОВА. Поживет она. Мужа нет, работы нет, двое детей на шее.
НАСТЯ. Ничего. Не хуже, чем здесь.
Аня и Вероника возвращаются к столу. Работа продолжается.
Настя, постояв, идет к двери, стучит. Открывается окошко, кто-то заглядывает. Дверь открывается. Настя делает шаг, стоит в двери.
АНЯ. Сто пятьдесят один.
МАНАЙЛОВА. Сто пятьдесят один.
Настя, не поворачиваясь, ни на кого не глядя, говорит, почти не повышая голоса, но с силой.
НАСТЯ. Будьте вы прокляты. Ненавижу вас всех. Чтоб вам здесь сгнить!
И выходит. Дверь закрывается.
ТЕТЯ КОТЯ (кричит). Носочки-то передашь?
Пауза.
ВЕРОНИКА. Это чего было?
ТЕТЯ КОТЯ. Перед волей человек всегда на нерве. Тут-то уже понятно, что к чему, а там все заново.
ВЕРОНИКА. Нет, но за что? Что мы сделали?
ТЕТЯ КОТЯ. Она не нас прокляла, а вот это вот все. (Обводит рукой окружающее.)
МАНАЙЛОВА. А что – это всё? Это всё! Тут зона, тюрьма, да. Но хотя бы никто не притворяется, что свобода! А там, сэка, та же самая тюрьма, а притворяются, что свобода!
АНЯ. Сто пятьдесят два.
МАНАЙЛОВА. Сто пятьдесят два.
ТЕТЯ КОТЯ. Не сравнивай. Там куда захотел, туда пошел, что захотел, то покушал. Родные вокруг – дети, внуки, у кого есть. Даже смешно говорить.
ВЕРОНИКА. А я Манайлову понимаю, как ни странно. Это только кажется, что свобода, а на самом деле с детства что велят, то и делаешь. Ты вот, тетя Котя, воровала почему? Свободы не хватало?
ТЕТЯ КОТЯ. Я не воровала, я работала! Ты знаешь, что такое жилищная система? Это целый космос, никакой Гагарин не разобрался бы! Он что? – взлетел, покрутился, сел, а тоже – подвиг! А вот когда тебе урежут финансирование, а объем тот же, а все жалуются, а объектов сто штук, а ты можешь освоить только двадцать, а зарплата – копейки…
АНЯ. Сто пятьдесят три.
МАНАЙЛОВА. Сто пятьдесят три.
ТЕТЯ КОТЯ. …а на тебе муж больной, дети, а у них тоже дети, всем кушать надо, одеться надо, а вокруг тебя все премии себе выдают и живут в шоколаде, вот порешай ты такую задачку! Я сама, что ли, брала? Давали! А на мне отыгрались!
ВЕРОНИКА. Я о том и говорю: тут дают, и там дают. А моя позиция – брать самой! Свободы нигде нет, а счастье – есть! Я это лично знаю!
Пауза.
АНЯ. Сто пятьдесят четыре.
МАНАЙЛОВА. Сто пятьдесят четыре.
ВЕРОНИКА. Бли-и-и-и-и-и-н! Вы в уме не можете считать?
МАНАЙЛОВА. В уме собьемся. Вам пофигу, а мне отвечать.
АНЯ. Я не собьюсь.
МАНАЙЛОВА. Ладно. Но потом пересчитаем.
ТЕТЯ КОТЯ (Манайловой). Ты лучше скажи, кого подселят. Если знаешь.
МАНАЙЛОВА. Я все знаю. Зовут Инна, фамилия Горецкая.
ВЕРОНИКА. Еврейка?
МАНАЙЛОВА. Хрен ее знает. Молодая, типа студентка.
ВЕРОНИКА. За порнографию посадили?
ТЕТЯ КОТЯ. Кто о чем, а…
МАНАЙЛОВА. Сволочь она. Забежала, сэка, со своим елдарем в церковь, он начал на гитаре тырцать, а она типа частушки петь. Матерные.
ВЕРОНИКА. Убить за это мало.
ТЕТЯ КОТЯ. Так, вроде, их уже посадили? Или даже уже выпустили.
МАНАЙЛОВА. Не путай, те были другие, а эти другие. Те типа плясали, а этим попеть захотелось. Они же друг с друга срисовывают. Одни начудили, другим тоже хочется. Ну и получи тоже пару лет по рогам. Его в одну зону, а ее к нам.
ВЕРОНИКА. Да? Ну-ну, добро пожаловать!
ТЕТЯ КОТЯ. Вы без фокусов, девушки, дайте человеку оглядеться.
ВЕРОНИКА. Ага, щас, дадим! (Волнуется все больше.) Меня там не было, порвала бы на месте! Теть Коть, ты пойми, если каждый пойманный в рот будет такие вещи творить, тогда что останется вообще? У меня лично, кроме Бога, ничего не осталось уже тут (прижимает кулак к груди) – и она у меня его отнять хочет? У меня все здесь сгорело, кроме Бога, всем я до звезды, а он меня любит!
АНЯ. Откуда ты знаешь?
ВЕРОНИКА. Батюшка здесь, в часовне на зоне, все объяснил.
АНЯ. А.
ВЕРОНИКА. Чего? Тоже смеешься надо мной? Я и до батюшки чувствовала! Я как раз у него что первое спросила: говорю, скажите, почему я уже дошла до последней степени отчаяния, никому я не нужна, включая собственную мать, ну тотально то есть вообще, никто меня не любит, кроме мужиков, которые меня тоже не любят, им только бы кого выесть на халяву, скажите, говорю, почему я с собой не кончаю, почему я чего-то жду, и даже не жду, чего мне ждать, если я даже родить не могу, если бы родила бы, тогда бы дети меня хотя любили, а я бы их взаимно, а я родить не могу, чего ждать? – а я жду, будто что-то все-таки будет, нет, я даже не только жду, я даже иногда уже сейчас себя чувствую вполне позитивно, не сказать, чтобы прямо счастливой, но нормально в принципе, а иногда бывает, что будто что-то даже где-то в душе светится, а что такое, непонятно, не потому, что, там, ну, выпила или курнула, нет, не потому, что с мужчиной приятные отношения построились, нет, на пустом месте бывает, вот в чем парадокс! И он мне говорит: в такие моменты твоя душа чувствует, что ее Бог любит. Меня просто пронзило! Точно! Ведь некому же – только, значит, Бог! Я даже заревела! Я сутки ревела от счастья! …Это я к чему?
ТЕТЯ КОТЯ. Это ты к тому, что никого трогать не будем.
ВЕРОНИКА. Я и не собираюсь. Я так. Пощупаю.
МАНАЙЛОВА. Щупать тоже без тебя есть кому.
Вероника оглядывается, смотрит на нее с усмешкой.
МАНАЙЛОВА. Ты опять?
ВЕРОНИКА. Я молчу.
На сцену выходят Инна и Вера Павловна. У Инны в руках пластиковый пакет и стопка с постельным бельем.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Запомни: если сама будешь не дура, все будет нормально.
ИННА. А почему вы мне тыкаете? Вы старше, я понимаю, но мы даже еще не познакомились. Как вас называть, кстати? Гражданка начальница?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Правильно мне говорили, что ты из цирка сбежала. Ничего, я всяких видела. Зови Верой Павловной. Говорю для твоей же пользы: веди себя нормально и работай, и не будет неприятностей. Молчи громче, отвечай четче. И без под ёлок всяких.
ИННА. А нельзя меня в одиночку посадить?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Режим нарушишь – посадят. Вот удивляюсь: сколько я вас видела, столько одна и та же история – чем грамотнее, тем глупее. Это вот почему? Тебя в университете чему учили?
ИННА. По крайней мере, не способам социальной адаптации в местах лишения свободы.
ВЕРА ПАВЛОВНА (качает головой). Не изменишь характера – добра не жди.
ИННА. Характер, то есть сумма психических свойств личности, определяющих парадигму ее поведения, как утверждал Александр Бернштейн, является весьма консервативной субстанцией, с трудом поддающейся изменениям.
ВЕРА ПАВЛОВНА. У нас с твоей консервной субстанцией быстро разберутся. Пальцем вскроют.
Они уходят. Потом открывается дверь камеры, Вера Павловна вводит Инну. Все встают.
ВЕРА ПАВЛОВНА (оглядывает всех, тычет пальцем в плечо Вероники). Это чего?
ВЕРОНИКА. Да… Задела, оцарапала…
ВЕРА ПАВЛОВНА. К врачу сходи, а то будет заражение, работать не сможешь. Так. Вот вам новенькая. Зовут Инна Горецкая. Статья – злостное хулиганство. Как и чего, знать не обязательно, а кто знает, предупреждаю: это не наше дело. (Инне.) Все, устраивайся, и за работу.
ИННА. А у вас работа прямо в камере?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Это временно. Цех у нас сгорел недавно. И склады кое-какие, и вообще. Следствие ведется. А производство стоять не может.
ИННА. Хорошо, что я сюда после пожара попала, а то меня обвинили бы.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Надо будет, обвинят. Хоть бы ты в Африке даже в это время была. (Манайловой, кивая на ящик.) Сколько?
Манайлова смотрит на Аню.
АНЯ. Сто семьдесят шесть.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Вы долбанулись, девушки? У вас шестьсот норма на камеру, вы когда успеете? Пока шестьсот не сделаете, отбоя не будет!
МАНАЙЛОВА. Настя вещи собирала сегодня, не работала почти. А новенькая ничего не умеет, снизили бы пока норму.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Не умеет – научите!
ИННА. Я не против, но больше восьми часов в день работать не буду.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Это почему?
ИННА. Потому, что так записано в трудовом кодексе.
Вера Павловна долго смотрит на нее, а потом начинает смеяться. Смех подхватывают все, даже неулыбчивая Аня усмехнулась.
ИННА. Буду признательна, если вы мне объясните причину вашего юмористического настроя.
МАНАЙЛОВА. Дура, не выёживайся! Какой тебе трудовой кодекс, это зона! Зо-на, поняла?
ИННА. Вполне. Я подготовилась, говорила с адвокатом, читала документы. Положения трудового кодекса распространяются на места лишения свободы в полном объеме, включая организацию рабочих мест, санитарные нормы, технику безопасности…
Новый взрыв смеха.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Так, хорош! Посмеялись – и за работу все! Раньше начнете, раньше кончите!
Она собирается уйти, женщины засели за работу.
ТЕТЯ КОТЯ. Вера Павловна, насчет моего УДО[5] ответа нет еще?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Будет – скажут.
ТЕТЯ КОТЯ. Это да. Просто вот насчет Синицыной пришло уведомление, а в канцелярии полтора месяца пролежало. Она психанула, клей столярный взболтала, выпила, ее застукали, в изолятор засунули, а УДО отменили.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Но ты-то не будешь клей болтать?
ТЕТЯ КОТЯ. Я что, чокнутая?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Ну и будь спокойна, жди. (Идет к двери, оборачивается.) Предупреждаю всех: начальство указало в ее смысле (кивает на Инну), чтобы никаких неприятностей. Про нее газеты писали и телевизор показывал, лишний шум ни к чему.
МАНАЙЛОВА. Ладно, убьем не сразу, помучаем.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Повторяю: не будет нормы, не будет отбоя. Ясно?
Она выходит. Инна оглядывается, видит кровать, лишенную постельного белья, подходит к ней, начинает устраиваться. Обращается ко всем бодро и приветливо.
ИННА. Будем знакомиться? Меня зовут Инна.
ВЕРОНИКА. Молчи, уродка. Лучше молчи, не раздражай!
ИННА. И почему же я уродка, интересно? …Вы, наверно, слышали о нашей акции?
ВЕРОНИКА (привстает). Акция? Это ты называешь – акция?
ТЕТЯ КОТЯ. Вероника, сядь!
ВЕРОНИКА (садится). Акция! Главное, ее как принцессу сюда привели! Ах, блин, не дышите в ее сторону, громко не сморкайтесь!
ИННА. Это абсолютно не так. Я не собираюсь ничем выделяться, я знала, на что иду, я не требую для себя особых условий, просто закон существует везде, и я удивляюсь, почему вы не протестуете? Работать в камерах – абсолютно противозаконно.
МАНАЙЛОВА. Ладно, хватит смешить! Ты говоришь – закон. А сама как себя ведешь?
ИННА. А что?
МАНАЙЛОВА. А то. Без спросу кровать заняла.
ИННА. Но она же свободная.
МАНАЙЛОВА (встает). А может, я на ней хотела устроиться?
ИННА. Пожалуйста.
МАНАЙЛОВА. Нет, ты теперь послушай сперва. Есть законы писанные, есть неписанные, это тебе в детсаде объясняли?
ИННА. Понимаю: социальный протокол, обычаи…
МАНАЙЛОВА. Вот-вот, протокол! По протоколу тебе надо представиться по полной и спросить разрешения войти. Пошла к двери!
ИННА. Вы не кричите, пожалуйста. Это у вас прописка называется? Будете полотенце под ноги бросать?
ВЕРОНИКА. Начитанная!
МАНАЙЛОВА. Какое на хрен полотенце? Ты, когда входишь к людям в жилую квартиру, ты здороваешься? Обувь сымаешь? Или, сэка, прешься и сразу на хозяйскую постель в обуви?
ИННА. Я поняла. Хорошо. Будем считать это элементом игры. Вам же, наверно, скучно здесь, вот вы и…
ВЕРОНИКА. Скучно нам было до тебя!
МАНАЙЛОВА. Идешь к двери, сказано!
Инна пожимает плечами, идет к двери.
ИННА (улыбается). Здравствуйте! Меня зовут Инна Ильинична Горецкая, двадцать один год, студентка, то есть теперь бывшая студентка МГУ, рост (актриса называет свой рост), вес (называет вес), глаза (называет цвет глаз), не замужем, хочу у вас пожить, вернее, мне так определили. Обувь снимать?
МАНАЙЛОВА. Снимай.
ИННА. Вы серьезно? Тут пол холодный.
МАНАЙЛОВА. Неважно. Я тут староста и бригадир, поэтому будешь делать, что я скажу.
ИННА. Я пиелонефритом болела, у меня почки проблемные.
ВЕРОНИКА. Голова у тебя проблемная!
ТЕТЯ КОТЯ. Такая молодая – и уже? Я вот тоже. Чем лечилась? А Инна это у тебя полное имя или Инесса? Инна – иная, чужая. Нехорошее имя.
ИННА. Ошибаетесь. Это древнегерманское, греческое или старорусское имя, означает…
ВЕРОНИКА. Старорусское, ага!
ИННА. Есть сомнения? Означает бурный поток.
МАНАЙЛОВА. В унитазе тоже бурный поток.
ИННА. Кстати, а где он? То есть – туалет.
МАНАЙЛОВА. По коридору прямо и налево, выводят раз в день рожу умыть.
ИННА. А если…
ВЕРОНИКА. Насчет если – вон ведро в углу.
ИННА. И вы это терпите?
ВЕРОНИКА (дурашливо). Ой, в самом деле, неужели мы это терпим? Какой ужас, какие мы нехорошие!
ИННА. А почему, интересно, вы не хотите со мной нормально разговаривать? Я вас чем-то обидела?
Тут воет сирена. Свет гаснет. Вспыхивают прожектора, шарят везде, направляются на зрителей, слепя их.
Потом в тишине и темноте слышится голос Тети Коти.
ТЕТЯ КОТЯ. После пожара замучили: проверяют, просвечивают, ищут чего-то…
Появляется свет. Инна сидит за столом в ряд с другими. Она теперь выполняет последнюю операцию: прибивает флажок к древку. Работа простая, но у нее получается не очень хорошо.
МАНАЙЛОВА. Тормозишь, подруга! И считай вслух.
ИННА. Я не собьюсь, я уме двухзначные числа перемножаю.
МАНАЙЛОВА. Правда? Семью восемь?
ИННА. Пятьдесят шесть, но это однозначные.
ВЕРОНИКА. Триста сорок четыре на восемьсот двадцать два!
ИННА. А это трехзначные.
ВЕРОНИКА. Ну и не хвались тогда.
МАНАЙЛОВА. Считай вслух, а то, может, ты прибавляешь?
ИННА. Триста сорок пять… Триста сорок шесть… Триста сорок семь…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора. Свет.
ИННА. Четыреста семнадцать… Четыреста восемнадцать…
ТЕТЯ КОТЯ (запевает). Вон кто-то с горочки спустился…
МАНАЙЛОВА (тоже запевает, но свое). Снова стою одна, снова курю, мама, снова…
ИННА. Четыреста девятнадцать.
ВЕРОНИКА (тоже поет). Ты любила холодный, обжигающий виски…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора. Свет.
Женщины поют хором.
ВСЕ. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути?
ИННА. Четыреста тридцать два.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора. Свет – только на Тетю Котю, остальные в затемнении.
ТЕТЯ КОТЯ. Чужая она была, гражданин следователь. И даже имя, как нарочно, Инна, иная, понимаете, да? …Да? Ну, бывает. Нет, нормальное имя, дело в человеке. Вообще все чужие друг другу, кроме своих. Я имею в виду: родственники. На Кавказе с этим хорошо. А у нас уже нет. Свои, а как чужие. Но все-таки свои. Когда дети особенно. Мои маленькие все были хорошие. А выросли… Стали разные. …Вы спрашиваете, я отвечаю. А что по делу? Я по делу ничего не знаю. Я себя отлично веду, у меня характеристика. Условно-досрочное обещают. Мне что обидно: я тут сижу, а внуки растут. А мне их маленькими интересно увидеть. Вырастут – уже не то. Дерьмо изо всех дыр полезет. Вот откуда, мне интересно? У вас дети есть? Я просто спросила…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора. Свет.
ИННА. Шестьсот!
МАНАЙЛОВА. Вываливай, считать будем.
ИННА. Зачем? Я правильно считала!
МАНАЙЛОВА. А если сбилась? Сейчас пересчитаем, если сойдется, хорошо, не сойдется, исправим.
ИННА. Бессмыслица какая-то. Лучше уж сделать лишних десять штук. Чтобы наверняка.
ВЕРОНИКА. Щас прям! Окажется шестьсот десять, скажут – ага, перевыполняют, слишком легкая работа, теперь будет семьсот. А сделаешь семьсот, тысячу заставят.
Манайлова встает, подходит к ящику, вываливает флажки на пол.
МАНАЙЛОВА. Давай, не ленись, спать охота.
ИННА (поднимает флажки и по одному бросает в ящик). Один, два, три, четыре…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Ящика на сцене нет. Все улеглись спать. Синяя тусклая лампочка.
ВЕРОНИКА. Тетя Котя? Спишь? Тетя Котя? (После паузы.) Аня? Аня! …Манайлова! Товарищ командир!..
Вероника соскальзывает со своей кровати, идет к Инне, садится на край кровати, трогает Инну за плечо.
ВЕРОНИКА. Инна!
ИННА (испуганно садится на кровати). Что?
ВЕРОНИКА. Не ори! Не пугайся, я так… Поговорить… Ты, я слышала, с парнем попалась?
ИННА. Да, с другом.
ВЕРОНИКА. Любовник?
ИННА. А что?
ВЕРОНИКА. Просто спрашиваю.
ИННА. Бойфренд.
ВЕРОНИКА. Ясно. Это он тебя подговорил?
ИННА. Нет. Скорее, я его.
ВЕРОНИКА. Да ладно тебе! Нам только кажется, что мы их уговариваем на то, что нам хочется. На самом деле мы их уговариваем на то, что им хочется.
ИННА. Тонкое замечание.
ВЕРОНИКА. А ты думала! У меня тоже неоконченное высшее, между прочим! И тоже из-за мужчины села. Красивый, умный, обаятельный. Интеллектуал, короче. Попросил один раз сумочку другу отвезти. Потом другой раз, третий. А потом меня взяли, а в сумочке наркотики. Представляешь? И я бы могла его сдать, они мне обещали: сдашь заказчика, получишь условно. Ты курьер, а нам нужны дилеры. Так меня морально пытали, ты не представляешь! И физически тоже. А я не сдала. Правильно поступила, как думаешь?
ИННА. Не знаю. Наверно. Хотя, знаете…
ВЕРОНИКА. Давай на ты. И можешь меня Никой звать.
ИННА. Хорошо. Я думаю, ответственность должна быть равной. А у нас женщины привыкли на себя всё брать.
ВЕРОНИКА. Это точно! Они нас на любовь ловят. Женщина ведь хочет любить, ее так природа устроила. А они этим пользуются. Я тебе вообще так замечу: если женщина сидит, то ищи за этим мужика. Шерше ля… Ля фам – женщину, а мужчину как, если искать?
ИННА. У меня с французским не очень. Английский, немецкий, немного испанского.
ВЕРОНИКА. Вот! И никто не знает! Нет, серьезно. Вот Тетя Котя. Если бы у нее муж нормально зарабатывал, она бы разве воровала бы?
ИННА. А Аня за что? Она такая тихая, добрая.
ВЕРОНИКА. Эта тихая и добрая двух собственных малолетних детей убила.
ИННА. Правда?
АНЯ (садится на постели). Вранье!
МАНАЙЛОВА. Недорезала я ее днем, сейчас дорежу! Чтобы не трепала боталом своим!
ТЕТЯ КОТЯ. Резать не надо, а научить надо. Не ее собачье дело про других рассказывать!
ВЕРОНИКА. А, зечки потомственные, не спите, подслушиваете? Заело?
АНЯ (встает, подходит к кровати Инны). А зачем врать? Я детей убила? Я убила своих детей?
ВЕРОНИКА (вскакивает). Не подходи, психованная!
АНЯ. Я убила своих детей? Повтори! Ты же ей сказала сейчас, все слышали! Я убила своих детей? Убила? Я убила своих детей? Вы все слышали? Она сказала, что я убила своих детей! Я их убила? Повтори вслух, если ты так считаешь! Я убила своих детей?
ВЕРОНИКА. Отстань!
АНЯ. Я убила своих детей? Да или нет?
ВЕРОНИКА. Никто никого не убивал. Все живые. Сидят дома, чай пьют и тебя ждут.
АНЯ. Ты смеешься? Над смертью моих детей? Ты над этим смеешься?
Она нападает на Веронику. Крики, визги.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Свет.
Все, кроме Манайловой, сидят и работают.
ИННА. Двадцать шесть… Двадцать семь…
Мигает свет.
ИННА. Сто сорок три… Сто сорок четыре….
Мигает свет.
ИННА. Четыреста девяносто семь… Четыреста девяносто восемь…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Свет синей лампочки. Все спят, кроме Инны и Ани. Аня сидит на постели Инны, обняв руками колени.
АНЯ. Обычный несчастный случай. То есть не обычный, но… Утром я их в садик – и на работу. Работала на заводе плавленых сырков. Тяжелая работа, но там своя поликлиника, детских сад у них, все свое. Это большие бонусы. Ну, соцпакет. Я на частника раньше работала – ни страховки, ни соцпакета, ничего. А бонус был один: каждую пятницу напивается и заставляет… Да ладно, не хочу даже говорить. Короче, как вышло? Я так уставала, что в выходные вся сонная ходила. Но за детьми ухаживала. Накормить, погулять. А тут как-то меня совсем свалило, да грипп еще. Поставила суп варить. И заснула. А он закипел и выкипел, огонь потух. И газ пошел по всей квартире. А я сплю без задних. Они тоже спали. А уже вечер. Они проснулись, наверно, а, наверно, уже дурные от газа, я вообще уже без сознания. Может, они меня будили. А я ничего не чую. А стало темно. И наверно Оля, она старшая, свет включила. А выключатель там такой был – с искрой. Я всегда замечала. Мне потом объяснили, это от искры взорвалось. Даже если нормальный выключатель, там немного искры есть. Ну, электричество же. Короче, от искры рвануло все. И – напрочь. Стену снесло. А я за стеной была. Стену снесло, а меня накрыло. То есть этой же стеной, но наискосок, вот так. Как в шалаше. В общем, ни одной царапины, а они… (Плачет.) Каждую ночь снятся. Как живые. Я так тоскую о них. Умереть хочу. Я вот тут сижу – и нормально, хоть я не нарочно, но как бы все-таки виновата. Статья по неосторожности. Сижу, мне плохо, но это утешает. Им плохо – погибли, и мне плохо. На равных как бы. А выйду, я повешусь. Потому что получится: им плохо, а я гуляю, как эта. Понимаешь?
ИННА. Да, конечно. Когда папа умер, мне мама сказала: что такое смерть? Это когда человек как бы уехал, его нет рядом. Смерть – она же только для того, кто умер, для тебя ее нет. В том смысле, что смерть или отъезд для тебя означают отсутствие человека. Поэтому ты думай, что он просто надолго уехал. А потом и ты уедешь и, возможно, встретишься!
АНЯ. Как точно! Инночка, ты меня прямо объяснила, почему я отсюда выходить не хочу! Не потому, что повешусь. Но вот я сейчас тут, а они где-то там. То есть были бы живые, а я бы сидела тут, я бы ведь все равно их не видела, так?
ИННА. Да.
АНЯ. Вот! И мне сейчас кажется, что они будто живые. Я же проверить не могу. А выйду – надо на кладбище ехать. Там себя уже не обманешь, так ведь?
ИННА. Увы.
АНЯ. А ты, значит, что, считаешь, что все-таки есть – ну, загробный мир, тот свет?
ИННА. Душа не умирает.
АНЯ. Да все равно что, душа, не душа, какая разница! Главное – есть шанс с ними увидеться?
ИННА. Думаю, да. И даже если без загробного мира: ты же их видишь, как живых. Они в тебе живут, пока ты жива. А вот если повесишься, они тоже окончательно умрут.
АНЯ. Ё-моё… Блин, я сама бы не додумалась никогда! Вот зачем люди учатся – недаром все-таки! В самом деле, я вот глаза закрою – опа! (закрывает глаза) – вот они! Олечка. Алечка. Здравствуйте, мои хорошие. (Тонким голосом.) Здравствуй, мама! (Своим голосом.) Как вы поживаете? (Тонким голосом.) Скучаем! (Своим голосом.) Я тоже… Ты говоришь: работаем не по норме, условия плохие. А я считаю: слишком хорошие! Нам по двадцать четыре часа пахать надо! И регулярно в парашу с головой окунать – всех!
ИННА. Понимаю. То есть, вроде того, муки в виде искупления? Но муки человек сам себе должен назначать, а не другие.
АНЯ. А мне плевать кто! Главное – это правильно! Нарочно, не нарочно, но виноват же? Значит – мучайся!
ИННА. В этом ваша главная ошибка! Этим (кивает на дверь) как раз выгодно, чтобы вы считали себя виноватыми.
АНЯ. А ты себя виноватой не считаешь?
ИННА. С какой стати? Вот послушай, я объясню…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Все, кроме Манайловой, сидят и работают.
Высвечивается Аня. Она говорит враждебно, резко.
АНЯ. Откуда я знаю, гражданин следователь, кто виноват? Тоже вопрос! Да все виноваты. Даже вы, да! Ну как, вы от этого кормитесь, значит, вам это нужно.
ИННА. Триста сорок один.
АНЯ. Преступления вообще такая вещь, что все только радуются. Чего вы смеетесь? Телевизоры сообщают, интернет пишет, суды судят, охранники охраняют. Да один преступник у нас пятерых других кормит, если хотите! …
ИННА. Триста сорок два.
И продолжает считать.
АНЯ. А о чем? Я сказала: все виноваты. Потому, что люди – звери. И я. И вы. Вот мы останемся на острове, одни камни, даже пальм нет, вы меня через неделю сожрете. Сырьем. А я вас. Любой человек может убить, смотря зачем и почему. Я вот выйду, я папочку моих девочек убью. Оболью бензином и сожгу. Чтобы помучился. Ну и потом много кого, кандидаты есть. Вы зря там фиксируете, я это не подпишу, я это устно говорю, не для вас. Да ни для кого. Вам надо спрашивать, а мне… Не знаю. Мне вообще все равно. …А в это ты не лезь! Не лезь, сказала! Ты спросил – кто виноват? Я сказала: все! Ответ неправильный? А позвонить другу? А подсказка? А помощь зала? …Я людей не люблю? Ошибаетесь, я их не не люблю, я их ненавижу – всех!..
Общий свет.
АНЯ (поет). На мурманской дороге…
ИННА. На муромской.
АНЯ. Почему?
ИННА. Так в песне. Город Муром. Муромская дорога.
АНЯ. А чего ты лезешь все время? Тебя спрашивают? Умнее всех? Тьфу, блин, смотреть противно! (Плюет в лицо Инне.)
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Свет синей лампочки. На кровати Инны сидит Тетя Котя.
ТЕТЯ КОТЯ. А вторую я легко родила. Будто даже не заметила. А ночью просыпаюсь: что-то мне нехорошо. Прислушалась: какое там нехорошо, я умираю вообще. Сердце вот так вот – у-ух! – и как нету его. Кричать боюсь. Шевельнуться боюсь. Сердце еле-еле стучит, его на само себя едва хватает, а если еще кричать, оно начнет на остальной организм тратиться – и не выдержит. Но ничего. Полежала – отошло. До сих пор не знаю, что со мной было. Врачей спрашивала, а они сами ничего не знают. А деньги берут. Я вот – видишь у меня тут мост (открывает рот, лезет туда пальцем, тычет, показывая) – делала двадцать пять лет назад в государственной стоматологии. И стоит до сих пор! А вот этот два года назад – смотри, чего творится… (Она растягивает пальцами рот с другой стороны.)
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Все, кроме Манайловой, сидят и работают.
ИННА. Пятьсот двадцать семь… Пятьсот двадцать восемь…
ТЕТЯ КОТЯ. Ох! (Замерла, взялась за грудь.)
ИННА. Что, тетя Котя? Сердце?
ТЕТЯ КОТЯ. Вот тут… Хондроз… Спинно-грудной у меня… Лечь надо…
Инна и Аня помогают Тете Коте встать, ведут к кровати.
ИННА. Может, врача позвать?
ТЕТЯ КОТЯ. Не надо, пройдет.
ИННА. Не понимаю, почему вы так врачей боитесь?
ВЕРОНИКА. А ты сходи в санчасть, поймешь. Нас там всех за симулянтов держат. И два лекарства – аспирин и анальгин.
ТЕТЯ КОТЯ. Ну неправда, валидол тоже есть, мне давали.
ИННА. Тетя Котя, это у тебя знаешь отчего? Оттого, что по десять с лишним часов скрюченная сидишь. Почему вы не пожалуетесь? Работать сверхурочно заставляют – молчите, на прогулку почти не выводят – молчите, кормят чем попало – молчите.
МАНАЙЛОВА. А чего изменится? Раньше, между прочим, еще хуже было. Это зона, а не курорт, если кто забыл.
ИННА. Я только и слышу: зона, зона, зона! И мы что, теперь не люди? Нас лишили свободы, а не права быть людьми! А мы как рабы, честное слово!
ВЕРОНИКА. Лично я нет. Батюшка мне сказал: мы рабы только божьи, у кого душа свободна для любви к Богу, тот и свободен.
ИННА. Вот как раз это рабская психология и есть: терпи и молись! Что, не так?
ТЕТЯ КОТЯ. Так, так. (Манайловой.) Люсь, ты сядь за машинку, а то не успеем, втык будет. Наложат взыскание на всех, и на меня тоже, а мне это совсем не вовремя.
Манайлова нехотя встает, садится за оверлок.
МАНАЙЛОВА. Так, чего тут куда… Ага…
ТЕТЯ КОТЯ. Там сорокапятка есть, по ошибке бобину дали, не трогай ее, тридцатьпятку провздень… Сумеешь?
МАНАЙЛОВА (пытается продеть нить). Не выходит ни хрена!
ТЕТЯ КОТЯ. Сейчас встану, погоди.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Женщины играют в самодельные карты, Аня лежит на кровати.
ТЕТЯ КОТЯ. Дама – ходи прямо! Валет – живи сто лет!
ВЕРОНИКА. Молча можно?
ТЕТЯ КОТЯ. Так неинтересно. Бито или еще?
МАНАЙЛОВА. Ждешь этого выходного, как не знаю чего, а выходной – с ума сходишь.
ТЕТЯ КОТЯ. Туз – сними картуз! Шесть – на жопе шерсть!
ИННА. Сами виноваты, вас всего лишили, а вы…
ВЕРОНИКА. Опять ты? Вот отстроят цех, будет опять, как у людей.
ИННА. Да неужели?
МАНАЙЛОВА. Просто зона у нас неудачная. Я везде была, эта хуже всех.
ИННА. Да система это, как вы не понимаете? Система не наказания, а подавления и унижения! И круговой поруки: один рыпнется – наказывают всех!
ТЕТЯ КОТЯ. Просто никто про нас не знает. Все закрыто, шито-крыто. Шито-крыто, шито-крыто. Крыто или еще подвалите? А, восьмерка-красноперка! А у нас король – беги горой!
ИННА. Уверяю вас – все всё знают! Знают – и молчат! Круговая порука: все виноваты, значит – никто не виноват!
ТЕТЯ КОТЯ (смеется). Вспомнила: на день города нас собрали, ну, сначала передовиков отметили. Грамоты, то, се, одному орден какой-то дали. А со мной рядом техник сидит, Кругалев, хохмач страшный, и говорит: ага, этот передовик себе на дом наворовал, этот на три дачных участка, этот на машину за сто тыщ долларов…
МАНАЙЛОВА. За это и награждали. Кто умеет, тот и молодец.
ТЕТЯ КОТЯ. Ну да, ну да. А потом наш районный начальник управы на трибуну залез и начал врать: показатели, объемы, ля-ля-ля, ля-ля-ля, а врет-то он не сам, а с нашего вранья, которое мы ему наврали, и он это знает. А кто сверху слушает, он сидит и слушает, хотя тоже знает, что вранье, но ему же тоже наверх ехать и там тоже чего-то врать надо, вот он и слушает, запоминает. А если скажет правду – его метлой сразу же!
ИННА. Вот! Ведь понимаете же! Все врут, что любят родину, и все ее грабят! Лицемерие как норма жизни! В Бога можешь не верить, но правительство в церкви стоит по праздникам – и ты стой! И в партию вступи, и в какой-нибудь фронт – не потому, что веришь, для дела!
МАНАЙЛОВА. И что? Везде так, во всем мире.
ИННА. Не буду спорить. Действительно, америкосы плясали от радости – избрали черного президента. Если выберут атеиста или иудея, или мусульманина, или вообще гея – вот это серьезно!
ТЕТЯ КОТЯ. Геи – это которые…
МАНАЙЛОВА. Гомосеки.
ТЕТЯ КОТЯ. Пидораса – в президенты?!
ВЕРОНИКА. Пусть уедут все на какой-нибудь остров, создадут государство и выберут себе своего. Ну, как Израиль, только для голубых.
ИННА. Вот это и есть лицемерие! Между прочим, Христос именно лицемеров гнал и гнобил больше всего!
ВЕРОНИКА. Ты Христа не трогай, он красавчик был. Всех любил. И пострадал.
МАНАЙЛОВА. Ты выпила, что ли?
ВЕРОНИКА. Где бы я взяла? Просто настроение хорошее.
ТЕТЯ КОТЯ. А что козыри у нас?
ВЕРОНИКА. Пики. Под меня ходи.
ИННА. Христос две основные мысли принес, одну божественную – про возможность спасения души, вторую человеческую – о правде! Люди всегда хотели правды, и он ее сказал! И кто хотел правды, тот пошел за ним! А кто не хотел – молчал! И молча смотрел, как его распинают. Или даже кричал: круто, давайте, распните его!
АНЯ. Ты так сердишься, будто мы его распинали.
ИННА. Я не на вас сержусь, а из-за вас!
МАНАЙЛОВА. А кто тебя, собственно, уполномочил?
ИННА. Никто, просто… Вы не обижайтесь, я прямо скажу…
ТЕТЯ КОТЯ. Нас обидеть – надо постараться. Мы уже насквозь обиженные.
ИННА. Так вот. Интеллигенция всегда думала не только за себя, но и за народ.
Манайлова резко поднимает голову и в упор смотрит на Инну.
МАНАЙЛОВА. Это ты у нас, что ли, интеллигенция? Типа Чехов в юбке Антон Палыч?
ИННА. А вы Чехова читали?
МАНАЙЛОВА. Читали, читали – и не только про Каштанку! Но вот интересно, Чехов побежал бы в церковь матерные частушки против Бога петь?
ИННА. Во-первых, не матерные, во-вторых, не против Бога, а…
МАНАЙЛОВА. Побежал бы или нет, я спрашиваю? Интеллигенция, блин!
Бросает карты, идет к кровати, ложится.
ТЕТЯ КОТЯ. Весь отдых поломали.
МАНАЙЛОВА (садится на кровати – не может успокоиться). Интеллигенция! Вот в интернате учитель у меня был по математике Сергей Леонидович, три двойки подряд в журнал поставил, а у нас за это прогулок в город лишали. Я разозлилась и вырвала из журнала листок. А он догадался, что я, но никому не сказал! Сказал: неизвестно. Зато потом со мной целый час говорил. По душам. Вот это – интеллигенция! Я, может, из-за него другим человеком стала!
ИННА. Рецидивисткой?
Манайлова встает, идет к Инне. Инна поднимается.
ИННА. Ударить хотите? Ну ударьте.
Манайлова, подойдя к ней вплотную, стоит некоторое время, потом садится к столу.
МАНАЙЛОВА. Под кого ходим?
Играют.
ИННА. Для справки: Чехов был страшным бабником.
ВЕРОНИКА. Что говорит только в его пользу.
ИННА. И венерическими болезнями болел.
МАНАЙЛОВА. Ты нарочно, что ли, меня дразнишь?
ТЕТЯ КОТЯ. Вы опять?
АНЯ. Нет у нас никакой интеллигенции. У интеллигенции принципы, а у кого сейчас принципы? Я не встречала.
ВЕРОНИКА. И не надо! Принципы – страшное дело. Из-за них людей убивают.
ИННА. Я никого не убивала.
ТЕТЯ КОТЯ. Какие твои годы.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Ночь.
Тетя Котя стонет.
ИННА. Врача надо вызвать.
ТЕТЯ КОТЯ. Пройдет. Не первый раз.
Инна вскакивает, стучит в дверь.
ИННА. Эй! Человеку плохо! Нужен врач!
ТЕТЯ КОТЯ. Не надо. Разозлятся – хуже будет. У меня уже прошло.
ИННА. Нельзя же так! Знаете что? Надо взять и написать письмо о всех наших безобразиях. Что, убьют вас за это? Голодом уморят? Или вы уже совсем себя с тараканами уравняли, вас давят, а вам все равно? Нет, я серьезно, вы послушайте…
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Женщины сгрудились вокруг Инны, которая пишет письмо.
ТЕТЯ КОТЯ. Медицинской помощи не оказывают!
ВЕРОНИКА. Мне собственные прокладки из посылки не дали, подоткнуться нечем было!
МАНАЙЛОВА. Нормы увеличивают без конца!
АНЯ. Обращаются невежливо!
ИННА. Все. Подписывайте.
Пауза.
ИННА. Подписывайте, вы что?
ТЕТЯ КОТЯ. Зачем? Мы тебя поддерживаем, а подписываться – это уже… Это уже, как сказать… Типа революция.
МАНАЙЛОВА. У нас за коллективные жалобы кишки живьем вынимают и на руку наматывают.
Инна смотрит на всех поочередно.
АНЯ (решительно). А я подпишу! В самом деле, сколько можно терпеть? (Подписывает.)
ВЕРОНИКА. И я. (Подписывает.)
МАНАЙЛОВА. Мне, как бригадиру, нельзя. (Отходит, ложится на койку.) Да и вообще, не верю я в это.
ТЕТЯ КОТЯ. А мне УДО грозит, девушки, вы не обижайтесь. Еще два года тянуть – я не выдержу, у меня сердце слабое.
ИННА. Каждый сам делает свой выбор.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Открывается дверь, входит Вера Павловна.
Все встают.
Вера Павловна переводит взгляд с одной женщины на другую. Потом идет к коробке.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Сколько?
ИННА. Столько, сколько смогли за восьмичасовой рабочий день. Четыреста двадцать.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Ясно. Через пару часов зайду – чтобы было шестьсот.
ИННА. Не будет. Рабочий день окончен. Мы в письме все ясно написали.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Какое еще письмо?
ИННА. Я сама вам отдавала…
ВЕРА ПАВЛОВНА. Когда? А, бумажка эта… Я думала, там стихи. У нас вон в третьем корпусе есть девушка, она тоже мне стихи дает все время. Я их в стенгазету отношу. Душевные стихи. Сейчас… (Вспоминает.) «Я солнца луч увидела в окне… И все равно, что на окне решетка. Но ведь он… чего-то там, не помню… дошел ко мне, как будто в детстве я счастливая девчонка! И пусть… Щас. Как там… И пусть судьба меня поставит раком, но солнце всем нам светит одинаково! Ну, раком я вычеркнула, а остальное – просто Есенин!
ИННА. То есть вы никуда его не передали? Или просто выкинули?
ВЕРА ПАВЛОВНА (Манайловой). Бригадир, тебе рассказать, что будет, если она не успокоится?
Манайлова молчит.
ВЕРА ПАВЛОВНА (Инне). У нас так: два раза объясняют, на третий делают выводы. С тобой объясняться бесполезно. Поэтому сразу делаем выводы и играем в подушку.
АНЯ. Не надо…
ВЕРА ПАВЛОВНА. С тобой сыграть? Могу и без подушки.
Вера Павловна идет к одной из кроватей, берет подушку, дает Ане.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Будешь держать.
Аня подходит к Инне и прикладывает подушку к ее лицу.
ИННА. Вы что? Вы что хотите делать?
АНЯ. Не бойся, это не больно.
ВЕРОНИКА. Но прикольно. Может, простим для первого раза?
ВЕРА ПАВЛОВНА (Инне). Будешь брыкаться, будет хуже.
ИННА. А в чем смысл процедуры?
ВЕРА ПАВЛОВНА (указывая на Тетю Котю). Ты первая.
Тетя Котя подходит к Инне, замахивается.
ТЕТЯ КОТЯ. Ну, извини…
Она не успевает ударить, Инна отскакивает в сторону.
ИННА. Вы что? Вы совсем? (Вере Павловне.) Несчастная вы женщина, вы что творите? Вы же калечите этих людей! Это безнравственно!
Вера Павловна делает знак, Манайлова и Вероника нападают на Инну, хватают ее, выкручивают руки, ведут к Вере Павловне. Вера Павловна заходит сзади, обхватывает Инну, крепко держит.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Ну? Долго ждать?
ИННА. Прекратите! Вы с ума сошли!
МАНАЙЛОВА. Чего тянем? Быстрей отмучается!
Она ударяет Инну по лицу сквозь подушку.
Потом ударяет Тетя Котя.
Потом Вероника.
Потом Аня отдает подушку Манайловой, та держит, Аня ударяет.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Не засчитывается, еще раз!
Аня ударяет.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Слабо!
Аня ударяет.
ВЕРА ПАВЛОВНА. У нас что, китайская пытка? Мы не издеваемся тут, а наказываем! Бей нормально!
Аня ударяет так, что Инна падает (Вера Павловна в это время выпустила ее из объятий).
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Действие 1,5
Женщины работают, Инна лежит на кровати.
МАНАЙЛОВА. Двести шестнадцать… (В сторону Инны.) Оклемалась или нет?
ТЕТЯ КОТЯ. Третий день молчит.
МАНАЙЛОВА. Молчит – хрен с ней, а кто работать будет?
АНЯ. В карцер посадят.
ВЕРОНИКА. Она того и хочет.
МАНАЙЛОВА. Двести семнадцать. Восемьсот норму теперь назначили, спасибо ей.
ТЕТЯ КОТЯ. Несправедливо. Хотя бы сначала сто накинули, а то сразу двести. Мы вот тарифы тоже повышаем, а как иначе? – энергоносители дорожают, то, се, но не сразу же, потихоньку, чтобы народ не озлобился. А сколько людей не платят, вы даже не представляете, сколько не платят!
МАНАЙЛОВА. Двести восемнадцать.
ВЕРОНИКА. Денег нет?
ТЕТЯ КОТЯ. Если бы. Кажется ему, что неправильно насчитали, вот и не платит. Или алкоголики, больные, да мало ли! Многодетные семьи есть тоже. Да разное.
МАНАЙЛОВА. Двести девятнадцать. Двести двадцать. До двести пятьдесят и перекур.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Ночь.
Все спят, Инна плачет.
МАНАЙЛОВА. Не вой! Кому говорят?
Тишина.
МАНАЙЛОВА. В третьем корпусе вон женщину ножницами пырнули – это повод! А ты, сэка, из-за пустяка спать не даешь!
АНЯ. Да она молчит, ты чего?
МАНАЙЛОВА. Молчит… Вот именно, что молчит! Раздражает, сэка! А ну, отзовись! Я кому говорю?
Она вскакивает, идет к кровати Инны, замахивается…
Опускает руку.
Отходит, садится за стол. Все затемняется, она – в круге света.
МАНАЙЛОВА. А если я ее любила, гражданин следователь? Как дочь. Она же в дочери мне годится. Посмотреть – совсем ребенок. Кожица детская совсем, аж светится. И пушок на щеках такой… Детский тоже… Ребенок? А, ну да, в деле записано. Это я наврала. Ни одна зечка вам никогда правды не скажет. Не верь, не бойся, не проси, слышали, да? Это для отмазки сочинили. На самом деле главное: не колись. Никому и ни в чем. Против тебя используют. Вот вы на меня смотрите и что-то там про себя думаете про меня. Но это совсем не так. Вы даже близко не знаете, кто я такая. Я сама не помню. Фамилию только – Манайлова. Все по фамилии зовут. Нет, иногда бывает: Люся, Люся. Я аж вздрагиваю, отвыкла. Какая Люся? Так людей зовут. Люся, Надя, Катя. А я какая вам Люся? Я Манайлова… Если бы я чего хотела, это натянуть ее кожу, ну, то есть, чтобы, как она, молодая, красивая. И на море. Разделась, загорелая такая иду, стройненькая, грудка, ножки… Не то что у мужиков, у баб слюна кипит, песок до камня, бляха, прожигает! А я иду и всем – а вот вам! Никому! Я такая красивая была в молодости – один мужик аж заплакал, а другой в обморок упал. Я честно. Да, вру, но не сейчас. А ты разбирайся, на то ты и следователь. Пиши: чистосердечное признание. Да не шучу я! Записал? Так. Чистосердечное признание. Я, Манайлова Людмила Петровна, год рождения, ну, ты знаешь. «Я признаюсь чистосердечно в своем неправильном грехе, что быть хотела с тобой вечно, но жить хотела налегке. Но если бы я услыхала сначала от тебя слова. Мне ведь самой любить вас мало, люблю я тех, кто лишь меня». Записал? Дело твое, другой бы, опытный, за это срок намотал. Уметь надо, молодой человек!
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Женщины работают. На этот раз Инна на своем месте – приколачивает гвоздиками флажки к древкам. Манайлова лежит на кровати.
ВЕРОНИКА. Вот, блин, одна молчит, а ощущение, что все онемели! Расскажите хоть что-нибудь!
ТЕТЯ КОТЯ. Сама расскажи. Твой тебе не написал? Не позвонил?
ВЕРОНИКА. Какой из восьмерых?
АНЯ. А я думала, у тебя один – любимый.
ВЕРОНИКА. Любимых у меня три. Для траха – еще три. Один для денег. Один для разговоров. И еще один из Америки по переписке прилетает раз в год.
ТЕТЯ КОТЯ. Девять получается.
ВЕРОНИКА. Обсчиталась.
И опять молчание.
Манайлова встает, берет табуретку, садится напротив Инны.
МАНАЙЛОВА. А я так скажу: сама виновата! Заморочила нам голову!
ТЕТЯ КОТЯ. Точно, точно!
МАНАЙЛОВА. Нас подставила, Веру Павловну подставила. Да она больше за нас, чем ты, между прочим! Ты ушла и пришла, а ей тут работать, ей порядок нужен. А дай каждому делать, что он хочет, знаешь, что начнется? Уж поверь мне, я много чего повидала: людей без присмотра оставлять нельзя!
Пауза.
МАНАЙЛОВА. Ну ладно, давай так, ни тебе, ни нам. И мы дуры, но и ты не одуванчик. Согласна?
Пауза. Манайлова делает движение, чтобы встать и отойти.
ИННА. Ненавижу. Тупые, безмозглые. Вы не женщины. Вы вообще не люди.
ВЕРОНИКА. Ого! Круто!
ИННА. Вера Павловна ваша! Она мне объяснила, за кого я заступаюсь! Вы тут друг другу вешаете лапшу на уши, а она все знает! Вероника за мужчину пострадала, конечно! Сумочки возила, сама ни при чем! Наркокурьер, красиво звучит!
ВЕРОНИКА. Лучше бы ты молчала.
ИННА. А сама дешевой проституцией занималась и клиентов по мелочи обворовывала!
ВЕРОНИКА. Не дешевой и не по мелочи!
ИННА. А опаивала их до смерти – не по мелочи? Товарищ бригадир Манайлова – воровка на доверии, раньше по ресторанам и на курортах пьяных снимала и кошельки вытаскивала, а теперь никто не клюет, по квартирам ходит, будто бы пылесосы продает, тащит, что может, а иногда вообще в метро стоит с протянутой рукой! Нищенка!
Манайлова встает, но Инна тоже вскакивает, хватает древко.
ИННА. Не подходи! Глаз выколю! Тетя Котя! – ангел, бабушка, мама заботливая, ничего не сделала, только чужие деньги для семьи брала, конечно, ну да! А сама по своему району учет вела, где живут больные и одинокие старики и старухи, наводила бандитов – и где теперь эти старики и старухи, тетя Котя? А? Почему они все пропали без вести или срочно умерли? Сколько их на твоей совести, а?
ТЕТЯ КОТЯ. Клевета это все! Не доказано!
ИННА. А ты, Анечка…
АНЯ. Молчи! (Хватает у Вероники нож, встает.) Молчи, прошу по-человечески!
ИННА. А ты по-человечески поступила? Снотворным детишек напоила, газ включила и ушла! Мог бы весь дом взорваться, соседи запах учуяли, дверь взломали, только поздно, детки уже дохлые были…
АНЯ. Врешь! И я не просто ушла, я хотела напиться и под поезд броситься!
ИННА. Но не бросилась же!
АНЯ. Меня поймали!
ИННА. Запланированное детоубийство это называется! А ты мне еще плакалась, как ты их любила!
Аня бросается на Инну с ножом. Инна отскакивает. Манайлова ставит Ане подножку, та падает, нож отлетает, Манайлова подбирает его. Аня вскакивает и опять нападает на Инну. Та пытается защититься, но на помощь Ане приходят Манайлова, Вероника и Тетя Котя. Они хватают Инну, ставят на колени.
МАНАЙЛОВА. Вот так, сэка, допрыгалась!
ТЕТЯ КОТЯ. Тоже прокурорша нашлась! Если мы чего сделали, то жизнь заставила, а ты все с чистой дури!
ВЕРОНИКА. Вот именно! Ничего святого нет в душе, а туда же!
АНЯ. Дайте я ей уши оторву, чтобы не слушала что попало! И язык заодно!
МАНАЙЛОВА. Спокойно! (Инне.) Так. Слушай. Или мы тебя сейчас уроним до смерти и скажем, что сама упала, или… (Не может придумать, что «или».)
АНЯ. Пусть скажет, что все наврала!
ВЕРОНИКА. Пусть прощения просит. Пусть покрестится и поклянется перед Богом, что больше так не будет!
ИННА. Отпустите! Вы ведь не меня схватили, женщины, вы свою совесть схватили! Она вам мешает!
Женщины дружно смеются.
МАНАЙЛОВА. Хорошо Вероника предложила. Крестись и клянись!
ИННА. Не буду!
ТЕТЯ КОТЯ. Не верующая, что ли?
ИННА. Верующая, а насильно креститься не буду!
МАНАЙЛОВА. А если я тебе глазик выковырну?
АНЯ. Лучше язык отрезать. Дай, я отрежу.
ТЕТЯ КОТЯ. Поклянись, дурочка, не доводи до греха!
ИННА. Не буду! Сволочи, дуры, идиотки!
Манайлова замахивается ножом.
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Из темноты в круг света выходит Вероника.
ВЕРОНИКА. У меня однажды клиент помер. Прямо на мне. Никогда такого не было. …Вы скажете! Что тут прекрасного? Это как в сортире на очке. Если бы с любимой женщиной, а то… Короче, старый был, пыхтел, пыхтел, думаю, еще немного и дым пойдет, он сейчас огонь трением добудет, как древние люди. А он бац – и упал. А я на него смотрю, понимаю, что мертвый, а ничего не чувствую. Будто чурка, а не человек. Мне даже обидно стало. И за себя, и за него. Умер – и даже пожалеть некому. Но неприятно же чувствовать, что ничего не чувствуешь. Я думаю, нет, надо попробовать к ним как к людям отнестись. Стала их про жизнь расспрашивать… Они стараются, рассказывают. Один мне очень понравился. Молодой, жена ушла. Три часа про нее рассказывал. Можно, говорит, я тебя буду Ниной называть? Валяй. Он сам меня – ну понимаете, а сам: Нина, Ниночка, любовь моя!.. Я его первого отравила. И тогда наконец почувствовала, что не просто чувствую, а просто горе у меня, будто я в самом деле Нина и у меня любимый муж умер. Валялась возле него, рыдала. Потом неделю счастливая ходила: слава Богу, значит, я живая, ничто человеческое мне не чуждо, включая сострадание. …Когда человека хоть немножко любишь, то, если его убить, это все-таки не тупо преступление, а… Ну, не знаю. Эмоция. Поступок. Преступление – когда за деньги или… Ну, по материальным причинам… А правда, что секс – это хорошо? Мне иногда кажется, что все притворяются. …Да? Ну, вам повезло. Да по вам видно вообще-то. Я бы вас не стала убивать, вы подлый. То есть не жалко было бы. А если не жалко, зачем убивать? Что интересно, я один раз по-настоящему влюбилась. Жить без него не могла. Вижу – и счастлива. Но секс все равно не пошел у нас как-то. Говорить, общаться – да, а начинает во мне ковыряться, я, конечно, стону… Или стонаю, как правильно? Ору, короче: ес, ес, мой сладкий, май гад, фак ми, гебен зи мир бите нох айн маль! – а сама думаю: кончай уже скорее и давай опять общаться, я тебя опять любить буду… Это что? (Смотрит на воображаемые листки, подсунутые ей.) С какой стати? Да вы что? Это я вам роль рассказывала, у нас тут спектакль самодеятельности, я там роль играю! Там будто женщина сидит на зоне и отбывает срок за убийство, а она его не совершала на самом деле, мужчина лекарство просил, а она у него на квартире была, он говорит: в шкафчике, ну я и взяла, то есть она, из шкафчика, а шкафчиков-то два! Я что, врач, в лекарствах разбираться? Налила ему в стакан, да и все. …По существу? Могу по существу. Да, под запись. По существу. По существу скажу так: у людей и так ничего нет, а если и Бога не будет, тогда вообще ничего не будет. Вы согласны?
Вой сирены. Затемнение. Прожектора.
Вероника, Аня и Тетя Котя сидят за столом. Манайлова лежит на кровати.
ТЕТЯ КОТЯ. Десятый час уже, а работу не несут. А мы потом будем виноваты.
МАНАЙЛОВА. Принесут, никуда не денутся.
Ждут.
Открывается дверь, Вера Павловна вносит коробку, бросает ее на пол.
Вероника и Аня подходят, чтобы взять коробку. Вероника с удивлением заглядывает.
ВЕРОНИКА. Это что?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Флажки.
МАНАЙЛОВА. Переделывать, что ли?
ВЕРА ПАВЛОВНА. Типа того. Флажки заказчикам сдали, они расплатились, вы на эти деньги жрете и пьете, между прочим, а теперь у них новый заказ: маленьких флажков получилось много, а больших не хватает. Не выбрасывать же маленькие-то? Надо их сшить в большие. На Олимпийских играх висеть будут. Или на чемпионате каком-то, не помню. Гордость страны будут изображать, не хрен собачий!
АНЯ. Из кусков некрасиво.
ВЕРА ПАВЛОВНА. А кто издали увидит? Норма для начала – шестьсот флажков распороть и обратно сшить.
МАНАЙЛОВА. А вот нет!
ВЕРА ПАВЛОВНА. Да это немного, ты чего, Манайлова?
МАНАЙЛОВА. Людмила Петровна меня зовут! Передай по начальству: мы этого делать не будем! Мы не мартышки!
АНЯ. Вот именно!
ВЕРОНИКА. Ненормальный абсурд какой-то!
ТЕТЯ КОТЯ. В самом деле, как это: шили, шили, а теперь расшивай? Чокнешься!
МАНАЙЛОВА. И пусть в карцер сажают, пусть что хотят делают! Не будем работать!
АНЯ. Тем более – в таких условиях!
Вой сирены.
Женщины кричат, а что кричат – не слышно.
Сирена умолкает одновременно с голосами женщин.
ВЕРА ПАВЛОВНА. Покричали, успокоились? А теперь за работу. Кстати, если сделаете восемьсот, обещаю – телевизор дадут. Не жизнь, а курорт, аж завидно!
Она выходит.
Женщины стоят и смотрят на коробку.
ТЕТЯ КОТЯ. Телевизор неплохо бы…
Она делает шаг к коробке, но останавливается.
Женщины стоят и смотрят на коробку.
Занавес.
Лукьянов и Серый
рассказ
Лукьянов лежал на раскладушке под старой яблоней и дремал. Надо бы полоть, поливать, вскапывать: дачный участок, доставшийся от родителей, хоть и крохотный, но требует ухода. Однако Лукьянов слишком устал за неделю. Вот подремлет на свежем воздухе, а потом можно что-нибудь и сделать.
И он уже почти заснул, когда что-то услышал. Шаги, шорох.
Открыл глаза и увидел мальчика лет десяти. Вернее, пацана.
Если бы его спросили, в чем разница, он затруднился бы ответить. Встречаешь на улице человека детского возраста, ничего не знаешь о нем, просто заглянешь мимоходом в глаза, охватишь впечатлением походку и повадку и подумаешь: мальчик. А другой вроде точно такой же, но чувствуется в нем нечто особенное, почему-то сразу же мысленно говоришь себе о нем: нет, это не просто мальчик, это пацан, причем пацан реальный и конкретный.
Так вот, забравшийся в сад с известной целью мальчик был несомненным пацаном.
Он цепко осматривался, не замечая неподвижного Лукьянова, потому что глядел по верхам, выбирая, что схватить. А выбор был небогатый: вишня уже отошла, груши не дозрели, да и яблоки все зимних сортов, уже большие, но еще зеленые. Уходить с пустыми руками пацан не хотел, поэтому начал срывать яблоки и складывать их в объемистую сумку. По ней было ясно, что воровство не обычное детское, для приключения, а деловитое, коммерческое. Вполне в духе времени.
Лукьянов тоже не ангел, лазал в детстве с друзьями по садам, но скорее за компанию, ради азарта и опасности. И ни разу не поймали. Может, и плохо, что не поймали, задним числом рассуждал Лукьянов, безнаказанное преступление, пусть и небольшое, породило череду других тайных не очень хороших поступков, которые, увы, случались в его жизни. А вот если бы получил он сразу же крепкий урок, может, остерегся бы и прожил жизнь иначе, лучше, ведь, как известно, наши грехи на наши головы в итоге и валятся.
И вообще безнаказанность – самая ужасная черта нашей современности: все делают, что хотят, и никому ничего за это не бывает.
Примерно так размышлял Лукьянов, наблюдая за пацаном и ленясь встать. В нем напрочь отсутствовало чувство собственности, по крайней мере такое, что побуждает некоторых за свое добришко перегрызть другому человеку горло, зато всегда жило напряженное чувство гражданской ответственности. Оно-то и заставило Лукьянова действовать.
Он тенью поднялся, не скрипнув раскладушкой, не задев веток, бесшумно сделал несколько шагов, пригибаясь, и коршуном напал из кустов, ловко ухватил пацана за руку, тут же вывернув ее за спину, будто только этим в жизни и занимался, на самом деле у него был первый такой опыт.
Пацан же был, видимо, опытный, сразу понял, что к чему, не вскрикнул, не испугался, мрачно сопел и смотрел в сторону.
– Что будем делать? – иронично, почти дружелюбно спросил Лукьянов.
– Отпусти, урод! – огрызнулся пацан.
Вот она, разница поколений! Помнится, Лукьянов с друзьями наблюдал из засады, как схватили их главаря и командира Миху, так тот сразу же запищал:
– Отпустите, пожалуйста, я нечаянно, у меня бабушка болеет, я ей малинки хотел нарвать!
Врал, конечно, залез он не за малинкой (ее воровать неудобно: на месте много не съешь, а с собой в карманах не унесешь – пачкается), да и бабушка Михи была не только не больна, а вполне здорова и частенько доказывала это Михе по затылку своей доброй, но веской рукой.
Но поведение Михи свидетельствовало по крайней мере о том, что он понимал, что поступил нехорошо, схватили его за дело, дома ему попадет, надо выкрутиться.
И, между прочим, его отпустили. И даже малинки дали.
В голосе же пацана не слышалось никакой вины, наоборот, он так это сказал, будто виноват Лукьянов. Не раскаяние, а злобу и досаду, вот что чувствуют все наши преступники, когда их хватают с поличным, социально обобщил в уме Лукьянов, держа пацана и думая, что делать дальше.
– Ты откуда? – спросил он. – С какой дачи?
– А тебе какая разница?
– Не тебе, а вам. Такая, что мы сейчас пойдем к твоим родителям, и мне придется все им рассказать.
– Ага, пойдем. Побежим, – хмыкнул пацан.
– Конечно, – твердо сказал Лукьянов, уязвленный откровенным неуважением пацана. – Так где твоя дача?
– В Караганде! – ответил пацан.
На самом деле ответил гораздо грубее, Лукьянова аж всего нравственно перекосило: он и от взрослых терпеть не мог мата, а от детей и подавно.
– Ладно, – сказал Лукьянов. – Придется ходить по всем дачам, кто-нибудь да узнает.
– Ни с каких я не дач, а с Мигуново, – сказал пацан.
Это было село километрах в двух от дачного поселка. С одной стороны странно, что пацан признался, с другой, простой расчет: взрослый дядька вряд ли захочет тащиться в такую даль по такой жаре. Надо признать, малолетний человек уже неплохо разбирался в жизни.
Но не знал он Лукьянова! Если уж тот пойдет на принцип, то до конца. Или, как минимум, до предела возможностей, обусловленных рамками реальных обстоятельств.
– Что ж, пойдем! – сказал Лукьянов.
Он поднял сумку с десятком яблок и повел пацана из сада.
Прошли дачной улицей, вышли на асфальтовую дорогу.
Высокому Лукьянову было неудобно держать руку пацана, он находился в полусогнутом положении, сумка тоже отягощала, болталась, Лукьянов повесил ее на плечо, но она постоянно соскальзывала.
Как только вышли за дачи, пацан рванулся, хотел дать деру, но Лукьянов был настороже, зафиксировал руку жестко, заведя ее еще дальше за спину.
Пацан взвыл:
– Больно, блин!
– А ты не дергайся. И не ругайся.
– Чё те надо вообще? Ну дал бы по шее, и все!
– По шее, думаю, тебе и так не раз давали. Я хочу, чтобы твои родители знали, чем ты занимаешься.
– Придурок!
Кстати, подумал Лукьянов, а вдруг родители знают? Вдруг это очень бедные люди, каких немало в наше время, им не на что жить, вот они и посылают ребенка воровать яблоки, чтобы потом продать их проезжающим горожанам? Пусть выручка будет рублей сто или двести, но для кого-то и это – деньги.
Значит, придется и родителям объяснить, что к чему. Никакая бедность воровства не оправдывает. Лукьянов сам не миллионер, однако чужого в жизни не возьмет, даже если будет умирать с голоду.
Тут Лукьянов споткнулся о собственную мысль, задавшись вопросом: действительно ли он, умирая с голоду, не будет способен украсть, например, кусок хлеба? Но тут же решил, что вопрос этот отвлеченный, теоретический, не надо все запутывать и усложнять.
Пацан мычал и постанывал, показывая, что ему больно.
Да и Лукьянову было по-прежнему неудобно.
Он придумал: снял ремень, которым подпоясывал свои шорты, купленные на рынке без примерки и оказавшиеся слишком большого размера, оглядел пацана – за что бы его обвязать? – и обвязал за шею, так, чтобы и не придушить, но и чтобы нельзя было стащить через голову.
– Ну, ты даешь! – сказал пацан как бы даже с одобрением, потирая затекшую руку.
Идти стало легче и веселей.
Со стороны, наверное, выглядело несколько смешно и нелепо, но дорога была пуста, смотреть некому.
– Я бы не стал тебя вязать, – сказал Лукьянов. – Но ты ведь убежишь.
– Само собой, – подтвердил пацан.
Солнце припекало, дорога поднималась на пологий холм, Лукьянов потел, дышал тяжело (сказывалась толика лишнего веса) и ждал, когда поднимутся – на холме была сосновая роща, там, наверное, прохладней.
– Кто у тебя родители-то? – спросил он пацана.
– Пошел ты! – ответил пацан.
Молча дошли до рощи.
Лукьянов остановился передохнуть, пошевелил плечами, покрутил шеей, на секунду закрыв глаза, и вдруг ощутил резкий и болезненный удар по ноге. Открыл глаза: шустрый пацан подобрал довольно толстую ветку, держал ее в руке и готовился нанести второй удар.
– Отпускай быстро, а то башку проломлю! – завопил он.
Конечно, голову он вряд ли проломит, подумал Лукьянов, но будет неприятно.
– Брось сейчас же! – приказал он.
Пацан ударил его по плечу. Лукьянов пошел кругом, чтобы зайти ему за спину, не выпуская, естественно, ремня из руки. Но и пацан вертелся. Ударил еще раз, еще, еще. Лукьянов был в смятении: и отпустить нельзя, и что делать, непонятно. Притянуть на ремне к себе и вырвать палку? Пацан за это время, пожалуй, глаза выколет. Попытаться схватить палку и вырвать или сломать? Лукьянов попробовал. Несколько раз получил по рукам, отдергивая их, будто обжигался, но все же удалось, схватил палку, вырвал, занес над головой пацана.
– Только попробуй! – ощерился тот.
Лукьянов далеко отбросил палку.
– Маленький ты негодяй, вот ты кто, – сказал он.
– А ты пидор!
– Знаешь что, лучше молчи!
– Сам молчи!
И оба, в самом деле, замолчали. Лукьянов повел его дальше.
После рощи был спуск к речке, за речкой опять небольшой подъем, а вот и Мигуново.
Селу это название очень шло, оно, небольшое, полузаброшенное, доживающее свой век, всё кособочилось и будто действительно подмигивало. Подмигивали пустые окна брошенных домов, подмигивал завалившийся забор, подмигивал заросший бурьяном ржавый трактор – одна фара целая, вместо другой пустая чашка-глазница с червячками проводов, вот этой фарой он и подмигивал: умираю, мол, но не сдаюсь.
В селе была всего одна улица. Пустая. Ни машин, ни людей, ни даже кур. Никого.
Когда поравнялись с первыми домами, пацан опять выкинул штуку: резко повернулся и бросился на Лукьянова, целясь головой в живот. Лукьянов отскочил, высоко подняв руку с ремнем. Пацан опять бросился, выставив костистые кулачки. Совал ими, норовя ударить, и один раз даже достал, ткнул под ребра – и очень больно.
Это выглядело еще нелепей, чем с палкой: Лукьянов отступал, увертывался, почти бежал, а пацан стремился к нему, пытался то стукнуть кулаком, то пнуть ногой. Так они долго и молча кружились, оба запаленно дыша, пока наконец не устали. Остановились.
– И чего ты добился? – спросил Лукьянов.
– Отпусти, сказал! – прохрипел пацан.
Тут на улице показалась старуха с ведром.
– Здравствуйте! – окликнул ее Лукьянов. – Не знаете, чей это?
Старуха подошла поближе, вгляделась. Пацан отвернулся и сквозь зубы, но довольно внятно, пробормотал:
– Только скажи, баб Лен, я Витьку твоему все ноги оторву! И голову! – добавил он – решив, наверное, что отрывание одних только ног может бабку Витька не испугать.
– Я вот оторву кому-то! – в ответ пригрозила старуха. А Лукьянову сказала: – Не знаю я ничего. У нас люди веселые, сегодня скажешь что не так, а завтра дом сожгут.
– Ясно. А участковый у вас тут есть? Милиционер? То есть полиционер или как вы его зовете?
– Никак не зовем. Вон дом зеленый, там в одной половине почта, а в другой участковый, Толька-балбес. Мараться с дурачком, придушил бы на месте, – сказала она, уходя.
– Витька своего придуши! – крикнул ей вслед пацан.
Пошли к указанному дому.
Дверь в почтовую половину была приотворена для сквозняка, а участок оказался закрытым на большой висячий замок. Над дверью вывеска: «ОПОП Мигуново».
ОПОП… Наверное, Опорный Пункт Охраны Порядка, догадался Лукьянов.
Он сел на деревянное крыльцо, внимательно посматривая на пацана. Тот сплевывал, не глядя на Лукьянова.
– Тебя как зовут? – спросил Лукьянов.
– Тебе какая х… разница?
– Не ругайся. Просто интересно.
– Интересно кошка дрищет. Ну Серый.
– Сережа, значит?
– Серый, я сказал.
– А я Виталий Евгеньевич. Скажи, Серый, а зачем тебе столько яблок? Вон какая сумка большая.
– Пошел ты!
– Я серьезно? Может, ты для дела, тогда другой разговор, – подпустил дипломатии Лукьянов.
– Продаю на дороге, – неохотно признался Серый, и Лукьянов мысленно похвалил себя: почти угадал, знает все-таки народную жизнь!
– Деньги нужны?
– А тебе нет?
– Попросил бы, я бы дал. А зачем тебе деньги?
– Чупа-чупс купить.
– Что?
– На палочке такие.
– А. Леденцы?
– Ну.
Боже ты мой, подумал Лукьянов, он же ребенок совсем! Леденцов хочет. А я его на ошейнике привел, как бешеную собаку. С другой стороны, что у него, родителей нет, чтобы купить леденцов? Если не дают просто так, заработай, принеси воды, наколи дров. Лукьянов, например, в детстве полы регулярно мыл. Не ради денег, нравилось, когда мама хвалила. Но на кино давала после этого с большей охотой. Нет, надо быть твердым и довести дело до конца. Не ради себя, естественно, ради этого мальчика. Если сейчас спустить все на тормозах, он поймет, что это был только порыв, быстро сошедший на нет, как часто, увы, бывает в русской жизни, разочаруется в мужской силе и воле, это его испортит. Разумное насилие – неотъемлемая часть воспитательного процесса, вспомнил Лукьянов чью-то мудрость. Жаль, нет собственного опыта – Лукьянов в свои тридцать шесть лет еще не имел детей. Жены, впрочем, тоже пока не было.
– Я ссать хочу, – сказал пацан.
Лукьянов огляделся.
– Туалета здесь нет.
– А мне и не надо. Ты отвернись только.
Лукьянов встал, повернулся боком, чтобы и не видеть пацана, но и не выпускать совсем из поля зрения, а Серый подошел к крыльцу, послышалось тихое, мягкое журчание, закончившееся дождевой капелью.
Прекратилось.
Лукьянов повернулся и увидел на крыльце сверкающую на солнце желтоватую лужицу.
– Зачем же ты на крыльцо?
– Пусть освежатся! – хихикнул Серый.
Меж тем Лукьянов сам хотел того же, что и пацан, и уже давно. Но как это сделать? Он же будет в этот момент беззащитным, Серый обязательно нападет. А если и не нападет, все равно как-то неудобно, стеснительно, Лукьянов при посторонних никогда этого не делал, в общественных туалетах не пользовался открытыми писсуарами. Какой-нибудь брутальный бандюга, схвативший малолетнего заложника, наверняка не имел бы таких проблем. Наоборот, использовал бы это для подавления психики ребенка демонстрацией своей фаллического могущества. Грубо? Да. Но естественней, чем мои интеллигентские ужимки. Впрочем, интеллигентство ни при чем, нормальные рефлексы нормального культурного человека.
А в туалет все же очень хочется.
Серый оказался проницателен, он, глянув на задумавшегося Лукьянова, усмехнулся и сказал:
– Тоже пись-пись охота? Валяй. Не бзди, я сзади не нападаю.
– Обойдусь.
– Смотри, в штаны нальешь. Охота же, вижу же! Пись-пись-пись! Пись-пись-пись!
И от этой дурацкой дразнилки желание облегчиться стало просто нестерпимым.
Рядом с крыльцом валялся моток старого электрического провода в оплетке. Лукьянов взял его, подошел к Серому:
– Только не дергайся, хуже будет!
И обмотал ему руки сзади. Потом привязал конец ремня к перилам крыльца, зашел за кусты и там насладился, удивляясь мощи струи и долготе процесса.
Как мало надо для счастья!
Он вышел, повеселевший. Серый прислонился к стене, где была тень, закрыл глаза и терпеливо ждал, чем все кончится.
Наконец к ОПОП подъехал «уазик» с надписью «Полиция», оттуда выскочил белобрысый парень лет двадцати пяти, в форменных штанах и цивильной футболке с надписью «Manchester United», в шлепанцах, взбежал на крыльцо, разбрызгав лужицу (Серый довольно улыбнулся), стал возиться с замком.
– Я к вам, – сказал Лукьянов.
– Чего хотели?
– Вот, мелкое воровство.
– А почему не крупное? Лиз, я щас! – крикнул он в сторону машины и скрылся в доме.
Из окошка машины высунулось приятное личико девушки с крашеными белыми волосами. Очень приятное. Пожалуй, даже красивое. Глядя на девушку, Лукьянов подумал, что занимается какой-то ерундой в то время, когда другие живут полной и жизнерадостной жизнью.
– Ты чего натворил, Чубриков? – спросила девушка.
– Да ниче, Ольга Сергевна, пристал этот маньяк! Педофил какой-то!
– Ты не заговаривайся! – одернул его Лукьянов. – Он яблоки у меня в саду воровал.
– Понятно, – кивнула девушка. – Это в его репертуаре, он весной в спортзале, в школе, цепи от турника спер. Когда вернешь цепи, Чубриков?
– А это я? Кто-то видел? Кто-то доказал? Врете и не краснеете!
– Вы его учительница? – спросил Лукьянов.
– Типа того.
– Я ее лучше всех люблю! – заявил Серый. – Она добрая и красивая. Даже отец говорит: Ольга Сергевна у вас, говорит, классная телка!
– Твой отец скажет! – засмеялась девушка. – Толь, ты скоро?
– Уже!
Участковый выскочил, держа в руках бутылку шампанского и какой-то сверток.
– Подержи, – дал он ценный груз Лукьянову, чтобы закрыть замок. Закрыл, взял свое добро, пошел к машине.
– А как же… Акт составить или… – попытался остановить его Лукьянов.
– На них акты составлять – бумаги не хватит. Наваляй ты ему пи…лей и пусть катится. А с ошейником ты хорошо придумал, надо взять на заметку. А то я взял одного, а он, сучок, кусаться начал!
Мотор «уазика» взвыл.
– Где его родители живут? – прокричал Лукьянов.
– Да через два дома, – ответила девушка-учительница. – Сначала Семыхины, потом Рубчук Илья Романович, а потом они! Под зеленым шифером дом!
Машина, ревя старым мотором, уехала.
– Пойдем, – сказал Лукьянов, которому уже надоела эта история. Сдать родителям, да и все. Даже без моральных комментариев. Сказав все по фактам.
А Серый вдруг сел на землю и заныл:
– Дядь, не надо! Они меня убьют! Они алкоголики вообще! Не кормят! Я есть хотел, поэтому залез. Яблоки продам, куплю хлеб, молоко.
Врет или не врет? – гадал Лукьянов.
Похоже на правду – иначе почему Серый с таким упорством сопротивляется, не хочет идти домой? Подобный героизм только от страха бывает.
– Хорошо, – сказал он. – Но я хочу, чтобы ты меня понял. Почему ты так плохо думаешь о людях? Если бы ты нормально попросил, дал бы я тебе и яблок, и хлеба, и молока. И колбасы. И чупа-чупс твой любимый. Ты пробовал нормально просить?
– Сколько раз! Обзываются, ментов грозят вызвать! Говорят, что я дачи обворовываю!
Тоже похоже на правду. Их дачный поселок, которому уже полвека с лишком, населяли всегда люди простые, средние, небогатые, он не обнесен высоким забором, нет шлагбаумов с охраной, как в так называемых элитных дачных массивах. Нанимают вскладчину сторожей, но толку мало, жители окрестных селений и далеко от города забредшие бомжи тащат из дач все, что можно, особенно зимой. И пожары неоднократно были. Как тут не злиться? Да и без повода стали мы злы безмерно, раздражает нас чужая нищета, давит на совесть, вернее, на душевную нейтральность, с которой мы свыклись. Печально, печально, мысленно грустил Лукьянов.
– Ладно, – сказал он, сняв ремень с шеи Серого и разматывая проволоку с его рук. – В следующий раз не ходи ни к кому, а сразу ко мне в гости. И вот еще, – он залез в карман, нащупал денежную бумажку, достал. Всего лишь сотенная. Но – чем богаты.
И он сунул ее Серому.
– На чупа-чупс.
– Спасибо, дядя, – сказал Серый, шустро пряча денежку в какой-то потайной кармашек сбоку штанов.
– Не дядя, а Виталий Евгеньевич. Так обращаются культурные дети ко взрослым.
– Ясно. Я пошел?
– Иди. Ты куда?
Серый, вместо того чтобы убежать, скакнул за крыльцо.
Там стояла жестяная лохань с мутной водой. Серый поднял ее, поднатужился и обрушил на Лукьянова воду вместе с загремевшей лоханью.
– Получи, козел! Виталь Евгенич, бля, мудак! – захохотал он и рванул за дом.
Лукьянов выскочил, увидел, как Серый чешет куда-то за село, в огороды.
И побежал, не надеясь его догнать, хотя очень старался.
Ему повезло: перепрыгивая яму, отделяющую огород от улицы, Серый оступился, покатился по земле, тут же вскочил, но, потеряв ориентацию после кувырка, побежал не от Лукьянова, а к нему. Спохватился, вильнул вбок, но поздно, Лукьянов крепко обхватил его, поднял в воздух и понес обратно.
Серый что-то ныл, о чем-то просил, что-то обещал, Лукьянов не слушал.
У крыльца участка опять связал ему руки. Ремень на шею цеплять не стал – до дома недалеко, и так удержит. Алкоголики родители или нет, но – пусть знают, кем растет сыночек. Может, это их хоть немного отрезвит.
Вот и дом с крышей под зеленым шифером.
Подходя, поверх невысокого забора, составленного из штакетника, Лукьянов увидел идиллическую картину: на лужайке перед домом, за длинным столом, застеленным клеенкой, сидели две пары, двое мужчин с женщинами. На алкоголиков не очень похожи: женщины в приличных нарядах, один из мужчин в простой, но чистой футболке, а второй и вовсе в белоснежной рубахе.
– Здравствуйте! Ваш? – спросил Лукьянов, не заходя во двор, показывая Серого в открытую калитку.
– Наш, наш! – приветливо откликнулась румяная полная женщина с гладко зачесанными назад волосами. – Заходите, гостем будете!
Сидящий рядом мужчина в футболке строгим отцовским взглядом посмотрел на Серого:
– Чего опять натворил?
– Ниче я не натворил! Пристал ко мне этот дачник! Я мимо шел, падалицы на улице подбирал, все равно машины подавят, а он подумал, что я у него стащил!
– Все было немного не так! – сказал Лукьянов.
– Да знаем мы, как было, – махнул рукой мужчина в футболке. – Иди сюда, крысеныш!
– Сережа, не сегодня! – сказала полная женщина.
– А когда еще? Иди сюда, говорю!
Отца тоже Сергеем зовут, мимолетно подумал Лукьянов. В честь себя сына назвал.
Серый, опустив голову, поплелся к отцу. Лукьянов хотел развязать ему руки, но не успел.
Отец встал навстречу Серому, взял полотенце, полил на него водой из-под умывальника, что висел рядом на стене, слегка отжал, сказал своим гостям:
– Лучший способ. И чувствует, что почем, и не покалечишь. И жжется потом долго. Ты вот, Борь, на солнце обгорал, наверно, примерно то же самое.
– Это ерунда, – ответил Боря. – Настоящий ожог – водяной, я как-то в бане кипятком ошпарился, волдыри пошли, а боль такая, что хуже сроду не было.
– Не рожали вы, не знаете, что такое настоящая боль! – возразила мать Серого. – Я прямо с ума сходила, когда Серенька мой рожался.
– С чего бы? – удивился Боря. – Вроде, широкая в кости вообще-то. В жопных местах особенно, – и он по-мужски, с улыбочкой, переглянулся с Сергеем, давая понять, что хамит не чтобы обидеть, а дружески, от души. И Сергей в ответ тоже улыбнулся: понял, дескать.
– А моя вот, – хлопнул Боря жену по острому плечу, – вся узенькая, как плотва, а двух выплюнула, будто по маслу!
Жена обиженно сказала:
– При чем тут узенькая? Зависит, какая растяжимость костей, мне врачиха сказала. – У меня хорошая растяжимость, вот и все.
– А я еще, помню, блок цилиндров себе на ногу уронил, – Боре хотелось продолжить интересную тему о боли, но Сергей-старший его прервал.
– Потом расскажешь, дай дело кончить. Повернись, курвеныш!
Серый повернулся.
Отец увидел провод на его руках, удивился, потрогал пальцем, посмотрел на Лукьянова.
– Это ты его связал?
– Он, пап, меня за шею на ремне тащил, чуть не удушил! – тут же пожаловался Серый. – И руки у меня прямо немеют уже!
Мать Серого вскрикнула, бросилась к ребенку, размотала руки, осматривала их, ощупывала, дула на них.
– Ты что ж наделал, б., тварь ты такая, у него же, б., гангрена может быть! Руки отрежут теперь! – заголосила она. – Сыночка! – и прижала голову Серого к своей груди так, что голова полностью там скрылась.
А Сергей медленно пошел на Лукьянова, кривя рот.
– Ты моего сына, – рот совсем сполз на бок и мужчина жестоко всхлипнул, но совладал с ненужной чувствительностью. – Да я тебя, сука, за это… Боря!
Боря, очень длинный и очень худой, в отличие от своего телесно мощного друга, начал членистоного выкарабкиваться из-за стола, отпихиваясь рукой от супруги, которая, хмельно прищурив один глаз, предупредительно говорила:
– Боря! Боря! Боря!
Лукьянов мужественно стоял на месте.
– Если у моего сына что с руками будет, я тебя урою! – гаркнул Сергей, подойдя.
Однако дожидаться, когда у Серого будет что-то с руками не стал, и помощи Бори тоже не дождался, он и позвал-то его, наверно, не для подмоги, а чтобы товарищ чувствовал свою нужность и полезность, если что. Оказавшись в финале своей фразы перед Лукьяновым, Сергей тут же его и урыл, то есть так ударил кулаком в лоб (пожалев более мягкие и ломкие места), что Лукьянов упал как подкошенный и потерял сознание.
Вряд ли он был в беспамятстве долго – потому что, когда начал подниматься, одурело мотая головой и скребя по земле ногами, Борис был еще на пути к забору. Подошел, когда Лукьянов уже встал. Спросил Сергея:
– Добавить?
– Ему хватит. Твари, заняли нашу землю, да еще наших детей калечат! Убью!
И Сергей опять занес кулак, но было видно, что на этот раз не ударит.
– Ну что ж, – сказал Лукьянов. – Теперь вашему сыну ясно, что за любой проступок ему не только ничего не будет, а его даже защитят. Человека убьет, вы адвоката наймете, всеми силами отмазывать от тюрьмы будете. И отмажете. Чтобы он еще кого-нибудь убил.
– Ты че мелешь, орясина? – закричала мать Серого. – Беги отсюда, пока тебе башку не отшибли!
– Естественно, я уйду, не драться же мне с вами. Но то, что я сказал, вы запомните.
– Минутку! Ты грозишь, что ли? – Сергей, утоливший первую жажду мщения, начал разгораться опять.
– Никому я не грожу. Я констатирую.
– Они все такие, – с крайней гадливостью сказал Боря. – Живут там, ё, как эти, ничего не делают, просрали всю страну и только, б., кон-стан-тируют! И на детей от жиру бросаются!
– До свидания, – сказал Лукьянов, поняв бесполезность дальнейшего диалога.
И пошел прочь.
Он ценил в себе это умение вовремя остановиться, вовремя понять, что оппоненты глухи к аргументам и нет смысла тратить время на то, чтобы их переубедить.
– Вали, вали! – напутствовал его Сергей. – И чтобы я тебя больше не видел!
Лукьянов и сам не хотел больше видеть ни Сергея, ни Серого, никого вообще. Он хотел одного – добраться до дачи, до раскладушки, лечь и дождаться, когда в голове утихнет звон, а перед глазами перестанут плыть блеклые разноцветные круги.
Шел устало, экономя силы, как солдат с войны.
Но война, как вскоре выяснилось, не кончилась.
Он уже миновал сосновую рощицу, когда рядом что-то упало. Остановился посмотреть – камень. Обернулся, и тут ударило в плечо. Посмотрел и увидел: Серый стоит среди деревьев, в руках у него пластиковый тазик. Не поленился, набрал где-то камней, догнал – и вот кидает.
– Тебе мало, что тебе ничего не было? – спросил Лукьянов.
– Мало!
– Чего ты хочешь?
– Убью тебя, придурка!
– Прямо до смерти? – попытался шутить Лукьянов, хотя ему стало вдруг как-то не по себе.
– Само собой!
И Серый кинул камень.
Кидал он метко, камень пролетел возле головы.
А ведь действительно, подумал Лукьянов, так недолго и убить.
Он стал отступать задом, не сводя глаз с пацана. Споткнулся, чуть не упал. Серый прицелился.
Лукьянов резко развернулся и побежал.
Под горку было бежать легко, но и опасно – слишком быстро получалось, он еле успевал за собственными ногами. Но зато и Серому, наверное, непросто бежать с грузом да еще при этом кидать. Дачный поселок близко, там спасение. Вот уже первые заборы и строения.
Лукьянов вбежал в дачную улицу, остановился, посмотрел назад.
Серый несся к нему во всю прыть, обнимая одной рукой тазик, а второй замахиваясь. Кинул с разбега. Недобросил. Лукьянов прикинул: впереди улица, где негде скрыться, по сторонам высокие заборы. До своей дачи довольно далеко. Этот бешеный пацан, достойное отродье пьяных папаши с мамашей, пожалуй, догонит его. И прикончит, забьет камнями.
Лукьянов в отчаянье вскрикнул:
– Ты так? Ладно! Тогда иди ко мне!
И побежал вперед, на Серого. Он не боялся камней, то есть боялся, но не трусливо, а расчетливо, он хотел одного: добраться до этого негодяя и расправиться с ним. Хотя расстояние быстро сокращалось и Серый бросал не на бегу, а стоя, он мазал. Вернее, Лукьянов ловко маневрировал, бежал не по прямой, а зигзагами.
И все же один камень угодил Лукьянову в лицо, камень небольшой, но острый, Лукьянов ощутил на щеке теплое жжение, это прибавило ему силы и злости.
Серый не выдержал, бросил тазик, пустился наутек. Не к лесу, не по дороге, а по скосу холма, длинной дугой. Лукьянов же, как в фильмах ВВС о дикой природе (он любил эти фильмы), помчался наперерез длинными львиными махами.
И настиг. В прыжке повалил, подмял под себя. Урча, перевернул с живота на спину, чтобы видеть испуганную рожу подлеца, и стал отвешивать ему пощечины.
– Не надо! Хорош! Всё! Завязал! – кричал Серый.
– Я тебе завяжу! Я тебя узлом завяжу так, что никто не развяжет! Сучонок мерзкий!
– Слезь, раздавил!
Лукьянов вспомнил, что весит в самом деле прилично, а пацаненок под ним совсем тощенький, как бы не поувечить. Приподнялся, встал, очистил колени.
– В следующий раз будешь знать.
Хотелось еще что-то веское добавить, но больше ничего на ум не приходило.
Лукьянов пошел к своей даче – уже, как ни странно, не настолько уставший, даже, пожалуй, посвежевший, взбодрившийся. С удовольствием вспомнил о бутылке водки, что стоит в холодильнике. Славно сейчас выпить с устатку, да и закусить не мешает.
И вдруг все померкло.
Провалилось.
Исчезло.
Очнувшись, он потер глаза – с ними что-то случилось, все вокруг стало серым.
Нет, это просто вечер незаметно подкрался, солнце ушло за горизонт, да еще и тучи наползли.
Серый сидел у забора, на коленях у него лежал увесистый обломок доски.
Лукьянов пощупал зудящий затылок, посмотрел на пальцы.
Кровь.
– Ты этим меня? – кивнул он на доску.
– Ну.
– И зачем?
– Я сказал – убью.
– И что это тебе даст?
Серый не понял вопроса. Сплюнув в сторону, он встал и поднял доску.
Лукьянов хотел подняться с земли и понял, что не может. Будто кости вынули из тела, какой-то вялый неуправляемый студень остался.
«Растяжимость костей», вспомнил он и невольно усмехнулся.
– Ты че лыбишься? – подозрительно спросил Серый и оглянулся.
Никого вокруг не было, он успокоился. Высоко поднял доску, примериваясь.
– Дурачок, ты же пожалеешь, – сказал Лукьянов. – Я тебе по ночам сниться буду.
– Да щас прям!
И Серый ударил.
Но у Лукьянова откуда-то взялись силы, он рывком отбросил тело в сторону, доска вскользь ударила по плечу. Лукьянов вскочил, оперся о забор, а потом оттолкнулся от него, упал всей массой на Серого. Вырвал у него доску, а потом обхватил пальцами тощую воробьиную шею. Сдавил. Лицо Серого побурело, он хрипел, глаза выкатились.
– Будешь еще? Будешь? Будешь? – спрашивал Лукьянов, но понял, что Серый просто не может ответить.
Ослабил хватку.
– Бу… кхе… кха… Буду!
– Я же убью тебя, идиот! Я не шучу! Ты мне выбора не оставляешь! Ведь если я тебя не придушу, гаденыш, ты же не отстанешь, ведь так?
– Ладно…
– Что?
– Я пошутил.
– Это шутки? Ты мне череп, наверно, проломил!
– Я не хотел.
– Как не хотел? Ты именно хотел меня убить, сам сказал.
– Я пошутил.
– Не ври! Хотел убить!
– Ну хотел. Теперь не хочу. Хватит, больно. Отпусти.
– Отпущу, а ты опять нападешь? С какой-нибудь доской, а то вообще топор из дома притащишь.
– Ничего я не притащу. Дышать нечем, отпусти.
Лукьянов убрал руки, но не вставал.
– И что делать? – спросил он.
– Ничего. Я домой пойду.
– А если не пойдешь? У тебя телефона нет, случайно?
– Дома.
– Скажи номера отца и матери. Позвоню, чтобы тебя забрали.
– Не помню я. Там номера длинные, у меня в телефоне просто забито – мама, папа.
И у всех так же, подумал Лукьянов. Никто не помнит ничьих номеров.
– Может, тебе денег дать, чтобы ты отстал?
– Не надо. Я домой хочу.
– Какой бескорыстный. Я ведь не шучу. Тысячу дам.
– Правда, что ли?
– Серьезно.
– Ладно.
Вот на что они все покупаются, подумал Лукьянов. На элементарное. На деньги. Как я раньше не догадался!
Они пошли к даче Лукьянова.
Вошли в небольшой дачный домик, одноэтажный, состоящий из веранды и двух комнаток. Сколько помнит Лукьянов, отец всегда что-то доделывал, достраивал. И по сию пору сохраняется вид незаконченной стройки – в углу стоят планки плинтусов, на подоконнике рулоны обоев, у посудного шкафа – ящик с инструментами: дрель, ножовка, гвоздодер, молоток, топор, бумажные кульки с гвоздями и шурупами.
Лукьянов взял в пиджаке ключи от машины, которая стояла перед воротами здесь же, на участке. В машине были документы и деньги.
Коротко пискнула и щелкнула сигнализация, Лукьянов открыл дверцу, потянулся к сумке.
И что-то почувствовал.
Осторожно повернул голову.
Серый стоял перед машиной, пряча руки за спиной. Встретившись с Лукьяновым взглядом, он презрительно сказал:
– Че мне тыща, мне это мало!
– Сколько же тебе? И вообще, дружочек, странно все получается. Это ведь ты ко мне воровать залез. Но хорошо, хорошо, не буду на эту тему. Что у тебя там? Что ты там прячешь, покажи?
– Ничего я не прячу. Вылезай давай.
Серый переступил ногами, расставляя их для устойчивости.
– Ты вылезешь или нет? Мне домой пора.
Хроника. Май
Из новостей
* * *
3 – 19 мая – 77-й чемпионат мира по хоккею с шайбой (Стокгольм, Швеция и Хельсинки, Финляндия). Сборная Швеции выиграла чемпионат мира в девятый раз.
(Смотрел, вспоминал, как девчонки из моего класса в тетрадках линовали турнирную таблицу. И вклеивали газетные фотографии хоккеистов – Харламова, Мальцева, Якушева… Вспомнил еще: две подруги-болельщицы были на матче знаменитостей в ледовом дворце «Кристалл». Стояли у самого бортика. В перерыве подъехал Сам Такой-То и сказал: «Девушки, встретимся вечером для любви». Они ответили: «Мы еще именно девушки». Он сказал: «Рано или поздно это должно случиться. Со мной – неплохой вариант!». Они не согласились, но охотно об этом всем рассказывали. Я слушал и не верил, что мои одноклассницы могут вести такие разговоры. Мир слегка перевернулся.)
Из журнала
* * *
Умер кинорежиссер Алексей Балабанов. Был в движении, искал… И находил. И еще больше нашел бы, уверен… Не только там, где искал прежде. Большая потеря, очень.
* * *
Почти во всех фильмах Балабанова – подъезды, лестницы, двери, двери, лестницы, подъезды. Бесконечное путешествие по чужим людям. Бесприютность. Поиски утраченного дома. (Реального Дома, теплого, жилого, любящего, нет, кажется, нигде…) Виды из окон на безлюдные улицы… И герои Виктора Сухорукова, говорящие во всех фильмах и со всеми очень громко, будто с глухими…
Да и герой Бодрова тоже не столько говорит, сколько втолковывает. Как слабослышащим…
Последний фильм Балабанова – «Я тоже хочу». Очень личное кино, даже как бы не совсем кино. Словно письмо, подобно предсмертным стихам Есенина, которые Маяковский обозвал слабыми, сделав вид, что не понимает (или на самом деле не понимал тогда – покуда сам не написал предсмертного письма, прозой, но на деле стихотворно): есть вещи, в которых содержится не чистое художество, мастеровитость и т. п., а художество, нестерпимо крепко настоянное на судьбе. И без этого понимания судить нельзя. В этом фильме все строится на простых словах. Убил. Выпить. Ехать. Петь. Счастье. Смерть. И на простых кадрах. Убил. Выпил. Лечат. Едут. Ищут. Поют. Умирают. Или улетают.
* * *
Жанр литературной пародии исчез. Почему? Потому что пародируемого автора должно знать хоть какое-то количество людей. Сейчас никто не знает никого.
Заранее скажу тем, кто тут же не преминет злорадно сообщить, что нынешних авторов друг от друга не отличишь, поэтому, дескать, нечего пародировать: это неправда.
* * *
Получил в личку письмо:
«Здравствуйте, дорогие, как вы сегодня также и как ваша работа? Я надеюсь, что хорошо, я был фактически пленен ваш профиль, и я не мог не написать вам комплименты вам в этом. Я хотел бы дружить с вами, если вы не возражаете, может быть, мы попробовать и узнать друг друга больше, обмениваться идеями и причина, люди созрели. Также помните, что возраст, культуру или цвет не имеет значения в дружбу отношения. Счастья, радости, любви и доверия, и я надеюсь, что вы чувствуете то же самое, что я чувствую. Я Дилан, одна молодая девушка, не совершенна, но я стараюсь изо всех сил, чтобы быть лучшими. Может быть, вы можете помочь в достижении моей цели, и я буду в надежде услышать от Вас. Напишите мне».
Нет, Дилан, не напишу. Но смешно, правда?
* * *
Почему Н. Толоконниковой отказали в УДО. Цитата:
«Незадолго до назначения даты рассмотрения ходатайства об УДО администрация наложила на нее взыскание. Она обвинялась в том, что не поздоровалась с сотрудником ФСИН, находясь в медчасти. В суде представители колонии рассказали о своих претензиях к участнице панк-группы еще подробнее. По их словам, госпожа Толоконникова отказывалась социализироваться в колонии: например, не участвовала в конкурсах “Быть добру” и “Мисс Очарование”, проводившихся в колонии».
И т. д. в том же духе.
Из дневника
* * *
Второй день не могу взяться за работу, т. е. за 10-ю серию. А надо, кроме нее, еще две. И предыдущие 9 дорабатывать.
* * *
«Октябрь» берет два рассказа. И «Новый мир» – один.
* * *
Андрей Волчанский[6] одобрил «Бумажный самолет», напечатают в этом году.
* * *
Насчет сериала зреет мысль: а не предложить ли кончить все 10-й серией?
* * *
06.05.13. Подсчитал: чтобы успеть к концу мая (очень хочется!), нужно писать по 10 страниц сценарного текста в день. Я сумею. Нужен бухучет.
06.05.13. Опережение на 7 стр.
07.05.13. + 5,5
08.05.13. + 10
09.05.13. + 8
10.05.13. + 3
11.05.13. 0. Пока в графике.
12.05.13. +3
13.05.13. –7. Правил рассказы для «Октября». Наверстать: 17 страниц.
14.05.13. 17 и еще 6!
15.05.13. +5.
16.05.13. 0.
Закончил 11 серию. В графике.
* * *
Сегодня первый день, когда мне не надо писать 10 страниц. И вообще ничего не надо. Если бы не звон в правом ухе, живи да радуйся. Но и звон пройдет. А нет – привыкну. К шуму в левом ухе привык же: 33 года с ним живу.
* * *
Похоже, съемки сериала откладываются до следующего сезона. Меня это очень радует.
Лучший
Санжаров был известным спортсменом, лыжником, постоянно занимал призовые места, но ни разу не стал первым, лучшим. Не повезло.
Закончив институт физкультуры, работал преподавателем в детско-юношеской спортивной школе, ДЮСШ они назывались сокращенно. Преподавал умело, по науке, однако его воспитанники, будто заколдованные, тоже не поднимались выше третьих и вторых мест.
Женился, но жена его бросила, ушла к другому, то есть и здесь он проиграл.
И жил себе дальше, работая в одной и той же спортшколе, которая меняла вывески, становилась то муниципальной, то при Олимпийском комитете, то вообще ОАО, то опять государственной.
Вышел на пенсию, гордясь тем, что долг свой выполнил, уважая себя, но с тлеющим угольком в душе оттого, что ни в работе, ни в семейной жизни, ни в каком-то увлечении (которого у него, впрочем, и не было) так и не стал лучшим, а ведь каждый человек, Санжаров понимал это, должен быть хоть в чем-то лучшим.
Но именно выйдя на пенсию, он и стал лучшим – почти случайно, не ставя перед собой такой цели.
Вот как это вышло.
Он получил первые свои пенсионные деньги. Вполне обычные для московского заслуженного пенсионера, а если рассматривать на фоне остального государства, то даже очень неплохие: 12 550 рублей.
Но Санжаров огорчился: все-таки рассчитывал на более высокую оценку своих заслуг. Он обиделся.
Разве можно прожить по-человечески на такие деньги? – спросил он себя.
И решил ответить конкретно самой жизнью.
Серьезных сбережений у него не было. Все имущество – двухкомнатная квартирка и старая машина, на которой он не ездил из-за появившихся года два назад внезапных головокружений, чреватых непредсказуемыми дорожно-транспортными последствиями. К тому же, она требовала ремонта, народ в таких случаях говорит: чем красить, легче бросить.
Хорошо, сказал он себе. Я буду жить так, как привык, и посмотрим, что выйдет.
Он отложил сразу 4 тысячи на коммунальные платы, а также за телефон, электричество и кабельное телевидение.
Еще 1 500 на необходимые лекарства: у него были хроническая язва, хронический простатит и периодическая тахикардия. О головокружениях мы уже упоминали.
Осталось 7 050 рублей.
Он начал жить на эти деньги. Покупал те продукты, которые употреблял и до этого, не отказывая себе во фруктах и овощах, в различных творожках, выбирал хорошее мясо, диетическое преимущественно, без жира, а также и рыбу. И чай, который любил. Кофе не покупал – не пил его никогда. Чай с лимоном, самое то.
Когда понадобилось, купил новые носки, хорошие, хлопковые, две пары.
Больше из вещей ничего. Не потому, что экономил, а просто ничего не требовалось.
Деньги кончились через 18 дней.
Вот вам ваша пенсия, мысленно сказал Санжаров кому-то.
Пошел и снял с книжки энную сумму, на которую и дожил месяц.
Так не пойдет, подумал он. Книжка кончится, и что тогда? Надо как-то укладываться в бюджет.
Но, конечно, без ущерба для организма.
Тут ему, как нарочно, в киоске попалась брошюра «Здоровое питание» (80 руб.), он ее купил и нашел полезный раздел: «Месячная норма потребления продуктов питания». Там было сказано, что взрослому человеку необходимо в месяц около 7 кг мяса, включая птицу, 35 л молока, 24 яйца, 2 кг морепродуктов и рыбы, 0,8 л растительного масла, 3,5 кг сахара, 8 кг картофеля, 12 кг овощей и бахчевых культур (свекла, редька и т. п.), 10 кг фруктов и ягод.
Санжаров удивился, что не упомянуто масло сливочное, нет творога, нет круп и макарон, да много чего нет. Даже хлеба. Наверное, творог и масло пересчитаны на молоко – его как-то многовато.
Он полистал книжку и увидел другую таблицу, озаглавленную длинно: «Потребительская корзина: минимальный годовой набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности».
Так-так-так, сейчас узнаем, что мне нужно для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, сказал Санжаров и взялся за калькулятор. Он увидел, что, действительно, все молочные продукты пересчитаны на молоко, а макароны и крупы идут как хлебные продукты. Он поделил годовую норму на двенадцать. Получилось следующее.
Хлебных продуктов в корзине должно быть 8,5 кг в месяц.
Картошки – 6,5.
Овощей и бахчевых – 7,5.
Сахара и кондитерских изделий – 1,75.
Мясопродуктов – 2,625.
Рыбопродуктов – 1,24.
Молока и молокопродуктов в молочном измерении – 18,241 кг.
Яиц – 15 шт.
Масла растительного, маргарина и др. жиров – 0,83 кг.
Прочих продуктов (соль, специи, чай) – 0,3 кг.
Прочитанное заставило задуматься. Корзина явно отставала от нормы. Но на то она и минимальная. В ней фруктов вовсе не предусмотрено. Да и чаю, смешанного с солью и специями, всего 300 граммов, явно маловато.
Но он решил уложиться.
И походы в магазин стали увлекательнейшим занятием. Он и раньше, конечно, обращал внимание на цены, но иногда подкупала и привлекательность упаковки. Теперь же Санжаров чувствовал себя стреляным воробьем, которого на мякине не проведешь.
Вот сахар. Есть и за 150 рублей, и за 120, и за 70, и за 35, и за 28.
Берем за 28.
Яйца. Абсолютно одинаковые, но одни за 97,3 руб., и другие за 47,2. Берем за 47,2. 50 рублей экономии!
Картошка. Есть за 156,6 неизвестно для каких идиотов, а есть за 15,9. Берем за 15,9!
Макароны. Вообще сумасшедший разброс, имеются, например, за 239,5 с чернилами, видите ли, моллюска, страшные на вид, при этом всего 250 граммов! Санжаров, все больше увлекаясь, считал в уме, получилось 958, девятьсот пятьдесят восемь рублей килограмм! Но есть отличные макарончики за 23,4 рубля 400 граммов, то есть 58,5 рубчиков всего за килограмм!
Ну, и так далее.
Санжаров не брал помногу, зато ходил каждый день, выбирая, сравнивая, выгадывая. Раньше наведывался в ближайший магазин и на рынок, а теперь обходил всю округу.
А потом подсчитывал прибыль. То есть не прибыль, конечно, а отсутствие убытка, который был бы, если б он покупал продукты по дурацким завышенным ценам.
Так он тешился и радовался, но неожиданно, за неделю до истечения месячного срока, деньги кончились.
Это опечалило, но Санжаров в своей печали был бодр, спорт научил его, что слабого ошибки делают еще слабее, а сильного учат и закаляют!
Дожив до следующей пенсии на остатки сбережений, Санжаров начал покупать еще вдумчивее, обходя окрестные магазины и рынки, выгадывая иногда всего лишь полтинник, но, сами понимаете, полтинник к полтиннику, рубль к рублю, а в итоге что? В итоге он уложился тютелька в тютельку.
И его стал разбирать азарт: а что, если добиться того, чтобы не только уложиться, но и сэкономить? И отложить денежку на, так сказать, черный день?
Он попробовал.
С поисками самых дешевых продуктов, при этом, естественно, не гнилых и не просроченных, у него все получилось хорошо, но мешал аппетит. Он почему-то вдруг разыгрался не на шутку. А голодать Санжаров не собирался: это подорвало бы чистоту эксперимента.
Он стал анализировать ситуацию, как делал это, будучи тренером и доискиваясь причин очередных неуспехов его воспитанников. И осенило: ведь он же целыми днями ходит, он тратит энергию! Что получается, вы смотрите: он идет лишний километр туда, где такой-то продукт стоит на рубль дешевле, но зато аппетита нахаживает аж на три рубля! Два рубля в минусе!
Санжаров изменил тактику, выбрал недорогой магазин неподалеку и ходил только туда да еще на рынок, где цены на некоторые продукты были вне конкуренции. Дома тоже не тратил лишней энергии, хотя зарядку, конечно, делал, это святое.
И с радостью отметил, что аппетит уменьшился.
В очередной раз читая книжку «Здоровое питание», наткнулся на высказывание диетолога, профессора медицины: «После пятидесяти лет еда должна быть невкусной».
А ведь и правда, подумал Санжаров. Все это соленое, сладкое и кислое только дразнит желудок, побуждая человека набивать свой организм пищевым мусором!
И он почти отказался от соли, от сладкого и кислого, в том числе от консервов, которыми и раньше не злоупотреблял.
Результат очередного месяца его порадовал: он сэкономил 457 рублей!
Положил их в деревянную шкатулку – подарок от коллег в честь его шестидесятилетия, и туда же сунул листок, на котором было записано: «Март – 457».
Появившаяся цель его вдохновила, он почувствовал себя здоровее, свежее, бодрее и словно моложе. Поэтому решил отказаться от половины лекарств, за счет чего следующая запись получилась намного интересней предыдущей: «Апрель – 1240»!
Опуская подробности, дадим сухие цифры, как это и принято в спортивном мире, откуда родом Санжаров.
«Май – 1483».
«Июнь – 1796».
«Июль – 1930».
«Август – 2040».
«Сентябрь – 1700».
Что это? – с тревогой спросите вы. Что произошло в сентябре? Откуда это снижение, эта цифра, над которой и сам Санжаров горевал несколько дней?
Все просто – у него разболелся зуб. Так разболелся, что он не выдержал и пошел его лечить. В поликлинике обрадовали, сказали, что ему положено даром, но ждать неделю.
– А если с острой болью?
– Это как раз с острой болью, а без боли ждать не меньше месяца.
И Санжаров вынужден был обратиться в частную клинику, что обошлось ему в 800 рублей. И как он ни экономил, восполнить недостачу не сумел. Зато отыгрался в следующем месяце.
«Октябрь – 2401».
«Ноябрь – 2520».
«Декабрь – 3000 рублей!»
Именно так, с восклицательным знаком записал Санжаров свое красивое достижение, которое стало ему лучшим подарком к Новому году.
Но дальше дело пошло туго. Как он ни старался, рекорд улучшался черепашьими темпами.
«Январь – 3025».
«Февраль – 3047».
«Март – 3074».
А рядом надпись: «2617».
Именно настолько увеличилась ежемесячная экономия по сравнению с мартом прошлого года, когда началась его эпопея. Две с половиной тысячи с хвостиком, это вам не шуточки!
Однако потом прибавление пошло совсем медленно – по десять, по пять рублей и вовсе по рублю. Видимо, ресурсы экономии уже исчерпали себя. Скрепя сердце, Санжаров перестал заниматься зарядкой, окончательно лишая себя аппетита, но и это дало только двадцать рублей прибыли.
Останавливаться на достигнутом очень не хотелось.
Обратившись к книге «Здоровое питание», Санжаров проштудировал раздел, где говорилось, как, отказавшись от мяса, рыбы и молокопродуктов в пользу более дешевых товаров не животного происхождения, не допустить дефицита жиров, белка, аминокислот и прочих необходимых микроэлементов.
И стал покупать фасоль, сою, горох (лучше, конечно, бобы, но они почему-то попадались только консервированные).
Дело пошло веселее:
«Апрель – 3439»
«Март – 3670»
«Апрель – 3998».
И опять застопорилось.
Санжаров оптимально минимизировал все, что мог. Но прибавки были почти неощутимыми: рубль, два, опять рубль – словно для проформы, словно Санжаров сам себя утешал и обманывал, гордость его этим была уязвлена.
Он не знал, что еще предпринять, а книга «Здоровое питание» не давала ответа.
Ответ дала жизнь.
Проходя однажды мимо мусорных баков, где рылись бомжи, Санжаров услышал:
– Глянь, курица прямо целая и не воняет!
Бомж обращался к своему коллеге, но и Санжаров заинтересовался, оглянулся.
Увидел, как лохматый мужчина в рваной кожаной куртке с меховым воротником показывает курицу в целлофановой упаковке.
– Брось, – сказал ему приятель. – Возиться с ней. У меня колбасы полно.
И бомж бросил. А Санжаров отошел, дождался за деревьями, когда бомжи уйдут, подошел к мусорным бакам, огляделся, не наблюдает ли кто, и выхватил курицу. Тут же, в мусоре, нашел чистый пластиковый пакет, обернул курицу, принес домой, вымачивал в слабом растворе марганцовки, потом долго тушил. Съел кусочек, пару часов выжидал – не будет ли чего. Ничего не случилось, и он съел целую ножку.
И пребывал после этого в превосходном состоянии духа и тела: ведь курица в магазине стоит от 130 рублей и выше! А тушка килограмма на два тянет, значит, одним махом – 260 рублей в копилку!
А что из мусорного бака, то всем известно, насколько зажрались москвичи. Санжаров, выбрасывая мусор, и до этого не раз видел целые батоны хлеба, только с края тронутые немного плесенью (а иногда и не тронутые, просто черствые – что даже полезно на самом-то деле!), и колбасу, и салаты в пластиковых контейнерах, даже не распакованные, но прежде стереотип мышления не позволял ему увидеть в них возможную пользу. А теперь стало все до удивления очевидно.
Санжаров был возбужден открытием, ворочался, не мог заснуть. Начал себя мысленно успокаивать, вспомнив приемы аутотренинга, которые знал, но, к сожалению, редко использовал. Ведь так и разболеться недолго, а больному человеку больше нужно!
Утром он проснулся рано, по будильнику, все в душе подрагивало, как раньше перед соревнованием, все рвалось вперед, звало к действию.
Санжаров спустился к мусорным бакам, надев старый плащ и старую мятую кепку. Не было никого – ни дворников, ни бомжей. И мусороуборочные машины еще не приезжали. Поэтому за какие-то десять минут Санжаров набрал столько, что еле донес.
Дома рассортировал, кое-что все-таки не решился использовать, выкинул, остальное промыл, обработал марганцовкой, обрезал.
И настал день, когда он торжественно записал в тетради, сменившей убогий листок (найдена была в мусоре, новехонькая):
«Выделено на питание – 7050 рублей. Сэкономлено – 7050 рублей!»
Заметим, что за время, о котором мы ведем рассказ, пенсию Санжарову дважды повышали, но росли и цены на коммунальные услуги и все остальное, поэтому сумма, выделенная на продукты, оставалась неизменной.
Санжаров ликовал.
Весь вечер он был в таком состоянии, словно выпил шампанского.
Он открывал шкатулку, считал деньги, любовался записями своих рекордов, закрывал, ходил по комнате небольшими шагами, не тратя лишних сил, опять открывал шкатулку…
И вдруг его обдало холодом – а что дальше?
Ведь экономить можно только то, что есть. Из 7050 рублей не выкроишь 8000! И даже 7051 не выкроишь. Значит – все кончилось? Зачем тогда жить, если все потеряло смысл?
Он вслух замычал от душевного страдания. Закружилась голова, чего давно уже не бывало.
Он лег, закрыл глаза, представил золотистый песок и лазурные волны, как это и нужно делать при аутотренинге. Опомнись, попутно уговаривал он себя, ведь так можно заполучить сердечный приступ или инсульт и скоропостижно умереть, не выполнив задачи!
А в чем задача?
В том, чтобы оптимально использовать все ресурсы.
Но они ведь есть! – озарило Санжарова. Есть же коммунальные деньги! Надо разумнее пользоваться горячей и холодной водой, электричеством, не смотреть телевизор, и опять пойдет экономия!
Так он и сделал.
И экономия пошла, все большие суммы укладывались в шкатулку, в «копилку рекордов», если употреблять олимпийское выражение, естественно подходящее Санжарову, бывшему спортсмену.
Он научился обходиться почти без электричества, оставив включенным только холодильник – понятно, почему. Воду использовал рационально: затыкал пробкой дыру в раковине, сначала умывал лицо, потом чистил, используя эту воду, зубы, потом брился и смывал пену и только после этого пускал тонкую струйку чистой воды, чтобы отмыть остатки пасты и пены. Заметим, что все предметы и средства гигиены, о которых ранее не упоминалось, но которые, конечно, у Санжарова были, приобретались им по минимальным ценам и использовались очень аккуратно. Он перестал принимать душ, вместо этого обтирался влажным полотенцем, вспомнив, что когда-то читал книгу о Мао Цзэдуне, который именно так и делал. Не самый глупый человек был, хоть и тиран.
И однако опять настал момент, когда рекорды достигли предела.
Но ищущий ум Санжарова и тут выручил.
А с какой стати, подумал он, я вообще должен платить за воду, за свет, за все остальное? Я государству отдал свою жизнь без остатка, а что оно дало мне взамен? Конечно, коммунальщики начнут звонить, письма слать, грозить судом. Пусть грозят. Что они вообще могут сделать? Выселить? Хотел бы я посмотреть, как выселяют заслуженного мастера спорта! Да я все телевидение, все газеты созову!
И он перестал платить.
И наступил день окончательного торжества.
Появилась запись:
«Получено 13879 рублей. Сэкономлено 13879 рублей».
Санжаров целый час смотрел на страницу с этой записью, испытывая чувства неописуемые, почти сладострастные, ему даже слегка было совестно. Эта вот совестливость, подумал он, возможно, и мешала мне занимать первые места, стать лучшим. Я, сам того не осознавая, жалел своих соперников, поэтому и давал им победить, умея радоваться чужой победе.
Но зато теперь я – лучший! Да, граждане, товарищи и господа, лучший! Только не говорите, что бомжи и нищие живут, тоже не тратя своих денег, у них этих денег нет. А у меня есть! Кто еще, получая деньги, сумеет не тратить ни копейки? Кто, ау? Молчит телевизор, не пишут газеты, нет таких! Только я!
И он почувствовал себя на невидимом пьедестале, и гимн Советского Союза зазвучал в его голове, и красавица в короткой синей юбочке с длинными загорелыми ногами, в красных кроссовках с белыми носочками подошла к нему, чтобы повесить на его грудь золотую медаль.
– Нагнитесь, пожалуйста, – попросила она.
Санжаров великодушно нагнулся – и упал.
Через пять дней соседи, обеспокоенные неприятным запахом, позвонили в полицию.
Приехала полиция, потом «скорая помощь», примчался участковый, позвали понятых, взломали дверь.
Кого-то сразу стошнило.
Зажимая нос и рот ладонью, участковый кинулся к окнам, открыл их.
Началась обычная процедура: осмотр тела, протокол, опрос соседей.
Участковый заглянул на кухню, открыл холодильник и тут же захлопнул, бросился на балкон, стоял там, широко открывая рот и глотая воздух.
Как и положено, у Санжарова, человека одинокого, провели обыск.
Не нашли ничего особенного, только шкатулку с тетрадью, где были какие-то непонятные подсчеты. И деньги там лежали толстой стопкой. 70 625 рублей.
– Негусто, – сказал кто-то.
– Для пенсионера-то? – возразили ему.
– А вы вспомните старушку в Сокольниках!
И все вспомнили девяностодвухлетнюю старушку в Сокольниках, обнаруженную мертвой пару недель назад. Она лежала на полу, вокруг множество опустошенных банок с кошачьим кормом, бродили пять отощавших кошек, а за книгами в шкафу нашли большой конверт, в котором была весомая пачка – восемьдесят девять тысяч долларов, накопленные старушкой неизвестным образом.
Кто-то еще пошутил тогда, что чуть-чуть бабушка не дотянула до девяносто двух, то есть до цифры собственного возраста.
– Может, она этого и хотела? – предположил он.
На этот вопрос никто ответить не смог.
Мечты
1
Игорь подходит к дому. У подъезда стоит огромный черный джип, сверкающий лаком и стеклами. Он почти уперся в дверь – лестницы нет, дверь на уровне земли. Приходится протискиваться между тушей машины и бетонной стеной-опорой подъездного козырька. Машина одна, без владельца, поэтому кажется при всей своей массивности уязвимой, словно крепко заснувшее животное. Но при этом все же опасной, таящей угрозу. Вот проснется – и убьет.
Игорь спотыкается о булыжник. Этим булыжником подпирают дверь, чтобы она не захлопывалась, когда выносят или вносят вещи и строительные материалы: в доме постоянно переезды, ремонты, смена мебели. Народ обогащается и обустраивается.
Игорь смотрит на булыжник. Овальной формы, гладкий, так и просится в руку. Игорь нагибается, поднимает его. Оглядывается. Никого. Камеры наблюдения у подъезда нет, Игорь это знает от матери, работницы технического подразделения, обслуживающего дома их района.
Игорь не раз видел человека, который приезжает на этом джипе. Толстый, с брюзгливым выражением лица – будто недоволен, что приходится ездить в эту многоэтажную глушь. Он посещает какую-то женщину. Костюм, галстук, одеколон. Какую-то красивую женщину, любящую не толстяка, а его деньги.
Так и отец Игоря несколько лет ездил к любовнице на другой конец Москвы, пока мать не раскрыла его. И попросила немедленно уйти из дома. Что он и сделал. Некоторое время не показывался на глаза, потом навестил сына. И еще пару раз навещал. Мать не препятствовала.
А недавно у него было пятидесятилетие, он собрал в дорогом ресторане большую компанию, пригласил и мать, и Игоря, и они решили пойти: почему нет, жизнь продолжается. Там Игорь услышал, как отец радостно сообщал кому-то по телефону:
– Здесь все абсолютно, а тебя нет, обидно, абсолютно все пришли, даже старая моя семья пришла, а тебя нет!
Вот как мы называемся, подумал тогда Игорь. Старая семья. Мама, которой всего сорок два года, – старая. И он, которому девятнадцать, – старый.
Вроде бы мелочь, но после этого он перестал встречаться с отцом. Не принимал от него денег. Мать деньги брала, он не одобрял, но на эту тему с ней не разговаривал.
Игорь вспоминает это мельком, секунду или две – не события, а собственные воспоминания, поэтому и быстро.
А потом размахивается и изо всей силы ударяет булыжником по стеклу. В нем образуется дырка, вокруг нее – густая сетка трещин. Наверное, так бывает, если стекло пробьет пуля. Машина воет сигнализацией, Игорь бьет еще раз и еще, разбивая стекло окончательно. После этого сует булыжник в карман куртки (отпечатки пальцев!) и входит в подъезд. Он спокоен и нетороплив. Если что, он ни при чем. Бежали какие-то мальчишки, чем-то кинули.
Он дожидается лифта, едет, выходит не на своем этаже, а выше. Идет к мусоропроводу, тщательно обтирает камень полой куртки и бросает в мусоропровод.
Идет домой.
Выходит на балкон.
Смотрит вниз.
Толстый мужчина бегает около машины и что-то кричит в телефон. Шарит глазами по округе. Поднимает глаза. О чем-то спрашивает Игоря. Игорь приставляет ладонь к уху.
– Ты никого не видел? – кричит мужчина.
Мы с тобой не знакомы, хам, нечего мне тыкать, мысленно отвечает Игорь и отрицательно качает головой.
И уходит. Ему уже неинтересно.
Рано утром он, выгуливая своего спаниеля Чекса, который еле ковыляет старыми и больными лапами, смотрит на машины, заполонившие двор, и думает: стало невозможно нормально ходить, негде бегать детям, вонь, грязь, шум. Машина толстого хама получила по заслугам, но и эти достойны того же. Даже странно, что их не уничтожают. Это ведь легко. Например, сжечь. Всего-навсего купить бутылку очистителя или растворителя, сунуть в нее фитиль, бросить ночью под машину, под бензобак, и все. Взрыв, огонь, машины нет. И никто никогда не найдет виновника.
Эта мысль не дает Игорю покоя. Днем он едет в хозяйственный магазин – в другой район, там покупает бутылку растворителя и резиновые перчатки.
Нетерпеливо ждет вечера.
С наступлением темноты выходит из дома.
За плечами у него небольшой рюкзак, вид слегка озабоченного подрабатывающего студента.
Едет в метро, выходит на предпоследней станции своей ветки.
Углубляется в микрорайон.
Выбор велик, машин, как и везде – море.
Вот глухое место между старыми гаражами, куда затесалась машина, наивно чувствуя себя в безопасности. На самом деле самое опасное место: машину не видно из окон.
Игорь надевает перчатки, вытаскивает пакет с бутылкой. Открывает пробку, обмакивает в растворитель шнур, сует в бутылку, поджигает, ставит под машину. Ждет. Огонь подбирается к горлышку. Бутылка вспыхивает.
Игорь уходит.
На другой день ищет в интернете информацию о поджоге машины.
Ничего нет.
Вечером все повторяет – в другом районе.
Потом еще раз и еще.
Появляются сообщения с заголовками: «Массовые поджоги автомобилей». Все строят догадки, но, естественно, неправдоподобные.
А потом поджоги учащаются, причем в тех районах, где Игорь никогда не бывал.
Он догадывается: кто-то подхватил его инициативу. Это его радует.
Игорь перестает отлучаться по вечерам, чтобы мать ничего не заподозрила, да этого уже и не нужно: поджоги машин охватили всю Москву, а Игорь, гордясь этим, чувствует себя идейным вдохновителем.
Автовладельцы организуют охрану и патрули, это не помогает. Из кустов, из проезжающих машин, с балконов многоэтажек летят в автостоянки бутылки с зажигательной семью, и уже не только бутылки, а настоящие взрывные устройства.
А потом кто-то начинает поджигать подмосковные богатые особняки и квартиры в центре, стоящие миллионы долларов.
И вот уже новостная лента вьется в истерике: поджоги в Петербурге, в Новосибирске, в Саратове – везде, по всей стране!
Какие-то умельцы мастерят ракеты, которыми начинают обстреливать Кремль. Горят его здания и башни, полыхает храм Василия Блаженного…
Нет, думает Игорь, глядя на камень, лежащий под ногами – овальный булыжник, который так и просится в руку. Нет, храм Василия Блаженного жалко. Пусть останется, решает он. Но остальное сжечь.
И протискивается к двери подъезда.
2
Игорь едет в метро. Неподалеку стоит очень красивая девушка. Черные волосы, красный берет. Глаза сине-зеленого цвета, какие-то инопланетные.
Девушка тоже пару раз глянула на Игоря.
И вдруг ему становится так жарко, будто попал из московской холодной осени в турецкую жару (в детстве летал в Турцию с родителями, запомнил, как охватило душной влагой, едва вышел из самолета).
Игорь понимает, что такого с ним никогда не было, что это любовь с первого взгляда. Ему нужна эта девушка. Только она, и больше никто на свете.
А двери уже открылись. «Отрадное». Девушка выходит, а ему ехать до станции «Алтуфьево».
Никакого Алтуфьева.
Игорь продирается сквозь входящих в вагон, не обращая внимания на толчки и ругательства.
Он шарит глазами, видит ее берет, бежит.
Она уже на эскалаторе.
Люди стоят в два ряда, час пик, не протолкнешься.
Игорь не спускает глаз с берета.
Он мечется в переходе – берета нигде не видно. Здесь два выхода наверх – к Северному Бульвару и улице Декабристов. Куда бежать?
Он бежит к Декабристом.
Наверху дома, дома, дома… Девушки с инопланетными глазами нигде не видно.
Я упустил свою судьбу, горюет Игорь.
Нет, тут же отвечает он себе, не упустил. Я найду ее.
Это вполне реально: скорее всего, она здесь живет. Время, когда он ее встретил, было вечернее, когда обычно возвращаются с работы или учебы.
Надо просто стоять в метро у эскалаторов, как стоят заботливые и тревожные отцы и мужья, встречая дочерей и жен.
Игорь со следующего дня заступил на дежурство.
Каждый вечер с шести и до закрытия он стоял там.
Он не мог ее пропустить.
Куда же она делась?
Или все-таки она живет не здесь?
Но зато ездит по этой ветке.
Игорь начинает курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. Встречаются девушки и в беретах, и с сине-зелеными глазами, и просто очень красивые девушки, но все не то. Ему нужна только эта девушка.
Через неделю ему приходит в голову мысль: на самом деле такие инопланетные девушки в метро попадаются не так часто. Почему? Потому, что они ездят на машинах. Она оказалась в метро случайно: машина сломалась или еще что-то.
Значит, надо изменить алгоритм поиска.
Игорь устраивается курьером в интернет-магазин, оговорив, что доставлять будет только в район возле метро «Отрадное». Район обширный, работы хватит.
И ее действительно оказалось много, в день Игорь обходит десять-пятнадцать квартир. Он уверен, что рано или поздно дверь откроет инопланетная девушка.
Он расспрашивает о ней, описывая волосы, берет и глаза, говоря, что девушка обронила бумажник, он поднял, но не успел ее догнать, она живет где-то в этом районе.
О том, что от метро ходят маршрутки и автобусы в другие районы, о том, что девушка могла приехать сюда в первый и последний раз по какому-то делу, в какой-то магазин, он не хочет даже думать.
Ищет и в интернете: кропотливо обрабатывает в фотошопе фотографии разных сетевых красавиц. Комбинируя и составляя что-то вроде фоторобота, он получает очень похожий потрет. Размещает в социальных сетях, просит откликнуться. Откликаются разные другие. Некоторые посмеиваются. Некоторые издеваются. Игорю на это наплевать.
Так проходит год.
Опять осень.
Он звонит в квартиру, никто не отвечает.
Странно, восемь вечера, сказали, что в восемь вечера будут дома.
– Извините, я здесь, я выходила ненадолго, – слышит он голос.
Игорь оборачивается и видит девушку с инопланетными глазами. На этот раз она без берета.
Девушка улыбается – как-то очень странно, загадочно. А потом говорит:
– Наконец-то ты меня нашел!
Все это Игорь успевает сочинить в тот момент, когда открываются двери на станции «Отрадное» и девушка в берете выходит. Спохватившись, он бросается к выходу, но поздно: двери закрылись, голос механически объявляет: «Следующая станция “Бибирево”».
Ладно, думает Игорь, не последняя девушка в моей жизни.
3
Так он мечтает каждый день, когда едет на учебу и возвращается домой.
То наказывает гостей Москвы, ведущих себя слишком шумно, его ранят ножом, он попадает в больницу, в него влюбляется медсестра.
То вдруг решает изобразить слепого, вешает табличку на грудь: «Потерял зрение, глядя в телевизор», все смеются, оценивая его юмор, хлопают его по плечам и щедро кидают деньги в пакет, после первого дня он с удивлением обнаруживает, что набралось восемь тысяч, через год шутливой работы покупает подержанный автомобиль.
А то представляет, что в метро крушение и он единственный не теряет рассудка, выводит всех через огонь, обломки и дым, делает искусственное дыхание девушке, которая, открыв глаза, благодарно улыбается и…
4
Он перестает мечтать. Он начинает усиленно учиться. Устраивается в мощную корпорацию рядовым сотрудником, но так проявляет себя, что его делают руководителем подразделения. Он отправляется в командировку в составе большой команды босса, у босса пресс-конференция, ему задают коварный вопрос, босс в затруднении, команда растеряна, а Игорь, сидя за спиной босса в третьем ряду, негромко дает подсказку.
Босс уверенно отвечает, а потом жмет руку Игорю и говорит:
– Когда станешь президентом, не забудь обо мне.
Такая у них в корпорации шутка – ибо из нее многие переходят в правительственные структуры, идут в политику, занимают высокие должности в Думе.
Игорю выпадает именно этот путь. Он энергичен, полон идей и при этом, что самое важное, честен.
Это кажется невероятным, но кто бы поверил, если бы и о нынешнем президенте тридцать лет назад сказали, что он будет главой государства?
Игорь одержал победу в президентских выборах 2034-го года.
Мама гордилась им, отец, поздравляя по телефону, рыдал – возможно, впервые в жизни.
Но потом началась работа, рутина, повседневные хлопоты, и почему-то все чаще накатывала беспричинная печаль.
Однажды, пролетая на вертоплане над районом «Отрадное», Игорь посмотрел вниз, вспомнил свои чудачества, усмехнулся и вдруг подумал: дурак я, дурак, надо было мне выйти за этой инопланетной девушкой, признаться ей в любви, упорством, нежностью и умом добиться взаимности, жениться на ней, родить детей и воспитать их – и сидеть бы сейчас за вечерним чаем, глядя в глаза любимой женщины! Что еще нужно человеку для счастья? – да ничего!
5
«Станция “Отрадное!”» – раздался голос.
Девушка в красном берете, пробираясь к двери, оглянулась на высокого юношу с густыми вьющимися волосами и очень большими глазами – такими, как у красавца на обложке книги «Овод», любимой книги бабушки, которую она перечитывает чуть ли ни каждый месяц.
Ведь всю дорогу на меня пялился, подумала она, взял бы да и вышел сейчас, догнал бы, познакомились бы.
«Осторожно, двери закрываются!» – услышала она, выйдя на перрон и, даже не оглядываясь, знала: нет, не вышел.
6
Какого черта я делаю здесь? – думает Игорь, глядя на заставленный машинами двор из окна кухни, находясь в одной из квартир четвертого этажа дома № 20 корпус 2 по улице Декабристов. Как я оказался рядом с этой рыхлой сорокалетней теткой, чужой для меня и душой и телом? Почему этот восемнадцатилетний дебил с лицом ленивого самоубийцы – мой сын? Почему эта хитренькая девочка-лисичка, умеющая только вытаскивать у папы деньги, чтобы обвешивать тряпочками свое тощее тельце, моя дочь? Что у нас общего? А все началось с красивой глупости: выскочил из вагона за приглянувшейся девушкой, ляпнул что-то, она рассмеялась – и… И все, остальное пошло по инерции. Три комнаты, двое детей, жена, безденежье… А мог бы стать кем угодно, если бы не торопился, – хоть президентом! С моими-то способностями!
– Кушать не хочешь еще? – спрашивает жена.
– Еще как хочу, – улыбается он, обнимая ее за гибкую талию и прижимая к себе.
– Опять тискаетесь? – входит сын, ироничный, как всегда, но при этом добрый, славный парень.
– Кто тискается? – со смехом влетает дочь. – Третьего ребенка хотите, да? А нас спросили?
Игорь и жена переглядываются: они знают, что этот вопрос уже решен.
7
…
8
…
Хроника. Июнь
Не до журнала. Не до новостей. Не до дневника. Работы много.
Из третьих рук узнал, что студия «NNN» без моего ведома переделала, наняв кого-то, мой двухсерийный сценарий. На 4 серии. Это выгоднее. Я попросил прислать текст. С неохотой через 2 недели прислали.
Образец стиля:
«ЖАННА. Почему ты не возвращаешься домой, какая тебе здесь выгода?
ИВАН. Как ты не можешь понять, что я не могу бросить этих людей, не могу предать их! А главное, я не могу предать себя! Я нашел главное в жизни, с чем уже не хочу расстаться: чувство собственного достоинства!»
П-ц.
Попросил убрать мое имя из титров.
Это уже третий такой случай – снятие имени. На самом деле могло быть больше.
Хроника. Июль
Из новостей
* * *
3 июля – в Египте произошел государственный переворот, президент Мухаммед Мурси арестован. Исполнять обязанности президента стал председатель Верховного суда Адли Мансур.
(Чтоб все были живы. Боюсь, потерян для меня любимый мой Шарм-Эль-Шейх, кораллы и рыбки. Часами глядеть на них, повиснув в невесомости воды. Красивые безмозглые существа, но тем и притягивают: ты их никогда не сможешь понять, они не завиляют хвостиком, как собачка, для них тебя вообще нет, если ты не шевелишься. И мне это пропадание нравится – через час-другой я и сам забываю о себе. Может, нирвана это как раз что-то такое? Не счастье и радость, а блаженное ничто, растворение в мире. И рыбы, и кораллы могут считать тебя ровней себе.)
* * *
7 – 13 июля – массовые беспорядки в Пугачеве (Саратовская область) на почве убийства выходцами из Чечни Руслана Маржанова.
(Уже назвали «пугачевским бунтом». А я помню этот город зеленым, пыльным, знойным, милым, мирным… Местные нам, студентам, там чуть по морде не надавали, но обошлось.)
* * *
22 июля – Польша перешла на цифровое телевещание.
(Почему я так радуюсь, когда в Польше что-то хорошее? Странное чувство личной исторической вины? Возможно. И любовь к Мицкевичу, Лему, Лецу, Мрожеку, Ружевичу. А еще Вайда, Занусси, любимый Кеслёвский… А еще была семейная легенда, что наш род вышел из Польши. Оказалось – нет. Оказалось, фамилия произошла от слова «ослоп». Если об оружии – простейшая и сокрушительная дубинища размером с оглоблю. Если о человеке, Даль пишет: «Жердяй, долгай, неуклюжий и рослый невежа, глупый человек, болван, осел, повеса».)
Из журнала
* * *
Если вы замечаете, что книги исторические, документальные и биографические вы читаете чаще, чем художественные, значит, вы стареете. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Два полюса: детям нравятся сказки и выдумки, старикам – были (и послушать, и рассказать). Дети любят то, что невероятно, но может быть, это будит их фантазии о возможной будущей жизни, старики – то, что было и прошло, это их утешает.
Профессиональных с детства историков не касается.
* * *
Я люблю физкультуру, а не спорт, но все же иногда болельщик. И вот думаю: а почему СМИ наши так мало пишут про Универсиаду? Заглянул на страницу результатов и все понял. 102 золотые медали. У японцев, которые на втором месте, – 19. У китайцев – 16, у США – 7. Видимо, у нас все олимпийцы срочно стали студентами. И победы ни в чем не повинных спортсменов обернулись таким очевидным массовым позорищем, что даже СМИ стесняются писать.
Система лихорадочно ищет возможности создать видимость достижений – любыми способами, ничем не брезгуя. Сколько еще может длиться эта агония? Причем агония у них, а мучаются другие.
* * *
Съезд народного фронта. То, что я написал, веселясь, в книге «Народный фронт»[7], никнет и бледнеет.
Господин Говорухин вышел на трибуну и предложил избрать Путина лидером НФ. Не сделав паузы, заявил: «Я думаю, все согласны, голосовать не будем?».
В ответ послышалось скандирование «Пу-тин!», «Пу-тин!» – и обошлись без голосования.
Такое ощущение, что они просто куражатся.
Кстати, теперь это называется «Народный фронт за Россию».
Ощущение (конечно, обманчивое), что читали-таки мою книжку, где задавался вопрос: против кого фронт-то?
Ответили названием. Не против он. За.
Велик и лукав русский административный язык.
Из дневника
* * *
Бросив всё, за пять дней, не вставая и почти не спя, написал сценарий под названием «Сценарий». Выговорился. Это даже, наверное, повесть.
И опять на галеры – сериал.
* * *
Взял да и послал в «Знамя» сценарий.
* * *
Опять Саратов. Все то же.
* * *
«Сценарий» в «Знамени» быстро прочли (короткий же) – и приняли!
* * *
А Е. Шубина взяла рассказ для сборника «Всё о моем доме». «Те, что до нас». Когда написал, даже не помню. Ощущение – в бессознательном состоянии. Или во сне. Хочется ночью проснуться и посмотреть: не сижу ли я там за столом втихомолку?
* * *
Для Пускепалиса и театра Безрукова делаю инсценировку «Первого второго пришествия»[8]. Написал текст, отличный от книги, сценария и двух первых вариантов пьесы. Ощущение, что только сейчас овладел формой, ясное понимание, что, зачем, для чего и как.
* * *
Трудный разговор по сериалу. Отстаивал свой вариант финала. Не отстоял. Да и какие могут быть диспуты, если в любом типовом договоре записано: «Автор не будет считать требования Продюсера по внесению в Сценарий изменений, которые тот сочтет необходимыми, нарушением своего права на свободу творчества». Дословно. Это все равно, что судья в приговоре огласит: «Подсудимый не будет считать помещение в тюрьму лишением свободы».
Самое умное – профессионально халтурить.
Или рвать жилы и так написать, чтобы и продюсера пробило. Ибо он иногда тоже человек.
* * *
Впереди видится книга. Не «Дом на углу», как предполагалось. Это формально. Название по рассказу. Возможно, «Идея».
Не надо ничего говорить
Туфьев пришел к Оле с задумчивым лицом.
Олю это насторожило, но она промолчала. Надеялась – обойдется.
Не обошлось: выпив, как всегда, крепкого кофе без сахара, Туфьев сказал:
– Послушай…
– Не надо! – жалобно попросила Оля.
– Чего не надо?
– Не надо ничего говорить! Разве нам без этого плохо?
– Нам хорошо, – согласился Туфьев. – Но ты даже не знаешь, что я хотел сказать.
– Меньше знаешь – лучше спишь, – вспомнила Оля любимую поговорку отца.
– Ты боишься жизни? – мужественно догадался Туфьев.
«К чему он клонит?» – подумала Оля и ответила:
– Нет. Просто сохраняю свой внутренний позитив.
– А вдруг я хотел тебе предложение сделать? Тоже не говорить?
Оля чуть не заплакала. Если бы предложение, пусть бы так сразу и сказал. А теперь неизвестно. Скажешь ему: ладно, говори, а он вместо предложения что-то такое скажет, что всю жизнь будешь жалеть. Он ведь человек непредсказуемый. И странный – кофе пьет без сахара. Это невкусно, но Туфьев последователен: он практически не употребляет сахара и соли, остерегается острого и пряного, чурается алкоголя, бережет здоровье. Конечно, оно неплохо, но если человек так мучает себя, можно представить, как он способен мучить других!
И Оля сказала:
– Не говори.
– Ого. То есть вообще ничего не говорить?
– Нет, вообще можно. А то, что собирался, этого не надо.
– Да откуда ты знаешь, что я собирался сказать?! – вскипел Туфьев.
– Пожалуйста, не кричи на меня.
– Я не кричу, а просто голос повысил, потому что чушь какая-то!
– Какая чушь? В чем?
– В твоем поведении.
– А что я такого сделала? – удивилась Оля.
– Да ничего!
– Нет, что?
– Ничего!
– Нет, я серьезно?
Оля не любила, когда Туфьев обижался. Он мог обижаться долго, а Оля терпеть не могла того, что долго длится. Поэтому она вздохнула и сказала:
– Ладно, говори.
– Нет уж, спасибо, наговорился! – Туфьев встал и отвернулся к окну, сунув руки в карманы. – Так наговорился, аж голова болит! Какой полет мысли, какая полемика!
– Ты хочешь о чем-то поспорить? – обнадежилась Оля. – Ей иногда нравилось спорить с Туфьевым на отвлеченные темы, то есть темы, не касающиеся их отношений.
– А о чем спорить? – разочарованно спросил Туфьев. – Ладно, извини, я сегодня не в настроении. Не будем усугублять. Я пойду, ладно?
– Это я тебе испортила настроение?
– Нет. Ветром надуло.
– Ты можешь сказать все, что хочешь.
– Зачем? Кому это надо?
– Мне.
– Не смеши. Все, пока.
И Туфьев ушел.
С одной стороны, все получилось как-то не очень, с другой, Оля успокоилась. Неправду говорят, будто неизвестность страшна. Неизвестность – то, чего нет, а вот ясность может оказаться намного хуже того, что ты мог предположить.
На ночь она по привычке просмотрела новости в интернете. Как обычно: там гражданская война, там теракт с человеческими жертвами, этот проворовался, а того избирают на четвертый срок. Полная тоска и безнадежность. А у нее пока все хорошо. Ну, или не вполне хорошо, но более-менее.
Тридцать первое октября
две тысячи тринадцатого года
Понятой
Кориков возвращался домой после ночной смены – он работал инженером-диспетчером теплосетей.
Лифт не работал, пришлось подниматься пешком.
Ничего, это даже хорошо для здоровья, подумал Кориков. Особенно когда всю ночь сидишь.
На площадке четвертого этажа стояли два человека в полицейской форме и курили. Рядом с ними жалась к стене женщина с испуганным сонным лицом. Кажется, она здесь живет.
Занятная сценка, подумал Кориков. Что бы она значила?
И еще мысленно осудил полицейских: сами запрещают курение в общественных местах, а сами дымят где попало. И это у них во всем: инспекторы дорожного движения ездят по осевым, игнорируя знаки и правила, борцы со взятками то и дело сами попадаются на взятках, чего же тогда от простых граждан требовать?
– Здравствуйте! – сказал один из полицейских, выше ростом и званием – он был капитан. А второй был младший лейтенант, с одной звездочкой.
– Здравствуйте, – ответил Кориков.
– Не поможете?
– Это чем?
– Ну… Поприсутствовать надо.
– При чем?
– Да ничего страшного, – успокоил младший лейтенант. – Просто – по-соседски.
– По-соседски – в семь утра? – усмехнулся Кориков. – Извините, в другой раз.
Известны ему эти штуки, не зря он тридцать восемь лет прожил в этой стране. Вляпаешься там, где и не ожидаешь, а уж где ожидаешь, туда лучше вообще не лезть.
И он пошел дальше, читая разговор исчерпанным.
– Минутку! – окликнул капитан. – А вы вообще здесь живете?
– Здесь, здесь.
– Вы его знаете? – обратился капитан к женщине.
Та замялась, не могла сообразить, как правильно ответить.
– Видела вроде…
– Видели или вроде?
Сомнения женщины показались капитану достаточным основанием к дальнейшим решительным действиям.
– Документы, пожалуйста, покажем! – сказал он Корикову.
– С какой стати?
– С такой, что имеем право проверить.
Кориков знал, что такого права у полицейских нет. Только в каких-то особых случаях. Но черт их знает, что у них сейчас за случай.
Он достал и подал капитану свое служебное удостоверение с карточкой-пропуском.
– А паспорт?
Кориков подумал, достал и паспорт. В конце концов, что в этом такого? Посмотрят – отдадут.
Но капитан, посмотрев, не отдал, а сказал:
– Ну вот и славно.
И кивнул лейтенанту:
– Звони.
– Э, э, погодите! – возмутился было Кориков, но капитан приложил палец к губам.
Лейтенант позвонил раз, другой. В двери высветлился глазок, сонный женский голос просил:
– Кто?
– Полиция, к гражданину Бакаеву! – крикнул капитан громко, но без угрозы. – Мы в законном порядке, беспокоиться не о чем!
Тишина.
Лейтенант принялся опять звонить.
Потом постучал кулаком. Соседке в это время стало нехорошо, он побледнела и взялась за сердце.
– Не привлекайте внимания, не в ваших интересах! – крикнул капитан.
Через некоторое время дверь приоткрылась на цепочку.
Мужской хриплый от сна или волнения голос спросил:
– Вы чего ломитесь? У вас ордер есть?
Капитан оказал в щель бумажку.
– Сами понимаете, Виктор Викторович, лучше без эксцессов!
– Я сейчас звоню Киселеву. Знаете Киселева?
– Знаем. И он знает, что мы тут. Открываете или звать моих ребят? Они там внизу скучают.
Кориков знал, что капитан блефует: он не видел у подъезда никаких ребят. Стояла только полицейская машина, которой он не придал значения. Ему бы сообразить, что неспроста, переждать, но кто же знал?
Дверь открылась.
Дальнейшее происходило очень быстро.
Бледную соседку ввели и посадили в прихожей на обувной ящик, она была в ступоре. Корикова оставили в коридорчике, откуда были видны двери в кухню и две комнаты. Лейтенант сразу же направился в одну из них, а капитан пошел в кухню.
– Куда, там ребенок спит! – бросилась за лейтенантом женщина в халате. А мужчина с голым торсом, густо поросшим темными волосами, в пижамных штанах, пошел за капитаном, спрашивая:
– Может, объясните? Или представитесь хотя бы? Алё?
Капитан, не оборачиваясь, показал ему красную книжечку. Мужчина хотел рассмотреть, но в это время в комнате заплакал ребенок. Судя по голосу, совсем маленький.
– Ты чего там делаешь? – развернулся мужчина в сторону детской. – Вышел от ребенка сейчас же!
И пошел туда.
Таким образом Бакаев с женой оказались вместе в детской, а капитан в кухне остался один. Он быстрым взглядом окинул окружающее, потом прикрыл дверь.
Кориков, сам не зная, почему и зачем, сделал несколько шагов и заглянул в щелочку между дверью и косяком. И увидел крупно, как в кино, отдельную руку капитана, которая открыла ящик шкафа и сунула туда небольшой бумажный пакет.
Кориков отшатнулся.
Отошел.
Капитан вышел и позвал лейтенанта:
– Сережа, ты чего там?
– Ничего, провожу осмотр, – вышел из детской лейтенант.
– Какой вам осмотр в комнате ребенка? – кричала жена Бакаева, укачивая на руках двухлетнюю плачущую девочку.
А дочери Корикова четыре. Он бы убил, если бы ее вот так потревожили.
Но и Бакаев, похоже, готов был убить: стоял со сжатыми кулаками, стиснув зубы, бурно дышал и ненавидящим взглядом смотрел на полицейских.
– Спокойно, спокойно! – приговаривал капитан. – Татьяна Сергеевна? Татьяна Сергеевна?
– А? Что? – соседка не сразу поняла, что к ней обращаются. Встала.
– Нормально себя чувствуем?
– Ничего.
– Так. Значит, там мы были, пройдем сюда! – и капитан пошел в другую комнату, которая была спальней супругов.
– Вы что ищете, сволочи? – не сдержался Бакаев.
– Выбирай слова, папаша! – посоветовал ему лейтенант, а капитан весело ответил:
– Что мы ищем, Виктор Викторович, вы и без нас знаете! Вас мы ищем! И нашли.
– И что?
– Ничего, действуем по инструкции.
Он заглянул в платяной шкаф, открыл тумбочку возле кровати, приподнял и бросил журналы на столике.
– Теперь что у нас? Кухня? Там я не успел ничего посмотреть, а надо!
В кухне капитан открывал все подряд ящики. Будто не знал, какой ящик нужен.
Кориков внимательно смотрел.
И вот оно: рука капитана достает пакет.
– Дешевка, кто тебе поверит? – закричал Бакаев. – Тупая работа, капитан!
Кориков поднял пакет в вытянутой руке:
– Татьяна Сергеевна! Алексей Олегович! Мы видим обнаруженный в квартире гражданина Бакаева некий пакет! Что в нем?
Он развернул пакет, в нем оказалось еще два свертка. В том, что побольше, была пачка стодолларовых купюр, а в маленьком – белый порошок.
– Звери! Сволочи! Гады! – кричала жена Бакаева.
– Нина, отойди и успокой Лану! – приказал ей Бакаев. – Не бойся, я это разрулю, им это не пройдет!
– Пройдет, – заверил капитан.
Он еще что-то говорил – и Корикову, и Татьяне Сергеевне, и лейтенанту, и Бакаеву, потом сел за стол, вынул из папки бланк, начал заполнять.
С Кориковым что-то случилось: он все видел и слышал, но словно не понимал. Такое с ним уже бывало. Однажды с пацанами играли на стройке, вдруг подошли трое неизвестных, постарше, что-то спросили, к чему-то привязались и вдруг построили всех в ряд и начали бить по затылку. Били и смеялись. Приказывали не плакать. Кто плакал, того били еще. Лешу Корикова тогда не поставили в избиваемый ряд – может, потому, что он выглядел очень уж маленьким. Но он все равно стоял и ждал своей очереди. Мог бы ведь убежать или просто отойти, чтобы обозначить свою непричастность. Нет, стоял, онемев и оглохнув, поняв тогда правду книжного выражения «страх сковал все тело». И другие были случаи, последний – в метро, где двое пьяных парней пристали к девушке, хамили ей, трогали ее, мужчины отворачивались, женщины возмущались, в Корикове закипала кровь – он это почти физически ощущал, он чувствовал, что еще немного и не выдержит, вступится. И будь что будет. Но не успел: поезд подошел к станции, девушка выбежала, придурки остались, уставшие от своего веселья, никого больше не тронули.
Он очнулся от тычка в плечо.
Это выводил его из забытья лейтенант:
– Ау, в чем дело, спим на ходу?
– А что?
– Распишитесь, – капитан протягивал ему ручку и указывал на лист бумаги.
Кориков машинально взял ручку.
Слышались плач девочки и глухие рыдания женщины. Бакаев стоял у стены, скрестив руки.
Кориков взял лист. Увидел свою фамилию. Слова скакали перед глазами. «В присутствии… обнаружены… По свидетельству…»
– Это что? – спросил он.
– Формальность. Вы видели то, что видели, подтверждаете это в качестве понятого, вот и все.
– Не формальность! – подал голос Бакаев. – Вы откуда этих людей взяли? Они свои права и обязанности знают? Вам объясняли? – напрямую спросил он Корикова.
Кориков растерянно смотрел на него.
– Бакаев, усугубляете! – сказал капитан. – Опытный же человек, в курсе: действие вызывает противодействие. Не ставьте нам палки в колеса.
– Вам поставишь, у вас колеса литые! – отреагировал Бакаев, и Кориков мысленно оценил присутствие духа этого человека: он не только спорит с правоохранителями, но и находит остроумные формулировки. А может, он закоренелый преступник, и ему это не впервой?
– Не тянем время, подписываем! – понукал капитан. – Все оформлено грамотно, не волнуйтесь.
Сейчас подпишу и пойду домой, подумал Кориков. Юля, жена, умница, конечно уже проснулась и приготовила завтрак. Странно, кстати, что не звонит, не беспокоится. Но времени прошло совсем мало, не больше получаса. Или все же больше? Он зачем-то посмотрел на часы.
Да, чувство времени у него отличное: сейчас половина восьмого.
Юля старается разнообразить: то омлет с помидорами, то блинчики, то паровые котлетки – все легкое, утреннее, но сытное и вкусное. А потом Кориков поцелует спящую милую Ульянку и сам завалится в нагретую телом жены постель. А может, и пошалит с Юлей, такое у них еще частенько случается.
С удивлением Кориков почувствовал в теле признаки возбуждения – совершенно неуместные в этих обстоятельствах.
Но он же видел, как капитан подложил пакет! Он подпишет и пойдет яишенку кушать и теплую жену ласкать, а этот человек, возможно, отправится на несколько лет в тюрьму, осиротив на это время жену и дочь!
Вот он, момент выбора.
И тут Корикову стало стыдно.
Он, интеллигент, сын родителей-интеллигентов (мама – учитель, отец – госслужащий), еще сомневается! Он, видите ли, думает, подписать ли ему ложное показание или не подписать!
И Кориков положил ручку на стол.
– В чем дело?
– Понятой в любой момент имеет право отказаться! – за Корикова ответил Бакаев. – Молодец, мужик, уважаю!
– Помолчи, юрист! Что происходит? – спросил капитан Корикова.
Кориков откашлялся и сказал:
– Я видел, как вы подложили этот пакет.
– Чего?
– Я видел, как вы сунули этот пакет в тот ящик.
– Ага! – закричал Бакаев. – Съел, капитан? Совсем уже оборзели, даже не скрываются! А не все на свете суки, не все оподлячились, понял? Мужик, ты мужик! Ты гений! Ты человек! Нина!
Тут же пришла Нина – одна, без девочки, та, видимо, опять заснула.
– Нина, они облажались! – захлебывался радостью Бакаев. – Вот этот человек видел, как они порошок и зеленку совали! Ты запиши, запиши это в протокол! – тыкал он пальцем в бумагу. – Ты обязан это сделать, сто тридцать пятая статья!
– А ну, замолчал! – цыкнул лейтенант на Бакаева.
– Я сейчас замолчу кому-то, пацан! – огрызнулся Бакаев.
– Значит, это что, провокация? – спросила Нина.
– Спокойно! – поднял руку капитан. – Во-первых, гражданин не утверждал, что он что-то видел! Он сказал: кажется.
– Нет, – возразил Кориков. – Я действительно видел. И готов это подтвердить в письменном виде.
Решимость его росла с каждой минутой. Он чувствовал себя справедливым героем. Он был почти счастлив.
– А вы видели? – спросил капитан Татьяну Сергеевну.
– Что?
– Как я что-то куда-то подкладывал?
– Нет. Можно мне домой?
– Видите, она не видела, а вы видели, это что получается, клевета? Так любой может сказать: видел! Может, вы его сообщник? Кстати, Сережа, пробей по базам, кто он и чего.
– Ладно, – сказал Сережа и вышел из кухни.
– Можете пробивать, – сказал Кориков, улыбаясь. – Можете делать, что хотите. Я заявляю в присутствии всех: я видел, как вы подбросили пакет! И могу это подтвердить письменно. С полным осознанием ответственности за…
– Дачу ложных показаний, – подсказал Бакаев.
– Вот именно.
– Хорошо, – сказал капитан, засовывая листок в папку. – Хотите подтвердить – сделаем все по правилам, в отделе. Поедете с нами.
– Зачем? – удивился Кориков.
– Прессовать тебя там будут, – сказал Бакаев. – Капитан, отстань от человека. Ну, сорвалось, признай это.
– Каждый, кто выгораживает преступника, сам преступник! – отчеканил капитан. – Пройдемте.
Он встал и пошел к двери, вытягивая руку и приглашая Корикова следовать перед собой.
– Куклу забери! – сказал ему Бакаев, кивая на пакет с деньгами и порошком.
– Она не моя.
– И не моя. При свидетелях все делаю! – выкрикнул Бакаев, схватил пакет, быстрым движением открыл окно и выкинул пакет на улицу.
– Хочешь тоже со мной проехать? – спросил капитан.
– Хочу! – смело заявил Бакаев. – Поехали, я тебе там такой геморрой устрою, рад не будешь! И советую, капитан, больше ко мне тропинку не топчи, Бакаева на дурку не возьмешь, понял?
– Посмотрим, – процедил капитан.
– Мужик, а ты не ходи с ним! – посоветовал Бакаев. – Имеешь полное право.
– Куда он денется, документы у меня! – капитан помахал паспортом Корикова.
У того мелькнула мысль: выхватить и не отдавать. Но у капитана еще удостоверение и пропуск. Не надо горячиться. Скорее всего, капитан сейчас попеняет на испорченную операцию, что-то скажет – и отпустит. Ведь никакого серьезного обвинения он Корикову предъявить не может, а если что, Кориков дойдет до самого высшего начальства, и капитану не поздоровится.
Выходя из подъезда, Кориков посмотрел вверх, на окна своей квартиры. Может, Юля смотрит? Увидит его с полицейскими, испугается.
Надо ей позвонить.
Он достал телефон.
Капитан быстрым движением выхватил трубку и кинул лейтенанту, стоявшему возле машины. Тот ловко поймал.
– Беспредел, господин капитан? – спросил Кориков, стараясь быть спокойным.
– В машину!
– А если не пойду?
– Сережа! Коля!
Лейтенант подошел к ним, шофер, мальчик в мешковатой форме, тоже выскочил.
– Без рук! – сказал Кориков. – Ладно, поедем. Думаю, ваше начальство в отделе уже присутствует? А если нет, рано или поздно появится.
– Появится, появится.
Под взглядами троих служителей порядка Кориков сел в машину на заднее сиденье. Капитан и лейтенант уселись по бокам, тесно сжав его.
– Отъедь немного, – сказал капитан водителю.
Машина тронулась, свернула за угол дома, остановилась.
– Урод! – перестал сдерживаться лейтенант и поднял руку, растопырив пятерню, словно желая обхватить и смять ею ненавистное лицо Корикова.
– Тихо, тихо, – остановил его капитан. – Ну что, Алексей Олегович, я тебе сейчас все объясню. Мы этого типа уже пятый год ловим. Думаешь, он и в самом деле живет в этом говнюшнике? У него дворцы по всему миру, понял? Это он к своей подружке приезжает раз в год. Я мог бы тебе не говорить, но говорю. Думаешь, мы такие лохи, что так тупо действуем? Вариантов не было, понял? Все в спешке. Иначе были бы у нас и понятые свои, и под полом у него оружие нашли бы при свидетелях, понял? А теперь он улетит на какой-нибудь лазурный берег, а на руках у него, чтобы ты знал, кровь людей!
– Полынкина нашего убил! – зло сказал лейтенант.
– Полынкина, нашего сотрудника, убил, – подтвердил капитан. – И других многих, если не сам, то через посредников. Он тысячи людей наркотой отравил, тысячи русских парней и девушек… у тебя дети есть?
– Есть, но…
– И если бы не твой козлизм, он бы ехал сейчас с нами, а не ты. Но мы можем все исправить. Ты подписываешь акт, мы возвращаемся и берем его.
Кориков, знавший о работе и бывший милиции, и нынешней полиции только из фильмов и сериалов, был удивлен: капитан говорил вежливо, довольно грамотно и от души. Его боль можно понять. Но все равно, подбрасывать нехорошо, беззаконием беззаконие не победишь, мысленно сформулировал Кориков, сам стесняясь пафоса своих мыслей.
– Нет, но я же уже сказал… Он слышал…
– Что он слышал, это пофиг. Тебе показалось, а потом ты вспомнил, что ничего не видел. Ты видел только, что я у него нашел.
– Нет, ребята, извините. Ваши косяки, вы и распутывайте. И отдайте телефон.
– Кто тебе ребята, урод? Мы? – лейтенант заорал ему в лицо, широко разевая рот и брызгая слюной.
– Не надо кричать, – попросил Кориков.
– Мы не кричим, мы волнуемся, – объяснил капитан. – Вор должен сидеть в тюрьме, ты слышал этот закон? Его даже президент недавно говорил.
– Это не закон, это из этого фильма, как его… «Место встречи»…
– Мы в курсе. Неважно. Слова – золотые. Согласен?
– Должен, да. Если доказано.
– А мы докажем, не бойся. Нам только взять его, мы все докажем.
– Бесполезный какой-то разговор. Я не буду подписывать.
Юный водитель оглянулся с веселым удивлением. Наверное, не часто видел таких чудаков – да и вообще немного еще в жизни видел.
– Тогда так, – капитан стал жестким и недобрым. – Тогда сидеть будет не он, а ты.
– За что?
– Да хоть за ту же наркоту и валюту, которая неизвестно откуда.
– Какая… Он же все выкинул…
– В кармане у тебя, – сказал лейтенант.
Кориков сунулся к карману куртки, пощупал – и правда, там что-то есть. Вот это работают! Он хотел залезть в карман и выбросить подложенное, но лейтенант ударил его по руке.
– Не суетись!
– Вот именно, – сказал капитан. – Вынешь при свидетелях под протокол. И от пяти до семи лет строго режима. Если сомневаешься, что мы это можем, могу объяснить подробно. Хранение и сбыт наркотиков, статья двести двадцать восемь, пункт один.
– То есть будете фальсифицировать?
– Догадался наконец! – поздравил лейтенант.
– Не получится. Была соседка, она…
– Она скажет, что ты пришел в квартиру любовницы Бакаева за наркотиками и деньгами. Гарантирую.
– Конечно, слабая и больная женщина…
– Да ты и сам скоро станешь слабый и больной! – гарантировал лейтенант.
Эти слова подействовали на Корикова неприятно, он вопросительно глянул на капитана, тот сразу же понял его настроение.
– Это не угроза, Алексей Олегович, а реальность. Я сейчас вам расскажу, что будет. Наше начальство страшно обрадуется, что мы поймали пособника Бакаева…
– Слушайте…
– Это вы слушайте! Пособника, да еще с коксом и зеленью на кармане, да еще в гостях у самого Бакаева! Это будет повод Бакаева тормознуть, он не полетит ни на какой лазурный берег. Мы его тормознем, возьмем, он начнет тебя сливать, ты окажешься его правой рукой и левой ногой – это я тебе гарантирую, он всех своих сдал, а уж чужих не пожалеет! Пока ты будешь просить адвоката, звонить кому-то, жалобы писать, придется сидеть в сизо. И там, прав мой коллега, станешь слабым и больным. Контингент там такой, что ни у кого ни стыда, ни совести. Ты же еще молодой парень, сколько тебе?
– Тридцать семь, при чем…
– Через месяц будешь выглядеть на сорок семь.
– А чувствовать себя на семьдесят, – добавил лейтенант.
Водителю слова лейтенанта понравились, он рассмеялся. Но не в голос, как рассмеялся бы равный, а тихо, подчиненно.
– Ты семейный? – спросил капитан.
– Жена, дочка.
И тут Юля, будто услышала, позвонила. У Корикова несколько узнаваемых звонков для близких – для мамы и отца, для Юли, для некоторых друзей. Сейчас была мелодия Юли – песня «Близко и далеко», которую она очень любит.
– Мне надо ответить, – сказал Кориков.
– Извини, не сейчас.
– Слушайте, но вы же не до такой степени…
– До такой, – обрезал капитан. – Ты скоро сам будешь упрашивать, чтобы мы дали тебе подписать эту бумагу, а мы еще подумаем.
Мелодия звонка оборвалась, но тут же опять зазвучала.
– Дай телефон немедленно! – сказал Кориков лейтенанту.
Но лейтенант ответил Юле сам.
– Здравствуйте, – сказал он.
И включил громкую связь.
– Кто это? Где Алеша? Алеша, кто это говорит, ты где? – прерывистым голосом спрашивала Юля.
– Я тут! – крикнул Кориков. – Юль, не волнуйся, меня тут…
Лейтенант зажал ему рот ладонью. Грубо, крепко. Кориков дернулся, но капитан обхватил его и зафиксировал намертво.
Кориков извивался и мычал, а лейтенант громко говорил Юле:
– Вашего мужа задержали по подозрению в серьезном преступлении! Он сообщник! А может, и организатор. Ему тут надо одну бумажечку подписать, и его сразу отпустят.
– Алеша, в чем дело, какая бумага, кто они? Подпиши и беги от них! – кричала и плакала Юля.
Лейтенант отключил телефон. И выключил его совсем.
Корикова отпустили, он, собиравшийся выплеснуть все, что думает, вместо этого, словно растратил все силы, откинулся на спинку, глотал воздух и молчал.
Он думал.
Ему впервые стало по-настоящему страшно.
Они ведь не балагурят, не пугают, все так и будет. Сочинят дело, начальство их покроет, его посадят в сизо, а там будут морить скверной кормежкой, издеваться, причем и надсмотрщики, и сами заключенные. Могут опустить, изнасиловать, заставить спать на полу, мочиться в парашу на виду у всех… Могут и убить.
Кориков не удивлялся, что он знает все эти подробности, кто их не знает в нашей стране чуть ли не с рождения – из книг, из кино, из рассказов соседей, попутчиков, друзей, сослуживцев… Да и просто – в воздухе носится.
И за кого он грудью встал? За преступника? Действительно, припомнил он, мужчине-то лет пятьдесят, а женщине нет и тридцати, очень похоже на правду то, что он навещает любовницу, у которой от него ребенок. И татуировка какая-то на руке была. Может, символы воровского ранга – как погоны на плечах полицейских?
Главное, больше всех пострадают Юля и Ульянка. Юля ведь сейчас не работает, семья держится на зарплате Корикова – слава богу, довольно приличной. Если он сядет, сначала, да, будут помогать родители, но родители не вечны, дела не всегда у них самих будут идти хорошо.
Соучастие в подлоге смущает? Смотрите-ка, чистоплюй какой у нас нашелся! А работа теплосетей, их строительство, ремонт, эксплуатация, распределение энергии, учет гектокалорий, фантастические метаморфозы, когда вода на пути от ЦТП (центральных тепловых пунктов) к потребителям вдруг начинает сама собой нагреваться, хотя потребители этого не замечают, и так далее и тому подобное – не один большой ежедневный подлог? Что, не знает этого Кориков? Знает. В определенном смысле соучаствует. Расписываясь в книге дежурств, фактически соглашается с тем, что подлог этот прекрасно видит, но ничего против не имеет. Хотя не имеет и барыша.
Имеют те, кто, как и этот Бакаев, строят себе коттеджи в Подмосковье и виллы на лазурных берегах.
Да и вообще, если взять широко, вся наша жизнь пронизана большими и маленькими подлогами, даже Ульянку Кориков обманывает, говорит, что в шкафу-купе живет некий Мерзюк, противный, пыльный и серый, поэтому открывать шкаф и залезать туда нельзя. Выдумано было после того, как она прищемила себе дверцей шкафа палец.
Капитан и лейтенант молчали – наверное, были уверены, что мыслительный процесс у Корикова развивается в нужном направлении.
Лейтенант нетерпеливо поерзал, глянул на часы.
– Через пробки к отделу пробиваться будем, – сказал он.
– Мигалку включим, – откликнулся водитель.
– Так что? – спросил капитан, открывая папку. – Сейчас вернемся, скажем, что ты после работы был усталый, на секунду задремал, вот тебе и показалось.
– Да и говорить ничего не надо, – скривился лейтенант.
– Тоже верно, перед кем оправдываться? Перед преступником? Подпиши – и до свидания.
Кориков взял ручку.
И опять он вспомнил детский случай на стройке.
Он ведь всегда вспоминал его не до конца. Рассказывал несколько раз разным людям, в том числе Юле, все ахали: какая у нас жестокая страна, какие жестокие дети! – но конец всегда опускал, словно его не было.
А он был, и был он такой: пришлые подростки, бившие его друзей, наконец вспомнили и о нем, подозвали. Он подошел на ватных ногах. Встал рядом, зажмурился.
Нет, смеялись подростки, ты не понял. Мы справедливые. Ты вот маленький, они тебя обижали? Обижали? А?
Кориков тогда шмыгнул носом, это приняли как утвердительный ответ.
И сказали: ну вот, теперь ты дай им по шее. Каждому. Вперед.
Не хочу, сказал Кориков.
Тогда мы тебя на этот прут жопой посадим, показали они на торчащий прут арматуры, и Корикову стало страшно и заранее больно, прут был острый, длинный, он мог проткнуть его до самого горла.
Ну, ну, ну, кричали подростки. Давай.
И Кориков это сделал. Плача, он дал каждому по шее.
Сильней, сильней, кричали подростки.
Он старался.
После этого весь двор не дружил с ним месяц или больше. Потом простили или просто забыли.
А Кориков не забыл, в нем это жило, жгло – всю жизнь, оказывается, жило и жгло. Особенно сейчас.
То был один раз, говорил он себе, то было детство. А сейчас не детство, сейчас ты это закрепишь, и станет ясно, что тогда был случай не случайный, что уже тогда ты был сволочь – и теперь это окончательно и навсегда подтвердишь. И будешь с этим жить до смерти.
И что-то горячее разлилось в груди Корикова, будто был он на войне, будто перед ним вражеский дот с пулеметом, на который надо броситься с гранатой – и нет другого выхода, нет другого решения. Почему? Да потому. Нет, и все.
Кориков взял бумагу и порвал ее.
И тут же получил кулаком по скуле от лейтенанта. Резко повернулся к нему – шею обхватила рука капитана.
– Погнали! – крикнул капитан водителю.
Машина тронулась.
– Ну, блядь, начнем наше путешествие, хороший ты мой! – прошептал капитан в самое ухо Корикову жарким и каким-то очень интимным голосом, будто кровному родственнику с тоской и радостью сообщал страшную, но великую новость. – Как ты понимаешь, теперь для нас пути назад нет!
Кориков понимал.
Ему было больно, он задыхался, с изумлением ощущая при этом, что боль на самом деле переносима и удушье не смертельно, больше того, сквозь эту боль каким-то дальним и глубинным огоньком мерцает предвкушение невероятной, нечеловеческой радости, о которой он не имел никакого понятия.
Он не знал, что с ним будет, но знал, что теперь готов ко всему.
Хроника. Август
Из новостей
* * *
В РФ вступил в силу «Антипиратский закон».
(Ох, не знаю… Но если бы со всего, что есть в сети, – тексты, аудиокниги, радиоспектакли, сериалы, фильмы и т. п., каждый пользователь отчислял мне хотя бы 1 (один) рубль, не было бы необходимости заниматься тем, чем не хочется. Писателю не надо быть богатым, всего лишь жить нормально. И спокойно. Нервы рвать не из-за бытовых мук, а из-за творческих – как и положено.)
* * *
В результате применения химического оружия в Сирии погибли около 400 человек.
(Спорят – кто применил. В любом случае страшно, что свои травят своих. С детства – из книг – казалось, что «газы» – это когда немцы наших.)
* * *
Чемпионат мира по академической гребле (Чхунджу, Республика Корея).
(Красивый спорт. Но вот соседство новостей: представляешь, как в одном месте сильная и красивая человеческая рука загребает воду, а в другом сильная и красивая человеческая рука загребает песок и пыль, умирая в агонии… Профессор Преображенский советовал не читать никаких газет. Сволочь он был, прав Шариков. Умная сволочь.)
Из журнала
* * *
Только что узнал: умер Виктор Топоров, с которым мы спорили и были, однако, здесь, в сети, в друзьях, друзьях-врагах, говоря друг другу откровенные вещи. Пусть бы жил и ругал меня дальше. Мне этого будет не хватать. До свиданья, Виктор Леонидович.
* * *
Режиссер Андрей Малюков о сериале «Распутин»: «Мне интересно посмотреть на Распутина с точки зрения правды. Когда же начинаешь перебирать как бусинки факты, выясняется, что ничего из придуманного о “великом старце” и в помине не было. И если отшелушить и оставить в чистом остатке то, что он реально сделал, выясняется, что это был человек, искренне болевший за Российскую империю, за царя, за царицу, категорически выступавший против войны».
Будет интересно посмотреть, как «отшелушат» и получат «чистый остаток». Давно уже Распутина отмывать взялись, в том числе, само собой, с благими художественными намерениями. Я предполагаю: не Распутина, а распутинщину. То есть безумие общества, с которым срифмовались безумный сектант и его безумное учение, сводящееся к самому утешительному из всех религиозных постулатов: «Не согрешишь – не покаешься». Чем круче согрешишь, тем круче покаянье. А что вокруг Распутина крутилась тьма продажной сволочи, так ему, наверное, по святости было невдомек. Зато он до изнеможения любил и лечил детей и людей. И за Россию болел.
Сейчас атмосфера очень похожая, особенно по части безумия, крутизны грехов и обилия продажной сволочи. Так что, если после сериала «Распутин» снять «Два-путин», будет логично. Отшелушив всякие глупости и сплетни о том, что он якобы заполнил ячейки власти лично преданными людьми, которые наполовину якобы из КГБ, наполовину якобы не чистые на карман коммерсанты, а наполовину якобы хамелеонистые политиканы (и кто придумал эту чушь???? – хотя чудотворство целого, состоящего из трех половин, мы не подвергаем сомнению!). В чистом остатке получим вполне приятного мужчину, который тоже, видимо, блаженно не в курсе насчет окружающей сволочи, любит не только детей и людей, но и собак, искренне болеет за Россию.
Которая его, как и Распутина, об этом не просила.
* * *
Премьер Дмитрий Медведев предложил поощрять подрядчиков, зарекомендовавших себя с лучшей стороны при строительстве олимпийских объектов в Сочи.
«Во всяком случае, мне кажется, что те, кто работает хорошо и доказал, что он свои обязательства выполняет в срок, имеет право на такое внимательное отношение со стороны комиссии правительственной и правительства в целом, со стороны крупнейших институтов развития, как то Внешэкономбанк и другие», – добавил Медведев.
А я давно говорю о том, что в нашей родной стране нужно награждать орденами и медалями с надписью «ЗА ТО, ЧТО СДЕЛАЛ СВОЮ РАБОТУ».
* * *
Очередное паскудство: 7 лет колонии строгого режима сельскому культуртрегеру Илье Фарберу за взятку, размер которой насмешит любого инспектора ДПС. При этом доказательства туманны, на собирание их ушло 2 (два) года, которые И. Фарбер провел в заключении, судья открыто советует присяжным «не обращать внимания на слова подсудимого» и упирает на «дискредитацию власти» (в чем она проявилась? – в независимости и нежелании прогибаться? – это, действительно, просто плевок в лицо нынешним менеджерам власти), гособвинитель задает вопрос «может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне?», серьезным доказательством считается «хруст денег», слышный на аудиозаписи, – и т. д., и т. п.
Страшно то, что никого не удивляет.
Из дневника
* * *
На время бросил Стр. Люб. и несколько дней писал довольно большой рассказ «Ульрихь». Не мог успокоиться, терзался, пока не закончил. Ничего не мог другого. Закончив, не остался доволен. Но таким текстом нельзя быть довольным в принципе, здесь вообще речь о довольстве идти не может. Противопоказанное тексту слово. И – что же? – опять сериал, 12 серия. Чтоб ему пропасть. Мои сегодня уезжают в Белоруссию.
* * *
Саратов. Все то же.
* * *
Про любовь.
* * *
Про любовь.
* * *
Про любовь, чтоб она сдохла.
* * *
Сдохну сам. Испугавшись этого, позвонил М., сказал, что беру недельный отпуск.
* * *
Читаю и перечитываю разные книги. Сейчас – Юрий Казаков.
* * *
Написал рассказ «Библиотека». Почти из жизни.
* * *
Вчера видел спектакль «Роддом» по пьесе «Рождение» театра «Самарская площадь» – в «Доме Высоцкого». Смешно, хорошо, весело. Но что-то меня гложет. Все то, но что-то не то. Не у них, в моей пьесе.
* * *
У меня состояние человека, который перестал нервничать, стиснул зубы: выдержать. Выдержать и идти вперед. И при этом вдруг замечаешь, что ты стал спокойнее и даже веселее. И «выдержать» уже не подвиг какой-то, а – нормально. На войне как на войне.
Пятница
В Москве есть неожиданные, удивительные места вроде известного многим поселка художников на Соколе, где тебе кажется, что ты вдруг угодил в тихий дачный пригород; слава богу, люди там пока еще живут старинные, часто небогатые, и дома тоже преимущественно старые, не обезображенные позднейшей архитектурой, именно дома, а не строения, называемые припрыгивающим от петушиной гордости словом «коттедж».
А есть и вовсе укромные уголки, где редко ступает нога постороннего человека, о них никто не знает, кроме своих, то есть тех, кто там живет или работает.
Если с одного из оживленных проспектов свернуть в неприметную улицу, по обеим сторонам которой высятся серые бетонные заборы и пыльные тополя, можно попасть в так называемую промзону: какие-то корпуса, трубы, эстакады, железные дороги местного значения. А примерно в середине этой улицы есть в заборе ворота, обычные металлические ворота, крашенные в зеленый цвет, с дверкой, в дверке кодовый замок и кнопка вызова. За воротами – деревня деревней, но деревня благоустроенная, с асфальтовыми дорожками между домами, с клумбами, газонами, а вон там две березки, а там плакучая ива, на окнах одноэтажных домов и домиков – занавески, пусть казенно одноцветные, но все же веют уютом, почти семейностью. И ничуть не удивишься, когда увидишь греющуюся на солнышке кошку, и поневоле ждешь, что сейчас из-за угла появится, кудахча, наседка с цыплятами, а из будки забрешет не злой, но исполнительный хозяйский пес.
Пса и наседки тут, конечно, нет, а кошка пришлая, это все-таки учреждение, причем довольно серьезное: отдел техническо-документальной экспертизы большого предприятия. Давным-давно, гласит предание, в тридцатые годы прошлого века, когда строили завод – спешно, лихорадочно, задействовав все ресурсы, снесли отжившую свое полукустарную фабричку, а дома, где работали и тут же рядом жили конторские служащие, не тронули. Они были крепкие, из красного кирпича первоклассного обжига, да и деревянные дома оказались долговечны. Сначала здесь разместили дирекцию строительства, потом управление нового предприятия, а потом управление перевели в центральный корпус, сюда сослали второстепенную службу то ли техники безопасности, то ли пожарного надзора, потом посадили переводчиков и бюро научно-технической информации, потом еще кого-то, последние же тридцать или сорок лет обретается небольшой коллектив экспертов. Некоторые строения за это время пришли в негодность, их снесли, некоторые используются как склады неходового инвентаря и всякого хлама вроде пишущих машинок, которыми уже давно никто не пользуется, но они в рабочем состоянии, списать и выкинуть жаль, вот и пылятся здесь год за годом, накрытые чехлами.
Сотрудники, а их с начальником семь человек, не считая приходящую уборщицу, помещаются в одном здании. Здесь несколько комнат-кабинетов, небольшой зал для совещаний, в котором редко когда собираются, что-то вроде кухни: стол, несколько стульев и пара кресел, холодильник, микроволновка, кофейная машина, чайник, шкаф с посудой. Регулярно кто-то из начальства пытался запретить эту неуместную одомашненность, но ему приводили резоны, что до заводской столовой идти полчаса, да столько же обратно, поэтому людям придется питаться всухомятку, а это и вредно, и противоречит трудовому законодательству, кухня же не раз проверялась на предмет пожарной безопасности и в этом смысле безупречна. Хорошо вы тут устроились, говорило начальство с легкой завистью – и отступало, имея более масштабные заботы.
В доме есть центральный вход, есть и заднее крыльцо с навесом и лавочками по бокам, там курящие курили в хорошую погоду, а в плохую сидели в сенях – дощатых, оклеенных обоями, где всегда лежали на столике старые газеты и журналы.
Здесь было уютно в любую погоду – уже потому, что погода эта была рядом, за окошком, близкая и свойская: если снег, то вот он, лежит прямо перед глазами, если дождь, то через окошко можно наблюдать крупным планом, как стучат капли по листьям травы, если ветер – залюбуешься, как гибко и стойко принимает тонкая березка его порывы, распрямляясь после очередного налета, как ни в чем не бывало, чуть ли не символом вечной непокорной девственности.
Рядом с этим зданием – сарайчик, в котором хранятся лопаты, грабли, вилы, метлы, все, что нужно для благоустройства двора. Сотрудники, обжившись здесь, поневоле стали немного садоводами, они с удовольствием занимаются планировкой, высадкой многолетних и однолетних цветов, охотно обсуждают и сравнивают их достоинства, советуются, не посадить ли, например, там рябину, а там, быть может, даже яблоню, и она, быть может, даже будет плодоносить.
С огромным удовольствием после снегопада все выходят расчищать тропинки и дорожки, даже к тем зданиям, к которым месяцами не подходят, но зато потом очень приятно из окон видеть во всем порядок и ухоженность. Когда-то трава здесь росла дикая, сорная, лет пятнадцать назад Борис Соломонович Шеймниц на своем личном автомобиле привез несколько бумажных мешков с черноземом из магазина «Дачник», разбросал перед входом в здание, разровнял, посеял траву, весной появился газончик. Это понравилось, стали просить начальство привезти несколько самосвалов земли, взяв обязательство в нерабочее время распределить ее по всей территории и засеять культурной травой. Начальство пошло навстречу. А вот ручную газонокосилку купили в складчину сами и установили очередь, когда кому на ней работать, потому что хотелось всем.
Люди, стремившиеся продвинуться, сделать карьеру, тут долго не задерживались, и постепенно сложился костяк, гвардия, патриоты. У всех был немалый стаж работы на одном месте, а именно:
у Бориса Соломоновича, старшего эксперта, – тридцать восемь лет;
у Павла Кочетова, тоже старшего эксперта, – двадцать один год;
у Ирины Сергеевны, инженера-техника, – четырнадцать лет;
у Влада Корнявина, еще одного старшего эксперта, – около десяти лет,
у Марины Чурковой, эксперта первой категории, – восемь лет;
и даже у молодой Лизы Станюк, пока просто эксперта, – четыре года с лишним.
Недавнего начальника Локошина не упоминаем – он вышел на пенсию, коллектив ждал нового руководителя.
Имелась здесь традиция, укоренившаяся с незапамятных времен: дни рождения и другие примечательные даты отмечали коллективом, дружно, семейно. Правда, не в любой день, а в пятницу. Оно и понятно, пятница – рубежный день, будни кончились, а выходные, каждый час которых приближает новые будни, подобно тому, как каждый день жизни приближает смерть, еще не начались.
Впрочем, в советское время этот обычай процветал во всех учреждениях, потом его стали искоренять, потом вошли в моду корпоративы с выездами, но сейчас, по нашим наблюдениям, все возвращается на круги своя, к обычным учрежденческим посиделкам, правда, часто второпях, на ходу: бутылка шампанского, виноград, яблоки, конфеты, выпили, поздравили – и опять работать. Это называется: проставиться.
Но в нашем отделе техническо-документальной экспертизы (ОТДЭ) это приняло особые формы. Борис Соломонович, страстный преферансист, в давние времена приохотил своего друга-начальника и двух коллег (коих уже нет в живых) расписывать пятничными вечерами пулечку-другую. Все были людьми скромными и дельными, к преферансу полагался только чай, редко когда бутылочка коньяку на четверых, вход на территорию был обозреваем, улики легко убираемы, поэтому никаких подозрений ни у кого не возникало, а то, что сотрудники ОТДЭ в конце недели всегда составляют отчеты, что ж, такая у них, видимо, работа, считали посторонние, да и руководство, вникавшее в результаты деятельности, но не имевшее досуга разбираться, как организован сам процесс.
Начальники и коллеги менялись, пулечки некоторое время сохранялись, потом умельцы-преферансисты повывелись, но пятницы остались неизменными. Уже не надо было повода, в самом этом ритуале появился свой, независимый ни от чего смысл. Как в старину русский человек с радостью ждал банного дня, так сотрудники ОТДЭ ждали и ждут свою пятницу.
Вот как это происходит сейчас:
Борис Соломонович приносит бутылку водки, которая неделю настаивалась на каких-либо травах, каждый раз новых, это позволяет сравнить вкус и оценить разницу.
Павел Кочетов любит готовить домашнюю буженину в фольге, которая тоже имеет всегда свои оттенки вкуса, в зависимости от исходного материала, как выражается. Кочетов.
Ирина Сергеевна и Марина Чуркова любят готовить на месте всякие салаты, ингредиенты для которых они приносят отдельно, заранее сговорившись, кто, что и в каком количестве купит.
Влад Корнявин умеет удивить бутылкой редкого вина: его бывший одноклассник заделался крупным виноторговцем и охотно снабжает Влада редкостями по сходным ценам, а иногда и просто дарит с условием рассказать о впечатлениях, которое вино произвело на тех, кто его отведал.
А Лиза, юная сторонница здорового образа жизни, приносит разные сорта зеленого чая, каждый раз подробно объясняя, как их готовить, как пить и какую пользу организму они приносят.
Уже пятничным утром все начинают мимолетно улыбаться друг другу: пришел наш день. Не говорят об этом, ни в коем случае не интересуются, кто что принес (помимо упомянутых продуктов бывают часто сюрпризы), подчеркнуто деловиты, стараются не оказываться вместе на кухне, чтобы не создалось ощущения репетиции вечернего праздника.
И это ожидание, это подмывание где-то под сердцем – едва ли не лучшее состояние для них за всю неделю, если только у кого не случилось какой-то незапланированной радости.
Когда бьет шесть часов, никто, естественно, не кричит «ура», не захлопывает с треском журнал учета, не выключает компьютер. Наоборот, делают вид, что рабочий день как бы еще не кончен. И только минут через пятнадцать, двадцать, иногда и через полчаса послышится протяжный, ироничный голос Бориса Соломоновича:
– А что, не пора ли нам?
Именно он должен дать команду, и никто это право не оспаривает. Если новый работник по неопытности рискнет, тут же получит тихий вежливый выговор от ближайшего к нему коллеги.
Не спеша идут в кухню, накрывают стол, готовят салаты, режут буженину, расставляют приборы.
Садятся.
Павел Кочетов наливает Борису Соломоновичу, Ирине Сергеевне и себе водки, Марине Чурковой и Владу Корняеву вина, а Лизе минеральной воды.
– Вот и прошла еще одна неделя нашей довольно бессмысленной, но при этом, как ни странно, не бесполезной жизни, – произносит Борис Соломонович свой обычный тост, и все с удовольствием выпивают, начинают угощаться и обмениваться впечатлениями о выпитом и съеденном. Бывает иногда легкая критика, но чаще, конечно, все сводится к справедливым похвалам.
Время словно исчезает или замедляется.
Они говорят о событиях в мире и стране, о том интересном, что нашли в интернете, затрагивают политику, экономику, искусство – в меру своих интересов.
Говорят и о семейной жизни, которая такова:
Борис Соломонович в свои шестьдесят восемь лет одинок – жена умерла, а дочь в Америке;
пятидесятилетний Павел Кочетов в разводе, встречается с соседкой;
у сорокашестилетней Ирины Сергеевны проблемный муж, сын-студент и дочь-школьница;
тридцативосьмилетний Влад Корнявин имеет жену и десятилетнего сына;
тридцатидвухлетняя Марина не замужем и не собирается;
а двадцатишестилетняя Лиза Станюк живет с молодым человеком, снимают квартиру.
И, конечно, как и у всех нас, личная жизнь у них не идеальна.
Борис Соломонович обижается на дочь, которая сроду не позвонит первой, впрочем, обижается без зла, с усмешкой понимания, которая готова у него на все случаи жизни;
Павел Кочетов сетует на то, что, с одной стороны, он привык к соседке Светлане, которая моложе его, довольно стройна и симпатична, у них бывает приятный интим, но очень мало общих интересов;
Ирина Сергеевна недоумевает: живя двадцать три года с мужем Андреем, она до сих пор не может понять его характера: то спокоен, все делает по дому, общается с детьми, то вдруг замыкается, сидит молча перед телевизором, пьет пиво, а может и вообще вдруг собраться и заявить, что уходит жить к маме; бывает, и уходит, но возвращается через три дня, максимум через пять;
Влад Корнявин о жене и сыне не распространяется: либо у него все хорошо, либо так плохо, что невозможно выразить словами;
Марина Чуркова ничего не говорит о настоящем, зато подробно и аргументировано объясняет, какими подонками, недоумками, дебилами были ее предыдущие мужчины; а если они и оказывались более-менее сносными, то все равно не дотягивали до ее интеллектуального уровня; был, правда, в ее жизни мужчина с умным лицом актера Ричарда Гира и тонкой чеховской душой, но она сама виновата, испугалась своих комплексов, отказала ему, а он постеснялся прийти еще раз, а она не решилась позвать;
Лиза Станюк в своих воззрениях близка к позиции Марины, но она точно знает, что одиночество вредно и психологически, и физиологически, поэтому, не пылая страстью к очередному бой-френду, живет с ним и ждет, что будет дальше.
– Держишь синицу в руках, а сама смотришь на журавлей в небе? – подшучивает Павел Кочетов.
– Почему нет? Журавля может и вообще не быть, с чего от синицы отказываться?
В этом своем кругу, уже почти семейном, они делятся иногда тем, что доверят не всем друзьям и родственникам, настолько близки стали их отношения, в которых есть оттенки и призвуки особого свойства: все видят, например, что Борис Соломонович, мужчина хоть и в возрасте, но стройный и по-своему симпатичный, неравнодушен к Ирине Сергеевне, да и он ей нравится своим умом, ровным характером, умением с юмором взглянуть на окружающее; она никогда не видела его жену, но была уверена, что та прожила с Борисом Соломоновичем счастливую жизнь, без скандалов, придирок, без мрачности и обиженного сидения по углам, как бывает, увы, в ее семействе: муж, как коршун крылом, накрыл все своим дурным характером, своим вечно унылым настроением.
А Павел Кочетов, и это тоже все понимают, не может без умиления смотреть на малышку Лизу, но переводит все в шуточки, то и дело говоря:
– Взять бы тебя на ладошку, а другой прикрыть.
– Это зачем? – усмехается Лиза.
– Просто так. Хочется.
– Не такая уж я и маленькая. Метро шестьдесят семь. У Мэрилин Монро знаете, сколько было? Метр шестьдесят шесть, то есть даже меньше.
Симпатизирует Лизе и Влад Корнявин. Правда, однажды, года два назад, когда была не просто пятница, а отмечали день рождения Марины, он выпил больше обычного и, когда вышел с именинницей покурить и подставлял ей зажигалку, и увидел ее склоненную голову с красивыми густыми волосами (волосы у Марины великолепны!), с аккуратным ушком, вдруг убрал зажигалку, взял руками ее голову, начал целовать и говорить:
– Скажи: все брось, и я завтра же приеду к тебе жить. Скажи!
Марина не сказала.
Весь вечер они ходили курить и целоваться, потом вызвали такси и вместе уехали, направились в район, где жила Марина, в машине Влад протрезвел и, когда приехали, спросил Марину:
– Тебя проводить?
– Обойдусь! – резко ответила она.
Что это такое было, они не поняли и не выяснили до сих пор. Держались друг с другом спокойно и ровно, через некоторое время Влад начал оказывать явные знаки внимания Лизе, Марина решила, что он выбивает клин клином: не имеет насчет Лизы никаких серьезных намерений, но хочет таким образом вытравить в себе чувства по отношению к ней, Марине. Она могла бы напрямик, откровенно с ним об этом поговорить, но все откладывает. Да так, пожалуй, и интересней – наблюдать за его неуклюжими стараниями. Кого из них предпочитает Лиза – Влада, который моложе, но женат, или Павла, который старше, но свободен, непонятно, она не раскрывается, эта интрига всех увлекает, однако никто не делает решительных шагов.
Было время, Борис Соломонович пытался совратить всех преферансом, но дамы оказались категорически не обучаемы, да и что это за преферанс с шестью игроками, когда то и дело пропускаешь по две раздачи? Зато Павел, который в эпоху, когда открыли границы, проходил стажировку в одном из американских университетов, привез оттуда увлечение несложной карточной игрой, называемой почему-то «литература», хотя к литературе она не имеет никакого отношения. Игра не очень сложная и как раз на шестерых: две команды по три игрока стараются набрать карты одной масти, близкие по достоинству, побеждает команда, первая набравшая больше четырех карт. Павел показал, как играть, правила оказалась понятными, а процесс весьма увлекательным, со своими тонкостями, с психологической даже подоплекой, неизбежной в коллективной игре. Команды составлялись всегда разные, по жребию, что уже само по себе было интригой: то вдруг все мужчины ообъдинялись против всех женщин, то Влад попадал в команду с Лизой и Мариной, что вызывало тончайшие намеки, при любом раскладе считалось, что повезло той команде, где Борис Соломонович, но это вовсе не предопределяло ее выигрыш.
Игра в «литературу» занимала вторую половину пятничного вечера, самую интересную. Когда кого-то не хватало по какой-то причине – болезнь или, что реже, командировка, вечер получался слегка испорченным, но все равно играли – в дурака, например, – подкидного, переводного, армянского или двойного.
Легкий, приятный азарт игры, обмен шуточками, несерьезные споры партнеров и противников, сдобренные взглядами, а иногда и легкими касаниями личного характера, – вот за что все так любили пятницу, так ждали ее, приучив всех к этому распорядку. Лиза раз и навсегда сказала своему бойфренду, что пятница в этом странном учреждении издавна авральный день, горячее подбивание недельных итогов, никто раньше десяти не уходит, Ирина и Влад тоже ссылались на обязательную с незапамятных времен пятничную переработку, Павел не считал нужным отчитываться перед своей подругой-соседкой, а Борису Соломоновичу и Марине отчитываться было и вовсе не перед кем. Если кто-то из домочадцев что-то подозревал, он всегда мог позвонить не по мобильному обманчивому телефону, а по рабочему, верному, который никуда с собой не унесешь, – и убедиться, что все в порядке, все действительно на работе, а не где-то.
Дополнительное осложнение: в этот день Павел, Ирина и Влад приезжают не на своих машинах, а общественным транспортом, но и тут у них есть объяснение для домашних – в пятницу идет отгрузка продукции, занята вся территория, включая автостоянки сотрудников, негде поставить машины, что поделаешь, всем приходится терпеть эти неудобства. Борис Соломонович остается здесь спать в секретной каморке одного из зданий, ему это даже нравится, а остальных до метро подвозит непьющая Лиза или они вызывают такси.
Эти невинные уловки еще больше сближают дружный коллектив, все чувствуют себя отчасти заговорщиками, что придает их посиделкам особую остроту и пряность.
Пятничные вечера стали настолько привычными, что даже во время отпусков все вспоминают о них с грустью, мысленно желая оказаться сейчас хоть на несколько часов там, среди своих дорогих друзей, которые сейчас небось коротают время за нудным дураком, но при этом не скучают, посмеиваются, подкалывают друг друга, Марина делает вид, что обижается и сердится, Борис Соломонович выдает саркастические реплики, Павел смешно вдавливает пальцы в свою облысевшую голову, как бы стимулируя мыслительный процесс, Влад вечно недоволен картами, а Лиза то и дело повторяет: «Все, я пропала!».
Кажется, что такого в этой фразе, но вы не слышали ее живьем, не видели, как Лиза морщит свой симпатичный носик и по-детски надувает губы, как увлажняются ее глаза, будто сейчас расплачется, все это страшно смешно и ужасно мило, всем в этот момент хочется, как и Павлу, взять ее на одну ладошку, а другой прикрыть.
Мешает также летний дачный сезон: дачи есть у Ирины и у Павла, Марина должна помогать матери на ее участке, Лиза своим родителям, это ломает график, но московское лето, к счастью, короткое, с первыми дождями и похолоданиями все возвращается на свои места.
Но вот произошло событие: назначили нового начальника вместо вышедшего на пенсию Локошина, человека болезненного, анемичного, просидевшего здесь ради пенсионной выслуги три года и не оставившего о себе доброй памяти. Но и дурной тоже.
Марина, чаще других бывавшая на предприятии, уже знала, кто ожидается: некий Дымшев. Около сорока лет, внешность – ничего особенного, главное – он переведен сюда с понижением за какую-то провинность чуть ли ни из министерства.
– Сидел где-нибудь в высотке на сороковом этаже, смотрел оттуда орлом, а его спихнули на самую землю, вот он на нас теперь отыграется! – предвещала Марина.
– Нас ущипнуть не за что, – успокаивал Влад.
– Дымшев – то же самое, что и Дымшиц, – вслух размышлял Борис Соломонович. – Ох, не люблю евреев!
Все рассмеялись, оценив шутку Бориса Соломоновича.
– А что в них плохого? – подыграла Лиза, округляя глаза.
– Как тебе сказать, дитя мое. В них, если в общем, ничего плохого, вернее столько же, сколько и во всех. Но еврей-начальник – это…
– Что? – заранее смеялся Павел.
– Да ничего, – развел руками Борис Соломонович. – Это и плохо! Я знаю, если сравнить с армией, что такое сержант-хохол, старшина-татарин, а уж что такое лейтенант-грузин, о, это песня, лейтенант-грузин – это праздник, который всегда с собой! А вот что такое сержант-еврей, или старшина-еврей, или даже лейтенант-еврей, я сказать не могу: во-первых, это в определенном смысле нонсенс, учитывая нелюбовь этой нации к армии, Израиль опускаем по умолчанию, там другое, а во-вторых, и это основное: еврей-руководитель есть загадка и неопределенность. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Вот что самое сложное.
– А откуда вы про сержантов и старшин знаете? – спросила Лиза. – Вы разве служили в армии?
– Это так сложно представить? Служил, дитя мое, и не в армии, а во флоте, четыре года! Правда, в береговой артиллерийской службе.
– Правда? А расскажите!
– Обязательно. В пятницу.
Все поняли и согласились: самые интересные разговоры всегда приберегались для пятницы.
Как нарочно, именно в пятницу Дымшев и явился. Обычный мужчина, без признаков национальной принадлежности, светловолосый, очки в дорогой оправе (определила Марина, разбирающаяся в этом), костюм и туфли из Европы (тоже авторитетное свидетельство Марины).
Он прибыл так, словно с самого начала имел задачу испортить о себе впечатление: въехал в ворота на представительской «Audi A8», с шофером, который не церемонясь поставил машину прямо перед входом в здание ОТДЭ, нагло наехав колесами на кромку газона. Сотрудники свои машины ставили не во дворе, чтобы не портить вида, а за воротами, где, между тополями, устроены были специальные места с полосками. Потом выяснилось, что машина с шофером – не бонус от руководства предприятия, просто Дымшев привык на своих должностях ездить именно таким образом и, уйдя с высокого поста, умудрился выкупить машину по остаточной стоимости и платил водителю зарплату от себя лично.
– Оно явилось! – прокомментировал Влад.
Борис Соломонович на правах старшего познакомил Дымшева с коллективом: назвал всех поименно, указал должность, обязанности и дал краткие характеристики – естественно, самые лестные, сдабривая, как всегда, свою речь смешными словечками.
Дымшев ни разу не улыбнулся, но и не дичился, всем пожал руки и сказал:
– Ну а я Дымшев Николай Павлович. Будем с вами работать.
Работать он взялся старательно, долго беседовал с Борисом Соломоновичем, вникал в суть, а к концу дня заявил:
– Ну что ж, я еще тут посижу с бумагами, в понедельник опять увидимся. С утра ровно в девять планерка. Теперь, так сказать, по производственному быту. Я заметил, некоторые курят, – (Марина, Влад и Павел переглянулись), – так вот, в здании, естественно, никаких курилок.
– У нас их и нет, – сказал Павел. – Мы на улицу выходим.
– Это сейчас, пока еще тепло. А потом?
– Там сени есть, тамбур такой…
– Нет. Тоже на улицу, извините. Или бросайте, что намного лучше. Далее. Надо будет сделать небольшой ремонт, переедем временно в главный административный конкурс. А может, там и останемся, тут, извините, курятник какой-то. Далее. У вас тут, я смотрю, столовая прямо по месту работы…
– Кухня, – вставила смелая Марина.
– Неважно. Это, конечно, абсурд. Кофейный автомат можно оставить, я понимаю, все мы люди, остальное придется убрать.
– Нам разрешило руководство, – негромко сказал Борис Соломонович.
– Теперь я ваше руководство, – сказал Дымшев, и все поморщились от кислой банальности этой фразы.
Выходили все вместе, поникшие. Шли мимо машины, где дремал шофер Дымшева.
– И не очумеет так весь день сидеть, – пробормотала Ирина.
Вышли за ворота.
– Кого подвезти? – спросила Лиза.
– Я пешком, – сказал Борис Соломонович.
Решили отправиться пешком и остальные.
Понуро брели к метро.
Говорить не хотелось, да и так все ясно: пятница испорчена. Что будет с последующими пятницами, неизвестно.
– А может, в ресторанчик какой-нибудь? – предложил у метро Павел, не надеясь, что с его предложением согласятся.
И, конечно же, не согласились. Ресторан – совсем не то. Свои припасы не выложишь, в карты не поиграешь. Да и вообще…
– А у меня сегодня водка на бадьяне, мускатном цвете и кардамоне, – грустно сказал Борис Соломонович.
– А у меня вьетнамское вино, которое даже во Францию на экспорт идет, – добавил Влад.
– А я буженину из кабанятины сделал, – добил Павел.
– Да ну вас! – махнула рукой Ирина. – Только травите! А вот переселят нас в промзону, это вот серьезно. Я тогда уволюсь.
Но с переселением не получилось: руководство хоть и уважало бывшего министерского работника, но свободных площадей не нашло. Раздосадованный Дымшев выбил ремонт здесь. Пришли рабочие, начали ломать, перестраивать, штукатурить, красить, гоняя всех из комнаты в комнату.
На планерках Дымшев выслушивал, что сотрудники намереваются сегодня сделать, давал указания, содержательность которых сводилась к напоминанию о том, что все надо исполнять вовремя и качественно. Кухню разгромили. Все приносили обеды в контейнерах, Марина предприняла демарш: пошла в столовую и вернулась через полтора часа, дождалась вопроса Дымшева и ответила:
– Идти полчаса туда и столько же обратно, полчаса на обед, учитывая очередь, а жрать бутерброды, извините, я на рабочем месте не буду – это негигиенично, свински выглядит, и у меня слишком нежный желудок.
– Хорошо, – спокойно отреагировал Дымшев. – Будете задерживаться на полчаса в счет обеда.
– А какой-нибудь автобус нельзя до столовой организовать? – спросил Борис Соломонович.
– Я узнаю.
Неизвестно, узнавал Дымшев или нет, автобуса не дали. Скорее, не стал докучать руководству предприятия пустяками, зная по опыту, что мелочная забота начальника о подчиненных у нас выглядит либерализмом или, того хуже, заискиванием перед нижестоящими, а это начальника не красит.
О пятницах теперь не было и речи. Один раз, когда Дымшев убыл на несколько дней, остались, но все было как-то не то: вокруг строительный мусор, вместо нормального стола – накрытый бумагой офисный, ничего нельзя ни толком порезать, ни разогреть, водка теплая, так как холодильник убрали…
Но вот стали замечать: Дымшев все чаще отлучается, постоянно с кем-то созванивается, закрывшись в кабинете, не каждый день проводит планерки.
– Арол ищет новый гнэздо! – с кавказским акцентом сказала Марина.
– Дай бог, чтобы так, – откликнулся Влад.
Они с Мариной улыбнулись друг другу и поняли, насколько же истосковались по прежним вечерам, сидению за картами за одним столом, нечаянным взглядам, оброненным словам, легким намекам… У Марины даже в глазу защипало.
Ждали: вот-вот Дымшев уберется, все будет по-старому.
Но он не убрался, что-то у него не ладилось с возвращением на орлиные высоты.
Ремонт закончился, стало стандартно, офисно, неуютно: дерево везде, где могли, заменили на пластик, поставили стеклянные прозрачные двери, убрали с окон занавески, повесив жалюзи. Марина этого не вынесла, собственноручно сняла жалюзи с окна, возле которого сидела, повесила занавесочки. Дымшев, увидев это, постоял, посмотрел, но ничего не сказал.
Заметили, что вид у него не всегда свежий, а глаза бывают красноватыми.
– Пианство! – поставил диагноз Павел. – Вот что губит орлов!
Кстати, «наш орел» стало укоренившейся кличкой Дымшева.
А потом исчезла и машина с шофером. Дымшев приезжал сам, но все-таки на «мерседесе», хоть и не самом крутом и не новом, а иногда его доставляло такси – когда он был очень уж несвеж после вчерашнего.
Никто в его дела не лез, он, естественно, тоже не собирался откровенничать. Целыми днями сидел в своем кабинете, перестал собирать планерки.
– Орлы вспоминают минувшие дни! – громко шептал Павел.
– В тетрис играет, – усмехался Влад.
– С женщинами на сайтах знакомств переписывается, – подхватывала Марина.
– Или порнографию смотрит, – хихикала Лиза.
– А может, просто спит, – предполагала Ирина.
Борис Соломонович молчал – не из-за уважения к начальству, просто не в его характере было подтрунивать над слабыми и неумными.
Однако, как бы ни был слаб Дымшев, а жизнь испортить им сумел, уничтожил пятницу. Правда, и сам по пятницам не задерживался, но устраиваться кое-как среди новой офисной мебели, пахнущей химикатами, не хотелось.
В начале декабря выпал первый снег, потом растаял, потом навалило за ночь столько, что нельзя было пройти, все весело взялись за лопаты, расчистили дорожки, навалив по бокам сугробы-отвалы, стало по-новогоднему красиво и празднично.
И так всем захотелось пятницы, так затосковали по ней!
Марина сказала:
– А знаете что? В комнате, где кухня была, там же только копировальный аппарат стоит. Она пустая! Взять да и привезти все обратно. То есть новое. Стол, холодильник, ну, понимаете, да?
Она была почти уверена, что ее не поддержат: очень уж радикально.
Но Борис Соломонович ответил абсолютно серьезно:
– Мне нравится. У нас тут материальные пропуска не нужны, в субботу сами все привезем и оборудуем.
Все почувствовали себя бунтовщиками и революционерами.
– Нет, а что он нам сделает? Уволит? В суде оспорим! – разошлась тихая Ирина.
– Вот именно! – поддержал Павел. – Какой-то пацан будет тут! У меня язва уже, между прочим!
Всю неделю заговорщики обсуждали план действий, собирали деньги на приобретение всего необходимого.
– Еще и плиту поставим! – грозила Марина.
– Нет, это чересчур, пожарники не разрешат, – урезонила Ирина Сергеевна.
И в субботу все исполнили, как задумали, удивляясь, как все оказалось несложно и быстро. И недорого.
Кухня приняла почти прежний вид, хотелось тут же засесть за стол, начать праздновать и сыграть мощную серию партий в «литературу» аж до полуночи. Но сдержались: надо все же посмотреть на реакцию Дымшева.
В понедельник он приехал поздно, около двенадцати, сразу прошел в кабинет. Через полчаса вышел и направился к кофейному автомату. Там была Лиза. Она испуганно посторонилась, Дымшев налил себе кофе, оглядел все мутным взглядом и ушел, не сказав ни слова.
Так и просидел в кабинете, а перед отъездом громко сказал, ни к кому не обращаясь:
– Упрямые вы люди, я смотрю!
Очень странная фраза, если подумать. Кто упрямый, то как раз он – прицепился к кухне, которая ему не мешала. Да уж, есть люди: обвиняют других именно в том, в чем сами виноваты!
У Дымшева, видимо, миновала черная полоса, он опять с кем-то активно переговаривался по телефону, был свеж, деловит, даже возобновил планерки. Главное – ровно в шесть исчезал.
И настала пятница – первая пятница после долгого перерыва.
С утра все были слегка возбуждены.
– Я перед первым трахом так не волновалась, – сказала Марине Лиза, иногда допускавшая такие выражения, хотя и была девушка в целом интеллигентная.
– И не говори! – отозвалась Марина.
– Ничего особенного не случилось, – обмолвился Борис Соломонович, мудро умеряя чрезмерный восторг: завышенные ожидания чреваты разочарованиями.
И вот Дымшев уехал.
На этот раз не стали оттягивать, и без того истомились, тут же начали готовиться, накрывать на стол, резать, расставлять, раскладывать.
– Прямо счастье какое-то! – сказала Ирина Сергеевна, утирая глаза.
Борис Соломонович достал водку.
– На чем? – спросило Павел.
– Ни на чем. Чистая. В определенном смысле жизнь начинается с нуля. Вернее, с простых величин.
– Это очень верно, – покачала головой Ирина Сергеевна, глядя на Бориса Соломоновича с откровенной нежностью, – вы даже не представляете, как это верно!
То был, наверное, лучший вечер в их жизни. По крайней мере, той жизни, которую мы можем назвать пятничной.
Они сидели допоздна: сначала как следует пообщались за едой, потом играли в «литературу» – с азартом, с наслаждением, расходились довольные, как дети после елки.
И была еще одна пятница, и еще одна, и еще.
Первым тостом Бориса Соломоновича теперь были слова:
– За вашу и нашу свободу!
Всем понравился красивый лозунг, хотя те, кто помоложе, оказывается, не знали его происхождения. Широко эрудированный Борис Соломонович рассказал об исторических корнях этого призыва, о протестном движении в послевоенной Польше, о вводе в 68-м году советских войск в Чехословакию, о демонстрации на Красной площади, когда горстка отчаянных людей вышла с плакатами протестовать, была схвачена, избита, а потом их отправили кого в психушку, кого в тюрьму, кого в ссылку.
– Какое у нас было государство агрессивное! – удивилась Лиза.
– Оно и сейчас такое, Лизанька, – усмехнулся Влад.
– Ну, я бы не сказала! – возразила Марина, хотя тоже так думала. Просто она немного ревновала Влада к Лизе.
И в тот вечер некоторым казалось, что в руках у них не карты, а крамольные антиправительственные листовки.
Однажды вечером, когда они закончили ужин и, убрав со стола, переходили ко второй части – к картам, вдруг распахнулись ворота и въехало такси.
Из него вышел Дымшев.
Карты, конечно, тут же убрали, наскоро распихали по углам посуду и другие приметы пиршества, но все сделать не успели, Дымшев уже стоял на пороге кухни и наблюдал за суетой. Он все понял. Неровными шагами направился к столу, сел за него, широко оперся руками и спросил:
– По какому поводу? День рождения? Взятие Бастилии? Хэллу… Хэллоуин?
Ирина Сергеевна, тихая женщина, иногда проявлявшая редкостную смелость, решила все взять на себя:
– Это все я, Николай Павлович. У меня… Годовщина работы здесь, пятнадцать лет, вот я и…
Но Борис Соломонович не позволил ей геройствовать и не хотел ею прикрываться. Он сказал:
– Мы просто остались после рабочего дня пообщаться. Это запрещено?
– Вообще-то да, если с выпивкой, – ответил Дымшев. – Да и без выпивки не приветствуется.
– Насчет выпивки вам лучше знать! – отчеканила Марина.
Дымшев повернулся к ней. Долго смотрел в глаза, слегка покачиваясь на стуле. Марина спокойно выдержала этот взгляд.
– Ладно, – сказал Дымшев. – Вас понял.
Он вышел, прошел в свой кабинет, что-то взял там и уехал.
На другой день им было объявлено, что кухня упраздняется окончательно. Включая кофейный автомат. Мебель и прочее, купленное на личные деньги, вывезти в три дня. А пока помещение будет закрыто.
И явился человек, и врезал замок в дверь.
Это было объявлением войны. Вернее, уже ее началом.
Через пару дней кто-то, оставшись вечером, взломал замок.
Дымшев распорядился поставить дверь металлическую, с замками особой сложности и прочности.
А в коридоре у входа появился охранник.
В России тех лет, о которых мы повествуем, не оставалось ни одного здания, ни одного хоть сколько уважающего себя учреждения без охранника, сотни тысяч, а то и миллионы мужчин в униформе сидели или слонялись у входов – все чем-то похожие: неопределенного возраста, неуловимой внешности и с одинаковой непроницаемостью бог знает о чем думающих глаз.
Но ОТДЭ эта зараза миновала – было бы нелепо, учитывая малочисленность сотрудников и то, что ни разу за всю историю отдела не было попыток проникновения, воровства или промышленного шпионажа – слишком специфичной и узконаправленной была его деятельность.
– Автобус для столовой не сумел выбить, а охранника выбил! – возмущалась Марина. – Как он сумел, интересно, у нас же штат лимитированный!
Вскоре выяснилось как: Дымшев уволил Бориса Соломоновича.
Не подкопаешься – по возрасту.
Хотели устроить демонстративные проводы: сдвинуть в пятницу вечером столы, принести с собой все необходимое, включая шампанское, но Борис Соломонович отговорил.
– Не надо, все равно нам будет не по себе. Лучше просто посидим в ресторане.
Без Бориса Соломоновича стало пусто и скучно, будто не один человек ушел, а половина коллектива.
Павел предложил устроить итальянскую забастовку: все делать только в строгом соответствии с правилами и инструкциями. Не подкопаешься! Спросят, почему экспертные отчеты стали составляться так медленно, мы ответим: начальство требует пунктуальности, вот мы и стараемся!
Но выяснилось, что отдел и без того всю документацию оформлял по правилам и инструкциям, с соблюдением всех мыслимых и немыслимых закорючек. Кто и когда это завел, неизвестно, возможно даже Борис Соломонович, но факт остается фактом: медленней работу делать было невозможно, ибо она и так уже делалась максимально медленно. Зато максимально скрупулезно.
Ограничились тем, что перестали общаться с Дымшевым. Только если о чем спросит. Отчеты приносили и клали ему на стол молча.
Он терпел. Или не подавал вида, что его это волнует. Или его это не волновало.
Тем временем Лиза Станюк поменяла бойфренда и квартиру, жила теперь далеко. И решила уволиться.
Без нее Павел и Влад заметно увяли, Марина это видела, ее это обижало. Она шарила по интернету, искала другую работу.
Пришли предновогодние дни, которым раньше радовались, украшали елочку, растущую у входа, игрушками, вешали на нее электрическую гирлянду, разбрасывали канитель по другим деревьям, в сугробы вдоль дорожек втыкали сосновые веточки, специально купленные на рынке.
Сейчас ничего этого не хотелось делать. А когда несколько дней подряд валил снег, не взялись, как раньше, за лопаты и метлы, протоптали только дорожку от ворот к двери. По распоряжению Дымшева была пригнана небольшая снегоуборочная машина, та за пару часов, бесстыдно тарахча и бесцеремонно катаясь туда-сюда, сгребла весь снег за ворота, оставив голое неприглядное пространство и выворотив, это уж как водится, пару бордюров из окаймления дорожек, которые никто и не подумал поставить на место.
О пятницах забыли.
А потом был нанесен последний удар: ОТДЭ перевели в главный административный корпус, сотрудников посадили в огромной комнате, похожей на цех, в ней за перегородками стояли десятки столов, при этом Павел, Ирина, Влад и Марина сидели даже не рядом, а там, где нашлись свободные места. Сначала они ходили друг к другу в гости, а потом Марина, отыскав работу получше и поближе к дому, уволилась, за нею уволился и Влад, остались только Павел Кочетов и Ирина Сергеевна, которые и раньше были не особенно дружны, а теперь и вовсе не общались.
Прошел год.
Однажды Марина стояла, ждала маршрутку (старая ее машина была в очередном ремонте), мимо проехал маленький красный автомобиль, притормозил, сдал назад, из него выскочила Лиза – похорошевшая и даже как бы помолодевшая, хотя куда уж больше.
Подруги обнялись, наскоро обменялись сведениями о жизни: у них все было хорошо, Лиза собиралась замуж, Марина, как выяснилось, тоже.
– Сама удивляюсь, но – повезло, встретила приличного мужчину. Как миллион в лотерею выиграть!
– Но кто-то ведь выигрывает.
– Вот мне и выпало.
Порадовались друг за друга, Лиза предложила подвезти.
В машине вспомнили о работе в ОТДЭ, о пятницах, об игре в «литературу».
– Как там Борис Соломонович? – спросила Лиза.
– Прибаливает. Павла встретила, он рассказал.
– А что с ним?
– Возраст.
– А это, как его… Дымшев. Вернули его в министерство?
– Понятия не имею, – сказала Марина. – Зато знаю, почему он был таким странным. Когда нас в корпус перевели, мне одна женщина из отдела кадров рассказала. У него, оказывается, жена и маленький сын попали в аварию, погибли оба. Какой-то грузовик виноват, но по суду вышло, что как бы не виноват. Дымшев нашел водителя, избил до полусмерти, ему дали условный срок, посоветовали затаиться, найти скромную работку. Вот он у нас и пересиживал.
– Надо же, – Лиза сморщилась от сострадания. – Если бы мы знали…
– А что бы изменилось? У человека в жизни что угодно может случиться, но он при этом должен человеком оставаться или нет?
– Это верно, – кивнула Лиза.
Некоторое время они молчали, размышляя о крутых поворотах жизни.
Потом Лиза, глядя на сияющую предновогодними огнями витрину универмага, улыбнулась и сказала:
– А я часто вспоминаю наши пятницы.
– Я тоже.
– Хорошее было время.
– Еще бы, – в лад и в тон ответила Марина, но тут же вдруг сама себе возразила: – Да ничего хорошего на самом деле! Так бы и сгнили там насмерть!
– Тоже верно, – согласилась Лиза. – Но все-таки хорошо же было?
– Я и не спорю.
Рассказ о рассказе, которого нет
Писателю Н. предложили написать рассказ о русской женщине для сборника «Русские женщины».
Ему уже приходилось сочинять на заданные темы, он это даже любил, было в этом что-то школьное, невинно-соревновательное, с результатом, который подтверждал: я могу, я умею, поставьте мне пятерку! Или, напротив, что-то взрослое, но при этом опять-таки веселое, спортивное.
К тому же, в предыдущих случаях у него всегда имелся какой-то сюжет, до этого дремавший, оставалось только его пробудить и заставить жить.
Но в данном случае Н. призадумался.
Сначала показалось: уж о русских-то женщинах и женском народе как таковом у него столько сюжетов, что хватит не на один рассказ, а на целую книгу. Однако чем больше Н. размышлял, тем яснее становилось: эта волнующая тема его сейчас не так уж и волнует, он уже все о женщинах написал; по крайней мере, на текущий момент добавить нечего.
Н. зашел на кухню к жене и как бы между прочим сказал:
– Мне тут предложили написать рассказ для сборника «Русские женщины».
– О чем? – спросила жена, которая в это время задумчиво смотрела в открытый холодильник.
– Догадайся.
– А, ну да, конечно. Напиши, почему нет?
– Легко сказать. Хочется ведь что-то такое. Необычное. Квинтэссенцию такую.
– Напиши квинтэссенцию.
– Необъятное в одном рассказе не обнимешь.
– Не обнимай.
Н. удалился в свой кабинет, находившийся на втором этаже дома, нажитого праведными, но не литературными трудами: Н. хоть и был преимущественно теперь писатель, но, имея богатого папу, советского композитора, и располагая стартовым капиталом, вложился когда-то в сеть небольших стоматологических клиник, которые потом успешно продал, деньги очень удачно разместил и реализовал мечту всякого, кто желает делать только то, что хочется: жил на ренту.
Итак, рассказ о женщине, сказал он себе. О русской женщине.
Которая коня на скаку остановит, далее по тексту.
Чем, собственно говоря, отличается русская женщина от украинской, еврейской, татарской или зимбабвийской?
Ну тем же, что и население вообще. Отношение к религии, к семье, к детям, к работе.
Но интересно же не это.
Интересна душа.
Хорошо, о душе. Надо показать, например, как русская женщина умеет прощать.
Н. оглянулся в прошлое, на своих трех жен, включая теперешнюю, на своих женщин, которых было довольно-таки немалое количество, и не припомнил, чтобы они были настолько склонны прощать, что это могло бы считаться доминантной характеризующей чертой.
Он спустился к жене.
– Как ты думаешь, просто в порядке рассуждения: чем отличается русская женщина от других?
– А я знаю других?
– Ты же переводчица аж с трех языков.
– Книги одно, люди другое. Я книги перевожу, а не людей. Ты пирог хочешь с рыбой или с капустой и яйцами?
– А если то и то?
– К обеду не успею.
– Тогда с рыбой. Нет, с капустой и яйцами. Если не трудно.
– Без проблем.
– Так все-таки?
– Что?
– Чем-то ведь отличается русская женщина от других?
– Ты писатель, тебе виднее.
– Да, но я просто хочу сверить свои мысли.
– Ну… Она терпеливая. Добрая – в принципе. Многое прощает, особенно мужчинам. Женщины других наций, мне кажется, строже.
– Вот – и я именно об этом думал! Это, наверное, самое главное: умение прощать. В частности – мужчину. Точно.
И Н. направился наверх. На лестнице оглянулся и ласково крикнул:
– Извини, все-таки с рыбой!
– Хорошо.
Н., вернувшись в кабинет, сел за стол.
Все бы хорошо, думал он, но нельзя начинать с темы, с идеи. Замысел – это сюжет или образ. У меня много сюжетов и образов. Надо припомнить что-то подходящее.
Но странно – образы и сюжеты не являлись. Возникали видения реальных женщин, не оформляясь во что-то рассказообразное или хотя бы рассказоподобное.
Русская женщина, размышлял Н. Современная русская женщина. Это важно. Именно современная. А особенность современной русской женщины, как и, наверное, немецкой, прибалтийской или колумбийской, в том, что она унифицируется. Глобализация влияет на все. Интернет уравнивает. Мода причесывает под одну гребенку.
Так это и тема! – озарило его. Написать о том, как русская женщина перестает быть русской женщиной! Не надо ей уже коней останавливать и входить в горящую избу, она вызовет МЧС. Она лихо сидит за рулем, рассекая страшные московские улицы. Она сидит в офисе, а не в горнице с выводком ребятишек. Она не павой кружит в хороводе за околицей, застенчиво клонясь долу русокосой головою, а смело колышет универсально привлекательными бедрами на парижских и нью-йоркских подиумах.
Н. спустился вниз.
– Рано еще, – сказала жена.
– Да я кофе хочу.
– Сварить?
– Можно растворимый с молоком. У нас есть?
– Молоко?
– Кофе растворимый.
– Да.
– Хороший?
– Нормальный.
– А я вот о чем. Ведь на самом деле нет никакой русской женщины.
– Мысль интересная.
– Нет, я серьезно. То есть где-то еще имеются бабушки, хранящие заветы… Хотя – какие заветы в стране, пережившей социализм? Ничего не осталось! Было бы честно – постсоветские женщины! Вот это – типаж!
– Тоже верно.
Да, подумал Н., чувствуя, что начинает волноваться: верный предвестник вдохновения, а то и озарения. И поспешил наверх.
– А кофе? – окликнула жена.
– Потом!
– Я принесу.
– Спасибо.
Н. включил компьютер, еще не зная, о чем будет писать, надеясь на творческий авось.
Жена принесла кофе.
– Нет, в самом деле, – сказал он ей. – Я имею в виду не какие-то внешние вещи, а что-то глубинное, в душе, разве оно сохранилось? Ты вот чувствуешь в себе что-то такое, чего нет у француженки или американки?
– Я на четверть еврейка, забыл?
– Хоть на все сто! Еврейка в России – русская еврейка. То есть тоже русская женщина. Есть ли сейчас вообще русская женщина, вот вопрос?
– Лично я ничего специфически русского в себе не вижу. Но это я. Люди с образованием и интеллектуальной работой вообще везде похожи.
– Я не про интеллект, я про что-то такое. Особенное. Но, похоже, главная особенность современной русской постсоветской женщины в том, что она утрачивает особенность, она перестает быть русской женщиной!
– Пожалуй.
Жена ушла, а позывы вдохновенья оказались ложными: не только ничего не озаряло, а вообще не приходило в голову.
Признаки творческой импотенции? – с грустью предположил Н.
И, раз уж прозвучало в уме это слово, невольно подумалось: а чем отличается русская женщина в любви и сексе?
У Н. были женщины разных национальностей, проживающих в России, было также несколько зарубежных женщин, чем он гордился. Три, если точно. Американка с бердичевскими предками, полуукраинская полячка и чистокровная немка-переводчица во Франкфурте-на-Майне, во время книжной выставки, в гостинице, после выпивки и признаний в дружбе-фройндшафт. Отличие лишь в том, что с зарубежными сложнее из-за языка. Поэтому они кажутся скованными, приторможенными, холодноватыми. С нашими проще и милее. Сейчас бы не рассказ сочинять, а…
Думай, думай, перебил себя Н. Это дело принципа, в конце-то концов! Ты умеешь, ты можешь! Ты уже много чего написал о женщинах, именно русских женщинах, неужели исчерпана эта безграничная тема?
Однако лезло что-то не то. Представлялись какие-то старухи в церкви. Боярыня Морозова с картины Сурикова. Женщины, укладывающие шпалы, с социально-обличительной фотографии. Певица Зыкина и актриса Мордюкова, коих нет уж на земле…
Н. посмотрел в окно, на заснеженные деревья сада, которые он сажал сам и которыми гордился, – посмотрел печально и умиротворенно.
Вот я умру, подумал он, а они останутся. Да и сейчас им все равно, есть я или нет. Они существуют независимо. Как и русские женщины. И женщины вообще. И все прочие люди.
Что-то важное проклевывалось в этой мысли, но что именно, Н. не мог уловить.
Он глянул на часы, решил наведаться в кухню.
– Проголодался? – спросила жена. – Потерпи немного.
– Может, пока бутерброд какой-нибудь?
– Аппетит перебьешь.
– Тоже верно. Знаешь, откажусь я. Ничего не придумывается. А у меня так: или сразу, или никогда.
– Ну и откажись, зачем себя насиловать?
– Главное, наверняка кто-то обязательно напишет именно про это: что никакой русской женщины давно нет. Имея в виду, повторяю, не какие-то внешние признаки, не социальные, не ментальные, а что-то такое совсем особенное. Вот это особенное мы и потеряли.
– Что именно?
– Хороший вопрос! Действительно, не миф ли это вообще? Любой человек – продукт социума и Бога. Бог у всех един, социум разный – вот и все. Так что никакой русской женщины не только нет, но и не было!
– Если так рассуждать, – улыбнулась жена, – то никого нет. Ни русских, ни арабов, ни белых, ни черных. Можно дойти до того, что и деление на мужчин и женщин – условное.
– В какой-то степени да, между прочим.
– Понимаю. Через час приходи.
– Ладно.
Н. чувствовал себя нехорошо, в нем болезненно кукожились разочарование, неудовлетворенность и обида. Обида и на себя, и на женщин.
«Русские мужчины» – небось такой сборник никто не вздумает составить.
Н. проверил: пошарил в интернете. Да, нет такого сборника.
Зачем же тогда выделять женщин? Это их, если подумать, даже унижает. Бианки, рассказы о животных, Миклухо-Маклай, рассказы о папуасах, ВВС, прогулки с динозаврами, Неизвестный Автор, рассказы о женщинах!
Он раздраженно ел пирог с рыбой и сердито говорил:
– Есть только две темы: любовь и смерть, остальное от лукавого! И даже одна: выбор. Вечный выбор – и у людей, и у кошечек-собачек, и у птичек. Куда полететь, что поклевать, с кем спариться и гнездо свить!
Он был сердит еще и потому, что понял: ему хотелось все-таки пирога с капустой и яйцами. Рыбная начинка было вполне ничего себе, но язык и нёбо, приняв на себя первый кусок, так ощутимо огорчились, тут же вообразив себе нежный яично-капустный вкус, что собственная слюна показалась Н. горькой. Но он не хотел говорить об этом жене и расстраивать ее, изливался в другом.
– И наверняка половина рассказов будут о том, как русская женщина преодолевает тяжкую русскую долю, и в этом ее высшее русское предназначение! Типа: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик! А вторая половина – о бабьей самоотверженной любви к неблагодарным мужьям и детям! Надоело! Самое правильное – написать рассказ о том, как сидит какой-то там писатель и вымучивает рассказ, но написать его не может! Потому что – никому не надо!
– Отличная идея! – сказала жена.
– Ты серьезно?
– Почему нет?
– Ты издеваешься? Люди будут стараться, что-то сочинять, потом и кровью, всем сердцем, а тут умник: да фигня это все, что вы делаете! Кем я буду выглядеть?
– Свободным и наглым. Сам говорил: творец должен быть свободным и наглым.
– Как для тебя все просто! – вскипел Н. – Завидую, честное слово! Вот, кстати, в чем главное отличие женщин от мужчин: для вас все просто! Я в Википедию статью напишу. Или две. Первая: мужчина – гомо сапиенс, у которого на всё есть вопросы. Женщина – гомо сапиенс, у которого на всё есть ответы!
– Лихо. На статью не тянет, но формулировки хорошие. Правда, извини, не скажешь, что очень ново. Инь и Ян, давно придумано. Стихия вопрошающая и стихия отвечающая.
– Кто бы сомневался!
– Тебе пирог не нравится?
– Да! Извини. Я с капустой и яйцами хотел.
– Но я же предложила…
– Ты бы слышала, как ты предложила! Вот, между прочим, еще одно ваше отличие, самое существенное: когда вы что-то предлагаете, вы фантастическим образом умеете намекнуть, что именно вы хотите, чтобы выбрали!
– А мужчины не умеют?
– Нет! Мы простодушнее и доверчивей! Кофе есть?
– Опять растворимый?
– Когда это я после обеда растворимый кофе пил?
– Через раз.
– Ладно. Я капризный, я самодур, прости, заел твою жизнь! Спасибо, было очень вкусно!
Поднявшись наверх, Н. открыл заветную дверку, выбрал бутылку, налил, выпил, сел в кресло – подальше от стола с компьютером. Глядел на бледное небо за окном, и это небо, где облачность была растворена, как молоко в воде, тревожила, несмотря на разлившееся в груди тепло, – тем уже тревожила, что взгляду не за что было зацепиться; а там, за этим ближним серым небом, было небо дальнее, синее, а за синим, если подумать о космосе, совсем далекое, черное и неживое. И Н. вдруг всем собой, от пяток до темечка, по которому пробежались морозные мурашки, ощутил безнадежность и бездонность этого мертвого пространства: оно, если подумать, совсем рядышком. Где там стратосфера у нас кончается, километрах в тридцати, что ли, от Земли? Ближе, чем от дома до Москвы! А потом что, сразу вакуум или что-то переходное? Не помню, вернее, не знаю, – ухвативший, как и многое другое, верхи от разных наук и ни в чем не разбирающийся досконально, кроме как в словах, – да и те сегодня подвели!
Н. стало страшно. Какой, к черту, выбор, подумал он, если все наперед определено и назначено? Как космос. Мы прейдем, он останется, тупо моргая черными дырами.
Но, казалось, именно там, в безликом сером небе таилось то, что можно, можно, можно и нужно выразить словами – но сперва хотя бы приблизительно поняв, что это.
Устав так, будто весь день тяжело работал, Н. поднялся, опираясь на подлокотники, медленно, шаркая (и ему даже понравилось старчески шаркать!) подошел к дверке, открыл и неторопливо выпил, а потом выпил еще.
Одевшись потеплее и извинившись перед женой, поцеловав ее в щеку, Н. пошел гулять в саду по тропинкам, расчищенным вчера, после снегопада, – он с удовольствием вспоминал свое вчерашнее удовольствие. Ему было легко и хорошо, как всегда, когда он избавлялся от необходимости делать что-то неприятное. Надо просто жить, да и все, думал Н.
Или жена все-таки права: обнаглеть и написать рассказ о том, как не был написан рассказ?
Да нет, глупость.
И он окончательно успокоился.
Хроника. Сентябрь
Из новостей
* * *
Крушения, наводнения, теракты… Гватемала, Мексика, Йемен… Кения, Ирак, Пакистан, Нигерия…
* * *
Пущена в эксплуатацию Няганская ГРЭС.
(Улыбнуло: вспомнил команду КВН из города Нягань. Вот пойми: то ли команда хороша, потому что там ГРЭС строили, то ли ГРЭС построили потому, что там хорошая команда.
Шутки шутками, а места, известные талантливыми людьми, экономически выигрывают. Представим: сидят люди, распределяющие средства и финансы. Слышат: город такой-то, такой-то, такой-то… Все из этих городов чего-то хотят и на что-то претендуют. Неизвестные названия. И вдруг – Нягань. Всех улыбнуло, как и меня. Заинтересовало. Привлекло внимание.
Мой Саратов из меня мог бы тоже пользу доить, если б захотел. С КВН не сравнить, конечно, на ГРЭС я нужных людей не наулыбаю, а вот на пару стеллажей для районной библиотеки мог бы.)
Из журнала
* * *
Никакого другого театра, кроме психологического, нет. На сцене человек. Играет он кого-то, не играет, каким способом играет, неважно. Он человек, а у человека есть психология. Всё.
Правда, есть уже театры без сцены.
И без человека.
* * *
Сенатор Маккейн горюет: «Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал». (Имеется в виду его открытое письмо с критикой российской власти).
Он до смешного не прав: парадоксально то, что НИЧЕГО НОВОГО в его послании нет, российские граждане публикуют это то и дело, в том числе и в СМИ. Видно, конечно, что человек сторонний, что для него Магнитский, пусси и гонения на ЛГБТ неотделимы от образа России, как шапка-ушанка и водка вместо воды. Но в целом он сказал абсолютно банальные вещи, и отвечать ему никто не будет (как уже заявил Песков) понятно почему: надо ведь возражать. А какие аргументы найдешь против такой ахинеи – цитируем:
«Президент Путин утверждает, что его цель – восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие».
Полная чушь, не так ли? Телеведущий Владимир Соловьев верноподданнически хмыкнул: набор штампов! И он прав. Сплошное общее место, всем известное. Это и грустно на самом деле.
* * *
Если бы я вдруг из 40-летнего прошлого попал в настоящее, из 1973-го в 2013-й год, и очнулся у забора с афишей московских театров, я бы никаких изменений не заметил. Разве что после очень пристального всматривания.
Недаром пластиковые прямоугольники афиш меж колоннами одного московского театра мне напомнили ряд надгробных плит с информацией об упокоившихся персонах. Мир их праху.
Вот сводная афиша московских театров:
МХТ – Николаи, «Немного нежности»; Диккенс, «Пиквикский клуб».
МХАТ – «Ромео и Джульетта».
ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА – «Пристань» (композиция: Брехт, Бунин, Достоевский…)
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА – «Царство отца и сына». Сценарий Ю. Еремина по драматическим произведениям А. К. Толстого в 2-х частях.
ИМ. МАЯКОВСКОГО – Ибсен, «Враг народа».
ЛЕНКОМ – «Юнона и Авось».
ТАГАНКА – «Двенадцатая ночь».
ИМ. ПУШКИНА – М. Твен, «Таланты и покойники».
ИМ. ЕРМОЛОВОЙ – Питер Устинов, «Фотофиниш».
ТЕАТР НА М. БРОННОЙ – «Ревизор».
ТЕАТР У НИКИТСКИЙ ВОРОТ – А. Островский, А. Пушкин, «Самозванец».
ТАМ ЖЕ – «Я, бабушка, Илико и Илларион».
И т. п.
Ни одной современной пьесы.
Из дневника
* * *
12-ю серию опять переделывать.
* * *
Саратов. Маме плохо. Возили ее на снимки: ничего не срослось. Нужна операция, вставлять сустав. Но нельзя – из-за сердца. Грусть, тоска… Но сейчас они с отцом опять духом покрепче. Боже ты мой, 84 и 82, и почти 60 лет вместе! …
Мне трудно, а им?
Так что сиди и молчи.
* * *
Дописал пьесу «Инна», провел эксперимент – сразу же выложил на сайте. Много шума в сети. Но уже прошло. Заинтересовался Дариуш для своего (польского) театра. Больше из театров пока никто.
* * *
Закончил страшный сериал про страшную любовь. Вернее, остановился. Доделки теперь – с участием режиссера. Ни радости, ни облегчения. Отупение. Так долго шел по песку к морю, что нет сил доползти до воды. А главное – морскую-то воду все равно пить нельзя.
Сосед
Двери лифта открылись, и Холодцов увидел соседа с восьмого этажа, о котором он ничего не знал, кроме того, что это сосед с восьмого этажа.
– Здравствуйте, – сказал Холодцов и вошел в лифт.
– Здрасьте, здрасьте! – ответил сосед с какой-то странной веселой иронией.
Холодцов встал рядом с ним, лицом к дверям, потому что это естественно – вставать лицом к дверям, чтобы сразу же выйти, когда они отроются.
Таким образом, Холодцов оказался плечом к плечу с соседом и не имел возможности прямо посмотреть на него. А посмотреть хотелось: с чего вдруг тот его так поприветствовал? Ирония, улыбочка чуть ли ни ехидная – что они означают?
Холодцов попытался скосить глаза. Не получилось. Он вспомнил, что ни на кого никогда не скашивал глаз, смотрел прямо и открыто. Интересные вещи иногда узнаешь о себе, несмотря на сорок с лишним прожитых лет! Ему в голову никогда не приходило, умеет ли он скашивать глаза, то есть смотреть искоса или исподлобья – не было в этом необходимости. Но сейчас-то какая необходимость, что его встревожило?
Неожиданность встревожила.
Посудите сами: посторонний человек вдруг обращается к вам не просто по-свойски, а фамильярно, да еще с каким-то двойным смыслом, будто знает вас как облупленного.
А сосед не может знать Холодцова как облупленного, хоть и живет в квартире прямо над ним.
Постойте, минутку. Над ним. Разделяет только потолок. Может, он сквозь потолок (то есть для соседа это пол) услышал что-то, показавшееся ему смешным или глупым, вот он и усмехается с обывательским высокомерием человека, у которого никогда в жизни не бывает ничего смешного и глупого.
Холодцов вспомнил вчерашний вечер. Он вернулся с работы, поужинал с женой Оксаной, четырнадцатилетним сыном Платоном и восьмилетней дочерью Полиной, посмотрел телевизор, включив его на умеренную громкость. В одиннадцать лег спать. Все, как обычно, как всегда, никаких поводов для усмешек и иронии. Ни застольного пения, ни музыки на полную мощь, ни скандалов, ни веселых или печальных криков – ничего не было.
Непонятно.
Тем временем лифт доехал до первого этажа. Холодцов помедлил, давая возможность соседу выйти первым.
Но тот не торопился. Словно хотел проводить Холодцова насмешливым взглядом в спину, полюбоваться, как неловко и мешковато Холодцов будет удаляться, подтверждая неуверенной походкой свою вину.
Какую еще вину, что за чушь мне мерещится? – возмутился мысленно Холодцов и шагнул вперед.
И пошел довольно ровно. Даже, пожалуй, ровнее обычного, вернее, как бы свободнее, с более энергичным покачиванием плеч, будто не на работу собрался, а прогуляться, пофланировать по улице от нечего делать.
Но тут же себя одернул: ради чего я стараюсь? – и перешел на обычный аллюр, однако выяснилось, что обычным аллюром идти стало почему-то трудно, будто Холодцов забыл, как это делается. В результате походка получилась все-таки именно мешковатой и неловкой; Холодцов не оборачивался, но был почти уверен, что сосед откровенно и издевательски скалится, наблюдая за его маневрами.
Дойдя до машины и сев в нее, Холодцов передохнул, вытер ладонью пот (с утра было уже довольно жарко) и положил руки на успокоительную округлость руля. И тронулся, и поехал. Езда всегда действовала на него благотворно, он передвигался неспешно, аккуратно, чувствуя себя дружественным хозяином автомобиля и нежадным пользователем покрываемого автомобилем пространства.
Вот и сейчас постепенно вливалось в тело состояние привычного умиротворения.
За время дороги, слушая радио и рассеянно думая о чем-то неопределенном, Холодцов забыл о пустяковом эпизоде. Но приехал на работу, вошел в лифт, чтобы подняться на свой этаж, и лифт ему опять все напомнил.
После этого отогнать навязчивые мысли было уже невозможно.
Может быть, сосед видел с балкона, как сын Холодцова Платон курит или пьет с друзьями пиво на детской площадке возле дома? Как раз в четырнадцать лет, говорят, сейчас начинаются первые опыты такого рода. Поэтому сосед и усмехался: плоховато, дескать, папаша, воспитываешь отпрыска!
Или ему что-то известно о жене Холодцова Оксане? Но какие секреты могут быть у обычной преподавательницы колледжа?
А может, сосед что-то знает о работе Холодцова? Что-то тайно-нехорошее? И это позволяет ему пророчески ухмыляться: придет скоро твой час, будет тебе трендец с малиной, как любит говаривать экономист Сквориков.
Тут бы, конечно, надо рассказать, что за деятельность такая у Холодцова, в какой сфере он подвизается, что в ней тайно-нехорошего, из-за чего может грозить трендец с малиной.
Но в этом нет необходимости: любая сфера деятельности в нашем отечестве связана с чем-то тайно-нехорошим в большей или меньшей степени, следовательно, любой сфере и любому ее сотруднику теоретически грозит этот самый трендец с малиной.
Тем не менее, Холодцов неожиданно подумал: а не слишком ли он тут присиделся, привыкнув ко всему, в том числе к тайно-нехорошему, не пора ли найти что-то новое? Совсем невинное и безопасное. Он даже начал припоминать, какие есть работы, где невинность и безопасность гарантированы, в голову полезла всякая чушь, замелькали какие-то дворники с метлами, мойщики машин, фотографы при фотоавтоматах и, сосем уж неожиданно, старушки-смотрительницы в музеях, дремлющие на своих стульчиках.
Опомнись, одернул себя Холодцов. Куда тебя несет, ты совсем уже рехнулся из-за своих дурацких фантазий!
Тут навалились повседневные текучие дела, они вернули все в нормальное русло, Холодцов работал с документацией, общался с сотрудниками, звонил и принимал звонки.
А попив перед уходом кофе с симпатичной Викой, сказав ей что-то очень удачное, остроумное и получив в награду одобрительную улыбку, он окончательно пришел в себя. Ехал домой, с удовольствием прокручивая в памяти разговор с Викой и свою замечательную шутку. Пожалуй, Вика ко мне неравнодушна, думал он. Да и я к ней. Конечно, ничего между нами не будет, но, если захочется, может быть. Великая сила в этих словах – может быть!
Но как только вошел в подъезд своего дома, а потом в проклятый лифт, опять все вспомнилось, на душе стало зябко, неуютно.
К тому же, палец машинально, будто сам собой, нажал на кнопку восьмого этажа.
Холодцов решил исправиться, нажать на седьмой, но передумал. Раз уж так получилось, ладно, доедем до конца. И посмотрим, что там.
Он вышел на восьмом этаже, осмотрел дверь, ведущую в тамбур, где была соседская квартира под номером пятьдесят один. Там еще две квартиры – пятьдесят и пятьдесят два. У Холодцова и его соседей по тамбуру общая дверь обычная, деревянная, с матовым армированным стеклом, не всегда даже закрывающаяся на замок. А тут – металлическая. Не исключено, что поставлена она по инициативе соседа. Он с виду человек основательный, крепкий, вот и дверь такую же соорудил, хотя вряд ли боится воров.
Но если не боится, почему так отгородился, защитился от внешнего мира?
К черту, к черту, хватит, сказал себе Холодцов, ты уже сходишь с ума!
И он спустился вниз, вошел в квартиру, бодро поздоровался с женой и с детьми, словно ничего особенного не произошло.
За ужином был оживлен и весел.
А потом сел в большой комнате (она же гостиная или зал, кто как называет) перед телевизором и, усаживаясь, глянул на потолок. Не нарочно. Попробуйте, проверьте, сядьте на диван, при этом движении взгляд ваш сам собой окажется где-то в месте соединения потолка со стеной.
А в углу был стояк, обычная металлическая труба. Сквозной стояк отопления, соединяющий квартиры сверху и снизу, в квартире Холодцова ненужный, у него к батарее ведет другая труба, в другом углу.
Холодцов пригляделся.
Встал, подошел.
Увидел, что между трубой и потолком небольшой, совсем крошечный зазор.
Крошечный-то он крошечный, но…
Холодцов закрыл двери, задернул шторы, выключил свет, добиваясь полной темноты.
И был если не потрясен, то очень удивлен: в зазор сверху пробивался свет!
Холодцов обошел все комнаты, в которых тоже были сквозные стояки. А комнат всего три, да еще кухня. В зале, превращая его на ночь в спальню, обитают Холодцов с женой, в двух маленьких комнатках – Полина и Платон. У Платона отдельный вход, Полина ходит к себе через родителей.
Не отвечая на вопросы жены и детей, Холодцов молча выключал свет, закрывал двери и шторы, смотрел. Везде все было заделано плотно, щелка только в зале.
Может, сосед сам ее расковырял?
Но зачем?
Как зачем? Туда, например, можно всунуть крошечный микрофон, сейчас такие существуют. Или даже видеокамеру.
Хорошо, но с какой целью? Что такого может услышать и увидеть сосед с помощью этих приспособлений?
Меж тем Оксана не могла понять, что происходит.
– Чего ты смотришь? Течет, что ли, где?
– Дырка, – показал ей Холодцов.
– Ну и что? Ей сто лет уже. Она крошечная, ничего не слышно и не видно. А кто там живет, сверху?
– Понятия не имею, – сказал Холодцов, не желая вдаваться в подробности.
Он вышел на балкон, где у него был шкафчик с инструментами и разной хозяйственной мелочью, пошарил, нет ли какой замазки или еще чего-то в этом роде.
Не оказалось.
Тогда он взял у Полины пластилин белого цвета (на самом деле сероватого), поставил на стул табурет, влез и замазал щелку.
– Так хуже стало, – сказала Оксана. – Заметно.
– Зато дыры нет.
После этого Холодцов успокоился, с легким сердцем смотрел телевизор, а потом улегся и довольно быстро заснул.
Но среди ночи вдруг проснулся.
Это и раньше бывало по обыденной причине – в туалет сходить. Но сейчас в туалет не хотелось. Проснулось от чего-то другого, тревожно щемящего. Посмотрел в потолок. Щели не заметно. Однако он все же встал, не потревожив жену (он спал всегда с краю), подошел к трубе, осмотрел. Комочек пластилина виднелся небольшой выпуклостью. Все в порядке.
И все же он долго ворочался, не мог заснуть.
Проснулся разбитым, вялым, хмуро отправился на работу.
Да, сейчас щели нет, не просунешь ни камеру, ни микрофон, а – раньше? Настоящее замазано, но прошлое осталось!
Ну и что, ничего такого в прошлом не было, у тебя психоз, сказал себе мысленно Холодцов. Ты понимаешь, что это психоз?
Да.
Тогда прекрати думать об этом!
Хорошо.
И продолжал думать.
Ладно. Если уж так, если нет воли над своими мыслями, лучше их отпустить – чтобы их абсурдность и нелепость стала самоочевидной.
И Холодцов отпустил.
К примеру, сосед подсмотрел, как они с Оксаной занимаются супружескими нежностями, занимаются осторожно, чтобы не разбудить Полину. Это со стороны может показаться смешным. Ну и что? Ничего.
Или он видел, как Холодцов, оставаясь в комнате один, почесывается в разных местах. Опять-таки – ну и что? Кто не почесывается, будучи наедине с собой?
А может, у соседа извращенные фантазии? Увидел, например, как Полина прыгает в постель к родителям в позднее воскресное утро, когда они отсыпаются и долго не встают, возится там, дурачится, иногда в это время Оксана встает и уходит, а Холодцов остается с Полиной, продолжая дурачиться и родительски обжиматься – вот и простор для инсинуаций. Но это его дурь, соседа, это над ним нужно посмеиваться, а правильнее без всякого смеха строго потребовать, чтобы он прекратил заниматься вуайеризмом и думать своей больной головой неизвестно что!
А может, сосед стал свидетелем того странного свидания с бывшей одноклассницей Соней, которое случилось лет, кажется, двенадцать назад, когда Оксана уехала с маленьким Платоном в оздоровительный пансионат, а Холодцов как-то вечером, выпив пару бутылок пива, захотел поболтать с кем-нибудь по телефону. Соня была третьей или четвертой собеседницей, очень обрадовалась, напомнила Холодцову, что у них была легкая взаимная влюбленность, спросила, как и что, рассказала о своем коротком неудачном замужестве, а потом, узнав, что Холодцов слегка выпивает в одиночестве, пожелала присоединиться. Приехала с бутылкой коньяку, они начали вспоминать о школьном беззаботном времени, поделилась сведениями об одноклассниках, а потом как-то само собой получилось, что начали целоваться. Охмелевшие и растроганные молодой мужчина и молодая женщина, понятное дело. Целовались, лежа на диване, Соня призналась, что всегда любила Холодцова, ему было приятно, но не более того. Он понимал, чего ей хочется, но сам не воспылал, его уже клонило в сон, он посматривал на часы. И неожиданно начал сетовать на семейную жизнь, жаловаться на Оксану, не понимающую его духовных запросов, рассказывал про нее нелепые вещи, вдохновенно клеветал, не чувствуя стыда – может, потому, что говорил не об Оксане, а о какой-то другой, придуманной женщине, образцово грубоватой, туповатой и приземленной. Но Соня принимала все за чистую монету, слушала с сочувствием. А сочувствовать мужчине, как понял Холодцов, для женщины иногда важнее, чем с ним переспать. И это было ему на руку. Он достал из холодильника бутылку водки, продолжил выпивать, Соня отказалась, но его не отговаривала: у человека беда, ему плохо. Это позволило Холодцову оправданно напиться, сознания осталось ровно настолько, чтобы сказать: «Прости, я не в форме. Лучше тебе уйти». Соня говорила, что не может оставить его в таком отчаянном состоянии, но он отвергал ее помощь: «Спасибо, не надо, я справлюсь сам. Мне надо все обдумать. А потом мы встретимся – и…». После «и» он сделал многозначительную паузу. Соне была нужна надежда, она ее получила. И ушла. Потом звонила по пять раз на дню, тревожно расспрашивала, как он там, Холодцов успокаивал: «Все в норме, но сейчас мне лучше побыть одному». Соня пугала, что одиночество чревато последствиями, порывалась приехать. Холодцов отнекивался.
Потом были еще звонки, разговоры, а потом все, слава богу, сошло на нет, последние три-четыре года Холодцов не имеет о Соне никаких известий и, если честно, не желает их иметь.
Может, как раз этот случай имел в виду сосед, когда иронически усмехался?
Но не поздновато ли, через столько лет?
А что еще было за эти годы?
Холодцов вспоминал и ничего особенного не вспомнил, разве что некоторые скромно постыдные мелочи, бывающие в жизни каждого человека, о которых, однако, он не распространяется и не желает, чтобы о них знали другие.
Позвольте, но ведь сосед появился в доме совсем недавно! Года два назад. Или год. Или полгода даже. Есть, возможно, семья, но видел его Холодцов только одного и очень редко. А ведь обращает на себя внимание: полный, даже очень полный, проще говоря, толстый. Тучный есть еще слово, ему подходит. И джип, на котором он ездит, тоже тучный. Одевается в дорогое и чистое. Пахнет одеколоном… Что еще? Больше ничего неизвестно.
Обдумывая это, Холодцов работал – почти автоматически, дела были привычными, рутинными.
И тут возникла идея. Не откладывая, он пошел к Боре Суянскому, компьютерщику, постоянно угощавшему всех в курилке анекдотами и занятными историями из интернета. Холодцов спросил, можно ли найти человека по адресу?
– В нашей стране все можно, – ответил Суянский. – Слушай анекдот: только в нашей стране на вопрос «Чем занят?» можно услышать ответ: «Да ничем, работаю!».
Он расхохотался:
– Прямо обо мне! Или еще по той же теме. «Только в нашей стране, поехав по встречной полосе, можно получить удар в зад!» А вот еще: «В нашей стране новый герб – амур. Почему? Раздет, разут и вооружен до зубов!».
Холодцов поморщился. Он не любил анекдотов. Не терпел самоуничижительного юмора. Он, не будучи сам махровым патриотом, не выносил глумливого антипатриотизма. Пожалуй, если заглянуть в глубь, Холодцов просто-напросто любил Родину.
Конечно, он не стал ничего этого говорить Суянскому. Назвал адрес соседа, и Боря с удивительной быстротой нашел.
– Егоров Сергей Викторович. Паспортные данные надо?
– Нет.
– А то могу. Так, что тут у нас? Женат вторым браком, маленький сын, – (Холодцов смутно припомнил сразу несколько женщин с детьми, проживающих в доме), – работает главным специалистом в ЗАО «Коринф».
– Это что?
– А тут не поймешь. Широкий перечень консультационных и посреднических услуг. Деньги из воздуха делают, скорее всего. А зачем тебе это?
– Да так. Спасибо.
Холодцов и сам не знал, зачем ему эти сведения. Он ведь и так предполагал, что будет что-то рядовое, обычное, никаких спецслужб и органов.
И фамилия обычнейшая. Это даже как-то обижало. Это делало наблюдателя-соседа безликим, будто не он один, а десятки тысяч Егоровых смотрят на жизнь Холодцова со снисходительным любопытством.
Было бы интереснее, оригинальнее, загадочнее, если бы сосед носил такую, например, фамилию, как руководитель одного из мелких периферийных подразделений. Он присылает ежемесячные отчеты, подписываясь: «Генеральный директор Колпатовского филиала Д. Е. Зембле». Холодцов даже не знает, мужчина это или женщина. Сотрудники – и первый, конечно, Боря Суянский, приметили эту фамилию и частенько, проходя мимо стола Холодцова, спрашивают:
– Как жизнь? Зембля пишет?
Скучная офисная шутка, которая хороша только тем, что не меняется годами.
Не поняв, чего он добился, узнав, что Егоров это Егоров, Холодцов пребывал в состоянии подавленном и унылом. Понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Ворошил бумаги, просматривал файлы в компьютере, а в голове крутились нелепости:
– может, Холодцов, пропуская через себя в числе прочих финансовые документы, способствовал крупному хищению, не зная об этом, а в этом самом «Коринфе» знают, следовательно, знает и Егоров?
– может, «Коринф» и осуществил это хищение, но умело, хитроумно, следов не найдешь, а Егоров не удержался, выразил-таки свое самодовольное злорадство?
– может, Холодцова спутали с каким-то другим Холодцовым, тоже ведь фамилия не бог весть какая уникальная, а на другом Холодцове висит что-то страшное или позорное?
Неизвестность томила.
Угнетало ожидание чего-то неведомого.
Наверное, подумал исторически грамотный Холодцов, так чувствовали себя люди в годы репрессий – те, кто мог себя в чем-то заподозрить. Не спали, прислушивались к ночным звукам, фантазировали, сходили с ума, некоторые, он читал в какой-то книге, не выдержав, кончали с собой – стрелялись или выпрыгивали из окна.
Автор, помнится, недоумевал: почему не уезжали, почему не спасали себя? Наивный! Куда убежишь? Тут семья, квартира, работа, друзья, привычки, да всё!
А некоторые, писал тот же автор, сами шли по известным адресам, напрашивались на прием и требовали предъявить обвинение, если есть за что, а если не за что, дать гарантию покоя. Естественно, им ничего не предъявляли, но и никаких гарантий не давали.
Холодцов стал угрюм, замкнут, домашние чувствовали, что с ним творится неладное, но не приставали, зная, что он свои настроения привык переживать в себе.
На работе тоже все шло наперекосяк. Холодцов стал всматриваться и вчитываться в отчеты, договора, сводки и прочие документы. Он, будучи небольшим начальником, руководителем группы из трех человек, имел право подписи. Раньше подмахивал не глядя, то есть глядя, но не видя ничего нового. Сейчас же за каждой строчкой чудились махинации, подлог, жульничество. И, в общем-то, некоторые доли жульничества и подлога действительно были, но минимальные, в рамках допустимого, как у всех, и даже, пожалуй, лучше, чем у многих: руководители Холодцова были люди осторожные, предпочитающие действовать так, чтобы не обращать на себя внимание. Холодцов стал подчеркивать сомнительные строки красным маркером и класть листы с пометками на стол начальства. Начальство вызывало его, задавало вопросы. Холодцов отвечал, указывая на то, что начальство и без него видело. Оно сердилось, но не гневно, в рабочем порядке, а однажды участливо спросило, не пора ли Холодцову в отпуск.
Учитывая, что предыдущий отпуск был весной, это выглядело предупреждением, за которым могло последовать увольнение.
И Холодцов взял отпуск.
Никуда не поехал, сидел дома, смотрел телевизор или играл в компьютерные игры.
Однажды, лежа ночью без сна с открытыми глазами, он понял: нужно что-то сделать.
Но что?
Как что? Пойти к соседу и поговорить с ним! Именно! Давно это надо было сделать!
И Холодцов начал готовиться к походу на соседа, то есть представлять разные варианты.
Не надо размазывать, сразу в лоб:
«Что вы имели в виду, господин Егоров, когда…»
Нет.
Это звучит одновременно и напыщенно и беспомощно: «господин Егоров».
«Что вы имели в виду, Сергей Викторович…»
Нет. Почему по имени-отчеству, они ведь не знакомы, тот удивится, пустится в ненужные расспросы.
Проще:
«Здравствуйте. Что вы имели в виду…»
Нет. Дурацкая формулировка: «что вы имели в виду».
Надо в духе времени, твердо и категорично:
«Я требую оставить меня в покое!»
А вдруг окажется, что Егоров за ним не наблюдал и вообще вспоминает о его существовании только тогда, когда случайно с ним встречается?
Этот вариант возможен?
Возможен.
А почему бы, не приходя к Егорову, принять эту версию как единственно верную? Ведь кроме подозрений, у Холодцова ничего нет. И ничего не случилось в его жизни за все время с той встречи в лифте, что эти подозрения подтвердило бы.
Так он себя уговаривал, но понимал, что одним самоубеждением не обойдется, визит к Егорову неизбежен.
В каком-то смысле даже неважно, что он узнает. Не наблюдает за ним сосед – и ладно. Наблюдает – и черт с ним.
То есть, конечно, лучше все-таки выяснить, зачем наблюдает.
Через несколько дней Холодцов почувствовал, что готов.
Вечером после ужина, настроив себя на спокойствие и мужество, он вышел, сказав жене, что хочет немного размяться, пройтись по парку, поднялся на восьмой этаж, нажал на звонок квартиры Егорова.
Тишина и молчание.
Нажал еще раз.
Спустился вниз, вышел из дома, увидел, что машины Егорова нет.
Отправился в парк гулять.
Через час вернулся к дому – машины не было.
Не было и на другой день, и на третий.
Холодцов чувствовал, что теряет приготовленное спокойствие. Стоя на балконе, он представлял, как увидит подъезжающего Егорова, и понимал, что, пожалуй, не выдержит, бросится вниз, встретит соседа, выходящего из машины, и закричит что-то истерическое, непотребное, постыдное…
Но Егоров все не появлялся.
В воскресенье, когда все были дома, Оксана затеяла готовить голубцы, попросила Холодцова сходить за капустой.
Он пошел.
И столкнулся в двери подъезда с Егоровым.
Тот посторонился, чтобы пропустить Холодцова.
Вежливый, сволочь!
Эта вежливость разом всколыхнула в Холодцове все, что накопилось, и он, глядя в глаза ненавистному соседу, выдавил сквозь зубы:
– Ну? Может, скажешь, чего тебе надо? А?
Тот удивился, коротко рассмеялся – как человек, которого неожиданности не столько пугают, сколько веселят возможностью интересного приключения, и тряхнул головой, будто отгонял что-то невидимое:
– Не понял?
– Забыл уже? Три месяца назад, лифт, твое это: «здрасьте, здрасьте!» С какой стати? Я вам кто? Что ты обо мне знаешь? Что тебе нужно? Кто ты такой? – выкрикивал Холодцов.
– Стоп, стоп, стоп! – выставил сосед ладонь. – Извини, конечно, мужик, но или ты выпил, или с кем-то меня путаешь!
– Я вас ни с кем не путаю, Сергей Викторович, – язвительно сказал Холодцов, чувствуя, что овладевает собой и готов к любому повороту вплоть до рукопашной схватки.
А мужчина вдруг расхохотался.
Просто до слез.
Утирая глаза, сказал:
– Извините. Но я вообще-то Владислав. Петрович.
– Ага. И живете не здесь, – поддакнул Холодцов с интонацией следователя, который насквозь видит запирающегося преступника.
– Не здесь, – подтвердил мужчина.
– В гости приезжаете? К кому?
– Ну, это уж мое дело!
Тут Холодцова будто ударило.
Так врать нельзя, невозможно, этот человек говорит правду!
Но позвольте, а кто был тогда в лифте?
– Значит, – растерянно выговорил он, – это я не с вами тогда в лифте встретился?
– Когда? И что было-то?
– Нет, ничего, извините. Я, в самом деле, ошибся. Обознался.
– Бывает, – легко простил его мужчина.
И прошел в подъезд.
Холодцов начал лихорадочно вспоминать и анализировать.
Да, он видел этого человека неоднократно. Приезжающим и уезжающим. Но с чего он взял, что тот живет над ним?
А с того, ответил он сам себе, что однажды, вынося пакет с мусором в мусоропровод, находящийся между седьмым и восьмым этажами, увидел этого мужчину выходящим из металлической двери. В пятидесятой живет старушка с дочерью и внучкой, Холодцов знает это, так как однажды наткнулся на них возле подъезда, они стояли у машины, с которой грузчики стаскивали холодильник, и старушка говорила: «В пятидесятую, на восьмой этаж!». И это запомнилось. В пятьдесят второй какая-то женщина, это ему известно от жены, которая однажды сказала: «Оказывается, у нас тут парикмахерская на дому, в пятьдесят второй женщина соседей обслуживает. Сходить, что ли, попробовать?». Но так и не сходила, привыкла к своему салону «Мечта», куда наведывается раз в месяц, неизменно при этом оставаясь недовольной, охаивая тамошних мастериц и говоря, что больше туда ни ногой. Но почему-то через месяц опять идет в «Мечту».
Вот он и решил тогда, у мусоропровода: поскольку в пятидесятой выводок разновозрастных женщин, а в пятьдесят второй парикмахерша, мужчина – из пятьдесят первой. А на самом деле он вообще не отсюда, он только приезжает! И не в пятьдесят первую, а к той же парикмахерше, например!
Но кто в пятьдесят первой тогда? Ведь Суянский нашел по базам какого-то Егорова Сергея Викторовича!
Холодцов еле дождался понедельника, приехал на работу на час раньше, караулил Суянского, упросил того опять залезть в базы, посмотреть информацию – внимательно, ничего не упуская. Тот посмотрел.
– Думаешь, что-то поменялось? Нет. Егоров Сергей Викторович. С женой и ребенком.
– А фотографию можешь найти?
Суянский покопался.
– Вот. Водительские права.
Холодцов посмотрел. Да, он видел этого мужчину лет сорока, со скучным неприметным лицом. Ездит на подержанном «Фольксвагене». Кажется, около машины как-то стояли женщина с мальчиком. Но Холодцов, естественно, понятия не имел, из какой они квартиры.
Теперь знает.
И что?
Ведь встретился он в лифте с тучным мужчиной, тот не помнит или не хочет признаваться, но Холодцов ошибиться не может, такая комплекция запоминается.
Еще интересней! – не живущий в их доме человек ехидно с ним здоровается и на что-то как бы намекает!
Но, может, и не ехидно, и без намека, может, Холодцову так показалось?
Представим: мужчина утром уходит от женщины. Услажденный, довольный, все ему кажется прекрасным. Открываются двери лифта, незнакомый человек здоровается, что у нас не так уж обычно, хочется ответить ему улыбкой и тоже поздороваться. И он улыбнулся и сказал свое «здрасьте-здрасьте» вполне приветливо, а если и была долька иронии, то она понятна, это чувство бывало и у Холодцова в молодости, когда он ходил, наполненный любовью к Оксане, счастливой и взаимной, радовался миру, но и слегка его жалел за то, что он не так счастлив, в его тогдашнем общении с миром тоже был оттенок ласковой иронии: эх, дескать, мир, живешь себе и не знаешь, как ты прекрасен!
Ну вот, и это прояснилось.
Все прояснилось.
У Холодцова будто тяжкий груз свалился с души, он стал счастлив почти так же, как в пору начальной любви с Оксаной. Работа ладилась, за день он переворошил недельную кучу документов.
Он ехал домой веселый, обдумывая, что он такое скажет детям и жене, чтобы они поняли: он вернулся, он исцелился, стал таким, как раньше.
Господи, и ведь из-за чего? Из-за мимолетной встречи в лифте, из-за дурацкой щели возле трубы!
А там, наверху, всего лишь молодая семья, которой нет дела до Холодцова и его мнительной тревожности.
Хотя – как знать, подумал он. Мне ведь ничего о них неизвестно. Да, обычная семья, ребенок, но кто он, этот Егоров? Почему он не может наблюдать за Холодцовым? Вполне может.
Но зачем?
Что ему нужно, черт бы его побрал?
Нет, Холодцов не впал в уныние от этих новых мыслей. Наоборот, он почувствовал себя сильным и уверенным, руки крепко сжали руль. Теперь он учтет все ошибки, он все разузнает скрупулезно и неторопливо, он придет к Егорову с фактами в руках, тому некуда будет деваться, разговор пойдет начистоту, и Холодцов наконец поймет, зачем этому негодяю понадобилось все о нем знать.
Те, кто до нас
Рассказ перемещенного лица
1
Не помню, сколько мне тогда было лет, примерно восемь. Я гостил в деревне у тети Любы и дяди Коли. Рядом с их домом был другой, старый, опустевший. Избушка, будто из сказки о древней Руси: бревенчатая, покосившаяся, крытая ветхой серой соломой. Там раньше жили мои бабушка Фекла и дедушка Никифор. Дедушка умер, а бабушка уехала в город к моей маме.
Ничего особенного не было в этом покинутом доме. Темные прохладные сени с земляным полом. Небольшая, но тяжелая, еле откроешь, дверь в горницу, обитая мешковиной, крепленной жердочками, в дырах виднелась какая-то труха. Сама горница, то есть все жилое помещение, – без привычных мне, городскому, комнат. Почти половину пространства занимала русская печь с лежанкой. До потолка мы с двоюродным братом Лешей, моим тезкой, легко дотягивались руками. Окошки крошечные, в четыре стеклышка, без форточек.
Меж тем, как я узнал после, в этом домишке помещались, кроме бабушки и дедушки, их дети, четыре брата и три сестры. Три да четыре, да два – девять человек. Невозможно представить. Но как-то жили.
Старший брат, дядя Петя, погиб на войне, сгорел в танке. Николай, Иван, Виктор тоже воевали, выжили, но сейчас их нет.
Брат Виктор умер в городе Грозном во время бомбежки (первая чеченская война). До этого лежал и тяжело болел. Однажды, когда начался очередной обстрел, ему стало совсем худо. Дочь его звонила по телефону, который почему-то работал, вызывала «скорую», умоляла приехать. Приехать, конечно, было невозможно, через час пешком пришел санитар-чеченец и сделал укол, она до сих пор со слезами вспоминает об этом. Но все же дядя умер через несколько дней, в начале января, его похоронили у дома, выдолбив углубление в каменистой земле под лоджией первого этажа. Перенесли на кладбище потом, когда все кончилось.
Брат Николай работал всю жизнь шофером, умер за рулем от разрыва сердца. Во время похорон вспоминали, какой он был безотказный.
«Мороз за тридцать, мы ему: Николай, ты б погодил, что ль, такой мороз, а в твоей же полуторке печки нету! А он в одеяло старое завернется, только руки выставит, рукавицы вот такие вот здоровущие напялит и смеется: «Ничаво!».
Эту полуторку я смутно припомнил, хотя было мне года четыре в ту пору, когда я ее видел и по ней, само собой, вдоволь поползал: прямые линии радиатора, крыльев, подножек и окон. Удивляла деревянная кабина с фанерными дверьми, на дверях загнутые остроклювые ручки. Тогда были в ходу такие ручки – у холодильников, еще у чего-то. Не помню. Но много. В кабине был особый и приятный запах: смесь технического – бензина, натруженных промасленных деталей, и жилого, человеческого – одежды, табака, одеколона.
Брат Иван одолел почти девяносто лет, до последних дней удивляя всех белизной оставшихся зубов и чернотой густых, лишь кое-где тронутых сединой, волос. Умер своей смертью в своем доме, в районе, называемом Пролетарка. Район городской, а дом совсем деревенский. И даже с колодцем. И небольшая конюшня была: дядя Иван держал лошадь, развозил на телеге мелкие товары по мелким магазинам. Мы приезжали к нему в гости летом, и в доме всегда было прохладно, уютно, чисто. Да и все дома и квартиры моих родственников отличались и отличаются порядком, чистотой, ухоженностью, поэтому меня так сердят разговоры о русской нечистоплотности. При этом, конечно, улицы возле домов и дяди Коли, и дяди Ивана были такие, что ни пройти, ни проехать, летом ухабы, колдобины и грязь, зимой сугробы, наледь и опять же грязища, если оттепель. Но это уже вопрос не к устройству русского человека, а к устройству русского общества.
А три сестры пока, то есть сейчас, когда я это пишу, слава богу, живы. Мария, Любовь, Зинаида – моя мама.
Это все мои поздние слова, я хотел не об этом.
Старый дом стоял и стоял, а потом дядя Коля решил сделать пристройку к сараю и для этого снести дом и использовать. Бревна на стены, а камень фундамента для того, чтобы вымостить в сарае пол: там будет стоять теленок и должно быть чисто.
Мы с братом, конечно, радовались событию. Ломать дом – это же интересно. Нам не терпелось помочь, поучаствовать.
Но дядя Коля все делал неторопливо. Сначала снимал понемногу солому с крыши и увозил ее, наскирдовав на тележку, которую прицеплял к своему мотоциклу «Урал». Потом разбирал стропила. Уже не помню, с чьей помощью. Кто-то был еще из взрослых. Мы тоже помогали, оттаскивали жерди и доски, складывали. Потом дошло до сруба. Толстые бревна подцеплялись ломами и выдергивались из венцов.
Тут-то дядя Коля и сказал про клад.
Ну, не клад, но вроде того.
– Дойдем до углового замка, до нижнего венца, – сказал дядя Коля, – там монета должна быть. Всягда закладывали. Золото или серябро.
Он так говорил: «всягда, серябро». В этой деревне многие так говорили. Сама деревня, Свищевка, была частью большого села Галахова. На пригорке собственно Галахово – очень длинная улица с домами по сторонам, там говорили обычно, как я привык слышать. Внизу, у Чуркиной речки, наша Свищевка, где «якали». А сбоку, на ровном месте, прямыми перекрестными улицами, кварталами, разместилась Киево-Николаевка, где жили хохлы – степенные серьезные мужики и хозяйственные, бодрые, неприветливые к посторонним женщины. Люди туда прибыли из Украины давно, во время каких-то голодов. Или бежали от войны. Говорили по-южному. Я все это знал уже тогда, потому что был любопытен, внимательно слушал и замечал.
Дядя Коля якал и в обычной речи, и в песнях, которые напевал за работой. Любил эту, например:
Хороши вясной в саду цвяточки, Еще лучше девушки вясной. Встретишь вечарочком девушку в садочке, Сразу жизнь становится другой.Я тогда не вполне понимал смысла песни – почему от встречи с девушкой жизнь становится другой и, главное, сразу. У меня такого не наблюдалось. Но ранним и нагловатым своим умишкой втихомолку посмеивался над произношением дяди Коли и других свищевских: мне казалось тогда, что есть язык правильный и неправильный, грамотный и неграмотный, я был отличник.
Мы не отходили от дома, ждали.
Осталось всего три ряда бревен, но дядя Коля снял фуражку, вытер мокрый лоб, где у виска была страшная впадина, затянутая кожей, без кости – след фронтового ранения, и сказал:
– Шабаш. Обедать пора.
Мы чуть не взвыли от досады. Столько терпели, дожидаясь чуда, и опять терпеть.
Но делать нечего, пошли обедать.
После куриной лапши дядя Коля захотел вздремнуть, а потом пошел на работу: варить баланду для телят в огромной бочке. Он насыпал какого-то пшена и запаривал кипятком. Пахло сытно, вкусно, хоть сам ешь. Приготовив баланду, дядя Коля наливал и себе в большую флягу, которая как раз помещалась в люльке мотоцикла. Он накрывал сверху чехлом, застегивал и вез домой окольными путями. Когда я первый раз это увидел, то глупо спросил:
– А разве можно, дядь Коль?
– Хотишь сказать, ворую?
– Нет, – смутился я.
– И правильно. Это они воруют, а я свое беру.
Я не понял, но поверил.
Итак, он поехал работать, а мы пошли к срубу. Сели там – я, брат Леша и сосед Толян, и стали рассуждать.
– Если монета золотая, – сказал Толян, – она кучу денег стоит. Это же золото. Мотоцикл можно купить, а то и машину.
Мы согласились, нас было легко уговорить.
– А если серебряная все-таки? – предположил Леша.
– Тоже дорогая. На машину не хватит, а на мотоцикл запросто.
Мы и с этим согласились. Нам и мотоцикл сойдет.
– А давайте сами попробуем, – сказал Толян. – Подцепим, да и все.
– Отец заругается, – сказал Леша.
– Не заругается. Мы же поможем. А если там что есть, мы же ему отдадим же!
Это подразумевалось само собой, нам не столько нужен был клад, сколько жгло нетерпение найти его, увидеть, что он есть.
Схватили ломы, подцепили, стали тужиться.
И приподняли!
Но приподнять-то приподняли, а дальше что?
– Мы не так, – сказал Толян. – Надо – пусть двое поднимут, а третий в сторону пихнет.
Мы с Лешей поднатужились, приподняли опять бревно. Толян начал его пихать в сторону. Оно не шло. Тяжелое.
– Надо, как рычагом, – сказал Леша, который, хоть и был деревенским, но в механизмах понимал лучше меня, городского. Мог велосипед до винтика разобрать, а потом, промыв детали в бензине, опять собрать, я этому всегда завидовал.
Зашли вместе с одной стороны, всунули ломы и начали поднимать, одновременно толкая.
И бревно подалось.
Потом мы подцепили его с другой стороны и обрушили со сруба.
Но второе бревно почему-то не пошло. Мы его и так, и так, и враскачку, и жерди вставляли – застряло.
Промаялись до вечера, а вечером вернулся с работы дядя Коля, посмеялся.
– Невтерпеж прямо вам? Завтра доделаем.
Но посмотрел на наши лица:
– Ладно. Помогайте.
Мы бросились помогать.
Под вторым бревном тоже ничего не было.
Осталось последнее, лежащее на фундаменте.
Там должно быть наверняка.
Взялись, раскачали, сковырнули.
Ни под одним венцом, ни под другим – ничего не оказалось. Колян провел рукой по выемке, будто проверяя.
– Может, под камнями? – с надеждой спросил он.
– Да вряд ли, – сказал дядя Коля. – Тут Пехтерев когда-то жил, такой был человек, он копейку берег, не стал бы ее тратить. Хозяин был, кулак!
Меня поразило, с каким уважением дядя Коля произнес оба эти слова. Ну, хозяин – ладно, хотя слово тоже подозрительное для меня, советского ребенка, впитавшего в себя безоговорочно советский дух и никакого другого духа не знавшего. Но – кулак? Кулак же – это враг, бандит с обрезом. Сволочь.
Я сказал об этом дяде Коле. Не помню, какими словами.
Он ответил:
– Это как посмотреть. У нас вон корова, овец полтора десятка, хрюшка, теленка вот поставим, да ульев пятнадцать штук, мед качаю, я хозяин или кулак?
Я даже рассмеялся. Какой же дядя Коля кулак? – батраков нет, обреза нет, спрятанной в подполе пшеницы нет, а в учебниках и в рассказах хрестоматии без этого кулак – не кулак.
– Смеешься! – одобрил дядя Коля. – А было время, когда я был бы чистый кулак. Как и Пехтерев. И жил-то он не в хоромах, а сам видишь в чем. Все равно – согнали в Сибирь, потом дом пустой стоял, потом его отец твоей тети Любы купил.
Позвали ужинать. Все пошли, а я чем-то отговорился.
Сидел на досках возле печки, она пока была не порушена, хотя в ней заключалась главная ценность – кирпичи. Смотрел вокруг. Увидел на полу, покрытом мусором и пылью, деревянную ложку с обгрызенным краем. Ложка не такая, какие я видел и в городе, не сувенирная с узорами, а нормальная, едовая, темная от времени, с трещинкой. Быть может, сами выстругали.
Я сидел, и мне показалось, что вокруг тени и голоса тех, кто тут жил. Кулак – без обреза, без пуза, без злого прищура глаз, обычный мужик, как дядя Коля. Человек. В сапогах, быть может, ходил таких же, как дядя Коля. Он ведь всегда в сапогах, любимая обувь. Рассказывал про них:
– Им лет уже десять. Хромовые, настоящие.
И что-то, не помню, говорил о достоинствах хромового сапога. С уважением заодно упомянув сапоги кирзовые, яловые, юфтевые. Чем они отличаются, я забыл, а названия запомнил: я слова всегда запоминал лучше, чем вещи.
И вот он ходил, бывший хозяин, в сапогах хромовых или юфтевых, а может и в лаптях, и сидела тут его жена в сарафане, и дети бегали – прямо вот тут, где я сижу.
Я почти въявь увидел, как мальчонка в рубашонке проскочил сквозь меня и что-то выкрикнул. И женщина что-то сказала, и мужчина что-то проговорил.
До этого момента для меня существовало только сегодня. Прошлое было, но в книгах и в кино, иногда мелькало в рассказах взрослых, но со мной не соприкасалось, меня не трогало. И вот впервые я его видел, почувствовал, понял простую вещь: я занимаю то же самое пространство, что занимали они. Я хожу сквозь них, живу сквозь них. Вместе с ними.
С этой простой, но для меня новой, ошеломляющей мыслью я жил несколько последующих дней.
Мы шли в Рыбкин сад, и я знал, что здесь была когда-то усадьба помещика Рыбкина, от нее остались заросшие травой развалины дома, проглядывались аллеи, тропинки, все когда-то было упорядоченным, геометричным, а теперь – старые одичавшие яблони и вишни, которые все еще плодоносили редкими ягодами; мы их объедали, не дожидаясь полной спелости. Но теперь я видел не только это, я вслушивался и всматривался, угадывая: что за люди жили? И какая-то девочка в белом платьице, с большим бантом на голове мерещилась в просвете меж деревьев.
Потом шли в Кулешов сад, тоже бывший помещичий, поменьше, и там я тоже всматривался, ища следы этого Кулешова и его семьи, чувствуя, как их тени проходят мимо нас и сквозь нас. От дома там ничего не осталось, но мне рассказывали, что он стоял долго, кирпич из него использовали для постройки четырехэтажной школы и интерната при ней. В годы, о которых речь, там учились дети из десяти окрестных сел, а сейчас почти пусто, по пять-шесть учеников в классе, включая чеченцев, узбеков и таджиков.
Тетя Люба после отъезда троих детей и смерти дяди Коли осталась одна, вести хозяйство не имела сил, продала дом за пять тысяч рублей (больше никто не давал) и отправилась к средней дочери в город Ртищево. А через год после этого я наведался в Свищевку и увидел во дворе небольшой колесный трактор с тележкой, грузовой мотороллер, ржавую вазовскую «шестерку», а на крыльце стоял смуглый человек в трудовой черной одежде, он вежливо поздоровался со мной, я хотел было завязать разговор, но он что-то крикнул в дом на своем языке, сошел с крыльца к мотороллеру, сел на него и уехал.
2
Прошла четверть века после ненайденного кулацкого клада и моих последовавших за этим мыслей. Я жил с семьей в городе Саратове, на улице Мичурина, в большой квартире старого дома дореволюционной постройки. По легенде весь этот двухэтажный особняк с полуподвалом принадлежал когда-то деду моей тещи Наталии Алексеевны, он был большим человеком не то в казначействе, не то в какой-то другой губернской управе. Наталия Алексеевна любила иногда в застолье рассказывать, что в полуподвале была кухня, на первом этаже жила прислуга, а семья деда занимала весь второй этаж. Во дворе же были дровяной и каретный сараи, конюшня, своя баня, домик конюха – он же кучер, он же дворник, он же починяльщик всего домашнего. Я дожидался момента и вставлял:
– А потом пришли наши!
И все смеялись.
Жили мы разнообразно, весело и не очень. Чаще весело – потому что молодо.
И вот рубеж девяностых, талоны и карточки, нехватка всего, особенно денег. Мы с женой, чтобы как-то протянуть, продавали ложки и вилки из фамильного столового сервиза, который нам подарила на свадьбу Наталия Алексеевна. Был еще поповский фарфор: блюда, тарелки, чашки, соусники, молочники; на двенадцать персон, но это мы не трогали. Еще из старых вещей сохранились большая и тяжелая ступка и очень весомый пестик; глядя на него и держа в руках, я всегда вспоминал, что именно таким пестиком был убит Федор Павлович Карамазов. Да уж, таким ударишь – не выжить.
Ступка и пестик были, предполагал я, латунными. Но по виду – чистое золото.
Однажды, обедая серыми макаронами, сдобренными килькой в томате, я рассеянно, чтобы чем-то занять глаза, рассматривал ступку и пестик и сказал жене:
– А представь, как это было: пришла советская власть. Конфискации, экспроприации. Наверняка у твоего прадеда водилось золотишко. Почему бы ему не переплавить его и не отлить вот эту ступку? И пестик. Пестик особенно похож, посмотри, как блестит.
– Пилите, Шура, пилите! – цитатой ответила жена.
Удобно, когда есть такие вот цитаты, кодовые слова и словечки, заменяющие пустые и долгие разговоры. Это очень сближает людей одного круга и поколения, и этого очень не хватает, когда ты, задрав штаны, бежишь за комсомолом, желая пообщаться с молодежью, а она тебя не понимает, недоуменно мерцая глазами и силясь понять, при чем тут комсомол и задрав штаны.
– Нет, серьезно! – сказал я, улыбкой, однако, показывая, что на самом деле не сошел с ума и сам в это не верю.
– Ерунда, – сказала она.
Но задумалась. Взяла пестик, покачала в руке.
– И ведь не ржавеет. Если это медь или…
– Латунь.
– Если латунь, да. То позеленело бы или заржавело.
– Медь зеленеет, но не ржавеет. Латунь, кажется, не зеленеет. Хотя, может, тоже зеленеет, там медь. И цинк.
– Лучший химик!
Это было тоже кодовое выражение, семейное: я не раз с гордостью рассказывал, как стал победителем школьной олимпиады по химии и получил в награду деревянную реторту с надписью: «Лучшему химику школы № 101».
Мы сидели и смотрели на пестик и ступку. Денег у нас было минус тридцать рублей: тридцатку я занимал неделю назад у родителей, и мы ее уже проели.
Я пошел на веранду и вернулся с пилой по металлу.
– Не сходи с ума, – сказала жена.
– Я с краешку. Отнесем в скупку, пусть проверят.
– Да глупости это! Золото в пестик переплавлять, ага! Ты что, в клады веришь?
– Почему нет? Находят же люди.
И я рассказал ей о том, как дядя Коля нашел несколько золотых десяток, разбирая старый дом.
Да, соврал.
То есть творчески переосмыслил, как часто это делаю.
Украсил деталями: монет хватило на то, чтобы дядя Коля купил себе новый мотоцикл, а нам с Лешей по велосипеду – ведь именно мы нашли клад, раздолбив фундамент, когда дядя Коля уже плюнул на эту затею. Раздолбили и нашли пять золотых монет – в металлической коробочке из-под леденцов. Даже рисунок на коробочке помню: барышня в розовом платьице, с розовыми щечками, танцует с кавалером среди розовых кустов.
– Правда, что ли? – усомнилась жена. – Ты раньше про это не рассказывал.
– Я много чего из своей жизни не рассказывал.
– Это уж да. И не рассказываешь.
– Мы об этом сейчас будем?
– Ни о чем не будем.
– Ладно. Помечтали и хватит.
И я понес пилу обратно.
– Постой, – сказала жена. – Все-таки попробуй. Мы, конечно, идиоты – но вдруг?
И я попробовал. Пила взяла слишком грубо и заметно, с краешку скоблить не хотела, сразу вгрызалась. Я бросил ее, схватил напильник и соскреб им пыльцу – для пробы хватит. Завернул в две бумажки.
В ювелирном магазине «Кристалл» принимались драгоценные металлы – как лом. Именно там мы сдавали в лихие дни серебряные ложки и вилки. Туда я и понес наше возможное богатство. Но на всякий случай ложку – последнюю – жена мне тоже дала.
Приемщица в стеклянной будке, красивая молодая женщина (в ювелирных магазинах продавщицы почему-то были сплошь красавицы), развернула бумажки и сказала:
– Вы что, с ума все посходили? Тащут и тащут всякую хрень!
– В самом деле! – присоединился я к ее возмущению. – Просто уже деваться некуда от придурков!
Это был мой метод самозащиты от обыденного хамства, сохранившийся до сих пор (как и само хамство): иронически встать на сторону противника и этим его обезоружить.
Но женщина оказалась не только хороша собой, а еще и неглупа и не обезоружилась.
– Нечего меня передразнивать! – сказала она. – Проба будет стоить рубль двадцать. Деньги есть?
– Мы так поступим: я сначала сдам вот эту ложку, а потом уже похимичим, ладно?
Женщина пожала плечами, взяла ложку, капнула на нее чем-то, потом взвесила на весах с миниатюрными никелированными гирьками, очень красивыми, они вынимались из бархатных гнезд черного футляра. Выписала бумажку, я отправился в кассу, получил деньги и вернулся, чтобы оплатить проверку, хотя результат уже предугадывал.
– Не золото, успокойтесь! – сказала приемщица.
– А что?
– Какая разница?
– Действительно…
По дороге домой я купил кое-каких продуктов и, конечно, вина.
Вечером мы пили вино и говорили: это даже хорошо, что ступка и пестик оказались не золотыми.
– Хоть что-то останется от предков, – сказала жена.
– Вот именно. Фарфор тоже никогда не надо продавать.
Я осторожно достал из серванта блюдо, на котором была изображена рощица, речка с парусной лодкой, гуляющие с зонтами горожане на берегу.
– Странно представить, – сказал я, – что это блюдо держал кто-то сто лет назад. Что он думал, интересно, что говорил?
– Ну уж не про то, как распилить и продать медную ступку.
– Латунную.
– Без разницы. И не про то, что надо завтра успеть талоны отоварить. Ну вот почему я не в девятнадцатом веке живу? У людей была прислуга, а они занимались своим делом. Я бы, как университетский преподаватель, уж точно нехудо бы жила!
– Люблю такие разговоры. Все сразу же представляют, что они дворяне, и никто не хочет себя представлять прислугой!
– У меня прадед дворянин.
– По маме. А по папе кто? Пролетарий! А мои предки вообще крестьяне, причем, если копнуть, из крепостных.
– Ну, что крестьяне, это и по тебе заметно!
Я встал, чтобы убрать блюдо на место, зацепился штаниной за гвоздь, торчавший из старой табуретки, пошатнулся и выронил блюдо. Оно упало плашмя и разбилось на мелкие осколки.
– К счастью, – сказал я.
– Не верю я в это, – сказала жена. – Наоборот, у меня аж сердце екнуло. Не к добру.
Мы оба оказались правы. Сначала я: жизнь сложилась в девяностые бурно, но довольно успешно, а потом она: это десятилетие кончилось подряд тремя смертями – в сентябре 99-го умерла Наталия Алексеевна, в мае 2000-го тесть Лев Степанович, а в декабре того же года умерла во сне и жена.
Все разбилось вслед за этим блюдом.
Началась другая жизнь.
3
Когда я выбирал квартиру в Москве, продав недвижимость в Саратове и прибавив заработанных денег (иначе не хватало), то свел риэлторшу с ума. Речь шла о покупке на так называемом вторичном рынке жилья, не в центре (я считал и считаю, что в центре могут жить только коренные москвичи и люди с амбициями: ни зелени, ни нормальных магазинов, ни с ребенком погулять, ни с собакой), но и не на окраине.
Риэлторша старалась, предлагала варианты на улицах Зоологической, Марксистской, Профсоюзной, на Сретенке. Квартира на Сретенке нравилась, но была не по карману, да и центр слишком близко, на Профсоюзной окна выходили на забитую машинами магистраль, а варианты на Зоологической и Марксистской я забраковал не глядя:
– Не хочу жить на улицах с такими названиями.
– Так вам еще и названия улиц подбирать?
– Вообще-то да. Это же не на один год.
– Ну, Марксистская еще понимаю, вы, наверно, либерал и демократ, а Зоологическая чем плохо? Зоология – животные, а не марксизм. Животных не любите?
– Просто не нравится. Газгольдерную улицу тоже не предлагайте. Или Шарикоподшипниковую.
– Ясно. А какие еще параметры? Дома и квартиры с тринадцатым номером тоже не рассматриваем?
– Можно. Но я еще хотел бы знать, что за люди раньше жили в квартире.
– Вы серьезно?
– Вполне. Некоторые такое скандальное или пьяное пространство наживут, что оно потом покоя не даст.
– В ауру верите?
– Я это по-другому называю. В доброй семье – добрый дух. И он сохраняется.
Риэлторша после этого практически прекратила поиски: дуракам не угодишь, только время потеряешь. Я нашел квартиру в интернете сам, позвонил владельцам, пришел посмотреть. Пожилые мама с папой, интеллигентные люди, выросшая дочь с мужем и ребенком. Продают квартиру, чтобы разъехаться. Живут мирно, но очень уж тесно.
Имя улицы – Ивановская.
Рядом парк Дубки, чуть дальше – парк Тимирязевской академии.
До метро пять минут пешком.
Но главное: люди жили хорошие, приветливые.
И я купил эту квартиру.
Первые три года ничего с нею не делал: пусть квартира сама подскажет, чего она хочет.
И она понемногу начала подсказывать, как можно пространство сделать уютным, светлым и своим.
Я решился на ремонт.
Вскрыли пол – паркетную доску квадратиками, такая была в ходу, когда строились эти дома, в конце шестидесятых – начале семидесятых годов.
Я наблюдал – не ради контроля, а ради интереса. Чтобы когда-нибудь это описать. Для чего-нибудь.
И увидел какую-то блестяшку, когда отодрали очередной кусок пола.
Увидел и ремонтник-молдаванин, поднял, потер, дунул.
– Серьга! – сказал он.
И подал мне – как хозяину.
Я повертел в пальцах.
Золотая сережка. Недорогая, с маленьким камешком. Ничего особенного. Но, может, кто-то ее искал, огорчался? Я позвонил бывшим хозяевам (мы обменялись телефонами), спросил, они сказали: да нет, вроде никто ничего такого не терял. А если и терял, то в незапамятные времена.
– Оставьте себе, все равно она одна, куда ее…
– Можно сдать.
– Было бы из-за чего суетиться, это сейчас копейки стоит.
В самом деле, по сравнению с дороговизной остального, золото стало дешевым – для людей, у которых не последний рубль на счету.
И я отдал сережку рабочему. Он не ожидал такой щедрости, радовался, как настоящему счастью, благодарил. Мне даже совестно стало.
Именно с этого момента, будто сережка была включателем в прошлое, я заинтересовался историей и своего дома, и района, который, находясь от центра на таком же расстоянии, как, к примеру, Сокольники, был раньше подмосковным дачным местом, вокруг расстилались обширные поля и лесные угодья Петровской земледельческой академии (ныне им. Тимирязева), метро же сюда провели только в начале девяностых годов; еще интересно то, что напротив моего дома был детский сад «Литературной газеты» (сейчас частный, как, впрочем, и сама «Литгазета»), что в окно восточной стороны я вижу Останкинскую башню, а в противоположное – луковки деревянного храма Святителя Николая у Соломенной Сторожки, спроектированного Шехтелем, в советское время разрушенного, но в конце века восстановленного по авторскому проекту. Кому захочется, может легко найти символичность существования между храмом и останкинской иглой. Еще мне любезно то, что по соседству жил друг мой Немзер, живет также неподалеку большой писатель Найман, с которым мы изредка встречаемся на улицах, и, если поискать, наверняка обитает множество других замечательных людей, о которых я не знаю, но они обязательно есть.
Ремонт был закончен, я зажил в благоустроенном одиноком пространстве, но недолго радовался: мне было хорошо, пространству плохо. Оно привыкло к семье, оно внушало мне неотвязные сны и мысли, я слышал голос женщины и смех ребенка. Я думал по привычке, что это галлюцинации из прошлого, ведь все это здесь было, вот теперь и чудится. Время показало, что, наоборот, это были звуки из будущего. То есть теперь – настоящего.
4
А дом на Мичурина снесли, на его месте построили здание современного типа, невысокое, с просторными квартирами, в одной из них поселились моя хорошая знакомая по имени Лена. Недавно я приезжал в Саратов и зашел к ней в гости. Похвалил расположение комнат, интерьер, дизайн и все остальное. И сказал:
– Между прочим, ты живешь там, где я жил. Ты ходишь сквозь меня тогдашнего, занятно, правда?
– Вот я почему иногда спотыкаюсь, вот мне почему иногда плохо бывает! – засмеялась она. – Твой дух тут бродит!
– Не клевещи, это дух добрый. Если не с похмелья, конечно. Но я и сам, ты подумай, стою в том месте, где стоял пятнадцать лет назад! В самом себе!
– И что?
– Да так… Как-то это… странно. Объема добавляет.
– Чему?
– Да всему.
Я не сумел объяснить, что я чувствую и как чувствую.
И сейчас не сумею, могу только рассказать, связать воедино воспоминания разного времени. Что и сделал.
5
А сделав это, неожиданно вспомнил еще одно событие, совсем давнее: как нашел в овраге возле поселка Разбойщина под Саратовом, где мы тогда жили, несколько продолговатых, сужающихся на конус предметов. Я обрадовался, решив, что это окаменевшие патроны от войны, но, постучав ржавой железкой и разбив один из них, понял, что нет, не патроны. Что-то непонятное. И почему такие одинаковые? Отнес домой, показал. Мама сказала, что это чертов палец, если присыпать им рану, она быстрей затянется. А отец сказал:
– Это остатки морских животных каких-то. Еще бывают всякие ракушки-завитушки – видел?
– Видел. Там их полно. А откуда морские тут у нас?
– Оттуда, что здесь когда-то было море.
– Где?
– Везде. Был такой период, почти везде была вода.
– То есть прямо вот над нами?
– Прямо вот над нами.
Я посмотрел вверх, в небо.
Но во дворе дома представить море было трудно, я пошел опять в овраг, сел на склоне и стал смотреть вокруг, воображая себя под водой, на дне моря.
Я тогда еще не знал, что такое Юрский период, кто такие белемниты и трилобиты, не знал, что так называемые чертовы пальцы – остатки этих самых белемнитов, похожих на кальмаров. Я не видел тогда красивых фильмов ВВС и «National geographic» о подводном царстве юрской эпохи с его фантастически причудливым разнообразием. Но, помню, тогда, в овраге, перед моими глазами поплыли неведомые существа, яркие, как стекла калейдоскопа, а я чувствовал себя утонувшим, но живым, и мир, в котором на одном и том же месте есть я, маленький, вот тут вот сидящий, и море, я его вижу и слышу, а его обитателей держу в руке, и они мне сейчас ближе, чем караси в соседнем пруду, этот мир невообразимо огромен и при этом поразительно мал – все страшно далеко, и все соседствует.
И я тогда наткнулся на странную для ребенка мысль – что я, конечно, умру, но при этом не умру никогда.
С тех пор так и живу – хожу по водорослям древних морей, мимо проплывающих равнодушных акул-мегалодонов и мелких усоногих рачков, сквозь людей, живших до меня, – кто в звериных шкурах, а кто в мундирах и на конях, и даже сквозь тех, кого еще нет и кто пройдет сквозь меня через пару-другую миллионов лет.
Хроника. Октябрь
Из новостей
* * *
Президентские выборы в Грузии. Победу одержал представитель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Маргвелашвили.
(Сколько себя помню, хочу побывать в Тбилиси, в Грузии – она началась для меня с чудеснейшей книги Ладо Мрелашвили «Мальчики из Икалто». И в Армении. И в Баку. И в Самарканде. Далее везде. И все сижу, не еду. Вот закончу еще 1001 дело, и уж тогда…)
Из журнала
* * *
ТВ третий день показывает Евтушенко в передаче типа «Пусть говорят», только ведет ее почему-то не Малахов. Но стилистика соблюдена, режиссер знает свое дело. Раньше, кстати, передача называлась «Большая стирка». Это ей больше шло.
Комментарии:
Г.Р. А какие глаза у Евтушенко! Сохранить такой живой взгляд, страстность, силу… Этому бы как-то научиться!
А.Б. Разборки поэтов неприятно поразили…
М.И. Может показалось, но у Евтушенко страшные глаза! А если учесть, что это «зеркало души»…
Ал. Сл. Это возраст.
К.Д. Вот и посмотрим, какими мы-то, красавцы, будем в наши восемьдесят, коли дотянем с Божьего соизволения.
Н.К. К., ты точно не менее прекрасной!
К.Д. Я уже сейчас сумасшедшая рыжая старуха.
И.В. Вот этот диалог уже куда интереснее)
М.Ш. Там, где Бродский подозревал в Евтушенко подлость, была одна только глупость. Глупость вполне наивная, типа: «не понимаю, почему это плохо, если чувствую, что мне – хорошо?!» Бродский не верил в искренность наивной глупости, потому что сам наивным никогда не был. И в искренность колебаний «вместе с линией партии» Бродский тоже поверить не мог – принимал за расчет и продажность.
Ал. Сл. Возможно, Бродский был, как человек, лучше, но хуже относился к людям. У Евтушенко наоборот.
М.И. А Вам не кажется, что Бродскому не было необходимости скрывать свое отношение к людям! Да и вообще, что такое «отношение к людям»? К каким людям? А Евтушенко, по моему, на «людей» вообще насрать! Вот БАМ, Андропов… Фабрика, огромная, «по воспроизводству самого себя!»
М.Ш. Нет, Евтушенко не было насрать на людей – освежите память! Многое можно поставить ему в упрек, но не это. А Бродский, конечно, имел право не скрывать свое отношение. Он и не скрывал.
И.В. или ты якшаешься с ними и считаешь ленина гением, получая за это дивиденты, или не якшаешься, считаешь ленина говном и получаешь за это в лучшем случае эмиграцию. и какая разница, кто кому помогал и у кого какой был характер.
Ал. Сл. Благодать – на рано прозревших. Но были те, кто считал Ленина гением задаром. А якшались так или иначе все, кто оставался здесь. Безотносительно к Ленину. Евтушенко многое делал без шкурного расчета, во что, согласен с Мариной, Бродский не верил, т. к. не хотелось верить.
В результате, я вижу, неудачная ТВ-«исповедь» Евтушенко превратилась в массовую исповедь других о Евтушенко. И о Бродском заодно)))
М.И. Исповедь живого и мертвого… Вот задача! Но мертвому всегда веришь больше! А особенно, если ОН бессмертен…
М.Ш. Бывает, что и живой не менее бессмертен. Что приходится признать, даже если по-человечески он несимпатичен.
И.В. ох. лень даже писать. если б не выпил, ничего бы и не писал совсем.
оставьте поэту право на брезгливость.
Из дневника
* * *
Книга. Пишу, переписываю, доделываю.
А называться она будет «Сценарий». Это правильно.
Ульрихь и другие
Девушка была рыжеволосая, стройная, глаза зелено-карие, фамилия – Ульрих. Тогда эта фамилия для меня ничего не значила, кроме того, что звучала по-немецки. При знакомстве я переспросил, блистая правильным выговором, заученным в школе:
– Ульрихь?
– Точно! – обрадовалась она. – Мой папа тоже всегда так говорил. Хотел даже переделать фамилию, в паспорт с мягким знаком записать, но не успел, умер.
Умерший папа добавил ей прелести: у всех моих друзей и приятелей родители были живы, а она – сирота в такие юные годы, то есть и в этом девушка особенная, не похожая на других.
Я сразу же в нее влюбился.
Она приехала откуда-то с Урала, поступала с подругой Вероникой в театральное училище. Там их и высмотрел мой друг Витя, заговорил им уши, как всегда умел, и вот мы уже гуляем по улицам города. Витя с Вероникой, а мы при них.
Витя балагурит, рассказывает истории и анекдоты, берет Веронику за руку, за талию, за плечи, а я поддерживаю беседу веселым смехом и красноречивым молчанием.
Что делать – был робок.
Это с детства и во всем.
Мама просила: сходи к соседке, мы ей термос давали трехлитровый, возьми его, а то на огород завтра ехать.
У этой соседки был электрический звонок на двери. Ни у кого в поселке звонка не было, все стучали в двери или просто открывали их толчком плеча или ударом ноги, а у нее был. Еще она курила длинные папиросы и у нее было какое-то редкое имя. Изабелла или Агнесса. Я ее вовсе не боялся, хотя и понимал, что она какая-то не совсем обыкновенная. Курит. Имя странное. Звонок тот же. Я ее не боялся, но почему-то стеснялся идти. Представлял: вот я захожу на крыльцо, нажимаю на кнопку звонка, она открывает, я говорю: «Здравствуйте, вам мама термос давала, нам он нужен, верните, пожалуйста!». И все. И она вернет термос, и кончатся мои муки.
Но не мог себя перебороть. Что-то мне мешало, я раз десять проходил мимо крыльца. Надеялся, что выйдет. Тогда будет легче. Но она не выходила. Значит, самому подниматься, нажимать на кнопку, говорить: «Здравствуйте, вам мама…» А она на меня посмотрит и подумает: надо же, какие жадные, не успели термос дать, а уже обратно просят!
Наконец я решился, преодолел три ступеньки крыльца, постоял перед дверью, поднял руку, опустил, опять поднял, опустил, опять поднял. Нажал на кнопку. И слетел с крыльца, побежал за угол, а потом все дальше и дальше. Выходила она или нет, неизвестно.
Утром, когда собирались на огород, мама спросила:
– Ты за термосом ходил?
– Ходил. Ее дома не было.
– Сейчас сходи.
– Рано еще, она спит, наверно.
– Ладно, нальем в банку.
И долго, очень долго во мне сохранялась непреодолимая стеснительность – сейчас благополучно преодоленная. Иногда накатывало, я становился веселым, легким, остроумным, особенно в компании, но приступы веселья сменялись неуклюжей угрюмостью.
Доходило до смешного: пошли однажды большой компанией на танцплощадку у Дома офицеров, мои друзья выбрали девушек, танцевали, а я все стоял, смотрел. Мне ведь не кто-нибудь нужен был, а обязательно чтобы очень красивая. Или всё – или ничего. И я такую увидел. Хрупкая девушка с большими глазами, рассеянно оглядывающая окружающих и как бы никого не ждущая. Двое каких-то подошли к ней, она их отвергла. Значит, скорее всего, и мне откажет. Ободренный этой мыслью, я подошел к ней:
– Потанцуем?
– Ладно, – сказала она неожиданно низким голосом, что меня очень взволновало. Такая хрупкость, тонкость, и такой вдруг женский насыщенный голос. Что-то в этом таилось загадочное.
Мы танцевали. Я спросил, откуда она.
– С кулинарки.
Как будто все должны знать, что такое кулинарка.
Я гадал: кулинарное училище? Техникум? Кулинарная фабрика? Или есть у нас район, который так называется?
В любом случае – что общего у меня может быть с девушкой, которая с кулинарки? Ничего. Но очень уж красивая.
– А ты откуда? – спросила она.
– В университете учусь.
– Ясно.
Мы станцевали один танец, второй. Я все смелее обнимал ее и молчал.
После третьего танца она сказала:
– Домой пора.
– Я провожу?
– Ладно.
Я пошел ее провожать.
Шел и молчал.
Не мог не выдавить ни одного слова, как заколодило, будто онемел.
Чем дальше, тем это выглядело смешнее и глупее.
Так мы прошли минут десять, пятнадцать, двадцать.
На каком-то повороте я сказал:
– Извини, я сейчас.
Свернул за угол дома и побежал прочь. Бежал долго, запыхался, устал. Сел на какую-то изгородь и промычал, как от боли:
– Дурак, дурак, ну, бл., и дурак!
Вот и в тот вечер на меня напал приступ каменной немоты.
Ульрихь звали Ирмой, но я обращался по фамилии – как бы шутливо, а с моей подачи так называл ее и Витя.
– Ульрихь, ты поступишь, – говорил он ей. – У тебя индивидуальность. И у Вероники тоже.
Меж тем Вероника была девушка хоть и симпатичная, но, на мой тогдашний взгляд, довольно типовая. Светлые распущенные волосы, расчесанные на две стороны, глаза голубые, платье-сарафан до земли, туфли на платформе, голос капризной красавицы и довольно глуповатый смех.
Мы забрели во двор, где были качели, Витя усадил на них Веронику. Она качалась, а он то вставал сзади, то оберегал спереди, хватал за плечи и прочее, что попадалось под руку, – будто бы для безопасности. Раскачивал качели так, что Вероника пугалась, кричала, спрыгивала, он принимал ее всем телом, обхватывал, кружил, веселился вовсю.
Ульрихь тоже садилась на качели, а я, имея гордость, не хотел копировать приемов Вити, поэтому просто раскачивал ее, стоя сбоку – как отцы раскачивают своих маленьких дочек.
И опять садилась Вероника, и опять Витя ее раскачивал, опять она спрыгивала, а он принимал ее в свои объятия. В очередной раз как-то само собой вышло, что он ее поцеловал. А она его. И они стали целоваться, шаря друг по другу руками. Витя что-то шептал. Потом они пошли за каменное строение, на металлической двери которого была нарисована молния. Там был густой бурьян. Они скрылись в бурьяне.
– Такое ощущение, что Вероника за этим приехала, а не поступать, – сказала Ульрихь.
– А ты поступать?
– Конечно.
Витя этим их и взял, выхватив из толпы несмышленой абитуры, вокруг которой кружились матерые охотники со старших курсов, присматривая себе жертвы. Он обещал поделиться опытом поступления, рассказать, как и чем угодить тем или иным педагогам из приемной комиссии, вот девушки и повелись.
Его самого через год, после третьего курса, отчислили. Он говорил, что за аморалку, за буйное асоциальное поведение. Потом от преподавателя его курса, с которым мне пришлось общаться, я узнал, что причины были другие.
– Экзамены провалил по мастерству. Что и ожидалось.
– То есть?
– Да не актер ни разу. Возбуждался, переигрывал. Самовозгонка. Можно было бы дотащить до диплома, но что хорошего, если потом из театра за профнепригодность выгонят? К тому же, это дело, – преподаватель щелкнул пальцем по горлу.
И я, вспомнив, признал: да, наверное. Самовозгонка. Но такая, что на многих действовала. Нетерпение, настойчивость, горячее желание добиться своего. Я ему завидовал. Даже рубль на выпивку он просил так, будто от этого зависела его жизнь. Лицо покрывалось бурыми пятнами волнения, глаза становились шальными и неистовыми – глаза человека, сжигаемого высокой идеей. Он умел хотеть ярко и жадно, а мне слишком хватало того, что есть, – это бы прожить и прочувствовать, как следует, поэтому и я лишен был дара воспаляться и воспламенять других.
Впервые такое жаждущее и нетерпеливое лицо я увидел у него, когда решил тоже поступать в театральное училище и пришел к нему порепетировать. Задание Витя дал заранее – выучить фрагмент из «Дафниса и Хлои». Встретил меня в плюшевом долгополом халате с поясом; я, ходивший дома в застиранных трениках с пузырями на коленях, очень уважал это вещественное свидетельство Витиной смелой богемной натуры, хотел такой же, но не знал, как воспримет мама, если я попрошу его сшить. То есть как раз знал.
– Начнем! – сказал он. – Учти, главное для актера – вжиться в роль. Ты должен забыть, кто ты, а быть тем, кого играешь.
Я кивал.
– Значит, ты у нас Хлоя. Начинай.
Я был послушен старшему товарищу, хотя и не понимал, зачем он выбрал именно это произведение. Я тогда ни одной мысли не додумывал до конца, как, впрочем, часто и сейчас. И начал:
– «Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны…»
– Стоп! Чувства нет! Эмоций нет! Не верю! Еще раз!
Я собрался с чувствами и эмоциями и завел заново:
– «Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны; тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Вся я пылаю, даже когда сижу здесь, в тени. Сколько раз терновник царапал меня, и я не стонала, сколько раз пчелы меня жалили, а я от еды не отказывалась. Но то, что теперь мое сердце ужалило, много сильнее. Дафнис красив, но красивы и цветы, прекрасно звучит его свирель, но прекрасно поют и соловьи, а ведь о них я вовсе не думаю. О, если б сама я стала его свирелью, чтобы дыханье его в меня входило, или козочкой, чтобы пас он меня».
Произнося эту чушь, я с удивлением наблюдал, как Витя разгорается, как вспыхивает пятнами его лицо, как глаза становятся безумными, а дышал он при этом так шумно, будто бежал за кем-то. Как только я закончил бормотания Хлои, он, взяв меня руками за плечи, заговорил, все больше впадая в экстаз:
– «Целовались мы – и без пользы; обнимались – лучше не стало. Так, значит, лечь вместе – одно лишь лекарство от любви. Испробуем и его: верно, в нем будет что-то посильней поцелуев».
С этими словами он сбросил с себя халат, под которым ничего не было, обнял меня, прижался и закричал куда-то мне за плечо:
– «Думая так, и в снах своих, как бывает всегда, они видели ласки любовные, поцелуи, объятия; и то, чего не выполнили днем, то ночью во сне выполняли: нагие, друг друга обнявши, лежали!» Ну? Ну?
– Чего?
– Не стой, как пень, ты же в образе! Хлоя целует своего Дафниса!
– Тебя, что ли?
– Нет тут меня, есть Дафнис!
– Стремно как-то…
Стоп, ошибка, слово «стремно» тогда, кажется, не вошло в обиход. Что-то другое я сказал. Но в том же духе.
Не вышло у меня с поцелуем. Витя обиделся, надел халат, жадно пил чай на кухне и сердито говорил мне, что актера из меня никакого не получится. Никогда.
И оказался прав.
Вернемся во двор с качелями.
Вити и Вероники все не было, а я о чем-то говорил с Ульрихь, тоскуя и все больше в нее влюбляясь.
Сейчас вот возьму и тоже обниму ее, думал я. Вот сейчас. Но она на качелях, неудобно. Спрыгнет – и обниму. И поцелую. Нежно.
Она спрыгнула, я шагнул к ней, но она нагнулась, поправляя ремешок босоножки.
Распрямилась и крикнула:
– Ника, нас в общежитие не пустят! Ты идешь?
Молчание.
– Я ухожу!
Молчание.
Я проводил ее до общежития, где битком было абитуриентов. Спросил:
– Завтра увидимся?
– Обязательно, – сказала она и вдруг поцеловала меня. В губы. Быстро, коротко, но при этом коснувшись языком. Я поднял руки, чтобы обнять ее, но ухватил только воздух – Ульрихь уже уходила, помахивая на прощанье рукой.
Я влюбился окончательно.
И дал себе слово быть смелым и вольным, как Витя.
Завтра же. Приду вечером в общежитие, найду ее и, кто бы ни был рядом, обниму и поцелую. Так, как это делает Витя – со всеми и всегда.
Правда, никто у него не задерживался надолго. Даже обидно было за этих девушек – при этом все, как на подбор, красавицы и все, как нарочно, в моем вкусе – тонкие, умеренно высокие, с лицами легкого смугловатого оттенка, немного удлиненными, иконописными, сказал бы я сейчас, а тогда этого не знал.
И еще Витя часто брал меня с собой на свидания. Не понимаю зачем.
Обнимал и поцеловывал девушек и одновременно беседовал со мной на разные темы: был очень начитан, оригинален умом и имел бездонную память. Девушки меня, само собой, ненавидели, я завидовал Вите, а он говорил мне после таких свиданий:
– Спасибо, брат, выручил. А то пришлось бы мне ее уестествлять, а я что-то не в настроении.
Видно было, что едва начавшиеся отношения быстро становились для него обузой, сам он объяснял это паническим страхом перед женитьбой; больше брачных пут он боялся только призыва в армию. По счастью, какой-то родственник отца служил при городском военкомате и отмазывал Витю.
В общежитие я назавтра не попал. Не помню, что помешало. Кажется, было что-то вроде внезапной летней ангины.
Примерно через неделю я поправился, позвонил Витя, спросил о здоровье, предложил прогуляться.
Поехали с ним «в город», так говорили все, кто жил на окраине.
Пришли в старый дом, поднялись по деревянной лестнице куда-то под крышу, там, в крохотной каморке, Витю ждала Ульрихь. Оказывается, она, как и Вероника, не поступила. Вероника уехала, а Ульрихь осталась потому, что хотела найти работу и поступать на следующий год. И потому, что влюбилась в Витю.
Витя уселся на продавленный старый диван, она устроилась у него на коленях, Витя грел ладони у нее на талии, забравшись под кофточку, целовал то в ушко, то в щеку, то в уголок губ, а сам продолжал рассказывать мне о Достоевском, о главе «У Тихона», которая тогда не печаталась в тексте романа «Братья Карамазовы», но Витя где-то ее добыл, вот и пересказывал близко к тексту.
Я страдал. Я любил Ульрихь еще сильней, чем раньше. Я представлял, как Витя уестествляет ее. Хотел уйти, но не уходил, не терял надежды – ведь Витя вскоре по своему обыкновению соскучится, бросит ее, тогда, может быть, придет и мой черед.
Закончив рассказ о Достоевском, Витя, лаская Ульрихь, нежно спросил у нее:
– А нет ли у тебя синенькой?
– Какая еще синенькая?
– Бумажка такая, циферка пять нарисована.
– Пять рублей, что ли?
– Догадливая.
– Перевод мама не прислала. Три рубля только есть. Зелененькая.
– Тоже хороший цвет. Пусть наш товарищ сходит за огненной водой, а мы пока побеседуем о доблести, о подвигах, о славе.
И Ульрихь, поняв, что означают доблесть, подвиги и слава, отдала мне последние свои деньги, и я пошел за вином.
Добыл две бутылки плодово-ягодного напитка, отстояв длинную очередь (коротких тогда и не бывало) среди чуждых мне людей, по своей привычке с острым интересом слушая и разглядывая их – будто сошедший на берег заморский моряк среди туземцев.
Когда вернулся, Ульрихь лежала на диване под одеялом, Витя сидел у стола в одних плавках, наигрывал на гитаре и напевал. Увидев меня, обрадовался: вино уже тогда было для него привлекательней девушек и музыки. Выпил сразу два стакана. Ульрихь тоже захотела, выскользнула из-под одеяла и села к столу. Она была почти голой, только на чреслах было то, что называют трусиками или трусами, слова этого я никогда не любил, но других в русском языке нет.
Она немножко выпила, смеялась, влюбленно смотрела на Витю. Я тоже выпил.
Потом мы пошли с Витей в коммунальный туалет, петляли в коридорах и коридорчиках этого сложносочиненного дома.
– Опередил ты меня, гад, – сказал я Вите беззлобно.
– А она тебе разве нравится? – удивился он.
– Еще как.
– Надо же. Ты ей тоже нравился, она говорила. Но она думала, что ты к ней не очень. Не проявил себя.
– Не успел.
– Хочешь, я ей скажу, и она тебе отдастся?
– Иди ты.
– Серьезно. Очень страстная женщина. Я скажу, что со мной по любви, а с тобой из-за темперамента. Скажу, что я это уважаю. И она согласится.
– Прямо при тебе?
– Я выйду. У тебя денег не осталось?
– Нет.
– Схожу к Татьяне, она недалеко живет, стрельну у нее, потом винца достану, у тебя времени будет дополна.
– Не смешно.
– Чудак, я не шучу!
– Не знаю…
– Я знаю!
Он оставил меня в коридоре, вошел в каморку. И вскоре вышел.
– Она тебя хочет. Страшно возбудилась, между прочим. Иди. А я к Татьяне. Главное, чтобы не заставила деньги отрабатывать. Я бессилен и пресыщен!
Он удалился, а я стоял перед дверью и размышлял: как войти, что сказать.
Чем дольше я стоял, тем желанней представлялась мне Ульрихь и тем невозможней казалось то, что должно произойти.
И на цыпочках ушел.
Не прошло и месяца – Витя расстался с Ульрихь. Любви он от нее хотел все реже, синенькие и зелененькие бумажки просил все чаще, ей это надоело. Она, как будущая актриса, была девушка с яркими чувствами, не хотела переживать свое горе в одиночестве, приехала ко мне, плакала, рассказывала, как Витя ее оскорбил и обидел, какую нанес ей душевную рану. Я обнимал ее за плечи и гладил по голове. Потом поцеловал ее. Она жарко ответила.
Все произошло само собой.
Через несколько дней Ульрихь говорила мне, что любовь к Вите была как бы пробной, а настоящая у нее теперь.
Я был счастлив. Меня любят, я люблю, что еще нужно?
Ульрихь приезжала ко мне часто, познакомилась с родителями. Однажды мама спросила:
– Жениться не задумал случайно?
– С чего ты взяла?
– Да так. Она-то замуж хочет точно.
– За кого?
– За тебя.
– С чего ты взяла?
– Вижу. Ты смотри, она ведь настырная, как все еврейки.
– Кто еврейка?
– Она.
– С чего ты взяла?
– А то не видно!
– В целом про евреев я ничего плохого не скажу, – вставил отец, который вообще ничего плохого никогда ни о ком не говорил. – Наша Марина вон за Володю Альтшуллера вышла – исключительно умный и дельный мужик! Они все такие. Хотя, конечно, себе на уме, это да.
– Настырные, – стояла на своем мама.
– Нет, но кто вообще сказал, что она еврейка? – добивался я ответа.
– Я говорю! – предъявила мама свой любимый аргумент. – А ты будто прямо и не знал?
Я не знал. В каком-то смысле я до этого вообще не видел, не выделял евреев. Так получилось, что Ульрихь оказалась первой, с кого я начал приглядываться. Глаза определенного разреза. Огненные вьющиеся волосы. Губы своеобразной формы, хочется сказать нелепое: древние губы. Все это мне нравилось и даже сводило с ума, но не более того. Или не менее.
А после слов мамы – разглядел. Сравнил с другими, кого мог опознать хотя бы по фамилии, но раньше не был этим озабочен или, как сейчас говорят, не заморачивался: с Маринкой Гольдиной, Костиком Левиновским, Сашей Фишманом и другими, с кем учился в университете, а также с преподавателями Зильбертом и Майсиной. Да, есть сходство! Раньше я знал только, что Маринка умница и стихи пишет, Костик артистичен, легок и остроумен, а Миша во всем круглый отличник, что коллекционер джазовых пластинок Зильберт принимает экзамены жестко и неприветливо, а красавица Майсина устало, но снисходительно, если только не огорчить ее полной тупостью. Теперь я увидел другое. То есть видел и раньше, но как-то – не осознавая, не фиксируясь на этом.
Да, разглядел я, Ульрихь, хоть и с немецкой фамилией, но явно еврейка. Именно настырная. Упрямая. Любит спорить и быть во всем правой. Чтобы на любой кочке торчать царицей горы.
Однако я все еще ее любил.
Я решил спросить ее. Это удалось сделать легко и как бы между прочим:
– Ох, – сказал я, – ты умная прямо не как просто немка, а как еврейка, ты не еврейка, случайно?
– У меня мама еврейка, – спокойно ответила она, и мне это спокойствие показалось деланным. – Для тебя это имеет значение?
– Нет, – сказал я и соврал, потому что вдруг почувствовал: имеет значение. Еще вчера не имело, а теперь имеет. Почему? Не знаю.
Кажется, именно с этого времени – запоздало по своему обыкновению, я понял, что есть другие. Касается это и нации, и ориентации, и много чего еще.
А насчет Вити мне объяснил один попутчик. Я тогда был уже радиожурналистом, возвращался из приятной командировки в город Балаково – по Волге, с ветерком, на легкокрылом быстром «Метеоре», где был буфет с напитками. Свободная продажа алкоголя в советское время сама по себе была поводом выпить. Рядом оказался молодой врач, умница, балаковский житель и организатор самодеятельного театра при больнице, он там был и актером, и режиссером. Нашлись общие темы, я рассказал, как чуть было ни поступил в театральное училище, вспомнил, как смешно репетировал с Витей.
Врач слушал все внимательней и вдруг сказал:
– Все ясно. Латентный гомосексуализм.
– У кого?
– У вашего друга. А может, и у вас.
– Ну, у меня-то точно нет. Да и у него это было… Ну игра, наверно.
– Странная игра.
– Да бросьте, никогда он с мужчинами в этом смысле ничего не имел, наоборот, был страшный бабник!
– Такое бывает. Человек сам себя оттягивает от того, куда его тащит, и насильственно втягивает в то, к чему равнодушен. Я психиатрией увлекался, там это описано. Неужели вы этого не почувствовали?
– Так, мелькнула мысль… Главное же не это.
– Для вас да. А с ним, кстати, что произошло?
Пришлось признать, что ничего хорошего не произошло. Когда Вите исполнилось двадцать шесть лет, на него свалилось сразу два несчастья: он женился и его призвали в армию.
Оба события свершились насильственным путем. Одна из его девушек забеременела, не успела или не захотела вовремя избавиться от плода, призналась матери и сказала, кто автор. Разгневанная мамаша явилась к родителям Вити, те, как порядочные люди, сразу же приняли ее сторону и начали дружно корить Витю. Витя не любил долгих упреков, для него легче было жениться, чем спорить.
А через пару месяцев после свадьбы новая беда: отцовского родственника, защищавшего от армии, куда-то перевели, тут же Витю вызвал районный военком и спросил:
– Ты где же, сукин сын, скрываешься, в каких лесах прячешься, когда у меня недобор по призыву?
– Во-первых, потрудитесь мне не тыкать! – гордо выкатил Витя свою впалую грудь. Что он хотел предъявить во-вторых, неизвестно, военком страшно заорал на него, затопал ногами и руками, Витю в тот же день отправили этапом к месту службы, в забайкальский стройбат.
Через год его комиссовали. Он вернулся не к жене и родившейся дочери, а домой, к родителям, несколько месяцев молчал и пил. И, несмотря на молодые годы, вскоре его шарахнул инфаркт, с которым он и прожил инвалидом оставшиеся ему на земле годы.
Был ли он из тех, кто любил на самом деле не женщин, а людей своего пола, но скрывал, пытался насильно себя переломить – не знаю. Не спрашивал.
Те, кто на самом деле был другой, но проявлял себя осторожно, учитывая законы советского времени, мне попадались несколько раз – и тогда, когда я еще толком не понимал этого, и тогда, когда начал понимать.
Например, после первого курса, летом, я каждый день ездил на пляж: переводился с вечернего отделения на дневное, надо было много прочесть, чтобы наверстать. В том числе по курсу античной литературы.
Я лежал возле чахлого кустика и читал Гомера. Рядом расположился мужчина лет тридцати. Не как я – просто подложив под себя рубашку, а аккуратно, на тонком одеяле. Солнечные очки у него были в золотистой оправе, пострижен очень аккуратно, доносился запах одеколона. Он тоже что-то читал. Поглядывал на меня. Рассмотрел обложку. Сказал:
– Тяжелое чтение для пляжа!
Я охотно объяснил, что студент, что учусь на филфаке. Я гордился этим.
– А я в техникуме преподаю, – сообщил мужчина.
И подполз, и положил раскрытую книгу на мою ногу. Даже не совсем на ногу, на бедро. Даже не совсем на бедро.
Ну, мало ли. Где пришлось, там и положил. Можете не верить, но я не придал этому значения.
Он поинтересовался, какие еще предметы преподают на филфаке. Я рассказал.
– Надо же. А у меня голая электроника. Вам, наверное, это скучно.
– Да. Я в этом ничего не понимаю.
– На самом деле в электронике есть своя поэзия.
– Может быть.
Я пошел поплавать. Он плавал рядом и ругал волжскую воду: мутная, грязная.
Мне она такой не казалась, но я не спорил.
Охаял он также пляж: окурки, бутылки, бумажки, кучи мусора.
С этим я был согласен, хотя меня мало волновала загрязненность. Бутылки, окурки и бумажки всегда можно отгрести под куст, а без них песок вполне чист и приятен на ощупь: мягок, сыпуч; интересно, выпадая в дремоту, рассматривать стекловидные песчинки, играющие, если их пропустить меж пальцами, разными цветами.
Так я купался, читал, лежал с закрытыми глазами, опять купался, читал, лежал, сыпал меж пальцев песок, преподаватель техникума время от времени говорил что-то ненавязчивое. А потом я собрался домой.
– Далеко живешь? – спросил преподаватель.
Я сказал.
– Далеко! Так и поедешь весь грязный?
– Я купался только что.
– Грязью грязь не смоешь.
– Дома душ приму.
– А до дома грязный поедешь? – огорчился преподаватель.
– Да почему грязный-то?
– А какой еще? Я вот рядом живу, пять минут на троллейбусе, у меня душ отличный, я сам кафелем обложил. И коньячку выпьем, поговорим. С тобой интересно поговорить, ты умный парень.
– Нет, – сказал я. – Спасибо.
– Не любишь коньяк?
– Не очень.
– Тогда вина выпьем. Есть отличное вино, грузинское.
– Нет, спасибо.
Я шел по пляжу, он шел рядом.
Я шел по мосту, он шел со мной.
Я шел от моста к остановке, он следовал по пятам, говоря что-то ровным и убеждающим голосом. Про душ, вино, про вино и душ, про то, как нехорошо ехать домой грязным.
Я не мог его послать – не тот характер (был).
Терпел.
– Сейчас троллейбус-тройка подойдет, и поедем, – говорил он. – Пять минут. Душ горячий, винцо холодное, хорошо! – смеялся он и передергивал плечами, предвкушая удовольствие.
Подошел троллейбус. Не тройка, которая была нужна ему, и не десятка, которая была нужна мне. Кажется, двойка. Я напрягся. Приготовился. И вскочил в двери как раз перед тем, как они закрылись.
И уехал.
Не знаю, какое у него было лицо. Я не оглядывался.
И забыл об этом случае на следующий же день. Вроде бы, не такое уж заурядное событие, но я жил тогда совсем другими событиями и впечатлениями. Ненужное выкидывалось из памяти сразу же.
Если вспомнился этот эпизод, надо вспомнить и другой – когда я повел себя совсем иначе. Я был уже взрослым, за тридцать, был семейным, но повадки имел вольные, молодежные, любил покуролесить, любил компании, при этом изжил в себе стеснительность и вообще, как мне казалось, стал другим человеком.
Я не спеша шел домой откуда-то вечером, не чувствуя ни тягот, ни обязательств, думая лишь о том, где бы присесть и не спеша допить вино из бутылки, которую прихватил в гостях, заткнув пробкой, скрученной из газеты.
Свернул в сквер у театра оперы и балета.
Сень деревьев, запах роз, колонны театра, скамья с изогнутыми ножками…
Сел, выпил, закурил, откинувшись на спинку, с интересом прислушиваясь к своим мыслям.
Мимо шел мужчина лет сорока, невысокий, лысоватый, с прилизанными остатками светлых волос, в обтягивающих не по возрасту брючках, в кожаной курточке. Остановился, спросил:
– Угостишь отравой?
Я дал ему сигарету, он сел рядом, я поднес зажженную спичку, он прикурил, сильно втягивая щеки, закашлялся, бросил сигарету:
– Кто не начинал, лучше не надо и пробовать!
– А вы не начинали?
– Нет. Даже досадно. Пробую – не могу. Сразу тошнит.
– А я вот не могу бросить.
– Но ведь нравится?
– Вообще-то да.
– Зачем же бросать, если нравится? Если бы мне нравилось, я бы никогда не бросил. Вот пить нравится, я и не бросаю. Я и сейчас слегка. Не смущает?
– Нет. Я сам тоже.
– Отлично! Значит – резонируем!
Он спросил, кто я, с интересом слушал, хвалил мои занятия и меня, отметив, что с первых минут разглядел во мне оригинальность характера и острый ум.
На это меня купить было легко, именно любовь к похвале, а не оригинальность характера и остроту ума он увидел, как мог бы, впрочем, наугад увидеть это в любом человеке.
Я отблагодарил внимательного слушателя рассказом о себе, о жизни, о книгах. А он кое-что рассказал о себе. Что музыкант в симфоническом оркестре, флейтист, что увлекается пешеходным туризмом, был на Кавказе, на Саянах, на Урале с такими же, как он, энтузиастами. Ночевки в палатках, песни у костра. И главная ценность – дружба.
Становилось прохладно, я слегка поежился, он предложил:
– Накинь мою курточку. Я морозоустойчивый, а ты, я вижу, мерзнешь.
– Да нет, спасибо.
– Возьми, возьми. Стесняешься, что ли? Мы вот в палатках вместе спали вообще голые – и ничего. Что естественно, то не безобразно.
Меня из холода тут же бросило в жар.
Так вот ты кто! – подумал я. И меня, наверно, прощупываешь, надеешься – вдруг я такой же? Ах ты, сволочь!
Я уже не был наивным, я четко уже знал, что есть другие. Геи (тогда их называли иначе), евреи, чучмеки.
Про чучмеков, кстати, тоже не сразу узнал сермяжную правду, но помогали добрые люди. Например, однажды к отцу по какому-то делу приехал из дальних мест занятный человек, председатель колхоза и поэт. Он о чем-то долго разговаривал с отцом, а потом мы оказались вместе в автобусе, обоим надо было в центр, и он всю дорогу мне, тринадцатилетнему пацану, как взрослому, толковал о серьезных проблемах жизни.
Подобно акыну, он что видел, о том и пел. Увидел женщину за рулем троллейбуса, возмутился:
– Разве это женское дело? Она должна дом содержать и детей растить! И мужу помогать. Это по-русски, а мы копируем неизвестно с кого! Ты вот не помнишь, а был такой лозунг: «женщина – на трактор!». Идиоты! Ей рожать, а ее на трактор, а там так трясет, что все органы местами поменяются, чем рожать она будет?
Объезжали траншею на дороге, где велись работы, он негодовал:
– Ты посмотри, разрыли, а там асфальт в семь накатов! Как культурные слои! Раскопки Трои! Вместо того чтобы асфальт один раз положить, но хорошо, они его семь раз положат – но плохо! Деньги зарывают! И это даже не вредительство, а просто разгильдяйство, понимаешь?
Я кивал.
Проезжали мимо рынка, он тыкал рукой в его сторону и обличал:
– Вот иди туда и посмотри, кто там овощами и фруктами торгует? Чучмеки! Азия и Кавказ! Ладно бы персики и виноград, но огурцы-то и яблоки – почему? Смотреть противно, у него морда – в три дня не обгадишь, а он гирьками балуется! У меня стихи есть на эту тему.
И он прочел стихи, которые навсегда засели в моей памяти – по-своему складные и ловкие:
Ты, как король, стоишь на рынке
И любишь денежки считать!
Пьешь молоко из нашей крынки,
А на тебе нужно пахать!
– Согласен? – спрашивал он меня.
Я мычал, что при желании можно было принять за согласие.
Мы ехали вместе не больше часа, но этот человек успел мне высказать все основные свои соображения насчет окружающих несправедливостей. И я это не то чтобы впитал, но – запомнил. Это осталось.
А с музыкантом симфонического оркестра я поступил так, как того требовал мой выработанный к тому времени кодекс чести.
– Курточка, говоришь? – спросил я, поворачиваясь к нему всем телом и занося кулак. – В палатке голышом, говоришь?
– Ладно, ладно! – вскочил он. – Успокойся!
Мне не хотелось его бить. Я никогда не любил драться, тыкать кулаком в лицо другого человека. Но меня толкало чувство долга и ясное понимание того, как на моем месте обязан поступить настоящий мужчина. Поэтому я ринулся на него, ударил по скуле, больно ушибив костяшки пальцев. Ударил еще раз, по затылку (он отвернулся, согнувшись). И пнул ногой в зад. Он упал за низкую ограду, в розовые кусты.
Я гордо плюнул на него и удалился, ужасно довольный собой.
И потом не раз рассказывал об этом своем подвиге.
Однажды это случилось в компании средневзрослых (под сорок) творческих людей, обсуждавших тему инакости – во времена, когда никто еще о толерантности не только не говорил, но и не слышал, когда все было просто, однозначно и совпадало с линией партии и правительства. Даже у тех, кто не любил партию и правительство.
Мой рассказ, как всегда, одобрили, было это на веранде южного пансионата, невдалеке приятно шумело море, все пошли гулять к полосе прибоя, а я остался переживать ласковое чувство довольства собой. Но остался и еще один человек, не из нашей творческой команды, как-то затесавшийся в нашу компанию. Не помню, как его звали. Впрочем, кажется, он и не представился. Он небольшими глотками отпивал вино и смотрел на меня, усмехаясь. После довольно продолжительного молчания спросил:
– Может, и меня по морде стукнете?
– За что?
– Я тоже из этих.
– Но вы же ко мне не пристаете.
– А тот приставал? Бедная жертва! Куртку ему предложили и этим на честь покусились!
Как, увы, часто со мной в жизни бывало, я тут же почувствовал правоту другого человека и свою неправоту, и мой геройский поступок стал казаться мне чем-то иным. Я не всегда умен, но часто догадлив, вот душа и догадалась правильно отозваться на слова незнакомца. Засмущалась.
– Слова-то какие находят! – продолжил этот человек. – Мужеложство, педерастия! Господи ты боже мой! Вот у вас тут есть мужик, не знаю, кто он, лет пятьдесят, плешивый, он тут с женой и дочками обретается, видел его днем у моря, а по вечерам бегает к нам в пансионат слюни ронять, с девушками заигрывает, надеется перехватить что-нибудь, но пока не везет, не дают ему, убогому. А потом возвращается и ложится с женой. И чем-то с ней занимается. Это как? Женоложство? По-моему, да. И миллионы мужей таким женоложством каждую ночь занимаются. А вот их жены как раз мужеложством. Впрочем, у каждого свой отдельный случай. Муж Вася – значит васеложство, жена Нина – ниноложство. И это не только отношений полов касается. У нас и коммунизмоложство в наличии – вот за что надо судить с пожизненным сроком, и родиноложство, куда ни глянь – одно ложство!
– Это не так.
– Да знаю, что не так, я раздражен, а человек, когда раздражен, имеет право быть необъективным! Когда очень доволен, тоже. Вы ведь тоже привираете. Потому что на самом деле вовсе своим поступком не гордитесь, а убеждаете себя, что гордитесь Рассказываете, в сотый раз проверяете, и вам подтверждают: да, молодец, все правильно. Пока не попадется такой, как я. И вы сразу понимаете, что не молодец. Понимаете ведь?
При общей не вполне честности стремление к честности жило во мне всегда. И я сказал с радостью говорить правду:
– Да. Вы угадали.
– Угадать несложно. Все мы так живем, все мы видим в других не просто человека, а человека с плюсом. Или минусом. С добавкой, короче.
– То есть?
– Ну, как в школьном учебнике: шофер-кабардинец, мечтатель-хохол. Вот, допустим, приходите вы к врачу. Если это просто врач, он просто врач. А если этот врач еврей, вы автоматически мысленно прибавляете: врач плюс еврей. Так или нет?
– Нет. Я не прибавляю.
– Врете, все прибавляют. Разница в том, что для некоторых еврей вообще в числителе. То есть сначала еврей, а уже потом врач. А если обо мне узнаете, то для вас я сразу же буду в числителе гомосексуалист, а в знаменателе то, кем я на самом деле являюсь. Неважно, кем. А я, поверьте на слово, один из лучших специалистов в своей области, причем не в масштабах страны, а мира! Нет, у вас стереотип, вы иначе уже думать не можете! У вас все люди с добавкой, с плюсом! Человек – плюс национальность! Или плюс пол, цвет кожи, да мало ли! Вы иначе уже не можете видеть!
– Вы конкретно обо мне?
– Не только. Вы – то есть русские.
– А вы не русский?
– Я отказался от национальности. Я забыл про нее. Для меня это неважно. А ведь будет время, нескоро, лет через сто, в паспортах национальность указывать не будут – если паспорта еще сохранятся! Жаль, не доживу.
Незнакомец ошибся: прошло не так уж много времени, и графа «национальность» из паспортов исчезла, хотя вряд ли это привело к каким-то решительным изменениям.
– Вы путаете одно с другим, – сказал я. – Национальность одно, а то, что у вас, другое.
– Как хорошо вы сказали! – рассмеялся он. – «То, что у вас»! Будто это болезнь какая-то, вслух сказать стыдно! Зараза! Типа – сифилис! Да к сифилитикам и то лучше относятся, у нас венерическими болезнями мужики хвастаются, как наградами! Скажете, нет?
Я не сказал нет, потому что у меня было несколько знакомых, переболевших болезнями этого рода, и они, правда, не только не скрывали это, но рассказывали с гордостью.
– Есть только одно зло! – поднял палец незнакомец. – Насилие! Насилие человека над человеком. При этом насилие государства и общества в разумных пределах допускаю и даже одобряю. Но человек человека насиловать не имеет никакого права. Ни в какой области! Хоть вам производство, хоть любовь, хоть что! Согласны?
Как мне было не согласиться, я уже хорошо это испытал на своей шкуре.
С Ульрихь именно к этому и пришло – к насилию с ее стороны. Она звонила, приезжала, не давала прохода и продыха, ревновала, закатывала истерики, грозила самоубийством, десять раз я с нею расставался, но получалось так, что опять сходился. Однажды у меня в гостях была университетская подруга, Ульрихь позвонила, подруга, оказавшись рядом с телефоном, взяла трубку:
– Вас слушают! Нет, вы туда попали. Он сейчас занят.
Я, иронично улыбаясь, протягивал руку к трубке. Эта улыбка тут же предала Ульрихь, и девушка, конечно, это предательство увидела. И начала подыгрывать.
– Кто я? Очень хороша знакомая. Совсем хорошая. Ладно, я его девушка, вы довольны?
Ульрихь примчалась через полчаса на такси. К этому моменту я рассказал о ней подруге, и та предложила помощь: сделаем вид, что она действительно моя девушка.
Как задумали, так и поступили. Ульрихь разошлась во всю силу своего темперамента, называла разными словами и меня, и ее, дважды ударила меня кулачком в плечо и один раз толкнула подругу, потом плакала, потом ей стало плохо, я поил ее чем-то из аптечки…
Наша с нею история кончилась, она через месяц уехала насовсем, а подруга осталась, началась другая история, где я вынужден был продемонстрировать, что умею быть благодарным, а потом с ее стороны последовал ряд нежных, ласковых, любовных и при этом вполне насильственных действий. И сюжет, однажды проигранный и прожитый с Ульрихь, повторился с нею, а потом вообще стал проклятием моей жизни, возвращаясь в разных обличьях с пугающей неизбежностью.
Но мы ведь не об этом, мы —
а о чем?
О привычке добавлять, которой я отравлен и от которой, быть может, никогда не избавлюсь? Правда, бывает это только при первом взгляде, при первом знакомстве, а если сходишься, все уходит на второй или третий план, в глубокий знаменатель, но далось мне это не сразу.
Я и сам в глазах многих человек с добавкой. Либераст, креакл, образованщина, да мало ли. И за еврея не раз принимали, благодаря сомнительной фамилии. Или помню, как впервые столкнулся с тем, как гордая принадлежность к великой нации может, оказывается, кого-то напугать. Попав в Нью-Йорк на рубеже девяностых, я бродил с другом Петей, театральным режиссером, по аллеям Центрального парка, мы обсуждали наше совместное творческое будущее, представлявшееся блистательным и международным, присели на лавочку возле какой-то скульптурной группы. На нее взбирался малыш лет шести. Пыхтел, старался. Скатился, крикнув:
– Черт, опять!
Я удивился и обрадовался родной речи и окликнул его:
– Привет, тебя как зовут?
Мальчик глянул на меня, не ответил и, сопя, полез опять вверх.
– А ты сними ботинки, попробуй босиком, тогда получится! – посоветовал я ему.
И тут раздался злой женский крик:
– Майкл, быстро сюда!
Я оглянулся. Молодая женщина, высокая, прямая. Взгляд на сына и только на него, никаких косвенных лучей, как это обычно бывает у моих соотечественников.
– Майкл, кому сказала!
– Я с ним даже не говорю! – недовольно ответил мальчик, косясь на меня.
– Ко мне, я сказала!
– Вы что, я же русский! – успокоил я ее.
Она посмотрела на меня с откровенной и даже подчеркнутой презрительностью и сказала:
– Вот именно!
И ушла, таща своего Майкла за руку.
Петя хохотал, утирал слезы и приговаривал:
– Я русский! Майкл, сними ботинки, а еще лучше штаны!
– Дурак, – сказал я ему.
– А ты умный? Скажи спасибо, что она полисмена не позвала. Улетели бы тогда с тобой на родину – только неизвестно когда!
И мы заторопились в аэропорт.
А в другом аэропорту, задолго до этого, сидела красивая рыжеволосая девушка с гитарой в руках, с красивой фамилией Ульрихь. Я сам предложил ей – проводить, помочь довезти в аэропорт вещи. Довез, сразу же прощаться было неудобно, сел с нею в зале ожидания. Мы молчали. Потом она достала из чехла свою старенькую гитару (на которой играл Витя), провела по струнам и запела негромко, почти шепотом:
Нет, мой милый, никуда я не уеду.
А иначе мы не вынесем разлуки…
Слезы текли по ее лицу, я жалел ее, я опять ее любил, но терпел и ждал, когда же объявят посадку на рейс.
Бумажный самолет
Трагикомедия в двух действиях
Вместо предисловия. Разговор драматурга с редактором журнала «Современная драматургия», где впервые была опубликована эта пьеса.
РЕДАКТОР
Вопрос, который первым сам собою
Напрашивается: почему в стихах?
ДРАМАТУРГ
Ну, я стихами это не назвал бы.
Ритмическая проза – так верней,
Хоть есть и рифмы кое-где. Навскидку
Отвечу так: все господа актеры
Ужасно любят отсебячить. Я,
Попав на свой спектакль и слыша текст,
Не раз спросить хотел: а что за пьеса?
Я этого, ей-богу, не писал!
Когда есть ритм, то вольно иль невольно
Актеры будут следовать словам,
А не тому, что кажется им лучше.
РЕДАКТОР
Сойдет за версию. А ежели серьезно?
ДРАМАТУРГ
Пожалуй, дело в том, что я хотел
Столкнуть две разноправные стихии:
Высокий ямба штиль – и просторечье.
Когда герой, ну, типа, мямлит чё-то,
Уныло кособочит языком,
В колдобинах трясется смутной речи,
Нескладной, бытовой, и вдруг нежданно
Глаголом звонким жжет и сам себе
При этом удивляется, я вижу,
Как он на миг становится другим,
Взлетает…
РЕДАКТОР
На бумажном самолете?
ДРАМАТУРГ
Ну да, наверно. Грубо говоря,
Об этом пьеса: о минутах кратких
Полета, и о том, как все хотят
Взлететь. Но вот куда – не понимают.
И тюкаются носом.
РЕДАКТОР
А потом?
ДРАМАТУРГ
Потом опять. Но пьеса о другом.
Она, как я сказал, о столкновеньях
Того, что есть, с тем, что хотим мы видеть
В себе, в других… Ну, в общем… как-то так.
РЕДАКТОР
Ясней не сформулируете?
ДРАМАТУРГ
Вряд ли.
Да и зачем театр тогда? Пусть он
Найдет свой смысл и, может быть, закон
Короткого, но дерзкого полета.
И самолетик попадет в кого-то.
РЕДАКТОР
(иронично почесывая затылок)
Да. В критика. Причем не в бровь, а в глаз.
ДРАМАТУРГ
(горделиво почесывая лоб)
О критиках я вам…
РЕДАКТОР
(с соболезнующей улыбкой)
Не в этот раз!
Действующие лица
АНТОН, жених.
НАТАША, невеста.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА, ее мать.
ВИКТОР ИЛЬИЧ, отец Антона
ГАЛИНА ПЕТРОВНА, мать Антона.
ОЛЕГ, друг Наташи.
ЮЛЯ, ее подруга.
КРИСТИНА, девушка по вызову.
ОФИЦИАНТКА.
МАША, регистратор загса.
ВЛАД.
ГОСТИ в загсе и на свадьбе.
Первое действие
1
Дачный участок. Конец лета, много цветов. На заднем плане скромный дом. Среди цветников прогуливаются АНТОН и НАТАША. Она срывает цветы, собирая букет, который становится все больше и больше.
НАТАША
Нет, просто я хочу понять реально,
Кто будет из твоих?
АНТОН
Сейчас скажу.
(Загибает пальцы.)
Серега, Витька, Бурунов с подругой,
Васяня с бабой тоже, Толик, Кутя,
Чупаткин, Никитос, Колян с женой,
Ромаха, Дэн…
НАТАША
Какой еще там Дэн?
Такой косой урод без уха, что ли?
АНТОН
Нет, Дэн без уха – тот из Бирюлева.
Ему отгрыз папаша спьяну в детстве —
Хотел, ну, типа, поиграть с сынком,
Тот дернулся, и опа, уха нету.
А этот с Бутова, он с ухом. А косой
И вовсе Кутя. Ты не перепутай,
А то обидятся.
НАТАША
Да я уже в отпаде!
Какой-то Никитос, Васяня с бабой
И Дэнов целых два, вот ни фига!
Один, блин, с Бутова, другой, блин, с Бирюлева,
По всей Москве ты, что ль, их собирал?
АНТОН
Наташ, сто раз сказал: друзья по жизни.
Как я на свадьбу их не позову?
И, кстати, Дэн, который бирюлевский,
Я звать его не собирался вовсе.
Короче, кто еще? Можайский Саша,
Володя Штырь, Влад Пискунов.
НАТАША
Чего?!
Ты Влада звать собрался? Ты серьезно?
АНТОН
А чё такого?
НАТАША
Ладно. Я тогда
Анжелу позову с шестого дома.
АНТОН
Ну, ты совсем! Анжела проститутка,
И это на районе знают все!
НАТАША
Ты Влада, я Анжелу, все нормально.
АНТОН
Но он не проститутка, ты работай
Мозгами-то.
НАТАША
Он хуже! От него
Какой-нибудь косяк уж точно будет.
На свадьбе у Светланы он ее
Подругу под столом…
АНТОН
А чё, нормально!
Подругу, не Светлану же.
НАТАША
Ага.
А у Коляна твоего невесту
Почти увел со свадьбы.
АНТОН
Прям увел он!
Колян его об этом сам просил!
НАТАША
Иди ты!
АНТОН
Да точняк! Колян в обкурке
Случайно Дашку трахнул, а она
Взяла и залетела. А папаша —
Майор ГИБДД. И говорит:
«Ну чё, Колян, решай – жениться будем
Или тебя собьют случайно насмерть?».
Кому охота помирать? Ну, Коля
Женился. А на свадьбе загрустил
И Владу говорит, типа того,
Ты, говорит, любую уложить
Сумеешь. Обработай тихо Дашку
В сортире где-нибудь, а я накрою,
И будет повод разбежаться.
НАТАША
Тьфу!
Говнюк какой! В сортире – вот придумал!
АНТОН
Короче, Влад ее, не знаю как,
Уговорил, ну, типа, пообщаться.
Ну и в кабинке, в дамском туалете
Пристроились и, значит…
НАТАША
Перестань!
(Пауза.)
А что Колян?
АНТОН
А он все позабыл.
Пил стаканами, память и отшибло.
Вокруг все: «Горько! Горько!». Он встает,
А целоваться не с кем. Все: «Колян,
Куда невесту дел?». А он: «Идите
Все в жопу, я за ней не нанимался
Следить!». Тут папа чё-то заподозрил,
Пошел искать. Обшарил и нашел
Дочурку с Владиком на пике, блин, экстаза
Под нежное журчанье унитаза.
НАТАША
Кошмар! Я б просто сдохла со стыда!
АНТОН
Никто не сдох. Майор все сразу понял
И Владу в морду, Дашку к жениху.
Колян очухался: «Ты где была?». А папа
Ему на ухо: «Помолчи, дурак,
Не надо было напиваться так».
И Владу приказал молчать до гроба.
НАТАША
А как узнали?
АНТОН
Кто-то подглядел,
Наверно. Или Владик проболтался.
Или подруге Дашка по секрету
Сама все рассказала.
НАТАША
Так. Постой.
А может, ты, Антоша, тоже Влада
Зовешь, чтоб он меня…
АНТОН
Ты чё, вобще?
У нас с тобой совсем другое дело.
Я тя люблю. И ты не залетела.
На кой мне хрен такой экстрим?
НАТАША
Зачем
Тогда тебе он нужен?
АНТОН
Просто – друг.
Я всех зову, ну и его до кучи.
НАТАША
Не надо!
АНТОН
Почему?
НАТАША
Да потому!
Ты можешь мне хоть в чем-то уступить?
И так созвал: Васяня, Никитос,
Какой-то Дэн безухий…
АНТОН
Не безухий!
НАТАША
Да пофиг! Я своих подруг всего
Пять штук позвала, а могла бы сорок!
АНТОН
Ну и зови.
НАТАША
Антоша, ты пойми,
Я вся и так уже трясусь от стресса,
Вся на эмоциях, на нерве, у меня
Задержка даже.
АНТОН
То есть ты…
НАТАША
Да нет,
Я не беременная, это ерунда,
Дисфункция. Но, знаешь, почему-то
Мне кажется, что все пойдет не так.
Боюсь чего-то, не могу заснуть.
Прошу тебя, зови хоть всю Капотню,
И Марьино в придачу, но в одном
Мне уступи, Антон, – не надо Влада!
Она набрала уже такой огромный букет, что он еле умещается в руках. С последними словами Наташа бросает букет на скамью. В это время в дачную калитку входит мать Наташи, ИРИНА СЕРГЕЕВНА.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
(слышит последнюю реплику)
Вот именно, не надо!
НАТАША
(испуганно оборачивается)
Мам, ты чё?
Прям напугала даже! Подкралась,
Будто маньяк. Заикой сделать можешь!
АНТОН
Ирин Сергевна, здрасьте! А чего
Не надо-то?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Да ничего не надо!
Вам доучиться лучше бы сперва.
Куда спешите? Я тебя, Наташа,
Когда родила, раз и навсегда
Покой забыла, перестала быть
И женщиной, и вовсе человеком.
Умой, одень, обуй и накорми,
Лечи, учи, спасибо фиг кто скажет.
Еще когда малая, ничего,
А выросла – не спи, мамаша, окна
Обсматривай: где дочка по ночам
Шатается? А сердце-то не камень,
Всё в трещинах!
НАТАША
Ой, ну, тебя послушать,
Я будто бы какая-то была
Отстойная.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Да нет, бывают хуже.
Но я-то мать, я все равно тревожусь.
А главное: ну, думаю, вот дочь
Подняла на ноги, могу и отдохнуть.
Какой тут отдых, не моргнешь – и внуки
Пойдут. И я опять начну страдать,
Ночей не спать…
АНТОН
Вы зря, Ирин Сергевна.
Во-первых, мы не очень-то спешим
Насчет детей. А если заведем,
То сами справимся.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Да не об этом дело!
Хоть сами, хоть не сами, я ж опять
Тревожиться начну: да как, да что…
Волнуйся, думай, приезжай, звони,
С ума сойдешь!
Сзади появляются родители Антона — ГАЛИНА ПЕТРОВНА и ВИКТОР ИЛЬИЧ. У него в руках пакеты, откуда по ходу разговора он достает различную еду и напитки, размещая все это на садовом деревянном столе.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(громогласно)
А мы вам не дадим!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
(берется рукой за сердце)
О господи! Вы прямо, как маньяки,
Подкрались сзади. Так и напугать
До смерти можно!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Эт у нас легко!
У нас на складе был такой Малинкин.
Пугливый тоже. Ну, и как-то раз
Один из грузчиков ему на ухо сзади:
«Пожар! Горим!». Малинкин, где стоял,
Там и упал. Ну, «скорую», конечно,
В больницу, там проверили: инфаркт.
Нет, выжил, ничего, но инвалидность
Заполучил.
(Смеется.)
Ну чё, закусим, что ли?
АНТОН
Давно пора.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Вы что ж, Ирин Сергевна,
На электричке? Мы бы подвезли.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Ох, нет, я на машинах по Москве
Не ездию. Посмотришь по бокам,
Как все впритирку мчатся, прямо жутко.
Эт не езда, а смерть на выживанье!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Уродов развелось! Давить их всех.
Сыкушки молодые обнаглели —
Понакупили прав, гоняют, блин,
Как попадя. А чем они машины
Все заработали? Сказать?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
И так все знают.
Ну что ж, давайте, что ль, составим план
На свадьбу: как, чего, кого и сколько.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
А чё там составлять, все на себя
Возьмем, не глядя. То есть ресторан,
Машины, в загсе все, что надо, киносъемка,
Короче, все дела, о чем вопрос?
Давайте сядем, что ли, жрать охота!
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
И выпить?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Мы ж ночуем все равно.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Я что же, получается, не в счет?
Вы все решаете, а я припека сбоку?
НАТАША
Мам, чё ты, не гони, мы платье шьем,
Стилист в салоне – тоже не копейки.
А эпиляцию забыла? Это ж лазер,
Не кошкин хвост! Одни подмышки стоят
Две тысячи.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Подмышки? Вот грабеж!
А я считаю лично: если волос
Растет на женщине, то это от природы.
Мне даже нравится. Конечно, не везде…
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Ну ты, знаток! Ирин Сергевна, мы вас
Обидеть не хотим, но мы считаем —
Кто может, тот и должен. А Антон
У нас один. К тому же, в первый раз
Решил жениться.
НАТАША
Как-то интересно
Сказали вы, Галин Петровна: в первый!
Тойсть, значит, после будет и второй?
АНТОН
Ты чё к словам цепляешься?
НАТАША
А ты?
Не надо на меня, Антоша, цыкать!
АНТОН
А чё я цыкнул? Ты совсем вобще?
Нет, правда, мам, она не в адеквате.
Боится чё-то.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Видите, уже
У них и ссоры! Что же после свадьбы
Тогда начнется? Может, не спешить?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Чем раньше женишься, тем раньше разведешься!
Мы жрать когда-то будем или нет?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Ирин Сергевна, я не поняла,
Вы что-то там не то против Антона?
Скажите прямо. Мы ведь как-то тоже
Наташеньку принцессой не считаем.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Да брось ты, чё, отличная девчонка!
Фигурка, личико, и даже в голове
Чего-то есть, Антош, скажи?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Стоп, Витя!
Твою-то мать, прости за выраженье,
Но сколько мне долбить: не лезь без спроса!
А то я щас про все твои фигурки
При сыне расскажу.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Да ну тя на фиг!
Фигурки, блин… Не надо сочинять!
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Я сочиняю?
АНТОН
Слушьте, вы чего?
Другого время не нашли бодаться?
НАТАША
Нет, почему? Мне даже интересно,
Щас мне всю правду скажут про меня.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Наташенька, когда, что не принцесса
Ты, я сказала, то не для обиды,
А как бы объективно.
НАТАША
Ваш Антон,
Конечно, принц по жизни, понимаю!
Ну надо же, вниманье обратил
На девочку-лохушку, вот уж счастье!
АНТОН
Наташ, чё ты их слушаешь? Пошли
Вобще отсюда.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Вот! Об этом я
В виду как раз имела: ваш Антон
Решает за себя и за Наташу!
НАТАША
Да я сама решаю, мам, ты чё?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Я то, что я бы, доча, поняла,
Когда бы ты ну вроде как влюбилась,
Или, допустим, не дай бог, влетела,
Ну или там, не знаю, если б мы
Совсем бы бедные, а он бы был богатый.
Тойсть, ну, была бы веская причина,
А я не вижу, доча, ничего.
Вы сами-то хоть поняли обои
Зачем вам это надо?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Как зачем?
Они то по друзьям, то где попало,
А после свадьбы снимем им квартиру,
Чтоб был законный и здоровый секс.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
При чем тут секс? О жизни говорим,
А он про секс! Ирин Сергевна, надо
Ей должное отдать, вопрос ребром
Поставила, но очень легитимно!
АНТОН
Ага. Тойсть свадьбу, значит, отменить?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Нет, я так не сказала!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Да я тоже
Не против, только, в смысле, я к тому,
Что триста раз отмерь, один отрежь.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(отрезая и жуя кусок колбасы)
Вы как хотите, я уже отрезал.
Прошу к столу!
АНТОН
Вот это разговор!
Все рассаживаются. Галина Петровна становится радушной хозяйкой застолья.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Наташенька, салата?
НАТАША
Да, спасибо.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Ирин Сергевна, это голубцы.
Еще горячие, я их перед отъездом
Успела приготовить.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
(пробует)
Очень вкусно.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Кому налить?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
А спрашивать зачем?
Всем наливай, а выпьют, кто захочет.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(разливает, поднимает стакан, встает)
Я пью свой тост за будущую пару,
Чтобы она дала в постели жару.
И там, средь мокрых от любви перин,
Чтоб зародились дочка или сын.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Похабней, Витя, тост не мог придумать?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
А чё похабного? И не придумал я,
А в Интернете вычитал.
АНТОН
Мы будем
Когда-нить есть и пить?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Вот прямо щас!
Короче, этот тост я пью за вас!
(Выпивает и утирает слезу.)
Все выпивают и закусывают.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Мы до сих пор гостей не сосчитали.
АНТОН
Моих примерно двадцать.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Это кто?
АНТОН
Друзья. Я мог бы больше.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Нет уж, хватит!
Мы тоже ведь друзей, родных, с работы
Не меньше тридцати…
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Да хоть и сто!
Не день рожденья, свадьба!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Ну а наших
Поменьше будет. Близкая родня,
Наташины подруги…
АНТОН
(перебивает; отцу)
А с работы
Зачем нужны?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
А как же? Коллектив!
Как обойдешься? Тот же Епифанов
Или Копалин, мне без них нельзя,
Они начальство.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Только не Копалин!
Во-первых, не такой уж и начальник,
А во-вторых, что главное, дерьмо
И хам.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Вот, начинается!
АНТОН
Ага.
У нас такой же случай. Я тут друга
Хотел позвать – она в припадке бьется.
Наташ, а, кстати, почему вдруг Влад?
Ты остальных-то съела, не икнула,
А Влад тебе один не угодил.
А может, у тебя с ним что-то было?
НАТАША
Ты офигел? Да просто про него
Все знают, что…
(Смущена: все на нее смотрят.)
Нет, если это принцип,
Зови хоть Влада, хоть любого гада,
Мне все равно.
АНТОН
Да нет, не все равно.
Чего задергалась?
ВИКТОР ИЛЬИЧА
И даже покраснела!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Вы бросьте! Это просто у Наташи
Такой бывает летом цвет лица.
АНТОН
Я вижу, вы, Ирин Сергевна, тоже
Про Влада в курсе. Может, потому
И свадьбы не хотите?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Я хочу!
И никакого Влада я не знаю!
НАТАША
Дурацкий разговор, да пусть приходит,
Кто хочет, мне вобще по барабану!
АНТОН
А чё ж ты застремалась так? Ну ладно,
Тогда у Влада сам спрошу.
НАТАША
Валяй!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
(встает со стаканом)
Мои родные, дорогие дети!
Нам ближе вас нет никого не свете!
И пожелать хочу от сердца я…
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(смеется)
Чтоб счастья у вас было до…
Пауза. Все смотрят на него. Он хихикает, потом делает серьезное лицо.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
И пожелать хочу от сердца я,
Чтоб, как вода из чистого ручья,
Любовь у вас струилась аж до смерти!
И в лучшее на свете твердо верьте!
2
Квартира ОЛЕГА, молодого человека около тридцати лет. Он под громкую музыку занимается на тренажере – беговой дорожке. Звонок в дверь, он идет открывать, возвращается с НАТАШЕЙ и продолжает свое занятие. Наташе приходится перекрикивать музыку. Потом она ее выключит.
НАТАША
Не ожидал?
ОЛЕГ
А чё?
НАТАША
Ну я же замуж
Вобще-то собралась.
ОЛЕГ
Ну и валяй.
Ты чё хотела-то?
НАТАША
Да, в общем, ничего.
А правда, ты в крутом агентстве служишь?
Охранник типа с пистолетом, правда?
ОЛЕГ
Допустим. Чё, кого-то охранять?
Что ль жениха, чтоб не сбежал со свадьбы?
НАТАША
Обидеть хочешь? Очень интересно!
Ведь я тебя не бросила, ты сам…
ОЛЕГ
Я сам, когда ты мне дала понять,
Что я отстой, что ты другого ищешь.
НАТАША
Я так не говорила!
ОЛЕГ
У меня
Своих мозгов хватило догадаться.
Короче, если ты пришла по делу,
То слушаю, а нет, то извини.
НАТАША
Да пустяки. Возник тут фрик один.
Он в школе на меня еще запал,
А как узнал, что замуж выхожу,
На свадьбу хочет припереться, чтобы
Устроить что-нибудь. Оно мне надо?
ОЛЕГ
Поговорить не пробовала?
НАТАША
Щас!
Поговоришь с ним. Он тупой, как дятел.
Олежек, в общем, я к тебе, как к другу.
Ты бы с ним встретился, сказал бы пару слов.
Ну, в смысле, чтоб…
ОЛЕГ
…он растворился напрочь?
НАТАША
Вот именно. Ты вон какой теперь.
А если в форме, с пистолетом, Владик
В штаны наложит.
ОЛЕГ
Это сто процентов!
Но знаешь чё, Наташ, ведь ты права.
Я изменился. Жизнь меня потерла.
И ты добавила, спасибо.
НАТАША
Но, Олег…
ОЛЕГ
Базара нет, что было, то исчезло.
Но я, Наташ, такую вижу вещь,
По жизни что меня все, кто попало,
Используют. И все хотят задаром.
Я завязал. Я даром ничего
Теперь не делаю.
НАТАША
Тойсть, что ли, заплатить?
Договоримся. Сколько?
ОЛЕГ
Ну, Наташа,
Умела ты обидеть, но сейчас
Мне прямо в душу плюнула с размаха!
НАТАША
Нет, извини, но я не поняла.
Ты сам сказал, что даром не берешься…
ОЛЕГ
И не возьмусь.
НАТАША
А как же?
ОЛЕГ
Просто так.
По старой дружбе.
НАТАША
Правда? Вот спасибо!
ОЛЕГ
Пожалуйста!
(Подходит к ней.)
А выглядишь неплохо.
Невеста, блин… И кто он у тебя?
Наташа, улыбаясь, отступает, идя кругом по комнате, Олег, тоже улыбаясь, не спеша следует за ней.
НАТАША
Студент. В Плехановке.
ОЛЕГ
А ты, напомни, где?
НАТАША
Уже забыл? Библиотечный колледж.
ОЛЕГ
Читаешь книжки? Знаешь, я на что
Обиделся, Наташ? Ведь ты ни разу
В любви мне не призналась, будто я
Был у тебя, как тренажер для секса.
А что в душе, не интересовалась.
НАТАША
Неправда, я… Олег, но ты поможешь?
ОЛЕГ
Само собой. Ты мне сейчас скажи,
Любила хоть немного?
НАТАША
Да, конечно.
ОЛЕГ
А почему ушла?
НАТАША
Я не ушла.
Ты просто перестал звонить.
ОЛЕГ
А ты бы
Сама мне позвонила. Или в лом?
НАТАША
Да я звонила! Ты же мне сказал,
Что все закончилось.
ОЛЕГ
А ты чего хотела?
Меня за лоха держат, а я буду
Стелиться, что ли? Как-то не привык.
НАТАША
Олег, ты чё? Когда я…
ОЛЕГ
Подожди.
Он что, жених твой, сильно лучше, что ли?
НАТАША
Да нет, ничё такого.
ОЛЕГ
А зачем
Тогда ты замуж за него собралась?
НАТАША
Ну… Он вобще-то в целом неплохой.
И, главное, влюбился. Он полгода
За мной ходил. Ну, я и согласилась.
ОЛЕГ
А я тебя, считаешь, не любил?
НАТАША
Не знаю. Ты ни разу не признался.
ОЛЕГ
А так не видно было? Вот теперь
Не видно разве по глазам, что я
С ума схожу?
НАТАША
Олег, ты… Как-то странно…
Не надо, я прошу тебя… Олег!
Во время этого диалога Наташа, отступая, по пути выключает музыку, потом попадает на движущуюся ленту тренажера и начинает идти по ней. Олег нажимает на кнопки, лента движется все быстрее, Наташа почти бежит, чтобы удержаться, но скорость становится такой, что она слетает и падает на пол. Одновременно Олег включает музыку на полную громкость.
Затемнение.
В темноте звучит музыка, потом она обрывается. Тишина.
Вспыхивает свет.
Наташа, полураздетая, встает, собирает одежду.
НАТАША
Ну, я пошла… Ты с ним поговоришь?
(Идет к двери, на ходу одеваясь.)
ОЛЕГ
А кстати, кто сказал, что я охранник?
И с пистолетом, надо же!
НАТАША
Оксана.
Она сказала, ты сказал… А что,
Не так? Кто ты тогда?
ОЛЕГ
Я тренер.
Учу богатых и красивых телок
Держать фигуру и хороший тонус,
А кто понравится, то им бесплатно бонус —
Супермассаж снаружи и снутри.
В душ позовут
(жеманно):
«Олег, потри мне спинку!»
А че не потереть, раз им приятно?
НАТАША
Постой. Но с Владом ты поговоришь?
ОЛЕГ
С какого перепуга?
НАТАША
Обещал же!
ОЛЕГ
Я обещал? Наташ, ты не пила?
Тебя, похоже, глючит.
НАТАША
Но Олег…
За что ты так со мной?
ОЛЕГ
Как в анекдоте:
Знал бы за что, давно б вобще убил!
(Смеется.)
Да ладно, пустяки. Еще заглянешь?
НАТАША
Олег, Олег, Олег, Олег, Олег…
3
В темноте слышится голос Антона.
АНТОН
Колян! Серега! Толик! Никитос!
Где, блин, вы все?
(Включает свет, озирается:)
(всюду хлам, мусор, бутылки.)
А я куда попал?
(Трет лоб.)
Квартира Никитоса, что ли? Эй,
Есть кто-нибудь? Куда все подевались?
Звонок в дверь, АНТОН идет открывать, возвращается с КРИСТИНОЙ, броско одетой молодой женщиной.
КРИСТИНА
(идет к окну, смотрит в него)
Припарковаться негде совершенно,
Какой-то дикий двор.
АНТОН
(тоже подходит к окну)
Твоя какая?
КРИСТИНА
Вон, красная.
АНТОН
Ничё се, это ж «Порш»!
Ты кто вобще?
КРИСТИНА
А ты Антон?
АНТОН
Допустим.
КРИСТИНА
Жених?
АНТОН
А что?
КРИСТИНА
Ну, значит, для тебя
Твои друзья решили расстараться.
АНТОН
Постой. Мне кто-то чё-то говорил…
Так. Мы вчера устроили мальчишник…
Да, точно, но не помню, у кого.
Потом мне обещали, что приедет
Какая-то…
КРИСТИНА
Я приезжала. Вы
Все были невменяемы, и тот,
Кто заплатил, просил меня сегодня
Приехать. Вот, я здесь. The time is gone.
АНТОН
Какой, блин, гон, о чем ты?
КРИСТИНА
Значит, время
Пошло. И у тебя всего лишь час.
АНТОН
А чё так мало?
КРИСТИНА
Потому что стою
За час я тысячу. Конечно, не рублей,
А евро.
АНТОН
Ёлы! Тыща евро в час?
КРИСТИНА
И три за ночь. Мой мальчик, я элита
Такого уровня, что по заказам мелким
Обычно не работаю. Тебе
Считай, что повезло, я на мели
Случайно оказалась.
(Достает из сумочки пакетик, высыпает на стол порошок, выравнивает длинным ногтем «дорожку», вдыхает порошок через ноздрю.)
Ну, начнем?
АНТОН
Конечно, да… Щас, в туалет смотаюсь.
Смотри, не уходи!
(Выбегает.)
КРИСТИНА
В пределах часа
Я вся твоя. Шучу. Предупреждаю:
Ни садо-мазо, ни других вещей
Не позволяю. Классика. И в губы
Не целоваться. Без презерватива
Не пробуй даже.
АНТОН
(вбегает)
Нет, а почему
Не целоваться? У тебя такие
Красивые… Я доплатить могу!
КРИСТИНА
Не надо. Друг мой, полость ротовая,
Чтоб ты запомнил, в десять раз грязней,
Чем… ну, ты понял. И микробов уйма.
Ты, я смотрю, зелененький совсем.
Красавчик!
АНТОН
Да, мне только двадцать два.
КРИСТИНА
А женишься зачем?
АНТОН
Да как сказать…
С родителями жить остофигело.
Квартиру снять хочу, а денег нет.
Женюсь – они сказали, что помогут.
КРИСТИНА
И ты ее не любишь?
АНТОН
(жадно рассматривая Кристину)
А? Кого?
КРИСТИНА
Невесту?
АНТОН
Нет, люблю вобще-то, но
Без фанатизма. Главное, она
В меня вклепалась. Как тебя зовут?
КРИСТИНА
Кристина.
АНТОН
Я таких не видел близко,
А повидал я много, между прочим.
Ты обалденная! А слушай, если б я
Допустим, стал миллионером, ты бы
Согласна бы, ну, там, не замуж выйти,
А типа там, хотя бы, ну, пожить?
КРИСТИНА
Где ты достанешь миллионы, мальчик?
АНТОН
Ограблю банк. Зарежу, застрелю
Кого захочешь. Кристи, я в отпаде,
Я никого так в жизни не любил!
КРИСТИНА
Бывает.
АНТОН
Ты смотри, я весь трясусь,
Меня проперло насмерть.
КРИСТИНА
Ты с похмелья.
АНТОН
Фигня! Кристина, чё для тебя сделать?
Я все смогу, Кристина!
(Бежит из комнаты.)
КРИСТИНА
Ты куда?
ГОЛОС АНТОНА
Отлить на нервной почве!
КРИСТИНА
Вот придурок…
Звонит телефон.
КРИСТИНА
(берет трубку)
Да, я Светлана, что-то вы с ранья.
Не терпится? Обычно я на выезд
Не очень-то люблю. А где живешь?
Ну ладно. Прайс мой видел? Есть вопросы?
Нет, только классика. Тогда договорились.
Сбрось адрес, мне щас некогда. Пока!
АНТОН
(вбегает)
Кристина, я придумал: у отца
В заначке тысяч сто зеленых, хочет
Построить дом и копит, блин, а жизнь
Проходит на фиг… Я могу их взять!
КРИСТИНА
А папа разрешит?
АНТОН
Он не узнает!
То есть узнает, только будет поздно.
КРИСТИНА
Я, друг мой, криминала не люблю.
Для ясности: хоть ты миллионером,
Хоть принцем будешь, ничего не выйдет.
Я план составила на десять лет вперед:
Подзаработать, а потом уехать
В Бразилию. Нет, лучше в Аргентину.
Мне, знаешь, очень нравятся мулатки.
Найду подружку, будем тихо жить
На берегу под пальмами.
АНТОН
Так ты…
Все ясно. А чего же… Раздевайся!
КРИСТИНА
Ты не успеешь. Время вышло, мальчик.
Будь счастлив в браке, милый. Адиос!
(Идет к двери.)
АНТОН
(забегает перед ней)
Куда?! Щас отработаешь по полной!
КРИСТИНА
Ну, это вряд ли.
(Выхватывает газовый баллончик, прыскает в лицо Антона.)
Он хватается за лицо, падает на пол, корчится.
(Перешагивает через него, идет к двери.)
Будь здоров, друг мой.
АНТОН
Подлюка, сволочь, сучка, проститутка!
Вернись, Кристина, я тебя люблю!
4
НАТАША у своей подруги ЮЛИ. Юля ходит в чем-то очень легком, летнем (например, шорты и короткая футболка), вытаскивает из шкафа наряды, примеривает или просто прикладывает к себе.
ЮЛЯ
А это подойдет, как ты считаешь?
НАТАША
Нормально.
ЮЛЯ
Значит, на фиг. Почему,
Раз я подруга, то должна быть в платье?
Мне платья не идут ни разу. Я в них,
Как школьница, и даже рожа как-то
Глупей становится. А это ничего?
НАТАША
Нормально. Юль, не парься, ты красотка,
Что ни оденешь, будет хорошо.
ЮЛЯ
Наташа, я обычно шью спецально,
Но щас с деньгами полный несклондайк,
Не обижайся, если буду в старом.
НАТАША
Да пустяки. Ты Пискунова помнишь?
ЮЛЯ
А как же! Влад на свадьбе тоже будет?
Прикольно.
НАТАША
Юль, а если попрошу?
Когда он там появится, ты сразу
Подсядь к нему, ну, чтобы там о жизни
Поговорить, а после как-нибудь…
ЮЛЯ
(достает очередное платье)
А это ничего?
НАТАША
Ты меня слышишь?
ЮЛЯ
Конечно, слышу. Говоришь, что Влад
Там будет? Посмотрю, какой он стал.
НАТАША
Не посмотреть, а взять и увести
И сделать с ним, что сможешь. Лучше трахнуть.
ЮЛЯ
Ого! Нет, я легко, но у него
Свои быть могут планы. О! Вот это!
(Достает еще одно платье – красное.)
Вот это, точно! Будем по контрасту —
Невеста в белом, а подруга в красном!
НАТАША
А лучше увезти его совсем
Куда-нибудь. К себе домой. Ты слышишь?
ЮЛЯ
Конечно. Я в Сети прорыла всё!
Искала, что должна носить подруга,
Так, блин, там пишут: общих правил нет!
Вот и гадай.
НАТАША
Ты в красном – смерть мужчинам!
ЮЛЯ
Уговорила, красное.
НАТАША
Теперь
Ты можешь слушать?
ЮЛЯ
Слушаю. А чё?
НАТАША
Про что я говорила?
ЮЛЯ
Ну про Влада.
Что он там будет и, ну, чтобы я
Не растерялась.
НАТАША
А зачем?
ЮЛЯ
Не помню.
Так значит, это?
НАТАША
(кричит)
Да, блин, успокойся!
ЮЛЯ
Ну все, решила.
(Запихивает вещи в шкаф, но одно платье задерживается в ее руках.)
А вот это тоже,
Смотри, нормально выглядит, Наташ.
Как думаешь?
НАТАША
Дай мне его сюда!
(Берет платье и разрывает по шву.)
ЮЛЯ
Ты чё, сдурела?
НАТАША
Будешь в красном платье,
И все на этом! Поняла меня?
ЮЛЯ
(молча запихивает остальные вещи в шкаф, при этом о чем-то думая; поворачивается к Наташе.)
Наташ, не поняла, ты чё, ко Владу
Неровно дышишь? Сколько лет прошло!
НАТАША
Я не дышу, а просто… Я боюсь…
ЮЛЯ
Чего, Наташ?
НАТАША
А это, Юль, отдельный,
Особый разговор.
ЮЛЯ
Тогда пивка?
(Достает из холодильника несколько бутылок, одну дает Наташе, садится, скрестив ноги, и готовится слушать.)
НАТАША
(ходит перед ней, глотая пиво; допив бутылку, берет вторую, потом третью: пьет, как воду)
Да, я боюсь всего так, что трындец!
А все мамаша, блин! Когда отец
Погиб в аварии, она совсем свихнулась,
Как будто насмерть страхом поперхнулась.
Гулять пускала, ё, до десяти,
А если позже, можешь огрести
По полной! Я совсем офигевала!
В жару на меня свитер одевала,
Таблетками кормила до отвала,
До школы, блин, за ручку провожала.
Семнадцать долбануло, тут уж я
Сказала: мам, гейм овер, я твоя
Вобще-то дочь, а не собачка в цирке,
Я отравлюсь, чем жить в такой затирке.
И маму переклинило. Хотя
Успела вырастить достойное дитя —
Боюсь всего, паскудная трясуха
Колбасит там, где мокро, и где сухо…
А Влада я любила – обалдеть,
Я так любила, что ни спать, ни петь,
Но Владу не решилась, не сказала,
Бездарно, блин, всю юность простебала!
ЮЛЯ
И что потом?
НАТАША
Да ни фига потом.
Дружила так себе с одним задротом.
Всегда вонял каким-то кислым потом,
И пухлый был, как из дерьма батон.
Но маме нравился. Оладушков нажрется,
Напьется чаю и от счастья прётся,
Ну и про жизнь с мамашей, что кругом
Разврат, бардак и вообще дурдом.
И маме зашибись – слюна до пола!
Любила очень слушать пиндобола.
Так год я это радио в штанах
Терпела, а потом: пошел ты нах!
(Допивает бутылку, берет очередную.)
ЮЛЯ
И что потом?
НАТАША
А ничего. Боюсь.
Всего, что движется, что за углом, что сзади,
И таю, как ледышка в лимонаде,
Вся в этом страхе. И, конечно, злюсь.
(Со стуком ставит последнюю бутылку, садится на пол, обхватив колени и глядя перед собой)
А главное – по мелочам, Юля, вот что обидно, по мелочам боюсь, совсем уже, как мамаша, простуды боюсь, вечером от метро идти боюсь, заразы боюсь, по двадцать раз руки мою, экзаменов боюсь, боюсь, что машина на улице наедет, комаров летом боюсь, говорят, они СПИД разносят!
* * *
ПРИМЕЧАНИЕ. В первоначальном варианте, не предназначавшемся для печати, эта сцена была такой:
НАТАША
Да, я боюсь всего так, что пиздец!
А все мамаша, блядь! Когда отец
Погиб в аварии, она совсем свихнулась,
Как будто насмерть страхом поперхнулась.
Гулять пускала, ё, до десяти,
А если позже, можешь огрести
По полной! Я совсем охуевала!
В жару на меня свитер одевала,
Таблетками кормила до отвала,
До школы, блядь, за ручку провожала.
Семнадцать ебануло, тут уж я
Сказала: все, мамахен, ни хуя
Не пляшет больше это провожалка.
Она в соплях: тебе, блядь, мать не жалко!
А ей: мама, я хотя и дочь,
Но больше мне мозги не пиздосочь!
С такой, маманя, жизнью невъебенной
Мне смерть покажется отличной переменой!
Ну, мама перебздела. Только я
Уже сама жила, как не своя,
Сама уже боялась, будто целка,
И там, где глубоко, и там, где мелко.
А Влада я любила – охуеть,
Я так любила, что ни жрать, ни петь,
Но Владу не решилась, не сказала,
Бездарно, блядь, всю юность проебала!
(Пауза. Наташа допивает бутылку, берет очередную.)
ЮЛЯ
И что потом?
НАТАША
Да ни хуя потом.
Дружила так себе с одним задротом,
Вонял, сучок, каким-то кислым потом,
И пухлый был, как из говна батон.
Но маме нравился. Сожрет ее похлебки,
Довольный, сука, как после поебки,
Ну и про жизнь с мамашей, что кругом
Разврат, бардак и вообще дурдом.
И маме заебись – слюна до пола!
Любила очень слушать пиздобола.
Так год я это радио в штанах
Терпела, а потом: пошел ты нах!
Ну, он по тихой, как пригреб, так выгреб,
Хотя ведь, бля, меня он все-тки выеб!
(Пауза. Наташа допивает бутылку, берет очередную.)
ЮЛЯ
И что потом?
НАТАША
А ничего. Боюсь.
Всего, что движется, что за углом, что сзади,
И таю, как ледышка в лимонаде,
Блядь, в этом страхе. И, конечно, злюсь.
А главное – по мелочам, Юля, вот что обидно, по мелочам боюсь, совсем уже как мамаша, простуды боюсь, вечером от метро идти боюсь, заразы боюсь, по двадцать раз руки мою, экзаменов боюсь, боюсь, что машина на улице наедет, комаров летом боюсь, говорят, они СПИД разносят!
[Изменено по цензурным соображениям.]
* * *
ЮЛЯ
Ты извини, но нелогично.
НАТАША
Что?
ЮЛЯ
С такими мыслями не только, нафиг, замуж,
А жить нельзя.
НАТАША
А я и не живу.
Шучу, конечно. Понимаешь, Юля,
Антон нормальный парень, у меня
С ним как-то все сложилось. Я хочу
Скорее замуж, чтоб, как у людей,
Был дом, семья и дети, все такое…
А если щас не выйду, то вобще
Не выйду никогда, запрусь в психушке,
Отправлюсь в монастырь или с балкона
Шарахнусь.
ЮЛЯ
Представляю, как приятно
Тебя потом с асфальта соскребать.
Нет, если уж кончать, то есть таблетки.
Могу сказать, какие. Двадцать штук
Глотнуть – и засыпаешь понемножку,
Умрешь во сне и даже не поймешь.
НАТАША
Я жить – хочу! Я не хочу – бояться!
ЮЛЯ
Тогда опять, Наташа, нелогично.
Ты щас одна по мелочам боишься,
А будут муж и дети, ты тогда
Совсем с ума сойдешь. Семья, подруга,
Ведь это ужас. Ты вот за себя
Трясешься, а тогда придется сразу
За всех.
НАТАША
Отлично! Я так и хочу,
Чтобы за всех, не только за себя,
Чтоб не по мелочи, ведь это, Юль, ты знаешь,
Так унизительно!
ЮЛЯ
Теперь я поняла.
Тебя стремает, значит, то, что Влад
Появится, и ты…
НАТАША
Ну да… Нет, вряд ли…
Но я хочу подстраховаться. Ты
Поможешь мне?
ЮЛЯ
Да не вопрос!
НАТАША
Спасибо.
ЮЛЯ
Сгонять еще за пивом?
НАТАША
(морщится, машет рукой)
Что ты, Юль!
Я пива не терплю, да и вобще
Не пью почти.
ЮЛЯ
(глядя на пустые бутылки, хмыкает)
Да? Ну, оно и видно!
5
Кафе. За одним из столиков АНТОН пьет кофе. Появляется НАТАША, машет Антону, подходит, целует его в щеку, садится.
АНТОН
Привет. Что заказать?
НАТАША
(пожимая плечами)
Ну, может, чаю…
Случилось что-то? Ты мне позвонил
Так, будто срочно.
АНТОН
Да ничё такого.
(Пауза.)
Я Владу тут с утра сегодня звякнул.
НАТАША
Зачем?
АНТОН
Ну, пригласить, как и хотел.
Ведь ты не против?
НАТАША
Нет.
(Пауза.)
Скажи, Антон.
А почему ты мне еще в любви
Ни разу не признался?
АНТОН
Ты серьезно?
А в самый первый раз, забыла, что ли?
НАТАША
Действительно… Прости. Но ты тогда
Так доставал меня, что запросто сказать
Мог все, что хочешь.
АНТОН
То есть ты не веришь?
НАТАША
Я верю, но…
АНТОН
Зачем тогда компот
Мы этот варим? Чё-т не понимаю.
НАТАША
Антоша, я…
АНТОН
Нет, правда, в самом деле?
Может тогда, пока еще не поздно,
Переиграем?
НАТАША
Может быть.
АНТОН
Чего?!
НАТАША
Нет, ты же сам…
АНТОН
А ты, смотрю, и рада!
Припутала, блин, с перепугу Влада!
Какой-то повод ищешь, что ль?
НАТАША
Антон!
Ты начал сам!
АНТОН
Когда чего я начал?
О чем вобще тут речь? Я не въезжаю!
НАТАША
Все, успокойся. Просто я хотела
Спросить…
АНТОН
Давай. Но только без приколов.
НАТАША
Ты меня любишь?
АНТОН
Блин, я же сказал,
Чтоб без приколов!
НАТАША
Я вполне серьезно.
Ты меня любишь?
АНТОН
На фиг бы тогда
Я на тебе женился?
НАТАША
То есть любишь?
АНТОН
Само собой! А ты – вот тут вопрос!
НАТАША
Я тоже.
АНТОН
Да? А чё же, между прочим,
Сама ни разу не сказала мне,
Что любишь?
НАТАША
Разве? Вроде говорила.
АНТОН
Когда?
НАТАША
Не помню. Ладно, говорю
Сейчас. Антон, я тебя очень-очень,
Прям очень-очень я тебя люблю.
У нас с тобой все будет просто клево,
Родим детей – давай не меньше трех?
АНТОН
Там видно будет. Главное, мне сына
Сперва роди.
НАТАША
И назовем Антоном.
АНТОН
Ну вот еще! Чтоб был Антон Антоныч?
Смешно звучит.
Подходит ОФИЦИАНТКА.
ОФИЦИАНТКА
Готовы заказать?
НАТАША
Да. Кофе.
АНТОН
Опа! Ты ж хотела чаю?
НАТАША
Забыла, чаю. Да.
ОФИЦИАНТКА
Зеленый, черный?
НАТАША
Зеленый. Нет. А кофе все-тки можно?
ОФИЦИАНТКА
Да запросто! Латэ, американо,
Экспрессо.
НАТАША
Нет, наверно все-тки чай.
ОФИЦИАНТКА
Так кофе или чай?
НАТАША
А чё вы мне
С таким презреньем это говорите?
Вы чё хамите? Я имею право
Нормально выбрать? Че вы, блин, меня
Торопите, как будто тут конвейер,
А вы тут не людей, блин, а болванки
Обносите! Иди ты, знаешь, на фиг,
А я подумаю.
Официантка пожимает плечами и уходит.
АНТОН
Ты чё, блин, озверела?
Чего орешь?
НАТАША
Тебе за меня стыдно?
Ну надо же! Все, я тогда молчу!
Могу вобще уйти, чтоб не стыдился!
(Встает.)
Вон сколько девушек вокруг, а я
Тебя, наверно, только раздражаю!
АНТОН
Не раздражаешь, сядь!
НАТАША
А ты ужасно
Как раздражаешь. Это еще мягко.
А проще говоря, тебя, Антон,
Я, как себя почти что, не-на-ви-жу!
(С этими словами опрокидывает стол.)
Второе действие
6
На авансцене стоит ВИКТОР ИЛЬИЧ. К нему идет регистратор МАША. Во время их разговора периодически звучит свадебный марш (Мендельсон, Вагнер) и сцену пересекает очередная пара с толпой гостей. Или не пересекает. Зависит от возможностей театра.
МАША
(обернувшись на ходу, говорит кому-то за кулисами)
Читай по тексту, в чем проблемы?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Здрасьте.
Я извиняюсь, что…
МАША
Давайте к делу.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Естественно. Вы, значит, их сейчас
Поздравите…
МАША
Кого?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Ну, жениха
С невестой. То есть сына моего
С его… Так вот. Чего бы нам хотелось:
Чтоб это было как-то неформально.
Не просто, ну, там, типа: мы, там, вас,
Ну, типа, поздравляем, все такое,
А как-то, ну, чтобы красиво как-то.
Естественно, я это оплачу.
(Достает деньги.)
МАША
У нас регламент, мы по семь минут
На пару тратим.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Ну хотя б пятнадцать!
МАША
(берет деньги, считает, смотрит на Виктора Ильича, тот добавляет.)
Попробую.
(Собирается уйти.)
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Постойте!
МАША
Что еще?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(подходит к ней, смотрит на бейджик, прикрепленный к ее платью)
Скажите, Маша, вы…
МАША
Мария Львовна.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Да, извините… Я хотел спросить,
Мария Львовна… Я вот наблюдал,
Как вы там поздравляли новобрачных,
И я, скажу вам прямо, любовался.
Невесты перед вами – просто шваль,
А вы на ихнем фоне – королева!
МАША
Спасибо. Мне пора.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Я что хотел…
Я просто любознательный по жизни.
И вот подумал: вы тут, значит, всех,
Брачуете, а сами, интересно,
Вы замужем?
МАША
Допустим.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
То есть нет?
МАША
Не понимаю…
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Очень мало время,
Поэтому я, как бы прямо в лоб,
Тойсть откровенно. У меня работа
Отличная и все вобще нормально.
Вот – сына седня замуж выдаю,
То есть женю. Но нет чего-то в жизни…
Душевности какой-то, что ли… Чтоб
Был человек, который… ну, поймет…
Поговорить там… Отдохнуть красиво —
на море там, допустим…
МАША
Вы к чему
Мне это говорите?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Просто так.
МАША
Здесь загс, мужчина, а не дом свиданий!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Я, Маша, знаю, я же не об этом!
(Оглядывая ее.)
Я о душе!
МАША
Какая вам душа
Приснилась тут? Написано: «дворец»,
А посмотреть – обычная контора.
Цветы, невесты, женихи, друзья
И Мендельсон проклятый, чтоб он сдох, —
Так каждый день! А вы мне тут чего-то
Про душу. Для начала в ресторан
Хотя бы пригласили.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Телефончик?
МАША
(уходя)
По городскому позвоните в загс.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Все понял! Позвоню!
До встречи, Маша!
Мария Львовна, черт, какая баба!
Слюна кипит, аж зубы обожгло!
(Уходит.)
Появляются НАТАША в свадебном платье и АНТОН. Она закуривает.
АНТОН
Ты ж не курила.
НАТАША
Я и не курю,
А так… Блин, прямо пальцы аж трясутся.
Смотри там, чтоб не сунулся никто.
Скорей бы уж.
АНТОН
Эт точно. Я тут выпил
Немного – абсолютно не берет.
НАТАША
Народу куча, каждый на тебя,
Блин, смотрит, как на дуру.
АНТОН
Почему?
Любуются! Ты седня прям, Наташ,
Красавица. Я сам тобой любуюсь.
НАТАША
Я так и не запомнила твоих
Друзей, кто там Колян, кто Кутя,
Кто Дэн безухий.
АНТОН
Ты опять свое?
Безухий с Бирюлева, говорил же!
НАТАША
А где он?
АНТОН
Я его не приглашал!
НАТАША
Понятно… Нет, вобще пока нормально
Идет все, да?
АНТОН
У нас всё лучше всех!
Аж лимузина целых два! Цветами
Усыпали все нафиг, и музон
Колян включил в машине очень классный.
Как долбанет, все чуть не обоссались!
Отпадный звук! Хочу себе такой
В машине тоже сделать, тыщу ватт
По четырем каналам. Как врублю —
И все машины по бокам подпрыгнут!
НАТАША
(смотрит в сторону)
Идут, идут, идут, идут, идут…
Конвейер, блин. И даже все похожи.
Все как болванки или заготовки.
Шлеп – следущая! Шлеп – еще одна!
АНТОН
(отвернувшись от нее, достает из кармана плоскую фляжку, отпивает; разнеженно)
Ты зря, Наташ. А я вот этот день
До смерти буду помнить. Все-тки свадьба.
И ты, Наташ…
НАТАША
(бросает окурок, придавливает подошвой)
А Влада не позвал?
АНТОН
Вчера звонил, сказал, что уезжает
Куда-то. Не с утра, но там дела,
То, сё, короче, вряд ли будет,
Хотя попробует. А чё?
НАТАША
Да ничего.
Зато подруг моих две штуки лишних.
АНТОН
Хоть сто, там зал, отец смотрел, такой,
Что триста рыл…
НАТАША
(перебивает)
Есть разговор, Антон.
Конечно, думать раньше надо было,
Но я… Короче, лучше это поздно
Сказать, чем… Нет, вернее, лучше раньше,
Чем… В общем, ты прости меня, Антон,
Давай не будем.
АНТОН
Чё-то я не въехал.
Чего, Наташ, не будем?
НАТАША
Ничего.
Не надо свадьбы, загса и вобще.
Блин, чё тут непонятного, Антоша?
Сказала: ничего – тойсть ничего
Совсем. Без вариантов. Не доходит?
АНТОН
Наташ, ты чё курила? Сображай,
Чё говоришь: уже все закрутилось.
Все собрались, все радуются, все
Настроились, чтоб закусить и выпить,
А ты мне гонишь чё-то…
Появляется ГАЛИНА ПЕТРОВНА.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Вот вы где!
Наташа, ты как хочешь, но твоя
Подруга в этом платье – это что-то!
Тут не Испания, не эта, ну, с быками…
АНТОН
Коррида.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Точно. Тряпками дразнить
Здесь никого не надо. На нее
Все пялятся. А это ведь снимают
На память. И получится потом,
Что ты, невеста, выйдешь хуже этой
Хабалки, извини меня за правду.
Короче, или пусть она, как хочет,
Переоденется, или возьми другую.
Там есть такая, в бежевеньком платье,
Она на внешность, может, не модель,
Но выглядит вполне…
НАТАША
Галин Петровна!
Не будет ничего. Подруги тоже
Не будет.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Как же можно без подруги?
Невесты без подруги не бывает!
АНТОН
Невесты, мам, по ходу, тоже нет.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Вы не морочьте голову!
Появляется ВИКТОР ИЛЬИЧ.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Эй, вы тут
Чего стоите? Очередь подходит!
НАТАША
Виктор Ильич, Галин Петровна, я
Прошу вас, я вас просто умоляю,
Давайте без скандала, без эмоций,
Пожалуйста, послушайте, я не…
(Опускает голову, закрывает глаза, потом резко поднимает голову, делает глубокий вдох.)
Я не могу. Я вашего Антона
Люблю, то есть, ну, в общем отношусь
К нему… Но я… Я не могу… Я, в общем…
АНТОН
Рожай, чего ты боишься? Мне ж сказала!
(Родителям.)
Наташа мне конкретно по рогам
Влепила, что не хочет типа замуж
И свадьбу отменяет.
ВИКТОР ИЛЬИЧА
Ну уж нет!
Чё, испугалась, что хороший парень
Тебя, пацанку, выбрал? Понимаю!
Но пятками назад сейчас – не смей!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Вот именно!
Мы, блин, такие деньги
Потратили, а ты тут пальцы гнешь!
Была бы хоть причина, ну, к примеру,
Там рак нашли, а то и вовсе СПИД
Или… Ну, мало ли, чё там вобще бывает
По жизни, а чтоб просто так…
НАТАША
Не просто!
(Встает на колени.)
Пожалуйста, я очень виновата,
Я сволочь, я… Но, как бы вам сказать…
Я не могу! Я… В общем, отпустите!
Пожалуйста!
Появляется ИРИНА СЕРГЕЕВНА.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
А вот и твоя мать!
Ирин Сергевна, вы уж точно в курсе,
С чего дочура ваша куролесит?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
А что случилось?
НАТАША
Мама, ты сама
Ведь не хотела, чтоб я вышла замуж.
И я не выхожу.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Ты не клепай,
Наташенька, на мать! Я сомневалась,
Не отрицаю, но в такой момент…
НАТАША
При чем момент! Ведь это на всю жизнь!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
А кто сказал? Статистику читайте:
Разводов половина, так что ты
Не обольщайся. Предлагаю так.
Щас будет все путем, как у людей.
Распишетесь, потом с гостями свадьба,
Ну а потом…
АНТОН
А кто меня спросил?
Сегодня свадьба, завтра до свиданья?
Спасибо, блин, отличный вариант!
А у меня, вы знаете, что будет?
Кредитная история, как в банке,
Испортится, все скажут: это тот
Антон-дурак, которого невеста
Прокинула прям сразу после свадьбы.
Наверно, он какой-нибудь ущербный,
А может, импотент!
Вбегает Юля.
ЮЛЯ
Вы чё тут ждете?
Там ваша очередь! Пойдемте же! Пойдем!
7
У стола, над которым красуется герб РФ, стоит МАША. Перед ней АНТОН и НАТАША. Здесь же РОДИТЕЛИ АНТОНА, ИРИНА СЕРГЕЕВНА, ЮЛЯ, ОЛЕГ, КРИСТИНА, а также гости. Звучит музыка.
МАША
(торжественно, но довольно монотонно)
Сегодня, в этот славный день и час,
От всей души я поздравляю вас
За самое прекрасное мгновенье,
Которое у вас произошло:
Двух любящих сердец соединенье,
Которым встретить счастье повезло.
Пойдете вы вперед рука об руку,
Но помните, что брак не для того,
Чтоб веселиться вам на всю округу,
А чтобы жить вам крепкою семьей
На благо родины, во имя своих деток,
Во имя, чтоб у нас, в родной стране,
Стало бы детских лиц побольше светлых,
Чтоб больше стало счастья на земле!
Я обращаюсь к вам, жених с невестой.
Порядок регистрации таков,
Что нужно в этот час и в этом месте
Сказать, что каждый подтвердить готов
Согласие на брак. Жених сначала,
Который, вижу я, смущен немало,
Ответить должен. Пусть он без труда
Нам честно скажет: он согласен?
АНТОН
Да!
МАША
Теперь пришла невесты череда,
Хоть знаем мы, каков ее ответ,
Но все же спросим: вы согласны?
Пауза. Все замерли.
НАТАША
Да.
Опять звучит музыка.
МАША
Прошу пройти сюда и расписаться.
Наташа и Антон подходят и расписываются.
И в знак любви теперь поцеловаться.
Они целуются.
И кольцами прошу вас обменяться.
Обмениваются кольцами.
Ваш брак зарегистрирован. Теперь
Вы мужем и женой уйдете в дверь,
В которую вошли по зову сердца,
И пусть сияет солнце вам навстречу,
Пусть счастье будет, как весенний день,
Чтобы его до смерти каждый помнил,
Как небо голубое, чтобы тень…
ОЛЕГ
(пьяным голосом)
При чем тут голубые, я не понял?
Гремит музыка.
8
Ресторан, банкетный зал: свадьба. За длинным столом АНТОН, НАТАША, ВИКТОР ИЛЬИЧ с ГАЛИНОЙ ПЕТРОВНОЙ, ИРИНА СЕРГЕЕВНА, ЮЛЯ, ОЛЕГ, КРИСТИНА. Как показать гостей, у театра много возможностей, учитывая такую его прекрасную особенность, как условность. Можно, конечно, посадить массовку. А можно – картонные фигуры. Все уже расслабились, настроены благодушно, весело.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(встает)
Я как глава семьи хочу сказать,
Что за примером далеко не надо
Ходить. Мы с твоей матерью живем,
Антон, так долго, как на свете люди
И не живут. Конечно, много было
Всего, но я всегда прекрасно помнил,
Что у меня есть, так сказать, причал —
Жена моя, которую я очень
Не только уважаю, но люблю.
(Всхлипывает.)
Я так ее люблю…
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Короче можешь?
ВИКТОР ИЛЬИЧ
А ты мне на язык не наступай!
Ну, в общем, дети, я вам завещаю,
Чтоб жили вы вдвоем не хуже нас
И даже лучше!
(Поднимает стакан.)
Да, а если сын
Родится, чтоб назвали его Виктор,
Как деда! Почему? А потому,
Что, может быть, я не герой народа,
Не член Госдумы…
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Хватит!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Погоди!
Но я при этом, чтобы все тут знали,
(смотрит на одного из гостей)
Копалин, между прочим, и тебя
Касается. Ты чё надулся весь?
Боишься, не поймут, какой ты важный?
Так вот, чтоб знали, никакой герой
Такую жизнь, как я, стерпеть не смог бы.
Мытарили, и терли, и гнобили,
А я, блин, устоял! И хоть тошнит
Частенько от работы, и вобще
Повеситься готов, но я держусь!
А почему? А потому, что я
Обязан показать своим примером,
Что можно быть хоть по уши в дерьме,
Но оставаться в целом человеком!
Ну, что застыли? Пьем за молодых!
Все выпивают. Включается громкая танцевальная музыка в быстром ритме. Все вскакивают и пляшут. За столом остаются только Наташа с Антоном, да еще Ирина Сергеевна переминается в сторонке. Музыка умолкает, все рассаживаются.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
А я хочу признаться вам, что мы,
Хотя у нас прекрасный сын, хотели
Еще и дочку. Только се ля ви:
С жильем проблемы, то дефолт, то кризис.
И семь абортов в результате. Но
Теперь наш дефицит покрыт. Мы дочку
Приобрели, Наташ, в твоем лице.
ОЛЕГ
В лице, в ногах, в грудях…
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
А ну, молчать!
И мы теперь, Наташа, дорогая,
Как и для сына, для тебя на все
Готовы. Обеспечим, чтоб ты знала.
А от тебя мы просим одного
В пределах человеческой морали:
Ты к нам, Наташа, тоже относись,
Как мы к тебе, с душой и уваженьем.
Ведь ты согласна?
Включается громкая музыка.
Что там за дела?
Кому неймется? Ну, прошу вас всех
Поднять бокалы и от сердца выпить
За сына, а теперь еще и дочь!
Все выпивают. Поднимается Ирина Сергеевна.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Наташа и Антон… Я вся так рада…
(Плачет.)
Не думала, что доживу, а вот…
(Плачет.)
Любви и счастья вам, а если что-то…
(Плачет.)
На самом деле, если посмотреть…
(Плачет.)
И в этот светлый день…
Кристина нетерпеливо тянет руку, Олег пригибает ее руку к столу, Кристина вырывается, опять тянет, но ее не замечают.
КРИСТИНА
(вскакивает и выкрикивает)
А можно мне?
(Торопливо и вдохновенно.)
Меня когда на свадьбу пригласили…
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
С чьей стороны?
КРИСТИНА
Не помню. Жениха.
Или невесты. Да неважно. Я ведь
Пришла, ну, как бы просто по приколу.
Но, знаете, я вот смотрю на них,
На жениха с невестой, и въезжаю,
Как это здорово, когда друг друга любят!
Я знаю жизнь, я много повидала,
Такое ощущенье иногда,
Что крыса среди крыс других подвала!
И все грызут друг друга как попало,
Кругом облом, безнравственность, беда!
И вдруг я вижу – хрен поймешь откуда
Между людьми вдруг возникает чудо —
Любовь! Ее и быть-то не должно!
Ну, как карась не выживет в солярке,
Знакомый мой один так говорит.
ОЛЕГ
Клиент?
КРИСТИНА
Так вот, по всем уже приметам
Любовь должна подохнуть, а она
Откуда-то заводится, как будто
Нам с космоса лучи, что ль, посылают?
ОЛЕГ
(подняв палец и икнув)
То Бог дает!
КРИСТИНА
Ты разве веришь в Бога?
ОЛЕГ
Не верю, да, но, типа, уважаю!
КРИСТИНА
Я тост свой предлагаю – за любовь!
(Пьет, садится.)
И опять взрыв музыки.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Просила ж: не включать, когда не надо!
Музыка обрывается.
Теперь пора сказать и молодым.
Антон, давай.
АНТОН
(поднимаясь)
А чё я? Все понятно.
Спасибо всем, что… Ну, конечно, мама,
Отец… Друзьям отдельное спасибо.
Серега, Витя, Толик, Никитос,
Ромаха, Саша, Кутя, Дэн с ушами…
Есть потому что Дэн из Бирюлева,
Вот он без уха. Я к тому, чтоб Дэн
Не думал, что его я перепутал.
Короче, как-то так. Я все сказал.
(Садится.)
Встает Наташа. Пауза. Тишина. Все смотрят на нее. Наташа взволнована.
НАТАША
Я где-то прочитала: человек
Себя не знает, даже если век
Он проживет. И я себя не знала.
И мне всегда чего-то не хватало,
Как будто я была не очень я,
А только часть той, кем я быть старалась.
И даже не старалась. Собиралась
По ходу ежедневного житья.
Но, знаете, когда сегодня в загсе
Мы слушали обычные слова,
То будто прояснилась голова:
Вы изменились просто на глазах все.
Я обалдела. Будто сверху свет
Какой-то снизошел.
КРИСТИНА
И я об этом!
НАТАША
И стало все другим под этим светом.
И я сама… Наташи прежней нет!
Вам, мама с папой новые, спасибо
За сына. Я увидела, что он
Без страха любит. Любит! Не влюблен!
И я сама в любви, как в море рыба!
Люблю его и будущих детей —
Троих, не меньше, я б хотела столько.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Осилишь?
НАТАША
Да.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Ну что же. Без затей
Тогда объявим: горько! Горько! Горько!
Гости подхватывают. Наташа и Антон целуются. Звучит лирическая танцевальная музыка. Все встают и танцуют: Наташа с Антоном, Олег с Кристиной, Галина Петровна с Виктором Ильичом, Юля с Ириной Сергеевной. Впрочем, возможны варианты. И тут появляется ВЛАД, с сумкой в руке, сильно пьяный.
ВЛАД
(бросая сумку на пол)
И тут, ё, опоздал! Что за фигня?
То самолет, то… Где Антон? Антоша!
(Распахивает руки, идет к Олегу, обнимает его.)
Родной! Я… Ты, короче… Это…
Ой, блин, попить…
(Берет чей-то стакан.)
О, хорошо пошло!
АНТОН
Эй, Влад, алё, ничё не перепутал?
ВЛАД
Ты кто такой? Постой. Ты меня вез?
Я че, не заплатил? Минутку. Влада
Никто не обвинял, что он скупой!
(Достает бумажник, из него деньги, швыряет.)
На, подавись, зараза!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Слушай, парень,
Тут свадьба, между прочим, а тебе
Пора домой, проспаться.
ВЛАД
Неужели?
А ты, что ль, блин, на свадьбу приглашал?
Я не к тебе приехал, а к Антону.
(Олегу.)
Скажи, Антон?
ОЛЕГ
Я не Антон.
ВЛАД
А кто?
АНТОН
Не узнаешь? Богатым, значит, буду.
ВЛАД
Антон! Друган! Прости, я, блин, не в форме.
(Тянется с объятиями.)
АНТОН
(отталкивает его)
Вот те и говорят: езжай, проспись!
ВЛАД
Да что за мля! Мне всякая, блин, тля
Суется показать, куда мне надо!
Я не таксист! Я, блин, бля, музыкант!
Я лучше вас, блин, знаю, что играю,
И где, и с кем, а ваших сраных правил
Не признавал, блин, и не признаю!
Мне в самолете тоже: бла-бла-бла!
А я им: ё, вы чё, я это, как бы…
Ну, в смысле, вы какого мне вобще?
Я вам не это, вы мне тут не это!
А я вам щас… И я, блин, им запел.
(Поет.)
Тыц тыды-тыц, тыц тыды-тыц, ты-ды-ды.
Тыц тыды-тыц, тыц тыды-тыц, ты-ды!
Тыц тыды-тыц, тыц тыды-тыц, ты-ды-ды.
Тыц тыды-тыц, тыц тыды-тыц, ты-ды!
(И так далее, очень долго.)
Когда он умолкает, раздаются одинокие аплодисменты. Это хлопает Юля.
ЮЛЯ
(подходит к Владу)
Пойдем, родной, тебя я успокою.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Пусть выметается!
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Вот именно!
АНТОН
Пора!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Гостей со свадьбы гнать нехорошо.
Примета есть: не будет в жизни счастья.
Пусть он в сторонке где-то посидит.
ВЛАД
Я лучше полежу.
ЮЛЯ
Сейчас положим.
(Подмигнув Наташе, уводит его.)
НАТАША
Кошмар! Нет, надо же!
Как не был человеком,
Так и не стал.
АНТОН
И никогда не станет.
Ну, чё застыли, ё? Танцуют все!
Гремит музыка. Затемнение. Музыкальные фрагменты резко обрываются, сменяют друг друга, превращаются в какофонию. Слышен топот ног, звон посуды, разговоры, выкрики. Высвечивается край стола, где сидят Галина Петровна и Ирина Сергеевна.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
(обнимает ее за плечи)
Ирин Сергевна! Ира! Я по-женски
Тебе скажу: не верь ты мужикам!
Кому не веришь, тот и не обманет!
Но бабам верить, только между нами,
Нельзя тем более!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Кому же тогда верить?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Себе, Ириш. И то не каждый день.
Эх, Ира, знала б ты… Вот я бухгалтер
В одной… Неважно где. Вот ты скажи,
Что для бухгалтера важней всего?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Наверно,
Уметь считать?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Уметь молчать как рыба!
Я, как шпион, как Штирлиц, я в тылу
Врага, а враг везде! И я привыкла.
Я даже с мужем, Ира, как шпион.
И с сыном тоже. И вобще со всеми.
Никто не знает, что там у меня
В душе, а там, Ириш, сплошная рана!
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
А почему?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
(машет рукой)
Да… Долгий разговор.
Наверно, потому, что жизнь прошла,
А чё хотелось, так и не сбылось.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
А что хотелось?
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Если бы я знала!
Тогда и горя б не было! Да ладно…
А ты-то кем работаешь?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Диспетчер
В метро.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Это которые стоят
И пялятся, как мимо люди едут
По эскалатору?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Ну да.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
С ума сойти.
Вот никогда, убей, не понимала
Такой работы, это ж очуметь!
Ведь каждый день одно и то же видишь.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Сначала, да, и засыпала, и
В глазах рябило, и в ушах звенело.
А после приспособилась. Нашла
Хороший способ. Например, считаю,
Сколько за час мамаш с детьми проедет.
Считаю бородатых, лысых, толстых.
Ведь человек всегда, Галин Петровна,
Найдет, за что по жизни уцепиться.
ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Ириша, никаких Галин Петровн!
Я Галя! Мы теперь с тобой родня!
Нас теперь двое. Мы дадим им жару!
Они у нас… Нет, правда, я так рада,
Что у меня теперь подруга есть!
(Уткнувшись ей в плечо, плачет.)
Высвечиваются танцующие Олег и Кристина.
ОЛЕГ
Ну чё, пойдем?
КРИСТИНА
Отстань.
ОЛЕГ
А чё такого?
(Пауза.)
А то пойдем?
КРИСТИНА
Куда?
ОЛЕГ
Там видно будет.
КРИСТИНА
Отстань, сказала!
ОЛЕГ
Я не пристаю.
Суть логики простая: предложил —
Ты отказалась. Нет вопросов, понял.
А то пойдем?
КРИСТИНА
Умолкни, надоел.
(Передразнивает.)
«Пойдем, пойдем!»
(После паузы.)
Ну хорошо, пойдем.
Куда мы щас пойдем?
ОЛЕГ
Подумать надо.
КРИСТИНА
Придумаешь – тогда и предлагай!
Затемнение. Когда включается свет, Кристина танцует с Виктором Ильичом.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Ты понимаешь, в чем моя проблема?
Я, типа, ну, представь, автомобиль
На триста лошадиных сил, а еду
Со скоростью пятнадцать километров,
А то и меньше в час. Мне разогнаться
Охота, чтобы вдаль да с ветерком,
А рядом чтоб красавица сидела
Типа тебя. Тойсть в идеале ты.
Ну как, годится эта перспектива?
КРИСТИНА
Автомобиль? Годится, только я
Сама на нем поеду. И одна.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Ага. Тем самым ты мне намекаешь,
Чтоб тачку я тебе уже купил?
Нет, милая, сначала заработай!
(Обнимает ее.)
КРИСТИНА
(хлопает его по рукам)
Не надо, друг мой, руки распускать!
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Ты как со старшими…
КРИСТИНА
Пошел ты! Надоели!
Короткое затемнение, свет падает на танцующих Наташу и Антона.
АНТОН
Мне лично больше нравится расклад —
Два парня и девчонка.
НАТАША
Может быть.
И девочка тогда должна быть старшей.
Вторая мама как бы.
АНТОН
Не пойдет!
Наоборот, пусть они будут старше,
Пусть о сестре заботятся, тогда
Почувствуют, что значит быть мужчиной!
НАТАША
Ты прав, Антоша. Ты такой красивый
Сегодня.
АНТОН
Я вообще-то не урод
Всегда.
НАТАША
Конечно. Но сегодня – очень.
Целуются. Появляется Юля.
ЮЛЯ
Там этот спит, а эти тут танцуют…
Напиться, что ли?
Наташа и Антон исчезают. Появляется Виктор Ильич.
ВИКТОР ИЛЬИЧ
Юлечка, ты где
Пропала? Мы тут без тебя скучаем.
Какая ты вся красная! Как кровь!
А я, наверно, Юлечка, маньяк —
Как вижу кровь, то сразу возбуждаюсь.
Вот все боятся донорами быть,
А я сдаю раз в месяц. Я люблю,
Смотреть, как из меня она течет —
Густая, красная, похожа на сироп,
Так и лизнул бы!
ЮЛЯ
Ну, Виктор Ильич,
Спокойней! В вашем возрасте бывает.
Потом проходит.
(Идет к столу, наливает полный стакан, пьет.)
ВИКТОР ИЛЬИЧ
(смотрит ей вслед)
Да, проходит все.
Или уже прошло. Гуд бай, май лав!
(И вдруг оглушительно поет, причем неплохо – и даже знает слова, которые когда-то зачем-то выучил.)
Goodbye, my love, goodbye,
Goodbye and au revoir,
As long as you’ll remember me,
I'll never be too far.
Goodbye, my love, goodbye,
I always will be true,
So hold me in your dreams
Till I come back to you!
9
Фойе ресторана. У двери мужского и женского туалетов на короткой банкетке с металлическими ножками, подогнув ноги, спит ВЛАД. Из зала раздается новый взрыв музыки. Влад просыпается, трет глаза, садится, озирается, видит НАТАШУ, выходящую из туалета.
ВЛАД
Привет.
НАТАША
Привет.
ВЛАД
Я где-то тебя видел…
НАТАША
Учились в одной школе.
ВЛАД
Может быть.
Да нет, недавно видел.
НАТАША
Ты на свадьбе.
А я невеста.
ВЛАД
Как зовут?
НАТАША
Наташа.
ВЛАД
Наташа… Я тут много начудил?
НАТАША
Немало.
ВЛАД
Черт… Ты знаешь, я, вобще-то,
На самом деле не такой. Но если
Переберу…
(Крутит головой.)
НАТАША
Зачем же пить тогда?
ВЛАД
Вопрос на миллион! А кто жених?
НАТАША
Антон. Он пригласил тебя.
ВЛАД
Антон?
Какой Антон? Хотя уже неважно.
Пора домой.
(Достает телефон, нажимает кнопки.)
Такси? Заказ примите.
(Наташе.)
Какой здесь точный адрес?
НАТАША
Я не помню.
Верней, не знаю.
ВЛАД
(в трубку)
Я перезвоню.
(Наташе.)
Щас спросим у кого-нибудь. А ты
Чего тут делаешь?
НАТАША
Здесь туалет вобще-то.
ВЛАД
Да, в самом деле. Это актуально!
(Встает, идет в мужской туалет.)
Наташа делает несколько шагов к залу, останавливается, возвращается, садится на банкетку. Влад выходит.
НАТАША
Я что тебе сказать хотела, Влад…
Но только ты учти, предупреждаю,
Мне ничего конкретно от тебя
Не надо. Ни сейчас, ни вообще.
Мне было лет двенадцать… Если точно
Двенадцать и три месяца, когда
Тебя мне в коридоре показали
На перемене. С этого момента
Я была счастлива. Тебя я пролюбила
Все это время. Что бы ни случалось,
Я помнила: есть ты, моя любовь.
Конечно, я сказать тебе хотела,
Но оказалось, это слишком сложно.
Зачем, ты спросишь, говорю сейчас?
Сама не знаю. Просто для того,
Чтоб ты узнал.
ВЛАД
И больше ничего?
НАТАША
А что еще?
ВЛАД
Зачем тогда ты замуж
Выходишь?
НАТАША
Чтобы как-то строить жизнь.
Он лучше многих, мы друг друга любим…
Не так, как я тебя, но ведь с тобой
Не выйдет ничего.
ВЛАД
А если выйдет?
А если я тебя и сам заметил
Давным-давно? Но кто-то мне сказал,
Что ты такая, что ни с кем не дружишь,
Не подпускаешь никого и даже
Что чуть ли не сектантка.
НАТАША
Все вранье!
Не подпускала, да, но потому,
Что я тебя любила. Ты ведь шутишь?
Смеешься, да? Смеешься. Если б ты
Хотя бы раз на меня глянул…
ВЛАД
Я
Глядел вовсю, но ты не замечала.
НАТАША
Нет, как же так? И как теперь мне быть?
ВЛАД
Мы оба в ауте. А я ведь вспоминал
Тебя, и вспоминал довольно часто.
Да что там часто, чуть не каждый день!
Как выпью – вспомню. Нет, шучу, хотя
Я пьяный сам с собой честней намного.
Я помню – ты стояла у окна,
А сзади солнце. И над головой
Твоей как нимб сиял. И ты как ангел
Была, до смерти это не забуду!
Со мной, ты знаешь, все по жизни круто —
Кругом обман и грязь, и я летал
Как маленький бумажный самолетик:
Чуть пролетел – и носом в землю тюк!
Однажды понял: если хочешь дольше
Ты пролететь, тогда взбирайся выше.
Ну, и старался, лез, и позабыл,
Что ты осталась где-то под ногами.
Ну, в смысле, без обид…
НАТАША
Я поняла.
Ты мог бы как-то… Ну, найти меня.
Ведь это просто – через интернет,
И телефон достать легко, да много
Есть способов.
ВЛАД
Я знаю! Я не верил,
Что ты такого сможешь полюбить.
НАТАША
А я не верила, что ты… Никто не верит,
Что может быть не так, как все привыкли,
А так, как быть должно. Чтобы любовь —
По-настоящему. И чтобы всё вобще —
Как надо, а не так, как получилось!
Ведь это сплошь и рядом, согласись!
Случайно встретились, случайно поженились,
Детей случайно завели, случайно
Нашли работу, и живут случайно,
Ну а потом случайно умирают.
ВЛАД
Черт, сколько время потеряли зря!
Но ничего, мы молодые оба,
Мы наверстаем. Я тебя теперь
Не потеряю.
(Обнимает ее.)
Не поверишь, я
Вместо молитвы на ночь повторял
Твое прекрасное и ласковое имя,
Шептал, как будто звал тебя: Надежда!
НАТАША
Наташа я.
ВЛАД
Конечно. Я имел
В виду, что ты была моей надеждой!
(Увлекает ее к двери мужского туалета.)
НАТАША
Куда мы?
ВЛАД
Да, нехорошо в мужском.
Прости.
(Ведет ее к женскому туалету.)
НАТАША
Нет, я…
ВЛАД
А что тебя смущает?
Что, типа, запах? Это ерунда,
Своя любовь не пахнет! Ну Наташа,
Ты видишь же, я весь с ума схожу!
НАТАША
Я вижу. Отпусти меня.
ВЛАД
Ну, нет!
Ты испугалась собственного счастья?
НАТАША
Убрал сейчас же руки, я сказала!
(Отталкивает его.)
ВЛАД
Ну нет, подруга, так со мной никто
Не поступает!
(Хватает за руку.)
Щас порву вот платье!
Все спросят почему, а я скажу,
Что ты сама передо мной разделась.
Так торопилась, что все порвала.
И мне поверят! Люди любят верить
В такие вещи.
НАТАША
Отпусти, дурак!
Борется с ним, отступает, натыкается на банкетку, поднимает ее, пытается ею обороняться, потом с размаху бьет Влада по голове. Тот падает.
Затемнение. Музыка сменяется сиреной полицейской машины.
Эпилог
В луче света — НАТАША, в бесформенном тюремном халате.
НАТАША
Вот так, подруги, это и случилось.
Попала неудачно. Раз – и насмерть.
А после в обморок упала. Так нас
Там и нашли. И тут же меня взяли.
Потом был суд. Родители его
Купили адвоката подороже.
Ну, тот и постарался. Мне условно
Хотели дать три года за убийство
Неосторожное, а дали целых пять
Реальных. Говорят – не повезло.
Я месяц проревела, а теперь
Спокойная, как будто я всю жизнь
Здесь прожила. Нет честно, вы не смейтесь.
Тут все по распорядку – утром завтрак,
Потом работа, а потом обед,
А после ужин, отдых. Все понятно.
Все просто, как часы – тик-так, тик-так.
Вот если бы и в жизни было так.
Не в смысле, что работа и еда
По расписанью… Как сказать, не знаю,
То, что теперь до дна я понимаю…
Мне страшно хорошо. Как никогда.
Занавес
Хроника. Ноябрь
Из новостей
* * *
24 ноября 2013 в Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг на Майдане Незалежности. Колонна митингующих заполнила весь Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади). Такого количества протестующих на Украине не было со времен «Оранжевой революции». Организаторы заявили, что их число превысило 100 тысяч. По сведениям МВД, на Майдан пришло до 50 тысяч человек. На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста.
После митинга часть демонстрантов (в основном сторонники партии «Свобода») попытались прорваться к центральному входу в здание Кабинета министров и заблокировали проезд правительственных автомобилей. У входа расположились несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут», с которыми у отдельных манифестантов начались столкновения. В ходе них милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ, а протестующие также распылили газ и бросили несколько взрывпакетов.
(Началось как протест против приостановки подписания соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом, вылилось в манифестацию против украинских жуликов и воров. Поэтому многие в России – сочувствуют.)
Из журнала
* * *
Умеренным пьяницам труднее бросить пить, чем алкоголикам: первые лишаются удовольствия, вторые избавляются от болезни.
* * *
«В Вашем докладе, Владимир Владимирович, сегодня сказано самое главное: в стране будет разработана концепция государственной политики в области культуры», – сказал Тихон Шевкунов. И продолжил: «Чтобы работа по созданию такой концепции была продуктивной, необходимо просить, чтобы этот проект возглавлялся не менее статусным чиновником, чем, к примеру, проект по созданию единого учебника истории в российском историческом обществе».
Упасть не встать. Вообще-то концепция в области культуры была разработана одним чиновником около 200 лет назад. Правда, мелким, а не статусным. Титулярным советником. «Чувства добрые я лирой пробуждал», – написал он о себе, что и всем другим годится. «В мой жестокий век восславил я свободу», – добавил он. «И милость к падшим призывал», – заключил очень важным.
Вот вам и вся концепция.
* * *
И в мирной жизни есть место подлости.
* * *
Жить стало лучше. Жить стало тяжелей.
* * *
17.11.13.
5.30
Один сердобольный читатель недавно посоветовал мне расширять сознание. Чем, канабисом или Шопенгауэром, не уточнил. Я ответил, что в настоящий момент меня гораздо больше интересует расширение жилплощади хотя бы еще метров на 15–20, ибо работать на кухне утром, когда все спят, оно еще ничего, а вот потом закрываться в одной из комнатушек и кричать, что я на работе, как-то… не комильфо…
Читатель был неприятно поражен узостью и материальностью моей души, которую, по его разумению, можно расширить, живя хоть в бочке.
Огорчил я человека, – и ведь он прав!
Но и я тоже прав.
Привет всем уральцам, сибирякам и дальневостокцам с дальневосточками, я уже с вами! А кто в Америке, тем добрый вечер!
* * *
Сильнее многих, а может и всех слов на меня когда-то подействовало: «Боже мой! Боже мой! На кого Ты Меня оставил?».
Так мне запомнилось при первом прочтении.
Через какое-то время надо было для чего-то уточнить. Оказывается: «для чего Ты Меня оставил?». В значении – почему.
И я запомнил с тех пор, как правильно. Но, когда у самого печаль, упорно просится черноземное и рыдающее: «на кого?»
И в этом весь мой атеизм. Я тоскую по людям, а не по богу. Так уж вышло.
Комментарии:
В.Г. Здравствуйте, мы не знакомы! Но, у меня к вам деловое предложение. Топливная Тема – очень актуальная. Экономия топлива в среднем на 20 %. Заработок от $1000 в месяц и это не придел. Заниматься этим бизнесом может любой человек.
М.Ш. Ээээммм…. Но кагбэ по смыслу слов получается-то наоборот.))) Обращаешься ты к Богу, сетуешь, что покинул тебя именно Он. А на кого покинул? – На людей. Но да: слова не так бывают важны, как настроения.))
Ал. Сл. Да.
И.Ш. Многие вдовы так и причитают: «На кого ты меня оставил?!».
Е.Г. «для чего» – это в значении «зачем», а не «почему» (??) Хорошее предложение о топливе.
Ал. Сл. «Зачем» – слово практическое. Как и «для чего». Мука вопроса – В ЧЕМ СМЫСЛ?
Н.Г. А я помню, как Алексей говорил об этом на КУЛЬТУРЕ. И Антон Красовский в фб недавно написал: «Дорогой, любимый Бог! Ничего я у тебя не прошу, прошу только хоть немного осмысленности, ну ты знаешь, о чем я».
Ал. Сл. Проще всего просить об осмысленности, т. к. это недостижимо. О недостижимом вообще легко просить. А вот просить: Боже, хочу здоровья мужу (жене, детям) – такая мука, такая Вера. Я, не молящийся, молю не знаю кого: сделай жизнь легче людям, которые любят друг друга. Пожалуйста.
М.К. Вспомнилось слово, которое в сердцах вырвалось у дедушки на похоронах бабушки – Обескрылил.
Ал. Сл. Он о себе, конечно. Грустно, но понятно.
Н.Г. Тогда – «обескрылЕл».
В.Л. Если дедушка о себе, то – обескрылел (неперех. гл.). Обескрылил – кого? (перех. гл.) (например, Бог его обескрылил).
М.Н. Да хоть так, хоть так – грустно. Про дедушку дошло, а с чего вы тут начали-то?
* * *
Новость. Президент России Владимир Путин стал первым лауреатом премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России. Диплом и знак вручил главе российского государства патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возглавляющий Собор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Предстоятель РПЦ отметил, что В. Путин, как никто другой в конце 20 века, внес свой колоссальный вклад в то, чтобы Россия стала державным государством и вернула свои утраченные позиции. Наша страна под руководством В. Путина продолжает борьбу за достойное место среди держав, особенно в свете последних событий в Сирии».
Я ничего не понял. Почему – в конце 20-го века? В чем колоссальный вклад? Когда Россия утрачивала свои державные (сиречь ядерные) позиции? Что означает «борьба… в свете событий в Сирии»?
* * *
Умер Юрий Яковлев…
В «Иронии судьбы. Продолжении», где я соучастник (неотмываемо), есть фраза, на которую никто не обращает внимания. Упал нож, Яковлев произносит: «Мужик придет». И все. Но это чуть ли не единственный в своей подлинности мостик, соединяющий с первым фильмом. Он словно вдруг выглянул, подмигнул – и тут же опять скрылся.
Таких Голосов и таких Актеров в России было – на пальцах одной руки…
* * *
Кремль созвал литераторов и иже, продолжая играть роль наседки. Получилось смешно. В частности, на секции драматургов из собственно драматургов была только Елена Гремина (или другим слова не дали?). Остальные: продюсер А. Максимов, кинорежиссер С. Соловьев, актриса Ю. Рутберг и актер С. Безруков. И т. п. Впрочем, это обозначает намерения: собирали ведь не для того, чтобы услышать, что нужно литераторам, а объяснить, что от них нужно.
А чего тому же Максимову хочется, я и без Кремля знаю.
Из дневника
* * *
За пару недель отказался от нескольких ТВ-проектов. Все. Никаких сериалов.
* * *
20.11.13. Дорогой мой дневник, никой ты не дневник, а отчет о проделанной работе. О проделанной жизни. Поэтому и назван – хроника. Нет в тебе задушевных признаний и потаенных мыслей, потому что твой автор ни с кем ими не делится. Даже с собой не всегда. Он все отдает героям, персонажам. Так многодетный папаша (каковым твой автор в жизни при 4-х чадах и является) обделяет себя (не до аскетизма, конечно), живя по принципу – «все лучшее детям!». Майя вон Кучерская, заслуженно победившая в читательском голосовании за «Тетю Мотю», написала в своем журнале: «с какого-то момента жизни важнее жизнь, а не все остальное». И это да. Но если работа тоже жизнь, а не все остальное?
Послезавтра опять еду в Саратов. Составил в целом книгу.
* * *
Пора заканчивать, а я все продолжаю начинать.
Стослов
Предисловие
Наше время страшно болтливо. Я тоже стал слишком многоречив. Но как быть, если иногда хочется все-таки высказаться? И я придумал новый жанр: «стослов». То есть – в каждом тексте ровно сто слов. Не больше и не меньше. Это дисциплинирует.
Время визуалов
Оператор на съемках: «Мне все равно, что они там говорят, я за картинкой слежу».
Сюжет для романа в духе Зюскинда. Название – «Картинка». Сериальный оператор перестал понимать смысл слов не только на площадке, но и в жизни. Любовь, смерть – не имеет значения. Важны освещение, ракурс, интерьер. Картинка. Его подруга, веб-дизайнер, того же сорта. Заказы получают от коммунистов, фашистов, либералов. Стараются одинаково. Оба живут, любят, слушают и даже едят – глазами.
Она беременна. Это портит картинку. Он бросает ее. Она убивает себя и ребенка. Умом он пробует горевать, но не может. Видит лишь одно – картинка беременной покойницы ужасна, но прекрасна. Только исправить свет.
В г. Пушкине взорвали памятник Ленину
Опять взорвали Ленина. Он устоял, зато вылетели стекла в окнах соседних домов.
Надо ли крушить памятники? Гитлеру, Сталину, Ленину, то есть человекоубийцам?
Я слышал, как мальчик лет десяти, увидев памятник Ленину, спросил: «А кто это?». Я умилился, я представить не мог, что придет время, когда кто-то старше трех лет не будет знать о Ленине.
Потом подумал: умиляться нечему. Надо знать, кто такой Ленин, надо оставить его в учебниках. Но с улиц и из мавзолея все-таки убрать. К черту. Однако тут я противник частной инициативы. Убрать нужно спокойно, заурядно, официально. Удивительно: разгонять демонстрации живых людей власть не боится, а каменных истуканов – осторожничает.
Оправдание воровства
Отец рассказывал: поставили его бригадиром на молочной ферме, он в первый же день обнаружил, что доярки выносят под одеждой мешочки с комбикормом. Домашнюю живность подпитать, а живностью семью. Отец по должности взялся их совестить, они ему спокойно: «Нам вместо кормов и денег голые палочки да грамоты дают, а наши дети что есть будут? Палочки и грамоты? Мы заработали, свое берем! Уйди, бригадир, не доводи до греха!» (Ясно, что время было послесталинское.)
Вот откуда (на самом деле – издревле) в России молчаливое общественное одобрение воровства, особенно мелкого. Вечное ощущение, что – недодали. Я больше заработал, я большего достоин. Следовательно, не ворую, свое беру.
Ответственные раздолбаи
– Не жизнь, а карусель, – уныло сказал знакомый и перечислил свои заботы, обязанности и обязательства. – Плюнуть бы на все да уехать куда-нибудь. И ведь ничего страшного, если вдуматься, не произойдет!
– Так плюнь и езжай.
– Не могу, я человек ответственный. Но по натуре раздолбай, понимаешь? Вот и мучаюсь.
Я понял, что это и обо мне. Есть ответственные ответственники, раздолбайные раздолбаи, они, как правило, собой довольны, а есть ответственные раздолбаи: люди от природы легкие, но взвалившие на себя кучу дел. Частные случаи: непьющий алкоголик, женатый холостяк, ленивый трудяга. Вечный конфликт желаемого и должного. Должное побеждает, радости маловато. Грустно.
Старые книги
Довольно часто я слышу и читаю: вот, дескать, старые книги у него (то есть у меня) были интересные, веселые, а потом повело в мрачность и непристойную социальность.
Ну, социальность всегда была.
И за старые книги спасибо.
Однако новые, мне иногда кажется, обижаются – как бы даже без моего участия.
«Раньше наши герои все больше балагурили, теперь все больше разговаривают! Раньше рассуждали, теперь размышляют!»
Это не самооправдание и не попытки разъяснить, что и как следует понимать. Это просто лирическая досада.
Видимо, грустное свойство человека получать то же самое, что он полюбил вчера, сказывается и в благородном деле чтения.
Переполюбить крайне трудно. Понимаю.
Гитара
В 94-м году я с большущей премии купил гитару TAKAMINE.
Подключал ее к усилителю, она пела и рокотала на разные голоса.
А потом авария… Контрактура…
Гитара одиноко стояла в углу. Иногда кто-то из приходивших друзей брал ее, бренчал, но я ревновал, отбирал, заключал в темницу кофра.
Потом понял, что она томится, как невеста, не выданная замуж.
Решил продать.
Выяснилось, что в Саратове ни у кого из играющих нет таких денег. А у кого деньги, им не надо.
Но гитара не может, чтобы на ней не играли.
И я отдал – за полцены.
До сих пор она мне снится, моя недолюбленная красавица.
Кстати об аварии
Было так: я шел с намерением резко изменить жизнь.
Гололед.
Перехожу улицу.
Откуда-то возникает машина и мчится на меня, неуправляемая. Я скольжу ногами и остаюсь на месте. При этом совершенно спокоен, размышляю, что подставить. Подставляю руку, она попадает в фару, меня отбрасывает.
…Операция, сшивание сухожилий, артерии, нервов.
Боль и горечь.
Но.
Я не изменил жизнь – и это оказалось правильно.
Перестал сочинять песни – и тоже вовремя.
Вдобавок, со мной в больнице случилось короткое счастье.
С тех пор знаю: все происходящее не столько расплата, сколько предупреждение. И я, как ни странно, благодарен этой аварии.
А за рулем машины был судья районного суда.
Париж
Побывав в городе Париже после пятилетнего перерыва, я огорчительно обнаружил, что своей многоэтничностью он все больше напоминает Нью-Йорк и прочие большие города США, да теперь и Европы. Посмотришь на здания – все тот же Париж. Посмотришь на толпу – нет Парижа. Так сначала кажется.
Но вот фланируем мы неспешно с писателем Королевым по улице, и нас обходят двое полицейских, один из которых даже не одеждой, а ее ветерком задевает писателя Королева и незамедлительно произносит: «Ça va!» (своеобразное парижское извинение, буквально: «Как дела?»).
И я подумал: до тех пор, пока парижские полицейские будут извиняться за крошечное беспокойство, ничего страшного с Парижем не случится.
Сталин
Ужасаются (или злорадствуют, или печалятся), что народ опять голосует за Сталина… Опросы, рейтинги. 70 %, 80 %. Ну и что? В любой стране людей, которые мыслят более или менее здраво, не более 10 %. Остальные – тупое быдло, которое можно повести в любую сторону? Нет. Пресловутая душа народа на самом деле – маятник. От разумного к неразумному и обратно. В зависимости от того, кто и зачем толкнет. Чуть вправо – 70 % за. Чуть влево – 70 % против (те же самые люди!). Ergo: дело не в Сталине и не в народе, а в тех, кто толкает. Вот им бы дать по шаловливым ручкам и безмозглым головам. Морально, конечно.
Ночь
Ночь.
Мужчины, недолюбленные вечно занятыми и озабоченными матерями, льнут к своим женам, тоскуя по ласке, даже если не так любят жен, как раньше, даже если вообще не любят, но очень хотят любить, поэтому позволяют себе обманывать себя.
Женщины, думающие о завтрашних делах, о детях, на которых не хватает времени, о хозяйстве, деньгах и т. п., перебарывают усталость: они тоже недолюблены в детстве, они еще легче, чем мужчины, поддаются самообману.
И наступает момент, когда этот самообман превращается в правду, момент забвения всего дневного, доверия друг другу – почти детского, открытого, беззащитного, и слова часто бывают детскими, и объятия тоже.
Это пройдет, но потом.
Страна больна. Стослов х 2
Я всю жизнь понимал, что живу в стране бедной и неприглядной. Вонь, колдобины, хлябь, хамство, мат, пьянь, мордобой, произвол, глумление, придурь. Некрасота какая-то даже принципиальная, русские деревни в большинстве своем уродливы – словно напоказ. Белорусы, например, живут в своих селах намного опрятнее, сам видел, и не раз.
А главное, что вводит в уныние, – разлитое вокруг неуважение к другим и к себе, доходящее до презрения к собственной нации.
Поэтому актуальные сейчас крики: «Валить надо!» – вроде бы резонны.
Но я в очередной раз вспоминаю: страна не столько бедна, сколько больна (и давно, очень давно), и все мы больны. Кто в палатах-люкс, кто на зассанном матрасе в коридоре, кого кормят икрой, кого баландой, кому дают дорогие лекарства, а кому – от всех болячек – анальгин. Все равно – мы больны. Конечно, есть в наших палатах радости: у кого телевизор в углу, у кого книжка в руках, кто гитарку щиплет за бока, кто гладкую медсестру, а кто даже электрическим интернетом наслаждается, утишая свои недуги. И садик есть больничный. И живой певец Басков с концертом приедет из соседнего лазарета. И небо в окошке, пусть и запыленном. А то попик зайдет, почадит в без того обезвоздушенных помещениях, а страна на всякий случай помолится.
Вот тут и вопрос. От злодеев и негодяев валить, от дураков, от наглых нищих и наглых богачей, от хамствующих – легко. А от больных? Больничная вонь неприятна, но она, кто знает, другого свойства. И гноища ужасны, и халаты рваны, но… Но в них твои братья и сестры…
А если главврач и персонал проворовались, что ж теперь, закрывать корпуса и всем прыгать из окошек? Да и они-то – тоже больны. Клептомания при этом болезнь тяжкая.
Ну хорошо, уедем. Куда? Из худой клиники – в комфортабельную?
Потому что мир тоже болен. Весь. Даже когда он прекрасен (я о людях, а не видах и ландшафтах) – все равно болен. И выздоровеет ли, неизвестно.
Выбор слов
Я встал, поднялся, вскочил и пошел, отправился, потащился в кухню. Захотелось, пожелалось, вздумалось поесть, закусить, заморить червячка, покушать, схавать, слопать чего-нибудь. В окне мутнел, сумрачился, серел февраль. На душе было тяжко, муторно, кисло, беспросветно. Надоело работать, трудиться, вкалывать, пахать, въ@бывать. И вдруг луч солнца осветил, озарил, осиял кухню, показав, явив, изобличив, обнаружив всю ее пыль. И от этого можно было сойти с ума, рехнуться, крезануться, сдвинуться, помешаться. Но я развеселился. Я понял, что сейчас смету пыль и пойду дальше работать, вкалывать, пахать, жить.
О чем это? О том, что от выбора слов зависит, какой ты писатель. И писатель ли вообще.
Алкоголизм
Было дело: Марина Влади с гордостью рассказывала, что ее книга о Высоцком имеется во всех наркологических клиниках Франции. Как пользительное чтение для алкоголиков. Я-то всегда превыше всего ценил художественные достоинства литературы, и этой гордости не понял. Но вот недавно получил письмо от человека, который пишет, что одна из моих книг помогла ему покончить с запоями. «Вы спасли мне жизнь», – заканчивается письмо, с перехлестом, конечно. Считайте, что я хвастаюсь (не без этого), но так неожиданно и так приятно узнать, что ты кому-то реально помог. Не художественностью, а конкретно, житейски. Есть ли еще такие случаи у братьев и сестер – писателей?
Боязнь казаться дураком
Я знаю одного очень умного и при этом очень молчаливого человека. Над ЖЖ и соцсетями вообще он посмеивается. А однажды признался:
– Понимаешь, я привык думать прежде, чем говорить. И, пока думаю, успеваю найти контраргументы, оспорить их, а потом оспорить оспоренное и прийти к выводу, что мысль моя банальна, кем-то наверняка высказана. И даже когда она кажется оригинальной, мне скучно ее проговаривать. Все ведь произошло – во мне.
Надо бы у него поучиться. Однако я вспоминаю больших людей, которые без банальностей и глупостей были бы – как обтесанные пни. К примеру, несомненно гениальный Лев Толстой без своих благоглупостей был бы совсем другим. Пресным.
Выпившие
Мы обожаем выпивших друзей. Они очаровательно беспомощны, мило болтливы, мудро глупы, нежно любвеобильны, доверительно откровенны и вдохновенно порывисты, и если даже друга или подругу немного стошнит, это воспринимается, как веселое приключение.
Мы не любим выпивших незнакомцев. Они неприятно беспомощны, приставуче болтливы, тупо глупы, назойливо любвеобильны, непрошено откровенны и нагло порывисты, и если незнакомца тошнит, мы говорим мысленно «фу!» и презрительно воротим нос: надо же так потерять человеческий облик!
Мы ненавидим выпивших родственников. Они постыдно беспомощны, унизительно болтливы, позорно глупы, паскудно любвеобильны, бесстыдно откровенны и отвратительно порывисты, и если близкого стошнит, мы краснеем, думая, что никто вовек не забудет этого кошмара.
Служить бы рад
Сидим с редактором одной киностудии (сиречь продюсерская компания, что одно и то же), обсуждаем сценарий. Звонок. Он смотрит на дисплей, хватает трубку. Слушает, говорит: «Да, сейчас». И, вставая, мне: «Извините, шеф зовет!». Я ему: «Мы не закончили, скажите, пусть две минуты подождет». Лицо редактора стало серым от такого предложения. Что-то промямлив, он убежал, заплетая ноги чиновничьей суетливой поспешностью. Я ушел.
Слава богу, что я вот уже почти двадцать лет нигде не служу. Последнее место работы – журнал «Волга», но то была именно работа, а не служба. Идут столетия, а служивость в России все та же: снизу угодливость, сверху – высокомерие и хамство.
Человек, которого почти нет
На самом деле он есть. Он даже не очень стар и непоколебимо бодр. У него есть книги, читатели и почитатели. У него есть революционные теории, имеются последователи и сторонники. Некоторые, как водится, радикальней своего кумира. И все же он чувствует: он на грани исчезновения. Поклонников все меньше, меньше шума, известности. И он идет на митинг, на демонстрацию, устраивает акции, пикеты, шумит, дерзит, его забирают и почти сразу же отпускают, интернет обсуждает, он доволен: есть еще порох в пороховницах! Те, кто уважают его иные таланты, с грустью смотрят на него. Но все чаще из вялой толпы зевак слышится: «А кто это?»
Невермор
«Время рассудит», «Время расставит точки над и», «Когда-нибудь оценят!». Это всегда было утешением. И действительно, время часто восстанавливало справедливость. Кафка, Ван Гог… Но сейчас, когда информационное пространство безмерно, когда все больше слов, изображений, звуков – и часто замечательных, уникальных, но тонущих в море мусора и кривых суждений, начинают закрадываться сомнения. Если о литературе, я знаю авторов, достойных внимания намного большего, чем имеют. В частности: Валерий Володин, Сергей Солоух, Роман Шмараков. В сто раз интересней многих, о ком все болтают. Будем надеяться на потом? Но один опытный издатель сказал: «Поверьте, то, что не прочитают сегодня, не прочитают уже никогда».
Невермор. Неужто правда?
Скупой писарь
Я знаю человека, ушибленного писательством, который скаредно трясется над каждой минутой, забирающей творческое время.
Жалеет, что на чистку зубов, бритье и душ уходит не меньше получаса, но без этого не может.
Обед дольше двадцати минут считает бессовестно затянутым. Завтракает за работой. Ужин – десять минут.
На любом мероприятии, в любом застолье терпит не больше часа, потом придумывает повод уйти или удаляется по-английски.
И даже во время занятий любовью он нередко думает о текстах.
Его утешает лишь то, что большинство женщин в это время тоже думает о завтрашней готовке, работе, детях… И не пора ли побелить потолок.
Бедный писарь…
А может, счастливый…
В здоровом теле безумный дух
Весьма пожилой человек в телевизоре, раздевшись по пояс, растирает себя снегом, кувыркается на полу, рассказывает о пользе закаливания, акробатики и т. п. Ведущий уже берет его за локоток, чтобы деликатно увести, а он все выкрикивает лозунги и выглядит если не бесноватым, то явно слегка безумным.
Я вспоминаю известных персон, лечителей и лечащихся, – самолюбивого Кашпировского, фанатичного Порфирия Иванова, жуликоватого Чумака, посконного Малахова, вдохновенную ведущую передачи о здоровье, не помню фамилии, и все они кажутся мне изрядно сдвинутыми. И, давая полезные советы, утаивают главное: для начала на здоровье нужно рехнуться. Кроме шуток, любой психиатр вам скажет, что у шизофреников пониженный болевой порог.
Ваенга
Не понимаю, чего это все взялись издеваться над Ваенгой. Особенно много насмешек по поводу куплета:
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова.
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
По-моему, вполне сходная народная стилизация, как это бывало у хороших советских песенников (ср. про безответную любовь у Фатьянова).
«Снова стою одна» – попадание прямо в сердце любой слушательницы.
Виноватое обращение к маме – традиция.
«Тишина, взятая за основу» – иронический канцеляризм. (Ср.: «Или я в масштабах ваших недостаточно красив?»)
Но «основа» – это еще и нити ткани; в этом смысле образ тишины, по которой лирическая героиня вышивает свои страдания, выглядит окончательно народно и красиво.
Война
Говорим «война» – видим какой-то образ. Кто-то киношные кадры боев, атак, бомбежек, взрывающейся земли, крови… У кого-то в сознании возникают слова «подвиг», «преодоление», «священная», «великая»… Я же всегда думаю о людях, чья жизнь безвременно оборвалась. Любимых не обнимут, детей не родят, не приласкают.
Больше всего потрясают меня не фильмы, не художественные и документальные книги, не монументы и памятники, а молчаливые списки. Фамилии в ряд. Часто одинаковые. Как в селе Алексеевка, откуда наш род пошел, на плитах теснятся – Субботин, Субботин, Субботин, Соловьев, Соловьев, Слаповский, Слаповский, Слаповский… Гнездами вышибало. Есть в этом какая-то горькая невыразимость, которую не хочется выражать. Душе все ясно.
Иногда
Иногда я хочу быть столяром, приходить на работу к девяти и обрабатывать какие-нибудь детали, желательно одни и те же; я вообще люблю монотонную работу – не мешает думать. И чтобы зарплата зависела от мастерства и скорости. В час обед в столовке, в шесть пошабашить и прибрать за собой, вернуться домой приятно уставшим, оставив работу на работе, умыться, поужинать, поиграть с ребенком, выпить две бутылки пива перед телевизором, приласкать жену и в десять лечь спать, чтобы утром опять пойти на работу – легко, свежо, без чувства горечи, вины или долга из-за того, что не успел, не смог, не одолел. И так каждый день.
Мифы
Для души нации, здоровья народа важней не правда, которую народ высказывает, выпевает и вырисовывает через своих творцов, а – мифы. Мифы – идеальное представление о себе, своем прошлом и будущем. Без мифов искусство деградирует. Такие фильмы, как «Чапаев», «Два бойца», «Весна на Заречной улице» (успокойтесь, и «Сталкер» тоже), не имеют прямого отношения к реальности, но они мифологичны. И сделаны, что главное, резонансно по отношению к корневой народной сути. Сейчас либо голимая правдища, либо пузырящееся мыло. Это тоже нужно. Но, мне кажется, если народ перестает творить мифы о прошлом и будущем, он не хочет уже ни того, ни другого. Он просто очень устал.
Необходимость общественной жизни
Внедряемая сверху модель поведения: «Делай свое дело и не лезь в чужие», – кажется многим привлекательной. Действительно, как на дороге: соблюдай все правила – не попадешь в аварию. И не выпендривайся, не берись советовать, как улучшить движение, и подсчитывать, сколько украли на строительстве дорог. Слушай шансон и нежный голос навигатора, и все будет о’кей.
И вдруг в тебя, аккуратно и законопослушно едущего, влетает шальной самосвал с перегрузом, с транзитными номерами годичной давности, с водителем-нелегалом. Вот тогда спохватятся: как же это, за что?! А ты будешь смирно лежать и молчать.
Куда деться от проклятых вопросов общественной жизни? Некуда. Они все равно догонят.
Норма
Двадцать пять лет назад я сдался в наркологическую клинику. Меня привели в палату. Алкаши с мутными взглядами, казенные кровати, кислый запах прогорклых тел. Я содрогнулся и сказал: «А зачем обязательно тут лежать? Может, амбулаторно полечиться?». Врач хмыкнул: «Считаете себя лучше их? Вы, конечно, в чем-то другой, но при этом такой же алкоголик. Или вы это признаете, или до свидания, свидимся на ваших похоронах».
Я признал, свидание не состоялось.
Я из меньшинства. Я вне нормы.
И когда слышу клич других меньшинств: «Мы такие же, мы ничем не хуже!» – хмыкаю, как тот врач.
Может, мы и не хуже. Но не такие же.
О вере
Огромное уважение во мне вызывают люди, мучительно верующие и мучительно неверующие. Успокоившимся я не верю. Самодовольные верующие и самодовольные атеисты меня пугают. Агрессивные – еще больше. Есть блаженные и тем счастливые, но это свойство психики, а не мировоззрения.
Приход к вере не закрывает вопросы, наоборот, ставит более сложные. Если в вере нет ощущения взятой на себя тяжкой ответственности, она ничего не стоит. Но и неверие для думающего человека не уютный тупичок, он упорно ищет в других местах. Мыслящие верующие и мыслящие неверующие ближе друг другу, чем те, кто воспринимает догматы как печать на устах, на уме, а иные и на совести.
Олеша
Загадочный для меня писатель Юрий Олеша. Его в советское время очень любили маргинальные самиздатовцы, гении кухонь. Почему? Возможно, потому, что «Зависть», по сложившемуся безоговорочному мнению, роман о свободомыслящем интеллигенте как лишнем человеке. Которого победила колбаса.
На самом деле, мне кажется, роман поэтизирует творческое бессилие и бесплодие. Именно это, быть может, и привлекало бессильных и бесплодных фрондеров. А бессилие можно победить не только колбасой, но и простецкими водкой с пивом.
При этом очень симпатичный, нежный был человек, с блистательной неуместностью говоривший на 1-м съезде совписателей о больном и личном. Одно из немногих человеческих выступлений. Особенно если сравнить с барственно холопствовавшим Горьким.
Опять о Платонове
У меня отношения с Платоновым просто мучительные. Прочитав впервые: «русский – это человек двухстороннего действия: он может жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел», – я окоченел от восторга. Перечитал через пару лет – мурашками продрало от ужаса. Потом опять перечитал – засопротивлялся, увидел дьявольскую и губительную прелесть, надоевший, проклятый и безнадежный русский дуализм. И еще перечитал – и показалось, что это, как и многое другое у Платонова, есть великая пошлость, банальность, заключенная в причудливые словеса. И вот недавно опять перечитал – и страшно разозлился: безответственная бессмыслица.
Видимо, про меня написано, иначе откуда такая личная горечь и горячность?
Умение добавлять
Раньше я вздрагивал, услышав категоричное: «Литература должна быть…», «кино должно быть…» – и далее непререкаемые слова о том, какими должны быть литература и кино. И театр. И музыка. И все прочее. Меня это задевало, хотелось спорить. Теперь поуспокоился. Я понял: люди просто забывают прибавить «по-моему». Но кто мешает прибавить это самому? Брось сердиться, они говорят, а ты добавляй. И все.
Вот, например, заявляет некий продюсер (весьма крупный), что нет у нас сценаристов. Напрочь. Не сердись, не обижайся, он всего лишь хочет сказать, что нет сценаристов, которые нужны ему. Добавляй, раз уж люди забывают это сделать.
Я добавляю. И, знаете, помогает!
Публичное счастье
Известный и неглупый (вроде бы) человек, осчастливленный браком с новой молодой женщиной, публично растекается соплями (часто тут и фотографии в обнимку, а то и живые картинки, если ТВ), сюсюкает, признается в любви избраннице. Так и хочется спросить: ты мужик или блондинка из Вконтакте? – у тебя прежняя жена тоже человек, у тебя дети и друзья от нее, каково им это видеть? Люби на здоровье, богинь свое приобретение в тишине, зачем звенеть во все колокола, как ты офигительно счастлив? Другим же больно! Самые умные мимоходом «отдают должное» прежним супругам. И все равно не понимаю, какая необходимость хвастаться счастьем, замешанным на чужой боли?
Робинзон и Аввакум
«Робинзон Крузо» и «Житие протопопа Аввакума» написаны практически в одно и то же время, в начале эпохи Просвещения.
С «Робинзона» начался классический английский роман, с «Жития» пошла вообще русская литература. Как минимум – проза.
В «Робинзоне» важны любовь к Богу и освещенное верой осмысленное жизнестроительство, в «Житии» – любовь к Богу и освещенное верой осмысленное страдание.
Так на этих двух вещах, жизнестроительстве и страдании, и стоят до сих пор наши культуры. У них уклон в одно, у нас в другое. Я же люблю обе книги и, раз в моей душе это сходится, почему бы ему не сойтись и в жизни? Когда-нибудь…
Творческий припадок
Бывает состояние смятения, почти ужаса: ты разучился писать, ты сомневаешься в каждом слове, не умеешь выбрать из крутящихся в голове одно, единственно правильное – а это, быть может, самое главное в твоем деле: порядок слов. Пробуешь и так, и так – и все не то. А бывает что-то вроде творческого эпилептического припадка, вернее, его начала, прямо по Достоевскому: тебе все абсолютно ясно, ты все понимаешь и умеешь, слова появляются только те, какие нужно, и каждое встает на свое место – будто всегда было там. И даже неправильные идут в ход, оказываются чудодейственно необходимы, создавая непреложный синтаксис смысла. А потом отрезвление, и все сначала…
Торговля приговорами
В России меньше одного процента оправдательных приговоров. Говорю знакомому адвокату: ужас! Он отвечает: зато условных приговоров больше сорока процентов. А есть мягкие: штрафы, поселения. Суды у нас – корпоративная коммерческая структура, связанная с правоохранительными и иными органами. Жесткий обвинительный приговор – товар на самом деле неходовой, хоть и необходимый (для острастки и ассортимента), оправдательный невыгоден деловым партнерам судов – ментам, а вот смягчениями приговоров торгуют бойко и прибыльно. И волки (суды, менты, да и адвокаты) сыты, и другие волки (практически помилованные воры, жулики и убийцы) целы. Хуже всего овцам: у кого нет денег или на кого есть госзаказ – посадить.
Учительский счет
У меня было уже много публикаций и несколько книг, я жил уже в Москве, и вот вернулся, позвонил старенькой своей учительнице литературы, которая утвердила меня когда-то в мечтах о писательстве, напросился в гости. Собираясь, думал, что бы ей преподнести. Листал страницы журналов и книг, читал – словно ее глазами… В результате не взял ничего.
Соcтавляя книгу текстов последних лет, решил поместить там свои прозаические дневниковые стихотворенья, которых у меня накопилось около полутора сотен. Представлял, как читаются они другими глазами, более умными, чем мои. Отобрал сорок. Потом двадцать. Десять. Сейчас не осталось ни одного, не будет такого раздела в книге.
Учительский счет.
Глобальная мыслишка о фатальности прогресса
Мы живем в гамлетовское время, вопрос быть или не быть, действовать или не действовать – тотально актуален. Любое действие – зло. Элементарно: умываешься – расходуешь драгоценную воду, включил свет – тратишь энергию, едешь на машине – отравляешь воздух, что-то производишь – уменьшаешь ресурсы сырья, увеличиваешь количество продукта и повышаешь уровень потребления. Бездействие – зло еще большее. Это можно сравнить с движением к пропасти на общем поезде, и свернуть некуда. Парадокс в том, что, если сбавить скорость, свалишься, только позже, но зато уж наверняка. Следовательно, придется ее увеличить так, чтобы эту пропасть перелететь. Вопрос только в том, хватит ли времени. Прогресс не только не остановим, он фатально неизбежен.
P.S. Приземление после перелета будет жестким.
Феномен лексических предпочтений
Терпеть не могу: «Я вас наберу».
Раздражают и выражения более обиходные: «получить удовольствие». Все равно что – «заняться любовью». «Я от этого фильма никакого удовольствия не получила!»
Получают зарплату вообще-то.
Кстати, в устной речи не употребляю слово «фильм». Говорю – «кино».
Слово «употребляю» тоже не употребляю.
«Мы приобрели холодильник». А если купить?
«Мы посетили выставку». А сходить?
Отвращает слово «трудиться» (в речи опять же). «Я тружусь». Котурны. Предпочитаю работать.
Еще весело: «Слежу за вашим творчеством». Ну-ну, следите. Наружка такая.
Короче, люблю простые слова.
Позвоню, сходим в кино, может, оно понравится нам, а мы друг другу, и займемся…
Но вот тут-то как сказать?!!!!
Советский старик
Я ехал в поезде с человеком, который живет с недавних пор в Германии. Он на социальном пособии (немцы платят ему за еврейскую маму; к ней, заболевшей, он и направлялся), он не знает современной русской литературы, музыки и кино, но знает, что они про грязь, безнравственность и секс, поэтому не читает, не слушает, не смотрит. У себя дома (в Германии) наслаждается добрыми старыми советскими фильмами, читает Распутина, Бондарева, Алексина, Виля Липатова… Булгакова полагает не по чину превознесенным, а сцены с Иешуа мерзопакостными… Было полное ощущение, что это типичный советский полуинтеллигентный старик, оставшийся навсегда в прошлом. Только моложавый. Выяснилось: ему 52 года.
Фразы, которые ненавидят писатели
«Сейчас расскажу свою жизнь, а вы потом роман напишете».
«Вы из жизни берете или придумываете?»
«Да, я о вас много слышал. А что вы написали?»
«Хорошо вам: на работу ходить не надо!»
«А сколько за книгу платят?»
«Я тоже когда-то чего-то карябал. Потом бросил эти глупости».
«Вы писатель? Здорово. С Акуниным, наверно, знакомы?»
«У меня брат в Тамбове живет двоюродный – тоже писатель».
«Вам это для денег или для славы?»
«Я вам сейчас свои стихи почитаю».
«Видел, твоя книга в магазине появилась. Не купил, думаю: сам подарит. Что, нету? Почему?»
«Писатель? Ясно. А работаете где?»
И т. п.
Русское мужество
Русское мужество: когда что-то болит, терпеть – авось само пройдет. Жить с нелюбимым человеком и терпеть: авось все наладится, изменится, авось он (она) поймет, почувствует, догадается. Хаять начальство и власть и терпеть: против лома нет приема, как бы хуже не вышло, высунешься – по шляпку вобьют. Видеть, как рядом человека унижают, мытарят, душу из него вынимают, и терпеть – все равно другие не поддержат, а тебе достанется. Зато страшно нетерпеливы в мелочах: орать, когда на почте окошко закрыто, влезть первым в очередь из двух человек, пихаться в вагон, пусть даже пустой, электрички или метро – привычная картинка.
Русское мужество: терпеть и ничего не делать.
Падающего сними
«Падающего толкни!» – еще совсем недавно эти слова Ницше вызывали оторопь, хотя толкователи и объясняли, что он буквально так не говорил, а имел в виду необходимость избавляться от балласта, гнили и мертвечины во имя прогресса. Не учи летать рожденного ползать.
Как бы то ни было, мысль многим понравилась.
Потом настал новый этап, появилась новая тенденция: падающего толкни и успей при этом сорвать с него последнюю рубаху и продать. Безотходное производство подлости.
Но и это уже вчерашний день. Сейчас в тренде: падающего толкни, сними это на камеру, сделай фильм и прославься.
Что там при этом с упавшим? А кого это волнует?
Скука
Скука.
Это одно из главных настроений времени. Есть писатель, который его лучше всех отразил, поэтому и популярен. Ему скучно писать на одном языке (и надо этот язык еще иметь), поэтому он пародирует чужие языки и стили. Модные темы мелькают – наскучивают. Наскучивают образы, герои – придумываются другие. Много пустотелого текста, но скучно сокращать.
А тому, кто сядет на эту самоходную телегу с желудочно-кишечным моторчиком, и ехать скучно, и соскочить скучно, и все на свете скучно, но затягивает, затягивает… Задремлешь, свалишься носом в канаву, извачкаешься в живой траве и грязи, лежишь, смотришь в небо – и рад. И уже в телегу не хочется.
Скучно.
Уэльбек. «Карта и территория»
Типовой проект одноразового романа
Фотограф и художник Джед особым образом снимает и обрабатывает карты компании «Мишлен». Карты нравятся потребителю больше, чем территории, снимки карт – больше, чем карты. Это становится проектом. Успех. Выставки. Лямур с русской красавицей. Потом все кончается. Новая идея: изобразить представителей разных профессий. И безвестных, и именитых. Выставки. Успех. Кульминация проекта – портрет Уэльбека. Тупик. Автор Уэльбек убивает персонажа Уэльбека, расчленение трупа становится инсталляцией. Предвестием очередного типового проекта. Кстати, отец Джеда, умерший от типового рака, был проектировщик типовых зданий.
Роман напоминает увлекательную компьютерную игру, пройдя все уровни которой, оцениваешь мастерство программиста, но второй раз играть никогда не будешь.
Типовой проект одноразового романа. Тупик.
Дым без огня
Кто разжигал костер, знает: надо сначала бросать по веточке, по лучинке, по чуть-чуть. Если же, едва огонь вспыхнет, навалить хвороста, огонь задохнется и погаснет.
Многие дискуссии в сети (включая и ФБ) это напоминают. Появляется чей-то огонек, на него сбегаются желающие погреться или показать свое искусство розжига, летят сучья и коряги, и доски, и целые бревна. В результате иногда вырастает куча до самого неба – а огня давно уже нет.
Я к тому, что замечаю: перестаю читать многостраничные интернет-диспуты и подумываю о том, что самому надо начинать разговор либо когда очень невмоготу, либо – веселый, для отдыха, как семечки на завалинке пощелкать.
Сценарий
Ясно, что для всего есть свой сценарий. И ты тоже его пишешь – жизнью, словами, выдуманными персонажами. Бог (или некий Казус) создал людей, и они тут же принялись всячески экспериментировать над собой. Так и твои персонажи начинают своевольничать, и уже им кажется, что они живут сами по себе. Но тут являешься ты, а к другим – другой автор, и пошла сортировка – под поезд, под машину, на больничную койку. И никто не возмущается – так надо, такова художественная логика! А на Бога почему-то обижаемся, крича, подобно Иову: за что, почему? За то. Так надо. Художественная логика.
Пока еще возможны варианты. Но в рамках сценария.
Стослов не из ста слов. Художественная логика
(продолжение)
Многие страшные события в мире, в жизни человека не вмещаются в разум. Внезапные болезни, наводнения, крушения. Они кажутся произволом природы, Бога, Случая – кто во что верит. Я верю в художественную логику. Она тоже не чужда морали, но законы непостижимой гармонии важнее. И бесполезно говорить: «Это неправильно, так нельзя!». Откуда-то сверху или из глубин послышится ответ Демиурга-авангардиста: «Я так вижу!».
В частности, Он увидел, что в этом тексте не должно быть ста слов. И я подчинился.
Хроника. Декабрь
Из новостей
* * *
1 декабря. В Киеве протестующие начали захват административных зданий. В стране объявлено о забастовке.
(Год к финалу, похоже, разгоняется со страшной скоростью.)
* * *
4 декабря. Лауреатом «Русского Букера-13» стал Андрей Волос. Награжден за роман «Возвращение в Панджруд».
(Достойная книга достойного автора. Формулировка, к которой в идеале стремятся все букеровские жюри.)
* * *
9 декабря.
Указ Президента.
«В целях повышения эффективности деятельности государственных средств массовой информации постановляю:
Ликвидировать:
…федеральное государственное унитарное предприятие «Российское агентство международной информации РИА Новости (г. Москва)»
…федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» (г. Москва) с последующей передачей закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в хозяйственное ведение федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (г. Москва)».
(Никто не понимает этих бесконечных перетасовок во всех сферах (политика, наука, просвещение, здравоохранение, культура и т. п). То ли управленческий кризис, то ли стремление к некоему единообразию. Уже известно, что вместо «РИА Новости» будет «Россия сегодня» во главе с Дмитрием Киселевым, играющим сейчас роль крайнего правого. Каков он на самом деле, никому не известно.)
* * *
17 декабря. Helsingin Sanomat, крупнейшая газета Финляндии, начала публикацию новостей на русском языке.
(Сколько же там наших?!)
* * *
19 декабря. Мэр Киева Александр Попов отстранен от должности указом президента Украины за разгон Евромайдана.
* * *
Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОС Михаила Ходорковского.
* * *
23 декабря. Надежда Толоконникова и Мария Алехина, участницы группы «Pussy Riot», вышли на свободу по амнистии.
* * *
24 декабря. Узбекские правозащитники, проживающие в Женеве, захватили виллу, принадлежащую старшей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой, с целью «привлечь внимание общественности к дому, построенному на народные деньги».
* * *
27 декабря. В Пятигорске вечером возле одного из зданий на Черкесском шоссе прогремел взрыв в припаркованном автомобиле, мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибло 3 человека.
* * *
29 декабря. В результате теракта в здании железнодорожного вокзала Волгограда 17 человек погибли, 38 пострадали.
* * *
30 декабря. Второй за два дня теракт в Волгограде: в результате взрыва в троллейбусе погибли 16 человек, 23 ранены.
* * *
31 декабря. За «скандальную и провокационную деятельность» дьякон Андрей Кураев изгнан из Московской духовной академии.
* * *
31 декабря. Московский районный суд Твери во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора сельского ДК Ильи Фарбера, осужденного ранее на три года лишения свободы за получение взятки.
Из журнала
…
Из дневника
31.12.12. Завтра еду в Саратов. В душе теплится замысел новой книги, в голове что-то бормочут герои новой пьесы, в компьютере ждет новый сценарий. Все как всегда.
Примечания
1
Имеется в виду «Фейсбук». – Примеч. Автора.
(обратно)2
Телефильм по одноименному роману. Не снят. – Примеч. автора.
(обратно)3
«Телемувик» на профессиональном сленге – телевизионный фильм. – А. С.
(обратно)4
Саратовское ТВ – радио, середина 80-х. – А. С.
(обратно)5
Условно-досрочное освобождение.
(обратно)6
Главный редактор журнала «Современная драматургия». – Примеч. ред.
(обратно)7
А. Слаповский. Народный фронт: Феерия с результатом любви. М.: Время, 2011. – Примеч. ред.
(обратно)8
Роман, написанный в 1993-м году. – А. С.
(обратно)







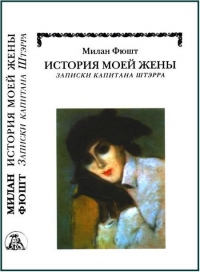



Комментарии к книге «Хроника № 13», Алексей Иванович Слаповский
Всего 0 комментариев